-Цитатник
Пробуждение сознания или электронно-цифровой концлагерь? Нет ничего сильнее идеи, время кот...
Купленный за 172 000 долларов портрет может стоить миллионы - (0)Купленный за 172 000 долларов портрет может стоить миллионы Открыта новая картина РембрантаПочему...
ЭРМИТАЖ.ГОЛЛАНДСКАЯ ЖИВОПИСЬ XVII—XVIII ВЕКОВ.Малые голландцы(2) - (0)ЭРМИТАЖ.ГОЛЛАНДСКАЯ ЖИВОПИСЬ XVII—XVIII ВЕКОВ.Малые голландцы(2) Шатровый зал ...
Замки Бельгии:Стеркхоф - (0)Замки Бельгии:Стеркхоф В XVI веке жил в Антверпене могущественный род Стер...
Дом князя Оболенского на Новинском бульваре - (0)Дом князя Оболенского на Новинском бульваре На Новинском бульваре стоит ореставрированный в совет...
-Музыка
- Дунайские волны (вальс)
- Слушали: 6228 Комментарии: 0
-Метки
-Рубрики
- Живопись (1188)
- нидерландская и фламандская живопись (854)
- голландская, бельгийская живопись ХIХ-ХХI века (220)
- сюжеты в живописи (104)
- английская живопись (11)
- российская живопись (10)
- Династии России (512)
- Трубецкие (66)
- Строгановы (39)
- Юсуповы (33)
- Нарышкины (33)
- Голицыны (28)
- Шереметевы (27)
- Демидовы (26)
- Чернышевы (25)
- Орловы (25)
- Толстые (23)
- Воронцовы (23)
- Волконские (21)
- Куракины (21)
- Шуваловы (21)
- Барятинские (18)
- Оболенские (14)
- Бенкендорфы (14)
- Анненковы (13)
- Румянцевы (10)
- Мусины-Пушкины (9)
- Бакунины (9)
- Сухово-Кобылины (7)
- Муравьевы (4)
- Бестужевы (4)
- Головкины (4)
- Бобринские (3)
- Бестужевы-Рюмины (2)
- музыка (430)
- города и страны (295)
- о Голландии (169)
- о Бельгии (100)
- Муром (25)
- история (274)
- декабристы (143)
- Голландия (44)
- Голландия. Немного истории. (27)
- Бельгия (25)
- российско-голландские связи (18)
- Приключения голландцев в России (7)
- Испания (6)
- Муром (5)
- Россия (3)
- ЖЗЛ (191)
- Пушкин и вокруг (90)
- Россия (34)
- Голландия, Бельгия (18)
- Блумсбери (14)
- Англия (10)
- Муром (8)
- Франция (8)
- Америка (6)
- разное (71)
- видео (26)
- тесты, астрология (18)
- для дневника (5)
- культура, искусство (4)
- для детей (4)
- праздники (27)
- праздники голландии (13)
- праздники России (5)
- Космонавтика, Байконур (25)
- Мятлевский (14)
- Скульптура (9)
- голландия (6)
-Ссылки
-Поиск по дневнику
-Подписка по e-mail
-Друзья
-Постоянные читатели
-Сообщества
-Трансляции
-Статистика
Записей: 2861
Комментариев: 2522
Написано: 6250
Вложенные рубрики: Россия(3), российско-голландские связи (18), Приключения голландцев в России(7), Муром(5), Испания(6), декабристы(143), Голландия. Немного истории.(27), Голландия(44), Бельгия (25)
Другие рубрики в этом дневнике: Скульптура(9), разное(71), праздники(27), Мятлевский(14), музыка(430), Космонавтика, Байконур(25), Живопись(1188), ЖЗЛ(191), Династии России(512), города и страны(295)
Дворяне Коновницыны (часть 1). |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Дворяне Коновницыны (часть 1).

Портрет Петра Петровича Коновницына работы его дочери Елизаветы Петровны. 1822 г.
Из двух десятков аристократических семей, обосновавшихся в разное время на Псковской земле, одной из древнейших являлась семья Коновницыных. Впрочем, род Коновницыных относился вообще к древнейшим в России и был внесён в самые ранние родословицы и в Бархатную книгу. С.Б. Веселовский предполагал, что Андрей Иванович Кобыла - основатель целого ряда известнейших родов (Лодыженских, Жеребцовых, Колычевых, Захарьиных-Юрьевых, Боборыкиных, Горбуновых, Шереметевых и многих других, в том числе Романовых), включая Коновницыных, был представителем очень старого великорусского рода, возможно, пришедшего с князьями из Новгорода. Андрей Иванович Кобыла имел пятерых сыновей. От первого из них, Семёна Жеребца, и образовался род Коновницыных: его сын Иван получил прозвище «Коновница», от которого и пошёл род, вписавший немало ярких страниц в историю России. Само прозвище «Коновница» шло, вероятно, от военного строя: «конь» - по В.И. Далю, это ряд, порядок, а «конвой» - это начальный, коренной, так что «коновница» - это или начальник, или тот, с кого начинается строй. Такое объяснение, на мой взгляд, вполне отвечает основному делу бояр и дворян: служить, воевать, и Коновница был здесь одним из первых.
Служили Коновницыны великим московским князьям на самых разных должностях и в самых разных местах, в том числе в Новгороде и Пскове. Причём, появление их здесь объясняется, возможно, тем, что они в числе прочих московских бояр были переведены туда после присоединения Новгорода и Пскова к Московскому государству. Точного времени появления Коновницыных на Псковской земле установить не удалось, но совершенно определённо, что не позднее первой трети XVII века они уже были псковскими землевладельцами и горожанами, о чём свидетельствует немало документов. Пока же отметим, что Иван Михайлович Коновницын служил воеводой в Кукейносе (Кокнесе, Кокенгаузен) в 1б50 г., а Фёдор Степанович был воеводой в Козельске. Трое Коновницыных служили стольниками при Петре I. Служили они и стряпчими царям русским. Обо всём этом говорится не только в специальных изданиях, но и в записках С.Н. Коновницына (умершего в Перу), хранящихся в Гдовском краеведческом музее.
Много лет, начиная с 1712 г. и по меньшей мере - до 1718 г., по указу царя комендантом Гдова был Иван Богданович Коновницын. В это же время Сергей Коновницын в числе других дворян был направлен по указу Петра I и распоряжению светлейшего князя Меншикова «для управления тамошних дел» в Дерпт.
Коновницыны не только служили, но и, естественно, занимались своими хозяйственными делами. В одной из «Оброчных книг по Пскову и пригородам», написанных до 1632 года, читаем: «В запсковском же конце пожни оброчные пустые... Две пож. Сергеевские Коновницына, сена двадцать пять копен, оброку два алтына с полуденгою». Аналогичная запись есть и под 1648 годом.
На Запсковье стоял дом Богдана Коновницына, располагавшийся где-то на пути от церкви Козьмы и Дамиана с Примостья к Варлаамовским воротам (1689 г.). В Петровском сто был двор Артемия Дмитриевича Коновницына, ротмистра, «псковитина» (1678 г.). В Раковском сто находился двор Богдана Ивановича Коновницына (1678 г.).
В «Оброчной книге Пскова 1697 года» есть запись: «На Иване Петрове сыне с припускного дворового места Матюшки Суслова оброку два алтына». А в 1699 г. в одном из документов, где говорилось о поместных окладах, было записано: «Отставные дворяне Московского чину: ... по 900 чети (четверть, 1/2 десятины. - Авт.), денег 45 рублёв - Иван Петров сын Коновницын». В документе Коновницын указан как псковский помещик, отставной дворянин и относится к «московскому чину», то есть к элите чиновников.
Таким образом, в течение всего XVII века Коновницыны являлись помещиками, землевладельцами и служилыми людьми, проживавшими в нескольких местах Пскова и похороненными в городе. Так, в церкви Успения с Полонища находится керамида с именами супругов Коновницыных - Тамары Никитичны (1661 г.) и Ивана Васильевича (1667 г.).
Однако с начала XVIII в. сведений о проживании Коновницыных в Пскове уже нет. Вероятнее всего, это объясняется пожаром и мором, опустошившими Псков в 1710 году. С этого времени Коновницыны связаны уже с Гдовским краем, где у них были земли. Известно, в частности, что из владений Богдана Коновницына, расположенных на реке Плюсса, в 1682 г. люди шведа Юргена Тундерфельда воровски рубили лес и переправляли его в Нарву.
Напомним, что с 1712 г. комендантом Гдова был Иван Богданович Коновницын - очевидно, сын только что упомянутого Богдана Ивановича.
Вообще же характер службы Коновницыных был многотруден и разнообразен. Достаточно сказать, что один из них, Степан Богданович, в числе 22 гардемаринов был направлен Петром I на обучение военно-морскому делу в Морской корпус в испанском городе Кадиксе, пробыв в Средиземном море с 1716 по 1719 годы. Здесь получали знания, а опыт приобретали в Венеции, Франции, Англии и Голландии, откуда и возвратились в Петербург. Позже Степан Коновницын служил во флоте, достигнув обер-офицерских чинов.
Коновницыны, конечно, занимались и собственным хозяйством, решали различные земельные дела. В архивах и даже Полном Собрании Законов Российской империи сохранились свидетельства о продаже Коновницыными земель, обмене с кем-то землями или об отказе им деревень.
Хотя владения Коновницыных были не только в Псковской, но и в других губерниях - Харьковской, Петербургской, и даже в Крыму, - основным местом их пребывания стало гдовское Кярово и святогорские Поляны. Кярово становится родовым гнездом Коновницыных.
Во второй половине XVIII столетия в Кярове был возведён дом усилиями Петра Петровича Коновницына, генерал-поручика, видного сановника, близкого к императрице, Петербургского губернатора, а затем - генерал-губернатора Архангельского и Олонецкого. Дом этот, с некоторыми изменениями, простоял до XX века.
Вслед за домом дочь П.П. Коновницына Елизавета Петровна возвела и каменную Покровскую церковь, с одним престолом, вместо стоявшей там деревянной, о чём в клировых ведомостях было записано: «Заложена 13 июня 1788 г. и 30 сентября 1789 г. освящена». Позже, уже во второй четверти XIX в., его внук Иван возвёл в имении Поляны церковь с таким же названием.
Сам П.П. Коновницын вряд ли постоянно жил в построенном им доме, озабоченный своими государственными делами, но вот его единственному сыну, тоже Петру Петровичу (1764-1822), довелось жить здесь довольно долго, и вот почему.
Ещё ребёнком, в 1772 г., по тогдашним традициям «золотого» (екатерининского) века - конечно, при участии отца, - Пётр был записан капралом в Артиллерийский корпус, затем он становится сержантом, фурьером и переводится в Семёновский гвардейский полк, где и числится до вступления в действительную военную службу 1 января 1786 г. прапорщиком. Через два года он - подпоручик.
Начиная с русско-шведской войны 1788-1790 гг., Коновницын участвует во всех войнах, которые вела Россия до 1798 г., когда он был отставлен от службы. Карьера его до отставки развивалась весьма успешно, так что он 2 сентября 1797 г., 32-х лет, получает чин генерал-майора, но в следующем году, получив отставку в числе многих дргих генералов и офицеров, изгнанных Павлом I из армии, он становится частным лицом. Тогда-то он и обосновался в Кярове, занявшись хозяйством и приведением в порядок родового гнезда. Он устраивает парк и разбивает сад. Парк сохранился до сих пор, в нём видны ограничительные липовые, а также березовая аллеи, беседка из лип, ясени и старые тополя по дороге в деревню. Сад же Пётр Петрович разбивал вместе с супругой - Анной Ивановной Корсаковой (1769-1841). Об этом саде писал декабрист А.Е. Розен, посетивший Кярово после ссылки, где несколько лет он пребывал в Кургане вместе с дочерью Коновницыных Елизаветой Петровной. Она была замужем за декабристом М.М. Нарышкиным и поехала за ним в Сибирь, затем на Кавказ, пройдя с ним весь путь до конца.
Кроме того, П.П. Коновницын построил на Черме (река, впадающая в Чудское озеро) мельницу, располагавшуюся немного ниже по реке, чем сама усадьба. До нашего времени дошла только Покровская церковь, где находится несколько захоронений, в том числе самого Петра Петровича и Анны Ивановны, а также их родственников.
В Кярове рождаются дети Коновни-цыных: Елизавета (1802), Пётр (1803), Иван (1806), Григорий (1809) и Алексей, появившийся на свет в конце 1812 г., когда ещё шла война...
В 1806 г. мирная, невоенная жизнь П. П. Коновницына закончилась: петербургские дворяне избрали его начальником губернского ополчения (Гдовский уезд тогда входил в состав столичной губернии), а в 1807 г. Александр I возвращает его в армию и вводит в свою свиту. С тех пор Пётр Петрович уже не снимал военного мундира до конца своих дней.
Перед войной 1812 г. П.П. Коновницын, уже генерал-лейтенант, был командиром лучшей в армии 3-й пехотной дивизии, которая входила в состав 1-й армии Барклая-де-Толли. Дивизия располагалась в районе Вильно, и с Коновницыным находилась его семья, с началом войны выехавшая в Кярово.
1812 год стал звёздным часом П.П. Коновницына. Он шёл вместе с 1-й армией и участвовал в боях, в том числе оборонял Смоленск, где был ранен. Затем командовал арьергардом объединённых русских армий, отступавших к Бородину, участвовал в Бородинском сражении, заменив сначала раненого Багратиона, а потом - убитого командира корпуса Тучкова.
Его стремительность, одержимость в бою поразили поэта Жуковского - «певца во стане русских воинов»:
Хвала тебе, славян любовь,
Наш Коновницын смелый!..
Ничто ему толпы врагов,
Ничто мечи и стрелы;
Пред ним, за ним перун гремит,
И пышет пламень боя.
Он весел, он на гибель зрит
С спокойствием героя;
Себя забыл- одним врагам
Готовит истребленье;
Пример и ратным и вождям
И смелым в удивленье.
И не случайно И.П. Липранди, один из самых информированных людей своего времени, отмечая удивительную скромность, даже кротость Коновницына в обычных условиях, говорит, что в бою он преображался и становился «львом в самых опасных местах».
На Бородинском поле он получил серьёзную контузию. После отступления П.П. Коновницын назначается дежурным генералом при Главной квартире всех воюющих армий и до конца войны остаётся правой рукой М.И. Кутузова. За подвиги в 1812 году он получил ряд высших наград и чин генерал-адъютанта.
В течение всей войны между супругами через Кярово и Петербург велась интенсивная переписка. Писали отцу и дети - Лиза и Петя. В знаменитом издании «Бумаги, относящиеся до Отечественной войны 1812 года, собранные и изданные П.Л. Щукиным. Ч. 8. - М., 1904 (Далее - «Бумаги Щукина») - опубликовано 22 письма генерала и 25 писем его жены. Это, конечно, не всё, что было написано супругами, - многие письма не сохранились.. Но и сохранившиеся письма говорят об исключительном взаимоуважении и нежной любви супругов, их переживаниях за Отечество. Обнаруженные и опубликованные письма детей Петру Петровичу в армию необыкновенно трогательны. Приведём лишь одно, написанное восьмилетним Петром, очевидно, в августе или сентябре 1812 г., - особенности оригинала сохраняются: «Милой папинька мы уже месяц как в Кярове мондандр (офицер, друг семьи. - Авт.) к нам вчерась приехал и я видел твой сертук он весь изодрон я плакал прощай любезный папинька целую твои ручки и прошу твоего благословения ваня и Гриша целуют твои руки твой сын П.К». Можно только представить себе, какие чувства вызывали в отце такие письма!
Когда А.И. Коновницына приехала в 1812 г. в Кярово, то была расстроена состоянием дома, на её самочувствии сказывалась и вся обстановка войны. 2 июля 1812 г. она писала мужу: «... по газетам видела, что открылись военные действия в день моего отъезду 12 числа. Ежели поехала через Ригу подленно попала бы в плен, чтоб тогда. У нас дожди, в доме везде несёт, но рада чрезвычайно что здесь по крайней мере ближе к тебе и о тебе скорее узнаю и чаще писать могу, в том только отраду и нахожу». В одном из ответных писем Петра Петровича читаем: «Не хочу крестов, а единого щастия быть в одном Квярове неразлучно с тобою. Семейное щастие ни щем в свете не сравню. Вот чего за службу мою просить буду. Вот чем могу только быть вознаграждён. Так мой друг. Сие вот одно моё желание». Но увидеть семью ему удалось только зимой 1813 г., когда он получил-таки желаемое им вознаграждение и съездил в короткий отпуск в Петербург, где тогда находилась его семья и где Анна Ивановна родила своего «поскребыша» - Алёшеньку. Побыв с семьей, Пётр Петрович возвращается в армию, которая уже начала свои заграничные походы, и командует гренадёрским корпусом.
В апреле 1813 г. П.П. Коновницын был тяжело ранен в ногу и долго лечился. Ему было пожаловано царём 25 тысяч рублей. Возможно, это помогло его жене заняться ремонтом дома в Кярове. Летом - вероятно, 1813 года, - Анна Ивановна писала мужу: «...что нам с фундаментом делать. Весь развалился. Надо подбирать и штукатурить... трубы все развалились. Кирпич был скверный. Теперь нарочно для нас в Верхолянах (соседнее имение Корсаковых. - Авт.) обжигают». Из другого письма видно, что ремонт удался: «Дом почти весь обгрунтован. Окошки заделываю и дверь внизу в кабинете брёвнами. Будет тепло. Столяры двери делают в сени, да и в оба балкона. А те так хороши, что развалились уже. Нужно хороший замок другой с пружиною: один в сени, а другой внизу, в лакейской, где по приказанию твоему делают одинаковую дверь...» Таким образом, дом ремонтировался при участии Петра Петровича - супруги обсуждали, что и как сделать в доме.
Кяровский дом простоял ещё долго и, конечно, ремонтировался вновь. На фотографии 1912 года, сохранившей его облик, уже нет никаких балконов. После революции, рассеявшей семью Коновницыных по миру, дом, по преданию, был отдан коммуне, а затем разобран и перенесён в Гдов. В нём помещался сначала райисполком, а потом ряд других учреждений. Он пережил Великую Отечественную войну и лишь несколько лет назад был уже окончательно разобран.
В Кярове после войны 1812 года Коновницыны появлялись лишь эпизодически. Пётр Петрович с 1815 по 1819 годы служил военным министром России, а с 1819 по 1822, до своей смерти (Тело его было перевезено из столицы в Кярово и похоронено в левой передней части Покровского храма. Через 19 лет там же, рядом с ним, похоронили и Анну Ивановну. - Авт.), - Главным директором Пажеского, кадетских и всех других дворянских военно-учебных заведений, а в 1822 г. - и Царскосельского лицея с Благородным пансионом при нём. Понятно, что вся семья жила в Петербурге, вела придворную жизнь, но выезжала и в Кярово по разным обстоятельствам - например, в связи со смертью матери Петра Петровича. Кярово продолжает быть центром притяжения Коновницыных. Постепенно в нём появляются некоторые памятные знаки. Так, генерал поставил в парке памятник в честь своего друга, полковника Я.П. Гавердовского, погибшего в день Бородинского сражения. Верный этой дружбе, П.П. Коновницын сочинил трогательное стихотворение и запечатлел его на этом памятнике:
В трудах на пользу посвященных,
В отважных подвигах военных,
Свою он Славу находил.
Умом высоким одаренный,
Усердьем к службе отличенный,
России верным сыном был.
Пускай сие воспоминанье,
Детей моих влечет вниманье,
Как я его достоинства чтил.
Ценность этого памятника возрастала еще и потому, что тело Гавердовского не нашли, не было поэтому и его могилы. Позже Анна Ивановна поставила перед домом бюст самого Коновницына. Этот бюст их потомки перенесли затем в гостиную дома. Сейчас он утерян. Кроме того, в Кярове был поставлен памятник и Петру Коновницыну, сыну генерала. Его поставил в память о брате Иван. К сожалению, от него осталось только гранитное основание. Оба брата были декабристами и понесли наказание за участие в восстании на Сенатской площади 14 декабря 1825 года. Пётр сначала был сослан рядовым в Семипалатинск, затем усилиями матери переведён на Кавказ в действующую армию. Вернул себе офицерский чин, но в 1830 г., во время эпидемии холеры, скончался во Владикавказе, где и похоронен. Иван же был переведён из гвардии в армию, на Украину, затем участвовал в войне с персами в 1826-1828 гг., потом вышел в отставку. Жил сначала в своём украинском имении Никитовка, затем в Полянах, а после смерти матери и младшего брата Григория переехал в Кярово, где и похоронен рядом с Покровской церковью.
Иван Петрович благоустроил ещё одно имение - Поляны. Располагалось оно в 16 верстах от Святых Гор, и было одним из самых доходных имений. Появился там Иван Петрович в 1840 г. вместе с женой - Марией Николаевной Бахметевой. Он построил новый дом, с мезонином и верандой. Дом этот простоял целый век, хотя судьба его круто изменилась уже при советской власти. В 1930-х гг. его разобрали и перевезли в Воронич, на турбазу, где он и находился до Великой Отечественной войны, во время которой сгорел. Так что его судьба удивительным образом совпала с судьбой кяровского дома.
Построил в Полянах Иван Петрович и церковь, дав ей такое же названье, как и в Кярове — Покрова Богородицы. Очевидно, это было сделано не случайно. Однако эта церковь не сохранилась. Да и вообще от этой усадьбы сейчас сохранились лишь два сарая и один дуб от аллеи в парке.
После того, как И.П. Коновницын стал постоянно жить в Кярове, он избирался уездным предводителем дворянства. Коновницыны принадлежали к дворянству С.-Петербургской губернии. Ещё по инициативе отца в 1792 г. род Коновницыных был внесён в родословную дворянскую книгу столичной губернии, в шестую её часть. Однако в 1834 г. Анна Ивановна Коновницына вновь поднимает этот вопрос. Дело в том, что в 1819 г. род Коновницыных стал графским (за заслуги П.П. Коновницына перед Отечеством этот титул был присвоен всей семье), - Анна Ивановна и обратилась к императору с прошением о включении их рода в родословную книгу дворянства Петербургской губернии уже в пятую её часть, по графскому достоинству. Это было необходимо сделать в первую очередь ради детей. В конце 1834 г. прошение А.И. Коновницыной было удовлетворено. Однако среди детей, внесённых в графскую родословную, оказались только Иван, Григорий и Алексей: Петра уже не было в живых, а Елизавета считалась женой государственного преступника.
Как дворяне, Коновницыны и после Ивана Петровича не раз потом избирались на должность уездного предводителя дворянства. Среди них - и Алексей, а потом и внук генерала - Эммануил Иванович. Это убедительно доказывает, что Коновницыны пользовались устойчивым авторитетом гдовского дворянства, и, конечно, заслуженно.
Коновницыны были и создателями церквей, три из которых нам известны: кроме Покровских храмов в Кярове и Полянах, в 1765 г. в Святых Горах была на средства Григория Ивановича Коновницына построена деревянная Казанская церковь, что стоит до сих пор на Тимофеевой горке. Вера всегда была с ними. В своё время из Покровской церкви в Кярове в Псковский музей-заповедник были переданы две иконы, одна из них - образ Николая Чудотворца с надписью «Напутствовала в войнах». Она располагалась над могилой П.П. Коновницына. Другая находилась слева у иконостаса. На ней был изображён Иоанн Златоуст, а на обороте - интересная надпись: «Иван Петрович Коновницын. Родился 1806 г. 10 сентября в 10-м часу. Поутру день его ангела 14 сего же сентября, образом сим благословила бабушка Агафья Григорьевна Корсакова, при рождении рост его означен на образе по чёрную кайму». А иконы на иконостас были подарены семье Коновницыных вскоре после смерти П.П. Коновницына великим князем Николаем Павловичем, будущим царём, из Аничкова дворца. На мраморном постаменте над могилой Петра Петровича Анна Ивановна поставила образ Божией Матери с надписью о благословении всего рода. Риза же образа была вылита из золотой сабли с бриллиантами «За храбрость», пожалованной генералу за Бородинский бой...
Метки: ЖЗЛ россия декабристы коновницыны |
Дворяне Коновницыны (часть 2). |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Дворяне Коновницыны (часть 2).

Н.А. Бестужев. Портрет Елизаветы Петовны Нарышкиной. 1832 г.
В год рождения дочери Елизаветы, боевой генерал Пётр Петрович Коновницын, попавший в немилость при императоре Павле I, коротал дни за хозяйственными делами в имении Кярово близ Гдова. Нероскошно, но со вкусом обставленный дом в два этажа, с верандой и большими венецианскими окнами, стал уютным очагом для девочки Лизы. Она получила хорошее домашнее образование, научилась музицировать. Братья баловали единственную сестрёнку. Души в ней не чаяла мать Анна Ивановна, воспитавшая в детях самостоятельность, верность долгу. Рассказы отца о военных походах, о славной истории России возбудили в них патриотические чувства.
Более десятка декабристов были связаны с Псковским краем. Их «гнездом» оказалось село Гораи Опочецкого уезда (ныне Островский район). У владельцев села Лореров не раз собиралась целая компания молодых дворян. Здесь Елизавета однажды приехавшая с братьями Петром и Иваном, познакомилась со старшим офицером лейб-гвардии Измайловского полка Михаилом Михайловичем Нарышкиным. В 1824 году, всего за год до восстания, они поженились в Петербурге.
Из северной столицы полковника Нарышкина перевели в Москву, где у молодых родилась дочь. Но девочка вскоре умерла. А вслед за этим ударом судьбы последовала целая катастрофа - арест главы семьи. Вместе с матерью Елизавета Петровна, далёкая от политики, борётся за облегчение участи мужа, осуждённого на 8 лет каторги. Узнав, что Е.И. Трубецкая первой отправляется за близким человеком в Сибирь, она тоже возбуждает ходатайство. Отъезд привыкших к роскоши дам обставялся суровыми условиями. Но это не остановило добровольную изгнанницу. В далёкую дорогу её сердечно напутствовала надломленная горем мать Анна Ивановна. Прислуживать в Сибири вызвалась 20-летняя крестьянка Анисья Карпова, получившая для этого вольную (крепостных разрешалось брать лишь для сопровождения).
В августе 1827 года Нарышкина приехала в Читу (тогда это была деревня из 18 дворов). И упала в обморок при первом взгляде на спутника жизни. В кандалах, исхудавший, с бородой он совсем не походил на прежнего блестящего гвардейца, обещавшего деве юной вечную любовь.
Она тотчас пишет матери: «Мишель ежедневно проходит мимо меня, а я не смею к нему приблизиться... Вы хорошо знаете его душу и никогда не измените своих чувств к нему». Осталась верна своим чувствам прежде всего сама молодая графиня.
Жёнам осуждённых разрешалось жить в отдельном домике со свиданиями 2 раза в неделю в арестантской палате. Но Елизавете Петровне, как не имеющей потомства, дозволили поселиться в каземате вместе с мужем. Как ни крепилась молодая женщина, страдавшая с детства астмой, вскоре всё-таки заболела и перебралась в небольшой домик недалеко от читинского острога. На первых порах она очень страдала от одиночества, сторонясь других женщин. Поняв, что детей у неё не будет, взяла на воспитание сироту Уленьку Чупятову (по некоторым данным внебрачную дочь М.М. Нарышкина, рождённую от крестьянки).
Экстравагантная дочь бонапартиста Жанетта Поль, ставшая Прасковьей Егоровной Анненковой, 18 раз рожала в суровых краях (шестеро детей дожили до амнистии). И вспоминала о своей подруге по судьбе: «Нарышкина казалась очень надменною и с первого раза производила неприятное впечатление, даже отталкивала от себя, но зато когда вы сближались с этой женщиной, невозможно было оторваться от неё, она приковывала всех к себе своею беспредельною добротою и необыкновенным благородством характера». Мария Николаевна Волконская добавляла: «Нарышкина, маленькая, очень полная, несколько аффектированная (аффект - душевное волнение - авт.), но в сущности, вполне достойная женщина; надо было привыкнуть к её гордому виду, и тогда нельзя было её не полюбить».
Кстати, о фигуре Нарышкиной есть другое свидетельство. Один из декабристов так описывает первую встречу с ней: «Она была в чёрном платье с талией тонкой в обхвате; лицо её было слегка смуглое с выразительными умными глазами; головка повелительно поднятая, походка лёгкая и грациозная».
Через полтора года декабристов перевели во вновь построенную тюрьму в Петровский Завод, на 600 верст западнее Читы. Туда же последовали жёны, составив дружную общину с кассой взаимопомощи. А в 1832 году, когда окончился срок каторги, Нарышкины прибыли на поселение в г. Курган. Жить стало полегче, тем более, что маменька отправляла на восток целые обозы с продуктами, вещами, книгами.
Приветливость Михаила, внимание к людям Елизаветы сделали дом Нарышкиных в Кургане центром притяжения. Здесь вечерами горели свечи, звучала музыка, читались стихи. Сюда тянулись поселенцы и местные жители. Однако у поэта В.А. Жуковского, посетившего Курган проездом и беседовавшего с Нарышкиной, сложилось унылое впечатление. Он писал императрице Александре Фёдоровне: «Она глубоко меня тронула своею тихостью и благородной простотой в несчастии. Она была больна и, можно сказать, тает от горя по матери, которую хоть раз ещё в жизни желала бы видеть».
В 1837 году Нарышкин вместе с другими декабристами был по собственной просьбе отправлен солдатом на кавказскую войну. Елизавета Петровна проводила мужа до Казани, а сама с Анисьей и Ульяной отправилась на Псковщину. Но только для того, чтобы повидаться с родными. Уже через год она поселилась в просторном доме с фруктовым садом в станице Прочный Окоп в Прикубанье, где служил супруг.
Здоровье женщины было уже основательно подорвано, а причин для нервных стрессов хватало: над головой мужа свистели пули. И Михаилу Михайловичу между походами против чеченцев и кабардинцев приходилось целыми неделями ухаживать за женой.
Получив шесть лет спустя чин прапорщика, бывший полковник Нарышкин тотчас вышел в отставку. И поселился с супругой под Тулой: здесь «отписала» дочери имение Анна Ивановна в раздельном акте. После смерти Николая I в 1856 году был издан манифест об амнистии. Бывшие изгои, которые остались в живых; 55 человек из 429», получили возможность навещать друг друга. Е.П. Оболенский в 1857 году написал И.И. Пущину: «Лизавету Петровну нашёл не таковою, какую её оставил... Мы сошлись, как близкие родные... Обнимем друг друга семейно-крепко, дружно и порадуемся, что есть ещё друзья, подобные Мишелю и Елизавете».
Михаил Михайлович умер в январе 1863 года в возрасте 65 лет. Елизавета Петровна жила то в Кярове, то в Гораях (у своей тёти Марии Ивановны Лорер). В памятных по молодым годам Гораях она и ушла в мир иной в 1867 году. И согласно завещанию была похоронена рядом с мужем и дочерью в Москве, в Донском монастыре.
Истории не известны жёны, отрекшиеся от мужей — «государственных преступников». А одиннадцать из них обрекли себя на нравственные и физические страдания вместе с избранниками. Декабрист Басаргин писал: «Они точно и во всём смысле исполняли обет и назначение своё. Это были ангелы, посланные небом, чтобы поддержать, утешить и укрепить не только мужей своих, но и всех нас на трудном и исполненном тернии пути». Чудные ангелоподобные существа! Слава и краса женского пола!.. Да будут незабвенны имена ваши!»— восклицал декабрист Беляев.
Приложение
Письма Е.П. Нарышкиной к её матери — графине А.И. Коновницыной. 1824 г.
№1
[Царское Село, сентябрь 1824 г.]
Я счастлива, что могу писать вам, моя добрая мама, и сказать вам, что я постоянно с вами, что моя привязанность к вам очень сильна, и я хочу выразить вам благодарность за всю вашу доброту.
Мы с трудом добрались до Царского Села и устроились здесь несколько часов назад, мои братья ещё со мной, что доставляет мне огромное удовольствие, мне кажется, что я больше ценю вас всех с тех пор, как вас покинула, и чувствую больше чем когда-либо, что люблю вас всем сердцем. Я не могу удержаться от того, чтобы дать вам отчёт о том, что я делала с тех пор, как мы расстались, я умолчу об отчаянии, которое я испытала, когда покинула вас, оно не оставляло меня во время всего путешествия, я несколько успокоилась, лишь когда увидела Ивана и Григория. Мы отправились затем к г-ну Кошелеву, который очень любезен, и к м-ль Волуевой. Вы видите, что я уже начала делать визиты, и вас удивит, что это было мне не слишком неприятно, хоть я и делала их неохотно, я выполняла желания Мишеля, который серьёзно ищет возможности снова вернуться к вам, дорогая и милая мама. Напишите нам как можно скорее, мне не терпится получить хорошие вести о вашем здоровье и здоровье бабушки, передайте ей уверения в моём уважении и привязанности. Я целую её, как и всех наших дорогих родных, их дружба тронула меня.
Прощайте, добрая и любимая мама, целую вам руки, я вас очень нежно люблю.
Лиза
Тысячи поцелуев Алексею и Петру. Привет м-ль Клавель и бонне.
Мне нужно говорить вам, дорогая и добрая мама, в каком я отчаянии от того, что мне пришлось расстаться с вами, вы должны быть убеждены в том, что память о вашей доброте всегда будет со мной, что моя благодарность и привязанность к вам всегда будут безграничны. Дорогая, чудесная мама, я вас люблю всем сердцем. Мое самое горячее желание - это знать, что вы спокойны, смиритесь, я надеюсь, что наше отсутствие будет недолгим, я уже сейчас думаю о том, как мне снова оказаться около вас, дорогая, милая мама.
Я целую Алексея, бабушку, всех наших родных, я их благодарю за дружбу, которую они проявили ко мне. Передайте им, что я всегда буду ценить их. Пусть м-ль Клавель иногда вспоминает обо мне, я очень рада, что она находится около вас, она так добра, и будет утешать вас, я знаю, что вы в этом нуждаетесь. Вашим утешением будет счастье ваших детей, Бог не оставит их. Прощайте, дорогая мама, целую вас тысячу раз, я вас нежно люблю. Прощайте. Благословите меня.
Лиза
Нянюшку обнимаю, всем нашим людям кланяюсь и благодарю всех - всех.
Место написания следует из текста письма. Дата предполагается на основе того, что венчание Михаила Михайловича и Елизаветы Петровны произошло 12 сентября 1824 г.
№2
Москва
2 октября 1824
Я очень рада, что могу писать вам, моя дорогая и добрая мама, я пишу вам из Москвы, мы сюда прибыли вчера после довольно удачного путешествия. Я забыла усталость среди моих новых родных, которые осыпали меня знаками внимания; я в восторге от приёма, который мне здесь оказали, он предвещает мне счастливые дни, я начинаю уже испытывать нежную привязанность к семье Мишеля, но несмотря на это, я сердцем всё время возвращаюсь к вам, моя добрая мама, и я спешу воспользоваться любым случаем, чтобы рассказать о вас здесь, это приносит мне удовлетворение. Вся семья просит передать вам множество нежных слов, все очень хотят вас видеть. Я убеждена в том, что вы очень скоро подружились бы с моей свекровью, это добрый ангел, её главная забота - это доставлять удовольствие тем, кто её окружает, она вкладывает в это всё своё сердце, она напоминает мне мою дорогую маму, и вы догадываетесь, что это меня очень с ней сближает.
Я хотела бы написать вам более подробно обо всём, что со мной происходит, но уже поздно, сейчас пошлют на почту, и я с удовольствием узнала, что каждый день будет отправляться почта в Петербург. Я буду часто этим пользоваться, завтра же я напишу вам длинное письмо. Прощайте, у меня хватит времени лишь на то, чтобы вас нежно обнять, так же нежно, как я люблю вас. Мне очень не хочется расставаться с вами, я возмещу себе за это завтра, у меня очень большая потребность общаться с вами, и это приносит мне удовлетворение.
Обнимаю братьев, бабушку, дядюшек, тётушек, кузенов и кузин, благодарю их за дружбу и шлю им тысячу приветов, нежных слов, объятий и поцелуев. Прощайте, я уступаю перо Мишелю.
Ваша Лиза
№3
Москва
4 октября 1824 г.
Я в вашем распоряжении, моя милая мама, и надолго. Мишель ушёл по делам службы. Я исполнила свой долг по отношению к родным, составила им компанию часть утра, и только что покинула их, чтобы улететь к моей дорогой маме, моё самое приятное занятие - это писать вам, и я в восторге от того, что могу это делать часто. Мне хотелось бы рассказать вам обо всём, что со мной происходит, дать вам портреты всех тех, кто меня окружает. И начну с того, что я чувствую себя здесь уже совсем непринуждённо, ко мне относятся дружески, я отвечаю тем же, на доброжелательность ко мне со стороны Папа и Мама я отвечаю заботой, знаками внимания, которые не кажутся им неприятными. Моё счастье было бы полным, если бы я не была вынуждена расстаться с вами и с моими дорогими братьями, их дружба всегда будет очень ценна для меня. И я никогда не забуду счастливые годы, проведённые в семье, которую люблю всем сердцем, и которая всегда будет центром моей самой нежной привязанности. Уверяю вас, Мама, что я постоянно занята вами, и с удовольствием думаю о времени, которое сможет нас соединить снова, я была бы счастлива увидеть вас этой зимой, вас приняли бы с распростёртыми объятиями, вам было бы приятно увидеть это почтенное семейство, какая искренность в привязанностях, откровенность в разговорах, самая живая дружба и полное согласие между братьями и сёстрами, которые собираются все вместе, чтобы проявлять самую нежную заботу о родителях, и относятся к ним с привязанностью, полной уважения. Одним словом, мама, здесь любят, как у нас, и умеют наслаждаться семейным счастьем.
6 октября
Я была вынуждена расстаться с вами так поспешно на днях, вы не подозреваете себе, с каким сожалением я это сделала, и только сегодня я могу закончить моё письмо. Сейчас мы заняты визитами и новыми знакомствами. Вчера я была у ближайших родственников, и вы можете представить себе, какое стеснение я испытываю от всех этих рекомендаций и комплиментов. Сегодня утром мне сказали, что предстоит сделать 15 или 20 визитов. Мы подумали о моих братьях, 5-го искренне молилась за их счастье. Мы ходили в церковь Маргариты М., - там была служба. Я вспомнила и о папе в молитвах. Добрая мамуши, как тяжело мне было находиться вдали от вас в этот день, вы легко можете поверить, что я мысленно тысячу раз переносилась в Кярово, я с нетерпением жду ваших писем, одно слово от вас успокоило бы меня, я даже не знаю, находитесь ли вы ещё в деревне. Что касается нас, мы сможем жить в Москве сколько захотим, и мы расположены воспользоваться этим разрешением. Я ещё раз повторяю, мама, что мне здесь очень хорошо, и Папа очень любезен и очень нежен, я забыла рассказать вам, что он мне подарил прелестный чайный сервиз. Меня просят всем передать привет, и очень хотят с вами познакомиться. Поскольку почта в Петербург отправляется каждый день, завтра я смогу написать бабушке. Я надеюсь, что она здорова, и что она вспоминает иногда о внучке, которая очень ей предана. Если Пётр ещё с вами, скажите ему, что я люблю его всем сердцем, и когда он вернётся в город, он получит письмо и небольшой сувенир от нас. Мы выпили за его здоровье, а также за здоровье Алексея, я рассказала о его болезни, и мне сообщили о том, что есть порошок, который представляет собой очень эффективное средство от таких нервных болезней. Я должна сказать вам несколько слов о моём здоровье, и я вам торжественно заявляю, что я очень хорошо себя чувствую, и что путешествие не очень меня утомило. Прощайте, добрая, дорогая мама, я вас нежно обнимаю, и я остаюсь очень привязанной к вам и преданной вам.
Лиза
Когда завершаться мои визиты, я обязательно напишу моему дядюшке и моей тётушке и [...]а прошу передать мои поклоны и объятия, также как и Марии.
Мои впечатления достигли брата мужа случайно.
Мои приветы м-ль Клавель, нянюшке и мои нежные поцелуи Алексею.
№4
Москва
16 октября
Я получила с радостью ваше письмо, дорогая и милая мама, в тот момент, когда я начинала сильно беспокоиться о вас. Мне очень тяжело находиться вдали от вас, и это положение делается невыносимым, когда я в течение некоторого времени не имею сведений о вас. Уверяю вас, Мама, что я нахожу, что моё чувство к вам становится сильнее с каждым днем, и оно всегда будет оставаться самым нежным. Мне хотелось бы знать, что вы находитесь уже среди моих дорогих и добрых братьев в Петербурге. Я получала бы ваши письма более регулярно, и я догадываюсь, что вы будете часто говорить обо мне, ведь так приятно говорить о тех, кого искренне любишь, поэтому я часто доставляю себе это удовольствие, и моя дорогая мама и братья всегда присутствуют в моей памяти. Я горжусь дружбой, которую они ко мне проявляют, и рассказываю о ней всем, кто меня окружает. Вы доставите мне большое удовольствие, дорогая мама, если расскажете все подробности о вашей новой жизни, расскажете мне обо всех преобразованиях, о ваших планах, я очень беспокоюсь о ваших делах, хоть бы вы смогли повести их более удачно. Не забудьте сообщить мне результат экзамена наших пажей, я молюсь об их счастье. Я дала Петру поручения для Ивана и Григория, безусловно, он уже выполнил их. У меня не хватает времени написать им отдельно, так как весь мой день занят визитами, а также выполнением обязанностей по отношению к моим родным, их слабое здоровье требует тщательного ухода, и это становится занятием всей семьи. Я очень рада, когда могу быть им в чём-нибудь приятной, они так добры ко мне. Я очень ценю их привязанность ко мне; я не говорю о Мишеле, который делает меня совершенно счастливой, так как это для вас не новость, вы давно убедились в его высоких достоинствах, и вы уверены в нежности и прочности чувства, которое нас соединяет.
Сёстры Мишеля тронуты страданиями Алексея, и посылают ему порошок, который, по их словам, представляет собой очень эффективное лекарство, Мама, дайте ему его, пожалуйста, может быть, оно вернёт здоровье нашему дорогому больному, которому принадлежит часть моего сердца. М-ль Клавель передайте привет, она будет рада узнать, что её рыцарь, любезный г-н Кошкин, недавно посетил Мишеля и с наслаждением вспоминал о своём путешествии в дилижансе. Все мои вещи прибыли по назначению, предметы туалета в полной сохранности, и все находят, что они выбраны со вкусом. Вы подарили мне столько красивых вещей, дорогая Мама, ими очень восхищаются, и я буду выглядеть очень элегантной по нашем возвращении из Коврова, куда мы скоро должны уехать; наш визит сегодня вечером к Кайсарову решит нашу судьбу. Он делает нам очень любезные предложения, и может быть, они будут ещё более настойчивыми сегодня.
Мишель хорошо сделает, если согласится, речь идёт о продлении семестра, что соответствует моим интересам. Живя в Москве, я буду иметь возможность вам писать так часто, как захочу, т.е. каждый день, и моя добрая Мамуши не откажется платить мне тем же. Когда наша связь будет налажена, я с меньшей горечью буду переносить разлуку, всю тяжесть которой я ощущаю. Я три раза видела м-м Сперберг, она с мужем, и, по-видимому, в очень хороших отношениях, я в этом ничего не понимаю. Я ещё не видела [...]а, из-за многочисленных визитов, которые я вынуждена делать, они меня утомили, надоели, и только сейчас я начинаю приходить в себя. Итальянская опера доставила мне большое удовольствие, актёры великолепны, прекрасные голоса и исполнение, и самое чудесное — это ансамбль. Мы надеемся часто посещать эти спектакли зимой. Дядя Нарышкин пригласил нас на два вечера, я не была у него из-за его жены, к которой в семье не очень хорошо относятся, и поскольку там надо было танцевать, я не очень огорчалась, что не пошла на этот вечер. Этой зимой будет много балов и праздников. Я не собираюсь посещать их, я разделяю отвращение к ним остальных членов семьи.
Здесь живут очень уединённо, видятся только с родственниками и близкими друзьями, и день проходит без шума, без стеснённости, и часто без особых развлечений, но я привыкла к такому однообразию, вы знаете, мама, что я не люблю блеска, и я могу быть счастливой, чувствуя, как бьётся моё сердце.
Старик добр, немного тщеславен и привык властвовать, но это никак не влияет на меня, он очень предупредителен ко мне; мама -прекрасный человек, она очень больна, она занята тем, что старается угодить всем, кто её окружает, она не обладает блестящим умом, она была красива и любит вспоминать об этом.
Ещё несколько портретов: Варвара добра, набожна, она любит общество монахов, очень почтительна с родителями, до такой степени, что обращается к ним с некоторой боязливостью, она принимает очень любезно. Софья забывает совершенно о себе ради других, жертвует собой, чтобы быть полезной своим родным и очень предана своим братьям и сёстрам, она не лишена ума и особенно здравого смысла. Евдокия более блестяща. Её ум очень развит, разговор её остроумен и всегда очень приятен, у неё такое доброе сердце. Вообще все эти дамы — настоящие ангелы и умеют покоряться судьбе.
Прощайте, мама, часы пролетают, и скоро отправится почта. Я не прошу у вас ответа на это письмо, вы понимаете почему. Вы должны быть совершенно спокойны относительно меня. Мишель - любимый сын, а я уже хорошо знакома со всеми.
Несколько слов о хозяйстве с Папой; проявления внимания, на которые всегда отвечают тем же; заботы о Маме, истории, которые надо ей рассказать, я слушаю похвалы доброму старому времени, я её целую, показываю ей драгоценности, и она довольна. Сёстры мои в восторге от того, что я занимаю стариков, благодарны мне за это и отдыхают, когда я занимаюсь этим, они относятся ко мне очень дружески.
Прошу вас, Мама, примите материи на платье, это московская продукция, я хочу отправить её сегодня на почту. Я должна вас покинуть, это приводит меня в отчаяние.
Прощайте, целую вас, моя добрая, дорогая мама. Я вам очень предана и искренне люблю вас.
Лиза
Не надо ответа, я была слишком откровенна в этом письме.
№5
Москва
19 октября
Ваши письма, дорогая мама, доставляют мне бесконечную радость, я получаю их с самой глубокой благодарностью, они всегда так полны любви и доброжелательности, я орошаю их слезами. Я ценю каждое ваше слово, я живо тронута вашей нежной заботой обо мне, и мне кажется, что я люблю вас в тысячу раз больше, чем раньше. Дорогая мама, я постоянно с вами, я страдаю, думая о ваших трудностях, и не перестаю молиться о вашем спокойствии и о счастье моих дорогих братьев. Как я хочу, чтобы Небо услышало мои молитвы, я могу быть удовлетворена лишь когда увижу счастливыми всех тех, кого я люблю. Когда я получаю ваше письмо, мое волнение всегда очень сильно, сначала я испытываю сильную радость, затем появляются слёы счастья, которые незаметно переходят в очень большое огорчение. Я в отчаянии от того, что не разделяю нежности, которую вы дарите моим братьям, я нуждаюсь в вашем присутствии, моя добрая мама, скоро ли я буду иметь счастье увидеть вас и услышать из ваших уст уверения в привязанности, столько доказательств которой вы мне дали.
Я знаю, что обрадую вас, дорогая мама, сообщив вам, что мы приняли решение поселиться в Москве до марта. Я в восторге от этого, так как буду иметь возможность часто получать вести от вас. Это один из моих главных интересов. Кроме того, нам нужно снова проделать путешествие, которое в такое время года может быть лишь слишком утомительным. И нам не придёся скучать в маленьком городке, где плохо с жильё, где, как говорят, с трудом можно найти лачугу, состоящую из трё комнат, но напротив, нас уверяют, что Коврово расположено в очень живописной местности, что в реке много рыбы, и что берега очень красивы. Я смогу совершать интересные прогулки летом, в это время года довольствуются малым в качестве жилья, к тому же, за несколько месяцев мы можем принять меры к тому, чтобы оборудовать маленький домик, чтобы он был тёлым и удобным. Вы сообщаете мне, что ещёне получили второе письмо, которое я вам послала отсюда, оно содержит подробности нашего прибытия сюда и несколько строк от Маргариты Михайловны, она так добра и очень любит вас.
Мама с нетерпением ждё возможности познакомиться с вами, я сообщила ей, что вы пишете мне, это еёрастрогало до слё, она уверяет, что была бы очень рада, если бы вы жили в Москве, она уверена, что сможет привязаться к вам и приобрести ваше расположение. Она добавила, что хотела бы, чтобы вся моя семья собралась сегодня, чего не хватает для моего блаженства. Вы видите, дорогая Мамуши, что она предоставляет мне маленькое место в своё сердце, которое так же хорошо и так же любящее, как ваше. Папа говорит тысячу вещей, он продолжает всегда обладать величественным образом поведения по отношению ко мне и никогда не испытывает недостатка случаев сделать мне приятное.
Я прошу моих братьев иногда думать обо мне и доказывать мне это письменно, я их очень нежно люблю, и они должны быть уверены в этом. Целую добрую м-ль Клавель, а также мою дорогую м-м Монтандр и её детей. Их дружба всегда будет драгоценна для меня, я им всем напишу в первый же день, когда буду свободна, так как я ещё совершенно ошеломлена визитами, выходами и новыми знакомствами. Прощайте, добрая, доогая, любимая мама, целуювам руки, посылаю тысячу поцелуев моим братьям и уверяю вас в моей нежной и искренней привязанности.
Лиза
Маленький привет моей комнате, я с удовольствием узнала о её занятии моим дорогим Петром.
№ 6
21 октября
Ваша точность, дорогая мама, восхищает меня, и я думаю, что заслужила её поспешностью, с которой я всегда отвечаю на ваши письма.
Каждые четыре дня, примерно, я посылаю вам длинное письмо. Я очень охотно сообщила бы вам сегодня утром все подробности относительно нашего дебюта в Москве, но Мишель, который всегда так счастлив, когда может быть вам чем-нибудь приятным, потребовал, чтобы я уступила ему удовольствие написать вам длинный и интересный рассказ. Он только что ушё по делу и сможет выполнить своёнамерение лишь завтра. Вы не представляете себе, мама, как я огорчена, что заслужила ваши упрёи в том, что не обстоятельно ответила на все ваши вопросы о том, в каком состоянии прибыли сюда мои вещи, это доказательство вашего интереса ко мне, который меня очень трогает и который ещёраз показывает вашу привязанность ко мне. Вас интересуют самые мелкие детали, касающиеся меня. Поэтому я возьму ваше письмо и отвечу вам пунктуально. Я откашливаюсь и начинаю с самого важного для женщины - предметов туалета. Платья, шляпы и чепчики были достаточно хорошо упакованы и не пострадали от путешествия, кроме платьев из грубой шерстяной материи, которые пришлось освежить и которые сейчас в полном порядке, их находят очаровательными, и у меня будет часто случай носить их, так как решено, что мы поселимся в Москве до весны. Это большая любезность со стороны г-на Кайсарова, он очень любезен с Мишелем. На днях мы обедали у него, а также у моей тёти Пушкиной. И были ещё приглашения, но мы ими воспользуемся позже. Я возвращаюсь к шторе, которая ещё не повешена, так как мы только что решили, что займем первую квартиру, которую нам предложили. Я очень рада, что отказалась от маленького дома, который некрасив и не очень удобен, и у меня больше нет перспективы подхватить насморк, будучи вынужденной проходить часть улицы несколько раз в день. Серебро, бронза, меха, мебель, всё прекрасно сохранилось и прибыло по назначению. Я должна покинуть вас, дорогая мама, прощайте, поцелуйте моих братьев. Мне некогда написать им сегодня утром, а также и м-ль Клавель, хотя я могла бы сообщить ей интересные вещи. Целую вам руки, дорогая добрая мамуши, я вас очень нежно люблю.
Лиза
Мама и Папа приветствуют вас, а также и все мои сестры.
№ 7
Москва
5 ноября
Вот, моя добрая мама, план нашей квартиры: она небольшая, но очень удобная, очень просто обставленная, я нахожу, что в ней есть всё необходимое для меня и Мишеля, а также и для приёма наших дорогих родных. Я подаю повод Пьеру посмеяться надо мной, он будет критиковать выполнение этого рисунка, но я настаиваю на том, что прежде всего хотела доставить удовольствие Маме, нежная привязанность которой трогает меня, и которая продолжает проявлять ко мне самый живой интерес. Вы узнаете, дорогая мама, что моя спальная украшена красивой мебелью, которую вы мне подарили, кроме того, в ней находится английский ковёр и шторы на окнах, сделанные по рисункам, которые я привезла. Я заказала занавески из муслина для моего кабинета, они очень лёгкие и элегантные, а благодаря безделушкам и бронзовым статуэткам, которые вы знаете, эта комната имеет довольно элегантный вид; поскольку я говорю о моём кабинете, естественно сообщить вам, что я возьму учителя пения. Это занятие, которое я люблю, и которое не хотела бы оставить. Что касается рисования, до сих пор я ничего не предприняла, но это не из-за отсутствия доброй воли, так как я сгораю от нетерпения снова взяться за карандаши. К сожалению, у меня не хватает мужества для того, чтобы работать одной, а в Москве нет ни одного хорошего художника, это огорчает меня, и я навожу справки со всех сторон, может быть, мои поиски дадут лучшие результаты, чем это было до сих пор. Я два раза видела итальянцев, и каждый раз всё с большим удовольствием. Это развлечение, которое мы позволяем себе время от времени. Мама, вы хотите, чтобы я вела светскую жизнь, и я приобрету знакомства, которые дадут мне возможность бывать на балах и праздниках. Я испускаю глубокий вздох при одной мысли о том, чтобы устремиться в свет. Слушайте и улыбайтесь, Мама, я буду присутствовать сегодня на обеде у брата Папы, но это не обещает мне большого удовольствия. Прощайте, добрая, дорогая мама, дай Бог вам здоровья и счастья.
Всегда преданная вам ваша
Лиза
Тысяча нежных поцелуев моим дорогим братьям, Жан и Грегуар всегда присутствуют в моей памяти, вот у них и первые трудности, пусть их учёба увенчается самым большим успехом. Мой поклон м-ль Клавель, м-м Монтандр, Любочке и [...]а. Привет [...]а, расскажите ему обо мне, я уверена, что его это интересует. Легкомысленный [...]а ещё не посылает ваших подарков Мишелю, а ведь 8-е уже недалеко.
Автограф письма Е.П. Нарышкиной 21 октября 1824 г.
№ 8
Москва
19 ноября
Каждый день мы узнаём печальные и тяжёлые подробности о бедствиях, причинённых наводнением, и я восхищаюсь милосердием многих людей, которые делают пожертвования, чтобы помочь несчастным, огромное количество которых пугает меня. Петербургу с трудом удаётся возместить столь тяжкие потери. Я только что с удовольствием узнала, что в Москве начинается сбор средств в пользу пострадавших другой столицы. Дорогая мама, я благодарю Небо за то, что оно сохранило Вас, а также всех тех, кто внушает нам особый интерес.. Предупредите, пожалуйста, м-м Галахову, что я с удовольствием приобрету её мольберты, это удачная покупка. Я ещё не рисую, у меня уже есть один оригинал, но плохо выбранный, так как я часто бываю слишком рассеянной и смотрю невнимательно, однако это поправимое зло. Мама, я спешу сделать вам отчёт обо всем, что я делала на этих днях, и начинаю с сообщения о том, что я чувствую себя превосходно. Я видела два великолепных спектакля. Я обедала в городе у князя Голицына, это одно из самых респектабельных семейств, где я встретила молодую м-ль Прозоровскую, естественность которой меня очаровала. Сегодня мы обедаем у больного дядюшки, это его день рождения, признаюсь вам, что меня ожидает только скука, но это возможность увидеть всех родственников вместе, и поэтому я туда пойду. У меня ещё мало знакомых, так как здесь никого не принимают из-за плохого здоровья мамы, которая причастилась три дня тому назад, так как очень плохо себя чувствовала. Она не встаёт больше с дивана, не обедает за столом и очень страдает весь день. Это приблизительно со времени нашего приезда. Ухов очень благодарен Александру. Оленька Валуева очень мила, я её видела только три раза, так как она должна родить. Я собираюсь видеться с ней часто, она мне нравится. Здесь моя кузина Трубецкая, очень любезная, с ней мы видимся чаще всего и почти всегда с нею ходим на спектакли. Ложи очень дороги, и поэтому часто объединяются, когда хотят видеть итальянскую оперу, которая становится всё более приятной. Мы видимся почти исключительно с пожилыми людьми, очень серьёзными, очень рассудительными, но очень добрыми. Мой альбом приводит в восторг всех любителей, о нём говорят в городе. Передайте это Васильеву, я прошу вас [...]а.
Я вам посылала письмо для моей тёти, и я снова напишу ей через вас на будущей неделе. Привет м-м Монтандр, всей её семье, а также м-ль Клавель. Я уже говорила о материи на платье и о занавесках в моей спальне. Целую моих братьев и вас, мама, мне всегда не хватает бумаги, когда я вам пишу. Прощайте.
Лиза
№ 9
Москва
26 ноября
Целую вас, дорогая и добрая мама, и спешу исполнить моё обещание, которое я вчера дала вам, и отчитаться обо всём, что с нами происходило в последние дни. Прежде всего сообщаю вам, так как я думаю, что это интересует вас больше всего, что моё здоровье постоянно в хорошем состоянии, и недомогания, которые мне досаждали, стали гораздо менее частыми. Дорогая мама, будьте совершенно спокойны относительно моего здоровья, я о нём очень забочусь, так как оно больше не принадлежит мне, и я избегаю всех неосторожных поступков, на которые была бы способна прежде. Я благодарю Небо за счастье, которое оно мне послало, и я испытываю уже самую живую и нежную любовь к тому, кто так заполнит моё существование! Поскольку движение мне полезно, я совершаю большие прогулки пешком, и Мишель всегда сопровождает меня. Это хорошая опора, не правда ли, мама?
Сделайте большие глаза, Мамуши, недавно я была на двух больших обедах у княгини Трубецкой, которая пригласила нас на новоселье, в заново отделанном доме, обставленном с бесконечным изяществом и вкусом и населённом очень любезными людьми.
Другой обед состоялся у моей тёти Пушкиной, это были её именины. Её дети, внуки, племянники и племянницы составили довольно многочисленное общество, и я не скучала там, так как сидела за столом рядом с людьми, с которыми было приятно поговорить.
Перейдём к планам на завтрашний вечер, будут танцевать у старого графа Орлова. Я туда приглашена его дочерью м-м Новосильцевой, приятной особой, очень дружной с одной из моих сестёр, я иду туда впервые на вечер после официальных визитов, они мне так надоели, эти официальные визиты.
Я хочу поделиться с вами планом Мишеля, дорогая мама, он хочет поместить наши деньги в казну Приюта для беспризорных в Москве. Поскольку мы навсегда поселились в Москве, нам удобнее иметь здесь наши деньги для разных выгодных сделок, которые могут представиться, может быть, мы сможем доверить их какому-нибудь надежному дому, который будет платить нам 8 или 10%, что увеличило бы наши доходы, и этим не стоит пренебрегать. Наши расходы сейчас незначительны, порядок и экономия всегда будут признаками нашей жизни. У нас есть экипажи, мебель и различные предметы, необходимые для хозяйства, но через некоторое время наши потребности увеличаться, и мы заранее пытаемся обеспечить себе состояние, близкое к некоторому благополучию. Наконец, мы хотим иметь надёжный доход, и поэтому Мишель спешит вернуть небольшой долг, который у него есть в Петербурге, и Пьер выполнит это поручение, получив для этого 10000 рублей, которые находятся в ломбарде. Г-н Ликвин получит от меня письмо, и, конечно, он не откажется сделать мне одолжение ещё раз. Вы ему скажите, дорогая мама, несколько слов в мою пользу. Сообщите мне немедленно о получении денег, которые мы вам посылаем с этим письмом, и не забудьте, дорогая мама, сообщить мне об экзамене пажей. Мне грустно было бы узнать, что Жан будет служить в армии.
Целую моих братьев от всего сердца и вас также очень нежно, мама, так же, как я вас люблю.
Ваша любящая и преданная
Лиза
Поклон м-ль Клавель, м-м Монтандр и её семье.
№10
Москва
8 декабря
Я всегда начинаю, дорогая мама, с того, что обнимаю вас и успокаиваю насчёт моего здоровья, и я думаю, что это не так плохо. Я очень тронута интересом, который вы проявляете ко мне, и радуюсь, что смогу выразить свою благодарность вам лично в июне. Мысль о том, что я увижу вас в период, столь интересный для всей нашей семьи, восхищает меня. Я говорю: для всей нашей семьи, с уверенностью, так как я убеждена в дружеских чувствах, которые питают ко мне мои братья; я поздравляю от всего сердца Жана и Григри, их успех доставил мне бесконечное удовольствие, и я призываю их использовать семестр, который им предоставлен после экзамена. Я благодарю м-ль Клавель за то, что она занимается с пажами, и восхищаюсь её любезностью. Я убеждена, что мои братья сделают успехи во французском языке, и что они будут также заниматься и русским языком; они в этом нуждаются, и хорошо бы, мама, если бы вы им дали в учителя Лобанова. Хорошо бы, если бы мои братья читали вслух по вечерам, это было бы приятным развлечением и в то же время полезным. Я попрошу вас об одной вещи, которой вы не ожидаете, это прислать мне несколько рецептов из чёрного альбомчика, о приготовлении малинового сока, [...]а, изюмной воды, сахарного мёда, и как приготовлять разные соленья, сладости и всякие хорошие вещи, я собираюсь сделаться хорошей хозяйкой.
Я писала вам на днях о концерте в пользу жертв Петербурга. Он состоялся вчера и имел самый большой успех. Я была в восторге от голоса княгини Зинаиды Волконской, пения г-жи Риччи, блестящего исполнения концерта Мошелеса, м-м Рахмановой и шестнадцатилетней м-ль Озеровой, самой достойной ученицей Фильда. Наконец, вся Москва собралась в огромном зале и получено 22 тысячи рублей. Вы не будете огорчены, найдя в этом письме программу концерта. Я ещё не говорила вам о моих уроках пения. У меня три раза был Бравур, но я не упражняюсь, как прежде, по пяти часов, это было бы слишком утомительно. Вам будет приятно узнать, что я нанесла визиты, которые мне стоили такого труда, к [...]а и [...]а.
Милая мама, я покидаю вас, нежно вас целуя, и я все больше люблю вас.
Лиза
Тысяча нежных поцелуев моим братьям, а также м-ль Клавель.
№11
Москва
21 декабря
Моя добрая, дорогая мама, я тысячу раз благодарю вас за доброту, которую вы не перестаете проявлять ко мне, и за письма, которые вы посылали мне каждый раз, когда вам представлялся случай. Я очень переживала за вас, зная, что вам предстояло длительное и тяжёлое путешествие в это время года, и, безусловно, только мысль о добром деле поддерживала вас в этом предприятии, неслыханном в вашем возрасте, и которое могло бы быть подсказано лишь сердцем таким, как ваше. Я очень рада, что моя тётя вне опасности, и, как и вы, не одобряю её решения провести зиму в деревне, где она лишена помощи, которой требует её состояние. Она, кажется, признательна вам за жертву, которую вы принесли ей, и было бы невозможно остаться к этому равнодушной. Мои братья должны с нетерпением ждать вашего возвращения. Я надеюсь, что вы их нашли в добром здравии, и, как всегда, они стремятся быть приятными нашей доброй Мамуше, к которой я всегда буду питать самые нежные чувства. Я с удовольствием ношу жабо, которое вы взяли на себя труд сделать для меня. Но я вынуждена отказаться от пунцовой ленточки, которую вы к нему привязали сами, так как мы носим траур по тёте Волконской, которая страдала в течение 17 лет, была худой, как скелет. Вид её пугал из-за этой страшной худобы, и её возили 10 лет в коляске, так как у неё не было сил. И вот нам угрожает уже вторая смерть, сестры мамы, особы весьма преклонного возраста. У неё очень милый характер, её страдания нас очень тревожат, и мои сёстры проводят все ночи около неё. Это родственница, которую любит вся семья, и к которой я уже относилась с большой нежностью. Представьте себе, мама, что она была первой из родственников Мишеля, которую я увидела за несколько станций от Москвы; она мне оказала самый дружеский приём, и я сразу почувствовала себя с ней непринуждённо, она так снисходительна, и входит в положение любого.
Хватит печальных сцен. Сегодня день рождения Грегуара, я целую его от всего сердца и молюсь о его счастье. Я восхищаюсь его философией по поводу титула камергера, в котором ему несправедливо отказали и которого он заслужил своим старанием в учёбе. Я уверена, что это на него не повлияет. Я призываю его следовать примеру Жана.
Прощайте, мама. Целую вам руки и я вас нежно люблю.
Лиза
Александр говорит о доброжелательности, которую вы к нему проявляете во всех ваших письмах, и он вам очень благодарен. Мама вас благодарит, она плачет каждый раз, когда Александр говорит ей о вас.
№ 12
Москва
23 декабря
Я с радостью пользуюсь случаем написать вам ещё несколько строк, дорогая мама, я предполагаю, что это письмо, так же как и предыдущее, которое я только что отправила по почте, застанет вас уже среди моих милых братьев. Я желаю, чтобы вы счастливо закончили своё путешествие, и чтобы ваше здоровье не пострадало от всех трудностей, которые вы перенесли. Только первое письмо, датированное из Петербурга, которое я получу от вас, сможет успокоить меня. Вы не представляете себе, насколько я сейчас занята переменами погоды, зная, что вы находитесь в дороге, я страдаю при каждой неблагоприятной перемене. Кузен мадам Сперберг взялся передать вам чепчик. Дорогая мама, мне хочется, чтобы он пришёлся вам по вкусу. Я обежала весь город, чтобы добыть для вас траурную ленту, и нашла лишь то, что я отсылаю вам тем же путём. Лишь сейчас мы смогли выполнить ваше поручение и послать вам чай; вот 28 фунтов на 200 рублей, которые нам прислали, т.е. по 7 рублей с чем-то. Я надеюсь, что это вам подойдёт. Вы найдёте в этом конверте поздравительные письма, которые вы не преминете передать по адресам. Дорогая мама, скажите мне что-нибудь ласковое по этому поводу. Вы видите, как я точно исполняю долг по отношению к родственникам.
Будьте счастливы, мама, и проведите праздники с удовольствием, как это можно сделать в семье, которая вами так дорожит. Вспомните и обо мне. Ваша любящая дочь
Лиза
№ 13
Москва
27 декабря
Примите, милая мама, мои поздравления и пожелания счастья, пусть оно не изменяет вам никогда. Вы понимаете, мама, как я огорчена тем, что начинаю этот новый год вдали от моей семьи, но моё сердце всегда с вами, и бывают некоторые события, некоторые счастливые дни, которые приближают меня больше ко всем вам, кого я люблю, поэтому я цепляюсь за них.
Добрая дорогая мама, вы должны быть уверены в моей любви к вам, я надеюсь, что мои братья напишут мне несколько строк; они совсем теряют меня из вида, и я чувствую, что не заслужила этого. У меня есть искушение поссориться с Пьером; уже давно он мне не пишет; я ожидала большего от дружбы, которую он проявлял ко мне. Если нежные упрёки, которые я только что ему сделала, не трогают его, я попытаюсь наделать много шума, напомнив о моём праве старшинства, по которому полагается новогоднее письмо, вежливое и почтительное. Однако гнев не настолько душит меня, чтобы не позволить Пьеру участвовать в тысяче поцелуев, которые я посылаю Жану, Григри и Алексису, я хочу, чтобы они были приняты с тем же удовольствием, с которым я их раздаю. Скажите доброй м-ль Клавель, что я её люблю всем сердцем и нежно обнимаю её, и не забудьте передать мои поздравления дорогой м-м Монтандр, я желаю ей великолепного здоровья и столько счастья, сколько она заслуживает. Прощайте, дорогая, любимая мама, я вас прижимаю к сердцу, которое вам предано.
Лиза
Мишель целует вам руки.
Метки: ЖЗЛ россия декабристы нарышкины коновницыны жены декабристов |
Никита Кирсанов. "Семья декабриста И.А. Анненкова" (часть 1). |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Никита Кирсанов. "Семья декабриста И.А. Анненкова" (часть 1).
Анненковы - старинный дворянский род, ведущий свои истоки к XV веку. К середине XVIII века у Никанора Ивановича Анненкова, деда будущего декабриста, были владения с тысячами крепостных крестьян в Нижегородской, Симбирской и Пензенской губерниях. После смерти Н.И. Анненкова земли были разделены между тремя его сыновьями: Николаем (1764-28.03.1839), Аркадием (ск. 29.07.1797) и Александром. Младший Александр стал наследником нижегородских поместий: Пузской слободы в Лукояновском уезде, села Вазьян, деревень Озерки, Большая Печёрка, Неледино в Арзамасском уезде (ныне Вадский и Шатковский районы), деревни Борцово в Нижегородском уезде (ныне Дальнеконстантиновский район).
Александр Никанорович, отец декабриста, капитан лейб-гвардии Преображенского полка, выйдя в отставку, жил в Нижнем Новгороде и служил советником Нижегородской гражданской палаты. В дальнейшем он переехал в Москву, где и умер в 1803 г.

Неизвестный художник. Портрет Александра Никаноровича Анненкова. Начало 1800-х гг.
Мать Ивана Александровича, Анна Ивановна, была дочерью иркутского генерал-губернатора И.В. Якобия. После смерти отца и мужа, она стала наследницей огромного состояния в пять тысяч крепостных крестьян, земельных угодий в пяти губерниях России и двух каменных домов в Москве.
Названный в честь деда по материнской линии, Иван Александрович Анненков родился 5 марта 1802 г. Он получил традиционное домашнее образование, а в 1817-1819 гг. посещал лекции в Московском университете (курса не окончил). По сдаче экзамена при Главном штабе, 10 августа 1819 г. поступил юнкером в службу в Кавалергардский полк.
Немногословный, несколько медлительный, близорукий, но прямодушный и знающий цену словам и обещаниям, И.А. Анненков быстро приобрёл друзей в полку, среди которых было и немало будущих декабристов: П.Н. Свистунов, А.М. Муравьёв, Ф.Ф. Вадковский... Член же Южного тайного общества А.В. Поджио, вообще жил в его доме.
1 ноября 1819 г. И.А. Анненков был произведён в эстандарт-юнкеры, 21 декабря того же года - в корнеты, и, наконец, 13 марта 1823 г. был повышен в звании до поручика.
В 1824 г. Иван Александрович был принят П.И. Пестелем в Петербургский филиал Южного общества. Пользуясь полным доварием товарищей, Анненков участвовал и в деятельности Северного общества, активно обсуждая программные документы северян, но при этом оставаясь ярым приверженцем "Русской правды" П.И. Пестеля.
В декабрьском вооружённом восстании И.А. Анненкову отводилась немаловажная роль: он должен был привести гвардейский Кавалергардский полк на Сенатскую площадь. За два дня до восстания, Анненков доложил начальнику штаба заговорщиков Е.П. Оболенскому, что кавалергарды не готовы к выступлению и вряд ли он их сможет убедить поддрежать восставшие полки. Так и получилось. Анненков был на Сенатской площади 14 декабря 1825 г., но, увы, по противоположную сторону от своих товарищей. Его взвод прикрывал орудия бригады полковника Неслуховского, который "забыл" взять на площадь боевые заряды.
После разгрома восстания на Сенатской площади, названный на допросе кем-то из декабристов, И.А. Анненков был арестован в казармах полка. Поначалу ему удалось скрывать свою принадлежность к восставшим, но из показаний В.С. Толстого и М.И. Муравьёва-Апостола, стала известна роль Анненкова в тайном обществе. Он был осуждён по II разряду к 20 годам каторги, лишению чинов и дворянства, и к пожизненному поселению в Сибири. Позже, в результате конфирмации, срок каторги был сокращён до 15 лет. 10 октября 1826 г., закованным в кандалы, Анненков отправляется в Сибирь (приметы: рост 2 аршина 7 7/8 вершков, "лицо белое, продолговатое, глаза голубые, близорук, нос длинный, широковат, волосы на голове и бровях тёмно-русые").
За полгода до восстания Иван Александрович знакомится с дочерью наполеоновского офицера - Жанеттой Поль (р. 9 июня 1800 г.), приехавшей в Москву под вымышленным именем Полина (Паулина) Гёбль в качестве модистки на работу в торговый дом Дюманси. Летом молодые люди встретились на ярмарке в Пензе. Иван Александрович прибыл туда "ремонтером" - заниматься закупкой лошадей для полка. Полина приехала вместе с магазином Дюманси. В Симбирской, Пензенской и Нижегородской губерниях у Анненковых были имения, и молодые, под видом объезда их совершили краткое путешествие. В одной из своих деревень, Иван Александрович договорился со священником и нашёл свидетелей, чтобы обвенчаться с Полиной, но она, боясь гнева Анны Ивановны, отказалась от обряда. Позже, в своих воспоминаниях, Полина напишет: "Иван Александрович не переставал меня преследовать и настоятельно требовал обещания выйти за него замуж, но я желала, чтобы он предварительно выхлопотал на женитьбу согласие своей матери, что было весьма нелегко сделать, так как мать его была известна как женщина в высшей степени надменная, гордая и совершенно бессердечная. Вся Москва знала Анну Ивановну Анненкову, окружённую постоянно необыкновенною, сказочною пышностью... Французы мне рассказывали про неё. И те, которые принимали во мне участие, были уверены, что эта недоступная, спесивая женщина восстанет против брака своего сына с бедною девушкою". Вспыхнувшая страсть, переходит в глубокое чувство. В Москву они вернулись в ноябре 1825 г.
14-е декабря перевернуло все их планы и мечты. Иван Александрович арестован и заключён в Петропавловскую крепость, а Полина осталась одна, без средств, ждущей ребёнка. 11 апреля 1826 г. родилась девочка, которую назвали Сашенькой.
Жизнь вынудила её обратиться к матери Анненкова. Анна Ивановна холодно встретила молодую француженку. Не её просьбу организовать побег сыну, она наотрез отказала: "Он должен покориться судьбе", - заявила "Якобиха" (так называли её между собой москвичи) безапелляционно. Узнав, что Полина хочет ехать за сыном в Сибирь, она принялась её отговаривать, но та была непреклонна. Денег, однако, Полине дала.

Эдмон Пьер Мартен. Портрет Анны Ивановны Анненковой. 1820-е гг.
Гёбль борется за своё счастье. Она едет в Вязьму, где проходили маневры войск под личным наблюдением Николая I и с большим трудом получает разрешение отправиться вслед за женихом. В Москве у Анны Ивановны, Полина оставляет маленькую Сашеньку. Безумно тягостно было расставание с дочерью, но везти её в Сибирь, было ещё большим безумием. К тому же жёнам декабристов, следующих за своими мужьями в Сибирь, категорически запрещалось брать с собой детей. Расставаясь, Полина даже не могла представить, что встретятся они только через 24 года, в 1850-м. Александра Ивановна Теплова, приедет с детьми в Тобольск и Иван Александрович Анненков впервые там увидит свою старшую дочь.
Почти без средств, не зная русского языка, которого она до конца дней своих так и не выучила, Полина Гёбль добирается до Читы. Там в деревянной Михайло-Архангельской церкви, сохранившейся до наших дней, она венчается с Иваном Александровичем. Только на время венчания с жениха сняли кандалы.
Все годы каторги, Прасковья Егоровна, так она стала официально именоваться после венчания, жила рядом с тюремным острогом, а с 1836 года жила с Иваном Александровичем на поселении, вначале в селе Бельском Иркутской губернии, а затем в Туринске и Тобольске, стойко перенося все тяготы и невзгоды.
В 1830 г. декабристов перевели из Читы в Петровский завод. Жёны выехали раньше, чтобы обжить новое место. Прасковья Егоровна проделала этот путь вместе с детьми - полуторогодовалой Аннушкой (16.03.1829-16.06.1833) и трёхмесячной малышкой Оленькой (р. 19.05.1830), которая сильно хворала. "Мудрено тебе вообразить, - писал И.И. Пущин Н.А. Бестужеву в сентябре 1854 г. из Ялуторовска, - что Оленька, которую грудным ребёнком везли из Читы в Петровское, теперь женщина 24 лет - очень милая и добрая".
Тёплое и заботливое отношение друзей родителей, сопровождало Оленьку Анненкову на всём трудном пути её детства. Она помнила и тюрьму, и суровую жизнь в Бельском - первые два года после выхода из каторги на поселение. Больше возможностей открылось перед девочкой после переезда родителей в Западную Сибирь, в Туринск. "Дочь их (Анненковых. - Н.К.), прелестное девятилетнее дитя почти ежедневно приходит к нам брать у меня урок музыки, а у матушки - французского языка. Она такая кроткая и приветливая, такая рассудительная, что видеть её и заниматься с нею - одно удовольствие", - писала Камилла Петровна Ивашева родственникам.
С 1839 г. И.А. Анненкову было разрешено служить канцеляристом четвёртого разряда в земском суде, а в 1841 г. семья переехала в Тобольск. Сыновья Анненковых Иван (8.11.1835-1886) и Николай (15.12.1838-29.08.1870) учились здесь в гимназии, дочери Ольга и Наталья (28.06.1842-1894) получали домашнее образование. Ольга сдружилась с Машей Францевой, дочерью близкого знакомого декабристов чиновника Д.И. Францева, и вместе с нею помогала старшим в делах женских ланкастерских училищ. Сдержанная и отзывчивая девушка пользовалась доверием и старших женщин, особенно сблизилась она с Натальей Дмитриевной Фонвизиной, женой декабриста М.А. Фонвизина.
Ольге Ивановне не исполнилось ещё двадцати лет, когда в январе 1850 г. в Тобольск привезли под конвоем петрашевцев. Вместе со своей матерью и Н.Д. Фонвизиной она оказалась в числе тех, кто поддержал Ф.М. Достоевского в первые дни сибирской неволи. Об этой поддержке Фёдор Михайлович сообщал брату в первом после каторги письме: "Скажу только, что участие, живейшая симпатия почти целым счастьем наградили нас. Ссыльные старого времени (т.е. не они, а жёны их) заботились об нас как о родне. Что за чудные души, испытанные 25-летним горем и самоотвержением. Мы видели их мельком, ибо нас держали строго. Но они присылалми нам пищу, одежду, утешали и ободряли нас. Я, поехавший налегке, не взывши даже своего платья, раскаялся в этом... мне даже прислали платья". И позднее - ещё об этом: "При вступлении в острог у меня было несколько денег, в руках с собой было немного, из опасения, чтоб не отобрали, но на всякий случай было спрятано, то есть заклеено, в переплёте Евангелия, которое можно было нести в острог, несколько рублей. Эту книгу, с заклеенными в ней деньгами, подарили мне ещё в Тобольске те, которые тоже страдали в ссылке и считали время её уже десятилетиями и которые во всяком несчастном уже давно привыкли видеть брата".
Известно, что Достоевский хранил это Евангелие всю жизнь, читал в день смерти и передал сыну. Рассказывая о последних часах мужа, Анна Григорьевна Достоевская называла в своих воспоминаниях Ольгу Ивановну Анненкову и её мать в числе тех, с кем виделся Фёдор Михайлович в Тобольске.
"Я всегда буду помнить, что с самого прибытия моего в Сибирь, вы и всё превосходное семейство ваше брали и во мне, и в товарищах моих по несчастью полное и искреннее участие. Я не могу вспомнить об этом без особенного, утешительного чувства и, кажется, никогда не забуду", - так писал Фёдор Михайлович старшей Анненковой в октябре 1855 г. из Семипалатинска.
Жизнь самих Анненковых в тобольской ссылке была далеко не безмятежна, хотя внешне достаточно благополучна по сравнению с их первым сибирским десятилетием. Старший сын Владимир (18 или 28.10.1831-27.10.1898) в 1850 г. поступил на гражданскую службу. Потихоньку наблюдался карьерный рост и у самого Ивана Александровича. Но вскоре после прибытия петрашевцев, они пережили волнения и неприятности. Связано это было с поездкой Ольги в Ялуторовск, когда власти заставили их остро ощутить бесправное положение даже второго поколения в семьях декабристов. К этому времени И.А. Анненков занимал должность коллежского регистратора и исполнял должность заместителя тобольского приказа о ссыльных. 23 сентября 1850 г. ему был вручен пакет от тобольского гражданского губернатора К.Ф. Энгельке под грифом "секретно":
"Милостивый Государь, Иван Александрович! Приложенное при сем письмо к Вашей дочери, Ольге Ивановне, покорнейше прошу вручить ей и принять уверение в моём совершенном почтении.
Карл Энгельке".
"Милостивая Государыня Ольга Ивановна! По предписанию Его Сиятельства, г. генерал-губернатора Западной Сибири, покорнейши прошу отозваться мне: на каком основании Вы изволили отлучаться из Тобольска в Ялуторовск, не спросив на это разрешения начальства и, как только такое разрешение даётся только по особенно уважительным причинам, то с какою целью эта поездка предпринята была Вами и с кем именно?
Ответ Ваш не угодно ли будет доставить ко мне с надписью секретно, в собственные руки.
Примите милостивая государыня уверение в моём к Вам почтении.
Карл Энгельке".
Вежливость Энгельке не скрывала полицейского характера вопроса. Ольга Анненкова не ответила губернатору. Вместо неё ответил отец. Он сухо объяснил, что ознакомился с письмом к дочери и не передал его. "Дочь моя не могла бы сама собою без моего пособия отвечать на вопросы Вашего Превосходительства потому, что не поняла бы официального слога Вашего письма и причин, по которым местное Начальство признаёт нужным лишать её свободы, предоставленной всем и на основании общих законоположений. Чтоб сделать их понятными для неё, понадобилось бы объяснять ей моё положение и коснуться нескольких политических событий, имевших влияние на мою жизнь, которые, к несчастью, отражаются теперь и на ней, невинной жертве, что я желал всегда избегнуть... Она отлучилась из Тобольска для прогулки с дозволения своей матери, ездила в Ялуторовск без всякой политической цели, могу Вас уверить в том, единственно для развлечения, в обществе г-ж Муравьёвой (жены декабриста А.М. Муравьёва. - Н.К.) и Фон-Визиной, которые пригласили её с собою".
Тобольская и Ялуторовская колонии декабристов, связанные теснейшими дружескими узами, постоянно сообщались между собою, используя неофициальные каналы для передачи писем, книг, посылок. Для властей поездка трёх женщин была не только нарушением режима ссыльных, но и нежелательным контактом с ялуторовскими декабристами. Разумеется, Ольга участвовала в этом, как и в посещении петрашевцев в тюрьме, с полным осознанием всех обстоятельств.
Вскоре выяснилось, что генерал-губернатор Западной Сибири князь П.Д. Горчаков донёс в Петербург о поездке в Ялуторовск. В начале 1850 г. Наталья Дмитриевна Фонвизина обратилась к Горчакову с просьбой о смягчении положения петрашевцев Достоевского и С.Ф. Дурова; она надеялась тогда ещё на добрые отношения, сложившиеся ранее у Фонвизиных с семьёй генерал-губернатора (жена его приходилась Фонвизиной родственницей). Но тут разыгралась история с делом о наследстве, решённым советником Тобольского губернского правления Д.И. Францевым не в пользу князя. В этом процессе Горчаков выступал против собственных дочерей, которые, потеряв недавно мать, сохраняли тёплые отношения с Натальей Дмитриевной. Раздажённый генерал-губернатор занял сугубо официальную позицию в отношении тобольских декабристов.
"Вследствии отношения к г-ну шефу Корпуса жандармов г. генерал-губернатору Западной Сибири, - писал в ноябре 1850 г. Энгельке, обращаясь снова к И.А. Анненкову, - которым он доводил до сведения графа Орлова (шефа жандармов. - Н.К.) о поездке г-ж Фон-Визиной, Муравьёвой и Вашей дочери Ольги в Ялуторовск, г. управляющий III-им отделением собственной его величества канцелярии, от 12 минувшего октября за № 2087, сообщил его сиятельству князю Петру Дмитриевичу (Горчакову. - Н.К.), что обстоятельство это за отсутствием графа Алексея Фёдоровича (Орлова. - Н.К.) предоставлено было на усмотрение г. военного министра, и его светлость, признав Фон-Визину, Муравьёву и Вашу дочь виноватыми в самовольной отлучке с места жительства, изволили приказать сделать им за их неуместный поступок строгое внушение.
Будучи сам поставлен в известность предписанием г. генерал-губернатора от 5 сего ноября за № 136, я покорнейши прошу Вас объявить о таком отзыве г. военного министра дочери Вашей и об исполнении мне письменно донести".

Эдмон Пьер Мартен. Портрет Ивана Варфоломеевича Якобия. 1820-е гг.
Наверху сочли усердие Горчакова излишними и ограничились внушением. Но генерал-губернатор и тобольский полицмейстер не унялись и продолжали ещё некоторое время изводить тобольскую колонию ограничениями и придирками. "Теперь ты знаешь уже, что ялуторовская поездка произвела кутерьму, которая имела важные для всех нас последствия, так что вызвала меня на крайние меры, - писала Н.Д. Фонвизина ялуторовскому протоиерею С.Я. Знаменскому. - Но князь не унялся, несмотря на уведомление моё, что просила и жду правил из Петербурга, он собрал откуда-то и присочинил свои правила, где называет нас жёнами государственных преступников и ещё ссыльнокаторжных, тогда как недавно, по предписанию из Петербурга, с наших брали подписки, чтобы им не называться так, а состоящими под надзором полиции для неслужащих, а для служащих по чину или месту, занимаемому в службе, вследствие чего и сам князь в предписании губернатору о запрещении мне ехать на воды величает меня супругою состоящего под надзором полиции. Эту бумагу его с прочими документами я отправила к графу Орлову. Теперь вздумал браниться, я думаю, для того и правила выдал, чтобы при чтении их полицмейстер бранил нас в глаза. Я не допустила его себе читать, именно потому, что ожидала какого-нибудь ответа на моё послание в С.-Петербург. Но что всего милее, хотели с нас брать подписки, что будем исполнять по правилам; а полицмейстер - ужасная дрянь, так настроен, что следит всюду, а за город и выпускать нас не велено". Такова была обстановка в Тобольске в ноябре 1850 года...
Конфликт с генерал-губернатором исключил возможность существенно повлиять через высшую местную власть на положение петрашевцев, находящихся в Омске. Оставался путь конкретной повседневной помощи и опеки, на который и стали семьи декабристов и их друзья. Для Ольги Анненковой вскоре появилась возможность подключиться к этому непосредственно в Омске.
В марте 1851 г. Ольга Ивановна и Фонвизина читали "Бедных людей" Достоевского. Книгу прислал Наталье Дмитриевне С.Я. Знаменский. Так продолжалось знакомство, начавшееся в тобольской пересыльной тюрьме. В это время все уже знали о предстоящем, в связи с замужеством, переезде всеобщей любимицы - Оленьки. "После пасхи ожидаю опять новобрачных: Оленька Анненкова выходит замуж за омского инженерного офицера Иванова, после свадьбы обещают заехать в дом Бронникова, а хозяину дома это и любо", - писал И.И. Пущин Г.С. Батенькову 5 марта 1851 г.
Константин Иванович Иванов (1822-2.04.1887), муж О.И. Анненковой, был однокашником Ф.М. Достоевского по инженерному корпусу; он закончил в 1844 г. (на год позже писателя) нижний офицерский класс с чином прапорщика и был направлен в полевые инженеры. Учась на смежных курсах, они, разумеется, были знакомы. Да и пишет Достоевский о нём брату Михаилу в первом после каторги письме как о знакомом.
Фраза в "Записках из Мёртвого дома" о служивших "в том городе" знакомых и "давнишних школьных товарищах" автора, с которыми он возобновил "сношения", имеет прямое отношение к Иванову.
Когда Достоевского привезли в Омск, Иванов, военный инженер в чине подпоручика, служил там адъютантом генерал-майора Бориславского - начальника инженеров Сибирского отдельного корпуса.
В журналах (протоколах) Совета Главного Управления Западной Сибири, содержится ряд документов, позволяющих представить характер службы Константина Ивановича. Его нередко командировали в другие города Западной Сибири в связи со строительством или ремонтом казённых зданий военного ведомства, для инспектирования, разработки строительных смет и пр. Предоставляемые им рапорты содержали конкретные технические предложения по строительству и ремонту, в которых сочеталась хорошая профессиональная подготовка с чётким и безупречно честным (злоупотреблений в этой области в Сибири, впрочем, как и сейчас, было немало) подходом к делу.
Частые и длительные поездки, особенно в Тобольск, сделали возможным знакомство Константина Ивановича с декабристами. Молодой инженер органично вошёл в их круг. Об этом свидетельствуют, в частности, его контакты с И.И. Пущиным. Он бывал у Пущина в Ялуторовске и без Ольги Ивановны, а уехав из Сибири, переписывался с Иваном Ивановичем: "Опять пришла почта, принесла одно только письмо от Константина Ивановича из Кронштадта... Кронштадт Иванов укрепляет неутомимо - говорит, что три месяца работает как никогда. Иногда едва успевает пообедать". Сохранились письма К.И. Иванова к декабристу П.Н. Свистунову 1857 года, наполненные заботами декабристской "артели", связями вернувшихся из Сибири семей ссыльных.
В ведении начальника инженерной команды Бориславского состояли и арестантские работы. В качестве его адъютанта Константин Иванович мог в некоторой степени влиять на выбор работ, в которые назначили Достоевского и Дурова, а в исключительных случаях даже организовать их встречи вне острога под предлогом фиктивных поручений. Именно так была устроена встреча Фёдора Михайловича с Евгением Ивановичем Якушкиным - сыном декабриста И.Д. Якушкина, приехавшим в Сибирь по делам Межевого корпуса, где он служил. В Омске младший Якушкин остановился у К.И. Иванова. Достоевского на другой же день привёл конвойный чистить снег во дворе казённого дома, где жили Ивановы. "Снега, конечно, он не чистил, а всё утро провёл со мной, - писал много лет спустя об этой встрече Е.И. Якушкин. - Помню, что на меня страшно грустное впечатление произвёл вид вошедшего в комнату Достоевского в арестантском платье, в оковах , с исхудалым лицом, носившем следы сильной болезни. Есть известные положения, в которых люди сходятся тот час же. Через несколько минут мы говорили, как старые знакомые. Говорили о том, что делается в России, о текущей русской литературе. Он расспрашивал о некоторых вновь появившихся писателях, говорил о своём тяжёлом положении в арестантских ротах. Тут же написал он письмо брату, которое я и доставил по возвращении моём в Петербург".
Рассказывая в "Записках из Мёртвого дома" о том, как он вместе с поляком Богуславским ходили в течение трёх месяцев из острога в инженерную канцелярию в качестве писарей, Фёдор Михайлович заметил: "Из инженеров были люди (из них особенно один), очень нам симпатизировавшие". 22 февраля 1854 г. Достоевский написал своему брату слова, которые могут служить ключом к оценке омских контактов писателя. Это связано с именем Константина Ивановича: "Если б не нашёл здесь людей, я бы погиб совершенно. К.И. Иванов был мне как брат родной. Он сделал для меня всё, что мог. Я должен ему деньги. Если он будет в Петербурге, благодари его. Я должен ему рублей 25 серебром. Но чем заплатить за то радушие, всегдашнюю готовность исполнить всякую просьбу, внимание и заботливость как о родном брате. И не один он! Брат, на свете очень много благородных людей". Последняя пылкая фраза в устах человека глубокого и замкнутого, отнюдь не склонного к восторженным излияниям, написанная через неделю после выхода из каторжной тюрьмы - поистине знаменательна.
Метки: ЖЗЛ россия декабристы анненковы |
Никита Кирсанов. "Семья декабриста И.А. Анненкова" (часть 2). |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Никита Кирсанов. "Семья декабриста И.А. Анненкова" (часть 2).

Константин Иванович Иванов. Фотография 1870-х гг.
Когда молодожёны Ивановы приехали в Омск весной 1851 г., князь Горчаков был уже смещён с поста генерал-губернатора. Его сменил генерал Г.Х. Гасфорд. Перемещения, сопутствующие появлению нового корпусного командира, не коснулись Бориславского и коменданта крепости А.Ф. де Граве, тоже благожелательного к петрашевцам.
Ольга Ивановна сохраняла в Омске тесную связь с оставленными в Тобольске друзьями. В письмах к Фонвизиной делилась свомим настроениями, извещала о местных новостях, существенных для хлопот декабристов. Мнение, которое сложилось о ней за три года самостоятельной жизни её в Омске, выразил друг декабристов, барон Александр Егорович Врангель, познакомившийся с нею в 1854 г. "Г-жа Иванова была чудная, добрая женщина, высокообразованная, защитница несчастных, особенно политических". Любопытно определение образованности молодой женщины в устах выпускника Царскосельского лицея. Декабристам удалось, видимо, многого добиться в воспитании Ольги, рождённой и выросшей в Сибири. Сказав о начале знакомства её с Достоевским в Тобольске, Врангель пишет далее: "Продолжала она свои заботы о нём и в Омске, чем во многом облегчила его пребывание на каторге. Когда я в 1856 г. возвращался в Петербург, то Фёдор Михайлович горячо поручал мне побывать у неё и поблагодарить за всё добро, оказанное ему, что я и сделал".
До нас дошли и оценки Ольги Ивановны самим Достоевским. В первом после каторги письме - брату Михаилу: "Впрочем, Константин Иванович будет сам в Петербурге - в этом году; он тебе всё расскажет. Что за семейство у него! Какая жена! Эта молодая дама, дочь декабриста Анненкова. Что за сердце, что за душа, и сколько!" Это было написано в феврале 1854 г., а в октябре 1855 г. Фёдор Михайлович подтвердил, что знакомство с Ольгой Ивановной "будет всегда одним из лучших воспоминаний" его жизни.
Через Ивановых шла в Омск неофициальная переписка писателя. Судя по обстоятельствам встречи Достоевского с Е.И. Якушкиным в 1853 г., Фёдор Михайлович был, по меньшей мере, один раз в доме Ивановых в период заключения. Прасковья Егоровна Анненкова приезжала в Омск во время каторги Достоевского и встречалась с ним - об этом писатель чётко говорит в письме к ней от 18 октября 1855 г. Где была устроена эта встреча - неизвестно. Но нам удалось установить по омским метрическим книгам срок и причину приезда жены декабриста в Омск.
Среди записей о крещении детей в Омском Воскресенском соборе за 1853 г., есть одна особенно примечательная, насыщенная исторической информацией: у старшего адъютанта, полевого инженер-поручика, Константина Ивановича Иванова и его жены, Ольги Ивановны, 30 марта родилась дочь Наталия; крестили её 16 апреля 1853 г. Восприемниками при крещении были: "заседатель Тобольского приказа общественного призрения, губернский секретарь Иван Александрович Анненков и жена государственного преступника Наталья Дмитриевна Фонвизина. Полевой инженер полковник Иван Иванов и жена губернского секретаря Анненкова Параскева Егоровна". Крестил протоиерей Д.С. Пономарёв.
У Ольги Анненковой, родившейся в Сибири, первый ребёнок тоже родился в Сибири. Это было третье поколение в семьях декабристов, к тому же дочь всеобщей любимицы Оленьки, и тобольская колония не могла не откликнуться на это событие. Дедушка с бабушкой и Н.Д. Фонвизина приехали в Омск, по-видимому, нелегально. Во всяком случае, нам нигде больше не встретилось упоминание об этой поездке Анненковых и Натальи Дмитриевны. Ожидая их, и крестины отложили на семнадцатый день. Нелегальный характер поездки и был, вероятно, причиной того, что Достоевский так глухо упомянул в письме омскую встречу свою с Прасковьей Егоровной (осторожность в таких случаях соблюдалась даже в письмах, передаваемых с оказией), состоявшуюся, как мы теперь знаем, в апреле 1853 г. На молчание Д.С. Пономарёва, сделавшего запись в метрической книге, декабристы могли расчитывать.
Жёсткая формулировка перед именем Фонвизиной - "жена государственного преступника" - отражает официальное положение Натальи Дмитриевны и напоминает о том, в какой трудной обстановке действовали семьи декабристов в Сибири - при всех своих аристократических связях. Характерным для судеб дворянских ссыльных контрастом выглядит соседство с этой формулировкой чина инженер-полковника И.И. Иванова - представителя семьи Константина Ивановича.
После выхода из острога Ф.М. Достоевский и С.Ф. Дуров провели почти месяц в доме Константина Ивановича перед отправкой солдатами в свои воинские части. Это был месяц не только доброго гостеприимства, потока информации, интенсивного чтения свежих журналов и газет, получения и заказа "с оказией" литературы, первых писем к родственникам и друзьям после каторги, отправленных по цензурным каналам, но и интересных знакомств. Именно в доме Ивановых начались, в частности, отношения Достоевского с Ч.Ч. Валихановым. "Это письмо посылается тебе в глубочайшем секрете, и об нём никому ни пол слова, - писал в эти дни Фёдор Михайлович брату Михаилу. - Впрочем, я пошлю тебе письмо и официальное, через штаб Сибирского корпуса. На официальное отвечай немедленно, а на это при первом удобном случае". И вторично в конце письма подчеркнул его секретность.
Дому Ивановых-Анненковых посчастливилось: великий писатель провёл в нём удивительные дни, исполненные глубокого значения. Выход на свободу (хотя и относительную) создавал особое состояние - итоги пережитого за четыре страшных года, продуманного, прочувствованного, дальние и ближние планы, предчувствие перемен, обострённое восприятием нахлынувших за стенами острога впечатлений. Ведь именно в эти дни он выразил Михаилу существенное о себе: "Но вечное сосредоточие в самом себе, куда я убегал от горькой действительности, принесло свои плоды. У меня теперь много потребностей и надежд таких, об которых я и не думал". Или: "Вся будущность моя, и всё, что я сделаю, у меня как перед глазами".
И в те же дни - Наталье Дмитриевне Фонвизиной: "Я в каком-то ожидании чего-то; я как будто всё ещё болен теперь, и кажется мне, что со мной в скором, очень скором времени, должно случиться что-нибудь очень решительное, что я приближаюсь к кризису моей жизни, что я как будто созрел для чего-то и что будет что-нибудь, может быть тихое и ясное, может быть грозное, но, во всяком случае, неизбежное".
Здесь он составлял программу чтения - она видна из заказываемых Михаилу Михайловичу книг - историков древних и новых (Вико, Гизо, Тьери, Тьера, Ранке и др.), экономистов; отцов церкви и историков церкви; Корана; "Критики чистого разума" Канта, трудов Гегеля (особенно "Историю философии"); "Отечественные записки" и другие журналы; немецкий лексикон. А какими стрстными призывами сопровождаются просьбы о книгах! "Но знай, брат, что книги - это жизнь, пища моя, моя будущность!
Не оставь же меня, ради господа бога. Пожалуйста, спроси разрешения, можно ли будет тебе послать мне книг официально. Впрочем, осторожнее. Если можно официально, то высылай. Если же нет, то через брата Константина Ивановича, на его же имя; мне перешлют". Здесь же первые впечатления от новых авторов, появившихся в литературе в эти годы. "Островский мне не нравится, Писемского я совсем не читал, от Дружинина тошнит, Евгения Тур привела меня в восторг. Крестовский тоже нравится... Кто такой Чернов, написавший "Двойник" в 50 году?".
О литературных своих замыслах Фёдор Михайлович написал в этом письме лишь в общей форме - о том, что твёрдо намерен писать и в будущем жить литературным трудом. Но есть все основания полагать, что им владели уже в это время и вполне конкретные замыслы.
В февральские дни 1854 г. окончательно сложился для Достоевского образ хозяйки этого дома. Через полтора года он сформулировал это в письме к её матери: "Вы поймёте, какое впечатление должно было оставить такое семейство на человека, который уже четыре года, по выражению моих прежних товарищей каторжных, был как ломоть отрезанный, как в землю закопанный. Ольга Ивановна протянула мне руку, как родная сестра, и впечатление это прекрасной, чистой души, возвышенной и благородной, останется светлым и ясным на всю мою жизнь. Дай бог ей много, много счастья, - счастья в ней самой и счастья в тех, кто ей милы. Мне кажется, что такие прекрасные души, как её должны быть счастливы; несчастны только злые. Мне кажется, что счастье - в светлом взгляде на жизнь и в безупречности сердца, а не во внешнем. Так ли? Я уверен, что вы это глубоко понимаете, и потому так вам и пишу".
Достоевский уехал из Омска в Семипалатинск в марте 1854 г. А в конце того же года Ивановы переехали в Петербург, куда Константин Иванович был переведён по службе. Но связь сохранялась и прошла через всю жизнь писателя. Ещё до отъезда своего, в Омске, Константин Иванович ходатайствовал о том, чтобы солдату-петрашевцу разрешили жить в Семипалатинске, не в казарме, а отдельно, в частном доме. Это важнейшее для Достоевского ходатайство, давшее ему возможность писать, было удовлетворено.
15 апреля 1855 г. Достоевский отправил К.И. Иванову из Семипалатинска письмо, приложив его к письму, адресованному Евгению Ивановичу Якушкину с просьбой к последнему о пересылке ("в Петербург, в дом Лисицына, у Спаса Преображения. Но, вероятно, адрес вы сами знаете"). Летом 1855 г. Достоевский получил от Константина Ивановича несколько строк. В январе 1856 г. просил брата: "Пожалуйста, познакомься лучше с Ивановым". Именно Ивановы прислали Фёдору Михайловичу приказ о производстве его в прапорщики в октябре 1856 г. "Поблагодари К.И. Иванова и Ольгу Ивановну. Они прислали мне приказ..."

Ольга Ивановна Иванова, ур. Анненкова. Фотография 1870-х гг.
В первой половине 1860-х гг. Константин Иванович был переведён по службе сначала на Кавказ, затем в Иркутск, и семья Ивановых на много лет оторвалась от жизни Петербурга и Москвы. В 1869 г. К.И. Иванов, имевший к тому времени чин генерал-майора, был начальником инженеров Восточно-Сибирского военного округа. Примерно в начале 1870-х гг. Ивановы возвратились в столицу.
В тетради Достоевского 1872-1875 гг. сохранилась запись: "Константин Иванович Иванов, на Поварской (или в Поварском переулке) близ Владимирской, дом № 13". По-видимому, эта запись связана с письмом к Достоевскому петрашевца Н.А. Момбелли, передавшего желание Ольги Ивановны возобновить знакомство.
Так и случилось. С семьёй Ивановых завязались отношения и у А.Г. Достоевской. Когда в 1881 г. к ней обратилась племянница Фёдора Михайловича за разъяснениями по поводу факта из сибирской жизни писателя, Анна Григорьевна попросила дать ей выписку из письма, вызвавшего обсуждение, "чтобы показать её какому-то Иванову, который тоже был в Сибири в то же время и может подтвердить справедливость этого факта". Заметим попутно, что в такой же роли достоверного свидетеля событий жизни Достоевского в Омске должен был выступить Константин Иванович по просьбе В.Е. Якушкина, внука декабриста, который в 1883 г. адресовал к нему за уточнениями издателя М.И. Семевского, в связи с публикацией писем Достоевского к Е.И. Якушкину в "Русской старине".
В "Книге для записывания книг и газет по моей библиотеке", составленной А.Г. Достоевской, есть такая заметка: "По словам К.И. Иванова, в каторге человек, убивший своего отца, был Ильинский, другой, который совершил гнусный поступок и которого прогнали сквозь строй, назывался Аристовым. Сначала главным был князь Горчаков, а затем Гасфорд, Горчаков милостиво относился, Гасфорд же строже".
Современные исследователи по архивным документам каторжан подтверждают точность сведений Константина Ивановича об именах прототипов героев Достоевского. Инженер хранил их в памяти до глубокой старости.
О контактах Ольги Ивановны в конце её жизни с женой писателя говорят две записки (ориентировочная датировка их, предложенная Анной Григорьевной в её поздней надписи на обложке 1892-1894, неверна, так как О.И. Анненкова умерла 10 марта 1891 г.).
"Многоуважаемая дорогая Анна Григоьевна, до отъезда завезу Вам памятную записку набело, о которой мы говорили вчера, и оставлю, если позволите, в ваше распоряжение. Примите чувство искренней и глубокой преданности. О. Иванова". Вторая записка: "Многоуважаемая Анна Григорьевна, вчера я забегала к Вам, хотела передать, что совершенно неожиданно пошла сама к обер-прокурору, и он меня выслушал, хотя сначала отказывал в моей просьбе, но потом принял памятную записку". Далее Ольга Ивановна просила замолвить словечко по её делу. Как видно, роли переменились, и теперь уже семья Фёдора Михайловича имела возможность помочь дочери Анненкова. Известно, что после смерти мужа Ольга Ивановна крайне нуждалась и умерла в нищете.
Для полноты характеристики отношения Достоевского к семье Анненковых выделим факты, касающиеся самого декабриста. "Моё глубочайшее уважение, полное и искреннее, вашему супругу", - написал Фёдор Михайлович П.Е. Анненковой в 1855 г. Там же: "Я благоговением вспоминаю о вас и всех ваших".
Ещё более показателен другой факт. Уезжая из ссылки в 1859 г., писатель был проездом в Нижнем Новгороде, где И.А. Анненков служил в это время в чине титулярного советника сверх штата для особых поручений при нижегородском губернаторе А.Н. Муравьёве (старшие Анненковы выехали из Сибири в июне 1857 г.). Достоевский хотел увидеться с Иваном Александровичем, ездил к нему, но тот был в отпуске. Анненковы постоянно жили в Нижнем; это помешало развитию дальнейших контактов.
Об Анненкове Фёдор Михайлович напомнил читающей публике в своём "Дневнике писателя за 1876 год". "Кстати, словечко о декабристах, чтобы их не забыть, извещая о недавней смерти одного из них, в наших журналах отозвались, что это, кажется, один из самых последних декабристов; - это не совсем точно. Из декабристов живы ещё Иван Александрович Анненков, тот самый, первоначальную историю которого перековеркал покойный Александр Дюма-отец в известном романе своём: "Les Memories d'un maitre d'armes". Жив Матвей Иванович Муравьёв-Апостол, родной брат казнённого. Живы Свистунов и Назимов; может быть есть и ещё в живых".
Роман Дюма об Анненкове и Полине Гёбль возмутил в своё время сибирскую "артель" декабристов. П.Е. Анненкова собиралась даже публиковать в Париже ответ на клевету. Достоевский разделял их раздражение. Но, желая напомнить о стариках-декабристах, он избрал наиболее доступные для широкой публики ассоциации. Об Анненкове и М.И. Муравьёве-Апостоле, как о людях ему хорошо известных, писатель сказал развёрнуто; Свистунова и Назимова лишь упомянул без имени.
Тёплое отношение к конкретным декабристам и их окружению сохранялось у Достоевского под влиянием сибирских впечатлений, на протяжении всей его жизни.
Что же касается Анненковых, то, как было сказано выше, в 1857 г., они получили разрешение поселиться в Нижнем Новгороде, так как жить в С.-Петербурге и Москве им было запрещено. Ивану Александровичу, по амнистии 1856 г., было возвращено дворянство, но записан он был не по шестому разряду (древние благородные роды), а по второму (военные). Это было тяжелейшее оскорбление. Вместе с отцом во вторую разрядную книгу были записаны и дети: Владимир, Иван, Николай, Наталья и Ольга (Аннушка умерла в Петровском заводе).
После смерти в 1842 г. Анны Ивановны, И.А. Анненков остался единственным наследником крупного, но не единожды заложенного состояния (брат Григорий погиб на дуэли ещё в 1824 г., а сестра Мария была душевнобольной). Но как "государственный преступник" он был лишён дворянства и права наследия. Поэтому наследство матери перешло к дальним родственникам. Ни от Анны Ивановны, пока она была жива, ни тем более от родственников, материальной помощи он не получал и поэтому вынужден был служить, чтобы обеспечивать жизнь семье.
В Нижнем Новгороде Анненковы прожили двадцать лет, но своего дома так и не заимели. Жильё снимали у постороннего владельца. Жили они на улице Большая Печёрская в доме Леман (ныне дом № 16). По словам Ольги Ивановны, родители жили очень скромно: "Всё пережитое по-новому воспитывало их вкусы, до крайности ограничив потребности".
В 1858 г. И.А. Анненков становится членом созданного в Нижегородской губернии комитета по улучшению быта крепостных крестьян, готовившего по предложению правительства материалы для предстоявшей отмены крепостного права.
Иван Александрович принял активнейшее участие в подготовке и проведении крестьянской реформы 1861 г., за что получил "высочайшее благоволение" вместе с прочими членами бывших губернских комитетов и в апреле того же года был награждён серебряной медалью "За труды по освобождению крестьян".
Из-за материальных трудностей вынуждены были служить и сыновья Анненковых. По-разному складывалась их жизнь:
Старший сын Анненковых, Владимир, в 1849 г. окончил Тобольскую гимназию, но как сын декабриста, не был допущен к поступлению в университет. Однако, несмотря на это, Владимир Иванович был, по словам его дочери М.В. Брызгаловой, "... весьма разносторонне и основательно образованным человеком, чему он был, главным образом, обязан самому себе". Кроме того, он имел в Сибири прекрасного, высокопросвещённого наставника в лице декабриста Ивана Ивановича Пущина, близкого друга поэта Пушкина.
Показательно, что уже с 18-ти летнего возраста сын декабриста решил посвятить свою жизнь служению государству. Поскольку В.И. Анненкову не дозволили продолжать учебу в университете, он вынужден был начать службу простым канцеляристом. В 1850 г. его определили в штат Тобольского губернского правления и присвоили чин коллежского регистратора. Весной 1851 г. усердный молодой человек был определён помощником столоначальника Тобольского губернского правления. Уже летом 1851 г. Анненкова перевели на ту же должность в губернский суд, а немного позже Владимир Иванович был назначен столоначальником в уголовном отделении Тобольского суда.
В августе 1856 г. Анненкова определили смотрителем заведений Тобольской экспедиции о ссыльных с одновременным исполнением обязанностей секретаря казённой палаты. Однако 26 августа 1856 г. состоялась коронация нового российского императора Александра II, за которой последовал «Всемилостивейший Манифест», провозгласивший широкую амнистию, в том числе и ссыльным декабристам. Сразу же после этого родителям Анненкова было дозволено переселиться на родину Ивана Александровича в Нижний Новгород с восстановлением его во всех правах потомственного дворянства.
Почти сразу же по своему прибытию в Нижний Новгород Владимир Иванович за отличие в работе получил должность чиновника по особым поручениям при губернаторе и чин коллежского секретаря. В 1858 г. он был назначен уездным судьёй. С декабря 1860 г. он - судебный следователь в Нижнем Новгороде, а через полтора года – судебный следователь Нижегородской губернии.
На следственной работе Анненков не щадил ни своих сил, ни здоровья, ни средств. Весной 1866 г. он раскрыл подпольную мастерскую по подделке государственных кредитных билетов, располагавшуюся дома у крестьянина Хвацкого в одной из деревень Нижегородского уезда, за что был поощрён 150 рублями серебром. Позже, в другой деревне, он сумел разоблачить уже целую банду фальшивомонетчиков. При этом Анненков вместе со своим информатором отправился в указанную деревню и наткнулся здесь на засаду. Рискуя жизнью, он справился со всеми нападавшими, проявив при этом храбрость и смекалку. За эту операцию Владимир Иванович получил из государственной казны 300 рублей серебром и был произведён в чин надворного советника (соответствует званию подполковника).
В феврале 1867 г. министерство юстиции назначил Анненкова членом комиссии по расследованию фактов растраты казённой соли из нижегородских солевых магазинов в количестве полутора миллионов пудов, а также казённого железа на сумму в 70 тысяч рублей серебром. Комиссия вела следствие по делу в течение целого года, в конце концов сумев изобличить группу расхитителей. За участие в работе этой комиссии Анненков был награждён орденом Святого Станислава 2-й степени и назначен губернским прокурором Нижегородского окружного суда.
В 1878 г. Владимир Иванович отправился в Петербург, чтобы подать прошение об отставке со службы. Однако министр юстиции уговорил его не делать этого, и взамен пообещал удовлетворить ходатайство о переводе в Самарский окружной суд. 20 августа того же года в соответствии с высочайшим указом Владимир Анненков прибыл в Самару.
Новое назначение осложнилось тем, что к моменту приезда в Самару тяжело заболела жена Анненкова - Мария Сергеевна, урождённая кж. Гагарина (р. 6.11.1840) и для ухода за ней Владимир Иванович исходатайствовал четырёхмесячный отпуск без сохранения содержания. Несмотря на все усилия медиков, в октябре 1879 г. его супруга скончалась. Невзгоды у Владимира Ивановича продолжались и дальше. В зиму 1880-1881 гг. все пятеро детей Анненкова неожиданно заболели скарлатиной. Ближе к весне двое из них скончались: семилетняя Надежда и пятилетний Иван. Злоключения этих лет заметно сказались на его здоровье, которое он сам когда–то называл «геркулесовским». Лишь к 1882 г. и здоровье Анненкова, и ситуация в его семье наконец-то стабилизировались.
Человек твёрдых, продуманных убеждений, безукоризненно честный, и к тому же настоящий великан по росту, Владимир Иванович очень хорошо соответствовал образу беспристрастного служителя правосудия. Анненков великолепно знал своё дело: он с образцовым тактом и беспристрастием напутствовал присяжных заседателей, основательно допрашивал свидетелей, в судебном заседании упорно докапывался до истины. Поэтому многие жители Самары любили ходить в здание суда и слушать здесь речи Анненкова, полные глубокой житейской мудрости и опыта. Некоторые цитировали его слова, сказанные в ходе выступления по одному из сложных уголовных дел: «Главное для судьи – найти в этом деле истину, не наказать невиновного и покарать злодея».
Квартира Анненкова в Самаре со временем стала местом встреч представителей либерально настроенной молодёжи и творческой интеллигенции Самары. Об этом его дочь Мария впоследствии писала в своих воспоминаниях: «Наш дом часто посещали молодые люди – судебные следователи, присяжные поверенные, и так далее. Отец любил молодые свежие мысли…, а молодые люди с интересом слушали рассказы отца о декабристах».
В январе 1882 г., утверждая в должности помощника присяжного поверенного молодого юриста Владимира Ульянова, Анненков в нарушение правил не потребовал от него свидетельства о благонадёжности, хотя и знал, что тот находится под негласным надзором полиции как брат государственного преступника Александра Ульянова, повешенного за покушение на царя.
Только благодаря Анненкову в Самарском окружном суде в то время могли работать политически неблагонадёжные люди, в числе которых был не только Ульянов, но также А.Н. Хардин, Г.А. Клеменц, Я.Л. Тейтель, К.К. Позерн, Е.А. Тимрот и другие. Правда, при этом сам Анненков не был поднадзорным, но, как человек, крайне подозрительный в глазах представителей власти, на квартире которого собирались политически неблагонадёжные личности, он был занесён жандармами в «Алфавит лицам, привлекавшимся к дознанию о государственных преступлениях, поднадзорным, политически неблагонадёжным».

Владимир Иванович Анненков. Фотография 1870-х гг.
До конца жизни Владимир Иванович хранил альбом с портретами декабристов и их автографами, а на стене его кабинета и в его квартире висели кандалы его отца. Анненков одинаково беспристрастно относился к людям разных сословий и наций, уважал чужие убеждения и взгляды. Его обращение с подчинёнными было поразительным для окружающих. Например, когда Владимир Иванович проходил по коридорам окружного суда, он, невзирая ни на какие различия в возрасте и положении, вежливо здоровался со всеми служащими, подавая руку каждому из них, вплоть до последнего писца. Во время приёма просителей он при встрече с человеком обязательно вставал из-за стола и подходил к нему первым, обстоятельно расспрашивая, в чём суть его прошения. Никто из посетителей не уходил из его кабинета, не получив полного и ясного ответа по своему делу.
Будучи глубоко верующим человеком, Владимир Иванович не пропускал ни одной всенощной, а незадолго до своей смерти, осознав, что он доживает свои последние часы, отказался от врачебной помощи и пожелал собороваться. Владимир Иванович Анненков тихо и покойно скончался в своей самарской квартире 27 октября 1898 г. Последними его словами были: "Достаточно пожил - 66 лет тудовой жизни". Единодушным взрывом скорби отозвалось самарское общество на его кончину. Одна из тогдашних газет писала "Скончался человек, которого все, как один, любили за ум, за правду, за доброту, доступность, за милость". В Тобольской гимназии, где он когда-то учился, была учреждена стипендия его имени.
Перед смертью Владимир Иванович выразил желание, чтобы тело его перевезли в принадлежащее ему село Скачки Пензенской губернии и похоронили рядом с женой Марией Сергеевной. Желание его было исполнено. М.В. Брызгалова вспоминала: "Глубоко трогательно было видеть отношение крестьян: в холодный, ненастный осенний день всё село вышло встречать его тело; за несколько вёрст от села крестьяне сняли гроб с экипажа и попеременно на руках, по самой тяжёлой дороге, донесли его до кладбища. Многие плакали".
Младшие сыновья Анненковых Иван и Николай, как и их старший брат Владимир, окончили Тобольскую гимназию и также, по воле царя, не были допущены к поступлению в высшие учебные заведения. Большого труда стоило отцу определить Ивана на военную службу унтер-офицером "на правах вольноопределяющегося" (1853 г.). Из формулярного списка И.А. Анненкова видно, что сын его Иван продолжал военную службу уже подполковником до 1873 г. Позднее он вышел в отставку и работал в Пензенской губернии мировым посредником. Был женат на княжне Екатерине Сергеевне Гагариной.
Младший сын Николай часто и подолгу болел. В 1862 г. отцу удалось его определить в Пензе мировым посредником. Умер Николай в возрасте 32-х лет и был похоронен в Нижнем Новгороде на кладбище Крестовоздвиженского монастыря.
К началу 1860 г., Ивану Александровичу Анненкову была возвращена часть родительских имений. Ему отошли деревня Борцово в Нижегородском уезде, селения Большая Печёрка и Нагаево в Арзамасском уезде, а также село Скачки Пензенской губернии. Это упрочило его положение и позволило на четыре месяца выехать во Францию на родину Прасковьи Егоровны.
В ходе осуществления реформы 1861 г. Анненков был избран председателем губернского съезда мировых посредников - органа, непосредственно занимавшегося реформированием, но после отъезда к новому месту службы военного губернатора А.Н. Муравьёва, началась травля Анненкова со стороны противников реформы. Жизнь в Нижнем Новгороде осложнилась. Анненковы обратились с ходатайством о разрешении им жить в Москве или Петербурге. Их просьба 22 августа 1863 г. была Александром II удовлетворена, но жизненные обстоятельства не позволили им выехать и они остались в Нижнем до последних дней жизни.
12 января 1863 г. Иван Александрович избирается предводителем дворянства Нижегородского уезда. В дальнейшем он ещё трижды избирается на это место и осталяет его только в октябре 1874 г. в связи с болезнью. В течение 14 лет, И.А. Анненков был председателем попечительского совета нижегородского Мариинского женского училища, а затем и женской гимназии. С июля 1865 по 1868 гг. он занимает пост председателя нижегородской земской управы с окладом в две тысячи рублей в год. Курирует строительство и содержание дорог, устройство больниц, школ и т.п. За три года им было немало сделано в сфере образования и медицины. В 1866 г., Анненков ещё возглавил "Попечительный о тюрьмах комитет", но силы у старого декабриста были уже на исходе...
14 сентября 1876 г. умирает Прасковья Егоровна. Спустя полтора года, 27 января 1878 г. не стало и Ивана Александровича. Они были похоронены на кладбище Крестовоздвиженского женского монастыря, но в связи с его ликвидацией в 1953 г., прах супругов Анненковых и их сына Николая был перенесён на Бугровское кладбище, находящееся на улице Пушкина...
Метки: ЖЗЛ россия декабристы анненковы |
Михаил Михайлович Нарышкин |
Это цитата сообщения TimOlya [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Михаил Михайлович Нарышкин
Михаил Михайлович Нарышкин
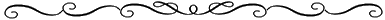
Михаил Михайлович Нарышкин (4 (15) февраля 1798 — 2 (14) января 1863) — из дворян Московской губернии, полковник Тарутинского пехотного полка. Член Союза благоденствия (1818) и Северного тайного общества.

Михаил Михайлович Нарышкин. Неизвестный художник. Начало 1820-х.
Метки: ЖЗЛ россия нарышкины декабристы |
Никита Кирсанов. "Декабрист Александр Кологривов". |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Никита Кирсанов. "Декабрист Александр Кологривов".
Кологривовы – старинный дворянский род, первоначально носивший фамилию Пушкины. Родоначальником Кологривовых был патриарх Иван Тимофеевич Пушкин, но поскольку он служил княжеским конюшим, ходил, как говорится, около гривы, то и получил прозвище "Кологрив".
В истории декабристского движения представители дворянской семьи Кологривовых занимали прямо противоположные позиции. С одной стороны - верность престолу, тесная связь с двором и крупнейшей знатью, низкопоклонство и чинопочитание. С другой - свободолюбие, любовь к отчизне, борьба за её лучшее будущее.
Взять, к примеру, жену отставного полковника Прасковью Юрьевну Кологривову (1762-24.04.1848), родную племянницу фельдмаршала П.А. Румянцева, тёщу поэта П.А. Вяземского. Её увековечил А.С. Грибоедов в "Горе от ума". Декабрист Д.И. Завалишин отмечал: "Что касается до Татьяны Юрьевны, то тут автор действительно разумел Прасковью Юрьевну (Кологривову), прославившуюся особенно тем, что муж её, однажды спрошенный на бале одним высоким лицом, кто он такой, до того растерялся, что сказал, что он муж Прасковьи Юрьевны..."
А сын её от первого брака Фёдор Фёдорович Гагарин (1.11.1787-6.09.1863), участник Отечественной войны и заграничных походов, адъютант П.И. Багратиона, георгиевский кавалер, состоял в ранней декабристской организации - Военном обществе, хорошо знал Сергея Трубецкого, Ивана Якушкина, Артамона Муравьёва.
Весьма колоритной фигурой был и генерал от кавалерии Андрей Семёнович Кологривов (1774-6.11.1825), любимец Павла I, крупный землевладелец. Видный военный деятель своей эпохи, герой русско-прусско-французской войны 1805-1807 гг., А.С. Кологривов во время последующей войны с Наполеоном ведал формированием и обучением кавалерийских резервов. В 1813 г. его адъютантом стал А.С. Грибоедов, поместивший в 1814 г. в "Вестнике Европы" статью "О кавалерийских резервах".

А.Ф. Лагрене. Портрет Екатерины Александровны Кологривовой. 1820-е гг.
Женат Кологривов был на Екатерине Александровне Челищевой (27.06.1778-14.12.1857), приходившейся родственницей писателю П.И. Челищеву, другу А.Н. Радищева, автору антикрепостнического "Путешествия по северу России в 1791 году". Её родной брат Александр Александрович Челищев (29.12.1797-4.01.1881) входил в Союз благоденствия.
Их сын Михаил Андреевич Кологривов (20.12.1812-1851) вошёл в историю как известный вольнодумец, "ненавистник тиранов". Он принял участие во французской революции 1830 г., а в следующем году был отдан под суд за вступление на службу к испанским мятежникам. "Я враг самовластия и насилия, - писал он матери, - и готов жертвовать жизнью и пролить последнюю каплю крови за свободу".
А два племянника Андрея Семёновича и Екатерины Александровны Кологривовых стали декабристами. Первый из них - это Степан Никитич Бегичев (1789-24.08.1859), брат известного в своё время писателя, из произведений которого особой популярностью пользовался роман "Семейство Холмских". После смерти генерала Кологривова писатель Дмитрий Никитич Бегичев стал опекуном его вольнолюбивого сына.
Степан Бегичев в начале 1813 г. несколько месяцев служил адъютантом у своего дяди. К этому времени относится его знакомство с Грибоедовым, переросшее в крепкую дружбу. Бегичев являлся членом Военного общества и Союза благоденствия, принял в него Василия Ивашева, будущего члена Южного общества.
Другой их племянник - тоже декабрист - Александр Лукич Кологривов. Он состоял в отдалённом родстве с И.С. Тургеневым, находился в приятельских отношениях с кузеном Бегичевым и автором "Горя от ума".
Его отец Лука Семёнович (1763-1839) был связан с двором великой княгини Екатерины Павловны. На военной службе с 1782 г. сержантом в артиллерийской бригаде. Участник русско-турецкой войны 1787-1791 гг., отличился в сражении при Мансименьяхе в апреле 1789 г. Поручик (16.04.1789). С 12.12.1790 г. в отставке в чине капитана. С 1797 г. на гражданской службе. Начав с должности исправника в Ливенском нижнем земском суде, он служил потом советником в Орловской казённой палате (9.01.1797 - сентябрь 1798). Воронежский вице-губернатор (24.07.1802-18.11.1810). Надворный советник. Председатель департамента Калужской палаты суда и расправы (сентябрь 1798 - октябрь 1800). Статский советник (сентябрь 1800). Калужский вице-губернатор (октябрь 1800 - март 1801). С марта 1801 по июль 1802 г. был причислен к сенатскому Департаменту герольдии. В ноябре 1810 г. причислен к Герольдии. С 12 марта 1812 по март 1813 г. - Тверской губернатор. С марта 1813 г. вновь причислен к Герольдии. В Ливенском уезде Орловской губернии ему принадлежало "мужеска пола 100 душ". Это ливенское поместье было самым крупным владением Луки Семёновича, но не единственным. В приданое от жены, Марии Евгеньевны Лавровой, он получил также имения в Землянском и Бобровском уездах Воронежской губернии (в каждом - по 15 душ крепостных крестьян).
Родные его братья Иван Семёнович (1791-12.1843) и Николай Семёнович Кологривовы внесены в VI часть дворянской родословной книги Орловской губернии на основании полученной ими в герольдии в 1808 г. копии герба древнего рода Кологривовых. К тому времени Лука Семёнович был воронежским вице-губернатором.
Будущий декабрист Александр Кологривов родился примерно в 1795 году в Орловской губернии, скорее всего - в Ливенском уезде. Здесь должно оговориться. В биографическом справочнике "Декабристы" (М., 1988, с. 82) ошибочно утверждается, что А.Л. Кологривов родился 13 мая 1799 года. Это противоречит хотя бы тому факту, что активному участнику заграничных походов Кологривову в 1813 году не могло быть 14 лет. В том же справочнике неверно назван и год смерти декабриста. Почти с десятилетнего возраста он вынужден был тянуть лямку мелкого чиновника. Служба его проходила в Воронеже, в канцелярии губернатора - сначала губернским регистратором (2.07.1805), затем коллежским регистратором (31.12.1808) и губернским секретарём (31.10.1811).
15 августа 1812 г. в разгар военных событий Александр был зачислен в штат Тверского губернского правления с оставлением при делах гражданского губернатора, которым в это время был его отец. Занимаясь формированием ополченского войска, губернатор Л.С. Кологривов 1 сентября сообщил М.И. Кутузову о выступлении тверского ополчения в Москву.
19 июня 1813 г. Александр Кологривов согласно прошению был переименован в подпоручики (этому военному званию соответствовал его гражданский чин) и определён в Александрийский гусарский полк. Восемнадцатилетний подпоручик стал активным участником освободительного похода русской армии, принесшего независимость порабощённым Наполеоном народам Европы.
Александрийский полк, где служил Кологривов, входил в корпус генерала Ф.В. Остен-Сакена. 26 августа 1813 г. Силезская армия, в составе которой находился корпус Сакена, в большом сражении на реке Кацбах разбила наголову французский корпус Макдональда.
Почти одновременно завершился полной победой союзных сил бой под Кульмом. Кацбахская и кульмская победы, по словам будущего декабриста генерал-майора С.Г. Волконского, "дали союзной армии тот перевес, который впоследствии ознаменовался под Лейпцигом".
Но до знаменитой "битвы народов", как окрестили современники лейпцигское сражение, были ещё не такие масштабные, но жаркие бои. Кологривов принял участие в разгроме французского корпуса Нея 6 сентября под Доневицем.

Неизвестный художник. Портрет полковника Алексея Семёновича Кологривова. 1813 г.
Наступил 1814 год. Союзная армия с тяжёлыми боями продвигалась к Парижу. Подпоручик Кологривов сражался под Бриеном и при Ла-Ротьере. Вместе с будущим декабристом штаб-ротмистром В.Л. Давыдовым он участвовал в сражении под Пине, в кровопролитных боях под Сезаном и Монмиралем.
13 декабря Кологривова "за отличие" произвели в поручики с переводом в привилегированный Кавалергардский полк. Почти одновременно с Александром Лукичом в полку служили П.И. Пестель, М.С. Лунин, В.П. Ивашев, А.С. Горожанский, И.Ю. Поливанов, Ф.Ф. Гагарин, Ф.Ф. Вадковский, З.Г. Чернышёв, С.Н. Бегичев.
На это время приходится знакомство Кологривова с Александром Сергеевичем Грибоедовым, задушевным другом его сослуживца и двоюродного брата. Известно письмо Грибоедова к Бегичеву, датированное 4 сентября 1817 г. В нём автор "Горя от ума", рассказав о недавних проводах кавалергардов в Москву, просит передать "усердный поклон" Кологривову. Встречались они и позже.
16 июня 1816 г. Александра Лукича произвели в штабс-ротмистры, 27 марта 1819 г. - в ротмистры, а 8 февраля 1824 г. - в полковники. В следующем году поручик Горожанский принял его в Южного общество, в сформировавшуюся в Кавалергардском полку его петербургскую ячейку. Из материалов следствия по делу декабристов явствует, что никакого участия в делах тайного общества Кологривов не принимал. Просто не успел. Дело в том, что через три недели после вступления в общество, он получил известие о внезапной кончине в Москве своего родного дяди генерала А.С. Кологривова, который для него был "единственным благодетелем". Эта смерть так потрясла Александра Лукича, что он тут же подал прошение о "домовом отпуске".
6 декабря он выехал в Москву, где, по его словам, 22-го из газетных сообщений узнал о декабрьском восстании. На следующий день Кологривова арестовали и спешно доставили в Петербург. 26 декабря управляющий канцелярией при начальнике штаба Н.Л. Дурново записал в дневнике: "Придя во дворец я узнал, что вчера вечером из Москвы привезли Кологривова, полковника конной гвардии, и Никиту Муравьёва, капитана Генерального штаба гвардии. Он играет значительную роль в заговоре..."
Резолюция царя гласила: полковника Кологривова "посадить на гауптвахту под строгий арест". Затем Александр Лукич был переведён во вновь отделанный арестантский покой № 3 Обер-офицерского дома Петропавловской крепости.
На первом допросе он показал: "Никогда к оному (обществу) не принадлежал и в сношении с членами не был..."
Однако под давлением неопровержимых свидетельств вскоре пришлось изменить тактику; сказав, что вступил в тайное общество "по безрассудности".
Следственный комитет так определил, в чём состояло "преступление" полковника Кологривова: цель общества об установлении в России конституции знал, но путей к достижению этого не ведал. На совещаниях у Рылеева и Оболенского не был, в "возмущении 14 декабря" участия не принимал, так как находился вне Петербурга.
Участь Кологривова решил Николай I, распорядившийся продержать его шесть месяцев в крепости, а после "перевесть в армию к старшему в полк и ежемесячно доносить о поведении". 7 июля 1826 г. был отдан приказ о переводе Кологривова в Финляндский драгунский полк с выдержанием в течение полугода в крепости.
13 декабря срок заключения Кологривова истёк, ему возвратили отобранные при аресте 1125 рублей, документы в "сафьянной портфели", и он направился в Воронеж - месту своего нового назначения. Незадолго до этого военный министр Татищев распорядился, чтобы о поведении всех лиц, "прикосновенных к делу о злоумышленных обществах" и понесших "исправительное наказание", ежемесячно докладывалось начальнику Главного штаба.
В начале 1827 г. командующий 5-м резервным кавалерийским корпусом генерал-лейтенант Репнинский известил главнокомандующего 1-й армией генерал-фельдмаршала Остен-Сакена о прибытии в полк Кологривова. Тут же он запрашивал, можно ли "вверить ему командование полком как ныне, так и на будущее время по случаю отсутствия полкового командира, равно, если окажется он способным и достойным к командованию эскадроном и дивизионом, то может ли быть представлен к утверждению".
Александр Лукич числился в штабе 2-й бригады 2-й драгунской дивизии. Три месяца спустя командир 5-го резервного кавалерийского корпуса получил разъяснение: "Как полковнику Кологривову, так и вообще штаб- и обер-офицерам, состоящим под тайным надзором по прикосновенности к делу тайного общества, не следует поручать на время команды впредь до повеления". Непосредственный начальник поднадзорного декабриста каждый месяц докладывал, что тот "ведёт себя хорошо и службу исполняет ревностно".
Из немногих сохранившихся архивных сведений о службе Кологривова приведём документ, сыгравший важную роль в его дальнейшей судьбе.
В сентябре 1828 г. генерал-лейтенант Репнинский обратился с просьбой к генерал-фельдмаршалу Остен-Сакену: "Быв удостоверен в отличнейшей его нравственности и примерной ревности к службе, осмеливаюсь всепокорнейше испрашивать дозволение Вашего сиятельства поручить ему, полковнику Кологривову, в командование сборный учебный эскадрон при корпусной квартире под личным моим надзором..."
Эта просьба была удовлетворена. Однако Репнинскому, осуществляющему теперь "личный надзор" за поведением Кологривова, предписывалось "вникать ближе в образ его мыслей и поступков".
Таким образом, бывшему члену тайного общества полковнику Кологривову - даже по отбытии заключения в крепости - около двух лет не доверяли соответствующее его званию воинское подразделение.
В начале 1830-х гг. Александр Лукич командовал Финляндским драгунским полком, по-прежнему находясь под секретным надзором. С 4 апреля 1836 г. он был назначен состоять по кавалерии, а 6 февраля 1840 г. "по домашним обстоятельствам" вышел в отставку с чином генерал-майора. За годы службы Кологривов удостоился следующих наград: ордена св. Анны 2-й, св. Владимира 4-й, св. Анны 3-й с бантом, св. Станислава 3-й степени и польского знака отличия "За воинское достоинство" 3-й степени.
Местом постоянного жительства он избрал ливенское сельцо Набережное, расположенное при реке Олыме к югу от Воронежской дороги, в 63 верстах от уездного центра (ныне село Воловского района, Липецкой области, центр Набережанского сельского поселения). Жительство в столицах ему было разрешено только 15 апреля 1850 г. Женат Александр Лукич был на дочери гвардии капитана Екатерине Александровне Гвоздевой.
В мае 1840 г. в Тульской гражданской палате он вместе со своими сёстрами - действительной статской советницей Елизаветой Бедрягой, капитаншей Верой Тамари и незамужней Софьей - "разделил полюбовно недвижимое имение, оставшееся после смерти родителя их статского советника Луки Семёновича Кологривова в Ливенском и Землянском уездах". По этому разделу Александру Лукичу достались 282 ревизские души в Ливенском уезде.
Получив официальный указ об отставке, подписанный главнокомандующим Закавказским краем генералом от инфантерии Головиным, Кологривов в январе 1844 г. обратился в Орловское депутатское собрание с прошением о внесении его в шестую часть дворянской родословной книги. Решение собрания о принадлежности Кологривова к древнему дворянству было утверждено герольдией Сената.
Многодетная семья Кологривовых состояла из четырёх сыновей и семи дочерей. Вслед за первенцем Андреем, родившимся 26 мая 1840 г., появились Николай (р. 1841); Михаил (1.01.1842, с. Никольское Ливенского уезда Орловской губернии - 1.07.1912, с. Александровка Корочского уезда Курской губернии), был женат на Луизе фон цур Мюлен (1847-1929); Алексей (р. 1842); Нонна; Екатерина (названа в честь матери и бабки); Нина; Наталья; Софья; Варвара и Мария. Последние пятеро скончались, не достигнув совершеннолетия.

Михаил Александрович Кологривов с невестой Луизой фон цур Мюлен. Фотография начала 1870-х гг.
Позаботился Александр Лукич и о сопричислении сыновей к старинному кологривскому роду. В марте 1853 г. он попросил свою тёщу Е.И. Гвоздеву, находившуюся в Орле, подать прошение об этом в депутатское собрание насчёт Андрея. А в январе следующего года Александр Лукич сам уже хлопотал о младших сыновьях, которые тоже были внесены в шестую часть дворянской родословной книги.
Кологривову посчастливилось дожить до отмены крепостного права в России. По "Положению 19 февраля 1861 года" соглашения между освобождёнными бывшими крепостными крестьянами и помещиками относительно развёрстки земли и размера повинностей были названы уставными грамотами. До наших дней дошла "Уставная грамота Орловской губернии Ливенского уезда сельца Набережнего имения помещика Александра Лукича Кологривова", составление которой началось 18 февраля 1862 г.
Как выяснилось, в этом документе речь идёт не обо всех бывших крестьянах Кологривова, а только о 29, которые по переписи 1857 г. были записаны по сельцу Набережное, но жили в сельце Орлянка Тимского уезда Курской губернии. При составлении там уставной грамоты они отказались от предложенного надела земли и пожелали переселиться в Набережное.
Составление вышеуказанной уставной грамоты затянулось на целый год. Когда 12 февраля 1863 г. составлялся "Приговор сельского схода сельца Набережного", Александр Лукич был ещё жив. А в акте, составленном мировым посредником Ливенского уезда 18 февраля, говорится уже о "ныне умершем" генерал-майоре А.Л. Кологривове и об "имении малолетних Кологривовых". Следовательно, Александр Лукич скончался не в 1886 году, как утверждается в биографическом справочнике "Декабристы", а между 12 и 18 февраля 1863 года. В 1886 г. умерла его родная сестра Елизавета Лукинична, в замужестве Бедряга.
Метки: ЖЗЛ россия декабристы кологривовы |
Никита Кирсанов. "Декабрист Фёдор Скарятин и его семья" |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Никита Кирсанов. "Декабрист Фёдор Скарятин и его семья".
В 1787 году лейб-гвардии капитанша Елизавета Николаевна Скарятина и её деверь лейб-гвардии Измайловского полка капитан Иван Скарятин обратились в суд. После смерти бригадира Фёдора Васильевича Скарятина, их мужа и брата, они были назначены опекунами его несовершеннолетних детей. Для расплаты с долгами Фёдора Скарятина опекуны намеревались заложить в петербургском заёмном банке его имение в селе Троицком и сельце Ивановском, Фошня то ж Малоархангельского уезда Орловской губернии.
Казалось бы, обычная тяжба, каких проходило через различные судебные инстанции тысячи. Но это дело уникальное, так как просители, сами того не подозревая, проявляют заботу о чести Фёдора Васильевича Скарятина, которому суждено будет стать отцом цареубийцы, дедом декабриста и прадедом знаменитого композитора.
Один из его сыновей - орловский помещик Василий Фёдорович - женился на крепостной крестьянке. У них родилась дочь Софья (15.09.1802-30.08.1890), происхождение которой официально не было узаконено, и она носила фамилию Васильева (по имени отца). В 1821 г. она вышла замуж за масона Андрея Петровича Римского-Корсакова (7.08.1778-19.03.1862), будущего волынского губернатора. Младший их сын Николай (6.03.1844-8.06.1908) станет выдающимся композитором.
Брат Василия - Яков (24.04.1780-1850) - был в числе двенадцати заговорщиков участником убийства в ночь с 11 на 12 марта 1801 г. в Михайловском замке Санкт-Петербурга императора Павла I. Вот как описал те трагические события декабрист М.А. Фонвизин: "... князь Яшвиль, Татаринов, Гарданов и Скарятин яростно бросились" на царя, "вырвали из его рук шпагу; началась отчаянная борьба. Павел был крепок и силён; его повалили на пол, топтали ногами, шпажным эфесом проломили ему голову и, наконец, задавили шарфом Скарятина". Другой из современников, граф Ланжерон, уточнил, что Скарятин, "сняв висевший над кроватью собственный шарф императора, задушил его им".
В марте 1834 г. А.С. Пушкин записал в своём дневнике: "Жуковский поймал недавно на балу у Фикельмон (куда я не явился, потому что все были в мундирах) цареубийцу Скарятина и заставил его рассказывать как 11 марта ... Скарятин снял с себя шарф, прекративший жизнь Павла I..." Наблюдавшему эту сцену Николаю I, наверно, показалась странной дружелюбная беседа двух людей, один из которых прекратил жизнь отца, а другой являлся наставником его сына, наследника престола.

Неизвестный художник. Портрет Якова Фёдоровича Скарятина. 1810-е гг.
Из "Всеподданнейшего прошения … об увольнении от службы", написанного Яковом Фёдоровичем Скарятиным 6 сентября 1806 года на имя императора Александра I, известно, что он начал военную карьеру подпрапорщиком в августе 1783 года и, проходя по ступеням служебной лестницы, 15 октября 1800 года был удостоен штабс-капитанского звания, в сентябре 1803 года - капитанского, а уже в декабре того же года Скарятин получил звание полковника лейб-гвардии Измайловского полка. В 1805 году он принял участие в заграничном походе против французских войск и сражался с ними под Аустерлицем. За проявленное в бою мужество полковник Яков Скарятин был награждён орденом Владимира 4-степени (с бантом). И на этом военная карьера гвардейца подошла к концу. Правда, он успел получить ещё орден Св. Иоанна Иерусалимского.
Но уже в следующем, 1806 г., Скарятин просит уволить его на статскую службу, мотивируя это состоянием здоровья. Лекарь полка выдаёт ему соответствующую справку (не может служить из-за "продолжающегося удушья и лома в бывшей переломанной ноге").
Бумаги поступают сначала к Великому князю Константину Павловичу, а от него - к императору Александру I. Царь даёт разрешение - и полковник Скарятин, выйдя в отставку, отправляется в родовое своё имение - село Троицкое Малоархангельского уезда Орловской губернии.
На тот момент был он год как женат на женщине известной и очень уважаемой в светских кругах - княжне Наталье Григорьевне Щербатовой.
От отца Якову Скарятину достались в наследство имения в четырёх уездах Орловской и Курской губерниях.
В Малоархангельском уезде Скарятин владел: сёлами - Троицким, Красным, Рождественским, сельцом Синковцом, сельцом Теляжьим, деревнями - Троицкой, Богохранимой, Трудской, Верхней Трудской, Стрелкою, Жериханью.
В Ливенском уезде ему принадлежали: село Пеньшино, село Васильевское, деревни -Ивановка, Мачилы, Огороженная Дуброва, Маховая.
Во Мценском уезде у Скарятина имелось сельцо Алисово (Неручь тож).
И, наконец, в Щигровском уезде Курской губернии его поместья составляли: село Никольское, сельцо Ховатка и деревни Репище и Поздеева.
Общее число крепостных крестьян и дворовых душ во всех вышеперечисленных населённых пунктах - 3164 человека. А земельный массив, принадлежавший полковнику Скарятину, достигал 19 650 десятин (в переводе на гектары – 21 418,5 га).
В Малоархангельском уезде во времена Якова Фёдоровича жизнь кипела, скорее, не в самом Малоархангельске, а в главном имении Скарятиных - селе Троицком (ныне - Верховского района), в 70 верстах от уездного центра. Многочисленные просители со своими письмами приезжали сюда, а не в город, да и малоархангельские чиновники значительную часть времени проводили в Троицком.
Здесь, в старинном и большом селе, поселился в конце XVIII века основатель рода Скарятиных - Василий Тихонович, первый предводитель малоархангельского дворянства, а потом продолжали жить его дети, внуки и правнуки. В Троицком был дедовский дом, мельница с толчеёй, винокуренный завод, пруд с рыбой и знаменитый на всю губернию конский племенной завод русской породы. Скарятины считались одними из крупнейших коннозаводчиков в России. В 1844 году у Якова Фёдоровича в имении имелось 17 кобыл-маток, 53 верховых лошади и 4 заводских жеребца. Ежегодно на соседних ярмарках он продавал не один десяток своих лошадей.
Вообще, полковник Скарятин, начав жить помещичьей жизнью, оказался образцовым хозяином и активным деятелем малоархангельского дворянства (несколько раз избирался предводителем), как будто старавшимся за хозяйскими заботами и общественной деятельностью навсегда забыть о своём бурном и буйном прошлом.
И если в молодости он не раз хвастался в приватных беседах, как он лично участвовал в убийстве царя Павла I, то в зрелые годы предпочитал не говорить об этом, всё чаще его посещали мысли о Боге, который никак не мог одобрить такое преступление.
У Якова Фёдоровича и Натальи Григорьевны родилось шесть сыновей: Фёдор; Григорий (1808-9.07.1849); Владимир (1812-29.12.1870), с 1843 г. был женат на княжне Марии Павловне Голицыной (9.06.1826-3.02.1881); Александр (9.04.1815-18.09.1884), был женат на графине Елене Григорьевне Шуваловой (7.12.1830-19.09.1884); Дмитрий (р. 1819) и Николай (1823-1894). В уезде и губернии полковник и княжна Скарятины имели репутацию просвещённых, культурных родителей, которые постарались дать детям приличное воспитание. Сыновья служили в гвардии и при дворе, были вхожи в высший свет. Почти все они были знакомы с Пушкиным и его кругом и оставили воспоминания об этом.
Декабрист Фёдор Яковлевич Скарятин родился 3 апреля 1806 года. Воспитанию в семье уделялось должное внимание, и он получил хорошее домашнее образование. На его вольномыслии, несомненно, сказалось общение с отцом, позволявшим себе при случае "поякобинствовать", и особенно с учителем французского языка Столем. Позднее им серьёзно заинтересовалась следственная "по делу о злоумышленных обществах" комиссия. На основании перлюстрации писем домашнего учителя Скарятиных она признала, что Столь безусловно "приготовил к тайному союзу" Фёдора Скарятина.
Уже в детские годы у первенца Скарятиных проявился дар художника. Мы не знаем, у кого он учился рисовать, да и созданные им произведения либо затерялись, либо растворились в хранилищах музеев. Фёдор Скарятин, по отзывам современников, был "способный молодой человек и мастерски писал масляными красками". Обращаясь к нему, поэт Дмитрий Веневитинов писал:
Не плод высоких вдохновений
Певец и друг тебе приносит в дар;
Не Пиэрид небесный жар,
Не пламенный восторг, не гений
Моей душою обладал:
Нестройной песнею моя звучала лира,
И я в безумье променял
Улыбку муз на смех сатира.
Но ты простишь мне грех безвинный мой;
Ты сам, прекрасного искатель,
Искусств счастливый обожатель,
Нередко для проказ забыв восторг живой,
Кидая кисть — орудье дарованья,
Пред музами грешил наедине
И смелым углем на стене
Чертил фантазии игривые созданья.
Воображенье без оков,
Оно, как бабочка, игриво:
То любит над блестящей нивой
Порхать в кругу земных цветов,
То к радуге, к цветам небесным мчится.
Не думай, чтоб во мне погас
К высоким песням жар! Нет, он в душе таится,
Его пробудит вновь поэта мощный глас,
И смелый ученик Байрона,
Я устремлюсь на крылиях мечты
К волшебной стороне, где лебедь Альбиона
Срывал забытые цветы.
Пусть это сон! меня он утешает,
И я не буду унывать,
Пока судьба мне позволяет
Восторг с друзьями разделять.
О друг! мы разными стезями
Пройдём определённый путь:
Ты избрал поприще, покрытое трудами,
Я захотел зараней отдохнуть;
Под мирной сению оливы
Я избрал свой приют; но жребий мой счастливый
Не должен славою мелькнуть:
У скромной тишины на лоне
Прокрадется безвестно жизнь моя,
Как тихая вода пустынного ручья.
Ты бодрый дух обрёк Беллоне,
И, доблесть сильных возлюбя,
Обрёк свой меч кумиру громкой славы. —
Иди! — Но стана шум, воинския забавы,
Всё будет чуждо для тебя,
Как сна нежданные виденья,
Как мира нового явленья.
Быть может, на брегу Днепра,
Когда в тени подвижного шатра
Твои товарищи, драгуны удалые,
Кипя отвагой боевой,
Сберутся вкруг тебя шумящею толпой,
И громко зазвучат бокалы круговые, —
Жалея мыслию о прежней тишине,
Ты вспомнишь о друзьях, ты вспомнишь обо мне;
Чуждаясь новых сих веселий,
О списке вспомнишь ты моём,
Иль взор нечаянно остановив на нём,
Промолвишь про себя: мы некогда умели
Шалить с пристойностью, проказничать с умом.
1825
С Веневитиновым Фёдор Скарятин близко сошёлся во время пребывания в Москве. В одном из писем поэт сообщал, что его друг Скарятин собирается "сделать рисунок, очень точный" его комнаты. А творчество самого Веневитинова, безвременно угасшего, было, по словам Герцена, полно "мечтаний и идей 1825 года".
В апреле 1825 г. девятнадцатилетний Фёдор Скарятин поступил на военную службу. Он определился в Нарвский драгунский полк юнкером "с выслугою 3 месяца за рядового". Но уже через месяц на основании отношения военного министра он был "признан из дворян и переименован юнкером". В конце ноября этого же года за отличие по службе Скарятина произвели в фанен-юнкеры.
Узнав о решении друга связать свою жизнь с военной службой, Веневитинов откровенно сожалел. Из круга "драгунов удалых", при громком звоне круговых бокалов, поэт призывал Скарятина чаще переноситься мысленно к "прежней тишине" и чуждаться "новых сих веселий".
Осенью того же 1825 года Ф.Ф. Вадковский принял Скарятина в тайное общество. "Я неощутительно, - отмечал Фёдор Фёдорович, - подвёл его самого сказать в разговоре, что если бы существовало в России какое-нибудь общество, пекущееся о благе отечества, и он бы в оное вступил..."
Не зная о том, что Вадковский принял Фёдора Скарятина в тайное общество, Скарятин-отец после ареста сына, во всём обвинил своего орловского соседа, проживавшего в селе Тагино, Захара Чернышёва. "Мог ли бы подумать, - писал он сыну Григорию 31 января 1826 г., - чтоб Тагин был так пагубен. Ежели Захар завлекал в разговор, то даст богу ответ, - я не ожидал, что бы он за дружбу мою ко всему их семейству так мне заплатил..."
Эту же мысль Яков Фёдорович высказал через три дня в письме к московскому знакомому Г.П. Апухтину.
Из Тагино, где его приняли в тайное общество, Фёдор Скарятин направился к месту прохождения дальнейшей службы - в Киев. Драгунская дивизия, в которую он недавно определился вместе с братом Григорием, входила в состав 4-го пехотного корпуса. Командовал им их родной дядя генерал-адъютант князь А.Г. Щербатов. Дежурным при корпусе штаб-офицером около года состоял видный член Северного общества полковник князь С.П. Трубецкой.
В то время в Киеве находились и родители Скарятиных. В связи с событиями на Сенатской площади в город прибыл старший адъютант штаба 1-й армии Сотников. В его обязанности входило "освидетельствование" писем, выписки из которых, касающиеся вооружённых выступлений в Петербурге, а затем и на юге Украины, он направлял по команде. Одно из перехваченных им писем представляет исключительный интерес для характеристики как дворянских настроений той поры, так и семейства Скарятиных.
Это ответ на письмо Якова Фёдоровича от 7 декабря 1825 г. Написан он в самом начале нового года большим его другом бывшим масоном Андреем Корсаковым, жившим в Тихвине. Выражая уверенность в полной осведомлённости Якова Фёдоровича о подробностях недавних петербургских событий (главным образом благодаря князю Щербатову), Корсаков высказывает любопытные соображения:
"Не знаю, разделите ли вы моё мнение, но мне кажется, если бы покойный император не уничтожил масонских лож, то не удалось бы карбонарству столько усилиться... Наши русские карбонары имели в цели произвесть возмущение даже и тогда, когда бы Александр был жив. Они ожидали токмо 12-е марта сего года, когда минет 25 лет царствования, внушая своим единомышленникам, что Александр назначил это время сроком даровать крестьянам свободу, а дворянству - конституцию.
По смерти же Александра они намеревались сделать сие по привезении тела в Петербург, надеясь, что Константин, яко наглядевшийся на конституционное правление, удобно преклонится. Но когда неожиданно стал царём Николай, то, полагаясь на неудовольствие гвардии за ученья и экзерциум на бывшего бригадного и дивизионного начальника, а также основывая надежды на неприятность сурового его нрава, наличные карбонары, имея впрочем весьма мало времени, решились произвести бунт...
Сами рассудите, эти мальчишки в отношении к государственному управлению разве имели право переменять форму правления? Это может сбыться от времени и действием самого правителя... Жаль, что в числе их находятся весьма хорошие литераторы, как-то: Рылеев, Бестужев, Корнилович, Сомов, Кюхельбекер..."
Ещё не зная об аресте Фёдора и Григория, Корсаков проявляет особый интерес к "успехам детей" друга, крайне сожалеет о болезни их общей знакомой - графини Чернышёвой, матери декабриста З.Г. Чернышёва. Письмо заканчивалось просьбой сообщить "взаимно" всё известное Якову Фёдоровичу о последних событиях. И до Тихвина просочились слухи об арестах членов тайных обществ в Киеве.
Сопоставляя некоторые факты из жизни отца композитора Н.А. Римского-Корсакова (принадлежность к масонам, знакомство с Е.П. Чернышёвой, пятилетнее безвыездное проживание в Тихвине после "увоза" будущей жены от Скарятиных и др.), легко можно убедиться в том, что автором этого письма является Андрей Петрович Римский-Корсаков. Конечно, письмо написано с учётом возможной перлюстрации, ибо известно, что отец композитора был передовым человеком своего времени.
Он не только отрицательно относился к крепостному праву, но и освободил всех своих дворовых от крепостной зависимости. С глубоким сочувствием Андрей Петрович относился к осуждённым декабристам. О нём тепло вспоминал И.Д. Якушкин. А Матвей Муравьёв-Апостол, вспоминая об отправке своей в Сибирь в октябре 1827 г., писал: "На Тихвинской станции ждал нас Корсаков (масон), находившийся на службе при министре князе Александре Николаевиче Голицыне и которого я иногда встречал в доме гр. Чернышёвой. Он упросил меня принять в виде ссуды 600 р. на путевые издержки... Оказанную нам тогда услугу свято храню в памяти по сию пору. Таких добрых людей немного, о них с радостью вспоминаем".
Но старинный друг Якова Фёдоровича был далёк от предположения, что 18 декабря последовал приказ об аресте юнкера Нарвского драгунского полка Скарятина. Но как его исполнить, если в полку служили юнкерами два брата Фёдор и Григорий Скарятины?

Неизвестный художник. Портрет Фёдора и Григория Скарятиных. 1810-е гг.
22 декабря гланокомандующий 1-й армией доносил генерал-адъютанту Дибичу: "Нежинского конно-егерского полка прапорщик Вадковский оказался также участником тайного союза в связи с князем Трубецким и другими сообщниками во 2-й армии. Сей Вадковский недавно принял в союз юнкера Скарятина, племянника корпусного командира князя Щербатова. Скарятиных два брата в Нарвском драгунском полку. Если они живут при дяде, то нужно будет узнать, который из них принадлежит к союзу, и иметь его в наблюдении..."
Но времени для выяснения, кто из братьев Скарятиных является членом тайного общества, не оставалось. Следственный комитет, учреждённый по делу декабристов, рьяно приступил к своим обязанностям, и пришлось подвергнуть аресту обоих братьев.
23 декабря в сопровождении адъютанта Щербатова гвардейского поручика Салтыкова и жандарма арестованные Скарятины выехали из Киева. Через шесть дней они были уже в столице. Фёдор Скарятин находился под стражей в Кавалергардском полку, а затем содержался на гауптвахте.
"Не знаю, видаешь ли ты Федю? Я о нём очень скорблю", - запрашивал Яков Фёдорович 31 января своего сына Григория. А 3 февраля, извещая одного из московских знакомых о предстоящем переезде членов семейства из Киева в Новосиль, Скарятин-отец добавлял: "Я думаю съездить в Спб [Санктпетербург] для детей, ожидаю только известие о решении участи Феденьки..."
Тем временем Фёдор Скарятин продолжал томиться в ожидании приговора. Особенно беспокоиться ему было нечего, так как заметной роли в деятельности декабристской организации он не играл. Принятый за два месяца до событий 14 декабря, он в момент восстания находился в Киеве. К тому же Вадковский, явно выгораживая Скарятина, стал утверждать, что он просил его выйти из общества.
Первоначально "по степени вины" все, привлечённые по делу о злоумышленных обществах, подразделялись на IV разряда. Вместе с поручиком Валерианом Голицыным и корнетом Александром Плещеевым Фёдор Скарятин причислялся к IV разряду.
В списке допрошенных лиц, находившихся в числе членов тайного общества и участвовавших в "происшествии 14 декабря", в конце марта 1826 г. насчитывалось 195 человек. В нём сообщалось место заключения и степень вины: а) важный, б) знал (о цели общества), в) по подозрению. 85-м в этом списке значилось имя фанен-юнкера Фёдора Скарятина, который "знал" о намерениях членов общества.
Наконец, 19 апреля 1826 г. его участь была решена. Комитет заслушал высочайшее повеление: освободить из-под ареста, отдать юнкера Фёдора Скарятина "под личный и строгий надзор" командира 4-го пехотного корпуса генерал-адъютанта князя А.Г. Щербатова.
Два месяца спустя (23.06.1826) Фёдора Скарятина перевели в Кавалергардский полк с определением в Школу кавалерийских юнкеров. Закончив её в 1828 г., он продолжал службу поручиком в лейб-гвардии Уланском полку.
По подозрению в причастности к делу декабристов подвергался аресту и друг Скарятина Дмитрий Веневитинов. На допросе он смело заявил, что "если он и не принадлежал к обществу декабристов, то мог бы легко принадлежать к нему". 15 марта 1827 г., не дожив до двадцати двух лет, Дмитрий Владимирович скончался, далеко не успев, к горестному сожалению, проявить до конца свои гениальные способности в поэзии и философии, живописи и музыке. "Это была прекрасная утенняя заря, предрекавшая прекрасный день", - писал о нём В.Г. Белинский.
Одним из последних стихотворений Веневитинова было "К изображению Урании". Оно написано непосредственно к рисунку Фёдора Скарятина "Одоевского муза". На нём изображена муза астрономии Урания с пятью звёздами над ней. Поэт сопровождал этот рисунок такими стихами:
Пять звёзд увенчали чело вдохновенной:
Поэзии дивной звезда,
Звезда благодатная милой надежды,
Звезда беззакатной любви,
Звезда лучезарная искренней дружбы,
Что пятая будет звезда?
Да будет она, благотворные боги,
Душевного счастья звездой.
Рисунок Скарятина и стихотворение Веневитинова сохранились в нотной тетради В.Ф. Одоевского, находящейся сейчас в Центральном музее музыкальной культуры. В апреле 1827 г. Одоевский писал Михаилу Погодину: "Стихов прилагаемых ни у кого нет, кроме меня. Одни написал он (Веневитинов), встречая у меня Новый год, другие - на моей нотной книге, на которой Скарятин нарисовал богиню с пятью звёздами..."
Из лейб-гвардии Уланского полка Фёдор Яковлевич перешёл на службу в качестве адъютанта к московскому военному генерал-губернатору князю Д.В. Голицыну.
Весь свой досуг он посвящал любимому искусству.
В марте 1831 г. Скарятин принял участие в санном катании, устроенном молодожёнами Сергеем и Надеждой Пашковыми. Среди участников санного поезда находились А.С. Пушкин и брат хозяйки чиновник особых поручений при генерал-губернаторе князь Александр Долгоруков, только что женившийся на дочери московского почт-директора Булгакова.
Фёдор Скарятин, возможно, встречался с Пушкиным ещё 13 января 1830 г. - в доме внучки М.И. Кутузова Дарьи Фикельмон. По крайней мере известно, что в числе её гостей были Александр Сергеевич и один из старших братьев Скарятиных - Фёдор либо Григорий, к которому хозяйка чувствовала "нежную дружбу" и "сердечную привязанность" в течение длительного времени.
22 мая 1832 г. Ф.Я. Скарятин женился на дочери сенатора Екатерине Петровне Озеровой (16.07.1807-13.07.1833). У них рождается сын Яков (11.04.1833-1.01.1834), названный в честь отца декабриста, однако проживёт он недолго...
1832 год вошёл в историю русской культуры как дата образования Училища живописи, ваяния и зодчества в Москве, сыгравшего значительную роль в развитии русского реалистического искусства XIX - начала XX вв. Одним из его основателей являлся декабрист и художник Фёдор Яковлевич Скарятин.
Первоначально оно именовалось Художественным кружком, затем - Московскими художественными классами. Директором их одно время был известный декабрист М.Ф. Орлов. Возникновение этого учебного заведения дало толчок к открытию в 1833 г. Московского художественного общества.
Десять лет спустя детище Скарятина переименовали в Училище живописи и ваяния, а в 1865 г. к нему присоединили Дворцовое архитектурное училище. Воспитанниками училища в разное время были А.В. Саврасов, В.Г. Перов, И.И. Левитан, М.В. Нестеров и другие выдающиеся художники. Преемниками училища живописи, ваяния и зодчества являются Московский государственный художественный институт имени В.И. Сурикова и Московский архитектурный институт.
В июле 1833 г. в семью Скарятиных пришло большое горе - на двадцать шестом году жизни скончалась Екатерина Петровна. Неутешен долгое время оставался её отец-сенатор и почётный опекун П.И. Озеров. При встрече с ним в ноябре этого года император выразил ему соболезнование: "Божья власть, ты не сомневаешься о участии моём искреннем..."
Фёдор Яковлевич ненадолго пережил свою молодую супругу. 11 апреля 1835 г. чахотка свела его в могилу в самом расцвете творческих сил. Похоронен он рядом с женой и младенцем-сыном в Москве на Ваганьковском кладбище. Ранняя смерть человека передовых убеждений и даровитого художника не оставила равнодушными его соотечественников даже вдали от Родины. "Приехал во Флоренцию в 9 часов утра. Отпевание Скарятина..." - читаем мы в записной книжке поэта П.А. Вяземского помету от 24 апреля 1835 г.

Неизвестный художник. Портрет Натальи Григорьевны Скарятиной, ур. княжны Щербатовой. 1810-е гг.
Второй по старшинству сын Якова Фёдоровича, Григорий, сделал блестящую, по понятиям того времени, карьеру. На семнадцатом году жизни он поступил, как и брат, юнкером в Нарвский драгунский полк. В ноябре 1825 г. за оличие по службе был произведён в фанен-юнкеры. Помогали ему, несомненно, его обаяние и умение легко находить общий язык с самыми разными людьми. С одной стороны, он дружил со многими знакомыми Пушкина, лично знал и самого поэта. С другой стороны, все считали Григория Скарятина другом Дантеса. Кстати, о дуэли Пушкина с Дантесом именно Григорий Скарятин сообщил первым А.И. Тургеневу.
Не будучи членом тайного общества, он тем не менее не избежал ареста. Его родной дядя командир 4-го пехотного корпуса генерал-адъютант князь А.Г. Щербатов, получив приказ арестовать и выслать в столицу юнкера Нарвского драгунского полка Скарятина, заключил под стражу двух своих племянников. Следственный комитет быстро убедился в непричастности Григория Скарятина к "злоумышленным обществам", и уже 30 декабря 1825 г. его перевели в Кавалергардский полк.
Григорий Яковлевич был флигель-адъютантом императора Николая I, участвовал в боевых походах, дослужился до звания генерал-майора. Во время Венгерской революции отряд под командованием Г. Скарятина (в составе корпуса фельдмаршала Паскевича) был послан на подавление восстания в Венгрии. Там, 9 июля 1849 года, в сражении под Шесбургом (современный город Сигишоара в румынской Трансильвании) Григорий Скарятин погиб. На месте его гибели был поставлен ему памятник – постамент с лежащим на нём львом.
Как отмечалось выше, Григорий Скарятин являлся предметом долгой сердечной привязанности графини Дарьи Фикельмон. По её словам, у Скарятина было лицо красивое, а во взгляде некая кротость и меланхолия, характер же его был совершенным, всё, что есть на свете самого честного, благородного, наилучшего, сосредоточено было в нём. О его смерти она писала сестре: "Я только что узнала, что ты и я потеряли один из предметов нашей самой нежной привязанности. Григорий Скарятин умер, как герой... Увы, ужас войны чувствуется тогда, когда ты потеряла кого-нибудь, кто тебе дорог..."
Смерть второго сына окончательно подкосила престарелого Якова Фёдоровича. Мучили его в последнее время и угрызения совести из-за участия в цареубийстве. Возможно, поэтому, отмаливая грехи, полковник Скарятин стал одним из главных благотворителей при строительстве возводившегося в Орле на средства дворян губернии кафедрального Петропавловского собора (его заложили как раз в день коронации Павла I в 1797). Но в процессе возведения стен собор пошёл трещинами и, то и дело, был вынужден ремонтироваться, что послужило распространению слухов среди орловцев о том, что Бог не принял дар именно от Скарятина-цареубийцы.
Менее чем через год после смерти сына Григория, Яков Фёдорович скончался, оставив завещание похоронить себя в родовом селе Троицкое, но чтобы обязательно его отпели в Петропавловском кафедральном соборе. Жена и дети так и поступили.
А в самом начале 1851 года наследники договорились о разделе семейного достояния. Наталья Григорьевна отказалась от каких-либо поместий мужа, взяв с сыновей обязательство выплачивать ей по две тысячи рублей серебром ежегодно. Каждый же из детей получил движимое и недвижимое имущество: статский советник Владимир Яковлевич Скарятин - 746 крепостных душ и 7748 десятин земли, надворный советник Александр Скарятин - 790 душ и 7420 десятин земли, губернский секретарь Дмитрий Скарятин - 697 душ и 5483 десятины земли, гвардии подпоручик Николай Скарятин - 931 душу крепостных крестьян и дворовых людей (а вот количество его земли в раздельной записи почему-то не названо).
23 февраля 1851 года, в Орловской палате гражданского суда раздел имущества, оставшегося после смерти полковника Я.Ф. Скарятина в Малоархангельском, Мценском, Ливенском уездах Орловской губернии и Щигровском уезде Курской губернии был осуществлён...
Метки: ЖЗЛ россия декабристы скарятин |
Никита Кирсанов. "Декабрист Захар Чернышёв". |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Никита Кирсанов. "Декабрист Захар Чернышёв".

Как известно, многих декабристов как представителей правящего класса ожидала блестящая служебная карьера. Но особенно должна была благоволить судьба к Захару Григорьевичу Чернышёву, единственному наследнику обширного майората, выходцу из старинного рода.
Известен указ Петра I прадеду декабриста генерал-майору Григорию Петровичу Чернышёву (21.01.1672-30.07.1745) о проведении переписи населения в Московской губернии. В историю России вписали свои имена трое его сыновей, мраморные бюсты которых, выполненные выдающимся скульптором Федотом Шубиным, можно видеть в Государственной Третьяковской галерее. Большой интерес представляют книжные знаки библиотек братьев Чернышёвых, но прославились они главным образом на военном и дипломатическом поприще.
Генерал-фельдмаршал граф Захар Григорьевич Чернышёв (18.03.1722-29.08.1784), тройной тёзка и двоюродный дед декабриста, более десяти лет возглавлял Военную коллегию. В благодарность за содействие в делах "Типографической компании" русский просветитель Н.И. Новиков посвятил ему некоторые изданные ею книги. В экспозиции музея истории Ярославского академического театра имени Ф.Г. Волкова представлена серебряной чеканки чернильница, принадлежавшая генерал-фельдмаршалу.
Его старший брат Пётр Григорьевич (24.03.1712-17.08.1773) прославился на дипломатической ниве, представляя интересы государства в Берлине, Лондоне, Копенгагене и Париже. Одна из его дочерей - Н.П. Голицына - известна в какой-то степени как прообраз старой графини в пушкинской "Пиковой даме".
Дед декабриста генерал-фельдмаршал граф Иван Григорьевич (24.11.1726-26.02.1797) был президентом Государственной Адмиралтейской коллегии, членом Академии наук и Вольного экономического общества. Тонкий знаток наук и искусств он участвовал в переводе Велизария. Сохранились два адресованные ему письма М.В. Ломоносова. Иван Григорьевич являлся крупным землевладельцем, ему принадлежали дворец на Мойке в С.-Петербурге, так называемая "Чернышёва дача" и Аннинский медеплавильный завод.
Его единственный сын Григорий (2.02.1762-2.01.1831), хоть и участвовал в штурме Измаила, избрал другую жизненную стезю. Написанные им в молодости оригинальные и переведённые пьесы он в 1821 г. издал под названием "Theatre de l'ars'cnal de Gatchina". В 1799 г. Григорий Иванович заведовал иностранными труппами при Дирекции императорских театров.
Писал он также весёлые и остроумные стихи, преимущественно на французском языке. В "Альбоме стихов, прозаических отрывков, афоризмов и рисунков", принадлежавшем Екатерине Фёдоровне Кривцовой, ур. Вадковской, наряду с шедеврами Жуковского и Пушкина можно встретить стихотворения Г.И. Чернышёва.
В ответ на одно из его дружеских посланий П.А. Вяземский написал своё - "К графу Чернышёву в деревню", которое декабрист В.К. Кюхельбекер поместил в первой книжке альманаха "Мнемозина":
В стихах твоих, почтенный граф,
Вольтера ученик счастливый,
Как он, насмешник часто льстивый,
Как он, всегда пред Музой прав, -
Есть истина...
Григорий Иванович слыл большим знатоком книги, со вкусом пополняя свою библиотеку. Так, в списке лиц, подписавшихся на получение книги "Стихотворения Анны Буниной", вышедшей в Петербурге в 1821 г., встечается: "В Орле - действительный тайный советник граф Григорий Иванович Чернышёв, 2 [экз.]".
Добавим, что обе его сестры, бывшие фрейлины двора Е.И. Вадковская и А.И. Плещеева - это матери декабристов. Поэтому Захару Чернышёву доводились двоюродными братьями Фёдор и Александр Вадковские, Алексей и Александр Плещеевы.
От брака с фрейлиной, кавалерственной дамой ордена св. Екатерины малого креста, Елизаветой Петровной Квашниной-Самариной (29.03.1773-16.02.1828) Чернышёв, кроме первенца Захара, имел ещё шесть дочерей. Все они получили прекрасное воспитание. Большое влияние оказывала на них мать, о которой современники отзывались как о "женщине с сильным характером, граничившим со строгостью в деле семейного управления". Лишь благодаря энергии Елизаветы Петровны удалось избежать материальных затруднений, возникших было из-за граничащей с расточительностью доброты мужа.
Будучи единственным представителем рода, Григорий Иванович унаследовал не только состояние отца, но и майорат, учреждённый его дядей Захаром Григорьевичем, вместе с огромным состоянием, которое включало среди прочего подмосковный Ярополец, дворец у Синего моста и дачу на Петергофской дороге. Своей "летней резиденцией" Чернышёвы чаще всего избирали орловское имение Тагино Малоархангельского уезда, живописно расположенное на Оке, с несколькими тысячами десятин чернозёмной земли.
Родился Захар Григорьевич 14 декабря 1797 г. "Я сначала воспитывался дома у моих родителей, - отмечал он. - Ни в каких предметах особенно не старался усовершенствоваться - однако ж, по склонности моей, более занимался наукою иностранных языков..."
Из проживавших в доме воспитателей и преподавателей следует назвать человека твёрдых моральных правил масона Жуайе, добившегося позже свидания с заключённым в крепости своим питомцем, англичанку-гувернантку мисс Ивэнс, стастную поклонницу Байрона, и художника А. Маньяни, много лет прожившего здесь в качестве учителя рисования и оставившего после себя ряд портретов членов дружного семейства.
На семнадцатом году жизни Чернышёва определили в Московское училище колонновожатых, основанное широко образованным Николаем Николаевичем Муравьёвым, отцом будущих декабристов Александра, Михаила и Николая. В муравьёвском училище поощрялись самостоятельность мышления, чувство равенства, культ дружбы, широкий круг интересов воспитанников. Не случайно из их среды вышло 25 декабристов.
7 декабря 1815 г. Захар Чернышёв поступил колонновожатым в свиту императора по квартирмейстерской части (так именовался тогда Генеральный штаб). Через полтора года (14.05.1817) он стал эстандарт-юнкером Кавалергардского полка.
Вскоре состоялось первое, правда, кратковременное знакомство будущего декабриста с крепостью. За вызов на дуэль одного из однополчан его посадили под арест. По свидетельству современника, Чернышёв потребовал от него "выхода в отставку, потому что офицеры не хотят продолжать служить с ним".
Как раз в это время Чернышёву стало известно о тяжёлой болезни матери, находящейся в орловском имении, и ему, как единственному сыну, была предоставлена возможность под честное слово съездить домой. По возвращении от родных к оговоренному сроку он вновь был заключён под стражу. Однако на этот раз дело закончилось для Чернышёва благополучно и он вернулся в полк.
Последующая служба Чернышёва - до восстания на Сенатской площади - проходила в том же полку, где он последовательно, как тогда говорили, происходил чинами: корнет 931.01.1818), поручик (17.04.1819), штабс-ротмистр (22.10.1821) и с 12.12.1824 г. - ротмистр. Несмотря на то, что Кавалергардский полк был по составу самым аристократическим из полков столичной гвардии, именно в нём возникло ядро северного филиала Южного общества, образованное по инициативе П.И. Пестеля. Из сослуживцев наибольшее влияние на Чернышёва оказал Ф.Ф. Вадковский.
Весной 1825 г. корнет А.М. Муравьёв принял Чернышёва в тайное общество. Обычно, на основании лишь следственных материалов, принято говорить о том, что Чернышёв не играл заметной роли в тайной организации. В "Алфавите членам бывших злоумышленных обществ" о Чернышёве говориться: "Знал цель - введение конституции и слышал, что общество будет действовать силою оружия и что, в случае сопротивления со стороны императора, предполагается уничтожить его особу и царствующий дом..."
Конечно, в считанные месяцы, оставшиеся до восстания, Чернышёв не успел в полной мере проявить себя. Да и не было его 14 декабря на Сенатской площади, так как внезапная смерть Александра I заставила намеченное на 1826 год восстание начать, когда часть декабристов находилась в отпуске.
Будь Чернышёв в те дни в Петербурге, он сумел бы проявить свою решительность и смелость. Вот что говорит о нём декабрист М.И. Пущин, вспоминая своё пребывание после ареста на гауптвахте: "Привезли под вечер к нам же графа Захара Чернышёва. Чернышёв во всеуслышание начал критиковать действия заговорщиков 14-го числа и сказал, по мнению его, нужно было увериться в артиллерии и поставить её против Зимнего дворца, дать несколько залпов ядрами или картечью, чем попало, и тогда, он уверен, дело б приняло совершенно иной образ, и мы тут бы не сидели..."
Итак, осенью 1825 г. Захар Чернышёв проводил отпускное время в кругу родных. "Тагинский дом был крайне оригинален, - писал родственник Чернышёвых известный мемуарист М. Бутурлин. - К первоначальному одноэтажному и небольшому деревянному дому пристраивались постепенно, по мере надобности, анфилады комнат и коридоров с обоих боков без всякой симметрии и единства наружной архитектуры. Помнится мне, что каждая из этих построек имела свою отдельную крышу, и в одной из них помещалась домовая церковь (устроенная, вероятно, потому, что сельская церковь находилась на большом отдалении от господского дома)...
Но так как местность, где стоял господский дом, была покатою, то иные постройки были несколькими ступеньками выше одна другой: но все они были в одном этаже. Снаружи всё это имело вид какой-то фабрики, а внутри было лабиринтом для новоприезжего, но лабиринтом уютным для жильцов..." На всю округу славился тагинский оркестр из крепостных музыкантов, который, по мнению знатоков, "мог бы с честью занять место в любом столичном театре".
Именно в этот приезд Чернышёва в Тагино при участии Ф.Ф. Вадковского и В.С. Толстого состоялось обсуждение плана организации подпольной типографии для размножения декабристской литературы. Когда Вадковскому, одному из руководителей филиала Южного общества, понадобилось направить отчёт о своей деятельности Пестелю, он предполагал поручить это Чернышёву, но убедился в том, что тот из-за болезни матери не сможет выехать на продолжительный срок.
В декабре того же года в Тагино приехал один из руководителей Северного общества Никита Михайлович Муравьёв, брат Александра Муравьёва, муж сестры Чернышёва Александры Григорьевны (2.06.1800-22.11.1832). О вооружённом выступлении в Петербурге 14 числа, как раз в день рождения Захара Григорьевича, они услышали из уст орловского губернатора, заезжавшего к Чернышёвым.
Получив донесение Дибича о причастности тагинских декабристов к заговору, 17 декабря Николай I отдал приказ послать фельдъегерей для ареста Никиты Муравьёва и Захара Чернышёва.
Вот как описывает сцену ареста своих родственников Михаил Бутурлин: "Муж и жена Муравьёвы и граф Захар Григорьевич гостили там, как вдруг подкатил к дому жандармский офицер и высочайшим именем арестовал государственных преступников капитана Никиту Муравьёва и ротмистра Захара Чернышёва. Тут сделался первый паралитический удар с несчастной матерью, от которого она умерла, спустя два года с небольшим.
Н.М. Муравьёв пал на колени перед женой, прося прощения (а дотоле он скрывал от неё своё участие в тайном обществе), а она в ответ бросилась ему на шею, заявив, что всё и всех оставит в России и последует за ним, одна, в ссылку ли, на каторгу - ей всё равно".
27 декабря император дал распоряжение коменданту Петропавловской крепости посадить Чернышёва на гауптвахту "содержа хорошо". Не обошли "вниманием" и его людей - дворецкого Ивана Соловьёва, конюха, кучера и даже ученика повара, благодаря чему мы располагаем неизвестным петербургским адресом декабриста: "В наёмной квартире Литейной части, в доме купца Ларионова".
С 4 января 1826 г. Чернышёв содержался в арестантском покое №23 Екатерининской куртины, а с 16 мая там же в №25. Развернув бурную деятельность, старшая сестра Софья добилась разрешения видеться с ним два раза в неделю. Свидание с сыном и зятем имела Елизавета Петровна. Позже простился с Захаром перед его отправкой из крепости и Григорий Иванович.

В списке допрошенных Следственным комитетом лиц против фамилии Захара Чернышёва была определена степень его вины: "важный". Член комитета его однофамилец генерал-адъютант А.И. Чернышёв, без всяких оснований имевший виды на огромный чернышёвский майорат, упорно добивался вынесения единственному наследнику смертного приговора.
Навязываясь декабристу в родственники, генерал встретил появление его громким возгласом: "Как, кузен, и вы тоже виновны?" Остроумный Захар Григорьевич ответил: "Быть может, виновен, но отнюдь не кузен". Когда знаменитый генерал Ермолов узнал о бессовестных притязаниях А. Чернышёва, он сказал: "Что же тут удивительного? Одежда жертвы всегда и везде составляла собственность палача".
А Фёдор Вадковский в стихотворении "Наш следственный комитет в 1825 году" с особым сарказмом заметил, обращаясь к незадачливому претенденту на майорат:
Задержалась ваша плата,
Благодарней был бы я...
Знание цели тайного общества, средств к её достижению и замысла на цареубийство были главными обвинительными пунктами Захару Чернышёву, причисленному к седьмому разряду "государственных преступников". Он лишался чинов, дворянства, графского титула и высылался в Сибирь, где по отбытии года каторжных работ ему предстояла бессрочная ссылка.
После вынесения приговора Чернышёв содержался в крепости и только 9 апреля 1827 г. прибыл в Читинский острог. Сообщались его приметы: "Росту - 2 арш(ина) 7 6/8 вершк(а) (т.е. 176,69 см), лицо круглое, белое, глаза тёмнокарие, нос прямой, продолговатый, волоса тёмно-русые".
С живущей поблизости сестрой Александрой, в течение годичного пребывания на каторге, Захару Григорьевичу так ни разу и не удалось встретиться. Лишь накануне отправления его в якутскую ссылку в мае 1828 г. им удалось проститься, как оказалось, навсегда.
"Я имела счастье видеться с братом перед его отъездом, - писала Александра Григорьевна Муравьёва свекрови, - но трудно сказать, было ли это хорошо для меня или плохо, так как мысль, что я, быть может, никогда больше его не увижу, сделала для меня свидание очень мучительным..." М.Н. Волконская в своих мемуарах сказала коротко: "Прощание Александрины с братом было раздирающим".
В расположенном от столицы в восьми с половиной тысячах вёрст Якутске Чернышёва ожидала встреча со ссыльным декабристом и писателем А.А. Бестужевым. Поселились они в одном доме. В июне 1828 г. Бестужев уведомлял своих братьев: "Прибытие Чернышёва, который жил с вами полгода, познакомило меня с вашим бытом и не на радость... Захар приехал жёлт и худ, теперь понемногу поправляется... Я рад очень, что есть с кем разделить часы грусти и минуты приятные". Жандармам удалось перехватить адресованное Захару письмо А.Г. Муравьёвой от 10 июля того же года, где она сообщала: "Бестужевы здоровы, передай это их брату. Я полагаю, что вы вместе, поэтому и говорю тебе это..." Однако, вскоре Чернышёв съехал от Бестужева на другую квартиру: чем это было вызвано, про то нам не ведомо...
Есть сведения, что Захар Чернышёв писал стихи. Но до нас дошёл только его французский перевод стихотворения поэта-декабриста Н.А. Чижова "Журавли". К написанию стихов и переводам его сподвигло постоянное чтение книг и газет, которые посылали ему отец и сестра Софья. "Я надеюсь, - писал Григорий Иванович сыну в октябре 1828 г. из Тагино, - ты получил книги, посланные Софи три месяца тому назад. Остальные я закажу в Москве и Петербурге. Помимо того, что ты просишь, ты получишь целое собрание французских классиков: Вольтера, два тома, Расина, Корнейля, Буало, Мольера - по одному тому".
Благодаря ходатайству отца Захара Чернышёва перевели на Кавказ, в действующую армию. "Смерть но на поле чести, даже для отцовского сердца менее ужасною будет", - писал Григорий Иванович царю в начале января 1829 г. из Орла.
Почти два месяца добирался Захар Чернышёв из Якутска до Тифлиса. 9 апреля 1829 г. фельдъегерь Григорьев сдал его по квитанции, и для декабриста начался новый период в жизни. Паскевич сообщил генерал-адъютанту А. Чернышёву о зачислении его однофамильца рядовым в Нижегородский драгунский полк.
У Захара Григорьевича было рекомендательное письмо, врученное ему декабристом А.Н. Муравьёвым. Обращено оно к известному впоследствии военачальнику Н.Н. Муравьёву-Карскому: "Я уверен, что ты не возгордишься пред Чернышёвым, - писал Александр Николаевич брату, - и примешь его как человека тебе близкого... Ты знаешь, что сестра его за Никитою Муравьёвым; следовательно, он нам даже и родственник". Пройдёт время, и другая сестра Чернышёва, Наталья Григорьевна, станет женой Муравьёва-Карского.
Рядовой Чернышёв произвёл сильное впечатление на видавшего виды Муравьёва. В мае 1829 г. Николай Николаевич сообщал первой жене из лагеря близ озера Топорована: "Приятные минуты, которые я провожу здесь, так это с Чернышёвым, какой достойный и честный юноша, какой скромности, каких принципов, он из класса тех, которым я приношу моё полнейшее уважение. Мы часто говорим об Александре, которого он видел ежедневно в Сибири.
Насколько он исполнителен в своих обязанностях и безропотен; это - радость его видеть; это - настоящая заслуга, как он терпеливо переносит своё несчастье; насколько он выше всех сортов людей завистливых, наглых, не способных ни к чему, жадных ко всему, с бесконечными претензиями и невыносимым чванством. Сколько находишь у себя недостатков, когда сравниваешь себя с таким уважаемым существом, как Чернышёв..."
Вскоре произошла встреча Захара Григорьевича с А.С. Пушкиным. Как известно, Александр Сергеевич, следуя к театру военных действий в Закавказье, заезжал в Орёл, чтобы переговорить с влиятельным, несмотря на опалу, генералом А.П. Ермоловым. Возможно, поэт побывал и в орловском доме Чернышёвых.
Однажды Пушкин в кругу военных друзей захотел продемонстрировать своё знание английского языка, к самостоятельному изучению которого приступил сравнительно недавно. В качестве главного "оппонента" выступал Чернышёв. Поэт прочитал собравшимся "некоторые сцены" из Шекспира. Отметив недостатки произношения, Захар Григорьевич признал сделанный им перевод "совершенно правильным и понимание языка безукоризненным".
Переведённый 9 ноября 1829 г. в 41-й Егерский полк, Чернышёв старался ни в чём не отставать от солдат и вёл такой же образ жизни, как они. Отличаясь необыкновенной храбростью в боях и мелких стычках, Захар Григорьевич не раз был ранен. Под местечком Закаталы 15 октября 1830 г. пуля навылет пробила ему грудь.
Не получая долгое время никаких известий от сына, Григорий Иванович решил, что он убит. Но перед самой своей смертью он получил письмо от раненого Захара, с трудом нашедшего силы написать о себе.
Неослабное наблюдение за декабристами в армейских условиях скорее напоминало открытую слежку. Так, за приглашение Захара Чернышёва к обеду был посажен на гауптвахту командир Нижегородского полка Н.Н. Раевский (младший), сын героя Отечественной войны 1812 года.

6 января 1832 г. Чернышёва произвели в унтер-офицеры, а 13 марта 1833 г. в прапорщики с назначением в 7-й кавказский линейный батальон. 22 марта 1834 г. его произвели в подпоручики и летом того же года он получил возможность выехать к родным в двухмесячный отпуск. Обрадованные сёстры поделились радостью с Никитой Муравьёвым: "Это мало после такой долгой и горестной разлуки, но это в то же время много, потому что мы не надеялись его вообще увидеть некоторое время назад..." В этот приезд Захар Григорьевич женился на дочери сенатора Екатерине Алексеевне Тепловой (р. 2.03.1819), племяннице мужа сестры Софьи.
Лишь 17 января 1837 г. Чернышёву удалось получить отставку "по расстроенному здоровью, тем же чином, с обязательством жить безвыездно" в имении сестры С.Г. Чернышёвой-Кругликовой, Яропольце Волоколамского уезда Московской губернии.
17 января 1841 г. Чернышёву "высочайше" разрешили вступить в гражданскую службу на выбор - Туле, Орле или Рязани. При выборе местожительства Чернышёвым, несомненно, руководило чувство, поэтически названное Пушкиным "любовью к родному пепелищу", к "отеческим гробам". В Орле, на кладбище Успенского мужского монастыря при архирейском доме, находилась могила отца декабриста - Г.И. Чернышёва, поэта, автора и переводчика пьес, театрального деятеля.
21 декабря 1841 г. Захара Григорьевича приняли в число канцелярских чиновников Орловского дворянского депутатского собрания с переименованием (5.03.1842) в губернского секретаря. Конечно же, служба не удовлетворяла его, да и нигде он уже не мог найти применение своим силам. К тому же он по-прежнему находился под подозрением власть имущих, о чём красноречиво свидетельствует архивный документ:
"...Канцелярского чиновника Орловского дворянского депутатского собрания Захара Чернышёва, о награждении которого чином депутатское собрание хотя ходатайствовало в прошлом 1844 году, но губернское правление не решилось сделать о нём представления правительствующему сенату, а через начальника губернии испрашивало разрешения г. министра внутренних дел потому, что он Чернышёв был прикосновенен к происшествию 14 декабря 1825 года. Вследствие какового ходатайства государь император высочайше соизволил: чтобы означенный Чернышёв был представлен к производству в следующий чин".
21 июня 1846 г. он перевёлся на службу в канцелярию московского гражданского губернатора.
Отличаясь редкой скромностью и детской незлобивостью, Захар Григорьевич пользовался неизменной симпатией окружающих. Особенно популярен он был в передовых кругах московского общества. Встречался он с опальным генералом А.П. Ермоловым. В дневнике неустановленного лица сохранилась запись: "Граф Чернышёв - из декабристов, и как все они, старик с молодой душою и горящим сердцем..." Поэтесса Евдокия Ростопчина поднесла ему "в знак особенного уважения" своё стихотворение "К страдальцам-изгнанникам", обращённое к декабристам.
Пусть сокрушились вы о силу самовластья,
Пусть угнетают вас тирановы рабы, -
Но ваш терновый путь, ваш жребий лучше счастья
И стоит всех даров изменчивой судьбы!..
Бдительный полицейский надзор за Чернышёвым продолжался. Весной 1848 г. на его просьбу провести двухнедельный отпуск в Петербурге "высочайшего соизволения не последовало". Накануне Захару Григорьевичу отказали в просьбе провести отпуск за границей.
Только по амнистии от 26 августа 1856 г. ему возвратили права и титул. Получив разрешение для поправления здоровья жены выехать за границу, Захар Григорьевич обосновался в Риме, где и умер 23 мая 1862 г. Первоначально он был похоронен на римском кладбище Монте-Тестаччо, но в начале 1880-х гг. по настоянию сестры декабриста Натальи Григорьевны Муравьёвой (14.09.1806-25.02.1884), прах З.Г. Чернышёва был перевезён в Россию и захоронен на кладбище Новоспасского монастыря в Москве в семейном склепе Чернышёвых, рядом с матерью, братом Петром (13.02.1817-13.08.1817), сестрой Софьей Григорьевной Чернышёвой-Кругликовой (24.04.1799-24.07.1847) и младенцем-сыном Григорием Захаровичем (ск. 25.05.1838, жил 1 год).
Екатерина Алексеевна намного пережила мужа. "Московские ведомости" сообщали, что умерла она в Риме 22 ноября 1878 г. Согласно завещания бездетных Чернышёвых, всё их состояние, перешло к племяннику декабриста - графу Е.И. Чернышёву-Кругликову...
Метки: ЖЗЛ россия декабристы чернышевы |
Никита Кирсанов. "Декабрист Александр Поджио". |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Никита Кирсанов. "Декабрист Александр Поджио".

Жизнь семейства Поджио складывалась капризно и не вполне обычно. Итальянец по происхождению, Виктор Яковлевич Поджио, отец будущего декабриста, выплеснут был в Россию тем потоком иностранцев, который ещё с конца XVI в. начал весьма ощутимо стучаться в границы тогдашнего Московского государства. Что заставило этого, по-видимому, вполне ординарного человека покинуть свою родину и присоединиться к де Рибасу - установить не представляется возможным. Сперва скромный подлекарь (1783) в только что возникшей Одессе (в 1787 он определён был лекарем в Херсонский госпиталь и в 1789 произведён в штаб-лекаря), затем волонтёр российской армии, он участвовал в турецкой кампании и дослужился до чина секунд-майора (1791). И опять-таки, трудно угадать, что побудило В.Я. Поджио надеть военный мундир. Успел ли он проникнуться интересами новых своих соотечественников, которых на Восток толкала жажда новых рынков, либо вступил в службу, как обыкновенный ландскнехт, - так или иначе, но своими воинскими доблестями В.Я. Поджио, видимо, не стяжал крупных материальных выгод. Скончавшись 29 августа 1812 г., он оставил вдову свою, Магдалину Осиповну, урождённую Даде, в весьма стеснённых обстоятельствах. В 1826 г. она проживала в единственном своём имении Яновке Чигиринского повета Киевской губернии, при котором числилось 398 душ крестьян. Но имение, и крестьяне были заложены в государственном заёмеом банке и сверх того обременены долгами.
Впрочем, пока был жив старый Поджио, семья, очевидно, пользовалась некоторым достатком. А.В. Поджио вспоминал богатую обстановку в Одессе, в которой протекало его детство. Поджио-отец стемился дать своим сыновьям хорошее образование. Старший Иосиф, согласно господствовавшей моде, отправлен был на воспитание в Петербургский иезуитский пансион. С младшим, Александром, родители не пожелали расставаться, и он отдан был в Одесский институт. (Выписка из метрической книги о крещении прихожан римско-католического вероисповедания в г. Николаеве гласит: "1792 года ноября 22 дня священник окрестил младенца Александра Иосифа, родившегося 30 августа, сына здешних прихожан". Аналогичные сведения имеются и о младшем брате: "1798 года майя 6 дня настоятель окрестил младенца Александра, родившегося апреля 14/28 дня, сына здешних прихожан".).
Но Александр Поджио не проявил ни склонностей, ни прилежания к институтским наукам. 12-ти лет он оставил учение и, по выражению официального документа, "потом жил при матери, не занимаясь ничем". Он сам засвидетельствовал, что до 1819 г. ему чуждо было "всё, что только требовало занятий и размышлений". Военная служба представлялась надёжнейшим прибежищем для людей подобного склада. Вслед за старшим братом, Александр вступил в лейб-гвардии Преображенский полк, в 1816 г. из портупей-прапорщиков был произведён в офицеры.
С этого времени, сколько можно судить по показаниям Поджио в Следственном комитете, политическое развитие его пошло обычным для будущих декабристов путём. "В 1819 году начался мой ропот, - объяснял он, - а с 1820 года первоначальное моё вольнодумство". Частые встречи и близость с членами тайных обществ, заграничный поход, давший богатую пищу для сравнений, волна революционного движения, потрясавшая Пиринеи, - таковы источники вольнодумства Поджио, по его собственному свидетельству. Отсюда явилось критическое свидетельство к русской действительности. И Поджио, в размышлениях своих, жестоко обрушался на внутреннюю политику, убивавшую торговлю и промышленность, насиловавшую личность, разрушавшую просвещение, - и, особенно, на внешнюю политику русского самодержавия. Он жадно следил за тревожными событиями в Испании, Пьемонте, Неаполе. Итальянец по происхождению, он ещё менее своих товарищей мог остаться равнодушен к революционному движению, сотрясавшему его отечество. Ближневосточная политика русского правительства вызвала особенное возмущение в этом сыне екатерининского волонтёра. "Довольно известно всегдашнее покровительство правительства нашего к единоверцам нашим, угентённым грекам, - восклицал Поджио. - Со времён ещё императрицы Екатерины II сие покровительство не прерывалось по 1820 год".
Критические замечания Поджио свидетельствуют о его осведомлённости и понимании закулисной стороны внешней политики, о проникновении в смысл жёсткой борьбы Меттерниха с Каподисторией, в которой вопрос об освобождении греков стушёвывался перед стремлением австрийского дипломата положить предел развитию русской торговли. В сознании Поджио, освобождение порабощённых единоверцев прикреплялось с экономическим интересами его нового отечества, точнее сказать, с интересами русского дворянства, страдавшего от падения экспорта зерна. Выход был один - завоевание восточных торговых путей. В своих показаниях Поджио засвидетельствовал уверенность, что с победой над Турцией, "торговля наша южная от упадка своего со времени восстания греков перешла бы к самому цветущему положению, господствованием, ничем уже не затрудняемым, над торговлею всего Востока".
Он был уверен, что правительство пойдёт на войну с Турцией, и само увеличение армии склонен был приписывать подготовке к турецкой кампании. Только уже в начале 1820-х гг. он убедился в том, что "никакие выгоды государства правительство наше не увлекали в объявлении войны гордым оттоманам", что, напротив того, опутанное идеями Священного союза, русское правительство скорее склонно исполнить роль европейского жандарма, - роль весьма неблаговидную, при этом ещё и поглощавшую государственную казну.
Переведённый 30 октября 1823 г. в армию, в Днепровский пехотный полк, Поджио был принят в Южное общество. С первых же шагов своих на поприще заговорщика он проявил кипучую деятельность и инициативу, причём сразу же получил поручение представительствовать в только ещё строившемся Северном обществе. Он участвовал во всех совещаниях и заседаниях, одно из которых даже происходило у него на квартире. Поджио же выработал проект новых правил о занятиях членов Общества, в котором, между прочим, говорилось, что, в случае восстания, все должны соединиться под знамёнами свободы.
В рядах заговорщиков Поджио являлся одной из колоритнейших фигур. Он и на юге зарекомендовал себя деятельнейшим участником заговора. Принадлежа к Каменской управе, возглавлявшейся В.Л. Давыдовым и С.Г. Волконским, Поджио был горячим и страстным последователем П.И. Пестеля. Голова его была полна планами организации новых управ, восстаний, цареубийства. Он даже собирался ехать с Пестелем в Петербург, ежели понадобится покуситься на жизнь Александра I. Делопроизводитель Следственной комиссии А.Д. Боровков хорошо понял Поджио, охарактеризовав его, как "пламенного члена, неукротимого в словах и суждениях". Боровков только не учёл частых мучительных колебаний и сомнений Поджио, сомнений не в задачах заговорщиков, а в их силах и возможностях. "Александра Поджио вы давно знаете, - писал С.И. Муравьёв-Апостол брату, Матвею, 14 апреля 1825 г., - следовательно, я ничего о нём не имею добавить. Я нахожу в нём только много недоверия к своим силам, что задерживает ход дела, тогда как ему следовало бы увлекать других за собою".
Летом того же года, на маневрах, Поджио впервые встретился и сразу же близко сошёлся с Пестелем, и на сей раз колебания его рассеялись. Тем не менее, ещё раз, уже перед самым разгромом тайных обществ, он пережил новый тяжёлый кризис. Он даже собирался уехать за границу и 31 марта 1825 г. с чином подполковника вышел в отставку, явно в ущерб интересам заговора, которому требовался его военный мундир.
Но петербургские события, арест Пестеля, разгром Тульчинской управы вернули Поджио к деятельности. Он составил план восстания и освобождения Пестеля, ища помощи у Волконского и Давыдова и, конечно, не находя её. Тогда он проектировал осуществление цареубийства в Москве, во время коронации. Однако, все его планы разбивались о глухую стену инертности и растерянности окружавших его заговорщиков, ещё уцелевших на свободе. Когда 29 декабря, на квартире Иосифа Поджио, арестован был его свояк, В.Н. Лихарев, Александр, присутствовавший при этом, выразил намерение присоединиться к Сергею Муравьёву-Апостолу, чтобы исполнить "роковое обещание". Замыслы его были сорваны скорым арестом, последовавшим 3 января 1826 г.
На следствии декабристы держались различно, но Поджио занял совершенно необычайную позицию. Он всячески подчёркивал и детализировал свои "преступления". Казалось, что не Комитет старается уличить его, а он сам доказывает Комитету свою виновность. Поджио подробно изъяснял даже все свои замыслы восстания и цареубийства.
При этом в показаниях его не заметно было и раскаяния, искреннего или мнимого, довольно обычного для подследственных декабристов. Но откровенность его была равно губительна и для некоторых из недавних его друзей. Поджио как будто сознательно отягощал вину своих соратников, особенно Пестеля и Сергея Муравьёва-Апостола. Чем это объяснялось? Нам сейчас очень трудно проникнуть в тюремную психологию этих революционеров 1820-х гг., более или менее тесно связанных с тем правительством, против которого они восстали. Сбитые с толку, ослеплённые инквизиционными приёмами следствия, они, сплошь и рядом, теряли почву из под ног и, подобно римским гладиаторам, выпускаемым на арену с завязанными глазами, рубили вслепую, уже не различая, где их враги и где союзники. Так случилось и с Поджио, у которого в результате хитроумных намёков Комитета создалось минутное впечатление, что старшие товарищи по заговору, в частности Пестель, хотели использовать его в своекорыстных целях и потом предали.
Для характеристики подлинного отношения Поджио к руководителям Южного общества интересно, что в 1859 г., при всей ограниченности своих средств, он предлагал декабристу И.И. Горбачевскому тысячу рублей за щёточку, принадлежавшую некогда С.И. Муравьёву-Апостолу. Впоследствии же, Поджио спрашивал сам себя, - как это могло случиться? "Как объяснить, что люди чистейших чувств и правил, связанные родством, дружбой и всеми почитаемыми узами, могли перейти к сознанию на погибель всех других?" И тут же сам давал ответ: иезуитские вопросы, вконец путавшие заключённых и создававшие впечатление, что Комитету уже всё известно, благодаря наветам своих же товарищей; пытки, угрозы, лживые обещания и увещевания. Декабристы не были искушены ни в революционной, ни в тюремной практике. Следственные органы умели этим воспользоваться.
Едва ли товарищам Поджио могли повредить его откровения, поскольку они, по существу, ничего нового не прибавляли. Но свою виновность Поджио доказал блестяще и был отнесён к I разряду, приговорённому к бессрочным каторжным работам. (Приметы: рост 2 аршина 7 вершков, "лицом бел, чист, волосом черн, глаза желто-карие, нос продолговат, с горбиною").
После длительного заключения в Кексгольме и Шлиссельбурге, 8 октября 1827 г. Поджио вместе с И.И. Пущиным и П.А. Мухановым, привезённым из Выборгского шлосса, отправлен был в Сибирь, в сопровождении фельдъегеря Желдыбина, стяжавшего мрачную известность зверским обхождением с арестантами. Закованные в цепи, то а санях, то, когда снег стаивал, в тряских телегах, совершали "государственные преступники" свой бесконечный путь. 31 октября они добрались до Тобольска, где отдохнули и переночевали, благодаря заботам полицмейстера. Поджио, не обладавший крепким здоровьем, тяжело переносил дорогу. Сенатор Б.А. Куракин, видевший его в Томске, в своих донесениях, говоря о Поджио, относил его, вместе с А.П. Арбузовым и А.И. Тютчевым, "в обыкновенный разряд несчастных людей, находящихся в их положении", отмечая, что "вид у них был очень грустный, однако же они не высказывали ничего достойного быть приведённым".
В середине декабря арестанты прибыли в Иркутск. Будущая участь их была им в общих чертах известна, и они не строили на сей счёт никаких иллюзий.
Наконец, 4 января 1828 г. Поджио, вместе со своими дорожными товарищами, поступил в Нерчинские рудники (Читу, а с 1830 г. - Петровский завод). И с тех пор потянулась долгая, тридцатилетняя сибирская ночь. Для Поджио, по многим причинам, жизнь эта складывалась особенно тягостно. Он мучился неизвестностью о судьбе брата, отнесённого к IV разряду и заключённого в Шлиссельбургскую крепость. Как и многих декабристов, его тревожила перспектива, со временем, очутиться одному, где-нибудь в сибирской деревушке. В 1837 г. он с горестью писал декабристу А.Ф. Фролову: "Будьте тверды, не скучайте одиночеством, уделом всех нас ожидающим, которому невольно должны покориться". Вместе с тем, горячая натура Поджио не могла мириться с внезапным и вынужденным бездействием. На каторге он старался заполнить свои досуги преподаванием товарищам итальянского языка и со стастностью предавался огродничеству, умудряясь, в условиях каторжной жизни, устраивать хитроумные парники и выращивать диковинные для Сибири плоды. Он первый вырастил огурцы, арбузы, дыни, спаржу, цветную капусту, прежде совершенно неведомые местным жителям.
Эти свои занятия Поджио не оставил и на поселении в селе Усть-Куда, Иркутской губернии, куда был определён в 1839 г. Сохранилась зарисовка его этой поры, в письме Е.П. Оболенского к их общей приятельнице, Е.Н. Хвостовой: "Одежда его своеобразна, он носит длинные волосы, на подобии наших священников; красивая чёрная борода и красивые усы подчёркивают его итальянскую физиономию; его костюм - русский полуказакин; всё это составляет нечто необычайное и чудное и поражает вас, когда вы слышите его французский говор и любезности с дамами. Его главное занятие садоводство. Он угощал нас дынями своей выводки, которые сделали бы честь и петербургскому столу".
Ища выхода накоплявшейся в нём энергии, Поджио, подобно некоторым другим декабристам, пытался заняться золотопромышленностью, на что безрезультатно израсходовал все свои ограниченные средства. Не оставлял он и педагогических занятий, усердно занимаясь воспитанием деревенских детей. Поджио преподавал русский язык, историю и географию сыну декабриста Волконского, поселённого поблизости в Урике. С Волконским и, в особенности, с женой его, Марией Николаевной, дальней его родственницей, Поджио был чрезвычайно дружен. Многие современники склонны были, и, кажется, не без оснований, видеть в этом нечто большее, нежели обыкновенную дружбу. Историк О.И. Попова утверждала: "Взаимная привязанность Марии Николаевны и декабриста Александра Викторовича Поджио, длившаяся долгие годы, была истинной причиной семейной драмы Волконских"; передавала Попова и слухи о том, что отцом детей М.Н. Волконской был А.В. Поджио. В подтверждение этой версии сохранилось свидетельство декабриста Ф.Ф. Вадковского о тяжёлых семейных отношениях Волконских и "особой" дружбе М.Н. Волконской с братьями Поджио, рассказы лиц, знавших декабристов, например Загоскина; отсутствие писем А.В. Поджио к М.Н. Волконской в хорошо сохранившемся семейном архиве Волконских; исключительная близость А.В. Поджио к семье Волконских, о которой рассказывали даже Л.Н. Толстому в период его работы над романом о декабристах. Так или иначе, Поджио плотно прилепился к семейству Волконских, постоянно гостя в Урике, так что у современника, посетившего Урикскую колонию в 1839 г., создалось впечатление, что Поджио и живёт там.
Но и при наличии близких друзей и занятий, жизнь Поджио претерпевала жестокие потрясения, вследствие тяжких болезней. Хворать он начал очень скоро по выходе на поселение. В 1841 г. И.И. Пущин писал, что "Поджио был ужасно болен и теперь в опасном положении... с ним часто бывают обмороки. Грустно подумать о нём, и признаюсь, такое состояние его, что кажется, если бы сам должен был всё это переносить, то лучше пожелал бы неминуемого конца. Страдал он жестоко в последнее время, и я нисколько ещё не уверен, чтоб он был теперь жив".
Болезненное состояние Поджио продолжалось из года в год, не раз ставя его на край могилы. Дважды (в 1841 и 1849) он ездил для лечения на Туркинские минеральные воды. Амнистия 1856 г. застала Поджио в Иркутске, где он, как и многие его товарищи, получили разрешение жить, благодаря доброму отношению к декабристам генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьёва-Амурского. К этому времени в личной жизни Поджио произошли крупные перемены. В 1848 г. он похоронил брата, проживавшего вместе с ним в Усть-Куде. А в 1851 г. Поджио женился на Ларисе Андреевне Смирновой (1.02.1823-5.12.1898), классной даме Иркутского девичьего института.
Женитьба, а затем появление на свет 22 октября 1854 г. дочки Варвары, изменили жизнь престарелого декабриста, наполнив её новым содержанием. Одной из самых главных забот стало теперь обеспечение семьи, а это было совсем непросто.
Ещё около трёх лет Поджио с семьёй оставался в Сибири в виду крайне тяжёлого материального положения. И лишь по получении пособия от правительства (ста рублей серебром) на путевые издержки, прогонов и подорожной, всё же выехал из Иркутска 2 мая 1859 г.
По прибытии в Европейскую Россию Поджио с семьёй поселился в имении своего племянника А.О. Поджио в селе Знаменское Торопецкого уезда Псковской губернии, но и там, жизнь его не баловала.
Он вернулся домой совершенно без средств. Племянники, сыновья Иосифа Викторовича, воспользовавшиеся его имуществом, теперь не пожелали ничего возвращать. Только после того, как об этом стало известно А.И. Герцену и в "Колоколе" по сему предмету появилась уничтожающая заметка, племянники пошли на компромисс. После тетьего суда они выдали старику его долю. Тем временем он терпел тяжёлую нужду, страдая особенно за дочь, которой, в силу ничтожности средств, не мог дать желаемого образования.
Разойдясь окончательно с племянниками, в имении которых, в Торопецком уезде, Поджио жил, он в течение нескольких лет управлял имениями сперва своего друга К.Я. Дарагана (с. Никольское Звенигородского уезда Московской губернии), а затем - малолетнего внука Волконских (с. Шуколово Дмитровского уезда Московской губернии), где практически участвовал в работах по осуществлению крестьянской реформы.
В 1863 г. Поджио получил разрешение на выезд с семьёй за границу, куда ещё прежде однажды ездил с Волконскими. С той поры он жил преимущественно в Женеве, поддерживая близкую связь с Герценым и Огарёвым, несмотря на множество разногласий, существовавших между ними, и живо интересуясь общественной жизнью России. Старика непреодолимо тянуло обратно, на вторую его, столь негостеприимную, родину. Незадолго перед смертью желание его сбылось. Поджио умер 6 июня 1873 г., в доме Волконских, в селе Вороньки Козелецкого уезда Черниговской губернии. Там и погребён он, рядом со своими старыми друзьями...
Метки: ЖЗЛ декабристы россия поджио |
Николай Иванович Греч - автор воспоминаний о декабристах. |
Дневник |
14 декабря 2015 г. - 190 лет со дня восстания декабристов.
В содержании “Полярной звезды” Книга VII, выпуск 2, под пунктом 5 значится:
Выдержки из записок одного недекабриста.
Натан Эйдельман в книге"ТАЙНЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ "ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ" рассказывает о том,
как Н.И.Греч стал автором "Полярной звезды"
Выдержкам из “Записок одного недекабриста” издатели предпослали следующие строки: “Отрывки эти были нам доставлены с примечанием, что они писаны одним современником декабристов, который лично был в довольно близких отношениях с ними, несмотря на то что явным образом не разделял их образа мыслей. Каждая подробность (даже неприязненно высказанная или без глубокого понимания) о великих мучениках и деятелях 14 декабря бесконечно важна для нас. Мы с искренней благодарностью помещаем присланные нам отрывки в Полярную звезду.
Герцен и Огарев, конечно, хорошо знали, кто автор “Записок недекабриста”, потому что несколько страниц из этих “Записок”, посвященных Рылееву (см. ПЗ, VII—2, 90—91), появились еще на полгода раньше в лейпцигском издании. Гербель опубликовал их там под заглавием “Из записок Н. И. Г-ча” (пояснив, что они “являются здесь в первый раз”). Современники — и, понятно, издатели “Полярной звезды” — легко угадывали, что за этими прозрачными инициалами скрыт Николай Иванович Греч..'
Орловский. Портрет Н.И. Греча (1787-1867) - российского литератора и издателя (1850)
Н.И. Греч родился 3 (14) августа 1787 года в Санкт-Петербурге. Род Гречей происходил из Германии, а точнее, из Богемии, где жил и умер знаменитый в свое время проповедник, доктор богословия, профессор университета Адриан Греч. В середине XVII века прапрадед Н.И. Греча, в числе тысяч протестантских семей, преследуемых католиками, бежал в Пруссию. В своих мемуарах, Н.И. Греч указывал: “В фамилии нашей сохранилось предание, что уже прадед мой жил в России, но выехал оттуда обратно в Пруссию. Достоверно знаем только, что сын выходца из Богемии, Михаил Греч, в 1696 году был камерным советником в прусской службе и умер в Кенигсберге, около 1725 года, в крайней бедности”.
Дед будущего журналиста, Йоганн Эрнст Греч (Johann-Ernst Gretsch), родившийся в Кенигсберге в 1709 году, с молодых лет чувствовал охоту к наукам, учился в Лейпцигском университете, где начал изучать русский язык. Когда находившийся при курляндской герцогине Анне Иоанновне, знаменитый герцог Э.И. Бирон пожелал иметь при себе секретаря, который бы имел основательные познания в истории, выбор пал на магистра философии Йоганна Эрнста Греча, который в начале 1730-х годов прибыл в Митаву (столицу герцогства Курляндского), где вскоре стал профессором в Митавской гимназии. В 1738 году, по приглашению начальника Сухопутного шляхетского (1-го кадетского) корпуса графа Б.К. Миниха Йоганн Эрнст Греч, переименованный Иваном Михайловичем Гречем, был назначен профессором истории и нравоучения корпуса. Проработав в этой должности почти 20 лет, он был назначен директором учебной части (инспектором классов) корпуса, был лектором при великой княгине Екатерине Алексеевне (будущей императрице Екатерине II), выбирал книги для ее библиотеки и преподавал ей историю и политику. Умер он в 1760 году, оставив после себя шестерых детей.
Метки: ЖЗЛ россия декабристы |
Н.И.Греч о декабристах. Часть 1. |
Дневник |
О Н.И. Грече - здесь
Н.И. Греч
Записки о моей жизни
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Едва ли случалось в мире какое-либо великое бедствие, возникало какое-либо ложное и вредное учение, которое в начале своем не имело хорошего повода, благой мысли. Первое движение ума и совести человеческой почти всегда бывает чистое и доброе: потом прививаются к нему помыслы и страсти, порождаемые невежеством и злыми наклонностями, и из благотворного семени возрастает древо зла и пагубы. Так бывает со всеми революциями -- и нравственными и политическими. Из христианского усердия возник кровожадный фанатизм католиков; от желания очистить религию от суеверия произошло вольнодумство протестантов; из светлых идей 1789 года -- кровавые сцены 1793-го; из восстановления порядка единоначалием Наполеона I -- порабощение Европы тяжкому и постыдному игу.
И у нас бедственная и обильная злыми последствиями вспышка 14-го декабря 1825 года имела зерном мысли чистые, намерения добрые. Какой честный человек и истинно просвещенный патриот может равнодушно смотреть на нравственное унижение России, на владычество в ней дикой татарщины?! Государство, обширностью своею не уступающее древней римской монархии, окруженное восемью морями, орошаемое великолепными реками, одаренное особой, неизвестной в других местах силой плодородия, скрепленное единством и плотностью, обитаемое сильным, смышленым, добрым в основании своем народом, -- представляет с духовной стороны зрелище грустное и даже отвратительное.
Честь, правда, совесть у него почти неизвестны и составляют в душах людей исключение, как в иных странах к исключениям принадлежат пороки. Не крепостное состояние у нас ужасно и отвратительно; оно составляет только особую форму подчиненности и бедности, в которых томится более половины жителей всякого и самого просвещенного государства. У нас злоупотребления срослись с общественным нашим бытом, сделались необходимыми его элементами.
Может ли существовать порядок и благоденствие в стране, где из шестидесяти миллионов нельзя набрать осьми умных министров и пятидесяти честных губернаторов, где воровство, грабеж и взятки являются на каждом шагу, где нет правды в судах, порядка в управлении, где честные и добродетельные люди страждут и гибнут от корыстолюбия и бесчеловечия злодеев, где никто не стыдится сообщества и дружбы с негодяями и подлецами, только бы у них были деньги; где ложь, обман, взятки считались делом обыкновенным и нимало не предосудительным; где женщины не знают добродетелей домашних, не умеют и не хотят воспитывать детей своих и разоряют мужей щегольством и страстью к забавам; где духовенство не знает и не понимает своих обязанностей, ограничиваясь механическим исполнением обряда и поддержанием суеверия в народе для обогащения своего; где народ коснеет в невежестве и разврате!
Такие печальные размышления возникают в душе особенно при сравнении нравственного и гражданского состояния России с нравственным и гражданским состоянием других стран, где существуют те же человеческие пороки и слабости, но умеряются благоустройством, воспитанием, правосудием и религией. Где бессовестный грабитель вдов и сирот, несправедливый судья, развратный священник наказываются позором общего мнения.
При таком сравнении России с другими государствами рождается в каждой благородной душе вопрос: отчего у нас это так? Нет ли средства искоренить зло и заменить его добром? Правительство не может желать и терпеть зла, но, видно, средства его недостаточны, честные люди должны помогать ему. Вот и соберутся ревнители добра, обыкновенно люди молодые, начнут судить и рядить: давай поправим это дело. -- А как? -- Составим общество для искоренения зла. --Да нам не позволят. -- Разумеется, не позволят, потому что вся власть в руках самих виновников зла. Общество должно быть тайное. -- Прекрасно! И вот благородные, пламенные, но неопытные и заносчивые ревнители добра сходятся, набирают членов, назначают президента, секретаря, спорят, толкуют, сделают, может быть, и добро, но обыкновенно на первых же порах расшибут себе лоб или, еще обыкновеннее, разойдутся в мнениях, рассорятся, и обществу конец. Обычно тайные общества распадаются от поступления новых членов, принятых без дальнейшего выбора. Бывает и так, что характер общества совершенно изменяется от влияния вновь поступивших членов, так что свои своих не познают.
Подобный случай произошел у нас. Война 1812 года возвысила мнение русских о самих себе и о своем отечестве. В 1813 году сроднились они мыслью и сердцем с немцами, искавшими независимости, прав и свободы, которых лишил их свирепый завоеватель, гонитель чести, правды, просвещения. Освобождение от цепей тирана! -- пели они с Шиллером. Во Франции русские были свидетелями свержения тяжкого ига с образованной нации, учреждения конституционного правления и торжества либеральных идей. Возвращаются в Россию и что видят? Татарщину XV века! Несправедливости, притеснения, рабство, низость и бесчестие, противоречие всему, что дорого образованному европейцу. У нас присовокупился к тому пример, поданный государем: мы говорили выше о либеральном направлении Александра, но в самодержавных царях эти благородные намерения не бывают продолжительными: деспотичная натура, кроющаяся во всяком царе, как и во всяком человеке не самого сильного характера, возьмет свое.
Как бы то ни было, наши молодые, пламенные, благородные люди возымели ревностное желание доставить торжество либеральным идеям, под которыми разумеется владычество законов, водворение правды, бескорыстия и честности в судах и в управлении, искоренение вековых злоупотреблений, подтачивающих дерево русского величия и благоденствия народного. Составилось общество благоденствия, основанное на самых чистых и благородных началах, имевшее целью: распространение просвещения, поддержание правосудия, поощрение промышленности и усиление народного богатства.
Это были благонравные дети, игравшие обоюдоострыми кинжалами, сжигавшие фейерверк под пороховыми бочками. Некоторые из них, встретив с самого начала препятствия, убедившись в неисполнимости их мечтательных замыслов, отказались от участия в делах общества; другие оставались в нем, надеясь что-нибудь сделать; иные еще, честолюбивые мечтатели, вздумали воспользоваться таким союзом для удовлетворения своим страстям, для низвержения правительства и для овладения верховной властью во благо народа, говорили они, но на деле для утоления собственной их жадности. К этим сумасбродам присоединилось несколько злодеев, под маской патриотов, и как зло на свете всегда сильнее добра, последние и одолели. В числе участников было несколько легкомысленных ветреников, которые не смели отстать от других, кричали и храбрились в надежде, что все кончится громкими фанфаронадами, не дойдет до дела. Всего грустнее было то, что заговорщики заманили в свою шайку несколько прекрасных молодых людей, едва вышедших из детского возраста и не понимавших, что заставляют их предпринять.

В. Тимм. Восстание 14 декабря 1825 года на Сенатской площади
Таким образом составилось это разнокалиберное скопище. Таким образом подготовились и разыгрались элементы этой нелепой стачки, стоившей многих слез и страданий целым семействам и могшей навлечь на Россию неисчислимые бедствия.
При начале всякого драматического творения исчисляются действующие в нем лица с изложением их характера и с описанием костюмов. Так поступаю и я: исчислю и, сколько могу, опишу каждого из действовавших, то есть только тех, которых или я знал лично, или о ком имел достоверные сведения.
1. Павел Иванович Пестель, полковник и командир Вятского пехотного полка.

Павел Иванович Пестель (24 июня [5 июля] 1793, Москва — 13 [25] июля 1826, Санкт-Петербург) — руководитель Южного общества декабристов.
Метки: декабристы |
Н.И.ГРЕЧ О ДЕКАБРИСТАХ. ЧАСТЬ 2. |
Дневник |
Н.И. Греч
Записки о моей жизни
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
начало здесь
9. Александр Иванович Якубович, капитан знаменитого Нижегородского драгунского полка, был человек умный и образованный, но самый коварный, бессовестный, подлый и зверский из всех участников заговора и мятежа. В молодости служил в гвардии и был сослан на Кавказ за участие в поединке графа А.В.Завадовского с Шереметевым (который в нем был убит). Грибоедов, бывший секундантом Завадовского, отправился туда на службу и, поступив в канцелярию Ермолова, приобрел его уважение и дружбу. Якубович, недовольный Грибоедовым по случаю этой дуэли, вызвал его в Тифлисе и имел зверство умышленно ранить его в правую руку, чтоб лишить Грибоедова удовольствия играть на фортепиано. К счастью, рана была неопасна, и Грибоедов, излечившись, мог играть по-прежнему.
Якубович храбро сражался с горцами, был ранен в голову и приехал в Петербург летом 1825 года. Он ходил с повязкой на голове, говорил громко, свободно, довольно умно и красноречиво и вошел в сношения с шайкой Рылеева. В нем заговорщики видели нечто идеальное, возвышенное: это был Дантон новой революции.

Nikolai Bestuzhev. A. I. Jakubovich (1831). Александр Иванович Якубович (1792 — 3 (15) сентября 1845) — декабрист, капитан Нижегородского драгунского полка, литератор.
Метки: декабристы |
Н.И.ГРЕЧ О ДЕКАБРИСТАХ. ЧАСТЬ 3. |
Дневник |
Н.И. Греч
Записки о моей жизни
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
24. Николай Романович Цебриков, поручик гвардии Финляндского полка, жертва случая. Он стоял с батальоном своего полка за городом, кажется, в Гостилицах, и, ничего не зная, приехал 14 декабря в Петербург, чтоб погулять на праздниках с товарищами полка, стоявшего на Васильевском острове. Подъехав от Синего моста к Конногвардейскому манежу и видя толпу народа, он выскочил из саней и спрашивал, что случилось. Вдруг видит: бежит мимо манежа на Сенатскую площадь гвардейский экипаж, впереди офицеры с обнаженными саблями. Цебриков знал многих из них, потому что родной его брат служил в экипаже. Он закричал им: "Куда вас черт несет, карбонары!" Это подслушал какой-то квартальный и донес, что Цебриков кричал: "В каре против кавалерии!"
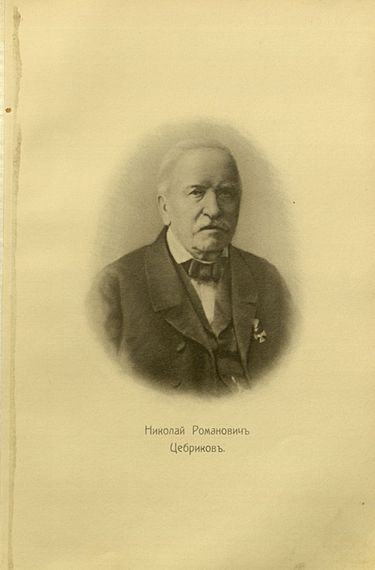
Николай Романович Цебриков (1800—1866) — декабрист
Обвинение было так ложно и так нелепо, что Цебриков оправдывался в нем перед Следственной комиссией с негодованием. Оправдание назвали упрямством и дерзостью: он был причислен к двадцатому (самому легкому) разряду и приговорен к разжалованию в солдаты с выслугой. По внушению взбалмошного Дибича государь усилил наказание разжалованием без выслуги и с лишением дворянства. Это было жестоко и противно законам, не написанным, правда, но существующим повсюду: верховная власть или утверждает наказание, или смягчает его, но никогда не усиливает. Только враг государя мог подать ему такой совет. К тому же Цебриков не был виноват, не подавал дурного примера, не бунтовал, только в негодовании на глупый донос не смирился перед бестолковыми судьями. Цебриков был сослан на Кавказ, служил там тридцать лет, получил солдатский Георгиевский крест, теперь прощен и доживает грустный век в Петербурге.
Метки: декабристы |
Екатерина Федоровна Муравьева. Мать декабристов |
Это цитата сообщения NADYNROM [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Екатерина Федоровна Муравьева. Мать декабристов
Возможно, тема жен и невест декабристов более интересна, так как окружена своеобразным романтическим идеалом даже в тех случаях, когда не было даже речи о какой-то безумной и самоотверженной любви как, например, в случае с Марией Волконской. А ведь так или иначе причастными к событиям 14 декабря и их последствиям оказались не только жены, но и матери.
Благодаря знаменитому фильму «Звезда пленительного счастья» почти всем известен ряд фактов о матери Аннекова и ее сложных взаимоотношениях с сыном и будущей невесткой. Совершенно иначе воспринимала события после восстания на Сенатской площади мать Никиты и Александра Муравьевых.
Цитирую по: Павлюченко Э.А. В добровольном изгнании. О женах и сестрах декабристов (М.: Наука, 1980; 159 с.)

Жан Лоран Монье «Портрет Екатерины Федоровны Муравьевой рожд. баронессы Колокольцевой (1771-1848), с сыном Никитой Михайловичем (1795—1843)»
Екатерина Федоровна Муравьева родилась в 1771 г. в семье крупного дельца екатерининской эпохи Ф. М. Колокольцова, получившего баронский титул. Двадцати трех лет вышла замуж за капитана гвардейского Генерального штаба Михаила Муравьева, наградив его миллионным состоянием. До сей поры в Государственном историческом музее в Москве хранятся нежные письма с поцелуями «тысячу и тысячу раз», аккуратно сложенные и надписанные старческой рукой: «Письмы моего Друга, ко мне с дежурства».
Михаил Никитич Муравьев, из старинного дворянского рода, один из образованнейших людей своего времени, стал известным писателем и деятелем культуры, попечителем Московского университета и товарищем министра народного просвещения. Его имя было окружено пиететом в семье и в обществе. «Их большой дом на Караванной улице,— вспоминает А. Бибикова,— был всегда открыт для друзей и родственников, которые, по тогдашнему обычаю, приезжали из провинции иногда целыми семьями, подолгу жили у гостеприимной и бесконечно доброй Екатерины Федоровны. По воскресеньям у них бывали семейные обеды, и случалось, что за стол садилось человек семьдесят! Тут были и военные генералы, и сенаторы, и безусая молодежь, блестящие кавалергарды и скромные провинциалы — все это были родственники, близкие и дальние» .Читать далее
Серия сообщений "Женщины в истории":
Метки: ЖЗЛ россия декабристы муравьевы |
Принцесса Кристина - "великий неизвестный" голландской королевской семьи |
Это цитата сообщения Антонина_Николаевна [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Принцесса Кристина - "великий неизвестный" голландской королевской семьи

18 февраля 1947 года у наследной принцессы Нидерландов Юлианы и принца-консорта Бернхарда Липпе-Бистерфельдского родился четвертый ребенок. У супругов уже было три дочери: Беатрикс, Ирена, Маргрит. И на этот раз снова была девочка. Новорожденная получила имя Мария Кристина и титулы принцесса Оранско-Нассауская и принцесса Липпе-Бистерфельдская.
Метки: голландия |
Принсенхоф-музей во дворце принца Оранского в Дельфте |
Это цитата сообщения Майя_Пешкова [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Принсенхоф-музей во дворце принца Оранского в Дельфте

Поздний июльский вечер 1584 года. Апартаменты Вильгельма Первого Оранского, к этому моменту практически полноправного правителя Нидерландов. Темная лестница и притаившийся возле нее убийца.
Серия сообщений "Нидерланды":
Часть 1 - Гаага - королевская столица Нидерландов
Часть 2 - Королевский дворец, Амстердам
...
Часть 18 - Крепость -звезда Нарден
Часть 19 - Маастрихт. Нидерланды. Helpoort - Адовы врата
Часть 20 - Принсенхоф-музей во дворце принца Оранского в Дельфте
Часть 21 - Жизнь в Голландии:кулинарные традиции
Часть 22 - замки Нидерландов
...
Часть 32 - Питер Кук ван Альст (1502–1550)
Часть 33 - Живописные Нидерланды: город Утрехт
Часть 34 - Замки и дворцы Нидерландов: королевская резиденция Хет Лоо
Серия сообщений "Замки Нидерландов":
Часть 1 - Замки ,дворцы и крепости Нидерландов. Часть 1
Часть 2 - Cады замка Арсен / Нидерланды
...
Часть 5 - Замки дворцы и крепости Нидерландов .Часть 4
Часть 6 - Замковая архитектура Нидерландов: Де Хаар
Часть 7 - Принсенхоф-музей во дворце принца Оранского в Дельфте
Часть 8 - замки Нидерландов
Часть 9 - Замки и дворцы Нидерландов: королевская резиденция Хет Лоо
Метки: голландия музеи дворец |
Никита Кирсанов. "Декабрист Иван Юрасов" |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
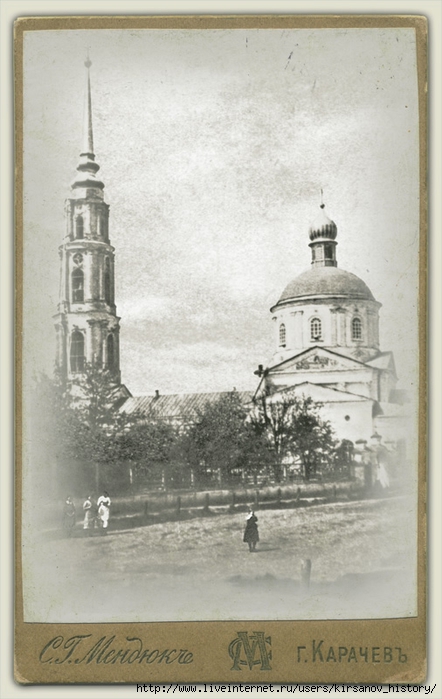
Сведений об Иване Фёдоровиче Юрасове сохранилось немного. Обстоятельства сложились так, что в истории декабристского движения он не успел сыграть заметной роли. Известно, что родился он 24 июля 1803 г. в имении Давыдово Карачевского уезда Орловской губернии (ныне Шаблыкинский район Орловской области), в семье мелкопоместного дворянина, отставного поручика Фёдора Ивановича Юрасова и жены его Анны Григорьевны. Кроме Ивана в семье были ещё дети: Афанасий (ск. 1854) - штаб-ротмистр, был женат на Екатерине Валентиновне Гаспариной; Пётр (ск. 1881) - штабс-ротмистр, был женат на Агафье Фёдоровне Масловой; Софья, Анна и Александра - девицы.
Иван Юрасов получил хорошее образоание. В его формулярном списке отмечалось: "По-российски, по-французски, по-немецки и часть математических наук знает".
3 марта 1821 г. он определился на военную службу - колонновожатым в свиту его императорского величества по квартирмейстерской части.
29 января 1823 г. Юрасова произвели в прапорщики. В первые годы службы он был, как отмечено в формуляре, "на съёмке Бессарабской области". Офицеры штаба занимались детальной топографической съёмкой Бессарабии, камеральной обработкой ранее снятых планшетов, а так же сбором статистических данных по Бессарабии.
За четыре с небольшим года службы Юрасов в "домовых отпусках" не бывал. Отмечалось, что "пьянству и игре не предаётся", "к повышению достоин".
К этому времени Иван Фёдорович близко сошёлся со своими сослуживцами - членами Южного общества поручиками Н.А. Крюковым, И.Б. Аврамовым, Н.А. Загорецким, братьями П.С. и Н.С. Бобрищевыми-Пушкиными. Если учесть, что все они воспитанники Муравьёвской школы колонновожатых, то, видимо, и Юрасов обучался в ней. К числу знакомых Ивана Фёдоровича принадлежали один из директоров Южного общества генерал-интендант 2-й армии А.П. Юшневский, члены общества штабс-ротмистр князь А.П. Барятинский и подпоручик Н.Ф. Заикин.
При известии о смерти Александра I Юрасов получил предложение стать членом общества. Принимавшему его Николаю Крюкову заявил, что если "в России сделается революция", то он твёрдо будет стоять "на стороне партии за представительное правление".
Заслуживает внимания свидетельство подпоручика Заикина: "Приехав от полковника Пестеля с тайным известием о смерти государя в Тульчин, я заехал к прапорщику Юрасову (с тем, чтобы у него остановиться) и сказал ему по секрету, как товарищу, что государь скончался. Увидевшись со мной на другой день, Юрасов возобновил сам разговор о смерти государя, присовокупив: теперь может быть беда, ибо могут породиться многие партии. Я желал знать его мнение, к какой бы партии он принадлежал, но он ничего мне не сказал. Через некоторое время прошли слухи, что Юрасов принят Крюковым-вторым".
Хорошо осведомлённый обо "всех делах общества", Иван Фёдорович не смог принять участие в его деятельности. Через несколько дней после вступления в Южное общество он, по словам штаб-лекаря при главной квартире армии Ф.Б. Вольфа, "занемог сильно лихорадкою" и оказался в госпитале. Товарищи даже беспокоились, как бы он в беспамятстве не выдал вверенной ему тайны.
В ходе следствия выяснилось, что участие прапорщика Юрасова в "злоумышленном обществе" было незначительным. Следственный комитет решил не привлекать его к дознанию, так как всё это время Иван Фёдорович был тяжело болен. (Утверждение некоторых источников о психическом заболевании И.Ф. Юрасова, не имеет под собой документального подтверждения и не может считаться доказанным. - Н.К.).
3 мая 1826 г. военный министр А.И. Татищев уведомил главнокомандующего 2-й армией генерала от кавалерии графа П.Х. Витгенштейна о том, что по приказанию царя необходимо обратить "особенное внимание" на И.Ф. Юрасова, учредив за ним "бдительный секретный надзор". На это Витгенштейн незамедлительно ответил: "Квартирмейстерской части прапорщик Юрасов высочайшим приказом, в 5 день марта сего года последовавшим, уволен по болезни от службы поручиком и должен находиться на жительстве в Орловской губернии".
По увольнении от службы Иван Фёдорович почти безвыездно занимался хозяйством в своём карачевском селе Давыдово. Начиная с сентября 1826 г. земский исправник ежемесячно докладывал губернатору о его поведении. Въезд в обе столицы ему был запрещён, да и вообще выезжать из родного села он мог только с особого разрешения. Запрет был снят лишь 26 августа 1856 г.
В 1828 г. Иван Фёдорович лишился отца, и хозяйственных забот прибавилось. Анна Григорьевна настояла на разделе общего имения, перешедшего к ней после смерти мужа. Тяжба по наследственным делам растянулась на четырнадцать лет. В конечном итоге братья Юрасовы получили около 250 душ, состоящих в трёх имениях - Тульской губернии Новосильского уезда селе Богоявленском - 83 души; Калужской губернии Мещовского уезда в селе Архангельском, Лаптево тож - 22 души; Рязанской губернии Касимовского уезда в селе Старом Ибердусе - 135 душ. Ивану Федоровичу досталось 78 душ "мужеска пола", а именно: в селе Богоявленском 43 души и в селе Старом Ибердусе - 35 душ.
В мае 1846 г. И.Ф. Юрасов обратился к властям за разрешением отправиться на лечение в города Пятигорск и Кисловодск. Пробыв на минеральных водах три месяца, он вернулся в Орловскую губерни. Кавказский гражданский губернатор сообщал в Орёл, что 5 сентября Юрасов, не замеченный ни в чём предосудительном, выбыл из Пятигорска.
Оставшись верен идеалам молодости, Иван Фёдорович, ещё до амнистии декабристам и задолго до отмены крепостного права, упорно добивался перевода своих крестьян в вольные поселяне. 11 марта 1856 г. он снова обратился к орловскому гражданскому губернатору В.И. Сафоновичу с прошением, в котором отмечал:
"На основании высочайшего указа 1842-го апреля 2-го дня имея намерение моих крестьян и дворовых людей, состоящих Орловской губернии Карачевского уезда в сельце Давыдовом и написанных за мной по последней 9-й ревизии в числе 69-ти мужского и 68-ми женского пола душ, уволить в звание обязанных крестьян, - я вместе с ними составил проект договора, который представя в Московский опекунский совет вследствие залога в нём увольняемых людей просил на то его согласия, которое получив прилагаю при проекте в подлиннике..."
Этот документ, написанный на гербовой бумаге самим декабристом, вызвал обширную переписку губернатора с министерством внутренних дел и карачевским земским судом. В одном из архивных дел сохранилось шесть собственноручных прошений и докладных записок Юрасова, а также пять его авторгафов под другими документами.
Договор, заключенный между Юрасовым и крестьянами, был утверждён императором 18 октября 1857 г. Бывшие крестьяне и дворовые люди сельца Давыдово получили личную свободу. 23-м крестьянским хозяйствам Иван Фёдорович предоставил "в вечную аренду" 225 десятин земли с годовой вполне приемлемой платой за десятину.
В 1858 г. 10 десятин из этой земли он закрепил за крестьянами в вечное и потомственное владение. Иван Фёдорович отменил все натуральные повинности крестьян. Согласно заключенному договору крестьянам вменялось в обязанность лишь сторожить усадьбу, а бывший декабрист сохранял за собой право определять планы строений, разбирать маловажные тяжбы, заботиться о нравственности крестьян.
Ивану Фёдоровичу довелось дожить до отмены крепостного права в России. Представляет интерес хранящееся в Орловском областном архиве дело, начатое в 1861 г. по случаю обвинения орловского крестьянина В.Н. Крылова в том, что он во зло употребляет своё обучение грамоте, "волнует народ, объясняя превратно законы и статьи Высочайше утверждённого положения об освобождении крестьян из крепостной зависимости".
Крылов, дворовый человек невестки декабриста Екатерины Валентиновны Юрасовой, в своё время около 30 лет жил в сельце Давыдово. Поэтому карачевский земский исправник обратился и к И.Ф. Юрасову с просьбой сообщить, не подстрекает ли Крылов крестьян "к неисполнению своих обязанностей". В отличие от соседнего помещика Гринёва, заявившего, что Крылов "для окрестности вреден", Иван Фёдорович сделал на отношении исправника краткую приписку:
"Имею честь отвечать, что о жизни и промыслах дворового человека Крылова мне ничего неизвестно; но доходили до меня слухи, что он писал разные прошения обязанным крестьянам с. Давыдова. Подпоручик Иван Юрасов. Ноябрь 1-го дня".
Дата смерти Юрасова неизвестна. Самое последнее упоминание о нём в архивных документах относится к 26 октября 1861 г. Известно только, что прожил Иван Фёдорович всю жизнь холостяком и потомства не оставил...
Метки: ЖЗЛ декабристы юрасов |
Никита Кирсанов. "Декабрист Фёдор Шаховской" |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Дело декабристов, не говоря уже о пятерых повешенных, разбило не один десяток человеческих жизней. Среди этих жертв было много талантливых и высокообразованных людей; крушение каждого из них было трагедией, судьба большинства - печальной. Лишь немногие сумели пережить катастрофу личной жизни, и были это характеры сильные, искушённые опытом и закалённые испытаниями (Е.П. Оболенский, И.Д. Якушкин, М.А. Фонвизин, Г.С. Батеньков, И.И. Пущин) или люди с пылким темпераментом, как П.А. Муханов, В.К. Кюхельбекер, А.И. Якубович и др. Но таких было немного, большинство же привлечённых и осуждённых декабристов были люди рядовые, а вовсе не исключительные.
Одной из наиболее драматических фигур по своей молчаливости, безысходности и в то же время вопиющей несправедливости был молодой князь Фёдор Петрович Шаховской. Жизнь сулила ему одни радости, а завершилась весьма печально.
Отец будущего декабриста князь Пётр Иванович Шаховской (1771-25.05.1827), происходил из дворян Псковской губернии.
На службу был записан унтер-офицером в Рижский карабинерный полк в 1775 г.
В 1777 г. произведён в вахмистры, семь лет служил аудитором, год - штык-юнкером артиллерии.
В 1786 г. произведён в подпоручики и с этим чином определён в Сухопутный кадетский корпус.
Получил чин поручика в 1791 г.
В 1795 г. в чине секунд-майора назначается в Оренбургский драгунский полк.
По Высочайшему повелению в этом же году переводится в лейб-гвардейский Измайловский полк капитан-поручиком.
В 1796 г. назначается камергером двора Екатерины II, а при императоре Павле I - флигель-адъютантом.
1 января 1797 г. назначен генерал-адъютантом, а 1 мая произведён в действительные статские советники.
Князь Шаховской служил некоторое время уездным начальником земского войска (милиции) Холмской округи Псковской губернии, за что получил в 1807 г. золотую медаль от Александра I.
13 апреля 1811 г. был назначен Псковским губернатором.
В 1812 г. произведён в тайные советники. Был награждён орденами: Святой Анны 2-й степени (5.04.1797), Святой Анны 1-й степени (24.04.1812).
С началом войны с Наполеоном Псковская губерния была объявлена на военном положении. Губернатор дал распоряжение соответствующим чиновникам принять необходимые меры для отправки из Пскова в Новгород денег и имущества. Шаховской уступил губернаторский дом под госпиталь, а через шесть лет вновь отдал свою казённую квартиру для размещения мужской гимназии.
Во время военных действий и приближения неприятеля к псковским границам сохранял в порядке управление губернией. Ему пришлось взять на себя и управление Витебской губернией до освобождения Витебска от французов и возвращения туда бывшего губернатора Лешерна.
Будучи губернатором, Шаховский соблюдал казённую выгоду и казённый интерес. С 1811 по 1813 годы было собрано свыше 2 миллионов рублей прежних недоимок. Но финал служебной карьеры князя был омрачён.
В конце 1816 г. он просит уволить его со службы в связи с болезнью. Но действительная причина была в том, что чиновники сомнительной репутации (Холмский городничий Вендегак и секретарь уездного суда Черепнин), которых предали суду по инициативе Шаховского за растрату государственных денег, жестокость к гражданам и введение высоких цен, очернили князя как нарушителя служебного долга. Вендегака и Черепнина оправдали и признали невиновными. А 12 декабря Пётр Иванович был уволен с занимаемой должности.
Скончался П.И. Шаховской в своём имении селе Аполец Демьянского уезда Псковской губернии (ныне Холмский район Новгородской области) и был похоронен при Казанской церкви им построенной.
У князя от брака с княжной Анной Фёдоровной Щербатовой (ск. 2.11.1824; похоронена в московском Донском монастыре) было пятеро детей: Анна Петровна (11.08.1807-7.04.1827) - фрейлина, похоронена на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры в СПб.; Прасковья Петровна - старшая (ск. 1856), замужем за Акимом Афанасьевичем Войнакуренским (1798-5.07.1865); Прасковья Петровна - младшая (24.08.1810-7.02.1831) - фрейлина, похоронена в Духовской церкви Александро-Невской лавры в СПб.; Екатерина Петровна, замужем за поручиком лейб-гвардии Гусарского полка Николаем Сергеевичем Слепцовым (1798-26.08.1831). После смерти Анны Фёдоровны, П.И. Шаховской женился на дочери капитана 2-го ранга Матрёне Кутузовой.

Портрет княгини Анны Фёдоровны Шаховской, ур. кж. Щербатовой. Неизвестный художник. 1810-е гг.
Единственный сын А.Ф. и П.И. Шаховских, князь Фёдор Петрович, родился 12 марта 1796 г. в одном из имений отца - Заостровье Луганско-Бросненской волости Холмского уезда Псковской губернии.
О воспитании и образовании князя Ф.П. Шаховского сведений нет, сам же он в 1826 году перед Следственной комиссией показал: "Обучался один год в Пансионе г-на Жакино, но по краткому времени пребывания не мог приобрести никаких познаний". Однако, не получив университетского образования, князь Ф.П. Шаховской систематически читал книги и посещал лекции, то есть занимался сам "по собственной охоте к науке", а в Москве слушал курс лекций политических и дипломатических наук у профессора Х.А. Шлейцера. Князь владел французским и немецким языками, составил замечательную по тем временам библиотеку.
Службу Ф.П. Шаховской начал в 1812 году в Министерстве полиции, и в его личном аттестате было отмечено: "Усердием своим, принадлежностью, личными способностями… заслужил совершенную похвалу начальства. По его прошению уволен из Министерства полиции для вступления на военную службу".
В 1813 г. семнадцатилетний Ф.П. Шаховской был зачислен в резервную команду лейб-гвардии Семёновского полка, который находился тогда во Франции. В следующем году князь прибыл к месту службы и начал её в чине подпрапорщика (30.01.1814); с 5.05.1814 г. - прапорщик. Участвовал в военных действиях на территории Франции до взятия Парижа.
Служба в Семёновском полку, заграничные походы 1813–1814 гг., знакомство русских офицеров с Западной Европой повлияли на формирование политических взглядов юного князя. По возвращении домой он (как и многие другие русские офицеры, вернувшиеся из Европы) стал мечтать об улучшении порядков в России.
Осень 1816 г. особенно оживлённой была в С.-Петербурге, где в различных кружках (в основном военных) начались разговоры о необходимости создания тайных обществ для спасения Отечества. Князь Ф.П. Шаховской мог говорить об этом со своими друзьями-однополчанами - офицерами Семёновского полка (И.Д. Якушкиным, С.И. и М.И. Муравьёвыми-Апостолами, С.П. Трубецким). "В 1816 году, - показывал он на следствии, -частое свидание и короткое знакомство в полку доставило мне случай узнать некоторых людей, которые приобрели полную мою доверенность, сколько познаниями своими, столько и советами обратить старания мои к пользе умственного образования. Наконец поручик Матвей Иванович Муравьёв открыл мне, что есть общество, имеющее предметом благосостояние России, изложив при этом вкратце все положения оного".
Таким образом, о тайном обществе князь Ф.П. Шаховской узнал, очевидно, в самый ранний период его существования, хотя это было ещё и не общество, а кружок офицеров Семёновского полка. Соединившись с П.И. Пестелем, они стали работать над уставом тайного общества. В "Союз спасения" князь Ф.П. Шаховской вступил после учредительного заседания в феврале 1816 г. по предложению своего друга М.И. Муравьёва-Апостола, хорошо знавшего князя по службе в Семёновском полку.
Однако не только политические идеи интересовали в то время Ф.П. Шаховского. На устройство "Союза спасения" сильное влияние оказало то обстоятельство, что многие из будущих декабристов некоторое время были членами масонских лож. Например, членами ложи "Трёх добродетелей" были П.И. Пестель, А.Н. Муравьёв, Матвей и Сергей Муравьёвы-Апостолы, С.П. Трубецкой, И.А. Долгоруков, П.П. Лопухин и др. По свидетельству Матвея Муравьёва, к ложе "Трёх добродетелей" в начале декабря 1816 г. присоединился и князь Ф.П. Шаховской, которого И.Д. Якушкин в своих "Записках" назвал "ревностным масоном". Устав "Союза спасения" не сохранился, но многое в нём тоже было заимствовано из уставов масонских лож, особенно в отношении ритуалов. В 1817 г. на общем собрании в Москве "Союз спасения" был преобразован в "Союз благоденствия"; князь Ф.П. Шаховской оставался членом и преобразованного союза и участвовал в его заседаниях.
Идеи о необходимости усовершенствования русского общества в мировоззрении декабристов порой приобретали причудливые формы: так, улучшение современного общества путём его морального усовершенствования сочетались у них с планами убийства императора Александра I. Вопрос этот впервые был затронут в ходе московского совещания, когда была высказана мысль о цареубийстве как неизбежном условии свержения самодержавия и уничтожения крепостного права. Рядом с именами И. Якушкина, Никиты и Артамона Муравьёвых, бравшимися осуществить покушение на императора, стоит и имя Ф.П. Шаховского (за это он получил среди товарищей прозвище "Тигр"). Правда, в следственном деле представлено и такое показание Никиты Муравьёва: "В 1817 г. на совещании, когда капитан Якушкин сделал несчастный вызов на жизнь покойного Государя, князь Шаховской… сильно опровергал сие предложение и, не дождавшись даже конца, оставил собрание и возвратился к себе на квартиру". Таким образом, причастность князя к возможному покушению на императора осталась недоказанной.
13 марта 1817 г. Ф.П. Шаховской был произведён в подпоручики Семёновского полка и вместе с первым батальоном этого полка прибыл в Москву. Осенью того же года он подал прошение о переводе в 38-й Егерский полк, и 16 января следующего года его перевели в него штабс-капитаном. 12 ноября 1819 г. Ф.П. Шаховской женился на княжне Наталье Дмитриевне Щербатовой (р. 4.07.1795), а 24 октября того же года его назначили адъютантом к генерал-лейтенанту И.Ф. Паскевичу. Вместе с молодой женой князь отправляется в С.-Петербург. 11 марта 1820 г. - капитан. 17 октября 1821 г. - отчислен из адъютантов в полк. 3 февраля 1822 г. "по жестокой хронической болезни" был уволен в отставку майором. Однако и после ухода в отставку, Шаховской оставался "под наблюдением, как неблагонадёжный". В марте 1823 г. бывший начальник Главного штаба генерал-адъютант П.М. Волконский "секретно относился" к нижегородскому губернатору А.С. Крюкову (отцу декабристов А.А. и Н.А. Крюковых) о том, что "по дошедшему до его величества сведению сей князь Шаховской исполнен вольнодумством и в равных случаях позволяет себе делать насчёт сего суждения совсем неприличные и не могущие быть терпимы правительством".
С 1819 г. князь стал отдаляться от тайного общества, чему способствовали семейные и служебные обстоятельства, а также конфликт с некоторыми товарищами и перспектива активной борьбы с царизмом. Ф.П. Шаховской покидает "Союз благоденствия" именно тогда, когда возобладала радикальная программа действий. Выйдя в отставку, он поселился в имении жены - селе Ореховце Ардатовского уезда Нижегородской губернии, где нашёл крепостных крестьян "в великой бедности" и большую часть времени стал посвящать улучшению их положения. Так, затрачивая собственные средства, он отдал крестьянам пахотные земли, а для своей запашки нанимал землю у соседей. В жизни крепостных Ф.П. Шаховского произошли положительные перемены, но сам князь, будучи хозяином разумным и деятельным, хотя и несколько прижимистым, оказался в тяжёлом материальном положении.
В конце 1825 г. он составил записку, в которой писал, что в течение четырёх лет проживая "в краю, столь щедро одарённом природою, с удивлением замечал, что вместо возрастающего благосостояния, бедность в народе, особенно между помещичьих крестьян, увеличивалась ежегодно…
Состояние крепостных крестьян наиболее обращает на себя отеческое попечение Вашего императорского величества. Сей полезный класс производителей, на которых основывается благосостояние государственное, обременён множеством налогов, падающих на лица и предметы первой потребности.
Власть помещика, на работу которого посвящает он половину жизни, выходя из границ человеколюбия, служит первым поводом к их разорению. Помещик сострадательный и образованный облегчает участь их, принимает меры для охранения их от бедности, помогает в плате подушной. Но это отнести должно к случаю и счастию малой части крестьян и едва ли найдётся таких один на двадцать".
В своей записке Ф.П. Шаховской предлагал заменить подушную подать подоходным налогом, чтобы облегчить положение крестьян. Примечательны также его рассуждения о "капитале" применительно к крестьянскому хозяйству ("взимание подати с капиталов"); заложена и идея расширенного воспроизводства крестьянского хозяйства. В это же время он пересматривает свои взгляды и на другие вопросы русской жизни, например, каким путём пойдёт дальнейшее развитие России. Но в следственном деле нет никаких данных о записке князя Ф.П. Шаховского, и некоторые исследователи предполагают, что записка эта, может быть, и не была отправлена царю и осталась лишь в черновом варианте.
Где застал князя день 14 декабря 1825 года - неизвестно, но присягу на верность императору Николаю I он принёс в церкви своего села Ореховец. До него, конечно же, доходили слухи об арестах по всей России, и он не мог надеяться, что гроза пройдёт мимо. Но прошёл январь 1826 года, потом февраль, а его всё не трогали, хотя имя его уже не раз звучало на допросах в Следственной комиссии.
В январе 1826 г. из С.-Петербурга последовало предписание нижегородскому губернатору продолжить секретное наблюдение за Шаховским "до подтверждения дальнейшего соприкосновения его с тайным обществом".
28 февраля 1826 г. Шаховской был вызван из Ореховца в Нижний Новгород. У губернатора Крюкова он узнал, что следствием обнаружена его связь с тайным обществом. Веря, что за давностью времени ему простятся заблуждения юности, он подал губернатору бумагу, в которой написал: "Желая ускорить оправдание моё перед лицом императора, покорнейше прошу Ваше превосходительство отправить меня в Санкт-Петербург". 9 марта в сопровождении квартального надзирателя Попова Ф.П. Шаховской был доставлен в столицу. В пути князь заболел и два месяца провёл в Военно-сухопутном госпитале, где, несмотря на болезнь, его подвергали многочисленным допросам, а 15 мая "по выздоровлении" заключили в Петропавловскую крепость.
О поведении Шаховского на следствии из документов известно следующее: "При допросе сознался только в том, что принят в Союз благоденствия и знал только одну цель оного - просвещение и благотворение. С 1818 года прекратил все по обществу сношения. Напротив сего показаниями других и очными ставками он уличён в том, что участвовал в учреждении Союза благоденствия и знал настоящую цель оного - введение представительного правления, был на совещании (1817 г.), когда Якушкин вызвался на цареубийство и предлагал для сего воспользоваться временем, когда Семёновский полк будет в карауле, и только то и говорил, что сам готов посягнуть на жизнь государя".
Суд приговорил его по VIII разряду к лишению дворянства и ссылке на поселение вечно (позже сокращённое до 20 лет). Местом ссылки для Шаховского был назначен расположенный за Полярным кругом Туруханск, куда он был доставлен 7 сентября 1826 г. Приметы: рост 2 арш. 8 1/2 вершк., "волосы на голове и бровях светлорусые, глаза тёмноголубые, лицом бел и худощав, нос прямой, подбородок выдаётся вперёд, на верхней губе с верхней стороны небольшая бородавка".

Портрет княгини Натальи Дмитриевны Шаховской, ур. кж. Щербатовой. Акварель В.И. Гау. 1849 г.
Все мысли декабриста были о семье. 5 октября 1826 г. в записке об имущественном положении он писал: "Жену свою я оставил в селе Ореховец в тяжёлой беременности с мучительными припадками; с нею сын наш Дмитрий по 6-му году. Если Бог укрепил силы и сохранил дни её, то в половине сего месяца должна она была разрешиться от беременности. Но если ужасное несчастье постигнет меня и последняя отрада исчезнет в душе моей с её жизнью, то одно лишь последнее желание моё будет знать, что сын мой останется на руках семейства, в роде отца её, князя Дмитрия Михайловича Щербатова".
Шаховской попытался включиться в жизнь населения Туруханска. В январе 1827 г. он передал туруханцам в качестве помощи в уплате недоимок по налогу 300 рублей, пытался лечить больных и учить детей. Пошли доносы. Его деятельность вызывала подозрение у властей, хотя сотник Сапожников, исполнявший должность отдельного туруханского заседателя, писал вышестоящему начальству: "Имею честь доложить, что Шаховской от жителей, как от туруханских, так вверх по Енисею, приобрёл особенное расположение обещанием улучшить состояние их через разведение картофеля и прочих огородных овощей (чего прежде в Туруханске не было), предвозвещая им дешевизну хлеба и прочих вещей, в крестьянском быту необходимых". Шаховской проводил исследования местного климата, занимался почвами, собирал гербарии, изучал жизнь и обычаи коренных жителей енисейского края. Здесь он написал первое краеведческое исследование: "Черновые записи о Туруханском крае". Позже "Грамматику русского языка" - эскиз будущего учебника. Но доносы следовали один за другим.
После проведения "тщательного расследования", Фёдору Петровичу было запрещено заниматься каким бы то ни было видом общественной деятельности.
Оказавшись в изоляции, Шаховской замкнулся в себе. У него появились признаки психического заболевания. В связи с этим 14 сентября 1827 г. он был переведён на жительство в Енисейск. Болезнь его прогрессировала. Он исхудал, заговаривался, движения его прерывали судороги. Шаховского навещали друзья и знакомые, но уходили разочарованные и напуганные: Фёдор Петрович изъяснялся путано и бессмысленно. Жене он не писал и не получал от неё никаких вестей. Однако она знала о его серьёзном заболевании и неоднократно обращалась к Николаю I о снисхождении и разрешении проживания её мужа в отдалённом селении одной из усадеб. Но царь отклонил прошение и отдал приказ (4.01.1829) лишь о переводе декабриста в Суздальский Спасо-Евфимиевский монастырь и разрешил его жене жить поблизости и иметь попечение о муже.
Три недели в самые морозы вёз "государственного преступника" из Енисейска в Суздаль фельдъегерь Генрих. В монастырь декабрист был доставлен 6 марта 1829 г. обмороженным. "Оказались на нём ознобленными три пальца левой ноги, нос, ухо, два мизинца на руках с лишением на одном из них ногтя", - доносил позже настоятель обители. Фёдора Петровича поместили в одну из келий.
Что явилось причиной его решения трудно сказать с полной уверенностью: то ли болезнь, то ли безысходность положения, но с 6 мая 1829 г. он истощает себя голодовкой. С 22 мая он её повторяет. Вскоре настоятель монастыря Парфений сообщил светским властям, что "государственный преступник" умер, "заморив себя голодом". В "Списке сосланных под надзор и стражу Владимирской губернии, в Спасо-Евфимьев монастырь разного звания людям", под №69 сделана запись: "Государственный преступник Шаховской, 1829 года, 6 марта, по высочайшему повелению прислан из Сибири, при отношении енисейского гражданского губернатора, от 16 февраля 1829 года, по случаю помешательства в уме его, для содержания его здесь под строгим надзором, того же 1829 года, мая 24-го дня помер".
Было тогда князю Ф.П. Шаховскому всего 33 года; похоронили его на монастырском кладбище, находившемся за Никольской (больничной) церковью.
Через сто лет в газету "Правда" пришло письмо, в котором говорилось "о запущенном состоянии могилы Фёдора Петровича Шаховского". Исполнялось 100-летие со дня смерти декабриста, и вставал вопрос об увековечении его памяти. Но ещё в 1924 году по распоряжению ОГПУ все надгробные памятники на могильном кладбище были снесены, и могила Ф.П. Шаховского, как и многие другие, затерялась. Сохранился только мраморный памятник, но уже без бронзового завершения, который был перенесён в музей. Сохранилась также запись первого директора Суздальского музея А.Д. Варганова: "В 1940 году при строительных работах было вскрыто погребение Шаховского и освидетельствовано. Сохранность гроба и одежды исключительные. Шаховской в камзоле зелёного цвета, а сюртук тёмно-коричневый с бархатным воротником. Широкие суженные брюки тёмно-жёлтого цвета, заправленные в хромовые сапоги с короткими голенищами. На шее - кисейное жабо".
Наталья Дмитриевна Шаховская прожила долгую жизнь. Она умерла 2 июня 1884 г. и похоронена в Москве на Ваганьковском кладбище рядом с сыном Дмитрием (10.05.1821-29.10.1897), гвардии капитан-лейтенантом, серпуховским уездным предводителем дворянства, женатым на княжне Наталье Борисовне Святополк-Четвертинской. Другой сын Шаховских - Иван Фёдорович (20.10.1826-3.07.1894), дослужился до звания генерал-лейтенанта, комановал гвардейским корпусом и был женат на графине Екатерине Святославовне Бержинской...

Князь Иван Фёдорович Шаховской. С фотографии 1880-х гг.
Метки: декабристы шаховские династии россии |
Никита Кирсанов. "Декабрист Алексей Тютчев". |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

В начале XVIII в. прадеду декабриста Никифору Гавриловичу Тютчеву в Брянской округе принадлежало несколько сёл и деревень. Часть из них унаследовал отец декабриста сержант лейб-гвардии Преображенского полка Иван Иванович Тютчев. В январе 1790 г. в Брянском уездном суде был осуществлён раздел имений между ним, его матерью, действительной статской советницей Аграфеной Николаевной, и тремя братьями. Ивану Ивановичу досталось "в сельце Соколове мужеска полу 75 душ".
В 1797 г. И.И. Тютчеву в Брянском уезде Орловской губернии принадлежало движимое и недвижимое имущество в сёлах Пахань, Кабаличи и Липово, деревне Глинищево и сельце Соколове. Деревня Глинищево расположено на реке Гасаме в 21 версте от Брянска и в полуверсте от одноименной почтовой станции на орловско-смоленской дороге.
На реке Гасаме по левую сторону этой дороги в 25 верстах от уездного центра раскинулось село Пахань (ныне Опахань Брянского района), а по правую сторону - в 22 верстах село Кабаличи. По правую сторону той же дороги, но при колодцах, расположено в 23 верстах от Брянска сельцо Соколово. И последнее принадлежащее Тютчевым небольшое село Липово (ныне Дятьковский район) находится на речке Липовке в 34 верстах от уездного города. Впоследствии в формулярном списке декабриста Тютчева будет указано, что "за отцом его состоит крестьян 500 душ". По состоянию на январь 1826 г. за И.И. Тютчевым уже числилось 328 душ, заложенных в Опекунском совете, и более 60 тысяч рублей долга.
Родился Алексей Тютчев в 1801 или 1802 году в одном из тютчевских сёл Брянского уезда Орловской губернии. У Ивана Ивановича и Марии Алексеевны, урождённой Мачихиной было ещё три сына и дочь - Фёдор, Михаил (1803-1880), Иван и Варвара. (Поэт Ф.И. Тютчев не состоял в родстве с этой ветвью Тютчевых). Как ни старались родители, семья с немалым трудом сводила концы с концами. Отец даже пытался "взять на откуп питейный сбор и поставку вина".
Получив начальное домашнее образование, Алексей в 1813 г. поступил в Морской кадетский корпус, но курса не кончил. Для "служения в гвардии", он 29 декабря 1815 г. определился подпрапорщиком в прославленный лейб-гвардии Семёновский полк.
Однополчанами Алексея Тютчева были три брата Вадковских, Сергей Муравьёв-Апостол и Михаил Бестужев-Рюмин. Со временем это обстоятельство сыграет свою роль в объединении двух декабристских обществ, действующих на юге России.
8 февраля 1819 г. Тютчева произвели в прапорщики, а 15 декабря того же года - в поручики. Дальнейшее течение его службы в гвардии прервало волнение осенью 1820 г. солдат Семёновского полка, вызванное издевательствами со стороны командира полка Г.Е. Шварца.
По распоряжению Александра I любимый его полк подлежал расформированию, нижние чины понесли жестокое наказание, четверо офицеров было предано суду, в том числе старший брат двух декабристов Вадковских. Остальные офицеры-семёновцы были разосланы по армейским полкам без права перевода из них, лишены отпусков и возможности выйти в отставку.
Во время "семёновской истории" поручик Тютчев находился в отпуске, у родных, но это не помешало ему избежать общей участи. Для прохождения дальнейшей службы его 2 ноября 1820 г. в чине штабс-капитана назначили в Пензенский пехотный полк 2-й армии. 20 мая 1824 г. произвели в капитаны.
Семейные, или, как тогда говорили, домашние обстоятельства требовали присутствия его в родных местах. Семидесятилетний отец не мог справиться с запущенным хозяйством, сестра Варвара, бывшая замужем за управляющим Петергофским Дворцовым Правлением, артиллерии подполковником Фёдором Бердяевым (25.04.1779-12.02.1821), к тому времени овдовела, оставшись с двумя малолетними детьми. Братья Фёдор и Михаил тоже служили. Но ни просьбы отца, ни личные рапорты Алексея Тютчева не возымели действия, и он так и не добился ни отпуска, ни желанной отставки.
Весной 1825 г. он вступил в Общество соединённых славян, возникшее два года назад. Члены этого общества мечтали о создании федерации славянских республик, стремились избавить их от самовластия. Они наиболее демократически относились к народу, проводили широкую революционную агитацию среди солдат.
В августе того же года на маневрах под Лещином, в пятнадцати верстах от Житомира, в жизни Тютчева произошло исключительной важности событие. Он повстречался со своими старыми товарищами-семёновцами Сергеем Муравьёвым-Апостолом и его верным другом Михаилом Бестужевым-Рюминым. Эта волнующая встреча не только определила дальнейшую участь Тютчева, но и имела большое значение для слияния Общества соединённых славян с Южным обществом.
Чувствуя резко оппозиционное настроение своего бывшего сослуживца, Муравьёв-Апостол и Бестужев-Рюмин обратились к нему: "Нам надо самим отыскивать свободу. Не хочешь ли вступить в тайное общество?"
Алексей Иванович вынужден был признаться, что уже состоит в тайном обществе, основную цель которого сформулировал так: "достижение революции и уничтожение (царских) законов". Он познакомил Муравьёва-Апостола и Бестужева-Рюмина со своими товарищами-славянами - основателем общества Петром Борисовым, Иваном Горбачевским и Петром Громницким.
"Открытие Тютчева, - писал в своих "Записках" Горбачевский, - внезапно разрешило кризис: есть какое-то общество с определёнными, революционными целями, сильное, опирающееся на мощные части войск, с готовой конструкцией. Это было как раз то, чего желали славяне, мечтавшие о немедленном действии..." Несмотря на некоторые разногласия "славян" и "южан", вскоре произошло слияние двух обществ.
Накануне предполагавшегося в 1826 г. открытого восстания предстояло определить состав группы "заговорщиков", которые предназначались для убийства императора. В эту засекреченную потом группу записывались только добровольцы. Среди них был и Тютчев.
Во время Лещинского лагерного сбора Алексей Иванович осуществлял большую пропагандистскую работу среди солдат, опираясь главным образом на бывших семёновцев. Декабрист А.Ф. Фролов наблюдал однажды такую сцену.
У капитана Тютчева находились шестеро рядовых Саратовского пехотного полка, которые прежде служили в Семёновском полку. Алексей Иванович успокаивал их: "Ну, так, ребята, потерпите! Рано не надо начинать, когда будет время, тогда вам скажут!" И здесь он выразил важную мысль о преемственной связи между восстанием семёновцев и намерениями декабристов: "Мы начали в Петербурге дело, но не кончили, - то здесь надобно окончить, а вы старайтесь подговорить своих товарищей..."
В отсутствие солдат разговор у Фролова и Тютчева зашёл о "строгом обращении" с нижними чинами Троицкого пехотного полка. На сожаление собеседника из-за отсутствия там надёжного офицера Алексей Иванович ответил:
- Там есть из Семёновского полка унтер-офицер, которому я уже говорил, и надеюсь, что более успею, нежели через какого-нибудь офицера.
Не удивительно, что в ответ на заботу и сочувствие к их положению солдаты платили уважением и любовью. Позднее в одном из донесений об участниках декабрьских событий отмечалось: "Об офицерах, взятых из Пензенского полка, солдаты весьма сожалеют, а в особенности о Тютчеве и Громницком, о которых говорят, что они были для них весьма хороши". А в описи канцелярским бумагам по тайному обществу мартом 1826 г. датировано отношение великого князя цесаревича о "ропоте офицеров Пензенского пехотного полка на тяжесть службы и о разглашении получения письма от капитана Тютчева".
В запланированное на начало лета 1826 г. восстание южан достойную лепту должен был внести и полк, где служил Алексей Иванович. Но всё произошло не так, как предполагалось. Возикший в стране после непредвиденной смерти царя период междуцарствия подтолкнул руководителей Северного общества взяться за оружие 14 декабря.
О неудаче восстания на Сенатской площади южане узнали через десять дней. Руководитель Васильковской управы подполковник С.И. Муравьёв-Апостол решил действовать. Во главе Черниговского полка он направился из Василькова на соединение с другими частями, где служили декабристы.
Но правительство уже успело принять соответствующие меры. К тому же на поведении отдельных декабристов сказалось впечатление о поражении восстания в Петербурге. Так, например, Артамон Муравьёв не передал записки Сергея Муравьёва-Апостола ни М.М. Спиридову, ни А.И. Тютчеву о начале действий. Получив письмо об этом же от Петра Борисова, Алексей Иванович сразу согласился выступить.
Из деревни Кузьмино, где он квартировал, Тютчев сразу же выехал в расположенный в десяти верстах Старо-Константинов. Там он отдал приказание фельдфебелю собрать солдат и раздать им боевые патроны. В корчме на краю города состоялось совещание декабристов Громницкого, Лисовского, Тютчева и Спиридова (за последним ездил Алексей Иванович).
В сложившейся обстановке требовались решительные действия и мятежный капитан Тютчев был готов выступить с четырьмя ротами Пензенского полка "в нужный момент и в нужном направлении", но вскоре пришла весть о поражении черниговцев.
20 января 1826 г. поступил приказ об аресте Тютчева. 31 января арестванный был доставлен из Житомира поручиком 18-го егерского полка Клейгельсом в Петербург на главную гауптвахту и в тот же день переведён в Петропавловскую крепость ("присылаемого Тютчева посадить по усмотрению и содержать строго") в № 18 Невской куртины.
В списке допрошенных лиц, принадлежащих к тайным обществам, Алексей Иванович значится под № 201, против его фамилии стоит: "важный". На допросах он держался стойко, сознаваясь лишь после очных ставок. Одной из причин своего "вольномыслия" назвал репрессии против Семёновского полка.
Помимо примерной стойкости на допросах, Тютчев явил и пример абсолютной безграмотности. Как известно, русский литературный язык и современная русская орфография в те годы только-только зарождались. Поэтому многие писали, как Бог на душу положит. Некоторые участники тайных обществ писали безграмотно потому, что "более привыкли к французскому языку, нежели к русскому". Другие же писали безграмотно потому, что вообще, по-видимому, к писанию не слишком сильно были приучены.
На протяжении примерно сорока листов капитан Тютчев даёт письменные показания - а Следственный комитет это читает (орфография подлинника полностью сохранена):
"Падпаручикъ бестужавъ рюминъ пакажаваитъ Что онъ Меня атъ Метилъ въ Списки въ Число загаворщикавъ патаму Что онъ Самъ Слышалъ агатовнасти маей насие преступная претъ принятия.
Яже абесняюсъ учерезденаму Височайшаму Камитету что я невызывался напакушениия пакоинава Гасударя. Ачто спиридавъ Какъ мне такъ и Громницкаму абяевилъ паприезде ево атъ бестужава Что онъ Насъ назначилъ въ Число загаворщикавъ, ежили я бы вызывался напакушения пакойнава Гасударя въ Сабрани то маеръ Спиридавъ зналъ бы абонамъ, патаму Что онъ нахадился въ Сабрани и мнебы абонамъ абевлятъ ненужнабы была. Что я естъ загаворщикъ. Сие мне Служытъ въ даказатилства Что я невыжывался а Что Самъ бестужавъ пасваему праизволу назначилъ въ загаворщики. Клятву Давалъ я папримеру другихъ въ дастижении цели вастанавитъ Конституцаю ане въ преступнамъ намеринии ежали бестужавъ такъ палажытилна утверждаитъ Что я самъ выживался на преступная пакушения въ Сабрании уандриевичя и клятва была взята въ томъ намерини то я асноваваюсъ напакажания прочихъ Членавъ каторыя такъ же нахадились въ сабрани а бестужаву ни даю никакой веры патаму что онъ насъ кругомъ абманулъ и завелъ насъ вечнаю пагибилъ. Къ сему пункту руку прилажылъ. Капитанъ Тютчивъ".
На всякий случай - "уандриевичя" - следует читать "у Андреевича", то есть на собрании в шатре у члена Общества соединенных славян Якова Андреевича.
Между прочим, в формуляре у Тютчева сказано, что грамоте "по-российски, по французски и по-немецки умеет", а сам он на вопрос обычной анкеты, которую выдавали всем подследственным, "в каких более предметах старался усовершенствоваться", показывал "Предметахъ Старался себя болши пригатовитъ, къ Математики и францускава яжика".
Историк Н. Чулков в комментариях к V тому "Восстания декабристов" специально оговаривает: "Показания Тютчева являются исключительными по своему правописанию. Если и остальные члены Общества соединенных славян не отличались особенной грамотностью, то Тютчев превзошёл их всех: им совершенно не соблюдались правила орфографии, а каждое слово писалось согласно его собственному произношению..."
"...и за месяцъ даетава уехалъ в отпускъ Къ Маему балному семидисити летниму старику ацу ит матири па приездежа маемъ въ пензинскай полкъ правился въ отпускъ въ ацтавку..."
"въ праездъ Гасударя инъператара черезъ брянскъ атецъ Мой прасилъ Генерала атютанта дибичя апиреводе меня въ другой полкъ дабы нахадица ближа аца, въ Чем ево привасхадитилства и дали Слова пирвести..."
"Тутъ я имъ и абявилъ Что Меня вавлекли таиная опщества пад названиямъ славянъ, Как бестужавъ, так и муравевъ Стали Спрашиватъ Какая целъ Сево апщества я имъ сказалъ дастижения революцы и уництажения законавъ, безътужавъ прасилъ Меня пазнакомитъ Скемъ нибуть принадлежащему сему опщаству..."
"Апчемъ онъ Хателъ уведамитъ Старшыхъ Членавъ называимыми акрузными начялниками уведамили онъ или нетъ мне сиво неизвесна, и спиридавъ мне нигаварылъ при выхади изъ Лагиря Спиридавъ Сказалъ мне и громницкаму что мы назначины бестужывымъ, въ Жаговорщики но въ Чемъ Сей загаворъ Састаялъ ни чево нисказалъ. И патвердилъ иминимъ бестужывымъ Что бы мы старалисъ приниматъ болшы загаворщикавъ незали Членавъ Но мною сие небыла исполнана папричыни той что я не былъ распалажонъ къ дестваваню, и па вазвращении излагирей на Квартеры ни загаворщикавъ ни Членавъ никаво непринилъ".
"бестужавъ прасилъ всехъ насъ чтобы какъ можна болшы стараца приниматъ членавъ нидаволныхъ правителствамъ Ипаперваму ево знаку воуражыца..."
Комментарии, как говорится, излишни...
Отнесённый по степени "вины" ко второму разряду, Тютчев подлежал "политической смерти", что по ритуалу казни означало: "положить голову на плаху, переломить над ней шпагу, а потом сослать навечно в каторжную работу". В приговоре Верховного уголовного суда по делу декабристов указывалось:
"Капитан Тютчев. Участвовал в умысле на цареубийство согласием; участвовал в умысле бунта возбуждением и подготовкой нижних чинов и знал о приготовлении к мятежу..."
Коронационный манифест царя коснулся и "государственных преступников" второго разряда. "По лишении чинов и дворянства" они направлялись на каторжные работы (срок ограничивался 15 годами) и затем в бессрочную ссылку в Сибирь.
До нас дошло описание примет бывшего капитана Тютчева, составленное 15 августа 1826 г.: рост 164 см, "лицо смугловатое, круглое, глаза тёмно-карие, нос большой, широковат, волосы на голове и бровях тёмно-русые".
После объявления приговора 17 августа 1826 г. Алексей Иванович был отправлен в форт Слава близ Роченсальма (Финляндия), где находился около полугода в одиночном тюремном заключении, которое по признанию самих декабристов, было много хуже каторги.
От родных приходили неутешительные вести. Материальное положение Тютчевых всё ухудшалось. Имение, приносящее в урожайные годы до 6 тчсяч рублей, было заложено в петербургском и московском опекунском советах в 53 600 рублей.
По случаю выбития в 1825 г. хлеба градом Тютчевы не смогли выплатить установленные проценты, и имение взяли в ведение дворянской опеки. Глава семейства показывал, что должен ещё частным лицам свыше 62 тысяч рублей.
Старики не могли помочь даже младшему сыну Фёдору, который в июле 1826 г. приезжал домой. Его из юнкеров произвели в прапорщики и перевели в Казанский драгунский полк. Фёдор просил у родителей денежного пособия для "скорейшего себя обмундирования".
Мария Алексеевна была совершенно убита тем, что приходится отказывать в помощи только что становящемуся на ноги сыну. Бедная, исстрадавшаяся женщина "вместо денег дала ему несколько столового серебра и шаль для продажи".
Бедность родных, ощущение собственного бессилия что-либо изменить, неопределённость положения заточённого в крепость старшего брата, стыд перед новыми однополчанами из-за невозможности вовремя экирироваться - всё это так подействовало на Фёдора Тютчева, что он психически заболел.
24 декабря 1827 г. А.И. Тютчева доставили в Читинский острог, а в сентябре 1830 г. в тюрьму при Петровском железоделательном заводе. Он жил в одной камере с Андреем Быстрицким, участником восстания Черниговского полка.
Как ни тяжело было содержание заключённых в Петровском остроге (вначале все камеры были даже без окон), всё же наличие под одной крышей большого количества единомышленников во многом скрашивало тюремные будни. Каждый из декабристов делился с товарищами по заключению своими обширными познаниями по тому или иному вопросу. Не стоит забывать, что широко и разносторонне образованные в основной своей массе декабристы, представляли собой цвет нации. А у Тютчева, кстати, появилась возможность исправить свой "хромавший" русский язык.
В "Петровской академии" (так тюрьму называли сами декабристы) проходили задушевные беседы о прошлом и настоящем России, отечественной словесности, военной науке, математике и других отраслях знаний. Составленная с помощью родных и знакомых библиотека насчитывала несколько десятков тысяч книг и журналов. В свободное время декабристы организовывали литературные и музыкальные вечера, в проведение которых Алексей Иванович вносил ощутимый вклад.
Находясь в Петровском, декабристы ежегодно отмечали "торжественный святой день 14 декабря". Восстанию мятежного Черниговского полка Михаил Бестужев посвятил песню, которая начиналась так:
Что ни ветр шумит во сыром бору,
Муравьёв идёт на кровавый пир...
С ним черниговцы идут грудью стать,
Сложить голову за Россию-мать...
Музыку к ней написал Фёдор Вадковский.
14 декабря 1830 г. эту песню, наполненную революционным пафосом и уверенностью в правоте своего дела, исполнил хор под управлением Петра Свистунова. Солировал Тютчев, обладавший, по замечанию автра песни, "таким мягким, таким сладостным тембром голоса, которого невозможно было слушать без душевного волнения в русских песнях". Песня захватила всех, восторг был необычайный.
В этом же году Алексея Ивановича поразило известие о смерти отца, влачившего почти нищенское существование, залезшего в неоплатные долги. Уцелевшие имения были разделены между тремя братьями Тютчевыми - Михаилом, Фёдором и Иваном. Они довольно быстро их прожили, поэтому на помощь родных Алексею Ивановичу не приходилось расчитывать.
В день десятилетней годовщины восстания, 14 декабря 1835 г., в тюрьме Петровского завода состоялось первое исполнение стихотворения Александра Одоевского "Славянские девы", положенного на музыку Ф.Ф. Вадковским. Проникнутое чувством братского единения славянских народов, стихотворение отразило некоторые из идей Общества соединённых славян и интерес декабристов к польскому национально-освободительному движению.
Широко льющаяся мелодия Вадковского перекликалась с народно-песенными интонациями. Вокальная партия была сложна для исполнителя. Тютчев жаловался Михаилу Бестужеву: "Злодей Вадковский измучил меня, mon cher! Вытягивай ему каждую нотку до последней тонкости, как она у него написана на бумаге..."
"Премьера" песни Вадковского прошла успешно, она не могла не взволновать слушателей. "В последнем куплете, - вспоминал Михаил Бестужев, - где речь относится прямо к России и где Вадковский неприметными оттенкам гармонии переходит в чисто русский мир и заканчивает мотивом русской песни, - все присутствующие невольно встрепенулись, а особливо, когда послышался в этом куплете упоительно задушевный голос Тютчева..."
В словах этого куплета заключался, по выражению Ивана Пущина, "отголосок нашей мечты" о том, что Россия соединит в дружную семью всех славянских сестёр:
...когда же сольются потоки
В реку одну, как источник один?
Да потечёт сей поток-исполин,
Ясный как небо, как море широкий,
И, увлажая полмира собой,
Землю украсит могучей красой!
По окончании срока каторжных работ (указ от 14.12.1835) А.И. Тютчев был обращён на вечное поселение в с. Курагино Минусинского округа Енисейской губении. Декабрист Н.В. Басаргин вспоминал: "Наконец наступил и наш срок к отъезду. Выехали из Петровского завода ровно через десять лет после сентенции, т.е. в июле 1836 г. В нашем разряде находилось 19 человек и в числе их Киреев, Тютчев, Фролов и я".
По сообщению, записанном около 1925 года минусинским педагогом и краеведом А. Косовановым (внуком воспитанницы декабриста Фролова), Алексей Иванович Тютчев пользовался у местного населения любовью и уважением. "Он учил детей деревенских грамоте, писал крестьянам прошения и письма; по судебным делам своих сельских клиентов приезжал иногда в Минусинск, где посещал своих товарищей-декабристов. Любил рыбную ловлю и особенно охоту, бродя с ружьём по островам реки Тубы. Старожилы говорили, что он был замечательным стрелком, стрелял из окна своего дома в табуны (стаи) летящих гусей, и что всегда выбивал по несколько гусей. В обществе всегда бывал желанным гостем, весёлым собеседником, юмористом, прекрасным рассказчиком анекдотов из придворной жизни и отличным певцом. Песни Тютчева ещё на каторге утешали многих товарищей и вызывали настоящий восторг. Особенно хорошо пел Алексей Иванович народные песни и чаще всего песню на стихи М.А. Бестужева "Что не ветер шумит во сыром бору..."
В Курагино гражданской женой декабриста стала Анна (по другим сведениям - Евдокия) Петровна Жибинова, дочь местных зажиточных крестьян Жибиновых. В семье было четверо детей (по другим данным, пятеро или даже шестеро - может быть, кто-то из детей умер). Все источники сходятся в том, что сама Анна Жибинова и всё её семейство страдали запойным алкоголизмом и в конечном итоге споили и Тютчева. После его смерти семейство осталось в нищете. "Пока жили молодые в доме её братьев, - пишет А. Косованов, - то вели совместное хозяйство. С появлением детей приобрели отдельный свой домик. И с этого момента сельским хозяйством декабрист почти никак не занимался, живя на казённое пособие и средства, присылаемые ему сестрой Бердяевой Варварой Ивановной из Петергофа. Других определённых занятий у Тютчева не было, поскольку в Курагино отсутствовали какие-либо казённые службы, если не считать в пределах волости золотых приисков, на которые в то время было много охотников из селян и пришлых людей. В связи с чем продукты в Курагино были значительно дороже. Только по этой одной причине, а так же по сырому таёжному воздуху Н.О. Мозгалевский, а вместе с ним и Тютчев, пишут прошение 9 марта 1837 г. о переводе в Минусинск. Им разрешают, но только в деревню Тесинскую, откуда Тютчев вскоре возвращается обратно в Курагино".
Скончался Алексей Иванович Тютчев, 24 января 1856 г. от "горячки", 54 лет от роду и погребён в ограде Курагинской церкви, против южных дверей. На сохранившейся его могиле в апреле 1995 г. был установлен памятник, выполненный скульптором А.Х. Абдрахимовым. Одна из улиц села Курагино названа именем Тютчева.
В заключение о семье Алексея Ивановича:
"Декабрист И.В. Киреев, в 1857 году писал руководителю "Малой артели" И.И. Пущину: "Дети покойного… остались, по-русски сказать, - ни кола ни двора. Покойный ничего не скопил и ничего не оставил для них. ..". Так как вдове Тютчева нельзя было доверять деньги, руководители "Малой артели" решили посылать их Кирееву. О получении денег он извещал Пущина: "Назначенные вами 100 р. Серебром детям покойного А.И. Тютчева я передал в распоряжение княгини Костровой *, которая по родству своему с покойным принимала всегда деятельное участие в нём и в семье его. После смерти А.И. откупили семейству домик, со всеми принадлежностями: коров и лошадей, так что Ваше пособие довершит их хозяйство". Было решено из предназначенного семье артельного пая "откладывать каждый год несколько для составления небольшого капитала": из каждой сотни рублей выдавать вдове и детям только половину, причём по частям – "это удержит детей и мать в разумных пределах".
* Княгиня Кострова, урождённая Бердяева – племянница А.И. Тютчева, её муж князь Костров был назначен Минусинским окружным начальником. Семья Костровых поддерживала отношения с Минусинской колонией декабристов и оказывала материальную помощь своему родственнику Тютчеву – однако, судя по всему, прямая материальная помощь этому семейству скорее была во вред, чем в пользу – деньги пропивались. Непонятно, почему Костровы после смерти Тютчева не взяли хотя бы кого-то из его детей на воспитание – в то время как они же взяли на воспитание одну из дочерей покойного Мозгалевского. Может, вдова Тютчева не хотела отдавать детей – хотя судя по всему, детки ей тоже были не особенно нужны (комментарий биографа А.И. Тютчева - историка Р.Э. Добкач).
Далее мы имеем следующие сведения об этом семействе, записанные А. Косовановым в 1925 г.:
"Костровы перевелись в Томск, минусинские декабристы выехали на родину, и семья Тютчевых стала бедствовать. Сын Тютчева Пётр, купаясь в Тубе, утонул, и это окончательно сломило душевное равновесие Евдокии Петровны, - она сходила с ума, покидала дом на произвол судьбы, и вскоре умерла. Рукописи, документы, фотографии, карточки и некоторые вещи декабриста в это время были растащены. Дочь Анна 12 мая 1868 г. вышла замуж за тюменского приказчика Александра Васильева и уехала с ним в Западную Сибирь. Другая дочь Мария вышла за крестьянина деревни Пойловой Минусинского уезда и недавно умерла. В настоящее время в с. Курагинском живёт родной сын Тютчева, Алексей Алексеевич, 72 лет. Оставшись от отца 4-х лет он, конечно, ничего почти не помнит и передаёт рассказы об отце со слов родственников знакомых. Это рядовой крестьянин с. Курагинского, землероб, и по развитию ничем не отличается от своих сельчан. Горькое детство ему выпало на долю: после смерти отца ему пришлось в качестве батрака ходить по чужим людям. В настоящее время он живёт в семье сына, имея уже 16-летнего внука и исполняет лёгкие работы в крестьянском хозяйстве".
И ещё одна архивная справка: Жибинов (Тютчев) Илья Алексеевич, 1872 г.р., русский, уроженец и житель с. Курагино Курагинского р-на Красноярского края, внук декабриста Тютчева. Лишён избирательных прав, раскулачен, в 1930 г., с семьёй: жена Саломея Тимофеевна 1876 г.р., дочь Анастасия 1915 г.р., отец Жибинов (Тютчев) Алексей Алексеевич, 1852 г.р., выслан в Енисейск. Восстановлен в правах в 1936 г.
Метки: декабристы тютчевы династии россии |
Никита Кирсанов. "Декабрист Семён Раич". |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
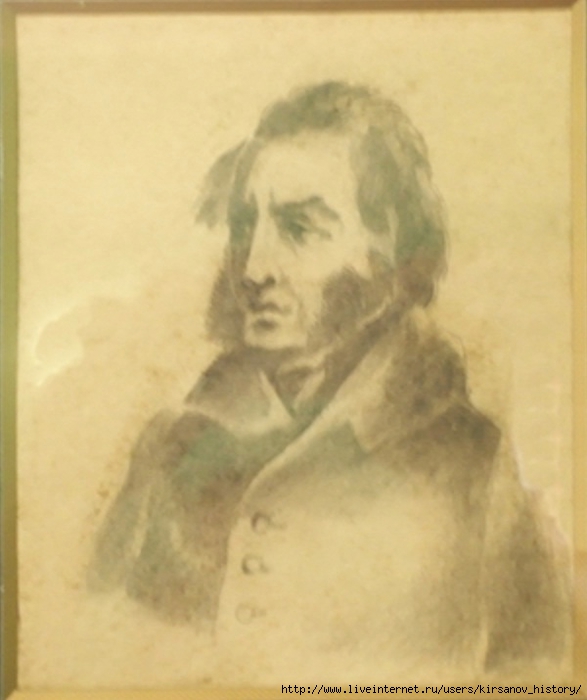
Портрет Семёна Егоровича Раича. Рисунок М.Ю. Лермонтова. 1830-е гг.
На протяжении своей насыщенной нелёгким трудом жизни поэт-декабрист, педагог и издатель Семён Егорович Раич не один раз круто менял её неспокойное течение. Делал он это мужественно и уверенно, оставаясь при любых обстоятельствах верным своему призванию и главной цели жизни.
Родился Семён Егорович 15 сентября 1792 г. в кромском селе Высокое, живописно расположенном на реке Свапе, разделявшей Орловскую и Курскую губернии (ныне Троснянского района Орловской области). В семье священника местной Покровской церкви Егора Никитича Амфитеатрова он был четвёртым сыном. Один из его старших братьев стал известным митрополитом Киевским и Галицким Филаретом (17.04.1779-21.12.1857).
Трудно судить, почему Семён Амфитеатров в годы учёбы в Московском университете принял новую фамилию - Раич. В истории известно имя сербского писателя XVIII в. И. Раича, учившегося одно время в Киеве и Москве. Имя архимандрита Раича, издавшего в 1798 г. славено-сербскую трагедию Козачинского, отмечено на страницах дневника В.К. Кюхельбекера. Скорее всего, будущий поэт-декабрист, порвав с предназначенной ему карьерой духовного пастыря, выбрал себе одновременно фамилию и литературный псевдоним.
"Начатками учения, - отмечал Семён Егорович, - обязан я матери моей, женщине необыкновенно кроткой и образованной, по тогдашнему времени, выше своего состояния: ей знакома была грамота". От отца он унаследовал "пристрастие к пчёлам и садам", пригодившееся ему, в частности, при переводе "Георгик" Вергилия.
Как об одном из самых ярких впечатлений детства Семён Егорович вспоминал о родной природе. "Я помню и как теперь вижу, - писал он в автобиографии, - тот высокий, таинственный дуб, который часто в летнее время надолго приковывал к себе моё внимание, мои думы; одинокий, сиротливый, он стоял на холме, среди открытого поля, далеко, далеко за рекою..."
Лишившись матери в семилетнем возрасте, мальчик через три года был отправлен в Орловскую духовную семинарию. По времени это совпало с назначением ректором семинарии его старшего брата Филарета.
Открытая в 1778 г. Орловская духовная семинария в течение полувека находилась в уездном городе Севске. Ещё в 1783 г. русский просветитель Н.И. Новиков "выписал" двух "надёжнейших" её учеников для обучения переплётному мастерству. В следующем году соратник Новикова И.В. Лопухин, издал в собственной типографии брошюру "Торжество севских муз". В городе имелась книжная лавка - для уездного центра по тому времени большая редкость.
Большую роль в пробуждении любви к наукам и в развитии у Раича "чувства эстетического" сыграли преподаватели Я. Сильвестров и И. Фавицкий. Будучи, по определению Ф.И. Тютчева, "младенцем пылким и живым", он рано приобщился к поэзии. На его первые поэтические опыты заметное воздействие оказало творчество Г.Р. Державина и И.И. Дмитриева.
Известно, какие препятствия в ранние годы преодолевал А.М. Горький, чтобы можно было лунной ночью или при свете огарка свечи тайком читать западавшие в душу книги. Нечто подобное происходило и с семинаристом Раичем. Одно время он страдал лихорадкою, доводившею его до изнеможения. Поэтому ему запретили заниматься стихотворством, которому мальчик уделял большую часть досуга. Ректор Филарет, у которого тот жил, поручил одному из студентов присматривать за братом.
"К какой же хитрости прибегал я в тесных обстоятельствах? - вспоминал на склоне жизни Семён Егорович. - Бывало, только что все в доме (и мой Аргус) уснут, я зажгу свечу, напишу десятка два стихов, раза два прочту их, вздохну
И чад моей мечты дрожащею рукою
На жертву принесу не Музам, а Вулкану..."
Так ещё в отроческие годы пробудилась у Раича одна из замечательных черт его характера - настойчивость в достижении поставленной цели.
С ещё большей силой проявилась она в год окончания семинарии, когда он дерзновенно свернул с уготованного ему пути. Жажда знаний и, говоря его словами, "непреоборимое желание удовлетворить требованиям духа, наперекор всем препятствиям", влекли Семёна Раича в Москву, в университет.
Чтобы в начале XIX века оставить духовное звание, недостаточно было одного желания и решимости. Требовалась весомая причина, как-то: неспособность к наукам, неисправимая лень, безнравственность и неизлечимая болезнь. В сознании многих не укладывалась мысль, как выходец из семьи священника, один из лучших выпускников семинарии мог добиваться перевода из духовного в светское звание. "Какой бы Вы были со временем архиерей! Какие бы Вы писали проповеди", - сокрушённо говорил ему новый ректор семинарии.
Так как Раич временами страдал от лихорадки, он и сослался на болезнь как на главную причину. Ему предписали пройти медицинское освидетельствование в Орловской Врачебной Управе, член которой штаб-лекарь Суходольский, прежде преподававший в семинарии медицину, объявил Раича "неспособным по болезни к духовному званию".
Позже Семён Егорович писал: Я с содроганием вспоминаю о тех мытарствах, через которые суждено было мне пройти от Севска до Рузы, где был я... канцеляристом Земского суда, - от Рузы до Москвы и до университета, до кандидатства!"
Добившись долгожданного права самому определять свою судьбу, Раич не сразу стал волен в своих поступках. Поступление в Московский университет отодвигалось из материальных соображений. Отец, вырастивший кучу детей, ничего не мог дать сыну на дорогу, кроме родительского благословения. Это прекрасно понимал Семён. Чтобы пользоваться "квартирою и столом", он в течение двух последних лет исполнял должность инспектора над семидесятью малолетними учениками семинарии.
"Мне как будто на роду написано было целую жизнь учиться и учить", - справедливо заметил о себе Семён Егорович. И в самом деле, ещё в Высоком, до поступления в семинарию, он безвозмездно выучил грамоте одного своего ровесника. Сразу же по окончании курса наук его пригласил один орловский помещик для обучения детей. Вскоре Раич поступил домашним учителем к Н.Н. Шереметевой, в её подмосковное село Покровское.
В огромном деревянном доме, окружённом большим столетним садом и рощей, спускающейся к реке, царила непринуждённая обстановка. Хозяева не были типичными для своего времени помещиками, в их имении не наблюдалось жестоких крепостнических сцен. Раич по достоинству оценил их театр с крепостной труппой, оркестр и певчих.
Он давал уроки сыну Шереметевых, Алексею, будущему члену Союза благоденствия, и двум их дочерям, младшая из которых позже станет женой декабриста И.Д. Якушкина. Молодой педагог страстно влюбился в красавицу Настю, дворовую девушку Шереметевых, получившую в Москве музыкальное образование, предлагал ей руку и сердце, но та не решилась выйти за него замуж.
Волею обстоятельств не став участником Отечественной войны 1812 г., Раич после кратковременного пребывания в Угличе и Ярославле перебрался в брянскую деревню Шереметевой, а затем обосновался в семье её родного брата И.Н. Тютчева. Так в селе Овстуг Орловской губернии сошлись жизненные пути поэта и декабриста Раича и его девятилетнего ученика Фёдора Тютчева, ставшего впоследствии мастером философской, любовной и пейзажной лирики.
"Необыкновенные дарования и страсть к просвещению милого воспитанника изумляли и утешали меня, - вспоминал Раич, - года через три он уже был не учеником, а товарищем моим, - так быстро развивался его любознательный и восприимчивый ум!" Большое влияние на развитие литературно-философских интересов и таланта Тютчева Раич оказывал и в дальнейшем.
Усиленно занимаясь самообразованием, он в 1815 г. поступил слушателем в Московский университет и через полгода выдержал экзамен на степень кандидата юридического факультета. Но утверждён был в этом звании в начале 1818 г. Вернувшись в дом Тютчевых, Раич подготовил своего младшего друга к поступлению в университет. Вместе с ним он посещал частные лекции поэта А.Ф. Мерзлякова и других московских профессоров-словесников.
На это время приходится участие С.Е. Раича в Обществе громкого смеха, учреждённом им и его университетскими друзьями в подражание популярному литературному обществу "Арзамас". Избранный в 1818 г. председателем студенческого общества член Союза благоденствия Ф.П. Шаховской привлёк к его работе своих товарищей по борьбе с самодержавием М.А. Фонвизина и А.Н. Муравьёва. Однако из их попытки преобразовать литературное общество в тайную политическую организацию ничего не вышло. Тем не менее зимой 1818-1819 г. наиболее подготовленные члены Общества громкого смеха С.Е. Раич и М.А. Волков были приняты в Союз благоденствия. Не исключено, что Раича рекомендовал секретарь этой организации С.М. Семёнов, бывший питомец Орловской семинарии.
Желание блага России, стремление видеть её народ свободным от крепостнических пут определили дальнейшую судьбу Раича. Для достижения конечной цели - ликвидации самодержавия и крепостного рабства - каждый член Союза благоденствия должен был определиться в одну из его четырёх "главных отраслей", предполагающих практическое воплощение обширной программы декабристов. Вся последующая литературная, издательская и педагогическая деятельность Семёна Раича подтверждает, что он навсегда остался верен той "отрасли" Союза благоденствия, которая получила название "образование".
Она предусматривала воздействовать в нужном направлении на "общественное мнение" путём повсеместного "водворения" истинного просвещения. Для этого признавались полезными все способы: поддержка всех обществ, заботящихся о нравственности и распространении знаний в народе, воспитании у юношества чувства национального достоинства, издание "повременных сочинений", содействующих познанию отечества и соответствующих образовательному уровню читателей различных сословий; литературная критика и переводы полезных иностранных произведений.
Как-то в разговоре с Раичем один из преподавателей французской литературы заявил, что поэму древнеримского поэта Вергилия "Георгики", удачно переведённую французским поэтом Делилем, на русский язык перевести невозможно. "Я вступился за честь родины и её слова, - признавался Семён Егорович, - и, вместо бесплодного словопрения, принялся за дело, за перевод Вергилиевых "Георгик".
После выхода в свет этого перевода отдельным изданием к Раичу пришла известность. Писатель-декабрист А.А. Бестужев в одной из статей писал: "Переводы Раича Вергилиевых "Георгик" достойны венка хвалы за близость к оригиналу и за верный звонкий язык..."Маститый поэт И.И. Дмитриев рекомендовал "Георгики" в переводе Раича вниманию Российской Академии, которая удостоила его серебряной медали.
В 1822 г. за "Рассуждение о дидактической поэзии", первоначально опубликованное в виде предисловия к переводу "Георгик", Раичу присвоили учёную степень магистра словесных наук. В стихотворении, обращённом к своему наставнику, Ф.И. Тютчев отметил:
Ум скор и сметлив, верен глаз,
Воображенье - быстро...
А спорил в жизни только раз -
На диспуте магистра.
Большую известность получили переводы Раича поэм "Освобождённый Иерусалим" Т. Тассо и "Неистовый Роланд" Л. Ариосто, выходившие отдельными книгами в конце 1820-х и в середине 1830-х гг.
В историю отечественной литературы вошло Общество друзей, председателем которого в 1822 г. становится С.Е. Раич. В него входили видные литераторы и историки Ф.И. Тютчев, В.Ф. Одоевский, А.И. Писарев, М.П. Погодин, С.П. Шевырёв, А.Н. Муравьёв, Д.П. Ознобишин и другие. Итогом работы этого литературного общества, называемого ещё "Кружком Раича", явился изданный поэтом в 1823 г. интересный альманах "Новые Аониды". На заседаниях кружка бывал поэт П.А. Вяземский, с которым Семён Егорович поделился замыслом издавать новый журнал. "Более всего ожидаю проку от журнала Раича, если позволят ему издавать его", - сообщал Вяземский в одном из писем.
Как член Московской управы Союза благоденствия "сочинитель Раич" привлекался к следствию по делу декабристов. Сведения о нём Следственный комитет запрашивал у Пестеля, Рылеева и Никиты Муравьёва. Выяснилось, что после распада Союза благоденствия в 1821 г. Семён Егорович не проявлял заметной политической активности. В "Алфавите членам бывших злоумышленных обществ", составленном для Николая I, отмечалось, что член Союза благоденствия Раич "не участвовал в тайных обществах, возникших с 1821 года". Поэтому он был "оставлен без внимания".
В середине 1820-х гг. Семён Егорович находился в зените славы. "Раич - один литератор в Москве, скажу смело", - утверждал Вяземский. Его произведения включались в различные сборники и антологии "образцовых русских сочинений и переводов в стихах", помещались в различных периодических изданиях рядом со стихотворениями Жуковского, Пушкина, Вяземского, Козлова. Поэт и переводчик Раич был представлен также в альманахах "Полярная звезда" и "Мнемозина", издаваемых декабристами Рылеевым, Бестужевым и Кюхельбекером.
Для поэзии Раича характерны ритмическое разнообразие, чистота языка, плавность и благозвучие. Положенные на музыку, его стихотворения становились песнями, из которых наиболее известны "Друзьям" ("Не дивитесь, друзья..."), "Перекати-поле", "Грусть на пиру", "Соловью", "Посетитель Чёрного моря". Он является автором песни "Крамбамбули", приписываемой ранее поэту Н. Языкову.
Заслуженным признанием Семён Раич пользовался и как педагог. Он учительствовал во многих частных домах. Среди его воспитанников, кроме поэта Тютчева и декабриста Алексея Шереметева, были поэт и прозаик Андрей Николаевич Муравьёв, брат декабристов А.Н., М.Н. и Н.Н. Муравьёвых и писательница Евгения Тур (псевдоним Елизаветы Васильевны Салиас-де-Турнемир), сестра драматурга А.В. Сухово-Кобылина.
Магистр словесных наук С.Е. Раич преподавал в Московском униварситетском благородном пансионе, Лазаревском институте восточных языков и в других учебных заведениях. Он гордился тем, что под его руководством "вступили на литературное поприще" историк и фельетонист В.М. Строев, поэты Н.И. Колачевский, Л.А. Якубович и, конечно же, великий М.Ю. Лермонтов.
Вспоминая о том времени, Семён Егорович писал: "Соображаясь с письменным уставом В.А. Жуковского, открыл я для воспитанников Благородного пансиона Общество любителей российской словесности; каждую неделю, по субботам, собирались они в одном из куполов, служившем моею комнатою и пансионскою библиотекою. Здесь читались и обсуждались сочинения и переводы молодых словесников, каждый месяц происходили торжественные собрания в присутствии попечителя университета А.А. Писарева... в собрании читались предварительно одобренные переводы и сочинения воспитанников, разборы образцовых произведений отечественной словесности".
В 1830-е гг. Раич становится секретарём Московского общества российской словесности. Кроме того, он был действительным членом петербургского и казанского общества любителей отечественной словесности.
Издательская деятельность поэта-декабриста ознаменовалась выпуском нескольких литературных альманахов и журнала "Галатея". Заметным явлением в литературе того времени стал альманах "Северная лира на 1827 год", подготовленный Раичем вместе с его другом литератором Дмитрием Петровичем Ознобишиным, бывшим членом Общества друзей. В рецензии на "Северную лиру" А.С. Пушкин отмечал: "Альманахи сделались представителями нашей словесности. По ним со временем станут судить о её движении и успехах. Несколько приятных стихотворений, любопытные прозаические переводы с восточных языков, имя Баратынского, Вяземского ручаются за успех "Северной лиры", первенца московских альманахов".
В 1829 г. Семён Егорович приступил к изданию еженедельного журнала "Галатея", имевшего подзаголовок: "Журнал наук, искусств, литературы, новостей и мод". В нём были напечатаны некоторые стихотворения Баратынского, Жуковского, Вяземского, Фёдора Глинки.
В 15-ти номерах журнала публиковались тютчевские произведения и первым из них - знаменитая "Весенняя гроза" в первоначальном трёхстрофном варианте. На страницах "Галатеи" часто помещались лирические стихотворения ссыльного поэта Александра Полежаева, в том числе и часть произведений "тюремного цикла". Печатались они под псевдонимами "А.П.", "ъ. ъ" и другими, но читатели - в первую очередь университетская молодёжь - хорошо знала, кто их автор, и горячо сочувствовала его изгнаннической доле. В журнале Раича впервые было опубликовано одно из лучших стихотворений Полежаева "Песнь пленного ирокезца", положенное на музыку Огарёвым и использованное для арии в опере Мусогргского "Саламбо".
В "Галатее" поместил два стихотворения А.С. Пушкин - "Ел. Н. Ушаковой" ("Вы избалованы природой...") и "Цветок". Семён Егорович познакомился с поэтом в 1823 г. в Одессе, а затем не раз встречался с ним в Москве. В октябре 1826 г. Раич присутствовал на авторском чтении "Бориса Годунова".
В подробном разборе этой пушкинской пьесы, напечатанном в "Галатее" без подписи, большое внимание уделено заключительной ремарке: "В этом "народ безмолвствует" таится глубокая политическая и нравственная мысль: при всяком великом общественном перевороте народ служит ступенью для властолюбцев-аристократов... он слепо доверяется тем, которые выше его и в умственном и в политическом отношении; но увидевши, что доверенность его употребляют во зло, он безмолвствует от ужаса, от сознания зла, которому прежде бессознательно содействовал..." В своих "Воспоминаниях о Пушкине" Раич называл его "выразителем чувств и дум русского народа".
В годы реакции, наступившей в стране после поражения декабристов, Семён Егорович проявил гражданское мужество, напечатав произведение ссыльного декабриста А.А. Бестужева-Марлинского. Вторую главу его повести в стихах "Андрей, князь Переяславский" Раич издал приложением к 42-му номеру "Галатеи" за 1830 г. В примечании он отметил, что это "прекрасное по многим отношениям стихотворение, присланное от неизвестного, вознаградит подписчиков".
Намёк на мучительную казнь пятерых декабристов, чьи тела самодержец распорядился тайком зарыть на песчаном острове, содержится в стихотворении "Раздумье", опубликованном в 1829 г. в "Галатее":
И я не раз видал трофеи волн седых,
Разданны паруса и веслы раздробленны,
И кости - на песке лежат не погребенны,
И сирые кругом блуждают тени их...
Оно подписано буквой "Р" с пометой: "С италианского", сделанной, видимо, из цензурных соображений. Есть все основания считать автором этого стихотворения самого издателя, так как "Р" - один из распространённых псевдонимов Раича, в течение многих лет, как известно, переводившего великих итальянских поэтов Вергилия, Ариосто и Тассо.
В своём журнале "Галатея" Семён Егорович искал пути "органического соединения газетной оперативности и основательной и разнообразной журнальной содержательности". Журнал, сыгравший определённую роль в литературном процессе того времени, выходил в 1829-1830 гг. (он был возобновлён после значительного перерыва, в 1839-1840-е гг.).
Издание "Галатеи" было связано также с предполагаемой женитьбой Раича, давно мечтавшего о "прочном семейном счастии". В своей автобиографии Семён Егорович сообщал: "Решившись вступить в брак с особою, избранною сердцем, а не расчётом, не слепою корыстью, я счёл нужным предварительно обзавестись маленьким хозяйством, потому что ни у меня, ни у суженой моей не было, как говорится, ни ложки, ни плошки".
Собственный дом Раича с крохотным садом, купленный не без помощи старшего брата, находился в Протопоповском переулке. Небольшой кабинет Семёна Егоровича, по отзыву одного из современников, "радовал своею уютностью и чистотою, небольшая, но избранная библиотека заключала в себе лучших русских, латинских и итальянских авторов; в зале стоял рояль для детей его, на окне - Эолова арфа, к унылым звукам которой любил он прислушиваться, когда в отворенное окно играл на ней ветер".
В этот дом привёл Раич в феврале 1829 г. девятнадцатилетнюю Терезу Андреевну Ольвье, которая стала его женой. Через четыре года она с помощью мужа открыла в Москве пансион для девиц, приносивший немалый доход. В это время выходят в свет две первые книги раичевского перевода "Неистового Роланда". Большую отраду приносили дети, их было пятеро - Лидия, Вадим (8.04.1836-7.11.1907), Поликсена, Надежда (12.09.1842-5.03.1903) и Софья (1846 - после 1913). Но семейное счастье оказалось недолговечным: неожиданно, в 1847 г., скончалась Тереза Андреевна. Смерть "жены умной, образованной, просвещённой, любящей" оставила, по словам Семёна Егоровича, в его "охладевшем ко всему сердце" ничем не восполнимую пустоту.
В последние годы жизни Раич сотрудничал в журнале "Москвитянин", издававшемся историком и беллетристом М.П. Погодиным, некогда входившим в Общество друзей. В 1849 г. в Москве выходит отдельным изданием поэма Раича "Арета. Сказание из времени Марка Аврелия". В ней нашла отражение связь личной судьбы автора с декабристским движением - темой, верным которой он оставался всегда.
По определённым дням в доме Раича собирался кружок родственных по духу людей - поэт-декабрист Ф.Н. Глинка, с семьёй которого хозяин поддерживал дружеские отношения, молодые собратья по перу М.А. Дмитриев и Ф.Б. Миллер, преподаватель училища живописи, ваяния и зодчества, художник К.И. Рабус, скульптор Н.А. Рамазанов. "Беседы Раича, оживляемые его светлым умом, его приятным остроумием, - вспоминал поэт и переводчик Ф. Миллер, - остались глубоко запечатлёнными в моей памяти... Убелённый сединами, но юный душою, он любил окружать себя молодыми людьми, горячо сочувствовал всему прекрасному и благородному и радовался проявлению каждого таланта".
Скончался Семён Егорович тихо и незаметно в своём доме в Протопоповском переулке. "Московские ведомости" 25 октября 1855 г. сообщали: "23-го октября, в 4-м часу пополудни, скончался в Москве Семён Егорович Раич, человек, бывший свидетелем возникновения и возрастания незабвенного для нас Пушкина, учителем Лермонтова, знаток Латинской и Итальянской литературы, добросовестный переводчик Тассова "Освобождённого Иерусалима", Ариостова "Неистового Орланда" и Вергилиевых "Георгик". Все, знавшие покойного и любящие литературу, почтут память писателя, честно исполнившего свое дело. Отпевание тела покойного будет происходить в среду 26-го октября, в Набилковском заведении, что на 1-й Мещанской, а погребение на Пятницком кладбище".
Метки: декабристы раич династии россии |








