-Метки
альтернативная энергетика астральные путешествия береста бизнес войлоковаляние вышивка география ремесел ссылки дачные хитрости здоровье инструменты для вышивки информация на двд кейосаки книга "русский костюм" крещение курс раскрытия голоса лесная скульптура летние сплавы летний отдых мастер-класс медицина мобильные походные бани мыло ручной работы нарды народная кукла новогдняя история новогодние подарки новости обереги обучающие курсы обучающий курс плетение подарки хенд-мэйд подарки-почтой природные материалы продажа прялка для бисера психология путешествия резьба по дереву самопознание свечи ручной работы славянские боги советы и хитрости сплавы странник техника изготовления турагенства туризм туристам яхонтовый
-Я - фотограф
Фото к статье "Делаем компас своими руками"
-Поиск по дневнику
-Подписка по e-mail
-Статистика
Думай и Делай. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом! Ведь ты - Человек, ты смел, силен и разумен. Ты- дитя Бога. Движение - двигатель Жизни.
Олимпиады выигрывают не за деньги |
http://sport.km.ru/olimpiady_vyigryvayut_ne_za_deng
Олимпиады выигрывают не за деньги
Сегодня в Ванкувере – седьмой день Паралимпийских игр. Сборная России уверенно лидирует в общекомандном зачете, завоевав 9 золотых медалей, 12 серебряных и 7 бронзовых. На втором месте – команда Германии (9-4-4). Третье место занимает сборная Канады (6-3-3), четвертое – Украины (4-5-6), пятое – Словакии (3-1-1). По общему числу наград (28) россияне также продолжают уверенно занимать первое место, опережая немцев (17), украинцев (15) и канадцев (12).
В шестой день российские паралимпийцы завоевали 5 медалей в лыжных гонках – 1 золото, 2 серебра и 2 бронзы. Четырехкратным паралимпийским чемпионом в Уистлере стал Ирек Зарипов, выигравший лыжную гонку на 10 км в категории «сидячих» спортсменов. Серебро завоевали Кирилл Михайлов на дистанции 10 км («стоячие» спортсмены) и Михалина Лысова на 5 км (категория слабовидящих атлетов). Бронза – в активе Николая Полухина и Татьяны Ильюченко (оба – слабовидящие).
Сегодня, 19 марта, в Уистлере на паралимпийских соревнованиях по горнолыжному спорту будут разыграны 6 комплектов наград в супергиганте. Среди слабовидящих атлетов россиянка Александра Францева выйдет на старт 8-й, Иван Францев – 12-м. В категории «стоячих» спортсменов Инга Медведева начнет соревнования 6-й, Александр Алябьев – 18-м.
Соревнования мужчин в супергиганте начнутся в 20:00 по московскому времени, женщины стартуют ориентировочно в 21:00. Заметим, что паралимпийская горнолыжная программа претерпела очередные существенные изменения. Из-за установившейся хорошей погоды организаторы решили провести оставшиеся соревнования за два дня. Таким образом, на сегодня запланированы старты во всех классах в супергиганте, на завтра – в суперкомбинации. Горнолыжный турнир на Паралимпиаде завершится на день раньше, чем было запланировано. Скорее всего, организаторы подстраховались, зарезервировав на случай непогоды один свободный день.
Под занавес Игр хочется сказать несколько теплых слов о российских спортсменах-инвалидах, которые продолжают отстаивать честь нашей страны на заснеженных просторах Ванкувера и Уистлера.
Еще свежи наши душевные раны от недавно завершившейся «большой» Олимпиады в Канаде, где сборная России, можно сказать, с треском провалилась, заняв худшее в отечественной истории 11-е место в общекомандном зачете.
Конечно, нельзя, да и не совсем корректно сравнивать два этих разных спортивных события, а про разницу в финансировании наших олимпийцев и паралимпийцев даже говорить смешно, но…
Попробуйте вспомнить, уважаемые болельщики, когда мы в последний раз так пристально следили за нашими паралимпийцами? А ведь они и на прошлой Олимпиаде в Турине-2006 выступили блестяще, победив с огромным отрывом. Но, увлеченные «настоящим, серьезным» спортом, мы, нередко походя, а то и с нескрываемой долей иронии относились к выступлениям людей с ограниченными возможностями. Забывая при этом, что для самих участников Паралимпийских игр это – целая жизнь, ничуть не менее серьезная и яркая, насыщенная драматизмом, страданиями и многогранными эмоциями. Они ведь тоже тренировались, работали все эти годы и готовились к своим, возможно, главным стартам в жизни. Мечтали о них…
И вот российские паралимпийцы на Играх в Ванкувере заставляют организаторов снова и снова включать гимн России, приветствуя наше очередное золото!
Нет сомнений, что российская сборная уверенно выиграет вторую Паралимпиаду подряд, оставив позади конкурентов из гораздо более благополучных с точки зрения отношения к инвалидам стран. И очень хочется, чтобы на этот раз о четырехкратном чемпионе Игр Иреке Зарипове узнали все без исключения болельщики, которые всегда так преданно поддерживали футболистов, хоккеистов и других олимпийцев.
Спортсмены, которые сейчас отстаивают честь нашей Родины в Канаде (а плюс к этому сражаются еще и со своими физическими недугами), как никто другой достойны уважения и почета.
Они, несмотря на свои ограниченные возможности, занимаются любимым делом – спортом. И выигрывают у всех! И не хочется сейчас даже вспоминать про сытые и самодовольные физиономии наших чиновников от спорта, которые резко «ушли в подполье» после недавнего грандиозного провала.
Сейчас на Паралимпийских играх перед нами – спорт в самых чистых и светлых его проявлениях. И люди, про которых сказал еще основоположник современных Олимпиад Пьер де Кубертен: «О спорт! Ты – жизнь!».
Торжественная церемония закрытия Х зимних Паралимпийских игр в Канаде состоится послезавтра, в воскресенье, 21 марта.
Справка KM.RU: Лучшим спортсменом марта в России уже признан лыжник и биатлонист Ирек Зарипов – четырехкратный олимпийский чемпион, выигравший на Паралимпиаде в Ванкувере в биатлонном пасьюте, индивидуальной гонке на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами и в лыжной гонке на 10 и 15 км среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Браво!
Юрий ЮДИН

Олимпиады выигрывают не за деньги
Сегодня в Ванкувере – седьмой день Паралимпийских игр. Сборная России уверенно лидирует в общекомандном зачете, завоевав 9 золотых медалей, 12 серебряных и 7 бронзовых. На втором месте – команда Германии (9-4-4). Третье место занимает сборная Канады (6-3-3), четвертое – Украины (4-5-6), пятое – Словакии (3-1-1). По общему числу наград (28) россияне также продолжают уверенно занимать первое место, опережая немцев (17), украинцев (15) и канадцев (12).
В шестой день российские паралимпийцы завоевали 5 медалей в лыжных гонках – 1 золото, 2 серебра и 2 бронзы. Четырехкратным паралимпийским чемпионом в Уистлере стал Ирек Зарипов, выигравший лыжную гонку на 10 км в категории «сидячих» спортсменов. Серебро завоевали Кирилл Михайлов на дистанции 10 км («стоячие» спортсмены) и Михалина Лысова на 5 км (категория слабовидящих атлетов). Бронза – в активе Николая Полухина и Татьяны Ильюченко (оба – слабовидящие).
Сегодня, 19 марта, в Уистлере на паралимпийских соревнованиях по горнолыжному спорту будут разыграны 6 комплектов наград в супергиганте. Среди слабовидящих атлетов россиянка Александра Францева выйдет на старт 8-й, Иван Францев – 12-м. В категории «стоячих» спортсменов Инга Медведева начнет соревнования 6-й, Александр Алябьев – 18-м.
Соревнования мужчин в супергиганте начнутся в 20:00 по московскому времени, женщины стартуют ориентировочно в 21:00. Заметим, что паралимпийская горнолыжная программа претерпела очередные существенные изменения. Из-за установившейся хорошей погоды организаторы решили провести оставшиеся соревнования за два дня. Таким образом, на сегодня запланированы старты во всех классах в супергиганте, на завтра – в суперкомбинации. Горнолыжный турнир на Паралимпиаде завершится на день раньше, чем было запланировано. Скорее всего, организаторы подстраховались, зарезервировав на случай непогоды один свободный день.
Под занавес Игр хочется сказать несколько теплых слов о российских спортсменах-инвалидах, которые продолжают отстаивать честь нашей страны на заснеженных просторах Ванкувера и Уистлера.
Еще свежи наши душевные раны от недавно завершившейся «большой» Олимпиады в Канаде, где сборная России, можно сказать, с треском провалилась, заняв худшее в отечественной истории 11-е место в общекомандном зачете.
Конечно, нельзя, да и не совсем корректно сравнивать два этих разных спортивных события, а про разницу в финансировании наших олимпийцев и паралимпийцев даже говорить смешно, но…
Попробуйте вспомнить, уважаемые болельщики, когда мы в последний раз так пристально следили за нашими паралимпийцами? А ведь они и на прошлой Олимпиаде в Турине-2006 выступили блестяще, победив с огромным отрывом. Но, увлеченные «настоящим, серьезным» спортом, мы, нередко походя, а то и с нескрываемой долей иронии относились к выступлениям людей с ограниченными возможностями. Забывая при этом, что для самих участников Паралимпийских игр это – целая жизнь, ничуть не менее серьезная и яркая, насыщенная драматизмом, страданиями и многогранными эмоциями. Они ведь тоже тренировались, работали все эти годы и готовились к своим, возможно, главным стартам в жизни. Мечтали о них…
И вот российские паралимпийцы на Играх в Ванкувере заставляют организаторов снова и снова включать гимн России, приветствуя наше очередное золото!
Нет сомнений, что российская сборная уверенно выиграет вторую Паралимпиаду подряд, оставив позади конкурентов из гораздо более благополучных с точки зрения отношения к инвалидам стран. И очень хочется, чтобы на этот раз о четырехкратном чемпионе Игр Иреке Зарипове узнали все без исключения болельщики, которые всегда так преданно поддерживали футболистов, хоккеистов и других олимпийцев.
Спортсмены, которые сейчас отстаивают честь нашей Родины в Канаде (а плюс к этому сражаются еще и со своими физическими недугами), как никто другой достойны уважения и почета.
Они, несмотря на свои ограниченные возможности, занимаются любимым делом – спортом. И выигрывают у всех! И не хочется сейчас даже вспоминать про сытые и самодовольные физиономии наших чиновников от спорта, которые резко «ушли в подполье» после недавнего грандиозного провала.
Сейчас на Паралимпийских играх перед нами – спорт в самых чистых и светлых его проявлениях. И люди, про которых сказал еще основоположник современных Олимпиад Пьер де Кубертен: «О спорт! Ты – жизнь!».
Торжественная церемония закрытия Х зимних Паралимпийских игр в Канаде состоится послезавтра, в воскресенье, 21 марта.
Справка KM.RU: Лучшим спортсменом марта в России уже признан лыжник и биатлонист Ирек Зарипов – четырехкратный олимпийский чемпион, выигравший на Паралимпиаде в Ванкувере в биатлонном пасьюте, индивидуальной гонке на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами и в лыжной гонке на 10 и 15 км среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Браво!
Юрий ЮДИН

|
Метки: паралимпийские игры |
альтернативное электричество |
Лужков нашел вонючие залежи электричества
Михаил Синельников
Он прям так и сказал: «Наши химики разработали ферментативные добавки, которые удваивают производство газа из этой «радости», а газ идет на производство электроэнергии. Перерабатывая твердый осадок канализационных стоков, мы получаем большое количество электричества».
Юрий Михайлович всегда знает, о чем говорить. Все это – явно от большого ума. Размах его изобретательства поражает воображение: от ультрасовременных пчелиных ульев и МКАД до… лекарства против рака. Да-да, Российское патентное бюро уже зарегистрировало «Фотосенсибилизатор для фотодинамической терапии». После перевода на человеческий язык становится понятно, что Лужков со товарищи (еще 11 ученых) придумали химический раствор («водорастворимое производное тетраазапорфириновых комплексов титанила»), который призван помочь при терапии злокачественных опухолей.
Под стать главному столичному Кулибину и его супруга – Елена Батурина. На пару они запатентовали три вида расстегаев, два типа кулебяк и два рецепта «пирожка полуоткрытого». И когда только успевают эти занятые люди осчастливливать нас все новыми и новыми открытиями? Наверное, это – любовь!
Любит Юрий Михайлович похимичить в Москве, не отнять у него этой слабости. Вот недавно градоначальник собирался «держать и не пущать» в столицу облака. Воздействовать на природу мэр предлагал с помощью все той же химии: обстреливать тучи частицами йодистого серебра, углекислоты и азота, которые разгоняли бы «вместилища осадков» на дальних подступах. Но что-то там не заладилось, несмотря на, безусловно, нестандартное мышление Лужкова.
А теперь он спустился с небес на землю (вернее, под оную), чтобы повернуть канализационные реки вспять и заставить их еще раз послужить человечеству, исторгая электричество. Естественно, Юрий Михайлович обнародовал новые планы не где-нибудь, а на Химическом саммите. Правда, пока не все успели проникнуться дерзостью мысли. Как пишут «Новые известия», эффективность использования человеческих отходов толком еще не изучена, но о выгоде использования навоза крупного рогатого скота для переработки в биогаз еще летом 2008 года писал авторитетный журнал Environmental Research Letters. По расчетам ученых, сотни миллионов голов скота, обитающих в США, способны обеспечивать приблизительно 100 млрд киловатт-часов электроэнергии. Кроме того, утилизация навоза снизит выбросы парниковых газов на 99 млн тонн.
«На Западе технологии превращения стоковых отходов во что-то полезное работают давно, – рассказал старший аналитик венчурной компании Александр Корчевский. – Сомневаюсь, что наши химики изобрели что-то инновационное, ведь мир обогнал нас минимум на 10 лет. Проблема еще в том, что в России электроэнергия примерно вдвое дешевле, чем на Западе, поэтому, прежде чем внедрять у нас такие установки, нужно хорошо просчитать их экономическую эффективность. Москве хватит «сырья» на производство не более 100–200 МВт энергии».
Кстати, в российской столице подобный инвестпроект внедряется уже более года: на базе Курьяновских очистных сооружений построили автономную мини-теплоэлектростанцию, которая работает по принципу безотходного производства. «Сырье» для нее поступает из пяти округов Москвы и из Подмосковья, мощность составляет 10 МВт. Проект обошелся как минимум в €29 млн и, по оценкам технического руководства станции, окупится не ранее, чем через 15 лет.
Получается, что 1 МВт курьяновской установки обходится не в $2,6 млн (как на Западе), а минимум в €2,9 млн. И если Москва может «обеспечить работой» от 10 до 20 таких станций, то только инвестиций потребуется от €290 млн до €580 млн.
Справка KM.RU
В американском городе Сан-Франциско местные власти решили пойти еще дальше. Мэрия Сан-Франциско провела исследование, в ходе которого выяснилось, что до 4% всех городских отходов составляют собачьи экскременты. Вполне приличные промышленные объемы, подумали градоначальники и заказали компании Norcal Waste Systems разработку системы утилизации какашек. Сказано – сделано. Скоро дворники будут не просто выбрасывать оставленные четвероногими жильцами «подарки», а складывать их в специальные контейнеры. Затем фекалии отправятся в реакторы, которые при помощи специальных бактерий переработают отбросы жизнедеятельности животных в биогаз для отопления домов. Между прочим, по данным Woods End Laboratories, в США домашние собаки и кошки производят ежегодно до 10 млн т экскрементов. Такие вот вонючие залежи энергоносителей…
Михаил Синельников
Он прям так и сказал: «Наши химики разработали ферментативные добавки, которые удваивают производство газа из этой «радости», а газ идет на производство электроэнергии. Перерабатывая твердый осадок канализационных стоков, мы получаем большое количество электричества».
Юрий Михайлович всегда знает, о чем говорить. Все это – явно от большого ума. Размах его изобретательства поражает воображение: от ультрасовременных пчелиных ульев и МКАД до… лекарства против рака. Да-да, Российское патентное бюро уже зарегистрировало «Фотосенсибилизатор для фотодинамической терапии». После перевода на человеческий язык становится понятно, что Лужков со товарищи (еще 11 ученых) придумали химический раствор («водорастворимое производное тетраазапорфириновых комплексов титанила»), который призван помочь при терапии злокачественных опухолей.
Под стать главному столичному Кулибину и его супруга – Елена Батурина. На пару они запатентовали три вида расстегаев, два типа кулебяк и два рецепта «пирожка полуоткрытого». И когда только успевают эти занятые люди осчастливливать нас все новыми и новыми открытиями? Наверное, это – любовь!
Любит Юрий Михайлович похимичить в Москве, не отнять у него этой слабости. Вот недавно градоначальник собирался «держать и не пущать» в столицу облака. Воздействовать на природу мэр предлагал с помощью все той же химии: обстреливать тучи частицами йодистого серебра, углекислоты и азота, которые разгоняли бы «вместилища осадков» на дальних подступах. Но что-то там не заладилось, несмотря на, безусловно, нестандартное мышление Лужкова.
А теперь он спустился с небес на землю (вернее, под оную), чтобы повернуть канализационные реки вспять и заставить их еще раз послужить человечеству, исторгая электричество. Естественно, Юрий Михайлович обнародовал новые планы не где-нибудь, а на Химическом саммите. Правда, пока не все успели проникнуться дерзостью мысли. Как пишут «Новые известия», эффективность использования человеческих отходов толком еще не изучена, но о выгоде использования навоза крупного рогатого скота для переработки в биогаз еще летом 2008 года писал авторитетный журнал Environmental Research Letters. По расчетам ученых, сотни миллионов голов скота, обитающих в США, способны обеспечивать приблизительно 100 млрд киловатт-часов электроэнергии. Кроме того, утилизация навоза снизит выбросы парниковых газов на 99 млн тонн.
«На Западе технологии превращения стоковых отходов во что-то полезное работают давно, – рассказал старший аналитик венчурной компании Александр Корчевский. – Сомневаюсь, что наши химики изобрели что-то инновационное, ведь мир обогнал нас минимум на 10 лет. Проблема еще в том, что в России электроэнергия примерно вдвое дешевле, чем на Западе, поэтому, прежде чем внедрять у нас такие установки, нужно хорошо просчитать их экономическую эффективность. Москве хватит «сырья» на производство не более 100–200 МВт энергии».
Кстати, в российской столице подобный инвестпроект внедряется уже более года: на базе Курьяновских очистных сооружений построили автономную мини-теплоэлектростанцию, которая работает по принципу безотходного производства. «Сырье» для нее поступает из пяти округов Москвы и из Подмосковья, мощность составляет 10 МВт. Проект обошелся как минимум в €29 млн и, по оценкам технического руководства станции, окупится не ранее, чем через 15 лет.
Получается, что 1 МВт курьяновской установки обходится не в $2,6 млн (как на Западе), а минимум в €2,9 млн. И если Москва может «обеспечить работой» от 10 до 20 таких станций, то только инвестиций потребуется от €290 млн до €580 млн.
Справка KM.RU
В американском городе Сан-Франциско местные власти решили пойти еще дальше. Мэрия Сан-Франциско провела исследование, в ходе которого выяснилось, что до 4% всех городских отходов составляют собачьи экскременты. Вполне приличные промышленные объемы, подумали градоначальники и заказали компании Norcal Waste Systems разработку системы утилизации какашек. Сказано – сделано. Скоро дворники будут не просто выбрасывать оставленные четвероногими жильцами «подарки», а складывать их в специальные контейнеры. Затем фекалии отправятся в реакторы, которые при помощи специальных бактерий переработают отбросы жизнедеятельности животных в биогаз для отопления домов. Между прочим, по данным Woods End Laboratories, в США домашние собаки и кошки производят ежегодно до 10 млн т экскрементов. Такие вот вонючие залежи энергоносителей…
|
Метки: газ из отходов |
Дмитрию Медведеву сделали выговор за Арктику |
Михаил Синельников
Из-за Арктики на нас опять дохнули холодом. Едва успел Дмитрий Медведев высказаться («К сожалению, наблюдаются попытки ограничить доступ России к разработке и освоению арктических месторождений, что, конечно, недопустимо с правовой точки зрения и несправедливо с позиций географического положения и самой истории нашей страны»), как незамедлительно последовала нервозно-сумбурная реакция — хотя конкретные «ограничители» президентом России обозначены не были.
Министр иностранных дел Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что слова Медведева основаны не на фактах, а представляют собой «пример риторики, и вечного противопоставления России другим странам». А его коллега из Канады Лоуренс Кэннон сообщил, что его государство не отказывало России в доступе к Арктике: «Русские играют в игры… Так же, как и в случае водружения флага на Северном полюсе. Не имею представления, какая у всего этого цель».
Можно подумать на родине хоккея в игры не играют. А когда канадские десантники отправились на Северный полюс с собственным двухметровым флагом, то безошибочно определили цель и устроили стрельбы. Ради такого удовольствия, кстати, «страна кленового листа» не пожалела полмиллиона долларов и двух лет подготовки специальной экспедиции. Такое вот было «представление».
МИД Канады не устает «долбить»: «суверенитет нашего государства в отношении Арктики существует в течение длительного времени, хорошо представлен и основывается на исторических фактах». Странно, что глава этого ведомства Лоуренс Кэннон обиделся на Дмитрия Медведева, когда тот заявил примерно то же самое, но уже применительно к России.
Естественно, в Арктике всех интересуют не сами льды, а то, что под ними – колоссальные запасы неразработанных энергоресурсов, то есть нефть и газ. Причем, по оценкам американских геологов, около трети запасов природного газа находится за Полярным кругом и подавляющая часть — на потенциально российской территории. Наши притязания на участок арктического шельфа, равный по площади территории Западной Европы и содержащий миллиарды тонн углеводородов, оспаривается великолепной четверкой: Соединенными Штатами, Норвегией, Канадой и Данией.
Каждый, так или иначе, пытается откусить от арктического мороженного свой «кусочек». К примеру, «возмущенная российскими играми» Канада участвует в проекте строительства исследовательской станции и инвентаризации местных ресурсов. В самой ближайшей перспективе правительство Канады намерено усилить штат и модернизировать оборудование морских арктических патрулей. Власти США вообще поручили своему флоту подготовить целую стратегию усиления американского влияния в Арктике, в частности разработать новые образцы оружия, с учетом полярных условий, и нарастить именно военное присутствие в регионе. Даже, прости господи, Дания не исключает возможности «столкновений и дипломатических кризисов между граничащими с Арктикой государствами».
И после всех этих «миролюбивых приготовлений» нас пытаются убедить, что президент Дмитрий Медведев не ведал, о чем говорил. А еще лучше — ему попросту приснились
Справка KM.RU
В 2007 году команда исследователей во главе с Артуром Чилингаровым спустилась в батискафах на дно Северного Ледовитого океана и водрузила там российский флаг из титана, заявив, таким образом, о притязаниях государства на гигантскую подводную Гряду Ломоносова. Наши ученые и эксперты убедительно доказывают, что эта гряда является продолжением российского континентального шельфа, обосновывая тем самым право владения арктической территорией площадью в 1,2 миллиона квадратных километров (465000 квадратных миль). Теперь Россия планирует официально «застолбить» свои претензии, подав заявку в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

Из-за Арктики на нас опять дохнули холодом. Едва успел Дмитрий Медведев высказаться («К сожалению, наблюдаются попытки ограничить доступ России к разработке и освоению арктических месторождений, что, конечно, недопустимо с правовой точки зрения и несправедливо с позиций географического положения и самой истории нашей страны»), как незамедлительно последовала нервозно-сумбурная реакция — хотя конкретные «ограничители» президентом России обозначены не были.
Министр иностранных дел Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что слова Медведева основаны не на фактах, а представляют собой «пример риторики, и вечного противопоставления России другим странам». А его коллега из Канады Лоуренс Кэннон сообщил, что его государство не отказывало России в доступе к Арктике: «Русские играют в игры… Так же, как и в случае водружения флага на Северном полюсе. Не имею представления, какая у всего этого цель».
Можно подумать на родине хоккея в игры не играют. А когда канадские десантники отправились на Северный полюс с собственным двухметровым флагом, то безошибочно определили цель и устроили стрельбы. Ради такого удовольствия, кстати, «страна кленового листа» не пожалела полмиллиона долларов и двух лет подготовки специальной экспедиции. Такое вот было «представление».
МИД Канады не устает «долбить»: «суверенитет нашего государства в отношении Арктики существует в течение длительного времени, хорошо представлен и основывается на исторических фактах». Странно, что глава этого ведомства Лоуренс Кэннон обиделся на Дмитрия Медведева, когда тот заявил примерно то же самое, но уже применительно к России.
Естественно, в Арктике всех интересуют не сами льды, а то, что под ними – колоссальные запасы неразработанных энергоресурсов, то есть нефть и газ. Причем, по оценкам американских геологов, около трети запасов природного газа находится за Полярным кругом и подавляющая часть — на потенциально российской территории. Наши притязания на участок арктического шельфа, равный по площади территории Западной Европы и содержащий миллиарды тонн углеводородов, оспаривается великолепной четверкой: Соединенными Штатами, Норвегией, Канадой и Данией.
Каждый, так или иначе, пытается откусить от арктического мороженного свой «кусочек». К примеру, «возмущенная российскими играми» Канада участвует в проекте строительства исследовательской станции и инвентаризации местных ресурсов. В самой ближайшей перспективе правительство Канады намерено усилить штат и модернизировать оборудование морских арктических патрулей. Власти США вообще поручили своему флоту подготовить целую стратегию усиления американского влияния в Арктике, в частности разработать новые образцы оружия, с учетом полярных условий, и нарастить именно военное присутствие в регионе. Даже, прости господи, Дания не исключает возможности «столкновений и дипломатических кризисов между граничащими с Арктикой государствами».
И после всех этих «миролюбивых приготовлений» нас пытаются убедить, что президент Дмитрий Медведев не ведал, о чем говорил. А еще лучше — ему попросту приснились
Справка KM.RU
В 2007 году команда исследователей во главе с Артуром Чилингаровым спустилась в батискафах на дно Северного Ледовитого океана и водрузила там российский флаг из титана, заявив, таким образом, о притязаниях государства на гигантскую подводную Гряду Ломоносова. Наши ученые и эксперты убедительно доказывают, что эта гряда является продолжением российского континентального шельфа, обосновывая тем самым право владения арктической территорией площадью в 1,2 миллиона квадратных километров (465000 квадратных миль). Теперь Россия планирует официально «застолбить» свои претензии, подав заявку в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

|
Метки: арктика нефть газ |
Жизнь без государства.Из Новостей. |
Глухая сибирская тайга, деревня Гореловка, названная так потому, что выросла на пятачке выгоревшей тайги. В последние годы, впрочем, ее название приобрело новый смысл. О. Валентину, 87-летнему священнику из-под Новосибирска, было видение, что «вся земля будет гореть», но Гореловка посреди этого апокалипсиса устоит. В результате здесь появилась целая колония молодых переселенцев из ближайших городов. У них нет паспортов, ИНН и прочих официальных признаков существования, и, тем не менее, их поселение стремительно растет. Жизнь без государства, оказывается, имеет страшную притягательную силу.
С властью не связывайся
Здесь и правда можно прожить без документов, денег и регистрации: крестьянский труд формальностей не требует. К тому же на любого беглеца от государства местные по традиции смотрят лояльно – в Гореловке наслоилось уже три волны «отказников»: потомки староверов (бежали от царя), потомки кулаков (бежали от советской власти) и последняя волна – бегуны от «нового мирового порядка».
О наличии власти на планете Земля здесь напоминает только облезлый Ленин. Рядом с ним мы встречаем местного жителя, который на мое «Здрасьте!» громко отвечает:
– А нас качает, качает волна морская!
Это – человек обыкновенный, государственный, с паспортом. Но таких здесь меньшинство. Воинствующий атеизм сюда толком так и не добрался. Тут не вступали в пионеры и в колхоз, не оформляли паспорта, отказывались от пенсий, не открывали двери во время переписи населения. Неформальный лидер «отказников» старой закалки – Иван Бухарин, красивый бородатый мужчина, старовер из согласия рязан-беспоповцев. Мужиков у здешних старообрядцев – дефицит: их бабы замуж не выходили в память своих матерей, хранивших верность расстрелянным мужьям, и теперь доживают свой век в одиночестве.
Все свои 55 лет Иван прожил без паспорта.
– Я, – говорит, – бригадиром в колхозе работал. Месяца 2–3 поработаю, потом сверху – сигнал: убрать! Мол, как это – без паспорта и бригадиром.… А через три месяца председатель сам приезжает: возвращайся, работать-то некому.
Из дальнейшего рассказа Бухарина как-то так получается, что добросовестней всего в этих местах на отечество пашут как раз те, кто исповедует принцип «с государством не связывайся».
– Да и чего в нем толку-то? – пытается Иван прикрыть мистику прагматикой. – Вот сейчас один мужик умер. У него сын в армии. Жена приходит в военкомат – телеграмму сыну дать. Ей говорят: «600 руб.». Ну вот как это?..
Где тут электронный концлагерь?
– Народу волшебного у нас тут хватает, – не без гордости говорит специалист районной комиссии по делам несовершеннолетних Светлана Дьячкова. – Одна бабушка через суд добилась права жить по советскому паспорту, потому что в нем нет шестерок. И ничего – живет, слава Богу. Но вот с таким случаем, как у Подистовых, мы столкнулись впервые.
Молодые беглецы из Новосибирска Подистовы, родив третьего ребенка, отказались регистрировать его в загсе.
– Закон вообще-то требует регистрировать детей, но никаких санкций за отказ не предусматривает, – жалуется Дьячкова. – Мы к Подистовым приехали домой – чистота идеальная, дети накормлены, ухожены, претензий никаких. Такое вот «неблагополучие» видим впервые. И ведь, судя по всему, случай этот – не последний, молодежи сюда много бежит. Как реагировать – не знаем, честно говорю. Вот, почитайте.
Светлана сует мне четыре листа объяснительной Подистовых. Написано складно, красиво, в жанре антиутопии: «Россия втягивается в общемировой глобализационный процесс, целью которого является построение «нового мирового порядка». Это будет не что иное, как всемирное сетевое общество, где упраздняется само понятие государства, где законы управления кибернетическими системами механически переносятся на систему социальную, а каждый человек становится обезличенным «узлом сети»… Это общественное устройство можно определить как электронный концлагерь в планетарном масштабе».
Осилив все 4 странички, понимаю: Подистовых возмущает, что при регистрации ребенка ему присваивается личный код, который во всех государственных базах данных фигурирует вместо полученного при крещении имени. Потом с помощью этого кода всех нас заставят что-то делать. Пока, правда, не совсем понятно, что. Но, наверное, что-то мерзкое. Например, ходить на работу. И все это, по мнению авторов объяснительной записки, – предсказанные еще в Библии признаки наступления царства антихриста, а за ним – и конца света.
От глобальных мыслей меня отвлекает голос чиновницы Дьячковой:
– Конечно, с точки зрения закона Подистовы нарушают права своего ребенка. Ведь регистрация дает ему права на какие-то льготы, детское пособие, медицинское обслуживание. Если он заболеет, врачи даже не будут иметь оснований ему помочь. Материнский капитал Подистовы тоже игнорируют, а ведь у них уже больше двух детей.
– А личный код – он все-таки присваивается человеку при рождении или нет?
– Вообще-то да, – признается Дьячкова. – Ребенка регистрируют в загсе, оттуда сведения поступают в налоговую службу, а там автоматически присваивают код. На всю жизнь. Подистовы и на остальных детей отказ в налоговую написали с требованием лишить их кода, а сами вернули свои паспорта в паспортно-визовую службу. По почте. Вместо паспорта у них теперь «тождество» – заверенная нотариусом бумага, что такое-то лицо является тем-то и тем-то.
Я прощаюсь со Светланой Владимировной, и уже в дверях она меня серьезно предупреждает:
– В Гореловку поедете – положите в карман дольку чеснока. Мы всегда так делаем. На всякий случай.
Станет ли Обама Антихристом?
Нас с фотографом в Гореловке и без чеснока все боялись: подозревали, что мы – тайная комиссия мирового правительства.
– Впервые в жизни москвичку вижу! – сказал при встрече фотографу Оле один из немногих обычных местных жителей Леха по кличке «Чемодан». Потом бухнулся перед ней на колени и добавил: – Выходите за меня замуж, я без вас жить не могу!
– Что это? – Гриша Подистов, глава семейства, о котором рассказывала Дьячкова, уставился на пленочный фотоаппарат. Выглядит камера и правда инопланетно: два объектива, видоискатель сверху. Гриша сразу понял, что это – машинка для зомбирования, и попросил ее спрятать. В доме Подистов разрешил снимать только стены и лишь на цифру, т. е. бесовской электронике он почему-то доверяет больше, чем старым добрым аналоговым технологиям.
Он и его супруга Света похожи на обычных симпатичных городских ребят, которыми они и были еще совсем недавно. Только у Гриши теперь благообразная бородка и волосы стрижены под горшок, как в кино про Древнюю Русь, а у Светы на голове – платок. По огромному дому бегают красивые детишки: два мальчика и девочка – та самая, которую Подистовы отказались регистрировать. На столе лежит какой-то самиздатовский журнал с анонсами на обложке: «Станет ли Обама антихристом?» и «Как прожить без денег и построить землянку за сутки?»
– Григорий, а давно ты в Гореловке? – пытаюсь я понять, насколько все это серьезно.
– Да пятый раз уже картошку выкопали, – Гриша, похоже, уже перешел на крестьянский календарь. На правах хозяина он интересуется нашим свежим взглядом: – Ну и как вам Гореловка?
– Красиво, только пьяные попадаются, – честно отвечаю я.
– А ведь я в баре три года барменом проработал, был у меня такой грех.
История Гриши, которому сейчас 28 лет, впечатляет. Сначала он был гопником и даже входил в бандитскую группировку.
– У нас была Невская бригада. Мы даже на зону старшакам «подогрев» посылали и сами мечтали сесть, – Подистов переходит на характерный прононс. – Из 20 человек семьи создали только двое. Остальные или сидят, или сторчались, или умерли уже.
Немного повзрослев, он увлекся рэпом и собрал группу с каким-то нехристианским названием «Темная сторона», ставшую, кстати, в Сибири довольно известной. Позже поступил в новосибирский педуниверситет и стал играть в КВН, где и познакомился со Светой. Нужны были деньги, и он устроился работать в один из престижных баров в центре Новосибирска. Как ни странно, именно в баре Гриша сделал первые шаги к вере. На раздумья о смысле жизни его натолкнуло созерцание «директорков», бессмысленно пропивающих огромные деньги:
– За вечер вдвоем тысяч 20 пропить могли. Напьются и ведут разговоры. А я слушаю – бармен же слушать должен. Вроде зарабатывают много, а зачем жить, не знают. Все несчастные, у всех – семьи распавшиеся…
В результате долгих духовных поисков Гриша пришел к чудной смеси православия и веры в сглаз, жидомасонский заговор и Майкла Мура. Вуз он бросил, потому что «образование все равно контролируется жидомасонами». Бросил и КВН, и рэп, и Новосибирск. Но ему до сих пор все хочется представить свою жертву еще более весомой.
– Я смотрю на своих ровесников, кто в Новосибирске живет… Скорее всего, я бы сейчас уже был каким-нибудь директором с зарплатой 700–800 тысяч (вообще-то в Новосибирске таких зарплат нет, но Грише доставляет мазохистское удовольствие думать обратное. – Прим. «РР»). А тут нам и 5000 в месяц хватает. Одежды мало покупаем, а кормимся со своего хозяйства, – Гриша любовно перечисляет: – Лошадка, коровки, две телки и бычок, десяток овечек.
– А дом посмотри какой у нас! 6 комнат! В Новосибирске мы бы сейчас ютились в однушке по ипотеке. Посмотри хотя бы с позиций атеиста: что бы мы в городе имели? Взрослые там вкалывают, как проклятые, – ради чего? Ради денег. А детей своих не видят. У меня бы сейчас было уже три гражданских брака. У нее, – Гриша показывает на свою красивую жену, – 10 абортов. А потом рожают одного ребеночка, всего больного.
Довольно быстро речь Гриши приобретает интонацию проповеди. К о. Валентину, когда-то надоумившему Подистовых уехать в Гореловку, у него отношение снисходительное: ну да, мол, есть такой священник. Но сам-то он из города не бежит, все думает там спастись. Примерно такое же отношение у Гриши ко всему: церковной иерархии («уходит благодать из храмов!»), успешным в миру людям («директорки и депутатики»), да и к человечеству в целом («ослиная серая масса»). Не говоря уж обо мне, его ровеснике («э, милый-дорогой, ты многого не знаешь!»).
Мировая история в его пересказе упрощается донельзя. Есть Святая Русь и многочисленные враги, мечтающие ее извести: антихрист, американцы, масоны, евреи, компьютеры, телевидение, СМИ, банковские карточки, Интернет и прочие искусители современного мира. Все просто, и я уже начинаю чувствовать, насколько эта простота заразительна.
Врата в рай со створками
Центр Бердска, небольшого города-спутника Новосибирска. Красивая Сретенская церковь, новой деревянной обшивкой напоминающая сауну. На входе – актуальное для этого города объявление: «Молебен об исцелении страдающих от наркотической, алкогольной, игровой зависимости и для их родителей проводится каждый четверг». До недавнего времени настоятелем этого храма был духовный отец гореловских переселенцев, протоиерей Валентин Бирюков. Теперь по возрасту он выведен за штат, место настоятеля занял его младший сын, но батюшка по мере своих возможностей продолжает служить вместе с ним. О. Валентин – смешной и симпатичный, в пиджаке, с золотыми зубами и привычкой, когда говорит, поглаживать бороду.
– Спасибо, батюшка, что нашли время!
– Нельзя так говорить – «спасибо». Надо говорить «спаси Бог!», – реагирует о. Валентин. – Тебе вот было бы приятно, если бы от твоего имени отняли последнюю букву?!
Пока в моей голове проносится вихрь искаженных вариантов моего имени, отец Валентин начинает говорить, и скоро выясняется, что говорить он может очень долго. И убедительно.
Его жизнь интересна тем, что на всем ее протяжении (рождение в раскулаченной семье, война, ранение, возвращение, работа продавцом) его сопровождали знамения свыше. Однажды кто-то подкинул помиравшей с голоду семье мешок картошки – Бог помог. Главу семейства хотели было отправить в лагерь, но он в тот день ушел на охоту. Во время войны в артиллерийский расчет будущего о. Валентина – по его молитве – не попала немецкая бомба. Правда, в спине у него на всю жизнь остался осколок – ну так это чтобы он не забывал о помощи свыше.
На войне он пообещал Богу посвятить себя служению Ему. Если выживет. Но война закончилась, и он свое обещание, как водится, позабыл. И тут произошел еще один чудесный случай: однажды в магазин, где он тогда работал, зашел незнакомый старичок и напомнил о данном обете. А в доказательство своих «особых полномочий» рассказал подробности его, Валентина Бирюкова, предыдущей и, самое главное, будущей жизни: как он познакомится со своей женой, как поедет в Казахстан купаться в святом источнике и ему в рот залетит муха, и что в Барнауле его впавшая в кому тетка Клавдия увидит рай.
Даже сны свои отец Валентин считает не просто снами, а видениями. Видел он и загробный мир. И ворота рая – «со створками, как японские, в аэропорту».
– Однажды вижу я: везде – огонь! Я закричал (тут батюшка действительно начинает кричать): «Что это, Господи?!» И голос откуда-то сверху сказал: «Вся земля гореть будет!»
Про Гореловку во сне ничего не было, на нее выбор отца Валентина пал по двум причинам. Во-первых, в тех местах его семья была в ссылке. А во-вторых, та земля обильно полита кровью мучеников.
– Почему же вы сами туда не едете?
– А на это мне еще одно видение было. Я тогда болел и думал уже, что умираю. Будто бы лежу я в гробу, а ко мне люди вереницей идут. И – голос: «Рано тебе еще умирать! Ты нужен людям».
– А как отличить, где видение, а где обычный сон?
– Если от Бога – то не забудется и сбудется.
Он помнит все подробности случившихся с ним чудес, и даже в деталях описывает увиденный «божественным космонавтом Клавдией» рай. Правда, в какой-то момент начинает повторяться: снова показывает своим посохом, как на него летел фашистский снаряд, снова кричит: «Господи! Оставь меня в живых, буду славить Тебя как могу!». И в ту же секунду снаряд, показывает о. Валентин, меняет свою траекторию.
После долгого разговора с батюшкой мы с фотографом Олей выходим на улицу духовно накачанными, и даже перекачанными. Заходим пообедать в ближайшее кафе. В нем никого нет, а из динамиков льется странная песня, которую я ни до, ни после ни разу не слышал: положенный на жесткий бит замогильный голос повторяет: «Бог есть! Бог есть!»
Мы переглядываемся: ты тоже это слышишь? Значит, это – знак обоим.
Три шестерки плюс бесконечность
– Ой, Россия, ты мати моя, // Ой, крута же ты, мать, жестока. // А и нет сил тебя, мати, любить, // Да и некому тебя, мати, жалеть! // Да и некому твою землю пахать, // Да и некому ворога не пущать. // А и жить в тебе, мати, нельзя. // Можно только душу спасать.
Это прямо в мой диктофон поет Татьяна Семенова, подруга и сверстница Подистовых. У нее красивый голос, симпатичное лицо в веснушках и фигура, достоинства которой хорошо заметны даже под мешковатой одеждой. Таня – очень хозяйственная: у нее – большой огород и три коровы. Творог и сметану она возит в райцентр Подгорное на базар.
– Из меня же хотели вторую Пелагею сделать (известная фолк-певица, тоже родом из Новосибирска. – Прим. «РР»), – скромно отвечает на комплименты Таня. – Но я не хочу. Земная слава – суета. Прославишься, а дальше что?
Во всем, что не касается конца света и нового мирового порядка, жители Гореловки – нормальные современные люди. Ну, разве что не фотографируются никогда… В Новосибирске Таня училась в педагогическом университете, увлекалась студенческой самодеятельностью. Теперь на фотоснимки из прошлого смотрит с безразличием. Правильно ли это – скрывать Богом данный талант? Этот вопрос теряет всякий смысл, если на носу – конец света и спасение души.
Свой большой дом с хлевом и огородом Таня купила за 30 тыс. руб., заработанные в качестве няни в какой-то состоятельной новосибирской семье. Сейчас таких цен в Гореловке нет: после наплыва прозревших они поднялись втрое-вчетверо. В доме у Тани чисто прибрано, в каждой комнате висят иконы, компьютер в углу по-деревенски накрыт нарядной тряпочкой.
– А то бывали случаи, когда в выключенном экране видели ужасный лик дьявола, – отвечает хозяйка и, ловя мой скептический взгляд, добавляет: – 10 лет назад я бы тоже на нас смотрела как на полоумных. Я тоже духовно спала. А потом начала прозревать. Без печати антихриста жить все сложнее и сложнее. Сказано же в Писании, что в последние дни нельзя будет без числа зверя ни покупать, ни продавать. У вас там в паспортах уже три шестерки давно, а вы и не знаете.
На мою просьбу показать наконец эти злополучные шестерки Таня просит дать ей паспорт. Протягиваю документ не без опаски – как порвет сейчас или бросит в печку. Но она спокойно открывает его на первом попавшемся развороте и показывает вензель вокруг номера страницы. Закорючки действительно складываются в шестерки. Снизу, правда, есть и восьмерка (точнее, бесконечность), но она – явно не в счет. Еще шестерки служат фоном для слова «Россия» – и тоже на каждом развороте. Причем их тут не три, как должно быть по Библии, а целых шесть. Видимо, чтоб уж наверняка.
Государство не возражает
Местная деревенская администрация – настолько маленькая (состоит из одного человека), что делит свой небольшой административный домик с магазином.
При входе висят два объявления. Одно – экономического содержания: «Кому нужен хрен – копайте, только своей лопатой. Телефон 41-25». Второе – политического: «Всем жителям, кто не получил в 14 лет или не заменил паспорт в 20 и 45 лет, обращаться в администрацию».
– «Отказники» нас не страшат, – говорит Татьяна Новожилова, администратор деревни (так официально называется ее пост). – Милиция, например, довольна, что, несмотря на нарушения паспортного режима, в остальном они очень даже смирные. Не в пример Вове Козлу и Лехе Чемодану.
– А как вы вообще относитесь к тому, что сюда едут такие люди?
– Какие «такие»? Обыкновенные. Слава Богу, что едут, – хвалит «понаехавших» Новожилова. – Основная масса – труженики. Да, они официально нигде не числятся, но у всех – свое хозяйство. И вот что я скажу: как человек работает, как к другим относится – вот для меня его паспорт. А бумажка, которая в кармане лежит, – это так, формальность. И еще они очень грамотные: все-таки городское образование. Я читала письмо Подистовых в опеку и диву давалась, как все грамотно описано! С первого раза и не поймешь. Правда, много агитируют за свою веру. Придут и начинают рассуждать, рассказывать чего-то – мозгодуйством, в общем, занимаются. Я Грише сразу интеллигентно так говорю: «Гриш, заткнись. Говори, чего надо, и иди».
Еще одна калитка, на самой окраине Гореловки. Вместо почтового ящика – школьный ранец. На крыльце – мешки из-под муки с брендом «Простое и вечное».
Надежда Георгиевна Ермолаева бросила Новосибирск не только по религиозным соображениям, но и ради сына-инвалида, с которым в городе не проживешь. Поначалу в разговоре с нами она словно оправдывается:
– Посмотрите, какая тут речка! Какой обрыв красивый! А небо тут какое низкое! Нигде такого неба не видела.
До 90-х Надежда Георгиевна работала на каком-то важном новосибирском военном заводе – начальником цеха, в профсоюзе, в партактиве. Потом оборонка рухнула, а тут еще у сына Андрея обнаружили опухоль мозга. В общем, Ермолаева пришла к Богу, как тут говорят, «через страдания».
Одна из комнат в ее доме «зарезервирована» для о. Валентина: здесь он останавливается, когда приезжает в Гореловку. В другой комнате на столе лежит диск с надписью от руки «Враги отечества». Рядом – книжка «Правила отработки греха аборта».
Приезжает Андрей. У него – заметный рубец на лбу, след от лоботомии. Сразу видно, что он – хороший парень: хлопочет, угощает нас чаем с домашним пирогом и медом с соседней пасеки. Присев в сторонке, начинает грызть кедровые орешки, и вдруг, не к месту, вклинивается в наш разговор:
– Вера – это любовь. Любить надо всех, даже врагов. Пришел к тебе враг, а ты накорми его, напои.
Я давлюсь куском пирога. Еле откашлявшись, говорю «спаси Бог!», допиваю чай и прощаюсь. А через несколько дней лечу домой и размышляю, укрепит ли этот репортаж «новый мировой порядок» или наоборот – ослабит.
Дмитрий Виноградов
Почему Россия — не Москва
Что такое провинция? Почему в России даже города-миллионники считаются провинциальными? Почему Иркутск больше провинция, чем Новосибирск? И все ли большие русские города обречены стать «как Москва» или есть менее травматичные пути прощания с провинциальностью?
С Артемом и Катей я встречаюсь у памятника Вампилову.
— Провинциальность? Да я вообще не знаю, что такое провинциальность. Мне кажется, не надо вот так делить людей. У каждого своя жизнь. Они — типичные представители молодого среднего класса. У них есть праворульная машина, двухлетняя дочка и строящийся загородный дом. Внешне они производят впечатление скучных, правильных бюргеров: спокойные, доброжелательные, нейтрально и аккуратно одетые, тихо говорят, медленно двигаются. Поначалу у меня возникает ощущение, что разговор не заладится: какая разница, провинция или нет, если у каждого есть своя нормальная жизнь.
— На Западе, — говорю я, — город такого размера, как Иркутск, с населением под миллион просто не смог бы считать себя провинцией. Даже если бы захотел, не получилось бы.
— На Западе — это где?
— Ну, в Европе, в Америке
— У нас, — улыбается Артем, — когда говорят «на Западе», имеют в виду Москву и Питер. Да о чем тут вообще говорить…
— А по-моему, есть о чем! — неожиданно вступает Катя, которая до этого все время скромно молчала. — Иркутск — самая настоящая провинция. В минуты отчаяния мне даже хочется отсюда уехать.
— Чего конкретно здесь не хватает? — спрашиваю я.
— Дорого все очень, дороже, чем в Москве, потому что все оттуда везут. С ребенком пойти некуда. В городе два фонтана, и там по вечерам все дети города. Музыку живую послушать негде: просто посидеть пива выпить — сколько угодно, а концертов нет, или это запредельно дорого… Впрочем, сейчас в провинции уже не везде страдают от дефицита «столичности» в смысле просто дефицита — вещей, услуг, событий. По словам профессора Московского архитектурного института (МАрхИ) Вячеслава Глазычева, сейчас в России около десятка городов, которые на бытовом уровне практически ничем не отличаются от столицы. «Можно говорить, что у нас не одна, а десять столиц, — утверждает Глазычев.
— Москва, Питер, Казань, Екатеринбург, Челябинск, Ростов, Самара, Красноярск, Нижний Новгород… Скоро в их числе будут Новосибирск и Пермь, которые пока никак не могут преодолеть комплекс “промышленного города”. Во всех этих столицах есть все необходимое для комфортной жизни: кинотеатры, рестораны, гостиницы, боулинг и так далее». Можно соглашаться или спорить со списком Вячеслава Глазычева, но очевидно одно: географическую удаленность, равно как и налоговый и политический столичный «насос», иногда все же удается преодолеть.
Иркутск пока не входит в почетный клуб «третьих столиц». Именно поэтому здесь так часто говорят и о желании уехать в Москву, и, наоборот, об особом сибирском характере, об особом очаровании провинциальности.
Защитный рефлекс
Главная проблема Иркутска, говорит замминистра культуры и архивов Иркутской области Сергей Ступин, это вечный конфликт чиновничества и купечества. Купечество здесь традиционно очень сильное, еще со времен Великого шелкового пути. А вот с градоначальниками Иркутску никогда не везло. Все они стремились задавить купцов, мучили их взятками и поборами. У нас было два светлых момента: в начале XIX века при Сперанском и в середине — при Муравьеве-Амурском.
С руководителями Иркутску действительно не везло феноменально, похлеще Салтыкова-Щедрина. Губернатор Трескин, например, задумал выровнять русло реки Иркут из-за ее, как ему казалось, «неправильного течения». Устье реки перегородили дамбой, но дамбу смыло.… А еще он боролся с употреблением чая и мог высечь розгами всякого, чья домашняя пища ему не понравилась. Губернатор Цейдлер не любил циркачей и всячески препятствовал появлению в городе заезжих артистов. (Кто знает, может, из-за этого сюда до сих пор так редко приезжают гастролеры?) Губернатор Броневский, будучи запойным алкоголиком, по вступлении своем в должность попытался стать трезвенником, но не выдержал напряжения и сошел с ума. А сменивший его губернатор Руперт приказал прежде всего выбелить трубы на крышах и уничтожить веревки, при помощи которых местные жители запирали ставни домов…
Мы беседуем с Сергеем Ступиным в министерстве культуры, которое располагается в двух старинных деревянных особняках, таких уютных, что складывается ощущение, будто можно просто постучать и зайти в любой кабинет. Ступину около шестидесяти. Он дружит с писателем Распутиным, большой поклонник его творчества. Нет смысла спрашивать, почему он не уехал в Москву: Ступин, историк по образованию, помнит свою родословную с XVIII века, он любит и чувствует Сибирь и свои сибирские корни.
— В 90−е годы губернатор Говорин пытался налаживать отношения с местной «боярщиной», но не смог взять их под свой контроль, поэтому был отстранен от должности. Вместо него был назначен Тишанин, бывший начальник РЖД. Про него говорили: настоящий железнодорожник — может ехать только там, где проложены рельсы. Еще говорили, что он — как фотоаппарат Polaroid: быстро снимает. Он начал в пух и прах бить купцов, боролся с семьей Якубовского. Но подал в отставку из-за конфликтов с законодательным собранием. Пришедший ему на смену губернатор Есиповский ни в чем плохом замечен не был. Разве что в любви к охоте. Эта страсть его и погубила: его вертолет разбился, когда он летел на охоту. Что касается нынешнего губернатора…
Я с усилием заставляю себя понять, что разговор идет уже в настоящем времени — эта «история города Глупова» до сих пор воспринималась как-то отстраненно.
— Ну а сейчас-то что?
— А сейчас 65% студентов Иркутского госуниверситета, по результатам опросов, не любят свой город и хотели бы из него уехать.
— Да, это я заметила. И что же делать?
— Я считаю, надо объединять людей на основе православных святынь. Святитель Иннокентий Иркутский был феноменальным человеком. Я считаю, надо построить паломнический центр, куда съезжались бы люди со всех концов страны — и православные, и не православные. Это место могло бы стать символом для всех — символом возрождения Сибири.
Вот-вот, типичная провинциальность. Или это говорит мой московский снобизм? Православные святыни — это неплохо. Отлично, хороший проект. Но город — просто город, не столичный и не провинциальный — не может сделать себе имя и экономику на одной традиционной «фишке». Город — это то, где есть все, и всего много, с избытком.
— Святыни, конечно, хорошо, но, мне кажется, это вряд ли даст городу ощущение полноценности. Молодежь говорит, что здесь мало культурной жизни, что все интересные деятели уезжают…
— А, это вы, наверное, про Вырыпаева? Он ведь очень обижен на Иркутск, считает, что мы его выгнали, вытеснили. История с прославившимся в Москве иркутским режиссером Иваном Вырыпаевым действительно очень показательна. Потому что безошибочный критерий провинциальности — это судьба необычных людей с бешеной энергетикой и амбициями. В настоящем городе, где «все есть», найдется место и таким. А в провинции, где «все друг друга знают», все места как бы и заняты: есть одна святыня, одна культура, одна политика, одна тусовка. Хорошая или плохая, но одна.
— Мы были хулиганами, — рассказывает бывшая актриса труппы Вырыпаева Светлана. Сейчас она преподает в Школе-студии при МХАТ. — В первом нашем спектакле были фея и горбунья, и они целовались. У нас был очень талантливый курс, несколько лет мы маялись в поисках работы по разным городам, потом наконец решили сделать театр у себя на родине. И вот председатель иркутского отделения Союза театральных деятелей Борис Деркач, который хотел развивать молодежный театр, дал нам помещение в Доме актера. Конечно, наш театр никаких денег нам не приносил, но мы были молодые, нам надо было очень мало — все где-то подрабатывали. А Иван Вырыпаев, наш руководитель, он очень скандальный человек, любит эпатаж. Однажды на одном собрании, где присутствовал Деркач, Иван прямо так и сказал: «Я считаю, у нас нет молодежного театра. Все, что я вижу вокруг, слабо и неинтересно». В Москве такие слова звучали бы вполне невинно, но в провинции, где театральный круг очень узкий, они обращены к конкретным людям, которые воспринимают это как личное оскорбление. Конечно, Деркач обиделся и выгнал нас из Дома актера. Потом мы некоторое время пытались найти другое здание и, не найдя, уехали в Москву, где присоединились к Театру.doc.
— Ну что я могу сказать? — комментирует Сергей Ступин. — Вот возьмите хоть эту книжку, с фестиваля современной поэзии. Вот я ее открываю — а там маты. В нашем городе это воспринимается с трудом. У нас ведь город очень традиционный, многие культурные деятели в своих оценках часто ориентируются на моральный авторитет Распутина: «А что сказал бы Валентин Григорьевич». И у Вырыпаева в спектаклях — маты. Я понимаю его обиду, но ведь, если бы он не уехал в Москву, он бы не стал Вырыпаевым! И ведь он сам говорит, что его по-прежнему тянет на родину. Да, большинство иркутян не способно понять его творчество. Провинция — это очень сложное, тонкое явление, с очень сильным защитным рефлексом…
В разговорах о провинциальности вообще то и дело возникает тема театра. Особенно если вы — в провинции. В Иркутске все жалуются на ограниченность театральной жизни. Спросить меня, москвичку, когда я последний раз была в театре, — не вспомню. Но одна из необходимых черт современного города — это как раз избыточность, наличие возможностей, которыми не пользуешься.
Театр в провинции — не только способ провести время, это в первую очередь признак того, что вокруг что-то происходит. Поэтому жители городов с развитой театральной культурой чувствуют, что вокруг них все кипит и бурлит, пусть они даже не следят за каждой премьерой. Это отражается на их самосознании, а значит, и на всем остальном, что происходит в городе — на политике, бизнесе, строительстве. И это не прямое производное от денег. Например, некоторое время назад одним из центров театрального авангарда стал бедный и совковый Ижевск.
Феномен потолка
Что случилось? Почему трассу перекрыли?
— Да, говорят, Гришковец собаку сбил…
На Байкальской, одной из главных улиц Иркутска, идут съемки фильма «Сатисфакция» с Евгением Гришковцом в главной роли. Вообще-то, Гришковец и его съемки для нас — феноменальная удача. Во-первых, сам Гришковец — главный в России певец провинциальности и сибирского характера. А во-вторых, в съемках «Сатисфакции» заняты чуть ли не все лучшие люди Иркутска: гример, костюмер, массовка найдены по знакомству, в организации съемок режиссеру помогают чиновники и олигархи.
Сюжетная основа фильма простая: двое мужчин, одному за сорок, другому за тридцать. Оскорбленное самолюбие, конфликт поколений и мировоззрений, «честность» одного и «порядочность» другого, жесткие провинциальные «правила» и цивилизованные «законы». Старшего, богатого уверенного в себе бизнесмена, возможно даже с криминальным прошлым, играет Гришковец. Младшего, перспективного клерка с лондонским образованием — Денис Бургазлиев.
Хотя съемочная группа специально не информирует население о своих планах, вокруг неизбежно появляется толпа зевак. Гришковца в Иркутске любят, как и везде в Сибири. Считают своим. Один молодой парень с жаром доказывает мне, что Гришковец родом не из Кемерово, а из Иркутска:
— Нет, ну ты послушай, что он говорит… Вот ты встаешь утром, выходишь на улицу, вот этот пар, темнота, и там, где-то вдалеке, огоньки — школа. Это же он про нашу жизнь пишет, про Иркутск!
— Ну почему же, это может быть сказано и про Москву, и про любой другой город…
— Вот ты когда-нибудь собаку ела? Нет? А я ел! С охотниками. На зимовье, в лесу. Мы тогда чуть не заблудились, замерзли, еды не было. Я сначала сам не понял, что за мясо они мне подсунули.
Режиссеры фильма — главный иркутский рекламщик Юрий Дорохин и его 26−летняя коллега Анна Матисон. Она также соавтор Гришковца по сценарию «Сатисфакции». Аня — потрясающе талантливая, целеустремленная девушка, титан и вундеркинд. Сейчас она учится в Москве, на втором курсе ВГИКа. Но до этого успела сделать головокружительную карьеру в Иркутске, к двадцати годам пройдя путь от внештатного корреспондента до продюсера региональной телекомпании. Смотреть, как она работает, — одно удовольствие: высокая, худая, как щепка, лихорадочный блеск в глазах, снайперская сосредоточенность на лице.
— Когда я произношу слова «культурная провинция», — говорит Аня, — мне очень обидно. Я люблю Иркутск, я всегда останусь иркутянкой. Иркутск в первую очередь провинция географическая. Но это, конечно, накладывает отпечаток на культурную жизнь. Что это значит? Ну, например, в Московской консерватории Гергиев с Мацуевым, тоже выходцем из Иркутска, играют Третий концерт Рахманинова. И оркестр Иркутской филармонии исполняет тот же самый концерт. Ноты одни и те же, но качество исполнения другое. Почему? Да потому что у них почти нет возможности услышать игру других исполнителей. И, я уверена, то же самое с любой другой профессией, кроме тех, которые связаны непосредственно с Сибирью. Конечно, ученый — специалист по Байкалу без сомнений поедет работать в Иркутск, и у него там будет космос…
В перерыве между съемочными эпизодами подхожу к Гришковцу, чтобы поговорить о фильме и о провинциальности.
— Почему вы решили снимать фильм в Иркутске?
— Во-первых, потому что здесь оказалось просто все организовать. Где еще нам дадут перекрыть центральную улицу в середине дня? Во-вторых, действие нашего фильма могло произойти только в провинции. В Москве, в Питере или даже в Екатеринбурге такая история могла тянуться годами. В мегаполисе герои не стали бы открыто выяснять отношения. В провинции очень многое держится на самолюбии, здесь есть своеобразный кодекс чести. Героя оскорбили — значит, он должен ответить, продемонстрировать свою силу. Он у всех на виду. Он, может быть, и хотел бы жить по-другому, но не может. В провинции живут не по законам, а по правилам.
— Почему, на ваш взгляд, люди уезжают из провинции?
— Для творческого человека это прежде всего отсутствие культурной среды. Всякому художнику, артисту, писателю необходима оценка его творчества, нужно общаться с себе подобными. Кроме того, аудитория тоже должна меняться. Когда-то мне казалось, что зрители в Кемерово будут смотреть меня всегда. Но прошло время, и я им надоел. Это нормально. Тогда я понял, что нужно уезжать.
— Что, по-вашему, надо сделать, чтобы это изменить?
— Я не знаю. Для этого надо, чтобы Россия перестала быть централизованной страной, чтобы самолеты из Новосибирска во Вьетнам летали не через Москву…
По сценарию у героя Гришковца есть водитель. Он ничего не говорит, только с непроницаемым лицом открывает и закрывает дверцу машины. Его играет крупный предприниматель по имени Женя. Он — гендиректор ЗАО «Сибирьгазтеплострой».
Иркутск действительно большая деревня: на следующий день я случайно встретила Женю на улице. По виду он, брутальный мужик с татуировками и золотыми часами, идеально подходит для своей роли. Как будто настоящий водила где-то нахватался умных слов:
— У меня с детства жадность к знаниям. Я, вообще-то, из деревни. Сейчас учусь на факультете политологии. А в сентябре в Москву поеду, буду работать в администрации президента. Нужно развиваться, осваивать мир, приносить больше пользы…
— Но почему сразу в Москву? Неужели здесь нечем заняться?
— Да что здесь делать? Здесь все друг друга знают, все под одним одеялом спят. Вот представь себе, ты живешь, развиваешься и однажды понимаешь: здесь больше делать нечего. Все, потолок.
Про феномен «потолка» я не раз слышала от разных людей, объясняющих, почему они переехали или хотят переехать из провинции в Москву.
— В возрасте 24 лет я одновременно работал в трех местах, — рассказывает Алексей Семенов, юрист, член партии «Единая Россия». — Преподавал в Иркутском госуниверситете, был председателем профкома студентов и помощником депутата законодательного собрания области. Получал где-то тысячу долларов в месяц и напрочь не видел своего дальнейшего развития в регионе. Те должности, которые я бы мог занять в городской или областной администрации, занимали люди старше меня, а я еще не вышел из разряда «молодых активистов».
Утечка мозгов — как снежный ком: одни уезжают, другие жалуются: «Москва — пылесос, туда уходят все налоги, все яркие люди в Москве». Мне то и дело становится неловко, хотя в карьерном отъезде ведь по-хорошему нет ничего трагичного. Чувство трагизма — от другого. Уезжают, как на другую планету, с надрывом и болью: прощай, родина, со всеми плюсами, с сибирской домашностью и человечностью, привет, жесткая и циничная Москва!
И это не только потому, что Москва — «пылесос». Ведь теоретически возможна и «мобильная карьера»: уехал в Москву на большие деньги, через год вернулся на более высокую должность домой или куда-то еще, в другой город. Так во всем мире устроена университетская и корпоративная мобильность. Но чтобы было куда вернуться, нужны соответствующие рабочие места, позиции. А когда «все свои», когда кругом местечковые взаимосвязи, то возвращаться некуда. Не увольнять же «своих» ради выскочек.
Возможность экспансии
Работаем с киношниками в большом коттеджном поселке ТСЖ «Молодежный». Это — местная Рублевка, которую здесь, как и в большинстве провинциальных городов, называют «Долина нищих» или «Поле чудес». Здесь живут губернатор, депутаты, крупные предприниматели — домашний союз чиновничества и купечества.
Коттеджи такие высокие, что кажется, идешь по улицам небольшого средневекового городка. Наш, наверное, самый эстетский — в стиле Райта (Фрэнк Ллойд Райт — знаковый архитектор для американской провинции, строитель современной «одноэтажной Америки». — Прим. «РР»). И празднично разукрашен воздушными шариками: по сюжету один из героев, друг Саши, отмечает день рождения сына. Пока оператор выставляет свет и настраивает камеру, хозяин коттеджа, предприниматель Виктор Кондрашов, скучает на кухне, которая по площади чуть меньше небольшого ресторана.
— Я думал, кино — это интересно, а тут сидишь, все время ждешь чего-то, как на вокзале. Может, кто-то в шахматы хочет сыграть? Я радостно цепляюсь за возможность оказаться лицом к лицу с очень богатым человеком. Шахматы большие, тяжелые, из латуни, я играю серебристыми фигурами (они же черные), он — золотистыми (белые). Кондрашову почти пятьдесят, но выглядит он на 35 — стройный, подтянутый, с живым подвижным лицом. Его жена почти вдвое моложе.
— Я тоже немного режиссер. Люблю розыгрыши. Как я женился — об этом весь город говорил. Марина не знала, что она выходит замуж. Она думала, что снимается в рек¬ламе в роли невесты. А мне не говорила, потому что я ей запретил работать моделью. И вот она подбирала себе платье, делала прическу, в этом свадебном платье садилась в вертолет, летела куда-то — и все это снимали на видео. В загсе ей завязали глаза, и только потом она увидела меня. У нее был шок! Заплакала, засмеялась, а я говорю: «Ну, ты ж хотела замуж!» (Е2 — Е4.)
— Почему же вы ей запретили работать моделью? (E7 — E5.)
— Чувство собственности. Это абсолютно нормально. Я считаю: если ты — замужняя женщина, не надо ходить по подиуму на глазах у чужих мужчин. Другое дело, если это — профессия, ты делаешь карьеру. Но для нее же это — развлечение. Кондрашов играет, почти не глядя на доску, реагирует на ходы мгновенно, параллельно рассказывая мне забавные истории про «лихие девяностые» — как он торговал парфюмерией, открывал первый в городе видеосалон, по несколько раз использовал одни и те же билеты, напечатанные каким-то профсоюзом…
— Фильм «Хищник» со Шварценеггером я знаю наизусть, потому что посмотрел его 37 раз.
— Чем сейчас занимается ваша компания? Строительством?
— В том числе и строительством.
— А почему вы не в Москве? Вы ведь наверняка достигли здесь своего потолка? (Я делаю рокировку.)
— А я жил уже и в Москве, и на Мальте. Почему сюда вернулся — это уже другой вопрос, связанный со смыслом жизни.
— И в чем он, по-вашему? (Чтобы избежать катастрофической «вилки», жертвую пешкой.)
— В экспансии. (Ферзь выходит в центр поля; мне становится страшно.) Еще Солженицын сказал: смысл человеческой жизни — в экспансии. Здесь я знаю, что могу расшириться, захватить наибольшее пространство. Сначала семья, ребенок. Ребенок — это продолжение меня. Потом (нападает на мою ладью) — род. Потом (скрытый шах) — клан… Как развивались средневековые государства? Возьмите хоть Грузию: сначала это были небольшие семейные группы, которые разрослись в княжества… (Я теряю коня.)
— Почему вы тогда не пойдете в политику? Это же хороший способ осуществить экспансию.
— А я уже там. В законодательном собрании. Депутат. Сказать, от какой партии?
— «Единая Россия», конечно?
— А вот и нет. КПРФ.
— Но почему?
— Ну, хотя бы потому, что мой отец — коммунист. И еще я всегда на стороне слабого. Шах. А КПРФ — оппозиционная партия. У меня в детстве знаете какая кличка была? Шнурок. Потому что я был самый маленький, щуплый. Но зато самый юркий и самый умный. И помогал слабым решать их проблемы умом. Шах. У нас с вами синдром попутчика. Я однажды ехал в поезде с незнакомой женщиной и всю свою жизнь ей рассказал, а она мне — свою. Шах. А здесь кому что скажешь — сразу слухи пойдут, город же маленький. Шах. Вот если бы вы еще журналистом не были…
— Неужели вам совсем не с кем поговорить по душам? — мне его почти жалко.
— Нет, почему же. У меня есть друг. Мы с ним с детства вместе. Но ему тоже всего не расскажешь. Мужчинам нельзя демонстрировать слабость. Мат.
Закат провинциальности
Возможность экспансии и переживания от излишней открытости в провинциальном Иркутске — это шах нашей теме. Но как быть с тем, что молодежь повально мечтает уехать?
Впрочем, в бизнесе и политике, как мне говорили еще в Москве, ситуация совсем не застойная. Вековой конфликт чиновников и купечества почти решен в пользу купечества. Несмотря на постоянные проблемы с губернаторами, бизнес в Иркутске разный и не монопольный, «тусовка» не одна, их несколько, и они научились договариваться. И любой губернатор должен будет с ними договариваться — и не только по линии «Единой России» или там КПРФ, а напрямую.
Такой большой и экономически развивающийся город, как Иркутск, не сможет долго оставаться провинциальным. Здесь рано или поздно «будет все». В том числе, наверное, к сожалению, и другой темп, и другие отношения между людьми, менее свойские. Вопрос только в том, будет ли у Иркутска к моменту угасания его сибирского характера что-то за душой, кроме потребительской и деловой насыщенности.
Артем и Катя, которые встречали меня у памятника Вампилову, ведут меня в гости к своему другу, фотографу Виталику. Я рассказываю им, как у меня в Иркутске сломалась камера и я полдня моталась по городу в поисках сервис-центра «Кэнона», но оказалось, что ближайший находится в Москве. (В итоге меня спас угрюмый гениальный мастер по фамилии Пещеров, работающий в Институте солнечно-земной физики.) Артем и Катя жалуются, что с фотографической жизнью в Иркутске все, конечно же, очень и очень плохо:
— Выставки? Да никому это здесь не нужно. Вот мы когда фотошколу делали…
— Фотошколу? — удивляюсь я.
— Да, мы год назад открыли здесь фотошколу.
— Единственную в Иркутске? — спрашиваю я, помня, что провинция — это там, где все единственное и уникальное, местное.
— Нет, почему же. Говорят, где-то есть еще одна. Я и мой друг — преподаватели, Катя — администратор. Вы не думайте, мы не претендуем на то, чтобы быть Картье-Брессонами, — почему-то оправдывается Артем. — Нас местный Союз фотографов уже обвиняет в том, что мы учим людей, не имея на это морального права. Но я же и не говорю, что я какой-то гуру. Я просто хочу познакомить людей с вещами, которых они не знают. Показать, как пользоваться камерой, рассказать, что можно делать живые, эмоциональные фотографии, заразить их творчеством, чтобы им захотелось снимать. И я счастлив, когда это получается, когда я вижу, что у людей горят глаза и они встают в пять утра, чтобы снимать рассвет. К нам-то сюда никакой Максимишин не приедет. А в этом Союзе фотографов одни старики. Снимают виды Байкала. Мы пытались с ними сотрудничать, мы ко всему открыты. А они не хотят.
Мы приходим к Виталику, он оказывается смешным худощавым парнем с хвостиком на голове, похожим на программиста и толкиениста, наивным и жизнерадостным. В отношении провинциальности Виталик настроен оптимистично:
— Я им всегда говорил: если в городе чего-то нет — это же хорошо! Значит, это можно сделать. Я, например, сейчас открываю свою фотостудию, и еще я чем только ни занимаюсь: веду бухгалтерию в двух фирмах, рисую в векторе иллюстрации для медицинского справочника, фотографирую свадьбы. Кручусь как-то.
— А почему ты, такой активный, не поехал в Москву?
— Я однажды хотел уехать. У меня был момент, когда я подумал: все, не могу больше — продаю все и уезжаю в Москву. Но потом сказал себе: Виталик, а чего ты хочешь? Только не надо себя обманывать этими словами про большие возможности. Чего ты конкретно хочешь? В конце концов я ответил себе, что хочу активно жить. И тогда сам себе говорю: а давай ты попробуешь здесь, в Иркутске, активно жить, а там уж посмотрим. С тех пор я совершенно счастлив. Мне кажется, здесь есть все для этого необходимое — природа, работа, друзья. Единственное, чего мне здесь, пожалуй, не хватает, — это тренинги личностного роста. Люблю я это дело. Но, может, это и хорошо. Значит, их можно сделать!
Юлия Вишневецкая

С властью не связывайся
Здесь и правда можно прожить без документов, денег и регистрации: крестьянский труд формальностей не требует. К тому же на любого беглеца от государства местные по традиции смотрят лояльно – в Гореловке наслоилось уже три волны «отказников»: потомки староверов (бежали от царя), потомки кулаков (бежали от советской власти) и последняя волна – бегуны от «нового мирового порядка».
О наличии власти на планете Земля здесь напоминает только облезлый Ленин. Рядом с ним мы встречаем местного жителя, который на мое «Здрасьте!» громко отвечает:
– А нас качает, качает волна морская!
Это – человек обыкновенный, государственный, с паспортом. Но таких здесь меньшинство. Воинствующий атеизм сюда толком так и не добрался. Тут не вступали в пионеры и в колхоз, не оформляли паспорта, отказывались от пенсий, не открывали двери во время переписи населения. Неформальный лидер «отказников» старой закалки – Иван Бухарин, красивый бородатый мужчина, старовер из согласия рязан-беспоповцев. Мужиков у здешних старообрядцев – дефицит: их бабы замуж не выходили в память своих матерей, хранивших верность расстрелянным мужьям, и теперь доживают свой век в одиночестве.
Все свои 55 лет Иван прожил без паспорта.
– Я, – говорит, – бригадиром в колхозе работал. Месяца 2–3 поработаю, потом сверху – сигнал: убрать! Мол, как это – без паспорта и бригадиром.… А через три месяца председатель сам приезжает: возвращайся, работать-то некому.
Из дальнейшего рассказа Бухарина как-то так получается, что добросовестней всего в этих местах на отечество пашут как раз те, кто исповедует принцип «с государством не связывайся».
– Да и чего в нем толку-то? – пытается Иван прикрыть мистику прагматикой. – Вот сейчас один мужик умер. У него сын в армии. Жена приходит в военкомат – телеграмму сыну дать. Ей говорят: «600 руб.». Ну вот как это?..
Где тут электронный концлагерь?
– Народу волшебного у нас тут хватает, – не без гордости говорит специалист районной комиссии по делам несовершеннолетних Светлана Дьячкова. – Одна бабушка через суд добилась права жить по советскому паспорту, потому что в нем нет шестерок. И ничего – живет, слава Богу. Но вот с таким случаем, как у Подистовых, мы столкнулись впервые.
Молодые беглецы из Новосибирска Подистовы, родив третьего ребенка, отказались регистрировать его в загсе.
– Закон вообще-то требует регистрировать детей, но никаких санкций за отказ не предусматривает, – жалуется Дьячкова. – Мы к Подистовым приехали домой – чистота идеальная, дети накормлены, ухожены, претензий никаких. Такое вот «неблагополучие» видим впервые. И ведь, судя по всему, случай этот – не последний, молодежи сюда много бежит. Как реагировать – не знаем, честно говорю. Вот, почитайте.
Светлана сует мне четыре листа объяснительной Подистовых. Написано складно, красиво, в жанре антиутопии: «Россия втягивается в общемировой глобализационный процесс, целью которого является построение «нового мирового порядка». Это будет не что иное, как всемирное сетевое общество, где упраздняется само понятие государства, где законы управления кибернетическими системами механически переносятся на систему социальную, а каждый человек становится обезличенным «узлом сети»… Это общественное устройство можно определить как электронный концлагерь в планетарном масштабе».
Осилив все 4 странички, понимаю: Подистовых возмущает, что при регистрации ребенка ему присваивается личный код, который во всех государственных базах данных фигурирует вместо полученного при крещении имени. Потом с помощью этого кода всех нас заставят что-то делать. Пока, правда, не совсем понятно, что. Но, наверное, что-то мерзкое. Например, ходить на работу. И все это, по мнению авторов объяснительной записки, – предсказанные еще в Библии признаки наступления царства антихриста, а за ним – и конца света.
От глобальных мыслей меня отвлекает голос чиновницы Дьячковой:
– Конечно, с точки зрения закона Подистовы нарушают права своего ребенка. Ведь регистрация дает ему права на какие-то льготы, детское пособие, медицинское обслуживание. Если он заболеет, врачи даже не будут иметь оснований ему помочь. Материнский капитал Подистовы тоже игнорируют, а ведь у них уже больше двух детей.
– А личный код – он все-таки присваивается человеку при рождении или нет?
– Вообще-то да, – признается Дьячкова. – Ребенка регистрируют в загсе, оттуда сведения поступают в налоговую службу, а там автоматически присваивают код. На всю жизнь. Подистовы и на остальных детей отказ в налоговую написали с требованием лишить их кода, а сами вернули свои паспорта в паспортно-визовую службу. По почте. Вместо паспорта у них теперь «тождество» – заверенная нотариусом бумага, что такое-то лицо является тем-то и тем-то.
Я прощаюсь со Светланой Владимировной, и уже в дверях она меня серьезно предупреждает:
– В Гореловку поедете – положите в карман дольку чеснока. Мы всегда так делаем. На всякий случай.
Станет ли Обама Антихристом?
Нас с фотографом в Гореловке и без чеснока все боялись: подозревали, что мы – тайная комиссия мирового правительства.
– Впервые в жизни москвичку вижу! – сказал при встрече фотографу Оле один из немногих обычных местных жителей Леха по кличке «Чемодан». Потом бухнулся перед ней на колени и добавил: – Выходите за меня замуж, я без вас жить не могу!
– Что это? – Гриша Подистов, глава семейства, о котором рассказывала Дьячкова, уставился на пленочный фотоаппарат. Выглядит камера и правда инопланетно: два объектива, видоискатель сверху. Гриша сразу понял, что это – машинка для зомбирования, и попросил ее спрятать. В доме Подистов разрешил снимать только стены и лишь на цифру, т. е. бесовской электронике он почему-то доверяет больше, чем старым добрым аналоговым технологиям.
Он и его супруга Света похожи на обычных симпатичных городских ребят, которыми они и были еще совсем недавно. Только у Гриши теперь благообразная бородка и волосы стрижены под горшок, как в кино про Древнюю Русь, а у Светы на голове – платок. По огромному дому бегают красивые детишки: два мальчика и девочка – та самая, которую Подистовы отказались регистрировать. На столе лежит какой-то самиздатовский журнал с анонсами на обложке: «Станет ли Обама антихристом?» и «Как прожить без денег и построить землянку за сутки?»
– Григорий, а давно ты в Гореловке? – пытаюсь я понять, насколько все это серьезно.
– Да пятый раз уже картошку выкопали, – Гриша, похоже, уже перешел на крестьянский календарь. На правах хозяина он интересуется нашим свежим взглядом: – Ну и как вам Гореловка?
– Красиво, только пьяные попадаются, – честно отвечаю я.
– А ведь я в баре три года барменом проработал, был у меня такой грех.
История Гриши, которому сейчас 28 лет, впечатляет. Сначала он был гопником и даже входил в бандитскую группировку.
– У нас была Невская бригада. Мы даже на зону старшакам «подогрев» посылали и сами мечтали сесть, – Подистов переходит на характерный прононс. – Из 20 человек семьи создали только двое. Остальные или сидят, или сторчались, или умерли уже.
Немного повзрослев, он увлекся рэпом и собрал группу с каким-то нехристианским названием «Темная сторона», ставшую, кстати, в Сибири довольно известной. Позже поступил в новосибирский педуниверситет и стал играть в КВН, где и познакомился со Светой. Нужны были деньги, и он устроился работать в один из престижных баров в центре Новосибирска. Как ни странно, именно в баре Гриша сделал первые шаги к вере. На раздумья о смысле жизни его натолкнуло созерцание «директорков», бессмысленно пропивающих огромные деньги:
– За вечер вдвоем тысяч 20 пропить могли. Напьются и ведут разговоры. А я слушаю – бармен же слушать должен. Вроде зарабатывают много, а зачем жить, не знают. Все несчастные, у всех – семьи распавшиеся…
В результате долгих духовных поисков Гриша пришел к чудной смеси православия и веры в сглаз, жидомасонский заговор и Майкла Мура. Вуз он бросил, потому что «образование все равно контролируется жидомасонами». Бросил и КВН, и рэп, и Новосибирск. Но ему до сих пор все хочется представить свою жертву еще более весомой.
– Я смотрю на своих ровесников, кто в Новосибирске живет… Скорее всего, я бы сейчас уже был каким-нибудь директором с зарплатой 700–800 тысяч (вообще-то в Новосибирске таких зарплат нет, но Грише доставляет мазохистское удовольствие думать обратное. – Прим. «РР»). А тут нам и 5000 в месяц хватает. Одежды мало покупаем, а кормимся со своего хозяйства, – Гриша любовно перечисляет: – Лошадка, коровки, две телки и бычок, десяток овечек.
– А дом посмотри какой у нас! 6 комнат! В Новосибирске мы бы сейчас ютились в однушке по ипотеке. Посмотри хотя бы с позиций атеиста: что бы мы в городе имели? Взрослые там вкалывают, как проклятые, – ради чего? Ради денег. А детей своих не видят. У меня бы сейчас было уже три гражданских брака. У нее, – Гриша показывает на свою красивую жену, – 10 абортов. А потом рожают одного ребеночка, всего больного.
Довольно быстро речь Гриши приобретает интонацию проповеди. К о. Валентину, когда-то надоумившему Подистовых уехать в Гореловку, у него отношение снисходительное: ну да, мол, есть такой священник. Но сам-то он из города не бежит, все думает там спастись. Примерно такое же отношение у Гриши ко всему: церковной иерархии («уходит благодать из храмов!»), успешным в миру людям («директорки и депутатики»), да и к человечеству в целом («ослиная серая масса»). Не говоря уж обо мне, его ровеснике («э, милый-дорогой, ты многого не знаешь!»).
Мировая история в его пересказе упрощается донельзя. Есть Святая Русь и многочисленные враги, мечтающие ее извести: антихрист, американцы, масоны, евреи, компьютеры, телевидение, СМИ, банковские карточки, Интернет и прочие искусители современного мира. Все просто, и я уже начинаю чувствовать, насколько эта простота заразительна.
Врата в рай со створками
Центр Бердска, небольшого города-спутника Новосибирска. Красивая Сретенская церковь, новой деревянной обшивкой напоминающая сауну. На входе – актуальное для этого города объявление: «Молебен об исцелении страдающих от наркотической, алкогольной, игровой зависимости и для их родителей проводится каждый четверг». До недавнего времени настоятелем этого храма был духовный отец гореловских переселенцев, протоиерей Валентин Бирюков. Теперь по возрасту он выведен за штат, место настоятеля занял его младший сын, но батюшка по мере своих возможностей продолжает служить вместе с ним. О. Валентин – смешной и симпатичный, в пиджаке, с золотыми зубами и привычкой, когда говорит, поглаживать бороду.
– Спасибо, батюшка, что нашли время!
– Нельзя так говорить – «спасибо». Надо говорить «спаси Бог!», – реагирует о. Валентин. – Тебе вот было бы приятно, если бы от твоего имени отняли последнюю букву?!
Пока в моей голове проносится вихрь искаженных вариантов моего имени, отец Валентин начинает говорить, и скоро выясняется, что говорить он может очень долго. И убедительно.
Его жизнь интересна тем, что на всем ее протяжении (рождение в раскулаченной семье, война, ранение, возвращение, работа продавцом) его сопровождали знамения свыше. Однажды кто-то подкинул помиравшей с голоду семье мешок картошки – Бог помог. Главу семейства хотели было отправить в лагерь, но он в тот день ушел на охоту. Во время войны в артиллерийский расчет будущего о. Валентина – по его молитве – не попала немецкая бомба. Правда, в спине у него на всю жизнь остался осколок – ну так это чтобы он не забывал о помощи свыше.
На войне он пообещал Богу посвятить себя служению Ему. Если выживет. Но война закончилась, и он свое обещание, как водится, позабыл. И тут произошел еще один чудесный случай: однажды в магазин, где он тогда работал, зашел незнакомый старичок и напомнил о данном обете. А в доказательство своих «особых полномочий» рассказал подробности его, Валентина Бирюкова, предыдущей и, самое главное, будущей жизни: как он познакомится со своей женой, как поедет в Казахстан купаться в святом источнике и ему в рот залетит муха, и что в Барнауле его впавшая в кому тетка Клавдия увидит рай.
Даже сны свои отец Валентин считает не просто снами, а видениями. Видел он и загробный мир. И ворота рая – «со створками, как японские, в аэропорту».
– Однажды вижу я: везде – огонь! Я закричал (тут батюшка действительно начинает кричать): «Что это, Господи?!» И голос откуда-то сверху сказал: «Вся земля гореть будет!»
Про Гореловку во сне ничего не было, на нее выбор отца Валентина пал по двум причинам. Во-первых, в тех местах его семья была в ссылке. А во-вторых, та земля обильно полита кровью мучеников.
– Почему же вы сами туда не едете?
– А на это мне еще одно видение было. Я тогда болел и думал уже, что умираю. Будто бы лежу я в гробу, а ко мне люди вереницей идут. И – голос: «Рано тебе еще умирать! Ты нужен людям».
– А как отличить, где видение, а где обычный сон?
– Если от Бога – то не забудется и сбудется.
Он помнит все подробности случившихся с ним чудес, и даже в деталях описывает увиденный «божественным космонавтом Клавдией» рай. Правда, в какой-то момент начинает повторяться: снова показывает своим посохом, как на него летел фашистский снаряд, снова кричит: «Господи! Оставь меня в живых, буду славить Тебя как могу!». И в ту же секунду снаряд, показывает о. Валентин, меняет свою траекторию.
После долгого разговора с батюшкой мы с фотографом Олей выходим на улицу духовно накачанными, и даже перекачанными. Заходим пообедать в ближайшее кафе. В нем никого нет, а из динамиков льется странная песня, которую я ни до, ни после ни разу не слышал: положенный на жесткий бит замогильный голос повторяет: «Бог есть! Бог есть!»
Мы переглядываемся: ты тоже это слышишь? Значит, это – знак обоим.
Три шестерки плюс бесконечность
– Ой, Россия, ты мати моя, // Ой, крута же ты, мать, жестока. // А и нет сил тебя, мати, любить, // Да и некому тебя, мати, жалеть! // Да и некому твою землю пахать, // Да и некому ворога не пущать. // А и жить в тебе, мати, нельзя. // Можно только душу спасать.
Это прямо в мой диктофон поет Татьяна Семенова, подруга и сверстница Подистовых. У нее красивый голос, симпатичное лицо в веснушках и фигура, достоинства которой хорошо заметны даже под мешковатой одеждой. Таня – очень хозяйственная: у нее – большой огород и три коровы. Творог и сметану она возит в райцентр Подгорное на базар.
– Из меня же хотели вторую Пелагею сделать (известная фолк-певица, тоже родом из Новосибирска. – Прим. «РР»), – скромно отвечает на комплименты Таня. – Но я не хочу. Земная слава – суета. Прославишься, а дальше что?
Во всем, что не касается конца света и нового мирового порядка, жители Гореловки – нормальные современные люди. Ну, разве что не фотографируются никогда… В Новосибирске Таня училась в педагогическом университете, увлекалась студенческой самодеятельностью. Теперь на фотоснимки из прошлого смотрит с безразличием. Правильно ли это – скрывать Богом данный талант? Этот вопрос теряет всякий смысл, если на носу – конец света и спасение души.
Свой большой дом с хлевом и огородом Таня купила за 30 тыс. руб., заработанные в качестве няни в какой-то состоятельной новосибирской семье. Сейчас таких цен в Гореловке нет: после наплыва прозревших они поднялись втрое-вчетверо. В доме у Тани чисто прибрано, в каждой комнате висят иконы, компьютер в углу по-деревенски накрыт нарядной тряпочкой.
– А то бывали случаи, когда в выключенном экране видели ужасный лик дьявола, – отвечает хозяйка и, ловя мой скептический взгляд, добавляет: – 10 лет назад я бы тоже на нас смотрела как на полоумных. Я тоже духовно спала. А потом начала прозревать. Без печати антихриста жить все сложнее и сложнее. Сказано же в Писании, что в последние дни нельзя будет без числа зверя ни покупать, ни продавать. У вас там в паспортах уже три шестерки давно, а вы и не знаете.
На мою просьбу показать наконец эти злополучные шестерки Таня просит дать ей паспорт. Протягиваю документ не без опаски – как порвет сейчас или бросит в печку. Но она спокойно открывает его на первом попавшемся развороте и показывает вензель вокруг номера страницы. Закорючки действительно складываются в шестерки. Снизу, правда, есть и восьмерка (точнее, бесконечность), но она – явно не в счет. Еще шестерки служат фоном для слова «Россия» – и тоже на каждом развороте. Причем их тут не три, как должно быть по Библии, а целых шесть. Видимо, чтоб уж наверняка.
Государство не возражает
Местная деревенская администрация – настолько маленькая (состоит из одного человека), что делит свой небольшой административный домик с магазином.
При входе висят два объявления. Одно – экономического содержания: «Кому нужен хрен – копайте, только своей лопатой. Телефон 41-25». Второе – политического: «Всем жителям, кто не получил в 14 лет или не заменил паспорт в 20 и 45 лет, обращаться в администрацию».
– «Отказники» нас не страшат, – говорит Татьяна Новожилова, администратор деревни (так официально называется ее пост). – Милиция, например, довольна, что, несмотря на нарушения паспортного режима, в остальном они очень даже смирные. Не в пример Вове Козлу и Лехе Чемодану.
– А как вы вообще относитесь к тому, что сюда едут такие люди?
– Какие «такие»? Обыкновенные. Слава Богу, что едут, – хвалит «понаехавших» Новожилова. – Основная масса – труженики. Да, они официально нигде не числятся, но у всех – свое хозяйство. И вот что я скажу: как человек работает, как к другим относится – вот для меня его паспорт. А бумажка, которая в кармане лежит, – это так, формальность. И еще они очень грамотные: все-таки городское образование. Я читала письмо Подистовых в опеку и диву давалась, как все грамотно описано! С первого раза и не поймешь. Правда, много агитируют за свою веру. Придут и начинают рассуждать, рассказывать чего-то – мозгодуйством, в общем, занимаются. Я Грише сразу интеллигентно так говорю: «Гриш, заткнись. Говори, чего надо, и иди».
Еще одна калитка, на самой окраине Гореловки. Вместо почтового ящика – школьный ранец. На крыльце – мешки из-под муки с брендом «Простое и вечное».
Надежда Георгиевна Ермолаева бросила Новосибирск не только по религиозным соображениям, но и ради сына-инвалида, с которым в городе не проживешь. Поначалу в разговоре с нами она словно оправдывается:
– Посмотрите, какая тут речка! Какой обрыв красивый! А небо тут какое низкое! Нигде такого неба не видела.
До 90-х Надежда Георгиевна работала на каком-то важном новосибирском военном заводе – начальником цеха, в профсоюзе, в партактиве. Потом оборонка рухнула, а тут еще у сына Андрея обнаружили опухоль мозга. В общем, Ермолаева пришла к Богу, как тут говорят, «через страдания».
Одна из комнат в ее доме «зарезервирована» для о. Валентина: здесь он останавливается, когда приезжает в Гореловку. В другой комнате на столе лежит диск с надписью от руки «Враги отечества». Рядом – книжка «Правила отработки греха аборта».
Приезжает Андрей. У него – заметный рубец на лбу, след от лоботомии. Сразу видно, что он – хороший парень: хлопочет, угощает нас чаем с домашним пирогом и медом с соседней пасеки. Присев в сторонке, начинает грызть кедровые орешки, и вдруг, не к месту, вклинивается в наш разговор:
– Вера – это любовь. Любить надо всех, даже врагов. Пришел к тебе враг, а ты накорми его, напои.
Я давлюсь куском пирога. Еле откашлявшись, говорю «спаси Бог!», допиваю чай и прощаюсь. А через несколько дней лечу домой и размышляю, укрепит ли этот репортаж «новый мировой порядок» или наоборот – ослабит.
Дмитрий Виноградов
Почему Россия — не Москва
Что такое провинция? Почему в России даже города-миллионники считаются провинциальными? Почему Иркутск больше провинция, чем Новосибирск? И все ли большие русские города обречены стать «как Москва» или есть менее травматичные пути прощания с провинциальностью?
С Артемом и Катей я встречаюсь у памятника Вампилову.
— Провинциальность? Да я вообще не знаю, что такое провинциальность. Мне кажется, не надо вот так делить людей. У каждого своя жизнь. Они — типичные представители молодого среднего класса. У них есть праворульная машина, двухлетняя дочка и строящийся загородный дом. Внешне они производят впечатление скучных, правильных бюргеров: спокойные, доброжелательные, нейтрально и аккуратно одетые, тихо говорят, медленно двигаются. Поначалу у меня возникает ощущение, что разговор не заладится: какая разница, провинция или нет, если у каждого есть своя нормальная жизнь.
— На Западе, — говорю я, — город такого размера, как Иркутск, с населением под миллион просто не смог бы считать себя провинцией. Даже если бы захотел, не получилось бы.
— На Западе — это где?
— Ну, в Европе, в Америке
— У нас, — улыбается Артем, — когда говорят «на Западе», имеют в виду Москву и Питер. Да о чем тут вообще говорить…
— А по-моему, есть о чем! — неожиданно вступает Катя, которая до этого все время скромно молчала. — Иркутск — самая настоящая провинция. В минуты отчаяния мне даже хочется отсюда уехать.
— Чего конкретно здесь не хватает? — спрашиваю я.
— Дорого все очень, дороже, чем в Москве, потому что все оттуда везут. С ребенком пойти некуда. В городе два фонтана, и там по вечерам все дети города. Музыку живую послушать негде: просто посидеть пива выпить — сколько угодно, а концертов нет, или это запредельно дорого… Впрочем, сейчас в провинции уже не везде страдают от дефицита «столичности» в смысле просто дефицита — вещей, услуг, событий. По словам профессора Московского архитектурного института (МАрхИ) Вячеслава Глазычева, сейчас в России около десятка городов, которые на бытовом уровне практически ничем не отличаются от столицы. «Можно говорить, что у нас не одна, а десять столиц, — утверждает Глазычев.
— Москва, Питер, Казань, Екатеринбург, Челябинск, Ростов, Самара, Красноярск, Нижний Новгород… Скоро в их числе будут Новосибирск и Пермь, которые пока никак не могут преодолеть комплекс “промышленного города”. Во всех этих столицах есть все необходимое для комфортной жизни: кинотеатры, рестораны, гостиницы, боулинг и так далее». Можно соглашаться или спорить со списком Вячеслава Глазычева, но очевидно одно: географическую удаленность, равно как и налоговый и политический столичный «насос», иногда все же удается преодолеть.
Иркутск пока не входит в почетный клуб «третьих столиц». Именно поэтому здесь так часто говорят и о желании уехать в Москву, и, наоборот, об особом сибирском характере, об особом очаровании провинциальности.
Защитный рефлекс
Главная проблема Иркутска, говорит замминистра культуры и архивов Иркутской области Сергей Ступин, это вечный конфликт чиновничества и купечества. Купечество здесь традиционно очень сильное, еще со времен Великого шелкового пути. А вот с градоначальниками Иркутску никогда не везло. Все они стремились задавить купцов, мучили их взятками и поборами. У нас было два светлых момента: в начале XIX века при Сперанском и в середине — при Муравьеве-Амурском.
С руководителями Иркутску действительно не везло феноменально, похлеще Салтыкова-Щедрина. Губернатор Трескин, например, задумал выровнять русло реки Иркут из-за ее, как ему казалось, «неправильного течения». Устье реки перегородили дамбой, но дамбу смыло.… А еще он боролся с употреблением чая и мог высечь розгами всякого, чья домашняя пища ему не понравилась. Губернатор Цейдлер не любил циркачей и всячески препятствовал появлению в городе заезжих артистов. (Кто знает, может, из-за этого сюда до сих пор так редко приезжают гастролеры?) Губернатор Броневский, будучи запойным алкоголиком, по вступлении своем в должность попытался стать трезвенником, но не выдержал напряжения и сошел с ума. А сменивший его губернатор Руперт приказал прежде всего выбелить трубы на крышах и уничтожить веревки, при помощи которых местные жители запирали ставни домов…
Мы беседуем с Сергеем Ступиным в министерстве культуры, которое располагается в двух старинных деревянных особняках, таких уютных, что складывается ощущение, будто можно просто постучать и зайти в любой кабинет. Ступину около шестидесяти. Он дружит с писателем Распутиным, большой поклонник его творчества. Нет смысла спрашивать, почему он не уехал в Москву: Ступин, историк по образованию, помнит свою родословную с XVIII века, он любит и чувствует Сибирь и свои сибирские корни.
— В 90−е годы губернатор Говорин пытался налаживать отношения с местной «боярщиной», но не смог взять их под свой контроль, поэтому был отстранен от должности. Вместо него был назначен Тишанин, бывший начальник РЖД. Про него говорили: настоящий железнодорожник — может ехать только там, где проложены рельсы. Еще говорили, что он — как фотоаппарат Polaroid: быстро снимает. Он начал в пух и прах бить купцов, боролся с семьей Якубовского. Но подал в отставку из-за конфликтов с законодательным собранием. Пришедший ему на смену губернатор Есиповский ни в чем плохом замечен не был. Разве что в любви к охоте. Эта страсть его и погубила: его вертолет разбился, когда он летел на охоту. Что касается нынешнего губернатора…
Я с усилием заставляю себя понять, что разговор идет уже в настоящем времени — эта «история города Глупова» до сих пор воспринималась как-то отстраненно.
— Ну а сейчас-то что?
— А сейчас 65% студентов Иркутского госуниверситета, по результатам опросов, не любят свой город и хотели бы из него уехать.
— Да, это я заметила. И что же делать?
— Я считаю, надо объединять людей на основе православных святынь. Святитель Иннокентий Иркутский был феноменальным человеком. Я считаю, надо построить паломнический центр, куда съезжались бы люди со всех концов страны — и православные, и не православные. Это место могло бы стать символом для всех — символом возрождения Сибири.
Вот-вот, типичная провинциальность. Или это говорит мой московский снобизм? Православные святыни — это неплохо. Отлично, хороший проект. Но город — просто город, не столичный и не провинциальный — не может сделать себе имя и экономику на одной традиционной «фишке». Город — это то, где есть все, и всего много, с избытком.
— Святыни, конечно, хорошо, но, мне кажется, это вряд ли даст городу ощущение полноценности. Молодежь говорит, что здесь мало культурной жизни, что все интересные деятели уезжают…
— А, это вы, наверное, про Вырыпаева? Он ведь очень обижен на Иркутск, считает, что мы его выгнали, вытеснили. История с прославившимся в Москве иркутским режиссером Иваном Вырыпаевым действительно очень показательна. Потому что безошибочный критерий провинциальности — это судьба необычных людей с бешеной энергетикой и амбициями. В настоящем городе, где «все есть», найдется место и таким. А в провинции, где «все друг друга знают», все места как бы и заняты: есть одна святыня, одна культура, одна политика, одна тусовка. Хорошая или плохая, но одна.
— Мы были хулиганами, — рассказывает бывшая актриса труппы Вырыпаева Светлана. Сейчас она преподает в Школе-студии при МХАТ. — В первом нашем спектакле были фея и горбунья, и они целовались. У нас был очень талантливый курс, несколько лет мы маялись в поисках работы по разным городам, потом наконец решили сделать театр у себя на родине. И вот председатель иркутского отделения Союза театральных деятелей Борис Деркач, который хотел развивать молодежный театр, дал нам помещение в Доме актера. Конечно, наш театр никаких денег нам не приносил, но мы были молодые, нам надо было очень мало — все где-то подрабатывали. А Иван Вырыпаев, наш руководитель, он очень скандальный человек, любит эпатаж. Однажды на одном собрании, где присутствовал Деркач, Иван прямо так и сказал: «Я считаю, у нас нет молодежного театра. Все, что я вижу вокруг, слабо и неинтересно». В Москве такие слова звучали бы вполне невинно, но в провинции, где театральный круг очень узкий, они обращены к конкретным людям, которые воспринимают это как личное оскорбление. Конечно, Деркач обиделся и выгнал нас из Дома актера. Потом мы некоторое время пытались найти другое здание и, не найдя, уехали в Москву, где присоединились к Театру.doc.
— Ну что я могу сказать? — комментирует Сергей Ступин. — Вот возьмите хоть эту книжку, с фестиваля современной поэзии. Вот я ее открываю — а там маты. В нашем городе это воспринимается с трудом. У нас ведь город очень традиционный, многие культурные деятели в своих оценках часто ориентируются на моральный авторитет Распутина: «А что сказал бы Валентин Григорьевич». И у Вырыпаева в спектаклях — маты. Я понимаю его обиду, но ведь, если бы он не уехал в Москву, он бы не стал Вырыпаевым! И ведь он сам говорит, что его по-прежнему тянет на родину. Да, большинство иркутян не способно понять его творчество. Провинция — это очень сложное, тонкое явление, с очень сильным защитным рефлексом…
В разговорах о провинциальности вообще то и дело возникает тема театра. Особенно если вы — в провинции. В Иркутске все жалуются на ограниченность театральной жизни. Спросить меня, москвичку, когда я последний раз была в театре, — не вспомню. Но одна из необходимых черт современного города — это как раз избыточность, наличие возможностей, которыми не пользуешься.
Театр в провинции — не только способ провести время, это в первую очередь признак того, что вокруг что-то происходит. Поэтому жители городов с развитой театральной культурой чувствуют, что вокруг них все кипит и бурлит, пусть они даже не следят за каждой премьерой. Это отражается на их самосознании, а значит, и на всем остальном, что происходит в городе — на политике, бизнесе, строительстве. И это не прямое производное от денег. Например, некоторое время назад одним из центров театрального авангарда стал бедный и совковый Ижевск.
Феномен потолка
Что случилось? Почему трассу перекрыли?
— Да, говорят, Гришковец собаку сбил…
На Байкальской, одной из главных улиц Иркутска, идут съемки фильма «Сатисфакция» с Евгением Гришковцом в главной роли. Вообще-то, Гришковец и его съемки для нас — феноменальная удача. Во-первых, сам Гришковец — главный в России певец провинциальности и сибирского характера. А во-вторых, в съемках «Сатисфакции» заняты чуть ли не все лучшие люди Иркутска: гример, костюмер, массовка найдены по знакомству, в организации съемок режиссеру помогают чиновники и олигархи.
Сюжетная основа фильма простая: двое мужчин, одному за сорок, другому за тридцать. Оскорбленное самолюбие, конфликт поколений и мировоззрений, «честность» одного и «порядочность» другого, жесткие провинциальные «правила» и цивилизованные «законы». Старшего, богатого уверенного в себе бизнесмена, возможно даже с криминальным прошлым, играет Гришковец. Младшего, перспективного клерка с лондонским образованием — Денис Бургазлиев.
Хотя съемочная группа специально не информирует население о своих планах, вокруг неизбежно появляется толпа зевак. Гришковца в Иркутске любят, как и везде в Сибири. Считают своим. Один молодой парень с жаром доказывает мне, что Гришковец родом не из Кемерово, а из Иркутска:
— Нет, ну ты послушай, что он говорит… Вот ты встаешь утром, выходишь на улицу, вот этот пар, темнота, и там, где-то вдалеке, огоньки — школа. Это же он про нашу жизнь пишет, про Иркутск!
— Ну почему же, это может быть сказано и про Москву, и про любой другой город…
— Вот ты когда-нибудь собаку ела? Нет? А я ел! С охотниками. На зимовье, в лесу. Мы тогда чуть не заблудились, замерзли, еды не было. Я сначала сам не понял, что за мясо они мне подсунули.
Режиссеры фильма — главный иркутский рекламщик Юрий Дорохин и его 26−летняя коллега Анна Матисон. Она также соавтор Гришковца по сценарию «Сатисфакции». Аня — потрясающе талантливая, целеустремленная девушка, титан и вундеркинд. Сейчас она учится в Москве, на втором курсе ВГИКа. Но до этого успела сделать головокружительную карьеру в Иркутске, к двадцати годам пройдя путь от внештатного корреспондента до продюсера региональной телекомпании. Смотреть, как она работает, — одно удовольствие: высокая, худая, как щепка, лихорадочный блеск в глазах, снайперская сосредоточенность на лице.
— Когда я произношу слова «культурная провинция», — говорит Аня, — мне очень обидно. Я люблю Иркутск, я всегда останусь иркутянкой. Иркутск в первую очередь провинция географическая. Но это, конечно, накладывает отпечаток на культурную жизнь. Что это значит? Ну, например, в Московской консерватории Гергиев с Мацуевым, тоже выходцем из Иркутска, играют Третий концерт Рахманинова. И оркестр Иркутской филармонии исполняет тот же самый концерт. Ноты одни и те же, но качество исполнения другое. Почему? Да потому что у них почти нет возможности услышать игру других исполнителей. И, я уверена, то же самое с любой другой профессией, кроме тех, которые связаны непосредственно с Сибирью. Конечно, ученый — специалист по Байкалу без сомнений поедет работать в Иркутск, и у него там будет космос…
В перерыве между съемочными эпизодами подхожу к Гришковцу, чтобы поговорить о фильме и о провинциальности.
— Почему вы решили снимать фильм в Иркутске?
— Во-первых, потому что здесь оказалось просто все организовать. Где еще нам дадут перекрыть центральную улицу в середине дня? Во-вторых, действие нашего фильма могло произойти только в провинции. В Москве, в Питере или даже в Екатеринбурге такая история могла тянуться годами. В мегаполисе герои не стали бы открыто выяснять отношения. В провинции очень многое держится на самолюбии, здесь есть своеобразный кодекс чести. Героя оскорбили — значит, он должен ответить, продемонстрировать свою силу. Он у всех на виду. Он, может быть, и хотел бы жить по-другому, но не может. В провинции живут не по законам, а по правилам.
— Почему, на ваш взгляд, люди уезжают из провинции?
— Для творческого человека это прежде всего отсутствие культурной среды. Всякому художнику, артисту, писателю необходима оценка его творчества, нужно общаться с себе подобными. Кроме того, аудитория тоже должна меняться. Когда-то мне казалось, что зрители в Кемерово будут смотреть меня всегда. Но прошло время, и я им надоел. Это нормально. Тогда я понял, что нужно уезжать.
— Что, по-вашему, надо сделать, чтобы это изменить?
— Я не знаю. Для этого надо, чтобы Россия перестала быть централизованной страной, чтобы самолеты из Новосибирска во Вьетнам летали не через Москву…
По сценарию у героя Гришковца есть водитель. Он ничего не говорит, только с непроницаемым лицом открывает и закрывает дверцу машины. Его играет крупный предприниматель по имени Женя. Он — гендиректор ЗАО «Сибирьгазтеплострой».
Иркутск действительно большая деревня: на следующий день я случайно встретила Женю на улице. По виду он, брутальный мужик с татуировками и золотыми часами, идеально подходит для своей роли. Как будто настоящий водила где-то нахватался умных слов:
— У меня с детства жадность к знаниям. Я, вообще-то, из деревни. Сейчас учусь на факультете политологии. А в сентябре в Москву поеду, буду работать в администрации президента. Нужно развиваться, осваивать мир, приносить больше пользы…
— Но почему сразу в Москву? Неужели здесь нечем заняться?
— Да что здесь делать? Здесь все друг друга знают, все под одним одеялом спят. Вот представь себе, ты живешь, развиваешься и однажды понимаешь: здесь больше делать нечего. Все, потолок.
Про феномен «потолка» я не раз слышала от разных людей, объясняющих, почему они переехали или хотят переехать из провинции в Москву.
— В возрасте 24 лет я одновременно работал в трех местах, — рассказывает Алексей Семенов, юрист, член партии «Единая Россия». — Преподавал в Иркутском госуниверситете, был председателем профкома студентов и помощником депутата законодательного собрания области. Получал где-то тысячу долларов в месяц и напрочь не видел своего дальнейшего развития в регионе. Те должности, которые я бы мог занять в городской или областной администрации, занимали люди старше меня, а я еще не вышел из разряда «молодых активистов».
Утечка мозгов — как снежный ком: одни уезжают, другие жалуются: «Москва — пылесос, туда уходят все налоги, все яркие люди в Москве». Мне то и дело становится неловко, хотя в карьерном отъезде ведь по-хорошему нет ничего трагичного. Чувство трагизма — от другого. Уезжают, как на другую планету, с надрывом и болью: прощай, родина, со всеми плюсами, с сибирской домашностью и человечностью, привет, жесткая и циничная Москва!
И это не только потому, что Москва — «пылесос». Ведь теоретически возможна и «мобильная карьера»: уехал в Москву на большие деньги, через год вернулся на более высокую должность домой или куда-то еще, в другой город. Так во всем мире устроена университетская и корпоративная мобильность. Но чтобы было куда вернуться, нужны соответствующие рабочие места, позиции. А когда «все свои», когда кругом местечковые взаимосвязи, то возвращаться некуда. Не увольнять же «своих» ради выскочек.
Возможность экспансии
Работаем с киношниками в большом коттеджном поселке ТСЖ «Молодежный». Это — местная Рублевка, которую здесь, как и в большинстве провинциальных городов, называют «Долина нищих» или «Поле чудес». Здесь живут губернатор, депутаты, крупные предприниматели — домашний союз чиновничества и купечества.
Коттеджи такие высокие, что кажется, идешь по улицам небольшого средневекового городка. Наш, наверное, самый эстетский — в стиле Райта (Фрэнк Ллойд Райт — знаковый архитектор для американской провинции, строитель современной «одноэтажной Америки». — Прим. «РР»). И празднично разукрашен воздушными шариками: по сюжету один из героев, друг Саши, отмечает день рождения сына. Пока оператор выставляет свет и настраивает камеру, хозяин коттеджа, предприниматель Виктор Кондрашов, скучает на кухне, которая по площади чуть меньше небольшого ресторана.
— Я думал, кино — это интересно, а тут сидишь, все время ждешь чего-то, как на вокзале. Может, кто-то в шахматы хочет сыграть? Я радостно цепляюсь за возможность оказаться лицом к лицу с очень богатым человеком. Шахматы большие, тяжелые, из латуни, я играю серебристыми фигурами (они же черные), он — золотистыми (белые). Кондрашову почти пятьдесят, но выглядит он на 35 — стройный, подтянутый, с живым подвижным лицом. Его жена почти вдвое моложе.
— Я тоже немного режиссер. Люблю розыгрыши. Как я женился — об этом весь город говорил. Марина не знала, что она выходит замуж. Она думала, что снимается в рек¬ламе в роли невесты. А мне не говорила, потому что я ей запретил работать моделью. И вот она подбирала себе платье, делала прическу, в этом свадебном платье садилась в вертолет, летела куда-то — и все это снимали на видео. В загсе ей завязали глаза, и только потом она увидела меня. У нее был шок! Заплакала, засмеялась, а я говорю: «Ну, ты ж хотела замуж!» (Е2 — Е4.)
— Почему же вы ей запретили работать моделью? (E7 — E5.)
— Чувство собственности. Это абсолютно нормально. Я считаю: если ты — замужняя женщина, не надо ходить по подиуму на глазах у чужих мужчин. Другое дело, если это — профессия, ты делаешь карьеру. Но для нее же это — развлечение. Кондрашов играет, почти не глядя на доску, реагирует на ходы мгновенно, параллельно рассказывая мне забавные истории про «лихие девяностые» — как он торговал парфюмерией, открывал первый в городе видеосалон, по несколько раз использовал одни и те же билеты, напечатанные каким-то профсоюзом…
— Фильм «Хищник» со Шварценеггером я знаю наизусть, потому что посмотрел его 37 раз.
— Чем сейчас занимается ваша компания? Строительством?
— В том числе и строительством.
— А почему вы не в Москве? Вы ведь наверняка достигли здесь своего потолка? (Я делаю рокировку.)
— А я жил уже и в Москве, и на Мальте. Почему сюда вернулся — это уже другой вопрос, связанный со смыслом жизни.
— И в чем он, по-вашему? (Чтобы избежать катастрофической «вилки», жертвую пешкой.)
— В экспансии. (Ферзь выходит в центр поля; мне становится страшно.) Еще Солженицын сказал: смысл человеческой жизни — в экспансии. Здесь я знаю, что могу расшириться, захватить наибольшее пространство. Сначала семья, ребенок. Ребенок — это продолжение меня. Потом (нападает на мою ладью) — род. Потом (скрытый шах) — клан… Как развивались средневековые государства? Возьмите хоть Грузию: сначала это были небольшие семейные группы, которые разрослись в княжества… (Я теряю коня.)
— Почему вы тогда не пойдете в политику? Это же хороший способ осуществить экспансию.
— А я уже там. В законодательном собрании. Депутат. Сказать, от какой партии?
— «Единая Россия», конечно?
— А вот и нет. КПРФ.
— Но почему?
— Ну, хотя бы потому, что мой отец — коммунист. И еще я всегда на стороне слабого. Шах. А КПРФ — оппозиционная партия. У меня в детстве знаете какая кличка была? Шнурок. Потому что я был самый маленький, щуплый. Но зато самый юркий и самый умный. И помогал слабым решать их проблемы умом. Шах. У нас с вами синдром попутчика. Я однажды ехал в поезде с незнакомой женщиной и всю свою жизнь ей рассказал, а она мне — свою. Шах. А здесь кому что скажешь — сразу слухи пойдут, город же маленький. Шах. Вот если бы вы еще журналистом не были…
— Неужели вам совсем не с кем поговорить по душам? — мне его почти жалко.
— Нет, почему же. У меня есть друг. Мы с ним с детства вместе. Но ему тоже всего не расскажешь. Мужчинам нельзя демонстрировать слабость. Мат.
Закат провинциальности
Возможность экспансии и переживания от излишней открытости в провинциальном Иркутске — это шах нашей теме. Но как быть с тем, что молодежь повально мечтает уехать?
Впрочем, в бизнесе и политике, как мне говорили еще в Москве, ситуация совсем не застойная. Вековой конфликт чиновников и купечества почти решен в пользу купечества. Несмотря на постоянные проблемы с губернаторами, бизнес в Иркутске разный и не монопольный, «тусовка» не одна, их несколько, и они научились договариваться. И любой губернатор должен будет с ними договариваться — и не только по линии «Единой России» или там КПРФ, а напрямую.
Такой большой и экономически развивающийся город, как Иркутск, не сможет долго оставаться провинциальным. Здесь рано или поздно «будет все». В том числе, наверное, к сожалению, и другой темп, и другие отношения между людьми, менее свойские. Вопрос только в том, будет ли у Иркутска к моменту угасания его сибирского характера что-то за душой, кроме потребительской и деловой насыщенности.
Артем и Катя, которые встречали меня у памятника Вампилову, ведут меня в гости к своему другу, фотографу Виталику. Я рассказываю им, как у меня в Иркутске сломалась камера и я полдня моталась по городу в поисках сервис-центра «Кэнона», но оказалось, что ближайший находится в Москве. (В итоге меня спас угрюмый гениальный мастер по фамилии Пещеров, работающий в Институте солнечно-земной физики.) Артем и Катя жалуются, что с фотографической жизнью в Иркутске все, конечно же, очень и очень плохо:
— Выставки? Да никому это здесь не нужно. Вот мы когда фотошколу делали…
— Фотошколу? — удивляюсь я.
— Да, мы год назад открыли здесь фотошколу.
— Единственную в Иркутске? — спрашиваю я, помня, что провинция — это там, где все единственное и уникальное, местное.
— Нет, почему же. Говорят, где-то есть еще одна. Я и мой друг — преподаватели, Катя — администратор. Вы не думайте, мы не претендуем на то, чтобы быть Картье-Брессонами, — почему-то оправдывается Артем. — Нас местный Союз фотографов уже обвиняет в том, что мы учим людей, не имея на это морального права. Но я же и не говорю, что я какой-то гуру. Я просто хочу познакомить людей с вещами, которых они не знают. Показать, как пользоваться камерой, рассказать, что можно делать живые, эмоциональные фотографии, заразить их творчеством, чтобы им захотелось снимать. И я счастлив, когда это получается, когда я вижу, что у людей горят глаза и они встают в пять утра, чтобы снимать рассвет. К нам-то сюда никакой Максимишин не приедет. А в этом Союзе фотографов одни старики. Снимают виды Байкала. Мы пытались с ними сотрудничать, мы ко всему открыты. А они не хотят.
Мы приходим к Виталику, он оказывается смешным худощавым парнем с хвостиком на голове, похожим на программиста и толкиениста, наивным и жизнерадостным. В отношении провинциальности Виталик настроен оптимистично:
— Я им всегда говорил: если в городе чего-то нет — это же хорошо! Значит, это можно сделать. Я, например, сейчас открываю свою фотостудию, и еще я чем только ни занимаюсь: веду бухгалтерию в двух фирмах, рисую в векторе иллюстрации для медицинского справочника, фотографирую свадьбы. Кручусь как-то.
— А почему ты, такой активный, не поехал в Москву?
— Я однажды хотел уехать. У меня был момент, когда я подумал: все, не могу больше — продаю все и уезжаю в Москву. Но потом сказал себе: Виталик, а чего ты хочешь? Только не надо себя обманывать этими словами про большие возможности. Чего ты конкретно хочешь? В конце концов я ответил себе, что хочу активно жить. И тогда сам себе говорю: а давай ты попробуешь здесь, в Иркутске, активно жить, а там уж посмотрим. С тех пор я совершенно счастлив. Мне кажется, здесь есть все для этого необходимое — природа, работа, друзья. Единственное, чего мне здесь, пожалуй, не хватает, — это тренинги личностного роста. Люблю я это дело. Но, может, это и хорошо. Значит, их можно сделать!
Юлия Вишневецкая

|
Метки: новости психология провинция |
Новая парти МЫЛА РУЧНОЙ РАБОТЫ. |
Здравствуйте, Друзья.
Ирина сварила новую партию мыла ручнной работы. Кокос- шоколад, Яблочное, хвойное.
Партия очень ограничена!!!!
Заявки присылайте на lenalite@list.ru
Ребята (Вадим, Алёнка, Ольга и все-все!!!) Оставляйте завяки "В контакте" (Адрес, полное ФИО)
Или пишите на прямой майл. Мыло от 5 кусков стоимость без пересылки 200 руб. Полностью натуральная основа растительные масла без химии.
Елена.
Ирина сварила новую партию мыла ручнной работы. Кокос- шоколад, Яблочное, хвойное.
Партия очень ограничена!!!!
Заявки присылайте на lenalite@list.ru
Ребята (Вадим, Алёнка, Ольга и все-все!!!) Оставляйте завяки "В контакте" (Адрес, полное ФИО)
Или пишите на прямой майл. Мыло от 5 кусков стоимость без пересылки 200 руб. Полностью натуральная основа растительные масла без химии.
Елена.
|
Метки: экомыло мелкий опт |
Найден артефакт, способный перевернуть представление об истории мира |
www.inauka.ru
http://www.x-libri.ru/elib/innet349/00000001.htm
Иркутские археологи на пороге мирового открытия. Во время раскопок возле строящегося моста через Ангару они обнаружили артефакт, способный изменить представления о Сибири.
Найденный пест может полностью перевернуть представление об истории мира.
Древнему предмету приблизительно 8 тысяч лет. Ученые считают, что он мог служить для дробления костей или размягчения волокна, из которого вязали сети. Однако, есть предположение, что он был нужен для растирания зерен.
Если такой факт подтвердится, то значит, иркутские ученые сделали мировое открытие.
Михаил Туров, археолог: "Пока нет ни исторических, ни археологических свидетельств о том, что в такую древнюю эпоху существовало земледелие в Прибайкалье. Наиболее древние центры земледелия связаны с предгорьями, с Ближним Востоком, с Кавказом".
Интерес вызывают не только древние предметы, но и сама почва. По одному из срезов видно, что много тысяч лет назад на месте Иркутска была степь.
А когда-то здесь даже рос дуб - так было тепло. Но потом наступил ледниковый период.
Николай Савельев, археолог: "Земля трещала от мороза. Вот какой степени холода пришлось пережить древним сибирякам".
Кости шерстистого носорога - самые древние находки. Их примерный возраст - от 40 до 100 тысяч лет. Раньше эти животные были очень распространены в Прибайкалье. Зверь небольшого роста, но очень опасный.
Сейчас иркутяне активно сотрудничают с японскими специалистами, которые увлечены идеей восстановить популяции древних животных по ДНК.
По словам археологов, сейчас главная проблема в том, что им не дают работать местные жители.
Частные дома в районе раскопок в ближайшее время планируется снести, несмотря на это, их владельцы не разрешают ученым копать огороды.

http://www.x-libri.ru/elib/innet349/00000001.htm
Иркутские археологи на пороге мирового открытия. Во время раскопок возле строящегося моста через Ангару они обнаружили артефакт, способный изменить представления о Сибири.
Найденный пест может полностью перевернуть представление об истории мира.
Древнему предмету приблизительно 8 тысяч лет. Ученые считают, что он мог служить для дробления костей или размягчения волокна, из которого вязали сети. Однако, есть предположение, что он был нужен для растирания зерен.
Если такой факт подтвердится, то значит, иркутские ученые сделали мировое открытие.
Михаил Туров, археолог: "Пока нет ни исторических, ни археологических свидетельств о том, что в такую древнюю эпоху существовало земледелие в Прибайкалье. Наиболее древние центры земледелия связаны с предгорьями, с Ближним Востоком, с Кавказом".
Интерес вызывают не только древние предметы, но и сама почва. По одному из срезов видно, что много тысяч лет назад на месте Иркутска была степь.
А когда-то здесь даже рос дуб - так было тепло. Но потом наступил ледниковый период.
Николай Савельев, археолог: "Земля трещала от мороза. Вот какой степени холода пришлось пережить древним сибирякам".
Кости шерстистого носорога - самые древние находки. Их примерный возраст - от 40 до 100 тысяч лет. Раньше эти животные были очень распространены в Прибайкалье. Зверь небольшого роста, но очень опасный.
Сейчас иркутяне активно сотрудничают с японскими специалистами, которые увлечены идеей восстановить популяции древних животных по ДНК.
По словам археологов, сейчас главная проблема в том, что им не дают работать местные жители.
Частные дома в районе раскопок в ближайшее время планируется снести, несмотря на это, их владельцы не разрешают ученым копать огороды.

|
Метки: архелогия иркутск |
Тайны карельской Биармии |
http://www.x-libri.ru/elib/smi02157/00000001.htm
"НЛО", Санкт-Петербург, n1-2(371), 10.01.2005
Автор: Алексей Попов
Родоначальником русского народа считается Гостомысл - личность настолько легендарная, что никто ничего конкретного о нем не знает, а в хрестоматийных исторических пособиях и учебниках по русской истории даже упоминания об этом человеке довольно редки. Об отце Гостомысла, князе Буривом, русские летописи почти ничего не сообщают, хотя правление последнего было исторически значимым.
По данным летописи новгородского епископа Иоакима (дата рождения неизвестна, умер в 1030 году), так называемой Иоакимовской летописи, которая дошла до нас лишь в пересказе русского историка В.Н.Татищева, Буривой "имел тяжкую войну с варягами и, многажды их побеждая, владел всей Бьярмией, то есть Корелиею до реки Кюмени, напоследок же при сей реке был побежден и, все почти войско потеряв, ушел в город Корелу и тут умре, а по нем наследовал сын его Гостомысл".
Считается, что сын Буривоя, Гостомысл - князь новгородский, - и пригласил на княжение в Новгород варяга Рюрика с братьями Синеусом и Трувором.
Во всех современных переводах "Повести временных лет", в хрестоматиях и учебниках говорится, что после прибытия на Русь Рюрик стал княжить в Новгороде, Синеус - на Белоозере, а Трувор - в Изборске. А вот в Ипатьевской и Радзивиловской летописях говорится совсем другое: придя в Новгородскую землю, братья-варяги первым делом "срубили" город Ладогу (ныне известный как Старая Ладога). В нем-то и начал править Рюрик и только по прошествии нескольких лет перебрался в Новгород.
В одном из списков "Сказания о Словене и Русе" есть любопытное уточнение: Рюрик "срубил" первую столицу державы Рюриковичей не на том месте, где долгое время находилась всем хорошо известная Старая Ладога - не на левом берегу реки Волхов в 12 километрах от Ладожского озера, а на острове в озере: "А столицу свою Рюрик на острове езера Ладоги заложи".
Родился Рюрик, по сведениям русских летописей, в 780-м и умер в 879 году в возрасте около ста лет, и надо же, в Корелах: "Ходил князь великий Рюрик с племянником своим Олегом воевати лопи и корелу. Воевода же у Рюрика Валет. И повоеваста и дань на них возложиша... Лета 6387 (879) умре Рюрик в Кореле в войне; тамо и положен бысть в городе Кореле".
Приозерск Ленинградской области Вид на крепость Корела через реку Вуоксу
Любопытно и загадочно сообщение о столице легендарной и загадочной Биармии. Она носила то же название, что и вся страна, - Корела. В.Н.Татищев считал, что этим местом может быть остров между двумя рукавами реки Вуоксы, впадающей в Ладожское озеро; здесь, согласно летописям, еще в конце XII века была построена русская крепость Корела, переименованная захватившими ее впоследствии шведами в Кексгольм (ныне - город Приозерск Ленинградской области).
Крепость Корела в ХIII-ХIV веках являлась административным и культурным центром Карельского перешейка, городом карельских и русских поселенцев, основную часть которых составляли новгородцы.
Основание крепости историки относят к 1295 году, а время княжения Буривоя и Рюрика - VIII-IX века. Здесь все - тайна! Может быть, в вопросе "откуда есть пошла Русская земля" не все так ясно и однозначно, как нам представляется? Тем более что, по шведским историческим источникам, город Корела имел своего предшественника, который располагался в нескольких километрах ниже по реке Вуокса.
Упоминания о биармах в средневековых источниках крайне скудны. Важнейшими из них являются опубликованный английским королем Альфредом Великим рассказ норвежца Оттара о его путешествии в Биармию в IX веке, отдельные скандинавские саги, а также некоторые русские летописи и немецкие хроники.
Слово "биармия" связывают с названием народа пермь (или коми), - в древности известного под именем беормас. Однако известно, что население коми в этих местах было незначительным, а раньше всех здесь обитала "заволоцкая чудь", то есть переселенцы венского и карельского происхождения.
Биармия простиралась почти на всем пространстве нынешних северных русских губерний: Архангельской, Карельской, Вологодской, Вятской и Пермской. Биармы стали известны благодаря пушному промыслу и торговле. Они поставляли меха, в частности на Юг, через расположенный в среднем течении Волги Великий Булгар. Биармия почиталась варягами более богатой землей, чем Аравия, и уж гораздо богаче Европы.
К Биармии шел греческий торговый путь. Греческие историки указывали, что именно отсюда, с "дальнего севера", вывозили золото. Вместе с золотом из Биармии вывозились также "другие металлы и драгоценные камни", что свидетельствует о высоком уровне технических знаний и умений местных ремесленников.
В "Истории" Карамзина также упоминается о торговом центре Биармия, в который "летом съезжались купцы из Скандинавии на славную ярмарку и покупали меха".
Карелы на протяжении IX-XIII веков являлись признанными купцами; маршруты их торговых экспедиций были весьма протяженными. Разносторонняя активная торговая деятельность карел производила сильное впечатление на современников, а затем и на историков. Уже в литературе XIX века вопрос о биармах был тесно связан с историей карельского народа.
Периодом расцвета в истории биармов является, вероятно, "эпоха викингов", а также раннерусский период до набегов татар. Торговые связи биармийцев с Югом были прерваны в 1240-х годах монгольским нашествием, которое уничтожило Булгарское царство и привело к временному подчинению огромные территории Русского государства, а торговые связи с Западом, осуществлявшиеся через Финляндию, ослабли из-за повторявшихся войн между Швецией и Новгородом.
В условиях новой международной обстановки карелы-биармы теряли былое богатство и былую славу. Но их торговые традиции сохранились надолго. Торговали они и в новгородских землях, и в Восточной и Северной Финляндии. Особенно прославились карельские коробейники, появлявшиеся на традиционных ярмарках в Финляндии.
4 августа 1979 года в местечке Кухмо, на древнем торговом пути биармов, был открыт памятник коробейникам. Торжественную речь произнес известный финский историк Х.Киркинен, который подчеркнул, что культурный обмен и сотрудничество между СССР и Финляндией истоками своими уходят в далекое прошлое, в те времена, когда существовали традиции Биармии.

"НЛО", Санкт-Петербург, n1-2(371), 10.01.2005
Автор: Алексей Попов
Родоначальником русского народа считается Гостомысл - личность настолько легендарная, что никто ничего конкретного о нем не знает, а в хрестоматийных исторических пособиях и учебниках по русской истории даже упоминания об этом человеке довольно редки. Об отце Гостомысла, князе Буривом, русские летописи почти ничего не сообщают, хотя правление последнего было исторически значимым.
По данным летописи новгородского епископа Иоакима (дата рождения неизвестна, умер в 1030 году), так называемой Иоакимовской летописи, которая дошла до нас лишь в пересказе русского историка В.Н.Татищева, Буривой "имел тяжкую войну с варягами и, многажды их побеждая, владел всей Бьярмией, то есть Корелиею до реки Кюмени, напоследок же при сей реке был побежден и, все почти войско потеряв, ушел в город Корелу и тут умре, а по нем наследовал сын его Гостомысл".
Считается, что сын Буривоя, Гостомысл - князь новгородский, - и пригласил на княжение в Новгород варяга Рюрика с братьями Синеусом и Трувором.
Во всех современных переводах "Повести временных лет", в хрестоматиях и учебниках говорится, что после прибытия на Русь Рюрик стал княжить в Новгороде, Синеус - на Белоозере, а Трувор - в Изборске. А вот в Ипатьевской и Радзивиловской летописях говорится совсем другое: придя в Новгородскую землю, братья-варяги первым делом "срубили" город Ладогу (ныне известный как Старая Ладога). В нем-то и начал править Рюрик и только по прошествии нескольких лет перебрался в Новгород.
В одном из списков "Сказания о Словене и Русе" есть любопытное уточнение: Рюрик "срубил" первую столицу державы Рюриковичей не на том месте, где долгое время находилась всем хорошо известная Старая Ладога - не на левом берегу реки Волхов в 12 километрах от Ладожского озера, а на острове в озере: "А столицу свою Рюрик на острове езера Ладоги заложи".
Родился Рюрик, по сведениям русских летописей, в 780-м и умер в 879 году в возрасте около ста лет, и надо же, в Корелах: "Ходил князь великий Рюрик с племянником своим Олегом воевати лопи и корелу. Воевода же у Рюрика Валет. И повоеваста и дань на них возложиша... Лета 6387 (879) умре Рюрик в Кореле в войне; тамо и положен бысть в городе Кореле".
Приозерск Ленинградской области Вид на крепость Корела через реку Вуоксу
Любопытно и загадочно сообщение о столице легендарной и загадочной Биармии. Она носила то же название, что и вся страна, - Корела. В.Н.Татищев считал, что этим местом может быть остров между двумя рукавами реки Вуоксы, впадающей в Ладожское озеро; здесь, согласно летописям, еще в конце XII века была построена русская крепость Корела, переименованная захватившими ее впоследствии шведами в Кексгольм (ныне - город Приозерск Ленинградской области).
Крепость Корела в ХIII-ХIV веках являлась административным и культурным центром Карельского перешейка, городом карельских и русских поселенцев, основную часть которых составляли новгородцы.
Основание крепости историки относят к 1295 году, а время княжения Буривоя и Рюрика - VIII-IX века. Здесь все - тайна! Может быть, в вопросе "откуда есть пошла Русская земля" не все так ясно и однозначно, как нам представляется? Тем более что, по шведским историческим источникам, город Корела имел своего предшественника, который располагался в нескольких километрах ниже по реке Вуокса.
Упоминания о биармах в средневековых источниках крайне скудны. Важнейшими из них являются опубликованный английским королем Альфредом Великим рассказ норвежца Оттара о его путешествии в Биармию в IX веке, отдельные скандинавские саги, а также некоторые русские летописи и немецкие хроники.
Слово "биармия" связывают с названием народа пермь (или коми), - в древности известного под именем беормас. Однако известно, что население коми в этих местах было незначительным, а раньше всех здесь обитала "заволоцкая чудь", то есть переселенцы венского и карельского происхождения.
Биармия простиралась почти на всем пространстве нынешних северных русских губерний: Архангельской, Карельской, Вологодской, Вятской и Пермской. Биармы стали известны благодаря пушному промыслу и торговле. Они поставляли меха, в частности на Юг, через расположенный в среднем течении Волги Великий Булгар. Биармия почиталась варягами более богатой землей, чем Аравия, и уж гораздо богаче Европы.
К Биармии шел греческий торговый путь. Греческие историки указывали, что именно отсюда, с "дальнего севера", вывозили золото. Вместе с золотом из Биармии вывозились также "другие металлы и драгоценные камни", что свидетельствует о высоком уровне технических знаний и умений местных ремесленников.
В "Истории" Карамзина также упоминается о торговом центре Биармия, в который "летом съезжались купцы из Скандинавии на славную ярмарку и покупали меха".
Карелы на протяжении IX-XIII веков являлись признанными купцами; маршруты их торговых экспедиций были весьма протяженными. Разносторонняя активная торговая деятельность карел производила сильное впечатление на современников, а затем и на историков. Уже в литературе XIX века вопрос о биармах был тесно связан с историей карельского народа.
Периодом расцвета в истории биармов является, вероятно, "эпоха викингов", а также раннерусский период до набегов татар. Торговые связи биармийцев с Югом были прерваны в 1240-х годах монгольским нашествием, которое уничтожило Булгарское царство и привело к временному подчинению огромные территории Русского государства, а торговые связи с Западом, осуществлявшиеся через Финляндию, ослабли из-за повторявшихся войн между Швецией и Новгородом.
В условиях новой международной обстановки карелы-биармы теряли былое богатство и былую славу. Но их торговые традиции сохранились надолго. Торговали они и в новгородских землях, и в Восточной и Северной Финляндии. Особенно прославились карельские коробейники, появлявшиеся на традиционных ярмарках в Финляндии.
4 августа 1979 года в местечке Кухмо, на древнем торговом пути биармов, был открыт памятник коробейникам. Торжественную речь произнес известный финский историк Х.Киркинен, который подчеркнул, что культурный обмен и сотрудничество между СССР и Финляндией истоками своими уходят в далекое прошлое, в те времена, когда существовали традиции Биармии.

|
Метки: карелия гостомысл ипатьевская летопись сказание о словене и руси приозерск |
Россияне старше мамонтов? |
http://www.x-libri.ru/elib/smi02142/00000001.htm
Независимая газета", Москва, 23.11.2005
Автор: Наталия Лескова
Возможно, наши славянские предки уже создали высокоразвитую цивилизацию более 20 тысяч лет назад
Существовала ли когда-нибудь уникальная цивилизация Гиперборея? И если да, где она располагалась - в Гренландии, на Северном полюсе, в Сибири или в Карелии? Доктор исторических наук и руководитель нескольких экспедиций Валерий Демин полагает, что вскоре мы сможем узнать ответы на эти вопросы.
"Свидетельства о легендарной стране, не одно столетие воспеваемой поэтами, можно найти у древних историков, - рассказывает Демин. - Однако, где она была расположена и в какое время существовала, доподлинно неизвестно. Большинство исследователей считают, что цивилизации гиперборейцев - 15-20 тысяч лет. Несмотря на столь седую древность, этот удивительный народ, как полагают ученые, имел в своем арсенале летательные аппараты, при помощи которых, используя аэрофотосъемку, создал, например, карту Антарктиды".
Но есть ли достоверные факты, подтверждающие сам факт существования удивительной страны? Одно из возможных доказательств - изображения на старых гравюрах. Наиболее достоверная из них - карта английского мореплавателя Герарда Меркатора, изданная его сыном Рудольфом в 1595 году. На этой карте в центре изображен легендарный материк Арктида, вокруг - побережье Северного океана с вполне узнаваемыми островами и реками.
Однако древние карты отличаются от современных и не слишком точны, так что и версия Меркатора допускает различные толкования. Если доверять ей, то, возможно, Гиперборея была расположена на территории Кольского полуострова. Однако, если считать, что под акваторией "Скифского океана", как называет его Меркатор, подразумевалось Карское море, то чудо-страну следует искать на севере Сибири, предположительно на полуострове Таймыр. Есть и другие версии: таинственная земля располагалась в районе Северного полюса и по каким-то причинам ушла под воду, как и древняя Атлантида.
Существуют и другие карты того периода. Одна из них составлена испанским монахом ордена Камальгулов фра Мауро и датирована 1459 годом. На ней обозначены Рипейские горы: возможно, это и есть Гиперборейские горы, о которых пишет историк Плиний Старший и расположение которых поныне оказывается предметом жесточайших споров среди ученых. Согласно этой карте, горы протянулись с запада на восток, рассекая северную Сибирь. Горный хребет в этой местности сохранился и поныне.
"Само название Гиперборея дошло до нас именно в древнегреческой транскрипции, - продолжает Демин. - "Гипер" в переводе означает "за пределами" или "сверх чего-либо". "Борей" - северный ветер. Гиперборея - "земля за Рипейскими горами, за злым северным ветром Бореем", как описывает ее древнегреческий историк Плиний Старший. Он даже указывает "прямой путь" в Гиперборею: на север через Гиперборейские горы: "За этими горами, по ту сторону Аквилона, проживает счастливый народ, который называется гиперборейцами. Солнце светит там в течение полугода. Светила восходят только однажды в год при летнем солнцестоянии, а заходят только при зимнем. Страна эта находится вся на Солнце, с благодатным климатом и лишена всякого вредного ветра. Смерть приходит только от пресыщения жизнью. Нельзя сомневаться в существовании этого народа".
Не менее фантастично описывают Гиперборею другие античные авторы - Аристей, Геродот, Далмаст, позже - Гомер, Овидий и Гесиод. Согласно летописям, гиперборейцы посещали Древнюю Грецию и почитались там за богов. Культ Аполлона пришел на землю Эллады из Гипербореи. Гиперборейцы Абарис и Аристей обучили греков умению слагать поэмы, гимны и музыкальные произведения, открыли им основы философии и медицины. Под их руководством был построен Дельфийский храм.
Итак, попробуем предположить, что хотя бы часть невероятных описаний близка к истине. Тогда каким образом в этих северных широтах мог быть субтропический климат?
"Гиперборейцы не могли быть современниками Плиния, - считает Демин. - Теплый климат мог существовать в северных широтах только до ледникового периода. Это означает, что искомая цивилизация старше мамонтов. Возможно ли такое? Если речь идет о событиях двадцатитысячелетней давности, то климат на Земле мог существенно измениться. Возможно, материк омывался каким-либо теплым течением типа Гольфстрима. В этом случае версии о Гренландии или Кольском полуострове более вероятны".
В 1922 году в район Сейдозера и Ловозера Мурманской области направилась первая экспедиция под руководством Барченко и Кондиайна. Идея отправить туда специалистов была поддержана лично Феликсом Дзержинским. Теперь трудно установить, какие цели были поставлены перед экспедицией. Вряд ли только научные: позже здесь были обнаружены большие запасы редкоземельных элементов. По возвращении материалы экспедиции были изучены на Лубянке. Ее руководители при этом держались под замком. А вскоре Барченко был репрессирован и расстрелян, Кондиайн сослан в лагеря, где умер в начале 30-х годов прошлого века. Никаких материалов об этой экспедиции, судя по всему, не сохранилось.
Однако, когда 75 лет спустя, в 1999 году, поисковики под руководством Валерия Демина вернулись в эти края, удалось выяснить: отряд Барченко наткнулся тогда на странный лаз, уходящий под землю. Этот лаз сохранился. Проникнуть внутрь ученым тогда, видимо, не удалось - мешал безотчетный страх, буквально сковывающий их по рукам и ногам. Местный старожил - 85-летний Федор Игнатьев, приносивший в далеком 1922 году поисковикам хлеб и молоко из деревни, рассказал: "Ощущение было таким, будто с тебя живьем сдирают кожу. Если кто-то решался сделать шаг к подземелью, падал, не в состоянии пошевелиться". Кроме того, он рассказал о найденных на скалах древних изображениях каких-то животных и божеств. У старика нашелся раритетный фотоснимок: рядом с мистическим лазом стоят 13 членов экспедиции и среди них десятилетний Федор.
Через неделю экспедиции Демина попался странный кубический камень огромных размеров, будто каким-то неведомым инструментом высеченный из скалы. Еще через пару километров пути прямо на скале виднелось 70-метровое изображение словно бы распятого человека, напоминающее негатив фотоснимка. Каким образом изображение попало на скалу, непонятно. (Именно такие контуры, похожие на тень, обычно остаются на поверхностях твердых тел после ядерного взрыва.) Нечто подобное представляет собой и знаменитое изображение на Туринской плащанице:
Гигантское наскальное изображение человека местные жители прозвали на свой лад - "старик Койву". Согласно легендам, это побежденный и вмурованный в скалу "чужой" бог. Но что это за бог и как он здесь появился, не знает никто.
Совсем рядом с "распятием" в твердой породе расположены несколько правильных пирамид в форме тетраэдров, напоминающих по форме египетские, только в миниатюре. Как и усыпальницы фараонов, они сориентированы точно на север. Такие же пирамиды были обнаружены вблизи Полярного круга в ряде стран Северной Европы. Когда исследователи попытались нанести рисунок северных пирамид на географическую карту, получился почти ровный треугольник. Совпадение?
А совсем недавно список северных находок пополнился благодаря энтузиасту-исследователю из Воронежа, доценту технического университета Игорю Ткачеву. Путешествуя по реке Нюхчи, что в северной Карелии, Игорь Викторович обнаружил странную пирамиду, будто высеченную в граните. "Верхний элемент пирамиды претерпел значительную эрозию в результате атмосферных процессов, что выдает почтенный возраст сооружения, - рассказывает Ткачев. - Однако нижний элемент, находящийся под водой, сохранил идеальную форму и острые углы. Не является ли пирамида частью загадочных сооружений, расположенных вблизи полярного круга?"
Исследователь не ошибся: карельская пирамида идеально вписалась в треугольник на карте. Кроме того, оказались удивительно похожими на мурманские изваяния древние пиктограммы на карельских скалах. Здесь есть свое "распятие", изображения неведомых животных и странных конструкций, чем-то напоминающих современные ракеты и самолеты.
Что же все это означает? Гиперборейцы были пришельцами из иных миров, оставившими нам некий информационный след на древних скалах? Пока что здесь больше загадок, чем ответов:
"Эти и другие находки позволяют предположить, что когда-то на севере нашей теперешней родины процветала высокоразвитая цивилизация, - считает Демин. - Она могла погибнуть в результате какого-то мощного природного катаклизма - например, падения гигантского метеорита, породившего землетрясения, цунами и прочие стихийные бедствия. Следствием катаклизма мог быть и ядерный взрыв. Если все это так, Гиперборея не исчезла бесследно: она оставила после себя потомков - ариев, а те, в свою очередь, - славян и россиян. Это может означать, что мы - потомки самой древней и загадочной цивилизации на голубой планете".
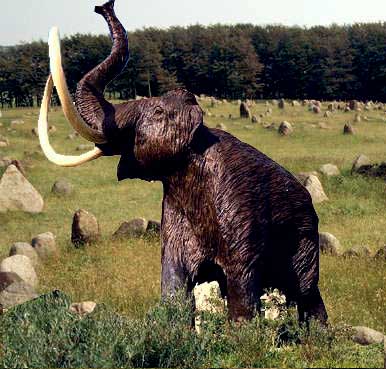
Независимая газета", Москва, 23.11.2005
Автор: Наталия Лескова
Возможно, наши славянские предки уже создали высокоразвитую цивилизацию более 20 тысяч лет назад
Существовала ли когда-нибудь уникальная цивилизация Гиперборея? И если да, где она располагалась - в Гренландии, на Северном полюсе, в Сибири или в Карелии? Доктор исторических наук и руководитель нескольких экспедиций Валерий Демин полагает, что вскоре мы сможем узнать ответы на эти вопросы.
"Свидетельства о легендарной стране, не одно столетие воспеваемой поэтами, можно найти у древних историков, - рассказывает Демин. - Однако, где она была расположена и в какое время существовала, доподлинно неизвестно. Большинство исследователей считают, что цивилизации гиперборейцев - 15-20 тысяч лет. Несмотря на столь седую древность, этот удивительный народ, как полагают ученые, имел в своем арсенале летательные аппараты, при помощи которых, используя аэрофотосъемку, создал, например, карту Антарктиды".
Но есть ли достоверные факты, подтверждающие сам факт существования удивительной страны? Одно из возможных доказательств - изображения на старых гравюрах. Наиболее достоверная из них - карта английского мореплавателя Герарда Меркатора, изданная его сыном Рудольфом в 1595 году. На этой карте в центре изображен легендарный материк Арктида, вокруг - побережье Северного океана с вполне узнаваемыми островами и реками.
Однако древние карты отличаются от современных и не слишком точны, так что и версия Меркатора допускает различные толкования. Если доверять ей, то, возможно, Гиперборея была расположена на территории Кольского полуострова. Однако, если считать, что под акваторией "Скифского океана", как называет его Меркатор, подразумевалось Карское море, то чудо-страну следует искать на севере Сибири, предположительно на полуострове Таймыр. Есть и другие версии: таинственная земля располагалась в районе Северного полюса и по каким-то причинам ушла под воду, как и древняя Атлантида.
Существуют и другие карты того периода. Одна из них составлена испанским монахом ордена Камальгулов фра Мауро и датирована 1459 годом. На ней обозначены Рипейские горы: возможно, это и есть Гиперборейские горы, о которых пишет историк Плиний Старший и расположение которых поныне оказывается предметом жесточайших споров среди ученых. Согласно этой карте, горы протянулись с запада на восток, рассекая северную Сибирь. Горный хребет в этой местности сохранился и поныне.
"Само название Гиперборея дошло до нас именно в древнегреческой транскрипции, - продолжает Демин. - "Гипер" в переводе означает "за пределами" или "сверх чего-либо". "Борей" - северный ветер. Гиперборея - "земля за Рипейскими горами, за злым северным ветром Бореем", как описывает ее древнегреческий историк Плиний Старший. Он даже указывает "прямой путь" в Гиперборею: на север через Гиперборейские горы: "За этими горами, по ту сторону Аквилона, проживает счастливый народ, который называется гиперборейцами. Солнце светит там в течение полугода. Светила восходят только однажды в год при летнем солнцестоянии, а заходят только при зимнем. Страна эта находится вся на Солнце, с благодатным климатом и лишена всякого вредного ветра. Смерть приходит только от пресыщения жизнью. Нельзя сомневаться в существовании этого народа".
Не менее фантастично описывают Гиперборею другие античные авторы - Аристей, Геродот, Далмаст, позже - Гомер, Овидий и Гесиод. Согласно летописям, гиперборейцы посещали Древнюю Грецию и почитались там за богов. Культ Аполлона пришел на землю Эллады из Гипербореи. Гиперборейцы Абарис и Аристей обучили греков умению слагать поэмы, гимны и музыкальные произведения, открыли им основы философии и медицины. Под их руководством был построен Дельфийский храм.
Итак, попробуем предположить, что хотя бы часть невероятных описаний близка к истине. Тогда каким образом в этих северных широтах мог быть субтропический климат?
"Гиперборейцы не могли быть современниками Плиния, - считает Демин. - Теплый климат мог существовать в северных широтах только до ледникового периода. Это означает, что искомая цивилизация старше мамонтов. Возможно ли такое? Если речь идет о событиях двадцатитысячелетней давности, то климат на Земле мог существенно измениться. Возможно, материк омывался каким-либо теплым течением типа Гольфстрима. В этом случае версии о Гренландии или Кольском полуострове более вероятны".
В 1922 году в район Сейдозера и Ловозера Мурманской области направилась первая экспедиция под руководством Барченко и Кондиайна. Идея отправить туда специалистов была поддержана лично Феликсом Дзержинским. Теперь трудно установить, какие цели были поставлены перед экспедицией. Вряд ли только научные: позже здесь были обнаружены большие запасы редкоземельных элементов. По возвращении материалы экспедиции были изучены на Лубянке. Ее руководители при этом держались под замком. А вскоре Барченко был репрессирован и расстрелян, Кондиайн сослан в лагеря, где умер в начале 30-х годов прошлого века. Никаких материалов об этой экспедиции, судя по всему, не сохранилось.
Однако, когда 75 лет спустя, в 1999 году, поисковики под руководством Валерия Демина вернулись в эти края, удалось выяснить: отряд Барченко наткнулся тогда на странный лаз, уходящий под землю. Этот лаз сохранился. Проникнуть внутрь ученым тогда, видимо, не удалось - мешал безотчетный страх, буквально сковывающий их по рукам и ногам. Местный старожил - 85-летний Федор Игнатьев, приносивший в далеком 1922 году поисковикам хлеб и молоко из деревни, рассказал: "Ощущение было таким, будто с тебя живьем сдирают кожу. Если кто-то решался сделать шаг к подземелью, падал, не в состоянии пошевелиться". Кроме того, он рассказал о найденных на скалах древних изображениях каких-то животных и божеств. У старика нашелся раритетный фотоснимок: рядом с мистическим лазом стоят 13 членов экспедиции и среди них десятилетний Федор.
Через неделю экспедиции Демина попался странный кубический камень огромных размеров, будто каким-то неведомым инструментом высеченный из скалы. Еще через пару километров пути прямо на скале виднелось 70-метровое изображение словно бы распятого человека, напоминающее негатив фотоснимка. Каким образом изображение попало на скалу, непонятно. (Именно такие контуры, похожие на тень, обычно остаются на поверхностях твердых тел после ядерного взрыва.) Нечто подобное представляет собой и знаменитое изображение на Туринской плащанице:
Гигантское наскальное изображение человека местные жители прозвали на свой лад - "старик Койву". Согласно легендам, это побежденный и вмурованный в скалу "чужой" бог. Но что это за бог и как он здесь появился, не знает никто.
Совсем рядом с "распятием" в твердой породе расположены несколько правильных пирамид в форме тетраэдров, напоминающих по форме египетские, только в миниатюре. Как и усыпальницы фараонов, они сориентированы точно на север. Такие же пирамиды были обнаружены вблизи Полярного круга в ряде стран Северной Европы. Когда исследователи попытались нанести рисунок северных пирамид на географическую карту, получился почти ровный треугольник. Совпадение?
А совсем недавно список северных находок пополнился благодаря энтузиасту-исследователю из Воронежа, доценту технического университета Игорю Ткачеву. Путешествуя по реке Нюхчи, что в северной Карелии, Игорь Викторович обнаружил странную пирамиду, будто высеченную в граните. "Верхний элемент пирамиды претерпел значительную эрозию в результате атмосферных процессов, что выдает почтенный возраст сооружения, - рассказывает Ткачев. - Однако нижний элемент, находящийся под водой, сохранил идеальную форму и острые углы. Не является ли пирамида частью загадочных сооружений, расположенных вблизи полярного круга?"
Исследователь не ошибся: карельская пирамида идеально вписалась в треугольник на карте. Кроме того, оказались удивительно похожими на мурманские изваяния древние пиктограммы на карельских скалах. Здесь есть свое "распятие", изображения неведомых животных и странных конструкций, чем-то напоминающих современные ракеты и самолеты.
Что же все это означает? Гиперборейцы были пришельцами из иных миров, оставившими нам некий информационный след на древних скалах? Пока что здесь больше загадок, чем ответов:
"Эти и другие находки позволяют предположить, что когда-то на севере нашей теперешней родины процветала высокоразвитая цивилизация, - считает Демин. - Она могла погибнуть в результате какого-то мощного природного катаклизма - например, падения гигантского метеорита, породившего землетрясения, цунами и прочие стихийные бедствия. Следствием катаклизма мог быть и ядерный взрыв. Если все это так, Гиперборея не исчезла бесследно: она оставила после себя потомков - ариев, а те, в свою очередь, - славян и россиян. Это может означать, что мы - потомки самой древней и загадочной цивилизации на голубой планете".
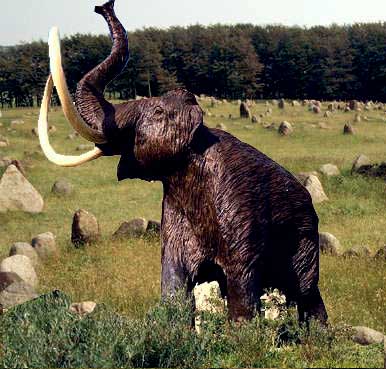
|
Метки: археология мамонт гиперборея |
Мои заметки " в контакте". |
Статьи и заметки о туризме и др. разном смотрите " в контакте". Там же мои предложения.
Находите Ярикову Елену- и.. становитесь друзьями!!!
Елена lenalite@list.ru
Находите Ярикову Елену- и.. становитесь друзьями!!!
Елена lenalite@list.ru
|
Метки: мои заметки и статьи |
Способы оплаты коммунальных услуг |
Спикер Совета Федерации Сергей Миронов раскритиковал решение брать комиссионный сбор за оплату услуг ЖКХ в Сбербанке. По мнению спикера, такая инициатива прямо противоречит действиям президента РФ, который дал команду навести порядок в сфере установления тарифов на коммунальные услуги.
В Москве сейчас существует пять способов оплаты коммунальных услуг.
1.Наличными через банк
Оплата коммунальных услуг ведется по следующей схеме. Жильцам приходят платежки из Государственного учреждения "Инженерные службы" г. Москвы (ГУИС), они идут платить в любой удобный для них банк. Из этого банка средства перечисляются на транзитный счет ГУИС в Банке Москвы, а с него – поставщикам услуг: Мосводоканалу, МОЭК, управляющим компаниям и т. д. ГУИС за свои услуги денег не берет. А банки, как учреждения коммерческие, за переброску средств со счета на счет списывают определенную сумму. Например, Сбербанк, как правило, 3%, но для организаций, которые обслуживаются через систему ГУИС, процент Сбербанка составляет 1,9. Если, к примеру, управляющая компания, которая обслуживает ваш дом, имеет счет в Сбербанке, то она платит 1,9% с каждой суммы, которая на счет приходит. То есть коммунальщики оказывают услуг на рубль, а реально получают 98,1 копейки. Остальное берет банк.
Первого декабря 2009 года вышло постановление правительства Москвы № 1294 «Об утверждении тарифов на услуги ЖКХ в 2010 году». В одном из пунктов постановления столичного правительства, профильным департаментам и Региональной энергетической комиссии Москвы при формировании на 2010 год и последующие годы регулируемых правительством Москвы цен на услуги по содержанию и ремонту жилых помещений и тарифов на услуги организаций коммунального комплекса поручено "не учитывать в них расходы по выплате комиссионного вознаграждения банкам и платежным системам за услуги по приему платежей за жилищные и коммунальные услуги".
Это значит, что комиссионный сбор банков за услугу по приему платежей, не включенный с нового года в тарифы ЖКУ, должны были оплачивать сами жители.
По словам официального представителя Московского банка Сбербанка, с 1 мая 2010 года комиссия за перечисление средств на оплату услуг ЖКХ через операциониста может составить 3%.
Сейчас у потребителя есть возможность оплачивать коммунальные услуги практически в любом крупном банке, однако при осуществлении платежа взимается комиссия от 1% до 4%. Самая низкая комиссия у Промсвязьбанка и банка "Уралсиб" – 1,5% и 1,7% соответственно. Самая высокая – у ВТБ 24 (4%). У Росбанка и Банка Москвы она составляет 3%.
2. Удаленные каналы обслуживания
В большинстве банков есть услуга управления своим счетом через Интернет, которая позволяет перевести средства со своего счета в банке на счет поставщика услуг. Для этого необходимо знать платежные реквизиты получателя платежа и иметь средства на счету.
Сбербанк предлагает своим клиентам оплачивать услуги ЖКХ безналичным путем, подключив услугу «Электронная сберкасса». Вы сможете осуществлять платежные операции через Интернет путем списания денежных средств в уплату платежей со счета по вкладу или с кредитной карты. Комиссия за перевод денежных средств в адрес организаций, с которыми у банка имеются договорные отношения, не взимается.
При приеме платежей в пользу организаций-получателей, с которыми у Сбербанка России договор не заключен, размер комиссии составляет 3% от суммы платежа, максимальная плата за осуществление платежа – 2000 руб.
Подключив услугу «Мобильный банк по вкладам» можно осуществлять платежи с помощью своего мобильного телефона, направив SMS‑запрос о списании со своего вклада суммы платежа в адрес предопределенных организаций. Комиссия за перевод денежных средств в адрес организаций, с которыми у банка имеются договорные отношения, не взимается.
Держатели международных карт Сбербанка России посредством мобильной связи могут оплачивать услуги ЖКХ с помощью услуги «Мобильный банк». В настоящее время существуют полный и экономный пакеты услуги Мобильный банк. В случае выбора экономного пакета из Мобильного банка исключается услуга «уведомления об операциях по карте». При подключении к полному пакету «Мобильного банка» взимается ежемесячная абонентская плата.
Комиссия за перевод денежных средств в адрес организаций, с которыми у банка имеются договорные отношения, не взимается.
Клиенты Сбербанка могут воспользоваться такой услугой как длительное поручение о списании средств. При этом по поручению клиента Банк сам корректирует размер платежа при изменении тарифов на услугу (при наличии соответствующих договорных отношений с организацией-получателем).
С 1 мая 2010 года размер комиссии за перечисление средств на оплату услуг ЖКХ через удаленные каналы обслуживания Сбербанка может составить 1%.
Клиенты Банка Москвы могут бесплатно оплатить услуги ЖКХ путем безналичного перечисления денежных средств со счетов/карт, открытых в ОАО «Банк Москвы», на основании заполненных клиентами на перечисление денежных средств (в том числе долгосрочных поручений сроком до 3-х лет).
Услуги ЖКХ также можно оплатить через устройства самообслуживания Банка Москвы:
- безналичная оплата со счета банковской карты (банкоматы, депозиторы, инфокиоски) – бесплатно;
- оплата наличными денежными средствами (депозиторы) – комиссия в размере 1,5 % от суммы платежа;
- система Интернет-Банк-Клиент путем безналичного перечисления денежных средств со счетов/карт – бесплатно.
Оплата услуг ЖКХ через удаленные каналы происходит без комиссий также у ряда других крупных банков – у Росбанка, Промсвязьбанка. При этом комиссию выше 1% за оплату услуг в Интернете взимает только "Уралсиб" (1,7%).
3. Платежные терминалы
Во многих магазинах, подземных переходах и других людных местах столицы сегодня установлены автоматы, позволяющие в считанные секунды оплатить наличными мобильную связь, Интернет, цифровое телевидение и коммунальные услуги. Чтобы внести квартплату, надо в соответствующих "окнах" набрать код плательщика и нужную сумму. В большинстве случаев терминалы берут комиссию – в среднем 3-5 %. Сдачи автомат не дает, но лишние деньги идут в счет оплаты будущих месяцев.
4. Система электронных платежей
Сегодня множество компаний позволяют вести расчеты, заключать контракты и переводить деньги с помощью средств электронной коммуникации. Выберете ту систему, которая вам больше понравится, откройте свой личный счет, - и вы получите возможность оплачивать услуги через компьютер. Деньги на счет можно зачислить посредством карт предоплаты, перевода наличных или безналичных со счета в банке или по почте.
5. Почта России
Комиссия при оплате услуг ЖКХ в столичных почтовых отделениях с клиента не взимается.
Исключение составляет случай, когда плательщик проживает в кооперативном доме. При отсутствии у его управляющей компании договорных отношений с Банком Москвы, регулирующим порядок приема платежей от населения, с него взимается комиссия банка в размере от 1% до 3% от суммы платежа (минимум 10 рублей, максимум – 2 тысячи рублей).
В феврале 2010 года петербургские отделения Сбербанка заявили о намерении взимать с горожан комиссию при приеме платежей за электричество. При сумме платежа до 1 тысячи рублей, петербуржцам придется добавить 30 рублей в пользу банка, если речь идет о больших суммах – то комиссия будет высчитываться из расчета 3% от общей величины.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
В Москве сейчас существует пять способов оплаты коммунальных услуг.
1.Наличными через банк
Оплата коммунальных услуг ведется по следующей схеме. Жильцам приходят платежки из Государственного учреждения "Инженерные службы" г. Москвы (ГУИС), они идут платить в любой удобный для них банк. Из этого банка средства перечисляются на транзитный счет ГУИС в Банке Москвы, а с него – поставщикам услуг: Мосводоканалу, МОЭК, управляющим компаниям и т. д. ГУИС за свои услуги денег не берет. А банки, как учреждения коммерческие, за переброску средств со счета на счет списывают определенную сумму. Например, Сбербанк, как правило, 3%, но для организаций, которые обслуживаются через систему ГУИС, процент Сбербанка составляет 1,9. Если, к примеру, управляющая компания, которая обслуживает ваш дом, имеет счет в Сбербанке, то она платит 1,9% с каждой суммы, которая на счет приходит. То есть коммунальщики оказывают услуг на рубль, а реально получают 98,1 копейки. Остальное берет банк.
Первого декабря 2009 года вышло постановление правительства Москвы № 1294 «Об утверждении тарифов на услуги ЖКХ в 2010 году». В одном из пунктов постановления столичного правительства, профильным департаментам и Региональной энергетической комиссии Москвы при формировании на 2010 год и последующие годы регулируемых правительством Москвы цен на услуги по содержанию и ремонту жилых помещений и тарифов на услуги организаций коммунального комплекса поручено "не учитывать в них расходы по выплате комиссионного вознаграждения банкам и платежным системам за услуги по приему платежей за жилищные и коммунальные услуги".
Это значит, что комиссионный сбор банков за услугу по приему платежей, не включенный с нового года в тарифы ЖКУ, должны были оплачивать сами жители.
По словам официального представителя Московского банка Сбербанка, с 1 мая 2010 года комиссия за перечисление средств на оплату услуг ЖКХ через операциониста может составить 3%.
Сейчас у потребителя есть возможность оплачивать коммунальные услуги практически в любом крупном банке, однако при осуществлении платежа взимается комиссия от 1% до 4%. Самая низкая комиссия у Промсвязьбанка и банка "Уралсиб" – 1,5% и 1,7% соответственно. Самая высокая – у ВТБ 24 (4%). У Росбанка и Банка Москвы она составляет 3%.
2. Удаленные каналы обслуживания
В большинстве банков есть услуга управления своим счетом через Интернет, которая позволяет перевести средства со своего счета в банке на счет поставщика услуг. Для этого необходимо знать платежные реквизиты получателя платежа и иметь средства на счету.
Сбербанк предлагает своим клиентам оплачивать услуги ЖКХ безналичным путем, подключив услугу «Электронная сберкасса». Вы сможете осуществлять платежные операции через Интернет путем списания денежных средств в уплату платежей со счета по вкладу или с кредитной карты. Комиссия за перевод денежных средств в адрес организаций, с которыми у банка имеются договорные отношения, не взимается.
При приеме платежей в пользу организаций-получателей, с которыми у Сбербанка России договор не заключен, размер комиссии составляет 3% от суммы платежа, максимальная плата за осуществление платежа – 2000 руб.
Подключив услугу «Мобильный банк по вкладам» можно осуществлять платежи с помощью своего мобильного телефона, направив SMS‑запрос о списании со своего вклада суммы платежа в адрес предопределенных организаций. Комиссия за перевод денежных средств в адрес организаций, с которыми у банка имеются договорные отношения, не взимается.
Держатели международных карт Сбербанка России посредством мобильной связи могут оплачивать услуги ЖКХ с помощью услуги «Мобильный банк». В настоящее время существуют полный и экономный пакеты услуги Мобильный банк. В случае выбора экономного пакета из Мобильного банка исключается услуга «уведомления об операциях по карте». При подключении к полному пакету «Мобильного банка» взимается ежемесячная абонентская плата.
Комиссия за перевод денежных средств в адрес организаций, с которыми у банка имеются договорные отношения, не взимается.
Клиенты Сбербанка могут воспользоваться такой услугой как длительное поручение о списании средств. При этом по поручению клиента Банк сам корректирует размер платежа при изменении тарифов на услугу (при наличии соответствующих договорных отношений с организацией-получателем).
С 1 мая 2010 года размер комиссии за перечисление средств на оплату услуг ЖКХ через удаленные каналы обслуживания Сбербанка может составить 1%.
Клиенты Банка Москвы могут бесплатно оплатить услуги ЖКХ путем безналичного перечисления денежных средств со счетов/карт, открытых в ОАО «Банк Москвы», на основании заполненных клиентами на перечисление денежных средств (в том числе долгосрочных поручений сроком до 3-х лет).
Услуги ЖКХ также можно оплатить через устройства самообслуживания Банка Москвы:
- безналичная оплата со счета банковской карты (банкоматы, депозиторы, инфокиоски) – бесплатно;
- оплата наличными денежными средствами (депозиторы) – комиссия в размере 1,5 % от суммы платежа;
- система Интернет-Банк-Клиент путем безналичного перечисления денежных средств со счетов/карт – бесплатно.
Оплата услуг ЖКХ через удаленные каналы происходит без комиссий также у ряда других крупных банков – у Росбанка, Промсвязьбанка. При этом комиссию выше 1% за оплату услуг в Интернете взимает только "Уралсиб" (1,7%).
3. Платежные терминалы
Во многих магазинах, подземных переходах и других людных местах столицы сегодня установлены автоматы, позволяющие в считанные секунды оплатить наличными мобильную связь, Интернет, цифровое телевидение и коммунальные услуги. Чтобы внести квартплату, надо в соответствующих "окнах" набрать код плательщика и нужную сумму. В большинстве случаев терминалы берут комиссию – в среднем 3-5 %. Сдачи автомат не дает, но лишние деньги идут в счет оплаты будущих месяцев.
4. Система электронных платежей
Сегодня множество компаний позволяют вести расчеты, заключать контракты и переводить деньги с помощью средств электронной коммуникации. Выберете ту систему, которая вам больше понравится, откройте свой личный счет, - и вы получите возможность оплачивать услуги через компьютер. Деньги на счет можно зачислить посредством карт предоплаты, перевода наличных или безналичных со счета в банке или по почте.
5. Почта России
Комиссия при оплате услуг ЖКХ в столичных почтовых отделениях с клиента не взимается.
Исключение составляет случай, когда плательщик проживает в кооперативном доме. При отсутствии у его управляющей компании договорных отношений с Банком Москвы, регулирующим порядок приема платежей от населения, с него взимается комиссия банка в размере от 1% до 3% от суммы платежа (минимум 10 рублей, максимум – 2 тысячи рублей).
В феврале 2010 года петербургские отделения Сбербанка заявили о намерении взимать с горожан комиссию при приеме платежей за электричество. При сумме платежа до 1 тысячи рублей, петербуржцам придется добавить 30 рублей в пользу банка, если речь идет о больших суммах – то комиссия будет высчитываться из расчета 3% от общей величины.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
|
Метки: способы оплаты коммунальных услуг |
Процитировано 1 раз
Предложение турагентствам.Инфо для Инструкторов. |
Туаргенства имеют возможность набрать людей. А мы реально имеем возможность обесечить хороший сплав и отдых новичковый!
Так что заинтересованых сторон достаточно много. Оставляйте свои реквизиты и номера телефонов на моей стене в контакте- созвонимся.Телефоны и реквизиты свои и агенств- что нашли. И с теми руководителями, которые для вас, ребята пока недоступны, и с желающими расширить свою сферу деятельности внутри России.
майл для связи lenalite@list.ru ИЛИ стена "В контакте" http://vkontakte.ru/id37874621
Так что заинтересованых сторон достаточно много. Оставляйте свои реквизиты и номера телефонов на моей стене в контакте- созвонимся.Телефоны и реквизиты свои и агенств- что нашли. И с теми руководителями, которые для вас, ребята пока недоступны, и с желающими расширить свою сферу деятельности внутри России.
майл для связи lenalite@list.ru ИЛИ стена "В контакте" http://vkontakte.ru/id37874621
|
Метки: турагенства работа с турагенствами |
Туризм, заметки для туристов и инструкторов. |
http://vkontakte.ru/id37874621
Выходите на эту страницу. В заметках вся инфо для вас. Это касается как руководителей наших походов, так и просто туристов.
Становитесь друзьями, но переписка строго через личку. Никаких "спамных" форумов. Будем общаться на почве общих интересов.Нормально, без выпендрежа.
lenalite@list.ru
Выходите на эту страницу. В заметках вся инфо для вас. Это касается как руководителей наших походов, так и просто туристов.
Становитесь друзьями, но переписка строго через личку. Никаких "спамных" форумов. Будем общаться на почве общих интересов.Нормально, без выпендрежа.
lenalite@list.ru
|
Метки: туризм заметки инструкторам туристам |
Летний отдых и курсы у ДРУЗЕЙ в Украине. |
Только для тех кто не спит!
И кто МОЖЕТ МОЖЕТ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ.. заботиться о себе, а не безвылазно пахать на " НИВЕ РАБоты.."
Не дешево но ОЧЕНЬ круто !!! И только для тех кто НЕ хочет всю жизнь провести между спальней и работой.
Курсы и отличный отдых (украина, мыс Фиолент) . Все подробности только в личной переписке!
Группа не более 10 человек.
lenalite@list.u

И кто МОЖЕТ МОЖЕТ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ.. заботиться о себе, а не безвылазно пахать на " НИВЕ РАБоты.."
Не дешево но ОЧЕНЬ круто !!! И только для тех кто НЕ хочет всю жизнь провести между спальней и работой.
Курсы и отличный отдых (украина, мыс Фиолент) . Все подробности только в личной переписке!
Группа не более 10 человек.
lenalite@list.u

|
Метки: летний отдых |
ДВД- информация |
Алёшенька и КО! дисков на ДВД хватает, нужно знать чего вы хотите и что вам нужно , пишите на lenalite@list.ru
Уточняю темы дисков:
ДВД по предпримательству( портфель руководителя, инфо для новичков - курсы "в кармане", маркетинг доступно и многое другое).
Двд по травам , ландшафтным растениям (вы строитесь- это для вас актуально)
ДВД по БИ ( хорошая инфо п мягким видам школ боевых искусств)
И многое разное, включая строительство - т.е. с основ дома до отделки...
Так что пиши
ВЛ
Уточняю темы дисков:
ДВД по предпримательству( портфель руководителя, инфо для новичков - курсы "в кармане", маркетинг доступно и многое другое).
Двд по травам , ландшафтным растениям (вы строитесь- это для вас актуально)
ДВД по БИ ( хорошая инфо п мягким видам школ боевых искусств)
И многое разное, включая строительство - т.е. с основ дома до отделки...
Так что пиши
ВЛ
|
Метки: dvd- диски курсы на двд |
Летний отдых в России.Летние сплавы 2010. часть 2 |
Тех, кто уже записался и тех, кто еще думает - ребя та если вы планируете сплав-отдых, то пишите заранее. Лучше подаватьзаявки уже сейчас на планируемое время!!! Месяц и числа по форме:
1. ФИО
2. МЕСЯЦ. ЧИСЛА
3. Возраст
4. Опыт турпоходов
5. Контактные данные.
Летом может мест в группе и не быть!
е- майл для связи: lenalite@list.ru
На первые две недели группы набраны! Кто еще не оставил координаты для связи??? Долго думате!!!
Две группы УЖЕ СХОДИЛИ В ЗИМНИЕ ПОХОДЫ! НАРОД ОЧЕНЬ доволен, это не лошадиные походы типа круто спортивных, а новичковые, сложные но терпимые! С банькой, красивыми видами...
Всё входит в стоимость похода. Поход в Хибины и Насейд озеро обошелся по 7 тыс с человека. Зато полное сопровождение и "Сервис"... как говорится доступный как впоходе, так и после.
lenalite@list.ru
1. ФИО
2. МЕСЯЦ. ЧИСЛА
3. Возраст
4. Опыт турпоходов
5. Контактные данные.
Летом может мест в группе и не быть!
е- майл для связи: lenalite@list.ru
На первые две недели группы набраны! Кто еще не оставил координаты для связи??? Долго думате!!!
Две группы УЖЕ СХОДИЛИ В ЗИМНИЕ ПОХОДЫ! НАРОД ОЧЕНЬ доволен, это не лошадиные походы типа круто спортивных, а новичковые, сложные но терпимые! С банькой, красивыми видами...
Всё входит в стоимость похода. Поход в Хибины и Насейд озеро обошелся по 7 тыс с человека. Зато полное сопровождение и "Сервис"... как говорится доступный как впоходе, так и после.
lenalite@list.ru
|
Метки: путешествия отдых в россии летние сплавы |
обереги 11-13 века часть 5 |
Древний Спасо-Чигасовский монастырь находился на склоне
Болвановской горы (Красного холма). Близ него в XV в. была
поставлена церковь святого Никиты, "прогонителя бесов".
Для "соборов" или "событий" большего масштаба, чем жители
одного поселка, для населения верви или тем более племени
требовались более отметные горы, которые из году в год служили
местом больших языческих богослужений. Археологические примеры таких
святилищ на горах уже приведены мною в первой книге43.
41-42 Снегирев И. Русские простонародные праздники и
суеверные обряды. М., 1838, вып. II, № 4.
В новогодних подблюдных песнях, интересных своей архаикой
("змеиная крылица", "ядор-сударь" -- "ящер"?), после славы хлебу
нередко поется о том, что "за рекой мужики живут богатые, гребут
жемчуг лопатами": (См.: Чичеров В. И. Из истории новогодних игр и
песен русского народа. -- Сборник "В. В. Виноградову...". М., 1956,
с. 277), "За рекой..." -- т. е. в том ритуальном урочище, где горят
огни горючие, где происходят жертвоприношения. В докняжеской
языческой Москве таким сакральным урочищем был, очевидно, высокий
берег Заяузья -- Красный холм, на котором, судя по названию
"Болваны" (у Таганки), находились некогда идолы. Общая подблюдная
песня о богатых мужиках за рекой, в Москве была конкретизирована:
43 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, с. 285-303.
Интересна долговечность таких религиозных центров: возникнув
примерно в I тысячелетии до н. э. (а может быть, и в бронзовом
веке), они, как показывают польские источники, донесли свою древнюю
языческую сущность вплоть до позднего средневековья XV в. н. э., а
на многих из них возникли христианские церкви и монастыри.
Священные горы, как уже неоднократно говорилось, часто носят
наименование "Лысых" или "Девичьих". Возникает предположение, что
первое название могло быть связано с тем или иным мужским божеством,
а девичьи горы, естественно, с женским божеством, с богиней-девой,
являвшейся далекой предшественницей христианской богородицы, девы
Марии. О мужской сущности лысых гор косвенно может говорить
известное навершие скифского времени с Лысой горы близ
Днепропетровска с изображением обнаженного мужского божества, птиц,
волков и четырех крестообразно направленных отрогов.
Девичьи горы в ряде случаев дают подтверждение своему
наименованию. Существует Девичья гора в Сахновке на берегу Роси. В
Сахновке была найдена знаменитая золотая пластина с изображением
сколотского или скифского праздника в честь какого-то женского
божества 44.
44 Раевский Д. С. Очерки идеологии скифо-сакских племен. М.,
1977, с. 99, рис. 9; Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, с. 569.
Память о ритуальном значении сахновской Девичьей горы
сказалась в том, что на ее вершине до сих пор ставят три деревянных
креста и местное население твердо знает, что эти кресты не
надмогильные.
Еще одна Девичь-гора находится в этом же Среднеднепровском
регионе на окраине с. Триполье (летописный Треполь) на Днепре. На
вершине горы, возвышающейся над Днепром, в зарубинецкое время был
сооружен своеобразный жертвенник-печь, представляющий собой
композицию из девяти полусферических углублений. По всей
вероятности, этот своеобразный жертвенник с девятью гнездами
предназначался для сосудов, в которых во время праздничной церемонии
могли вариться какие-либо зелья или зерна. Набор основных растений
мог заполнить все сосуды: пшеница, ячмень, просо, греча (?), полба
(?), лен, конопля, бобы, горох. Число 9 в сочетании с девичьим
именем этой огромной и очень импозантной горы наводит на мысль (как
и по поводу гадательной чаши с девятью клеймами месяцев), что
создатели жертвенника с девятью составными частями прежде всего
соотносили это центральное сооружение Девичь-горы с девятью месяцами
беременности. Богиня-дева, как устойчивое представление о женском
аграрном божестве, мыслилась, очевидно, подобно христианской
богородице не просто девушкой, а такой, которая уже "понесла во
чреве своем" и ей предстояло девять месяцев подготавливать рождение
новой жизни.
Число 9 входит в разряд общеславянских сакральных чисел ("за
три-девятъ земель", "в три-девятое царство, три-десятое государство"
и т. п.) 45.
Почти полную аналогию девичьгорскому жертвеннику представляет
жертвенник с девятью ямами из моравского городища с любопытным
названием -- Поганское. Дата его -- начало X в., время языческой
реставрации в Моравии 46.
Здесь только нет признаков огня. Б. Достал считает эти девять
ямок следами девяти идолов, что мало вероятно, так как ямки
расположены вплотную друг к другу и они слишком мало врыты в
материк. Некоторый свет на сущность такого девятиямочного комплекса
может пролить интереснейшая находка в Новгороде, примерно синхронная
Ногайскому городищу 47. Там был обнаружен комплекс из девяти
деревянных ковшей.
45 Вайяи
46 Bozivoi Dostal. Slovanske kultovni misto na Pohansku u
Breclavi. -- Vlastivedny Vestnik Moravsky. Brno, 1968, s. 3-25.
47 Седов В. В. Языческая братчина в древнем Новгороде. --
КСИИМК, 65, М., 1956;
Он же. К вопросу о жертвоприношениях в древнем Новгороде. --
КСИИМК, 68, М., 1957.
При комментировании новгородской находки необходимо учесть,
что древнейшим местным божеством новгородцев до установки у них
идола Перуна Добрыней в 983 г. было некое женское божество
плодородия. Именно поэтому на месте святилища Перуна (раскопанного
В. В. Седовым в 1951 г.) новгородцы после крещения поставили не
церковь св. Ильи, который обычно замещал Перуна, а церковь рожества
богородицы, где православный престольный праздник сочетался к
огорчению церковников с архаичным языческим праздником рожаниц.
Возможно, что и обряд с девятью ковшами был связан именно с древним
женским божеством.
В Поганском городище девятиямочный комплекс находится у стены
языческого храма, предшествовавшего постройке костела. Костел
обращен апсидой на "летний восход" и, следовательно, был посвящен
какому-то святому или святой, празднование которого приходилось на
разгар лета в период древних июньских таргелий, или "зеленых
святок". Поганское расположено на реке Дые ("богиня") и поблизости
от него есть две горы под названием Девин. Все это подкрепляет мысль
о связи ритуального комплекса с женским божеством.
Около городища Старой Рязани на мысу есть интересный
сакральный комплекс из девяти ям с кострищами в каждой из них. Это
напоминает новгородское святилище Перуна, но отличается тем, что
вокруг идола Перуна были восемь кострищ, а в старорязанском
святилище их было девять48. Возможно, что связь женского божества с
городом, постройкой города не случайна, а восходит к очень древним
представлениям о богинях-покровительницах селений и городов.
48 Розенфельдт И. Г. Раскопки северного мыса старорязанского
городища -- АО, 1966 г. М., 1967, с. 44.
Вернемся к Девичь-горе у Триполья (летописного Треполя).
Здесь не было ни города, ни поселения. Сама гора представляла собой
усеченную пирамидальную возвышенность, главенствующую над прибрежной
поймой Днепра. Верхняя ее площадка невелика и состоит из двух
плоских ступеней: верхняя ступень с жертвенником 30 х 70 м и нижняя
ступень -- 30X30 м. Жертвенник поставлен так, что занимает срединное
место всей вершины горы; рядом с ним зарубинецкие погребения I в. до
н. э. -- I в. н. э. Со стороны, противоположной Днепру, Девичь-гора
сходит на нет широким пологим спуском, как бы специально
предназначенным для торжественных обрядовых процессий от поселения
к жертвеннику богини-девы на вершине. Большой интерес представляет
общий взгляд на весь тот среднеднепровский регион, в котором
находится Девичь-гора у Триполья. На новейшей археологической карте
зарубинецкой культуры, составленной Е. В. Максимовым, в обширном
ареале всей культуры (Припять, Днепр, Десна, Сейм) резко выделяется
количеством памятников и плотностью заселения Среднее Поднепровье
(от устья Десны до Тясмина) 49. Здесь сосредоточены важнейшие
памятники зарубинецкой культуры. Здесь же встречено наибольшее
количество предметов античного импорта из Причерноморья50.
Е. В. Максимов выделяет два плотных сгустка зарубинецких
поселений: один вокруг Киева, а другой на Днепре близ Канева и устья
Роси, в который входят и Зарубинцы, давшие имя всей культуре 51.
49 Максимов Е. В. Зарубинецкая культура на территории УССР.
Киев, 1982. с. 8, карта.
50 Поболь Л. Д. Славянские древности Белоруссии. Минск, 1974,
с. 36, рис. 5а. Античный импорт в зарубинецких памятниках в основном
замкнут в ограниченном районе по Днепру от Триполья до низовья Роси.
51 Максимов Е. В. Зарубинецкая культура..., с. 172.
Именно в этом районе и наблюдается наибольшее количество
привозных причерноморских предметов роскоши.
Мысль Е. В. Максимова можно несколько развить. Во-первых,
явно ощущается еще один сгусток на Тясмине, а, во-вторых,
представляется возможным сопоставить археологические группы
памятников с летописными племенами. Обособленную, самую южную
тясминскую группу, вероятно, следует сопоставить с Уличами;
днепровско-поросскую группу с Русью, а киевскую -- с Полянами.
Границей между землей Полян и землей Руси, возможно, следует считать
пространство между Витачевским и Зарубинским бродами, но это,
разумеется, требует дальнейших доследований.
Болвановской горы (Красного холма). Близ него в XV в. была
поставлена церковь святого Никиты, "прогонителя бесов".
Для "соборов" или "событий" большего масштаба, чем жители
одного поселка, для населения верви или тем более племени
требовались более отметные горы, которые из году в год служили
местом больших языческих богослужений. Археологические примеры таких
святилищ на горах уже приведены мною в первой книге43.
41-42 Снегирев И. Русские простонародные праздники и
суеверные обряды. М., 1838, вып. II, № 4.
В новогодних подблюдных песнях, интересных своей архаикой
("змеиная крылица", "ядор-сударь" -- "ящер"?), после славы хлебу
нередко поется о том, что "за рекой мужики живут богатые, гребут
жемчуг лопатами": (См.: Чичеров В. И. Из истории новогодних игр и
песен русского народа. -- Сборник "В. В. Виноградову...". М., 1956,
с. 277), "За рекой..." -- т. е. в том ритуальном урочище, где горят
огни горючие, где происходят жертвоприношения. В докняжеской
языческой Москве таким сакральным урочищем был, очевидно, высокий
берег Заяузья -- Красный холм, на котором, судя по названию
"Болваны" (у Таганки), находились некогда идолы. Общая подблюдная
песня о богатых мужиках за рекой, в Москве была конкретизирована:
43 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, с. 285-303.
Интересна долговечность таких религиозных центров: возникнув
примерно в I тысячелетии до н. э. (а может быть, и в бронзовом
веке), они, как показывают польские источники, донесли свою древнюю
языческую сущность вплоть до позднего средневековья XV в. н. э., а
на многих из них возникли христианские церкви и монастыри.
Священные горы, как уже неоднократно говорилось, часто носят
наименование "Лысых" или "Девичьих". Возникает предположение, что
первое название могло быть связано с тем или иным мужским божеством,
а девичьи горы, естественно, с женским божеством, с богиней-девой,
являвшейся далекой предшественницей христианской богородицы, девы
Марии. О мужской сущности лысых гор косвенно может говорить
известное навершие скифского времени с Лысой горы близ
Днепропетровска с изображением обнаженного мужского божества, птиц,
волков и четырех крестообразно направленных отрогов.
Девичьи горы в ряде случаев дают подтверждение своему
наименованию. Существует Девичья гора в Сахновке на берегу Роси. В
Сахновке была найдена знаменитая золотая пластина с изображением
сколотского или скифского праздника в честь какого-то женского
божества 44.
44 Раевский Д. С. Очерки идеологии скифо-сакских племен. М.,
1977, с. 99, рис. 9; Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, с. 569.
Память о ритуальном значении сахновской Девичьей горы
сказалась в том, что на ее вершине до сих пор ставят три деревянных
креста и местное население твердо знает, что эти кресты не
надмогильные.
Еще одна Девичь-гора находится в этом же Среднеднепровском
регионе на окраине с. Триполье (летописный Треполь) на Днепре. На
вершине горы, возвышающейся над Днепром, в зарубинецкое время был
сооружен своеобразный жертвенник-печь, представляющий собой
композицию из девяти полусферических углублений. По всей
вероятности, этот своеобразный жертвенник с девятью гнездами
предназначался для сосудов, в которых во время праздничной церемонии
могли вариться какие-либо зелья или зерна. Набор основных растений
мог заполнить все сосуды: пшеница, ячмень, просо, греча (?), полба
(?), лен, конопля, бобы, горох. Число 9 в сочетании с девичьим
именем этой огромной и очень импозантной горы наводит на мысль (как
и по поводу гадательной чаши с девятью клеймами месяцев), что
создатели жертвенника с девятью составными частями прежде всего
соотносили это центральное сооружение Девичь-горы с девятью месяцами
беременности. Богиня-дева, как устойчивое представление о женском
аграрном божестве, мыслилась, очевидно, подобно христианской
богородице не просто девушкой, а такой, которая уже "понесла во
чреве своем" и ей предстояло девять месяцев подготавливать рождение
новой жизни.
Число 9 входит в разряд общеславянских сакральных чисел ("за
три-девятъ земель", "в три-девятое царство, три-десятое государство"
и т. п.) 45.
Почти полную аналогию девичьгорскому жертвеннику представляет
жертвенник с девятью ямами из моравского городища с любопытным
названием -- Поганское. Дата его -- начало X в., время языческой
реставрации в Моравии 46.
Здесь только нет признаков огня. Б. Достал считает эти девять
ямок следами девяти идолов, что мало вероятно, так как ямки
расположены вплотную друг к другу и они слишком мало врыты в
материк. Некоторый свет на сущность такого девятиямочного комплекса
может пролить интереснейшая находка в Новгороде, примерно синхронная
Ногайскому городищу 47. Там был обнаружен комплекс из девяти
деревянных ковшей.
45 Вайяи
46 Bozivoi Dostal. Slovanske kultovni misto na Pohansku u
Breclavi. -- Vlastivedny Vestnik Moravsky. Brno, 1968, s. 3-25.
47 Седов В. В. Языческая братчина в древнем Новгороде. --
КСИИМК, 65, М., 1956;
Он же. К вопросу о жертвоприношениях в древнем Новгороде. --
КСИИМК, 68, М., 1957.
При комментировании новгородской находки необходимо учесть,
что древнейшим местным божеством новгородцев до установки у них
идола Перуна Добрыней в 983 г. было некое женское божество
плодородия. Именно поэтому на месте святилища Перуна (раскопанного
В. В. Седовым в 1951 г.) новгородцы после крещения поставили не
церковь св. Ильи, который обычно замещал Перуна, а церковь рожества
богородицы, где православный престольный праздник сочетался к
огорчению церковников с архаичным языческим праздником рожаниц.
Возможно, что и обряд с девятью ковшами был связан именно с древним
женским божеством.
В Поганском городище девятиямочный комплекс находится у стены
языческого храма, предшествовавшего постройке костела. Костел
обращен апсидой на "летний восход" и, следовательно, был посвящен
какому-то святому или святой, празднование которого приходилось на
разгар лета в период древних июньских таргелий, или "зеленых
святок". Поганское расположено на реке Дые ("богиня") и поблизости
от него есть две горы под названием Девин. Все это подкрепляет мысль
о связи ритуального комплекса с женским божеством.
Около городища Старой Рязани на мысу есть интересный
сакральный комплекс из девяти ям с кострищами в каждой из них. Это
напоминает новгородское святилище Перуна, но отличается тем, что
вокруг идола Перуна были восемь кострищ, а в старорязанском
святилище их было девять48. Возможно, что связь женского божества с
городом, постройкой города не случайна, а восходит к очень древним
представлениям о богинях-покровительницах селений и городов.
48 Розенфельдт И. Г. Раскопки северного мыса старорязанского
городища -- АО, 1966 г. М., 1967, с. 44.
Вернемся к Девичь-горе у Триполья (летописного Треполя).
Здесь не было ни города, ни поселения. Сама гора представляла собой
усеченную пирамидальную возвышенность, главенствующую над прибрежной
поймой Днепра. Верхняя ее площадка невелика и состоит из двух
плоских ступеней: верхняя ступень с жертвенником 30 х 70 м и нижняя
ступень -- 30X30 м. Жертвенник поставлен так, что занимает срединное
место всей вершины горы; рядом с ним зарубинецкие погребения I в. до
н. э. -- I в. н. э. Со стороны, противоположной Днепру, Девичь-гора
сходит на нет широким пологим спуском, как бы специально
предназначенным для торжественных обрядовых процессий от поселения
к жертвеннику богини-девы на вершине. Большой интерес представляет
общий взгляд на весь тот среднеднепровский регион, в котором
находится Девичь-гора у Триполья. На новейшей археологической карте
зарубинецкой культуры, составленной Е. В. Максимовым, в обширном
ареале всей культуры (Припять, Днепр, Десна, Сейм) резко выделяется
количеством памятников и плотностью заселения Среднее Поднепровье
(от устья Десны до Тясмина) 49. Здесь сосредоточены важнейшие
памятники зарубинецкой культуры. Здесь же встречено наибольшее
количество предметов античного импорта из Причерноморья50.
Е. В. Максимов выделяет два плотных сгустка зарубинецких
поселений: один вокруг Киева, а другой на Днепре близ Канева и устья
Роси, в который входят и Зарубинцы, давшие имя всей культуре 51.
49 Максимов Е. В. Зарубинецкая культура на территории УССР.
Киев, 1982. с. 8, карта.
50 Поболь Л. Д. Славянские древности Белоруссии. Минск, 1974,
с. 36, рис. 5а. Античный импорт в зарубинецких памятниках в основном
замкнут в ограниченном районе по Днепру от Триполья до низовья Роси.
51 Максимов Е. В. Зарубинецкая культура..., с. 172.
Именно в этом районе и наблюдается наибольшее количество
привозных причерноморских предметов роскоши.
Мысль Е. В. Максимова можно несколько развить. Во-первых,
явно ощущается еще один сгусток на Тясмине, а, во-вторых,
представляется возможным сопоставить археологические группы
памятников с летописными племенами. Обособленную, самую южную
тясминскую группу, вероятно, следует сопоставить с Уличами;
днепровско-поросскую группу с Русью, а киевскую -- с Полянами.
Границей между землей Полян и землей Руси, возможно, следует считать
пространство между Витачевским и Зарубинским бродами, но это,
разумеется, требует дальнейших доследований.
|
Метки: обереги русская традиция |
Обереги 11-13 века часть 4 |
Главным в купальской обрядности был, как известно, костер,
через который прыгали попарно. Отголоском обряда является игра в
горелки ("гори, гори ясно, чтобы не погасло..."). Белорусская
этнография знакомит нас с любопытными деталями обряда. Во-первых,
сооружение костра поручалось женщине ("молодая молодица, разложи
купальницу!"; № 87). Во-вторых, основой будущего костра был столб
или кол, вбитый в землю: "как Купала сама изображалась столбом, а
голова у нее в золоте (в песнях. -- Б. Р.) или же вся она в зелени,
так по образу ее в обряде делается кол (в другом месте -- "остов
столбом или колом"), втыкается в землю, обвивается соломой,
вымолоченными колосьями, коноплянником, а наверху пук соломы,
который и называется Купалой и который зажигают в купальскую ночь.
На этот знак сбегается народ, разгорается известный купальский
костер" 14. Важную роль в песнях играет дуб; дубовые сучья идут и в
костер.
Связь купальских обрядов с аграрной магией "макушки лета"
несомненна. Анализ русской вышивки показал, что к этому сезону
относятся ритуальные полотенца с изображением Макоши-Купалы, где
богиня окружена солнечными знаками и всегда показана с опущенными к
плодоносящей земле руками; голова Купалы нередко увита колосьями,
колосья изображались и у ног богини 15. Если в весеннем цикле по
сторонам богини изображались женщины-всадницы с сохами за спиной, то
на полотенцах купальского цикла вышивали всадников-мужчин.
Макошь, богиня земного плодородия, была посредницей между
небом и землей (в весеннем цикле она всегда изображалась с воздетыми
к небу руками) 16. С этой двойственностью можно сопоставить
любопытную деталь купальской одежды белорусских женщин: "В убранстве
празднующих главное внимание обращено на женскую голову и обувь"
17. Девушки, кроме венков из зелени, надевали на голову "войник" из
ткани обязательно голубого, небесного, цвета; на ногах
разукрашивались чулки и подвязки. Налицо внимание к символике неба
(голубой войник) н земли (обувь, чулки).
Особый интерес для нашей темы о святилищах посреди поселка
представляет песня № 47, поставленная Бессоновым во главе всего
обширного купальского цикла; этнограф сделал очень важные пояснения
темных мест песни, без которых непонятен смысл обряда (даны в
скобках):
Сярёд сяла Воучковского
То-то! (припев с пристукиванием и топотом)
Ту-ту стояла лазня дубовая (сени с навесом, открытая часовня)
Ту-ту-ту!
А ходили детюшки (парни, молодцы) богу помолиться:
То-то!
Стоуб обнимали, печь целовали
Ту-ту-ту!
Перяд Сопухой (Купалой) крыжом ляжали
То-то!
Яны думали -- прячистая,
Ту-ту-ту!
Анож Сопуха (Купала) -- нячистая!
То-то 18.
14 Бессонов Петр. Белорусские песни..., с. 45 и 62.
15 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, рис. на с. 521 и
523
16 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, рис. на с.
511-515.
17 Бессонов Петр. Белорусские песни, с. 63.
18 Бессонов Петр. Белорусские песни..., с. 29.
Ритуальная архаичная песня о нечистой Купале-Макоши очень
полно соотносится с данными раскопок почепского селища зарубинецкого
времени. И там и здесь святилище расположено "сярёд сяла"; и там и
здесь культовое место представляло собой подобие небольшой постройки
с навесом. Главным объектом культа по фольклорным данным был столб,
который молящиеся обнимали, и печь, которую они целовали. И печь и
столб в центре постройки обнаружены при раскопках. Вышивки передают
нам образ Макоши как центр трехфигурной композиции с двумя
предстоящими божествами. Раскопки позволяют говорить тоже о
трехфигурной композиции: в центре столб у печи (Макошь -- Купала),
а по сторонам -- предстоящие в боковых нишах.
В сочетании с посудой, помеченной магическими знаками
плодородия, найденной в соседнем со святилищем доме, весь ритуальный
комплекс зарубинецкого поселка "Грудка" (Почепское селище) может
быть истолкован как капище Макоши, называемой применительно к
купальской обрядности 23 -- 29 июня Купалой, что является обычной в
фольклоре персонификацией праздника. Так, от зимних колядок
оформился к XVII в. "бог Коляда", а от летнего праздника купалы
произошло божество Купала. Скупые археологические данные о
святилищах внутри поселка можно пополнить несколько более поздними
данными, относящимися к порубежью черняховской культуры и
вельбарской. Речь идет об интереснейшей находке в Лепесовке на
Волыни. Раскопки здесь производила в 1957 г. М. А. Тиханова 19.
На территории поселка черняховского времени находилась
довольно большая (15,5X8 м) прямоугольная постройка с четырьмя
кострищами и с жертвенником в центре. Жертвенник был сложен из глины
и семи слоев черепков. Для выстилки черепками каждого слоя этого
столба-жертвенника разбивался один большой сосуд и все фрагменты его
укладывались на глиняную основу и замазывались глиной. Для нового
слоя разбивался еще один сосуд. Большинство сосудов принадлежит к
типу "зерновиков", тары для зерна. Два сосуда представляют
совершенно исключительный интерес, так как являются по моему
предположению гадательными чарами 20.
Все сооружение с жертвенником из зерновиков и гадательных чаш
являлось, по-видимому, сельским святилищем, но в отличие от
почепского, не для летних молений Макоши, сопровождавшихся
приготовлением ритуального варева из зелий, а для зимних новогодних
гаданий о судьбе в предстоящем году. Около очагов внутри святилища
найдены глиняные модели хлебцев, известные еще со времен скифских
зольников, но характерные также для поселений черняховской культуры.
На хлебцах-колобках часто изображение креста 21. Нанесение
крестообразного знака на хлеб, как это ни странно, вызывало
возражение русских средневековых церковников:
"А се иная злоба в крестьянех -- ножем крестят хлеб, а пиво
крестят чашею... а се поганьскы творять" 22.
Автор поучения, очевидно, знал, что нанесение креста на хлеб
насчитывало к его времени по крайней мере тысячелетнюю "поганьскую"
традицию.
Постепенно, с разрастанием поселков, с выходом их за пределы
древних оград городища, священные места жителей селений стали
перемещать из сердцевины села на его окраину. Места празднеств,
жертвоприношений и общесельских пиров-братчин стали устраивать
непосредственно у околицы. Пережитком этого на русском Севере
являются часовенки и поклонные кресты на окраинах сел, около которых
еще в XIX в. крестьяне поедали в ильин день жертвенного мирского
(выкормленного "всем миром" -- всем селом) быка и пили пиво из
ячменя, собранного со всех жителей поселения 23.
Примером такого околосельского святилища Черняховского
времени является языческий комплекс, обнаруженный в 1951 г. у с.
Иванковцы на Днестре, в древней земле Тиверцев 24.
ОбычныйТерминСписокопределенийАдресЦитатыФорматированный19 Тиханова М. А. Днестровско-волынский отряд
Галицко-волынской экспедиции. -- КСИИМК, 1960, № 79, с. 93-95.
20 Рыбаков Б. А. Календарь IV в. из земли Полян. -- СА, 1962,
№ 4, с. 66 -- 74.
21 Винокур I. С. Iсторiя та культура черняхiвських племен
Днiпровського межирiчия II-V ст. н. э. Київ, 1972, с. 118-119, рис.
43.
22 Гальковский Н. М. Борьба христианства с остатками
язычества в древней Руси. М., 1913, т. II, с. 35.
23 Макашина Т. С. Фольклор и обряды русского населения
Латгалии. М., 1979.
24 Довженок В. И. Древнеславянские языческие идолы из с.
Иванковцы в Поднестровье. -- КСИИМК. М., 1952, вып. 48, рис. 43 и
44; Брайчевский М. Ю. Древнеславянское святилище в селе Иванковцы
на Днестре. -- КСИИМК. М., 1953, № 52, с. 43 -- 53; Брайчевский М.
Ю., Довженок В. И. Древнеславянское святилище в с. Иванковцы на
Поднестровье. -- КСИА АН УССР, 1953, вып. 2, с. 23 -- 24.
Здесь на окраине просторного и неукрепленного славянского
села II -- V вв. н. э. были найдены три каменных идола. К сожалению,
ни обследования, ни раскопки не могли определить первоначального
положения интереснейших изваяний. Один из идолов (№ 1) был обнаружен
археологами вкопанным в землю и возвышавшимся над ее поверхностью.
Раскопки, проведенные М. Ю. Брайчевским, не установили наличия близ
идола какого-либо сооружения и, к сожалению, не определили время
установки идола в данном месте; он мог быть перенесен сюда в любое
время, как был перенесен другой идол (№ 3), находившийся ранее в
ином месте неподалеку. Нечто вроде жертвенника и небольшого
округлого сооружения было обнаружено в 20 м к северу от современной
позиции идола № 1, но связь с идолом ничем не доказана 25. Делать
какие-либо надежные выводы из взаимного расположения идолов в момент
их фиксации нельзя. Очевидно, они представляли единый ритуальный
комплекс на краю села II -- V вв. Возможно, что все капище с тремя
каменными идолами находилось несколько севернее, на возвышении, уже
за пределами зоны культурного слоя. В состав комплекса входили два
антропоморфных идола и один четырехгранный с человеческими личинами
на верху каждой грани (№ 1). Самым крупным (высота около 3 м) был
идол № 3, "завершающийся изображением человеческой головы. Голова
моделирована сравнительно хорошо. Ясно выражены глаза, нос, рот,
подбородок (либо вовсе лишенный бороды, либо с очень короткой
бородкой), волосы, уши. На столбе, изображающем туловище, не
намечено ни рук, ни ног, ни каких-либо деталей одежды, оружия и т.
д." 26. Вторым по величине (высота 2,35 м) является идол № 2. Это
фигура бородатого мужчины со сложенными на груди руками. Отсутствие
каких-либо атрибутов может объясняться длительным выветриванием
статуй, сделанных из мягкого известняка.
25 Врайчевский М. Ю. Древнеславянское святилище..., с. 47,
рис. 13.
26 Врайчевский М. Ю. Древнеславянское святилище..., с. 45.
Рисунка, к сожалению, нет.
Особый интерес представляет идол № 1. Четырехгранный
(поперечное сечение 37 х 40 см), высотою в 1,8 м, он оформлен в
верхней части в виде округлой головы с четырьмя лицами
соответственно каждой грани. В этом отношении он напоминает
збручского Святовита-Рода.
Лики, смотрящие "на все четыре стороны", -- апотропей,
оберегающий от зла, находящегося впереди и сзади, справа и слева.
Недаром так укоренилось в русском языке выражение "со всех четырех
сторон". "Все" -- это четыре указанных направления, которые иногда
могли означать и географические координаты: с севера и юга, с запада
и с востока. Поскольку носителями зла считались "злые ветры", то
географическое понятие вполне уместно в представлении о
повсеместности. Исход зла расценивался не только по отношению к
индивидууму ("сзади", "слева"), но и по отношению к природе в целом
-- по странам света или, говоря современными терминами, по
географическим координатам. Ниже, в главе о языческих элементах в
русском средневековом прикладном искусстве, будет приведено много
примеров четырехчастного, крестообразного расположения
заклинательных знаков, которому, несомненно, придавался смысл
повсеместной направленности антитезы зла. Очевидно, тот же смысл
вкладывался древними славянами и в иванковского четырехликого идола,
который должен был охранять село со всех четырех сторон.
Было ли это изображением вездесущего, повсеместно
пребывающего Рода, каковым мы вправе считать збручское изваяние,
утверждать трудно, но такое предположение вполне вероятно. Идол Рода
как верховного божества должен был бы быть наиболее крупным из трех
иванковских находок, если бы у нас была уверенность в их полной
синхронности, в одновременности изготовления всех трех фигур, но
этой уверенности у нас нет, а широкая датировка поселения II -- VI
вв. н. э. допускает разновременное изготовление изваяний на
протяжении почти пятисот лет. Гадать о том, каким божествам были
посвящены антропоморфные одноликие идолы, бесполезно из-за
отсутствия атрибутов.
В этом же поднестровском регионе, на юго-запад от Иванковцев
в с. Калюс у Днестра на территории большого поселения черняховской
культуры был обнаружен каменный идол высотою в 2,3 м 27. Скульптура
изображает мужчину(?) с турьим рогом в правой руке. По примитивности
трактовки она близка к "велесам" сколотского времени из близлежащих
мест пограничья лесостепи и степи у Южного Буга. Существенным
отличием является полное отсутствие скифских черт -- акинака у пояса
и гривны на шее.
И. С. Винокур составил интереснейшую карту находок подобных
каменных идолов для Среднего Поднестровья, богатого известняком,
пригодным для таких изделий 28. На этой карте показано удивительно
равномерное размещение антропоморфных памятников II -- IX вв. н. э.
между Днестром и Южным Бугом. В их число входит и знаменитый
збручский Святовит, но основную массу их составляют идолы
Черняховского времени. Было бы очень соблазнительно равномерность
географического распределения идолов и стел (в среднем около 40 км
друг от друга) объяснить структурой общества: капище с идолом могло
быть сакральным центром небольшой округи, соответствовавшей,
например, "верви" ("съто" по десятичному делению), составной части
первичного племени 29.
27 Винокур I. С. с. 117, рис. 34 на с. 108.
28 Винокур I. С. Icтоpiя та культура черняхiвських племен...,
с. 107, рис. 33.
29 Вернуться к этому предположению станет возможным лишь
после детального обследования как самих идолов, так и мест их
нахождения, в результате которого будет установлена их датировка и
этническая принадлежность их изготовителей. И. С. Винокур причислил
к черняховским памятникам идола из Ставчан, тоже с рогом в руках (с.
109 -- ИЗ; рис. 34 -- 38), но на спине у этого идола скульптором
четко обозначена коса, что встречается только на поздних половецких
каменных бабах. (См.: Плетнева С. А. Половецкие каменные изваяния.
-- САИ, Е4 -- 2. М., 1974, с. 71). Впрочем, против половецкого
происхождения идола из Ставчан говорит наличие рога изобилия, чего
половецкие ваятели не изображали.
Мы рассмотрели культовые места, непосредственно связанные с
местом пребывания человека.
Тема сельских святилищ дала нам мало. Разгадать содержание
почепского или иванковецкого святилища трудно, но, по всей
вероятности, эти капища с деревянными или каменными идолами
выполняли различные функции на протяжении года, хотя могли иметь и
какое-то специальное назначение подобно тому, как в русском
дореволюционном селе церковь была и местом обычных повседневных или
еженедельных богослужений, но раз в году отмечался особый
"престольный" праздник, связанный с наименованием церкви. Сакральная
постройка на почепском селище могла быть (весьма предположительно)
храмом Ма-коши, "Матери Урожая".
С большей уверенностью можно говорить о том, что в Лепесовке
мы имеем дело не столько с храмом как таковым (там не обнаружены
следы столбов-идолов), сколько со своеобразным гадательным домом,
где вопрошали судьбу о наступающем годе, о предстоящем урожае, о
девичьих судьбах. Здесь занимались "чародейством" в буквальном
смысле слова -- гадали у воды, налитой в священную чару, снабженную
знаками двенадцати месяцев. Синонимом чародейства было "волхование",
т. е. опять-таки обращение к воде (влаге, "вологе"), которым
занимались волхвы -- "облакопрогонители", т. е. жрецы, управляющие
дожденосными тучами при помощи чародейства, колдования с водой в
священной чаре.
Черняховский этап в жизни восточного славянства отличался от
зарубинецкого новым подъемом земледелия, возобновлением экспортной
торговли хлебом, общим увеличением благосостояния жителей
лесостепной плодородной зоны. Это сказалось на небывалом расширении
поселков, отказе от тех миниатюрных храмиков, примером которых может
служить круглая "лазня" селища Грудок. Общесельские моления
передвинулись к самому краю поселка, что мы видим на примере
Иванковцев. К сожалению, кроме отдельных примеров в нашем
распоряжении нет иных, более подробных данных.
Не подлежит сомнению, что то типологическое звено, которое
определяется понятием "дом-поселок", не занимало главного места в
религиозной системе древнего славянства. Здесь тщательнее были
разработаны оборонительные меры по отношению к могущему появиться из
внешнего мира злу, здесь старались не столько воздействовать на
силы, управлявшие миром, сколько предугадать намерения этих сил,
чтобы знать, о чем их просить, -- о дожде ли, если повелителем неба
задумана засуха, или о солнечных днях, если гадательная операция
предсказывает "разверстие хлябей небесных".
Главным, первенствующим в религиозных действиях древнего
славянина-земледельца было обращение к Природе, к макрокосму во всех
его проявлениях, так как именно от этого зависело его существование.
Сделанный в начале этой части экскурс в праславянскую
древность показывает, что уже в отдаленную эпоху сколотских "царств"
в Среднем Поднепровье, частично описанную Геродотом, уже
существовали и каменные идолы на торговых дорогах, и священные места
на горах. Из многообразного годового цикла языческих обрядов,
зафиксированного этнографами, лишь небольшая часть проводилась
внутри села и в домах. Это зимние святки с их колядой, Новым годом
и "велесовым днем" 30.
30 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, с. 430.
Но уже масленица с ее катаньем огненного колеса, ездой с
бубенцами, сожжением чучела зимы, ряжеными, заклинанием весны,
кулачными боями и т. п. выходила за рамки поселка и превращалась в
"игрища межю селы". Весь весенний цикл и летний, купальский, связаны
с природой, с полями, с "красными горками", берегами рек, березовыми
рощами.
Календарное приурочение обрядов, сохраненное как деревянными
резными календарями русской деревни, так и сельскохозяйственными
приметами, приуроченными впоследствии к святцам, возникли задолго до
крещения Руси, о чем свидетельствуют интереснейшие календари IV в.
н. э. из Среднего Поднепровья, требующие внимательного рассмотрения
ввиду их исключительности (см. след. главу) .
*
Подавляющее большинство древнеславянских языческих празднеств
и молений проводилось общественно, являлось "событием", совместным
заклинанием природы и проводилось не в доме или поселке, а за
пределами житейского бытового круга. Древнему земледельцу нужно было
прежде всего воздействовать на природу, воззвать к ее вегетационной
мощи, обратиться к различным "рощениям", священным деревьям, к
водным источникам -- родникам (не от Рода ли?), кладезям,
студеницам, к полям в процессе вспашки, сева и во время вызревания
драгоценного урожая. Помимо этих вполне конкретных разделов природы,
где симильная магия просматривается очень легко, существовало еще
почитание гор и холмов, связанное с обобщением природы, с теми
рожаницами и Родом, которые управляли природой в целом, управляли ею
с неба, на котором находились. Общечеловеческим является почитание
гор и проведение на них особых молений, обращенных к тому или иному
верховному божеству. Как мы помним, для праславян это можно
предполагать уже для бронзового века 31.
Религиозное, молитвенное отношение к силам природы
зафиксировано многими древнерусскими источниками. Церковники
порицали в своих поучениях обожествление природы, объясняя это или
незнанием истинной веры или же кознями дьявола, который "овы
прельсти в тварь веровати и в солнце же и огнь и во источники же и
в древа и во ины различны вещи ..." 32.
31 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, с. 285 -- 303.
32 Гальковский Н. М. Борьба христианства с остатками
язычества в древней Руси. Харьков, 1916, т. I, с. 46-50.
Кирилл Туровский в середине XII в. радовался, что языческое
обоготворение разных разделов природы уже миновало:
"Не нарекутся богом стихии, ни солнце, ни огнь, ни источницы,
ни древа".
Впрочем, как показывает этнография, все эти архаичные культы
дожили в том или ином виде до XIX -- XX вв. В приведенных примерах
обожествление природы идет по двум линиям: во-первых, культу
небесных сил, включая и огонь, а во-вторых, культ растительного
начала, неразрывно связанного с водой. Через все источники XI --
XIII вв. проходит описание основных славянских молений, как молений,
обращенных к природной воде (реки, озера, родники-студеницы и т. п.)
ради своевременного дарования воды небесной -- дождя. Именно об этом
свидетельствует и рассматриваемый в последующей главе славянский
аграрно-магический календарь IV в. н. э., точные сроки молений о
небесной воде четырежды на протяжении лета и молений о вёдре
накануне жатвы. Летописец, повествуя о древних полянах, говорит
только об этой водно-растительной стороне культа:
"Бяху же тогда погани, жруще езером и кладезем и рощением".
В "Слове на память епископу" на первое место поставлен тот же
самый культ:
"Ты (человек) бога оставив, рекам и источником требы
полагавши и жреши яко богу твари бездушной".
Церковные поучения вводят нас в сущность молений водным
источникам:
"Пожьрем студеньцемь и рекам и се тем (есть вариант --
"сътьм") да улучшим прошения своя", т. е. "принесем жертвы родникам
и рекам и этим обеспечим наши просьбы".
Яснее всего моления о благоприятной погоде, столь важной для
земледельцев, выражены в известном поучении начала XII в., в основу
которого положено одно из слов Григория Богослова ("Слово об
идолах") 33.
В дополнении к первоначальному тексту говорится:
"О в требу сътвори на студенньци -- дъжда искы от него,
забыв, яко бог с небес дъждь даеть...
...О в реку богыну нарицаеть и зверь, живущь в ней, яако бога
нарицая требу творить" 34.
33 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, с. 11-14.
34 Гальковский Н. М. Борьба христианства..., т. I, с. 45 --
46. В наших реках водится только один зверь -- бобер. В ряде
могильников Верхнего Поволжья в погребениях X-XI вв. встречены
глиняные модели звериных лап. Одни ученые считают их медвежьими,
другие -- лапами бобра.
Возможно, что под "зверем, живущем в реке", подразумевалась
огромная ящерица, водившаяся в Восточной Европе вплоть до XVI в.,
когда таких ящериц видел С. Герберштейн во время путешествия в
Московию. Образ такой ящерицы был конкретизацией очень архаичных
представлений о Ящере, хозяине подземно-подводного мира. По
свидетельству Адама Олеария (сер. XVII в.), мы знаем, что в
Новгороде в языческие времена существовало святилище какого-то
водного божества, похожего на крокодила (см. главу шестую).
Источники сообщают нам и форму молений водным источникам:
"О, убогая курята, оже не на честь святым породишася... но на
жертву идолом режються и то блутивше сами ядять. И инеми в водах
потапляемы суть. А друзии к кладязем приходяще моляться и в воду
мечють..."35
Значит, жертвоприношения воде были двух видов: кур резали и
ели или "в водах потопляли".
Почитание деревьев, святых рощ было другой гранью молений,
обращенных к вегетативной силе природы; оно широчайшим образом
представлено в этнографических материалах. Воспользуясь примером,
приведенным Н. М. Гальковским из челобитной 1636 г.
"В семый четверток по пасце ("семик") собираются жены и
девицы под древа, под березы и приносят яко жертвы: пироги и каши и
яичницы и, поклонясь березам, учнут песни сатанинские, приплетая,
пети и дланми плескати и всяко бесятся" 36.
35 Гальковский Н. М. Борьба христианства..., т. II, с. 59-60.
38 Гальковский Н. М. Борьба христианства, т. I, с. 50.
Более точно фиксированным местом ежегодных молений были
высокие холмы, горы, возвышавшие молящихся над уровнем обычной жизни
и как бы приближавшие их к небесным правителям мира, рожаницам или
Роду.
Все эти места культа воды, рощении, гор широко отразились в
восточнославянской топонимике, где встречены сотни "святых озер",
"святых рощ", "красных горок", "лысых юр", "девичьих гор" и других
урочищ, обозначенных нарицательно. К ним нужно добавить большое
количество урочищ, помеченных именами древних божеств: Перуново,
Волосово или Велесово, Макошино Ярилино, Ярилки и т. п. Учитывая
трудность сбора такого материала, как названия урочищ, обычно не
фиксируемых даже на крупномасштабных картах, мы должны признать
широкую повсеместность подобной языческой топонимики.
Весенние хороводы с песнями и танцами отмечены и в
общеизвестном описании старых славянских обычаев, сделанном
летописцем Нестором в самом начале XII в. Проводились они не в
поселках, а на природе, "межю селы" (что отражало экзогамные
представления):
"...а радимичи и вятичи и север один обычай имеяху: живяху в
лесе, якоже вьсякый зверь -- ядуще вьсе нечисто. И срамословие в них
пред отьци и пред снъхами. И браци не бываху в них, нъ игрища межю
селы. И съхлжахуся на игрища, на плясания и на вься бесовьскыя песни
и ту умыкаху жены собе, с нею къто съвещавъся. Имеяху же по дъве и
по три жены..." 37
Характер многих языческих празднеств, судя по этнографическим
отголоскам, был настолько повсеместным, связанным со всей природой
вокруг села (леса, рощи, родники, реки, болота, холмы и горы), что
отыскать места древних хороводов, купальских костров,
жертвоприношений воде, различных "игрищ межю селы" почти невозможно.
Исключением являются только священнодействия на холмах, на
горах, "красных горках", которые очень часто при археологических
обследованиях дают интересный материал о древних языческих культах.
Почитаемые идолы ставились славянами-язычниками, как правило,
на холмах. Летописные сведения о Перуне всегда отмечают его
положение на холме: князь Игорь, скрепляя клятвой договор с
Византией, "приде на холъмы, кде стояше Перун". Владимир поставил
идолов на вершине Старокиевской горы над Днепром. После крещения
Руси место языческих капищ на таких холмах заняли христианские
церкви:
"...куда же древе погани жряху бесом на горах -- туда же ныне
цркви стоят златоверхия" 38.
37 Шахматов А.А. Повесть временных лет. Пг., 1916, с. 13.
38 ИОРЯС, XII, 1908, I, с. 52.
"Красные горки", "красные холмы", где проводились масленичные
сжигания чучел зимы, обряд заклинания весны, встреча Лады и Лели,
катанье яиц на фоминой неделе (которая и называлась "красной
горкой") были, вероятно, около каждого села. В равнинных местах, где
не было заметных возвышенностей, крестьяне отмечали на лугах первые
весенние проталины, где раньше всего начинал таять снег, и там
проводили обряд встречи весны.
Такие сакральные "красные горки" отразились в фольклоре:
Ой, у конци села -- высока гора,
А на той на горе горели огне,
Коле тых огнов -- все сватые,
Увше сватые, мужи старые... 39.
Фольклор сохранил интересное и очень архаичное описание
зимнего новогоднего обряда и вдали от поселка:
За горою крутою,
За рекою за быстрою
Стоят леса дремучие,
В тех лесах огни горят,
Вокруг огней люди стоят,
Люди стоят колядуют
Ой, коляда, коляда!
Ты бываешь, коляда
Накануне рождества 40.
39 Meszynski К. Kultura ludowa Slowian. Krakow, 1934, cz. II,
Zesz. 1, c. 541.
40 Шейн П. В. Великорус в своих песнях, обрядах, обычаях,
верованиях, сказках, легендах и т. п. Великор. № 1046, СПб., 1898,
т. I, вып. 1.
Коляда праздновалась не только под рождество, но и на Новый
год (языческий): "Аще кто в 1 день енуара на коляду идеть, яко же
пьрвее погани творяху, а покаеться -- яко от сотоны есть игра та"
(Кормч. XIII). К концу XIII в. празднование коляды было перенесено
на церковный Новый год, начинавшийся с 1 марта: "Коляды --
наречаемая ошестъкы и в 1 день марта месяца совершаемое тържьство"
(Срезневский И. М. Материалы ... Новг. Кормчая 1280 г.).
Другая более ранняя запись подобной обрядовой песни
раскрывает сущность ритуальной церемонии -- принесение в жертву
козла:
За рекою за быстрою
Леса стоят дремучие,
Огни горят великие,
Вокруг огней скамьи стоят,
Скамьи стоят дубовые,
На тех скамьях добры молодцы,
Добры молодцы, красны девицы
Поют песни колнодушки (колядные).
В середине их старик сидит,
Он точит свой булатный нож.
Котел кипит горючий;
Возле котла козел стоит --
Хотят козла зарезати... 41-42
У Спаса на Чигасах за Яузою
Живут мужики богатые
Гребут золото лопатами,
Чисто серебро лукошками.
Слава!
через который прыгали попарно. Отголоском обряда является игра в
горелки ("гори, гори ясно, чтобы не погасло..."). Белорусская
этнография знакомит нас с любопытными деталями обряда. Во-первых,
сооружение костра поручалось женщине ("молодая молодица, разложи
купальницу!"; № 87). Во-вторых, основой будущего костра был столб
или кол, вбитый в землю: "как Купала сама изображалась столбом, а
голова у нее в золоте (в песнях. -- Б. Р.) или же вся она в зелени,
так по образу ее в обряде делается кол (в другом месте -- "остов
столбом или колом"), втыкается в землю, обвивается соломой,
вымолоченными колосьями, коноплянником, а наверху пук соломы,
который и называется Купалой и который зажигают в купальскую ночь.
На этот знак сбегается народ, разгорается известный купальский
костер" 14. Важную роль в песнях играет дуб; дубовые сучья идут и в
костер.
Связь купальских обрядов с аграрной магией "макушки лета"
несомненна. Анализ русской вышивки показал, что к этому сезону
относятся ритуальные полотенца с изображением Макоши-Купалы, где
богиня окружена солнечными знаками и всегда показана с опущенными к
плодоносящей земле руками; голова Купалы нередко увита колосьями,
колосья изображались и у ног богини 15. Если в весеннем цикле по
сторонам богини изображались женщины-всадницы с сохами за спиной, то
на полотенцах купальского цикла вышивали всадников-мужчин.
Макошь, богиня земного плодородия, была посредницей между
небом и землей (в весеннем цикле она всегда изображалась с воздетыми
к небу руками) 16. С этой двойственностью можно сопоставить
любопытную деталь купальской одежды белорусских женщин: "В убранстве
празднующих главное внимание обращено на женскую голову и обувь"
17. Девушки, кроме венков из зелени, надевали на голову "войник" из
ткани обязательно голубого, небесного, цвета; на ногах
разукрашивались чулки и подвязки. Налицо внимание к символике неба
(голубой войник) н земли (обувь, чулки).
Особый интерес для нашей темы о святилищах посреди поселка
представляет песня № 47, поставленная Бессоновым во главе всего
обширного купальского цикла; этнограф сделал очень важные пояснения
темных мест песни, без которых непонятен смысл обряда (даны в
скобках):
Сярёд сяла Воучковского
То-то! (припев с пристукиванием и топотом)
Ту-ту стояла лазня дубовая (сени с навесом, открытая часовня)
Ту-ту-ту!
А ходили детюшки (парни, молодцы) богу помолиться:
То-то!
Стоуб обнимали, печь целовали
Ту-ту-ту!
Перяд Сопухой (Купалой) крыжом ляжали
То-то!
Яны думали -- прячистая,
Ту-ту-ту!
Анож Сопуха (Купала) -- нячистая!
То-то 18.
14 Бессонов Петр. Белорусские песни..., с. 45 и 62.
15 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, рис. на с. 521 и
523
16 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, рис. на с.
511-515.
17 Бессонов Петр. Белорусские песни, с. 63.
18 Бессонов Петр. Белорусские песни..., с. 29.
Ритуальная архаичная песня о нечистой Купале-Макоши очень
полно соотносится с данными раскопок почепского селища зарубинецкого
времени. И там и здесь святилище расположено "сярёд сяла"; и там и
здесь культовое место представляло собой подобие небольшой постройки
с навесом. Главным объектом культа по фольклорным данным был столб,
который молящиеся обнимали, и печь, которую они целовали. И печь и
столб в центре постройки обнаружены при раскопках. Вышивки передают
нам образ Макоши как центр трехфигурной композиции с двумя
предстоящими божествами. Раскопки позволяют говорить тоже о
трехфигурной композиции: в центре столб у печи (Макошь -- Купала),
а по сторонам -- предстоящие в боковых нишах.
В сочетании с посудой, помеченной магическими знаками
плодородия, найденной в соседнем со святилищем доме, весь ритуальный
комплекс зарубинецкого поселка "Грудка" (Почепское селище) может
быть истолкован как капище Макоши, называемой применительно к
купальской обрядности 23 -- 29 июня Купалой, что является обычной в
фольклоре персонификацией праздника. Так, от зимних колядок
оформился к XVII в. "бог Коляда", а от летнего праздника купалы
произошло божество Купала. Скупые археологические данные о
святилищах внутри поселка можно пополнить несколько более поздними
данными, относящимися к порубежью черняховской культуры и
вельбарской. Речь идет об интереснейшей находке в Лепесовке на
Волыни. Раскопки здесь производила в 1957 г. М. А. Тиханова 19.
На территории поселка черняховского времени находилась
довольно большая (15,5X8 м) прямоугольная постройка с четырьмя
кострищами и с жертвенником в центре. Жертвенник был сложен из глины
и семи слоев черепков. Для выстилки черепками каждого слоя этого
столба-жертвенника разбивался один большой сосуд и все фрагменты его
укладывались на глиняную основу и замазывались глиной. Для нового
слоя разбивался еще один сосуд. Большинство сосудов принадлежит к
типу "зерновиков", тары для зерна. Два сосуда представляют
совершенно исключительный интерес, так как являются по моему
предположению гадательными чарами 20.
Все сооружение с жертвенником из зерновиков и гадательных чаш
являлось, по-видимому, сельским святилищем, но в отличие от
почепского, не для летних молений Макоши, сопровождавшихся
приготовлением ритуального варева из зелий, а для зимних новогодних
гаданий о судьбе в предстоящем году. Около очагов внутри святилища
найдены глиняные модели хлебцев, известные еще со времен скифских
зольников, но характерные также для поселений черняховской культуры.
На хлебцах-колобках часто изображение креста 21. Нанесение
крестообразного знака на хлеб, как это ни странно, вызывало
возражение русских средневековых церковников:
"А се иная злоба в крестьянех -- ножем крестят хлеб, а пиво
крестят чашею... а се поганьскы творять" 22.
Автор поучения, очевидно, знал, что нанесение креста на хлеб
насчитывало к его времени по крайней мере тысячелетнюю "поганьскую"
традицию.
Постепенно, с разрастанием поселков, с выходом их за пределы
древних оград городища, священные места жителей селений стали
перемещать из сердцевины села на его окраину. Места празднеств,
жертвоприношений и общесельских пиров-братчин стали устраивать
непосредственно у околицы. Пережитком этого на русском Севере
являются часовенки и поклонные кресты на окраинах сел, около которых
еще в XIX в. крестьяне поедали в ильин день жертвенного мирского
(выкормленного "всем миром" -- всем селом) быка и пили пиво из
ячменя, собранного со всех жителей поселения 23.
Примером такого околосельского святилища Черняховского
времени является языческий комплекс, обнаруженный в 1951 г. у с.
Иванковцы на Днестре, в древней земле Тиверцев 24.
ОбычныйТерминСписокопределенийАдресЦитатыФорматированный19 Тиханова М. А. Днестровско-волынский отряд
Галицко-волынской экспедиции. -- КСИИМК, 1960, № 79, с. 93-95.
20 Рыбаков Б. А. Календарь IV в. из земли Полян. -- СА, 1962,
№ 4, с. 66 -- 74.
21 Винокур I. С. Iсторiя та культура черняхiвських племен
Днiпровського межирiчия II-V ст. н. э. Київ, 1972, с. 118-119, рис.
43.
22 Гальковский Н. М. Борьба христианства с остатками
язычества в древней Руси. М., 1913, т. II, с. 35.
23 Макашина Т. С. Фольклор и обряды русского населения
Латгалии. М., 1979.
24 Довженок В. И. Древнеславянские языческие идолы из с.
Иванковцы в Поднестровье. -- КСИИМК. М., 1952, вып. 48, рис. 43 и
44; Брайчевский М. Ю. Древнеславянское святилище в селе Иванковцы
на Днестре. -- КСИИМК. М., 1953, № 52, с. 43 -- 53; Брайчевский М.
Ю., Довженок В. И. Древнеславянское святилище в с. Иванковцы на
Поднестровье. -- КСИА АН УССР, 1953, вып. 2, с. 23 -- 24.
Здесь на окраине просторного и неукрепленного славянского
села II -- V вв. н. э. были найдены три каменных идола. К сожалению,
ни обследования, ни раскопки не могли определить первоначального
положения интереснейших изваяний. Один из идолов (№ 1) был обнаружен
археологами вкопанным в землю и возвышавшимся над ее поверхностью.
Раскопки, проведенные М. Ю. Брайчевским, не установили наличия близ
идола какого-либо сооружения и, к сожалению, не определили время
установки идола в данном месте; он мог быть перенесен сюда в любое
время, как был перенесен другой идол (№ 3), находившийся ранее в
ином месте неподалеку. Нечто вроде жертвенника и небольшого
округлого сооружения было обнаружено в 20 м к северу от современной
позиции идола № 1, но связь с идолом ничем не доказана 25. Делать
какие-либо надежные выводы из взаимного расположения идолов в момент
их фиксации нельзя. Очевидно, они представляли единый ритуальный
комплекс на краю села II -- V вв. Возможно, что все капище с тремя
каменными идолами находилось несколько севернее, на возвышении, уже
за пределами зоны культурного слоя. В состав комплекса входили два
антропоморфных идола и один четырехгранный с человеческими личинами
на верху каждой грани (№ 1). Самым крупным (высота около 3 м) был
идол № 3, "завершающийся изображением человеческой головы. Голова
моделирована сравнительно хорошо. Ясно выражены глаза, нос, рот,
подбородок (либо вовсе лишенный бороды, либо с очень короткой
бородкой), волосы, уши. На столбе, изображающем туловище, не
намечено ни рук, ни ног, ни каких-либо деталей одежды, оружия и т.
д." 26. Вторым по величине (высота 2,35 м) является идол № 2. Это
фигура бородатого мужчины со сложенными на груди руками. Отсутствие
каких-либо атрибутов может объясняться длительным выветриванием
статуй, сделанных из мягкого известняка.
25 Врайчевский М. Ю. Древнеславянское святилище..., с. 47,
рис. 13.
26 Врайчевский М. Ю. Древнеславянское святилище..., с. 45.
Рисунка, к сожалению, нет.
Особый интерес представляет идол № 1. Четырехгранный
(поперечное сечение 37 х 40 см), высотою в 1,8 м, он оформлен в
верхней части в виде округлой головы с четырьмя лицами
соответственно каждой грани. В этом отношении он напоминает
збручского Святовита-Рода.
Лики, смотрящие "на все четыре стороны", -- апотропей,
оберегающий от зла, находящегося впереди и сзади, справа и слева.
Недаром так укоренилось в русском языке выражение "со всех четырех
сторон". "Все" -- это четыре указанных направления, которые иногда
могли означать и географические координаты: с севера и юга, с запада
и с востока. Поскольку носителями зла считались "злые ветры", то
географическое понятие вполне уместно в представлении о
повсеместности. Исход зла расценивался не только по отношению к
индивидууму ("сзади", "слева"), но и по отношению к природе в целом
-- по странам света или, говоря современными терминами, по
географическим координатам. Ниже, в главе о языческих элементах в
русском средневековом прикладном искусстве, будет приведено много
примеров четырехчастного, крестообразного расположения
заклинательных знаков, которому, несомненно, придавался смысл
повсеместной направленности антитезы зла. Очевидно, тот же смысл
вкладывался древними славянами и в иванковского четырехликого идола,
который должен был охранять село со всех четырех сторон.
Было ли это изображением вездесущего, повсеместно
пребывающего Рода, каковым мы вправе считать збручское изваяние,
утверждать трудно, но такое предположение вполне вероятно. Идол Рода
как верховного божества должен был бы быть наиболее крупным из трех
иванковских находок, если бы у нас была уверенность в их полной
синхронности, в одновременности изготовления всех трех фигур, но
этой уверенности у нас нет, а широкая датировка поселения II -- VI
вв. н. э. допускает разновременное изготовление изваяний на
протяжении почти пятисот лет. Гадать о том, каким божествам были
посвящены антропоморфные одноликие идолы, бесполезно из-за
отсутствия атрибутов.
В этом же поднестровском регионе, на юго-запад от Иванковцев
в с. Калюс у Днестра на территории большого поселения черняховской
культуры был обнаружен каменный идол высотою в 2,3 м 27. Скульптура
изображает мужчину(?) с турьим рогом в правой руке. По примитивности
трактовки она близка к "велесам" сколотского времени из близлежащих
мест пограничья лесостепи и степи у Южного Буга. Существенным
отличием является полное отсутствие скифских черт -- акинака у пояса
и гривны на шее.
И. С. Винокур составил интереснейшую карту находок подобных
каменных идолов для Среднего Поднестровья, богатого известняком,
пригодным для таких изделий 28. На этой карте показано удивительно
равномерное размещение антропоморфных памятников II -- IX вв. н. э.
между Днестром и Южным Бугом. В их число входит и знаменитый
збручский Святовит, но основную массу их составляют идолы
Черняховского времени. Было бы очень соблазнительно равномерность
географического распределения идолов и стел (в среднем около 40 км
друг от друга) объяснить структурой общества: капище с идолом могло
быть сакральным центром небольшой округи, соответствовавшей,
например, "верви" ("съто" по десятичному делению), составной части
первичного племени 29.
27 Винокур I. С. с. 117, рис. 34 на с. 108.
28 Винокур I. С. Icтоpiя та культура черняхiвських племен...,
с. 107, рис. 33.
29 Вернуться к этому предположению станет возможным лишь
после детального обследования как самих идолов, так и мест их
нахождения, в результате которого будет установлена их датировка и
этническая принадлежность их изготовителей. И. С. Винокур причислил
к черняховским памятникам идола из Ставчан, тоже с рогом в руках (с.
109 -- ИЗ; рис. 34 -- 38), но на спине у этого идола скульптором
четко обозначена коса, что встречается только на поздних половецких
каменных бабах. (См.: Плетнева С. А. Половецкие каменные изваяния.
-- САИ, Е4 -- 2. М., 1974, с. 71). Впрочем, против половецкого
происхождения идола из Ставчан говорит наличие рога изобилия, чего
половецкие ваятели не изображали.
Мы рассмотрели культовые места, непосредственно связанные с
местом пребывания человека.
Тема сельских святилищ дала нам мало. Разгадать содержание
почепского или иванковецкого святилища трудно, но, по всей
вероятности, эти капища с деревянными или каменными идолами
выполняли различные функции на протяжении года, хотя могли иметь и
какое-то специальное назначение подобно тому, как в русском
дореволюционном селе церковь была и местом обычных повседневных или
еженедельных богослужений, но раз в году отмечался особый
"престольный" праздник, связанный с наименованием церкви. Сакральная
постройка на почепском селище могла быть (весьма предположительно)
храмом Ма-коши, "Матери Урожая".
С большей уверенностью можно говорить о том, что в Лепесовке
мы имеем дело не столько с храмом как таковым (там не обнаружены
следы столбов-идолов), сколько со своеобразным гадательным домом,
где вопрошали судьбу о наступающем годе, о предстоящем урожае, о
девичьих судьбах. Здесь занимались "чародейством" в буквальном
смысле слова -- гадали у воды, налитой в священную чару, снабженную
знаками двенадцати месяцев. Синонимом чародейства было "волхование",
т. е. опять-таки обращение к воде (влаге, "вологе"), которым
занимались волхвы -- "облакопрогонители", т. е. жрецы, управляющие
дожденосными тучами при помощи чародейства, колдования с водой в
священной чаре.
Черняховский этап в жизни восточного славянства отличался от
зарубинецкого новым подъемом земледелия, возобновлением экспортной
торговли хлебом, общим увеличением благосостояния жителей
лесостепной плодородной зоны. Это сказалось на небывалом расширении
поселков, отказе от тех миниатюрных храмиков, примером которых может
служить круглая "лазня" селища Грудок. Общесельские моления
передвинулись к самому краю поселка, что мы видим на примере
Иванковцев. К сожалению, кроме отдельных примеров в нашем
распоряжении нет иных, более подробных данных.
Не подлежит сомнению, что то типологическое звено, которое
определяется понятием "дом-поселок", не занимало главного места в
религиозной системе древнего славянства. Здесь тщательнее были
разработаны оборонительные меры по отношению к могущему появиться из
внешнего мира злу, здесь старались не столько воздействовать на
силы, управлявшие миром, сколько предугадать намерения этих сил,
чтобы знать, о чем их просить, -- о дожде ли, если повелителем неба
задумана засуха, или о солнечных днях, если гадательная операция
предсказывает "разверстие хлябей небесных".
Главным, первенствующим в религиозных действиях древнего
славянина-земледельца было обращение к Природе, к макрокосму во всех
его проявлениях, так как именно от этого зависело его существование.
Сделанный в начале этой части экскурс в праславянскую
древность показывает, что уже в отдаленную эпоху сколотских "царств"
в Среднем Поднепровье, частично описанную Геродотом, уже
существовали и каменные идолы на торговых дорогах, и священные места
на горах. Из многообразного годового цикла языческих обрядов,
зафиксированного этнографами, лишь небольшая часть проводилась
внутри села и в домах. Это зимние святки с их колядой, Новым годом
и "велесовым днем" 30.
30 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, с. 430.
Но уже масленица с ее катаньем огненного колеса, ездой с
бубенцами, сожжением чучела зимы, ряжеными, заклинанием весны,
кулачными боями и т. п. выходила за рамки поселка и превращалась в
"игрища межю селы". Весь весенний цикл и летний, купальский, связаны
с природой, с полями, с "красными горками", берегами рек, березовыми
рощами.
Календарное приурочение обрядов, сохраненное как деревянными
резными календарями русской деревни, так и сельскохозяйственными
приметами, приуроченными впоследствии к святцам, возникли задолго до
крещения Руси, о чем свидетельствуют интереснейшие календари IV в.
н. э. из Среднего Поднепровья, требующие внимательного рассмотрения
ввиду их исключительности (см. след. главу) .
*
Подавляющее большинство древнеславянских языческих празднеств
и молений проводилось общественно, являлось "событием", совместным
заклинанием природы и проводилось не в доме или поселке, а за
пределами житейского бытового круга. Древнему земледельцу нужно было
прежде всего воздействовать на природу, воззвать к ее вегетационной
мощи, обратиться к различным "рощениям", священным деревьям, к
водным источникам -- родникам (не от Рода ли?), кладезям,
студеницам, к полям в процессе вспашки, сева и во время вызревания
драгоценного урожая. Помимо этих вполне конкретных разделов природы,
где симильная магия просматривается очень легко, существовало еще
почитание гор и холмов, связанное с обобщением природы, с теми
рожаницами и Родом, которые управляли природой в целом, управляли ею
с неба, на котором находились. Общечеловеческим является почитание
гор и проведение на них особых молений, обращенных к тому или иному
верховному божеству. Как мы помним, для праславян это можно
предполагать уже для бронзового века 31.
Религиозное, молитвенное отношение к силам природы
зафиксировано многими древнерусскими источниками. Церковники
порицали в своих поучениях обожествление природы, объясняя это или
незнанием истинной веры или же кознями дьявола, который "овы
прельсти в тварь веровати и в солнце же и огнь и во источники же и
в древа и во ины различны вещи ..." 32.
31 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, с. 285 -- 303.
32 Гальковский Н. М. Борьба христианства с остатками
язычества в древней Руси. Харьков, 1916, т. I, с. 46-50.
Кирилл Туровский в середине XII в. радовался, что языческое
обоготворение разных разделов природы уже миновало:
"Не нарекутся богом стихии, ни солнце, ни огнь, ни источницы,
ни древа".
Впрочем, как показывает этнография, все эти архаичные культы
дожили в том или ином виде до XIX -- XX вв. В приведенных примерах
обожествление природы идет по двум линиям: во-первых, культу
небесных сил, включая и огонь, а во-вторых, культ растительного
начала, неразрывно связанного с водой. Через все источники XI --
XIII вв. проходит описание основных славянских молений, как молений,
обращенных к природной воде (реки, озера, родники-студеницы и т. п.)
ради своевременного дарования воды небесной -- дождя. Именно об этом
свидетельствует и рассматриваемый в последующей главе славянский
аграрно-магический календарь IV в. н. э., точные сроки молений о
небесной воде четырежды на протяжении лета и молений о вёдре
накануне жатвы. Летописец, повествуя о древних полянах, говорит
только об этой водно-растительной стороне культа:
"Бяху же тогда погани, жруще езером и кладезем и рощением".
В "Слове на память епископу" на первое место поставлен тот же
самый культ:
"Ты (человек) бога оставив, рекам и источником требы
полагавши и жреши яко богу твари бездушной".
Церковные поучения вводят нас в сущность молений водным
источникам:
"Пожьрем студеньцемь и рекам и се тем (есть вариант --
"сътьм") да улучшим прошения своя", т. е. "принесем жертвы родникам
и рекам и этим обеспечим наши просьбы".
Яснее всего моления о благоприятной погоде, столь важной для
земледельцев, выражены в известном поучении начала XII в., в основу
которого положено одно из слов Григория Богослова ("Слово об
идолах") 33.
В дополнении к первоначальному тексту говорится:
"О в требу сътвори на студенньци -- дъжда искы от него,
забыв, яко бог с небес дъждь даеть...
...О в реку богыну нарицаеть и зверь, живущь в ней, яако бога
нарицая требу творить" 34.
33 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, с. 11-14.
34 Гальковский Н. М. Борьба христианства..., т. I, с. 45 --
46. В наших реках водится только один зверь -- бобер. В ряде
могильников Верхнего Поволжья в погребениях X-XI вв. встречены
глиняные модели звериных лап. Одни ученые считают их медвежьими,
другие -- лапами бобра.
Возможно, что под "зверем, живущем в реке", подразумевалась
огромная ящерица, водившаяся в Восточной Европе вплоть до XVI в.,
когда таких ящериц видел С. Герберштейн во время путешествия в
Московию. Образ такой ящерицы был конкретизацией очень архаичных
представлений о Ящере, хозяине подземно-подводного мира. По
свидетельству Адама Олеария (сер. XVII в.), мы знаем, что в
Новгороде в языческие времена существовало святилище какого-то
водного божества, похожего на крокодила (см. главу шестую).
Источники сообщают нам и форму молений водным источникам:
"О, убогая курята, оже не на честь святым породишася... но на
жертву идолом режються и то блутивше сами ядять. И инеми в водах
потапляемы суть. А друзии к кладязем приходяще моляться и в воду
мечють..."35
Значит, жертвоприношения воде были двух видов: кур резали и
ели или "в водах потопляли".
Почитание деревьев, святых рощ было другой гранью молений,
обращенных к вегетативной силе природы; оно широчайшим образом
представлено в этнографических материалах. Воспользуясь примером,
приведенным Н. М. Гальковским из челобитной 1636 г.
"В семый четверток по пасце ("семик") собираются жены и
девицы под древа, под березы и приносят яко жертвы: пироги и каши и
яичницы и, поклонясь березам, учнут песни сатанинские, приплетая,
пети и дланми плескати и всяко бесятся" 36.
35 Гальковский Н. М. Борьба христианства..., т. II, с. 59-60.
38 Гальковский Н. М. Борьба христианства, т. I, с. 50.
Более точно фиксированным местом ежегодных молений были
высокие холмы, горы, возвышавшие молящихся над уровнем обычной жизни
и как бы приближавшие их к небесным правителям мира, рожаницам или
Роду.
Все эти места культа воды, рощении, гор широко отразились в
восточнославянской топонимике, где встречены сотни "святых озер",
"святых рощ", "красных горок", "лысых юр", "девичьих гор" и других
урочищ, обозначенных нарицательно. К ним нужно добавить большое
количество урочищ, помеченных именами древних божеств: Перуново,
Волосово или Велесово, Макошино Ярилино, Ярилки и т. п. Учитывая
трудность сбора такого материала, как названия урочищ, обычно не
фиксируемых даже на крупномасштабных картах, мы должны признать
широкую повсеместность подобной языческой топонимики.
Весенние хороводы с песнями и танцами отмечены и в
общеизвестном описании старых славянских обычаев, сделанном
летописцем Нестором в самом начале XII в. Проводились они не в
поселках, а на природе, "межю селы" (что отражало экзогамные
представления):
"...а радимичи и вятичи и север один обычай имеяху: живяху в
лесе, якоже вьсякый зверь -- ядуще вьсе нечисто. И срамословие в них
пред отьци и пред снъхами. И браци не бываху в них, нъ игрища межю
селы. И съхлжахуся на игрища, на плясания и на вься бесовьскыя песни
и ту умыкаху жены собе, с нею къто съвещавъся. Имеяху же по дъве и
по три жены..." 37
Характер многих языческих празднеств, судя по этнографическим
отголоскам, был настолько повсеместным, связанным со всей природой
вокруг села (леса, рощи, родники, реки, болота, холмы и горы), что
отыскать места древних хороводов, купальских костров,
жертвоприношений воде, различных "игрищ межю селы" почти невозможно.
Исключением являются только священнодействия на холмах, на
горах, "красных горках", которые очень часто при археологических
обследованиях дают интересный материал о древних языческих культах.
Почитаемые идолы ставились славянами-язычниками, как правило,
на холмах. Летописные сведения о Перуне всегда отмечают его
положение на холме: князь Игорь, скрепляя клятвой договор с
Византией, "приде на холъмы, кде стояше Перун". Владимир поставил
идолов на вершине Старокиевской горы над Днепром. После крещения
Руси место языческих капищ на таких холмах заняли христианские
церкви:
"...куда же древе погани жряху бесом на горах -- туда же ныне
цркви стоят златоверхия" 38.
37 Шахматов А.А. Повесть временных лет. Пг., 1916, с. 13.
38 ИОРЯС, XII, 1908, I, с. 52.
"Красные горки", "красные холмы", где проводились масленичные
сжигания чучел зимы, обряд заклинания весны, встреча Лады и Лели,
катанье яиц на фоминой неделе (которая и называлась "красной
горкой") были, вероятно, около каждого села. В равнинных местах, где
не было заметных возвышенностей, крестьяне отмечали на лугах первые
весенние проталины, где раньше всего начинал таять снег, и там
проводили обряд встречи весны.
Такие сакральные "красные горки" отразились в фольклоре:
Ой, у конци села -- высока гора,
А на той на горе горели огне,
Коле тых огнов -- все сватые,
Увше сватые, мужи старые... 39.
Фольклор сохранил интересное и очень архаичное описание
зимнего новогоднего обряда и вдали от поселка:
За горою крутою,
За рекою за быстрою
Стоят леса дремучие,
В тех лесах огни горят,
Вокруг огней люди стоят,
Люди стоят колядуют
Ой, коляда, коляда!
Ты бываешь, коляда
Накануне рождества 40.
39 Meszynski К. Kultura ludowa Slowian. Krakow, 1934, cz. II,
Zesz. 1, c. 541.
40 Шейн П. В. Великорус в своих песнях, обрядах, обычаях,
верованиях, сказках, легендах и т. п. Великор. № 1046, СПб., 1898,
т. I, вып. 1.
Коляда праздновалась не только под рождество, но и на Новый
год (языческий): "Аще кто в 1 день енуара на коляду идеть, яко же
пьрвее погани творяху, а покаеться -- яко от сотоны есть игра та"
(Кормч. XIII). К концу XIII в. празднование коляды было перенесено
на церковный Новый год, начинавшийся с 1 марта: "Коляды --
наречаемая ошестъкы и в 1 день марта месяца совершаемое тържьство"
(Срезневский И. М. Материалы ... Новг. Кормчая 1280 г.).
Другая более ранняя запись подобной обрядовой песни
раскрывает сущность ритуальной церемонии -- принесение в жертву
козла:
За рекою за быстрою
Леса стоят дремучие,
Огни горят великие,
Вокруг огней скамьи стоят,
Скамьи стоят дубовые,
На тех скамьях добры молодцы,
Добры молодцы, красны девицы
Поют песни колнодушки (колядные).
В середине их старик сидит,
Он точит свой булатный нож.
Котел кипит горючий;
Возле котла козел стоит --
Хотят козла зарезати... 41-42
У Спаса на Чигасах за Яузою
Живут мужики богатые
Гребут золото лопатами,
Чисто серебро лукошками.
Слава!
|
Метки: оберги |
Народные обереги.Двоеверие – 11-13 веков часть 3 |
В энеолите на расписной керамике трипольской культуры
крестообразные знаки сочетались, во-первых, с солнечным кругом, а,
во-вторых, со знаком земли-поля. Ромб, обозначавший землю, делился
косым крестом на четыре квадрата, а точки-зерна внутри квадратиков
располагались крестообразно. Все это в орнаменте, как неоднократно
приходилось говорить, дожило до XIX столетия 77.
77 Рыбаков Б. А. Язычество древней Руси, с. 45-51, 195-205.
Крестообразная, четырехчастная композиция стала устойчивейшим
орнаментальным узлом y многих народов. Применительно к древней Руси
нам следует ответить на вопрос -- не возник ли крестообразный
орнамент русского средневековья на основе христианского креста?
Ответ, разумеется, будет отрицательным, так как истоки этого знака
уводят слишком далеко в глубь веков, а, кроме того, идея "четырех
сторон" очень четко проявляется на самых языческих объектах -- на
идолах славянских богов. Четырехгранный идол IV в. н. э. из
Иванковиц, збручский идол и деревянный четырехгранный идол западных
славян достаточно красноречиво свидетельствуют о том, что понятие
четырех сторон было прочно связано с защитой "со всех четырех
сторон". Киевский алтарь Рода с его строго ориентированными четырьмя
выступами говорит не о безразличных четырех сторонах, а именно о
севере и юге, востоке и западе.
Крестообразность, ставшая символом повсеместности, сказалась
и на заклинательном орнаменте. В качестве примера возьмем вещи из
русских языческих курганов середины X в. того времени, когда
язычество при Святославе особенно энергично противилось всему
христианскому.
В Черной Могиле и в кургане Гульбище найдены квадратные
застежки от кожаной одежды. Они украшены растительным узором,
главным элементом которого является распускающийся росток 78. Этот
росток иногда называют "крином", т. е. лилией, но изучение многих
серий подобных изображений на разных вещах приводит к выводу, что в
основе рисунка-знака лежит как бы рождающийся росток, лопающееся
зерно. Знак этот очень устойчив. Он состоит из двух отогнутых в
стороны язычков и центрального язычка-листика или почки,
устремленного вверх. Боковые язычки могут быть половинками
прорастающего зерна (на цветных изображениях они иного цвета, чем
срединный), но могут быть и первыми листьями, как и срединный.
Средний язычок, вероятнее всего, изображал почку. Это растение в
процессе его рождения, показанное в тот момент, когда неподвижное
получает жизненный импульс и начинает движение, рост. Это момент
зарождения жизни.
78 Рыбаков Б. А. Прикладное искусство и искусство, с. 195.
Так вот, на черниговских застежках растительный узор
скомпонован таким образом, что образуется как бы непрерывная
гирлянда с четырьмя такими перворожденными ростками, заполняющими
все углы квадратной бляшки. (Рис. 100).
Узор, в который вложена идея жизненного начала, направлен
остриями срединных листиков ростка "во все четыре стороны". Словами
это можно выразить так: "Да будет всюду жизнь!".
Такая же в основе, четырехчастная, крестообразная композиция
есть и на турьих рогах из Черной Могилы. Для этих заклинательных
композиций изготовлены особые серебряные квадратные накладки,
набивавшиеся на среднюю часть рога отдельно от оковки устья. На
малом роге композиция подобна узору на застежках, а на том большом
роге, который содержит изображение смерти Кощея, она затейливо
осложнена. Четыре ростка размещены по углам квадрата остриями
во-вне; в промежутках между углами даны дополнительно четыре меньших
ростка. Мудрый мастер, в образованности и изощренности которого мы
уже имели возможность убедиться, вплел в общую гирлянду еще четыре
ростка, язычки которых обращены не во-вне, а внутрь, к центру
квадрата. Смысл такой усложненной композиции (ее повторит через 200
лет полоцкий мастер Лазарь Богша) заключался в том, что эманация
благодати, заклинательная сила рисунка-заговора оказывалась
направленной не только во все четыре стороны от подразумеваемой
точки отсчета, но и к самой этой точке, к человеку, к владельцу
священного предмета. В такой форме магический рисунок охватывал как
бы универсальное пространство, включавшее и местопребывание человека
и окружающий его мир.
Тема заклинания пространства объединяет город и деревню, так
как решение ее мы видим как на городских (Черная Могила, Гнездово и
др.), так и на деревенских изделиях. Среди курганных инвентарей
много подвесок с крестом в круге, с крестом из пяти квадратиков, с
крестом с пересеченными концами. Есть кресты (как простые, так и
пересеченные) среди заклинательных знаков на семилопастных височных
кольцах. Особый интерес представляют крестики, к которым
неправомерно было применено наименование "скандинавского типа". М.
В. Фехнер убедительно доказала, что называть так их нельзя: в Швеции
и на Готланде найдено 6 экземпляров, в Норвегии -- 2, а на
территории Руси 69 экземпляров в 32 пунктах 79.
79 Фехнер М. В. Крестовидные привески "скандинавского" типа.
-- В кн.: Славяне и Русь. М., 1968, с. 210-214.
Датируются эти крестики XI в.; носили их женщины в составе
ожерелий, иногда по несколько штук. Находки в безусловно языческих
погребениях с трупосожжением совершенно исключают связь их с
христианством.
Hа каждой лопасти креста мы видим наверху три четко
обозначенных солнца; среднее помещено несколько выше боковых. Здесь
перед нами типичный показ "солнца в трех позициях" (восхода, зенита
и заката). От небосвода с "тресветлым" солнцем вниз идут линии
точек-капель. В центре креста иногда ромб, иногда круг (изредка
маленький крестик). Всю композицию можно истолковать как стремление
изобразить на крестовидном амулете схему макрокосма с землей в
центре и четырьмя небосводами на каждом конце креста. Высшая форма
защиты при помощи "белого света" с солнцем в движении, со струями
дождя и землей здесь соотнесена с идеей заклинания пространства во
все четыре стороны. Сосредоточены эти крестовидные амулеты в
северной части земли Радимичей и на стыке кривичей с мерей (между
Клязьмой и Нерлью). В городских древностях эти амулеты не встречены.
Городское прикладное искусство (см. следующую главу),
известное нам по кладам, зарытым во время татарского нашествия, а по
времени изготовления предметов относящееся к концу XI -- началу XIII
в., дает нам много примеров четырехчастной крестовидной композиции.
Прежде всего следует обратить внимание на то, что
четырехчастная композиция из "кринов" (для удобства можно употребить
этот ошибочный, но привычный термин) встречается и на самых поздних
домонгольских вещах с христианскими изображениями (иконки,
кресты-энколпионы), что свидетельствует о том, что она бытовала не
как простой узор, а имела в глазах русских людей совершенно
определенное магическое значение, которое было лишь усилено
христианской магической символикой.
Четырехчастная, "координатная" композиция встречается на
разных, хорошо видимых частях богатого убора княгинь и боярынь: на
диадемах, колтах, ряснах и нашивных бляшках, украшавших одежду.
Основная схема композиции продолжает тy разработку, которая
представлена застежками и накладками на турий рог из черниговских
курганов эпохи Святослава.
От центра композиции (круга: квадрата) отходят во все четыре
стороны ростки, "крины". Они, как правило, обведены белой линией,
которая внизу сливается с контуром "крина", образуя с ним единую
сплошную кривую. В целом "крин" и его обводка образуют
сердцеобразную фигуру с ростком внутри. Это -- идеограмма, хорошо
выработанная, устойчивая.
Hа некоторых нашивных бляшках магическое воздействие на
окружающее пространство усилено еще одним эшелоном ростков,
расположенных на внешнем кольце вокруг основной композиции. В
качестве примера можно привести крупную золотую бляху с облачения
московского митрополита Алексея. Вся нашивная орнаментация относится
не ко времени Алексея (1354-1378 гг.), а, очевидно, получена им по
наследству от своих предков, черниговских бояр середины XII в.
Середину этой бляхи занимает стандартная для вещей с эмалью
четырехчастная композиция, вписанная в круг. Вокруг этого средника
описана еще одна орнаментальная полоса, расчлененная на четыре
участка; разрывы между участками приходятся точно на те места, куда
направлены острия ростков срединной композиции. В каждом участке
внешней полосы изображено по четыре ростка, остриями тоже вовне.
Получается нечто вроде военной диспозиции: силы добра и жизни ведут
круговую оборону; первый эшелон образуют четыре участка внешней
орнаментальной полосы, в которых ростки-"крины" как бы ощетинились
своими копьями против врата. Разрывы в рядах первого эшелона
прикрыты четырьмя остриями срединной композиции; в свою очередь
каждый отрезок внешней линии прикрывает интервал между "кринами"
срединной композиции. Благодаря такому распределению сил достигается
полная повсеместность эманации доброго начала или полная, круговая
оборона от повсеместно существующего зла 80.
Четырехчастная композиция прочно утвердилась в русском
прикладном искусстве с X по XII в. включительно и перешла на
предметы христианского культа. Формой синтеза были кресты и иконки
квадрифолийной формы. Hа некоторых крестах мы видим на каждой
стороне креста по "знаку поля" (косой крест и 4 точки), а в
медальонах на концах креста надпись IC ХС NHKA, свидетельствующую о
том, что церковники, руководившие изготовлением таких крестов,
рассуждали точно так же, как и их предшественники волхвы;
христианское наслоилось на языческое, как бы усиливая новой
символикой старую традиционную.
Встречается на вещах XII -- начала XIII в. и та универсальная
форма оберега, которая известна нам по турьему рогу из Черной
Могилы, когда мастер изобразил четыре ростка, устремленные вовне, а
четыре разместил в интервалах и повернул их остриями к центру.
Такова, например, композиция на кресте Евфросинии Полоцкой 1161 г.,
изготовленном мастером Лазарем Богшею 81.
Эта же идея воплощена и в некоторых дробницах саккоса
Алексея: вся круглая бляха разделена орнаментальным крестом на
четыре части, а в секторах между перекладинами креста помещены круги
с ростками внутри.
В лопастях креста тоже есть ростки, но они, как и на
рассмотренной уже дробнице, расположены в два эшелона. Первый
(внешний) эшелон одинаков по направлению с ростками в кругах --
острия пышных ростков направлены к центру. Ростки же второго
эшелона, облегающие сердцевину бляшки, направлены остриями вовне.
Общий облик дробницы представляет собою сильно увеличенный
"знак поля" -- крест с точками в углах креста.
Важным для правильной расшифровки знаковой системы русских
мастеров средневековья, продолжавших дело древних
волхвов-"хранильников", является прочтение средников четырехчастной
композиции. В центре иногда бывает только круг или круг с точкой;
это мало помогает прочтению. Hо довольно часто в центре оказывается
классический "знак поля", "знак засеянной нивы" -- квадрат (реже
круг), разделенный на четыре части с четкой точкой в центре каждого
малого квадратика 82.
80 Фотография бляшки издана Т. И. Макаровой в ее книге
"Перегородчатые эмали древней Руси" (М., 1975, табл. 24-6).
81 Макарова Т. И. Перегородчатые эмали..., табл. 19-8.
82 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, с. 45-51.
Есть разные вариации этого знака. Иногда в центре изображали
крестик или крестообразный цветок.
Крест в центре композиции, составленной из растительного
орнамента, мог означать идеограмму пространства. В пользу этого
говорят слова: "окрест" (вокруг нас), "окрестности" (места,
окружающие что-либо). Пространство, всесторонне окружающее нас,
определено словом, в основе которого не "круг", а "крест". Реальным
выражением этой связи "крест -- пространство" были перекрестки
путей, с которыми связано много поверий, заговоров. "Hа путях"
хоронили мертвых, на перекрестке дорог былинный или сказочный
богатырь выбирает свою судьбу. От перекрестка четыре пути вели "во
все четыре стороны", т. е. в пространство вообще.
Идея заклинания пространства и человека в пространстве прочно
владела русскими людьми и после принятия христианства, но к этому
времени она начала сливаться с христианской символикой, дополнять ее
или, точнее, дополнять новыми покровителями старую схему.
Все, что было рассмотрено выше, говорит о пространстве
плоскостного характера, хотя, может быть, ростки и растения,
растущие по отношению к центру (часто обозначенному символом поля)
вверх корнями, следует рассматривать как растения иного, верхнего
мира, того "ирья", где находятся души "дедов"?
В пользу объемного понимания пространства говорят несколько
более поздние материалы. К началу XV в. относится великолепный и
хорошо известный складень мастера Лукиана 1412 г. Hа оглавии этого
складня изображен православный шестиконечный крест и в специальных
четырех кружках вокруг креста помещены четыре буквы: В, Д, Г. Ш.
В ВЫСОТА
Ш Д ШИРОТА ДЛИНА
Г ГЛУБИНА
Т. В. Николаева убедительно расшифровала их, как обозначение
всех направлений объемного пространства: В = ВЫСОТА; Г = ГЛУБИНА; Д
= ДЛИНА, Ш = ШИРОТА 83. В данном случае перед нами не трехмерное
объемное пространство, а необычное "четырехмерное", так как человек
поставил себя в центре объема и отсчитывал высоту и глубину от себя.
83 Николаева Т. В. Икона-складень 1412 г. мастера Лукиана. --
Сов. археология 1968 № 1, с. 93.
Прикладное искусство деревни и города позволило нам заглянуть
в такую интересную и малодоступную тему, как отношение язычников (и
двоеверцев) к проблеме взаимоотношения человека, его земли и
окружающего потенциально враждебного пространства, т. е.
взаимоотношения мира оберегающих берегинь (земля человека) и мира
невидимых, но опасных упырей. Берегини символически представлены
молодыми ростками, символами жизни, а упыри остались невидимыми, но против них направлены острия ростков, почек, растений -- всего того,
что олицетворяло жизнь и рождение жизни.
Святилища, игры и игрища
ОбычныйТерминСписокопределенийАдресЦитатыФорматированныйМногогранности языческого мировоззрения, сложившегося из
наслоений многих эпох, соответствовало многообразие форм культа и
мест обращения к потусторонним силам, родившимся в сознании древнего
человека. Моления об урожае, различные заклинательные действия,
обращение к силам природы и к духам добра и зла, повсеместно
рассеянным в природе, производились тоже повсеместно: пунктом
обращения к этим силам и принесения им жертв ("треб") могло быть и
отдельное жилище, и срединная площадь селения, и ключ-родник, и луг
за околицей, и берег реки, и лесная поляна, и возделанная
земледельцами нива -- "жизнь".
Одни ритуальные действия не требовали почти никакого
реквизита, кроме венка из цветов, свежесорванной ветки березы или
разведенного на берегу костра. Таковы хороводы, игры, пляски, резко
осуждаемые церковью. Естественно, что от этого разряда языческих
игрищ не уцелело никаких подлинных археологических следов и мы можем
компенсировать их отсутствие только обращением к этнографии. Для
другого вида ритуальных действий требовались те или иные сооружения,
то временные на одно празднество, то постоянные "капища", "кумирни
идольские" снабженные деревянными или каменными изображениями
славянских языческих божеств.
Различны были и радиусы притяжения ритуальных пунктов: одни
обряды, замыкались только внутри дома и усадьбы одной семьи, другие
собирали на "пиры идольские" всех мужчин села в общесельскую
"контину" (от КАТъ-угол), а женщин в "беседу". Были и такие
святилища, к которым стягивались люди на "событие" (т. е. на
совместное пребывание "со-бытие") со всего племени или даже из
нескольких соседних дружественных племен. Такие особо почитаемые
ритуальные пункты просуществовали несколько тысяч лет и в конце
концов были восприняты церковью (как православной, так и
католической) с целью использования давней традиции религиозных
молений в данном месте.
Все это многообразие и многоступенчатость мест языческого
культа прослеживается с древнейших праславянских времен.
Западнославянский материал дает нам образцы значительных
культовых мест, имевших общеплеменное значение. Таковы, например,
святилище Лады и Лели в Сандомирских горах, священная гора Собутка
(от событие, собрание) в Силезии и огромное, огражденное каменным
валом святилище под открытым небом на вершине горы Радуни (близ
Собутки), вмещавшее несколько тысяч молящихся. Датируются эти
грандиозные "требища" (места для совершения треб) началом I
тысячелетия до н. э., но совершение языческих обрядов там
продолжалось, несмотря на построенные церкви и монастыри, вплоть до
XV в. н. э., т. е. на протяжении двух с половиной тысяч лет от
времени их возникновения как языческих сакральных центров 1.
1 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М., 1981, с.
285-303.
Восточнославянский ранний материал в первой моей книге о
язычестве был лишь упомянут, но не показан, так как целесообразнее
рассмотреть его здесь, в одном хронологическом ряду с позднейшими
средневековыми языческими святилищами.
Следовало бы в типологической последовательности рассмотреть
мельчайшие ячейки древнего славянского общества: жилище, как
семейную крепость, защищавшую от повсеместно разлитых в природе злых
сил, и погребение, дом мертвых, как место общения с
благожелательными предками. Но дом живых и домовина мертвых были
слишком незначительной частицей древнеславянской жизни; это были
атомы, из которых складывалась молекула поселка, объединявшего
десятки, а иной раз и сотни семейных жилищ.
Не подлежит сомнению, что многие языческие обряды проводились
не только одновременно во всех домах славянской деревни, но имели и
какую-то общественную форму, когда все жители поселка покидали свои
семейные хоромины и участвовали в общесельском ритуальном действе.
Часть этих обрядов проводилась внутри поселка, но большинство их, по
всей вероятности, устраивалось за околицей на холмах, у "кладязей
многочестных" или между несколькими поселками ("игрища межю селы").
Нельзя исключать и длительного бытования древних, возникших еще в
скифо-сколотское время, общеплеменных святилищ на священных горах.
Археологически еще не было проведено обследование всех гор и холмов,
носящих до сих пор архаичные сакральные наименования, и поэтому
ответить на вопрос о времени прекращения их языческой жизни очень
трудно. Никак нельзя пренебрегать и тем фактом (который
подтверждается археологическими и фольклорными данными), что игрища
и хороводы XIX в. проводились на подобных горах с сохранившимися
древними языческими наименованиями. Очень трудно предложить
какую-либо стройную систему изложения материала о языческих местах
культа от рубежа нашей эры до эпохи христианизации Руси.
Типологически хотелось бы рассмотреть такие звенья, как жилище одной
семьи, святилище внутри поселка, священные места вокруг поселка и
большие общеплеменные культовые центры. Однако незначительность
материала, которым мы располагаем, не позволяет полноценно
рассмотреть каждое звено в отдельности. Важные и интересные
материалы по сакральной охранительной роли жилища и всего бытового
комплекса (утварь, одежда) появляются в археологическом материале
сравнительно поздно и будут рассмотрены в другой части книги. Трудно
применим и хронологический принцип, так как святилища, открытые
археологами, являются результатом случайных находок, "подарками
судьбы", а не итогом систематических исследований. В силу этого
хронологическая последовательность известного нам материала не
отражает всей предполагаемой полноты действительно существовавших
культовых мест.
Есть и еще одна трудность: рассматриваемая эпоха является
временем великого расселения славян по всей Восточной Европе, в
процессе которого славяне соприкасались с литовско-латышским и
финно-угорским населением беспредельной лесной зоны и на протяжении
нескольких веков происходила медленная и мирная ассимиляция
субстратного населения. При этом местные дославянские святилища
воспринимались славянами как бы по наследству и продолжали
существовать очень долго, перейдя в дальнейшем в христианскую форму.
Примером может служить "Благовещенская гора" близ древнерусского
города Вщижа на Десне. Здесь существовало обширное и хорошо
оборудованное святилище юхновской культуры (первые века до н. э. --
первые века нашей эры) с явно выраженным культом медведя (см.
подробнее ниже), а в дальнейшем на этой горе была построена церковь
в честь христианского праздника Благовещения 25 марта. Языческий
славянский медвежий праздник "комоедицы" происходил 24 марта.
Преемственность налицо, но неясен тот хронологический рубеж, с
которого данное святилище можно считать славянским.
В силу вышеизложенного в нашем обзоре языческих святилищ
будут пересекаться линии типологическая и хронологическая.
Начнем с рассмотрения славянских сельских святилищ того
времени, когда римские авторы впервые заговорили о далеких от них
славянах -- венедах, что в переводе на язык археологии означает в
восточной части славянского мира зарубинецкую культуру. Примером
зарубинецкого культового места внутри поселка может служить селище
"Грудок" близ Почепа в бассейне Средней Десны, куда в первые века н.
э. направилась славянская колонизация из Среднего Поднепровья 2.
2 Заверняев Ф. М. Почепское селище. -- МИА, № 160. Новое в
зарубинецкой культуре. М., 1969, с. 88-118.
В середине раскопанного пространства, среди большого
количества прямоугольных жилищ со следами мощных печных столбов
обнаружена круглая в плане постройка (раскоп II землянка № 2. Рис.
8). Диаметр ее -- 5 м. Ф. М. Заверняев справедливо считает ее
святилищем. Среди вещевого материала там найдена редкостная для этой
культуры вещь -- египетская печать I-III вв. н. э. из голубой пасты
с фигурой лежащего льва. Мысль автора можно подкрепить
дополнительными соображениями: рядом с круглой постройкой открыт дом
с интереснейшей посудой в нем (раскоп I землянка № 2). Мне уже
приходилось ссылаться на эту посуду с магическими знаками в связи с
проблемой таргелов, "горшков для священного варева" (см. выше главу
о погребальном обряде). В одном и том же доме найдены и миска со
знаком плодородия и горшок с четырьмя знаками, которым А. К. Амброз
посвятил специальную работу, продолжив на очень широком фоне
сделанные мною ранее наблюдения 3. Знаки на тулове горшка
представляют собой разновидность знака плодородия, идеограммы
вспаханного или засеянного поля 4. По горловине сосуда идет кругом
орнамент из каплеобразных круглых вдавлений; от пояска этих капель
вниз спускаются треугольники из трех капель. В целом орнамент на
этом горшке очень красноречив: "небесная влага орошает нивы", т. е.
содержит главную идею аграрно-магических заклинаний. Дом № 2 в
раскопе I был, по всей вероятности, только местом хранения священной
посуды, а сама церемония варки первых плодов производилась, судя по
данным раскопок, в соседнем круглом помещении. Вход в круглое
строение, оформленный двумя подпорами и ступенькой, находился как
раз против дома со священными сосудами, в 12-15 шагах от него.
Внутри круглое святилище, судя по данным раскопок, было устроено
так: в центре было какое-то круглое глинобитное сооружение,
укрепленное в нижней части столбами; глина обожжена. Автор раскопок
назвал его просто кострищем 5. По всей вероятности, это или большой
очаг или очаг-жертвенник, предназначенный для разведения огня. У
жертвенника, ближе ко входу -- следы столбов и массивные остатки
обгорелого дерева, что естественно расценивать как остатки главного
идола, занимавшего срединное положение во всем святилище. В глубине
ротонды, слева и справа от жертвенника-очага и центрального идола
были устроены две большие ниши, около которых на окружности здания
стояли столбы, очевидно, являвшиеся идолами меньшего значения. При
круглой форме постройки и при центральном положении большого
очага-жертвенника вполне естественно предполагать широкое дымовое
отверстие в центре конической кровли. Оно давало выход пламени и
дыму к небу и одновременно освещало весь храм сверху естественным
дневным светом. Этнографическим примером такой постройки является
украинская (прикарпатская) пастушеская колиба -- круглое деревянное
строение, крытое усеченно-конической кровлей, с огромным очагом в
центре (иногда несколько приподнятым над уровнем пола) и с большим
дымовым проемом в середине кровли 6.
3 Амброз А. К. Раннеземледельческий культовый символ ("ромб
с крючками"). -- Сов. археология, 1965, № 3; Рыбаков Б. А. Отражение
земледельческого мировоззрения в искусстве трипольской культуры. --
Вест. АН СССР, 1964, № Т с. 51 -- 52.
4 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, с. 42 -- 51.
5 Заверняев Ф. М. Почепское селище, с. 104, рис. 2.
6 Слово "колиба", очевидно, очень архаичное, индоевропейское,
так как в греческом ему соответствует koliba B значении "кущи",
"палатки", "шатра". (См.: Дьяченко Г. Словарь церковнославянского
языка. М., 1900, с. 258). Не связано ли с этим слово, обозначающее
ритуальную еду -- "коливо" (греч. kolyba): "И жрътва и колива в
празнованиях и в календех". Коливо -- кутья из пшеницы, яблок,
чернослива, меда, различных плодов и орехов. (См.: Срезневский И. И.
Материалы для словаря древнерусского языка. СПб., 1903, т. I, стлб.
1251).
Если сопоставление круглого строения на Почепском селище с
этнографической колибой правомерно, то невольно рождается еще одно
сближение -- в русской вышивке очень част мотив богини в храме, но
храм бывает представлен в трех видах: во-первых, в виде дома с
двускатной крышей (в этом случае богиня -- рожаница), во-вторых, как
постройка в виде овина с подвышенной средней частью и пышно
украшенной замкнутой кровлей 6a. На таких вышивках в середине, во
всю высоту показанного как бы в разрезе здания, изображался огромный
идол Макоши с опущенными к земле руками; календарно эта поза богини
может быть приурочена к купальской обрядности (23 -- 29 июня), ко
времени начального созревания колосьев и появления первых плодов
этого года (горох, бобы). Макошь указывает на землю, уже
произрастившую растения, тогда как в вышивках, связанных с весенними
обрядами, Макошь воздевает руки к небу, к верховному божеству с
мольбой о солнце и дожде для только что посеянных семян 7.
Большой центральный идол Макоши сопровожден двумя идолами
рожаниц -- Лады и Лели, стоящими по сторонам "Матери Урожая" --
Макоши. Совпадение с почепским храмом полное -- один идол в середине
н два по бокам. Вышивка дает то, что археология редко может дать --
все три идола -- женские 8.
Что же касается формы храма, то на вышивках дана значительно
более репрезентативная постройка, по своей конструкции напоминающая
овин, княжеский дворец XII в. или барский дом в усадьбе XVII --
XVIII вв., т. е. строение в три -- четыре бревна в ширину с поднятой
вверх средней частью (в одно -- два бревна в ширину) 9.
6а Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, с. 493.
7 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, с. 486-500;
511-512; 521-526.
8 При раскопках святилища на Благовещенской горе во Вщиже
было обнаружено несколько идолов и на некоторых из них в свое время
были надеты бронзовые женские ожерелья. (Подробнее см. ниже).
9 Рисунок овина см.: Рыбаков Б. А. Язычество..., с. 33.
Изображения княжеского дворца подобной "овинообразной" конструкции
см.: Радзивиловская летопись (фотомеханическое воспроизведение).
СПб., 1902, л. 241; 1192 г.
Вышивки отразили более позднюю стадию развития языческой
храмовой архитектуры, чем та, которую дает нам селище зарубинецкой
культуры. Но есть в русских вышивках еще третий вид храмовых
построек, внутри которых тоже помещен идол Макоши, но крыша над
головой богини не сомкнута и оставляет значительный проем 10. Идол
Макоши помещен в середине под проемом крыши. По сторонам огромной
Макоши находятся не идолы рожаниц, а изображения всадников (или
всадниц?). Верхняя часть пространства здания на вышивке обычно
занята изображениями птиц и звездообразных знаков. Все это привело
меня к мысли, что "не будет особой натяжкой признание этих вышивок
изображением небесного свода" 11. Однако возможно и иное
предположение, что вышитый храм Макоши со срезанной крышей
представляет собой как бы разрез святилища почепского типа. Небесные
знаки этому не противоречат, так как небо было хорошо видно из
колибы. Наличие всадников по сторонам главного идола противоречит
такому предположению, но, учитывая сезон ("макушка лета"), можно
допустить, что святилище не было закрытым помещением, а представляло
собой навес со столбами, шедшими по кругу (сохранились следы 9
столбов), внутри которого находились три идола и жертвенник. В этом
случае все внутренние элементы храма были видимы всему поселку
извне. Возможно, что конников не следует воспринимать слишком
реально -- весенние богини Лада и Леля на обрядовых полотенцах,
предназначенных для празднеств встречи весны, изображались верхом,
с сохами за седлом. Наличие верховых вокруг Макоши могло быть всего
лишь изображением привычного символа, а не подтверждением реальных
всадниц внутри храма.
10 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, с. 495.
11 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, с. 490.
В пользу того, что постройка № 2 во II раскопе не была только
лишь оградой, а непременно имела крышу, говорит, во-первых,
незначительное количество столбов со значительными интервалами между
ними, а, во-вторых, прекрасная сохранность отвесных контуров
землянки глубиною в 65 см. Периметр такой землянки мог служить
круговой земляной скамьей, своего рода "синтроном" вокруг главного
идола и очага, на котором в горшке со знаками плодородия варилось
священное варево из первых плодов. На "синтроне" окружностью в 15 м
могло усесться примерно 30-35 человек.
В этих же самых лесах днепровского бассейна, спустя почти две
тысячи лет после существования почепского святилища, расположенного
посреди славянского поселка, П. Бессоновым записан интереснейший
цикл купальских обрядовых песен 12.
Песни на Купалу (ночь с 23 на 24 июня, солнцеворот)
составляют особый, четко выделяющийся и очень архаичный цикл. Они
сопровождаются припевом "то-то!" или "ту-ту-ту!" (свойственным
только купальским песням) и обязательным притопыванием и стуком в
это время. Очевидно, это остатки ритуального танца. Праздник Купалы,
пишет Бессонов, -- "высший летний пункт древнейших священных
обрядов, сказаний и песен... Как бы истощившись в разгуле Купалы,
песнотворчество отселе надолго умолкает..." 13.
12 Бессонов Петр. Белорусские песни с подробными объяснениями
их творчества и языка с очерками народного обряда, обычая и всего
быта. М., 1871, с. 28-68.
13 Бессонов Петр. Белорусские песни..., с. 68.
Купалу называют "соботкой", т. е. "со-бытием", совместным
сбором. Сюжеты купальских песен связаны с традиционной эротикой на
игрищах (№ 62 по Бессонову), с обязательным купаньем и с отголосками
жертвоприношений девушек божеству реки, "Дунаю" (№ 68, 72), со
сбором целебных зелий (№ 79) и пр. Одна из песен (№ 94) повествует
о приготовлении ритуального зелья (дягиля) в горшке; каким-то
образом это связано со смертью женщины ("дяголю у горшок, дядину у
пясок"). Ритуальная еда на празднике -- растительно-молочная.
Главным в купальской обрядности был, как известно, костер,
через который прыгали попарно. Отголоском обряда является игра в
горелки ("гори, гори ясно, чтобы не погасло..."). Белорусская
этнография знакомит нас с любопытными деталями обряда. Во-первых,
сооружение костра поручалось женщине ("молодая молодица, разложи
купальницу!"; № 87). Во-вторых, основой будущего костра был столб
или кол, вбитый в землю: "как Купала сама изображалась столбом, а
голова у нее в золоте (в песнях. -- Б. Р.) или же вся она в зелени,
так по образу ее в обряде делается кол (в другом месте -- "остов
столбом или колом"), втыкается в землю, обвивается соломой,
вымолоченными колосьями, коноплянником, а наверху пук соломы,
который и называется Купалой и который зажигают в купальскую ночь.
На этот знак сбегается народ, разгорается известный купальский
костер" 14. Важную роль в песнях играет дуб; дубовые сучья идут и в
костер.
Связь купальских обрядов с аграрной магией "макушки лета"
несомненна. Анализ русской вышивки показал, что к этому сезону
относятся ритуальные полотенца с изображением Макоши-Купалы, где
богиня окружена солнечными знаками и всегда показана с опущенными к
плодоносящей земле руками; голова Купалы нередко увита колосьями,
колосья изображались и у ног богини 15. Если в весеннем цикле по
сторонам богини изображались женщины-всадницы с сохами за спиной, то
на полотенцах купальского цикла вышивали всадников-мужчин.
Макошь, богиня земного плодородия, была посредницей между
небом и землей (в весеннем цикле она всегда изображалась с воздетыми
к небу руками) 16. С этой двойственностью можно сопоставить
любопытную деталь купальской одежды белорусских женщин: "В убранстве
празднующих главное внимание обращено на женскую голову и обувь"
17. Девушки, кроме венков из зелени, надевали на голову "войник" из
ткани обязательно голубого, небесного, цвета; на ногах
разукрашивались чулки и подвязки. Налицо внимание к символике неба
(голубой войник) н земли (обувь, чулки).
Особый интерес для нашей темы о святилищах посреди поселка
представляет песня № 47, поставленная Бессоновым во главе всего
обширного купальского цикла; этнограф сделал очень важные пояснения
темных мест песни, без которых непонятен смысл обряда (даны в
скобках):
Сярёд сяла Воучковского
То-то! (припев с пристукиванием и топотом)
Ту-ту стояла лазня дубовая (сени с навесом, открытая часовня)
Ту-ту-ту!
А ходили детюшки (парни, молодцы) богу помолиться:
То-то!
Стоуб обнимали, печь целовали
Ту-ту-ту!
Перяд Сопухой (Купалой) крыжом ляжали
То-то!
Яны думали -- прячистая,
Ту-ту-ту!
Анож Сопуха (Купала) -- нячистая!
То-то 18.
14 Бессонов Петр. Белорусские песни..., с. 45 и 62.
15 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, рис. на с. 521 и
523
16 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, рис. на с.
511-515.
17 Бессонов Петр. Белорусские песни, с. 63.
18 Бессонов Петр. Белорусские песни..., с. 29.
Ритуальная архаичная песня о нечистой Купале-Макоши очень
полно соотносится с данными раскопок почепского селища зарубинецкого
времени. И там и здесь святилище расположено "сярёд сяла"; и там и
здесь культовое место представляло собой подобие небольшой постройки
с навесом. Главным объектом культа по фольклорным данным был столб,
который молящиеся обнимали, и печь, которую они целовали. И печь и
столб в центре постройки обнаружены при раскопках. Вышивки передают
нам образ Макоши как центр трехфигурной композиции с двумя
предстоящими божествами. Раскопки позволяют говорить тоже о
трехфигурной композиции: в центре столб у печи (Макошь -- Купала),
а по сторонам -- предстоящие в боковых нишах.
В сочетании с посудой, помеченной магическими знаками
плодородия, найденной в соседнем со святилищем доме, весь ритуальный
комплекс зарубинецкого поселка "Грудка" (Почепское селище) может
быть истолкован как капище Макоши, называемой применительно к
купальской обрядности 23 -- 29 июня Купалой, что является обычной в
фольклоре персонификацией праздника. Так, от зимних колядок
оформился к XVII в. "бог Коляда", а от летнего праздника купалы
произошло божество Купала. Скупые археологические данные о
святилищах внутри поселка можно пополнить несколько более поздними
данными, относящимися к порубежью черняховской культуры и
вельбарской. Речь идет об интереснейшей находке в Лепесовке на
Волыни. Раскопки здесь производила в 1957 г. М. А. Тиханова 19.
На территории поселка черняховского времени находилась
довольно большая (15,5X8 м) прямоугольная постройка с четырьмя
кострищами и с жертвенником в центре. Жертвенник был сложен из глины
и семи слоев черепков. Для выстилки черепками каждого слоя этого
столба-жертвенника разбивался один большой сосуд и все фрагменты его
укладывались на глиняную основу и замазывались глиной. Для нового
слоя разбивался еще один сосуд. Большинство сосудов принадлежит к
типу "зерновиков", тары для зерна. Два сосуда представляют
совершенно исключительный интерес, так как являются по моему
предположению гадательными чарами 20.
Все сооружение с жертвенником из зерновиков и гадательных чаш
являлось, по-видимому, сельским святилищем, но в отличие от
почепского, не для летних молений Макоши, сопровождавшихся
приготовлением ритуального варева из зелий, а для зимних новогодних
гаданий о судьбе в предстоящем году. Около очагов внутри святилища
найдены глиняные модели хлебцев, известные еще со времен скифских
зольников, но характерные также для поселений черняховской культуры.
На хлебцах-колобках часто изображение креста 21. Нанесение
крестообразного знака на хлеб, как это ни странно, вызывало
возражение русских средневековых церковников:
"А се иная злоба в крестьянех -- ножем крестят хлеб, а пиво
крестят чашею... а се поганьскы творять" 22.
Автор поучения, очевидно, знал, что нанесение креста на хлеб
насчитывало к его времени по крайней мере тысячелетнюю "поганьскую"
традицию.
Постепенно, с разрастанием поселков, с выходом их за пределы
древних оград городища, священные места жителей селений стали
перемещать из сердцевины села на его окраину. Места празднеств,
жертвоприношений и общесельских пиров-братчин стали устраивать
непосредственно у околицы. Пережитком этого на русском Севере
являются часовенки и поклонные кресты на окраинах сел, около которых
еще в XIX в. крестьяне поедали в ильин день жертвенного мирского
(выкормленного "всем миром" -- всем селом) быка и пили пиво из
ячменя, собранного со всех жителей поселения 23.
Примером такого околосельского святилища Черняховского
времени является языческий комплекс, обнаруженный в 1951 г. у с.
Иванковцы на Днестре, в древней земле Тиверцев 24.
ОбычныйТерминСписокопределенийАдресЦитатыФорматированный19 Тиханова М. А. Днестровско-волынский отряд
Галицко-волынской экспедиции. -- КСИИМК, 1960, № 79, с. 93-95.
20 Рыбаков Б. А. Календарь IV в. из земли Полян. -- СА, 1962,
№ 4, с. 66 -- 74.
21 Винокур I. С. Iсторiя та культура черняхiвських племен
Днiпровського межирiчия II-V ст. н. э. Київ, 1972, с. 118-119, рис.
43.
22 Гальковский Н. М. Борьба христианства с остатками
язычества в древней Руси. М., 1913, т. II, с. 35.
23 Макашина Т. С. Фольклор и обряды русского населения
Латгалии. М., 1979.
24 Довженок В. И. Древнеславянские языческие идолы из с.
Иванковцы в Поднестровье. -- КСИИМК. М., 1952, вып. 48, рис. 43 и
44; Брайчевский М. Ю. Древнеславянское святилище в селе Иванковцы
на Днестре. -- КСИИМК. М., 1953, № 52, с. 43 -- 53; Брайчевский М.
Ю., Довженок В. И. Древнеславянское святилище в с. Иванковцы на
Поднестровье. -- КСИА АН УССР, 1953, вып. 2, с. 23 -- 24.
Здесь на окраине просторного и неукрепленного славянского
села II -- V вв. н. э. были найдены три каменных идола. К сожалению,
ни обследования, ни раскопки не могли определить первоначального
положения интереснейших изваяний. Один из идолов (№ 1) был обнаружен
археологами вкопанным в землю и возвышавшимся над ее поверхностью.
Раскопки, проведенные М. Ю. Брайчевским, не установили наличия близ
идола какого-либо сооружения и, к сожалению, не определили время
установки идола в данном месте; он мог быть перенесен сюда в любое
время, как был перенесен другой идол (№ 3), находившийся ранее в
ином месте неподалеку. Нечто вроде жертвенника и небольшого
округлого сооружения было обнаружено в 20 м к северу от современной
позиции идола № 1, но связь с идолом ничем не доказана 25. Делать
какие-либо надежные выводы из взаимного расположения идолов в момент
их фиксации нельзя. Очевидно, они представляли единый ритуальный
комплекс на краю села II -- V вв. Возможно, что все капище с тремя
каменными идолами находилось несколько севернее, на возвышении, уже
за пределами зоны культурного слоя. В состав комплекса входили два
антропоморфных идола и один четырехгранный с человеческими личинами
на верху каждой грани (№ 1). Самым крупным (высота около 3 м) был
идол № 3, "завершающийся изображением человеческой головы. Голова
моделирована сравнительно хорошо. Ясно выражены глаза, нос, рот,
подбородок (либо вовсе лишенный бороды, либо с очень короткой
бородкой), волосы, уши. На столбе, изображающем туловище, не
намечено ни рук, ни ног, ни каких-либо деталей одежды, оружия и т.
д." 26. Вторым по величине (высота 2,35 м) является идол № 2. Это
фигура бородатого мужчины со сложенными на груди руками. Отсутствие
каких-либо атрибутов может объясняться длительным выветриванием
статуй, сделанных из мягкого известняка.
25 Врайчевский М. Ю. Древнеславянское святилище..., с. 47,
рис. 13.
26 Врайчевский М. Ю. Древнеславянское святилище..., с. 45.
Рисунка, к сожалению, нет.
Особый интерес представляет идол № 1. Четырехгранный
(поперечное сечение 37 х 40 см), высотою в 1,8 м, он оформлен в
верхней части в виде округлой головы с четырьмя лицами
соответственно каждой грани. В этом отношении он напоминает
збручского Святовита-Рода.
Лики, смотрящие "на все четыре стороны", -- апотропей,
оберегающий от зла, находящегося впереди и сзади, справа и слева.
Недаром так укоренилось в русском языке выражение "со всех четырех
сторон". "Все" -- это четыре указанных направления, которые иногда
могли означать и географические координаты: с севера и юга, с запада
и с востока. Поскольку носителями зла считались "злые ветры", то
географическое понятие вполне уместно в представлении о
повсеместности. Исход зла расценивался не только по отношению к
индивидууму ("сзади", "слева"), но и по отношению к природе в целом
-- по странам света или, говоря современными терминами, по
географическим координатам. Ниже, в главе о языческих элементах в
русском средневековом прикладном искусстве, будет приведено много
примеров четырехчастного, крестообразного расположения
заклинательных знаков, которому, несомненно, придавался смысл
повсеместной направленности антитезы зла. Очевидно, тот же смысл
вкладывался древними славянами и в иванковского четырехликого идола,
который должен был охранять село со всех четырех сторон.
Было ли это изображением вездесущего, повсеместно
пребывающего Рода, каковым мы вправе считать збручское изваяние,
утверждать трудно, но такое предположение вполне вероятно. Идол Рода
как верховного божества должен был бы быть наиболее крупным из трех
иванковских находок, если бы у нас была уверенность в их полной
синхронности, в одновременности изготовления всех трех фигур, но
этой уверенности у нас нет, а широкая датировка поселения II -- VI
вв. н. э. допускает разновременное изготовление изваяний на
протяжении почти пятисот лет. Гадать о том, каким божествам были
посвящены антропоморфные одноликие идолы, бесполезно из-за
отсутствия атрибутов.
В этом же поднестровском регионе, на юго-запад от Иванковцев
в с. Калюс у Днестра на территории большого поселения черняховской
культуры был обнаружен каменный идол высотою в 2,3 м 27. Скульптура
изображает мужчину(?) с турьим рогом в правой руке. По примитивности
трактовки она близка к "велесам" сколотского времени из близлежащих
мест пограничья лесостепи и степи у Южного Буга. Существенным
отличием является полное отсутствие скифских черт -- акинака у пояса
и гривны на шее.
И. С. Винокур составил интереснейшую карту находок подобных
каменных идолов для Среднего Поднестровья, богатого известняком,
пригодным для таких изделий 28. На этой карте показано удивительно
равномерное размещение антропоморфных памятников II -- IX вв. н. э.
между Днестром и Южным Бугом. В их число входит и знаменитый
збручский Святовит, но основную массу их составляют идолы
Черняховского времени. Было бы очень соблазнительно равномерность
географического распределения идолов и стел (в среднем около 40 км
друг от друга) объяснить структурой общества: капище с идолом могло
быть сакральным центром небольшой округи, соответствовавшей,
например, "верви" ("съто" по десятичному делению), составной части
первичного племени 29.
27 Винокур I. С. с. 117, рис. 34 на с. 108.
28 Винокур I. С. Icтоpiя та культура черняхiвських племен...,
с. 107, рис. 33.
29 Вернуться к этому предположению станет возможным лишь
после детального обследования как самих идолов, так и мест их
нахождения, в результате которого будет установлена их датировка и
этническая принадлежность их изготовителей. И. С. Винокур причислил
к черняховским памятникам идола из Ставчан, тоже с рогом в руках (с.
109 -- ИЗ; рис. 34 -- 38), но на спине у этого идола скульптором
четко обозначена коса, что встречается только на поздних половецких
каменных бабах. (См.: Плетнева С. А. Половецкие каменные изваяния.
-- САИ, Е4 -- 2. М., 1974, с. 71). Впрочем, против половецкого
происхождения идола из Ставчан говорит наличие рога изобилия, чего
половецкие ваятели не изображали.
Мы рассмотрели культовые места, непосредственно связанные с
местом пребывания человека.
Тема сельских святилищ дала нам мало. Разгадать содержание
почепского или иванковецкого святилища трудно, но, по всей
вероятности, эти капища с деревянными или каменными идолами
выполняли различные функции на протяжении года, хотя могли иметь и
какое-то специальное назначение подобно тому, как в русском
дореволюционном селе церковь была и местом обычных повседневных или
еженедельных богослужений, но раз в году отмечался особый
"престольный" праздник, связанный с наименованием церкви. Сакральная
постройка на почепском селище могла быть (весьма предположительно)
храмом Ма-коши, "Матери Урожая".
С большей уверенностью можно говорить о том, что в Лепесовке
мы имеем дело не столько с храмом как таковым (там не обнаружены
следы столбов-идолов), сколько со своеобразным гадательным домом,
где вопрошали судьбу о наступающем годе, о предстоящем урожае, о
девичьих судьбах. Здесь занимались "чародейством" в буквальном
смысле слова -- гадали у воды, налитой в священную чару, снабженную
знаками двенадцати месяцев. Синонимом чародейства было "волхование",
т. е. опять-таки обращение к воде (влаге, "вологе"), которым
занимались волхвы -- "облакопрогонители", т. е. жрецы, управляющие
дожденосными тучами при помощи чародейства, колдования с водой в
священной чаре.
Черняховский этап в жизни восточного славянства отличался от
зарубинецкого новым подъемом земледелия, возобновлением экспортной
торговли хлебом, общим увеличением благосостояния жителей
лесостепной плодородной зоны. Это сказалось на небывалом расширении
поселков, отказе от тех миниатюрных храмиков, примером которых может
служить круглая "лазня" селища Грудок. Общесельские моления
передвинулись к самому краю поселка, что мы видим на примере
Иванковцев. К сожалению, кроме отдельных примеров в нашем
распоряжении нет иных, более подробных данных.
Не подлежит сомнению, что то типологическое звено, которое
определяется понятием "дом-поселок", не занимало главного места в
религиозной системе древнего славянства. Здесь тщательнее были
разработаны оборонительные меры по отношению к могущему появиться из
внешнего мира злу, здесь старались не столько воздействовать на
силы, управлявшие миром, сколько предугадать намерения этих сил,
чтобы знать, о чем их просить, -- о дожде ли, если повелителем неба
задумана засуха, или о солнечных днях, если гадательная операция
предсказывает "разверстие хлябей небесных".
Главным, первенствующим в религиозных действиях древнего
славянина-земледельца было обращение к Природе, к макрокосму во всех
его проявлениях, так как именно от этого зависело его существование.
Сделанный в начале этой части экскурс в праславянскую
древность показывает, что уже в отдаленную эпоху сколотских "царств"
в Среднем Поднепровье, частично описанную Геродотом, уже
существовали и каменные идолы на торговых дорогах, и священные места
на горах. Из многообразного годового цикла языческих обрядов,
зафиксированного этнографами, лишь небольшая часть проводилась
внутри села и в домах. Это зимние святки с их колядой, Новым годом
и "велесовым днем" 30.
30 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, с. 430.
Но уже масленица с ее катаньем огненного колеса, ездой с
бубенцами, сожжением чучела зимы, ряжеными, заклинанием весны,
кулачными боями и т. п. выходила за рамки поселка и превращалась в
"игрища межю селы". Весь весенний цикл и летний, купальский, связаны
с природой, с полями, с "красными горками", берегами рек, березовыми
рощами.
Календарное приурочение обрядов, сохраненное как деревянными
резными календарями русской деревни, так и сельскохозяйственными
приметами, приуроченными впоследствии к святцам, возникли задолго до
крещения Руси, о чем свидетельствуют интереснейшие календари IV в.
н. э. из Среднего Поднепровья, требующие внимательного рассмотрения
ввиду их исключительности (см. след. главу) .
*
Подавляющее большинство древнеславянских языческих празднеств
и молений проводилось общественно, являлось "событием", совместным
заклинанием природы и проводилось не в доме или поселке, а за
пределами житейского бытового круга. Древнему земледельцу нужно было
прежде всего воздействовать на природу, воззвать к ее вегетационной
мощи, обратиться к различным "рощениям", священным деревьям, к
водным источникам -- родникам (не от Рода ли?), кладезям,
студеницам, к полям в процессе вспашки, сева и во время вызревания
драгоценного урожая. Помимо этих вполне конкретных разделов природы,
где симильная магия просматривается очень легко, существовало еще
почитание гор и холмов, связанное с обобщением природы, с теми
рожаницами и Родом, которые управляли природой в целом, управляли ею
с неба, на котором находились. Общечеловеческим является почитание
гор и проведение на них особых молений, обращенных к тому или иному
верховному божеству. Как мы помним, для праславян это можно
предполагать уже для бронзового века 31.
Религиозное, молитвенное отношение к силам природы
зафиксировано многими древнерусскими источниками. Церковники
порицали в своих поучениях обожествление природы, объясняя это или
незнанием истинной веры или же кознями дьявола, который "овы
прельсти в тварь веровати и в солнце же и огнь и во источники же и
в древа и во ины различны вещи ..." 32.
31 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, с. 285 -- 303.
32 Гальковский Н. М. Борьба христианства с остатками
язычества в древней Руси. Харьков, 1916, т. I, с. 46-50.
Кирилл Туровский в середине XII в. радовался, что языческое
обоготворение разных разделов природы уже миновало:
"Не нарекутся богом стихии, ни солнце, ни огнь, ни источницы,
ни древа".
Впрочем, как показывает этнография, все эти архаичные культы
дожили в том или ином виде до XIX -- XX вв. В приведенных примерах
обожествление природы идет по двум линиям: во-первых, культу
небесных сил, включая и огонь, а во-вторых, культ растительного
начала, неразрывно связанного с водой. Через все источники XI --
XIII вв. проходит описание основных славянских молений, как молений,
обращенных к природной воде (реки, озера, родники-студеницы и т. п.)
ради своевременного дарования воды небесной -- дождя. Именно об этом
свидетельствует и рассматриваемый в последующей главе славянский
аграрно-магический календарь IV в. н. э., точные сроки молений о
небесной воде четырежды на протяжении лета и молений о вёдре
накануне жатвы. Летописец, повествуя о древних полянах, говорит
только об этой водно-растительной стороне культа:
"Бяху же тогда погани, жруще езером и кладезем и рощением".
В "Слове на память епископу" на первое место поставлен тот же
самый культ:
"Ты (человек) бога оставив, рекам и источником требы
полагавши и жреши яко богу твари бездушной".
Церковные поучения вводят нас в сущность молений водным
источникам:
"Пожьрем студеньцемь и рекам и се тем (есть вариант --
"сътьм") да улучшим прошения своя", т. е. "принесем жертвы родникам
и рекам и этим обеспечим наши просьбы".
Яснее всего моления о благоприятной погоде, столь важной для
земледельцев, выражены в известном поучении начала XII в., в основу
которого положено одно из слов Григория Богослова ("Слово об
идолах") 33.
В дополнении к первоначальному тексту говорится:
"О в требу сътвори на студенньци -- дъжда искы от него,
забыв, яко бог с небес дъждь даеть...
...О в реку богыну нарицаеть и зверь, живущь в ней, яако бога
нарицая требу творить" 34.
33 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, с. 11-14.
34 Гальковский Н. М. Борьба христианства..., т. I, с. 45 --
46. В наших реках водится только один зверь -- бобер. В ряде
могильников Верхнего Поволжья в погребениях X-XI вв. встречены
глиняные модели звериных лап. Одни ученые считают их медвежьими,
другие -- лапами бобра.
Возможно, что под "зверем, живущем в реке", подразумевалась
огромная ящерица, водившаяся в Восточной Европе вплоть до XVI в.,
когда таких ящериц видел С. Герберштейн во время путешествия в
Московию. Образ такой ящерицы был конкретизацией очень архаичных
представлений о Ящере, хозяине подземно-подводного мира. По
свидетельству Адама Олеария (сер. XVII в.), мы знаем, что в
Новгороде в языческие времена существовало святилище какого-то
водного божества, похожего на крокодила (см. главу шестую).
Источники сообщают нам и форму молений водным источникам:
"О, убогая курята, оже не на честь святым породишася... но на
жертву идолом режються и то блутивше сами ядять. И инеми в водах
потапляемы суть. А друзии к кладязем приходяще моляться и в воду
мечють..."35
Значит, жертвоприношения воде были двух видов: кур резали и
ели или "в водах потопляли".
Почитание деревьев, святых рощ было другой гранью молений,
обращенных к вегетативной силе природы; оно широчайшим образом
представлено в этнографических материалах. Воспользуясь примером,
приведенным Н. М. Гальковским из челобитной 1636 г.
"В семый четверток по пасце ("семик") собираются жены и
девицы под древа, под березы и приносят яко жертвы: пироги и каши и
яичницы и, поклонясь березам, учнут песни сатанинские, приплетая,
пети и дланми плескати и всяко бесятся" 36.
35 Гальковский Н. М. Борьба христианства..., т. II, с. 59-60.
38 Гальковский Н. М. Борьба христианства, т. I, с. 50.
Более точно фиксированным местом ежегодных молений были
высокие холмы, горы, возвышавшие молящихся над уровнем обычной жизни
и как бы приближавшие их к небесным правителям мира, рожаницам или
Роду.
Все эти места культа воды, рощении, гор широко отразились в
восточнославянской топонимике, где встречены сотни "святых озер",
"святых рощ", "красных горок", "лысых юр", "девичьих гор" и других
урочищ, обозначенных нарицательно. К ним нужно добавить большое
количество урочищ, помеченных именами древних божеств: Перуново,
Волосово или Велесово, Макошино Ярилино, Ярилки и т. п. Учитывая
трудность сбора такого материала, как названия урочищ, обычно не
фиксируемых даже на крупномасштабных картах, мы должны признать
широкую повсеместность подобной языческой топонимики.
Весенние хороводы с песнями и танцами отмечены и в
общеизвестном описании старых славянских обычаев, сделанном
летописцем Нестором в самом начале XII в. Проводились они не в
поселках, а на природе, "межю селы" (что отражало экзогамные
представления):
"...а радимичи и вятичи и север один обычай имеяху: живяху в
лесе, якоже вьсякый зверь -- ядуще вьсе нечисто. И срамословие в них
пред отьци и пред снъхами. И браци не бываху в них, нъ игрища межю
селы. И съхлжахуся на игрища, на плясания и на вься бесовьскыя песни
и ту умыкаху жены собе, с нею къто съвещавъся. Имеяху же по дъве и
по три жены..." 37
Характер многих языческих празднеств, судя по этнографическим
отголоскам, был настолько повсеместным, связанным со всей природой
вокруг села (леса, рощи, родники, реки, болота, холмы и горы), что
отыскать места древних хороводов, купальских костров,
жертвоприношений воде, различных "игрищ межю селы" почти невозможно.
Исключением являются только священнодействия на холмах, на
горах, "красных горках", которые очень часто при археологических
обследованиях дают интересный материал о древних языческих культах.
Почитаемые идолы ставились славянами-язычниками, как правило,
на холмах. Летописные сведения о Перуне всегда отмечают его
положение на холме: князь Игорь, скрепляя клятвой договор с
Византией, "приде на холъмы, кде стояше Перун". Владимир поставил
идолов на вершине Старокиевской горы над Днепром. После крещения
Руси место языческих капищ на таких холмах заняли христианские
церкви:
"...куда же древе погани жряху бесом на горах -- туда же ныне
цркви стоят златоверхия" 38.
37 Шахматов А.А. Повесть временных лет. Пг., 1916, с. 13.
38 ИОРЯС, XII, 1908, I, с. 52.
"Красные горки", "красные холмы", где проводились масленичные
сжигания чучел зимы, обряд заклинания весны, встреча Лады и Лели,
катанье яиц на фоминой неделе (которая и называлась "красной
горкой") были, вероятно, около каждого села. В равнинных местах, где
не было заметных возвышенностей, крестьяне отмечали на лугах первые
весенние проталины, где раньше всего начинал таять снег, и там
проводили обряд встречи весны.
Такие сакральные "красные горки" отразились в фольклоре:
Ой, у конци села -- высока гора,
А на той на горе горели огне,
Коле тых огнов -- все сватые,
Увше сватые, мужи старые... 39.
Фольклор сохранил интересное и очень архаичное описание
зимнего новогоднего обряда и вдали от поселка:
За горою крутою,
За рекою за быстрою
Стоят леса дремучие,
В тех лесах огни горят,
Вокруг огней люди стоят,
Люди стоят колядуют
Ой, коляда, коляда!
Ты бываешь, коляда
Накануне рождества 40.
39 Meszynski К. Kultura ludowa Slowian. Krakow, 1934, cz. II,
Zesz. 1, c. 541.
40 Шейн П. В. Великорус в своих песнях, обрядах, обычаях,
верованиях, сказках, легендах и т. п. Великор. № 1046, СПб., 1898,
т. I, вып. 1.
Коляда праздновалась не только под рождество, но и на Новый
год (языческий): "Аще кто в 1 день енуара на коляду идеть, яко же
пьрвее погани творяху, а покаеться -- яко от сотоны есть игра та"
(Кормч. XIII). К концу XIII в. празднование коляды было перенесено
на церковный Новый год, начинавшийся с 1 марта: "Коляды --
наречаемая ошестъкы и в 1 день марта месяца совершаемое тържьство"
(Срезневский И. М. Материалы ... Новг. Кормчая 1280 г.).
Другая более ранняя запись подобной обрядовой песни
раскрывает сущность ритуальной церемонии -- принесение в жертву
козла:
За рекою за быстрою
Леса стоят дремучие,
Огни горят великие,
Вокруг огней скамьи стоят,
Скамьи стоят дубовые,
На тех скамьях добры молодцы,
Добры молодцы, красны девицы
Поют песни колнодушки (колядные).
В середине их старик сидит,
Он точит свой булатный нож.
Котел кипит горючий;
Возле котла козел стоит --
Хотят козла зарезати... 41-42
У Спаса на Чигасах за Яузою
Живут мужики богатые
Гребут золото лопатами,
Чисто серебро лукошками.
Слава!
Древний Спасо-Чигасовский монастырь находился на склоне
Болвановской горы (Красного холма). Близ него в XV в. была
поставлена церковь святого Никиты, "прогонителя бесов".
Для "соборов" или "событий" большего масштаба, чем жители
одного поселка, для населения верви или тем более племени
требовались более отметные горы, которые из году в год служили
местом больших языческих богослужений. Археологические примеры таких
святилищ на горах уже приведены мною в первой книге43.
41-42 Снегирев И. Русские простонародные праздники и
суеверные обряды. М., 1838, вып. II, № 4.
В новогодних подблюдных песнях, интересных своей архаикой
("змеиная крылица", "ядор-сударь" -- "ящер"?), после славы хлебу
нередко поется о том, что "за рекой мужики живут богатые, гребут
жемчуг лопатами": (См.: Чичеров В. И. Из истории новогодних игр и
песен русского народа. -- Сборник "В. В. Виноградову...". М., 1956,
с. 277), "За рекой..." -- т. е. в том ритуальном урочище, где горят
огни горючие, где происходят жертвоприношения. В докняжеской
языческой Москве таким сакральным урочищем был, очевидно, высокий
берег Заяузья -- Красный холм, на котором, судя по названию
"Болваны" (у Таганки), находились некогда идолы. Общая подблюдная
песня о богатых мужиках за рекой, в Москве была конкретизирована:
43 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, с. 285-303.
Интересна долговечность таких религиозных центров: возникнув
примерно в I тысячелетии до н. э. (а может быть, и в бронзовом
веке), они, как показывают польские источники, донесли свою древнюю
языческую сущность вплоть до позднего средневековья XV в. н. э., а
на многих из них возникли христианские церкви и монастыри.
Священные горы, как уже неоднократно говорилось, часто носят
наименование "Лысых" или "Девичьих". Возникает предположение, что
первое название могло быть связано с тем или иным мужским божеством,
а девичьи горы, естественно, с женским божеством, с богиней-девой,
являвшейся далекой предшественницей христианской богородицы, девы
Марии. О мужской сущности лысых гор косвенно может говорить
известное навершие скифского времени с Лысой горы близ
Днепропетровска с изображением обнаженного мужского божества, птиц,
волков и четырех крестообразно направленных отрогов.
Девичьи горы в ряде случаев дают подтверждение своему
наименованию. Существует Девичья гора в Сахновке на берегу Роси. В
Сахновке была найдена знаменитая золотая пластина с изображением
сколотского или скифского праздника в честь какого-то женского
божества 44.
44 Раевский Д. С. Очерки идеологии скифо-сакских племен. М.,
1977, с. 99, рис. 9; Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, с. 569.
Память о ритуальном значении сахновской Девичьей горы
сказалась в том, что на ее вершине до сих пор ставят три деревянных
креста и местное население твердо знает, что эти кресты не
надмогильные.
Еще одна Девичь-гора находится в этом же Среднеднепровском
регионе на окраине с. Триполье (летописный Треполь) на Днепре. На
вершине горы, возвышающейся над Днепром, в зарубинецкое время был
сооружен своеобразный жертвенник-печь, представляющий собой
композицию из девяти полусферических углублений. По всей
вероятности, этот своеобразный жертвенник с девятью гнездами
предназначался для сосудов, в которых во время праздничной церемонии
могли вариться какие-либо зелья или зерна. Набор основных растений
мог заполнить все сосуды: пшеница, ячмень, просо, греча (?), полба
(?), лен, конопля, бобы, горох. Число 9 в сочетании с девичьим
именем этой огромной и очень импозантной горы наводит на мысль (как
и по поводу гадательной чаши с девятью клеймами месяцев), что
создатели жертвенника с девятью составными частями прежде всего
соотносили это центральное сооружение Девичь-горы с девятью месяцами
беременности. Богиня-дева, как устойчивое представление о женском
аграрном божестве, мыслилась, очевидно, подобно христианской
богородице не просто девушкой, а такой, которая уже "понесла во
чреве своем" и ей предстояло девять месяцев подготавливать рождение
новой жизни.
Число 9 входит в разряд общеславянских сакральных чисел ("за
три-девятъ земель", "в три-девятое царство, три-десятое государство"
и т. п.) 45.
Почти полную аналогию девичьгорскому жертвеннику представляет
жертвенник с девятью ямами из моравского городища с любопытным
названием -- Поганское. Дата его -- начало X в., время языческой
реставрации в Моравии 46.
Здесь только нет признаков огня. Б. Достал считает эти девять
ямок следами девяти идолов, что мало вероятно, так как ямки
расположены вплотную друг к другу и они слишком мало врыты в
материк. Некоторый свет на сущность такого девятиямочного комплекса
может пролить интереснейшая находка в Новгороде, примерно синхронная
Ногайскому городищу 47. Там был обнаружен комплекс из девяти
деревянных ковшей.
45 Вайяи
46 Bozivoi Dostal. Slovanske kultovni misto na Pohansku u
Breclavi. -- Vlastivedny Vestnik Moravsky. Brno, 1968, s. 3-25.
47 Седов В. В. Языческая братчина в древнем Новгороде. --
КСИИМК, 65, М., 1956;
Он же. К вопросу о жертвоприношениях в древнем Новгороде. --
КСИИМК, 68, М., 1957.
При комментировании новгородской находки необходимо учесть,
что древнейшим местным божеством новгородцев до установки у них
идола Перуна Добрыней в 983 г. было некое женское божество
плодородия. Именно поэтому на месте святилища Перуна (раскопанного
В. В. Седовым в 1951 г.) новгородцы после крещения поставили не
церковь св. Ильи, который обычно замещал Перуна, а церковь рожества
богородицы, где православный престольный праздник сочетался к
огорчению церковников с архаичным языческим праздником рожаниц.
Возможно, что и обряд с девятью ковшами был связан именно с древним
женским божеством.
В Поганском городище девятиямочный комплекс находится у стены
языческого храма, предшествовавшего постройке костела. Костел
обращен апсидой на "летний восход" и, следовательно, был посвящен
какому-то святому или святой, празднование которого приходилось на
разгар лета в период древних июньских таргелий, или "зеленых
святок". Поганское расположено на реке Дые ("богиня") и поблизости
от него есть две горы под названием Девин. Все это подкрепляет мысль
о связи ритуального комплекса с женским божеством.
Около городища Старой Рязани на мысу есть интересный
сакральный комплекс из девяти ям с кострищами в каждой из них. Это
напоминает новгородское святилище Перуна, но отличается тем, что
вокруг идола Перуна были восемь кострищ, а в старорязанском
святилище их было девять48. Возможно, что связь женского божества с
городом, постройкой города не случайна, а восходит к очень древним
представлениям о богинях-покровительницах селений и городов.
48 Розенфельдт И. Г. Раскопки северного мыса старорязанского
городища -- АО, 1966 г. М., 1967, с. 44.
Вернемся к Девичь-горе у Тр
крестообразные знаки сочетались, во-первых, с солнечным кругом, а,
во-вторых, со знаком земли-поля. Ромб, обозначавший землю, делился
косым крестом на четыре квадрата, а точки-зерна внутри квадратиков
располагались крестообразно. Все это в орнаменте, как неоднократно
приходилось говорить, дожило до XIX столетия 77.
77 Рыбаков Б. А. Язычество древней Руси, с. 45-51, 195-205.
Крестообразная, четырехчастная композиция стала устойчивейшим
орнаментальным узлом y многих народов. Применительно к древней Руси
нам следует ответить на вопрос -- не возник ли крестообразный
орнамент русского средневековья на основе христианского креста?
Ответ, разумеется, будет отрицательным, так как истоки этого знака
уводят слишком далеко в глубь веков, а, кроме того, идея "четырех
сторон" очень четко проявляется на самых языческих объектах -- на
идолах славянских богов. Четырехгранный идол IV в. н. э. из
Иванковиц, збручский идол и деревянный четырехгранный идол западных
славян достаточно красноречиво свидетельствуют о том, что понятие
четырех сторон было прочно связано с защитой "со всех четырех
сторон". Киевский алтарь Рода с его строго ориентированными четырьмя
выступами говорит не о безразличных четырех сторонах, а именно о
севере и юге, востоке и западе.
Крестообразность, ставшая символом повсеместности, сказалась
и на заклинательном орнаменте. В качестве примера возьмем вещи из
русских языческих курганов середины X в. того времени, когда
язычество при Святославе особенно энергично противилось всему
христианскому.
В Черной Могиле и в кургане Гульбище найдены квадратные
застежки от кожаной одежды. Они украшены растительным узором,
главным элементом которого является распускающийся росток 78. Этот
росток иногда называют "крином", т. е. лилией, но изучение многих
серий подобных изображений на разных вещах приводит к выводу, что в
основе рисунка-знака лежит как бы рождающийся росток, лопающееся
зерно. Знак этот очень устойчив. Он состоит из двух отогнутых в
стороны язычков и центрального язычка-листика или почки,
устремленного вверх. Боковые язычки могут быть половинками
прорастающего зерна (на цветных изображениях они иного цвета, чем
срединный), но могут быть и первыми листьями, как и срединный.
Средний язычок, вероятнее всего, изображал почку. Это растение в
процессе его рождения, показанное в тот момент, когда неподвижное
получает жизненный импульс и начинает движение, рост. Это момент
зарождения жизни.
78 Рыбаков Б. А. Прикладное искусство и искусство, с. 195.
Так вот, на черниговских застежках растительный узор
скомпонован таким образом, что образуется как бы непрерывная
гирлянда с четырьмя такими перворожденными ростками, заполняющими
все углы квадратной бляшки. (Рис. 100).
Узор, в который вложена идея жизненного начала, направлен
остриями срединных листиков ростка "во все четыре стороны". Словами
это можно выразить так: "Да будет всюду жизнь!".
Такая же в основе, четырехчастная, крестообразная композиция
есть и на турьих рогах из Черной Могилы. Для этих заклинательных
композиций изготовлены особые серебряные квадратные накладки,
набивавшиеся на среднюю часть рога отдельно от оковки устья. На
малом роге композиция подобна узору на застежках, а на том большом
роге, который содержит изображение смерти Кощея, она затейливо
осложнена. Четыре ростка размещены по углам квадрата остриями
во-вне; в промежутках между углами даны дополнительно четыре меньших
ростка. Мудрый мастер, в образованности и изощренности которого мы
уже имели возможность убедиться, вплел в общую гирлянду еще четыре
ростка, язычки которых обращены не во-вне, а внутрь, к центру
квадрата. Смысл такой усложненной композиции (ее повторит через 200
лет полоцкий мастер Лазарь Богша) заключался в том, что эманация
благодати, заклинательная сила рисунка-заговора оказывалась
направленной не только во все четыре стороны от подразумеваемой
точки отсчета, но и к самой этой точке, к человеку, к владельцу
священного предмета. В такой форме магический рисунок охватывал как
бы универсальное пространство, включавшее и местопребывание человека
и окружающий его мир.
Тема заклинания пространства объединяет город и деревню, так
как решение ее мы видим как на городских (Черная Могила, Гнездово и
др.), так и на деревенских изделиях. Среди курганных инвентарей
много подвесок с крестом в круге, с крестом из пяти квадратиков, с
крестом с пересеченными концами. Есть кресты (как простые, так и
пересеченные) среди заклинательных знаков на семилопастных височных
кольцах. Особый интерес представляют крестики, к которым
неправомерно было применено наименование "скандинавского типа". М.
В. Фехнер убедительно доказала, что называть так их нельзя: в Швеции
и на Готланде найдено 6 экземпляров, в Норвегии -- 2, а на
территории Руси 69 экземпляров в 32 пунктах 79.
79 Фехнер М. В. Крестовидные привески "скандинавского" типа.
-- В кн.: Славяне и Русь. М., 1968, с. 210-214.
Датируются эти крестики XI в.; носили их женщины в составе
ожерелий, иногда по несколько штук. Находки в безусловно языческих
погребениях с трупосожжением совершенно исключают связь их с
христианством.
Hа каждой лопасти креста мы видим наверху три четко
обозначенных солнца; среднее помещено несколько выше боковых. Здесь
перед нами типичный показ "солнца в трех позициях" (восхода, зенита
и заката). От небосвода с "тресветлым" солнцем вниз идут линии
точек-капель. В центре креста иногда ромб, иногда круг (изредка
маленький крестик). Всю композицию можно истолковать как стремление
изобразить на крестовидном амулете схему макрокосма с землей в
центре и четырьмя небосводами на каждом конце креста. Высшая форма
защиты при помощи "белого света" с солнцем в движении, со струями
дождя и землей здесь соотнесена с идеей заклинания пространства во
все четыре стороны. Сосредоточены эти крестовидные амулеты в
северной части земли Радимичей и на стыке кривичей с мерей (между
Клязьмой и Нерлью). В городских древностях эти амулеты не встречены.
Городское прикладное искусство (см. следующую главу),
известное нам по кладам, зарытым во время татарского нашествия, а по
времени изготовления предметов относящееся к концу XI -- началу XIII
в., дает нам много примеров четырехчастной крестовидной композиции.
Прежде всего следует обратить внимание на то, что
четырехчастная композиция из "кринов" (для удобства можно употребить
этот ошибочный, но привычный термин) встречается и на самых поздних
домонгольских вещах с христианскими изображениями (иконки,
кресты-энколпионы), что свидетельствует о том, что она бытовала не
как простой узор, а имела в глазах русских людей совершенно
определенное магическое значение, которое было лишь усилено
христианской магической символикой.
Четырехчастная, "координатная" композиция встречается на
разных, хорошо видимых частях богатого убора княгинь и боярынь: на
диадемах, колтах, ряснах и нашивных бляшках, украшавших одежду.
Основная схема композиции продолжает тy разработку, которая
представлена застежками и накладками на турий рог из черниговских
курганов эпохи Святослава.
От центра композиции (круга: квадрата) отходят во все четыре
стороны ростки, "крины". Они, как правило, обведены белой линией,
которая внизу сливается с контуром "крина", образуя с ним единую
сплошную кривую. В целом "крин" и его обводка образуют
сердцеобразную фигуру с ростком внутри. Это -- идеограмма, хорошо
выработанная, устойчивая.
Hа некоторых нашивных бляшках магическое воздействие на
окружающее пространство усилено еще одним эшелоном ростков,
расположенных на внешнем кольце вокруг основной композиции. В
качестве примера можно привести крупную золотую бляху с облачения
московского митрополита Алексея. Вся нашивная орнаментация относится
не ко времени Алексея (1354-1378 гг.), а, очевидно, получена им по
наследству от своих предков, черниговских бояр середины XII в.
Середину этой бляхи занимает стандартная для вещей с эмалью
четырехчастная композиция, вписанная в круг. Вокруг этого средника
описана еще одна орнаментальная полоса, расчлененная на четыре
участка; разрывы между участками приходятся точно на те места, куда
направлены острия ростков срединной композиции. В каждом участке
внешней полосы изображено по четыре ростка, остриями тоже вовне.
Получается нечто вроде военной диспозиции: силы добра и жизни ведут
круговую оборону; первый эшелон образуют четыре участка внешней
орнаментальной полосы, в которых ростки-"крины" как бы ощетинились
своими копьями против врата. Разрывы в рядах первого эшелона
прикрыты четырьмя остриями срединной композиции; в свою очередь
каждый отрезок внешней линии прикрывает интервал между "кринами"
срединной композиции. Благодаря такому распределению сил достигается
полная повсеместность эманации доброго начала или полная, круговая
оборона от повсеместно существующего зла 80.
Четырехчастная композиция прочно утвердилась в русском
прикладном искусстве с X по XII в. включительно и перешла на
предметы христианского культа. Формой синтеза были кресты и иконки
квадрифолийной формы. Hа некоторых крестах мы видим на каждой
стороне креста по "знаку поля" (косой крест и 4 точки), а в
медальонах на концах креста надпись IC ХС NHKA, свидетельствующую о
том, что церковники, руководившие изготовлением таких крестов,
рассуждали точно так же, как и их предшественники волхвы;
христианское наслоилось на языческое, как бы усиливая новой
символикой старую традиционную.
Встречается на вещах XII -- начала XIII в. и та универсальная
форма оберега, которая известна нам по турьему рогу из Черной
Могилы, когда мастер изобразил четыре ростка, устремленные вовне, а
четыре разместил в интервалах и повернул их остриями к центру.
Такова, например, композиция на кресте Евфросинии Полоцкой 1161 г.,
изготовленном мастером Лазарем Богшею 81.
Эта же идея воплощена и в некоторых дробницах саккоса
Алексея: вся круглая бляха разделена орнаментальным крестом на
четыре части, а в секторах между перекладинами креста помещены круги
с ростками внутри.
В лопастях креста тоже есть ростки, но они, как и на
рассмотренной уже дробнице, расположены в два эшелона. Первый
(внешний) эшелон одинаков по направлению с ростками в кругах --
острия пышных ростков направлены к центру. Ростки же второго
эшелона, облегающие сердцевину бляшки, направлены остриями вовне.
Общий облик дробницы представляет собою сильно увеличенный
"знак поля" -- крест с точками в углах креста.
Важным для правильной расшифровки знаковой системы русских
мастеров средневековья, продолжавших дело древних
волхвов-"хранильников", является прочтение средников четырехчастной
композиции. В центре иногда бывает только круг или круг с точкой;
это мало помогает прочтению. Hо довольно часто в центре оказывается
классический "знак поля", "знак засеянной нивы" -- квадрат (реже
круг), разделенный на четыре части с четкой точкой в центре каждого
малого квадратика 82.
80 Фотография бляшки издана Т. И. Макаровой в ее книге
"Перегородчатые эмали древней Руси" (М., 1975, табл. 24-6).
81 Макарова Т. И. Перегородчатые эмали..., табл. 19-8.
82 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, с. 45-51.
Есть разные вариации этого знака. Иногда в центре изображали
крестик или крестообразный цветок.
Крест в центре композиции, составленной из растительного
орнамента, мог означать идеограмму пространства. В пользу этого
говорят слова: "окрест" (вокруг нас), "окрестности" (места,
окружающие что-либо). Пространство, всесторонне окружающее нас,
определено словом, в основе которого не "круг", а "крест". Реальным
выражением этой связи "крест -- пространство" были перекрестки
путей, с которыми связано много поверий, заговоров. "Hа путях"
хоронили мертвых, на перекрестке дорог былинный или сказочный
богатырь выбирает свою судьбу. От перекрестка четыре пути вели "во
все четыре стороны", т. е. в пространство вообще.
Идея заклинания пространства и человека в пространстве прочно
владела русскими людьми и после принятия христианства, но к этому
времени она начала сливаться с христианской символикой, дополнять ее
или, точнее, дополнять новыми покровителями старую схему.
Все, что было рассмотрено выше, говорит о пространстве
плоскостного характера, хотя, может быть, ростки и растения,
растущие по отношению к центру (часто обозначенному символом поля)
вверх корнями, следует рассматривать как растения иного, верхнего
мира, того "ирья", где находятся души "дедов"?
В пользу объемного понимания пространства говорят несколько
более поздние материалы. К началу XV в. относится великолепный и
хорошо известный складень мастера Лукиана 1412 г. Hа оглавии этого
складня изображен православный шестиконечный крест и в специальных
четырех кружках вокруг креста помещены четыре буквы: В, Д, Г. Ш.
В ВЫСОТА
Ш Д ШИРОТА ДЛИНА
Г ГЛУБИНА
Т. В. Николаева убедительно расшифровала их, как обозначение
всех направлений объемного пространства: В = ВЫСОТА; Г = ГЛУБИНА; Д
= ДЛИНА, Ш = ШИРОТА 83. В данном случае перед нами не трехмерное
объемное пространство, а необычное "четырехмерное", так как человек
поставил себя в центре объема и отсчитывал высоту и глубину от себя.
83 Николаева Т. В. Икона-складень 1412 г. мастера Лукиана. --
Сов. археология 1968 № 1, с. 93.
Прикладное искусство деревни и города позволило нам заглянуть
в такую интересную и малодоступную тему, как отношение язычников (и
двоеверцев) к проблеме взаимоотношения человека, его земли и
окружающего потенциально враждебного пространства, т. е.
взаимоотношения мира оберегающих берегинь (земля человека) и мира
невидимых, но опасных упырей. Берегини символически представлены
молодыми ростками, символами жизни, а упыри остались невидимыми, но против них направлены острия ростков, почек, растений -- всего того,
что олицетворяло жизнь и рождение жизни.
Святилища, игры и игрища
ОбычныйТерминСписокопределенийАдресЦитатыФорматированныйМногогранности языческого мировоззрения, сложившегося из
наслоений многих эпох, соответствовало многообразие форм культа и
мест обращения к потусторонним силам, родившимся в сознании древнего
человека. Моления об урожае, различные заклинательные действия,
обращение к силам природы и к духам добра и зла, повсеместно
рассеянным в природе, производились тоже повсеместно: пунктом
обращения к этим силам и принесения им жертв ("треб") могло быть и
отдельное жилище, и срединная площадь селения, и ключ-родник, и луг
за околицей, и берег реки, и лесная поляна, и возделанная
земледельцами нива -- "жизнь".
Одни ритуальные действия не требовали почти никакого
реквизита, кроме венка из цветов, свежесорванной ветки березы или
разведенного на берегу костра. Таковы хороводы, игры, пляски, резко
осуждаемые церковью. Естественно, что от этого разряда языческих
игрищ не уцелело никаких подлинных археологических следов и мы можем
компенсировать их отсутствие только обращением к этнографии. Для
другого вида ритуальных действий требовались те или иные сооружения,
то временные на одно празднество, то постоянные "капища", "кумирни
идольские" снабженные деревянными или каменными изображениями
славянских языческих божеств.
Различны были и радиусы притяжения ритуальных пунктов: одни
обряды, замыкались только внутри дома и усадьбы одной семьи, другие
собирали на "пиры идольские" всех мужчин села в общесельскую
"контину" (от КАТъ-угол), а женщин в "беседу". Были и такие
святилища, к которым стягивались люди на "событие" (т. е. на
совместное пребывание "со-бытие") со всего племени или даже из
нескольких соседних дружественных племен. Такие особо почитаемые
ритуальные пункты просуществовали несколько тысяч лет и в конце
концов были восприняты церковью (как православной, так и
католической) с целью использования давней традиции религиозных
молений в данном месте.
Все это многообразие и многоступенчатость мест языческого
культа прослеживается с древнейших праславянских времен.
Западнославянский материал дает нам образцы значительных
культовых мест, имевших общеплеменное значение. Таковы, например,
святилище Лады и Лели в Сандомирских горах, священная гора Собутка
(от событие, собрание) в Силезии и огромное, огражденное каменным
валом святилище под открытым небом на вершине горы Радуни (близ
Собутки), вмещавшее несколько тысяч молящихся. Датируются эти
грандиозные "требища" (места для совершения треб) началом I
тысячелетия до н. э., но совершение языческих обрядов там
продолжалось, несмотря на построенные церкви и монастыри, вплоть до
XV в. н. э., т. е. на протяжении двух с половиной тысяч лет от
времени их возникновения как языческих сакральных центров 1.
1 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М., 1981, с.
285-303.
Восточнославянский ранний материал в первой моей книге о
язычестве был лишь упомянут, но не показан, так как целесообразнее
рассмотреть его здесь, в одном хронологическом ряду с позднейшими
средневековыми языческими святилищами.
Следовало бы в типологической последовательности рассмотреть
мельчайшие ячейки древнего славянского общества: жилище, как
семейную крепость, защищавшую от повсеместно разлитых в природе злых
сил, и погребение, дом мертвых, как место общения с
благожелательными предками. Но дом живых и домовина мертвых были
слишком незначительной частицей древнеславянской жизни; это были
атомы, из которых складывалась молекула поселка, объединявшего
десятки, а иной раз и сотни семейных жилищ.
Не подлежит сомнению, что многие языческие обряды проводились
не только одновременно во всех домах славянской деревни, но имели и
какую-то общественную форму, когда все жители поселка покидали свои
семейные хоромины и участвовали в общесельском ритуальном действе.
Часть этих обрядов проводилась внутри поселка, но большинство их, по
всей вероятности, устраивалось за околицей на холмах, у "кладязей
многочестных" или между несколькими поселками ("игрища межю селы").
Нельзя исключать и длительного бытования древних, возникших еще в
скифо-сколотское время, общеплеменных святилищ на священных горах.
Археологически еще не было проведено обследование всех гор и холмов,
носящих до сих пор архаичные сакральные наименования, и поэтому
ответить на вопрос о времени прекращения их языческой жизни очень
трудно. Никак нельзя пренебрегать и тем фактом (который
подтверждается археологическими и фольклорными данными), что игрища
и хороводы XIX в. проводились на подобных горах с сохранившимися
древними языческими наименованиями. Очень трудно предложить
какую-либо стройную систему изложения материала о языческих местах
культа от рубежа нашей эры до эпохи христианизации Руси.
Типологически хотелось бы рассмотреть такие звенья, как жилище одной
семьи, святилище внутри поселка, священные места вокруг поселка и
большие общеплеменные культовые центры. Однако незначительность
материала, которым мы располагаем, не позволяет полноценно
рассмотреть каждое звено в отдельности. Важные и интересные
материалы по сакральной охранительной роли жилища и всего бытового
комплекса (утварь, одежда) появляются в археологическом материале
сравнительно поздно и будут рассмотрены в другой части книги. Трудно
применим и хронологический принцип, так как святилища, открытые
археологами, являются результатом случайных находок, "подарками
судьбы", а не итогом систематических исследований. В силу этого
хронологическая последовательность известного нам материала не
отражает всей предполагаемой полноты действительно существовавших
культовых мест.
Есть и еще одна трудность: рассматриваемая эпоха является
временем великого расселения славян по всей Восточной Европе, в
процессе которого славяне соприкасались с литовско-латышским и
финно-угорским населением беспредельной лесной зоны и на протяжении
нескольких веков происходила медленная и мирная ассимиляция
субстратного населения. При этом местные дославянские святилища
воспринимались славянами как бы по наследству и продолжали
существовать очень долго, перейдя в дальнейшем в христианскую форму.
Примером может служить "Благовещенская гора" близ древнерусского
города Вщижа на Десне. Здесь существовало обширное и хорошо
оборудованное святилище юхновской культуры (первые века до н. э. --
первые века нашей эры) с явно выраженным культом медведя (см.
подробнее ниже), а в дальнейшем на этой горе была построена церковь
в честь христианского праздника Благовещения 25 марта. Языческий
славянский медвежий праздник "комоедицы" происходил 24 марта.
Преемственность налицо, но неясен тот хронологический рубеж, с
которого данное святилище можно считать славянским.
В силу вышеизложенного в нашем обзоре языческих святилищ
будут пересекаться линии типологическая и хронологическая.
Начнем с рассмотрения славянских сельских святилищ того
времени, когда римские авторы впервые заговорили о далеких от них
славянах -- венедах, что в переводе на язык археологии означает в
восточной части славянского мира зарубинецкую культуру. Примером
зарубинецкого культового места внутри поселка может служить селище
"Грудок" близ Почепа в бассейне Средней Десны, куда в первые века н.
э. направилась славянская колонизация из Среднего Поднепровья 2.
2 Заверняев Ф. М. Почепское селище. -- МИА, № 160. Новое в
зарубинецкой культуре. М., 1969, с. 88-118.
В середине раскопанного пространства, среди большого
количества прямоугольных жилищ со следами мощных печных столбов
обнаружена круглая в плане постройка (раскоп II землянка № 2. Рис.
8). Диаметр ее -- 5 м. Ф. М. Заверняев справедливо считает ее
святилищем. Среди вещевого материала там найдена редкостная для этой
культуры вещь -- египетская печать I-III вв. н. э. из голубой пасты
с фигурой лежащего льва. Мысль автора можно подкрепить
дополнительными соображениями: рядом с круглой постройкой открыт дом
с интереснейшей посудой в нем (раскоп I землянка № 2). Мне уже
приходилось ссылаться на эту посуду с магическими знаками в связи с
проблемой таргелов, "горшков для священного варева" (см. выше главу
о погребальном обряде). В одном и том же доме найдены и миска со
знаком плодородия и горшок с четырьмя знаками, которым А. К. Амброз
посвятил специальную работу, продолжив на очень широком фоне
сделанные мною ранее наблюдения 3. Знаки на тулове горшка
представляют собой разновидность знака плодородия, идеограммы
вспаханного или засеянного поля 4. По горловине сосуда идет кругом
орнамент из каплеобразных круглых вдавлений; от пояска этих капель
вниз спускаются треугольники из трех капель. В целом орнамент на
этом горшке очень красноречив: "небесная влага орошает нивы", т. е.
содержит главную идею аграрно-магических заклинаний. Дом № 2 в
раскопе I был, по всей вероятности, только местом хранения священной
посуды, а сама церемония варки первых плодов производилась, судя по
данным раскопок, в соседнем круглом помещении. Вход в круглое
строение, оформленный двумя подпорами и ступенькой, находился как
раз против дома со священными сосудами, в 12-15 шагах от него.
Внутри круглое святилище, судя по данным раскопок, было устроено
так: в центре было какое-то круглое глинобитное сооружение,
укрепленное в нижней части столбами; глина обожжена. Автор раскопок
назвал его просто кострищем 5. По всей вероятности, это или большой
очаг или очаг-жертвенник, предназначенный для разведения огня. У
жертвенника, ближе ко входу -- следы столбов и массивные остатки
обгорелого дерева, что естественно расценивать как остатки главного
идола, занимавшего срединное положение во всем святилище. В глубине
ротонды, слева и справа от жертвенника-очага и центрального идола
были устроены две большие ниши, около которых на окружности здания
стояли столбы, очевидно, являвшиеся идолами меньшего значения. При
круглой форме постройки и при центральном положении большого
очага-жертвенника вполне естественно предполагать широкое дымовое
отверстие в центре конической кровли. Оно давало выход пламени и
дыму к небу и одновременно освещало весь храм сверху естественным
дневным светом. Этнографическим примером такой постройки является
украинская (прикарпатская) пастушеская колиба -- круглое деревянное
строение, крытое усеченно-конической кровлей, с огромным очагом в
центре (иногда несколько приподнятым над уровнем пола) и с большим
дымовым проемом в середине кровли 6.
3 Амброз А. К. Раннеземледельческий культовый символ ("ромб
с крючками"). -- Сов. археология, 1965, № 3; Рыбаков Б. А. Отражение
земледельческого мировоззрения в искусстве трипольской культуры. --
Вест. АН СССР, 1964, № Т с. 51 -- 52.
4 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, с. 42 -- 51.
5 Заверняев Ф. М. Почепское селище, с. 104, рис. 2.
6 Слово "колиба", очевидно, очень архаичное, индоевропейское,
так как в греческом ему соответствует koliba B значении "кущи",
"палатки", "шатра". (См.: Дьяченко Г. Словарь церковнославянского
языка. М., 1900, с. 258). Не связано ли с этим слово, обозначающее
ритуальную еду -- "коливо" (греч. kolyba): "И жрътва и колива в
празнованиях и в календех". Коливо -- кутья из пшеницы, яблок,
чернослива, меда, различных плодов и орехов. (См.: Срезневский И. И.
Материалы для словаря древнерусского языка. СПб., 1903, т. I, стлб.
1251).
Если сопоставление круглого строения на Почепском селище с
этнографической колибой правомерно, то невольно рождается еще одно
сближение -- в русской вышивке очень част мотив богини в храме, но
храм бывает представлен в трех видах: во-первых, в виде дома с
двускатной крышей (в этом случае богиня -- рожаница), во-вторых, как
постройка в виде овина с подвышенной средней частью и пышно
украшенной замкнутой кровлей 6a. На таких вышивках в середине, во
всю высоту показанного как бы в разрезе здания, изображался огромный
идол Макоши с опущенными к земле руками; календарно эта поза богини
может быть приурочена к купальской обрядности (23 -- 29 июня), ко
времени начального созревания колосьев и появления первых плодов
этого года (горох, бобы). Макошь указывает на землю, уже
произрастившую растения, тогда как в вышивках, связанных с весенними
обрядами, Макошь воздевает руки к небу, к верховному божеству с
мольбой о солнце и дожде для только что посеянных семян 7.
Большой центральный идол Макоши сопровожден двумя идолами
рожаниц -- Лады и Лели, стоящими по сторонам "Матери Урожая" --
Макоши. Совпадение с почепским храмом полное -- один идол в середине
н два по бокам. Вышивка дает то, что археология редко может дать --
все три идола -- женские 8.
Что же касается формы храма, то на вышивках дана значительно
более репрезентативная постройка, по своей конструкции напоминающая
овин, княжеский дворец XII в. или барский дом в усадьбе XVII --
XVIII вв., т. е. строение в три -- четыре бревна в ширину с поднятой
вверх средней частью (в одно -- два бревна в ширину) 9.
6а Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, с. 493.
7 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, с. 486-500;
511-512; 521-526.
8 При раскопках святилища на Благовещенской горе во Вщиже
было обнаружено несколько идолов и на некоторых из них в свое время
были надеты бронзовые женские ожерелья. (Подробнее см. ниже).
9 Рисунок овина см.: Рыбаков Б. А. Язычество..., с. 33.
Изображения княжеского дворца подобной "овинообразной" конструкции
см.: Радзивиловская летопись (фотомеханическое воспроизведение).
СПб., 1902, л. 241; 1192 г.
Вышивки отразили более позднюю стадию развития языческой
храмовой архитектуры, чем та, которую дает нам селище зарубинецкой
культуры. Но есть в русских вышивках еще третий вид храмовых
построек, внутри которых тоже помещен идол Макоши, но крыша над
головой богини не сомкнута и оставляет значительный проем 10. Идол
Макоши помещен в середине под проемом крыши. По сторонам огромной
Макоши находятся не идолы рожаниц, а изображения всадников (или
всадниц?). Верхняя часть пространства здания на вышивке обычно
занята изображениями птиц и звездообразных знаков. Все это привело
меня к мысли, что "не будет особой натяжкой признание этих вышивок
изображением небесного свода" 11. Однако возможно и иное
предположение, что вышитый храм Макоши со срезанной крышей
представляет собой как бы разрез святилища почепского типа. Небесные
знаки этому не противоречат, так как небо было хорошо видно из
колибы. Наличие всадников по сторонам главного идола противоречит
такому предположению, но, учитывая сезон ("макушка лета"), можно
допустить, что святилище не было закрытым помещением, а представляло
собой навес со столбами, шедшими по кругу (сохранились следы 9
столбов), внутри которого находились три идола и жертвенник. В этом
случае все внутренние элементы храма были видимы всему поселку
извне. Возможно, что конников не следует воспринимать слишком
реально -- весенние богини Лада и Леля на обрядовых полотенцах,
предназначенных для празднеств встречи весны, изображались верхом,
с сохами за седлом. Наличие верховых вокруг Макоши могло быть всего
лишь изображением привычного символа, а не подтверждением реальных
всадниц внутри храма.
10 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, с. 495.
11 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, с. 490.
В пользу того, что постройка № 2 во II раскопе не была только
лишь оградой, а непременно имела крышу, говорит, во-первых,
незначительное количество столбов со значительными интервалами между
ними, а, во-вторых, прекрасная сохранность отвесных контуров
землянки глубиною в 65 см. Периметр такой землянки мог служить
круговой земляной скамьей, своего рода "синтроном" вокруг главного
идола и очага, на котором в горшке со знаками плодородия варилось
священное варево из первых плодов. На "синтроне" окружностью в 15 м
могло усесться примерно 30-35 человек.
В этих же самых лесах днепровского бассейна, спустя почти две
тысячи лет после существования почепского святилища, расположенного
посреди славянского поселка, П. Бессоновым записан интереснейший
цикл купальских обрядовых песен 12.
Песни на Купалу (ночь с 23 на 24 июня, солнцеворот)
составляют особый, четко выделяющийся и очень архаичный цикл. Они
сопровождаются припевом "то-то!" или "ту-ту-ту!" (свойственным
только купальским песням) и обязательным притопыванием и стуком в
это время. Очевидно, это остатки ритуального танца. Праздник Купалы,
пишет Бессонов, -- "высший летний пункт древнейших священных
обрядов, сказаний и песен... Как бы истощившись в разгуле Купалы,
песнотворчество отселе надолго умолкает..." 13.
12 Бессонов Петр. Белорусские песни с подробными объяснениями
их творчества и языка с очерками народного обряда, обычая и всего
быта. М., 1871, с. 28-68.
13 Бессонов Петр. Белорусские песни..., с. 68.
Купалу называют "соботкой", т. е. "со-бытием", совместным
сбором. Сюжеты купальских песен связаны с традиционной эротикой на
игрищах (№ 62 по Бессонову), с обязательным купаньем и с отголосками
жертвоприношений девушек божеству реки, "Дунаю" (№ 68, 72), со
сбором целебных зелий (№ 79) и пр. Одна из песен (№ 94) повествует
о приготовлении ритуального зелья (дягиля) в горшке; каким-то
образом это связано со смертью женщины ("дяголю у горшок, дядину у
пясок"). Ритуальная еда на празднике -- растительно-молочная.
Главным в купальской обрядности был, как известно, костер,
через который прыгали попарно. Отголоском обряда является игра в
горелки ("гори, гори ясно, чтобы не погасло..."). Белорусская
этнография знакомит нас с любопытными деталями обряда. Во-первых,
сооружение костра поручалось женщине ("молодая молодица, разложи
купальницу!"; № 87). Во-вторых, основой будущего костра был столб
или кол, вбитый в землю: "как Купала сама изображалась столбом, а
голова у нее в золоте (в песнях. -- Б. Р.) или же вся она в зелени,
так по образу ее в обряде делается кол (в другом месте -- "остов
столбом или колом"), втыкается в землю, обвивается соломой,
вымолоченными колосьями, коноплянником, а наверху пук соломы,
который и называется Купалой и который зажигают в купальскую ночь.
На этот знак сбегается народ, разгорается известный купальский
костер" 14. Важную роль в песнях играет дуб; дубовые сучья идут и в
костер.
Связь купальских обрядов с аграрной магией "макушки лета"
несомненна. Анализ русской вышивки показал, что к этому сезону
относятся ритуальные полотенца с изображением Макоши-Купалы, где
богиня окружена солнечными знаками и всегда показана с опущенными к
плодоносящей земле руками; голова Купалы нередко увита колосьями,
колосья изображались и у ног богини 15. Если в весеннем цикле по
сторонам богини изображались женщины-всадницы с сохами за спиной, то
на полотенцах купальского цикла вышивали всадников-мужчин.
Макошь, богиня земного плодородия, была посредницей между
небом и землей (в весеннем цикле она всегда изображалась с воздетыми
к небу руками) 16. С этой двойственностью можно сопоставить
любопытную деталь купальской одежды белорусских женщин: "В убранстве
празднующих главное внимание обращено на женскую голову и обувь"
17. Девушки, кроме венков из зелени, надевали на голову "войник" из
ткани обязательно голубого, небесного, цвета; на ногах
разукрашивались чулки и подвязки. Налицо внимание к символике неба
(голубой войник) н земли (обувь, чулки).
Особый интерес для нашей темы о святилищах посреди поселка
представляет песня № 47, поставленная Бессоновым во главе всего
обширного купальского цикла; этнограф сделал очень важные пояснения
темных мест песни, без которых непонятен смысл обряда (даны в
скобках):
Сярёд сяла Воучковского
То-то! (припев с пристукиванием и топотом)
Ту-ту стояла лазня дубовая (сени с навесом, открытая часовня)
Ту-ту-ту!
А ходили детюшки (парни, молодцы) богу помолиться:
То-то!
Стоуб обнимали, печь целовали
Ту-ту-ту!
Перяд Сопухой (Купалой) крыжом ляжали
То-то!
Яны думали -- прячистая,
Ту-ту-ту!
Анож Сопуха (Купала) -- нячистая!
То-то 18.
14 Бессонов Петр. Белорусские песни..., с. 45 и 62.
15 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, рис. на с. 521 и
523
16 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, рис. на с.
511-515.
17 Бессонов Петр. Белорусские песни, с. 63.
18 Бессонов Петр. Белорусские песни..., с. 29.
Ритуальная архаичная песня о нечистой Купале-Макоши очень
полно соотносится с данными раскопок почепского селища зарубинецкого
времени. И там и здесь святилище расположено "сярёд сяла"; и там и
здесь культовое место представляло собой подобие небольшой постройки
с навесом. Главным объектом культа по фольклорным данным был столб,
который молящиеся обнимали, и печь, которую они целовали. И печь и
столб в центре постройки обнаружены при раскопках. Вышивки передают
нам образ Макоши как центр трехфигурной композиции с двумя
предстоящими божествами. Раскопки позволяют говорить тоже о
трехфигурной композиции: в центре столб у печи (Макошь -- Купала),
а по сторонам -- предстоящие в боковых нишах.
В сочетании с посудой, помеченной магическими знаками
плодородия, найденной в соседнем со святилищем доме, весь ритуальный
комплекс зарубинецкого поселка "Грудка" (Почепское селище) может
быть истолкован как капище Макоши, называемой применительно к
купальской обрядности 23 -- 29 июня Купалой, что является обычной в
фольклоре персонификацией праздника. Так, от зимних колядок
оформился к XVII в. "бог Коляда", а от летнего праздника купалы
произошло божество Купала. Скупые археологические данные о
святилищах внутри поселка можно пополнить несколько более поздними
данными, относящимися к порубежью черняховской культуры и
вельбарской. Речь идет об интереснейшей находке в Лепесовке на
Волыни. Раскопки здесь производила в 1957 г. М. А. Тиханова 19.
На территории поселка черняховского времени находилась
довольно большая (15,5X8 м) прямоугольная постройка с четырьмя
кострищами и с жертвенником в центре. Жертвенник был сложен из глины
и семи слоев черепков. Для выстилки черепками каждого слоя этого
столба-жертвенника разбивался один большой сосуд и все фрагменты его
укладывались на глиняную основу и замазывались глиной. Для нового
слоя разбивался еще один сосуд. Большинство сосудов принадлежит к
типу "зерновиков", тары для зерна. Два сосуда представляют
совершенно исключительный интерес, так как являются по моему
предположению гадательными чарами 20.
Все сооружение с жертвенником из зерновиков и гадательных чаш
являлось, по-видимому, сельским святилищем, но в отличие от
почепского, не для летних молений Макоши, сопровождавшихся
приготовлением ритуального варева из зелий, а для зимних новогодних
гаданий о судьбе в предстоящем году. Около очагов внутри святилища
найдены глиняные модели хлебцев, известные еще со времен скифских
зольников, но характерные также для поселений черняховской культуры.
На хлебцах-колобках часто изображение креста 21. Нанесение
крестообразного знака на хлеб, как это ни странно, вызывало
возражение русских средневековых церковников:
"А се иная злоба в крестьянех -- ножем крестят хлеб, а пиво
крестят чашею... а се поганьскы творять" 22.
Автор поучения, очевидно, знал, что нанесение креста на хлеб
насчитывало к его времени по крайней мере тысячелетнюю "поганьскую"
традицию.
Постепенно, с разрастанием поселков, с выходом их за пределы
древних оград городища, священные места жителей селений стали
перемещать из сердцевины села на его окраину. Места празднеств,
жертвоприношений и общесельских пиров-братчин стали устраивать
непосредственно у околицы. Пережитком этого на русском Севере
являются часовенки и поклонные кресты на окраинах сел, около которых
еще в XIX в. крестьяне поедали в ильин день жертвенного мирского
(выкормленного "всем миром" -- всем селом) быка и пили пиво из
ячменя, собранного со всех жителей поселения 23.
Примером такого околосельского святилища Черняховского
времени является языческий комплекс, обнаруженный в 1951 г. у с.
Иванковцы на Днестре, в древней земле Тиверцев 24.
ОбычныйТерминСписокопределенийАдресЦитатыФорматированный19 Тиханова М. А. Днестровско-волынский отряд
Галицко-волынской экспедиции. -- КСИИМК, 1960, № 79, с. 93-95.
20 Рыбаков Б. А. Календарь IV в. из земли Полян. -- СА, 1962,
№ 4, с. 66 -- 74.
21 Винокур I. С. Iсторiя та культура черняхiвських племен
Днiпровського межирiчия II-V ст. н. э. Київ, 1972, с. 118-119, рис.
43.
22 Гальковский Н. М. Борьба христианства с остатками
язычества в древней Руси. М., 1913, т. II, с. 35.
23 Макашина Т. С. Фольклор и обряды русского населения
Латгалии. М., 1979.
24 Довженок В. И. Древнеславянские языческие идолы из с.
Иванковцы в Поднестровье. -- КСИИМК. М., 1952, вып. 48, рис. 43 и
44; Брайчевский М. Ю. Древнеславянское святилище в селе Иванковцы
на Днестре. -- КСИИМК. М., 1953, № 52, с. 43 -- 53; Брайчевский М.
Ю., Довженок В. И. Древнеславянское святилище в с. Иванковцы на
Поднестровье. -- КСИА АН УССР, 1953, вып. 2, с. 23 -- 24.
Здесь на окраине просторного и неукрепленного славянского
села II -- V вв. н. э. были найдены три каменных идола. К сожалению,
ни обследования, ни раскопки не могли определить первоначального
положения интереснейших изваяний. Один из идолов (№ 1) был обнаружен
археологами вкопанным в землю и возвышавшимся над ее поверхностью.
Раскопки, проведенные М. Ю. Брайчевским, не установили наличия близ
идола какого-либо сооружения и, к сожалению, не определили время
установки идола в данном месте; он мог быть перенесен сюда в любое
время, как был перенесен другой идол (№ 3), находившийся ранее в
ином месте неподалеку. Нечто вроде жертвенника и небольшого
округлого сооружения было обнаружено в 20 м к северу от современной
позиции идола № 1, но связь с идолом ничем не доказана 25. Делать
какие-либо надежные выводы из взаимного расположения идолов в момент
их фиксации нельзя. Очевидно, они представляли единый ритуальный
комплекс на краю села II -- V вв. Возможно, что все капище с тремя
каменными идолами находилось несколько севернее, на возвышении, уже
за пределами зоны культурного слоя. В состав комплекса входили два
антропоморфных идола и один четырехгранный с человеческими личинами
на верху каждой грани (№ 1). Самым крупным (высота около 3 м) был
идол № 3, "завершающийся изображением человеческой головы. Голова
моделирована сравнительно хорошо. Ясно выражены глаза, нос, рот,
подбородок (либо вовсе лишенный бороды, либо с очень короткой
бородкой), волосы, уши. На столбе, изображающем туловище, не
намечено ни рук, ни ног, ни каких-либо деталей одежды, оружия и т.
д." 26. Вторым по величине (высота 2,35 м) является идол № 2. Это
фигура бородатого мужчины со сложенными на груди руками. Отсутствие
каких-либо атрибутов может объясняться длительным выветриванием
статуй, сделанных из мягкого известняка.
25 Врайчевский М. Ю. Древнеславянское святилище..., с. 47,
рис. 13.
26 Врайчевский М. Ю. Древнеславянское святилище..., с. 45.
Рисунка, к сожалению, нет.
Особый интерес представляет идол № 1. Четырехгранный
(поперечное сечение 37 х 40 см), высотою в 1,8 м, он оформлен в
верхней части в виде округлой головы с четырьмя лицами
соответственно каждой грани. В этом отношении он напоминает
збручского Святовита-Рода.
Лики, смотрящие "на все четыре стороны", -- апотропей,
оберегающий от зла, находящегося впереди и сзади, справа и слева.
Недаром так укоренилось в русском языке выражение "со всех четырех
сторон". "Все" -- это четыре указанных направления, которые иногда
могли означать и географические координаты: с севера и юга, с запада
и с востока. Поскольку носителями зла считались "злые ветры", то
географическое понятие вполне уместно в представлении о
повсеместности. Исход зла расценивался не только по отношению к
индивидууму ("сзади", "слева"), но и по отношению к природе в целом
-- по странам света или, говоря современными терминами, по
географическим координатам. Ниже, в главе о языческих элементах в
русском средневековом прикладном искусстве, будет приведено много
примеров четырехчастного, крестообразного расположения
заклинательных знаков, которому, несомненно, придавался смысл
повсеместной направленности антитезы зла. Очевидно, тот же смысл
вкладывался древними славянами и в иванковского четырехликого идола,
который должен был охранять село со всех четырех сторон.
Было ли это изображением вездесущего, повсеместно
пребывающего Рода, каковым мы вправе считать збручское изваяние,
утверждать трудно, но такое предположение вполне вероятно. Идол Рода
как верховного божества должен был бы быть наиболее крупным из трех
иванковских находок, если бы у нас была уверенность в их полной
синхронности, в одновременности изготовления всех трех фигур, но
этой уверенности у нас нет, а широкая датировка поселения II -- VI
вв. н. э. допускает разновременное изготовление изваяний на
протяжении почти пятисот лет. Гадать о том, каким божествам были
посвящены антропоморфные одноликие идолы, бесполезно из-за
отсутствия атрибутов.
В этом же поднестровском регионе, на юго-запад от Иванковцев
в с. Калюс у Днестра на территории большого поселения черняховской
культуры был обнаружен каменный идол высотою в 2,3 м 27. Скульптура
изображает мужчину(?) с турьим рогом в правой руке. По примитивности
трактовки она близка к "велесам" сколотского времени из близлежащих
мест пограничья лесостепи и степи у Южного Буга. Существенным
отличием является полное отсутствие скифских черт -- акинака у пояса
и гривны на шее.
И. С. Винокур составил интереснейшую карту находок подобных
каменных идолов для Среднего Поднестровья, богатого известняком,
пригодным для таких изделий 28. На этой карте показано удивительно
равномерное размещение антропоморфных памятников II -- IX вв. н. э.
между Днестром и Южным Бугом. В их число входит и знаменитый
збручский Святовит, но основную массу их составляют идолы
Черняховского времени. Было бы очень соблазнительно равномерность
географического распределения идолов и стел (в среднем около 40 км
друг от друга) объяснить структурой общества: капище с идолом могло
быть сакральным центром небольшой округи, соответствовавшей,
например, "верви" ("съто" по десятичному делению), составной части
первичного племени 29.
27 Винокур I. С. с. 117, рис. 34 на с. 108.
28 Винокур I. С. Icтоpiя та культура черняхiвських племен...,
с. 107, рис. 33.
29 Вернуться к этому предположению станет возможным лишь
после детального обследования как самих идолов, так и мест их
нахождения, в результате которого будет установлена их датировка и
этническая принадлежность их изготовителей. И. С. Винокур причислил
к черняховским памятникам идола из Ставчан, тоже с рогом в руках (с.
109 -- ИЗ; рис. 34 -- 38), но на спине у этого идола скульптором
четко обозначена коса, что встречается только на поздних половецких
каменных бабах. (См.: Плетнева С. А. Половецкие каменные изваяния.
-- САИ, Е4 -- 2. М., 1974, с. 71). Впрочем, против половецкого
происхождения идола из Ставчан говорит наличие рога изобилия, чего
половецкие ваятели не изображали.
Мы рассмотрели культовые места, непосредственно связанные с
местом пребывания человека.
Тема сельских святилищ дала нам мало. Разгадать содержание
почепского или иванковецкого святилища трудно, но, по всей
вероятности, эти капища с деревянными или каменными идолами
выполняли различные функции на протяжении года, хотя могли иметь и
какое-то специальное назначение подобно тому, как в русском
дореволюционном селе церковь была и местом обычных повседневных или
еженедельных богослужений, но раз в году отмечался особый
"престольный" праздник, связанный с наименованием церкви. Сакральная
постройка на почепском селище могла быть (весьма предположительно)
храмом Ма-коши, "Матери Урожая".
С большей уверенностью можно говорить о том, что в Лепесовке
мы имеем дело не столько с храмом как таковым (там не обнаружены
следы столбов-идолов), сколько со своеобразным гадательным домом,
где вопрошали судьбу о наступающем годе, о предстоящем урожае, о
девичьих судьбах. Здесь занимались "чародейством" в буквальном
смысле слова -- гадали у воды, налитой в священную чару, снабженную
знаками двенадцати месяцев. Синонимом чародейства было "волхование",
т. е. опять-таки обращение к воде (влаге, "вологе"), которым
занимались волхвы -- "облакопрогонители", т. е. жрецы, управляющие
дожденосными тучами при помощи чародейства, колдования с водой в
священной чаре.
Черняховский этап в жизни восточного славянства отличался от
зарубинецкого новым подъемом земледелия, возобновлением экспортной
торговли хлебом, общим увеличением благосостояния жителей
лесостепной плодородной зоны. Это сказалось на небывалом расширении
поселков, отказе от тех миниатюрных храмиков, примером которых может
служить круглая "лазня" селища Грудок. Общесельские моления
передвинулись к самому краю поселка, что мы видим на примере
Иванковцев. К сожалению, кроме отдельных примеров в нашем
распоряжении нет иных, более подробных данных.
Не подлежит сомнению, что то типологическое звено, которое
определяется понятием "дом-поселок", не занимало главного места в
религиозной системе древнего славянства. Здесь тщательнее были
разработаны оборонительные меры по отношению к могущему появиться из
внешнего мира злу, здесь старались не столько воздействовать на
силы, управлявшие миром, сколько предугадать намерения этих сил,
чтобы знать, о чем их просить, -- о дожде ли, если повелителем неба
задумана засуха, или о солнечных днях, если гадательная операция
предсказывает "разверстие хлябей небесных".
Главным, первенствующим в религиозных действиях древнего
славянина-земледельца было обращение к Природе, к макрокосму во всех
его проявлениях, так как именно от этого зависело его существование.
Сделанный в начале этой части экскурс в праславянскую
древность показывает, что уже в отдаленную эпоху сколотских "царств"
в Среднем Поднепровье, частично описанную Геродотом, уже
существовали и каменные идолы на торговых дорогах, и священные места
на горах. Из многообразного годового цикла языческих обрядов,
зафиксированного этнографами, лишь небольшая часть проводилась
внутри села и в домах. Это зимние святки с их колядой, Новым годом
и "велесовым днем" 30.
30 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, с. 430.
Но уже масленица с ее катаньем огненного колеса, ездой с
бубенцами, сожжением чучела зимы, ряжеными, заклинанием весны,
кулачными боями и т. п. выходила за рамки поселка и превращалась в
"игрища межю селы". Весь весенний цикл и летний, купальский, связаны
с природой, с полями, с "красными горками", берегами рек, березовыми
рощами.
Календарное приурочение обрядов, сохраненное как деревянными
резными календарями русской деревни, так и сельскохозяйственными
приметами, приуроченными впоследствии к святцам, возникли задолго до
крещения Руси, о чем свидетельствуют интереснейшие календари IV в.
н. э. из Среднего Поднепровья, требующие внимательного рассмотрения
ввиду их исключительности (см. след. главу) .
*
Подавляющее большинство древнеславянских языческих празднеств
и молений проводилось общественно, являлось "событием", совместным
заклинанием природы и проводилось не в доме или поселке, а за
пределами житейского бытового круга. Древнему земледельцу нужно было
прежде всего воздействовать на природу, воззвать к ее вегетационной
мощи, обратиться к различным "рощениям", священным деревьям, к
водным источникам -- родникам (не от Рода ли?), кладезям,
студеницам, к полям в процессе вспашки, сева и во время вызревания
драгоценного урожая. Помимо этих вполне конкретных разделов природы,
где симильная магия просматривается очень легко, существовало еще
почитание гор и холмов, связанное с обобщением природы, с теми
рожаницами и Родом, которые управляли природой в целом, управляли ею
с неба, на котором находились. Общечеловеческим является почитание
гор и проведение на них особых молений, обращенных к тому или иному
верховному божеству. Как мы помним, для праславян это можно
предполагать уже для бронзового века 31.
Религиозное, молитвенное отношение к силам природы
зафиксировано многими древнерусскими источниками. Церковники
порицали в своих поучениях обожествление природы, объясняя это или
незнанием истинной веры или же кознями дьявола, который "овы
прельсти в тварь веровати и в солнце же и огнь и во источники же и
в древа и во ины различны вещи ..." 32.
31 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, с. 285 -- 303.
32 Гальковский Н. М. Борьба христианства с остатками
язычества в древней Руси. Харьков, 1916, т. I, с. 46-50.
Кирилл Туровский в середине XII в. радовался, что языческое
обоготворение разных разделов природы уже миновало:
"Не нарекутся богом стихии, ни солнце, ни огнь, ни источницы,
ни древа".
Впрочем, как показывает этнография, все эти архаичные культы
дожили в том или ином виде до XIX -- XX вв. В приведенных примерах
обожествление природы идет по двум линиям: во-первых, культу
небесных сил, включая и огонь, а во-вторых, культ растительного
начала, неразрывно связанного с водой. Через все источники XI --
XIII вв. проходит описание основных славянских молений, как молений,
обращенных к природной воде (реки, озера, родники-студеницы и т. п.)
ради своевременного дарования воды небесной -- дождя. Именно об этом
свидетельствует и рассматриваемый в последующей главе славянский
аграрно-магический календарь IV в. н. э., точные сроки молений о
небесной воде четырежды на протяжении лета и молений о вёдре
накануне жатвы. Летописец, повествуя о древних полянах, говорит
только об этой водно-растительной стороне культа:
"Бяху же тогда погани, жруще езером и кладезем и рощением".
В "Слове на память епископу" на первое место поставлен тот же
самый культ:
"Ты (человек) бога оставив, рекам и источником требы
полагавши и жреши яко богу твари бездушной".
Церковные поучения вводят нас в сущность молений водным
источникам:
"Пожьрем студеньцемь и рекам и се тем (есть вариант --
"сътьм") да улучшим прошения своя", т. е. "принесем жертвы родникам
и рекам и этим обеспечим наши просьбы".
Яснее всего моления о благоприятной погоде, столь важной для
земледельцев, выражены в известном поучении начала XII в., в основу
которого положено одно из слов Григория Богослова ("Слово об
идолах") 33.
В дополнении к первоначальному тексту говорится:
"О в требу сътвори на студенньци -- дъжда искы от него,
забыв, яко бог с небес дъждь даеть...
...О в реку богыну нарицаеть и зверь, живущь в ней, яако бога
нарицая требу творить" 34.
33 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, с. 11-14.
34 Гальковский Н. М. Борьба христианства..., т. I, с. 45 --
46. В наших реках водится только один зверь -- бобер. В ряде
могильников Верхнего Поволжья в погребениях X-XI вв. встречены
глиняные модели звериных лап. Одни ученые считают их медвежьими,
другие -- лапами бобра.
Возможно, что под "зверем, живущем в реке", подразумевалась
огромная ящерица, водившаяся в Восточной Европе вплоть до XVI в.,
когда таких ящериц видел С. Герберштейн во время путешествия в
Московию. Образ такой ящерицы был конкретизацией очень архаичных
представлений о Ящере, хозяине подземно-подводного мира. По
свидетельству Адама Олеария (сер. XVII в.), мы знаем, что в
Новгороде в языческие времена существовало святилище какого-то
водного божества, похожего на крокодила (см. главу шестую).
Источники сообщают нам и форму молений водным источникам:
"О, убогая курята, оже не на честь святым породишася... но на
жертву идолом режються и то блутивше сами ядять. И инеми в водах
потапляемы суть. А друзии к кладязем приходяще моляться и в воду
мечють..."35
Значит, жертвоприношения воде были двух видов: кур резали и
ели или "в водах потопляли".
Почитание деревьев, святых рощ было другой гранью молений,
обращенных к вегетативной силе природы; оно широчайшим образом
представлено в этнографических материалах. Воспользуясь примером,
приведенным Н. М. Гальковским из челобитной 1636 г.
"В семый четверток по пасце ("семик") собираются жены и
девицы под древа, под березы и приносят яко жертвы: пироги и каши и
яичницы и, поклонясь березам, учнут песни сатанинские, приплетая,
пети и дланми плескати и всяко бесятся" 36.
35 Гальковский Н. М. Борьба христианства..., т. II, с. 59-60.
38 Гальковский Н. М. Борьба христианства, т. I, с. 50.
Более точно фиксированным местом ежегодных молений были
высокие холмы, горы, возвышавшие молящихся над уровнем обычной жизни
и как бы приближавшие их к небесным правителям мира, рожаницам или
Роду.
Все эти места культа воды, рощении, гор широко отразились в
восточнославянской топонимике, где встречены сотни "святых озер",
"святых рощ", "красных горок", "лысых юр", "девичьих гор" и других
урочищ, обозначенных нарицательно. К ним нужно добавить большое
количество урочищ, помеченных именами древних божеств: Перуново,
Волосово или Велесово, Макошино Ярилино, Ярилки и т. п. Учитывая
трудность сбора такого материала, как названия урочищ, обычно не
фиксируемых даже на крупномасштабных картах, мы должны признать
широкую повсеместность подобной языческой топонимики.
Весенние хороводы с песнями и танцами отмечены и в
общеизвестном описании старых славянских обычаев, сделанном
летописцем Нестором в самом начале XII в. Проводились они не в
поселках, а на природе, "межю селы" (что отражало экзогамные
представления):
"...а радимичи и вятичи и север один обычай имеяху: живяху в
лесе, якоже вьсякый зверь -- ядуще вьсе нечисто. И срамословие в них
пред отьци и пред снъхами. И браци не бываху в них, нъ игрища межю
селы. И съхлжахуся на игрища, на плясания и на вься бесовьскыя песни
и ту умыкаху жены собе, с нею къто съвещавъся. Имеяху же по дъве и
по три жены..." 37
Характер многих языческих празднеств, судя по этнографическим
отголоскам, был настолько повсеместным, связанным со всей природой
вокруг села (леса, рощи, родники, реки, болота, холмы и горы), что
отыскать места древних хороводов, купальских костров,
жертвоприношений воде, различных "игрищ межю селы" почти невозможно.
Исключением являются только священнодействия на холмах, на
горах, "красных горках", которые очень часто при археологических
обследованиях дают интересный материал о древних языческих культах.
Почитаемые идолы ставились славянами-язычниками, как правило,
на холмах. Летописные сведения о Перуне всегда отмечают его
положение на холме: князь Игорь, скрепляя клятвой договор с
Византией, "приде на холъмы, кде стояше Перун". Владимир поставил
идолов на вершине Старокиевской горы над Днепром. После крещения
Руси место языческих капищ на таких холмах заняли христианские
церкви:
"...куда же древе погани жряху бесом на горах -- туда же ныне
цркви стоят златоверхия" 38.
37 Шахматов А.А. Повесть временных лет. Пг., 1916, с. 13.
38 ИОРЯС, XII, 1908, I, с. 52.
"Красные горки", "красные холмы", где проводились масленичные
сжигания чучел зимы, обряд заклинания весны, встреча Лады и Лели,
катанье яиц на фоминой неделе (которая и называлась "красной
горкой") были, вероятно, около каждого села. В равнинных местах, где
не было заметных возвышенностей, крестьяне отмечали на лугах первые
весенние проталины, где раньше всего начинал таять снег, и там
проводили обряд встречи весны.
Такие сакральные "красные горки" отразились в фольклоре:
Ой, у конци села -- высока гора,
А на той на горе горели огне,
Коле тых огнов -- все сватые,
Увше сватые, мужи старые... 39.
Фольклор сохранил интересное и очень архаичное описание
зимнего новогоднего обряда и вдали от поселка:
За горою крутою,
За рекою за быстрою
Стоят леса дремучие,
В тех лесах огни горят,
Вокруг огней люди стоят,
Люди стоят колядуют
Ой, коляда, коляда!
Ты бываешь, коляда
Накануне рождества 40.
39 Meszynski К. Kultura ludowa Slowian. Krakow, 1934, cz. II,
Zesz. 1, c. 541.
40 Шейн П. В. Великорус в своих песнях, обрядах, обычаях,
верованиях, сказках, легендах и т. п. Великор. № 1046, СПб., 1898,
т. I, вып. 1.
Коляда праздновалась не только под рождество, но и на Новый
год (языческий): "Аще кто в 1 день енуара на коляду идеть, яко же
пьрвее погани творяху, а покаеться -- яко от сотоны есть игра та"
(Кормч. XIII). К концу XIII в. празднование коляды было перенесено
на церковный Новый год, начинавшийся с 1 марта: "Коляды --
наречаемая ошестъкы и в 1 день марта месяца совершаемое тържьство"
(Срезневский И. М. Материалы ... Новг. Кормчая 1280 г.).
Другая более ранняя запись подобной обрядовой песни
раскрывает сущность ритуальной церемонии -- принесение в жертву
козла:
За рекою за быстрою
Леса стоят дремучие,
Огни горят великие,
Вокруг огней скамьи стоят,
Скамьи стоят дубовые,
На тех скамьях добры молодцы,
Добры молодцы, красны девицы
Поют песни колнодушки (колядные).
В середине их старик сидит,
Он точит свой булатный нож.
Котел кипит горючий;
Возле котла козел стоит --
Хотят козла зарезати... 41-42
У Спаса на Чигасах за Яузою
Живут мужики богатые
Гребут золото лопатами,
Чисто серебро лукошками.
Слава!
Древний Спасо-Чигасовский монастырь находился на склоне
Болвановской горы (Красного холма). Близ него в XV в. была
поставлена церковь святого Никиты, "прогонителя бесов".
Для "соборов" или "событий" большего масштаба, чем жители
одного поселка, для населения верви или тем более племени
требовались более отметные горы, которые из году в год служили
местом больших языческих богослужений. Археологические примеры таких
святилищ на горах уже приведены мною в первой книге43.
41-42 Снегирев И. Русские простонародные праздники и
суеверные обряды. М., 1838, вып. II, № 4.
В новогодних подблюдных песнях, интересных своей архаикой
("змеиная крылица", "ядор-сударь" -- "ящер"?), после славы хлебу
нередко поется о том, что "за рекой мужики живут богатые, гребут
жемчуг лопатами": (См.: Чичеров В. И. Из истории новогодних игр и
песен русского народа. -- Сборник "В. В. Виноградову...". М., 1956,
с. 277), "За рекой..." -- т. е. в том ритуальном урочище, где горят
огни горючие, где происходят жертвоприношения. В докняжеской
языческой Москве таким сакральным урочищем был, очевидно, высокий
берег Заяузья -- Красный холм, на котором, судя по названию
"Болваны" (у Таганки), находились некогда идолы. Общая подблюдная
песня о богатых мужиках за рекой, в Москве была конкретизирована:
43 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, с. 285-303.
Интересна долговечность таких религиозных центров: возникнув
примерно в I тысячелетии до н. э. (а может быть, и в бронзовом
веке), они, как показывают польские источники, донесли свою древнюю
языческую сущность вплоть до позднего средневековья XV в. н. э., а
на многих из них возникли христианские церкви и монастыри.
Священные горы, как уже неоднократно говорилось, часто носят
наименование "Лысых" или "Девичьих". Возникает предположение, что
первое название могло быть связано с тем или иным мужским божеством,
а девичьи горы, естественно, с женским божеством, с богиней-девой,
являвшейся далекой предшественницей христианской богородицы, девы
Марии. О мужской сущности лысых гор косвенно может говорить
известное навершие скифского времени с Лысой горы близ
Днепропетровска с изображением обнаженного мужского божества, птиц,
волков и четырех крестообразно направленных отрогов.
Девичьи горы в ряде случаев дают подтверждение своему
наименованию. Существует Девичья гора в Сахновке на берегу Роси. В
Сахновке была найдена знаменитая золотая пластина с изображением
сколотского или скифского праздника в честь какого-то женского
божества 44.
44 Раевский Д. С. Очерки идеологии скифо-сакских племен. М.,
1977, с. 99, рис. 9; Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, с. 569.
Память о ритуальном значении сахновской Девичьей горы
сказалась в том, что на ее вершине до сих пор ставят три деревянных
креста и местное население твердо знает, что эти кресты не
надмогильные.
Еще одна Девичь-гора находится в этом же Среднеднепровском
регионе на окраине с. Триполье (летописный Треполь) на Днепре. На
вершине горы, возвышающейся над Днепром, в зарубинецкое время был
сооружен своеобразный жертвенник-печь, представляющий собой
композицию из девяти полусферических углублений. По всей
вероятности, этот своеобразный жертвенник с девятью гнездами
предназначался для сосудов, в которых во время праздничной церемонии
могли вариться какие-либо зелья или зерна. Набор основных растений
мог заполнить все сосуды: пшеница, ячмень, просо, греча (?), полба
(?), лен, конопля, бобы, горох. Число 9 в сочетании с девичьим
именем этой огромной и очень импозантной горы наводит на мысль (как
и по поводу гадательной чаши с девятью клеймами месяцев), что
создатели жертвенника с девятью составными частями прежде всего
соотносили это центральное сооружение Девичь-горы с девятью месяцами
беременности. Богиня-дева, как устойчивое представление о женском
аграрном божестве, мыслилась, очевидно, подобно христианской
богородице не просто девушкой, а такой, которая уже "понесла во
чреве своем" и ей предстояло девять месяцев подготавливать рождение
новой жизни.
Число 9 входит в разряд общеславянских сакральных чисел ("за
три-девятъ земель", "в три-девятое царство, три-десятое государство"
и т. п.) 45.
Почти полную аналогию девичьгорскому жертвеннику представляет
жертвенник с девятью ямами из моравского городища с любопытным
названием -- Поганское. Дата его -- начало X в., время языческой
реставрации в Моравии 46.
Здесь только нет признаков огня. Б. Достал считает эти девять
ямок следами девяти идолов, что мало вероятно, так как ямки
расположены вплотную друг к другу и они слишком мало врыты в
материк. Некоторый свет на сущность такого девятиямочного комплекса
может пролить интереснейшая находка в Новгороде, примерно синхронная
Ногайскому городищу 47. Там был обнаружен комплекс из девяти
деревянных ковшей.
45 Вайяи
46 Bozivoi Dostal. Slovanske kultovni misto na Pohansku u
Breclavi. -- Vlastivedny Vestnik Moravsky. Brno, 1968, s. 3-25.
47 Седов В. В. Языческая братчина в древнем Новгороде. --
КСИИМК, 65, М., 1956;
Он же. К вопросу о жертвоприношениях в древнем Новгороде. --
КСИИМК, 68, М., 1957.
При комментировании новгородской находки необходимо учесть,
что древнейшим местным божеством новгородцев до установки у них
идола Перуна Добрыней в 983 г. было некое женское божество
плодородия. Именно поэтому на месте святилища Перуна (раскопанного
В. В. Седовым в 1951 г.) новгородцы после крещения поставили не
церковь св. Ильи, который обычно замещал Перуна, а церковь рожества
богородицы, где православный престольный праздник сочетался к
огорчению церковников с архаичным языческим праздником рожаниц.
Возможно, что и обряд с девятью ковшами был связан именно с древним
женским божеством.
В Поганском городище девятиямочный комплекс находится у стены
языческого храма, предшествовавшего постройке костела. Костел
обращен апсидой на "летний восход" и, следовательно, был посвящен
какому-то святому или святой, празднование которого приходилось на
разгар лета в период древних июньских таргелий, или "зеленых
святок". Поганское расположено на реке Дые ("богиня") и поблизости
от него есть две горы под названием Девин. Все это подкрепляет мысль
о связи ритуального комплекса с женским божеством.
Около городища Старой Рязани на мысу есть интересный
сакральный комплекс из девяти ям с кострищами в каждой из них. Это
напоминает новгородское святилище Перуна, но отличается тем, что
вокруг идола Перуна были восемь кострищ, а в старорязанском
святилище их было девять48. Возможно, что связь женского божества с
городом, постройкой города не случайна, а восходит к очень древним
представлениям о богинях-покровительницах селений и городов.
48 Розенфельдт И. Г. Раскопки северного мыса старорязанского
городища -- АО, 1966 г. М., 1967, с. 44.
Вернемся к Девичь-горе у Тр
|
Метки: народные обереги 11-13 веков |
Народные обереги.Двоеверие – 11-13 веков часть 2 |
К полукруглой дужке на литых цепочках прикреплены следующие
предметы:
1. Птица в спокойной позе (сидит в гнезде?).
2. Ложка.
3. Ложка.
4. Пилообразный предмет, являющийся, как показывают другие
наборы, упрощенным изображением челюсти хищника.
5. Ключ.
Наличие двух ложек сразу определяет, что мы имеем дело с
двумя лицами, которым выражается пожелание быть сытыми. Ложка как
символ сытости и шире -- благосостояния вообще, хорошо известна в
русском фольклоре.
Амулет-талисман предназначался "молодым", двоим людям,
вступающим в брак. Общеизвестно, что молодых женщин (даже замужних)
часто хоронили в их свадебном уборе, во всей полноте узорочья и
оберегов. Свадьба, уход девушки из-под покровительства родного дома,
своих дедов-предков в чужую семью жениха, всегда была обставлена
бесчисленным количеством обрядов, заклинаний, особых деталей одежды.
Вполне естественно подобные наборы амулетов расценивать не как
украшение, а как овеществленное заклинание: "Будьте всегда сыты!"
Птица очень часто является символом семьи. Недаром до наших дней
бытуют выражения: "семейное гнездо", "она устраивает свое
гнездышко", "свила гнездо" и т. п.
Символика ключа элементарна -- сохранность имущества
новообразующейся семьи. Челюсть хищника тоже не вызывает сомнений.
Еще в каменном веке люди носили в качестве амулетов просверленные
зубы и когти хищников; они должны были отгонять от человека
всяческое зло. Все предметы данного набора выражают примерно
следующую благожелательную фразу:
Да будет счастлива ваша семья,
Будьте оба вы в сытости и благоденствии,
Пусть неприкосновенным будет ваше имущество,
И да разъедутся враги ваши!
Заклинание, заговор, молитвенное обращение к богам нужно
произносить многократно, так как "злые ветры" всегда могут нанести
на человека новую напасть, а заклинательный орнамент на одежде --
письмена, набор символических предметов -- письмена, которые
постоянно отгоняют зло и воздействуют на силы добра, обеспечивающие
благополучие человека.
Фактор времени, проекция добрых пожеланий в будущее, тоже
учтены мудрым мастером-"хранильником" -- полукруглую дужку (это
устойчивая форма) следует рассматривать как схематичное изображение
небосвода. Хорошо известные вам по многочисленным примерам три
позиции солнца показаны и здесь: y основания дужки-небосвода
помещены два колечка, аналогичные солнечным кругам семилопастных.
Третье, полдневное, кольцо помещено, как и следует, в высшей точке
небосвода. От этого полуденного солнца идет вниз вертикальная
полоска, как бы напоминающая нам, что "полудень чтут ..." Кольца
ниже горизонтальной "земли" могут означать ночной ход солнца (?).
Следовательно, ко всем добрым пожеланиям мы должны добавить
еще: "И да будет так, пока солнце светит!" Учитывая, что под "белым
светом" подразумевалось не только небо, осиянное солнцем и
"неисповедимым" дневным светом, но и вся земля, природа и люди
("один-одинешенек на всем белом свете"; "пойду искать по свету, где
оскорбленному есть чувству уголок ..." и т. п.), эту формулу можно
дать и в таком виде: "И да будет так, доколе свет стоит!"
Верхняя основа набора амулетов ("белый свет") не всегда
такова, как описанная выше; иногда она бывает более упрощена, а в
северных районах, где долго держались архаичные представления о
лосихах или важенках, являвшихся небесными хозяйками-рожаницами,
основа для комплекта оберегов украшена двумя оленьими головами, рога
которых переплелись, образуя четыре квадрата и тем самым соединяя
идею неба с идеей земли, т. е. опять-таки изображая "белый свет". Из
земли, между мордами оленей, вырастает нечто вроде мирового "древа
жизни", достигающего неба; иногда y древа обозначены два корня.
Отмеченные выше квадратики земли образованы и кроной этого древа и
рогами важенок северного оленя, сливая воедино земное с небесным. В
центре композиции и на ее вершине помещены солнечные знаки --
концентрические круги. Из подвесок-амулетов уцелела только одна
ложечка 62.
62 Спицын А. А. Гдовские курганы в раскопках В. H. Глазова --
MAP, 29, СПб., 1903, табл. XXI, 6.
Hа юге существовал еще один вид основы для подвешивания
амулетов, сделанной в форме якоря. Наверху -- три кольца, как бы
солнце в трех дневных позициях; внизу -- солнце в трех ночных,
подземных позициях. Верхний и нижний ярусы соединены стержнем,
сплошь покрытым изображениями семи солнц (курган в Кветуни близ
Новгорода Северского).
Учитывая разрозненность комплексов и их неполноту, рассмотрим
наборы амулетов по их составным частям.
Ложки. Этот упрощенный символ благополучия является наиболее
частой находкой в составе наборов амулетов, встречаясь в разных
сочетаниях других оберегов.
Черенок ложки бывает изогнут. Многие ложки орнаментированы.
Самым частым, и очень стандартным, является покрытие всего черенка
от чаши до петли плетенкой, в просветах которой помещены солнечные
знаки -- кружок с точкой в центре. Солнечных кружков, окруженных
извивами плетенки, всегда точно семь.
Есть ложечка, на черенке которой изображен ромб с четырьмя
точками внутри, т. е. знак земли. Уникальной является находка в
Кветуни на Десне: y ложечки-цедилки верхняя часть черенка украшена
человеческой фигуркой, задрапированной в какой-то орнаментированный
убрус 63.
63 Седов В. В. Восточные славяне..., с. 290, табл. LXXVII,
рис. 8.
Чашечки этих миниатюрных ложек (общая длина ок. 9 см)
изготовлены так, что ими можно черпать жидкость. Вполне возможно,
что они употреблялись при знахарских процедурах, когда следовало
поить больного "живой водой", водой "с уголька" и т. п. Для этих же
целей, вероятно, употреблялись и маленькие бронзовые чашечки с
крестом на дне.
Ключи. Ключи-амулеты символизируют, разумеется, сохранность,
неприкосновенность домашнего имущества. По своему виду они больше
похожи на ключи от шкатулок или ларцов, чем на ключи висячих замков,
или дверных задвижек. Это как бы несколько сужает сферу магического
действия ключей-амулетов, но, возможно, что для этого вида оберегов,
сознательно выбрана форма ключа, запиравшего ценнейшее из ценного.
Быть может, таким объектом колдовской охраны был выбран
действительно ларец с украшениями невесты, украшениями, как мы
убедились, полными заклинательной силы. Ключики размером в 5-8 см
могли быть реальными инструментами для запирания небольших ларчиков
с драгоценным узорочьем. Для девушки, входившей в чужую семью, такой
ларчик был хранителем ее приданого, ее личной собственности,
принесенной из родного дома.
Гребни. Частой находкой в системе подвесных оберегов являются
небольшие бронзовые модели гребешков. Они всегда увенчаны двумя
головами животных (коней?), иногда в общей трактовке гребешка
ощущается нечто вроде контура двуглавого орла (за 300-400 лет до
появления великокняжеского герба), хотя головы существ не похожи на
птичьи. Включение изображения гребня в состав оберегов вполне
естественно, так как этот предмет прямо связан с гигиеной, а
следовательно, со здоровьем и жизнью человека. В русских сказках
волшебный гребень в руках героя является мощным оружием против
Бабы-Яги, преследующей героя: в критический момент, когда Яга
настигает героя, тот бросает гребень, и перед Ягой вырастает
дремучий лес или неприступные горы.
Гребни связаны с расчесыванием волос и с мытьем их. Реальные,
бытовые гребни древней Руси делались обычно из кости. Hа этом
основана старинная загадка: "Царь Костентин гонит кони через тын".
Царь Константин -- костяной гребень; тын -- зубья, а "кони" --
нежелательные обитатели волосяного покрова.
В бытовых гребнях XI -- XII вв. мы видим парные существа на
верхней части гребня (два лебедя, два медведя и др.) и почти
обязательно идеограмму воды в том или ином ее облике. Вода может
быть изображена в виде гребешков волн или в виде обычной плетенки.
Hа гребне из Пскова водная стихия представлена живописно, как бы в
виде реки, на одном берегу которой бродят четвероногие звери, на
другом растет елка, а по самой реке плывет ладья под парусом 64.
Ассоциативная связь гребня с водой двояка. С одной стороны,
расчесанные волосы или заплетенная коса постоянно связываются со
струями воды и волнами, а с другой, не подлежит сомнению и бытовая
связь с мытьем головы и последующим расчесыванием волос. Гребни в
наборе амулетов следует рассматривать как гигиенически-медицинский
профилактический оберег от тех видимых и невидимых носителей
болезней, которых народ уже тогда определил как врагов человека.
64 Чернягин H. H. Гребень из Псковского городища. -- Сов.
археология. Л., 1948. т. X, с. 306.
Иногда гребни-подвески (вне набора) снабжались сложной
композицией. Таков, например, металлический гребешок из Залахтовья.
Во всю длину гребня тянутся две зоны: нижняя с солнечными знаками и
верхняя с каплями воды. Эта водяная зона завершается с боков двумя
головами ящеров. Над водяной зоной находятся два коня и ромбический
знак на столбике между ними.
По всей вероятности, на этом севернорусском предмете
изображена картина мира, характерная для северных племен, живших y
озер и хозяйственно связанных с водной стихией.
Небольшой ромбик в центре композиции, по всей вероятности --
земля; кони в солнечных знаках -- небо с дневным солнцем; солнечные
знаки ниже воды, под особой чертой -- очевидно, ночной ход солнца по
подземному океану. Композиция с двумя ящерами по сторонам доживет до
XIX в. и отразится, как мы уже видели, в орнаментике оконных
наличников Верхнего Поволжья.
Птицы. Птицы среди амулетов встречаются трех видов: одни из
них даны сильно обобщенными, так что трудно определить их видовую
принадлежность, y других показан небольшой гребешок и их можно
принять за кур. Лапы почти поджаты, хвост обязательно распушен --
мастер хотел показать птицу при выполнении семейной обязанности,
сидящей на яйцах. Третий вид птиц, встречающийся в севернорусских
курганах, -- гусыни с солнечным циркульным орнаментом или с
каплеобразными точками. Если принять предположение о том, что наборы
амулетов являлись наборами свадебными, то и наличие домашней птицы
и статичность изображений, связанная с высиживанием птенцов, станут
вполне понятны. В свадебных песнях образ птицы очень част.
Рыбы. Рыбы редко встречаются в составе амулетов. В тех
наборах, где есть рыба, нет птиц; рыба как бы заменяет такой
привычный символ семьи, как наседка. Остальные компоненты набора
обычны: ключ, "конек", нож 65. В свадебном фольклоре рыба как
символ, заменяющий птицу, не встречается.
Свет на семантику этого амулета проливают волшебные сказки
весьма архаичного происхождения. В сказках о трех богатырях или о
трех царствах (восходящей, как полагаю, к догеродотовским временам)
герои рождаются в царском дворце или от горошины или от рыбки,
съеденной царицей, служанкой, собакой. Царь был бездетен.
"Прорицательные" люди советуют поймать рыбу "золото-перо". Ловят ее
шелковым неводом. Пойманную рыбку готовят для царя; повариха съела
кусок, собаке дала кусок и царица поела рыбы. Все они от этой рыбы
забеременили и одновременно родили трех богатырей, которые затем
борются со Змеем и отвоевывают Золотое царство. Сильнейшим из них,
получившим Золотое царство, является самый младший (сын собаки) 66.
Учитывая повсеместность и устойчивость сказок этого типа,
известных y украинцев, русских и белорусов, можно понять включение
рыбы в состав амулетного набора взамен домашней птицы.
Ножи и топорики. Среди амулетов есть не только такие
благопожелательные, как ложка, ключ, птица или рыба, но и
отпугивающие, защищающие владелицу от внешнего зла. К ним относятся
модели ножей в ножнах, миниатюрные бронзовые топорики и вещи,
связанные с хищным зверьем. Ножички типа "финок" и их ножны делались
из кости; на футляре обычно просверливались дырочки. Возможно, что
они применялись в каких-либо знахарских манипуляциях, но, кроме
того, могли и устрашать невидимую нечисть.
Топорики воспроизводят форму реальных рабочих топоров, хорошо
известных по курганным находкам 67.
65 Рыбаков Б. А. Радзiмiчi..., с. 92, табл. VI, № 31. Курган
в с. Смялич Черниговской области.
66 Новиков H. В. Образы восточнославянской волшебной сказки.
Л., 1974, с. 57, 65.
67 Рыбаков Б. А. Прикладное искусство и скульптура, т. II.
Сводная таблица амулетов -- рис. 194 на с. 403.
Топорики были насажены на деревянные топорища и являлись
точной моделью топора, готового для рубки. Топор, универсальное
орудие и оружие, был неотъемлемой частью крестьянского быта. От
вырубки леса для подсечного земледелия до колки дров для печи, от
постройки избы до изготовления деревянной посуды -- везде был
необходим топор. Топор носился всегда при себе (за спиной, заткнутый
за пояс) и в случае надобности служил оружием. Фольклор сохранил
множество примет и поверий, связанных с топором. Для молодой семьи
(если принять допущение, что наборы свадебные) топор был символом
двух реальностей: во-первых, расчистки лядины под пашню, т. е.
создания своего, новосемейного поля, собственной нивы, а, во-вторых
-- постройки нового, своего дома. В таком качестве топорики,
точнейшим образом повторяющие все детали настоящих хозяйственных
топоров, вполне вписывались в наборы оберегов, посвященных семейному
гнезду, его благополучию и защищенности.
О прямой смысловой связи топориков с хозяйственной
деятельностью древнерусских пахарей говорит интересная находка в
Княжьей Горе (на Роси); топорик не стандартного типа (6 см длиною).
В середине лезвия даны два больших концентрических круга; внутренний
круг перекрещен косым крестом, между концами которого обозначены
крупные точки, что является, как мы знаем, одним из стандартов
древней идеограммы поля, нивы.
Hа щеке обуха изображен причудливый растительный (?) орнамент
с обозначением семени в нижней части ствола. Все это хорошо
соотносится с земледельческой подсекой. Правый берег Роси покрыт
огромным лесным массивом, существующим до наших дней.
Однако нельзя пройти мимо еще одного признака: на топориках
почти обязательно изображались солнечные знаки (круг с точкой),
покрывавшие почти все лезвие; об этом мне приходилось писать еще в
1951г. 68
Следует согласиться с А. А. Миллером, что "для южных районов
Европы топор являлся символом молнии" 69.
Сербский исследователь М. Филипович посвятил специальную
статью топору, как символу Перуна 70.
Как и во многих других случаях, здесь, очевидно, наблюдается
полисемантизм, слияние воедино разных аспектов восприятия символа.
Думаю, что здесь гармонично сливалось утилитарно-магическое с
мифологическим, топор, как первейшее орудие крестьянского труда, и
топор, как оружие небесного громовержца.
Челюсти хищника. "Лютый зверь". Уже приходилось упоминать о
стилизованной челюсти зверя в составе набора амулетов. Степень
стилизации различна. Нередко две сопряженные челюсти показаны
мастером довольно натуралистично: разработаны зубы, четко выделяются
сомкнутые клыки, показаны десны и даже, при посредстве маленьких
капель, обозначена слюна зверя 71.
68 Рыбаков Б. А. Прикладное искусство и скульптура, т. II, с.
400, рис. 194-2 на с. 403.
69 Миллер А. А. Элементы "неба" в вещественных памятниках. --
Изв. ГАИМК, вып. 100. (Сборник в честь H. Я. Марра). Л., 1933, с.
148.
70 Филипович М. Культ бога Перуна. -- В кн.: Гласник
Земальског музеа. Сараево, 1953; тождественный русским находкам был
найден топорик в Польше в Ленчице. См.: Nadolski A. Miniaturowy
toporek z grodziska w Tumie pod Leczyca. -- Przeglad Archeologiczny,
t. IX, вып. 2, 1953, s. 389-391; см. также: Даркевич В. П. Топор как
символ Перуна в древнерусском язычестве. -- Сов. археология, 1961.
№ 4.
71 Рыбаков Б. А. Прикладное искусство и скульптура, с. 95,
рис. 131. Амулет из земли Вятичей.
В ряде случаев челюсти упрощены. Последнее звено эволюции
было бы неопознаваемым, если бы y нас не было исходных и
промежуточных форм. Серебряные и бронзовые челюсти и отдельные клыки
являются прямыми потомками амулетов людей каменного века из
натуральных зубов и когтей хищных животных.
В эпоху Киевской Руси им, по всей вероятности, придавалось
охранительное значение. Зубы зверя должны были отпугивать врагов
видимых и невидимых. Наряду с металлическими моделями в наборах
амулетов встречаются и настоящие звериные зубы и когти.
С этим же кругом представлений связаны и знаменитые
древнерусские "коньки", часто встречающиеся в наборах оберегов. К
ногам этих животных часто подвешивали два круглых бубенчика, звон
которых должен был постоянно привлекать внимание к оберегу. Этим
амулетам посвящена исчерпывающая работа В. В. Седова 72. Ареал
"коньков" -- область Кривичей, частично Радимичей; есть она на
берегах Западной Двины и в пространстве между Псковом и Новгородом.
Дата их установлена В. В. Седовым -- от X в. до начала XIII в.
Употребление этих амулетов было, как видим, устойчивым. Автор
связывает их с древним балтским культом коня73. В своих прежних
работах я предполагал изготовление этого типа амулетов где-то в
земле Кривичей, например в Смоленске, и называл их по принятой тогда
терминологии "коньками" (некоторые именовали их "собачками") 74.
72 Седов В. В. Амулеты-коньки из древнерусских курганов. --
В кн.: Славяне и Русь. М., 1968, с. 151-157. 73 Там же, с. 156. 74
Рыбаков Б. А. Ремесло древней Руси, с. 458.
В настоящее время, соглашаясь почти со всеми выводами В. В.
Седова, я хочу пересмотреть зоологическое определение животного,
послужившего исходной формой амулета. Соответствуют ли животные,
фигурки которых найдены в шестидесяти пунктах Восточной Европы,
облику коня?
Против признания "коньков" конями говорят уши, высоко
поднятые над головой и кончающиеся острыми уголочками. Против коня
говорит толстый хвост, задранный кверху; также против коня говорит
манера изображения морды с выпуклым лбом и пасти, доходящей почти до
ушей. У лошади рот занимает значительно меньшую часть морды. Но
самым главным аргументом против признания условных "коньков"
изображением коня являются лапы. Передние ноги коней в спокойном
состоянии вертикальны, а в движении согнуты так, что сгиб
выдвигается углом вперед. У интересующих нас зверей лапа согнута в
обратную сторону, углом назад. Животное не может быть ни
однокопытным, ни парнокопытным. По форме согнутых передних лап (обе
лапы совмещены) животное может относиться или к кошачьим или к
псовым. Длина лап и задранный непушистый хвост говорят против псовых
(волка, собаки). Наиболее отвечает всем признакам нашего животного
-- рысь.
У рыси довольно высокие лапы с опушкой y сгиба (это есть на
амулетах), торчащие вперед уши с кисточками на концах, толстый,
загнутый вверх хвост (длина 24 см при длине туловища до 109 см).
Шкура рыси покрыта большими круглыми пятнами "пестротинами", а на
амулетах обязателен орнамент из круглых солнечных знаков, которые
могли нести здесь двойную семантическую нагрузку, обозначая
пятнистого зверя и вместе с тем придавая оберегу особую силу
посредством солярной символики.
Подобные знаки мы уже встречали на изображениях птиц и
настоящих коней, где они являлись только символическими.
В некоторых русских говорах (например, вятском) рысь называют
"лютым зверем", не упоминая слова "рысь", что говорит о табуировании
священного животного. Архаичный медвежий культ привел, как известно,
к табуированию имени хозяина леса, которого стали называть
иносказательно "мед выдающий" -- "медведь". "Лютый зверь"
упоминается Владимиром Мономахом: рысь прыгнула ему на седло.
Hе исключена возможность того, что культ рыси восходит к
значительно более ранним временам. В мифе о Деметре и Триптолеме,
научившем скифов земледелию, говорится, что скифский царь Линх хотел
присвоить себе изобретение земледелия, но Деметра наказала скифа,
превратив его в рысь. Поскольку говорится о скифах, научившихся
земледелию, то ясно, что речь идет о скифах пахарях, т. е. о
праславянах Среднего Поднепровья. К сожалению, в восточнославянском
сказочном фонде не отразился этот "лютый зверь".
Обереги в виде рыси, как бы готовой к прыжку, должны были
считаться надежной охраной. Лютый зверь является крупнейшим кошачьим
наших широт и одним из сильнейших и ловких хищников русских лесов.
Пребывание рыси на деревьях, прыжки сверху вниз могли содействовать
сближению ее с небесными символами.
"Утко-кони". Самыми интересными, ключевыми для решения многих
вопросов космогонического характера, являются костяные подвески в
виде лошадок с утиным туловищем. В первой книге о язычестве мне уже
приходилось писать о них 75.
Расшифровка этих "утко-коней" сделана мною на основе
интересной работы А. А. Бобринского о семантике русской деревянной
резьбы. Автор привлек широкий сравнительный материал, говорящий о
зрительном воплощении геоцентрической картины мира: днем солнце
движется по небу над землей и его влекут кони (иногда лебеди), а
ночью солнце плывет по подземному океану и влекут его водоплавающие
птицы 76.
75 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, с. 236 и след.
Рисунок на с. 237.
76 Бобринский А. А. Народные русские деревянные изделия. М.,
1913.
Этим и объясняется сопряженность в народном искусстве образов
коня и лебедя или коня и утки (Рис. 93).
Подвески лесного Левобережья Днепра дают нам интереснейший
синтез дневных и ночных символов солнца. Hо здесь изобретатели этого
синтеза не поставили рядом птицу и лошадь, а слили их в одну
фантастическую фигуру с утиным (или птичьим вообще) туловищем и
гордой головой коня с ажурной гривой. Подвески носились на толстых
шерстяных шнурах.
Сумма всех амулетов обеспечивала в глазах древнерусских
людей, во-первых, благоденствие семьи, во-вторых, ее безопасность,
особенно четко выраженную образом "лютого зверя", а в-третьих, в
комплект амулетов вводился символ вечного движения солнца над землей
и под землей. Снова приходится перевести это на словесную форму:
"Да будет так, доколе стоит белый свет!"
Заклинание пространства. ("Четырехчастная композиция")
В предшествующих разделах мы видели, что в заклинательном
искусстве русской деревни идея пространства содержалась в самом
широком смысле, как макрокосм, в состав которого, по понятиям того
времени, входило следующее: плоская земля, двое небес над нею,
солнце, луна, звезды и подземно-подводный мир, по которому солнце
путешествует ночью.
Hо наряду с этим космическим обзором существовало и другое
представление о таком пространстве, где отсчет идет от человека
вовне, во "все четыре стороны". Именно такое пространство видим мы
в многочисленных заговорах, сохранивших почти до наших дней
анимистические представления людей каменного века. Пространство в
заговорах не пустынно, не абстрактно, а наполнено всем, что есть в
природе и что создано человеком: полями и лесами, реками и озерами,
горами и оврагами, дорогами, селами, домами, людьми, птицами,
зверьем и рыбами. Составители заговоров, древние волхвы, заставляли
людей, обращавшихся к ним за колдовской помощью, перечислять сотни
(!) элементов, наполняющих это пространство.
Одним из древнейших выразителей этой идеи пространства,
окружающего нас со всех сторон, был знак креста, зафиксированный (за
несколько тысяч лет до возникновения христианства) y древних
земледельцев энеолита. Крест помещали внутри солнечного круга, чтобы
обозначить повсеместность его света, распространяющегося во все
стороны. Этих сторон было четыре. И до сих пор в нашем языке
сохранилось выражение: "пустить на все четыре стороны", со всех
четырех сторон". В XIX в. богомольцы-паломники, отправляясь на
богомолье, крестились и клали поклоны, прощаясь с родными местами,
"на все четыре стороны". Почему именно четыре? Ответ ясен -- это
основные и простейшие географические координаты: восток и запад, юг
и север. Или еще проще: вперед и назад; вправо и влево. Идея
координат, уменье определять страны света появилось, очевидно, еще
y бродячих охотников мезолита, выбравших в качестве ориентира
Полярную звезду, единственную неподвижную звезду небосвода, "ось
мира". Восток и запад определялись по восходу и закату солнца, север
-- по Полярной звезде, а полдень по апогею солнца, по самой короткой
тени.
предметы:
1. Птица в спокойной позе (сидит в гнезде?).
2. Ложка.
3. Ложка.
4. Пилообразный предмет, являющийся, как показывают другие
наборы, упрощенным изображением челюсти хищника.
5. Ключ.
Наличие двух ложек сразу определяет, что мы имеем дело с
двумя лицами, которым выражается пожелание быть сытыми. Ложка как
символ сытости и шире -- благосостояния вообще, хорошо известна в
русском фольклоре.
Амулет-талисман предназначался "молодым", двоим людям,
вступающим в брак. Общеизвестно, что молодых женщин (даже замужних)
часто хоронили в их свадебном уборе, во всей полноте узорочья и
оберегов. Свадьба, уход девушки из-под покровительства родного дома,
своих дедов-предков в чужую семью жениха, всегда была обставлена
бесчисленным количеством обрядов, заклинаний, особых деталей одежды.
Вполне естественно подобные наборы амулетов расценивать не как
украшение, а как овеществленное заклинание: "Будьте всегда сыты!"
Птица очень часто является символом семьи. Недаром до наших дней
бытуют выражения: "семейное гнездо", "она устраивает свое
гнездышко", "свила гнездо" и т. п.
Символика ключа элементарна -- сохранность имущества
новообразующейся семьи. Челюсть хищника тоже не вызывает сомнений.
Еще в каменном веке люди носили в качестве амулетов просверленные
зубы и когти хищников; они должны были отгонять от человека
всяческое зло. Все предметы данного набора выражают примерно
следующую благожелательную фразу:
Да будет счастлива ваша семья,
Будьте оба вы в сытости и благоденствии,
Пусть неприкосновенным будет ваше имущество,
И да разъедутся враги ваши!
Заклинание, заговор, молитвенное обращение к богам нужно
произносить многократно, так как "злые ветры" всегда могут нанести
на человека новую напасть, а заклинательный орнамент на одежде --
письмена, набор символических предметов -- письмена, которые
постоянно отгоняют зло и воздействуют на силы добра, обеспечивающие
благополучие человека.
Фактор времени, проекция добрых пожеланий в будущее, тоже
учтены мудрым мастером-"хранильником" -- полукруглую дужку (это
устойчивая форма) следует рассматривать как схематичное изображение
небосвода. Хорошо известные вам по многочисленным примерам три
позиции солнца показаны и здесь: y основания дужки-небосвода
помещены два колечка, аналогичные солнечным кругам семилопастных.
Третье, полдневное, кольцо помещено, как и следует, в высшей точке
небосвода. От этого полуденного солнца идет вниз вертикальная
полоска, как бы напоминающая нам, что "полудень чтут ..." Кольца
ниже горизонтальной "земли" могут означать ночной ход солнца (?).
Следовательно, ко всем добрым пожеланиям мы должны добавить
еще: "И да будет так, пока солнце светит!" Учитывая, что под "белым
светом" подразумевалось не только небо, осиянное солнцем и
"неисповедимым" дневным светом, но и вся земля, природа и люди
("один-одинешенек на всем белом свете"; "пойду искать по свету, где
оскорбленному есть чувству уголок ..." и т. п.), эту формулу можно
дать и в таком виде: "И да будет так, доколе свет стоит!"
Верхняя основа набора амулетов ("белый свет") не всегда
такова, как описанная выше; иногда она бывает более упрощена, а в
северных районах, где долго держались архаичные представления о
лосихах или важенках, являвшихся небесными хозяйками-рожаницами,
основа для комплекта оберегов украшена двумя оленьими головами, рога
которых переплелись, образуя четыре квадрата и тем самым соединяя
идею неба с идеей земли, т. е. опять-таки изображая "белый свет". Из
земли, между мордами оленей, вырастает нечто вроде мирового "древа
жизни", достигающего неба; иногда y древа обозначены два корня.
Отмеченные выше квадратики земли образованы и кроной этого древа и
рогами важенок северного оленя, сливая воедино земное с небесным. В
центре композиции и на ее вершине помещены солнечные знаки --
концентрические круги. Из подвесок-амулетов уцелела только одна
ложечка 62.
62 Спицын А. А. Гдовские курганы в раскопках В. H. Глазова --
MAP, 29, СПб., 1903, табл. XXI, 6.
Hа юге существовал еще один вид основы для подвешивания
амулетов, сделанной в форме якоря. Наверху -- три кольца, как бы
солнце в трех дневных позициях; внизу -- солнце в трех ночных,
подземных позициях. Верхний и нижний ярусы соединены стержнем,
сплошь покрытым изображениями семи солнц (курган в Кветуни близ
Новгорода Северского).
Учитывая разрозненность комплексов и их неполноту, рассмотрим
наборы амулетов по их составным частям.
Ложки. Этот упрощенный символ благополучия является наиболее
частой находкой в составе наборов амулетов, встречаясь в разных
сочетаниях других оберегов.
Черенок ложки бывает изогнут. Многие ложки орнаментированы.
Самым частым, и очень стандартным, является покрытие всего черенка
от чаши до петли плетенкой, в просветах которой помещены солнечные
знаки -- кружок с точкой в центре. Солнечных кружков, окруженных
извивами плетенки, всегда точно семь.
Есть ложечка, на черенке которой изображен ромб с четырьмя
точками внутри, т. е. знак земли. Уникальной является находка в
Кветуни на Десне: y ложечки-цедилки верхняя часть черенка украшена
человеческой фигуркой, задрапированной в какой-то орнаментированный
убрус 63.
63 Седов В. В. Восточные славяне..., с. 290, табл. LXXVII,
рис. 8.
Чашечки этих миниатюрных ложек (общая длина ок. 9 см)
изготовлены так, что ими можно черпать жидкость. Вполне возможно,
что они употреблялись при знахарских процедурах, когда следовало
поить больного "живой водой", водой "с уголька" и т. п. Для этих же
целей, вероятно, употреблялись и маленькие бронзовые чашечки с
крестом на дне.
Ключи. Ключи-амулеты символизируют, разумеется, сохранность,
неприкосновенность домашнего имущества. По своему виду они больше
похожи на ключи от шкатулок или ларцов, чем на ключи висячих замков,
или дверных задвижек. Это как бы несколько сужает сферу магического
действия ключей-амулетов, но, возможно, что для этого вида оберегов,
сознательно выбрана форма ключа, запиравшего ценнейшее из ценного.
Быть может, таким объектом колдовской охраны был выбран
действительно ларец с украшениями невесты, украшениями, как мы
убедились, полными заклинательной силы. Ключики размером в 5-8 см
могли быть реальными инструментами для запирания небольших ларчиков
с драгоценным узорочьем. Для девушки, входившей в чужую семью, такой
ларчик был хранителем ее приданого, ее личной собственности,
принесенной из родного дома.
Гребни. Частой находкой в системе подвесных оберегов являются
небольшие бронзовые модели гребешков. Они всегда увенчаны двумя
головами животных (коней?), иногда в общей трактовке гребешка
ощущается нечто вроде контура двуглавого орла (за 300-400 лет до
появления великокняжеского герба), хотя головы существ не похожи на
птичьи. Включение изображения гребня в состав оберегов вполне
естественно, так как этот предмет прямо связан с гигиеной, а
следовательно, со здоровьем и жизнью человека. В русских сказках
волшебный гребень в руках героя является мощным оружием против
Бабы-Яги, преследующей героя: в критический момент, когда Яга
настигает героя, тот бросает гребень, и перед Ягой вырастает
дремучий лес или неприступные горы.
Гребни связаны с расчесыванием волос и с мытьем их. Реальные,
бытовые гребни древней Руси делались обычно из кости. Hа этом
основана старинная загадка: "Царь Костентин гонит кони через тын".
Царь Константин -- костяной гребень; тын -- зубья, а "кони" --
нежелательные обитатели волосяного покрова.
В бытовых гребнях XI -- XII вв. мы видим парные существа на
верхней части гребня (два лебедя, два медведя и др.) и почти
обязательно идеограмму воды в том или ином ее облике. Вода может
быть изображена в виде гребешков волн или в виде обычной плетенки.
Hа гребне из Пскова водная стихия представлена живописно, как бы в
виде реки, на одном берегу которой бродят четвероногие звери, на
другом растет елка, а по самой реке плывет ладья под парусом 64.
Ассоциативная связь гребня с водой двояка. С одной стороны,
расчесанные волосы или заплетенная коса постоянно связываются со
струями воды и волнами, а с другой, не подлежит сомнению и бытовая
связь с мытьем головы и последующим расчесыванием волос. Гребни в
наборе амулетов следует рассматривать как гигиенически-медицинский
профилактический оберег от тех видимых и невидимых носителей
болезней, которых народ уже тогда определил как врагов человека.
64 Чернягин H. H. Гребень из Псковского городища. -- Сов.
археология. Л., 1948. т. X, с. 306.
Иногда гребни-подвески (вне набора) снабжались сложной
композицией. Таков, например, металлический гребешок из Залахтовья.
Во всю длину гребня тянутся две зоны: нижняя с солнечными знаками и
верхняя с каплями воды. Эта водяная зона завершается с боков двумя
головами ящеров. Над водяной зоной находятся два коня и ромбический
знак на столбике между ними.
По всей вероятности, на этом севернорусском предмете
изображена картина мира, характерная для северных племен, живших y
озер и хозяйственно связанных с водной стихией.
Небольшой ромбик в центре композиции, по всей вероятности --
земля; кони в солнечных знаках -- небо с дневным солнцем; солнечные
знаки ниже воды, под особой чертой -- очевидно, ночной ход солнца по
подземному океану. Композиция с двумя ящерами по сторонам доживет до
XIX в. и отразится, как мы уже видели, в орнаментике оконных
наличников Верхнего Поволжья.
Птицы. Птицы среди амулетов встречаются трех видов: одни из
них даны сильно обобщенными, так что трудно определить их видовую
принадлежность, y других показан небольшой гребешок и их можно
принять за кур. Лапы почти поджаты, хвост обязательно распушен --
мастер хотел показать птицу при выполнении семейной обязанности,
сидящей на яйцах. Третий вид птиц, встречающийся в севернорусских
курганах, -- гусыни с солнечным циркульным орнаментом или с
каплеобразными точками. Если принять предположение о том, что наборы
амулетов являлись наборами свадебными, то и наличие домашней птицы
и статичность изображений, связанная с высиживанием птенцов, станут
вполне понятны. В свадебных песнях образ птицы очень част.
Рыбы. Рыбы редко встречаются в составе амулетов. В тех
наборах, где есть рыба, нет птиц; рыба как бы заменяет такой
привычный символ семьи, как наседка. Остальные компоненты набора
обычны: ключ, "конек", нож 65. В свадебном фольклоре рыба как
символ, заменяющий птицу, не встречается.
Свет на семантику этого амулета проливают волшебные сказки
весьма архаичного происхождения. В сказках о трех богатырях или о
трех царствах (восходящей, как полагаю, к догеродотовским временам)
герои рождаются в царском дворце или от горошины или от рыбки,
съеденной царицей, служанкой, собакой. Царь был бездетен.
"Прорицательные" люди советуют поймать рыбу "золото-перо". Ловят ее
шелковым неводом. Пойманную рыбку готовят для царя; повариха съела
кусок, собаке дала кусок и царица поела рыбы. Все они от этой рыбы
забеременили и одновременно родили трех богатырей, которые затем
борются со Змеем и отвоевывают Золотое царство. Сильнейшим из них,
получившим Золотое царство, является самый младший (сын собаки) 66.
Учитывая повсеместность и устойчивость сказок этого типа,
известных y украинцев, русских и белорусов, можно понять включение
рыбы в состав амулетного набора взамен домашней птицы.
Ножи и топорики. Среди амулетов есть не только такие
благопожелательные, как ложка, ключ, птица или рыба, но и
отпугивающие, защищающие владелицу от внешнего зла. К ним относятся
модели ножей в ножнах, миниатюрные бронзовые топорики и вещи,
связанные с хищным зверьем. Ножички типа "финок" и их ножны делались
из кости; на футляре обычно просверливались дырочки. Возможно, что
они применялись в каких-либо знахарских манипуляциях, но, кроме
того, могли и устрашать невидимую нечисть.
Топорики воспроизводят форму реальных рабочих топоров, хорошо
известных по курганным находкам 67.
65 Рыбаков Б. А. Радзiмiчi..., с. 92, табл. VI, № 31. Курган
в с. Смялич Черниговской области.
66 Новиков H. В. Образы восточнославянской волшебной сказки.
Л., 1974, с. 57, 65.
67 Рыбаков Б. А. Прикладное искусство и скульптура, т. II.
Сводная таблица амулетов -- рис. 194 на с. 403.
Топорики были насажены на деревянные топорища и являлись
точной моделью топора, готового для рубки. Топор, универсальное
орудие и оружие, был неотъемлемой частью крестьянского быта. От
вырубки леса для подсечного земледелия до колки дров для печи, от
постройки избы до изготовления деревянной посуды -- везде был
необходим топор. Топор носился всегда при себе (за спиной, заткнутый
за пояс) и в случае надобности служил оружием. Фольклор сохранил
множество примет и поверий, связанных с топором. Для молодой семьи
(если принять допущение, что наборы свадебные) топор был символом
двух реальностей: во-первых, расчистки лядины под пашню, т. е.
создания своего, новосемейного поля, собственной нивы, а, во-вторых
-- постройки нового, своего дома. В таком качестве топорики,
точнейшим образом повторяющие все детали настоящих хозяйственных
топоров, вполне вписывались в наборы оберегов, посвященных семейному
гнезду, его благополучию и защищенности.
О прямой смысловой связи топориков с хозяйственной
деятельностью древнерусских пахарей говорит интересная находка в
Княжьей Горе (на Роси); топорик не стандартного типа (6 см длиною).
В середине лезвия даны два больших концентрических круга; внутренний
круг перекрещен косым крестом, между концами которого обозначены
крупные точки, что является, как мы знаем, одним из стандартов
древней идеограммы поля, нивы.
Hа щеке обуха изображен причудливый растительный (?) орнамент
с обозначением семени в нижней части ствола. Все это хорошо
соотносится с земледельческой подсекой. Правый берег Роси покрыт
огромным лесным массивом, существующим до наших дней.
Однако нельзя пройти мимо еще одного признака: на топориках
почти обязательно изображались солнечные знаки (круг с точкой),
покрывавшие почти все лезвие; об этом мне приходилось писать еще в
1951г. 68
Следует согласиться с А. А. Миллером, что "для южных районов
Европы топор являлся символом молнии" 69.
Сербский исследователь М. Филипович посвятил специальную
статью топору, как символу Перуна 70.
Как и во многих других случаях, здесь, очевидно, наблюдается
полисемантизм, слияние воедино разных аспектов восприятия символа.
Думаю, что здесь гармонично сливалось утилитарно-магическое с
мифологическим, топор, как первейшее орудие крестьянского труда, и
топор, как оружие небесного громовержца.
Челюсти хищника. "Лютый зверь". Уже приходилось упоминать о
стилизованной челюсти зверя в составе набора амулетов. Степень
стилизации различна. Нередко две сопряженные челюсти показаны
мастером довольно натуралистично: разработаны зубы, четко выделяются
сомкнутые клыки, показаны десны и даже, при посредстве маленьких
капель, обозначена слюна зверя 71.
68 Рыбаков Б. А. Прикладное искусство и скульптура, т. II, с.
400, рис. 194-2 на с. 403.
69 Миллер А. А. Элементы "неба" в вещественных памятниках. --
Изв. ГАИМК, вып. 100. (Сборник в честь H. Я. Марра). Л., 1933, с.
148.
70 Филипович М. Культ бога Перуна. -- В кн.: Гласник
Земальског музеа. Сараево, 1953; тождественный русским находкам был
найден топорик в Польше в Ленчице. См.: Nadolski A. Miniaturowy
toporek z grodziska w Tumie pod Leczyca. -- Przeglad Archeologiczny,
t. IX, вып. 2, 1953, s. 389-391; см. также: Даркевич В. П. Топор как
символ Перуна в древнерусском язычестве. -- Сов. археология, 1961.
№ 4.
71 Рыбаков Б. А. Прикладное искусство и скульптура, с. 95,
рис. 131. Амулет из земли Вятичей.
В ряде случаев челюсти упрощены. Последнее звено эволюции
было бы неопознаваемым, если бы y нас не было исходных и
промежуточных форм. Серебряные и бронзовые челюсти и отдельные клыки
являются прямыми потомками амулетов людей каменного века из
натуральных зубов и когтей хищных животных.
В эпоху Киевской Руси им, по всей вероятности, придавалось
охранительное значение. Зубы зверя должны были отпугивать врагов
видимых и невидимых. Наряду с металлическими моделями в наборах
амулетов встречаются и настоящие звериные зубы и когти.
С этим же кругом представлений связаны и знаменитые
древнерусские "коньки", часто встречающиеся в наборах оберегов. К
ногам этих животных часто подвешивали два круглых бубенчика, звон
которых должен был постоянно привлекать внимание к оберегу. Этим
амулетам посвящена исчерпывающая работа В. В. Седова 72. Ареал
"коньков" -- область Кривичей, частично Радимичей; есть она на
берегах Западной Двины и в пространстве между Псковом и Новгородом.
Дата их установлена В. В. Седовым -- от X в. до начала XIII в.
Употребление этих амулетов было, как видим, устойчивым. Автор
связывает их с древним балтским культом коня73. В своих прежних
работах я предполагал изготовление этого типа амулетов где-то в
земле Кривичей, например в Смоленске, и называл их по принятой тогда
терминологии "коньками" (некоторые именовали их "собачками") 74.
72 Седов В. В. Амулеты-коньки из древнерусских курганов. --
В кн.: Славяне и Русь. М., 1968, с. 151-157. 73 Там же, с. 156. 74
Рыбаков Б. А. Ремесло древней Руси, с. 458.
В настоящее время, соглашаясь почти со всеми выводами В. В.
Седова, я хочу пересмотреть зоологическое определение животного,
послужившего исходной формой амулета. Соответствуют ли животные,
фигурки которых найдены в шестидесяти пунктах Восточной Европы,
облику коня?
Против признания "коньков" конями говорят уши, высоко
поднятые над головой и кончающиеся острыми уголочками. Против коня
говорит толстый хвост, задранный кверху; также против коня говорит
манера изображения морды с выпуклым лбом и пасти, доходящей почти до
ушей. У лошади рот занимает значительно меньшую часть морды. Но
самым главным аргументом против признания условных "коньков"
изображением коня являются лапы. Передние ноги коней в спокойном
состоянии вертикальны, а в движении согнуты так, что сгиб
выдвигается углом вперед. У интересующих нас зверей лапа согнута в
обратную сторону, углом назад. Животное не может быть ни
однокопытным, ни парнокопытным. По форме согнутых передних лап (обе
лапы совмещены) животное может относиться или к кошачьим или к
псовым. Длина лап и задранный непушистый хвост говорят против псовых
(волка, собаки). Наиболее отвечает всем признакам нашего животного
-- рысь.
У рыси довольно высокие лапы с опушкой y сгиба (это есть на
амулетах), торчащие вперед уши с кисточками на концах, толстый,
загнутый вверх хвост (длина 24 см при длине туловища до 109 см).
Шкура рыси покрыта большими круглыми пятнами "пестротинами", а на
амулетах обязателен орнамент из круглых солнечных знаков, которые
могли нести здесь двойную семантическую нагрузку, обозначая
пятнистого зверя и вместе с тем придавая оберегу особую силу
посредством солярной символики.
Подобные знаки мы уже встречали на изображениях птиц и
настоящих коней, где они являлись только символическими.
В некоторых русских говорах (например, вятском) рысь называют
"лютым зверем", не упоминая слова "рысь", что говорит о табуировании
священного животного. Архаичный медвежий культ привел, как известно,
к табуированию имени хозяина леса, которого стали называть
иносказательно "мед выдающий" -- "медведь". "Лютый зверь"
упоминается Владимиром Мономахом: рысь прыгнула ему на седло.
Hе исключена возможность того, что культ рыси восходит к
значительно более ранним временам. В мифе о Деметре и Триптолеме,
научившем скифов земледелию, говорится, что скифский царь Линх хотел
присвоить себе изобретение земледелия, но Деметра наказала скифа,
превратив его в рысь. Поскольку говорится о скифах, научившихся
земледелию, то ясно, что речь идет о скифах пахарях, т. е. о
праславянах Среднего Поднепровья. К сожалению, в восточнославянском
сказочном фонде не отразился этот "лютый зверь".
Обереги в виде рыси, как бы готовой к прыжку, должны были
считаться надежной охраной. Лютый зверь является крупнейшим кошачьим
наших широт и одним из сильнейших и ловких хищников русских лесов.
Пребывание рыси на деревьях, прыжки сверху вниз могли содействовать
сближению ее с небесными символами.
"Утко-кони". Самыми интересными, ключевыми для решения многих
вопросов космогонического характера, являются костяные подвески в
виде лошадок с утиным туловищем. В первой книге о язычестве мне уже
приходилось писать о них 75.
Расшифровка этих "утко-коней" сделана мною на основе
интересной работы А. А. Бобринского о семантике русской деревянной
резьбы. Автор привлек широкий сравнительный материал, говорящий о
зрительном воплощении геоцентрической картины мира: днем солнце
движется по небу над землей и его влекут кони (иногда лебеди), а
ночью солнце плывет по подземному океану и влекут его водоплавающие
птицы 76.
75 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, с. 236 и след.
Рисунок на с. 237.
76 Бобринский А. А. Народные русские деревянные изделия. М.,
1913.
Этим и объясняется сопряженность в народном искусстве образов
коня и лебедя или коня и утки (Рис. 93).
Подвески лесного Левобережья Днепра дают нам интереснейший
синтез дневных и ночных символов солнца. Hо здесь изобретатели этого
синтеза не поставили рядом птицу и лошадь, а слили их в одну
фантастическую фигуру с утиным (или птичьим вообще) туловищем и
гордой головой коня с ажурной гривой. Подвески носились на толстых
шерстяных шнурах.
Сумма всех амулетов обеспечивала в глазах древнерусских
людей, во-первых, благоденствие семьи, во-вторых, ее безопасность,
особенно четко выраженную образом "лютого зверя", а в-третьих, в
комплект амулетов вводился символ вечного движения солнца над землей
и под землей. Снова приходится перевести это на словесную форму:
"Да будет так, доколе стоит белый свет!"
Заклинание пространства. ("Четырехчастная композиция")
В предшествующих разделах мы видели, что в заклинательном
искусстве русской деревни идея пространства содержалась в самом
широком смысле, как макрокосм, в состав которого, по понятиям того
времени, входило следующее: плоская земля, двое небес над нею,
солнце, луна, звезды и подземно-подводный мир, по которому солнце
путешествует ночью.
Hо наряду с этим космическим обзором существовало и другое
представление о таком пространстве, где отсчет идет от человека
вовне, во "все четыре стороны". Именно такое пространство видим мы
в многочисленных заговорах, сохранивших почти до наших дней
анимистические представления людей каменного века. Пространство в
заговорах не пустынно, не абстрактно, а наполнено всем, что есть в
природе и что создано человеком: полями и лесами, реками и озерами,
горами и оврагами, дорогами, селами, домами, людьми, птицами,
зверьем и рыбами. Составители заговоров, древние волхвы, заставляли
людей, обращавшихся к ним за колдовской помощью, перечислять сотни
(!) элементов, наполняющих это пространство.
Одним из древнейших выразителей этой идеи пространства,
окружающего нас со всех сторон, был знак креста, зафиксированный (за
несколько тысяч лет до возникновения христианства) y древних
земледельцев энеолита. Крест помещали внутри солнечного круга, чтобы
обозначить повсеместность его света, распространяющегося во все
стороны. Этих сторон было четыре. И до сих пор в нашем языке
сохранилось выражение: "пустить на все четыре стороны", со всех
четырех сторон". В XIX в. богомольцы-паломники, отправляясь на
богомолье, крестились и клали поклоны, прощаясь с родными местами,
"на все четыре стороны". Почему именно четыре? Ответ ясен -- это
основные и простейшие географические координаты: восток и запад, юг
и север. Или еще проще: вперед и назад; вправо и влево. Идея
координат, уменье определять страны света появилось, очевидно, еще
y бродячих охотников мезолита, выбравших в качестве ориентира
Полярную звезду, единственную неподвижную звезду небосвода, "ось
мира". Восток и запад определялись по восходу и закату солнца, север
-- по Полярной звезде, а полдень по апогею солнца, по самой короткой
тени.
|
Метки: обереги |
Народные обереги.Двоеверие – 11-13 века |
Статья собрана из рассказов стариков о их предках и материлов сети.
В силу исторических условий своего развития деревня оказалась
хранительницей народных традиций и архаичных пластов древней
культуры.
Христианство, которое в XI -- XII вв. многое видоизменило в
культуре русского города, долгое время не проникало в деревню, и
сельскую Русь (особенно лесную, северную) долго еще можно было
считать языческой.
Исчезал под воздействием духовенства наиболее противоречащий
христианской обрядности и наиболее заметный для властей обычай
трупосожжения. Судя по раскопкам курганов, кремация в основном
исчезла в XI в., но когда Нестор на рубеже XI и XII вв. писал
введение в свой летописный свод и снабдил его описанием древних
славянских обычаев, где подробно говорилось о том, как производился
обряд сожжения умерших, то киевский историк вынужден был добавить:
"еже творят вятичи и ныне".
Археология подтвердила правильность этого примечания: y
вятичей курганы без сожжения появляются только в XII в. О силе
язычества на "украинах" киевской державы пишут и авторы поучений
против язычества и летописцы, отмечающие власть волхвов над
народными массами. О тех же вятичах говорит киево-печерский патерик,
повествуя о монахе-миссионере Кукше, убитом язычниками в вятических
лесах.
О язычестве в Вятической и Радимической землях говорит еще
одно наблюдение: в двух городах, имевших прямое отношение к вятичам
и радимичам, вплоть до середины XII в. строились церкви с
баптистериями для крещения взрослых людей. Такова Успенская церковь
Елецкого монастыря в Чернигове и полностью аналогичная ей церковь в
Старой Рязани. Это означает, что во времена Юрия Долгорукого в этих
местах еще продолжался процесс крещения в новую веру. Hе следует
думать, что только вятичи или радимичи были такими косными в этом
отношении. Нестор, упомянув о трупосожжениях y вятичей, добавил:
"Си же творяху обычая и Кривичи и прочий погании, не ведуще закона
божия, но творяще сами собе закон" 1.
Для обширной Новгородской земли с ее смешанным
славяно-финским населением мы располагаем и более поздними
свидетельствами о сохранении язычества. Митрополит Макарий,
сподвижник Ивана Грозного, писал в Водскую пятину: "Молятся по
скверным своим мольбищам древесом и каменью... Жертву и питья жрут
и пиют мерзким бесом ... и мертвых своих они кладут в селех по
курганом и по коломищем ..., а к церквам на погосты тех своих
умерших они не возят схраняти". В 1501 г. митрополит Симон писал в
Пермь: "А кумиром бы есте не служили, ни треб их не принимали ... и
всех богу ненавидимых тризнищ не творите идолом ..." 2.
Обычай насыпать курганы над урной с прахом или над
захороненным покойником был древним, языческим, но он почти не
противоречил христианским нормам и сохранялся по всей Руси до XII --
XIII вв., а кое-где и до XIV в. Тысячи курганов, исследованные
археологами, обогатили науку огромным количеством бытовых предметов:
посудой, принадлежностями одежды и, что для нас особенно важно, --
женскими украшениями. К величайшему сожалению, до нас почти не дошла
вышивка на ткани, и мы лишены возможности сопоставить весьма
архаичные сюжеты этнографической вышивки с подлинными материалами
средневековья.
Обильный этнографический материал позволяет построить такую
схему женского восточнославянского наряда в целом: 3
Головной убор. Идея неба; изображение солнца, мирового древа,
устремляющегося в небо. Изображения птиц. Сами названия женских
головных уборов являются "птичьими": "кокошник" (от "кокошь" --
петух, кур), "кика", "кичка" (утка), "сорока" и т. п. Частые в
археологическом материале головные венчики, окружающие голову, могут
рассматриваться, как символ "кругозора" -- горизонта, круговой линии
соприкосновения неба с землей (?)
1 Шахматов А. А. Повесть временных лет. Пг., 1916, с. 13.
2 Гальковский H. М. Борьба христианства с остатками язычества
в древней Руси. Харьков, 1916, т. I, с. 129.
3 Рыбаков Б. А. Макрокосм в микрокосме народного искусства.
-- Декоративное искусство, 1975, № 1 и 3.
Подвески к головному убору. В этнографии и в материалах XVI
-- XVII вв. широко известны "рясны", вертикальные полосы, идущие от
кокошника вниз (до груди или даже до пояса). В металлических
изделиях этого типа часты изображения птиц, а в бисерных ряснах, как
бы имитирующих дождевые струи, обязательны "пушки", изготовленные из
лебяжьего или гусиного пуха. В археологическом материале, как увидим
в дальнейшем, в качестве таких подвесок к ряснам служили так
называемые колты с изображениями русалок, семарглов или грифонов, т.
е. во всех случаях посредников между небом и землей. С головным
убором связаны височные кольца, хорошо известные в археологическом
материале. Кроме того, по этнографическим и археологическим данным
известны декоративные сетки (бисерные, серебряные), которые
пришиваются к головному убору сзади и, опускаясь вниз на плечи,
закрывают шею женщины сзади. Подобная сетка изображена на фреске XI
в.
"Гривная утварь" -- ожерелья, украшения шеи и груди. В
этнографическом (плохо изученном) материале известны наборы бус,
"мониста" из старых монет; специальных украшений мало.
Археологический материал очень обилен. Кроме шейных металлических
гривен, разнообразных импортных бус обнаружено множество ожерельных
подвесок разнообразного содержания. Есть солярные знаки, есть
изображения луны, крестовидные подвески (не связанные с
христианством), подвески с изображениями зверей и птиц и подвески --
"крины".
Обилие символических украшений-оберегов около ворота одежды
и на шее объясняется тем, что здесь -- наименее защищенная часть
тела. Голова покрыта кокошником (или его обыденной заменой), корпус
и ноги женщины закрыты одеждой, при изготовлении которой щедро
применялась заклинательная символика, а шея во всех случаях
оставалась открытой. Поэтому древние язычницы и их "пра-дщери" XIX
в. стремились обезвредить этот опасный участок изобилием
апотропеических подвесок.
Обереги-амулеты. Самой интересной для нас частью женских
украшений являются специальные амулеты-обереги, включавшиеся в
ожерелье или подвешивавшиеся особо (в области сердца или в "калите"
y пояса). Обереги были как в виде отдельных подвесок, так и целыми
наборами. Их магическое и апотропеическое значение не вызывает
сомнений.
Украшение предплечий и бедер известно только по
этнографическим данным. Вышивка на предплечьях рукавов нередко
содержала архаичный символ возделанного поля, нивы: косо
поставленный квадрат разделен на 4 части и в каждом малом квадрате
помещена точка -- знак зерна 4. Помещение идеограммы нивы именно в
этом месте рукава прекрасно объясняется самим содержанием знака:
нива требует труда, рук, и вышивальщицы когда-то сознательно, а в
XIX -- XX вв. уже по традиции изображали на рукаве рубахи в том
месте, где он облегает главные мышцы (бицепс, дельтоид и другие),
знак поля, как точку приложения мускульной силы. Такие же знаки нивы
(и идеограмму дома, сруба) вышивали на шерстяных поневах вдоль бедер
и ног, стремясь этим магическим узором придать большую силу корпусу
и ногам 5. Южновеликорусская понева, как и украинская плахта,
является очень архаичной формой одежды и восходит к энеолиту или
земледельческому неолиту.
4 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М., 1981, с. 45.
5 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, с. 47, 50.
"Обручи"-браслеты. Браслеты широко представлены и в
деревенских и в городских материалах. В городском обиходе XI -- XIII
вв. серебряные браслеты были съемными, на шарнирах и предназначались
для удерживания необычайно длинных, до земли, рукавов. Браслеты
расстегивались тогда, когда женщина, подобно Лягушке-Царевне,
начинала ритуальный танец и широко распускала свои рукава.
Гравировка на таких браслетах настолько интересна и важна для нашей
темы, что им будет посвящена специальная глава о русалиях.
Деревенские браслеты проще, многофигурных композиций на них нет, но
зачастую там мы видим сложную плетенку, которая в графике обычно
является изображением воды, а это тоже ведет нас к русалиям,молениям
о воде.
Перстни. Кольца на руках, по всей вероятности, связаны со
свадебной символикой и на этих, самых маленьких по размеру
украшениях, как и на всей избе-хоромине, выступает идея макромира,
долженствующего оберегать микромир одной девушки: есть перстни с
тремя крестами или с тремя солнцами или с двумя крестами и солнцем
в середине. Это уже знакомый нам прием показа движения солнца от
восхода к полудню а от полудня, апогея (который "чтут" язычники) к
закату.
Подол одежды. Орнаментика подола известна только по
этнографическим данным. Здесь в вышивке господствует, естественно,
идея земли: небольшие растения, ходящие по земле птички, цветы.
Изредка встречается идеограмма засеянного поля.
Такова в самых общих чертах предварительная схема
заклинательного содержания женского наряда и убора. Мы в настоящее
время при знакомстве с народным костюмом обычно воспринимаем
позднейшую эстетическую сущность дожившего до наших дней наряда,
отмечая лишь локальные вариации его, создающие впечатление
разнообразия и неповторимости. Однако в любом восточнославянском
регионе как в средневековье (археология), так и в XIX в.
(этнография) мы всегда можем обнаружить в одежде и украшениях
продуманную сотнями поколений систему защиты от упырей и навий,
варьирующую лишь в изобразительных средствах.
Следует помнить, что одежда и дополнительные
обереги-украшения -- все это должно было охранять человека за
пределами его крепости-дома, во внешнем мире с присущим ему,
рассредоточенным в нем злым началом.
Рассмотрим более подробно те звенья этой схемы, которые
представлены в деревенских средневековых материалах X -- XIII вв.
Головные уборы. Деревенские головные уборы по курганным
материалам известны нам очень плохо. H. И. Савин по мелким нашивным
бляшкам установил, что дорогобужские крестьянки XI в. носили убор в
виде кокошника.
Лучше сохраняются головные металлические венчики-очелья, но
они не были распространены повсеместно и, возможно, являлись только
девичьим убором.
Височные кольца. Нижняя кромка древнего кокошника снабжалась
y висков несколькими кольцами ("заушницами"), получившими кабинетное
наименование височных колец. Возможно, что к ним должно быть
отнесено древнерусское слово "усерязь" 6.
Височные кольца восточных славян в XI -- XIII вв. обладают
интересной (наблюденной, но не разгаданной) особенностью: y каждого
племенного союза на значительной территории (три -- четыре
современных области) существовал свой особый тип "усерязей" 7.
Семилучевые и семилопастные кольца прочно ассоциируются с
летописными Радимичами и Вятичами; спиральные -- с Северянами,
браслето-образные -- с Кривичами, ромбощитковые -- со Словенами и т.
д. Женские украшения как бы играли роль опознавательного знака того
или иного племенного союза. П. H. Третьяков, исходя из поздней даты
курганов с височными кольцами, относящихся к тому времени, когда
старые союзы племен были уже сменены феодальными княжествами,
пытался объяснить единство стиля головных уборов тем, что дополнения
к ним -- височные кольца -- изготавливались в едином центре, в
столице княжества 8. Тщательное изучение техники литья височных
колец позволило выявить отливки, вышедшие из одной литейной формы,
т. е. изготовленные одним мастером, а нанесение мест находки этих
отливок на карту показало, что район сбыта одной мастерской был
крайне узок -- 20-30 км в поперечнике. Hа всю землю Вятичей должно
было приходиться 100-150 разных мелких мастерских, где отливали
семилопастные височные кольца вятического типа 9.
Следовательно, изготовление височных колец в одном столичном
центре отпадает. Вятические "усерязи" делались в селах многими
десятками местных кузнецов ("кузнь" -- тонкое изделие), а сохранение
общеплеменного единства в XII -- XIII вв. должно найти какое-то
другое объяснение.
Наиболее ранние височные кольца мы встречаем в Среднем
Поднепровье в VI -- VII вв. н. э. У племени "русь" на р. Роси
бытовали огромные серебряные кольца, один конец которых закручен в
плотную спираль, позолоченную в середине. У каждого виска было по 3
-- 4 таких кольца 10.
Золотые круги спиралей естественно рассматривать как
изображения солнца. Размещение их по двум бокам околыша головного
убора (в этнографических материалах снабженного эмблемою полуденного
солнца), быть может, расценивалось как места выхода солнца из-за
линии горизонта в начале дня и ухода к концу дня? "Горизонт" в этом
случае -- нижняя кромка кокошника или кички. Такие же солнечные
знаки окаймляли головные уборы и y соседних с русами Северян.
Отличие было лишь в том, что серебряная проволока закручивалась с
обоих концов, образуя две спирали.
Истоки подобных спиралей-кругов ведут нас в бронзовый век,
когда y многих народов Европы, в том числе и y протославян
(тшинецкая культура), широко применялись в украшениях проволочные
круги, плотно заполненные спиралями. Золотистая бронза содействовала
восприятию этих кругов как символов солнца 11. Промежуточным звеном
являются бронзовые предметы с такими же спиралями зарубинецкой
культуры 12. Прямыми потомками двуспиральных височных колец Северян
VI -- VII вв. являются односпиральные кольца тех же северян времен
Киевской Руси. Круглая кольцевидная форма, позволяющая говорить о
солярной символике, была y височных колец дреговичей, кривичей и
словен новгородских. У словен большое проволочное кольцо
расплющивалось в 3-4 местах в ромбические щитки, на которых
гравировалась крестообразная фигура или квадратная "идеограмма нивы"
13. В этом случае солнечный символ -- круг -- сочетался с символом
земного плодородия.
В VIII -- IX вв. в Восточную и Центральную Европу откуда-то,
очевидно из ближневосточной зоны торговых связей, к славянам
проникли два типа височных подвесок. Оба они имеют в своей основе
кольцо. Один тип распространен в Среднем Поднепровье и
прослеживается далеко на запад. Украшение состоит из трех слитных
частей: кольца, полумесяца, вписанного в нижнюю половину кольца и
прикрепленного снизу полушария с 6 -- 8 выступами-лучами. Здесь
небесная символика перенесена на нижнюю часть, изображающую звезду
с крестом на ней и лучами, исходящими от нее. Украшения щедро
снабжены зернью 14.
Другой тип попал, очевидно, волго-донским путем в землю
Вятичей и Радимичей, был хорошо воспринят местным населением и
просуществовал, видоизменяясь, до XIII в., дав начало радимичским
семилучевым височным кольцам X -- XI вв. и вятическим семилопастным
XII в., дожившим до татарского нашествия. В основе его кольцо, в
нижней части которого торчат вовнутрь несколько зубчиков, а вовне --
более длинные треугольные лучи, часто украшенные зернью. Связь с
солнцем ощущается даже в научном наименовании их -- "семилучевые"
15. Впервые попавшие к восточным славянам кольца этого типа не были
чьим-либо племенным признаком, но со временем закрепились в
радимичско-вятических землях и стали в X -- XI вв. таким признаком
этих племен 16. Носили семилучевые кольца на вертикальной ленте,
пришитой к головному убору.
Более поздние, чем радимичские, курганы вятичей сохранили нам
последние звенья эволюции этих височных колец: лучи стали
расширяться и в конце концов превратились в секирообразные лопасти,
в которых В. М. Василенко видит изображение топора Перуна 17.
6 Серьги, продеваемые в мочки ушей, не применялись в древней
Руси. Hа них перешло древнее слово "усерязь", означавшее подвеску к
кокошнику y висков.
7 Спицын А. А. Расселение древнерусских племен по
археологическим данным. -- ЖМНП, 1899; Арциховский А. В. Курганы
вятичей. М., 1930; Рыбаков Б. А. Радзiмiчь Минск, 1932; Седов В. В.
Восточные славяне в VI -- XIII вв. М., 1982; Равдина Т. В. Типология
и хронология лопастных височных колец. -- В кн.: Славяне и Русь. М.,
1968, с. 136 -- 142; Соловьева Г. Ф. Семилучевые височные кольца. --
В кн.: Древняя Русь и славяне. М., 1978, с. 171-178.
8 П. H. Третьякову убедительно возражал А. В. Арциховский в
статье "В защиту летописей и курганов". (Сов. археология. М., 1937,
т. IV, с. 54-60).
9 Рыбаков Б. А. Сбыт продукции русских ремесленников в X --
XIII вв. -- Учен. зап. МГУ 1946, вып. 93, с. 68-112; Рыбаков Б. А.
Ремесло древней Руси. М., 1948.
10 Рыбаков Б. А. Древние русы. -- Сов. археология, т. XVII;
Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества. М.. 1982, с. 76-77.
11 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, с. 253.
12 Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества. М., 1982,
с. 32.
13 Седов В. В. Восточные славяне ..., с. 226 и 227.
14 Василенко В. М. Русское прикладное искусство. М., 1977,
рис. 35-40.
15 Рыбаков Б. А. Ремесло древней Руси. М., 1948, рис. 14, 15.
Железницкий клад из земли Вятичей (близ Зарайска). 16 Соловьева Г.
Ф. Семилучевые височные кольца. Карта на с. 172. Рисунки на с.
174-175.
17 Василенко В. М. Русское прикладное искусство, с. 220.
Классические вятические семилопастные височные кольца XII
-начала XIII в. очень стандартны на большой территории и очень
интересны по своему языческому содержанию. Первичные образцы IX -- X
вв., попавшие на Оку и на Сож из каких-то далеких земель, где знали
львов (бляшка из одного клада с семилучевыми), стали во времена Юрия
Долгорукого и Всеволода Большое Гнездо перерабатываться местными
мастерами. Лучи превратились в секировидные лопасти, верхний
изогнутый ряд зубчиков стал ровной горизонтальной линией "городков";
y основания полукруглой дужки стали отливать два колечка с лучистой
насечкой. Hа основном щитке "усерязей" появился устойчивый,
одинаковый волнистый орнамент. Выработанный повсеместный стандарт
просуществовал не менее столетия.
Разгадка смысла этих изменений приходит при ознакомлении с
теми дополнительными знаками, которые сами мастера своими тонкими
инструментами наносили иногда на лопасти височных колец. Знаки на
лопастях прекрасно расшифровываются при обращении к символике
русской вышивки XIX в., так как полностью совпадают с вышитыми
узорами. Преобладает тема плодородия земли, но встречаются и
схематические изображения рожаниц, так широко представленные в
вышивке 18.
Начать рассмотрение этих интереснейших знаков следует с
наиболее полного комплекта их на височном кольце из кургана в Зюзине
(совр. Москва) второй половины XII -- начала XIII в.19 На
центральной лопасти знак плодородия представлен в виде "ромба с
крючками" (терминология А. К. Амброза). Ромб поделен на четыре
части, а от углов во вне отходят изгибающиеся отростки 20. Мы уже
видели четкий знак "засеянной нивы" на ромбощитковых кольцах
новгородских словен. Hа двух соседних лопастях даны такие
же ромбические знаки плодородия, но меньшего размера, от каждого
угла ромба отходит в сторону длинный крест. Следующая пара содержит
знак креста с пересеченными перекладинами концами. Это типичная
четырехчастная схема распространения блага в 4 стороны. Hа последних
самых верхних лопастях изображена свастика, знак огня (возможна
связь с подсечным земледелием).
18 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, с. 481, 483, 517.
19 Равдина Т. В. Типология и хронология..., с. 141, рис. 2.
Исследовательница опубликовала большинство колец с символическими
знаками, но не остановилась на их семантике. Ценным является
уточнение датировок. Интересную коллекцию знаков, собранную Т. В.
Равдиной, можно пополнить: одно кольцо найдено в с. Городище б.
Перяславского уезда в 1853 г. Кольца со знаками опубликованы мною и
В. М. Василенко. Есть знаки и на кольцах Белевского клада. Василенко
В. М. Русское прикладное искусство.
20 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, с. 50, 82-92, 182.
Итак, пять нижних лопастей посвящены теме плодородия земли и
идее распространения блага "на все четыре стороны" (крест с четырьмя
крестиками на концах). Свастика на крайних лопастях не может
означать здесь солнца, так как солнечные кольца с лучами находятся
рядом, над свастикой. Эти колечки y основания дужки, появившиеся при
коренной переработке старых украшений, можно рассматривать как
солнечные знаки y двух концов дужки-небосвода.
В символической орнаментике русской избы мы видели устойчивое
изображение трех дневных позиций солнца: утренней, полдневной и
вечерней, но в фольклоре наряду с этим широко распространен еще один
стандарт -- упоминание только двух четко видимых позиций солнца:
утренняя заря и восход и вечерняя заря и закат солнца; полдневная
позиция требовала особых расчетов. Эти две зари иногда даже
олицетворялись в виде двух девушек.
По всей вероятности, на украшении, которое находилось в общей
системе женского убора "между небом и землей" -- между кокошником с
его небесной символикой и корпусом владелицы, вполне сознательно
помещали только два этапа дневного солнечного пути: восход и закат
солнца. Полдневная позиция солнца была обозначена на кокошнике.
Полной аналогией этому являлась форма прялки, где полдневное солнце
занимало верхнюю лопаску, а утренняя и вечерняя позиции солнца
изображались внизу на небольших колечках, которые назывались
"серьгами" 21.
21 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, с. 241, 243, 247.
Изменение старого прототипа началось не с изготовления этих
двух солнечных знаков, а с появления на широком щитке очень
сложного, но устойчивого изображения системы волнистых, зигзаговых
и изогнутых полос, которые нельзя определить иначе, чем желание
мастеров показать двуслойную природу небесных вод. Верхний ряд
показан как горизонтальная полоса с волнистым верхним краем и ровным
нижним. От нижнего края иногда опускаются гирляндовидные полоски,
напоминающие трипольские схемы облаков. Иногда вся верхняя полоса
заменяется двойным зигзагом, т. е. опять точно так, как изображалось
"верхнее небо" художниками энеолита. Нижние полосы завершаются внизу
треугольниками, которые устремлены к лопастям, т. е. к тем местам на
височном кольце, которые несут на себе знаки земного плодородия.
Есть височное кольцо (курган в Покрове), на котором ромбический знак
плодородия помещен только на средней лопасти, а от "водного
треугольника" к нему тянется прерывистая вертикальная линия из
точек, очевидно, изображающая дождевую струю. Эти нижние водяные
линии следует считать небесной водой, дождем, устремленным к земле,
к нивам, т. е. водой "среднего неба", между небесными запасами воды
("хлябями небесными") и землей. Вскоре, вероятно в том же XII в., к
изображению двух небес добавляется и становится обязательным
изображение двух солнц по бокам кольца.
В выбранном нами примере, семилопастном из Зюзина, посреди
водяных линий в середине щитка изображено нечто вроде змеи, что
хорошо увязывается с символикой воды. В целом это височное кольцо,
отвечающее стандарту второй половины XII -- начала XIII в., может
быть гипотетически расшифровано так:
1. Солнце изображено дважды в позиции утренней и вечерней
зари. Косые насечки подчеркивают движение светила.
2. Верхняя кромка щитка -- "верхнее небо", "хляби небесные".
3. Низ щитка, примыкающий к основаниям лопастей, -- "среднее
небо": тучи, облака, дождь, капли.
4. Секирообразные лопасти, обращенные вниз, -- земля. В ряде
случаев здесь (особенно на средней лопасти) мастер помещал
тонкогравированные знаки плодородия и плодовитости. Hа данном кольце
теме плодородия земли посвящено пять лопастей.
ОбычныйТерминСписокопределенийАдресЦитатыФорматированныйПеред нами типичный для древности пример использования
макрокосма не только в распределении заклинательных узоров и
украшений во всем женском наряде, но даже в миниатюрном микрокосме
височного украшения. Такое проникновенное внимание к этому виду
украшений объясняется, во-первых, заметностью данной детали убора --
тот, кто смотрит на лицо женщины, тот непременно увидит это
компактное и емкое отражение макрокосма. Во-вторых, такие нарядные
височные кольца, по всей вероятности, были принадлежностью
свадебного наряда, а в этом случае заклинательная символика была
обязательной.
У нас остался нерасшифрованным знак свастики, который в
данном случае может рассматриваться не как знак солнца, а только как
знак огня. Какое отношение может иметь знак огня к соседним с ним
знакам земного плодородия? Самое прямое: вятичи вели земледелие и на
старопахотных землях и на расчищенных под пашню лесных участках,
выжигаемых огнем. Подсечное земледелие, освоение новых пространств
должно было усилиться именно в середине XII в., когда Юрий
Долгорукий призывал поселенцев в свою Ростово-Суздальскую землю (и
в свою домениальную Москву) со всех сторон. К этому князю "идут люди
не токмо от Чернигова и Смоленска, но колико тысяч из-за Днепра и от
Волги", так как здесь "еще полей и лесов много" (1148 г.) 22.
Колонизация отмечена и археологическими материалами. Усиление
расчисток леса под пашню убедительно связывает помещение на "картине
мира" знаков огня рядом со знаками плодородия земли. Свастика
встречена не только в Зюзине, но и в других подмосковных курганах.
Рассмотрим другие случаи дополнительной орнаментации височных
колец заклинательными символами.
Обычно наборы знаков на лопастях беднее, чем на рассмотренном
зюзинском семилопастном, и ограничиваются пятью, тремя, а иной раз
и одним знаком. В нескольких случаях характер знаков очень близок к
разобранным выше. Это именно тот вариант, который находит полную
аналогию в вышивке на русских полотенцах XIX в. 23
Есть иной вариант: на срединной лопасти изображается сложный
орнаментальный узел как бы в виде двух переплетенных букв О, из
которых одна поставлена горизонтально. Подобный знак, отлитый как
подвеска к ожерелью, известен по радимичским древностям 24. "Двойное
О", как магический знак, известен y западных славян", встречаем его
и в рукописях, синхронных нашим височным кольцам -- например, в
ростовской рукописи 1222 г. 26
Большой интерес представляют знаки (тоже удержавшиеся в
вышивке до XIX в.), которые следует связывать с культом рожаниц. Это
сильно схематизированные изображения рожающей женщины, опознать
которые возможно только с помощью ретроспективного углубления от
русских этнографических вышивок XVIII -- XX вв. до узорочья эпохи
Всеволода Большое Гнездо 27. (Рис, 88).
Культ рожаниц резко осуждался церковниками того времени,
когда вятические женщины носили эти височные кольца. Архаичных
рожаниц, "небесных хозяек", с которыми охотники неолита
отождествляли созвездия Большой и Малой Медведицы, было только две.
Старейшие списки антиязыческих поучений знают применительно к ним
двойственное число: в дательном падеже писалось не "рожаницамъ", а
"рожаницама" 28.
В русском фольклоре рожаницы известны как Лада и ее дочь Леля
(аналогично греческим Лето и Артемиде), но со временем, вместе с
земледельческой богиней плодородия Макошью они образовали триаду,
которая отразилась в двух видах вышивки: Макошь и две всадницы (тема
встречи весны) и три рожающих женщины 29.
Наши височные кольца дважды дают нам последний вариант с
тремя роженицами, углубляя тем самым данный сюжет этнографической
вышивки на 7-8 столетий 30. Изображение же семи рожаниц на височном
кольце из Царицына, вероятно, более связано со свадебной символикой,
чем с культом рожаниц, как таковых. Возможно, что это свидетельство
затухания архаичного культа, начала размывания древних представлений
о двух небесных хозяйках мира.
Как видим, височные кольца вятичей, относящиеся к
христианскому периоду, к тому времени, когда в соседней земле
строились Покров на Нерли и Успенский собор во Владимире, оказались
миниатюрными языческими скрижалями, на которых мудрые
мастера-кузнецы выразили свое миропонимание 31.
Тот устойчивый стандарт, который отмечает семилопастные
височные кольца второй половины XII -- начала XIII в., был нарушен
каким-то талантливым и, как увидим далее, язычески мыслящим
мастером, работавшим, очевидно, накануне татарского нашествия. Речь
идет о височных кольцах известного Белевского клада, датировка
которого тщательно уточнена H. Г. Недошивиной 32. Необычна сама
форма находки -- клад. Височные кольца известны нам по захоронениям
в курганах. В городских кладах нет деревенских височных колец;
горожанки носили колты. Здесь же перед нами 17 височных колец, из
которых одно является простым, стандартным семилопастным, а
остальные 16 подразделяются на восемь различных типологических групп
(от одного до четырех экземпляров в группе), неразрывно связанных со
стандартом рядом деталей, но вместе с тем далеко уходящих от
устойчивых прежних форм. Многообразие и некомплектность предметов
Белевского клада производят впечатление не бытового комплекса
женских украшений, а набора образцов владельца мастерской.
Белевские трехлопастные и пятилопастные височные кольца с их
изящно изогнутыми лопастями, с их кружевной оторочкой и фигурками
животных -- это не звено плавной эволюции, а полный артистизма взлет
творческой фантазии мастера. Мастер не отвергал старого, он
преображал его.
Что уцелело от стандарта? Простая проволочная дужка, средняя
секирообразная лопасть и почти в полной неприкосновенности остался
литой "водный" орнамент; на некоторых вариантах четко видны семь
городков на верхней кромке щитка, к которым механически добавлена
решетка верхней части щитка 33.
22 Татищев В. H. История Российская. М.; Л., 1967, т. II, с.
182.
23 Равдина Т. В. Типология и хронология..., рис. 2.
24 Рыбаков Б. А. Радзiмiчi, с. 99. Карта № 2.
25 Wikinger und Slawen. Zur Fruhgeschichte der Ostseevolker.
Berlin. 1982.
26 Стасов В. Славянский и восточный орнамент по рукописям
древнего и нового времени. СПб., 1887, табл. LXXXI.
27 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. Текст на с.
475-501; рис. на с. 483-485.
28 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, с. 464.
29 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, рис. на с. 500 и
501
30 Василенко В. М. Русское прикладное искусство, с. 219, рис.
88; Равдина Т В Апология и хронология..., рис. 2 № 7.
31 О западнославянских височных кольцах и их магическом
значении см. статью В. Гензеля: Hensel Witold. О magicznej funkcji
wczesnosredniowiecznych kablaczkow skroniowych. -- Slavia Antique,
t. XVI, s. 243-251
32 Недошивина H. Г. О датировке Белевского клада. -- В кн.:
Славяне и Русь. М., 1968, с. 121.
33 Образец изготавливался путем оттиска в глине стандартного
кольца старого типа, а восковая отливка дополнительно
обрабатывалась.
Что внесено нового? Исчезли "солнечные" колечки, изменилась
форма и количество лопастей, на лопастях появился бордюр из колечек.
Hо самая существенная переработка была произведена в верхней части
щитка -- здесь над городками мастер поместил решетку из двух рядов,
сюда вдвинулась композиция из двух колец и ромбоидальной фигуры, а
над решеткой почти во всех случаях были помещены парные фигурки
коней или собак (?). Hа аналогичных кольцах из немногочисленных
находок в других местах вместо этих животных даны птицы. В каком
направлении шли видоизменения с точки зрения языческой символики?
Прежде всего следует отметить, что, несмотря на позднюю дату
(Белевский клад приблизительно -- ровесник Георгиевского собора в
Юрьеве Польском), на вещах этого клада совершенно не заметно влияние
христианства.
Рассмотрение языческой символики начнем с верхних элементов
украшения. Исчезли солнечные кольца, но внутри кольца, так сказать
на "горизонте", появились кони и солнечный символ между двумя конями
34. Хвосты коней скручены в точно такие же кольца, как средний
солнечный символ, а все три новых кольца с лучистой насечкой
идентичны двум прежним солнечным знакам по бокам стандартного
семилопастного. Следовательно, белевский мастер заменил прежнюю
схему из двух позиций (восход-закат) другой схемой --
восход-полдень-закат, введя апогей светила, полдень. Он изобразил на
своем узорочье то "тресветлое" солнце, к которому обращалась
Ярославна в "Слове о полку Игореве" и которое так хорошо знакомо нам
по многочисленным археологическим и этнографическим примерам. Птицы
вместо коней воскрешают в нашей памяти вщижские алтарные арки, где
подземный мир обозначен двумя ящерами, а утро, полдень и вечер
отмечены птицами: полдневная птица показана в полете, а две
остальных -- сидящими. Здесь только две птицы и обе они сидящие.
34 Рыбаков Б. А. Прикладное искусство Владимирской Руси. --
В кн.: История русского искусства. М., 1953, т. I.
Труднее объяснить замену коней собаками. Собака, как животное
связанное с солнечной символикой, не прослеживается ни в фольклоре,
ни в изобразительном искусстве. Единственно, что может вести в этом
направлении, это близость слов "хорт" -- собака, волк и "Хорс" --
солнце, божество солнца. Hа белевских кольцах собаки на месте коней
встречены четыре раза, но, кроме того, есть четыре височных кольца,
на которых изображено удвоенное количество собак-хортов: позади
каждой собаки, стоящей на линии "горизонта", с внешней стороны дужки
(там, где на стандарте размещали солнечное колечко) помещена фигура
еще одной собаки, завершающая кружевной бордюр. Таким образом на
кольцах этого типа наверху помещены две пары собак: две "утренних"
и две "вечерних" или иначе: две дневных (в середине щитка) и две
ночных (по бокам). Если бы в русском фольклоре существовало такое
определение сумерек (перехода от дня к ночи), какое дает французская
поговорка "entre loup et chien" (время "между волком и собакой"), то
все было бы решено вполне корректно -- срединные животные были бы
дневными хортами-собаками, а боковые -- ночными хортами-волками.
Большой интерес представляет такое новшество белевского
мастера, как "решетка" между конями и "водным" узором. При
внимательном (мастер не стремился к демонстративной четкости)
рассмотрении этого нового элемента видно, что здесь даны в двух
горизонтальных рядах изображения, близкие к вышивке. Нижний ряд,
лежащий непосредственно на городках, дает нам пять ромбов, а верхний
ряд -- семь сильно схематизированных женских фигур с поднятыми вверх
руками. Головы и треугольные юбки показаны посредством прорезей, а
руки обозначены (на восковой модели) вертикальными желобками. Оба
ряда можно истолковать так: ромбы -- устойчивый символ земли;
женщины с поднятыми, к небу руками -- праздничная процессия, в
данном случае, очевидно, в честь солнца, идущего по небу.
С двух сторон эта ритуальная сцена обрамлена странной
композицией из двух крупных колец (крупнее всех на украшении) и
третьей овальной или угловатой части ниже колец. Эта композиция как
бы продолжает с двух сторон дужки височного кольца и, углубляясь в
его верхний край, дотягивается до края "водного" рисунка. На
некоторых височных кольцах отверстие в нижней части композиции
обведено дополнительным контуром, что придает всей композиции облик
ящера с двумя огромными глазами и вытянутой мордой. Два таких ящера
проникают от дужки-"небосвода" вниз, ниже уровня земли (обозначенной
рядом ромбов), и упираются мордами в сложную стандартную систему
небесной и земной воды. Такие "ящеры" (см. рисунок 89) есть на всех
кольцах белевского клада, кроме одного, являющегося здесь
представителем стандарта.
В пользу такой космогонической расшифровки косвенно
свидетельствует то, что незадолго до изготовления вещей белевского
клада были созданы алтарные арки Вщижа с их небосводом, птицами,
языческим Семарглом и двумя огромными лупоглазыми ящерами.
Расстояние от бывшего Белевского уезда (точное местонахождение клада
неизвестно) до Вщижа всего 3-4 дня пути. Мастер мог видеть модель
вселенной в храме этого княжеского города. Гадать на эти темы не
стоит, так как и вщижские арки и белевские височные кольца отражали
одни и те же представления русских людей XII -- начала XIII в. о
структуре мира.
Отличие белевского мастера от вщижского скульптора
Константина заключается в том, что Константин дерзнул выставить свое
языческое мировоззрение напоказ и, не таясь, отлил на своих
церковных арках и ящера и Семаргла, а белевский ювелир необычайно
искусно завуалировал языческую сущность своих великолепных колец.
Только животные и птицы здесь сделаны явно, а остальные его
нововведения -- женщины в ритуальном танце, ящеры -- изготовлены им
так, что они незаметны на первый взгляд и нужно рассматривать все
детали, сопоставлять разные отливки, чтобы проникнуть в интересный
и смелый замысел мастера.
Считаю несомненной принадлежностью к изделиям этого же
мастера единственного кольца из Шмарова (б. Лихвинский уезд,
соседний с Белевским) 35. Здесь есть и решетка из семи женских фигур
с поднятыми руками и пышный кружевной подзор на лопастях, но над
решеткой отлиты не кони и не собачки, а две птицы, а между ними
крестообразная фигура из четырех колец, возможно изображающая все
четыре позиции солнца: утро, полдень, вечер и ночной подземный путь
солнца (?). Возможно, что той же руке принадлежит и височное кольцо
из Коломенского района (Богдановка) 36.
Следует сказать, что в земле Вятичей височных колец богатого
убора, подобных белевским, очень немного и они встречаются обычно
единичными экземплярами, а не комплектами. Кроме работ белевского
мастера, есть и подражания им, отличающиеся "бессмысленностью"
решетки и другими деталями.
Этапы насыщения семилопастных височных колец языческим
содержанием примерно таковы:
1. Появление двух "солнечных" колечек -- вторая половина XII в.
2. Морды ящера -- конец XII -- начало XIII в.
3. Богатый убор с коньками, птицами и хороводом женщин --
первая треть XIII в. 37
35 Арциховский А. В. Курганы вятичей, с. 50-51, рис. 39.
36 Арциховский А. В. Курганы вятичей.
37 Равдина Т. В. Типология и хронология..., с. 140; Седова М.
В. Ювелирные изделия древнего Новгорода (X -- XV вв.). М., 1981, с.
13, рис. 2. Височное вятическое кольцо с двумя колечками найдено в
слое 1177-1197 гг., а кольцо с решеткой в слое 1197-1224 гг.
Ящеры попали на височные кольца примерно в то же самое время,
когда мастер Константин поместил огромных ящеров на алтарной сени.
Это свидетельствует о том, что языческое миропонимание не исчезло в
XII в., а наоборот, искало новых форм выражения себя.
Большой интерес представляет обзор географического
распределения тех языческих черт, которые прослежены выше.
Сопоставим их с границами княжеств XII -- XIII вв. При нанесении на
карту единичных находок, изготовленных в мастерской белевского
"кузнеца серебру", мы видим, что они размещаются в северо-восточной
части Черниговского княжества (где находился и Вщиж) вдоль Средней
Оки.
В сопредельной с Черниговской Владимиро-Суздальской земле
есть только подражания богатому убору белевских мастеров (Иславское,
Чернево).
Особенно интересно то, что знаки на лопастях (знаки
плодородия и роженицы) встречены только в окрестностях Москвы.
Поневоле приходится обращаться к своей старой работе о районах сбыта
русских деревенских ремесленников XII -- XIII вв.38 На основании
анализа литейной техники удалось установить, во-первых, вещи,
отлитые в одной литейной форме (т. е. изготовленные в одной
мастерской), а, во-вторых, определить на карте район сбыта продукции
одной мастерской. При сопоставлении этой карты с картой находок
семилопастных с языческими знаками оказалось, что последний ареал
очень точно соответствует одному из районов сбыта: Москва в центре,
Фили на западе, Косино на востоке, Царицыно на юге, нижнее течение
Яузы на севере. Одно височное кольцо этого мастера найдено в самом
московском Кремле. Подражания белевскому мастеру встречены в
соседнем районе сбыта другого мастера, жившего несколько выше Кремля
по Москве-реке.
38 Рыбаков Б. А. Ремесло древней Руси, с. 442-448; рис.119
(карта).
Московский мастер, выводивший своим резцом языческие символы
на украшениях, жил примерно во времена Юрия Долгорукого и Андрея
Боголюбского, а белевский мастер, работавший в одном из "верховских"
городков (Воротынск, Козельск, Серенск?), жил, почти несомненно,
позже, в эпоху Всеволода Большое Гнездо или его сыновей, когда
создавалось "Слово о погибели земли русской".
"Гривная утварь". Украшения шеи, горла и груди древнерусской
женщины были необходимым дополнением к заклинательной орнаментике
головного убора и всей одежды в целом. Одежда готовилась из льна и
шерсти при помощи такого количества предметов, оснащенных солнечной
символикой (вальки, трепала, прялки, ткацкий стан), что суеверные
язычники вполне могли положиться на ее антивампирскую надежность.
Там, где кончалась тканая одежда, где обнажалось неприкрытое тело
человека (кисти рук, ноги, шея), ткань рукава, подола, ворота
покрывалась заклинательной (с позднейшей точки зрения --
орнаментальной) полосой с символической вышивкой, которая должна
была препятствовать проникновению незримых злыдней под одежду,
непосредственно к телу.
Самым уязвимым, самым беззащитным по отношению к нечистой
силе оказывались наиболее открытые части тела -- шея и лицо. Голова,
лицо и сердце являются главной сущностью человека -- здесь
сосредоточено все важнейшее: и центр жизнедеятельности (сердце) и
все средства познания многообразия мира человеком: органы зрения,
слуха, вкуса, обоняния. Сердце прикрывалось целым набором амулетов
(см. следующий параграф), а на шее и около нее сосредоточивалось у
каждой женщины множество бус, ожерелий, подвесок с несомненным
магическим содержанием.
Количество древнерусских нагрудных украшений огромно; оно
исчисляется тысячами комплектов, извлеченных из курганных погребений
XI -- XIII вв. К сожалению, этот материал еще не приведен в
надлежащую всеохватывающую систему; мы располагаем лишь описаниями
отдельных типов вещей (в редких случаях с широким общерусским
охватом), тогда как необходим учет комплексов, их сопоставление,
взаимная хронология и многое другое, что позволит выявить как
локальные, племенные, отличия, так и общерусские явления, а также и
тенденцию эволюции форм и семантики. Вероятно, именно на этом
массовом материале удастся в будущем проследить постепенное
оттеснение языческого заклинательного начала началом эстетическим.
Вероятно, выявятся еще два обстоятельства, важные для истории
крестьянского быта: наличие свадебного комплекта (особый свадебный
убор существовал вплоть до XX в.) и передача украшений по
наследству.
Можно поставить еще один вопрос: не являлись ли некоторые
ожерелья с особыми языческими признаками не постоянным, хотя бы и
праздничным, украшением, а особым, ритуальным, предназначенным для
каких-либо особых игрищ. Для городских (боярских и княжеских)
украшений такими являются, например, пластинчатые браслеты с
изображением на них русалий, предназначавшиеся не для обычных
выходов княгини (на них представлено жертвоприношение Семарглу!), а
для тех же русалий 39.
39 Рыбаков Б. А. Русалии и бог Симаргл-Переплут. -- Сов.
археология, 1967, № 2,
Некоторые признаки такой смысловой предназначенности, как мы
увидим, есть и в курганных инвентарях. К сожалению, степень
сохранности ожерелий и качество раскопочной техники не всегда
позволяют выявить количество ожерелий у одной погребенной, их
взаимное положение и состав ожерелий.
Пока не осуществлены высказанные выше пожелания, ограничусь
самым общим рассмотрением "гривной утвари". Одним из важных разделов
этой утвари являются разнообразные бусы, изготовленные, как правило,
вне пределов сельской округи: стеклянные бусы делались в городах
(Киеве, Новгороде, Полоцке, Рязани и др.), а каменные (из
халцедона-сердолика, горного хрусталя и др.) были привозными из
заморских ближневосточных стран. Мы знаем, что на Востоке с теми или
иными камнями связано множество поверий, но насколько ценилось
магическое значение камней в русской деревне, нам не известно.
Металлические подвески можно грубо разделить на две
категории. В одну из них войдут типичные, наиболее распространенные
подвески в форме круга, креста или лунницы, а в другую -- более
редкие, обладающие особенностями и требующие специального разбора.
Что касается первой категории, то о них мне в 1951 г.
приходилось писать: "... наиболее понятны многочисленные лунницы в
форме полумесяца и подвески, имитирующие солнечный диск с лучами. То
обстоятельство, что в одном ожерелье мы встречаем иногда по
нескольку "солнц" и по нескольку "лун", может говорить уже о
переходе от магического начала к эстетическому, орнаментальному" 40.
"Связь круглых подвесок с солнцем подчеркнута наличием лучей или
креста, а иногда и птицы".
"С культом солнца связаны, быть может, и миниатюрные
бронзовые топорики, постоянно украшенные солнечными символами" 41.
В 1960 г. эту тему развил В. П. Даркевич, сосчитавший
количество лучей на круглых "солнечных" подвесках. Их в большинстве
случаев оказалось 12, что дало полное основание автору связать их с
12 месяцами солнечного года 42.
Лунницы (полумесяц, обращенный рогами вниз) зачастую
рассматриваются как девичье украшение. В. П. Даркевич, исходя из
того, что в русском фольклоре "месяц" (луна) является мужским
началом, считает возможным дать такое толкование разряду
подвесок-лунниц с крестом: "Композиция из луны с крестом могла
обозначать неразрывность, единство мужского (месяц) и женского
(солнце) начал, быть символом супружества" 43.
Луна и солнце могли означать и другое -- "день" и "ночь". А
тогда меняется и содержание композиции. Русские деревенские лунницы
XI -- XIII вв. были подражанием привозным восточным образцам IX --
X вв., украшенным тончайшей зернью. Деревенские мастера многое
упростили и придали иной облик украшению. Думаю, что без особых
натяжек можно предложить следующее истолкование лунниц XI -- XII вв.
Не исключая совершенно лунарную символику, обращу внимание на то,
что в славянских географических широтах луна никогда не смотрит
рогами вниз.
Возможно, что лунницы (сохраняя заклинательное обращение к
ночному светилу) изображали вместе с тем небосвод с его двумя
небесами, нависающий над землей, которая представлена или в виде
крестообразно расположенных пяти квадратиков или в виде креста.
Слово "окрест" означает "округу", пространство вокруг нас.
На лунницах мы видим и три позиции солнца, и косые линии
дождя (?), и зигзаговые или капельно-точечные линии,
свидетельствующие о стремлении изобразить два слоя небесной воды:
верхний слой -- "хляби небесные" и нижний слой -- "прапруда" --
дождь, изливаемый на землю. Синтез трех элементов мифа дают
подвески-кольца, у которых внутри кольца-солнца помещена
лунница-небосвод, а под лунницей четкие, крестообразно расположенные
квадратики земли 44.
40 Рыбаков Б. А. Прикладное искусство и скульптура. -- В кн.:
История культуры древней Руси. М.; Л, 1951, т. II, с. 402; О
лунницах см. работу В. В. Гольмстен "Лунницы" ("Отчет Исторического
музея за 1915 г.").
41 Рыбаков Б. А. Прикладное искусство Владимиро-Суздальской
Руси. -- В кн.: История русского искусства. М., 1953, т. I, с.
510-511.
42 Даркевич В. П. Символы небесных светил в орнаменте древней
Руси. -- Сов археология, 1960, № 4, с. 62. Сводная таблица подвесок
на с. 57.
43 Даркевич В. П. Символы.., с. 61.
44 Седов В. В. Восточные славяне..., с. 224, табл. L, рис. 6.
Кроме небесных символов, на подвесках есть такие элементы,
которые позволяют считать их символами земли. Таковы косые решетки,
которые дают в центре архаичный узор из четырех косо поставленных
квадратов.
Большой интерес представляют подвески со знаком христианского
процветшего креста и подвешивавшиеся к ожерелью (или носившиеся на
теле) миниатюрные иконки с изображением богородицы. Найденные в
курганах рядом с многочисленными языческими символами, они
свидетельствуют, во-первых, о начале проникновения христианства в
русскую деревню XII -- XIII вв., а, во-вторых, они удостоверяют то,
что все синхронные им предметы, находившиеся с ними в одних
ожерельях, тоже рассматривались людьми того времени как священные
символы.
Здесь перед нами встает вопрос о многочисленных
нехристианских крестиках, которые часто входили в состав ожерелий.
Они будут рассмотрены ниже в разделе о "четырехчастной композиции".
Среди более или менее однородных наборов ожерельных подвесок
встречаются редкие образцы, требующие особых пояснений. Таковы,
например, подвески из радимичских курганов XI -- XII вв.,
воспроизводящие значительно более ранние звездчатые подвески VIII --
IX вв.45
Интересны подвески из тех же радимичских курганов в виде двух
пересекающихся букв "О" (одна из них горизонтальная). Оба овала
покрыты выпуклыми точками 46. Мы уже видели подобный знак на
вятических височных кольцах, где он замещал стандартный знак земного
плодородия. Этот двуовальный знак известен в древностях западной
Балтики. У балтийских славян есть крестообразные подвески, на
которых данный знак четырежды повторен на каждой 47. Очевидно, это
-- один из вариантов важного символа плодородия; его
восточнославянские истоки неясны. Значение точек на двуовальных
подвесках разъясняется другим типом радимичских подвесок, которые
имеют вид змеи и тоже сплошь покрыты такими же точками-каплями. По
всей вероятности, эти каплеобразные точки означают дождь, капли
дождя, что так неразрывно связано со змеями. Эти оба типа подвесок
не единичны и представляют местный вариант аграрно-магической
символики. Кроме четких образцов с каплями, есть простенькие,
повторяющие лишь общий контур.
45 Рыбаков Б. А. ..., с. 92, табл. VI-28
46 Рыбаков Б. А. Радзiмiчi..., рис. 25-26.
47 Wikinger und Slawen.
С аграрной магией, и в частности симильной магией вызывания
дождя, связаны подвески-чашечки. Миниатюрные чашечки -- без дна. Н.
И. Савину удалось в 1920-е годы наблюдать в Дорогобужском районе
Смоленской области обряд поения земли женщинами сквозь подобные
бездонные чашечки. Это разъяснило смысл курганных находок.
В разных местах встречаются круглые подвески с фигурой птицы
внутри кольца. Птица показана в условной позе широкого полета в
полный размах крыльев. На вщижских арках птицы в таком виде помещены
внутри солнечного круга в полдневной позиции солнца.
Так же в разных местах (Суздальщина, Черниговщина и др.)
найдены литые в одной форме небольшие подвески с изображением
мужчины, летящего на двух лебедях. Трудно сказать, какой
сказочно-мифологический сюжет отражен в этой интересной композиции.
Полет на лебедях на север, к гиперборейцам известен из мифа об
Аполлоне. В русских сказках ("Гуси-лебеди") повествуется о том, как
гуси-лебеди унесли мальчика, но здесь не мальчик, а усатый мужчина.
В городском прикладном искусстве и в храмовой скульптуре известен
сюжет "вознесение Александра Македонского" на двух птицах (см.
ниже). Он являлся как бы зрительным воплощением идеи неба и
помещался в верхней части орнаментируемого пространства: наверху
диадемы, в арке закомары.
Пожалуй, самыми интересными подвесками, смысл которых
разъясняется при ознакомлении с этнографическими данными, являются
круглые подвески с головой быка из земли Радимичей 48. Они впервые
найдены во Влазовичах (Власовичах) близ Суража на Ипути, но есть и
в других местах. Схожая подвеска известна и среди материалов
владимирских курганов. Ободок подвески по всему кругу украшен
выпуклыми точками. Середина круга занята огромной головой быка;
четко профилированы рога, уши, большие круглые глаза. На лбу быка
двойной треугольный знак, опускающийся углом книзу. Морда быка с
рогами занимает всю внутреннюю поверхность подвески. (Рис. 118).
Совершенно исключительным является то, что вокруг головы быка
расположено семь женских фигурок. Они изображены крайне схематично
-- так, как обычно вышивают женские фигуры на второстепенных местах
вышивки: круглая голова и удлиненно-треугольная юбка. Расположены
они подчеркнуто разбросанно, без привычного порядка: три женщины
помещены между рогами, причем одна из них показана вниз головой. Две
пары фигурок находятся с обеих сторон морды быка. В каждой паре одна
фигура вверх головой, а другая -- вниз. Эти "таврокатапсии" связаны
с какими-то особыми игрищами в честь быка или тура. Еще Прокопий
Кесарийский писал о том, что славяне приносят в жертву
богу-громовержцу быка. Жертвоприношения быка Илье Пророку
(заменившему Перуна) сохранились на русском Севере вплоть до XIX в.
49
У белорусов и у южных славян известен старинный обряд
"турицы". С этим обрядом, очевидно, связан и тот танец, который
упомянул в одном из своих стихотворений Г. Р. Державин:
Танцуем... танцуем и бычка.
ОбычныйТерминСписокопределенийАдресЦитатыФорматированныйТанцуем... танцуем и бычка.
У потомков дреговичей и у потомков вятичей до XIX в.
сохранился девичий головной убор с большими "турьими" рогами из
соломы и ткани (окрестности Турова. Материалы этнографа Супинского).
В быв. Калужской губернии у девушек в конце XIX в. существовал
праздничный головной убор с огромными рогами. Священники не пускали
таких "рогатых" невест в церковь 50.
Этнографический материал по культу быка-тура огромен 51. В
Киеве была "Турова божница". Во многих местах южной части лесной
зоны есть села с названием Туровичи. Турьи рога, как мы видели, были
священным ритуальным сосудом.
Культ быка, "буй-тура", "яр-тура" был культом ярой жизненной
силы и сохранялся очень долго. Для расшифровки изображений быка и
семи девушек очень важны сведения об игре в быка, сообщенные
известным исследователем "нечистой силы" С. В. Максимовым. Игра
производилась на святки (с 25 декабря по 6 января) в избах,
отводимых для посиделок и игрищ.
"Игра в быка. Парень, наряженный быком, держит в руках под
покрывалом большой глиняный горшок с приделанными к нему настоящими
рогами быка. Интерес игры состоит в том, чтобы бодать девок и притом
бодать так, чтобы было не только больно, но и стыдно. Как водится,
девки подымают крик и визг, после чего быка убивают: один из парней
бьет поленом по горшку, горшок разлетается, бык падает и его уносят"
52.
Примерно такие "турицы" и изображены на замечательных
радимичских подвесках. Вполне возможно, что особое ожерелье с
головой быка и "девичьим переполохом" одевалось не повседневно, а
именно в дни туриц, русалий 6 января, которыми завершались зимние
святки и их последний цикл -- "велесовы дни" 53.
"Hа тых же своих законопротивных соборищах, -- говорится в
одном из поучений против язычества, -- и некоего Тура-сатану ...
воспоминают и иныи лица своя и всю красоту человеческую, по образу
и по подобию сотворенную, некими харями или страшилами (масками)
закрывают" 54.
Маска быка или тура -- обязательная принадлежность как
святочного, так и масленичного гулянья ряженых. У южных славян
"турицами" называют весенний карнавал на масленицу, а y западных
"турицы" отмечаются около троицына дня 55.
48 Рыбаков Б. А. Радзiмiчi..., с. 92, табл. VI, рис. 4, с.
122. Четкая фотография опубликована мною в "Истории русского
искусства". М., 1953, т. I, с. 68.
49 Макашина Т. С. Ильин день и Илья-пророк в народных
представлениях и фольклоре восточных славян. -- В кн.: Обряды и
обрядовый фольклор. М., 1982. с. 91.
50 Материалы по этнографии России.
51 Никольский H. М. Жiвёлы y звычаях, i абрадах, i вераньях
беларускага сялянства. Менск, 1933.
52 Максимов С. В. Нечистая неведомая и крестная сила. СПб.,
1903, с. 298. Большой этнографический материал приведен в
превосходной работе В. И. Чичерова: Зимний период русского народного
земледельческого календаря XVI -- XIX вв. (Очерки по истории
народных верований). М., 1957.
53 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, с. 429-430.
54 Гальковский H. М. Борьба христианства..., т. II, с. 187.
55 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, с. 431.
Гривны, обручи (браслеты), перстни. Гривны -- массивные
проволочные или пластинчатые украшения надевались на шею, очевидно,
поверх ожерелий из бус и подвесок. Символическое значение гривен не
подлежит сомнению, но вместе с тем и не поддается раскрытию. Гривны
носили не только женщины, но и мужчины, для которых это было не
только украшением, но и признаком знатности. Возможно, что гривны
отмечали семейное положение девушки или женщины, но археологические
находки предметов не всегда могут быть соотнесены с возрастом
погребенной, определение которого могло бы помочь нам.
К этому же разряду относятся кольца и перстни, которые до
наших дней сохраняют свое символическое значение (обручальные
кольца).
Со свадебной символикой следует связать хорошо изученные Т.
В. Равдиной вятические перстни. Исследовательница датирует их узкой
датой (кстати, совпадающей с датой символических знаков на
семилопастных) -- "начало третьей четверти XII в." 56
Hа перстнях мастера выделяли 1-3-5 орнаментальных
квадратиков; если был только один квадратик, то изображалось или
солнце или косой крест с пересеченными концами. Чаще всего на
перстнях было по три квадратных клейма; в среднем помещали солнце
или крест или же знак земли с четырьмя точками. При пяти клеймах
крайние обычно повторяли рисунок соседних. Заклинательный смысл
перстней с тремя позициями солнца и знаками земли раскрывается сам
собою. Вероятно, они были обручальными кольцами эпохи Юрия
Долгорукого. Из особых колец следует упомянуть привозной перстенек
из кургана в Туровичах, на щитке которого сделана греческая надпись.
Вероятно, это -- трофей, привезенный радимичским воином во время
похода на Царьград в 907 г. (в других походах радимичи не
участвовали) 57. Надпись на щитке: ePweHeI, т. е. 'ерvеnei -- "скажу
ей-ей!". Это формула клятвы, удержавшаяся в русском языке вплоть до
XIX в. Церковь возражала против божбы ("ей-богу") и допускала только
"ей-ей":
"Hе клятися отинудь никако же: ни небом, ни землею, ни иною
коею клятвою и до главы своея и влас, разве "ей-ей, ни-ни!" 58.
Запрещение божбы существовало долго. В романе
Мельникова-Печерского "В лесах" монахиня на предложение побожиться
отвечает: "Божиться не стану, -- ответила Таифа, -- и мирским
великий грех, а иночеству паче того. А если изволишь, вот тебе по
евангельской заповеди, -- продолжала она, поднимая руку к иконам, --
буди тебе ей-ей! И положив семипоклонный начал, взяла из киота
медный крест и поцеловала" 59.
Кое-что дают для нашей темы и браслеты, на которых
прослеживается такая привычная тема, как "земля и вода", выражаемая
древним определением "Мать-сыра-земля". Hа пластинчатых браслетах
часто изображалась плетенка, символизирующая водную стихию, и рядом
с водой -- ромбы с точками, означающие землю, поле.
Широко были распространены витые и плетеные проволочные
браслеты. Здесь без всякой орнаментации, самим переплетением
проволок достигался эффект волнистости, связывающий "обруч" с идеей
воды. Как увидим в следующей главе, городские браслеты были прочно
связаны с праздниками русалий, молений о воде.
Наборы языческих оберегов. Давая общие сведения о русских
курганных амулетах в 1951 г., я назвал их "языческими письменами"
60. Дальнейшая разработка этой темы, к которой подключились и другие
исследователи (В. М. Василенко, В. В. Седов и др.), показала
правомерность такого определения: если отдельный предмет выражал
какое-то единичное понятие, соответствующее слову в человеческой
речи, то комплекс предметов представлял уже целую фразу. (Рис. 90).
Поясню это примером. Среди различных комплектов
амулетов-оберегов (носившихся на груди, y сердца), есть наборы,
скрепленные металлическими цепочками и подвешенные к полукруглой
дужке, что гарантирует целостность комплекса. Возьмем один из таких
комплексов, выбрав наиболее полный 61.
56 Равдина Т. В. Древнерусские литые перстни с геометрическим
орнаментом. -- В кн.: Древняя Русь и славяне. М., 1978, с. 133-138.
Семантики изображений автор не касалась. Сводная таблица на с. 134.
57 Рыбаков Б. А. Радзiмiчi.., т. VI -- р. 20, с. 146.
58 Гальковский H. М. Древнерусские слова... Поучение
митрополита Фотия. М., 1913, т. II, с. 108, 1408-1431.
59 Мельников-Печерский П. П. Собр. соч. СПб., 1909, т. II, с.
369.
60 История культуры древней Руси, М., 1950, т. II, с. 400.
61 Рыбаков Б. А. Ремесло древней Руси, с. 156, рис. 29; Он
же. Прикладное искусство и скульптура. -- В кн.: История культуры
древней Руси. М., 1951Г т. II, с. 403, рис. 194 -I. Набор из
радимичского кургана в Коханах.
К полукруглой дужке на литых цепочках прикреплены следующие
предметы:
1. Птица в спокойной позе (сидит в гнезде?).
2. Ложка.
3. Ложка.
4. Пилообразный предмет, являющийся, как показывают другие
наборы, упрощенным изображением челюсти хищника.
5. Ключ.
Наличие двух ложек сразу определяет, что мы имеем дело с
двумя лицами, которым выражается пожелание быть сытыми. Ложка как
символ сытости и шире -- благосостояния вообще, хорошо известна в
русском фольклоре.
Амулет-талисман предназначался "молодым", двоим людям,
вступающим в брак. Общеизвестно, что молодых женщин (даже замужних)
часто хоронили в их свадебном уборе, во всей полноте узорочья и
оберегов. Свадьба, уход девушки из-под покровительства родного дома,
своих дедов-предков в чужую семью жениха, всегда была обставлена
бесчисленным количеством обрядов, заклинаний, особых деталей одежды.
Вполне естественно подобные наборы амулетов расценивать не как
украшение, а как овеществленное заклинание: "Будьте всегда сыты!"
Птица очень часто является символом семьи. Недаром до наших дней
бытуют выражения: "семейное гнездо", "она устраивает свое
гнездышко", "свила гнездо" и т. п.
Символика ключа элементарна -- сохранность имущества
новообразующейся семьи. Челюсть хищника тоже не вызывает сомнений.
Еще в каменном веке люди носили в качестве амулетов просверленные
зубы и когти хищников; они должны были отгонять от человека
всяческое зло. Все предметы данного набора выражают примерно
следующую благожелательную фразу:
Да будет счастлива ваша семья,
Будьте оба вы в сытости и благоденствии,
Пусть неприкосновенным будет ваше имущество,
И да разъедутся враги ваши!
Заклинание, заговор, молитвенное обращение к богам нужно
произносить многократно, так как "злые ветры" всегда могут нанести
на человека новую напасть, а заклинательный орнамент на одежде --
письмена, набор символических предметов -- письмена, которые
постоянно отгоняют зло и воздействуют на силы добра, обеспечивающие
благополучие человека.
Фактор времени, проекция добрых пожеланий в будущее, тоже
учтены мудрым мастером-"хранильником" -- полукруглую дужку (это
устойчивая форма) следует рассматривать как схематичное изображение
небосвода. Хорошо известные вам по многочисленным примерам три
позиции солнца показаны и здесь: y основания дужки-небосвода
помещены два колечка, аналогичные солнечным кругам семилопастных.
Третье, полдневное, кольцо помещено, как и следует, в высшей точке
небосвода. От этого полуденного солнца идет вниз вертикальная
полоска, как бы напоминающая нам, что "полудень чтут ..." Кольца
ниже горизонтальной "земли" могут означать ночной ход солнца (?).
Следовательно, ко всем добрым пожеланиям мы должны добавить
еще: "И да будет так, пока солнце светит!" Учитывая, что под "белым
светом" подразумевалось не только небо, осиянное солнцем и
"неисповедимым" дневным светом, но и вся земля, природа и люди
("один-одинешенек на всем белом свете"; "пойду искать по свету, где
оскорбленному есть чувству уголок ..." и т. п.), эту формулу можно
дать и в таком виде: "И да будет так, доколе свет стоит!"
Верхняя основа набора амулетов ("белый свет") не всегда
такова, как описанная выше; иногда она бывает более упрощена, а в
северных районах, где долго держались архаичные представления о
лосихах или важенках, являвшихся небесными хозяйками-рожаницами,
основа для комплекта оберегов украшена двумя оленьими головами, рога
которых переплелись, образуя четыре квадрата и тем самым соединяя
идею неба с идеей земли, т. е. опять-таки изображая "белый свет". Из
земли, между мордами оленей, вырастает нечто вроде мирового "древа
жизни", достигающего неба; иногда y древа обозначены два корня.
Отмеченные выше квадратики земли образованы и кроной этого древа и
рогами важенок северного оленя, сливая воедино земное с небесным. В
центре композиции и на ее вершине помещены солнечные знаки --
концентрические круги. Из подвесок-амулетов уцелела только одна
ложечка 62.
62 Спицын А. А. Гдовские курганы в раскопках В. H. Глазова --
MAP, 29, СПб., 1903, табл. XXI, 6.
Hа юге существовал еще один вид основы для подвешивания
амулетов, сделанной в форме якоря. Наверху -- три кольца, как бы
солнце в трех дневных позициях; внизу -- солнце в трех ночных,
подземных позициях. Верхний и нижний ярусы соединены стержнем,
сплошь покрытым изображениями семи солнц (курган в Кветуни близ
Новгорода Северского).
Учитывая разрозненность комплексов и их неполноту, рассмотрим
наборы амулетов по их составным частям.
Ложки. Этот упрощенный символ благополучия является наиболее
частой находкой в составе наборов амулетов, встречаясь в разных
сочетаниях других оберегов.
Черенок ложки бывает изогнут. Многие ложки орнаментированы.
Самым частым, и очень стандартным, является покрытие всего черенка
от чаши до петли плетенкой, в просветах которой помещены солнечные
знаки -- кружок с точкой в центре. Солнечных кружков, окруженных
извивами плетенки, всегда точно семь.
Есть ложечка, на черенке которой изображен ромб с четырьмя
точками внутри, т. е. знак земли. Уникальной является находка в
Кветуни на Десне: y ложечки-цедилки верхняя часть черенка украшена
человеческой фигуркой, задрапированной в какой-то орнаментированный
убрус 63.
63 Седов В. В. Восточные славяне..., с. 290, табл. LXXVII,
рис. 8.
Чашечки этих миниатюрных ложек (общая длина ок. 9 см)
изготовлены так, что ими можно черпать жидкость. Вполне возможно,
что они употреблялись при знахарских процедурах, когда следовало
поить больного "живой водой", водой "с уголька" и т. п. Для этих же
целей, вероятно, употреблялись и маленькие бронзовые чашечки с
крестом на дне.
Ключи. Ключи-амулеты си
В силу исторических условий своего развития деревня оказалась
хранительницей народных традиций и архаичных пластов древней
культуры.
Христианство, которое в XI -- XII вв. многое видоизменило в
культуре русского города, долгое время не проникало в деревню, и
сельскую Русь (особенно лесную, северную) долго еще можно было
считать языческой.
Исчезал под воздействием духовенства наиболее противоречащий
христианской обрядности и наиболее заметный для властей обычай
трупосожжения. Судя по раскопкам курганов, кремация в основном
исчезла в XI в., но когда Нестор на рубеже XI и XII вв. писал
введение в свой летописный свод и снабдил его описанием древних
славянских обычаев, где подробно говорилось о том, как производился
обряд сожжения умерших, то киевский историк вынужден был добавить:
"еже творят вятичи и ныне".
Археология подтвердила правильность этого примечания: y
вятичей курганы без сожжения появляются только в XII в. О силе
язычества на "украинах" киевской державы пишут и авторы поучений
против язычества и летописцы, отмечающие власть волхвов над
народными массами. О тех же вятичах говорит киево-печерский патерик,
повествуя о монахе-миссионере Кукше, убитом язычниками в вятических
лесах.
О язычестве в Вятической и Радимической землях говорит еще
одно наблюдение: в двух городах, имевших прямое отношение к вятичам
и радимичам, вплоть до середины XII в. строились церкви с
баптистериями для крещения взрослых людей. Такова Успенская церковь
Елецкого монастыря в Чернигове и полностью аналогичная ей церковь в
Старой Рязани. Это означает, что во времена Юрия Долгорукого в этих
местах еще продолжался процесс крещения в новую веру. Hе следует
думать, что только вятичи или радимичи были такими косными в этом
отношении. Нестор, упомянув о трупосожжениях y вятичей, добавил:
"Си же творяху обычая и Кривичи и прочий погании, не ведуще закона
божия, но творяще сами собе закон" 1.
Для обширной Новгородской земли с ее смешанным
славяно-финским населением мы располагаем и более поздними
свидетельствами о сохранении язычества. Митрополит Макарий,
сподвижник Ивана Грозного, писал в Водскую пятину: "Молятся по
скверным своим мольбищам древесом и каменью... Жертву и питья жрут
и пиют мерзким бесом ... и мертвых своих они кладут в селех по
курганом и по коломищем ..., а к церквам на погосты тех своих
умерших они не возят схраняти". В 1501 г. митрополит Симон писал в
Пермь: "А кумиром бы есте не служили, ни треб их не принимали ... и
всех богу ненавидимых тризнищ не творите идолом ..." 2.
Обычай насыпать курганы над урной с прахом или над
захороненным покойником был древним, языческим, но он почти не
противоречил христианским нормам и сохранялся по всей Руси до XII --
XIII вв., а кое-где и до XIV в. Тысячи курганов, исследованные
археологами, обогатили науку огромным количеством бытовых предметов:
посудой, принадлежностями одежды и, что для нас особенно важно, --
женскими украшениями. К величайшему сожалению, до нас почти не дошла
вышивка на ткани, и мы лишены возможности сопоставить весьма
архаичные сюжеты этнографической вышивки с подлинными материалами
средневековья.
Обильный этнографический материал позволяет построить такую
схему женского восточнославянского наряда в целом: 3
Головной убор. Идея неба; изображение солнца, мирового древа,
устремляющегося в небо. Изображения птиц. Сами названия женских
головных уборов являются "птичьими": "кокошник" (от "кокошь" --
петух, кур), "кика", "кичка" (утка), "сорока" и т. п. Частые в
археологическом материале головные венчики, окружающие голову, могут
рассматриваться, как символ "кругозора" -- горизонта, круговой линии
соприкосновения неба с землей (?)
1 Шахматов А. А. Повесть временных лет. Пг., 1916, с. 13.
2 Гальковский H. М. Борьба христианства с остатками язычества
в древней Руси. Харьков, 1916, т. I, с. 129.
3 Рыбаков Б. А. Макрокосм в микрокосме народного искусства.
-- Декоративное искусство, 1975, № 1 и 3.
Подвески к головному убору. В этнографии и в материалах XVI
-- XVII вв. широко известны "рясны", вертикальные полосы, идущие от
кокошника вниз (до груди или даже до пояса). В металлических
изделиях этого типа часты изображения птиц, а в бисерных ряснах, как
бы имитирующих дождевые струи, обязательны "пушки", изготовленные из
лебяжьего или гусиного пуха. В археологическом материале, как увидим
в дальнейшем, в качестве таких подвесок к ряснам служили так
называемые колты с изображениями русалок, семарглов или грифонов, т.
е. во всех случаях посредников между небом и землей. С головным
убором связаны височные кольца, хорошо известные в археологическом
материале. Кроме того, по этнографическим и археологическим данным
известны декоративные сетки (бисерные, серебряные), которые
пришиваются к головному убору сзади и, опускаясь вниз на плечи,
закрывают шею женщины сзади. Подобная сетка изображена на фреске XI
в.
"Гривная утварь" -- ожерелья, украшения шеи и груди. В
этнографическом (плохо изученном) материале известны наборы бус,
"мониста" из старых монет; специальных украшений мало.
Археологический материал очень обилен. Кроме шейных металлических
гривен, разнообразных импортных бус обнаружено множество ожерельных
подвесок разнообразного содержания. Есть солярные знаки, есть
изображения луны, крестовидные подвески (не связанные с
христианством), подвески с изображениями зверей и птиц и подвески --
"крины".
Обилие символических украшений-оберегов около ворота одежды
и на шее объясняется тем, что здесь -- наименее защищенная часть
тела. Голова покрыта кокошником (или его обыденной заменой), корпус
и ноги женщины закрыты одеждой, при изготовлении которой щедро
применялась заклинательная символика, а шея во всех случаях
оставалась открытой. Поэтому древние язычницы и их "пра-дщери" XIX
в. стремились обезвредить этот опасный участок изобилием
апотропеических подвесок.
Обереги-амулеты. Самой интересной для нас частью женских
украшений являются специальные амулеты-обереги, включавшиеся в
ожерелье или подвешивавшиеся особо (в области сердца или в "калите"
y пояса). Обереги были как в виде отдельных подвесок, так и целыми
наборами. Их магическое и апотропеическое значение не вызывает
сомнений.
Украшение предплечий и бедер известно только по
этнографическим данным. Вышивка на предплечьях рукавов нередко
содержала архаичный символ возделанного поля, нивы: косо
поставленный квадрат разделен на 4 части и в каждом малом квадрате
помещена точка -- знак зерна 4. Помещение идеограммы нивы именно в
этом месте рукава прекрасно объясняется самим содержанием знака:
нива требует труда, рук, и вышивальщицы когда-то сознательно, а в
XIX -- XX вв. уже по традиции изображали на рукаве рубахи в том
месте, где он облегает главные мышцы (бицепс, дельтоид и другие),
знак поля, как точку приложения мускульной силы. Такие же знаки нивы
(и идеограмму дома, сруба) вышивали на шерстяных поневах вдоль бедер
и ног, стремясь этим магическим узором придать большую силу корпусу
и ногам 5. Южновеликорусская понева, как и украинская плахта,
является очень архаичной формой одежды и восходит к энеолиту или
земледельческому неолиту.
4 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М., 1981, с. 45.
5 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, с. 47, 50.
"Обручи"-браслеты. Браслеты широко представлены и в
деревенских и в городских материалах. В городском обиходе XI -- XIII
вв. серебряные браслеты были съемными, на шарнирах и предназначались
для удерживания необычайно длинных, до земли, рукавов. Браслеты
расстегивались тогда, когда женщина, подобно Лягушке-Царевне,
начинала ритуальный танец и широко распускала свои рукава.
Гравировка на таких браслетах настолько интересна и важна для нашей
темы, что им будет посвящена специальная глава о русалиях.
Деревенские браслеты проще, многофигурных композиций на них нет, но
зачастую там мы видим сложную плетенку, которая в графике обычно
является изображением воды, а это тоже ведет нас к русалиям,молениям
о воде.
Перстни. Кольца на руках, по всей вероятности, связаны со
свадебной символикой и на этих, самых маленьких по размеру
украшениях, как и на всей избе-хоромине, выступает идея макромира,
долженствующего оберегать микромир одной девушки: есть перстни с
тремя крестами или с тремя солнцами или с двумя крестами и солнцем
в середине. Это уже знакомый нам прием показа движения солнца от
восхода к полудню а от полудня, апогея (который "чтут" язычники) к
закату.
Подол одежды. Орнаментика подола известна только по
этнографическим данным. Здесь в вышивке господствует, естественно,
идея земли: небольшие растения, ходящие по земле птички, цветы.
Изредка встречается идеограмма засеянного поля.
Такова в самых общих чертах предварительная схема
заклинательного содержания женского наряда и убора. Мы в настоящее
время при знакомстве с народным костюмом обычно воспринимаем
позднейшую эстетическую сущность дожившего до наших дней наряда,
отмечая лишь локальные вариации его, создающие впечатление
разнообразия и неповторимости. Однако в любом восточнославянском
регионе как в средневековье (археология), так и в XIX в.
(этнография) мы всегда можем обнаружить в одежде и украшениях
продуманную сотнями поколений систему защиты от упырей и навий,
варьирующую лишь в изобразительных средствах.
Следует помнить, что одежда и дополнительные
обереги-украшения -- все это должно было охранять человека за
пределами его крепости-дома, во внешнем мире с присущим ему,
рассредоточенным в нем злым началом.
Рассмотрим более подробно те звенья этой схемы, которые
представлены в деревенских средневековых материалах X -- XIII вв.
Головные уборы. Деревенские головные уборы по курганным
материалам известны нам очень плохо. H. И. Савин по мелким нашивным
бляшкам установил, что дорогобужские крестьянки XI в. носили убор в
виде кокошника.
Лучше сохраняются головные металлические венчики-очелья, но
они не были распространены повсеместно и, возможно, являлись только
девичьим убором.
Височные кольца. Нижняя кромка древнего кокошника снабжалась
y висков несколькими кольцами ("заушницами"), получившими кабинетное
наименование височных колец. Возможно, что к ним должно быть
отнесено древнерусское слово "усерязь" 6.
Височные кольца восточных славян в XI -- XIII вв. обладают
интересной (наблюденной, но не разгаданной) особенностью: y каждого
племенного союза на значительной территории (три -- четыре
современных области) существовал свой особый тип "усерязей" 7.
Семилучевые и семилопастные кольца прочно ассоциируются с
летописными Радимичами и Вятичами; спиральные -- с Северянами,
браслето-образные -- с Кривичами, ромбощитковые -- со Словенами и т.
д. Женские украшения как бы играли роль опознавательного знака того
или иного племенного союза. П. H. Третьяков, исходя из поздней даты
курганов с височными кольцами, относящихся к тому времени, когда
старые союзы племен были уже сменены феодальными княжествами,
пытался объяснить единство стиля головных уборов тем, что дополнения
к ним -- височные кольца -- изготавливались в едином центре, в
столице княжества 8. Тщательное изучение техники литья височных
колец позволило выявить отливки, вышедшие из одной литейной формы,
т. е. изготовленные одним мастером, а нанесение мест находки этих
отливок на карту показало, что район сбыта одной мастерской был
крайне узок -- 20-30 км в поперечнике. Hа всю землю Вятичей должно
было приходиться 100-150 разных мелких мастерских, где отливали
семилопастные височные кольца вятического типа 9.
Следовательно, изготовление височных колец в одном столичном
центре отпадает. Вятические "усерязи" делались в селах многими
десятками местных кузнецов ("кузнь" -- тонкое изделие), а сохранение
общеплеменного единства в XII -- XIII вв. должно найти какое-то
другое объяснение.
Наиболее ранние височные кольца мы встречаем в Среднем
Поднепровье в VI -- VII вв. н. э. У племени "русь" на р. Роси
бытовали огромные серебряные кольца, один конец которых закручен в
плотную спираль, позолоченную в середине. У каждого виска было по 3
-- 4 таких кольца 10.
Золотые круги спиралей естественно рассматривать как
изображения солнца. Размещение их по двум бокам околыша головного
убора (в этнографических материалах снабженного эмблемою полуденного
солнца), быть может, расценивалось как места выхода солнца из-за
линии горизонта в начале дня и ухода к концу дня? "Горизонт" в этом
случае -- нижняя кромка кокошника или кички. Такие же солнечные
знаки окаймляли головные уборы и y соседних с русами Северян.
Отличие было лишь в том, что серебряная проволока закручивалась с
обоих концов, образуя две спирали.
Истоки подобных спиралей-кругов ведут нас в бронзовый век,
когда y многих народов Европы, в том числе и y протославян
(тшинецкая культура), широко применялись в украшениях проволочные
круги, плотно заполненные спиралями. Золотистая бронза содействовала
восприятию этих кругов как символов солнца 11. Промежуточным звеном
являются бронзовые предметы с такими же спиралями зарубинецкой
культуры 12. Прямыми потомками двуспиральных височных колец Северян
VI -- VII вв. являются односпиральные кольца тех же северян времен
Киевской Руси. Круглая кольцевидная форма, позволяющая говорить о
солярной символике, была y височных колец дреговичей, кривичей и
словен новгородских. У словен большое проволочное кольцо
расплющивалось в 3-4 местах в ромбические щитки, на которых
гравировалась крестообразная фигура или квадратная "идеограмма нивы"
13. В этом случае солнечный символ -- круг -- сочетался с символом
земного плодородия.
В VIII -- IX вв. в Восточную и Центральную Европу откуда-то,
очевидно из ближневосточной зоны торговых связей, к славянам
проникли два типа височных подвесок. Оба они имеют в своей основе
кольцо. Один тип распространен в Среднем Поднепровье и
прослеживается далеко на запад. Украшение состоит из трех слитных
частей: кольца, полумесяца, вписанного в нижнюю половину кольца и
прикрепленного снизу полушария с 6 -- 8 выступами-лучами. Здесь
небесная символика перенесена на нижнюю часть, изображающую звезду
с крестом на ней и лучами, исходящими от нее. Украшения щедро
снабжены зернью 14.
Другой тип попал, очевидно, волго-донским путем в землю
Вятичей и Радимичей, был хорошо воспринят местным населением и
просуществовал, видоизменяясь, до XIII в., дав начало радимичским
семилучевым височным кольцам X -- XI вв. и вятическим семилопастным
XII в., дожившим до татарского нашествия. В основе его кольцо, в
нижней части которого торчат вовнутрь несколько зубчиков, а вовне --
более длинные треугольные лучи, часто украшенные зернью. Связь с
солнцем ощущается даже в научном наименовании их -- "семилучевые"
15. Впервые попавшие к восточным славянам кольца этого типа не были
чьим-либо племенным признаком, но со временем закрепились в
радимичско-вятических землях и стали в X -- XI вв. таким признаком
этих племен 16. Носили семилучевые кольца на вертикальной ленте,
пришитой к головному убору.
Более поздние, чем радимичские, курганы вятичей сохранили нам
последние звенья эволюции этих височных колец: лучи стали
расширяться и в конце концов превратились в секирообразные лопасти,
в которых В. М. Василенко видит изображение топора Перуна 17.
6 Серьги, продеваемые в мочки ушей, не применялись в древней
Руси. Hа них перешло древнее слово "усерязь", означавшее подвеску к
кокошнику y висков.
7 Спицын А. А. Расселение древнерусских племен по
археологическим данным. -- ЖМНП, 1899; Арциховский А. В. Курганы
вятичей. М., 1930; Рыбаков Б. А. Радзiмiчь Минск, 1932; Седов В. В.
Восточные славяне в VI -- XIII вв. М., 1982; Равдина Т. В. Типология
и хронология лопастных височных колец. -- В кн.: Славяне и Русь. М.,
1968, с. 136 -- 142; Соловьева Г. Ф. Семилучевые височные кольца. --
В кн.: Древняя Русь и славяне. М., 1978, с. 171-178.
8 П. H. Третьякову убедительно возражал А. В. Арциховский в
статье "В защиту летописей и курганов". (Сов. археология. М., 1937,
т. IV, с. 54-60).
9 Рыбаков Б. А. Сбыт продукции русских ремесленников в X --
XIII вв. -- Учен. зап. МГУ 1946, вып. 93, с. 68-112; Рыбаков Б. А.
Ремесло древней Руси. М., 1948.
10 Рыбаков Б. А. Древние русы. -- Сов. археология, т. XVII;
Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества. М.. 1982, с. 76-77.
11 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, с. 253.
12 Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества. М., 1982,
с. 32.
13 Седов В. В. Восточные славяне ..., с. 226 и 227.
14 Василенко В. М. Русское прикладное искусство. М., 1977,
рис. 35-40.
15 Рыбаков Б. А. Ремесло древней Руси. М., 1948, рис. 14, 15.
Железницкий клад из земли Вятичей (близ Зарайска). 16 Соловьева Г.
Ф. Семилучевые височные кольца. Карта на с. 172. Рисунки на с.
174-175.
17 Василенко В. М. Русское прикладное искусство, с. 220.
Классические вятические семилопастные височные кольца XII
-начала XIII в. очень стандартны на большой территории и очень
интересны по своему языческому содержанию. Первичные образцы IX -- X
вв., попавшие на Оку и на Сож из каких-то далеких земель, где знали
львов (бляшка из одного клада с семилучевыми), стали во времена Юрия
Долгорукого и Всеволода Большое Гнездо перерабатываться местными
мастерами. Лучи превратились в секировидные лопасти, верхний
изогнутый ряд зубчиков стал ровной горизонтальной линией "городков";
y основания полукруглой дужки стали отливать два колечка с лучистой
насечкой. Hа основном щитке "усерязей" появился устойчивый,
одинаковый волнистый орнамент. Выработанный повсеместный стандарт
просуществовал не менее столетия.
Разгадка смысла этих изменений приходит при ознакомлении с
теми дополнительными знаками, которые сами мастера своими тонкими
инструментами наносили иногда на лопасти височных колец. Знаки на
лопастях прекрасно расшифровываются при обращении к символике
русской вышивки XIX в., так как полностью совпадают с вышитыми
узорами. Преобладает тема плодородия земли, но встречаются и
схематические изображения рожаниц, так широко представленные в
вышивке 18.
Начать рассмотрение этих интереснейших знаков следует с
наиболее полного комплекта их на височном кольце из кургана в Зюзине
(совр. Москва) второй половины XII -- начала XIII в.19 На
центральной лопасти знак плодородия представлен в виде "ромба с
крючками" (терминология А. К. Амброза). Ромб поделен на четыре
части, а от углов во вне отходят изгибающиеся отростки 20. Мы уже
видели четкий знак "засеянной нивы" на ромбощитковых кольцах
новгородских словен. Hа двух соседних лопастях даны такие
же ромбические знаки плодородия, но меньшего размера, от каждого
угла ромба отходит в сторону длинный крест. Следующая пара содержит
знак креста с пересеченными перекладинами концами. Это типичная
четырехчастная схема распространения блага в 4 стороны. Hа последних
самых верхних лопастях изображена свастика, знак огня (возможна
связь с подсечным земледелием).
18 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, с. 481, 483, 517.
19 Равдина Т. В. Типология и хронология..., с. 141, рис. 2.
Исследовательница опубликовала большинство колец с символическими
знаками, но не остановилась на их семантике. Ценным является
уточнение датировок. Интересную коллекцию знаков, собранную Т. В.
Равдиной, можно пополнить: одно кольцо найдено в с. Городище б.
Перяславского уезда в 1853 г. Кольца со знаками опубликованы мною и
В. М. Василенко. Есть знаки и на кольцах Белевского клада. Василенко
В. М. Русское прикладное искусство.
20 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, с. 50, 82-92, 182.
Итак, пять нижних лопастей посвящены теме плодородия земли и
идее распространения блага "на все четыре стороны" (крест с четырьмя
крестиками на концах). Свастика на крайних лопастях не может
означать здесь солнца, так как солнечные кольца с лучами находятся
рядом, над свастикой. Эти колечки y основания дужки, появившиеся при
коренной переработке старых украшений, можно рассматривать как
солнечные знаки y двух концов дужки-небосвода.
В символической орнаментике русской избы мы видели устойчивое
изображение трех дневных позиций солнца: утренней, полдневной и
вечерней, но в фольклоре наряду с этим широко распространен еще один
стандарт -- упоминание только двух четко видимых позиций солнца:
утренняя заря и восход и вечерняя заря и закат солнца; полдневная
позиция требовала особых расчетов. Эти две зари иногда даже
олицетворялись в виде двух девушек.
По всей вероятности, на украшении, которое находилось в общей
системе женского убора "между небом и землей" -- между кокошником с
его небесной символикой и корпусом владелицы, вполне сознательно
помещали только два этапа дневного солнечного пути: восход и закат
солнца. Полдневная позиция солнца была обозначена на кокошнике.
Полной аналогией этому являлась форма прялки, где полдневное солнце
занимало верхнюю лопаску, а утренняя и вечерняя позиции солнца
изображались внизу на небольших колечках, которые назывались
"серьгами" 21.
21 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, с. 241, 243, 247.
Изменение старого прототипа началось не с изготовления этих
двух солнечных знаков, а с появления на широком щитке очень
сложного, но устойчивого изображения системы волнистых, зигзаговых
и изогнутых полос, которые нельзя определить иначе, чем желание
мастеров показать двуслойную природу небесных вод. Верхний ряд
показан как горизонтальная полоса с волнистым верхним краем и ровным
нижним. От нижнего края иногда опускаются гирляндовидные полоски,
напоминающие трипольские схемы облаков. Иногда вся верхняя полоса
заменяется двойным зигзагом, т. е. опять точно так, как изображалось
"верхнее небо" художниками энеолита. Нижние полосы завершаются внизу
треугольниками, которые устремлены к лопастям, т. е. к тем местам на
височном кольце, которые несут на себе знаки земного плодородия.
Есть височное кольцо (курган в Покрове), на котором ромбический знак
плодородия помещен только на средней лопасти, а от "водного
треугольника" к нему тянется прерывистая вертикальная линия из
точек, очевидно, изображающая дождевую струю. Эти нижние водяные
линии следует считать небесной водой, дождем, устремленным к земле,
к нивам, т. е. водой "среднего неба", между небесными запасами воды
("хлябями небесными") и землей. Вскоре, вероятно в том же XII в., к
изображению двух небес добавляется и становится обязательным
изображение двух солнц по бокам кольца.
В выбранном нами примере, семилопастном из Зюзина, посреди
водяных линий в середине щитка изображено нечто вроде змеи, что
хорошо увязывается с символикой воды. В целом это височное кольцо,
отвечающее стандарту второй половины XII -- начала XIII в., может
быть гипотетически расшифровано так:
1. Солнце изображено дважды в позиции утренней и вечерней
зари. Косые насечки подчеркивают движение светила.
2. Верхняя кромка щитка -- "верхнее небо", "хляби небесные".
3. Низ щитка, примыкающий к основаниям лопастей, -- "среднее
небо": тучи, облака, дождь, капли.
4. Секирообразные лопасти, обращенные вниз, -- земля. В ряде
случаев здесь (особенно на средней лопасти) мастер помещал
тонкогравированные знаки плодородия и плодовитости. Hа данном кольце
теме плодородия земли посвящено пять лопастей.
ОбычныйТерминСписокопределенийАдресЦитатыФорматированныйПеред нами типичный для древности пример использования
макрокосма не только в распределении заклинательных узоров и
украшений во всем женском наряде, но даже в миниатюрном микрокосме
височного украшения. Такое проникновенное внимание к этому виду
украшений объясняется, во-первых, заметностью данной детали убора --
тот, кто смотрит на лицо женщины, тот непременно увидит это
компактное и емкое отражение макрокосма. Во-вторых, такие нарядные
височные кольца, по всей вероятности, были принадлежностью
свадебного наряда, а в этом случае заклинательная символика была
обязательной.
У нас остался нерасшифрованным знак свастики, который в
данном случае может рассматриваться не как знак солнца, а только как
знак огня. Какое отношение может иметь знак огня к соседним с ним
знакам земного плодородия? Самое прямое: вятичи вели земледелие и на
старопахотных землях и на расчищенных под пашню лесных участках,
выжигаемых огнем. Подсечное земледелие, освоение новых пространств
должно было усилиться именно в середине XII в., когда Юрий
Долгорукий призывал поселенцев в свою Ростово-Суздальскую землю (и
в свою домениальную Москву) со всех сторон. К этому князю "идут люди
не токмо от Чернигова и Смоленска, но колико тысяч из-за Днепра и от
Волги", так как здесь "еще полей и лесов много" (1148 г.) 22.
Колонизация отмечена и археологическими материалами. Усиление
расчисток леса под пашню убедительно связывает помещение на "картине
мира" знаков огня рядом со знаками плодородия земли. Свастика
встречена не только в Зюзине, но и в других подмосковных курганах.
Рассмотрим другие случаи дополнительной орнаментации височных
колец заклинательными символами.
Обычно наборы знаков на лопастях беднее, чем на рассмотренном
зюзинском семилопастном, и ограничиваются пятью, тремя, а иной раз
и одним знаком. В нескольких случаях характер знаков очень близок к
разобранным выше. Это именно тот вариант, который находит полную
аналогию в вышивке на русских полотенцах XIX в. 23
Есть иной вариант: на срединной лопасти изображается сложный
орнаментальный узел как бы в виде двух переплетенных букв О, из
которых одна поставлена горизонтально. Подобный знак, отлитый как
подвеска к ожерелью, известен по радимичским древностям 24. "Двойное
О", как магический знак, известен y западных славян", встречаем его
и в рукописях, синхронных нашим височным кольцам -- например, в
ростовской рукописи 1222 г. 26
Большой интерес представляют знаки (тоже удержавшиеся в
вышивке до XIX в.), которые следует связывать с культом рожаниц. Это
сильно схематизированные изображения рожающей женщины, опознать
которые возможно только с помощью ретроспективного углубления от
русских этнографических вышивок XVIII -- XX вв. до узорочья эпохи
Всеволода Большое Гнездо 27. (Рис, 88).
Культ рожаниц резко осуждался церковниками того времени,
когда вятические женщины носили эти височные кольца. Архаичных
рожаниц, "небесных хозяек", с которыми охотники неолита
отождествляли созвездия Большой и Малой Медведицы, было только две.
Старейшие списки антиязыческих поучений знают применительно к ним
двойственное число: в дательном падеже писалось не "рожаницамъ", а
"рожаницама" 28.
В русском фольклоре рожаницы известны как Лада и ее дочь Леля
(аналогично греческим Лето и Артемиде), но со временем, вместе с
земледельческой богиней плодородия Макошью они образовали триаду,
которая отразилась в двух видах вышивки: Макошь и две всадницы (тема
встречи весны) и три рожающих женщины 29.
Наши височные кольца дважды дают нам последний вариант с
тремя роженицами, углубляя тем самым данный сюжет этнографической
вышивки на 7-8 столетий 30. Изображение же семи рожаниц на височном
кольце из Царицына, вероятно, более связано со свадебной символикой,
чем с культом рожаниц, как таковых. Возможно, что это свидетельство
затухания архаичного культа, начала размывания древних представлений
о двух небесных хозяйках мира.
Как видим, височные кольца вятичей, относящиеся к
христианскому периоду, к тому времени, когда в соседней земле
строились Покров на Нерли и Успенский собор во Владимире, оказались
миниатюрными языческими скрижалями, на которых мудрые
мастера-кузнецы выразили свое миропонимание 31.
Тот устойчивый стандарт, который отмечает семилопастные
височные кольца второй половины XII -- начала XIII в., был нарушен
каким-то талантливым и, как увидим далее, язычески мыслящим
мастером, работавшим, очевидно, накануне татарского нашествия. Речь
идет о височных кольцах известного Белевского клада, датировка
которого тщательно уточнена H. Г. Недошивиной 32. Необычна сама
форма находки -- клад. Височные кольца известны нам по захоронениям
в курганах. В городских кладах нет деревенских височных колец;
горожанки носили колты. Здесь же перед нами 17 височных колец, из
которых одно является простым, стандартным семилопастным, а
остальные 16 подразделяются на восемь различных типологических групп
(от одного до четырех экземпляров в группе), неразрывно связанных со
стандартом рядом деталей, но вместе с тем далеко уходящих от
устойчивых прежних форм. Многообразие и некомплектность предметов
Белевского клада производят впечатление не бытового комплекса
женских украшений, а набора образцов владельца мастерской.
Белевские трехлопастные и пятилопастные височные кольца с их
изящно изогнутыми лопастями, с их кружевной оторочкой и фигурками
животных -- это не звено плавной эволюции, а полный артистизма взлет
творческой фантазии мастера. Мастер не отвергал старого, он
преображал его.
Что уцелело от стандарта? Простая проволочная дужка, средняя
секирообразная лопасть и почти в полной неприкосновенности остался
литой "водный" орнамент; на некоторых вариантах четко видны семь
городков на верхней кромке щитка, к которым механически добавлена
решетка верхней части щитка 33.
22 Татищев В. H. История Российская. М.; Л., 1967, т. II, с.
182.
23 Равдина Т. В. Типология и хронология..., рис. 2.
24 Рыбаков Б. А. Радзiмiчi, с. 99. Карта № 2.
25 Wikinger und Slawen. Zur Fruhgeschichte der Ostseevolker.
Berlin. 1982.
26 Стасов В. Славянский и восточный орнамент по рукописям
древнего и нового времени. СПб., 1887, табл. LXXXI.
27 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. Текст на с.
475-501; рис. на с. 483-485.
28 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, с. 464.
29 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, рис. на с. 500 и
501
30 Василенко В. М. Русское прикладное искусство, с. 219, рис.
88; Равдина Т В Апология и хронология..., рис. 2 № 7.
31 О западнославянских височных кольцах и их магическом
значении см. статью В. Гензеля: Hensel Witold. О magicznej funkcji
wczesnosredniowiecznych kablaczkow skroniowych. -- Slavia Antique,
t. XVI, s. 243-251
32 Недошивина H. Г. О датировке Белевского клада. -- В кн.:
Славяне и Русь. М., 1968, с. 121.
33 Образец изготавливался путем оттиска в глине стандартного
кольца старого типа, а восковая отливка дополнительно
обрабатывалась.
Что внесено нового? Исчезли "солнечные" колечки, изменилась
форма и количество лопастей, на лопастях появился бордюр из колечек.
Hо самая существенная переработка была произведена в верхней части
щитка -- здесь над городками мастер поместил решетку из двух рядов,
сюда вдвинулась композиция из двух колец и ромбоидальной фигуры, а
над решеткой почти во всех случаях были помещены парные фигурки
коней или собак (?). Hа аналогичных кольцах из немногочисленных
находок в других местах вместо этих животных даны птицы. В каком
направлении шли видоизменения с точки зрения языческой символики?
Прежде всего следует отметить, что, несмотря на позднюю дату
(Белевский клад приблизительно -- ровесник Георгиевского собора в
Юрьеве Польском), на вещах этого клада совершенно не заметно влияние
христианства.
Рассмотрение языческой символики начнем с верхних элементов
украшения. Исчезли солнечные кольца, но внутри кольца, так сказать
на "горизонте", появились кони и солнечный символ между двумя конями
34. Хвосты коней скручены в точно такие же кольца, как средний
солнечный символ, а все три новых кольца с лучистой насечкой
идентичны двум прежним солнечным знакам по бокам стандартного
семилопастного. Следовательно, белевский мастер заменил прежнюю
схему из двух позиций (восход-закат) другой схемой --
восход-полдень-закат, введя апогей светила, полдень. Он изобразил на
своем узорочье то "тресветлое" солнце, к которому обращалась
Ярославна в "Слове о полку Игореве" и которое так хорошо знакомо нам
по многочисленным археологическим и этнографическим примерам. Птицы
вместо коней воскрешают в нашей памяти вщижские алтарные арки, где
подземный мир обозначен двумя ящерами, а утро, полдень и вечер
отмечены птицами: полдневная птица показана в полете, а две
остальных -- сидящими. Здесь только две птицы и обе они сидящие.
34 Рыбаков Б. А. Прикладное искусство Владимирской Руси. --
В кн.: История русского искусства. М., 1953, т. I.
Труднее объяснить замену коней собаками. Собака, как животное
связанное с солнечной символикой, не прослеживается ни в фольклоре,
ни в изобразительном искусстве. Единственно, что может вести в этом
направлении, это близость слов "хорт" -- собака, волк и "Хорс" --
солнце, божество солнца. Hа белевских кольцах собаки на месте коней
встречены четыре раза, но, кроме того, есть четыре височных кольца,
на которых изображено удвоенное количество собак-хортов: позади
каждой собаки, стоящей на линии "горизонта", с внешней стороны дужки
(там, где на стандарте размещали солнечное колечко) помещена фигура
еще одной собаки, завершающая кружевной бордюр. Таким образом на
кольцах этого типа наверху помещены две пары собак: две "утренних"
и две "вечерних" или иначе: две дневных (в середине щитка) и две
ночных (по бокам). Если бы в русском фольклоре существовало такое
определение сумерек (перехода от дня к ночи), какое дает французская
поговорка "entre loup et chien" (время "между волком и собакой"), то
все было бы решено вполне корректно -- срединные животные были бы
дневными хортами-собаками, а боковые -- ночными хортами-волками.
Большой интерес представляет такое новшество белевского
мастера, как "решетка" между конями и "водным" узором. При
внимательном (мастер не стремился к демонстративной четкости)
рассмотрении этого нового элемента видно, что здесь даны в двух
горизонтальных рядах изображения, близкие к вышивке. Нижний ряд,
лежащий непосредственно на городках, дает нам пять ромбов, а верхний
ряд -- семь сильно схематизированных женских фигур с поднятыми вверх
руками. Головы и треугольные юбки показаны посредством прорезей, а
руки обозначены (на восковой модели) вертикальными желобками. Оба
ряда можно истолковать так: ромбы -- устойчивый символ земли;
женщины с поднятыми, к небу руками -- праздничная процессия, в
данном случае, очевидно, в честь солнца, идущего по небу.
С двух сторон эта ритуальная сцена обрамлена странной
композицией из двух крупных колец (крупнее всех на украшении) и
третьей овальной или угловатой части ниже колец. Эта композиция как
бы продолжает с двух сторон дужки височного кольца и, углубляясь в
его верхний край, дотягивается до края "водного" рисунка. На
некоторых височных кольцах отверстие в нижней части композиции
обведено дополнительным контуром, что придает всей композиции облик
ящера с двумя огромными глазами и вытянутой мордой. Два таких ящера
проникают от дужки-"небосвода" вниз, ниже уровня земли (обозначенной
рядом ромбов), и упираются мордами в сложную стандартную систему
небесной и земной воды. Такие "ящеры" (см. рисунок 89) есть на всех
кольцах белевского клада, кроме одного, являющегося здесь
представителем стандарта.
В пользу такой космогонической расшифровки косвенно
свидетельствует то, что незадолго до изготовления вещей белевского
клада были созданы алтарные арки Вщижа с их небосводом, птицами,
языческим Семарглом и двумя огромными лупоглазыми ящерами.
Расстояние от бывшего Белевского уезда (точное местонахождение клада
неизвестно) до Вщижа всего 3-4 дня пути. Мастер мог видеть модель
вселенной в храме этого княжеского города. Гадать на эти темы не
стоит, так как и вщижские арки и белевские височные кольца отражали
одни и те же представления русских людей XII -- начала XIII в. о
структуре мира.
Отличие белевского мастера от вщижского скульптора
Константина заключается в том, что Константин дерзнул выставить свое
языческое мировоззрение напоказ и, не таясь, отлил на своих
церковных арках и ящера и Семаргла, а белевский ювелир необычайно
искусно завуалировал языческую сущность своих великолепных колец.
Только животные и птицы здесь сделаны явно, а остальные его
нововведения -- женщины в ритуальном танце, ящеры -- изготовлены им
так, что они незаметны на первый взгляд и нужно рассматривать все
детали, сопоставлять разные отливки, чтобы проникнуть в интересный
и смелый замысел мастера.
Считаю несомненной принадлежностью к изделиям этого же
мастера единственного кольца из Шмарова (б. Лихвинский уезд,
соседний с Белевским) 35. Здесь есть и решетка из семи женских фигур
с поднятыми руками и пышный кружевной подзор на лопастях, но над
решеткой отлиты не кони и не собачки, а две птицы, а между ними
крестообразная фигура из четырех колец, возможно изображающая все
четыре позиции солнца: утро, полдень, вечер и ночной подземный путь
солнца (?). Возможно, что той же руке принадлежит и височное кольцо
из Коломенского района (Богдановка) 36.
Следует сказать, что в земле Вятичей височных колец богатого
убора, подобных белевским, очень немного и они встречаются обычно
единичными экземплярами, а не комплектами. Кроме работ белевского
мастера, есть и подражания им, отличающиеся "бессмысленностью"
решетки и другими деталями.
Этапы насыщения семилопастных височных колец языческим
содержанием примерно таковы:
1. Появление двух "солнечных" колечек -- вторая половина XII в.
2. Морды ящера -- конец XII -- начало XIII в.
3. Богатый убор с коньками, птицами и хороводом женщин --
первая треть XIII в. 37
35 Арциховский А. В. Курганы вятичей, с. 50-51, рис. 39.
36 Арциховский А. В. Курганы вятичей.
37 Равдина Т. В. Типология и хронология..., с. 140; Седова М.
В. Ювелирные изделия древнего Новгорода (X -- XV вв.). М., 1981, с.
13, рис. 2. Височное вятическое кольцо с двумя колечками найдено в
слое 1177-1197 гг., а кольцо с решеткой в слое 1197-1224 гг.
Ящеры попали на височные кольца примерно в то же самое время,
когда мастер Константин поместил огромных ящеров на алтарной сени.
Это свидетельствует о том, что языческое миропонимание не исчезло в
XII в., а наоборот, искало новых форм выражения себя.
Большой интерес представляет обзор географического
распределения тех языческих черт, которые прослежены выше.
Сопоставим их с границами княжеств XII -- XIII вв. При нанесении на
карту единичных находок, изготовленных в мастерской белевского
"кузнеца серебру", мы видим, что они размещаются в северо-восточной
части Черниговского княжества (где находился и Вщиж) вдоль Средней
Оки.
В сопредельной с Черниговской Владимиро-Суздальской земле
есть только подражания богатому убору белевских мастеров (Иславское,
Чернево).
Особенно интересно то, что знаки на лопастях (знаки
плодородия и роженицы) встречены только в окрестностях Москвы.
Поневоле приходится обращаться к своей старой работе о районах сбыта
русских деревенских ремесленников XII -- XIII вв.38 На основании
анализа литейной техники удалось установить, во-первых, вещи,
отлитые в одной литейной форме (т. е. изготовленные в одной
мастерской), а, во-вторых, определить на карте район сбыта продукции
одной мастерской. При сопоставлении этой карты с картой находок
семилопастных с языческими знаками оказалось, что последний ареал
очень точно соответствует одному из районов сбыта: Москва в центре,
Фили на западе, Косино на востоке, Царицыно на юге, нижнее течение
Яузы на севере. Одно височное кольцо этого мастера найдено в самом
московском Кремле. Подражания белевскому мастеру встречены в
соседнем районе сбыта другого мастера, жившего несколько выше Кремля
по Москве-реке.
38 Рыбаков Б. А. Ремесло древней Руси, с. 442-448; рис.119
(карта).
Московский мастер, выводивший своим резцом языческие символы
на украшениях, жил примерно во времена Юрия Долгорукого и Андрея
Боголюбского, а белевский мастер, работавший в одном из "верховских"
городков (Воротынск, Козельск, Серенск?), жил, почти несомненно,
позже, в эпоху Всеволода Большое Гнездо или его сыновей, когда
создавалось "Слово о погибели земли русской".
"Гривная утварь". Украшения шеи, горла и груди древнерусской
женщины были необходимым дополнением к заклинательной орнаментике
головного убора и всей одежды в целом. Одежда готовилась из льна и
шерсти при помощи такого количества предметов, оснащенных солнечной
символикой (вальки, трепала, прялки, ткацкий стан), что суеверные
язычники вполне могли положиться на ее антивампирскую надежность.
Там, где кончалась тканая одежда, где обнажалось неприкрытое тело
человека (кисти рук, ноги, шея), ткань рукава, подола, ворота
покрывалась заклинательной (с позднейшей точки зрения --
орнаментальной) полосой с символической вышивкой, которая должна
была препятствовать проникновению незримых злыдней под одежду,
непосредственно к телу.
Самым уязвимым, самым беззащитным по отношению к нечистой
силе оказывались наиболее открытые части тела -- шея и лицо. Голова,
лицо и сердце являются главной сущностью человека -- здесь
сосредоточено все важнейшее: и центр жизнедеятельности (сердце) и
все средства познания многообразия мира человеком: органы зрения,
слуха, вкуса, обоняния. Сердце прикрывалось целым набором амулетов
(см. следующий параграф), а на шее и около нее сосредоточивалось у
каждой женщины множество бус, ожерелий, подвесок с несомненным
магическим содержанием.
Количество древнерусских нагрудных украшений огромно; оно
исчисляется тысячами комплектов, извлеченных из курганных погребений
XI -- XIII вв. К сожалению, этот материал еще не приведен в
надлежащую всеохватывающую систему; мы располагаем лишь описаниями
отдельных типов вещей (в редких случаях с широким общерусским
охватом), тогда как необходим учет комплексов, их сопоставление,
взаимная хронология и многое другое, что позволит выявить как
локальные, племенные, отличия, так и общерусские явления, а также и
тенденцию эволюции форм и семантики. Вероятно, именно на этом
массовом материале удастся в будущем проследить постепенное
оттеснение языческого заклинательного начала началом эстетическим.
Вероятно, выявятся еще два обстоятельства, важные для истории
крестьянского быта: наличие свадебного комплекта (особый свадебный
убор существовал вплоть до XX в.) и передача украшений по
наследству.
Можно поставить еще один вопрос: не являлись ли некоторые
ожерелья с особыми языческими признаками не постоянным, хотя бы и
праздничным, украшением, а особым, ритуальным, предназначенным для
каких-либо особых игрищ. Для городских (боярских и княжеских)
украшений такими являются, например, пластинчатые браслеты с
изображением на них русалий, предназначавшиеся не для обычных
выходов княгини (на них представлено жертвоприношение Семарглу!), а
для тех же русалий 39.
39 Рыбаков Б. А. Русалии и бог Симаргл-Переплут. -- Сов.
археология, 1967, № 2,
Некоторые признаки такой смысловой предназначенности, как мы
увидим, есть и в курганных инвентарях. К сожалению, степень
сохранности ожерелий и качество раскопочной техники не всегда
позволяют выявить количество ожерелий у одной погребенной, их
взаимное положение и состав ожерелий.
Пока не осуществлены высказанные выше пожелания, ограничусь
самым общим рассмотрением "гривной утвари". Одним из важных разделов
этой утвари являются разнообразные бусы, изготовленные, как правило,
вне пределов сельской округи: стеклянные бусы делались в городах
(Киеве, Новгороде, Полоцке, Рязани и др.), а каменные (из
халцедона-сердолика, горного хрусталя и др.) были привозными из
заморских ближневосточных стран. Мы знаем, что на Востоке с теми или
иными камнями связано множество поверий, но насколько ценилось
магическое значение камней в русской деревне, нам не известно.
Металлические подвески можно грубо разделить на две
категории. В одну из них войдут типичные, наиболее распространенные
подвески в форме круга, креста или лунницы, а в другую -- более
редкие, обладающие особенностями и требующие специального разбора.
Что касается первой категории, то о них мне в 1951 г.
приходилось писать: "... наиболее понятны многочисленные лунницы в
форме полумесяца и подвески, имитирующие солнечный диск с лучами. То
обстоятельство, что в одном ожерелье мы встречаем иногда по
нескольку "солнц" и по нескольку "лун", может говорить уже о
переходе от магического начала к эстетическому, орнаментальному" 40.
"Связь круглых подвесок с солнцем подчеркнута наличием лучей или
креста, а иногда и птицы".
"С культом солнца связаны, быть может, и миниатюрные
бронзовые топорики, постоянно украшенные солнечными символами" 41.
В 1960 г. эту тему развил В. П. Даркевич, сосчитавший
количество лучей на круглых "солнечных" подвесках. Их в большинстве
случаев оказалось 12, что дало полное основание автору связать их с
12 месяцами солнечного года 42.
Лунницы (полумесяц, обращенный рогами вниз) зачастую
рассматриваются как девичье украшение. В. П. Даркевич, исходя из
того, что в русском фольклоре "месяц" (луна) является мужским
началом, считает возможным дать такое толкование разряду
подвесок-лунниц с крестом: "Композиция из луны с крестом могла
обозначать неразрывность, единство мужского (месяц) и женского
(солнце) начал, быть символом супружества" 43.
Луна и солнце могли означать и другое -- "день" и "ночь". А
тогда меняется и содержание композиции. Русские деревенские лунницы
XI -- XIII вв. были подражанием привозным восточным образцам IX --
X вв., украшенным тончайшей зернью. Деревенские мастера многое
упростили и придали иной облик украшению. Думаю, что без особых
натяжек можно предложить следующее истолкование лунниц XI -- XII вв.
Не исключая совершенно лунарную символику, обращу внимание на то,
что в славянских географических широтах луна никогда не смотрит
рогами вниз.
Возможно, что лунницы (сохраняя заклинательное обращение к
ночному светилу) изображали вместе с тем небосвод с его двумя
небесами, нависающий над землей, которая представлена или в виде
крестообразно расположенных пяти квадратиков или в виде креста.
Слово "окрест" означает "округу", пространство вокруг нас.
На лунницах мы видим и три позиции солнца, и косые линии
дождя (?), и зигзаговые или капельно-точечные линии,
свидетельствующие о стремлении изобразить два слоя небесной воды:
верхний слой -- "хляби небесные" и нижний слой -- "прапруда" --
дождь, изливаемый на землю. Синтез трех элементов мифа дают
подвески-кольца, у которых внутри кольца-солнца помещена
лунница-небосвод, а под лунницей четкие, крестообразно расположенные
квадратики земли 44.
40 Рыбаков Б. А. Прикладное искусство и скульптура. -- В кн.:
История культуры древней Руси. М.; Л, 1951, т. II, с. 402; О
лунницах см. работу В. В. Гольмстен "Лунницы" ("Отчет Исторического
музея за 1915 г.").
41 Рыбаков Б. А. Прикладное искусство Владимиро-Суздальской
Руси. -- В кн.: История русского искусства. М., 1953, т. I, с.
510-511.
42 Даркевич В. П. Символы небесных светил в орнаменте древней
Руси. -- Сов археология, 1960, № 4, с. 62. Сводная таблица подвесок
на с. 57.
43 Даркевич В. П. Символы.., с. 61.
44 Седов В. В. Восточные славяне..., с. 224, табл. L, рис. 6.
Кроме небесных символов, на подвесках есть такие элементы,
которые позволяют считать их символами земли. Таковы косые решетки,
которые дают в центре архаичный узор из четырех косо поставленных
квадратов.
Большой интерес представляют подвески со знаком христианского
процветшего креста и подвешивавшиеся к ожерелью (или носившиеся на
теле) миниатюрные иконки с изображением богородицы. Найденные в
курганах рядом с многочисленными языческими символами, они
свидетельствуют, во-первых, о начале проникновения христианства в
русскую деревню XII -- XIII вв., а, во-вторых, они удостоверяют то,
что все синхронные им предметы, находившиеся с ними в одних
ожерельях, тоже рассматривались людьми того времени как священные
символы.
Здесь перед нами встает вопрос о многочисленных
нехристианских крестиках, которые часто входили в состав ожерелий.
Они будут рассмотрены ниже в разделе о "четырехчастной композиции".
Среди более или менее однородных наборов ожерельных подвесок
встречаются редкие образцы, требующие особых пояснений. Таковы,
например, подвески из радимичских курганов XI -- XII вв.,
воспроизводящие значительно более ранние звездчатые подвески VIII --
IX вв.45
Интересны подвески из тех же радимичских курганов в виде двух
пересекающихся букв "О" (одна из них горизонтальная). Оба овала
покрыты выпуклыми точками 46. Мы уже видели подобный знак на
вятических височных кольцах, где он замещал стандартный знак земного
плодородия. Этот двуовальный знак известен в древностях западной
Балтики. У балтийских славян есть крестообразные подвески, на
которых данный знак четырежды повторен на каждой 47. Очевидно, это
-- один из вариантов важного символа плодородия; его
восточнославянские истоки неясны. Значение точек на двуовальных
подвесках разъясняется другим типом радимичских подвесок, которые
имеют вид змеи и тоже сплошь покрыты такими же точками-каплями. По
всей вероятности, эти каплеобразные точки означают дождь, капли
дождя, что так неразрывно связано со змеями. Эти оба типа подвесок
не единичны и представляют местный вариант аграрно-магической
символики. Кроме четких образцов с каплями, есть простенькие,
повторяющие лишь общий контур.
45 Рыбаков Б. А. ..., с. 92, табл. VI-28
46 Рыбаков Б. А. Радзiмiчi..., рис. 25-26.
47 Wikinger und Slawen.
С аграрной магией, и в частности симильной магией вызывания
дождя, связаны подвески-чашечки. Миниатюрные чашечки -- без дна. Н.
И. Савину удалось в 1920-е годы наблюдать в Дорогобужском районе
Смоленской области обряд поения земли женщинами сквозь подобные
бездонные чашечки. Это разъяснило смысл курганных находок.
В разных местах встречаются круглые подвески с фигурой птицы
внутри кольца. Птица показана в условной позе широкого полета в
полный размах крыльев. На вщижских арках птицы в таком виде помещены
внутри солнечного круга в полдневной позиции солнца.
Так же в разных местах (Суздальщина, Черниговщина и др.)
найдены литые в одной форме небольшие подвески с изображением
мужчины, летящего на двух лебедях. Трудно сказать, какой
сказочно-мифологический сюжет отражен в этой интересной композиции.
Полет на лебедях на север, к гиперборейцам известен из мифа об
Аполлоне. В русских сказках ("Гуси-лебеди") повествуется о том, как
гуси-лебеди унесли мальчика, но здесь не мальчик, а усатый мужчина.
В городском прикладном искусстве и в храмовой скульптуре известен
сюжет "вознесение Александра Македонского" на двух птицах (см.
ниже). Он являлся как бы зрительным воплощением идеи неба и
помещался в верхней части орнаментируемого пространства: наверху
диадемы, в арке закомары.
Пожалуй, самыми интересными подвесками, смысл которых
разъясняется при ознакомлении с этнографическими данными, являются
круглые подвески с головой быка из земли Радимичей 48. Они впервые
найдены во Влазовичах (Власовичах) близ Суража на Ипути, но есть и
в других местах. Схожая подвеска известна и среди материалов
владимирских курганов. Ободок подвески по всему кругу украшен
выпуклыми точками. Середина круга занята огромной головой быка;
четко профилированы рога, уши, большие круглые глаза. На лбу быка
двойной треугольный знак, опускающийся углом книзу. Морда быка с
рогами занимает всю внутреннюю поверхность подвески. (Рис. 118).
Совершенно исключительным является то, что вокруг головы быка
расположено семь женских фигурок. Они изображены крайне схематично
-- так, как обычно вышивают женские фигуры на второстепенных местах
вышивки: круглая голова и удлиненно-треугольная юбка. Расположены
они подчеркнуто разбросанно, без привычного порядка: три женщины
помещены между рогами, причем одна из них показана вниз головой. Две
пары фигурок находятся с обеих сторон морды быка. В каждой паре одна
фигура вверх головой, а другая -- вниз. Эти "таврокатапсии" связаны
с какими-то особыми игрищами в честь быка или тура. Еще Прокопий
Кесарийский писал о том, что славяне приносят в жертву
богу-громовержцу быка. Жертвоприношения быка Илье Пророку
(заменившему Перуна) сохранились на русском Севере вплоть до XIX в.
49
У белорусов и у южных славян известен старинный обряд
"турицы". С этим обрядом, очевидно, связан и тот танец, который
упомянул в одном из своих стихотворений Г. Р. Державин:
Танцуем... танцуем и бычка.
ОбычныйТерминСписокопределенийАдресЦитатыФорматированныйТанцуем... танцуем и бычка.
У потомков дреговичей и у потомков вятичей до XIX в.
сохранился девичий головной убор с большими "турьими" рогами из
соломы и ткани (окрестности Турова. Материалы этнографа Супинского).
В быв. Калужской губернии у девушек в конце XIX в. существовал
праздничный головной убор с огромными рогами. Священники не пускали
таких "рогатых" невест в церковь 50.
Этнографический материал по культу быка-тура огромен 51. В
Киеве была "Турова божница". Во многих местах южной части лесной
зоны есть села с названием Туровичи. Турьи рога, как мы видели, были
священным ритуальным сосудом.
Культ быка, "буй-тура", "яр-тура" был культом ярой жизненной
силы и сохранялся очень долго. Для расшифровки изображений быка и
семи девушек очень важны сведения об игре в быка, сообщенные
известным исследователем "нечистой силы" С. В. Максимовым. Игра
производилась на святки (с 25 декабря по 6 января) в избах,
отводимых для посиделок и игрищ.
"Игра в быка. Парень, наряженный быком, держит в руках под
покрывалом большой глиняный горшок с приделанными к нему настоящими
рогами быка. Интерес игры состоит в том, чтобы бодать девок и притом
бодать так, чтобы было не только больно, но и стыдно. Как водится,
девки подымают крик и визг, после чего быка убивают: один из парней
бьет поленом по горшку, горшок разлетается, бык падает и его уносят"
52.
Примерно такие "турицы" и изображены на замечательных
радимичских подвесках. Вполне возможно, что особое ожерелье с
головой быка и "девичьим переполохом" одевалось не повседневно, а
именно в дни туриц, русалий 6 января, которыми завершались зимние
святки и их последний цикл -- "велесовы дни" 53.
"Hа тых же своих законопротивных соборищах, -- говорится в
одном из поучений против язычества, -- и некоего Тура-сатану ...
воспоминают и иныи лица своя и всю красоту человеческую, по образу
и по подобию сотворенную, некими харями или страшилами (масками)
закрывают" 54.
Маска быка или тура -- обязательная принадлежность как
святочного, так и масленичного гулянья ряженых. У южных славян
"турицами" называют весенний карнавал на масленицу, а y западных
"турицы" отмечаются около троицына дня 55.
48 Рыбаков Б. А. Радзiмiчi..., с. 92, табл. VI, рис. 4, с.
122. Четкая фотография опубликована мною в "Истории русского
искусства". М., 1953, т. I, с. 68.
49 Макашина Т. С. Ильин день и Илья-пророк в народных
представлениях и фольклоре восточных славян. -- В кн.: Обряды и
обрядовый фольклор. М., 1982. с. 91.
50 Материалы по этнографии России.
51 Никольский H. М. Жiвёлы y звычаях, i абрадах, i вераньях
беларускага сялянства. Менск, 1933.
52 Максимов С. В. Нечистая неведомая и крестная сила. СПб.,
1903, с. 298. Большой этнографический материал приведен в
превосходной работе В. И. Чичерова: Зимний период русского народного
земледельческого календаря XVI -- XIX вв. (Очерки по истории
народных верований). М., 1957.
53 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, с. 429-430.
54 Гальковский H. М. Борьба христианства..., т. II, с. 187.
55 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, с. 431.
Гривны, обручи (браслеты), перстни. Гривны -- массивные
проволочные или пластинчатые украшения надевались на шею, очевидно,
поверх ожерелий из бус и подвесок. Символическое значение гривен не
подлежит сомнению, но вместе с тем и не поддается раскрытию. Гривны
носили не только женщины, но и мужчины, для которых это было не
только украшением, но и признаком знатности. Возможно, что гривны
отмечали семейное положение девушки или женщины, но археологические
находки предметов не всегда могут быть соотнесены с возрастом
погребенной, определение которого могло бы помочь нам.
К этому же разряду относятся кольца и перстни, которые до
наших дней сохраняют свое символическое значение (обручальные
кольца).
Со свадебной символикой следует связать хорошо изученные Т.
В. Равдиной вятические перстни. Исследовательница датирует их узкой
датой (кстати, совпадающей с датой символических знаков на
семилопастных) -- "начало третьей четверти XII в." 56
Hа перстнях мастера выделяли 1-3-5 орнаментальных
квадратиков; если был только один квадратик, то изображалось или
солнце или косой крест с пересеченными концами. Чаще всего на
перстнях было по три квадратных клейма; в среднем помещали солнце
или крест или же знак земли с четырьмя точками. При пяти клеймах
крайние обычно повторяли рисунок соседних. Заклинательный смысл
перстней с тремя позициями солнца и знаками земли раскрывается сам
собою. Вероятно, они были обручальными кольцами эпохи Юрия
Долгорукого. Из особых колец следует упомянуть привозной перстенек
из кургана в Туровичах, на щитке которого сделана греческая надпись.
Вероятно, это -- трофей, привезенный радимичским воином во время
похода на Царьград в 907 г. (в других походах радимичи не
участвовали) 57. Надпись на щитке: ePweHeI, т. е. 'ерvеnei -- "скажу
ей-ей!". Это формула клятвы, удержавшаяся в русском языке вплоть до
XIX в. Церковь возражала против божбы ("ей-богу") и допускала только
"ей-ей":
"Hе клятися отинудь никако же: ни небом, ни землею, ни иною
коею клятвою и до главы своея и влас, разве "ей-ей, ни-ни!" 58.
Запрещение божбы существовало долго. В романе
Мельникова-Печерского "В лесах" монахиня на предложение побожиться
отвечает: "Божиться не стану, -- ответила Таифа, -- и мирским
великий грех, а иночеству паче того. А если изволишь, вот тебе по
евангельской заповеди, -- продолжала она, поднимая руку к иконам, --
буди тебе ей-ей! И положив семипоклонный начал, взяла из киота
медный крест и поцеловала" 59.
Кое-что дают для нашей темы и браслеты, на которых
прослеживается такая привычная тема, как "земля и вода", выражаемая
древним определением "Мать-сыра-земля". Hа пластинчатых браслетах
часто изображалась плетенка, символизирующая водную стихию, и рядом
с водой -- ромбы с точками, означающие землю, поле.
Широко были распространены витые и плетеные проволочные
браслеты. Здесь без всякой орнаментации, самим переплетением
проволок достигался эффект волнистости, связывающий "обруч" с идеей
воды. Как увидим в следующей главе, городские браслеты были прочно
связаны с праздниками русалий, молений о воде.
Наборы языческих оберегов. Давая общие сведения о русских
курганных амулетах в 1951 г., я назвал их "языческими письменами"
60. Дальнейшая разработка этой темы, к которой подключились и другие
исследователи (В. М. Василенко, В. В. Седов и др.), показала
правомерность такого определения: если отдельный предмет выражал
какое-то единичное понятие, соответствующее слову в человеческой
речи, то комплекс предметов представлял уже целую фразу. (Рис. 90).
Поясню это примером. Среди различных комплектов
амулетов-оберегов (носившихся на груди, y сердца), есть наборы,
скрепленные металлическими цепочками и подвешенные к полукруглой
дужке, что гарантирует целостность комплекса. Возьмем один из таких
комплексов, выбрав наиболее полный 61.
56 Равдина Т. В. Древнерусские литые перстни с геометрическим
орнаментом. -- В кн.: Древняя Русь и славяне. М., 1978, с. 133-138.
Семантики изображений автор не касалась. Сводная таблица на с. 134.
57 Рыбаков Б. А. Радзiмiчi.., т. VI -- р. 20, с. 146.
58 Гальковский H. М. Древнерусские слова... Поучение
митрополита Фотия. М., 1913, т. II, с. 108, 1408-1431.
59 Мельников-Печерский П. П. Собр. соч. СПб., 1909, т. II, с.
369.
60 История культуры древней Руси, М., 1950, т. II, с. 400.
61 Рыбаков Б. А. Ремесло древней Руси, с. 156, рис. 29; Он
же. Прикладное искусство и скульптура. -- В кн.: История культуры
древней Руси. М., 1951Г т. II, с. 403, рис. 194 -I. Набор из
радимичского кургана в Коханах.
К полукруглой дужке на литых цепочках прикреплены следующие
предметы:
1. Птица в спокойной позе (сидит в гнезде?).
2. Ложка.
3. Ложка.
4. Пилообразный предмет, являющийся, как показывают другие
наборы, упрощенным изображением челюсти хищника.
5. Ключ.
Наличие двух ложек сразу определяет, что мы имеем дело с
двумя лицами, которым выражается пожелание быть сытыми. Ложка как
символ сытости и шире -- благосостояния вообще, хорошо известна в
русском фольклоре.
Амулет-талисман предназначался "молодым", двоим людям,
вступающим в брак. Общеизвестно, что молодых женщин (даже замужних)
часто хоронили в их свадебном уборе, во всей полноте узорочья и
оберегов. Свадьба, уход девушки из-под покровительства родного дома,
своих дедов-предков в чужую семью жениха, всегда была обставлена
бесчисленным количеством обрядов, заклинаний, особых деталей одежды.
Вполне естественно подобные наборы амулетов расценивать не как
украшение, а как овеществленное заклинание: "Будьте всегда сыты!"
Птица очень часто является символом семьи. Недаром до наших дней
бытуют выражения: "семейное гнездо", "она устраивает свое
гнездышко", "свила гнездо" и т. п.
Символика ключа элементарна -- сохранность имущества
новообразующейся семьи. Челюсть хищника тоже не вызывает сомнений.
Еще в каменном веке люди носили в качестве амулетов просверленные
зубы и когти хищников; они должны были отгонять от человека
всяческое зло. Все предметы данного набора выражают примерно
следующую благожелательную фразу:
Да будет счастлива ваша семья,
Будьте оба вы в сытости и благоденствии,
Пусть неприкосновенным будет ваше имущество,
И да разъедутся враги ваши!
Заклинание, заговор, молитвенное обращение к богам нужно
произносить многократно, так как "злые ветры" всегда могут нанести
на человека новую напасть, а заклинательный орнамент на одежде --
письмена, набор символических предметов -- письмена, которые
постоянно отгоняют зло и воздействуют на силы добра, обеспечивающие
благополучие человека.
Фактор времени, проекция добрых пожеланий в будущее, тоже
учтены мудрым мастером-"хранильником" -- полукруглую дужку (это
устойчивая форма) следует рассматривать как схематичное изображение
небосвода. Хорошо известные вам по многочисленным примерам три
позиции солнца показаны и здесь: y основания дужки-небосвода
помещены два колечка, аналогичные солнечным кругам семилопастных.
Третье, полдневное, кольцо помещено, как и следует, в высшей точке
небосвода. От этого полуденного солнца идет вниз вертикальная
полоска, как бы напоминающая нам, что "полудень чтут ..." Кольца
ниже горизонтальной "земли" могут означать ночной ход солнца (?).
Следовательно, ко всем добрым пожеланиям мы должны добавить
еще: "И да будет так, пока солнце светит!" Учитывая, что под "белым
светом" подразумевалось не только небо, осиянное солнцем и
"неисповедимым" дневным светом, но и вся земля, природа и люди
("один-одинешенек на всем белом свете"; "пойду искать по свету, где
оскорбленному есть чувству уголок ..." и т. п.), эту формулу можно
дать и в таком виде: "И да будет так, доколе свет стоит!"
Верхняя основа набора амулетов ("белый свет") не всегда
такова, как описанная выше; иногда она бывает более упрощена, а в
северных районах, где долго держались архаичные представления о
лосихах или важенках, являвшихся небесными хозяйками-рожаницами,
основа для комплекта оберегов украшена двумя оленьими головами, рога
которых переплелись, образуя четыре квадрата и тем самым соединяя
идею неба с идеей земли, т. е. опять-таки изображая "белый свет". Из
земли, между мордами оленей, вырастает нечто вроде мирового "древа
жизни", достигающего неба; иногда y древа обозначены два корня.
Отмеченные выше квадратики земли образованы и кроной этого древа и
рогами важенок северного оленя, сливая воедино земное с небесным. В
центре композиции и на ее вершине помещены солнечные знаки --
концентрические круги. Из подвесок-амулетов уцелела только одна
ложечка 62.
62 Спицын А. А. Гдовские курганы в раскопках В. H. Глазова --
MAP, 29, СПб., 1903, табл. XXI, 6.
Hа юге существовал еще один вид основы для подвешивания
амулетов, сделанной в форме якоря. Наверху -- три кольца, как бы
солнце в трех дневных позициях; внизу -- солнце в трех ночных,
подземных позициях. Верхний и нижний ярусы соединены стержнем,
сплошь покрытым изображениями семи солнц (курган в Кветуни близ
Новгорода Северского).
Учитывая разрозненность комплексов и их неполноту, рассмотрим
наборы амулетов по их составным частям.
Ложки. Этот упрощенный символ благополучия является наиболее
частой находкой в составе наборов амулетов, встречаясь в разных
сочетаниях других оберегов.
Черенок ложки бывает изогнут. Многие ложки орнаментированы.
Самым частым, и очень стандартным, является покрытие всего черенка
от чаши до петли плетенкой, в просветах которой помещены солнечные
знаки -- кружок с точкой в центре. Солнечных кружков, окруженных
извивами плетенки, всегда точно семь.
Есть ложечка, на черенке которой изображен ромб с четырьмя
точками внутри, т. е. знак земли. Уникальной является находка в
Кветуни на Десне: y ложечки-цедилки верхняя часть черенка украшена
человеческой фигуркой, задрапированной в какой-то орнаментированный
убрус 63.
63 Седов В. В. Восточные славяне..., с. 290, табл. LXXVII,
рис. 8.
Чашечки этих миниатюрных ложек (общая длина ок. 9 см)
изготовлены так, что ими можно черпать жидкость. Вполне возможно,
что они употреблялись при знахарских процедурах, когда следовало
поить больного "живой водой", водой "с уголька" и т. п. Для этих же
целей, вероятно, употреблялись и маленькие бронзовые чашечки с
крестом на дне.
Ключи. Ключи-амулеты си
|
Метки: народные обереги обереги |











