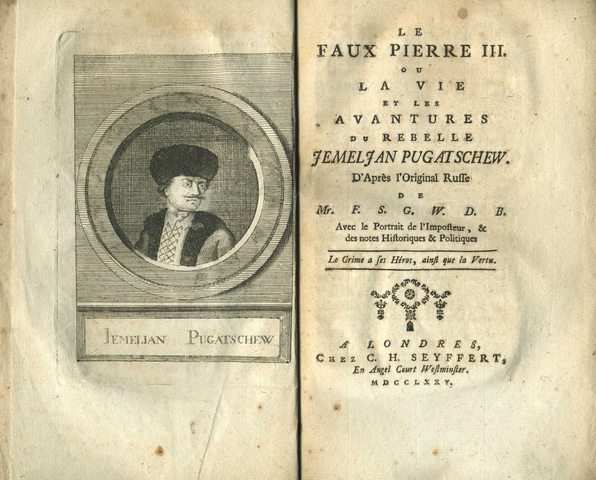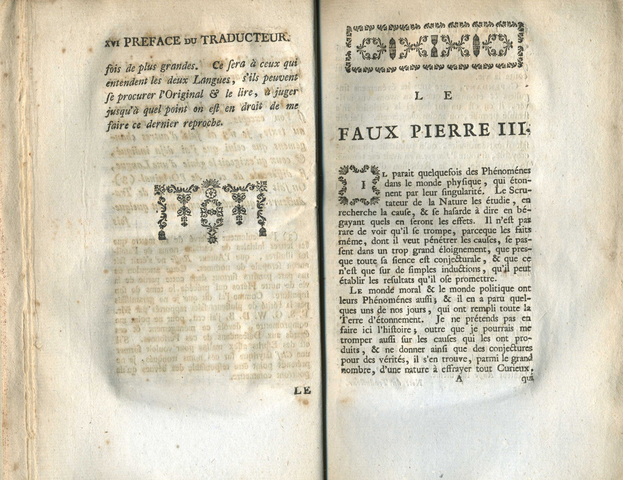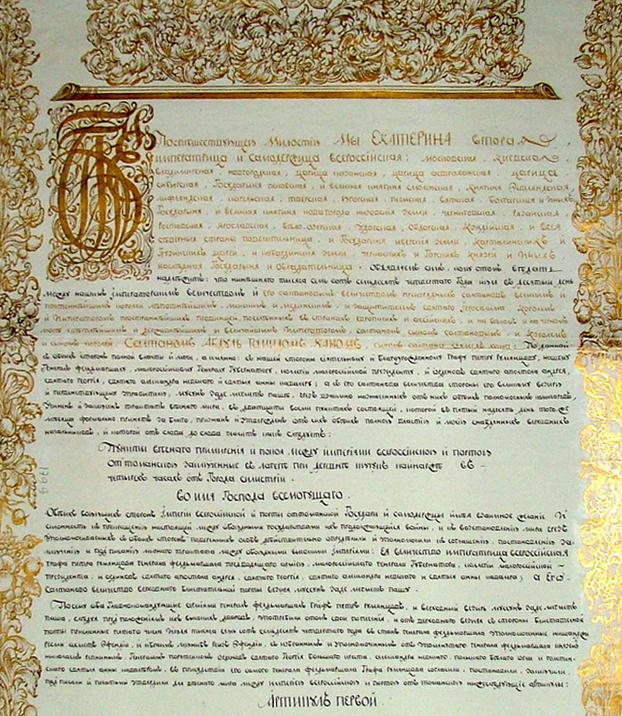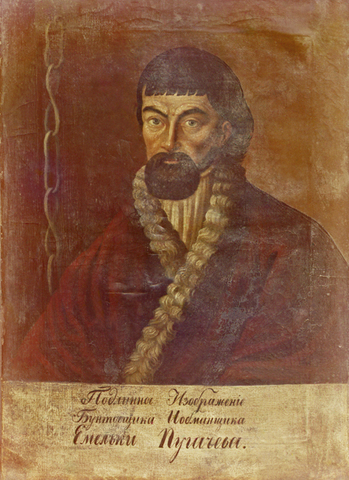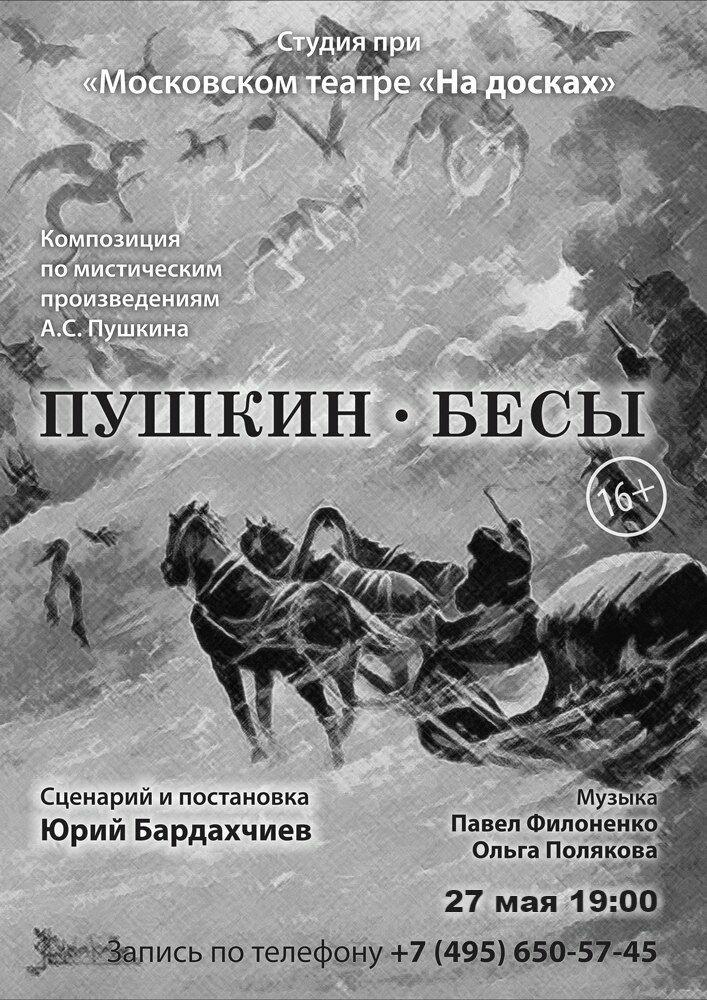Евгений Онегин как блокбастер своего времени.
От создателя «Руслана и Людмилы» и «Бахчисарайского фонтана»
Евгений Онегин
Премьера: февраль 1825 Где читать: Независимый издатель. При поддержке Департамента народного просвещения Продюсер: Петр Плетнев Автор: Александр Пушкин
Эпизод 1 Дата выхода: февраль 1825 Продолжительность: 49 стр.
Краткое содержание: Молодой петербургский франт Евгений Онегин едет к умирающему дяде в деревню. Не застав дядю в живых, он узнает, что унаследовал имение.
«Не знаю, что будет „Онегин" далее: быть может, в следующих песнях он будет одного достоинства с „Дон Жуаном": чем дальше в лес, тем больше дров; но теперь он ниже „Бахчисарайского фонтана" и „Кавказского пленника". Я готов спорить об этом до второго пришествия»
Кондратий Рылеев (письмо Александру Пушкину, 10 марта 1825)
«Нет, Пушкин, нет, никогда не соглашусь, что поэма заключается в предмете, а не в исполнении! — Что свет можно описывать в поэтических формах — это несомненно, но дал ли ты Онегину поэтические формы, кроме стихов? поставил ли ты его в контраст со светом, чтобы в резком злословии показать его резкие черты? — Я вижу франта, который душой и телом предан моде — вижу человека, которых тысячи встречаю наяву, ибо самая холодность и мизантропия и странность теперь в числе туалетных приборов. Конечно, многие картины прелестны — но они не полны, ты схватил петербургский свет, но не проник в него. Прочти Бейрона; он, не знавши нашего Петербурга, описал его схоже — там, где касалось до глубокого познания людей. У него даже притворное пустословие скрывает в себе замечания философские, а про сатиру и говорить нечего»
Александр Бестужев (письмо Александру Пушкину, 9 марта 1825)
«Все тузы московские тебе кланяются и с большим удовольствием читают „Онегина"»
Иван Пущин (письмо Александру Пушкину, 2 апреля 1825)
«Надобно думать, что критика полагает народность русскую в русских черевиках, лаптях и бородах, и тогда только назвала бы „Онегина" народным, когда на сцене представился бы русский мужик, с русскими поговорками, побасенками, и проч.! — Народность бывает не в одном низшем классе: печать ее видна на всех званиях и везде. Наши богачи подражают французам, Петербург более всех русских городов похож на иностранный город; но и в быту богачей, и в Петербурге никакой иностранец совершенно не забудется, всегда увидит предметы, напоминающие ему Русь; так и в „Онегине". Общество, куда поставил своего героя Пушкин, мало представляет отпечатков русского народного быта, но все сии отпечатки подмечены и выражены с удивительным искусством»
Николай Полевой («Московский телеграф», 25 августа 1825)
Эпизод 2 Дата выхода: октябрь 1826 Продолжительность: 42 стр.
Краткое содержание: Онегин знакомится с соседом —вернувшимся из Германии молодым помещиком и начинающим поэтом Ленским, влюбленным в соседскую барышню Ольгу Ларину.
«Вот характер Чайльд-Гарольда, также молодого повесы, который, наскучив развратом, удалился из отечества и странствует, нося с собой грусть, пресыщение и ненависть к людям. Не знаем, что будет с Онегиным; до сих пор главные черты характера те же»
Фаддей Булгарин («Северная пчела», 4 ноября 1826)
«Вторая песнь по изобретению и изображению характеров несравненно превосходнее первой. В ней уже совсем исчезли следы впечатлений, оставляемых Байроном, и в «Северной пчеле» напрасно сравнивают Евгения Онегина с Чайльд-Гарольдом. Характер Онегина принадлежит нашему поэту и развит оригинально. Для такого характера все решают обстоятельства. Если они пробудят в Онегине сильные чувства, мы не удивимся: он способен быть минутным энтузиастом и повиноваться порывам души. Если жизнь его будет без приключений, он проживет спокойно, рассуждая умно, а действуя лениво»
Дмитрий Веневитинов (письмо Михаилу Погодину, 14 декабря 1826)
Эпизод 3 Дата выхода: октябрь 1827 Продолжительность: 51 стр.
Краткое содержание: Онегин представлен семье Лариных. Старшая сестра Ольги Татьяна влюбляется в него с первого взгляда и признается ему в своих чувствах в письме.
«Автор сказывал, что он долго не мог решиться, как заставить писать Татьяну без нарушения женского единства и правдоподобия в слоге: от страха сбиться на академическую оду думал он написать письмо прозою, думал даже написать его по-французски; но наконец счастливое вдохновение пришло кстати, и сердце женское напросто и свободно заговорило русским языком, не задерживая и не тужая выражений чувства справками со словарем Татищева и грамматикой Меморского»
Петр Вяземский («Московский телеграф» № 16, 1827)
Эпизод 4 Дата выхода: январь 1828 Продолжительность: 92 стр.
Краткое содержание: Онегин отвергает Татьяну и на праздновании ее именин демонстративно кокетничает с Ольгой.
«Вышли у нас еще две песни Онегина. Каждый о них толкует по-своему: одни хвалят, другие бранят и все читают. Я очень люблю обширный план твоего „Онегина"; но большее число его не понимает. Ищут романической завязки, ищут обыкновенного и, разумеется, не находят. Высокая поэтическая простота твоего создания кажется им бедностию вымысла, они не замечают, что старая и новая Россия, жизнь во всех ее изменениях проходит перед их глазами»
Евгений Баратынский (письмо Александру Пушкину, февраль 1828)
«Главный недостаток сего романа есть недостаток связи и плана. При всей прелести разнообразия, множество беспрерывных отступлений от главного предмета наконец становится утомительным — так же, как сладкое наконец становится приторным. Пусть прочтут для поверки пять глав „Онегина" сряду. Видно, что поэт нисколько не хотел затруднять свое воображение, не хотел обдумывать, а писал все, что приходило на мысль...»
Борис Федоров («Санкт-Петербургский зритель», ноябрь 1828)
Эпизод 5 Дата выхода: март 1828 Продолжительность: 46 стр.
Краткое содержание: Ленский вызывает Онегина на дуэль. Онегин принимает вызов и убивает Ленского.
«В „Онегине" можно заметить, что гений нашего поэта требует нового направления, что он не доволен самим собой»
Ксенофонт Полевой («Московский телеграф», 10 марта 1829)
«Онегин есть существо совершенно обыкновенное и ничтожное. Он также равнодушен ко всему окружающему, но не ожесточение, а неспособность любить сделала его холодным. Его молодость также прошла в вихре забав и рассеяния, но он не завлечен был кипением страстной, ненасытной души, но на паркете провел пустую, холодную жизнь молодого франта. <...> Нет ничего обыкновеннее такого рода людей, и всего меньше поэзии в таком характере»
Иван Киреевский («Московский вестник», май 1828)
«Дамы вообще в ужасном негодовании на Пушкина за то презрение, которое он к ним при всяком случае обнаруживает в стихах своих, за злость, с которою придирается. Это — Leze-Majeste, нашептывают им их чичисбеи, и мы не знаем, каково будет жить поэту на свете, если могущественные дщери Евы внемлют духу мести. Вызов Ленского называют несообразностию. Il n’est pas du tout motive, все кричат в один голос. Взбалмошный Онегин на месте Ленского мог вызвать своего противника на дуэль, а Ленский — никак. Да и за что было Онегину бесить его? Жалеют, что Ленский только описывается, а не представляется в действии»
Михаил Погодин («Московский вестник», апрель 1828)
Эпизод 6 Дата выхода: март 1830 Продолжительность: 53 стр.
Краткое содержание: Татьяна вместе с матерью уезжают в Москву на «ярмарку невест». Она все еще влюблена в Онегина.
«Первая глава „Онегина" и две-три, следовавшие за ней, нравились и пленяли... <...> Цена новости исчезла — и тот же Онегин нравится уже не так, как прежде. Надобно прибавить, что поэт и сам утомился. В некоторых местах 7-й главы „Онегина" он даже повторяет сам себя»
Николай Полевой («Московский телеграф», 15 марта 1830)
«Мы никогда не думали, чтобы сии предметы могли составлять прелесть поэзии и чтоб картина горшков и кастрюль et cetera была так приманчива»
Фаддей Булгарин («Северная пчела», 22 марта 1830)
«В чем состоит истинное достоинство поэзии?.. В приличном выборе предмета, достойного поэзии... Если же дарование поэта признается истинным только в изображении слишком возвышенных предметов, как, например, что баба в пестрой панёве шла через барский двор белье повесить на забор, а между тем две утки полоскались в луже и козел дрался с дворовою собакой, или если истинные красоты поэзии состоят в мастерском исчислении поваренной утвари и разных домашних пожитков, как например: стульев, сундуков, тюфяков, перин, клеток с петухами, кастрюлек, горшков, тазов et cetera,— то chacun a son gout, Messieurs»
«Северный Меркурий» (4 апреля 1830)
Эпизод 7 Дата выхода: январь 1832 Продолжительность: 51 стр.
Краткое содержание: Спустя несколько лет Татьяна и Онегин встречаются в Петербурге. Татьяна — жена известного в высшем обществе генерала. Онегин понимает, что любит Татьяну, и признается ей в своих чувствах в письме. Татьяна отвечает отказом.
«Было время, когда каждый стих Пушкина считался драгоценным приобретением, новым перлом нашей литературы. <...> Какие рукоплескания встретили „Евгения Онегина" в колыбели! <...> Но теперь — какая удивительная перемена! Произведения Пушкина являются и проходят почти неприметно. Блистательная жизнь „Евгения Онегина", коего каждая глава, бывало, считалась эпохой, оканчивается почти насильственно, перескоком через целую главу: и это не производит никакого движения, не возбуждает никакого участия»
Николай Надеждин («Телескоп», март 1832)
Журнал "Коммерсантъ Weekend" №10 от 30.03.2017, стр. 10
Цитируется по
https://olegchagin.livejournal.com/1260431.htmlРедактура моя - А.Ш.
https://pushkinskij-dom.livejournal.com/394977.html