Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.
Исходная информация - http://pushkinskij-dom.livejournal.com/.
Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://pushkinskij-dom.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.
По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.
[Обновить трансляцию]
"Огончарован!" |
"Я восхищен, я очарован,
Короче – я огончарован!"
|
Метки: Пушкин в жизни Наталья Гончарова |
Михаил Шапиро. Я памятник... |
Живописные картины из жизни Пушкина,
памятника-человека

Мой дом, мой Пушкин
Пушкин на Пушкинской

Встреча Нового года 
Пушкин приносит цветы к памятнику Пушкину на Пушкинской улице 
Один господин, мечтая каждое утро здороваться и беседовать с Пушкиным,
дал денег на установку памятника напротив своего балкона
Пожилая дама, в молодости отвергнутая Пушкиным, желая отомстить,
дала денег на установку памятника так, чтобы он всегда смотрел на ее окна

На фоне Пушкина
На фоне Пушкина
Пушкин и дети
Дети на фоне Пушкина
Пушкин воспевает любовь
Прогулка с Пушкиным
А поскольку – что ему станется – бронзовый и жить он будет вечно, то истории за ним я буду вечно собирать и зарисовывать

Пушкин покинул пьедестал и стал бомжом
Дантеса мне Дантеса
(коммунисты приватизировали день рождения Пушкина на Пушкинской улице)
Пушкин, насмотревшись Шагала, летает над Пушкинской улицей
Пушкин идёт от станции метро Чёрная речка к месту своей последней дуэли
Няня Арина Родионовна прячет от Пушкина кружку, а он стучит кулаками и кричит
...где же кружка
Пушкин учит старика рассказывать старухе сказку о золотой рыбке
Пушкин помогает старику тащить невод
Пушкин в своей поэме Пиковая дама не топил Лизу в зимней канавке.
Это сделал Чайковский...
Пушкин играл в карты с графиней в её спальне. Неожиданно врывается Герман с пистолетом.
Пушкин вынужден прятаться в шкафу. А дама пик осталась у него в рука
Товарищ Сухов из Белого солнца пустыни встретил в пустыне голову
из Руслана и Людмилы
Пушкин рассказывает сказки трем девицам, царь под окном подслушивает
Дядька таскал за собой Онегина в Летний сад голых тёток смотреть
Михаил Шапиро на фоне своих работ
|
Метки: Пушкин в изобразительном искусстве |
С Днем рождения Александра Сергеевича Пушкина! |

Поздравляю нас всех с рождением нашего великого русского поэта. Без Пушкина мир был бы другим и мы были бы другими...Не встретился бы барчук Гринев с бунтовшиком Пугачевым в буране, не стоял бы как громом пораженный Онегин после слов Татьяны : "Но я другому отдана и буду век ему верна", никто бы не знал шедевров " Я вас любил" или "Я помню чудное мгновенье", не было бы вселенной по имени Пушкин. Невозможно представить себе такое опустошение нашего русского мира...
Ниже хорошая статья Егора Холмогорова о Пушкине.
"Пушкин — это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет", — утверждал Николай Васильевич Гоголь. И не преувеличивал со сроками. Скорее даже наоборот. Прошло уже двести лет, однако тип русского человека, блеснувший нам в Пушкине, до сих пор является редкостью.
Нечасто среди современников увидишь человека широкого европейского образования, смелого в мысли, творческого во всех жизненных проявлениях, но при этом искренне и самоотверженно любящего Отечество, презирающего клеветников России и яростно обличающего ее врагов. Зато не счесть тех, кто сочетает вымышленную креативность и полуграмотность, почерпнутую из одной западной книги, с неистовой ненавистью ко всему русскому.
Нечасто встретишь и того, кто обладает подлинным аристократизмом духа, не говоря уж о принадлежности к древнейшему боярскому роду, но при этом проникнут глубоким и искренним уважением к простому русскому человеку, способен сказать в его защиту, например, такие слова: "Взгляните на русского крестьянина: есть ли и тень рабского уничижения в его поступи и речи? О его смелости и смышлености и говорить нечего". Напротив, хватает самозванцев, которые на презрении к простому соотечественнику и смрадном социальном расизме строят свои претензии на самозваное "первородство".
Нечасто увидишь тех, кто, пылая ненавистью к деспотизму, воспевая вольность и гражданственность, не стесняясь перечить даже царям, при этом восхищенно созерцает русскую историю, старается глубоко в нее проникнуть и клянется честью, что "ни за что на свете не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой Бог нам ее дал". Зато сплошь и рядом мы видим маляров негодных, зачерпнувших из ведра немного грязной краски, которой они пачкают лики святых и драгоценные фрески нашей старины. Нет в этих писаках ни смелости, ни истинного гражданского мужества, но через край — продажности и готовности отдаваться хоть своему, хоть чужому начальству за презренное злато.
Пушкин был и остается нашей внутренней мерой, в которую мы еще не выросли. Среди сурового времени — и в России, и в Европе, и за тридевять морей — он жил как свободный просвещенный независимый и в чем-то индивидуалистичный человек. Однако не отчужденный ни от своего народа, ни от общества, в котором пребывал: заботливый об усовершенствовании государства гражданин, пламенный — именно русский — патриот, при всей мировой широте собственных умственных интересов.
Столь огромный Пушкин стадам современных Сальери доставляет дискомфорт, а потому они пытаются заузить его по своему размеру. То делают из Александра Сергеевича унылого фрондера и безбожника. То развратника, картежника и шута. То с наглой ухмылкой объявляют его "негром", в худших традициях южноамериканских штатов XIX века ("капля негритянской крови окрашивает все"). То пытаются выставить революционером, заговорщиком, внутренним эмигрантом, иностранцем в родном Отечестве. В последние десятилетия вокруг Пушкина сложилась душная атмосфера клеветы, хихиканий, дремучего воинствующего невежества. Пользуясь тем, что дух школьных "хрестоматий" отдаляет молодежь от понимания великого поэта, его превратили в карикатуру, в поп-идола.
Факты игнорируются полностью. Не хотят замечать ни глубокой преданности Пушкина государю и его отвращения к революционным переворотам, ни патриотизма, который выражался так, что в терминологии современных "общечеловеков" он попал бы в разряд крайних шовинистов. Сальные сплетники не хотят и не могут замечать разницы между романтической маской, обычной для эпохи, когда у поэтов принято было быть влюбленным во всех женщин сразу, и реальным, довольно сдержанным, насмешливым, хотя и не без вспышек гнева, темпераментом поэта. В угоду русофобскому мифу игнорируется даже реальная внешность Пушкина — русые мягко вьющиеся волосы, бледное с румянцем лицо, голубые глаза, и самосознание человека, который и по матери, и по отцу принадлежал к Пушкиным, ветви рода Ратшичей, идущего от соратника Александра Невского. К настоящему Пушкину нам приходится пробиваться через тонны нанесенного на его могилу мусора.
Кого же мы обнаруживаем, когда все-таки добираемся до цели?
Во-первых, создателя русского литературного языка. Пушкину удалось пересобрать потрясенное петровскими реформами русское слово, объединить истину архаистов с правдой новаторов, обогатить простую и ясную речь богатством, таившимся в церковно-славянской письменности. Именно пушкинский слог, где органично слито старое и новое, придает нашему языку ту пленительную и непостижимую непонятность, о которую разбиваются попытки овладеть русским словом извне. Именно Пушкин придал ему глубину вкупе с восхитительной неопределенностью.
Где, как не у Пушкина, мы найдем выражение русской души, ее самых малоприметных переживаний, самых сильных аффектов и даже страхов? Кем еще так точно передано то ощущение постоянного движения, перемещения в пространстве, которым охвачена русская цивилизация, несмотря на ее оседлость? Для постижения русской этнической психологии именно Александр Сергеевич дает самый добротный материал.
Читать дальше: http://100knig.com/aleksandr-sergeevich-pushkin/|
Метки: Пушкин сегодня Пушкин и мы |
Пушкиногорье |

Вид на главный дом усадьбы Осиповых-Вульфов "Тригорское" в Пушкинских горах

Онегинская скамья в усадьбе Осиповых-Вульфов "Петровское"

Главный дом в усадьбе А.С.Пушкина "Михайловское"

Беседка-Грот в усадьбе Ганнибалов "Петровское"
|
Метки: Пушкинские горы |
Пушкиногорье |

Вид на главный дом усадьбы Осиповых-Вульфов "Тригорское" в Пушкинских горах

Онегинская скамья в усадьбе Осиповых-Вульфов "Петровское"

Главный дом в усадьбе А.С.Пушкина "Михайловское"

Беседка-Грот в усадьбе Ганнибалов "Петровское"
|
Метки: Пушкинские горы |
Фестиваль "Мой Пушкин" в ДНР |
|
Метки: Пушкин сегодня Пушкин и мы |
Фестиваль "Мой Пушкин" в ДНР |
|
Метки: Пушкин сегодня Пушкин и мы |
Фестиваль "Мой Пушкин" в ДНР |
|
Метки: Пушкин сегодня Пушкин и мы |
На холмах Грузии лежит ночная мгла… |
На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой… Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит — оттого,
Что не любить оно не может.
1829 г.
|
Метки: стихи Пушкина |
Без заголовка |
Что в имени тебе моем?
Оно умрет, как шум печальный
Волны, плеснувшей в берег дальний,
Как звук ночной в лесу глухом.
Оно на памятном листке
Оставит мертвый след, подобный
Узору надписи надгробной
На непонятном языке.
Что в нем? Забытое давно
В волненьях новых и мятежных,
Твоей душе не даст оно
Воспоминаний чистых, нежных.
Но в день печали, в тишине,
Произнеси его тоскуя;
Скажи: есть память обо мне,
Есть в мире сердце, где живу я…

|
Метки: стихи Пушкина |
Без заголовка |
Что в имени тебе моем?
Оно умрет, как шум печальный
Волны, плеснувшей в берег дальний,
Как звук ночной в лесу глухом.
Оно на памятном листке
Оставит мертвый след, подобный
Узору надписи надгробной
На непонятном языке.
Что в нем? Забытое давно
В волненьях новых и мятежных,
Твоей душе не даст оно
Воспоминаний чистых, нежных.
Но в день печали, в тишине,
Произнеси его тоскуя;
Скажи: есть память обо мне,
Есть в мире сердце, где живу я…

|
Метки: стихи Пушкина |
Валентин Непомнящий: Русский человек экзистенциально — самый свободный человек на свете |
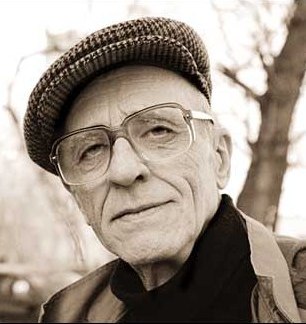
Гражданин общества потребления — это сплошное насилие смертного тела. Вспомните культовый для американцев роман "Унесенные ветром" — там у героини одна из важнейших фраз: "Я пойду на все, но никогда больше не буду голодать". Символ веры, честное плебейское кредо, формула "американской мечты". У России другое кредо — пушкинское: "Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать". Трезвая аристократическая формула достоинства и ответственности
Русскую духовность принято обсуждать беспредметно. Ведь предмет — это твердое, от чего можно оттолкнуться или на что опереться. А мы, русские, — где и в чем опираемся на свою духовность? В семье, школе, которые переживают глубокий кризис? Или строя капитализм, демократию? Но строительство идет ни шатко ни валко, часто наперекосяк, и что если дело тут не в аморфной "незрелости" российского национального организма, а наоборот, в твердости его невидимой, духовной основы?
Отталкиваться от идеи незрелости, а то и дикости России — давняя либеральная традиция; ей же принадлежала инициатива назначить главными "борцами с дикостью" Петра I и Пушкина: мол, усилиями этого гениального тандема был энергично начат и блестяще завершен процесс складывания европейского менталитета русской нации и вхождения ее в семью "просвещенных" народов.
Иной смысл в соединении имен великого царя и великого поэта видит пушкинист Валентин Непомнящий. По его мнению, Пушкин был Петру I равным по силе идейным оппонентом. "Спор" двух гигантов, в сущности, объясняет и нынешний раздрай в русской душе, и невозможность для России вписаться в "проект глобализации" в его современном виде.
— Валентин Семенович, кажется, поначалу Пушкин, будучи либералом по убеждениям, относился к петровским преобразованиям одобрительно?
— Ну, либералом зрелый Пушкин вовсе не был, разве лишь "либеральным консерватором" (как называл его Вяземский). А великим Петра признавали все, не только либералы. Петр — это был тот случай, который у французов называется le grand terrible, "ужасное величие".
Для Пушкина вначале главным было "величие": реформатор, победил шведов, создал империю… Он буквально вцепился в петровскую тему. Стал изучать материал, конспектировал огромный труд Голикова "Деяния Петра Великого", делая по ходу свои замечания. Но чем дальше, тем больше охватывало его смятение: столько разного, взаимоисключающего, часто устрашающего оказалось наворочено в этой истории. И оставался вопрос о человеческой цене, которую платила тогда и продолжает платить за это величие Россия. Поставлен он был — прямо и крупно — в "Медном всаднике", но не в политическом плане, не в державном или еще каком, а в эсхатологическом — если не апокалиптическом. В известнейшем двадцать втором псалме Давида (псалмы Пушкин знал прекрасно) говорится, что Бог на морях основал землю, а тут, в поэме, город "под морем… основался", замысел Бога поставлен на голову. Есть там и другое место — о "державце полумира", знаменитое, страшное:
И озарен луною бледной,
Простерши руку в вышине,
За ним несется всадник медный
На звонко скачущем коне.
Слушайте теперь: "И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя “смерть”; и ад следовал за ним; и дана ему власть над четвертою частью земли…" (Откровение Иоанна Богослова, то есть Апокалипсис, 6:8,).
— Вы считаете, Пушкин так думал?
— Вот это — не знаю. Конечно, тут не без великого ума, но все же главное — интуиция, дар целостного восприятия мира. Но — при трезвом реализме, опоре на факты. Пушкин знал, каких жертв стоило строительство Петербурга. Жертвы были предупреждением, но Петр не послушал, у него была цель, политический интерес: "Отсель грозить мы будем шведу…" Но жертвой угрозы "соседу" стал сам "юный град". Смотрите: в начале — "в Европу прорубить окно", а потом — "злые волны / Как воры лезут в окна…". Сегодня все яснее: чем жить удобнее
Сели не в свои сани
— В одной из статей вы пишете, что Петр своими реформами ломал нацию через колено, а восстанавливать подорванное национальное самосознание пришлось потом Пушкину.
— Речь шла о нашей ментальности — специфически национальном, российском духовном и душевном строе. Размышляя на эту тему, я в свое время предложил типологию христианских культур, то есть именно относящуюся к внутреннему строю наций христианского Запада и христианского Востока. Обнаружилась любопытная вещь — и притом чуть ли не общеизвестная. Общеизвестно, что на Западе, у католиков и протестантов, главный церковный праздник — Рождество, а у нас в православии — Пасха. В этом и эксплицировано, как говорят ученые люди, наше глубокое ментальное различие. Нет гнезда выше орлиного, нет праздника выше Рождества — это немецкая пословица. Почему "нет выше"? Да потому, что Рождество Христово есть Боговоплощение: Бог вочеловечился, говорится в Символе веры. То есть Бог так любит меня, что уподобился мне! Значит… значит, я этого достоин (вспомним рекламные слоганы). Это лестно мне, а главное: стало быть, я имею право осознать себя, человека, точкой отсчета и мерилом всего. Не случайно именно на Западе после Ренессанса родилась, а позднее вошла в силу идея несовершенства мира — причины всех бед и несчастий людей. Заметьте, что получается: вот, например, Гомер, или Рафаэль, или Моцарт — великие художники, их творения совершенны, это всем ясно; а Бог — художник так себе, Его Творение несовершенно. В конце концов к XX веку окружающий мир был фактически признан
— А праздник Пасхи о чем нам говорит?
— Пасха и Воскресение не льстят мне, а призывают стать лучше: "Последуй за Мною, взяв крест". Свой крест, который тебе достался в жизни. Отсчитывай не от себя любимого, а от Бога, от Христа, от идеала, наконец… Короче говоря, в "рождественском" христианстве главное событие — наличный факт уподобления Бога человеку, а в "пасхальном" — призыв Христа к человеку уподобиться Ему, Богу; "отсчет" ведется с противоположных "концов".
Между прочим, эта противоположность очень наглядна в религиозных изображениях там и там: у нас — икона, у них — картина. Икону ведь называют "окном в горний мир", и это не мы видим в "окне" Высшую реальность, а Она через него "смотрит" на нас; не икона для нас объект, а мы — для нее.
— Так называемая обратная перспектива?
— Да, она предъявляет нам иерархию небесного и земного, непостижимого и доступного. Так вот, в западном церковном искусстве икона давно вытеснена картиной с ее натуральной, линейной перспективой: Божественное изображается по тем же законам, что и земное, из непостижимого субъекта становится обычным физическим объектом.
— И что это им дало?
— Надо честно сказать, что такое перемещение центра тяжести из области небесного идеала в координаты земного
— А готические соборы тут причем?
— Вы думаете, это идет от Православия?
— От нашего душевного склада; благодаря ему и выбрано было тысячу лет назад православие. Согласно которому мир настолько исковеркан, измучен человеческим грехом, настолько "лежит во зле" (ап. Иоанн Богослов), что для человека главное не столько "права" свои осуществить (вспомним, как социально активен западный человек, как он борется за свои права), сколько прощение заслужить. Это и значит находиться в поле идеала. Иначе говоря, мечты о том, чтобы все на свете были хорошими людьми (то есть заслуживали прощения исполнением своих совестных обязанностей), — тогда и будет всем хорошо. Как это у Достоевского в "Сне смешного человека": "…если все захотят, всё тотчас устроится".
— Получается, что мы подозрительно "хорошие", а западные товарищи — наоборот.
— Повторяю, речь идет не столько о полноте наличной практики, сколько об уровне идеалов и мере ответственности. Кстати говоря, западный человек очень часто в поведении своем, в отношениях с другими гораздо лучше воспитавшей его системы ценностей — только он этого не знает, поскольку привык считать ее единственно правильной. А вот мы бываем, и часто, гораздо хуже своей системы ценностей. Но мы это, как правило, чувствуем — и тут наша сильная сторона и наша свобода.
Русский человек внутренне, экзистенциально — самый свободный человек на свете, в частности способный во всем доходить "до края": как в таланте своего идеализма, доброты, доверчивости (помните, у Юрия Шевчука: Россия "к сволочи доверчива"?), так и в бунте, кощунстве, в эгоистическом практицизме, хитрости, жестокости — одним словом, в таланте зла. Отсюда главная опасность. Если Россия, со своим "пасхальным" сознанием, со своим идеализмом, поверит, что принцип "бери от жизни все" есть принцип идеальный, то она превратится в такое чудовище, какого мир не видел от самого своего основания.
— Если вернуться к Петру как реформатору: разве он на идеалы России покушался?
— Субъективно — вряд ли. Намерения были благие: насадить в отсталой России "передовую" — на ту эпоху — цивилизацию. Он не задумывался над природой и свойствами народа, к которому сам принадлежал и судьбу которого взялся решать, — и этим предвосхитил наших реформаторов девяностых годов. Не зря
Ценой свободы и милосердия
— Что, на ваш взгляд, имел в виду Пушкин, когда говорил, что "Европа дала своим народам просвещение, но не дала свободы"?
— У него есть еще более загадочная фраза: "Освобождение Европы придет из России" — но ни та ни другая им не "расшифрованы".
Где капля блага, там на страже
Уж просвещенье иль тиран.
Как вам это понравится: "просвещенье" и тирания уравнены в своих функциях! Мысль, однако, понятна, если учитывать, что под "просвещеньем" разумеется тут эпоха Просвещения. Эпоха идеологии, утверждающей всесилие разума, построенной на убеждении, что никакой Тайны в Бытии нет, и следовательно, со временем человек с помощью знаний, науки, сможет сделать с окружающим миром, что ему заблагорассудится. Но "просветители" не задумывались вот о какой тонкости: в рациональном знании нет свободы, оно не оставляет возможности выбора, оно безразлично к добру и злу, может служить и тому и другому, оно не соединяет человека с Высшей Истиной, существование Которой чувствует сердце, что отличает его от других живых существ. Дважды два — четыре или закон Архимеда — это, осмелюсь сказать, не истина: это — установленный факт, и только. В то же время рациональное знание необычайно зыбко: на тот или иной "факт" может вдруг найтись другой, колеблющий его непреложность, его "истинность".
— Что же с этим можно поделать?
— А вот вера… она, по апостолу Павлу, есть "уверенность в невидимом" — и тут нет никакой принудительности: можешь доверять этому своему чувству, можешь не доверять, никакой тирании, свойственной власти фактов. То, что я сейчас говорю, — не более чем попытка заглянуть в предполагаемую "инфраструктуру" пушкинской мысли о просвещении, свободе и тирании. Заглядывание это приводит вот к чему: то, что Пушкин называет "просвещеньем", равнозначно современному понятию цивилизации, и сегодня его мысль можно прочесть так: Европа дала своим народам цивилизацию, но не дала свободы.
Для примера хочу напомнить: самый прямой и последовательный наследник европейского "века Просвещения" — США, там все рационально. И ни для кого не секрет, что средний американский гражданин — едва ли не самый конформистский субъект на свете. Он весь, насквозь детерминирован внешними обстоятельствами: законами, "американским образом жизни", интересами бизнеса, мощной пропагандой, культом успеха, культом потребления и, конечно, идеологией своей "империи добра". Тирания рацио есть — по самой природе, по логике — прямой путь к тому, что называется обществом потребления. У нас есть молитва
http://pravaya.ru/leftright/473/13667
|
Метки: Пушкин-пророк Пушкин-историк Пушкин-публицист Непомнящий В. С. пушкиноведение |
2 июня будет совершена заупокойная лития на могиле А.С. Пушкина |
2 июня в усадьбе "Михайловское" Пушкиногорского района, в праздник открытия Пушкинских дней России, митрополитом Тихоном будет совершена заупокойная лития на могиле А.С. Пушкина, после которой состоится праздничный концерт хора Сретенской духовной семинарии.
2 июня в Псково-Печерском монастыре Всенощное бдение в канун празднования Владимирской иконы Божией Матери совершит митрополит Тихон. За богослужением будет петь хор Сретенской духовной семинарии и хор Псково-Печерского монастыря.
3 июня, в самый день праздника Владимирской иконы Божией Матери, митрополит Тихон совершит свою первую Божественную литургию в кафедральном соборе города Пскова. Ему будет сослужить епископ Гдовский Фома и клирики собора. На литургии будут петь хоры Сретенской духовной семинарии и хор Псковского кафедрального собора.
|
Метки: православие Михайловское |
2 июня будет совершена заупокойная лития на могиле А.С. Пушкина |
2 июня в усадьбе "Михайловское" Пушкиногорского района, в праздник открытия Пушкинских дней России, митрополитом Тихоном будет совершена заупокойная лития на могиле А.С. Пушкина, после которой состоится праздничный концерт хора Сретенской духовной семинарии.
2 июня в Псково-Печерском монастыре Всенощное бдение в канун празднования Владимирской иконы Божией Матери совершит митрополит Тихон. За богослужением будет петь хор Сретенской духовной семинарии и хор Псково-Печерского монастыря.
3 июня, в самый день праздника Владимирской иконы Божией Матери, митрополит Тихон совершит свою первую Божественную литургию в кафедральном соборе города Пскова. Ему будет сослужить епископ Гдовский Фома и клирики собора. На литургии будут петь хоры Сретенской духовной семинарии и хор Псковского кафедрального собора.
|
Метки: православие Михайловское |
2 июня будет совершена заупокойная лития на могиле А.С. Пушкина |
2 июня в усадьбе "Михайловское" Пушкиногорского района, в праздник открытия Пушкинских дней России, митрополитом Тихоном будет совершена заупокойная лития на могиле А.С. Пушкина, после которой состоится праздничный концерт хора Сретенской духовной семинарии.
2 июня в Псково-Печерском монастыре Всенощное бдение в канун празднования Владимирской иконы Божией Матери совершит митрополит Тихон. За богослужением будет петь хор Сретенской духовной семинарии и хор Псково-Печерского монастыря.
3 июня, в самый день праздника Владимирской иконы Божией Матери, митрополит Тихон совершит свою первую Божественную литургию в кафедральном соборе города Пскова. Ему будет сослужить епископ Гдовский Фома и клирики собора. На литургии будут петь хоры Сретенской духовной семинарии и хор Псковского кафедрального собора.
|
Метки: православие Михайловское |
Размышления о Пушкине |
|
Метки: мой Пушкин мысли о Пушкине Маленькие трагедии |
Размышления о Пушкине |
|
Метки: мой Пушкин мысли о Пушкине Маленькие трагедии |
Такая, оказывается, сложная и вечная тема: "Но я другому отдана, и буду век ему верна" |
Обманутые муж и жена, притянутые острой обидой, общим разделенным страданием, начинают странную игру в чувства под девизом "Мы не такие!"
Критики охарактеризовали отношения героев как образец "китайской сдержанности и подавленного желания", отмечая, как "странные отношения" героев обретают "хореографию изящного ритма вальса" и запечатлены в "туманной дымке подглядывающей камеры"
Прекрасная, как восточный изящный цветок, женщина на фоне обшарпанных стен дешевых закусочных.. умный ответственный мужчина, который признается : "Я не знал, что чувства так безжалостны...от них невозможно защищаться..."
Но она защищается...потому что "другому отдана"... целомудренная драма о безжалостных чувствах - так можно сказать и о романе Евгений Онегин". Сдается мне, что слишком перебарщиваю с красивостями - это потому что я еще под впечталением от фильма...Китайская Татьяна прекрасна. Взгляните чуть видео.
|
Метки: Евгений Онегин Татьяна Ларина кино |
Храни меня, мой талисман |
Храни меня во дни гоненья,
Во дни раскаянья, волненья:
Ты в день печали был мне дан.
Когда подымет океан
Вокруг меня валы ревучи,
Когда грозою грянут тучи, —
Храни меня, мой талисман.
В уединенье чуждых стран,
На лоне скучного покоя,
В тревоге пламенного боя
Храни меня, мой талисман.
Священный сладостный обман,
Души волшебное светило...
Оно сокрылось, изменило...
Храни меня, мой талисман.
Пускай же ввек сердечных ран
Не растравит воспоминанье.
Прощай, надежда; спи, желанье;
Храни меня, мой талисман.
1825
|
Метки: тихи актуальный Пушкин Воронцова Е. К. |
Марафон в честь дня рождения Пушкина |
Предлагаю устроить марафон в честь этого события. Это означает приглашение каждому из вас запостить в наше сообщество - замечу, единственное сообщество, посвященное Пушкину в Живом Журнале - хороший радостный пост - пусть даже это будут ваши любимые стихи из написанных А.С Пушкиным.
Наполним вирутальное пространство именем Пушкин! Это будет и нашим поздравлением и нашим признанием в любви к Александру Сергеичу. Думаю, что он был бы тронут...
И, сохраненная судьбой,
Быть может, в Лете не потонет
Строфа, слагаемая мной;
Быть может (лестная надежда!),
Укажет будущий невежда
На мой прославленный портрет
И молвит: то-то был поэт!
Прими ж мои благодаренья,
Поклонник мирных аонид,
О ты, чья память сохранит
Мои летучие творенья,
Чья благосклонная рука
Потреплет лавры старика!
|
|









