-Поиск по дневнику
-Подписка по e-mail
-Постоянные читатели
-Статистика
Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.
Исходная информация - http://chto-chitat.livejournal.com/.
Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss/??ac108cb0, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.
По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.
[Обновить трансляцию]
Отзыв на «Клинок из черной стали» Алекс Маршалл |

… И продолжаются приключения с того места, где закончилась первая книга цикла. Как и в первой части, действо почти ни на мгновение не тормозит. И всего стало больше. Больше внимания увечьям, разнообразным, частным и настоящим, которые не забываются к следующей главе, а продолжают причинять страдания на протяжении всей книги; больше времени уделяется употреблению всяких веществ – и не просто демонстрируется культура курения трубки, как то было в первой книге. Здесь просто их принимают горстями, надо или не надо, в том числе, чтобы заглушить боль. Больше однополых отношений и искр, пробегающих между теми, кого в подобном даже не подозреваешь. Больше битв между многочисленными армиями, а не мелких стычек. Битв сумбурных и оборачивающихся громадными потерями.
Чаще стал подниматься вопрос о нюансах взаимоотношений демонов-хранителей и их "хозяев". Чаще используются "варп-порталы" и тщательнее описываются разнообразные физические изменения, происходящие с осмелившимися к переходу сквозь них.
Кроме того, до кучи – появляются "дикие" демоны, любящие взаимодействовать со смертными всякими непотребными способами.
Параллельно – немного развития темы о проблемах матерей и детей. Автор по-прежнему продвигает идею крутых женщин и менее крутых мужиков. Но все это в разумных пределах, обоснованно и уместно, иные сочинители так не смогут, а свалятся в крайность, ту или иную.
А, и остров же еще, упомянутый в первой книге. Пусть и не совсем "чудовищно древний, поднявшийся из неимоверной глубины, и населенный непередаваемо жуткими существами", но тоже описанный увлекательно и интригующе.
Наконец, религиозники проявили себя как нельзя хуже, настолько, что заставили непримиримых врагов…
В общем, следует отметить – все, что было запланировано в первой книге, здесь успешно реализовано, возникшие в процессе вопросы также учтены, и, либо разрешены полностью, либо дополнены новыми фактами и оставлены для третьей книги, для пущего, так сказать, эффекта.
Из минусов книги – она изначально зажата в рамки. У истории есть начало – первая книга, будет и финал – третья книга. А вторая является четкой серединой, ни в коем случае не самостоятельной, неотрывной от других книг цикла.
Но да, она дополняет мир, развивает его и персонажей, открывает что-то новое. Написана как надо, то есть.
Кроме того, чувство всеобщей несерьезности здесь чаще дает о себе знать. Вроде все эмоции и действия достоверны, и при этом – подвох, автор как будто насмехается, где-то, в чем – то, есть такое дело.
Также имеет место быть странноватое половое самоопределение, особенно у варваров. Кто есть женщина физиологически, а кто мужчина, если и воспитание, и собственные ощущения, и роли внутри семьи перепутаны, перераспределены до полного непонимания сторонним наблюдателем.
Возможно, дело только в том, что данные эпизоды следует читать внимательнее, а не нестись на всех парах, подстроившись под общий драйв сюжета. Но в таком случае, это можно отнести к еще одному минусу. Как так, везде несерьезно и боевито, а вот тут все стало сложно и надо думать?
Как бы то ни было, книга все же хороша. Автор держит планку, и интерес к происходящему не угасает до самых последних строк. Ждем теперь третью книгу.
|
Метки: боевик реализм |
Поиск по описанию |
по описанию её начала:
Там мужик, который живёт вроде в Чикаго пошел на прием к доктору и по пути промочил ноги. Доктор его обследовал и сказал что диагноз неутешительный. Ему осталось год в лучшем случае. И следующую простуду он не перенесет. Что ему нужно уезжать туда где тепло и все дела приводить в порядок. Туда, куда он поедет там будет происходить что-то странное
|
|
Пожалуйста, помогите, найти книгу (серию) |
Обращаюсь к уважаемому сообщество с просьбой вернуть душевное спокойствие и помочь дать наводку на роман или серию, прочитанную еще в юношестве.
К сожалению поиск по обложкам или ключевым словам результатов не дал в виду больших провалов по памяти и времени.
Что помнится по сюжету:
Некая тайная и могущественная (инопланетная?) организация ведет (тайный?) набор колонистов для осваивание другого мира, набор как среди военных, так и среди гражданских научных специалистов. Кажется там что то было про жесткий лимит по количеству персонала, объема и веса имущества. Смутные воспоминания про момент перехода в новый мир: описание колонны первопроходцев, особенности охраны, порядка и очередности перехода, кажется лошади тоже были...
Описание первых дней обустройства - расчистка площадки, организация охраны и обороны...
В новом мире после стычки выясняется о наличии аборигенов - что типа волков-оборотней, воинственных, объединенных кажется в родо-племенные сообщества.
Опять таки смутные воспоминания по поводу первой стычки - описание разведки со стороны аборигенов, их первая атака, потери среди гражданских, работа боевого подразделения, и что то типа "...снайпер занял выгодную позицию на крыше контейнера...", описание стычки с позиции снайпера как говорится через прицел.
Пока к сожалению все что вспомнил, при необходимости, готов дополнить.
Заранее искренне благодарю участников сообщества за внимание и помощь, ибо я уже извелся и желание вкупе с бессилием найти этот текст уже извели хуже некуда.
С уважением,
Денис Д.
|
|
«Плюс жизнь», Кристина Гептинг |
Прочитала повесть Кристины Гептинг "Плюс жизнь", изданную отдельной прекрасной книжечкой.
Неправильно, наверное, помещать произведение в жанровые рамки подростковой литературы, хотя очень хочется. Потому что рамки эти просты и логичны: молодой человек, конечно же, "не такой как все", исключительный, необычный, борется с заурядной и пошлой средой (ну как же надоело). В процессе взросления он получает уроки жизни и подходит к новому этапу чуть более умным и опытным, все было не зря. А читатель для себя извлекает несколько обязательных уроков: важно уметь дружить и быть искренним, не оценивать людей по формальным признакам, верить чувствам и так далее. Назидательность, дидактизм, четко сформулированная мораль — обязательные условия жанра, и все это есть в повести Кристины Гептинг.
Еще одно структурное условие жанра, которым пользуется автор, Главная Проблема Героя. У Джуда Ханьи Янагихары это ощущение оставленности и затянувшееся сексуальное насилие, которые навсегда определили внутреннее состояние, у героя Фоера это синдром Аспергера, у нашего Льва —вич-положительный статус с рождения. ГПГ — это обязательная стена, которая отделяет персонажа от большого мира, рабочий прием, как говорящие фамилии у классицистов или стремление к честному труду у соцреалистов.
Интересно наблюдать за тем, как составляющие литературного процесса меняются под влиянием времени и потребностей общества. В 90-е и к началу нулевых критики фиксировали самоустранение жанров, и, соответственно, внутренних правил текста. Исчезновение полнокровных героев, смысловой фабулы, полный распад традиции. В рассказе Сорокина "Настя" (2000 год) девочку запекают в печи и съедают за большим столом ее родственники. Здесь нет привычных триггеров, которые позволяют нам зацепиться за историю, героев; здесь нет оценок, характеристик и трехмерного сюжета — литературный прием ради литературного приема; ужас, отвращение, извращение как текст, как единственная самоцель. Просто деконструкция, условие эпохи постмодерна. Но вот сегодня, после новых реалистов, с отрицанием самого отрицания, мы опять пришли к необходимости и важности жанровой целостности. О, ужас, мы жалуемся на то, что современная русская проза дает мало произведений "средних жанров" — беллетристики и хорошей подростковой литературы, сравнивая с ситуацией на англоязычном рынке. Но "Плюс жизнь" — это замечательный пример хорошей рамочной литературы с сильным авторским голосом и набором обязательных условностей, которые не дают словам и предложениям разбегаться по конъюнктурным углам.
Кроме жанровых условностей, которые склеивают повествование, текст фиксируется и на сугубо авторских "зажимах": разделении условно реалистического бытийного мира повести на хороших — понимающих, толерантных, образованных — и плохих. Так получилось, что почти все представители старшего поколения у Гептинг получились моральными уродами, морлоками, глухими к ГПГ. Сергей Козлов чутко отметил схожесть бабушки Льва с вечно живым персонажем Павла Санаева, но не в одной ней дело. Дамы из отдела кадров больницы, мама Арины, некие эпизодичные "врачихи", мама друга, которая настолько тупа, что наверняка не слышала слова "биоинженер", библиотекарша с вич, которая за пять минут успевает пережить трагедию измены мужа и поделиться прикольным кулинарным рецептиком в "Одноклассниках". Здесь мы наблюдаем не формальное разделение персонажей в контексте конфликта отцов и детей, если бы. Это примитивный прием, который позволяет ровнее натянуть сову на глобус: "есть герой (показываю на него пальцем), которому надо сопереживать. Он вич-положительный, он страдает, понятно? А чтобы вы не теряли импульс сопереживания — пусть почти все окружающие мальчика люди будут негодяями, так лучше? Отлично". К сожалению, автор сознательно вульгаризирует эту линию, отказывая собственным персонажам в рефлексии, в личном прошлом, в объяснении мотивов своих поступков. Такая трогательная дискриминация в манифесте против дискриминации. Что это — тонкая игра в переходный возраст и намеки на бескрайний юношеский максимализм-нигилизм или просто последовательная структурная позиция автора?
Для меня ответ очевиден — это выбор Кристины Гептинг. Все в произведении рождается и развивается под ее чутким контролем: Лев и Арина говорят одинаковыми голосами, исповедуют одинаковые ценности, имеют сходный образ мысли — мысли, голос, ценности самой Кристины. С одной стороны едкая, ироничная, свежая мысль автора, которую хочется вертеть в голове, настолько она легкая, с другой — шаблонные оболочки главных героев. Арина свободная, хозяйственная, истеричная, без предрассудков, с дредами, клеит обои и играет на флейте. Лев: симпатичный, умный, себе на уме, общается со всеми как с равными, но в то же время внутренне страдает. Думать, анализировать, размышлять, копаться в деталях не нужно — просто закрываешь глаза и представляешь образы, это легко, ведь перед нами пластичные куклы с узнаваемой оболочкой и едким внутренним наполнением "я" Кристины Гептинг.
Структура и жанр — два ключевых понятия, которые помогают понять "Плюс жизнь". К слову, кроме структуры презентации и отношений героев в повести выстроена строгая схема тезисов и антитезисов, связанных с принятием обществом вич-положительных людей. Шаг за шагом автор с помощью разных картонных персонажей вбрасывает стереотипные размышления и разрушает их, как черепаху Боженька. Иногда кажется, что этому процессу уделяется больше внимания, чем формальным составляющим сюжета. У самоубийства Ромы, Левиного друга, вообще нет смысла, нет даже попытки проанализировать мотивы, такой хрестоматийный "внезапный Гитлер" без последствий для внутреннего состояния главного героя. Процесс воспитания правильного восприятия читателем проблемы социализации людей с вич исключительно тоталитарен. В патриотической прозе Александра Проханова и то больше вольномыслия, чем позволяет себе Кристина Гептинг в повести (не верю, что пишу это). Эту проблему нельзя списать на издержки жанра, это еще один авторский зажим — ослиная тоталитарность сознания и стремление к морализаторству (где-то — в затерянном антикафе или лофте — тихо плачет одинокая Витя Краб).
Но в то же время сложно не согласиться с Галиной Юзефович, когда она говорит о прекрасном языке повести, глубинном желании героев жить и быть счастливыми. Язык Кристины Гептинг и правда замечательный: легкий, стройный, пассионарный, свежий. За счет плоскости и одномерности повествования книга читается быстро, сюжетные коллизии угадываются. Выводы делать не нужно, автор уже потрудилась за вас, просто двигаемся по проторенной колее. Этот дебют часто сравнивают с "F20" Анны Козловой, но мне сложно согласиться. В случае Козловой перед нами сложный импульсный текст, над которым нужно думать, переживать его, — и все равно не будет уверенности в том, что ты прав. То же с "Заводом “Свобода”" Ксении Букши или ранней повестью Сергея Шаргунова "Малыш наказан", или "Машей Региной" Вадима Левенталя (даже опыты Антона Секисова и Саши Филипенко в этом смысле более раскованны и открыты миру).
Была ли эта попытка вырастить мальчика по типу малыша Холдена Колфилда? Не знаю, но отчетливо узнаю черты Клима Самгина, — и вич-положительный статус тут вообще ни при чем.
Ссылка на рецензию С. Козлова: https://vk.com/blackgrifon?w=wall3010517_4396

|
Метки: 21 век русская проза |
Франк Тилье "Шарко" (серия о Франке Шарко и Люси Эннебель) |
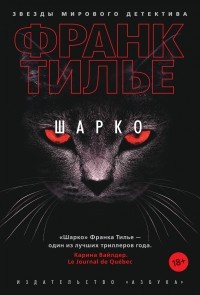
Начало впечатляющее: в океанариуме аквалангист, трудящийся в бассейне с акулами, демонстративно разрезает себе руку ножом. Разумеется, акулы не могут проигнорировать столь недвусмысленное приглашение к трапезе и с удовольствием обедают этим человеком на глазах охреневших зрителей. Итак, что не так с этим парнем? С чего бы ему совершать самоубийство таким экзотическим способом, травмируя посетителей, среди которых были и дети?
Далее повествование переходит к Франку Шарко и Люси Эннебель. После гибели дяди-полицейского Люси получает от тети папку с материалами по его последнему расследованию - исчезновению двадцатилетней Летиции Шарлан. Как оказалось, дядя был убежден в виновности некоего человека, однако прищучить его официальным путем не мог, посему невесть как умудрился сделать слепок с ключа от его дома, намереваясь втихую поискать улики. Но не успел.
Охотничий инстинкт полицейского у Люси в крови: просмотрев материалы, она решает, что должна продолжить дело любимого дядюшки. И влезает к подозреваемому в дом. Но вот незадача: лиходей застаёт ее за самодеятельным обыском и пытается придушить. Обороняясь, женщина отправляет его на тот свет. Если вспомнить досье этого типа, невелика потеря для общества, но как, помилуйте, она объяснит все это полиции?
А никак, ибо Франк Шарко, ее партнер и полицейский комиссар, помогает скрыть присутствие Люси на месте преступления. Более того: желая защитить любимую женщину и мать своих детей, он берет расследование этого убийства на себя.
Сперва задача кажется не такой уж сложной - подзапутать следы, не позволить следствию повернуть "не туда" и в итоге плавно слить в висяки , но вскоре в деле начинает всплывать отборнейшая жуть и всё идёт не по плану.
События развиваются быстро, сюжет захватывает. Жесткие подробности, как всегда, имеются и не только в плане описания мест преступления, сама история - жесть та ещё, начиная от первых действий Шарко во спасение Люси. Манера изложения четкая, без размазывания, как и подобает триллеру такого рода.
Полицейская работа расписана увлекательно, и тем интереснее, что на этот раз она....как бы это сказать...двойственна - Шарко запутывает следы, пользуясь теми же навыками, какие его коллеги используют, чтобы раскрыть это преступление, и при помощи этих же навыков он пытается сложить из всплывающих по ходу следствия фактов единую картину - и она складывается, причем весьма пугающая. Проще говоря, на этот раз наш герой одновременно по обе стороны баррикад, пытаясь раскрутить одни аспекты дела и скрыть другие, и это весьма занятно.
Чем дальше, тем большая маньячная жуть проявляется - Тилье по этой части ничуть не уступает своему соотечественнику Жану-Кристофу Гранже, известному жёсткими мрачными триллерами.
Затронутая тема для триллеров и ужастиков не нова, но преподнесена и обыграна хорошо, с добротной долей мрачняка, правильным подходом и интересными поворотами, посему очень увлекает. Как и в "Монреальском синдроме" ("Синдроме Е") и "Проекте "Феникс" автор лихо закрутил сюжет, много чего туда намешав, и коктейль получился весьма неплохим. Разгадка не разочаровывает, как и финал.
Отличный триллер.
|
Метки: французская триллер детектив |
Помогите найти книгу |
И ещё у девушки были толи белые волосы с одной чёрной прядкой или наоборот чёрные волосы и белая прядка.
|
|
Г. Мюссо " Я возвращаюсь за тобой" |
Можно ли противостоять судьбе и есть ли она? А жизнь после жизни? И кто главный враг любого человека и героя романа тоже? Можно ли быть несчастным на "вершине жизни", будучи знаменитым, богатым и имея возможность реализовать любое свое желание
Философская притча, экшн, триллер, роман о любви- автор использует модный нынче прием смешения жанров
И еще можно добавить, что это роман о депрессии, связанной с отсутствием смысла жизни. О том, как важно все время сверять свою дорогу с внутренним компасом. Туда ли я иду? не изменились ли ориентиры за прошедшее время?
Больше всего запомнилась и ошеломила сцена знакомства главных героев.
И, конечно, финал, где мы узнаем, кто же таинственный преследователь в капюшоне. Уверена, никто из читателей так и не смог предугадать такую шокирующую развязку..
Автора можно назвать любимцем Фортуны- уже первый его роман был напечатан в количестве более миллиона экземпляров и был экранизирован. А я ничего о нем до сих пор не знала, кроме имени, которое на слуху.
А процитировать хочу эпиграф к одной из глав: "Когда я была ребенком, роскошью мне казалась шуба, длинные платья и виллы на берегу моря. Позже я стала считать, что это значит вести интеллектуальную жизнь. А теперь мне кажется, что это -возможность испытать страсть к мужчине или женщине" Анни Эрно
|
Метки: французская триллер любовь |
Ищу уже года четыре |
Далее уже смутно помню, что там какой-то старый и страшный врач оказал какую-то жизненно важную услугу отцу главного героя (а может и не главного), за что тот (отец) обязался ему отдать своего сына в ученики (а может не в ученики, но точно в какую-то кабалу) по достижении взрослого возраста оного.
Дальше сынок подрос и его отец весь в тяжких раздумьях как бы не возвращать должок...
А дальше я прервался ввиду обстоятельств. С тех пор ищу чтобы дочитать, но не помню ни автора ни названия.
Написано было складно. Автор заграничный, не из новых. Произведение вроде бы не маленькое ~ может страниц на 350. Автор западноевропейский. Не фантастика.
|
|
Помогите найти книгу |
Надеюсь кто нибудь опазнает книгу по моему скромному описанию.
Насколько помню, сюжет книги разворачивается в недалёком будущем. Изначально рассказывается что все население планеты живёт только в городах (огромных, обнесеных стенами-заводами). Главный герой обычный житель, но потом внезапно начинает замечать странные тени. После того как он начал их видеть, они начали на него охотится. Ему приходится бежать из города. Точно помню что во время побега он нашел странного робота сайбера(или как то так). А под конец, когда герой выбрался из города и встретил людей живущих за пределами мегаполиса, выяснилось что тени охотятся на тех в ком проявляются силы, и являются чем то типо чистильщиков.
|
|
Мои читательские планы на январь |

На сегодня приятно удивлена Эми Чуа и Гейл Ханимен
Ферранте мне еще предстоит прочитать)))
Ролдугина прекрасно подходит чтобы нескучно провести вечер, а вот на Маршала не стоит даже тратить время - внутри одна вода...
|
|
Бойцовский клуб - роман о постмодернизме? |
"Этот мир отныне принадлежит нам и только нам, -
говорит Тайлер. - Древние давно в могилах."
Чак Паланик
"Бойцовский клуб". Книга появилась двадцать лет назад, в далеком 1999-м. Ее поначалу отказывались публиковать, но потом приняли, и она выстрелила - стала бестселлером. Многие молодые люди пытались собирать свои "клубы", и эти попытки жестко пресекались. Спустя некоторое время волна популярности спала, Паланик написал другие книги, а рынок не стоял на месте.
А потом пришел Брэд Питт и все снова закрутилось.
Кто не читал книгу, тот наверняка смотрел фильм, поэтому сюжет пересказывать не буду. Я хочу порассуждать, о чем же этот роман.
Те, кто знает, кто такой Тайлер Дерден, проходим в наш клуб раковых больных. Остальных прошу ознакомиться с матчастью.
Achtung - филологический длиннопост.

Какую фразу на уроках литературы мы слышим чаще всего?
"Этот роман - критика на современное автору общество и является прямым ответом ...изму (подставьте любое литературное течение)"
Так оно и есть. Поэтому я обойдусь без пустых фраз типа "критика постмодерна" и "ироничное переосмысление". Ну их, верно? Поговорим живыми словами, так, чтобы поняли все.
В начале романа мы узнаем, что главный герой страдает от бессонницы и находит странное решение - ходить в группы поддержки людей с терминальной стадией рака и "симулировать". В конце каждой встречи он чувствует облегчение, плача на плече у настоящего больного.
"Плакать легко, когда ты ничего не видишь, окруженный чужим теплом, когда понимаешь: чего бы ты ни достиг в жизни, все рано или поздно станет прахом."
Что происходит в этот момент в душе главного героя? Почему такое странное поведение, зачем ему эти группы, что он там ищет?
Он приходит к людям с настоящим горем и говорит о своем, придуманном, таком же настоящем. Он приходит туда, где никто не скажет, что его проблемы не стоят и выеденного яйца. Он одинок, одинок по-настоящему, и настолько отчаялся найти кого-то понимающего, что, когда в его окружении появляется Марла, он боится. Страшится, что его снова заклеймят нытиком, рохлей, не настоящим мужиком.
Мне самой с детства говорили, что я должна быть счастливой. Других опций предоставлено не было. У меня есть семья, две пары конечностей, и я не больна раком. Странная в 21-м веке формула счастья, не находите? Не хватает только ожерелья из камней, тогда я бы стала прямо-таки богиней счастья каменного века, когда реки были кисельными, лбы - низкими, а Маслоу еще не рисовал свою пирамиду.
Эти встречи стали для героя способом научиться выражать эмоции и таким образом понять себя чуточку лучше. Думаю, многие согласятся со мной, что в момент, когда ты сидишь с кем-то и говоришь о том, что тебя беспокоит, мысли-скакуны каким-то непостижимым образом причесываются и ты как будто видишь ситуацию немного со стороны.
А что делать, если ты одинок? Не один, нет - вокруг так или иначе семь миллиардов людей. Именно одинок.
Люди начинают рефлексировать. В кинематографе этот прием часто изображается через глубокомысленный взгляд в зеркало. Одинокие люди начинают разговаривать сами с собой. Нам все равно нужно говорить, ведь слова сродни лекарству. Ты можешь знать, осознавать логически, но иногда просто необходимо услышать нужные слова.
Так на сцене появляется он. Тайлер Дерден, сын маминой подруги. Тайлер, с которым герой знакомится на пляже. Они как две противоположности: герой - безымянный, жалкий, сидит на песке и прикрывает родимое пятно на ноге, чтобы, не дай Бог, никто ничего такого не подумал, а у Тайлера есть все, то есть все то, чего нет у героя. У него есть имя.
Интересная также сцена, в которой появляется Тайлер. Он создает тень гигантской руки, которая появляется всего на минуту, и смотрит на героя. Здесь важны сразу несколько элементов:
1) Тайлер не боится показаться смешным. Он творит, что ему заблагорассудится, возится с бревнами, вкапывая их в песок. Ему все равно, что о нем подумают. О такой свободе главный герой пока может только мечтать.
2) Гигантская рука - аллюзия на Бога.
И я плавно подхожу ко второй важной теме романа. Тема Бога-отца.
"Если ты американец мужского пола и христианского вероисповедания, то твой отец - это модель твоего Бога. А если ты при этом не знаешь своего отца, если он умер, бросил тебя или его никогда нет дома, что ты можешь знать о Боге?"
Википедия говорит, что эта цитата оправдывает теорию о токсичной маскулинности и описывает общество "мужчин, воспитанных женщинами". Я осмелюсь перечить ресурсу и вскользь намекну, что мотив умершего, бросившего человека Бога отсылает нас немного дальше - к философии Ницше (Хайдеггера, Гегеля) и... всего постмодернизма.
Хайдеггер утверждал, что смерть бога - это смерть самой философии и конец метафизики (реальности). Постмодернисты стремились разрушить все существующие каноны, сломать все возможные парадигмы и высмеять то, что осталось.
Тайлер Дерден создает проект "Разгром" и хочет взорвать город. Члены "Бойцовского клуба" совершают различные мелкие преступления, злобно смеясь на высшим обществом. Они мочатся в суп в ресторане, вклеивают кадры из порнофильмов в детские мультики, в общем - развлекаются как могут.
Я вот страдаю по-вертеровски, а они иронизируют по-постмодернистски.
Тайлер Дерден говорит, что хочет подтереться Моной Лизой и разбить молотком все экспонаты в музее, чтобы "Бог услышал его". Он говорит, что прошлое мертво и мир принадлежит им, новому поколению. главный герой соглашается с ним и следует его указаниям, пока наконец не осознает, что может исчезнуть, сам стать Тайлером.
Он понимает, что, как бы ни была привлекательная идея разрушить все колченогие скрепы, в итоге она ведет в никуда. Бог мертв, смысла нет - уже или еще, а он сам и его поколение одиноки. У них нет ничего, пьедестал под ногами рассыпается.
В конце романа он цитирует стихотворение Шелли:
И сохранил слова обломок изваянья: —
«Я — Озимандия, я — мощный царь царей!
Взгляните на мои великие деянья,
Владыки всех времён, всех стран и всех морей!»
Кругом нет ничего… Глубокое молчанье…
Пустыня мёртвая… И небеса над ней…
(пер. К. Бальмонта)
Результатом того, что предлагал Тайлер (читаем - все постмодернисты) станет не что иное, как мертвая пустыня, пустота.
Конец романа - "глубокое молчание", однако не то, что имели в виду Сартр и Камю, стремившиеся отыскать смысл во избежание экзистенциального ужаса, а умиротворенное. Герой осознает, что слом идеалов совершенно не то, чего он искал. Разрушив систему, он поневоле создаст новую и, возможно, более ужасную. Ту, в которой единственному оставшемуся поколению не останется ничего другого, кроме как пожрать себя, подобно мифологическому Уроборосу.

Поколение главного героя - это поколение потребителей. Вспоминаем - Тайлер и команда варили мыло из человеческого жира, продавая его по двадцать баксов за брусок. Люди из высшего общества покупали его очень охотно, смыливая частицы себя и отправляя их в канализацию.
Саморазрушение - важная тема в романе.
"Самосовершенствование - это еще не все. Возможно, саморазрушение гораздо важнее"
Архетип Уробороса отождествляет его с темнотой и саморазрушением, однако в то же время с плодородием и творческой потенцией. Амбивалентность (двузначность) - всегда очень сложное понятие в литературе, но тут его можно относительно легко разложить по полочкам. С одной стороны - потеря личности, которая воспевается в первых 99% романа. С другой же - осознание этого самого саморазрушения как чего-то негативного. Это важно, потому что до этого вся постмодернистская литература говорила о потере своего "Я" как о чем-то неотвратимом.
В конце романа главный герой говорит, что если он будет позже ложиться и раньше вставать, то, возможно, Тайлер исчезнет. Но для полной уверенности ему было необходимо спустить курок. И он это делает.
Еще немного о змее Уроборосе: сам роман "закольцован", то есть начинается там, где и заканчивается - на крыше взрывающегося небоскреба. Концовка пожрала начало или же начало неотвратимо вело к концу? Этот вопрос остается без ответа.
Последний же абзац звучит так:
"- Мы должны уничтожить цивилизацию, чтобы сделать из нее кое-что приличное.
Он (голос) шепчет:
- Мы с нетерпением ожидаем вашего возвращения."
Снова замкнутый круг, на этот раз - смерти и рождения. Человеческая суть не меняется. Снова будет безымянный герой, снова появится Тайлер Дерден. Страсть к разрушению была известная со времен Герострата, и кто сказал, что когда-то это закончится?
Круг не имеет конца. Круг не имеет начала.
Появится тот, кто скажет:
"Спаси меня от шведской мебели. Спаси меня от произведений искусства."
Спаси его. Спаси и сохрани.
|
Метки: 20 век реализм Паланик постмодернизм |
Процитировано 1 раз
Уютное и доброе |
А посоветуйте что-нибудь, чтобы оставалось ощущение тепла, уюта, добра.
Как пример: Ложится мгла на старые ступени Чудакова.
Большое спасибо ответившим.
|
|
Книги за 2018 год. Мой личный хит-парад |
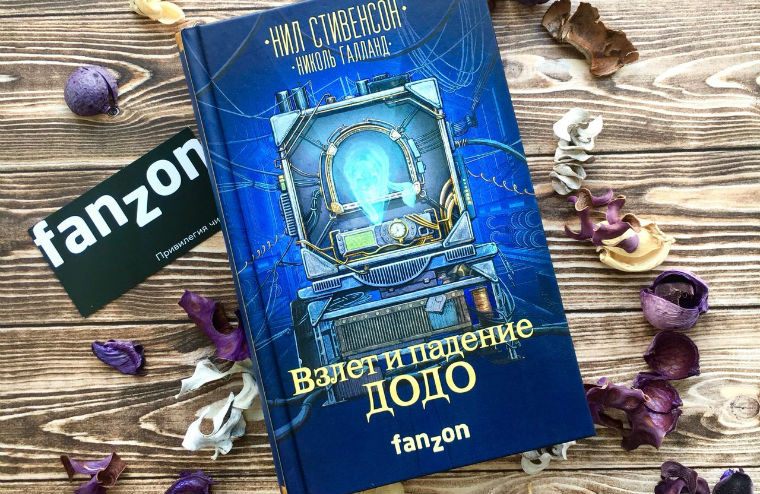
1. На первом месте, с огромным отрывом, Нил Стивенсон и Николь Галланд.
https://chto-chitat.livejournal.com/13633798.html
2. Марк Лейкин, "Под Луной".
https://chto-chitat.livejournal.com/13570992.html
3. Трилогия "Три кварка" Владимира Тимофеева.
|
Метки: альтернатива фантастика |
Сэй Алек (Алексей Герасимов), цикл "R.I.C. Королевская полиция Ирландии" |
Неторопливо, размеренно, изящно и увлекательно. Из фантастики в книге только альтернативная история, да и то не так уж сильно отличающаяся от нашего мира.
Главный герой — ирландский полицейский, добрый смекалистый малый, который оказывается вовлечен в расследование загадочного убийства матери-настоятельницы монастыря. Благодаря сообразительности и острому уму ему удается прекрасно справляться со своей непростой, но такой нужной работой.
Здесь нет бешеных страстей, погонь и перестрелок. Зато присутствует юмор, от которого не будешь хохотать, но искренне улыбнешься. Альтернативный мир, щепотка юмора, детективная канва, пасхалки щедрой россыпью по тексту - все очень даже приятно.
|
Метки: альтернатива фантастика детектив |
Луиза Пенни "Стеклянные дома" (серия об Армане Гамаше) |

Канадская деревушка Три Сосны - место удивительное, на картах не обозначенное. Идиллические пейзажи, уютная атмосфера, интересные в своем своеобразии жители, за двенадцать книг ставшие мне, как родные - в романах Пенни дух классического детектива гармонично уживается с детективом современным. Светлые и добрые моменты перемежаются драматическими эпизодами, тонкий психологизм оттеняется забавными диалогами. Правда, в некоторых книгах цикла первична именно атмосфера, а детективная составляющая отходит на второй план, однако "Стеклянные дома" - это не тот случай.
Арман Гамаш, некогда старший инспектор, а теперь суперинтендант квебекской полиции, прекрасно смотрится в роли главного героя: наблюдать за ним в работе - одно удовольствие, его личностные качества вызывают восхищение, и по всем при этом он не идеален - Гамаш совершал и совершает ошибки, как и мы все, и сполна огребает последствия.
Начало романа очень интригует: зал суда, Гамаш в роли свидетеля, а позже свидетельское место займут и некоторые жители Трёх Сосен - и во всей этой ситуации чувствуется что-то неоднозначное, тревожное, словно все сложнее, нежели просто раскрытие преступления и поимка преступника. Параллельно нам напоминают о том, что он за человек - Арман Гамаш, и это заставляет гадать, что заставляет его беспокоиться - в чем суть этой истории и с чего она началась?
А началась она с фигуры в длинном темном тяжёлом пальто с капюшоном и маске. Эта фигура впервые появилась на хеллоуинской вечеринке в бистро, а затем принялась безмолвной черной тенью маячить на лугу. Кто это? Что ему нужно? На вопросы незнакомец (незнакомка?) не отвечал и было в его молчании нечто тревожное. Впрочем, долго это не продлилось - спустя два дня в часовне находят тело человека в маске и темной накидке и с изуродованным битой лицом... Жертву все же удается опознать, однако ясности это не прибавляет: какое послание несло это молчаливое двухдневное бдение? кто получил это послание и отреагировал на него столь чудовищным образом?
Стиль изложения у Пенни прекрасен: плавный, красочный, отличающийся гармонией между четкостью и эмоциональностью, а также мягкой ироничностью, которая смягчает детективные эпизоды и поддерживает уютную атмосферу. Отдельно упомяну диалоги, некоторые из них совершенно прекрасны - сплошное удовольствие, дивный тандем юмора и глубины.
Главы из зала суда перемежаются описаниями предыдущих событий - удачное построение повествования, подогревающее интригу. Наметки - что и кто может иметь отношение к делу - проявляются довольно быстро, но найти кусочки мозаики - это полдела, ибо чтобы увидеть картину в целом необходимо расставить их по своим местам.
Рассказываемая в "Стеклянных домах" история продолжает проходящую по нескольким книгам линию о Гамаше и квебекской полиции, и закручена она славно. Психологическая сторона очень хороша, некоторые эпизоды весьма напряжённые, разгадки не сказать, чтобы такие уж неожиданные, но и не очевидные.
"Стеклянные дома" - это не классический детектив, как некоторые романы серии, это детектив психологический и довольно многогранный: тут вам и зал суда, и уют Трёх Сосен, и немного экшна. Достойное продолжение цикла.
P.S. читать серию лучше по порядку, потому что в каждой новой книге много отсылок к предыдущим и по детективной части, и по части взаимоотношений персонажей.
|
Метки: триллер детектив |
Помогите найти рассказ |
Здравствуйте, помогите пожалуйста найти рассказ. Действие происходит в наше время, автор вроде бы женщина. Сюжет — старая дева часто в автобусе видит симпатичного мужчину и влюбляется в него. Фантазирует всякое, но без дальнейших действий. И вдруг на каком-то мероприятии видит его на сцене. Кажется, что мужчина улыбается конкретно ей, героиня не выдерживает своих чувств и сбегает. Последняя фраза в рассказе — что героиня видит вдруг себя в зеркале такой, какая она есть: старая, страшная, с ярко накрашенными губами. Но потом отмахивается от этого, как всегда.
Спасибо
|
|
Помогите найти |
|
Метки: поиск книги фантастика |
Англоязычная литература в стиле Чехова. |
Добрый день, друзья. С Новым Годом и Рождеством Христовым всех вас.
Если не ошибаюсь, подобный вопрос уже был в сообществе, но я не смог найти его и решил снова открыть тему.
Подскажите пожалуйста, англоязычных авторов, которые писали или пишут, условно говоря, в стиле бессмертного Антона Чехова - добрые житейские рассказы, иногда грустные, иногда с юмором, но всегда увлекательные.
Без насилия, жестокости, мистики, политики и фэнтези.
Короткие.
Мне хочется сберечь нервы и серьёзно продвинуть свой английский в этом году.
Всех благ.
Спасибо!
|
|
Книги 2018 (2 часть) |
Достоинство – кратко и по делу. Недостаток – кратко и очень фрагментарно, особенно по славянам да и информация устаревшая: не так там и мало информации. Но для общего беглого ознакомления – хватит.
38. Как говорить с детьми, чтобы они учились, Мазлиш
Очень любят ссылаться на книги этого автора, как на авторитет и автора панацеи от всех проблем детьми. Истинно американская книга: много похвалы себе любимым, фееричные ультра – позитивные примеры того, как эта система работает. Для ознакомления интересно и местами реально действенно, но думать, что прям все сразу заработает как тут написано – наивно, кмк.
39. История Спарты (архаика и классики), Печатнова
Все-таки не дает мне покоя история вообще и история древнего мира в частности.
Книга рассказывает об особенностях Спарты по сравнению с другими государствами греческого мира в период архаики и классики и ей внешней политике, обоснованной ей спецификой. Почему сложилась такая замкнутая система, почему земля была общей, кто такие илоты и почему вся эта система. Работавшая столетиями все-таки распалась.
40. Хтон, Пирс Энтони
Закос под что-то модернистское, когда классические мифы перекладываются на фантастический лад, приплетая к архитипичным сюжетам космические корабли и межзвездные колонии. Все бы ничего, но неоконченные фразы с многоточиями создают впечатление женского слезо- и медоточивого романчика. Т.н. идея Хтона интересна, но антураж картинку подпортил, кмк.
41. Кибершторм, Мэтью Мэтер
Что-то произошло в сети, так что вся система обеспечения по всей Америке рухнула и люди оказались в западне больших городов. Не так уж долго все длилось, всего чуть больше 60 дней, но этого хватило для превращения современной страны в стада одичавших людей. Очень злободневно. Да и в концовке автор так и пишет, чего он боится и что может стать нашей реальность.
42. Король Кровь, Саймон Кларк
Масштабно. И славвате, не какой-то мегапротивник, а просто наша планета проснулась и стала шевелиться, а всему миру пришел кирдык. Основная тема: что происходит с людьми в таких условиях, как быстро с цивилизованного человека слетает мишура приличия и воспитания и он показывает клыки в желании сохранить свою жизнь. Испугалась в какой-то момент что что-то фантастическое введут, но оказалось – пронесло и оправдание этому якобы мистическому дали вполне даже ничего, как минимум – оригинальное.
43. Семиевие, Нил Стивенсон
Капитальный такой труд – очень много места уделяется техническим моментам, что как устроено, какими законами физики пользуются. Но это и занудно. Что реалистично, так это отсутствие такого «все будет хорошо!», когда от полутора тысяч человек к концу центральной заварушки остается меньше сорока. Ну и Землю красиво разбабахали. Но второй раз читать точно не будешь: дикий объем, куча мелочей, концентрация на технике – точно не делает для меня эту книгу захватывающей.
44. Греческая религия: архаика и классика, Вальтер Буркет
Очень познавательная и написанная человеческим языком монография по религии древней Греции.
Только последняя часть тяжко далась: это когда излагали философские концепции натурфилософов и тех, кто после них. А до того момента, микенская цивилизация, древнейшие корни религиозного воззрения древних греков, их пересечения с другими религиями – все это было очень интересно для меня.
45. Эффект Марко, Юсси Адлер-Ольсен
Продолжение серии датских детективов.
46. Без предела, Юсси Адлер-Ольсен
47. Айсберг, Роллинс
Произведение вне серии «Отряд Сигма»: исследования в области бессмертия и ужасных монстров. Так, вечерок скоротать.
48. Зигзаг, Карлос Сомоса
Очень. Очень даже. Тут вам и триллер, и сюжет, и много-много квантовой физики и физики времени. Роман длинный. Но провисает мало где. Наверное, все-таки иметь представление теории струн не помешает, но вообще по мере повествования герои разъясняют основные положения, так что становится понятно, что откуда и почему.
49. Головоломка, Франк Тилье
Игра «Паранойя» в которой не так просто принять участие, в итоге приз в триста тысяч евро – есть ведь ради чего постараться?
Реально параноидально и шизофренично. Дочитывала одним днем, потому как свербило – что ж там в конце то концов было? Не могу сказать, что совсем неожиданная развязка (наверное, кто много читал подобных произведений, тот смог догадаться, что там было на самом деле), но я упорно думала про другое.
50. Реликт, Престон, Чайлд
Эту книгу уже читала раньше, но тогда мимо меня прошло, что это – первая книга про Пендергаста. Решила прочитать всю серию. Эту книгу читала наискосок – напомнить, что там было за растение.
51. Реликварий, Престон, Чайлд
Продолжение Реликта – в первой части был явный даже не намек, а указание на то, что будет продолжение именно этой истории, и – вуаля!
52. Кабинет диковин, Престон, Чайлд
А тут уже более мистики: по Нью-Йорку уже более ста лет гуляет серийный убийца, якобы нашедший элексир бессмертия. Что точно нравится, так это довольно неплохой экскурс в историю Нью-Йорка
53. Натюрморт с воронами, Престон, Чайлд
Очень тянуло на мистику, но, оказалось, что все реально, хотя не менее фантастично
54. Огонь и сера, Престон, Чайлд
55. Танец смерти, Престон, Чайлд
56. Книга мёртвых, Престон, Чайлд
57. Египетская мифология, Рак Иван Владимирович
Очень познавательно и, хотя работа научная, нет в ней занудства, так что читается довольно легко.
Кто все эти боги, где они появились и за что отвечают – самая интересная для меня часть. Ну и какие образы им соответствуют. А еще объяснено, почему мифы такие разные, даже про одно и тоже божество – даже Апоп, вечный враг Ра, и то иногда, хотя и редко, может выступать как его же защитник.
58. ТРИЗ-педагогика, Анатолий Гин
Типа как новая система обучения, научающая детей мыслить креативно. Ново, свежо и т.д. Ну, интересное есть, особенно с знанием системы 6 Сигма или Лин, как это у нас чаще называется. НО! Упорно не обращается внимание на то, что перед тем как обучать людей всяким креатиффам, ему надо научиться простым действиям, типа как в принципе думать и анализировать хотя бы в первом приближении + без фактилогической базы никуда не деться. Ну никак не объяснить человеку, как можно по-разному найти площадь квадрата, если он не в курсе, что такое квадрат, что такое стороны и сантиметры.
59. Штурвал тьмы, Чайлд, Престон
На этот раз даже мистики немного есть, которая так и остается мистикой, а не объясняется рационально. Очень интересная часть про работу на круизном лайнере, кто и что там, как все устроено и описание спасательных работ на громадном корабле.
60. Танец на кладбище, Престон, Чайлд
Основное действие крутится вокруг магии вуду.
61. Багровый берег, Престон, Чайлд
Почти что можно было поверить в мистику. Интересное про пароходы 19 века
62. Обсидиановый храм, Претон, Чайлд
ИМО, самая бестолковая часть: куча соплей, разговоров о чувствах – не то ожидалось от триллера-детектива. Пролистала половину точно – просто занудно и совсем не интересно. Наверное, что-то объяснялось, пояснялось, но совершенно не критичное. Будто авторы догоняли до нужного объема. Как контракт переписывал.
63. Краткая история быта и частной жизни, Билли Брайсон
Познавательно и кратко. Кажется, что просто поток сознания, но на самом деле книга четко структурирована и логически полна. Мне кажется, что такие книги надо усиленно подпихивать подрастающему поколению: написано забавно, занятно, по существу, в стиле «хи-хи, как смешно» дается экскурс в историю многих стран, событий, предметов. Ну а если что понравится, всегда можно найти более специализированные издания и усугубить полученные знания.
64. Нетопырь, Ю Несбе
Для меня несколько затянутое вступление – автор знакомит нас с главным героем и его тараканами (хотя странно, что знакомство происходит не в родной Норвегии с полным антуражем, чтобы читатель понимал, что там и как, а в не самой близкой Австралии). Действо само по себе начинается только в последней трети книги. Не могу сказать, что впечатлилась, но на вторую книгу решилась – чтобы таки увидеть, чего так все этого автора нахваливают.
65. Тараканы, Ю Несбе
Тут действие происходит в Таиланде. Ну хоть немного про работу героя в Осло рассказали, то как-то совсем отстраненно мы про него знаем. Что понравилось: введение в повседневную жизнь тайцев.
66. Красношейка, Ю Нёсбе
Занууудно… Действия в нескольких временных пластах. Идея понятна, но, блин, что ж так долго то? И вообще, странно читать про норвежцев, помогавших фашистской Германии и оправдания их действиям. Или то, как потом все дружно отрицали, что добровольно пошли на фронт помогать фашистам. А если к этому прибавить то, что некоторые идеи Третьего Рейха там отлично прижились (скажем, насильственная кастрация «неблагополучных элементов общества)…
67. В безднах земли, Сифр
Француз, впервые в мире осуществивший добровольное заточение в пещере на 60 дней, а затем, через 10 лет повторивший свой эксперимент, только удлинив его до 205 суток. Научные эксперименты – они такие научные… дело было в 60-70 гг ХХ века, как раз в разгар комической гонки, так что исследования поведения человека и его организма в полном уединении и в таких экстремальных условиях (постоянная температура, тишина, отсутствие общения и жизнь в «безвременье») были весьма кстати.
Познавательно. И удивительно, как люди с примитивным оборудованием (на нынешний лад) шли на такой колоссальный риск. Ну и очень интересно про биоритмы: оказывается, человек может существовать в 48 часовом ритме, работая по 36 часов и отводя на сон только 12 часов – и вот на сон уходит уже не треть, а только четверть жизни!
68. Ненастоящий мужчина, Бирюков Александр
«Настоящий мужчина должен…» - далее список можно продолжить до бесконечности. Но кому и почему? Почему современные дамы страдают, что «настоящие мужчины» исчезли, но при этом усиленно выискивают подкаблучников, которые будут исполнять все их пожелания (и которых они и называют «настоящими»), а сильных мужчин, способных жить без указки женщины, презирают, ненавидят… и отчаянно хотят?
Некоторые высказывания автора я считаю через чур грубыми, скорее популистскими, но… С многими приведенными им фактами соглашусь. Читая женские и родительские топики, я сама офигеваю от наглости, распущенности и беспардонности многих женщин, то того, что они хотят всех-всех прав, но при этом обязанности и ответственность брезгливо отодвигают, перепихивая все на плечи мужчин. И что козлами называют тех, кого не смогли сделать баранами – и это тоже правда.
То, что в семейной жизни мужчина оказывается в проигрыше – да, если посмотреть на наше семейное законодательство и реальность разводов: после него мужчина оказывается без квартиры, с алиментами и вероятностью оказаться без общения с детьми. Да, многие дамы не дают детям общаться с отцом, наговаривают на него, ссорят, манипулируют. Кто-то жалуется, что отец не хочет общаться с отпрысками… а тут встает другой вопрос: а кто не допускал отца до ребенка? Чтобы к кому-то привязаться, человек должен с этим другим общаться, заботиться о нем. А если мужчину к ребенку не подпускают (он же не знает, как его взять что сказать, как покормить – тоже видела из ближнего ряда, как мать вообще запрещала ребенка даже на руки брать всем, кроме себя. Даже отцу. Даже своей матери) или рожают его тогда, когда мужчина отцом стать не хочет (это уже из близкого окружения, когда женщине приспичило, мужчина просил подождать пару лет, но ей же надо! А потом удивляется, что мужчина не пылает страстью к ребенку).
А женщина при всем своем желании не может вырастить полноценного мужчину, ибо она сама – немужчина. Да и девочки в женском обществе не могут получить объемную картинку реальности с мужчинами.
На сына переносят все свои обиды на мужчин, на отца-козла (что ж за такого шла, да еще и ребенка рожала?) и несправедливость мира в целом. И вырастает мужчинка с огромным взращенным с комплексом вины и неполноценности, всю свою жизнь кладущий на алтарь «понравится мамочке», который затем снова выкидывается из семьи уже своей собственной… и круг замыкается.
Автор описывает ситуацию, как он её видит глазами мужчины (и я согласна практически со всеми наблюдениями), рассказывает, что он считает неправильным, порочным, как это портит жизнь как мужчинам, так и женщинам, и что, как ему кажется, поможет исправить ситуацию.
69. Опрокинутый мир, Кристофер Прист
Очень интересная тема и, на мой взгляд, немного занудное исполнение, особенно первая треть книги: половину бы точно выкинуть можно без потери смысла и атмосферы.
70. Острые предметы, Флинн
Довольно захватывающее и динамично. Ну и тема затронута сильная и важная – домашнее насилие и проявление того, чему был подвержен ребенок в детстве, уже во взрослом возрасте.
71. Тёмные тайны, Флинн
Треть книги можно смело выбросить: чрезмерные, многословные описания чувств и просто окружения напрочь убирают динамику, ничего не добавляя смыслу.
72. Погружение во мрак, Джон Дунлас, Марк Олшейкер
Агенты спецотдела ФБР по профилированию преступников. Чтиво несколько специфичное, на любителя документальных книг и, возможно, детективов: к примеру, профиль знаменитого Ганнибала Лектора создан на основании профилей нескольких реальных психопатов ну и плюс довольно подробно описана работа агентов и полиции по сбору вещественных доказательств и работе с ними в суде. В книге очень мало кровавых деталей, так что можно спокойно читать, не ожидая чего-то отвратительного, кроме самого факта того, что люди могут быть настолько жестоки друг к другу.
Считаю, что две главы надо обязательно прочитать родителям: там описано, как педофилы могут втираться в доверие к ребенку, какие их виды существуют, чем отличаются… и что можно сделать, чтобы снизить риски такого рода для ребенка. И не те, что любят сочинять в журналах для родителей, а те, которые составляли профессионалы, занимающиеся серьезной работой в этом направлении.
73. Вожаки и ведомые или как выжить в мире мальчиков, Розалинда Вайсман
Рассказ про т, как у сроен мир мальчиков. Какие там есть роли. Как мальчики общаются между собой, как реагируют на разные события в их школьной жизни.
Процентов 70 книги, имо, или простой треп, или ооочень спорные истины. Есть полезные факты или наметки того, на что надо обратить внимание родителям, но это все надо раскапывать в куче лишней или весьма спорной информации (например, мне кажется диким упрекать мальчика в том, что он создал клуб и принимает туда далеко не всех, типа, обижает других, тем. Что не принимает. Ну а какой смысл в клубе, куда может прийти-уйти любой?). Ну и подтекст того, что в проблемах общения с девочками априори виноват мальчик. Не, девочки тоже могут быть хороши… но это исключительно из-за внешнего влияния сми и мачистского мира. В общем, последние главы об отношениях с девочками надо читать, сжав зубы и глубоко вдохнув – это псевдофеминистический бред именно бред.
Хотя стало интересно, что написано в другой книге автор, там про мир девочек рассказывают. Сделаю перерыв, может, осилю.
74. Охотники за разумами, Джон Дуглас, Марк Олшейкер
Когда начинала читать, даже не сразу сообразила, что серила по этой книге я уже посмотрела, так что читать в плане «узнать новое» было не очень интересно, зато было занятно сравнить, что было в книге и что показали на экране.
В целом, все действия, художественно обыгранные, показали и это было даже интереснее. Чем в книге. Только одно вызывает недоумение: зачем в сериале ГГ сделали с явными чертами синдрома Аспергера? Ну вот мне прям глаза резало. А по книге – нормальный такой человек, ясно, что с проф.перекосами (работа то , упаси от такого!) ив юности почудил немало, а тут - прям робот.
75. Крампус, повелитель Йоля, Джеральд Бром
То, что христианство прикарманило себе праздники древних религий – для меня не новость. А тут рассказывают про это с позиции Крампуса, древнего бога, сына Хель, которому принадлежал праздник Йоль, который потмс христиане отдали Святому Николаю. Только вот Санта – никакой это не Святой Николай, который был просто человеком и умер давным-давно.
Разборки в нашем времени мне не особол интересны, а вот история, что там было, кто есть кто на самом деле – вот это было занятно.
Автор явно симпатизирует языческим божествам.
76. Потерянные боги, Джральд Бром
А тут автор не просто симпатизирует языческим богам, которые всегда были рядом с человеком и хотя временами могли быть жестокими, но тем не менее, не бросали своих последователей, а некоторые жили рядом с ними и искренне любили. А пришедшие позже Единобоги – они где-то там, они даже Аду не особо мешают бесчинствовать, только если Демоны начинают претендовать на то, что Единобоги считают своим (на в Чистилище они все равно туда не сильно не лезут – души несчастных их особо не трогают).
Явно просвечивает мысль о том, что Единобогам все равно, что там с душами происходит, пока их территориальные интересы не подвергаются опасности. Хотя время действия книги – наше время. Про Единобогов мы только слышим несколько раз, зато все языческие боги. Пока они еще хоть как-то существуют – вот тут, рядом, и их помощь (и месть) можно огрести в полном объеме. А уж безбожие и жадность самих людишек – поистине безгранична…. И только сами люди могут им противостоя.
<\lj-cut>
|
Метки: списки |
Процитировано 1 раз






