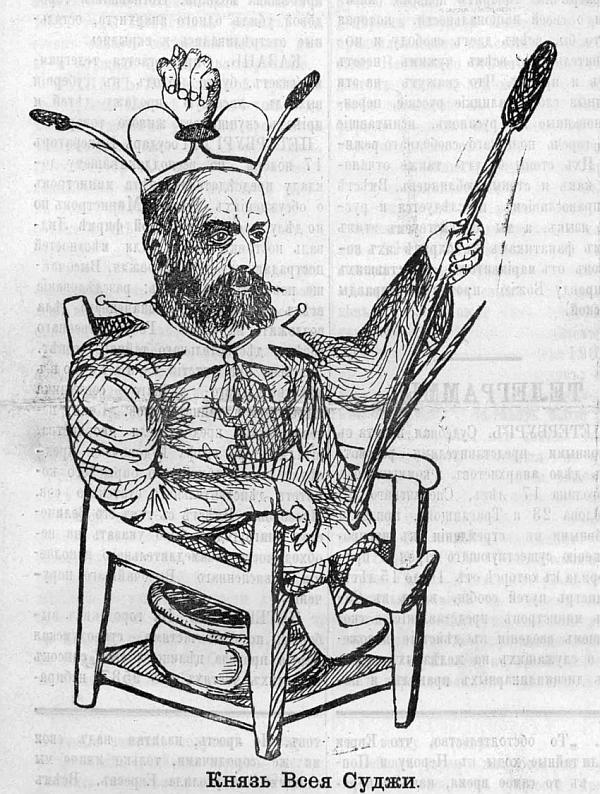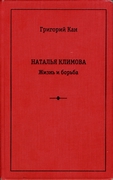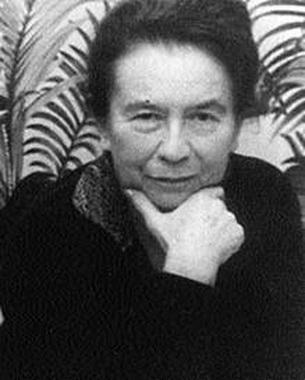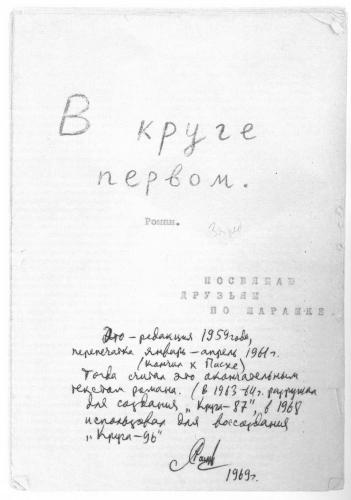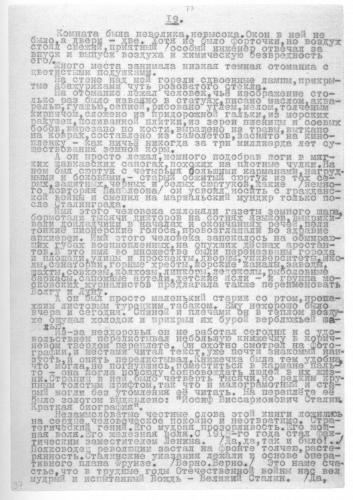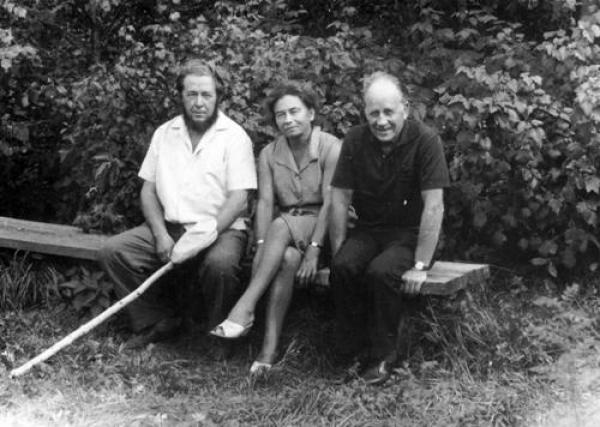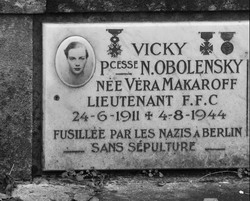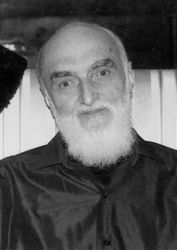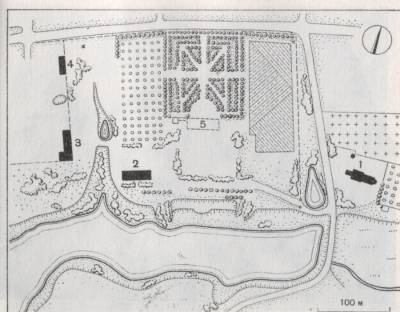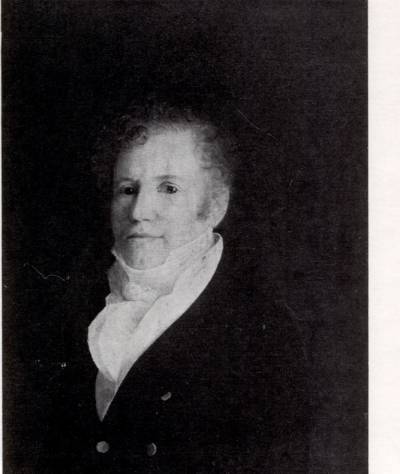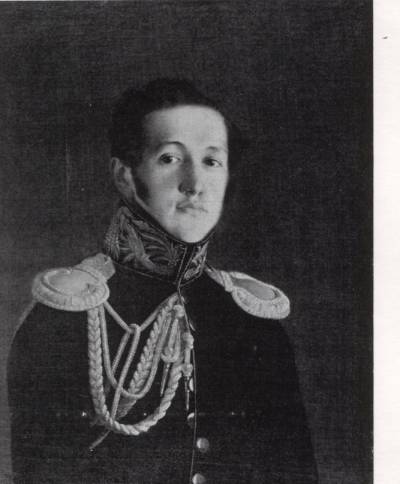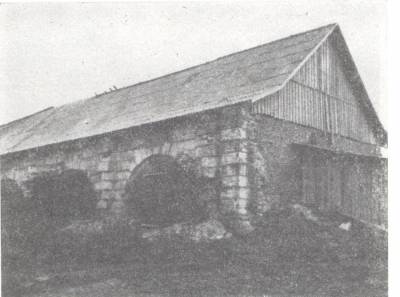Посещение императором Николаем II Пензенского края в 1891 и 1904 ГГ. |
Посещение императором Николаем II
Пензенского края в 1891 и 1904 ГГ.
- 1891 год
- 1904 год
- Примечания
1891 год
Пензенский край император посетил дважды: в 1891 г., еще будучи наследником престола, и в 1904 г., оба раза — проездом.
Первое посещение связано с возвращением наследника цесаревича Николая Александровича из 9-месячного круиза по странам Востока, предпринятого с образовательными целями после окончания курса домашнего обучения, завершившегося в мае 1890 г.
 Его Императорское Высочество вел. кн. Николай Александрович.
Его Императорское Высочество вел. кн. Николай Александрович.
 Его Императорское Высочество вел. кн. Георгий Александрович.
Его Императорское Высочество вел. кн. Георгий Александрович.
Путешествие вел. кн. Николая Александровича длилось с 23 октября 1890 г. по 4 августа 1891 г. Вместе с братом Георгием 26 октября он отплыл из Триеста (Италия) на крейсере «Память Азова», 2 ноября в Афинах к ним присоединился греческий  Его королевское высочество принц Георгий Греческий.принц Георгий, их двоюродный брат по матери (внук датского короля). Дальнейший путь пролегал через Суэцкий канал, с посещением Каира и путешествием по Нилу, до Бомбея, откуда наследник совершил поездку по индийским городам, а затем, уже без брата, заболевшего лихорадкой и вынужденного возвратиться назад, продолжил свой путь по маршруту Цейлон — страны Юго-Восточной Азии — Япония. 29 апреля в японском городе Оцу на него было совершено покушение: японский самурай нанес Николаю Александровичу удар мечом по голове, и лишь вмешательство принца Георгия спасло наследнику жизнь. 11 мая 1891 г. они прибыли во Владивосток. 21 мая, расставшись с принцем, возвращавшимся в Грецию морем, Николай Александрович продолжил путешествие, проследовав через всю Российскую империю.
Его королевское высочество принц Георгий Греческий.принц Георгий, их двоюродный брат по матери (внук датского короля). Дальнейший путь пролегал через Суэцкий канал, с посещением Каира и путешествием по Нилу, до Бомбея, откуда наследник совершил поездку по индийским городам, а затем, уже без брата, заболевшего лихорадкой и вынужденного возвратиться назад, продолжил свой путь по маршруту Цейлон — страны Юго-Восточной Азии — Япония. 29 апреля в японском городе Оцу на него было совершено покушение: японский самурай нанес Николаю Александровичу удар мечом по голове, и лишь вмешательство принца Георгия спасло наследнику жизнь. 11 мая 1891 г. они прибыли во Владивосток. 21 мая, расставшись с принцем, возвращавшимся в Грецию морем, Николай Александрович продолжил путешествие, проследовав через всю Российскую империю.
 Маршрут путешествия на Восток Его Императорского Высочества государя наследника цесаревича 1890-1891 гг.
Маршрут путешествия на Восток Его Императорского Высочества государя наследника цесаревича 1890-1891 гг.
Путешествие это было описано кн. Э. Э. Ухтомским в роскошно изданном сочинении, вышедшем в 1890-х гг. (1)
Восточный круиз наследника цесаревича, событие для своего времени незаурядное, не мог не найти отражения и в мемуарной литературе. Так, у одного из самых выдающихся государственных деятелей последнего царствования, председателя Совета министров С. Ю. Витте об этой поездке и находящемся с ней в некоторой связи вопросе о постройке Великого Сибирского железнодорожного пути читаем:
«Я рассказал о том, каким образом наследник цесаревич сделался председателем Комитета Великого Сибирского пути и что это назначение было гарантией осуществления Великого Сибирского пути в сравнительно незначительный срок, ибо наследник цесаревич, сделавшийся в самое непродолжительное время императором, оставил за собой председательство в Комитете Сибирской железной дороги, а так как в то время монархия была неограниченная, то, само собою разумеется, решения Сибирского комитета имели значение законов, так как, вернее говоря, в тех случаях, когда надо было обращаться в законодательное учреждение, а именно в Государственный совет, вопросы уже заранее были предрешены государем императором.
Наследник тем охотнее предался своей роли председателя Сибирского комитета, что вообще Дальний Восток как будто бы был судьбой связан с личностью цесаревича, а затем и императора Николая. Здесь какой-то фатум.
По моему мнению, эта поездка наложила на будущего императора известную тенденцию, которая фатально отразилась на всем его царствовании, по крайней мере постольку, поскольку мы об этом можем говорить в настоящее время, в 1911 г. <...>.
 «Память Азова», броненосный (полуброненосный) фрегат.
«Память Азова», броненосный (полуброненосный) фрегат.
Сам наследник и вся эта экспедиция была вверена генералу свиты Его Величества кн. [В. А.] Барятинскому (в настоящее время кн. Барятинский — генерал-адъютант; он еще жив, но разбит параличом и состоит при императрице Марии Федоровне) (2). <...>.
Затем с ними [т. е. с Николаем, Георгием Александровичем и принцем Георгием] было несколько молодых людей, очень порядочных <...>. Эти молодые люди были: молодой конногвардейский офицер кн. Николай Дмитриевич Оболенский; затем кавалергардский офицер кн. [В. С.] Кочубей и офицер Лейб-гусарского полка [Е. Н.] Волков.
Из этих лиц кн. Николай Дмитриевич Оболенский в чине генерала свиты Его Величества состоит при императрице Марии Федоровне — это одно из лиц, ей наиболее приближенных; он человек замечательной порядочности и нравственной чистоты (3). Другой, кн. Кочубей, — генерал-адъютант и начальник Главного управления уделов (4). Волков состоит начальником Кабинета Его Величества в чине генерала свиты Его Величества.
Кроме этих трех военных с наследником ездил кн. Ухтомский, также человек весьма порядочный, ныне он редактор-издатель «С.-Петербургских ведомостей» (5).
 Слева направо: кн. В. С. Кочубей, кн. В. А. Барятинский, кн. Э. Э. Ухтомский, Его Императорское Высочество наследник цесаревич вел. кн. Николай Александрович, кн. Н. Д. Оболенский, Е. Н. Волков.
Слева направо: кн. В. С. Кочубей, кн. В. А. Барятинский, кн. Э. Э. Ухтомский, Его Императорское Высочество наследник цесаревич вел. кн. Николай Александрович, кн. Н. Д. Оболенский, Е. Н. Волков.
О существовании взаимосвязи между путешествием на Восток и строительством железной дороги от Урала до Тихого океана еще более определенно сказано у проф. С. С. Ольденбурга:
«В 1891 г. начата была постройка длиннейшей во всем мире железнодорожной линии — Великого Сибирского пути. Закладка пути на восточном его конце, во Владивостоке, была произведена наследником цесаревичем Николаем Александровичем при его возвращении из путешествия по Азии в мае 1891 г. Сооружение Сибирского пути, конечно, объяснялось не столько хозяйственными выгодами, сколько решимостью «ногою твердой стать» на Тихом океане, играть активную роль в судьбах Азии и Дальнего Востока в частности» (6).
Обогащенный впечатлениями от длительного заграничного путешествия и обозрения бескрайних просторов Российской империи, наследник цесаревич Николай Александрович проследовал через территорию, входящую в настоящее время в состав Пензенской области.
Первая остановка императорского поезда была в Кузнецке — уездном городе Саратовской губ. (ныне райцентр Пензенской обл.). Это посещение наследником цесаревичем Кузнецка в пензенской краеведческой литературе никогда не освещалось. Событие это, однако, достаточно полно описано в саратовской губернской газете, которой мы воспользовались в Российской гос. библиотеке (7).
Накануне приезда наследника была опубликована заметка, уведомлявшая жителей Саратовской губернии о предстоящем посещении Кузнецка августейшей особой, написанная в возвышенно-патриотическом духе. Нельзя также не отметить, что первая страница этого номера была украшена цветным изображением российского государственного бело-сине-красного флага (применение цветной печати в газетной полиграфии того времени — явление исключительно редкое, соответствовавшее особо торжественным случаям).
30 июля 1891 г.
Его Императорское Высочество государь наследник цесаревич на днях изволит проследовать через Кузнецкий у. Саратовской губ. по Моршанско-Сызранской ж.д.
Первенец царя и наследник престола возвращается из путешествия по самым отдаленным странам Востока, из которых с иными Россия не имела и не имеет до сих пор никаких сношений. Но предпринятое лишь с научными и воспитательными целями путешествие наследника цесаревича приобрело и высокое политическое значение ввиду того восторженного приема, который повсюду был сделан государю наследнику.
Очевидно, что слава о могущественной России проникла во все концы мира и имя русского царя, властителя Севера, повсюду вызывает глубокое уважение. В наследнике цесаревиче жители Юга почтили сильное русское царство...
Привет возвращающемуся цесаревичу! Громкое «ура» русского народа звучит сердечнее всех кликов, встречавших тебя, цесаревич, чуждых народов! Дары и подношения богатого природой Востока не превысили в твоих глазах с радушием подносимого русского хлеба-соли. Впечатления роскошной природы Юга не затмили простоты и прелести нашего русского северного леса и безбрежной степи. Фантастические сказки Востока не показались тебе милее полных поэзии и силы песен Севера...
Рада вся Россия благополучному возвращению цесаревича. За путешествием его следил весь грамотный люд. И в городах, и в селах с глубоким интересом читались описания пребывания его в чужих странах. В церквах возносились моления о благополучном плавании и путешествии, и когда произошел ужасный случай в Японии, то в России взволновались все и не прежде того успокоились, как стало известно, что русский фрегат «Память Азова» направился к Владивостоку.
Долог был сухопутный и водяной путь по Сибири, но вот последовал перевал за Уральские горы, кончился путь по пустынному Закамскому краю, и в Сызрани, переехав Волгу, цесаревич вступил в глубь России, в ее коренные русские губернии...
Сердечный привет возвращающемуся цесаревичу!
Газ. «Неофициальная часть «Саратовских губернских ведомостей», 1891, № 57, 1 августа, с. 1 (заметка без названия и указания авторства).
 Маршрут возвращения наследника цесаревича из Владивостока в Санкт-Петербург.
Маршрут возвращения наследника цесаревича из Владивостока в Санкт-Петербург.
В этом же номере была дана характеристика Кузнецка в историческом, хозяйственном и культурном отношении:
Город Кузнецк, имеющий быть осчастливленным проездом Его Императорского Высочества наследника цесаревича, принадлежит к числу лучших уездных городов Саратовской губ. Это центр не исключительно земледельческого, но и промышленного района.
Основание его как города относится к 1781 г. Раньше это было дворцовое село Труево. Название Кузнецка произошло от большого развития здесь кузнечного ремесла. В 30-х гг. нынешнего столетия в нем считалось около 8 тыс. жителей и менее 1,5 тыс. домов, из коих только 1 был каменный. В течение последних 60-ти лет население его утроилось, при этом в нем ныне 6 церквей и около 3,5 тыс. жилых зданий, из того числа — каменных около 10%.
До проведения железной дороги на кузнецкий рынок свозили из уездов кроме хлеба много разных кустарных изделий, каковы: сани, телеги, колеса, веретена, решета и проч., главные производители которых в уезде — преимущественно трудолюбивые мордвины, но сбыт этим предметам был плохой. С проведением Моршанско-Сызранской ж.д. торговля в городе оживилась, в него переехало жить много ремесленников и кустарей. Ныне в городе более 200 мелких заводов, на которых занимается до 700 рабочих. Самое большое число заводов — кожевенных, канатопрядильных и горшечных.
Проехавший недавно через Кузнецк Е. Рагозин (8) делает о нем в журн. «Русское обозрение» такой отзыв:
«Кузнецк —очень приятный городок и по размерам, и по чистоте. Железная дорога, убившая почти все уездные и даже некоторые губернские города, к удивлению, способствовала развитию Кузнецка (9), который видимо растет. Городские доходы значительно увеличились, и город в последнее время затратил 66 тыс. руб. на водопровод, самотечный из горы, и более 20 тыс. руб. на мостовые, лучшие, чем в Пензе и Тамбове. В Кузнецке по преимуществу живут ремесленники и кустарные производители: веревок, железных изделий, конопляного масла и проч. По последним данным в Кузнецке проживает, между прочим, 187 кузнецов, 126 ситников и решетников, 86 обойщиков и 83 сапожника. Железная дорога открыла Кузнецку дешевый путь во всю Россию, и здешние мелкие производители достойно отблагодарили за это судьбу, создав своим трудом новый город.
В Кузнецке существует 1 городское двухклассное училище, 4 мужских и 2 женских приходских училища.
Там же, с. 2 (заметка без названия и указания авторства).
Спустя шесть дней после посещения Кузнецка вел. кн. Николаем Александровичем перед читателями «Саратовских губернских ведомостей» предстала детальная картина встречи высокого гостя:
Проезд наследника цесаревича через г. Кузнецк
Его Императорское Высочество наследник цесаревич проследовал через Кузнецк, Саратовской губ., на Пензу 2-го сего августа. Поезд останавливался здесь на 15 минут. С раннего утра в этот день Кузнецк расцветился флагами и принял праздничный вид. Толпы горожан собирались к вокзалу железной дороги с раннего утра. Здание вокзала было убрано гирляндами зелени, флагами и щитами. Зала, приготовленная для приема Его Высочества была роскошно убрана дорогими растениями и коврами; между зеленью эффектно выделялся сделанный из живых цветов вензель наследника цесаревича.
К полудню на вокзале собрались для встречи поезда г. начальник  Андрей Иванович Косич (1833—1917) — российский военный и общественный деятель, генерал от инфантерии. Саратовский губернатор в 1887-1896 гг.губернии ген.-лейт. А. И. Косич (10), губернский предводитель дворянства кн. Л. Л. Голицын (11), уездные предводители, начальник губернского жандармского управления ген.-майор И. И. Гусев, местные уездные власти и представители города и мещанского общества. От саратовского дворянства была приготовлена для поднесения Его Высочеству икона св. Николая Чудотворца, богато украшенная мозаикой, от города — хлеб-соль на серебряном позолоченном блюде, от мещанского общества также на блюде — хлеб-соль.
Андрей Иванович Косич (1833—1917) — российский военный и общественный деятель, генерал от инфантерии. Саратовский губернатор в 1887-1896 гг.губернии ген.-лейт. А. И. Косич (10), губернский предводитель дворянства кн. Л. Л. Голицын (11), уездные предводители, начальник губернского жандармского управления ген.-майор И. И. Гусев, местные уездные власти и представители города и мещанского общества. От саратовского дворянства была приготовлена для поднесения Его Высочеству икона св. Николая Чудотворца, богато украшенная мозаикой, от города — хлеб-соль на серебряном позолоченном блюде, от мещанского общества также на блюде — хлеб-соль.
При приближении поезда дружное «ура» вырвалось у собравшегося народа. Поезд тихо подошел к платформе в 12 час. 5 мин. пополудни.
Г. начальник губернии А. И. Косич был приглашен в вагон цесаревича, где имел честь представиться и приветствовать Его Высочество. Затем наследнику цесаревичу угодно было выйти из вагона и проследовать в приготовленную для приема его залу. Здесь цесаревич, приняв из рук губернского предводителя дворянства икону св. Николая Чудотворца, выслушал следующие слова, сказанные кн. Л. Л. Голицыным:
«Ваше Императорское Высочество!
Со дня отъезда Вашего Высочества саратовское дворянство со всей Россией возносило горячие мольбы ко Всевышнему о сохранении драгоценной жизни особы Вашей от опасности долгого пути, и Промыслу Божию угодно было внять мольбам всей России и вновь чудесным образом отвратить грозившую Вашему Императорскому Высочеству опасность (12), в ознаменование чего саратовское дворянство поручило нам просить Ваше Императорское Высочество принять образ Чудотворца Николая — молитвенника Вашего пред престолом Всевышнего».
В ответ на это наследник цесаревич, приложившись к образу, просил князя передать благодарность его саратовскому дворянству. Затем, после представления наследнику цесаревичу уездных предводителей дворянства и прибывших с ними дворян, Его Высочество принял хлеб-соль от городского головы кузнецкого дворянина Батарчукова и мещанского старосты Шульнина (13), после чего цесаревичу имели счастие представляться депутации от городской думы и мещанского общества; при этом был представлен Его Высочеству генерал Гусев. Его Высочество милостиво говорил с некоторыми из упомянутых выше лиц. Перед возвращением в вагон наследник цесаревич обратился к г. начальнику губернии с вопросами и изволил выслушать его объяснения о положении губернии и города Саратова, о состоянии Волги у Саратова и о других предметах, имеющих отношение к положению края.
По возвращении в вагон наследник цесаревич изволил стать у открытого окна и на несмолкаемые приветствия народа милостиво отвечал поклонами.
В 12 час. 20 мин. поезд отошел при громких криках «ура».
Газ. «Неофициальная часть «Саратовских губернских ведомостей», 1891, № 59, 8 августа, с. 1 (статья без указания авторства).
 Цесаревич Николай в форме Лейб-гвардии Гусарского полка Его Величества.Менее чем через пять часов императорский поезд подошел к вокзалу ст. Пенза Моршанско-Сызранской ж. д. (ныне ст. Пенза-I) (14). Подробности проезда наследника цесаревича через Пензу в 1891 г. малоизвестны современному пензенскому читателю (15). В свое же время это неординарное событие было детально освещено в местной печати. Однако соответствующий (167-й) номер «Пензенских губернских ведомостей» в государственных хранилищах Пензы отсутствует. Возможность ознакомиться с информацией о проезде наследника через губернский центр дает статья «Пенза. 2 августа 1891 года» из журн. «Пензенские епархиальные ведомости» (№ 16 от 15 августа 1891 г., ч. неоф., с. 521-526); данный номер имеется в ГАПО.
Цесаревич Николай в форме Лейб-гвардии Гусарского полка Его Величества.Менее чем через пять часов императорский поезд подошел к вокзалу ст. Пенза Моршанско-Сызранской ж. д. (ныне ст. Пенза-I) (14). Подробности проезда наследника цесаревича через Пензу в 1891 г. малоизвестны современному пензенскому читателю (15). В свое же время это неординарное событие было детально освещено в местной печати. Однако соответствующий (167-й) номер «Пензенских губернских ведомостей» в государственных хранилищах Пензы отсутствует. Возможность ознакомиться с информацией о проезде наследника через губернский центр дает статья «Пенза. 2 августа 1891 года» из журн. «Пензенские епархиальные ведомости» (№ 16 от 15 августа 1891 г., ч. неоф., с. 521-526); данный номер имеется в ГАПО.
В основу нашей публикации положен материал «Пензенских губернских ведомостей» (как первичный) по экземпляру из Российской гос. библиотеки. Содержание статьи «Пензенских епархиальных ведомостей» почти идентично статье в «Пензенских губернских ведомостях» (обе они не подписаны, но, возможно, принадлежат одному и тому же лицу); немногочисленные факты, отмеченные в журнальной статье, но отсутствующие в газетном материале, использованы нами в примечаниях.
Данная публикация, основанная на печатных источниках, была бы неполной без включения в нее архивного дела «О проезде чрез Пензенскую губ. Его Императорского Высочества государя наследника цесаревича», позволяющего существенно дополнить фактографию исследуемого нами события.
Предлагаем познакомиться с собранными здесь материалами о первом посещении Пензенской губернии Николаем II в его бытность наследником престола.
В пятницу, 2 августа, жители г.Пензы имели счастие лицезреть Его Императорское Высочество государя наследника цесаревича, возвращающегося из дальнего продолжительного путешествия (16). Около 5 час. пополудни (по местному времени) послышались вдали громкие клики «ура», — то были восторженные клики рабочего народа с писчебумажной фабрики Сергеева (17), собравшегося вдоль полотна дороги взглянуть хоть мельком на царского сына. Весьма живописную картину представляла в этот момент обширная долина между фабрикой Сергеева и полотном дороги, усеянная фабричным народом, который с флагами в руках бежал за поездом. Самая фабрика, видневшаяся вдали, была затейливо убрана флагами.
 Воскресенская церковь в Пензе. Фото кон. XIX — нач. XX в.Наконец звон колоколов и могучее «ура», вылетевшее из груди многотысячной толпы народа, собравшегося вдоль линии железной дороги, начиная от железнодорожного моста, возвестили о приближении к г. Пензе императорского поезда. Когда поезд проходил мимо церкви Спасителя, что в Старых Черкасах, духовенство этой церкви в полном облачении вышло с хоругвями и чудотворною иконою Христа Спасителя (18), благословляя путь высокого путешественника. При виде иконы Его Высочество осенил себя крестным знамением.
Воскресенская церковь в Пензе. Фото кон. XIX — нач. XX в.Наконец звон колоколов и могучее «ура», вылетевшее из груди многотысячной толпы народа, собравшегося вдоль линии железной дороги, начиная от железнодорожного моста, возвестили о приближении к г. Пензе императорского поезда. Когда поезд проходил мимо церкви Спасителя, что в Старых Черкасах, духовенство этой церкви в полном облачении вышло с хоругвями и чудотворною иконою Христа Спасителя (18), благословляя путь высокого путешественника. При виде иконы Его Высочество осенил себя крестным знамением.
Как только поезд подошел к вокзалу, снова раздались восторженные клики «ура» многочисленной публики, ожидавшей на дебаркадере с большим нетерпением прибытия поезда. Народные клики слились с звуком гимна «Боже, царя храни», исполненного оркестром военной музыки (19). Вокзал был роскошно убран вензелями, флагами, гирляндами, зеленью, а самый зал — коврами и тропическими растениями.
По остановке поезда в вагон был приглашен начальник губернии генерал-майор А. А. Горяйнов (20), а вслед за тем — преосвященный Митрофан (21), который от духовенства Пензенской епархии поднес св. икону Казанской Божией Матери (список с древней чудотворной иконы, находящейся в Спасском кафедральном соборе) (22). Поднесение иконы преосвященный сопровождал следующими словами:
 Митрофан 1 й (Матвей Невский), епископ Пензенский и Саранский в 1890-1893 гг.«Ваше Императорское Высочество, благоверный государь!
Митрофан 1 й (Матвей Невский), епископ Пензенский и Саранский в 1890-1893 гг.«Ваше Императорское Высочество, благоверный государь!
В кафедральном храме г. Пензы, имеющего счастие ныне встречать Вас, самую дорогую и чтимую святыню составляет чудотворная икона Божией Матери Казанским. Этою иконою благословил первых граждан этого города благочестивый государь царь Алексей Михайлович в 1666 г. (23). С этою иконою тесно связано и основание, и неоднократное спасение города от погромов ногайских и от пугачевского разорения. Пред этою иконою молились предместники и предки наши о себе и о благочестивых царях своих; пред этою иконою молились и мы о благополучном путешествии Вашем, благоверный государь, пред нею мы изливали чувства своей безграничной радости и благодарности к Богу о чудесном спасении Вашем от смертоносного удара фанатика-злодея. Пред этою иконою будет молиться и впредь всегда духовенство г. Пензы с своими духовными чадами о здравии и благоденствии благочестивейших государей, о мире и благосостоянии нашего возлюбленного Отечества, с твердою верою и надеждою на благодатную помощь и заступление Царицы Небесной.
 Чудотворная Казанская икона Божией Матери. Автор фото — А. Дворжанский.
Чудотворная Казанская икона Божией Матери. Автор фото — А. Дворжанский.
В этой вере духовенство г. Пензы, движимое чувствами беспредельной любви и преданности к престолу и Отечеству и радости о счастии лицезреть Вас и проникнутое преискренним желанием Вам, благоверный государь, благополучного окончания Вашего многотрудного и многополезного путешествия и скорейшего радостного свидания с августейшими родителями, приемлет смелость чрез меня просить Ваше Императорское Высочество соблаговолить принять от него св. икону Казанской Божией Матери, так чтимой в этом граде и во всем этом крае. Да сопутствует Вам Заступница Усердная во всех путях Вашей жизни и да дарует Вам все полезное на радость царю-батюшке, на славу и счастие Руси-матушки». Приложившись к св. иконе, Его Высочество просил преосвященного передать искреннюю благодарность его духовенству Пензенской епархии за поднесение святыни.
 По выходе Его Высочества из вагона, первым приветствовал его губернский предводитель дворянства г. Гевлич (24) речью и поднесением хлеба-соли на роскошном серебряном блюде, после чего предводителем дворянства были представлены Его Высочеству все уездные предводители дворянства (25); каждому из них Его Высочество удостоил подать руку. Тут же стояло и прочее дворянство (26).
По выходе Его Высочества из вагона, первым приветствовал его губернский предводитель дворянства г. Гевлич (24) речью и поднесением хлеба-соли на роскошном серебряном блюде, после чего предводителем дворянства были представлены Его Высочеству все уездные предводители дворянства (25); каждому из них Его Высочество удостоил подать руку. Тут же стояло и прочее дворянство (26).
Затем начальником губернии была представлена депутация от Пензенской городской думы с городским головою во главе (27), поднесшая хлеб-соль на серебряном художественной работы блюде (28); далее были представлены депутации: от Пензенского купеческого общества (29), представитель которого купец Анненков (30) поднес Его Высочеству икону Спасителя, от мещанского общества (31), от ремесленников, поднесших также хлеб-соль, и от крестьянских обществ Керенского уезда (32). Затем были представлены губернатором городские головы: городищенский, мокшанский и инсарский (33), а также некоторые волостные старшины (34). Удостоив затем принять от местного жителя Захарьина (35) двенадцать штук живых сурских стерлядей в особо устроенном чане, украшенном цветами, и от фотографа Вакуленко (36) красивый альбом видов наиболее выдающихся местностей Пензенской губ., Его Высочество направился в зал, где сервирован был от дворянства чай (37).
Пред входом в зал супруга пензенского уездного предводителя дворянства А. М. Панчулидзева имела счастие поднести Его Высочеству роскошный букет, причем Его Высочество удостоил милостиво принять от нее же три платка для Ее Императорского Величества государыни императрицы и для великих княжен Ксении Александровны и Ольги Александровны. Платки эти замечательно тонкой и искусной работы здешней мастерицы Ремизовой (38). Губернский предводитель дворянства, с своей стороны, поднес альбом видов г. Пензы.
Пробыв несколько минут в зале, наследник цесаревич пожелал показаться народу, в несметном количестве наполнившему обширную [Ярмарочную] площадь перед вокзалом. Когда Его Высочество появился на подъезде, то народный восторг достиг высшей степени. Несмолкаемое «ура» потрясло воздух и энтузиазму не было границ. Тут же гвардии полковник Н. Н. Ермолов (39) имел счастие подвести в дар Его Высочеству коня собственного завода. После чего Его Высочество снова возвратился в зал, где удостоил преосвященного Митрофана и других беседою (40).
Наконец, в 5½ часов Его Высочество изволил отбыть в дальнейший путь при громких кликах «ура» и при звуках марша (41). Начальник губернии, по приглашению наследника цесаревича, остался в вагоне и сопровождал Его Высочество до границ Пензенской губ. — до ст. Башмаково, где и имел честь откланяться Его Высочеству.
Город в этот день украшен был флагами. Погода стояла ясная, жаркая, но за несколько минут до прихода императорского поезда прошел хороший дождь, которого не было в продолжении целого месяца. Дождь прибил пыль и освежил воздух.
На ст. Воейково Его Высочество милостиво принял депутацию от населения большого торгового села Каменки, поднесшую Его Высочеству хлеб-соль. На той же станции изволил принимать в вагоне супругу генерал-адъютанта Воейкова, владельца с. Каменки (42).
ПГВ, 1891, № 167, 4 августа, с. 2-3, ч. неоф. (статья без названия и указания авторства).
Третьей из остановок в пределах Пензенской губ., на которой наследник цесаревич принимал депутацию, была ст. Пачелма, о чем в № 172 «Пензенских губернских ведомостей» от 11 августа 1891 г. (с. 1, ч. неоф.) сообщалось следующее:
 Илларион Иванович ВОРОНЦОВ-ДАШКОВ (1837-1916), граф, государственный и военный деятель, крупный землевладелец и предприниматель. министр Императорского двора и уделов и главноуправляющий Государственным коннозаводством в 1881-1897 гг.; председатель Красного Креста в 1904-1905 гг.; наместник Кавказа в 1905-1915 гг.; начальник императорской охраны Александра III, один из организаторов тайного общества («Священная дружина») по борьбе с революционерами.
Илларион Иванович ВОРОНЦОВ-ДАШКОВ (1837-1916), граф, государственный и военный деятель, крупный землевладелец и предприниматель. министр Императорского двора и уделов и главноуправляющий Государственным коннозаводством в 1881-1897 гг.; председатель Красного Креста в 1904-1905 гг.; наместник Кавказа в 1905-1915 гг.; начальник императорской охраны Александра III, один из организаторов тайного общества («Священная дружина») по борьбе с революционерами.
Во время проследования Его Императорского Высочества вел. кн. Николая Александровича по Сызрано-Вяземской железной дороге, на станции Пачелма, находящейся в пределах Пензенской губернии, императорский поезд имел остановку 12 минут. Для приветствия Его Высочества на станцию Пачелма прибыли министр Императорского двора гр. И. И. Воронцов-Дашков (43) с супругою и дочерьми, тамбовский губернатор бар. В. П. Рокассовский и несколько дворян Тамбовской губернии во главе с губернским предводителем кн. Челокаевым, который после приветственной речи поднес Его Высочеству образ Спасителя. Наследник цесаревич изволил выходить на платформу. После принятия св. иконы Его Высочество сел в вагон, куда приглашен был и министр Двора с своим семейством. Собравшийся в громадном количестве народ выражал свою беспредельную радость восторженными кликами «ура», не умолкавшими до тех пор, пока не удалился поезд.
Безупречная работа стражей порядка была отмечена губернатором в приказе по полициям Пензенской губернии от 3 августа 1891 г. за № 10:
«За образцовый порядок, бывший при торжественной встрече наследника цесаревича при проследовании Его Высочества чрез Пензенскую губернию и город Пензу, объявляю мою искреннюю благодарность полицеймейстеру г. Пензы Афанасьеву, исправникам: пензенскому — Смирнову, чембарскому — Харитонову, нижнеломовскому — Смеловскому, городищенскому — (и.д.) Ландышеву, мокшанскому — (и.д.) Предтеченскому и керенскому — Алферову, помощникам исправников, частным и становым приставам и вообще всем чинам полиций, участвовавшим при этой встрече. Кроме того, исправляющих должности исправников мокшанского и городищенского и помощника пензенского уездного исправника Дидакторова утверждаю в настоящих должностях»(44).
В заключение представленных здесь материалов о пребывании наследника цесаревича в Пензенский губ. в 1891 г. не лишним будет привести полный текст всеподданнейшего рапорта пензенского губернатора, тем более, что документ этот интересен, бесспорно, и сам по себе как кратко и емко характеризующий состояние губернии в 1891 г. по основным принятым в то время статистическим показателям (45).
Его Императорскому Высочеству
пензенского губернатора всеподданнейший
рапорт
Вашему Императорскому Высочеству всеподданнейше донося, что во вверенной управлению моему губернии обстоит все благополучно, имею счастие поднести рапорт о статистическом ее положении.
Рапорт о статистическом положении Пензенской губернии
О числе городов и селений
В Пензенской губернии состоит: уездных городов, включая и губернский, — 10; заштатных — 3, сел и деревень — 1790, а всего — 1803.
О числе жителей
Жительствующих в губернии обоего пола — 1585404, из них мужчин — 785019, женщин — 800385.
О количестве земли
Площадь занимаемой Пензенскою губерниею земли равняется 33290 кв. верстам или 3462179 десятинам, которая распределяется следующим образом:
пахотной земли —2162508 дес.,
под лесами — 761187 дес.,
под лугами, выгонами и остальной удобной земли — 404514 дес. и
неудобной — 133970 дес.;
по владению земля эта делится так:
крестьянского надела — 1860928 дес.,
земель владельческих —1335744 дес.,
принадлежащей казне и уделу — 265507 дес.
О податях и недоимках
К 1 января 1891 г. оставалось невзысканных недоимок окладных сборов —1414802 руб. 96 коп., назначено в 1891 г. оклада этих сборов — 2965573 руб. 31 коп.; взыскано в течение 1891 года: недоимок — 112792 руб. 5 коп., оклада 1891 г. — 69297 руб. 66 коп.; к 15 июля 1891 г. осталось невзысканными: недоимок — 1302010 руб. 91 коп., оклада 1891 г. — 2896275 руб. 65 коп. (46).
О церквах
В губернии церквей:
каменных — 398 и
деревянных — 551,
монастырей и пустыней — 18 и
часовен — 114,
а всего по губернии —1081.
О казенных зданиях
Казенных домов, занимаемых присутственными местами, в губернии состоит:
каменных — 23 и
деревянных — 11,
а всего—34.
Об учебных заведениях
В губернии находится: гимназий мужских и женских — 3, прогимназий — 3, реальных училищ — 1, учительских семинарий —1, землемерных училищ —1, училищ садоводства —I, технических железнодорожных училищ — 1, фельдшерских школ —1, школ сельских повитух —1, духовных семинарий —1, начальная образцовая школа при ней — 1, епархиальных женских училищ — 1, при нем начальная школа — 1, духовных училищ — 3, церковноприходских училищ — 124, городских приходских училищ — 34, уездных училищ — 4, сельских училищ — 358, училищ частных лиц — 5, школ грамотности — 18, училищ при монастырях — 7, ремесленных школ — 1, детских приютов Ведомства императрицы Марии — 1; всего — 572; обучающихся в этих учебных заведениях —33356.
О богоугодных и благотворительных заведениях
Больниц в г .Пензе — 8,
в уездных городах — 30;
богаделен в г.Пензе — 3, в них призревается 316 человек;
в уездных городах — 4, призреваемых — 68;
в г. Пензе находится ночлежный дом для 100 человек.
О фабриках и заводах
В губернии находится:
фабрик суконных — 5 и
писчебумажных — 2;
заводов:
стеклянных и хрустальных — 3,
чугунолитейных — 4,
поташных —130,
кожевенных — 60,
мыловаренных — 3,
салотопенных — 20,
воскосвечных — 7,
винокуренных и пивомедоваренных — 36,
клеевых — 1,
маслобоен —1273,
канатных — 37,
солодовенных — 58,
водочных — 4,
паровых мельниц — 13,
табачномахорочных — 2,
дрожжевых —3,
лесопильных — 3,
крахмальных — 15,
кирпичных — 702,
колокольных — 3,
спичечных — 15 и
гончарных — 316;
всего по губернии — 2715, сумма производительности коих —15340036 руб.; рабочих на фабриках и заводах состоит 11520 человек.
Главная промышленность Пензенской губернии
заключается в хлебопашестве.
О библиотеках, книжных магазинах и лавках, типографиях, литографиях и фотографиях
Библиотек в губернии находится 12,
книжных магазинов и лавок —14,
типографий — 6,
литографий — 3 и
фотографий —8.
О путях сообщения
Собственно судоходных рек в губернии нет; по рекам Суре и Мокше барки отправляются иногда в полую воду, в другое же время отправления не бывает за мелководием этих рек.
Мостов и гатей в разных местах находится 565. Казенных почтовых станций в губернии — 35, на них содержится лошадей — 247.
Губернатор Горяйнов.
ГАПО, ф.5, оп.1, д.6472, л.86—92.
А что же писал сам цесаревич о своем проезде через Кузнецк и Пензенскую губ. в 1891 г.? Ведь известно, что он с 14-летнего возраста, на протяжении 36-ти лет (с 1 января 1882 г. до 30 июня 1918 г. ст. ст.), вел дневник, не пропустив ни одного дня. (Для сознания современного человека, почти переставшего писать для себя, этот факт поразителен). Дневниковые записи интересующего нас времени до сих пор не опубликованы. Мы воспользовались подлинником, хранящимся в Государственном архиве Российской Федерации (б. Центральный государственный архив Октябрьской революции, высших органов государственной власти и органов государственного управления СССР).
Не касаясь рассмотрения дневника Николая II по существу, отметим лишь, что почти все записи в нем лаконичны, подчас схематичны.
Приводим полностью запись наследника цесаревича о его пребывании в Пензенском крае, сохраняя орфографические особенности.
2-го августа. Пятница.
В 7¼ переехали большой Волжский мост (47): весь день прошел во встречах. В Батраках (48) встретило Симбирское дворянство, в Кузнецке — Саратовское, в Пензе — Пензен—ское (49), где я пил чай от города, и, наконец, в Пачелме —Тамбовское; тут же сели ко мне в поезд граф и графиня Воронцовы с Софкой, Маей и Ирой; приятно провели с ними время до Моршанска, где они снова вышли.
|
Метки: дворянство романовы |
ДВОРЯНСКИЙ НЕКРОПОЛЬ ПЕНЗЕНСКОГО КРАЯ |
ДВОРЯНСКИЙ НЕКРОПОЛЬ
ПЕНЗЕНСКОГО КРАЯ
Места земной жизни человека сопровождают места его астрального существования — кладбища. Любой некрополь — скромный сельский погост или внушительное городское кладбище — важный исторический источник, прежде всего в биографическом и социальном плане.
 Борис Николаевич ГВОЗДЕВ (1886-1927), этнограф, краевед, музейный работник
Борис Николаевич ГВОЗДЕВ (1886-1927), этнограф, краевед, музейный работник
Из пензенских историков только один обращался к этому угасающему источнику — Борис Николаевич Гвоздев (1886-1927). В 1912 г. он окончил историко-филологический факультет Варшавского университета, несколько лет преподавал историю в учебных заведениях Пензы, а в 1921 г. возглавил исторический отдел Пензенского губернского музея. В годы интенсивного разрушения старых кладбищ он успел очень скупо описать небольшую группу могил кладбищ женского и мужского монастырей, а также Всехсвятского, Лютеранского и Католического кладбищ г. Пензы.
С 1965 г. автор этих строк занимается фиксированием сохранившихся в области старинных захоронений и сбором сведений о людях, погребённых на пензенских кладбищах. В 1993 г. автором подготовлена первая часть «Пензенского некрополя. XVIII — начало XX вв.», машинопись которого хранится в Пензенском государственном объединенном краеведческом музее и библиографическом отделе Пензенской научной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова, а также в собрании главного герольдмейстера Российского Дворянского собрания С. А. Сапожникова.
* * *
На рубеже ХVII-ХVIIIвв., в пик колонизации Пензенского Посурья, на богатых здешних чернозёмах, благодаря царской щедрости и милости, выросли десятки вотчин и поместий птенцов гнезда Петрова. В этом укромном уголке российской глубинки прочно обосновались ставшие знаменитыми в отечественной истории Куракины, Головкины, Шереметевы, Полянские, Суворовы, Щербатовы, Долгоруковы, Тургеневы, Сумароковы, Лопухины, Бахметевы, Шафировы, Возницыны, Салтыковы и другие, определившие особый статус Пензенского края как одного из дворянских гнезд России.
Летописец пензенской провинциальной жизни Василий Антонович Инсарский (1814-1882) в книге «Половодье» отмечал:
«Дворянство там (в Пензенской губернии — А. Т.) было большею частью чистокровное и заключало в себе много древних фамилий: как Араповы, Загоскины, Сабуровы, Ахлебинины, Всеволожские, Кишенские, Дубенские».
Пензенская земля была не только стартовой площадкой для головокружительных полетов по государственной, военной и научно-культурной орбитам сотен дворянских деятелей, но и местом их последнего пристанища. Наиболее притягательным для пензенской аристократии было старинное кладбище Спасо-Преображенского монастыря, где покоился прах целых дворянских родов.
 Пензенский Спасо-Преображенский монастырь
Пензенский Спасо-Преображенский монастырь
Земное единство пензенской родовитой знати, ведшей исключительно замкнутый, почти кастовый образ жизни, продолжалось и в ином мире, где «в гробах уединенных навеки затворясь, сном непробудным спят». Рядом с соборной монастырской церковью несколько чугунных плит и гранитных памятников обозначали место вечного покоя Бекетовых. Это были представители старинного дворянского рода, существовавшего в XVI в. и состоявшего в родстве с Карамзиными, Тургеневыми. Первым здесь был похоронен пензенский знакомый П. А. Вяземского статский советник Аполлон Николаевич Бекетов (1770-1824), служивший прокурором в Пензе, а рядом — его дочери Надежда Аполлоновна (1809-1857) и Софья Аполлоновна (1799-1887) Бекетовы. На этом же участке была предана земле Елизавета Николаевна Бекетова (1800-1867) — дочь наровчатского помещика Николая Андреевича Арапова и жена (с 1819 г.) подполковника Петра Алексеевича Бекетова (1783 — ?). Последним здесь поставили богатый памятник на могиле Алексея Николаевича Бекетова (26.08.1824 — 07.09.1898) — брата академика Н. Н. Бекетова и профессора А. Н. Бекетова. В 1844 г. Алексей Николаевич окончил Главное инженерное училище и в течение 13 лет служил военным инженером. Выйдя в отставку в чине штабс-капитана, он перешел на статскую работу, а в 1865 г. был избран председателем Пензенской губернской земской управы, пробыв в этой высокой должности до конца своих дней. А. Н. Бекетов возглавлял пензенское земство в самый ответственный период его становления. М. Е. Салтыков-Щедрин, хорошо знавший Алексея Николаевича по Пензе, называл его «незабудкой». Портрет А. Н Бекетова работы академика живописи И. К. Макарова был вывешен в зале заседаний Пензенской губернской земской управы. Подробные биографические сведения об этом крупнейшем деятеле пензенского земства были опубликованы в «Пензенских губернских ведомостях» за 1898 г. (см., например, статью А. Розалиева «А. Н. Бекетов. Некролог» за 18 сентября; информацию «Похороны» за 11 сентября. Почти сто лет спустя кандидат филологических наук О. М. Савин опубликовал в «Пензенской правде» за 1 августа 1995 г. большую статью «...Признательность за полезные труды». Страницы жизни А. Н. Бекетова, первого председателя губернской земской управы».)
Комплекс внушительных, высокохудожественных памятников с изображением на одном из них родового герба был возведен на месте захоронения Араповых, известных в России с XVI в. Первым монастырская земля приняла прах богатого наровчатского помещика секунд-майора Николая Андреевича Арапова (05.12.1757 — 02.11.1826), построившего в 1803 г. один из крупнейших в округе винокуренных заводов, а одиннадцать лет спустя — его брата, секунд-майора Сергея Андреевича (21.10.1765 — 24.02.1837), владевшего в Наровчатском уезде двумя винокуренными заводами (возведены в 1790 и 1803 гг.). Наиболее почитаемой могилой семейного некрополя Араповых было захоронение Александра Николаевича (27.12.1801 — 08.11.1872) — генерал-лейтенанта, служившего в 1854-1872 годах пензенским губернским предводителем дворянства. Пензенский мемуарист Григорий Иванович Мешков (16.01.1810 — 30.04.1890) указывал, что самый великолепный памятник венчал могилу Агафьи Николаевны Араповой (1809-1864) — сестры известного театрала Пимена Николаевича Арапова (1796-1861). За массивной решеткой чугунного литья находились могилы майора Андрея Николаевича Арапова (28.10.1807 — 11.05.1874) и его сына, полковника Николая Андреевича (20.07.1847 — 21.01.1883) — свата и зятя Н. Н. Пушкиной-Ланской. Позднее на участке родового некрополя появились могилы Варвары Павловны Дядьковой (Дятьковой) (1862-1914) — дочери дипломата, действительного статского советника, пензенского помещика Павла Александровича Арапова (1838-1885). В смутное послеоктябрьское время скромным памятником было отмечено место захоронения тайного советника Александра Александровича Арапова (1832-1919) — помещика с. Проказна (Бессоновского района).
На фоне пензенского дворянства Загоскины выделялись своей породистостью, древностью происхождения и высоким общественным положением. Династические браки тесно связывали их с другими дворянскими родами. На кладбище Спасо-Преображенского монастыря, по сведениям Натальи Владимировны Араповой (Оппель) (1874-1976), в фамильном склепе были похоронены родители основоположника русского исторического романа М. Н. Загоскина — Николай Михайлович Загоскин (24.10.1761 — 24.04.1824), служивший в молодости в гвардии, а затем ушедший в Саровскую пустынь и вновь вернувшийся в мир, и Наталья Михайловна, урождённая Мартынова (26.12.1769 — 17.03.1833). Немало симпатичных слов посвятили Н. М. Загоскиной Ф. Ф. Вигель («В Пензе не находилось хозяйки дома более приятной Натальи Михайловны»), И. М. Долгорукий («Г-жа Загоскина... имела все те дары и свойства природы, которыми мужчины пленяются преимущественно»). (Биографические сведения о Н. М. и Н. М. Загоскиных опубликованы в книге: А. Н. Нарцов. Материалы для истории дворянских родов Мартыновых и Слепцовых с их ветвями. Тамбов, 1904, с. 44-50). В этом же склепе погребены племянник писателя Сергей Маркеллович Загоскин (1824-1889) — гвардии полковник и кавалер, городищенский уездный предводитель дворянства, владелец родового поместья Рамзай, его мать Любовь Сергеевна, урождённая Олсуфьева (1800-1854), дочь генерала С. А. Олсуфьева, и жена Мария Дмитриевна, урождённая Микулина (1832-1912). Брат Любови Сергеевны — действительный статский советник, гвардии полковник Дмитрий Сергеевич Олсуфьев(1794 — 17.121858), избиравшийся в 1852-1855 гг. пензенским губернским предводителем дворянства, похоронен в родовой усыпальнице в Вазерках (Бессоновского района).
 Иван Васильевич САБУРОВ (1788—1873). агроном, общественный деятель
Иван Васильевич САБУРОВ (1788—1873). агроном, общественный деятель
Родоначальником Сабуровых считается татарский мурза Чета, праправнук которого Федор Иванович Зернов получил прозвище Сабур. В 1835 г. в Санкт-Петербурге вышла без указания автора небольшая книжка «Четыре роберта жизни. Олицетворенная дума Мурзы Чета». Её написал Иван Васильевич Сабуров (1788-1873) — бывший командир батальона Пензенского ополчения периода Отечественной войны 1812 г., участник заграничных походов русской армии. Вернувшись в родовое пензенское поместье, он стал проводить эксперименты в своем хозяйстве и в 1822 г. в уважение своих ученых опытов был избран членом Императорского Московского общества сельских хозяев восточной России. Его брат Яков Васильевич (1790-1855) принадлежал к активно действующему предпринимательскому слою пензенского дворянства. В 1825 г. он вышел в отставку, а в 1825-1827 гг. занимал должность городищенского уездного предводителя дворянства, в 1837 г. в его пензенском доме останавливался В. А. Жуковский. Пантеон Сабуровых также находился в стенах Спасо-Преображенского монастыря.
 Николай Фёдорович КИШЕНСКИЙ (1775—1831) — генерал-майор, командир Пензенского ополчения 1812 г. при формировании
Николай Фёдорович КИШЕНСКИЙ (1775—1831) — генерал-майор, командир Пензенского ополчения 1812 г. при формировании
Кишенские составляли наиболее влиятельный слой пензенского дворянства. Генерал-майор Николай Федорович Кишенский (1775-1831) был сыном харьковского наместника Федора Ивановича (1750-1811) и в 1813-1814 гг. командовал пензенским ополчением, а в 1820-х гг. возглавлял пензенское дворянство. Выдвижению Н. Ф. Кишенского в немалой степени способствовал брак с Варварой Николаевной Араповой (1799-1857). Их сын Николай Николаевич (1821 — после 1873) в 1843 г. вышел в отставку штабс-ротмистром и служил в судебных органах Пензенской губернии, в 1857 г. назначен председателем Пензенской уголовной палаты (сведения сообщил в 1967 г. ныне покойный Ю. Б. Шмаров). В Пензе жил и другой сын, Федор Николаевич (1820-1860), а также дочь Анна Федоровна (? — 1854). Могила Кишенских на монастырском кладбище была отмечена величественным гранитным аналоем.
 Мария Михайловна КИСЕЛЕВА (урождення княжна ЧЕГОДАЕВА) (1798-1887), пензенская дворянка, благотворительница, попечительница о бедных и нуждающихся
Мария Михайловна КИСЕЛЕВА (урождення княжна ЧЕГОДАЕВА) (1798-1887), пензенская дворянка, благотворительница, попечительница о бедных и нуждающихся
Местом невольного паломничества на монастырском кладбище оказалось захоронение умершего за границей статского советника Александра Григорьевича Киселева (1791-1847), навсегда занесённого на скрижали пензенской благотворительности. Военную службу он начал в 1805 г., а в следующем году перешёл в гражданское ведомство. В 1832 г. А. Г. Киселев переехал в Пензу, где в 1835 г. стал попечителем публичной библиотеки, на содержание которой ежегодно вносил по 500 рублей. (Биографические сведения об А. Г. Киселеве извлечены из формулярного списка, хранящегося в Государственном архиве Пензенской области: ф. 5, оп. 1, д. 2537, лл. 7-18 и выявленного А. Ф. Головиной). Его жена Мария Михайловна, урождённая княжна Чегодаева (1798-1887), содержавшая известную в Поволжье киселевскую богадельню, построила над могилой А Г. Киселева большой двухэтажный пятиглавый храм. Сама Мария Михайловна была похоронена в одном склепе с мужем. Место их захоронения отмечала чугунная плита с надписью:
«Александр Григорьевич и
Мария Михайловна Киселевы
скончались
12 апреля 1847 и 6 декабря 1887».
 Александр Алексеевич ПАНЧУЛИДЗЕВ (1790—1867), российский государственный деятель, тайный советник, пензенский губернатор в 1831-1859 гг.
Александр Алексеевич ПАНЧУЛИДЗЕВ (1790—1867), российский государственный деятель, тайный советник, пензенский губернатор в 1831-1859 гг.
Панчулидзевы внесены в родословные книги Пензенской и Саратовской губерний. Основоположником этого рода был грузин Давид Матвеевич Панчулидзе, поступивший в 1738 г. на службу российскому царю. Его внук, тайный советник Александр Алексеевич Панчулидзев (1789-1867) с 1851 г. служил флигель-адъютантом Его Императорского Величества, в 1822-1831 гг. занимал должность саратовского губернского предводителя дворянства, а в 1831-1859 гг. — пензенского губернатора. А. А. Панчулидзева с особыми почестями похоронили в стенах Спасо-Преображенского монастыря. Земля монастырского кладбища соединила двух жен губернатора: Софью Николаевну, урождённую Сушкову (1800-1843), и Варвару Николаевну, урождённую Загоскину (1812-1880). Рядом покоился прах действительного статского советника, бывшего саратовского губернского предводителя дворянства, затем черниговского губернатора Владимира Алексеевича Панчулидзева (1849-1890), внука А. А. Панчулидзева, а также его жены Марии Владимировны, урождённой Сабо (1847-1902), окончившей в 1865 г. с золотой медалью Одесский институт благородных девиц. В 1890 г. М В. Панчулидзева министром просвещения утверждена начальницей I Пензенской женской гимназии (см. Дм. Владимиров. Памяти М. В. Панчулидзевой. //«Пензенские губернские ведомости», 1902, 6 и 13 ноября). Особым почётом посетителей монастыря пользовались могила Натальи Павловны Панчулидзевой (1825-1870), жены Алексея Алексеевича Панчулидзева (1816-1870), в жилах которой текла кровь родовитого пензенского дворянства: по отцу она приходилась внучкой Ф. Л. Вигелю, а по матери — Е. П. Чемесову. Великолепие и образцовое содержание могилы поддерживали её сыновья — Павел Алексеевич, русский консул в Черновицах, Николай Алексеевич — камергер и предводитель дворянства Пензенского уезда, но в первую очередь Сергей Алексеевич (1855 — после 1917), бывший кавалергард, военный историк, составитель многотомных биографий кавалергардов.
Пензенская земля приняла прах многих представителей старого дворянского рода Киреевых. Небольшой участок кладбища Спасо-Преображенского монастыря занимал их фамильный пантеон. Тяжелая мраморная плита закрывала могилу Надежды Александровны Карлбрехт (01.05.1819 — 17.10.1884), вышедшей в 1836 г. замуж за Александра Дмитриевича Киреева (1796-1857). Он владел 548 душами и 780 десятинами земли в родовом имении Пятницкое, Родники тож Мокшанского уезда. В 1813-1829 гг. он служил в армии, в отставку уволился «к статским делам с повышением чина». В 1832 г. А. Д. Киреев стал управляющим конторой императорских театров. Он принадлежал к близкому окружению М. Ю. Лермонтова, проявив большие усилия в прижизненном издании «Героя нашего времени» и стихотворений поэта. Могилу его сына Алексея Александровича Киреева (17.11.1854 — 07.11.1893) на этом же кладбище отмечал дубовый крест с металлической мемориальной доской. В 1874-1877 гг. он учился в Николаевском кавалерийском училище, затем служил в Кавалергардском полку, откуда в 1882 г. вышел в отставку. В течение четырёх лет А. А. Киреев подобно отцу вращался в высоких певческих кругах, исполняя должность помощника директора придворного хора. С 1890 г. Алексей Александрович избирался уездным и губернским гласным от Мокшанского уезда, так как в этом уезде в его владении находилось 1500 десятин земли.
Кладбище Спасо-Преображенского монастырянавечно объединило некоторых представителей старинного дворянского рода Захарьиных, наиболее выдающимся представителем которого является выдающийся русский терапевт, почетный член Академии Наук России Григорий Антонович (1829-1897). На родовом участке монастырского кладбища похоронен Павел Сергеевич Захарьин (1800-1871). Два года спустя в эту же могилу опустили гроб с телом Аглаиды Дмитриевны Захарьиной (1851-1873). Скромный памятник венчал могилу Федосьи Матвеевны Захарьиной (1855-1895), муж которой, статский советник Дмитрий Алексеевич Захарьин (1853-1907), с 1877 г., по окончании Санкт-Петербургского историко-филологического института, преподавал латинский и греческий языки в 1-й Пензенской мужской гимназии, но был похоронен отдельно от жены — на Мироносицком кладбище Пензы.
Чемесовы принадлежат к коренному пензенскому родовитому дворянству и своими делами навсегда вписаны в летопись этого края. Чемесовы происходят от выехавшего из Золотой Орды в Россию мурзы базы Чемеса. Первым пензенская земля приняла в свое холодное чрево сержанта гвардии Преображенского полка Петра Лукьяновича Чемесова (1707-1744). Фамильный пантеон Чемесовых находился в ограде церкви Казанской Божьей Матери, построенной в 1757 г. на Песках — в островной части Пензы. В 1778 г. здесь были похоронены трое детей Ефима Петровича Чемесова — Павел, Екатерина и Ефим, а в 1783 г. — Адриан, Ефим и Мария. Позже Чемесовых стали хоронить на кладбище Спасо-Преображенского монастыря. В наиболее людном месте был установлен мраморный памятник с надписью:
«Здесь положено тело
статской советницы
Марии Андриановны Чемесовой,
скончавшейся на 85 году
30 ноября 1834 года».
Ещё раньше здесь был похоронен её муж, статский советник Ефим Петрович Чемесов (18.12.1735 — после 1807), брат знаменитого русского, гравёра Е. П. Чемесова. Ефим Петрович с 1763 г. служил пензенским прокурором, а в 1785-1787 и 1802-1805 гг. — пензенским губернским предводителем дворянства. Рядом располагались могилы его дочери Натальи Ефимовны Чемесовой (22.08.1788 — 26.03.1852) и внука Ивана Ивановича Чемесова (1821-30.31901) — коллежского секретаря.
На этом же кладбище был похоронен пензенский чиновник Иван Иванович Мешков (1767 — 19.02.1844), нарисовавший в своих известных «Записках» («Русский архив», 1905, кн. 2, вып. 6, стр. 177-242, подготовлены В. Л. Модзалевским) довольно широкий портретный веер пензенских дворян.
По сообщению «Русского инвалида» за 1816 г. (№ 143), 27 мая скончался занимавший с 1804 г. должность пензенского вице-губернатора действительный статский советник Александр Михайлович Евреинов — представитель дворянского рода, начало которого положил первостатейный купец в Москве и Петербурге, выходец из Польши Матвей Григорьевич Евреинов. Бывший пензенский вице-губернатор приходился родным братом участнику войны 1812 г. и мемуаристу Михаилу Михайловичу Евреинову, который в 1854 г. пожертвовал свое имение в пользу Московского архива Министерства иностранных дел. Поэт пушкинской поры П. А. Вяземский отмечал Евреиновых как своих пензенских знакомых (см. П. А. Вяземский. Записные книжки (1813-1848). Издание подготовила В. С. Нечаева. М., 1963, с. 109). С почестями, достойными людей подобного общественного положения, А. М. Евреинова похоронили на кладбище мужского монастыря.
Десятью годами раньше пензяки со столь же пышными почестями провожали в последний путь генерал-поручика Ивана Алексеевича Ступишина (1734 — 20.11.1806), назначенного 21 апреля 1787 г. правителем только что открытого Пензенского наместничества. Рядом с ним похоронена умершая в 1826 г. его жена Анна Дмитриевна Ступишина. На этом же кладбище покоился прах Алексея Петровича Ступишина (1792-26.6.1855) — статского советника, сына Петра Петровича Ступишина, майора, помещика Пензенского уезда. На рубеже ХVIII-ХIXвв. одним из наиболее притягательных центров пензенского дворянства было родовое поместье князей Голицыных — Зубрилово (ныне Тамалинского района), славившееся причудами барской фантазии и забавами праздной жизни. Возведённая в строгом классическом стиле, богатая усадьба Голицыных включает в себя целый комплекс сохранившихся и поныне построек, в том числе церковь. Внутри её находилась медная плита с надписью:
«Церковь сия Спаса Преображения построена князем Сергеем Федоровичем Голицыным и супругою его Варварой Васильевной, рождённой Энгельгардт, 1796 г.».
 Сергей Федорович ГОЛИЦЫН (1749-1810), князь, русский военачальник эпохи Екатерины II, генерал от инфантерии. Портрет работы Д. Б. Дамон-Ортолани, 1800-е гг. Холст, масло. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
Сергей Федорович ГОЛИЦЫН (1749-1810), князь, русский военачальник эпохи Екатерины II, генерал от инфантерии. Портрет работы Д. Б. Дамон-Ортолани, 1800-е гг. Холст, масло. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
В этой церкви крестили, венчали, отпевали и похоронили многих представителей этого славного княжеского, навечно вошедшего в анналы российской истории, рода. Первым в богатом церковном склепе похоронили флигель-адъютанта Екатерины II Сергея Федоровича Голицына (05.11.1749 — 20.01.1810), состоявшего членом Государственного совета. О погребении знатного вельможи в Зубрилове сохранились свидетельства современников:
«С места Тарнополь за границею, где на службе Отечеству испустил свой мирный дух, тело его везено было с приличною почестию до любимого села Зубриловки, где он проводил дни свои как друг человечества, как благодетельный сосед, как отец подчиненных, и как истинный по делам Вельможа… Испортившийся зимний путь остановил шествие за 30 верст. В назначенный день к перевозу его оттуда преданные и любившие его дворовые люди устремились из жилищ своих и донесли гроб на плечах… В пределах храма раздавались рыдание и стон. И какое горестное зрелище поражало взоры и сердца! Семь сыновей и невестка стояли в сокрушении с поникшими головами; собор знакомых, благодарных служителей и поселян приносили ему жертву сокрушения душевного… Князь Голицын оплакан всеми...».
 Григорий Сергеевич ГОЛИЦЫН (1779-1848), князь, тайный советник, пензенский губернатор (1811-1816), сенатор
Григорий Сергеевич ГОЛИЦЫН (1779-1848), князь, тайный советник, пензенский губернатор (1811-1816), сенатор
В семейном пантеоне Голицыных погребены: генерал-адъютант, сенатор, тайный советник Григорий Сергеевич (1780-1848), служивший в 1811-1816 гг. пензенским губернатором; камер-юнкер Павел Сергеевич (1788-1837) — бывший гвардейский ротмистр, моршанский уездный предводитель дворянства (1821-1827); флигель-адъютант Александра I, генерал-майор Сергей Сергеевич (17.02.1783 — 14.03.1833); егермейстер Федор Сергеевич (20.12.1781 — 12.01.1826), получивший известность организацией в Зубриловке роскошных празднеств, на которые приглашал своего друга поэта Е. А. Баратынского; камер-юнкер, чиновник русской миссии в Константинополе Давид Федорович (12.01.1816 — 18.03.1855); меломан и писатель Сергей Григорьевич (02.07.1803 — 19.11.1868), входивший в творческое окружение А. С. Пушкина, П. А. Вяземского, М. И. Глинки и
известный в аристократических кругах Петербурга под именем «Фирс»;
 Варвара Васильевна ГОЛИЦЫНА (урожденная Энгельгардт, 1757-1815), княгиня, племянница князя Потемкина, фрейлина императрицы Екатерины II, переводчица с французского. Портрет работы Д. Б. Дамон-Ортолани, 1800-е гг. Холст, масло, 30,5х23,5. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
Варвара Васильевна ГОЛИЦЫНА (урожденная Энгельгардт, 1757-1815), княгиня, племянница князя Потемкина, фрейлина императрицы Екатерины II, переводчица с французского. Портрет работы Д. Б. Дамон-Ортолани, 1800-е гг. Холст, масло, 30,5х23,5. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
поэт и публицист Михаил Григорьевич (31.05.1808 — 19.12.1868), на стихи которого М. И. Глинка писал музыку. В родовом склепе усадебной церкви похоронены снохи Голицыных: Анна Александровна, урождённая Прозоровская (28.12.1782 — 12.12.1863), Вера Аркадьевна, урождённая Столыпина (10.11.1821 — 09.06.1853), Екатерина Ивановна, урождённая Соллогуб (13.03.1784 — 01.03.1824). Последнюю воспел Г. Р. Державин:
«Желал бы век я с жидовочкой прекрасной,
талантов тысячью и прелестями пленясь...».
Жена Сергея Федоровича (с 1779 г.) Варвара Васильевна Энгельгардт (12.31757-2.51815), переводчица и писательница, покровительствовавшая И. А. Крылову, К. Ф. Рылееву, находившаяся в дружбе с Г. Р. Державиным, похоронена в специальной усыпальнице в форме усеченной пирамиды, возведённой напротив церкви. Родовой пантеон Голицыных — один из самых выдающихся пластов пензенского дворянского некрополя.
 Усыпальница В. В. Голицыной, 1-я четв. XIX в. с. Зубрилово Тамалинского района Пензенской области. Фото А. В. Тюстина, 1966 г.
Усыпальница В. В. Голицыной, 1-я четв. XIX в. с. Зубрилово Тамалинского района Пензенской области. Фото А. В. Тюстина, 1966 г.
 Мария Дмитриевна ХОВРИНА (урожденная Лужина, 1801-1877), содержательница литературно-художественного салона
Мария Дмитриевна ХОВРИНА (урожденная Лужина, 1801-1877), содержательница литературно-художественного салона
Село Саловка (Пензенского района) в прошлом представляло семейное гнездо культурного слоя пензенского дворянства
|
Метки: дворянство некрополь |
Процитировано 1 раз
ДОЛГОРУКОВ Павел Васильевич |
ДОЛГОРУКОВ
Павел Васильевич
(1755 – 02.02.1837)
Генерал-майор, Георгиевский кавалер.
Павел Васильевич был представителем старинного и могущественного рода князей Долгоруковых. Его отец Василий Сергеевич († 1803) был женат на Анастасии Ивановне Лодыженской († 1823). При своём замужестве она получила в приданое 8 тыс. крепостных душ и доживала свой век в с. Знаменском Мокшанского уезда.
Генерал-майор Долгоруков, пожалованный офицерским чином в раннем детстве, сражался под одними знамёнами рядом с легендарным А. В. Суворовым.
В 1763 г. его записали адъютантом, а в 10 лет он стал поручиком. Карьерный рост князя Долгорукова шёл стремительно, и в 23 года он уже имел чин полковника, а в 1796 г. произведён в генерал-майоры. Боевое крещение он принял в русско-турецкой войне 1768-1774 гг.: в 1771 г. участвовал в штурме Перекопа. В следующей русско-турецкой войне 1787-1791 гг., командуя авангардом передовой дивизии, в январе 1788 г. вошёл в Северную Молдавию, затем с вверенным ему Тверским драгунским полком в составе армии Г. А. Потёмкина участвовал в штурме Очакова. В том же году императрица наградила его орденом Георгия 4-й ст. В августе 1789 г., накануне сражения при Рымнике, Павел Васильевич удержал стремление неприятеля, в десять раз превосходившего русских, овладеть понтонными мостами. Выйдя в отставку, князь Долгоруков поселился в с. Юлово Мокшанского уезда, а затем переселился в поместье своей сестры Екатерины Васильевны Кожиной — Старую Кутлю. По воспоминаниям его зятя Андрея Михайловича Фадеева отставной генерал
«…скромно проживал… в своём небольшом именьице из ста крестьян… Всё свободное время проводил он за серьёзными занятиями в своей громадной библиотеке, составленной преимущественном из книг учёного содержания, по всем отраслям знания и всяких языков. Он очень хорошо знал несколько древних и новых языков и совершенно свободно изъяснялся на них. Деревенская жизнь не прервала его отношений к большому свету; близкие родственные и дружеские связи его с знатными домами обеих столиц поддерживались постоянными сношениями и перепиской».
Павел Васильевич умер в Пензе, где у него был дом, на руках своего зятя, который, выполняя последнюю волю генерала, 5 февраля из Пензы в сильный мороз,
«по дурной снежной дороге, …повезли его, сопутствуемые огромной толпой пензенских жителей всех сословий… За несколько вёрст до Кутли вся деревня вышла навстречу погребального шествия.
Во всех крестьянах видна была истинная любовь к их помещику и живая скорбь о потере его».
Похоронен Долгоруков в притворе сельской церкви Николая Чудотворца.
________________________________________
Источник: Тюстин, А. В., Шишкин И. С. Пензенская персоналия.
Славу Пензы умножившие. [В 3 т.]. Т. 1 (А-Л).: [биогр. слов.]
/ Тюстин А. В., Шишкин И. С. — Пенза : б. и., 2012. – 208 с.: портр.— с. 109.
_________________________________________
По теме:
Тюстин А. В. Пензенские корни Е. П. Блаватской
http://penzahroniki.ru/index.php/spravochnik/147-p...vel-vasilevich-1755-02-02-1837
|
Метки: долгоруковы елена блаватская |
Церковь князя Оболенского Н. А |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Автор: The pretty girl |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Метки: оболенские |
Тайный порок в Романовском семействе |
Тайный порок в Романовском семействе
Одна из версий, почему прилагательное «голубой», стало обозначать гомосексуалистов гласит, что ранее гомосексуализм был присущ только аристократическим слоям общества. Тем, у кого в жилах течет голубая кровь.
В Российской империи были роды и «голубее» по крови чем Романовы, и может быть поэтому гомосексуалистов среди членов Императорского Дома можно по пальцам пересчитать. Один всем известный (во многом благодаря книге Бориса Акунина «Коронация, или Последний из Романов») великий князь Сергей Александрович, родной дядя Николая II и губернатор Москвы.
Тот никогда не скрывал своих наклонностей, хотя и был женат, спать предпочитал со своими адъютантами, и никакого греха в этом не видел. Но был и другой случай.

«Великий князь Константин Константинович» И.Е.Репин, 1891г.
.
Великий князь Константин Константинович Романов родился 22 августа (10 августа по ст.ст.) 1858 года, и был вторым сыном великого князя Константина Николаевича Романова. Среди вечно повторяющихся Николаев, Александров и Константинов Романовых запутаться можно, поэтому скажу лишь, что Константин Константинович был младшим братом более известного Николая Константиновича.
Но в отличии от своего скандального братца, великий князь Константин Константинович был образцом для примера. Будучи мичманом российского флота, в русско-турецкой войне 1877-1878 годов в бою под Силистрией на Дунае потопил турецкий корабль, за что был награжден Георгиевским крестом IV степени. В 1882 году по болезни был переведен в гвардию и через пять лет стал командиром лейб-гвардии Преображенского полка. Был президентом Академии наук и одним из основателей Пушкинского дома.
Константин Константинович слыл также образованнейшим человеком своего времени, отличным пианистом и знаменитейшим поэтом той эпохи, писавшим под псевдонимом «К.Р.». Его романтические стихи знала вся читающая Россия, девушки переписывали их в свои девичьи дневники и альбомы, а Чайковский, Рахманинов, Алябьев и многие другие композиторы писали на них романсы. Вот типичный образец творчества поэта К.Р.:
Когда меня волной холодной
Объемлет мира суета,
Звездой мне будет путеводной
Любовь и красота.


.
Он был удачно женат на своей дальней родственнице (они оба были праправнуками императора Павла I) немецкой принцессе Елизавете Саксен-Альтенбургской. По приезде в Россию она стала называться Елизаветой Маврикиевной, но православия не приняла, оставшись лютеранкой. Своего мужа великая княгиня любила нежно и беззаветно, тот отвечал ей взаимностью, в браке у них родилось девять детей.
Константину Константиновичу повезло – он задохнулся во время припадка грудной жабы во дворце Павловска в 1915 году, и стал последним из Романовых, умерших до революции и торжественно погребённых в великокняжеской усыпальнице Петропавловской крепости.
Он не дожил до падения монархии и Российской империи, гибели своих сыновей Иоанна, Константина и Игоря, которые на следующий день после расстрела царской семьи, были ещё живыми сброшены в шахту под Алапаевском.
Зато его дочь, великая княжна Вера Константиновна, дожила до 94 лет, и скончалась в 2001 году, став уже в наши дни последней из Романовых, кто помнил дореволюционную жизнь (на этой фотографии она на руках отца).

.
На протяжении всей своей жизни К.Р. вел дневниковые записи, которые согласно его завещанию после смерти были переданы в архив Академии наук с условием опубликования не ранее, чем через 90 лет.
Российские историки нарушили волю покойного, и эти дневники были опубликованы через 79 лет после смерти К.Р., в 1994 году, и повергли историков в некое смущение – оказывается счастливый отец семейства и отличный семьянин Константин Константинович всю свою жизнь был тайным гомосексуалистом. И в дневниках с необыкновенной откровенностью описывал свою гомосексуальность. Вот лишь несколько записей великого князя:
28 декабря 1903 г. - С.-Петербург.
Жизнь моя течет счастливо, я поистине "баловень судьбы", меня любят, уважают и ценят, мне во всем везет и все удается, но... нет главного: душевного мира.
Мой тайный порок совершенно овладел мною. Было время, и довольно продолжительное, что я почти победил его, от конца 1893-го до 1900-го. Но с тех пор, и в особенности с апреля текущего года (перед самым рождением нашего очаровательного Георгия), опять поскользнулся и покатился и до сих пор качусь, как по наклонной плоскости, все ниже и ниже.
А между тем мне, стоящему во главе воспитания множества детей и юношей, должны быть известны правила нравственности.
Наконец, я уже немолод, женат, у меня 7 человек детей, старшие почти взрослые, и старость уже не за горами. Но я точно флюгер: бывает, принимаю твердое намерение, усердно молюсь, простаиваю целую обедню в жаркой молитве и тотчас же затем, при появлении грешной мысли, все сразу забывается, и я опять подпадаю под власть греха.
Неужели же невозможна перемена к лучшему? Неужели же я так и погрязну в грехе?
19 апреля 1904г. - С.-Петербург.
На душе у меня опять нехорошо, снова преследуют меня грешные помыслы, воспоминания и желания. Мечтаю сходить в бани на Мойке или велеть затопить баню дома, представляю себе знакомых банщиков - Алексея Фролова и особенно Сергея Сыроежкина. Вожделения мои всегда относились к простым мужикам, вне их круга я не искал и не находил участников греха. Когда заговорит страсть, умолкают доводы совести, добродетели, благоразумия.
23 июня 1904г. - С.-Петербург.
Я опять отказался от борьбы со своей похотью, не то чтобы не мог, но не хотел бороться. Вечером натопили мне нашу баню; банщик Сергей Сыроежкин был занят и привел своего брата, 20-летнего парня Кондратия, служащего в банщиках в Усачевых банях. И этого парня я ввел в грех. Быть может, в первый раз заставил я его согрешить и, только когда уже было поздно, вспомнил страшные слова: горе тому, кто соблазнит единого из малых сих.

.
Мне сложно сказать, почему великий князь Константин Константинович не вымарал или не вырезал все те дневниковые записи, в которых содержатся подобные места. Из них явствует, что он всегда воспринимал свою гомосексуальность как порок, усердно молился, замаливал свой грех и опять грешил.
И в свете опубликованных дневников, совсем по-другому воспринимаются стихи поэта К.Р.:
Когда креста нести нет мочи,
Когда тоски не побороть,
Мы к небесам возводим очи,
Творя молитву дни и ночи,
Чтобы помиловал Господь.

«Портрет великого князя Константина Константиновича,
президента Императорской Академии наук» А.М. Леонтовский, 1906 г.
Константин Константинович всю жизнь успешно скрывал свой тайный грех от окружающих, которые о его гомосексуальных наклонностях даже не подозревали (великий князь грешил только с простолюдинами). Но почему он решился обнародовать всё это, хоть и через 90 лет после смерти?
То ли было для него это чрезвычайно важно как проявление целостности его личности, то ли в назидание потомкам, то ли просто так. Не знаю… У меня нет объяснений. Может у вас они есть?
Метки: Дом Романовых, гомосексуальностьhttps://oadam.livejournal.com/312712.html
|
Метки: романовы |
Культурное наследие княжеского рода Оболенских |
История Пензенской области очень насыщена многими интересными событиями и тесно связана с известными историческими личностями. Располагая некоторыми материалами, документами, в своей небольшой исследовательской работе я хочу рассказать о знаменитой фамилии князей Оболенских (см. приложение №2) , которые внесли большой вклад в дело сохранения духовного наследия. Но кто они - Оболенские? Да, мы знаем, что это княжеский род, многие были известными государственными деятелями. А вот анализа их культурного наследия нигде не встречается. А это заслуживает огромного внимания.
Оболенские принадлежат к старинному русскому княжескому роду, отрасль князей черниговских. Родоначальником рода был князь Иван Михайлович Оболенский, по прозвищу Репня (XVIII колено от Рюрика), умершего в 1523 г. Младший сын князя Черниговского Михаила Всволодовича, принявшего мученическую смерть и причисленного к лику святых, - Юрий, князь Тарусский и Оболенский. Его сын Константин Юрьевич унаследовал от отца город Оболенск и передал прозвание Оболенский в виде фамилии своим потомкам. Род князей Оболенских был внесен в 5 часть дворянских родословных книг Московской, Калужской, Пензенской, Тульской, Симбирской и Нижегородской губерний.
Цель моей работы – углубить сведения о деятельности некоторых представителях княжеского рода, раскрыть интересные факты их плодотворной деятельности как людей – патриотов, глубоко любящих Россию, и как деятелей православной культуры. Их культурное наследие заслуживает того, чтобы россияне знали об этом и гордились Оболенскими.
Свой рассказ я хочу начать с деятельности Алексадра Петровича Оболенского, который родился в Москве 31 декабря 1780 года. Его отцом был надворный советник князь Петр Александрович Оболенский (1742-1822), мать - Екатерина Андреевна, урожденная княжна Вяземская (1741-1811), она являлась родной сестрой И.А. Вяземского, деда поэта П.А. Вяземского. У Петра Андреевича и Екатерины Андреевны было 20 детей, из которых 10 умерли, а другие десять пережили своих родителей. Многочисленной была и семья А.П. Оболенского и его жены Аграфены Юрьевны, в девичестве Нелединской-Мелецкой. Еще, будучи калужским губернатором, Александр Петрович купил у В.Л. Пушкина, дяди поэта, имение Березичи. Недалеко от дома Оболенского был построен каменный храм на средства А.П.Оболенского. Но сказать построен – ничего не сказать, душа была вложена в этот храм.
В «Ведомости о церкви Николаевской Козельского уезда Калужской епархии в селе Березичи» за 1915 и 1916 годы сказано, что церковь была каменная, в одной связи с каменной колокольней, покрыта железом, обнесена каменной оградой, выбелена известью, внутри оштукатурена и окрашена масляной краской. Церковь была однопрестольная - во имя святого Николая Чудотворца. Из причта состояли в штате священник и псаломщик. В 1915 году священнику Николаю Александровичу Воронцову было 77 лет. С 1888 г. состоял священником в селе Березичи. Имел серебряную медаль в память императора Александра 111-го, в 1912 году был награжден орденом св. Анны III степени, в 1913 году получил бронзовую медаль в память 300-летия царствования дома Романовых. 4 мая 1915 года был награжден саном протоиерея. Двое его сыновей тоже стали священниками.
С 1908 года церковным старостой был 54-летний князь Алексей Дмитриевич Оболенский, член Государственного Совета. В «Ведомости о церковном старосте» есть запись: «Пожертвовано в пользу церкви в 1911 году один вагон цемента и других потребностей для ремонта церкви на сумму 500 рублей». Закрыта церковь была в 1931г. Зимой при немецких властях в 1941г. храм открыли для Богослужений. Небольшая группа прихожан сумела в короткое время собрать по селу многое из церковного имущества. В те месяцы в березичском храме творилась молитва только о спасении России. Сразу после освобождения села от немецких войск службы прекратились. До 70-х годов церковь использовали как склад химических удобрений. Храм передан Калужской епархии 26 декабря 1990 года. Первым священником во вновь открытом храме был иерей Сергий Мишуков. С 1998г. - настоятель протоиерей Павел Морозов. Сейчас храм реставрируется. Иконостас зимнего предела создан иконописной мастерской "Канонъ".
«Хрустальное чудо»
Брат Алексея Дмитриевича Оболенского, последнего из князей, владевших селом Березичи, Александр Дмитриевич Оболенский (1847 – 1917) бывал в здешних местах. Он также был вкладчиком Никольской церкви села Березичи. Но особо хочется отметить деятельность А.Д.Оболенского в Пензенском крае, в Николо-Пестровке. Название населенного пункта связано с именем самого любимого и почитаемого на Руси святого Николая Чудотворца. Впервые в документах селение упоминается в 1761 году под названием «Никольское, Пестровка тож» .
Александр Дмитриевич Оболенский получает в наследство от своей тетушки Анны Петровны Бахметьевой (урожденная графиня Толстая, не имевшей детей, родовое имение в 2000 десятин вместе с большим хрустальным заводом. Изучив с раннего детства хрустально-стекольное дело, Александр Дмитриевич Оболенский вложил в него массу сил и знаний, и за почти 40 лет его управления (1847 - 1917) завод дал миллионные обороты (по данным 1914 года годовой оборот составил около 800 тыс. рублей).
Фабрика была для князя Оболенского его детищем, которое он очень любил и отдавал практически все время. Рабочие относились к нему с уважением и любовью. А князь делал все, чтобы его имение выглядело достойно. Храм Воскресения Христова с двумя приделами, левый в честь Святого Николая, правый - Преподобного Алексея, человека Божьего, построен в 1813 году на средства помещика Николая Алексеевича Бахметева (сына основателя завода). А.Д. Оболенский не только поддерживал храм, но благоустраивал его. В тихую погоду звон колоколов этой церкви слышался в ближайших селах. Купола блестели, особенно в ясные, солнечные дни. Необычайно красиво храм выглядел на Рождество и Пасху. Казалось, он горел: всюду зажигались разноцветные фонари. Церковь окружала железная ограда, за которой росли огромные, цветущие липы. Внутри церковь была богато украшена изделиями из хрусталя и цветного стекла: кресты напрестольные, подсвечники, лампады, дарохранительницы, дароносицы, паникадила, потиры, дискосы. Рассказывают, что и пол церкви был выстлан плитками из голубого стекла. Убранство храма было великолепным. Сами рабочие и хозяева завода радели об этом. Стеклянные садовые подсвечники и уличные шары – лампады были установлены вдоль ограды храма, и никому в голову не приходило, например, кинуть камень в матовый светящийся шар.
Большинство икон величественного иконостаса, золотой стеной устремлённого в высоту, было написано учениками известной Ступинской школы. В 1856 г. приглашается для росписи храма художник К.А.Макаров. В1861 г. работу продолжает сын Макарова – Иван Кузьмич, академик портретной живописи. Им написаны иконы «Богоматерь на облаках», «Воскресение Христово» и др., запрестольный образ «Положение во гроб». Художники Макаровы расписывали Кафедральный Спасский собор в Пензе, храм Христа Спасителя в Москве. В храме пел замечательный церковный хор. Им восхищались писатель Л.Н.Толстой и композитор В.В.Андреев. В советское время (как впрочем, и везде по стране) храм был приспособлен под хлебозавод, под склады. Александр Дмитриевич избирался вице-председателем Русского музыкального общества и был одним из организаторов его отделения в Пензе. В конце XIX века организовал при Николо-Пёстровском заводе хор и духовой оркестр, а в 1902 году совместно с сыном Петром создал один из первых в России оркестр народных инструментов, для которого приобрёл комплект балалаек и домр.
Развитию музыкальной культуры в Пензенской губернии способствовала и жена Александра Дмитриевича Анна Александровна, урождённая Половцева, (1861 – 1917), состоявшая членом правления Пензенского отделения Русского музыкального общества. Именно ее родители Штиглиц основали в Петербурге центральное училище технического рисования, ныне Высшее художественно-промышленное училище им. В. Мухиной.
Природа оказалась щедра к Анне Александровне. Она была музыкально одаренным и блестяще образованным человеком, обладала натурой энергичной и возвышенной. Член дирекции Петербургского отделения Русского музейного общества, директор Пензенского отделения этого же общества, она сама писала духовную музыку. Круг общения княгини составляла вся музыкальная элита того времени – И. Кюи, А. Глазунов, А. Рубинштейн, Н. Римский-Корсаков, Ф. Шаляпин и другие.
А.Д. Оболенский организовал в селе Никольском театр, а вдохновителем, неизменным режиссером и душой каждого спектакля был Владимир Богданович Ферингер – постоянный воспитатель в доме Оболенских. Ставились 1-2 спектакля в летний сезон, и, что удивительно, первые постановки были оперными. Самым первым спектаклем, поставленным на никольской сцене, была опера М.И.Глинки «Жизнь за царя». Сын Оболенских Алексей обладал прекрасным и хорошо поставленным голосом, пел арию Вани. В спектакле звучали настоящие арии, речитативы. Замечательно было и то, что вместе с членами семьи Оболенских в спектакле были заняты и рабочие стекольной фабрики. Привлечение к театру актёров из рабочей среды имело ещё один положительный эффект. Были заложены династии никольских певцов, например, Труёвцевых. Один из них, Михаил Иванович, стал замечательным оперным певцом, заслуженным артистом РСФСР.
Увлечение князя Оболенского театром привело к тому, что при перестройке здания заводоуправления Александр Дмитриевич обустраивает в нём помещение под театр на 400 мест. Театр размещался в центральной части здания, украшенной колоннами. В музее хрусталя и стекла г. Никольска хранятся подаренные жительницей Л.В. Мещеряковой программки спектаклей, которые ставились в 1912-1913 гг.
«Большое дело творите вы!..»
Столь же одаренными, да и как могло быть иначе, были дети князя Оболенского. Дмитрий Александрович (1882 – 1964), их сын, в 1907 году избирался почётным мировым судьёй Городищенского уезда. С 1908 года он стал городищенским уездным предводителем дворянства и председателем Городищенского уездного земского собрания. Дмитрий Александрович организовал духовой оркестр в Николо - Пестровке, который играл произведения церковной музыки.
Александр Александрович (1885 – 1940), второй сын Александра Дмитриевича, в 1902-1905 годах учился в Пажеском корпусе, с 1905 года в чине корнета служил в Кавалергардском полку, впоследствии стал адъютантом генерала А.А. Брусилова. Умер во Франции.
Но наиболее удивительна судьба третьего сына - Пётра Александровича (2.10.1889, Санкт-Петербург – 31.12. 1969, Москва). В 1908 году он окончил классическую гимназию в Санкт-Петербурге и училище правоведения. Своей матери Петр Александрович обязан своим музыкальным образованием. П.А. Оболенский известен в Никольске как создатель и дирижер Великорусского струнного оркестра народных инструментов, каких в России были единицы. В своих воспоминаниях Петр Александрович упоминает об обилии музыкальных талантов в рабочей среде. Не говоря уже о том, что в хоре певчих имелись прекрасные голоса, многие выделялись своим поразительным музыкальным чутьем и способностями. Первые пробы оркестра на сцене состоялись в 1904 году, поэтому принято считать 1904 год датой образования. Позднее оркестр концертировал не только в Никольске, но выезжал на гастроли в большие города, такие как Пенза, Симбирск, Казань и везде его выступления сопровождались колоссальным успехом.
Сначала все отнеслись к начинаниям молодого барина скептически, но затем, видя какой симпатией и неподдельной любовью оркестр пользовался в Никольске, изменили свое отношение. Многие из молодых людей потянулись в оркестр. Молодежь заполняла свой досуг не попойками и картами, а разумными развлечениями. И многие, получив начальное музыкальное образование, после призыва на военную службу сейчас же устраивались в оркестр и музыкальные команды.
Великий певец Федор Шаляпин поддерживал развитие и распространение оркестров. Князь был с ним знаком, бывал у него в гостях в Петербурге. Именно Петр Александрович и дочь Шаляпина Ирина сделали все, чтобы прах великого актера находился на родине – в России. Оболенскому Шаляпин подарил любительское фото и сделал дарственную надпись: «На память милейшему другу Петрику Оболенскому» и от сердца добавил: «на долгое время, а лучше навсегда. Ф. Шаляпин. 1924 г.». О деятельности оркестра Оболенского Шаляпин говорил: «Большое дело творите вы!..»
Для обучения рабочих мастерству игры Петр Александрович пригласил из Петербурга руководителя одного из лучших в гвардии оркестров М.Н. Семенова, держал связь с «отцом русской балалайки» В.В. Андреевым, который приезжал на завод и прослушивал выступления оркестра. Исполняли «Венский вальс», русскую народную песню «Калинушка», плясовую «Полянка» и др. Он слушал и хор певчих. Сначала хор в составе 50 человек исполнил некоторые духовные песнопения, причем было проведено «Достойно есть» – сочинение матери Петрика ( так звали домашние Петра Александровича). Василий Васильевич сознался, что никак не ожидал такого художественного исполнения от хора рабочих.
Страстный любитель хорового пения, Петр Александрович ухитрялся организовывать хоры даже в тюрьмах, где он периодически отсиживал в 20-е годы за свое княжеское происхождение, которым весьма гордился.
В 1929 году Пётр Александрович эмигрирует во Францию, но в 1957 году возвращается на Родину. Будучи в иммиграции Петрик продолжал писать музыку. Он был известен не только как организатор, дирижер, отличный пианист, музыкант, но и как композитор, сочинитель церковной музыки. Наиболее известные произведения «Сугубая ектенья», «Богородице, Дева Радуйся», и т.д. Благодаря своему общительному характеру, высокой эрудиции, гуманности и разностороннему таланту, он быстро и легко налаживал контакты. Назову имена некоторых известных архиереев, с кем ему пришлось лично и неоднократно иметь встречи, вести переписку и делиться мыслями: епископ Саратовский и Волгоградский – Пимен, патриарх Всея Руси Алексий I, епископ Курский и Белгородский Серафим, митрополит Ленинградский Никодим, епископ Зарайский и со многими другими известными людьми.
В последние годы жизни являлся членом Союза композиторов СССР.
А дело живет и поныне…
Руководство оркестра было передано в настоящее время (удивительно, но оркестр продолжает жить и поныне) Сергею Валентиновичу Жаднову. Это молодой человек, закончивший Нижегородскую музыкальную консерваторию им. М.И. Глинки, был солистом ансамбля «Балалайка плюс», с которым успешно гастролировал по Западной Европе. Кроме оркестра он вместе с женой поет в церковном хоре Храма Светлого Воскресения Христова.
Храм построен на новом месте около Варваровского кладбища. Служба началась в недостроенном помещении, буквально под открытым небом, в 1998 году. Освящение храма состоялось в ноябре 2003 года. Никольский храм относится к однокупольным и, стало быть, небольшим – на 1000 посетителей, его высота вместе с колокольней составляет 26 м. Конечно, храм не сравним с прекрасной исторической постройкой начала XIX в. Но постепенно он обустраивается. Есть одна уцелевшая после разгрома старой церкви икона – Воскресения Христова. Она находится в храме и напоминает о своей дореволюционной предшественнице. Недавно восстановили дарохранительницу позапрошлого века. Эту старинную хрупкую вещь сохранила и принесла прихожанка, но часть элементов была утеряна. Заводские художники по музейным образцам создали недостающие детали, используя марганец и кобальт. Сделали, как было изначально. Очень красиво! Большая заслуга в возрождении приходской жизни в Никольске принадлежит почившему в 2000 г. архиепископу Серафиму (Тихонову) и игумену Никольской церкви Христофору (Ширяеву). Оба – уроженцы Никольского района. При храме работает воскресная школа, ведется культурно-просветительская работа.
Храм Воскресения Христова – единственный в Пензенской епархии, который имеет мраморный иконостас. Он выполнен из карельского мрамора мастерами российского Севера. Во внутреннем убранстве храма привлекают внимание фресковая живопись работы мастеров Троице-Сергиевой Лавры, иконы, выписанные лучшими иконописцами из Пензы и Москвы.
Потомки Оболенских
Но не всем потомкам князей была дана возможность реализовать себя на Родине. В годы революции Оболенские были вынуждены эмигрировать заграницу. Есть небольшие сведения о дочери Алексея Дмитриевича – Анне, у которой был дар художницы. Многочисленные акварели с портретами близких людей, пейзажи и натюрморты с цветами: мать и мачехой, анемонами, орхидеями, подсолнухами, написанные А.А.Оболенской фон Герсдорфф, свидетельствуют не только о большом вкусе и мастерстве художницы, но и, по словам шведского арт-критика Стена Абрахамссона, "проникнуты удивительным религиозным светом суждения о положительном отношении к жизни". Ее дарования унаследованы и ее детьми. Так княгиня Александра Николаевна Оболенская тоже замечательно рисует. А 19.03.2006 г. она посетила Пензу. О своем княжеском происхождении врач-арт-психиатр Александра Бультман фон Герсдорфф, гражданка Швеции, работающая и проживающая в Германии, вспоминает редко. В Пензенскую область она приехала впервые. На перроне вокзала княгиня рассказала, что производством хрусталя занималось все их большое семейство. У ее дедушки был стекольный завод на территории сегодняшней Белоруссии, а у его родного брата - в Никольске. Судьба разбросала их по Европе. Пришлось им нелегко, но из поколения в поколение вместе с родным русским языком они передавали рассказы о заводе, о православных храмах на российской земле. Возможно, именно с этими рассказами передавались любовь к русскому искусству и художественный вкус.
Другой потомок княжеского рода – Оболенский Николай Владимирович. Почетный член Российской академии архитектуры и строительных наук, Заслуженный архитектор России. Патриархом Московским и всея Руси Алексием II он награжден орденом святого Сергия Радонежского за труды по воссозданию российских святынь.
Дед Н.В.Оболенского - князь Василий Васильевич Оболенский, был Московским вице-губернатором при генерал-губернаторе князе В.А.Долгоруком.
Дело предков продолжается и в его детях:
сын - Андрей Николаевич - соавтор проекта воссоздания храма Христа Спасителя в Москве и многих новых храмов, жилых и общественных зданий в Москве, России и за рубежом, в том числе второго по величине в России Спасо-Преображенского собора, построенного и освященного в 1997 году в новом городе Губкине Белгородской области.
Дочь - Татьяна Николаевна архитектор-реставратор.
Время бежит, как вода в быстром ручье. Меняются правители, меняется политический строй. Но остается одно - вера человека в свою Родину. В тот маленький уголок, где он родился и познал самого себя. Надолго в памяти народной останутся люди, сделавшие эту веру ещё крепче. Вот такими и были князья Оболенские.
Список литературы
1. « Калужские губернаторы», изд. «Золотая аллея», 2001 год.
2. Савин О.М. Бахметевы / Пензенская энциклопедия. М.: Научное издательство.
3.«Большая Российская энциклопедия», 2001, с. 43.
4. «Пензенская правда», №21, 21 марта 2006 г
5. Б. Грановский «В. Андреев и его оркестр» // «Советская музыка», 1959, 7 июля.
6. Газета «Знамя Труда», 2002 г., 6 сентября.
7. Газета «Знамя Труда», № 91, 95, 98, 101, 103, 119, 131, 2004 г.
8. П. Оболенский «Дар редкостный могучий», «Огонек», 1963, февраль.
9. О.Савин «Пенза музыкальная»
10.Материалы личных архивов В.И. Кондратьева, семьи Труевцевых.
11.Полученные материалы в ходе интервью с О.А. Ильиным, М.Г. Гегуевой, Ф.Ф. Федулеевым, Л.В. Лининой, С.В. Жадновым.
***
| http://www.vevivi.ru/best/Kulturnoe-nasledie-knyaz...oda-Obolenskikh-ref181889.html | |


|
Метки: оболенские |
Процитировано 1 раз
Понравилось: 1 пользователю
Оболенский Андрей Николаевич |
Советник Российской академии архитектуры и строительных наук, руководитель комплексной мастерской № 12 по проектированию комплекса храма Христа Спасителя и комплекса зданий МИД РФ управления Родился 26 апреля 1957 года в поселке Ленино Ленинского района Московской области (ныне Юго-Восточный административный округ города Москвы). Отец - Оболенский Николай Владимирович (1927 г. рожд.), почетный член Российской академии архитектуры и строительных наук. Мать - Оболенская (Сарафанова) Нина Ильинична (1926 г. рожд.), окончила Московский государственный университет, литературный редактор. Андрей Николаевич является прямым потомком знаменитого русского рода князей Оболенских, которые происходят от князей Черниговских и ведут свою родословную от Рюрика. Этот род уникален в истории Руси и России. На протяжении восьми столетий начиная от князя Михаила Черниговского, причисленного Православной Церковью к лику святых за мученическую смерть в Орде, князей Долгоруковых и Вяземских, графов Шереметевых и Гудовичей, Лермонтовых и Карамзиных, с которыми князья Оболенские связаны кровным родством, они вносили ощутимый вклад в становление, укрепление и объединение сначала Московского и затем Российского государства. Прадед А.Н. Оболенского - князь Василий Васильевич Оболенский, был Московским вице-губернатором при генерал-губернаторе князе В.А. Долгоруком. Дед - князь Оболенский Владимир Васильевич (1890-1937), окончил юридический факультет Московского университета (1912). В 1937 году он был незаконно репрессирован и расстрелян. Бабушка - Гудович Варвара Александровна (1900-1937), художник, правнучка генерал-фельдмаршала графа И.В. Гудовича, сподвижника А.В. Суворова и М.И. Кутузова, также была незаконно репрессирована и безвестно погибла в ГУЛАГе. Оба полностью реабилитированы. А.Н. Оболенский пошел по стопам отца, известного архитектора. В 1970 году после получения начального образования в школе № 704 города Москвы и художественной школы "на Кропоткинской" он поступил в Московскую среднюю художественную школу при институте имени В.И. Сурикова. В 1975 году стал студентом Московского архитектурного института, который окончил в 1981 году по специальности "архитектура жилых и общественных зданий и сооружений", и по распределению был направлен на работу в проектный институт "Гипрокаучук", где принял участие в разработке проекта цеха перекачки завода искусственного каучука в городе Стерлитамаке. В апреле 1982 года А. Оболенского призвали в армию. Службу проходил в Ярославском высшем военном финансовом училище и штабе Московского военного округа в должности архитектора. После увольнения в запас в 1984 году он поступил на работу в управление "Моспроект-2" в мастерскую № 12 по проектированию Памятника Победы на Поклонной горе, где вел проектирование части зоны "А" ("Картинная галерея"). В 1990 году после завершения основных проектных работ по "Памятнику Победы" уволился из "Моспроекта-2" и создал Архитектурно-художественный центр Московской Патриархии "Арххрам" (АХЦ "Арххрам"), творческим руководителем которого является и поныне. Андрей Николаевич Оболенский - один из наиболее результативных и удачливых зодчих нашего времени. Как автор и руководитель проектов он принимал участие в разработке более 50 проектов нового строительства и реставрации памятников церковной и средовой архитектуры в Москве, Подмосковье и других регионах России. Среди них: храмовые комплексы преподобного Серафима Саровского (1995-1996), преподобного Сергия Радонежского в городе Югорске (1995-1997), святого Андрея Рублева на Мичуринском проспекте в Москве (1996-1999); храмы Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Барвиха Московской области (1997-1998), Преображения Господня в городе Губкин Белгородской области (1995-1997), православный храм в городе Маарду в Эстонии (1992-1994), храм Рождества Богородицы в городе Урай Тюменской области (1997-1999), часовня Рождества Богородицы в Столешниковом переулке в Москве (1998), генеральный план благоустройства Соборной площади Коломенского Кремля (1992), дипломированные конкурсные проекты реконструкции Манежной (1991) и Боровицкой (1998) площадей в Москве, а также административное здание банка "Менатеп" на Дубининской улице (Москва, 1994-1996), гараж и физкультурно-оздоровительный комплекс на Петрозаводской улице (Москва, 1998), жилой комплекс на Байкальской улице (Москва, 1996-1998). При непосредственном участии А.Н. Оболенского теоретическим сектором АХЦ "Арххрам" (рук. М.Ю. Кеслер) впервые был разработан Свод нормативов и правил на проектирование культовых зданий православной конфессии. Сразу после принятия решения о воссоздании комплекса храма Христа Спасителя силами АХЦ "Арххрам" был разработан и осуществлен проект деревянного храма-часовни Державной иконы Божией Матери, на несколько лет ставшего духовной доминантой на строительстве. С начала работ по проектированию комплекса храма Христа Спасителя в качестве руководителя АХЦ "Арххрам" и главного архитектора проекта он работал над созданием Нижнего храма Преображения Господня, явившегося первым пусковым объектом комплекса. В предельно сжатые сроки А.Н. Оболенский сумел обеспечить выпуск проектной документации, позволившей вести строительство параллельно с проектированием. При этом выдаваемые проектные решения носили эксклюзивный и высокохудожественный характер. Все элементы интерьера храма разработаны специально для этого объекта и насыщены различными художественными технологиями, восходящими к XVII веку. В процессе разработки проекта Нижнего храма А.Н. Оболенским (совместно с Б.В. Кенгуровым и Е.И. Иевлевой) было сделано изобретение в области строительной технологии, защищенное патентом Российской Федерации (№ 2112847 от 10 июня 1998 года) на способ возведения пространственных оболочек и сводов посредством "торкретирования снизу" по специальному металлическому каркасу. Это дало возможность выполнить своды Нижнего храма в сложной строительной ситуации в срок и с высоким качеством. Впоследствии этим же способом были возведены все своды и купола Верхнего храма Христа Спасителя, Зала церковных соборов и других зон комплекса. После завершения работ по Нижней Преображенской церкви Храма Христа Спасителя, А.Н. Оболенский был назначен руководителем комплексной мастерской по проектированию комплекса храма Христа Спасителя управления "Моспроект-2". Кроме того, он руководит реконструкцией и реставрацией комплекса зданий МИД РФ и продолжает оставаться творческим руководителем АХЦ "Арххрам". Среди его недавних работ - конкурсный проект памятника архитектору Баженову у дома Пашкова в Москве (1999), часовня святого Василия Великого на ВВЦ (Москва, 2000-2001), храм преподобномученицы Елисаветы Федоровны в поселке Опалиха Красногорского района Московской области (1999-2002), храм Рождества Христова в городе Фрязино Московской области (1999-2002), храм Иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в Марьино (1998-2001), часовня "Феодоровской" иконы Божией Матери на месте гибели офтальмолога Святослава Федорова в Митино (Москва, 2001). А.Н. Оболенским выполнены проекты православных храмов, предполагаемых к строительству в Риме, Малаге и Дюссельдорфе. По проекту А.Н. Оболенского изготовлены и установлены памятники на местах взорванных домов на Каширском шоссе и улице Гурьянова в Москве. Он автор и разработчик общегородской программы по установке памятных знаков на местах утраченных московских храмов и концепции устройства автомобильных стоянок над пандусами транспортных туннелей Садового кольца. Он отмечен наградами Русской Православной Церкви (двумя орденами святого Сергия Радонежского (1997, 2000), орденом святого князя Даниила Московского (1997), медалью святого Сергия Радонежского (1996), грамотой Патриарха Московского и всея Руси), дипломами и призами Москомархитектуры, дипломом и серебряной медалью Российской академии художеств, почетной грамотой и медалью "В память 850-летия Москвы". В 1999 году А.Н. Оболенский избран советником Российской академии архитектуры и строительных наук. Любимое занятие Андрея Николаевича - работа. Редкие минуты свободного времени посвящает классической музыке, с удовольствием занимается живописью и как любитель - автомобильным спортом. Живет и работает в Москве.
Источник контента: https://botanim.ru/https://botanim.ru/content/obolenskij-andrej-nikolaevich-854.html
|
Метки: оболенские |
Дворец Лобановых-Ростовских на Мясницкой |
|
|
|||
Дворец Лобановых-Ростовских на Мясницкой
Когда-то Мясницкая улица начиналась от Никольских ворот Кремля, шла через Мясницкие ворота Белого города и дворцовые огороды Земляного и вела в подмосковные села Стромынь и Красное. Недалеко от Огородной слободы в XVI веке обосновались торговцы мясом, здесь появились «пригонный скотинный двор», бойни и мясные лавки. От мясной слободы получили свое название улица и ворота Белого города, а приходская церковь Николая Чудотворца стала именоваться – «что в Мясниках». В XVI-XVII веках по сторонам Мясницкой улицы теснились скромные дворы слобожан с домами, больше похожими на бедные крестьянские избы. 
В XVI-XVII веках лишь изредка на Мясницкой улице встречались каменные здания церквей и белокаменные палаты знатных москвичей. На рубеже XVII и XVIII веков облик Мясницкой значительно изменился. Благодаря царю Петру Великому улица приобретает статус царской дороге. По Мясницкой государь ездил в Лефортово и Немецкую слободу. Неудивительно, что улица сразу же стала дворянской, и вдоль нее появились обширные владения «птенцов гнезда Петрова» – Долгоруковых, Стрешневых, Апраксиных. Сам светлейший князь Александр Меншиков построил свой роскошный дворец прямо у Мясницких ворот Белого города. 
Когда заходит речь о дворянской Мясницкой, мы сразу же вспоминаем дворец Лобановых-Ростовских. Первым установленным владельцем участка, на котором сегодня красуется дворец, был «гостиной сотни Федор Козмин» – богатый купец, заплативший за него в 1701 году немалые деньги – сто тридцать рублей. Козмин возвел здесь каменные палаты, множество надворных построек, разбил сад с прудом. А через шестнадцать лет купец продал свой двор братьям Корчагиным уже за тысячу семьсот рублей. В 1725 году участок приобрела Прасковья Даниловна Дашкова, с которой, наконец, началась дворянская история этого владения. 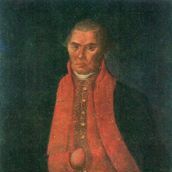
Мужа Дашковой – Алексея Ивановича – Петр Первый личным указом назначил исполнять только что введенную государственную должность «российского генерал-почтдиректора». Стараниями Алексея Ивановича полученные от почтовых доходов деньги, которые прежде разворовывались, стали исправно поступать в государственную казну. После смерти Дашковой все ее многочисленное имущество, в том числе дом на Мясницкой, унаследовал ее младший брат – Алексей Данилович Татищев. Он занимал самые разные должности при дворе, и на каждом поприще проявлял себя человеком незаурядным и весьма изобретательным. 
Именно Татищев, желая во что б это ни стало развлечь скучающую императрицу Анну Иоанновну, зимой 1740 года приказал построить Ледяной дом и устроил в нем шутовскую свадьбу князя Голицына и придворной калмычки Бужениновой. Эта дворцовая забава была описана писателем И.И. Лажечниковым в романе «Ледяной дом». Когда Татищев занимал должность генерал-полицмейстера, он распорядился ввести обязательное клеймение преступников словом «вор». Кроме того, были предусмотрены специальные меры на случай судебной ошибки – в таких случаях перед словом «вор» дополнительно выжигали оправдательную частицу «не». 
Сын Татищева Петр Алексеевич в 1763 году продал старые палаты на Мясницкой жене генерал-аншефа Петра Ивановича Панина – Анне Алексеевне. Братья Панины вместе с их юной родственницей Екатериной Романовной Дашковой и братьями Орловыми были одними из главных действующих лиц заговора против императора Петра III. Взойдя на престол, Екатерина Великая щедро отблагодарила особо отличившихся: Никита Иванович Панин встал во главе Коллегии иностранных дел, а его брат Петр Иванович по приказу Екатерины был произведен в генерал-аншефы, получил шпагу с бриллиантами, стал сенатором и членом Государственного совета. 
Именно в этот благополучный период московской жизни Анна Алексеевна затеяла перестройку старых палат: к торцам здания были пристроены крылья, а фасады и внутренние помещения получили барочную отделку в соответствии с материальными возможностями и вкусом новых владельцев. Петр Иванович Панин прожил долгую и интересную жизнь: командовал Второй русской армией, осаждавшей крепость города Бендеры в ходе Русско-турецкой войны 1768-74 годов, получил за заслуги графский титул. Именно ему Екатерина Великая поручила усмирение страшного пугачевского бунта, наделив Панина «полной мочью и властью». 
После кончины Панина дом на Мясницкой улице унаследовал его сын – Никита Петрович. Перед отъездом в Петербург он продал свое владение генерал-майору князю Александру Ивановичу Лобанову-Ростовскому за двадцать семь с половиной тысяч рублей. Сведений о Лобанове-Ростовском осталось немного. Известно лишь, что он очень рано поступил на службу, совершил поход в Финляндию во время шведской войны и вышел в отставку в чине генерал-майора. Зато о характере князя Лобанова-Ростовского осталось много воспоминаний современников, в большинстве случаев дававших ему весьма нелестные характеристики. 
В 1799 году князь начинает перестройку дома на Мясницкой. Исследователи предполагают, что работами руководил архитектор Ф.И. Кампорези. Обновленный фасад дворца дошел до наших дней почти без изменений: внешне небольшой (его протяженность всего шестьдесят метров) фасад производит грандиозное впечатление за счет сложности композиции. Тремя ризалитами он делится на пять частей, из которых центральное ядро поражает своим новаторским решением – вместо привычного портика мы видим гигантскую арку, опирающуюся на коринфские колонны. На внутреннем дворе появились два двухэтажных флигеля и каретный сарай. 
С момента завершения строительства усадьба неоднократно описывалась за долги, а в 1825 году сюда въехала строгановская «Школа рисования в отношении к искусствам и ремеслам». Правда, просуществовала она здесь недолго, и уже в сентябре 1826 года у дворца на Мясницкой улице появился новый владелец – Алексей Федорович Малиновский. Для Малиновского славная история этого дома имела немаловажное значение при решении о его покупке. Он был знаменитым историком, почетным членом Московского университета и председателем Общества любителей российской словесности и Общества истории и древностей российских. 
Малиновский считался одним из авторитетнейших исследователей древнерусских документов. Он работал над переводом «Слова о полку Игореве», написал биографии В.В. Голицына, Д.И. Пожарского и других исторических личностей. Но самым главным делом для самого Малиновского была его работа в Московском архиве Коллегии иностранных дел, которой он посвятил целых шестьдесят лет своей жизни. Служившие под его началом молодые чиновники были своеобразной московской достопримечательностью и носили звание «архивных юношей». Возможно, Вы помните у А.С. Пушкина в седьмой главе романа «Евгений Онегин»: Архивны юноши толпою 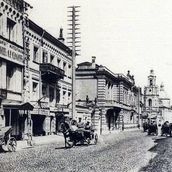
Поэт был хорошо знаком с Алексеем Федоровичем Малиновским и часто работал в Московском архиве Коллегии иностранных дел, когда писал «Историю Пугачевского бунта». Жена Малиновского – Анна Петровна – была в дружеских отношениях с семейством Гончаровых, и Пушкин попросил ее помочь добиться руки прекрасной Натальи Николаевны. На свадьбе великого русского поэта Анна Петровна Малиновская была посаженой матерью со стороны невесты. Дом Малиновского на Мясницкой улице поэт тоже время от времени посещал. В знаменитом стихотворении Пушкина «Дорожные жалобы» не случайно появились такие строки: То ли дело быть на месте, 
С 1836 года дворянских фамилий среди владельцев дома мы уже не встретим. Сначала его приобретают купцы второй гильдии братья Бутеноп, производившие земледельческие машины. Они сносят часть строений во дворе и на их месте возводят здание фабрики, склады и казармы для рабочих. Здесь же постоянно работала выставка собственных и заграничных сельскохозяйственных машин. Главный дом усадьбы на Мясницкой улице тоже претерпел серьезные изменения: у торца восточного крыла появилась двухэтажная пристройка, у главного входа – остекленный тамбур, крышу мезонина увенчала башенка со звоном, а в окне арки были установлены часы. 
Помимо сельскохозяйственных машин, Братья Бутеноп производили башенные куранты. Именно они в 1851 году переделали знаменитые куранты Спасской башни Московского Кремля. Эти часы и сегодня украшают Спасскую башню. В 1874 году вдова Николая Бутенопа продала дом на Мясницкой и фабрику при нем фирме «Эмиль Липгарт и Ко». Новые владельцы расширили производство, начали выпускать не только сельскохозяйственные машины, но и строительные материалы, локомобили и двигатели. На фасаде дома появились огромные рекламные вывески, за которыми уже почти не угадывалась красота пропорций классицистического дворца. 
В декабре 1913 года товарищество продало свое владение акционерному обществу «Великан», добившемуся вскоре разрешения на снос зданий и строительство семиэтажного доходного дома. Начавшаяся Первая мировая война спасла старый дом от уничтожения. После революции в доме на Мясницкой улице обосновался МСПО – Московский союз потребительских обществ, – занимавший его более семидесяти лет. Усадьба продолжала разрушаться, и в 1987 году началась реставрация, завершенная уже в XXI веке новым арендатором – некоммерческим партнерством по развитию культуры и искусства «Меценат клуб». Лариса Скрыпник
|
Ближайшие экскурсии08 ЯНВ в 12:00 
Детская экскурсия «Тайны кремлевских башен» Продолжительность: 1,5-2 часа Гид: Екатерина Титова 08 ЯНВ в 13:00 
Двориками от Чистых прудов до Садового кольца Продолжительность: 2 часа Гид: Татьяна Воронцова 13 ЯНВ в 14:00 
Детская экскурсия по Александровскому саду и Красной площади Продолжительность: 1,5-2 часа Гид: Денис Дроздовhttps://moscowsteps.com/dvorec-lobanovyh-rostovskih |
|
Метки: дворянские владения лобановы-ростовские |
История коллекции Нины и Никиты Лобановых-Ростовских |
История коллекции Нины и Никиты Лобановых-Ростовских
- Главная
- История коллекции Нины и Никиты Лобановых-Ростовских
 В декабре 2013 года в помещении Шереметевского дворца состоялось знаменательное событие. В рамках проведения Международного культурного форума состоялась передача в дар Санкт-Петербургскому государственному музею театрального и музыкального искусства известной коллекции театрально-декорационного искусства, собранной Ниной и Никитой Лобановыми-Ростовскими. В качестве дарителя выступил Международный благотворительный фонд «Константиновский», который еще в 2008 году приобрел 810 предметов из этой уникальной коллекции. Собрание Лобановых-Ростовских хорошо известно в мире. Основание этой коллекции было положено в самом конце 1950-х. За эти годы она стала крупнейшим на Западе собранием театральной живописи конца XIX – начала XX века. Интерес коллекционеров к этому периоду понятен — в конце XIX века в русский театр пришли знаменитые художники: М. А. Врубель и К. А. Коровин, А. Я. Головин и В. Д. Поленов, А. Н. Бенуа и Л. С. Бакст, Н. Н. Сапунов и С. Ю. Судейкин. Они способствовали подъему декорационного искусства на небывалый художественный уровень, а Русские сезоны С. П. Дягилева в Европе заставили говорить об этих художниках во всем мире.
В декабре 2013 года в помещении Шереметевского дворца состоялось знаменательное событие. В рамках проведения Международного культурного форума состоялась передача в дар Санкт-Петербургскому государственному музею театрального и музыкального искусства известной коллекции театрально-декорационного искусства, собранной Ниной и Никитой Лобановыми-Ростовскими. В качестве дарителя выступил Международный благотворительный фонд «Константиновский», который еще в 2008 году приобрел 810 предметов из этой уникальной коллекции. Собрание Лобановых-Ростовских хорошо известно в мире. Основание этой коллекции было положено в самом конце 1950-х. За эти годы она стала крупнейшим на Западе собранием театральной живописи конца XIX – начала XX века. Интерес коллекционеров к этому периоду понятен — в конце XIX века в русский театр пришли знаменитые художники: М. А. Врубель и К. А. Коровин, А. Я. Головин и В. Д. Поленов, А. Н. Бенуа и Л. С. Бакст, Н. Н. Сапунов и С. Ю. Судейкин. Они способствовали подъему декорационного искусства на небывалый художественный уровень, а Русские сезоны С. П. Дягилева в Европе заставили говорить об этих художниках во всем мире.
Никита Лобанов «заболел» собирательством еще в студенческие годы, когда посетил в Лондоне в 1954 году выставку, посвященную художникам Русских сезонов: «Как зачарованный смотрел я на эти работы и как-то в один миг решил, что в моей жизни обязательно настанет один такой прекрасный день, когда подобные работы станут моими». Судьба самого Никиты Дмитриевича необычна. Представитель древнего русского княжеского рода Лобановых, восходящего к Рюриковичам, он родился в Болгарии, в эмиграции, в 1935 году. Ребенком оказался на территории немецкой оккупации, а после окончания Второй мировой войны вместе с родителями был репрессирован. Одиннадцатилетним подростком год отсидел в болгарской тюрьме. Через шесть лет после освобождения ему удалось уехать во Францию и затем в Англию, где Никита поступил в один из колледжей Оксфорда. В качестве профессии была выбрана геология. Как беженец из Восточной Европы он учился за счет английской казны, и учился отлично, все силы вкладывая в учебу. Свое образование Никита Дмитриевич продолжил в США, став в 1958 году студентом Колумбийского университета в Нью-Йорке. Здесь он выбрал экономическое направление, и сочетание геологии и финансов оказалось очень плодотворным. Получив степень магистра и отработав по контракту два года в Патагонии, Никита Лобанов продолжил образование на вечернем отделении университета, изучая банковское дело, а днем работая в банке. Наконец могла осуществиться мечта о собственной маленькой коллекции произведений искусства. Еще в 1959 году, подрабатывая переводчиком и ассистентом в Нью-Йоркском университете, Лобанов позволил себе первые приобретения. Он познакомился с известными коллекционерами и дилерами, владельцами антикварных и книжных магазинов Нью-Йорка. Изумительные листы с эскизами костюмов к «Петрушке» И. Стравинского стали первой покупкой, всего по 25 долларов за лист. До середины 60-х покупать работы русских художников, работавших за рубежом, можно было за сравнительно небольшие деньги. В 1967 году лондонский аукцион «Сотбис» начал проводить торги русского театрально-декорационного искусства. Заново открывались имена русских художников. Лобанов успел приобрести большую часть коллекции в промежутке между 1959 и 1970-ми годами, когда русское искусство еще не пользовалось таким большим спросом на Западе. Важным источником пополнения коллекции стали сами художники и их близкие родственники, наследники. Переехав в Нью-Йорк, Никита Лобанов познакомился со многими из них. Он внимательно слушал воспоминания людей, когда-то работавших с С. П. Дягилевым, узнавал адреса русских художников, проживавших в Париже, Мадриде, Нью-Йорке. Многие, зная трудное материальное положение начинающего коллекционера, отдавали свои произведения за символическую цену.
В 1961 году Н. Д. Лобанов-Ростовский встретился в Нью-Йорке со своей будущей женой Ниной. Полуфранцуженка-полурусская, дочь французского посла Жоржа Пико, Нина разделила не только судьбу Никиты, но и его страсть к коллекционированию. В то время она работала журналисткой в одном из Нью-Йоркских издательств, пользуясь служебным положением, помогала Никите Дмитриевичу со справочным материалом, вместе с ним разыскивала владельцев театральных эскизов. В 1962 году состоялась свадьба. С самого начала совместной жизни Нина включилась в собирательскую работу. У нее оказалось необычайное чутье и тонкий вкус. Она преуспела в изучении и атрибуции купленных произведений, умело работала в архивах, собирала сведения. Без нее коллекция не была бы столь строго систематизированной и каталогизированной. Собственно, коллекция начала формироваться в ее нынешнем виде после того, как возник союз этих двух людей. Их вкусы совпали, а темпераменты и характеры дополнили друг друга. Собрание и носит имена этих двух людей — «Коллекция Нины и Никиты Лобановых-Ростовских».
В 1967 году состоялась первая большая выставка коллекции, организованная Международным выставочным фондом в помещении музея Метрополитен в Нью-Йорке. Выставка была собрана из произведений, принадлежащих Лобановым и Юрию Рябову, также русского по происхождению. 105 из 112 экспонатов этой выставки были собственностью Лобановых-Ростовских. Предисловие к каталогу написал известный русский художник Ю. П. Анненков. Выставка имела успех, стала передвижной и побывала во многих городах Америки.
К началу 1980-х коллекция уже обрела целостность. Она всесторонне демонстрировала развитие русского театрально-декорационного искусства в эпоху модернизма. Четкие временные границы 1880–1930 подтверждали принятую классификацию периода. От реализма и символизма — к конструктивизму и абстракции; все развитие русской дореволюционной и советской сценографии, как в учебнике, представлено экспонатами. Есть человек, который помог изучить и научно обработать каждый предмет, приобретенный коллекционерами — профессор-славист Джон Эллис Боулт, американский искусствовед родом из Великобритании. Он — автор первого крупного каталога собрания, который был выпущен в США в 1982 году к большой выставке в ряде крупнейших городов Америки. Авторитет Боулта как эксперта в области русского авангарда известен не только специалистам, но и широкому кругу людей, интересующихся русской культурой. Им написано множество книг и статей по русскому искусству конца XIX – первой трети XX века, он куратор многих международных проектов, главный редактор ежегодника «Эксперимент». А еще он создатель и директор Института современной русской культуры при Университете Южной Калифорнии. Джон Боулт является составителем каталога-резоне коллекции Лобановых, изданного в Москве на русском языке издательством «Искусство» в 1994 году, где уделено внимание каждому произведению, каждому спектаклю, каждому явлению в области театра. Недавно вышла на английском языке двухтомная «Энциклопедия русского театрально-декорационного искусства», фактически, полный каталог всего, что когда-либо было собрано Ниной и Никитой Лобановыми-Ростовскими.
 В коллекции имеются настоящие шедевры. Рисунок М. А. Врубеля «Дама на котурнах» относится к редчайшим. Он нарисован в тот сложный период жизни художника, когда душевная болезнь уже давала о себе знать. В лице модели можно найти черты сходства с женой Врубеля, певицей Н. И. Забелой. Известно, что многие сценические костюмы для жены он создавал сам. Возможно, и этот рисунок задумывался как театральный образ, который так и не успел осуществиться
В коллекции имеются настоящие шедевры. Рисунок М. А. Врубеля «Дама на котурнах» относится к редчайшим. Он нарисован в тот сложный период жизни художника, когда душевная болезнь уже давала о себе знать. В лице модели можно найти черты сходства с женой Врубеля, певицей Н. И. Забелой. Известно, что многие сценические костюмы для жены он создавал сам. Возможно, и этот рисунок задумывался как театральный образ, который так и не успел осуществиться
Огромная часть коллекции посвящена Русским сезонам С. П. Дягилева. Собственно, эта тема и была основным стимулом к собирательству. Первая выставка, которую Н. Лобанов увидел в Великобритании, так поразила его воображение! Тогда внимание его привлекли А. Н. Бенуа и Л. С. Бакст. Они не только авторы сценического оформления первых Дягилевских спектаклей, но и идейные вдохновители, режиссеры, сценаристы, дизайнеры. Большое количество первоклассных произведений этих художников в коллекции объясняется особым пристрастием коллекционера к их творчеству: почти полный комплект рисунков к парижской версии «Павильона Армиды» работы А. Бенуа, изящные эскизы Л. Бакста к балетам с участием Иды Рубинштейн, Тамары Карсавиной и Анны Павловой — пожалуй, это самые востребованные экспонаты. Ни одна выставка Серебряного века русской культуры не обходилась без произведений, принадлежавших Лобановым-Ростовским. Поражает уровень работ следующего поколения дягилевских художников — Н. С. Гончаровой и М. Ф. Ларионова. К 1914 году Дягилев резко меняет направление своих поисков и привлекает к работе молодежь, смело разрушающую старые традиции. Тем, кто знаком с коллекцией, навсегда запомнились яркие, энергетически наполненные листы к «Литургии» Н. С. Гончаровой, рисунки Ларионова к Дягилевским балетам «Лиса», «Шут», «Полуночное солнце». Эти произведения создавались в Швейцарии, Испании, Франции, но в них отразилась Россия с ее иконописью, лубком, народным кустарным творчеством. Ларионов настолько увлекся театром, что даже попробовал себя в качестве хореографа в спектакле «Шут» на музыку С. С. Прокофьева и написал либретто к балету «Естественные истории».
Одна из последних постановок в Дягилевской антрепризе, балет «Ода» на музыку Н. А. Набокова, была оформлена молодым художником из России Павлом Челищевым. Талантливый график и живописец известен за рубежом как сюрреалист и абстракционист. В России он практически не работал, и его имя было известно у нас, пожалуй, только специалистам. Бежавший, как и многие, с Белой армией, он на несколько лет осел в Берлине, работал в небольших театрах и киностудиях. Его работы 1920-х годов — настоящее украшение коллекции Лобановых. Челищев принадлежал к поколению художников, взращенных в знаменитой киевской студии Александры Экстер. Произведения самой Экстер достаточно полно представлены в собрании, начиная с хрестоматийных эскизов к «Фамире Кифаред» и кончая более поздними разработками мизансцен и сценических площадок к пьесам классического репертуара. Особенно интересно рассматривать серию «марсианских» костюмов к кинофильму Я. Протазанова «Аэлита», поставленному по рассказу А. Н. Толстого в 1924 году на кинофабрике «МежрабпомРусь». Тогда жанр фантастики только формировался как в литературе, так и в кино. Это была последняя работа Экстер на родине.
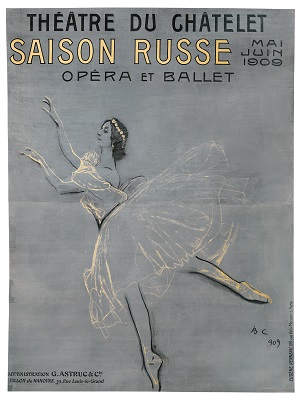 В собрании Лобановых-Ростовских много редких афиш и плакатов. Более ста из них были приобретены Международным фондом «Константиновский». Почти все они уникальны, несмотря на то, что афиши печатаются достаточно большими тиражами. Плакат парижского театра Шатле, работы В. А. Серова с летящей фигурой Анны Павловой-Сильфиды был напечатан для первых выступлений Дягилевского балета в 1909 году. Он редко встречается не только в частных, но и в музейных собраниях. Другой шедевр — плакат Л. С. Бакста для сольного концерта танцовщицы Кариатис (сценическое имя Элис Жуандо) — появился в период наивысшего творческого расцвета художника — в 1916 году. Модный художник Леон Бакст был востребован в Европе и Америке и получал заказы на оформление интерьеров, моделей одежды и шляп, монументальных росписей, и конечно, театральных постановок.
В собрании Лобановых-Ростовских много редких афиш и плакатов. Более ста из них были приобретены Международным фондом «Константиновский». Почти все они уникальны, несмотря на то, что афиши печатаются достаточно большими тиражами. Плакат парижского театра Шатле, работы В. А. Серова с летящей фигурой Анны Павловой-Сильфиды был напечатан для первых выступлений Дягилевского балета в 1909 году. Он редко встречается не только в частных, но и в музейных собраниях. Другой шедевр — плакат Л. С. Бакста для сольного концерта танцовщицы Кариатис (сценическое имя Элис Жуандо) — появился в период наивысшего творческого расцвета художника — в 1916 году. Модный художник Леон Бакст был востребован в Европе и Америке и получал заказы на оформление интерьеров, моделей одежды и шляп, монументальных росписей, и конечно, театральных постановок.
Никита Дмитриевич и Нина Лобановы-Ростовские давно лелеяли мечту о возвращении коллекции в Россию. Более 800 предметов из нее обрели свое постоянное место в Санкт-Петербургском государственном музее театрального и музыкального искусства. Самое крупное в мире частное собрание произведений театрально-декорационного искусства вошло в музейные фонды. В 2014–15 году музей получил в дар от Нины Лобановой-Ростовской еще 46 бесценных произведений русских художников, в том числе работы Л. С. Бакста, А. Н. Бенуа, И. Я. Билибина, К. А. Коровина, М. В. Добужинского, С. Ю. Судейкина, С. В. Чехонина и других.
heatremuseum.ru/page/kollekciya_lobanovyh-rostovskih
|
Метки: лобановы-ростовские меценатство и благотворительность |
"Дом со львами" |
"Дом со львами"
С точки зрения композиции дом Лобанова-Ростовского является памятником передовой строительной техники первой четверти XIX века. Монферран блестяще справился с планировочным решением здания. Два фасада, обращенные к Адмиралтейству и Исаакиевскому собору, получили торжественное оформление в стилистике высокого классицизма, в то время как «проезжий» фасад со стороны Вознесенского проспекта выглядит нейтрально.
Фасады «Дома со львами» перекликаются с оформлением других зданий в центре Петербурга. Вместе они образуют колоссальную единую композиционнуюonpalace.ru/about/ систему - от здания Генерального штаба до Исаакиевской площади.
Архитектор продумал и искусно объединил отдельные части громадного здания на Исаакиевской площади. Внешне дом выглядит гигантским монолитом. Вместе с тем внутри он разделен на несколько корпусов, имеющих ясную и самодостаточную структуру. Вертикальные коммуникации, входы и проезды размещены очень рационально. В первую очередь это относится к лестницам – центральной парадной со стороны Адмиралтейского проспекта, четырем парадным лестницам восточного и западного корпусов, а также целой системе вспомогательных «черных» входов, предназначенных для людских помещений. Углы дома не только эффектно оформлены внешне, но и столь жеблистательно распланированы.
Наконец, дворовые пространства особняка Лобанова-Ростовского имеют четкую продуманную иерархию. Квадратный двор отделан с наибольшей тщательностью, поскольку на него открывается вид из анфилады парадного корпуса «со львами». Большой треугольный двор, в который ведет въезд с Исаакиевской площади, оформлен менее богато. А малый треугольный двор, через который вывозились и убирались в каретники порожние экипажи, не имеет архитектурной отделки.По признанию исследователей, Монферран был в высшей степени одарен в отношении объемно-пространственной организации и структуры здания, тектоники и композиции. Вероятно, именно это и обеспечило успех других его крупных градостроительных проектов — Исаакиевского собора и Александровской колонны.onpalace.ru/about/
|
Метки: дворянские владения лобановы-ростовские |
ДВОРЯНСКИЙ РОД ТИЛИЧЕЕВЫХ В ИСТОРИИ ГОРОДА КАЛУГИ И КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРНИИ.* |
ДВОРЯНСКИЙ РОД ТИЛИЧЕЕВЫХ В ИСТОРИИ http://www.kokm.ru/ru/po/dvГОРОДА КАЛУГИ
|

Калуга, дом Польман (Тиличеевых), худ. Г. Волнянский, 29.05.1927 г. 
Храм Николая Чудотворца в с. Ближней Борщовке. Фото А.Л. Никитского, 1934 г. |
|
Метки: тиличёвы |
«Опираюсь на факты» С Н.Д. Лобановым-Ростовским беседует профессор Е.С. Федорова |
«Опираюсь на факты»
С Н.Д. Лобановым-Ростовским беседует профессор Е.С. Федорова
Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский — известен всем, кто интересуется историей и культурой России. Казалось бы, нет недостатка интервью с ним, но количество новых не убывает. Он не был бы так интересен своим прошлым, не будь интересно его настоящее. Повторим общеизвестные факты: он князь, Рюрикович, элегантный и воспитанный господин, человек необычайно сложной и горькой судьбы, одновременно принадлежащий и европейской и русской культурам. Он геолог, банкир и меценат. В его судьбе тюрьма КДС1 и Оксфорд, финансовый успех и глубокое понимание искусства Серебряного века.
ТРИ ПОБЕГА ЛОБАНОВЫХ-РОСТОВСКИХ
В XX веке на счету семьи Лобановых-Ростовский три побега, один фантастичнее другого. Первый — из Советской России в 1920 г., когда переодетые в крестьянские одежды дедушка, бабушка, и будущий отец Никиты Дмитриевича достигли границы и были взяты на нелегальное судно под военным флагом. Капитаном корабля был Константин Улик, решившийся пойти на риск ради этой семьи. Побег окончился благополучно. Семья оказалась в Софии.
А второй побег — из Софии — был организован парижским дедом Никиты, Василием Васильевичем Вырубовым2 и совершился через два с лишним десятилетия, в 1946 г., когда туда пришли Советские военные части. Второй оказался неудачным. Лобановы должны были нелегально перейти границу в месте самых высоких гор в Родопи. Но их предал американский полковник Мейнард Бернс, получивший за это деньги. Проводник не появился, зато под видом «партизан» пришли сотрудники КДС. Так семья оказалась в болгарской тюрьме и пережила все то, что переживали репрессированные в СССР: тюремное заключение, расстрел отца семейства, полное бесправие, «лишенчество», крайнюю нищету.
Еще через двадцать лет третьему побегу способствовали герой Второй Мировой войны, брат матери Н.Д. Лобанова-Ростовского, Николай Васильевич Вырубов, и его товарищ военного времени, знаменитый французский писатель Ромен Гари. Этот побег в 1953 году выглядел как вполне легальный отъезд на поезде. Но ему предшествовали многочисленные официальные и тайные действия. Были безнадежные обращения Лобановых с просьбой выпустить их из страны. Хлопотами брата Ирина Васильевна Лобанова-Ростовская получила французский паспорт, в который был вписан сын Никита. А Роменом Гари был придуман дипломатический ход. Пользуясь своим колоссальным весом в качестве героя войны и друга де Голля, он задерживал во французской зоне Вены два электровоза, заказанных болгарами в Европе. Гари намекнул болгарской стороне, что техника пойдет в сторону Болгарии только в том случае, если «французские граждане» отправятся в противоположном направлении. В сущности, Ромен Гари выкупил мать и сына за два электровоза3.
Разумеется, рассказанное здесь ярко, экзотично и привлекательно для многих, ведь в нашей стране путем «многоволнового» террора была, в конце концов, уничтожена вся аристократия, выведено под корень дворянство, истреблена интеллигентская среда. Но материала о необычной судьбе аристократа хватило бы на две-три статьи. Личность Никиты Дмитриевича перевешивает всю живописность его судьбы. Он человек творческий, очень много работающий, умудренный знанием жизни, но не уставший остро и неравнодушно реагировать на ее события. Всякий раз нам хочется узнать его суждения по поводу текущих событий… Любой разговор с ним выходит за рамки заявленной темы, чреват неожиданными поворотами.
Лишне и говорить о востребованности в российской культурной среде эмигрантского наследия и сколь подробно оно разрабатывалось три последних десятилетия. Лобанов-Ростовский — 81-летний лондонец, смотрящий на многое с непривычных для российского ума позиций. Но он правильно считает себя и «старым москвичом», знает маршруты и закоулки Москвы, ее нужды и противоречия. Он совершает последовательные шаги, чтобы затягивался болезненный и по сей день разрыв между, условно говоря, «белыми» и «красными». Он сознательно и рассудочно выбрал для себя путь русской самоидентификации, поскольку его предки «1000 лет строили Россию». А мы считаем Никиту Лобанова-Ростовского частью «Русского мира», и это его обогащает, пусть немного, но восстанавливает его исторические корни.
ВЫСТАВКА В БАХРУШИНСКОМ.
Выставка «Прорыв. Русское театрально-декорационное искусство. 1870–1930», проходящая в музее имени Бахрушина два последних текущих месяца (11.12 2015 по 15.02.2016) — повод к новому разговору. При почти полном отсутствии прессы она собрала значительное количество посетителей. И не раз я услышала: «неужели эта выдающаяся выставка рассеется по запасникам Москвы и Петербурга? Это же хрестоматийное собрание для Путеводителя по Серебряному веку».
В Западной Европе 1950 1960-х годов разрозненные листы эскизов к театральным постановкам русского театра Серебряного века не имели ни ценности, ни цены. Никому в голову тогда не приходило собирать их. Никита Дмитриевич рассказывает, что новаторский художник Ларионов, постаревший и обнищавший в Париже, продавал свои работы и графику своей жены Гончаровой по два доллара. Тогда стесненным в средствах супругам Нине и Никите Лобановым-Ростовским было доступно купить такие лист-два (живописные работы ценились тоже невысоко, от 20 до 200 долларов, но это было в те поры для собирателей невозможно дорого). В эмигрантской среде они неустанно вели поиски людей, причастных к «Дягилевским сезонам», находя в их частных архивах то один, то другой эскиз к когда-то легендарным постановкам театра Серебряного века. Так стало формироваться собрание, куда попадали первоклассные образцы русской театральной живописи.
Помимо доступной цены — материального повода, лежащего лишь на поверхности, успеху создания коллекции, подчиняющейся единому замыслу, способствовали более глубокие причины. Бесспорно, в коллекции виден вкус и чувство стиля собирателей. Но не это главное. Никита Дмитриевич уважает, ценит, русскую культуру. В результате его неустанных трудов, щедрых даров, продуманных проектов отношение в европейском мире к этим художникам поменялось. Лобановы показали свое собрание в 50 музеях Европы, Японии и США. В 1967 году выставка из коллекции Лобановых-Ростовских в Метрополитен-Музее Нью-Йорка собирала тысячи посетителей. После нее за четверть века в США состоялось 30 выставок.
Кроме того, у супругов-коллекционеров была концепция, которую сам Никита Дмитриевич немногословно и ясно объясняет, ведь по основной профессии он ученый-геолог и тяготеет к строгости мысли. Впервые он открыл для себя эту живопись, будучи 19-тилетним студентом, однажды в Лондоне посетив выставку, посвященную «Дягилевским сезонам». Во-первых, Серебряный век увлекает собирателей не только открытиями в живописи, но необыкновенно мощным развитием всех направлений жизни в России. Он считает этот период вкладом России в мировую культуру. Во-вторых, театрально-декорационная живопись у русских художников этого периода — Бенуа, Коровина, Малевича, Экстер и пр. — не стала чем-то второстепенным по отношению к станковой. В ней самодостаточно проявились художественные инновации эпохи, она сумела выразить все течения, сложившиеся в искусстве. В-третьих, эта живопись динамична, и что особенно восхищает — динамична даже в своей статике, мимолетности и эскизности. А в-четвертых, она радует глаз. «Эта живопись красива, ею хочется любоваться, это для меня было важно», — говорит Никита Дмитриевич.
Коллекция перешла в собственность Санкт-Петербургского музея музыкального и театрального искусства. Выставка «Прорыв» включают 200 экспонатов из коллекции Лобановых-Ростовских. К коллекции добавлены экспонаты из фондов Санкт-Петербургского театрального музея и московского музея имени А.А. Бахрушина. Выставка колоссальна по материалу, претендуя на полноту охвата этого явления. Здесь мы видим работы Врубеля и Лисицкого, Билибина и Экстер, Бакста и Гончаровой, Шагала и Кандинского, получившие всеобщую известность и публикуемые всюду — от обложек журналов до ресторанных меню. Но здесь же многие впервые увидят не менее интересные произведения Федоровского, Соллогуба, Бобышева. Есть даже такие раритеты, как рисунки драматурга Эрдмана, кинорежиссера Эйзенштейна, театрального режиссера Акимова. В эти дни в Бахрушинском музее светло от красоты, тесно от изобилия и уютно.
Важно и то, что мы видим не только работы художников, но и афиши, программы — то, что делает мгновенный снимок бегущего времени. Как остро и выразительно воспринимаются сегодня две, как будто, заурядные афиши времени начала 30-х: спектакль «Радость», где буквы из бетона, которыми выложено это легкое слово, тяжелым грузом придавили бумагу, и спектакль «Страх», где последняя буква слова кровавой струйкой стекает вниз листа…
Обыкновенно выставки театрально-декорационного искусства «пристегивают» к живописи, и тогда его смотрят, обычно, «во вторую очередь», рассеянно. В Бахрушинском воссоздается энциклопедия этого периода для данного жанра, если бы последовательно издать все представленное вместе. В этом случае музей выполняет не только просветительскую, но ту функцию учебно-университетского музея, которую, например, хотели в свое время придать «Музею изящных искусств императора Александра III» (ныне ГМИИ имени А.С. Пушкина). По нашему мнению, выставка вполне достойна не только малотиражного каталога, а общеупотребительного для российских гимназий, художественных училищ и вузов «Справочника Лобановых-Ростовских по театрально-декорационному искусству Серебряного века»…
ЛИЧНОСТЬ
Разговор, предлагаемый читателю ныне, касался не только художественных вкусов Никиты Дмитриевича, но всего «русского мира» его семьи, волею судеб перемещавшейся в иные культуры. На все вопросы к Никите Дмитриевичу всякий собеседник получает прямые и исчерпывающие ответы. Откуда эта кажущаяся даже странной и беспощадной к себе откровенность? Не соглашусь с А.А. Горбовским, чей замечательный и детальный фрагмент документального романа о неудавшемся побеге Лобановых-Ростовский «из лап НКВД» ныне опубликован4. Не от двойственной жизни и «приросшей маски» его общительность и открытость, а по совершенно иным причинам. Разумеется, она исходит от хорошего воспитания. Возможно, это природная и даже фамильная черта, свойственная и его дядюшке Николаю Васильевичу Вырубову, по крайней мере, если судить по интервью, данным им российским изданиям в начале 90-х, сразу, как только это стало возможным5. Откровенность — это для Лобанова-Ростовского также вопрос самоуважения, нежелания унижать себя мелкостью уловок. Открытость происходит и от двух черт — решительности характера и искушенного ума, который знает, как устроена жизнь. Зачем уклоняться от того, что, так или иначе, станет известно? Проще и мужественнее самому отвечать на вопросы. Что он и делает, при этом, подозреваю, порой скрывая от собеседника неприятные ощущения — в силу воспитания.
Никита Дмитриевич всецело во власти самоконтроля, критичности и требовательности к себе, и эти черты вошли в его привычку. Он достиг стабильности в жизни постоянным трудом, усилиями, преодолением себя, постоянным понуждением воли, ограничениями и даже лишением себя того, чем вовсе не хотели пренебрегать его сверстники.
И все это он охотно рассказывает, про свой труд и пот. Но мы должны понимать, что это человек не только больших усилий воли, но и большой одаренности, оригинальности и чувства юмора. Он ясно видит факты, умеет выстраивать в причинно-следственную цепочку, может прогнозировать ход событий. Традиционно те таланты, которыми он обладает, всегда в большом дефиците в России: он скромно называет себя «деятелем». Но сюда относится и профессиональная деятельность геологоразведчика, и финансиста, и мецената, и автора общественно-культурных проектов. Талант жить. Редкое сочетание — большой собранности, умелых расчетов, трезвости ума, здравого смысла, самоиронии и горячих привязанностей, страстей, способности любить и ненавидеть. Необузданность и прагматизм.
Ныне он волен жить, как хочет и где хочет. Можно было бы ожидать от него умудрено-холодной отстраненности от всех событий современной России. Однако и по сей день Лобанов-Ростовский не избавлен от сострадания и печалей по поводу ее путей и решений. Он и гневается, и горячится, и может быть резок, и в таком случае, мне кажется, бывает безоглядно прямолинейным в ущерб себе. Он сделал свой моральный выбор — не оставлять ни в мыслях, ни в поступках Россию.
Одна незнакомая ему женщина из Новгородской области, живущая недалеко от одного из бывших владений Лобановых-Ростовских, далекая от всякой политики, написала: «Лобановы-Ростовские имели дом в деревне Хлебалово… Парк сохранился и пока еще усилиями нашей администрации поддерживается в хорошем состоянии, место просто волшебное и родник там так и бьет. Храм Успенья пресвятой Богородицы тоже еще действует.. Приглашаю Вас посетить наши места забытые… Кажется, сама земля вздохнет с облегчением когда Вы на нее ступите, и нам уже не так страшно будет доживать на этой земле, посильно сохраняя былое наследие. С уважение к Вам и всему Вашему роду, Галина. 31.10.2015».
В России в XX веке слой за слоем смывало старинные русские роды. Не так уж много осталось людей, подобных Никите Дмитриевичу. Несколько лет успешно действовал музей Лобановых-Ростовских в Филях, организованный на его личные средства. Ныне он разрушен, а его экспонаты Лобанов передал Музею Ростовского Кремля в г. Ростове Великом. Мне думается, долг современников Никиты Дмитриевича, несущих на своих плечах нелегкую ношу власти, приложить усилия и содействовать воссозданию музея Лобановых-Ростовских в Москве, где нашлось бы место и разделу Вырубовых (фамилия мамы Никиты Дмитриевича). Назвать закрытие «оплошностью», «случайностью», как угодно. Но вернуть. Чтобы не было стыдно…
Думается, что и другие замыслы князя Никиты Дмитриевича должны найти свое решение: памятник Примирения и Согласия в Крыму, ставящий предел вековой распре между россиянами этого и «другого» берегов. А также было бы исторически несправедливым, если бы не реализовалась его идея о создании Музея русского дворянского быта в Петербурге и Национальной портретной галереи в Москве.
ДЕТСТВО
— Какие любимые игрушки у Вас были в детстве и истории с ними?
— Две. Качающаяся лошадь белого цвета, которую мне подарили на День рождения, когда мне исполнилось пять лет. И мишка коричневого цвета тридцати сантиметров высотой, с которым я всегда спал и которого звали Мишка. Увы, с игрушками я не помню никаких историй, и вообще моя память так устроена, что я мало что помню из детства.
— Это были русские игрушки?
— Нет, болгарские. В Болгарии были свои мануфактуры, производившие подобные вещи.
— А книжки?
— Книги были на трех языках, поскольку я сразу обучался на трех языках. Я учил немецкий, поскольку в течение четырех лет войны Болгария была союзником немцев. Я любил книжку «Der Struwwelpeter», про мальчика с огромной шевелюрой — это универсально читаемая книга, наверное, переведенная и на русский язык в Советском Союзе6. Затем мне помнятся почему-то басни Лафонтена, особенно ярко — картинки, на всю жизнь запомнилась лиса, смотрящая на сыр, мне казалось, на камамбер.
— Басен Крылова не было?
— Крылов был, но запомнился Лафонтен — видимо, я не был включен в отечественный цикл образования.
— Культурологически интересен билингвизм или даже полилингвизм культур, которому оказались причастны дети эмиграции.
— Языкам я стал обучаться до школы. Помню, бабушка рисовала русские буквы, гувернантка-француженка что-то читала мне по-французски. Также было и с немецким. А первого букваря не помню. И первого учебника не помню.
— То есть это был такой типично «дворянский путь» овладения языком путем погружения в него в быту с помощью гувернанток.
— Да, неблагонадежного белоэмигранта…
— Кто был самым близким и любимым членом семьи?
— Не могу ответить на этот вопрос, поскольку они были со мной в разные периоды жизни. Сначала я проводил много времени с бабушкой со стороны отца, Верой Дмитриевной Калиновской, целью которой было научить меня русскому языку. Она умерла рано, когда мне было четыре года. Три поколения нашей семьи в то время жили в одном доме напротив французского посольства, где были три квартиры. Мы жили в одной, дедушка с бабушкой — в другой, а в мансарде жила няня, Елена Ивановна Иванюк, со своей семьей, и я предполагаю, что она жила даром за то, что нянчила меня. Так что вначале у нас был относительно большой дом. А когда во время войны началась бомбежка, мы переехали. Мы жили в отдельной квартире в большом доме, а бабушка и дедушка во флигеле в саду, предназначенном для выращивания роз. Так что можно сказать, что они жили в «розовом саду». Домик до сих пор сохранился.
— Остался ли патриархальным уклад Вашей семьи?
— Извините, мне стыдно признаться, но я не понимаю Вашего вопроса?
— Могу привести пример, моя университетская учительница, родившаяся в 1922 году в эмиграции в Манчжурии, дочь российского разведчика, была из семьи очень левых взглядов, и я ее знала весьма советским по убеждениям человеком. Но она выросла в законсервировано-дореволюционной среде, и в ее поведении нельзя было скрыть традиционных культурных привычек старой России, как бы вопреки ее идеологизации. В данном случае даже проявилось сильное противоречие между «установками» и унаследованной культурой. Сохранялся ли в укладе семьи российский традиционный обиход?
— Нет. Потому что мой отец и моя мать — оба выпускники английских школ, и в них не «дышала Русь», как Вы могли бы ожидать, все это было только у моего деда. Но политически все были настроены за союзников. То есть мы не отступили с немцами. И дед, Иван Николаевич Лобанов-Ростовский приветствовал вторжение Советской армии, предполагая, что София (как и Вена) станет местом присутствия всех союзных армий. Так поначалу и было.
— Патриархальный уклад оставался у бабушки и дедушки?
— Да. В тот короткий период, когда я их застал. И для меня это четко сказалось в двух воспоминаниях. Дедушка, Иван Николаевич Лобанов-Ростовский, водил меня на службу в церковь, которая длилась два-три часа. И поначалу я с ним находился все время службы, потом время от времени стал выходить в садик. Ребенку столь долгое время вынести службу было тяжело и, к сожалению, это оттолкнуло меня от ритуала русской православной церкви. Второе очень сильное воспоминание. Когда царь Борис7 скончался (вследствие того, что его отравил Гитлер), колокола били в соборе Александра Невского — мой дед встал и перекрестился. Почему-то я запомнил это навсегда…
Царя Бориса все уважали, хотя он принадлежал к немецкой княжеской Кобург-Готской фамилии. Он спас всех болгарских евреев, приказав в одну ночь эвакуировать их (это тогда всем показалось ужасным!) в отдаленные и недоступные горские селения…
В Болгарии дедушка Иван Николаевич числился «безработным». У него была скрипка работы Страдивари, и он играл на ней. И в жизни его интересовали только две вещи — православие и музыка. И как ни странно, они стали причиной его приезда в Болгарию, что детально описано в моей книге.
— Он учил Вас музыке?
— Нет, потому что он понял, что это бессмысленно, это меня не увлекало. Я слышал, как ежедневно он играл классические произведения. Помню, играл Чайковского и напевал: «Вышел терем-тереница…» И это было главным его занятием: игра на скрипке и хождение на церковные службы. Но у кого он учился музыке, я не знаю. Он был музыкант-дилетант, как многие помещики, которые могли себе это позволить. Для меня все это — «неизвестная территория». Бабушка умерла гораздо раньше. Но он всегда жил с нами, у него всегда была своя комната. И он не был одинок.
Из игр помню прыгалки, ездил на велосипеде. Вспоминается, что у нас часто бывали гости с детьми, помню, что я играл с ними в кубики. В саду мы с ними пряталась за кустами — играли в прятки. Еще, помню, у меня был конструктор: складывающиеся металлические болты с дырками…
Среди природы я жил постоянно. Во время войны мы были в эвакуации в деревни у отца нашей кухарки. Он был деревенским кузнецом, а кроме того у него имелось большое хозяйство, то есть зажиточным человеком, что властями осуждалось. Ведь в те времена люди старались, чтобы хозяйство было самодостаточным. У него были виноградники, чтобы делать вино, пшеничное поле, чтобы выращивать хлеб, бахча для арбузов, дынь и огурцов. И я хорошо помню деревенскую жизнь, чувствовал себя вполне свободно, лазил на деревья и прочая. Ужинали мы всей семьей за низким столом, который назывался «паралия» или «софра», сидя на корточках или на глиняном полу. Посередине круглого стола находилась большая деревянная миска. Деревянной ложкой мы черпали похлебкуиз миски и заедали хлебом, выпеченным в домашней печи. A взрослые запивали ужин вином. Я пил воду. Чай после ужина не полагался.
— Родители разрешали Вам играть с деревенскими? Ведь позже, когда Вы вырвались из Болгарии в Европу, Ваш дедушка Bасилий Васильевич Вырубов, в общем, был против таких тесных контактов с другими социальными группами, насколько я поняла?
— Никакой проблемы не было. В то время стоял вопрос выживания, а не каких-то социальных ограничений. Напротив, я постоянно дружил с соседским сельским мальчиком, вместе мы ходили пасти, он — коня, я — двух ишаков. Разница культур ощущалась вовсе не в социальном обиходе. Впервые я почувствовал разницу культур, увидев турецкую махалу (район) в деревне, где мы жили, мечетии прибранныe, чисто выметенные дворы.
— Еда как ритуал сохраняла ли привычки хорошей среды, хорошего общества до Вашего ареста?
Абсолютно и несомненно. Уважение к пище — это не вопрос неуважения или уважения Завтракали в восемь, обедали в час и ужинали в 7. Опоздать было невозможно — неуважительно. Были скатерти, салфетки, как же иначе? Все, как полагается. У меня осталось серебряное кольцо для салфетки с выгравированной короной и гербом...
— Не доесть какое-то блюдо было возможно?
Уместный вопрос, потому что это правило не универсально. Например, в Соединенных Штатах в высшем обществе принято было не доесть, чтобы показать, что вы не голодны. А в полуголодной Европе неприлично было не доедать.
— В дореволюционной России этот вопрос решался диаметрально противоположно в аристократическом и мещанском обществе. В первом абсолютно неприлично было не доесть. Во втором необходимо было оставить что-то на тарелке… А русские блюда в семье сохранились?
— Нет. Кухня была болгарской, которую я продолжаю любить. Фасолевый суп с красным перцем, «фасул-чорбa». Пирог с сыром, который называется «баница», а по-гречески «плакендa».»Имам баялду» — запеченные синие баклажаны с помидорами.
— А на пасху? Русский стол?
— Да. Полный стол. Все, что традиционно полагается, было. Помню, мы занимались раскрашиванием яиц.
— Колыбельные на ночь?
— Няня пела мне «Баюшки-баю…» А почему меня укачивали? Поскольку нужно было, чтобы я лег и тут же заснул — по эстетическим причинам, чтобы уши были не растопырены и не стали похожи на еврейские.
— Кто рассказывал сказки?
— Отец. Может быть, он был хорошим рассказчиком. Он мне и читал сказки по-русски.
Запись в дневнике Никиты Лобанова-Ростовского: «23.01.1948. После ужина папа читал нам «Капитанскую дочку». 02.02.1948. Папа закончил чтение «Капитанской дочки»)
— Если говорить о моем детском отношении к домашним, то отец для меня стоял на некоем возвышении, ощущался начальником, а мама была ближе. Дедушка был «особ статьей». Он воспринимался неким патриархом в семье. В разные периоды детства кто-то из домашних становился для меня на время важнее других. А если говорить об интенсивности моего чувства любви к домашним, и использовать условные баллы для их оценки, то, несомненно, отношение к матери — 10 из 10, к отцу 7 из 10.
А к остальным — не такая безоглядная любовь, которую я испытывал к матери, безграничная, безоговорочная и безусловная, подобная любви собаки к человеку. Я испытывал к ним и несколько другие чувства — уважения, восхищения, привязанности.
Запись в дневнике: «08.11.1950 Мне очень трудно без папы. Это был человек золото. Я пишу это не потому, что он мой отец. Это я слышал и от всех людей, которые его знали. Каждый день мне приходится обращаться к нему…»
— Что из рассказов матери о ее жизни Вам помнится?
— Очень немногое. Вот вспоминаю, она рассказывала как ей было приятно учиться в школе. Британия состоит из островов, и она училась на маленьком острове на побережье Уэльса, в ее английской речи сохранялась особая певучая интонация этой местности. Об истории их любви не знаю ничего. Из рассказов почти ничего не помню. Только любовь мамы, разлитую для меня в воздухе, вне событий или прогулок или чего-то еще. По воскресеньям мы гуляли с отцом в парке. Он работал шесть дней в неделю, а седьмой — выходной. Он старался провести время со мной.
— Помните ли семейные словечки?
— Нет, к сожалению не помню. Ничего о патриархальном быте не помню. Зато помню, что всегда стремились разговаривать (и учили этому) не перемешивать языки и не употреблять иностранных слов в том языке, которым сейчас пользуешься. Русской буржуазии было присуще говорить по-русски, употребляя французские слова. У нас дома это считалось неприлично. Я бы сказал, это мещанская привычка — употреблять в речи иностранные слова.
— Я бы с Вами не согласилась. Например, очень многие представители русского дворянства, по крайней мере, 1-й половины XIX века, были русско-французскими билигвами, в речи легко переходили с языка на язык, проникновение в русский некоторых выражений было неизбежно.
— Я не спорю с Вами. Но это моя точка зрения.
— То есть Вашей среде было присуще стремление к пуризму в языке. В каком-то смысле воображаемому.
— Это касалось не только русского языка. То же касалось и английского. Когда переходили на какой-то из привычных для семьи разговорных языков, было не принято вставлять словечки или выражения из другого языка
— Дома говорили по-русски?
— По-русски. А родители между собой говорили по-английски. Оба в те времена недавно вернулись из Англии, где обучались, и английский для них был нормальным разговорным.
— Ваша семья относилась к англоманам, франкоманам? Кто были их гувернантки?
— Вот этого я не знаю, но думаю, что явно семья тяготела к английскому типу образования — ведь все важные годы, когда человек формируется, родители провели в английских школах.
— Ведь это достаточно редкое явление в России, мы знаем теперь, конечно, что с английским вариантом культурного и языкового билингвизма связана небольшая часть высшей аристократии в России Серебряного века. И тому общеизвестный пример семьи Набоковых.
— Мой дед со стороны матери, Василий Васильевич Вырубов, послал всех троих детей учиться в Англию, несмотря на то, что дед жил во Франции. Почему он так сделал, я не знаю. Но, наверное, были соображения о большей пользе английского образования. Например, для моего дяди Васи, который поступил в дальнейшем на сельскохозяйственный факультет в городе Рединге, и ему было уже приготовлено место по специальности в Аргентине. Очевидно, дед думал, что живя по Франции, полезно знать английский. А вот причиной того, что мой дед по отцовской линии отправил учиться моего отца, было, то, что его родственница, Лобанова-Ростовская, вышла замуж за англичанина8, и могла присматривать за племянником.
— У нас в годы 60-70-е была бесспорная романтизация эмиграции, ее музыкального наследия — романсов. Но когда общение того и этого мира стало возможно, я с удивлением узнала, что вовсе не все представители эмиграции знали этот репертуар. А Вы?
— Я жил в среде, которая уехала из РСФСР. Цвет русской культуры находился за его пределами, 90 процентов русской интеллигенции уехало из страны. Так что оставшаяся в СССР интеллигенция была по преимуществу еврейской. Я жил в своей среде и не знал другой. Мы были знакомы с цыганской семьей Димитриевичей9. У моего деда со стороны матери, В.В. Вырубова, было достаточно средств, чтобы после Второй Мировой войны порой приглашать их к себе в деревню под Парижем. Алеша и его сестра Валя пели нам вечерами. А потом, в зрелые годы, Алеша переехал в Аргентину, где пел моему дяде Васе Вырубову. В то время я занимался в Аргентине бурением нефти, а в период отпусков жил у дяди, у которого встречался с Алешей. Увы, он стал наркоманом и пел слабовато. Так что не только знаком с этой музыкой, но и с исполнителями. Юл Бриннер10 был другом дяди Николая Вырубова, брата моей матери. Юл играл на гитаре в «кабаке Денисова», а дядя был вышибалой. Денисов — друг моего деда, русский купец, бежавший из РСФСР и вложивший все свои деньги в спортивную ловлю семги в Швеции. Он купил полкилометра берега реки, оснащенного первоклассной установкой для ловли семги «на мушку», и это ему приносило очень большой доход. Поляков11, брат художника, играл на гитаре в кабаке «Шехерезада». Весь городской русский фольклор был в разгаре, когда я попал в Париж после войны. А вот Вертинского услышать не удалось, только на пластинках, поскольку он вернулся после войны в Советский Союз раньше, чем я попал во Францию. А сейчас — через полвека — меня, пожалуй, мог бы раздражать декаденской вычурностью «лиловый негр Вам подает манто». Впрочем, должен сказать, я заметил, что в Сан-Франциско встречается именно такой, лиловый оттенок у темнокожих.
— И даже такой шедевр, как «Прощальный ужин», который и сейчас в России популярен, Вас не трогает.
— Да, шедевр, но несколько слащавый «акцент» этого произведения сейчас мне уже кажется старомодным. Но я ведь не читатель, не писатель, я деятель.
ТЮРЬМА
— Как я сам попал в тюремную камеру, помню очень ясно. Нашу семью, разделив по двум военным машинам, везли два дня из Родоп в Софию. По дороге встретилась засада, и у нас создалось впечатление, что это партизаны, которые нас освободили и, как казалось, прилагали усилия, чтобы расстрелять сопровождавших нас в Софию. Я помню как наивно, подружившись с водителем, разговаривал с матерью: «Давай заступимся за водителя, возьмем его во Францию, и он будет водителем у деда». Но «засада» оказалось ловушкой и обманом, подстроенным чекистами. «Партизаны» во время привалов и «передышек» как будто «дружески» допрашивали отца, на чем мы и попались.
Другое воспоминание: жизнь в военной тюрьме в Софии, которая представляла собой, как и подобные учреждения того времени в Москве и Ленинграде, просто обычное здание, но из которого арестантам ничего не могло быть видно, и в котором ничего не видно. Мне было 11 лет. В день давали один кусок хлеба. От недостатка питания я заболел, меня перевели в центральную тюрьму для уголовников. Я четко помню, как меня с сопровождавшими людьми через широкую дверь ввели в камеру. Когда в Болгарии началась перестройка, многое стало возможным, советская телевизионная кампания устроила так, чтобы я посетил эту камеру, и проводила съемки. Войдя, я сказал директору тюрьмы: знаете, как странно, вот здесь была дверь когда-то! – Да, ответил он, Вы правы, ее заложили. И таким путем он получил подтверждение, что я сидел в этой тюрьме, а не какой-нибудь «подставной агент». Для меня эта тюрьма казалась «раем», поскольку здесь поутру давали липовый чай. С отцом и матерью меня разлучили сразу. Они остались в военной тюрьме. И я был один в камере. То есть был заключен в камеру-одиночку.
А вот сокамерники у меня появились в пересыльной тюрьме, когда меня переводили по этапу. Мне вспоминается один колоритный цыган, которого называли «авантата» (наверное, слово итальянского корня, обозначающего «выгоду»)12, то есть «авантюрист, мошенник», который из всего извлекает себе прибыль.Он был к тому же оппозиционером. Это было летом, и он ходил без рубашки, но в зеленом галстуке на голое тело, означавшем принадлежность к земледельческой, сельскохозяйственной партии — часть оппозиционного фронта (но все-таки это были не коммунисты). Он работал на Галошной фабрике. Тогда галоши в Болгарии были новой обувью и считались самой элегантной — люди повсюду ходили в галошах. Он придумал такой хитроумный способ: каждый день, уходя с фабрики, надевал две пары галош, одну на другую, и таким образом выносил с фабрики, в конце концов, попался…
Мне встречались в камере и уголовники, которые учили некоторым уловкам. Вот одна из них. Берем сигарету, не «Беломор», и тщательно высыпаем из нее табак, затем сворачиваем долларовую банкноту и засовываем в оставшуюся пустой сигаретную трубочку. А сверху на оставшиеся полтора миллиметра вновь заталкиваем табачок. Делаем столько сигарет, сколько нужно провести денег. А при любом досмотре можно вынуть из пачки и закурить, не вызывая подозрений…
Ужасное и морально отягощающее обстоятельство для каждого человека, который сидит в тюрьме без уведомления о причинах задержания и без приговора — это то, что вы не знаете, за что сидите, это, во-первых, а во-вторых, не знаете, сколько времени вам еще сидеть. Мы были незаконно похищены на греческой территории, официально властям было трудно предъявить нам обвинение. И вот мы находились в заключении в полной неизвестности.
Самое трудное — первые 40 дней, когда вы еще живете в другом мире. Постепенно вы переходите в другой мир, и много из внешнего мира становится безразличным, вы начинаете много спать, или находиться в полудреме, не менее 12 часов в день. Время от времени меня вызывали на допросы, но им нечего было меня спросить, я явно был им неинтересен. И я бы ничего не смог сообщить, поскольку ничего не знал. Не знал даже, что мы собираемся бежать, а думал, что отправляемся на прогулку. И только когда начался наш путь, отец сообщим мне, что мы бежим…
Я не спрашивал о родителях. Бесполезно спрашивать у хамов. Был только один следователь, который, наверное, «подстраховывал» себя на случай перемены режима. Вот он принес мне две книжки, и я тогда открыл для себя двух писателей — Карла Майна и Майн Рида13 Надо сказать, что в камере никогда не тушился свет, всегда горела лампочка.
Быт в военной тюрьме был таким: в камере находились нары, тюфяки набиты сеном. Не было ни рукомойника, ни отхожего места. Когда заключенные стучались, чтобы их вывели в туалет, им не всегда открывали. В этих случаях приходилось пользоваться личной миской, которая была у каждого заключенного, позже ее приходилось опорожнять только тогда, когда заключенных приводили в туалет. В эту же миску раз в день наливали похлебку…
Вначале было такое ощущение, что нас переправят в Советский Союз. Но этого не произошло. Почему — не знаю. Может быть, потому, что отец был не советским гражданином, а болгарским. В тюрьме я пробыл год.
— Вас миновало такое понятие, как «детдом для детей врагов народа», или в Болгарии до такого не додумались?
— Меня выпустили из тюрьмы только после того, как нашли, к кому меня направить. До этого планомерно обошли всех наших знакомых и спрашивали, не возьмут ли меня? Но все отказывались. Согласилась одна только няня. И тогда фельдфебель пешком довел меня от тюрьмы до дома няни. Меня взяла няня, Елена Ивановна Иванюк, ибо она не боялась репрессий, находясь на самой низкой ступени социальной лестницы — работала посудомойкой в Русском клубе, а ее супруг, Николай Миронович Иванюк, бывший офицер Белой армии, был агрономом. В Болгарии в те времена по закону все должны были работать, статуса «не работающего» по какой-то причине не существовало, и они работали. Но дело не в том, что няне некуда было «спускаться» по социальной лестнице. Семья рисковала своей жизнью и жизнью своих детей. За то, что приютили меня, их могли и в тюрьму посадить.
В тюрьме мне снились какие-то сны. Но, к сожалению, тогда, как и сегодня, я их не помню. Однако два дня тому назад мне приснился сон, который я хорошо запомнил. Этот, один и тот же, сон мне снится не реже, чем раз в год. Как будто два «неблагонадежных» элемента ворвались в спальню, и я помню это ощущение сна, как они трясут меня в постели. Хотя в нашем доме все заперто на ночь, даже дверь в спальню. Я предполагаю, что это последствие той травмы, которая осталась на всю жизнь. Время от времени у меня может возникнуть ощущение, что кто-то сейчас постучит в дверь и скажет: «Давай, собирайся с вещами…» Два года тому назад я был у знахаря, который положил мне руки на плечи и постоял так за спиной минуты три-четыре. Затем он сказал, что чувствует у меня за плечами огромное количество злобы, которую не может снять, потому что «у Вас ее слишком много».
За время заключения вся моя одежда протерлась. Когда я сидел в пересыльной тюрьме, которая раньше была турецким караван-сараем (сегодня на его месте «Полицейский участок № 5» в центре Софии), где комнаты были как камеры,— там меня водили чистить картошку и лук. В мешке из-под картошки я прорезал три дырки, посередине — для головы, а по бокам — для рук, и сделал, таким образом, себе одеяние. Именно в таком виде меня и встретил мой друг Володя Макаров14, потому что я сидел перед дверью и чистил картошку. А его арестовали и вели в камеру. Мы посмотрели друг на друга молча, и ни один из нас ничего не сказал. Позже оказалось, что Володю выпустили раньше нас, и именно от него люди в Софии узнали, что мы арестованы.
А вот в Париже дед Василий Васильевич Вырубов сразу понял это. Ведь на границе за нами должен был прийти грек-проводник, чтобы заменить болгарского проводника — он не пришел. А затем грек должен был отправиться к деду и получить свою часть платы за наше спасение, предъявив половину полученной от нас банкноты, которая бы совпала с половинкой, оставшейся у деда — таков был условный знак, что мы переправились. Он не появился. Виновником неудачи нашего побега был американский посредник, полковник Барнс15.
Так случилось в жизни, что мы были очень хорошими знакомыми с бывшим заместителем главы ЦРУ Джеймсом Эндрюc (James Andrews). Mоя супруга Нина долгие годы дружила с его семьей в Вашингтоне. Он, надо сказать, рано ушел в отставку, будучи состоятельным человеком, и больше интересовался птицами и белками, чем политикой… Когда я с ним посоветовался, стоит ли пытаться что-то предпринять против Барнса, он ответил отрицательно. И мне было страшно обидно, но он был прав, потому что тот был частью «лавки», «конторы», и это повредило бы мне в получении американского гражданства…
А встреча с дедом Иваном Николаевичем Лобановым-Ростовским была мучительной. Я не знал, где его сын. Дедушка был очень мужественен, скрывал свое состояние, ведь он был очень религиозен. Но я ощущал, без всяких слов об этом, какой болью для него это было. И это впечатление осталось со мной навсегда — видеть человека, который не знает участи своего сына. И меня не оставляло чувство неудобства перед ним, что я вышел, а его сын — нет.
Маму освободили позже. А потом отца. И его больше не арестовывали. Он просто исчез среди белого дня. Его похитили. Он пошел за молоком и не вернулся. И у нас есть юридический документ о его исчезновении. Поскольку в те времена безвозвратно исчезало так много людей, что Болгарии надо было как-то юридически «выкручиваться» из этой ситуации. Мы пытались искать по полицейским участкам и по тюрьмам. Искать было бессмысленно. Ужасны были эти времена «диктатуры пролетариата». Да и любая диктатура ужасна, я не желаю ее никакому народу.
Брата моего отца, Николая Ивановича Лобанова-Ростовского отправили в лагерь, постоянно били, уменьшали паек: дядя отказывался работать, говоря, что он князь. Выйдя из лагеря, двадцать лет он работал в «Aliance Francaise», государственном институте Франции. И заслужил, таким образом, французский паспорт. Переехал во Францию, пытался жить со своим братом Яковом, но не ужился. Его так били в лагере, что он стал больным человеком. И тогда я пристроил его в Иер, в санаторий для пожилых людей, выполнявший функции и больницы. Это прекрасный город на юге Франции, чудное место, сто лет назад город был курортом, подобным Ницце, но море отошло, и он перестал быть так популярен. Вскоре и в Иере дядя заскучал. Поскольку там не менялись сезоны, как в Болгарии, а вечно тепло. И я перевел его в горы, где была настоящая зима. Там для него не было достаточно медицинского ухода, мне пришлось через несколько лет перевести его обратно. Он умер оттого, что просто тело его распалось…
Вспоминаю, что среди знакомых был граф Николай Николаевич Игнатьев, племянник того «советского графа и военачальника» Алексея Алексеевича Игнатьева, написавшего «Пятьдесят лет в строю»16. Мы с ним постоянно, несколько раз в неделю, видались в Софии. Он многое рассказывал мне интересного, в том числе и о Франции. Николай Николаевич был явно жертвой своего, может быть, неуместного идеализма. Во время войны он потерял ногу. И понял, что как спортивному журналисту ему будет трудно. А он работал в самой большой французской спортивной ежедневной газете «L'Equipe». На первой Парижской Мирной конференции после войны от Болгарии присутствовал председатель аграрной партии, вместе с дочерью-переводчицей, с которой и сошелся Игнатьев. А затем он познакомился с Вышинским, и тот предложил ему работу у себя в качестве секретаря, но рекомендовал вначале пожить в Болгарии несколько лет, привыкнуть, прижиться, поскольку образ жизни в СССР очень отличается от того, к чему Игнатьев привык. Он поверил, согласился, взял советский паспорт, но больше его из Болгарии не выпускали. Позже я читал материалы доносов сыщика, который стоял под окнами их квартиры, там говорилось, что «в доме говорят на иностранных языках». Вот за это его и арестовали...
С разными оккупационными частями, стоявшими в Болгарии, у меня связано несколько забавных «культурологических наблюдений». Однажды я играл в хоккей на льду. Это происходило на маленьком пруду у входа в большой парк, носящем имя царя Бориса. Вдоль всего спуска к воде шел гранитный бордюр.Как-то, ради забавы, один советский солдат по этому склону въехал на лед на «Виллисе». И целый час пытался выехать обратно и не смог. Мешал крутой берег. Он был пьян. Мы хохотали. А пили советские солдаты одеколон, они ходили по всем магазинам и скупали его, наверное, это было дешевле. Из американских солдат я впервые увидел филиппинца и негра. Это был культурный шок: при чем тут американец и негр? Помню полковника Нурка – латыша. Это первое впечатление многогранности американской армии.
— Считались ли вы в Болгарии «врагами народа», «детьми врага народа», как это было в то время в СССР?
— Да, именно так мы и назывались. И это влекло за собой отсутствие у нас талонов на питание.
В моем детстве у нас был дефицит обуви. Православные крестьяне ходили в обуви из свиной кожи (по-болгарски – «цървули» или «опинци»), продырявленной крест-накрест и прошнурованной. Турки носили такую же обувь, но из коровьей кожи. А когда я вырос из ботинок, то от них отрезали носы, и я ходил в них как в сандалиях, даже зимой по морозу, было очень холодно.
После тюрьмы я собирал по улицам окурки, чтобы выпотрошить остатки табака и продать цыганам. Подростками на вокзале мы воровали арбузы. София окружена горами. А вокзал находится в долине. Нагруженные вагоны, отправляясь в путь, едут вверх с некоторым трудом, с медленной скоростью, примерно, пять километров в час. Мы рассеивались на протяжении полукилометра. А кто-то из нас, например, я, вскарабкивался на вагон и лежа, ногами, толкал арбузы вниз, где их подбирали мои товарищи. Бывали и другие фрукты, черешня, например, которыми мы объедались, и даже тошнило от «пережора». И это относится к приятным воспоминаниям. Мы ходили это делать с большим удовольствием. И не было чувства стыда. А вот за трамвай заплатить тогда считалось стыдным. Поскольку все мы были под впечатлением одного французского фильма с Фернанделем, где герой ни за что не платит. И тогда воцарилась среди нас мода — не платить. И мы ехали сзади, держась за металлический бампер, или на ступеньках, но заплатить было унизительно…
ОТРОЧЕСТВО
— Какова история Ваших школьных лет?
— Вначале, в пять лет, я поступил в русскую школу, но пробыв в ней дня три, сбежал. Там были только эмигранты. А мне было там скучно. Потом я попал в немецкую школу, Deutsheshule. В те времена там была организация Hitlerjugend, помню зеленые фуражки. Затем, по окончании войны, перешел во французскую школу, где были и дети эмигрантов, и болгары. Когда наступила «диктатура пролетариата», французов выгнали, и так я попал в болгарскую школу.
После возвращения из тюрьмы я учился в болгарской школе, и стал пионером, носил красный галстук. Были даже намерения принять меня в комсомол. Хотя, бесспорно, я кому-то казался неблагонадежным, в комсомол меня приняли. Однако я вызывал и некое уважение тем, что был усердным учеником и чемпионом по плаванию. Конечно, при этом мы, мальчишки, были хулиганье, в классе — тридцать человек, дети из разных социальных групп. Ребята из крестьян тоже считались тогда неблагонадежными.
— Вы шалили в школе?
— Нет. Я никогда умышленно не прогуливал школу, потому что мы все (дети наших знакомых из эмигрантского круга) ходили V школу с удовольствием, сознавали, что получаем знания даром. У нас часто складывались дружеские отношения с преподавателями, и даже после уроков мы часто стремились «выкачивать» из них еще какие-то знания. Мне посчастливилось учиться с теми людьми, которые рано осознали необходимость накопления знаний… Помню, в те времена в школе могли происходить и настоящие вражеские выпады. Мы учились в две смены, утром и вечером. Как-то раз, в послеобеденную смену, часам к четырем, когда стемнело и зажглось электричество, кто-то прорвал проводку, а в наступившей темноте секретарь комсомола получил ранение в плечо. Наверное, это действовали крестьяне, жившие у подножий гор.
Запись в дневнике: «04.09.1951. Читаю русскую литературу, так как мы в этот год изучаем ее в школе. Но не забываю читать по-французски. Очень жаль, что не могу свободно читать по-английски. Язык — самое большое богатство для человека».
— Какие любимые предметы в школе?
— Физика, химия, астрономия и геология. А литературу и историю я как-то считал не предметами, но удовольствием. Эти предметы не приходилось зубрить — раз прочитал и все. У нас была особая «технология» — мы заранее покупали и читали учебники следующего года, там те же темы передавались более глубоко, а мы стремились скорее «набраться больше сведений». В те годы я пережил увлечение приключенческими романами, о которых я уже говорил и которые прочитал на русском. Русских детских книг я просто не помню. Гораздо позже, когда я был подростком лет 14-15, я читал Пушкина, Лермонтова, Тургенева. Русскую классику мы изучали в болгарской школе, равно как и всю мировую классику.
Запись в дневнике Никиты от 10.11.1950: «Читаю Эренбурга. Думаю, что для него я очень молод». (Мне было 15 лет).
— Вы осознавали, что Тургенев — Ваш предок?
— Нет, абсолютно. Я вообще не интересовался историей семьи, только лет десять назад, по воле обстоятельств, стал как-то входить в эту тему. «Записки охотника» Тургенева я знал хорошо потому, что это было близко мне по тематике, поскольку я ходил на охоту, знал, как это все происходит.
— А Чехова вы любите?
— Уф, конечно. И еще Гоголя. Как мы все упивались, читая Гоголя. Помню, как обычно сидел на корточках на веранде и читал «Вечера на хуторе близ Диканьки». Читал про себя, очень медленно, стараясь схватить суть. Ведь я дислексик, читаю медленно, зато читаю только один раз — и все помню. В том числе и учебник. Но, в общем, я учился не читая. Вопреки правилу, что ученики высокого роста должны сидеть на последней парте, я до начала урока выскакивал и садился на первую парту. И если что-то не понимал, даже прерывал учителя вопросом: А что это значит? Я четко знаю, что учился во время уроков. В связи с этим вспоминаю, что к моей матери однажды пришла учительница, преподававшая «Марксизм-ленинизм» и «Историю ВКП(б)», и сказала: «Я замечаю, что Ваш сын очень внимателен. Он приходит и сидит на первой парте, хотя должен сидеть на последней. Он внимательно слушает, но я смотрю в его глаза, и мне кажется, что он надо мной посмеивается».
— Местной болгарской литературе отдавалось в школе некое приоритетное место?
— Болгарская литература была очень скромной. Десяток книг и все. Она стояла на своем месте.
— Мы знаем и другие случаи: реально большой литературы нет, но ее в целях идеологических преувеличивают.
— Болгарскую литературу не «выпячивали». Просто тогда еще не додумались до этого, руки не дошли. Были заняты уничтожением людей.
— У Вас, по сути дела, получилось советское детство?
— Советское отрочество, скорее.
— А в семье культура была иной. Вы ощущали этот разрыв?
— Чувствовал. Впрочем, как и все жители CCCP, жили и живут так до сих пор17. По одному живут дома, а по-другому внешне, то есть «врут на фасад».
— У Вас это так выражалось?
— Да. И я был вовлечен в этот круг. Вот это и почувствовала та учительница, о которой упоминал.
— Были ли у Вас друзья в школе?
— Да. шесть человек. Мы почти все были геологами — увлекались геологией. Повзрослев, один, Платон Чумаченко, стал профессором палеонтологии, другой, Свет Петрусенко, — минерологом, Христо Пулиев — геохимиком, Свет Докучаев — геологом, пятый, Иордан Иванов — певцом, a Любомир Левчев — выдающимся писателем. Были и друзья не по школьным занятиям, а по плаванию — мы ходили в бассейн и любили этот вид спорта. В 14 лет мой друг, ставший позже певцом, серьезно интересовался оперой, и мы с ним, по крайней мере, два раза в неделю ходили в Оперу. Надо сказать, что тогда в Болгарии билеты в театр и оперу стоили столько же, сколько и билеты в кинематограф, потому что считалось, что это «культура для пролетариата», и она должна быть материально доступной. Мы этим и пользовались, ходя на все премьеры постановок и на концерты. В эти годы я уже знал весь классический репертуар.
8 марта 1949 года, запись в дневнике: «Вчера вечером был на фильме «Паганини». В четверг пойду со Светланой на «Севильского цирюльника», а затем на «Травиату».
—Почему вы выбрали геологию?
— С раннего детского возраста, я начал собирать — почтовые марки, потом монеты. С десяти лет, когда я увидел коллекцию минералов у соседа Света Петрусенко, увлекся собиранием минералов. В нашем кружке в Софии означало ходить в горы и искать. София является дном высохшего огромного озера и окружена горами. В те времена деревья на горах были вырублены. И горы в большой степени были голыми. Позже, при коммунистическом режиме, нас отправляли каждую субботу в горы сажать по 30 елок. И теперь, если взглянуть на них с дальнего расстояния, они все покрыты зеленой растительностью. Но какое значение отсутствие озеленения имело тогда? На открытой поверхности гор видны были каменоломни, где когда-то вытесывался сиенит для дорог. Чтобы разрабатывать сиенит, его взрывали. Есть виды не чистого сиенита, а содержащего примести, который называется пегматитовыми жилами. А в них-то и содержатся кристаллы. И каждый конец недели мы отправлялись искать их и добывать. Это очень большое увлечение моего детства. Я их любил с точки зрения красоты, с точки зрения эстетической. Когда нащупываешь взглядом ложбинку, где предполагаешь, могут быть кристаллы, и разбиваешь ее молотком — вдруг взгляду открывается блеск аметистов, турмалинов! Для нас это было изумительным эмоциональным переживанием.
— Сродни набоковскому собиранию бабочек?
— Может быть, но я полагаю, что у него оно было более систематичным и более обширным по количеству собранных экземпляров. Мы же набирали за раз штук двадцать минералов. Несли их домой. Потом обменивались друг с другом. Раз я нашел очень большой кристалл кварц. И это со всех точек зрения было знаменательным событием — найти столь редкий по красоте и величине кристалл. Спустя некоторое время оказалось — даже сохранилась об этом запись в моем дневнике того времени — что в семье совершенно нет денег и уже нечего продать. И мне пришлось пойти в магазин и продать этот большой кристалл. Конечно, я его «оплакивал», но так сделал.
Запись в дневнике 16.05. 1951 «Мы остались совсем без денег, и мне придется продать свои камни. Сегодня продал свой самый большой кварцевый кристалл (42/35 cm.) за 1500 левов. С этими деньгами надо будет жить до конца недели».
— Набоков как писатель Вас интересовал?
— Увы, я его мало знаю. Нет причин, отчего. Хотя я знал его родного брата в Нью-Йорке.
— Когда стало возможным познакомиться с Роменом Гари, русский читатель в него влюбился безмерно, его сравнивали с Гайто Газдановым, Набоковым, хотя он, как известно, по-русски не писал. Популярен ли он так же в Европе?
— Ромен Гари очень интересен как политическая личность и как писатель. Он был очень популярен при жизни во Франции, И сейчас его читают, главным образом, те книги, которые вышли не под его именем, а под псевдонимами, то есть те, которые он писал для денег. Вряд ли в Англии о нем что-либо знают. Вообще, эти две страны, Франция и Англия, редко переводят произведения друг друга. Ромен Гари имел на меня огромное жизненное, практическое влияние. Когда в 1960-61 гг. я работал геологоразведчиком на разработках месторождений нефти в полупустыне Патагонии в Аргентине, мне мой дядя Арсеньев18послал книгу, посвященную матери Ромена Гари, «Обещание перед рассветом», чей образ оставил во мне особое впечатление. Она была образованным и одухотворенным человеком и одновременно владела умением выживать. Именно эта ее черта дала мне направление, как искать себе спутницу жизни. Я не искал супругу, я искал спутницу, соратницу, с которой смог бы разделять и трудности, и радости. И если бы меня расстреляли, а были бы дети, то она, подобно матери Ромена Гари, смогла бы, проявив те же качества, выжить и отстоять то, чем обладала. Вот это событие своей внутренней жизни начала 60-х я помню конкретно. Отчасти поэтому я выбрал своей супругой Нину19.
А спасал нас Ромен Гари раньше, в сентябре 1953 года. Нам страшно повезло. Он взял риск на себя позвонить коменданту Французской зоны оккупированной Вены, разделенной на четыре оккупационные зоны, и попросить задержать локомотивы, купленные Болгарией. Ведь Николай Васильевич Вырубов и Ромен Гари провели всю войну вместе, в Добровольческой армии генерала Де Голля. Но я не знаю, насколько дядя Коля повлиял на Гари в этом его решении...
Когда же я увидел его впервые в Болгарии, он произвел на меня странное впечатление. Ведь во Французском Посольстве в Софии он был по важности фигура № 2 после самого посла Жака Париcа, но внешне ничем не напоминал дипломата. Он ходил в военной форме без погон и когда встречал представителей местной власти, отвечал им тем же жестом приветствия, что и они, но в пародийной форме. Дело в том, что болгарские коммунисты, встречая друг друга, поднимали кулак вверх, тыльной стороной ладони назад. А Роман Гари тоже поднимал кулак вверх, но зеркально, костяшками сжатых пальцев вперед. То есть отчасти получалось так, что он махал им кулаком. Но как будто «в рамках традиционного приветствия». Он отдавал себе отчет, что его «крыша» — сам Де Голль, он — герой войны, и позволял себе делать все, что хотел. После войны де Голль вообще переформировал Министерство иностранных дел Франции, вышвырнул оттуда тех, кого считал неподходящими, и поставил на все посты тех, с кем воевал, на кого мог положиться. Тогда я даже не знал, что он писатель, воспринимал его только как дипломата, чиновника. И я общался с ним только по делу.
— Помните ли первую любовь?
— Это было изумительно и осталось во мне на всю жизнь. Мне было семнадцать лет. Лили Дульгерова была стажеркой-преподавательницей. Когда я закончил в 1952 году предпоследний год в школе, летом меня отправили на тренировки по плаванью на Черное море в Варну, уроженкой которой была Лили. И мы подружились, когда по случайности оказались в одном купе поезда. Я предполагаю, что мое притяжение к ней было основано на феромонах, которые у нас совпадали, иначе столь сокрушительную силу влечения объяснить себе не могу. Мы встречались два или три раза в неделю. Я открыл для себя секс… и перестал быть чемпионом Болгарии по плаванию, потому что занимался им столь же усердно, как и предавался плаванью. А сразу обе эти стороны жизни, в равной степени интенсивности, несовместимы. Для того чтобы быть чемпионом в спорте, интеллектуальным и физическим, нужно воздержание и целеустремленность. Нужно в какой-то мере «отупеть» для всего другого и не думать ни о чем другом. Как только вы становитесь «вольнодумцем», можете забыть о том, чтобы стать чемпионом в спорте. Я продолжал тренироваться, но уже не с прежним эффектом…
Запись в Дневнике Никиты: «17.05.1951. У нас, как всегда, денег нет, и мы голодаем. У меня очень мало времени. Так как много читаю. Кончил 4 тома У. Черчиля и начал «От Гитлера до Сталина» одного французского министра».
ДРУГОЙ МИР
— Я прекрасно помню, что для меня явилось первым ощущением свободного мира. Мы приехали в Белград поездом Orient-express в 10 часов вечера. На перроне мальчишки кричат: «Кока-кола, оранжата». Вот это было символом запретной территории, символом того, что мы вырвалась! Потому что кока-колу на советское пространство не допускали, только пепси-колу, ибо один из крупных производителей колы, хан (князь) Mакинский20, был агентом ЦРУ, и я это узнал потом из газеты «Нью-Йорк Таймс», а Советский Союз знал об этом, вероятно, раньше меня. Кстати, для пепси-колы придумали бартерную сделку, очень выгодную обеим сторонам: пепси в Союз, а из Советского союза в обратную сторону шла русская водка…
— Когда Вы очутились в Оксфорде, пришлось ли Вам себя как-то «переламывать», приспосабливать?
— Я очень ясно помню, как в первую неделю после приезда встал у окна в комнате моей крестной и увидел проезжающий грузовик. В первую секунду возникло недоумение: а где же красная звезда и номер сзади? Потому что у каждого грузовика в Болгарии сзади была красная звезда и свой номер. Мне потребовалось время, чтобы психологически переехать в другой мир, столь серьезен был отпечаток прежних реалий.
— А как приняли Вас товарищи по университету?
— Очень радушно, потому что я сразу вошел в круг аристократов, друзей моей крестной21. Я никогда не почувствовал никакого пренебрежения.
— На уровне привычек, быта, того, что «ранит» или просто задевает при разнице культур, ничего не казалось трудно преодолимым?
— Ничего.
— То есть мир «русских европейцев» когда-то был единым пространством жизни со всей Европой?
— Да. Нужен был только язык. И смекалка.
— Где Вам проще находиться и общаться сегодня?
— Мне проще повсюду. Некоторую неуютность в России я чувствую потому, что часто законодательство до сих пор является рычагом власти, а не охраной жителя. И в ближайшие тридцать лет это следует с трудом преодолевать.
— Какая культура вам самая родная, или Вы культурная билингва, или даже Вы себя воспринимаете мультикультурным?
— Нужно уточнить, в каком контексте мы понимаем культуру. Если говорить в самом общем смысле, то я знаком с несколькими культурами, может быть, поверхностно. Но преклоняюсь я перед необычайным явлением, я бы сказал, событием в жизни человечества — русской культурой конца XIX - начала XX века. Такого нигде в мире не было, и нет!
— То есть Вы считаете это российским Возрождением, которое пришло в те времена, когда все европейские Возрождения давно миновали?
— Да, это было своего рода Возрождением, но важно, что каким-то образом оно было подготовлено генетически и возбуждено в разных областях одновременно. Не было области, отрасли, в которой бы ни совершился этот взрыв в тот короткий период. Франция, например, имеет своих могучих композиторов, литературу, но такого яркого периода цветения культуры сразу во всех ее видах я не знаю, хотя четко осознаю высокий уровень и уникальность тех культур, с которым в жизни соприкасался. Особо восхищает меня и время Рублева, и несмотря на то, что этот культурный расцвет состоялся на 200 лет позже Византии, но это универсальный гений человечества… Возвращаясь к Серебряному веку, должен отметить, что для меня важны и общественные преобразования того времени, и законодательно-правовые, и промышленные, и архитектурно-строительные, транспортные и так далее, все абсолютно. Гениальные люди жили в то время!
— А как явление стиля Серебряный век меньше Вас увлекает?
— Я никогда бы для удовольствия не сел бы читать символистов. Скука. А живопись символистов так же интеллектуально
|
Метки: лобановы-ростовские |
Дворянский род Шепелевых. История |
[]
Дворянский род Шепелевых. История
- 26 фев, 2016 в 11:22
Герб
описание
Щит разделён горизонтально на две части, из коих в верхней в правом серебряном поле изображен стоящий на задних лапах Лев натурального цвета, обращённый в левую сторону. Левая часть имеет два поля, верхнее черное с изображением на оном золотой шестиугольной Звезды, а нижнее голубого цвета. В нижней части на красном поле изображен Воин, скачущий на белом коне в левую сторону с поднятым вверх Мечом. Щит увенчан обыкновенным дворянским Шлемом с дворянскою на нём Короною, на поверхности которой видна Рука с Мечом. Щит держат два Льва, смотрящих в стороны, с загнутыми хвостами. Намёт на щите с правой стороны серебряный положен голубым, а с левой красный положен серебром.
Шепелевы - старинный русский дворянский род, родоначальник которого "муж честен именем Шель" прибыл в 1376 г. "из немцев, из Свейского королевства в Польшу к королю Ольгерду", где крестился с именем Георгия и откуда вскоре перешел на службу к великому князю московскому Дмитрию Иоановичу Донскому. Старший сын его Петр прозывался Шепель, отчего уже сыновья последнего именовались "Шепелевыми", а от 2го сына Нестера пошли Нестеровы. Из потомков Петра Георгиевича Шепела более известны: Петр Афанасьевич, убитый в "немецком походе" при Федоре Иоановиче, Воин Иванович, мценский воевода, жалованный поместьем "за московское осадное сидение". Григорий Васильевич - полковой воевода, известный своей храбростью. Тимофей Иванович московский стрелецкий голова (1642 г.). Аггей Алексеевич, окольничий и думный генерал (1688 г.),
Дмитрий Андреевич (1759 г.) - генерал-аншеф и обер-гофмаршал, строитель С.-Петербургского Зимнего дворца при Елизавете Петровне,
Петр Амплиевич, сенатор (1737-1828). Род записан в VI части родословной книги Костромской губернии, герб внесен в III часть Общего Гербовника.
Ветвь рода Шепелевых, ведущая начало от Георгия Федоровича (конец XVII в.),
записана в VI части родословной книги Орловской губернии.
Есть еще несколько дворянских родов Шепелевых более позднего происхождения.
Лобанов-Ростовский, Русская родословная книга, изд.2, т.II; Бобринский А.А., Дворянские роды, внесенные в общий гербовник Всероссийский империи, Спб, 1890г.; Русский биографический словарь, Спб. 1911г.

Шепелев Дмитрий Дмитриевич (1766-9.5.1841), генерал-лейтенант (1813). Из дворян. В 1782 записан сержантом в л.-гв. Преображенский полк. В 1792 получил чин прапорщика, в 1793 выпущен секунд-майором в Мариупольский легкоконный полк, состоял при ген.-аншефе И. П. Салтыкове. В ходе польской кампании 1794 в деле при Хелме отбил 3 орудия (награждён орд. Св. Георгия 4-го кл.), за отличие в др. боях получил чин премьер-майора.
При штурме Праги (предместье Варшавы) командовал батальоном Низовского пех. полка, был ранен картечью в плечо и контужен осколком бомбы в правую руку (отмечен зол. шпагой «За храбрость»). Во время Перс. похода 1796 командовал эскадроном. В 1799 находился в составе рос. войск в Швейцарии, участвовал в сражениях под Цюрихом и Шафгаузеном. 8.6.1799, состоя в Сумском гусарском полку, получил чин полковника. 28.8.1800 назначен полковым ком., а 29 окт. — шефом Владимирского драгунского полка. 22.1.1801 переведён ком. Груз. гусарского полка, а 20 февр. того же года назначен его шефом. В связи с расформированием полка 23.4.1801 пожалован во флигель-адъютанты.

В кампанию 1805 занимал должность бригад-майора в корпусе ген. Ф. Ф. Буксгевдена, участвовал сражении при Аустерлице, затем был направлен с секретным поручением в Неаполь. В 1806 формировал Гродненский гусарский полк, 23.6.1806 назначен его шефом. В 1807 сражался с французами при Гутштадте, за отличие при преследовании неприятеля за р. Пассарга награждён орд. Св. Георгия 3-го кл., затем находился в сражениях при Гейльсберге и Фридланде (пожалован зол. саблей «За храбрость» с алмазами). 24.5.1807 произведён в ген.-майоры. С июня 1807 ком. кав. бригады в 14-й дивизии. В 1808-09 участвовал в Рус.-швед. войне. С 13.10.1810 ком. 4-й кав. бригады в 1-й кав. дивизии. 12.11.1810 вышел в отставку с мундиром.

5.7.1812 вновь зачислен на службу по кавалерии. При отступлении рос. войск от Бородина к Тарутину командовал гв. кав. бригадой (л.-гв. Конный и Кавалергардский полки), участвовал в Тарутинском, Малоярославецком сражениях и в боях под Красным. С дек. 1812 нач. авангарда войск ген. П. X. Витгенштейна, был при взятии Лабиау, за взятие Кёнигсберга 1.1.1813 произведён в ген.-лейтенанты, затем с боями преследовал отступавшего противника до Вислы. В кампанию 1813 был при блокаде Гамбурга, а потом находился в Шлезвиг-Гольштейне для переформирования войск. 29.8.1814 назначен ком. 2-й гусарской дивизии, был с ней во 2-м походе во Францию (1815).

2.4.1816 по болезни уволен в отставку с мундиром. 25.6.1826 вновь зачислен на службу состоять по кавалерии. 20.1.1830 окончательно вышел в отставку. Похоронен в церкви Рождества Христова Выксинского завода Ардатовского у. Нижегородской губ.
Награждён также орденами Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст., Св. Иоанна Иерусалимского; зол. крестом за Прагу.

Шепелев Василий Фёдорович (1767; по др. данным, 1768-30.1.1813, Могилёв), генерал-лейтенант (1800). Из дворян Жиздринского у. Калужской губ. В 1775 записан в л.-гв. Преображенский полк и 1 мая того же года произведён в сержанты, 1.4.1783 переведён в л.-гв. Конный полк.
1.1.1786 получил чин корнета. 2.5.1797 пожалован в полковники, 20.8.1798 — в ген.-майоры с назначением шефом С.-Петерб. драгунского полка. Во время Швейцарского похода 1799 находился в сражениях при Цюрихе и Шлоте (награждён орд. Св. Анны 3-й ст.). 14.9.1800 получил чин ген.-лейтенанта и 18 сент. назначен инспектором по кавалерии Смоленской инспекции. 27.10.1800 уволен в отставку. 22.1.1801 вновь принят в службу и определён шефом Владимирского драгунского полка и инспектором по кавалерии Кавк. инспекции (исполнял должность по 9.4.1801). 30.3.1801 переведён шефом Таганрогского драгунского полка, 13.11.1803 — шефом С.-Петерб. драгунского полка; одновременно 3.3.1802 вновь назначен инспектором кавалерии Кавк. инспекции. С 5.2.1806 командовал кав. бригадой в 7-й дивизии. 1.1.1807 вышел в отставку.
В 1812 избран нач. Калужского ополчения с подчинением ему всех воинских частей, находившихся в губернии. В окт. войска под его командованием прикрывали Брянск, заняли Рославль и двинулись к Ельне, а затем к Мстиславлю и Могилёву, где Ш. остался с отрядом для наведения порядка в губернии.
Награды: ордена Св. Анны 1-й ст., Св. Владимира 3-й ст., Св. Иоанна Иерусалимского; зол. шпага «За храбрость».
 Николай Иванович Шепелев (1798 – ?), сын бригадира Ивана Дмитриевича Шепелева (? - 1812) от брака с Екатериной Петровной,урожд.Кречетниковой (? - 1839). С 1815 юнкер Л.-гв. Кавалергардского полка, с 1817 корнет, с 1818 поручик, с 1821 штаб-ротмистр, с 1823 ротмистр. С 1827 в отставке с чином полковника. Брат героя Отечественной войны 1812 года А. И. Шепелева, дядя драматурга А. В. Сухово-Кобылина.
Николай Иванович Шепелев (1798 – ?), сын бригадира Ивана Дмитриевича Шепелева (? - 1812) от брака с Екатериной Петровной,урожд.Кречетниковой (? - 1839). С 1815 юнкер Л.-гв. Кавалергардского полка, с 1817 корнет, с 1818 поручик, с 1821 штаб-ротмистр, с 1823 ротмистр. С 1827 в отставке с чином полковника. Брат героя Отечественной войны 1812 года А. И. Шепелева, дядя драматурга А. В. Сухово-Кобылина.
Примеч. И. Амелютина: Племянник графа М. Н. Кречетникова, дядя писательницы Евгении Тур, 2-юродный прапрадед киноактрисы княжны Эдды Урусовой.
 Неизвестный художник
Неизвестный художник
Портрет Николая Ивановича Шепелева
1820-е гг. (?)
Миниатюра (?)
Местонахождение неизвестно
Источник: Сборник биографий кавалергардов. / Сост. под ред. С. Панчулидзева. Т. 3. СПб., 1906. С. 312.
http://shepelevy.net/shepelevy_full.htm
http://shepelevy.net/gerb.htm
http://www.brdn.ru/person/545.html
Известные представители рода :
- Шепелев, Аггей Алексеевич (ум. 1688) — первый русский генерал.
- Шепелев, Александр:
- Шепелев, Александр Александрович (1841—1887) — генерал-майор, военный историк.
- Шепелев, Александр Иванович (1814—1872) — генерал от инфантерии.
- Шепелев, Александр Дмитриевич — Георгиевский кавалер (№ 1184 (614); 1 января 1795 прапорщиком).
- Шепелев, Александр Дмитриевич (1829 — после 1892) — генерал-лейтенант.
- Шепелев, Василий Фёдорович (1768—1838) — генерал-лейтенант, герой войны 1812 года, командующий народным ополчением Калужской губернии.
- Шепелев, Владимир Иванович (в монашестве Алексий; 1840—1917) — иеромонах Русской православной церкви, духовник Голосеевской пустыни.
- Шепелев, Дмитрий:
- Шепелев, Дмитрий Андреевич:
- Шепелев, Дмитрий Андреевич (1681—1759) — генерал-аншеф и обер-гофмаршал.
- Шепелев, Дмитрий Дмитриевич (1771—1841) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-лейтенант.
- Шепелев, Николай:
- Шепелев, Николай Александрович:
- Шепелев, Николай Александрович (1840—1889) — действительный статский советник, прокурор киевской судебной палаты.
- Шепелев, Николай Александрович (1842 — после 1905) — генерал-лейтенант.
- Шепелев, Пётр Амплиевич (1737—1828) — генерал-поручик, действительный тайный советник, сенатор.
|
Метки: шепелевы |
Мемуары княгини. Вера Лобанова-Ростовская «О российской трагедии ХХ века. До и после 1917 года: воспоминания матери (1903-1919)». |
Мемуары княгини. Вера Лобанова-Ростовская «О российской трагедии ХХ века. До и после 1917 года: воспоминания матери (1903-1919)».
По
-
Декабрь 11, 2018
2268
Уважаемые читатели, предлагаем Вашему вниманию рецензию на только что опубликованный в России в издательстве «Минувшее» документальный роман-эпопею княгини Веры Дмитриевны Лобановой-Ростовской «О российской трагедии ХХ века. До и после 1917 года: воспоминания матери (1903-1919)».
Презентация первого тома состоялась в декабре 2018 г. в резиденции посла РФ в Лондоне на открытии V научно-практической конференции «Русское наследие в современном мире». О романе рассказала Е.С. Фёдорова — профессор МГУ, доктор культурологии, кандидат филологических наук кафедры теории преподавания иностранных языков ФИЯР МГУ имени М.В. Ломоносова, автор вступительной и заключительной статьи к роману.
Как подчёркивает профессор Е.С. Фёдорова: «Самое главное в этой книге – женский взгляд на эпоху. До сих пор мы знали мужские эпопеи, посвященные тому периоду. Сейчас перед нами уникальный женский взгляд на разлом России.»
Княгиня Вера Дмитриевна с супругом князем Иваном Николаевичем Лобановым-Ростовским. Женева, 1903
Повествование романа княгини Веры Дмитриевны Лобановой-Ростовской охватывает период в пятнадцать лет, предшествующий Октябрьскому перевороту, до вынужденного бегства семьи Ростовских от большевиков. Едва рукопись — стараниями князя Н.Д. Лобанова-Ростовского — оказалась в России и была подготовлена для публикации, книга сразу рассматривалась издателем внутри уже завоевавшей внимание читателей серии: Век двадцатый. В течение двух месяцев блестяще издав это монументальное полотно: семейную сагу на фоне пылающей России, у ценителей высокого литературного слова появилась возможность познакомится с документальным романом воочию.
Одной из первых ознакомившись с романом, точные слова нашла княгиня Лариса Щербатова,
«В этот характер легко влюбиться, и не хочется расставаться, возникает непреодолимое желание – продолжить чтение».
С большим уважением и почтением редакция журнала «Я эмигрантка» публикует рецензию на роман-эпопею подготовленную профессором Е.С. Федоровой.
Никита Лобанов-Ростовский – экс-заместитель председателя президиума международного координационного совета российских соотечественников. Председатель Исторического общества «Русское наследие в Великобритании». (Лондон, Великобритания). Екатерина Фёдорова — профессор МГУ, доктор культурологии, кандидат филологических наук, ФИЯР МГУ имени М.В. Ломоносова.
Роман — неисчерпаемый собеседник и «энциклопедия русской жизни»
Автор статьи, пишущая эти строки, в предисловии и послесловии издания уже высказала соображения по поводу жанра романа, его структуры, главной идеи, стиля автора и языка. Однако тематическая многогранность романа, изящные художественные приемы автора, создающие переплетения сюжетных линий, вновь притягивают и вызывают потребность в дальнейшем осмыслении. Как истинное классическое русское повествование, роман — неисчерпаемый собеседник.

Княжна Любовь Николаевна Лобанова-Ростовская, belle-soeur В.Д. Лобановой-Ростовской
Этот роман, бесспорно, «энциклопедия русской жизни» – для определенного её периода, т.е. первой четверти XX века. В том смысле, в котором критик Виссарион Григорьевич Белинский применил это определение к роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Да, и в том и другом романах — масса сведений о текущей жизни и подробностях быта разных сословий. Но главное — во всей полноте и одновременно, во всех тонкостях, открывается обиход, modus vivendi, манера мыслить и чувствовать, присущая дворянству — в период его расцвета. И здесь — через столетие — также открывается бытие, культурные привычки, образ мыслей, свойственная дворянству на рубеже XX века.
И это не период увядания. А период насильственного прекращения его цветения. Несмотря на «затертость», общеизвестность приведенного определения, оно не перестает быть очень верным, и точно применимо к роману Веры Дмитриевны. Некоторые цитаты из текста, полагаю, станут вскоре «расхожими цитатами из классики». Также и удачно найденными Верой Дмитриевной в языке обозначениями вечных российских явлений будут пользоваться по разным поводам.
Владение различными регистрами языка и словотворчество
Княгиня Вера Дмитриевна виртуозно владела разными регистрами родного языка, тонко воспроизводила народную речь, говоры, индивидуальные особенности персонажей. Но мы видим в романе и словотворчество, которое тоже, мне кажется, со временем войдет в словарный состав русского языка, обогащая его. Приведу замечательное обозначение бюрократических бумажек, как нельзя оставшееся актуальным и сегодня — «бумагоисступление». Цитирую: «Ясно одно – это нелепейшее бумагоисступление придумано исключительно для того, чтобы настолько утомить ноги и душу обывателя, что он уже становится после этого абсолютно неспособным на проявление какой бы то ни было энергии в другом направлении». Четко сформулированное объяснение причин данного явления — как готовая словарная статья — и не менее удачная находка автора, чем и сам «термин».
Крайний слева: Великий князь Сергей Александрович, рядом с ним княжна Ольга Николаевна Лобанова-Ростовская (Эджертон). В центре на земле княжна Александра Николаевна Лобанова-Ростовская, вторая справа Великая княгиня Елизавета Федоровна
Трагикомический взгляд автора и светлая чувствительность
Документальный роман-эпопея Лобановой-Ростовской, бесспорно трагичен. И трагедия — основной стержень произведения. Ведь и близкие, и далекие мучаются и погибают в это смятенное российское безвременье. Он и посвящен скорбящим и плачущим об утрате своих близких. Основной тон автора (и одновременно героини) романа — светлая чувствительность. Этот настрой, видимо, был присущ Вере Дмитриевне и в жизни. Без него не получилось бы в романе столь непосредственного контакта автора и читателя. А это было и её сознательной задачей: «сроднюсь душой с моим читателем». И тем пронзительнее эффект, когда волна страданий и боли темной тенью ложится на природные краски её души. Однако Вера Дмитриевна, в силу присущего ей юмора, умела увидеть и высветить комическое в самых серьезных ситуациях. Всю палитру сарказма-иронии-мягкого юмора мы можем наблюдать в романе. Вот маленький пример.
В разгар Красного террора семья предпринимает побег на юг России, подальше от своего имения Лобаново в тульской губернии, под видом беженцев, семьи портных, в холоде и скудости. Рядом несчастивцев могут внезапно снять с поезда, посадить в тюрьму, расстрелять. На таможенном досмотре, бабушка, которую все члены семьи старались заслонить собою ввиду ее явно буржуазного облика, внезапно открывает рот и произносит комическую и ни с чем не сообразную в этой ситуации фразу, грозящую, однако, вполне реальным провалом побега: «А вас прошу, господа, моих чепчиков не помять!» Все в ужасе. Но таможенник сражен обаянием прелестной старушки и добродушно произносит: «Ничего, бабушка, все будет в исправности». Ужасное и человеческое рядом.
Разнообразная палитра комического обогащает основной тон, столь притягательный для читателей. В результате создается то чарующее эмоциональное впечатление от романа, когда автора считаешь и знакомцем, и другом, и собеседником.
Названия глав романа и эпиграфы — ключ к пониманию идей романа и «путеводитель» по кругам ада, который проходит автор и героиня.

Слева направо: Великая княгиня Елизавета Федоровна, жених княжны Людмилы Григорьены Лобановой-Ростовской Константин Александрович Балясный, Великий князь Сергей Александрович, княжна Людмила григорьевна Лобанова-Ростовская. 1885 г.
Роман документален. Автор позволил себе немного художественных приемов. Однако все они весомы. Уже говорилось, что структура романа, сама последовательность развитий сюжетных линий служит выявлению всех сторон главной идеи произведения. Но важным шифром являются названия крупных частей и глав романа — к пониманию внутренних мытарств души героини, где первостепенную роль играет практика молитвенного слова, сложной борьбой с самой собой, духовная помощь старцев; а также драматизма скитаний её семьи, накала раздражения в российском обществе. Возьмем только первый том.
Часть первая, повествующая о личном горе — потере маленького сына, названа «ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ». И если первая глава называется конкретно «Второй сын Борис», то вторая символически «Старческое слово».
Второй круг романа — разлуки с близкими, с детьми, страх за их судьбу эпохи Первой Мировой войны, и как следствие ее — «Россия колышется», — как говорит один из персонажей романа. Эта часть названа «ДОКАТИЛОСЬ». Среди глав мы видим: «Поездка в Троице-Сергиеву Лавру», «Поездка в Оптину пустынь» — следы душевной работы героини. И другой голос в этой полифонии — начало общественного опустошения, дает название глав: «Муть» и «Наваждение».
А для третьей части найдено закономерное: «ПЛОТИНА ПРОРВАЛАСЬ». Семья князей в ловушке. Им грозит неминуемая гибель. Но семье удается чудесным способом избежать её.
Часть четвертая носит наименование «МНОГО МОЖЕТ УСИЛЕННАЯ МОЛИТВА ПРАВЕДНОГО», а названия глав: «Болящий Иоанн» — это главный помощник Веры Дмитриевны на путях спасения семьи, и символическое для следующей главы: «От тюрьмы и от сумы не отказывайся».
Наконец, пятая часть именуется «БЕГСТВО», а выразительные названия глав: «Чудо», «Ангелам своим заповесь о тебе, сохраняю тя на всяких путях твоих» и «Да не смущайется сердце Ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте».
Благодаря этому приему, над бытовыми, житейскими подробностями, столь точно воспроизводимыми автором, парит её духовная мысль.
Князья Лобановы — единомышленники преподобномученицы Великой княгини Елизаветы Федоровны
Поговорим здесь об одной скрытой линии романа.
В ходе работы над рукописью открыты многие зашифрованные по необходимости имена, зашифрованные для того, чтобы не навлечь на головы их обладателей беды. Так, например, восстановлена вся подлинная генеалогия Веры Дмитриевны.

Слева князь Дмитрий Иванович Лобанов-Ростовский, справа князь Яков Иванович Лобанов-Ростовский. Женева. 1914 г.
Результатом стала и генеалогическая таблица, прилагаемая в конце каждого тома, линии которой ведут к внуку автора — Никите Дмитриевичу Лобанову-Ростовскому. Выяснилось, что в прямой родовой линии Веры Дмитриевны, урожденной Калиновской, — князья Кропоткины, князья Лопухины, древний дворянский род Кожиных.
С замужеством Вера Дмитриевна вступает в придворный круг, которому принадлежала семья князя Ивана Николаевича Лобанова-Ростовского. Известно, что князь Иван Николаевич бывал частым танцевальным партнером Императрицы Александры Федоровны на балах. Вера Дмитриевна неоднократно встречается с государыней по поводу основанной ею «Школой искусств», которая заставила возродить в XX веке русские старинные прикладные его виды. Здесь должны заметить, что нам видится закономерным развитие этих видов русского искусства в коллекциях европейской одежды, которые через двадцать лет стала создавать старшая сестра Ивана Николаевича — княжна Ольга Николаевна, в замужестве Эджертон[1].
Скрыв имена фрейлин Двора — родных сестер своего мужа — под псевдонимами, Вера Дмитриевна сообщает некоторые сведения об их жизни, но чрезвычайно скупо.
Напомним, сестра «Даша» — Любовь Николаевна Лобанова-Ростовская — фрейлина Вел. княгини Марии Георгиевны, фрейлина Императрицы Александры Федоровны.
Сестра «Соня» — Александра Николаевна Лобанова-Ростовская — фрейлина Великой княгини Елизаветы Федоровны.
Двоюродная сестра «Таня» — Людмила Григорьевна Лобанова-Ростовская, фрейлина Великой княгини Елизаветы Федоровны.
Сестра «Елена» — Ольга Николаевна Лобанова-Ростовская, леди Эджертон — одна из любимых подруг Греческой королевы Ольги Константиновны, внучки Императора Николая I.
Сын «Кирилл» — расстрелянный большевиками отец Никиты Дмитриевича, князь Дмитрий Иванович Лобанов-Ростовский — крестник Великой княгини Елизаветы Федоровны. Ею подарен Дмитрию при рождении образ его Ангела-хранителя. Где он теперь?..
Близость к Двору семьи Лобановых очевидна. Очевидна и бόльшая близость её к Великой княгине Елизавете Федоровне. Однако только из рассуждений княгини Веры Дмитриевны и членов её семьи мы видим, что помимо старинных семейных связей здесь есть более важное. — Мысли, высказанные в романе о зловещей роли подполья, заговорщиков, а главное, роли Распутина, расколовшего двор и общество, что во многом предупредило успех октябрьского переворота, — это мысли близких к Великой княгине единомышленников.
Таким образом, роман вносит серьезный вклад в историю ближнего круга Елизаветы Федоровны и его мировоззрения.
Сын автора, белый офицер, князь Никита Иванович Лобанов-Ростовский, в 1916 г. говорит: «Тыл может в последний момент погубить Россию. Аристократия из-за Распутина отвернулась от престола. Это к добру не приведёт… Mamá, это крупнейшая ошибка: почему этого мужика-конокрада не прогонят?… Ведь ты помнишь – недалеко ходить – у нас в имении крестьянка не хуже кровь заговаривала. Ведь в народе эта сила зáговора есть. Нашли бы другого, не возились с этим ужасным мужиком».

Князь Никита Иванович Лобанов-Ростовский, сын Веры Дмитриевны Лобановой-Ростовской
Княгиня проводит параллель между подлинным и мнимым старчеством, говорит об ужасной ошибке Императрицы, которая стоила Царской семье отчуждения и Двора, и общества.
«… я скажу тебе несколько слов о Григории Распутине. Это умный и в высшей степени одарённый человек. Но находится во власти тёмных сил. Потому его дары не помогают ему, а, наоборот, дают только яркость его моральному падению. Прибавь к этому полное отсутствие в нём культуры и элементарного образования, которые бы хоть несколько сдерживали разнузданный, бесшабашный разгул этого зазнавшегося хама.
Чтобы объяснить тебе, о каких дарованиях я говорю, приведу пример человека, не загубившего их в себе, а развившего в течение своей земной жизни. Во второй половине XVIII столетия родился в Курске, в мещанской семье, мальчик Прохор Мошнин. Это мирское имя преподобного Серафима Саровского. Когда он вступил на путь открытого старчества, ему было уже 65 лет. Его прозорливость, его дары, его чудотворения, исцеления душ и телес давно уже признали за ним право называться величайшим святым нашего времени.
Посмотри теперь на Распутина: во второй половине XIX столетия в Сибири жил крестьянский юноша Григорий, обладавший даром острого ума, предвидения, исцеления и остановки крови. Что же он сделал с этими великими дарами? Стал ли он приумножать их в духе пророка Мошнина или в духе мирского, но мудрого человека? Да нет же! Он вместо того, чтобы силою воли направить их на добро, употребил во зло и получил прозвище Распутина. Он безобразничал, дрался, пил, не просвещал своего ума. Хам вышел наружу. И Григорий с тех пор не щадит ни Двора, ни себя».

Греческая королева, Великая княгиня Ольга Константиновна, близкая подруга Ольги Николаевны Лобановой-Ростовской (Эджертон)
Сокрушаясь, а не осуждая, понимая, а не раздражаясь
Вера Дмитриевна тонко разбирает причины произошедшего с Императрицей Александрой Федоровной, сокрушаясь, а не осуждая, понимая, а не раздражаясь.
«Государыня хорошая, не фальшивая и даже подчас слишком прямая женщина, прекрасных и благих намерений, сильной воли, огромной энергии и трудолюбия. Но не в её силах разобраться в создавшейся обстановке. Императрица искренне полюбила Россию, искренне стала православною, искренне же восхищается русским искусством…
Для исцеления её сына, болезнь которого не поддаётся лечению докторов, ей указали однажды на Григория. Повторные исцеления вызвали её бесконечную благодарность, а его дар предвидения поразил её. Вскоре лица, в своё время удивлённые способностями Распутина, разгадав его истинный мрачный облик, стали указывать на это последнее обстоятельство Императрице, но было уже поздно: влияние Распутина побороть оказалось невозможно…
К тому же, когда она прикоснулась к явлениям сверхъестественного порядка, то всё остальное уже побледнело для неё, и душа её требует постоянных чудес. Таким образом, и в этом отношении она вступила на неправильный духовный путь – на желание постоянных знамений, этого редкого подарка с неба, даже при общении со старцами.
Если бы русское общество сознавало величие старчества и привыкло бы почерпать духовные силы у его представителей, то не подпала бы несчастная Императрица-иностранка в руки пройдохи. Мы стали плохи и сами виноваты в своём посрамлении у себя и за границею».
Согласитесь, что логика рассуждений созвучна пониманию ситуации самой Великой княгиней Елизаветой Федоровной, не раз предупреждавшей сестру об этой страшной опасности.
Сколь близка была семья князей Лобановых-Ростовских к Великой княгине Елизавете Федоровне

Княгиня Зинаида Николаевна Юсупова в кабинете. Фотография начала XX в.
Мы знаем, что ближайшим другом Великой княгини была княгиня Зинаида Николаевна Юсупова-Сумарокова-Эльстон. Знаем о ссоре, связанной с Распутиным, случившейся между Императрицей и Зинаидой Николаевной, закончившейся полным разрывом. По косвенным данным понимаем, что Юсуповы близки и к Лобановым. Так, благодаря пожертвованиям сына Зинаиды Николаевны, князя Феликса Феликсовича, в 1903 г. достроены трапезная и колокольня церкви в селе Лобаново[2] — имении Лобановых-Ростовских в Ефремовском уезде Тульской губернии. (Это имение является одним из центральных мест действия романа). Вполне вероятно, что пожертвование связано с желанием утешить Лобановых. Именно в этот год умер их сын Борис.
Вне пределов документального романа оказывается, что Великая княгиня глубоко входила в домашние обстоятельства жизни членов семьи Лобановых, печалилась, помогала, сетовала, подробно обсуждала детали — так, как это делается только в кругу очень близких людей. Это мы узнаем из ныне опубликованной переписки Великой княгини Елизаветы Федоровны, в частности, с императрицей Марией Федоровной и княгиней Зинаидой Николаевной Юсуповой. Тон писем удивительно домашний.
О княжне Людмиле Григорьевне Лобановой Ростовской, в замужестве Балясной, в романе «Тане».
Великая княгиня Елизавета Фёдоровна к императрице Марии Фёдоровне — апрель 1907 г.
«…Уже больше двух месяцев Мила Балясная…живет у меня со своей третьей дочерью. У девочки был туберкулез бедренной кости, сейчас процесс остановился, но ей приходится носить ортопедический аппарат. Ей тринадцать лет, она растет, и они приехали заказывать новый аппарат. Муж Милы оставил губернаторскую должность, и они почти нищие. Ей надо поднимать детей; старшая девочка окончила институт, я за нее платила, теперь помогаю второй, но взрослую дочь нужно бесплатно устроить в консерваторию. Мила боится оставлять девушку одну в городе и, чтобы дать ей образование, вынуждена обосноваться здесь с частью своей многочисленной семьи, а других детей оставить в деревне с мужем и свекровью – ведь вся семья не может жить в городе неизвестно на что…»
О княжне Александре Николаевне Лобановой-Ростовской
Великая княгиня Елизавета Фёдоровна к Зинаиде Юсуповой – февраль 1901 г.
«…Это просто кошмар: причинять боль маленькому больному существу — все равно что ребенку, который не понимает за что его наказывают; но все же ребенок в конце концов начнет рассуждать, а эта бедняжка никогда не сможет вполне осознать мое подлинное чувство, а равно и то, что она должна лечиться для своего же блага… В последнее время ее видели в таком нервическом состоянии, что отъезд сочли более чем естественным, тем более, что мы сумели его объяснить и твердили: наверное, после Пасхи она отправится на воды лечиться, а по дороге заедет к нам. Знать бы, как ее теперь лечить»[3].
Глава отдела информационно-поисковых систем ГАРФ, Ольга Копылова пишет: «В последние два с лишним десятилетия в российской научной, публицистической и религиозной литературе уделяется большое внимание жизни и деятельности великой княгини Елизаветы Федоровны. О ней, ее жизненном пути, духовном служении, благотворительной деятельности издано большое количество книг, статей, публикаций документов. Тем не менее, специалисты отмечают, что полную биографию Елизаветы Федоровны подготовить сложно — отсутствует достаточная документальная база. В этой связи открытие целого комплекса новых, ранее не вводившихся в научный оборот, архивных документов может внести определенный вклад в исследование ее жизни и деятельности, дополнить и уточнить уже имеющиеся в исторической литературе сведения»[4].
Сейчас и во всем мире, и особенно в России, подчеркивается роль святой, преподобномученицы Великой княгини Елизаветы Федоровны. Почти 30 лет назад на Большой Ордынке, 34, во дворе Марфо-Мариинской обители был установлен и освящен Патриархом Всея Руси Алексием II памятник святой Елизавете Федоровне, создательнице и настоятельнице обители (скульптор В. Клыков).
6 мая 2004 г. ковчег с десницей святой преподобномученицы Великой княгини Елизаветы Федоровны, а также ковчег с частицами мощей Великой княгини и святой мученицы инокини Варвары прибыл в Санкт-Петербург для поклонения верующих. Святыню доставили из Знаменского Синодального собора Нью-Йорка. Ковчеги побывали во всей России.
7 сентября 2018 г. ковчег с частицами мощей преподобномучениц великой княгини Елизаветы Федоровны и ее сподвижницы инокини Варвары перенесены из Гефсиманской обители Русской Православной Церкви За границей (РПЦЗ) в Иерусалиме, где святые погребены, в основанную Великой княгиней Марфо-Мариинскую обитель милосердия в Москве.
А в начале октября этого года на Кипре была открыта стела и памятная доска, посвященная Великой княгине.
Святая преподобномученица великая княгиня Елизавета Федоровна
Помимо других важных исторических тем, роман княгини Лобановой-Ростовской вносит вклад в историю ближнего круга Елизаветы Федоровны и его мировоззрения.
Роман-эпопея княгини Веры Дмитриевны Лобановой-Ростовской «О российской трагедии ХХ века. До и после 1917 года: воспоминания матери (1903-1919)» без труда завоевывает читателей.
Роман сразу заворожил и читателей, имевших возможность познакомиться с фрагментами книги из целого ряда публикаций, которые посвятил роману калининградский литературно-художественный и общественно-политический журнал «Берега». (см. по ссылке)
Обращаем внимание читателей на публично объявленные отзывы столь любимых в нашей стране деятелей культуры,
как народный артист Игорь Кириллов:
«Когда перелистываешь страницы романа, думается, что сама История перелистывается перед нами. Роман насыщенный и значимый для российского читателя… Эти удивительные лица, которые мы теперь имеем возможность видеть, красноречиво говорят нам о прошлом Отечества, о том, как важно для нашей теперешней жизни понимать его во всей его сложности»;
как артисты МХТ, народный артист России и заслуженный артист России Евгений и Галина Киндинова:
«В этом романе потрясает сила духа, поиск веры, честь, достоинство героини и автора. Нас всегда поражает это в людях — несмотря на то, что их растаптывают, унижают — остается вера в промысел Божий. Нас поражает присутствие высокого духа в прозе Веры Дмитриевны. Она не уронила своего человеческого достоинства в испытаниях. Как это возможно? Невероятно. Этот роман не просто нужен. Он необходим. Это то, без чего вообще не может существовать российская государственность. Это тот корабль, на котором все держатся. Без той культуры, которая была присуща княгине — не удержится Россия. Нам всем, по крайней мере, необходимо знать то, что утеряно. Что такое патриотизм? Это понятие потерялось в «анналах памяти». А тут конкретный патриотизм, который жил в этих людях, героев романа — хотя их убивали».
С нетерпением ждём Ваших отзывов дорогие читатели, с некоторыми главами романа можно познакомится на страницах журнала «Берега» (см. по ссылке). Заказать книги можно по ссылке в издательстве «Минувшее».
[1] См. об этом подробно статью данного сборника «Интерес России к английской культуре не прервался в «эпоху Льда». Первая половина XX века.
[2] Ефремовский уезд. Авторы-составители Георгиевская Т.В. и Петрова М.В. Тула, Гриф и К., 2013, с. 912.
[3] Письма преподобномученицы великой княгини Елизаветы Феодоровны. М.,2011 См. https://svetabella.livejournal.com/9870.html
[4] Копылова Ольга. 2555 дней из жизни великой княгини Елизаветы Федоровны (1910-1917 гг.). См. http://statearchive.ru/897
.
https://ja-emigrantka.com/memuary-knjagini-v-d-lob...ospominanija-materi-1903-1919/
|
Метки: лобановы-ростовские |
Лобановы-Ростовские |
Лобановы-Ростовские
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 24 ноября 2016; проверки требуют 5 правок.
Перейти к навигации Перейти к поиску
| Лобановы-Ростовские | |
|---|---|
 |
|
| Описание герба
Выписка из Гербовника |
|
| Том и лист Общего гербовника | I, 12 |
| Титул | князья |
| Часть родословной книги | V |
| Родоначальник | Иван Лобан |
| Период существования рода | XVI-XXI вв. |
| Место происхождения | Ростов |
| Подданство | |
 Великое княжество Московское Великое княжество Московское |
|
 Царство Русское Царство Русское |
|
 Российская империя Российская империя |
|
 Россия Россия |
|
| Имения | Троицкое-Лобаново, Александрино |
| Дворцы и особняки | Дом Лобанова-Ростовского |
 Лобановы-Ростовские на Викискладе Лобановы-Ростовские на Викискладе |
|
Лоба́новы-Росто́вские — русский княжеский род, одна из двух ныне существующих отраслей князей Ростовских (наряду с Касаткиными-Ростовскими).
Содержание
- 1 Первые поколения
- 2 Лобановы-Ростовские XVIII века
- 3 Старшая ветвь
- 4 Младшая ветвь
- 5 Примечания
- 6 Источники
- 7 Ссылки
Первые поколения
- Князь Иван Александрович Ростовский по прозванию Лобан (конец XV века), праправнук ростовского владетельного князя Константина Васильевича
- Иван Иванович
- Юрий Иванович
- Лобанов-Ростовский, Иван Юрьевич, воевода в Туровле и Ругодиве во время Ливонской войны
- Лобанов-Ростовский, Иван Иванович Козий Рог (ум. 1639), воевода и письменный голова в Томске; о его потомстве см. ниже >>>
- Лобанов-Ростовский, Иван Юрьевич, воевода в Туровле и Ругодиве во время Ливонской войны
- Юрий Иванович
- Семён Иванович
- Лобанов-Ростовский, Пётр Семёнович (ум. 1595), воевода в Новгороде, судья Разбойного приказа, окольничий
- Лобанов-Ростовский, Иван Семёнович Большой (уп. 1618), воевода в Остроге, Новгороде и Гдове
- Борис Иванович
- Михаил Борисович
- Лобанов-Ростовский, Фёдор Михайлович (уп. 1600), воевода в Полоцке, Тобольске и на Терках
- Лобанов-Ростовский, Василий Михайлович Большой (ум. 1606), воевода различных полков, один из защитников Пскова в 1581 г.
- Лобанов-Ростовский, Василий Михайлович Меньшой (уп. 1618), воевода во Владимире
- Лобанов-Ростовский, Афанасий Васильевич (ум. 1629), воевода в Свияжске, судья Стрелецкого приказа, боярин
- Лобанов-Ростовский, Семён Михайлович (уп. 1592), воевода, судья Разбойного приказа
- Лобанов-Ростовский, Иван Семёнович Турий Рог (уп. 1632), дворянин московский, женат на Марфе Елизарьевне Пантелеевой
- Лобанов-Ростовский, Никита Иванович (ум. 1658), воевода и окольничий
- Лобанов-Ростовский, Иван Семёнович Турий Рог (уп. 1632), дворянин московский, женат на Марфе Елизарьевне Пантелеевой
- Михаил Борисович
- Иван Иванович
В московском Рождественском монастыре сохранилась родовая усыпальница Лобановых-Ростовских, построенная ими в 1670-е годы[1].
Лобановы-Ростовские XVIII века
Московская усадьба Лобановых-Ростовских на Мясницкой, 43
- Лобанов-Ростовский, Иван Иванович Козий Рог (ум. 1639), воевода и письменный голова в Томске
- Лобанов-Ростовский, Иван Иванович (ум. 1664), посол в Персию, боярин, руководивший взятием Быхова
- Лобанов-Ростовский, Яков Иванович (1660-1732), комнатный стольник, от браков с княжнами Евдокией Петровной Урусовой и Марией Михайловной Черкасской прижил 28 детей. Из его девяти внуков женился и оставил потомство только один:
-
- Лобанов-Ростовский, Иван Иванович (1731-1791), поручик, женат на кнж. Екатерине Александровне Куракиной, троюродной сестре Петра II
- Лобанов-Ростовский, Александр Иванович (1754—1830), генерал-майор, основатель старшей ветви рода Лобановых
- Лобанов-Ростовский, Дмитрий Иванович (1758—1838), генерал от инфантерии, министр юстиции, холост, его внебрачное потомство носило фамилию Дмитревских
- Лобанов-Ростовский, Яков Иванович (1760—1831), генерал-губернатор Малороссии, основатель младшей ветви рода
- Лобанов-Ростовский, Иван Иванович (1731-1791), поручик, женат на кнж. Екатерине Александровне Куракиной, троюродной сестре Петра II
-
- Лобанов-Ростовский, Яков Иванович (1660-1732), комнатный стольник, от браков с княжнами Евдокией Петровной Урусовой и Марией Михайловной Черкасской прижил 28 детей. Из его девяти внуков женился и оставил потомство только один:
- Лобанов-Ростовский, Александр Иванович (казнён 1677), воевода в Великих Луках, окольничий
- Лобанов-Ростовский, Иван Иванович (ум. 1664), посол в Персию, боярин, руководивший взятием Быхова
Род князей Лобановых-Ростовских был внесён в V часть дворянских родословных книг губерний Воронежской, Новгородской, Саратовской и Смоленской.
Старшая ветвь
- Лобанов-Ростовский, Александр Иванович (1754—1830), генерал-майор, московский губернский предводитель дворянства, женат на Анне Никифоровне Масловой
- Лобанов-Ростовский, Алексей Александрович (1786—1848), сенатор, рязанский гражданский губернатор, владелец дома на Большой Морской, женат на грф. Александре Григорьевне Кушелевой, наследнице усадьбы Хворостьево
- Лобанов-Ростовский, Григорий Алексеевич (1820-72), женат на Ольге Леонтьевне Нефедьевой
- Лобанов-Ростовский, Анатолий Григорьевич (1859—1907), дипломат, женат на Хариклии Ризо-Рангабе, дочери греческого посла
- Лобанов-Ростовский, Андрей Анатольевич (1892—1979), советолог, профессор Мичиганского университета, у него сыновья и внуки
- Лобанов-Ростовский, Анатолий Григорьевич (1859—1907), дипломат, женат на Хариклии Ризо-Рангабе, дочери греческого посла
- Лобанов-Ростовский, Николай Алексеевич (1826-87), гвардии ротмистр, женат на Анне Ивановне Шаблыкиной
- Лобанов-Ростовский, Алексей Николаевич (1862—1921), член Государственного совета, председатель совета Русского собрания, женат на Елизавете Степановне Ралли
- Иван Николаевич Лобанов-Ростовский (1866—1947) — камер-юнкер, коллежский советник
- Дмитрий Иванович Лобанов-Ростовский (1907—1948), жена Ирина Васильевна Вырубова
- Лобанов-Ростовский, Григорий Алексеевич (1820-72), женат на Ольге Леонтьевне Нефедьевой
- Лобанов-Ростовский, Алексей Александрович (1786—1848), сенатор, рязанский гражданский губернатор, владелец дома на Большой Морской, женат на грф. Александре Григорьевне Кушелевой, наследнице усадьбы Хворостьево
-
-
-
-
-
Никита Лобанов-Ростовский в окружении фамильных портретов
- Лобанов-Ростовский, Никита Дмитриевич (род. 1935), предприниматель, коллекционер театральной живописи, основатель музея Лобановых-Ростовских в Филях
-
-
-
- Лобанов-Ростовский, Иван Александрович (1788—1869), сенатор, действительный тайный советник, женат на Елизавете Петровне Киндяковой
- Лобанов-Ростовский, Борис Александрович (1794—1863), камергер, воронежский губернский предводитель дворянства, женат на Олимпиаде Михайловне Бородиной
- Лобанов-Ростовский, Михаил Борисович (1819-58), флигель-адъютант князя М. С. Воронцова, женат на св. кнж. Анастасии Ивановне Паскевич, дочери князя Варшавского
- Лобанов-Ростовский, Александр Борисович (1821-75), церемониймейстер, женат на кнж. Екатерине Ильиничне Долгоруковой
- Лобанов-Ростовский, Алексей Борисович (1824-96), полномочный посол, министр иностранных дел, инициатор создания Русского генеалогического общества, издатель «Русской родословной книги», коллекционер портретов и монет, холост.
- Лобанов-Ростовский, Яков Борисович (1828-78), женат на кнж. Вере Николаевне Долгоруковой
-
Младшая ветвь
Дом Лобанова-Ростовского на Адмиралтейском проспекте в Петербурге
- Лобанов-Ростовский, Яков Иванович (1760—1831), генерал-губернатор Малороссии, обер-камергер, женат на Александре Николаевне Салтыковой, наследнице усадьбы Александрино
- Лобанов-Ростовский, Александр Яковлевич (1788—1866), генерал-майор, коллекционер, основатель и первый командор Императорского Российского яхт-клуба, владелец дворца на Адмиралтейском проспекте, женат на грф. Клеопатре Ильиничне Безбородко
- Лобанов-Ростовский, Алексей Яковлевич (1795—1848), генерал-лейтенант, дипломат, женат на св. кнж. Софье Петровне Лопухиной
- Лобанов-Ростовский, Николай Алексеевич (1823-97), егермейстер
- Лобанов-Ростовский, Дмитрий Алексеевич (1825—1908), генерал-лейтенант, женат на кнж. Александре Александровне Чернышевой, дочери военного министра; у них два сына
- Лобанова-Ростовская, Мария Яковлевна (1789—1854), жена обер-гофмейстера К. А. Нарышкина
В новом бревенчатом доме на территории «города мастеров» в московском парке Фили Н. Д. Лобанов-Ростовский организовал в 2001 году музей, посвящённый истории своего рода[2].
Примечания
- park-fili.ru - This website is for sale! - park-fili Resources and Information (недоступная ссылка — история). Проверено 6 июля 2013. Архивировано 23 января 2012 года.
Источники
- Руммель В. В., Голубцов В. В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. — Т. 1. — С. 550-562.
- Долгоруков П. В. Российская родословная книга. — СПб.: Тип. Карла Вингебера, 1854. — Т. 1. — С. 212.
- История родов русского дворянства: В 2 кн. / авт.-сост. П. Н. Петров. — М.: Современник; Лексика, 1991. — Т. 1. — С. 202-205. — 50 000 экз. — ISBN 5-270-01513-7.
Ссылки
- Родословная роспись Лобановых-Ростовских (на русском)
- Генеалогическое древо
- Родословная роспись Лобановых-Ростовских (на английском)
- Материалы по истории Лобановых-Ростовских
- Руммель В.В.,. Лобановы-Ростовские // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
- Y-DNA (37 markers) database including Rurikid princes and those males who are also suspecting their descent from Rurik (the 1st Russian prince, 9th century) (недоступная ссылка — история). Проверено 12 июля 2013. Архивировано 1 сентября 2013 года.
| Словари и энциклопедии |
|---|
- Дворянские роды России по алфавиту
- Дворянские роды Московского княжества
- Дворянские роды Русского царства
- Дворянские роды Российской империи
- Дворянские роды по алфавиту
- Лобановы-Ростовские
Навигация
- Вы не представились системе
- Обсуждение
- Вклад
- Создать учётную запись
- Войти
Поиск
Участие
Инструменты
- Ссылки сюда
- Связанные правки
- Служебные страницы
- Постоянная ссылка
- Сведения о странице
- Цитировать страницу
Печать/экспорт
В других проектах
На других языках
- Эта страница в последний раз была отредактирована 12 октября 2018 в 19:01.
- Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия. Подробнее см. Условия использования.
Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак некоммерческой организации Wikimedia Foundation, Inc.
|
Метки: лобановы-ростовские |
Вл. С. Соловьев и петербургское общество 1890-х годов. К предыстории «имперского либерализма» |
Вл. С. Соловьев и петербургское общество 1890-х годов. К предыстории «имперского либерализма»
Статьи / 06.01.2019 / Борис Межуев

FacebookTwitterGoogle+VKEmailPrint
От автора: Первый вариант этой статьи был опубликован в «Соловьевском сборнике», представлявшем материалы международной конференции «В.С. Соловьев и его философское наследие», которая состоялась 28-30 августа 2000 г. в Институте философии РАН. Я надеялся, что этот очерк станет первым шагом во всестороннем изучении третьего периода творчества философа. Однако жизненные заботы надолго отвлекли меня от реализации этого замысла. Впрочем, в 2004 году эта статья в расширенном виде была размещена на сайте «Русского Архипелага» в последние недели моего редакторства на этом ресурсе. Однако в 2017 году из сети по неизвестным причинам исчез и «Русский Архипелаг» со всем своим ценным контентом. Любопытно, что из всех соловьевоведческих моих текстов именно эта публикация стала наиболее известной и цитируемой, представление о Вл. Соловьеве как о человеке, вовлеченном в большую политику высших сфер, стало темой некоторых материалов. Поэтому мне хотелось бы воскресить для читателей РI эту старую статью, дополнив ее лишь небольшими поправками. Будем надеяться, что в этом году удастся сделать новое продвижение в исследовании темы «петербургского окружения» Вл. Соловьева.
Последний период творчества В. С. Соловьева, приходящийся на 1892—1900-е годы, связан не только с новым обращением мыслителя к философскому творчеству, но и с серьезной трансформацией его политических взглядов. В 1880-е годы, в так называемый второй — церковно-публицистический — период творчества, у Соловьева в российском обществе практически не было политических единомышленников, кто мог бы принять его теократические и экуменические убеждения. Примерно к середине 1890-е годы столь угнетающее мыслителя положение одиночки и маргинала немного изменилось. У него возникли тесные идейные связи в разных сферах российского общества.
Как известно, в конце 1880-х годов Соловьев окончательно порывает со славянофильством и становится постоянным автором петербургского либерально-западнического журнала «Вестник Европы». Однако и по утверждениям коллег Соловьева по этому изданию[1], и по отдельным высказываниям самого философа[2] можно сделать вывод, что Соловьев никогда (за исключением не до конца понятных «революционных» замыслов 1891 г.) не разделял характерного для петербургских либералов воззрения о необходимости конституционного ограничения власти монарха.
Новое, формирующееся с 1892 г., политическое кредо мыслителя можно назвать «либерально-имперским». Важнейшим его положением было требование соблюдения гражданских прав народов империи (прежде всего, свободы вероисповедания) при сохранении самодержавной, не ограниченной конституцией, власти монарха. Как справедливо писал автор, возможно, лучшей на сегодня биографии Вл. Соловьева Дмитрий Стремоухов, в воззрениях философа последних лет «либерализм выступал в синтезе с идеалом христианской империи»[3].
Отказ от либерального конституционализма в 1890-е годы у Соловьева в определенной мере был определен его реакцией на проявленную русским обществом пассивность при ликвидации последствий катастрофического неурожая лета 1891 г. Соловьев посчитал иллюзорными свои прежние надежды на общественную солидарность, которая была необходимым условием исполнения как его проекта 1891 г. по организации помощи голодающим, так и связанных с ним «революционных» планов с участием генерала М. И. Драгомирова[4].
С другой стороны, философ высоко оценил усилия правительственных инстанций в преодолении голода. Уже осенью 1891 г. мыслитель оказался вынужден признать, что российское общество в период кризиса по уровню сознательности и организованности оказалось намного ниже российской власти[5].
Следует отметить, что под конституцией в Россией в это время понималось ограничение власти монарха не столько писаным законом, сколько общественным представительством. Напомню, что конституцией М. Т. Лорис-Меликова было принято называть отвергнутый Александром III проект министра внутренних дел по введению в Государственный Совет выбранных представителей от земства. Поэтому отсутствие в России общественной солидарности делало конституционные замыслы русских либералов по меньшей мере нереальными. В какой-то степени и сами сотрудники «Вестника Европы» сомневались в том, что Россия созрела до народного представительства, однако никто из них не смел публично заявить о своих сомнениях — требование конституции оставалось главным пунктом либерального кредо, а ее отсутствие в России важнейшим основанием для критики самодержавия.
С другой стороны, Соловьев и в 1890-е годы, в период сотрудничества с либералами «Вестника Европы», оставался приверженцем империи как инструмента всемирного распространения европейской цивилизации и в перспективе — создания универсального государства. Подобная позиция наиболее ярко отразилась в заметке 1896 г. «Мир Востока и Запада», в которой Соловьев писал: «Мир, завещанный Христом в области духа, должен быть проведен и в политическую жизнь народов посредством христианской империи. И как для духовного примирения людей с Богом и между собою принесен Христом на землю меч и огонь нравственной борьбы, так не без борьбы политической достигается мир империи, — лишь бы только в этой борьбе не забывалось никогда то, для чего она ведется, лишь бы эта борьба при громких словах не переходила на деле в тяжбу злых страстей и низменных интересов»[6].
Таким образом, Соловьев в 1890-е годы отстаивал не только самодержавие, но и имперскую политику, которая, как он считал, должна основываться на принципе терпимости к верованиям и обычаям покоряемых народов. Однако фактическое оправдание имперской политики царизма не могли принять и либералы «Вестника Европы», впоследствии устами Владимира Дмитриевича Кузьмина-Караваева выразившие свое неприятие соловьевских размышлений о «смысле войны». «Едва ли не в одном лишь вопросе, — писал Кузьмин-Караваев в своем поминальном очерке о Соловьеве, опубликованном спустя два месяца после его смерти в октябрьском номере “Вестника Европы”, — Соловьев по содержанию своих взглядов резко расходился с наиболее сродной ему группой — в вопросе о войне, отношение к которой составляет самую неясную сторону его вообще стройного учения. Когда появилась впервые его статья “Смысл войны”, она вызвала всеобщее недоумение. Невольно казалось, что она навеяна исключительно желанием противодействовать теории непротивления злу и что она не имеет внутренних корней в соловьевской системе. “Три разговора” и “Повесть об антихристе” несколько выяснили, почему он так смотрел на войну, но далеко не установили полной логической связи между его основным суждениями и положительным отношением к войне»[7]. Кузьмин-Караваев, разумеется, ошибался, утверждая, что позиция Соловьева по поводу «смысла войны» являлась единственным пунктом расхождения Соловьева с либералами, поскольку философ, как мы уже говорили, при всем критическом отношении к политике официальных властей, оставался сторонником самодержавия. Однако появление «Смысла войны» в июле 1895 года стало первым знаком явно усиливающегося отчуждения Вл. Соловьева от круга «Вестника Европы», сотрудничество философа с которым, однако, не прекращалось до конца его жизни.
«Невские скептики», редакторский и авторский коллектив «Вестника Европы», для Соловьева могли являться лишь тактическими союзниками в борьбе с ксенофобией и обскурантизмом, но все же не ближайшими политическими единомышленниками. Кто же, в таком случае, мог в 1890-е годы в полной мере разделять либерально-имперские воззрения философа и, таким образом, принадлежать к кругу его ближайших единомышленников?
Изменение политических воззрений Соловьева совпало по времени с важными событиями на вершине российской власти. В 1892 г. министром финансов России становится Сергея Юльевича Витте. В период своего могущества Витте разделял то же представление об имперском назначении России, на которое указывал Соловьев в своих политических статьях конца 1890-х годов, начиная с заметки 1896 г. «Мир Востока и Запада» вплоть до «Воскресных писем»[8]. И Вл. Соловьев, и Витте полагали, что политика империи не может быть узко национальной, т. е. не может служить выгоде и интересам лишь одной господствующей нации. Истинная имперская политика (которой, по Соловьеву, были верны и Екатерина Великая, и даже Николай I[9]) несовместима с практикой насильственной русификации окраин и, напротив, требует предоставления всем народам свободы вероисповедания.
Ссылаясь на имперское призвание России, Витте оправдывал поощрение экономической активности инородцев, необходимой, по его мнению, для индустриального развития страны. Как известно, этот аспект его деятельности послужил основанием для критики со стороны правых бюрократических кругов, впоследствии объединившихся вокруг Александра Безобразова и способствовавших в конечном счете отставке Витте с поста министра финансов. Однако националистическая реакция против политики Витте, связанная прежде всего со вступлением в должность министра внутренних дел Вячеслава Константиновича Плеве, произойдет лишь в начале XX столетия. До этого времени Витте оставался сильнейшим и наиболее влиятельным лицом в царском правительстве.
Поэтому нахождение на вершине государственной власти человека, хотя и придерживающегося консервативной ориентации (свидетельством чему является известная записка Витте «Самодержавие и земство» (1899), указывающая на несовместимость этих двух институтов), но тем не менее не расположенного к ущемлению прав инородцев, могла вселять в Соловьева надежду на скорое изменение правительственного курса в сторону либерально-имперской программы. Тем более что в 1890-е годы, в конце царствования Александра III, у Соловьева образовался круг весьма влиятельных и сановных поклонников.
Как писал в своих воспоминаниях друг философа последних лет, писатель Николай Энгельгардт, Соловьев постоянно выбирал для своего проживания в Петербурге отель «Англетер», потому что здесь его окружали высшие учреждения империи: Государственный Совет в Мариинском дворце, Сенат и Синод; в Галерной улице находилась редакция «Вестника Европы». «В перерывы заседаний или после них к философу заходили члены этих установлений, крупные люди, и сообщали ему различные начинания, толкуя события наверху. Лишенный кафедры опальный профессор-философ пользовался дружбой и уважением наиболее просвещенных сановников; его слушали. Ему казалось, что так может он влиять на политику страны»[10]. Действительно, с 1892 г. начинается все более тесное сближение Соловьева с бюрократическими и великосветскими кругами Петербурга, концентрирующимися вокруг фигуры влиятельного министра финансов[11]. Рядом с Соловьевым в Петербурге постепенно формируется кружок друзей, близких ему по религиозному и политическому миросозерцанию. Эти люди принимали соловьевскую идею о религиозном призвании России, связывая его с восстановлением единства христианского мира, либо с духовным примирением Азии и Европы.

Эспер Ухтомский
Друзьями и восторженными почитателями Соловьева были два человека, которые во многом определяли линию Витте в области внешней и внутренней политики, — кн. Эспер Эсперович Ухтомский, редактор «Санкт-Петербургских Ведомостей», в начале 1890-х годов лично близкий вначале наследнику престола, а затем императору Николаю Александровичу, и кн. Алексей Дмитриевич Оболенский, занимавший множество разных правительственных должностей в разные годы и в 1905—1906 гг. в кабинете Витте ставший обер-прокурором Святейшего Синода.

Алексей Оболенский
Оболенский — почитатель Соловьева с конца 1880-х годов[12], противник славянофильского национализма, либерал и христианский западник. Как свидетельствует племянник философа С. М. Соловьев, «Оболенский разделял все взгляды Соловьева и принимал его без критики, сочувствуя и его идее соединения церквей, которая была для большинства русских друзей Соловьева камнем преткновения»[13]. Оболенский придерживался даже более либеральных воззрений, чем Соловьев. Впоследствии именно Оболенский (кстати, ему принадлежит текст манифеста 17 октября 1905 г.) выступил инициатором примирения опального (с 1903 г.) Витте с кругами земцев-конституционалистов. Впрочем, известный соратник Столыпина Владимир Гурко, критически относившийся к Оболенскому, считал, что влияние расположенного к мистике Оболенского губительно сказалось на политических действиях Витте[14], с чем, видимо, в конце жизни мог бы согласиться и сам экс-премьер, в своих «Воспоминаниях» охарактеризовавший бывшего соратника как порядочного, но психически неуравновешенного человека.
После своей отставки, будучи членом Государственного Совета, Оболенский неоднократно поднимал свой голос против правительственного национализма. Как пишет известный британский историк и, в частности, исследователь русской аристократической элиты Доминик Ливен, Оболенский «постоянно подчеркивал, что проведение русской националистической политики в многоэтнической империи может привести только к катастрофе. Все жители империи должны быть признаны равными подданными императора»[15]. Мы видим, что точка зрения Оболенского и в более поздние годы прямо соответствовала либерально-имперскому кредо Соловьева.
Э. Э. Ухтомский[16], напротив, являлся восточником, одним из главных идеологов и практических участников дальневосточной политики России. Ухтомский сопровождал цесаревича Николая Александровича, будущего императора Николая II в его восточном путешествии на яхте «Память Азова». Впоследствии, со вступлением на царство Николая, Ухтомский приобрел право на издание газеты «Санкт-Петербургские ведомости», ставшей под его руководством важнейшим печатным органом ориентирующейся на линию Витте российской либеральной бюрократии. Здесь в 1890-е годы и начале XX столетия активно печатались друзья Соловьева кн. Д. Н. Цертелев и кн. С. Н. Трубецкой. В 1903—1904 гг. редактором «Санкт-Петербургских ведомостей» являлся еще один приятель Соловьева по петербургскому кружку, Александр Аркадьевич Столыпин, снятый впоследствии со своей должности по распоряжению В. К. Плеве.
Именно в газете Ухтомского Соловьев выступил 6 (18) ноября 1896 г. с программной статьей «Мир Востока и Запада», наиболее четко отражавшей его «либерально-имперские» воззрения этих лет[17]. Следует отметить, что эта статья, впоследствии опубликованная в седьмом томе Собрания сочинений В.С. Соловьева, была помещена в газете (в специальном разделе, посвященном 100-летию со дня кончины императрицы Екатерины II) без подписи, как и некоторые другие материалы раздела, в том числе передовая редакционная статья. Это дает основание полагать, что текст Соловьева призван был выразить позицию всей газеты, а не только мнение одного из ее авторов. То же самое можно сказать и о другом юбилейном тексте Соловьева, помещенном в «Санкт-Петербургских ведомостях» без подписи, — статье «Памяти императора Николая I», которая была опубликована в газете 25 июня (7 июля) в 100-летие со дня рождения покойного государя. Высказывая общее с Ухтомским и публицистами его круга мнение о необходимости для христианского государства «ограждать веру от внешних принудительных требований», Соловьев находил, что данная точка зрения была не чужда Николаю I. «Ясное и твердое понимание» императором «принципов христианской политики» проявилось в его жестком отношении к «проповеди» славянофила Ю.Ф. Самарина «насильственного введения православия и русской народности в Православных губерниях»[18].
Несмотря на разделяемую и Соловьевым, и Ухтомским «либерально-имперскую» программу и их общее убеждение в правильности дальневосточной активности России, их взгляды на цели российского продвижения к Тихому океану не совпадали. Для Соловьева главной была задача не допустить стратегического объединения Японии и Китая на основе так называемого панмонголизма и предотвратить их возможное совместное выступление против России и Европы. Соловьев при этом в целом сочувственно относился к колониальной политике европейских держав в Азии и ратовал за союз с ними против Китая[19]. Напротив, для Ухтомского, востоковеда, исследователя буддизма и страстного защитника вероисповедных прав бурятского народа важнейшей для России представлялась задача оградить восточный мир от посягательств колониальных держав и стать своеобразным гарантом и защитником его интересов. В отличие от Соловьева Ухтомский негативно оценил участие России в карательной акции восьми держав в 1900 г. против боксерского восстания в Китае. Думаю, что полемика Соловьева с Ухтомским отразилась и в «Трех разговорах», где Соловьев устами одного из персонажей — Политика — выступил против славянофильства, указывая на то, что его поздние представители от проповеди «греко-славянской самобытности» переходят к исповеданию «какого-то китаизма, буддизма, тибетизма и всякой индейско-монгольской азиатчины». У меня вызывает сомнение предположение авторов комментариев ко второму тому так наз. коричневого двухтомника Вл. Соловьева[20], что в образе политика Соловьев мог изобразить Витте, поскольку последний в отличие от персонажа «Трех разговоров» никогда не называл себя атеистом и довольно критически относился к империалистической политике Британии. Однако следует признать отдельные черты сходства между политиком и всесильным министром финансов: Витте действительно в 1890-е годы был сторонником активизации политики России на Дальнем Востоке и выступал за мирное решение политических споров, опасаясь ввязывания в крупномасштабный военный конфликт. Политик – это, вне всякого сомнения, не Витте, но кто-то, кто мог разделять либерально-имперские убеждения министра финансов.
Итак, Соловьев в 1890-е годы находился в центре российской политической жизни. Более того, он являлся своеобразным духовным центром той части петербургского общества, которая исповедовала близкие Соловьеву «либерально-имперские» и «христианско-экуменические» воззрения. Как писал один из виднейших представителей русской либеральной аристократии кн. Сергей Михайлович Волконский, «для нас Соловьев — это была высшая истина, это было зеркало, в котором вместе с отраженьем событий преломлялся и смысл их»[21].
***
После смерти Соловьева его петербургские друзья образовали первое «соловьевское» общество, регулярно собиравшееся в ресторане «Донон» в Петербурге. О мероприятиях этого общества — так называемых «соловьевских обедах» — оставили свои воспоминания кн. С.М. Волконский и близкий друг Вл. Соловьева, философ Эрнст Львович Радлов[22]. По свидетельству Волконского, «<…> в 1901 году основались в Петербурге «соловьевские обеды». Человек двадцать и больше сходились в ресторане Донона у Певческого моста, вкусно обедали, приятно беседовали. Каждый раз читался какой-нибудь доклад, потом обсуждался, и — «беседа затягивалась заполночь»[23]. Были доклады на чисто философские темы, но большей частью они вращались вокруг наболевших вопросов иноверия и инородчества. Много жизненно-жгучих фактов приносилось сюда — наблюдения, письма, разговоры… Все это было у меня записано, но… Всему этому велись подробные отчеты, но…»

Юрий Милютин
Общество возглавил, по свидетельству Э.Л. Радлова, Юрий Николаевич Милютин, бывший редактор и издатель газеты «Кавказ», впоследствии один из основателей и руководителей «Союза 17-го октября»[24]. Заседания носили регулярный характер. Кроме вышеназванных лиц, собрания посещали кн. С.М. Волконский, Александр Петрович Саломон, Э.Л. Радлов, А.А. Столыпин и др. Каждый из так. наз. «соловьевских обедов» у Донона сопровождался докладом одного из участников и его последующим обсуждением[25]. Однако информация об этих докладах, как и о самом обществе крайне скудна, поскольку стенограммы всех заседаний были утеряны одним из участников «соловьевских собраний» Петром Николаевичем Исаковым[26].
Одно из начинаний «соловьевского общества» состояло в сборе средств для установления каменного креста над могилой Вл. Соловьева в Новодевичьем монастыре. Однако данный проект так и не был доведен до конца по причине активного противодействия сестры покойного философа Поликсены Сергеевны.
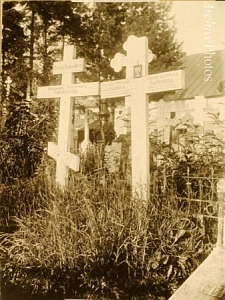
могила В. Соловьева (1929 год)
Об этой истории рассказывает в своем мемуарном очерке Радлов: «Постоянные члены этих собраний, между прочим, решили заменить простой деревянный крест на могиле Соловьева, пришедший в ветхость, более достойным памятником; с этою целью они собрали между собою порядочную сумму денег, но из этого <…> намерения ничего не вышло, ибо никак нельзя было сговориться с родственниками покойного философа; они давали условно свое согласие, желая тоже участвовать в постановке памятника, а время шло… Наконец, один из энергичных членов “Собраний”, заменивший Ю.Н. Милютина в роли председателя после смерти первого[27], на свой страх купил готовый памятник и решил послать его в Москву для временной постановки, пока не будет поставлен дорогой, художественный, который удовлетворил бы всех, но в этом деле он встретил решительное противодействие со стороны Поликсены Сергеевны, которая находила, что это дело общественное, что деньги следует собирать путем общественной подписки, путем чтения публичных лекций и т. д. Д.В. Философов по этому поводу написал в “Речи” довольно резкую статью, осуждающую петербургских друзей за то, что они хотят поставить аляповатый памятник на могиле философа. Памятника он, конечно, не видел, и осуждения друзья покойного философа, конечно, не заслуживали, ибо и до сих пор могила Вл. Соловьева находится в запущении, и памятника нет. От этой затеи остался только эскиз, любезно составленный академиком Шервудом, не знаю, у кого находящийся. Собранные деньги были переданы на хранение в кассу Литературного Фонда, где они погибли вместе со всеми капиталами Фонда”»[28]
Вышеупомянутый отклик Дмитрия Философова был опубликован под инициалами Д.Ф. в газете «Речь» 1 (13) августа 1915 года. В этом коротком тексте публицист кадетской газеты и в самом деле весьма грубо и безосновательно напал на «кружок высокопоставленных «почитателей»» покойного философа, взявшихся за постановку памятника на его могиле. Тон этой заметки не оставляет сомнения в политической, а отнюдь не эстетической подоплеке дела: увековечивать память о Вл. Соловьеве, согласно совокупному мнению круга Мережковских, к которому принадлежали и Философов, и Поликсена, не должны были общественные деятели правых, условно, октябристских воззрений, люди из окружения Витте и Столыпина. «<…> нынче весною, — сообщал также Философов, — почитатели, встревоженные близостью шестнадцатилетней годовщины, затеяли было, при помощи какого-то монументального магазина, памятник из «полированного гранита». Но ознакомившись с проектом этого монумента, родственники покойного, ни минуты не колеблясь, отказали в разрешении на его постановку. Лучше скромный деревянный крест, нежели оскорбительный своей аляповатостью, ничтожный и безвкусный памятник, воздвигнутый лишь по обязанности, чтобы собранные на сей предмет средства нашли свое назначение…»
Костяк «соловьевского общества» составили Милютин, Радлов, Ухтомский, Оболенский. Эти же люди уже после смерти Соловьева предпринимали попытки создания политического объединения с целью противодействия национализму и утверждения прав инородцев. Вместе с П.П. Извольским, гр. И.И. Толстым и Д.Г. Гинцбургом они образовали в 1905 г. «Кружок равноправия и братства» с целью добиться равноправия всех национальностей империи и, прежде всего, отмены дискриминационных законов против евреев[29]. Вероятно, они же были инициаторами создания еще в октябре 1903 г. в противовес националистическому «Русскому Собранию», в котором стали преобладать армянофобские и юдофобские настроения, общества «Сближение», информация о возникновении которого появилась в газете Ухтомского 16 (29) октября 1903 г.
После смерти Милютина в 1912 г. «соловьевское общество» возглавил кн. А.Д. Оболенский, после чего оно претерпело некоторую трансформацию. Радлов в своем мемуарном очерке говорит о прекращении деятельности «соловьевского общества» с началом первой мировой войны. Однако на самом деле общество, по-видимому, не прекратило своего существования, но несколько изменило форму работы. Состав участников уменьшился, а место заседаний-трапез было перенесено из ресторана Донон в особняк Оболенского. В своих мемуарах В.И. Гурко сообщает о существовании под руководством князя «соловьевского кружка», занимавшегося изучением произведений философа[30]. Семен Франк в биографии П.Б. Струве упоминает о своем посещении этого кружка осенью 1915 г. в доме Оболенского, где кроме хозяина присутствовали также Ухтомский и министр земледелия Александр Васильевич Кривошеин[31]. Можно предположить поэтому, что в 1914 г. общество приобрело более закрытый, «кружковый» характер.
Об изменении места проведения «соловьевских собраний» упоминает и Петр Бернгардович Струве в небольшом мемуарном очерке об А.Д. Оболенском, опубликованном в газете «Россия и Славянство» после смерти князя, наступившей в сентябре 1933 г. Струве сообщает, что «во время войны соловьевские обеды, или «симпозии» переместились в квартиру самого князя». «Эти беседы-трапезы людей, — писал Струве, — собиравшихся во имя большого русского философа, публициста и поэта, оставили во мне, как их участнике, самое приятное воспоминание, главным образом, благодаря чарующей любезности — в лучшем и высшем смысле этого слова — их устроителя и хозяина. Тут как-то пристойно и достойно объединялись просвещенные русские люди разных возрастов, общественных положений, взглядов и настроений. Появлялись иногда на этих трапезах и иностранные гости. Помню, что во время войны я именно на таком обеде у кн. Алексея Дм. познакомился с приобретшим потом громкую известность философским писателем, балтийским немцем гр. Кайзерлингом, тогда еще русским подданным»[32].
За границей, в Дрездене, кн. Оболенским после его эмиграции в 1920-е годы из Советской России было создано (или воссоздано?) Русское общество им. Вл. Соловьева, нацеленное, по данным современных исследователей, на «поощрение русской культурной жизни города и поддержку местной православной церкви, в подвальном помещении которой с 1931 г. мероприятия Общества и проводились»[33]. В этом обществе принимал участие философ Ф.А. Степун, он читал здесь — в том числе и после кончины Оболенского — благотворительные лекции[34].
Выбранное в данной работе направление исследований должно привести к серьезному переосмыслению последнего периода творчества философа. Скрупулезное рассмотрение петербургского круга друзей Соловьева в 1890-е годы позволит историку его творчества более точно определить место философа в российской общественной жизни, а также реальное влияние его идей на культуру и политику рубежа веков.
2000-2019 гг.
Автор благодарит Н.В. Котрелева, Г.Б. Кремнева, К.Ю. Бурмистрова и М. Конрой за помощь и ценные рекомендации в ходе написания этой статьи.
[1] В разделе «Из общественной хроники» анонимный автор «Вестника Европы» признавал (в полемике с редактором «Московских ведомостей» В. А. Грингмутом о смысле предсмертных слов философа по поводу «внутренней китайщины»), что Соловьев не был конституционалистом: «Бесспорно, в программу Соловьева не входила конституция» («Вестник Европы», 1900, № 10, с. 863). Грингмут в ответной заметке «К вопросу о либеральном катехизисе» отмечал, что этим признанием «либералы проводят между собой и Соловьевым пропасть, что нужно быть очень близоруким, чтобы ее не заметить! <…> Ведь если бы в их программу не входили ни атеизм, ни конституция, то что бы им мешало признать Соловьева вполне и окончательно своим?» (Цит. по: Собрание статей Владимира Андреевича Грингмута. Политические статьи. Выпуск I. М., 1908. С. 243).
[2] См., например, высказывание Соловьева в письме конца 1890-х годов к цензору и поэту H. M. Соколову о «конституционных вожделениях», каковым он «никогда подвержен не был» (РГАЛИ. Ф. 1317. Оп. 2. Ед. хр. 4).
[3] Stremooukhoff D. Vladimir Soloviev and his Messianic Work. Belmont, MA, 1980. P. 283.
[4] «Драгомировская» история, известная прежде всего со слов Л. Ф. Пантелеева и получившая авторитетное подтверждение в книге E. H. Трубецкого, требует отдельного подробного рассмотрения. Мы можем сейчас сказать, что оснований сомневаться в правдивости свидетельства Пантелеева нет; существование у Соловьева осенью 1891 г. революционных замыслов подтверждается, в частности, его перепиской с редактором «Северного вестника» Л. Я. Гуревич. «Я призывал, — писал Соловьев, — к общественной организации для помощи народу; теперь окончательно выяснилось, что для исполнения этого призыва (как я, впрочем, предвидел) необходимо перейти в другую оперу, не даваемую на казенных театрах». См.: Соловьев В. С. Письма. СПб., 1908. Т. I, с. 219–220.
[5] См.: Соловьев В. С. Наш грех и наша обязанность (1891) // Соловьев В. С. Соч.: В 2 т. М., 1989. Т. 2, с. 384—386.
[6] Соловьев В. С. Собр. соч.: в 10 т. 2-е изд. СПб., 1912. Т. 7, с. 381.
[7] Кузьмин-Караваев В. Из воспоминаний о Владимире Сергеевиче Соловьеве // «Вестник Европы», 1900, № 11, Ноябрь, с. 450; Перепечатано: Книга о Владимире Соловьеве / Сост. Б. Аверина и Д. Базановой. М., 1991. С. 260.
[8] В статье «Что такое Россия» (1897) Соловьев писал, в частности: «Россия больше чем народ, она есть народ, собравший вокруг себя другие народы, — империя, обнимающая семью народов». См.: Соловьев В. С. Собр. соч. в 10 т. Т. 10, с. 12.
[9] Памяти императора Николая I // Соловьев В. С. Собр. соч. в 10 т. Т. 7, с. 377–380.
[10] Энгельгардт Н. А. Эпизоды моей жизни (Воспоминания) // Минувшее. СПб.,1998. Т. 24. С. 30.
[11] Я обнаружил только одно, довольно смутное свидетельство о личной встрече Витте и Соловьева: «Один из биографов русского философа Э.К. Кейхель писал полвека назад: «Владимир Соловьев был настолько убежден в провиденциальной роли еврейского народа, что неоднократно высказывал мысль (между прочим, в разговоре с графом С.Ю. Витте), что беды и несчастья различных государств находятся в некоторой зависимости от той степени озлобленности и несправедливости, которые эти государства проявляют к еврейству: преследование нации, на коей лежит перст Божий, не может не вызвать высшего возмездия» (см.: Маор И. Русский философ Владимир Соловьев // «Панорама Израиля» (Иерусалим), № 175, 6 февраля 1985 г. С. 9–12). Какое исследование Эрнста Кейхеля, переводчика многих работ Соловьева на немецкий язык, имеет в виду Маор, установить пока не удалось.
[12] См. письмо кн. А. Д. Оболенского к родственнице (супруге брата) кн. А. А. Оболенской, датируемого, вероятно, концом 1880-х годов, в котором он подробно рассказывает о своем впечатлении от чтения книг Соловьева «История и будущность теократии» и «Россия и вселенская церковь»: РГИА. Ф. 1650. Оп. 1. Ед. хр. 247. Л. 100—105 об. «За последнее время самое глубокое впечатление, какое я испытал было от чтения сочинений В.С. Соловьева, именно «Теократии» и «L’Eglise Universelle et la Russie». Оба сочинения запрещены к сожалению в России и поэтому достать их не легко. Решительно не знаю с чем сравнить впечатление, произведенное от этих книг в особенности от 1-ой из них. Такой силы, такой убежденности, искренности и почти вдохновенности я не знаю, когда и встречал. Конечно, и здесь как и во всяком произведении человеческом есть крайности, больше впрочем во французской книжке, но крайности приятные, не пошлые, а оригинальные, яркие. Крайности от слишком большой последовательности, а не от недомыслия, от желания практического осуществления, а не от витания в отвлеченностях». О кн. Оболенском см. также: Lieven D. Russia’s Rulers under the Old Regime. New Haven; L., 1989. P. 267–276.
[13] Соловьев С. М. Владимир Соловьев: Жизнь и творческая эволюция. М., 1997. С. 296.
[14] Gurko V. I. Features and Figures of the Fast. Govemment and opinion in the reign of Nicholas II. Stanford University Press, 1939. P. 209, 211.
[15] Lieven D. Russia’s Ruler under the Old Regime. P. 274.
[16] О кн. Ухтомском см.: Межуев Б. В. Моделирование понятия «национальный интерес»: (На примере дальневосточной политики России конца XIX — начала XX века) // Полис. 1999. № 1, с. 26–39; Полонская Л. Р. Между Сциллой и Харибдой: (Проблема Россия—Восток—Запад во второй половине XIX в.: К. Леонтьев, Э. Ухтомский, Вл. Соловьев) // Московское востоковедение. Очерки, исследования, разработки: Памяти Н. А. Иванова. М., 1997. С. 271–285.
[17] «Санкт-Петербургские ведомости», 1896, № 306, 6 (18) ноября, с. 5.
[18] «Санкт-Петербургские ведомости», 1896, № 172, 25 июня (7 июля), с. 1–2. В примечании издателей к седьмому тому Собрания сочинений В.С. Соловьева ошибочно указано, что данная статья была напечатана впервые в 40-ю годовщину смерти императора.
[19] «В предстоящей рано или поздно борьбе Россия, как авангард всемирно-христианской цивилизации на Востоке, не имеет ни возможности, ни надобности действовать изолированно или враждебно относительно прочего христианского мира. Даже помимо высших принципов практическая необходимость заставит нас выступить против Китая в тесном союзе с европейскими державами, особенно с Францией и Англией, коих владения прилегают к срединной Империи» (Вл. С<оловьев>. <Рец. на книгу кн. Э. Э. Ухтомского «Путешествие на Восток Е. И. В. Государя Наследника Цесаревича 1890—1891». Пб.; Лейпциг, 1893— 1894. Ч. 1-3 // «Вестник Европы», 1894, № 9, с. 396).
[20] См.: Соловьев В. С. Соч. в 2 т. М., 1989. Т. 2, с. 695.
[21] Волконский С. М. Мои воспоминания. М., 1992. Т. 2: (Родина), с. 80.
[22] См. Радлов Э.Л. Голоса из невидимых стран // Дела и дни. Исторический журнал. 1920. Кн. 1.
По-видимому, это общество выросло из литературного дискуссионного кружка, организованного в 1890-е годы в Петербурге на квартире Столыпиных. Американский историк Мэри Конрой, ссылаясь на неопубликованные мемуары барона А. Мейендорфа, проживавшего вместе с А. Д. Столыпиным, отцом П. А. Столыпина, сообщает, что несколько раз этот кружок по приглашению А. А. Столыпина посещал Вл. Соловьев, выступавший здесь с лекциями об объединении церквей. См.: Conroy M. Peter Arkad’evich Stolypin. Practical Politics in Late Tsarist Russia. Boulder, 1976. P. 2, 4. В рукописи мемуаров (с копией которой я получил возможность ознакомиться благодаря содействию Мэри Конрой), хранящейся в архиве Колумбийского университета (США), рассказывается, в частности, о дискуссии между Вл. Соловьевым и молодым выпускником Эдинбургского университета графом В.А. Бобринским, будущим лидером фракции прогрессивных националистов в IV Государственной думе. Бобринский поинтересовался у Соловьева, отстаивавшего идею объединения церквей, какой стороне надлежит сделать уступки ради этого объединения. «Никакой, — отвечал Соловьев, — они объединятся как кислород и водород, которые в соединении образуют воду». На новый вопрос Бобринского, какая сила сможет привести две церкви к соединению, Соловьев ничего не сказал, а А. Столыпин прошептал «любовь».
[23] Волконский С. М. Мои воспоминания, с. 93.
[24] Ю.Н. Милютин в некрологе Вл. Соловьеву в газете «Кавказ» указал на близость политических убеждений философа взглядам «истинных консерваторов», к которым Милютин, сын известного деятеля реформы 1861 г., относил, по-видимому, и самого себя: «В политике также он был в сущности «двух станов не боец, а только гость случайный», его ненависть ко всякому притеснению и неравноправию, его стремление к самой широкой свободе веры и слова сближали его во многом с либералами, между тем как его убеждения должны были бы обеспечить ему почетное место в лучших рядах истинных консерваторов». См.: Милютин Ю. Владимир Сергеевич Соловьев // «Кавказ», 1900, 31 августа, № 204 [гор. Тифлис, 1-августа 1900 г.].
[25] Так, 21 мая 1909 г. на одном из «соловьевских» обедов по предложению Ю. Н. Милютина обсуждался вопрос о «национальном государстве и дальнейших ступенях политического развития в человечестве и о значении их для России». См.: Толстой И. И. Дневник. 1906–1916. СПб., 1997, с. 245. Гр. И. И. Толстой к соловьевскому обществу, очевидно, не принадлежал. Он впервые попал на «соловьевский обед», по приглашению Оболенского, только 21 мая 1909 г. (см. выше), причем впечатление от собрания у него осталось явно негативное, что выразилось в весьма резких словах «безрезультатная болтовня, напоминающая умственный онанизм». Толстой отметил присутствие на «обеде», кроме уже известных нам фигур, Ал. Гейдена, H. H. Львова, С. И. Шидловского, П. П. Извольского. К этим именам следует добавить также отмеченных Радловым среди постоянных посетителей «обедов» А. В. Пашкова, П. Н. Исакова, проф. Н. А. Флоровского, Д. Н. Цертелева, К. А. Губастова, Г. А. Евреинова, А. П. Щеглова. В вышедшем в России после революции очерке Радлов явно избегает называть фамилии Ухтомского и Оболенского.
[26] «Собрания эти велись довольно правильно; рассылались повестки с обозначением реферата, долженствуемого быть прочитанным, и краткого его содержания. Отмечались и главные мысли, высказанные во время прений. Все документы, касающиеся собраний в память Вл. Соловьева, хранились у председателя; после его смерти эти бумаги были переданы мне, а я имел неосторожность дать их на краткое время, для составления исторического очерка, П. Н. Исакову, не отличавшемуся аккуратностью; Исаков потерял все бумаги, он забыл их на извозчике…» См.: Радлов Э. Л. Голоса из невидимых стран // «Дела и дни. Исторический журнал», 1920, кн. 1. С. 230.
[27] Речь идет о князе Алексее Дмитриевиче Оболенском.
[28] Радлов Э. Л. Голоса из невидимых стран // «Дела и дни. Исторический журнал», 1920, кн. 1. С. 230.
[29] См.: Ананьич Б. В., Толстая Л. И. И. И. Толстой и «Кружок равноправия и братства» // Освободительное движение в России. Вып. 15. Саратов, 1992. С. 141—156.
[30] Gurko V. I. Features and Figures of the Past. Government and opinion in the reign of Nicholas II. P. 209.
[31] Франк С. Л. Биография П. Б. Струве. Нью-Йорк: Изд-во им. А.П. Чехова, 1956. С. 107.
[32] Струве П.Б . Автор манифеста 17-го октября. Памяти кн. Алексея Дмитриевича Оболенского // «Россия и Славянство», 1933. № 225.
[33] См.: Письма Ф.А. Степуна И.А. Бунину. Переписка. Вступительная статья К. Хуфена. Публикация и примечания Р. Дэвиса и К. Хуфена // С двух берегов. Русская литература XX века в России и за рубежом. М.: ИМЛИ РАН, 2002. С. 139. Более подробную информацию о дрезденском кружке, собиравшемся в подвальном помещении православной церкви св. Симеона Дивногорца и к которому принадлежали помимо А.Д. Оболенского и Ф.А. Степуна также Г.Г. и М.М. Кульман, а также Н.Д. Скалон, см.: Степун и Оболенские // Степун Ф.А. Письма. М.: Росспэн, 2013. С. 485-610.
[34] Там же. С. 91, 112.
Владимир Соловьеврусская философияфилософияhttps://politconservatism.ru/articles/vl-s-solovev...ystorii-imperskogo-liberalizma
|
Метки: дворянство |
"Князь всея Суджи": Петр Дмитриевич Долгоруков (три малоизвестных источника к биографии) |
Дата просмотра: 7.1.2019 © 2002-2019 сайт "Курск дореволюционный" htt
|
"Князь всея Суджи": Петр Дмитриевич Долгоруков автор: М. О. Мельцин Список почетных граждан города Суджи открывает князь Петр Дмитриевич Долгоруков - видный земский деятель Суджанского уезда Курской губернии, один из основателей Партии народной свободы (конституционные демократы), товарищ председателя Первой Государственной думы. В последние два десятилетия о нем и его суджанском имении Гуйва-Рождественское написано довольно много(1). Данная статья посвящена трем источникам о его личной и общественной жизни, два из которых мало известны, а один впервые вводится в научный оборот. Дата и место рождения. . Известно, что князь Петр Дмитриевич вместе со своим братом-близнецом Павлом родился 9 мая 1866 г. в семье князя Дмитрия Николаевича Долгорукова и княгини Наталии Владимировны (урожденной Давыдовой(2)) в Царском Селе. Однако, несмотря на широкую известность этой информации, в некоторых справочниках до сих пор можно встретить другие сведения. На сайте Союза правых сил(3) и в электронной "Русской энциклопедии "Традиция"(4) датой рождения П. Д. Долгорукова значится 1 мая 1866 г. Ошибки встречаются и в исторических источниках. Так, в аттестате об экзаменах на чин прапорщика и выписке из алфавита полка от 18 октября 1890 г. написано, что он родился 29 мая 1866 г.(5) Местом рождения близнецов иногда предположительно называется Москва, как это сделано, например, в биографическом указателе сайта "Хронос"(6). Всё это свидетельствует о том, что авторитетные источники информации, в числе которых воспоминания самих братьев, князей Павла Дмитриевича(7) и Петра Дмитриевича(8), о дате и месте рождения 9 мая 1866 г. в Царском Селе, остались по каким-то причинам неизвестными составителям справочных статей. К бесспорно авторитетным источникам следует отнести также свидетельство их матери, которое до сих пор не было известно исследователям. В личном архиве заслуженного художника России В. В. Перцова хранятся записки княгини Н. В. Долгоруковой за 1862-1882 гг.(9) В тексте последовательно излагаются события с 1862 по 1872 г., после чего следуют две короткие записи 1873 г. и одна 1882 г. Обстоятельства рождения близнецов изложены матерью точно и подробно, что не оставляет сомнения в достоверности описываемых событий. Приведу пространную цитату из этих записок на л. 30-33 (орфография оригинала сохранена, за исключением букв, вышедших из употребления и замененных на современные, а также концевых ъ). "В октябре 1865го года мы возвращались в Италию после лета, проведеннаго в разъездах. Мы приехали чрез Швейцарию, Симплон(10) на озера Маджиоре(11) и Комо(12). Жили по нескольку дней на каждом из них и остановились на несколько дней в Милане. Тут то и прожила я опять золотое времячко, но не Милан, не его картины, здания и природа меня радовали. Не внешняя обстановка на меня действовала. Погода была серая, дождливая, занимала я комнатку темную в каком то 4м этаже большой гостинницы. Между тем все во мне пело, душа пела и безпрестанно не хотя запевал и голос. Я снова после восьми лет почувствовала себя беременной. Давно уже начинали мы желать детей Дмитрий и я. Никола(13) подрастал и я уже теряла надежду. Мне и теперь едва верилось, однако надежда подтверждалась и мы приехали зимовать в Рим, где и прожили до Апреля 1866го года. К концу зимы меня стало сильно тянуть на родину, к родным. Полтора года прожили мы среди чужих, и у меня сделалось болезненное желание родить(14) дома среди своих. Еще теперь нашла я в своем сердце старую скорбь о том, что Маменька не была при рождении Николы(15), и хотелось сильно, чтобы она присутствовала при этих родах. Мы ехали три недели из Рима до Петербурга с большими роздыхами в главных городах, все-таки дорога была очень утомительна. Не забуду никогда приезда в Петербург на Сергиевскую, в родительский дом, в мое гнездо, в мой теплый родной угол. Точно я в гавань взошла после долгих плаваний. Маменька приняла меня как блуднаго сына, и вместо тельца упитаннаго отдала мне свою комнату. Сама поселилась возле в красном кабинете. Невыразимое чувство покоя ощущала я ложась на ночь в таком близком соседстве родителей. Папенька в то время сильно кашлял и я слышала его кашель чрез затворенную дверь. Все братья и сестры были в сборе кроме Жениньки(16), которая приехала из Москвы с детьми(17) и оставила их Маменьки(18), уезжая сама с мужем в Пилюгино. Кабинет свой ситцевый голубой(19) Маменька отдала мне для будущаго ребенка. Там жила няня и приготовлено было белье, корыто, люлька и все прочия милыя принадлежности детской. Мне было совестно что я наделала столько безпокойства, но мне было так хорошо. Осчастливили меня родители этим приемом и он запал в глубину моей благодарной души. Мы прожили таким образом недели две, я успела говеть и имела счастье исповедываться у своего стариннаго Духовника пред Маменькиными образами. Я была чрезвычайно благодарна духовнику за его добрыя слова и много плакала. Приобщалась в день нашей свадьбы, 25го Апреля. Со свадьбы прошло десять лет! Много показывали мне дружбы и посторонния люди и вообще так приятно было чувство что за мною ухаживают и меня берегут. Просто не хочется и раставаться(20) с этими воспоминаниями и перо так и проситься(21) в подробности лишь бы продлить это пребывание в родительском доме под их кровом. Особенно сильно чувствую все значение слова кров, живя у родителей мне так и представляется что я под крышей, под защитой и что я от всего огорожена. Случись даже несчастие, его легче перенести при родителях и моя смерть меня менее страшит еслибы могла(22) быть при них. Однако не в Петербурге и не на Сергиевской было мне суждено оставаться. Разныя обстоятельства заставили нас переехать в Царское село на дачу, вместе с Маменькою и с Женинькиными детьми. Мне очень не хотелось переезжать, оставлять желанный и дорогой дом. Но мы выезжали все вместе. Папенька уже перед тем уехал за границу. Мы переехали в Царское село 5го Мая, не успели обжить дачу как совершенно неожиданно явились на свет Божий мои близнецы 9го Мая. Маменька накануне(23) только переехала из Петербурга с Васильчиковыми девочками. Мы ждали роды только около 15го. 9го поутру Дмитрий ездил провожать родителей своих, которые уезжали в Вырубово(24). В 5 часов после обеда кончили убирать комнату, мою будущую спальную, священник служил молебен в ней, для освящения новаго жилья, а в семь часов его уже призвали для молитвы над новорожденными Петром и Павлом. Крестили их в Духов день(25), и оба мои братья близнецы!(26) были крестными отцами, Анатолий сам за себя, а Владимир вместо Папеньки. Время шести недель было очень приятно. Мне так приятно было давать себя беречь и баловать, мне весело было иметь столько своих около меня, начиная с дорогой Маменьки до меньших Женинькиных девочек и их ласковой няни. После Римской второй и одинокой зимы я вполне наслаждалась родными. Но избаловалась же я, несмотря на две заботы, которыя как занозы меня все время безпокоили. Во-первых здоровье детей не было полное, и у каждаго из них развилась болезнь, которую потом одолели с трудом и уходом. Во вторых Никола был заброшен, с дурным Англичанином гувернером. Никто им не занимался, я не поспевала с кормлением, и я замечала как он дичал и баловался". Приведенный отрывок обладает высокой информативностью. В нем, кроме даты и места рождения близнецов, названа также дата их крещения и имена некоторых восприемников. Не менее важна и дата бракосочетания их родителей - 25 апреля 1856 г. На эту же дату указывает и другой источник - надпись на обороте образа Знамения Пресвятой Богородицы в серебряном окладе, которым родители князя Дмитрия Николаевича благословили этот брак(27). До установления этой даты было неясно, под какой фамилией и с каким титулом мать кн. П. Д. Долгорукова выходила замуж. Дело в том, что ее отец - тайный советник, камергер Владимир Петрович Давыдов, сын урожденной графини Орловой, 20 марта 1856 г. был пожалован фамилией и титулом графа Орлова-Давыдова(28), а за день до этого на его прошение о разрешении дочери-фрейлине вступить в брак с князем Долгоруковым был дан положительный ответ(29). Из этого следует, что ротмистр, тогда адъютант главнокомандующего 1-й армией князя М. Д. Гор-чакова и герой Крымской войны (золотая сабля с надписью "За храбрость"(30)) женился уже на графине Орловой-Давыдовой. Брак. В 1906 г. 40 летний князь Петр Дмитриевич женился на учительнице Анастасии Михайловне Беспаловой, такой же активной участнице земского движения, как и он сам. Эта информация имеется в генеалогических справочниках(31). Их сын, князь Михаил Петрович, в 1978 г. составил генеалогическую таблицу своей ветви рода, ксерокопию которой его вдова, княгиня Ирина Петровна, прислала автору этой статьи при письме от 25.02.1996. В ней указан год рождения А. М. Беспаловой - 1883 г. Эта же информация содержится в справках УВД и ФСБ(32), полученных в ответ на соответствующий запрос. Однако точная дата рождения до сих пор остается неизвестной. О ее смерти 27 ноября 1955 г. в штате Нью-Джерси (США) и погребении при Ново-Дивеевском монастыре сообщил журнал "Новикъ"(33). Этим исчерпывались сведения о А. М. Беспаловой. От внимания исследователей ускользнуло, что ее имя (хотя и с ошибкой) фигурирует в постановлении начальника Курского губернского жандармского управления А. А. Ковалевского от 18.12.1906 об аресте участников крестьянских выступлений в с. Фатеевке Дмитриевского уезда. Сообщая об аграрном движении крестьян этого села, совершивших за последние месяцы 14 поджогов в имении графини Соллогуб, требуя от нее сдачи им земли в аренду менее, чем за четверть рыночной цены, полковник Ковалевский пишет: "Выясняя причины такого поведения крестьянского населения, я убедился, что все это происходит вследствие усиленной агитации со стороны группы местных неблагонамеренных лиц, сорганизованной бывшей учительницей земской школы Ольгой Беспаловой (ныне замужем за кн. Петром Дмитриевым Долгоруковым, бывш. членом Государственной думы), которая в течение 7 лет занималась систематически пропагандой на аграрной почве как среди фатеевских, так и других окрестных крестьян"(34). Как видно из этих данных, будущая княгиня придерживалась довольно радикальных взглядов и вела активную общественную работу. Точная дата бракосочетания князя пока не установлена и трудно сказать, состоялось ли оно до или после самого яркого его политического взлета - участия в работе Первой Думы. Князь Петр Дмитриевич был избран в нее от Курской губернии(35), стал товарищем председателя Думы, причем председательствовал на трети ее заседаний, в том числе на всех заседаниях, посвященных аграрному вопросу(36). После роспуска Думы он принял участие в выборгском заседании депутатов и подписал "Выборгское воззвание"(37). Буквально за несколько дней до открытия Думы, в апреле 1905 г., В. А. Грингмут объявил о создании крайне правой Русской монархической партии, и 24 апреля в нее - третьим по счету! - вступил отец князя Петра, 78 летний Дмитрий Николаевич Долгоруков(38). По-видимому, не вполне довольный левой активностью сыновей, престарелый действительный статский советник в должности шталмейстера хотел создать некий противовес. Других сведений об активной деятельности князя Дмитрия Николаевича на политическом поприще нет, что вполне объяснимо его солидным возрастом. Впрочем, несмотря на расхождения в политических взглядах, сыновья регулярно навещали старика-отца. Князь Петр представил ему свою молодую жену, которая заслужила одобрение свекра, несмотря на недворянское происхождение и на расхождения по политическим вопросам (39). "Князь Всея Суджи". 19 ноября 1906 г. в № 34 газеты "Курская быль", издаваемой крайне правым черносотенцем Николаем Евгеньевичем Марковым (известным как Марков 2 й), были напечатаны карикатуры на председателя Первой Думы С. А. Муромцева и князя Петра Дмитриевича Долгорукова. Карикатура на Муромцева была подписана "Президент Выборгской республики" и изображала шута, держащего в руках жезл с бубенцами, который венчала голова еврея, играющего на дудке, под которую и плясал шут. Карикатура на князя Долгорукова была подписана "Князь Всея Суджи" (см. репродукцию). Трон-стульчак недвусмысленно показывал значение такого "княжения", равно как и княжеская корона, увенчанная вместо креста, символизирующего власть от Бога, кукишем. Многочисленные тростники, называемые часто в просторечии камышами (в том числе и вместо скипетра), и жаба на груди у князя намекали на "болотное" происхождение оппозиции. В данном случае автор карикатуры всего лишь обозначал территориальную принадлежность, поскольку Суджанский уезд - болотистый край, в гербе Суджи присутствует тростник.
Эта в целом незамысловатая карикатура до сих пор не привлекала внимания исследователей. По ней можно судить о том, в какой непростой обстановке приходилось работать князю Петру Дмитриевичу. К моменту публикации карикатуры он был исключен из состава Курского дворянства(40), а через два года, в 1908 г., за подписание Выборгского воззвания осужден Санкт-Петербургским окружным судом по статьям 51, 53 и 129 (ч. 1, п. 3), т. е. признан виновным в совершенном по сговору "произнесении или чтении публично речи или сочинения или в распространении или в публичном выставлении сочинения или изобретения, возбуждающих к неповиновению или противодействию закону, или обязательному постановлению или законному распоряжению власти", но со смягчающими вину обстоятельствами. Приговорен он был к 3 месяцам тюрьмы (приговор обращен к исполнению 5 мая 1908 г.) и лишен права в будущем избираться в Государственную думу(41). ПРИМЕЧАНИЯ: 1. См., например: Мельцин М. О. 1) "Крымская" ветвь князей Долгоруковых // Из глубины времен. Вып. 9. СПб., 1997. С. 139-160; 2) Апостолы "Народной свободы". Депутаты I и II Государственных дум князья Петр и Павел Долгоруковы: на пути к Думе // Таврические чтения 2008: Актуал. проблемы истории парламентаризма в России: Всерос. науч.-практ. конф. СПб., 2009. С. 281-291; Баринова (Кабытова) Е. П. Князь Петр Дмитриевич Долгоруков // Самарский земский сборник: Обществ.-полит. и науч. журн. 2000. № 1. С. 15-18; Холодова Е. В. Гуйва-Рождественское // Русские провинциальные усадьбы XVIII - начала XX века. Воронеж, 2001. С. 203-214; Шелохаев В. В., Канищева Н. И. Петр Дмитриевич Долгоруков // Вопросы истории. 2001. № 8. С. 68-79; Притченко Е. Г. Судьба личности в условиях социальной трансформации общества П. Д. Долгорукова // Роль социально-гуманитарных наук в процессе социальной трансформации: Сб. ст. и тез. докл. Липецк, 2007. С. 132-136; Соловьев К. А. Кружок "Беседа". В поисках новой политической реальности, 1899-1905. М., 2009. 287 с. - Кроме того, статьи о П. Д. Дол-горукове вошли в многочисленные справочные и энциклопедические издания, например: Политические партии России: Конец XIX - первая треть XX в.: Энциклопедия. М., 1996. С. 190-191; Курск: Краевед. слов.-справ. Курск, 1997. С. 120-121; Большая Курская энциклопедия. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 239-240; Московская энциклопедия. Т. 1: Лица Москвы. Кн. 1. М., 2007. С. 517; Большая Российская энциклопедия. Т. 9. М., 2007. С. 211. 2. В справочной литературе иногда указывают "графини Орловой-Давыдовой", что неточно, поскольку она не носила эту фамилию и титул с рождения. Стоит отметить, что родители князя состояли в дальнем родстве - были четвероюродными братом и сестрой (прадед княгини Наталии Владимировны по матери (урожденной княжне Ольге Ивановне Барятинской) князь Иван Сергеевич Барятинский, и прадед князя Дмитрия Николаевича, князь Федор Сергеевич Барятинский, были родными братьями). 3. Либералы в Первой Думе // Союз правых сил: [сайт]. [М.], 2007. URL: http://www.sps.ru/?id=213275 (27.06.2015). 4. Петр Дмитриевич Долгоруков [Электронный ресурс] // Традиция: Русская энциклопедия: [сайт]. URL: http://traditio-ru.org/wiki/Пётр_Дмитриевич_Долгоруков (27.06.2015). 5. РГВИА. Ф. 400 (Главный штаб). Оп. 9. Д. 27 856 (О производстве в прапорщики запаса унтер-офицеров: Фиркса, Тана, Долгорукова, Чемесова и Прохорова. 1890-1891 гг.). Л. 25, 26. 6. Павел Дмитриевич Долгоруков [Электронный ресурс] // Хронос: Всемирная история в Интернете: [сайт]. [М.], 2000-2015. URL: http://www.hrono.ru/biograf/bio_d/dolgorukov_pd.php (12.09.2015). 7. Долгоруков, князь Павел Дмитриевич: Автобиография // Русские ведомости. 1863-1913: Сб. ст. М., 1913. С. 63 2 й паг. 8. Долгоруков Петр Дм. Князь Павел Дмитриевич Долгоруков: (Биогр. очерк, написанный его братом Петром Дмитриевичем Долгоруковым) // Долгоруков Павел Дм. Великая разруха: Воспоминания основателя партии кадетов, 1916-1926. М., 2007. С. 241. 9. Тетрадь формата 18?22 см, представляющая собой четыре переплетенные вместе прошитые нитками тетрадки (изначально по 12 листов каждая, но попадаются вырезанные листы), бумага в крупную линейку, с водяным знаком T&F K / 1862 (или J&J K / 1862) на каждом листе тетради начиная со второго, на первом (картонном) листе - JOYNSON / 1862. С трех сторон каждого листа имеются следы золотого обреза и рисунка (очевидно, промышленного и воспроизводящего рисунок форзаца). Переплет промышленный, коленкоровый рифленый темно-вишневый с золотым ободом. На корешке семь поперечных золотых полосок (седьмая, нижняя, почти утрачена). Форзац цветной (разноцветные разводы). В конце тетради одна из тетрадок (бывшая пятой) вырезана, сохранились обрезки страниц с остатками букв, свидетельствующих об иной ориентации тетради при письме (писали с другой стороны тетради). Срезан и последний картонный лист. Тетрадка изначально была раза в полтора толще, чем имеющаяся в настоящий момент. Удаления листов не сказываются в виде потерь текста и, скорее всего, сделаны автором. Текст без полей. Почерк один, чернила разные. 10. Высокогорный перевал в швейцарских Альпах. 11. Точнее, Лаго-Маджоре - озеро в западной части Ломбардских Альп на границе Швейцарии и Италии. 12. Комо, или Ларио - озеро в Ломбардских Альпах, третье по величине озеро Италии, одно из самых глубоких в Европе. Расположено в 40 км к северу от Милана. 13. Старший брат близнецов, князь Николай Дмитриевич Долгоруков (04.02.1858-08.05.1899). 14. Далее зачеркнуто слово "детей". 15. Князь Николай Дмитриевич родился в Варшаве (см. копию метрического свидетельства церкви св. великомученика Георгия гл. квартиры 1-й армии (РГИА. Ф. 1343 (Третий департамент Сената). Оп. 46 (О титулованном дворянстве). Д. 348 (О возведении в княжеское достоинство рода Долгоруковых. 1875 г.). Л. 253), подтверждение главного священника армии и флота (Там же. Л. 254), воспоминания его матери. (Личный архив В. В. Перцова. Л. [21 об.]-[22])), где в то время служил его отец - ротмистр лейб-гвардии Кавалергардского полка (см. копии указа о его отставке (РГИА. Ф. 1343. Оп. 46. Д. 348. Л. 220-221 об.; РГАДА. Ф. 1373 (Долгоруковы, кн.). Оп. 2. Д. 29 (Указ об отставке князя Дмитрия Николаевича Долгорукова. 1873 г. Копия)). 16. Евгения Владимировна Васильчикова (урожд. Давыдова, затем гр. Орлова-Давыдова) (1841-1872), сестра автора записок. 17. Дети на тот момент - Александра (1861-1929), в будущем светл. кн. Ливен, и Мария (1865-1912), в будущем Стахович. 18. Так в документе. 19. Два слова вставлены над строкой. 20. Так в документе. 21. Так в документе. 22. Далее зачеркнуто слово "бы". 23. В этом месте сделана помета: "(отсюда писано в 1872 году)", и далее чернила меняются с черных на синие. 24. Село Петрово-Вырубово Рузского уезда Московской губернии. Позднее стало собственностью одного из новорожденных близнецов (Павла). 25. В 1866 г. Духов день приходился на 16 мая. 26. Восклицательный знак - в документе. 27. См. о нем: Покровская Софья [Сиповская Н. В.]. "Образом сим благословляю" // Пинакотека: Журн. для знатоков и любителей искусства. 2000. № 12. С. 105. 28. Список пожалований графского и княжеского Российской империи достоинств за время от Петра Великого по 1881 год. СПб., 1889. С. 18. 29. Прошение В. П. Давыдова от 17.03.1853 о разрешении на брак его дочери с пометой, что разрешение дано 19.03.1856 (РГИА. Ф. 472 (Канцелярия Министерства императорского двора). Оп. 4 (1851-1860 гг.). Д. 444 (О дозволении фрейлинам вступить в брак. 1856 г.). Л. 11). В извещении от 21.03.1856 о том, что разрешение дано, ни графский титул, ни фамилия "Орлов-Давыдов" не упомянуты (Там же. Л. 14). 30. Копии указа об отставке кн. Д. Н. Долгорукова (РГИА. Ф. 1343. Оп. 46. Д. 348. Л. 220-221 об.; РГАДА. Ф. 1373. Оп. 2. Д. 29). 31. Власьев Г. А. Потомство Рюрика: Материалы для составления родословий. Т. 1: Князья Черниговские. Ч. 3: Князья Долгоруковы, Щербатовы, Тростенские, Волконские. СПб., 1907. С. 172; [Аргутинский-]Долгорукой Ф. С. Долгорукие, Долгоруковы и Долгорукие-Аргутинские. Ч. 2. СПб., 1913. С. 107. 32. Ксерокопия справки Информационного центра УВД по Владимирской обл. №13/5-р-д-1619 от 21.10.2008 на основании архивного дела заключенного (Ф. 10. Д. 3110) за подписью начальника ИЦ УВД Л. В. Львовой (архив автора); в справке ЦА ФСБ РФ №10/А-4046 от 09.09.1997, подписанной начальником отделения И. Ю. Крючковым (архив автора) сказано (вероятно, со слов кн. Петра Дмитриевича), что в 1945 г. ей было 62 года. 33. Новикъ. 1956. Отд. 3. С. 2. - Год смерти назван также в письме кн. И. П. Дол-горуковой автору от 25.12.1995 (архив автора). 34. Второй период революции. 1906-1907 гг. Ч. 3: Окт. - дек. 1906 г. М., 1963. С. 234. (Революция 1905-1907 гг. в России: Док. и материалы). 35. Тут тоже не обошлось без приключений. Согласно воспоминаниям М. В. Са-башникова, "П. Д. Долгоруков, к нашему общему сожалению, не мог баллотироваться, так как по какому-то недоразумению не был включен в списки избирателей. Это в свое время было опротестовано, и перед началом выборов с минуты на минуту ожидали телеграммы о восстановлении П. Д. Долгорукова в списках. Однако телеграмма так и не пришла". Выборы были опротестованы по пустяковому поводу (перенос их из одного помещения в другое), а к новым выборам П. Д. Долгоруков был включен в списки и оказался избран (см.: Сабашников М. В. Записки Михаила Васильевича Сабашникова. М., [1995]. С. 308-309). 36. Государственная Дума: Стеногр. отчеты. Сессия первая. 1906 г. СПб., 1906. Т. 1: [Заседания 1-18 (с 27 апр. по 30 мая)]. С. 17-18, 290, 421, 473, 687, 809; Т. 2: [Заседания 19-38 (с 1 июня по 4 июля)]. С. 867, 921, 977, 1275, 1397, 1505, 1623, 1703; [Т. 3: Заседания 39-40 (6 и 7 июля)]. С. 2083. 37. Второй период революции. 1906-1907 гг. Ч. 2: Май - сент. 1906 г. Кн. 2. М., 1962. С. 33-34. (Революция 1905-1907 гг. в России: Док. и материалы). 38. Московские ведомости. 1905. 10 мая. - Факт участия кн. Д. Н. Долгорукова в партии уже более двадцати лет обсуждается в исследовательской литературе, но не подчеркивается, что речь идет об отце основателей кадетской партии (см., например: Степанов С. А. Черная сотня в России (1905-1914 гг.). М., 1992. С. 38). 39. "…дедушка (несмотря на высокий придворный чин) одобрил брак и сказал: где ты такую красавицу нашел?" (из письма кн. И. П. Долгоруковой автору от 06.11.1997 (архив автора)). 40. См., например: Разгром долгоруковской шайки (кор. из Суджи) / Глухарь // Курская быль. 1906. 18 нояб. № 33. С. 4. 41. Ведомость справок о судимости, издаваемая Министерством юстиции. Кн. 9. СПб., 1908. С. 137. - Содержание статей см.: ПСЗ. Собр. 3. Т. 23. СПб., 1905. № 22 704 (Уголовное уложение, высочайше утвержденное 22.03.1903). С. 183, 184, 196.
Статья в сборнике: СУДЖА И СУДЖАНЕ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ Ваш комментарий: |
 Читайте нас в 
Дата опубликования: 07.06.2016 г. Форум по статьям на сайте См. еще: Сборники: Рыльск, 2012 г. Обоянь, 2013 г Суджа, 2015 г. http://www.old-kursk.ru/book/razdorsky/sudja/page274.html |
|
Метки: долгоруковы |
Понравилось: 1 пользователю
Брест-Литовск в 1895 году после большого пожара |
Главная → Новости → История Бреста → Брест-Литовск в 1895 году после большого пожара
Брест-Литовск в 1895 году после большого пожара
Очень интересную публикацию нам удалось обнаружить в журнале для старшего возраста «Задушевное слово» № 23 за 1895 год. Под рубрикой «Что нам пишут» там размещена корреспонденция «Брест-Литовск» юного автора Георгия Келдыша. Приведем ее целиком.
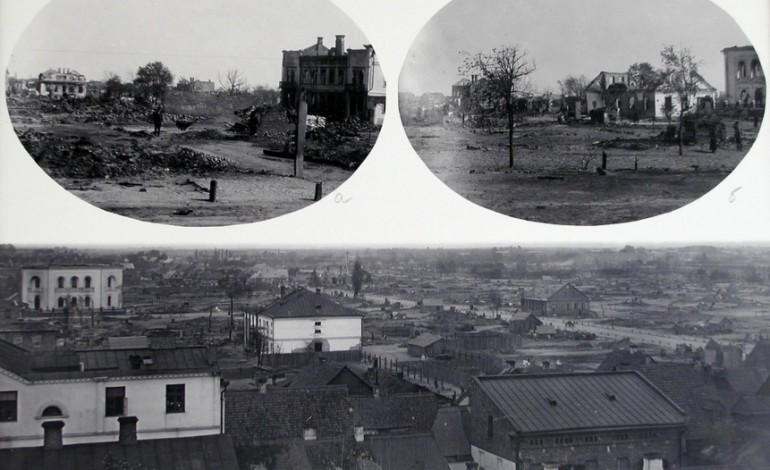
«Дорогие товарищи! Опишу вам свою поездку из г. Харькова в г.Брест-Литовск. Мы должны были выехать из г. Харькова еще в марте – отправили все вещи в г. Брест, переехали в гостиницу и взяли уже билеты. Но я накануне предполагаемого отъезда внезапно и тяжко заболел, и, таким образом, отъезд наш был приостановлен. Прожили мы в гостинице полтора месяца, и когда я стал уже поправляться, мы отправились в путь, который проделали совершенно благополучно. Ехали мы по Полесью почти все время лесом. Благодаря продолжительной остановке в г. Гомеле я с отцом побывал в городе, который очень нам понравился, особенно дворец и парк князя Паскевича. Пообедав в г. Гомеле на станции, мы отправились в дальнейший путь. Не доезжая до г. Бреста, мы вдруг получаем известие, что весь г. Брест горит, и особенно огорчило нас, когда на телеграмму отца в г. Брест нам ответили, что та часть города, где нанята для нас квартира, уже сгорела, вещи наши, которые мы отправили до нашего отъезда, мы считали погибшими. Когда мы приехали в г. Брест, то оказалось действительно правдою, что Брест сгорел, но вещи наши, слава Богу, остались целы и невредимы. Всё сгорело, и просто страшно глядеть на эти груды развалин! Уцелела одна треть города. Если бы мы приехали раньше, мы бы уже устроились и имущество наше наверно сгорело бы.
Скажу несколько слов о Бресте. Город порядочный, почти весь мощеный, в городе есть библиотека, несколько фотографий и гостиниц, а также гостиный двор. В городе находится густой и очень большой городской сад, в саду есть летний клуб и театр; там же часто играет оркестр военной музыки. Это единственная часть города, которая уцелела от пожара. Недалеко от города находится большая первоклассная крепость».
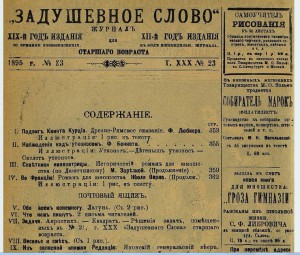
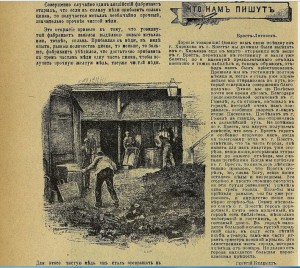
Судя по всему, юный автор Георгий Келдыш – сын Михаила Фомича Келдыша, врача 19-го армейского корпуса, дислоцированного в Брест-Литовске. Именно в год написания корреспонденции он был переведен из Одессы в город над Бугом. И путь его семьи пролегал, видимо, через Харьков. Внук М.Ф.Келдыша, Мстислав Келдыш уже в ХХ веке прославился как отец советской космонавтики.

М.Ф. Келдыш
Корреспонденция любопытна и своими деталями в описании Брест-Литовска. Но стоит добавить более обширную информацию по тому 1895 году, в котором произошла «Брестская катастрофа» — так назвали тогда пожар 4-5 мая (по старому стилю). Как гласят исторические справки, огненный «везувий» дотла уничтожил 49 кварталов из 64. Город потерял 1.635 домов, два православных храма, синагогу, славившуюся далеко за пределами города, 2 больницы, 4 завода, 24 фабрики, 38 пекарен, 117 магазинов, 14 мастерских, вокзал, склады леса… Страховым обществам пришлось выплатить погорельцам около миллиона рублей. Общий же убыток превысил 5 миллионов. Погибли десятки людей. Без крова остались около 30 тысяч человек.
«Гродненские губернские ведомости» так описывают последствия «Брестской катастрофы»: «Пред вами открывается площадь, версты 3 в длину и в ширину, сплошь усеянная грудами мусора из растрескавшихся печей. Ни одного обгорелого бревна – все сгорело, испепелилось, что может гореть: даже труб печных не видно, кроме домов центральной части города, где были каменные постройки, — и печи, и трубы истрескались и обвалились».
А вот фрагмент репортажа, размещенного в санкт-петербургском журнале «Пожарный»: «По воздуху носились громадные головешки, тучи искр, ниспадавших огненным дождем. Все пожирала рассвирепствовавшаяся стихия, ничего не щадя. И без того сильный ветер превратился в ужасающий ураган, который рвал и метал, подымал тучи песку, залепляя глаза, наполняя нос и уши. В этой огненной пещи нечем было дышать. Казалось, что сама атмосфера горит, горит и самый песок. Какие-то необычные вихри зарождались в этой горящей атмосфере, бешено вылетали из нее и уносили по разным направлениям горящие головни, от которых зажигались дома в таких местах города, которые вовсе не лежали по пути шествия победоносной стихии».
В том же году врач и публицист Ксаверий Штейнберг издал в местной типо-литографии А.Розенталя брошюру «Пожар 4-го мая 1895 года в Брест-Литовске».
Как указано в справочнике «Вся Россия» за 1895 год, в Брест-Литовске тогда проживало 44.140 жителей, в том числе 29 тыс. евреев (некоторые источники указывают число жителей на тот год – 55.000). Жилых домов было 81 каменный (кирпичный), 2.312 деревянных. Если приплюсовать сюда общественные здания (военные, торговые, культовые, железнодорожные и прочие строения), то в целом каменных было 252, деревянных 2.427. Пища для пожара обильная…
А город, будучи в ту пору уездным, развивался активно – благодаря проходившим через него 5 жд линиям, насыщенности армейскими частями и бурно развивающемуся предпринимательству. Здесь действовали отделение московского международного торгового банка, сберегательные кассы, банкирские конторы, меняльные лавки. Работою обеспечивали горожан фабрики папиросно-гильзовые, табачные, кожевенные, мыловаренные, нефтяные, чугунолитейный завод Шмидта. Выпускали печатную продукцию 4 типо-литографии – Кобринца, Розенталя, Родеса, Толочко. Привлекали людей 4 фотоателье – Линдера, Стамлера, Шальвинского, Щупака. К услугам постояльцев были гостиницы «Англия», «Берлин», «Виктория», «Европа», «Италия», «Бель-Вю», «Центральная». И великое множество лавок зазывало покупателей…
Предводителем дворянства Брестского уезда был в ту пору Алексей Петрович Штер, статский советник. А городским головой как раз в канун пожара был избран 18 апреля 1895 года Еремей Анкундинович Исаев, купец 2-й гильдии. Далее он был в этой должности около 10 лет. За время его службы во главе общественного городского самоуправления в городе была открыта санитарно-микроскопическая станция (прообраз современной санэпидемслужбы), расширена городская скотобойня, устроен сквер на Думской площади, выработано и заключено условие на устройство городского водопровода. Отметим также, что в том 1895 году на станциях Брест-1 и Брест-2 были построены вагонные депо.
Комендантом Брест-Литовской крепости был Эраст Степанович Цытович, генерал от инфантерии, герой русско-турецкой войны. В 1895 г. крепость вслед за Варшавой, Осовцом, Новогеоргиевском и Ивангородом получила воздухоплавательное отделение, на вооружении которого были свободные и привязные аэростаты, а также новейшие средства связи – телеграф и телефон.
Напомню, что Михаил Фомич Келдыш был переведен в Брест-Литовск на должность врача 15-го армейского корпуса. А под его началом служили весьма талантливые медики. Например, Конрад Альбертович Шульц, в ту пору старший ординатор Брест-Литовского военного госпиталя, позднее открыл частную хирургическую практику и произвел в Брест-Литовске в 1902 году первую в России операцию по липосакции (удалению излишков жира). А Василий Федорович Демич, ординатор Брест-Литовского военного госпиталя (с 1891 по 1895), далее прославился как автор книг «Легенды и поверья русской народной медицины», «Очерки русской народной медицины», «Хирургия русского народа».
В 1895 году юные поколения брестчан обучались в реальном училище, прогимназии и еврейском училище. Из педагогов, здесь работавших, особо отмечу Константина Александровича Тюлелиева, учителя русского, латинского и греческого языков в Брестской прогимназии c 15 июля 1894 по 1897. В дальнейшем, уже работая в Санкт-Петербурге, он стал известен как литератор, переводчик, исследователь древностей, предшественник Н.Куна. Под его началом в 3-й гимназии в СПб постигал классические языки Владимир Набоков.
Детская память впечатлительна. Пожар 1895 года наверняка пронесли в ярких воспоминаниях через всю жизнь самые юные на ту пору обитатели Бреста возрастом от 5 до 15 лет: Леопольд Дмовский – при «польских часах» президент Бреста-над-Бугом (с 1922 по 1927); Виктор Сорока-Росинский – в советские годы педагог, создатель Республики ШКИД); Уильям (Вольф) Позняк – американский журналист, литератор, драматург; Марк Косвен – ученый-этнограф, историк первобытного общества и кавказовед; Сергей Мацилецкий – советский командарм в Гражданскую войну; Александр Цвикевич – белорусский ученый, общественный и государственный деятель; Вольф Высоцкий – дед В.С.Высоцкого; Григорий Леплевский – советский государственный деятель, зам. прокурора СССР; Ольга Янчевецкая –исполнительница песен и романсов, жившая в Югославии; Яков Балглей – французский художник Парижской школы и гравёр…
А кто родился в Брест-Литовске в год пожара? Приведу некоторые имена:
Анатолий Дюбюк, учёный-геофизик, внук композитора А.И.Дюбюка. В 1951-1973 заведовал кафедрой физики атмосферы в МГУ. Участвовал в метеорологическом обслуживании экспедиции И.Д.Папанина.
Лидия Никанорова (Артемова), художница. С 1920 – в эмиграции. В парижском предместье Кламар вместе с мужем художником Жоржем Артемовым познакомилась и в течение ряда лет общалась с Мариной Цветаевой. Стала прототипом главной героини романа В.Каверина «Перед зеркалом».
Лев Онищик, советский учёный в области теории сооружений и строительных конструкций, профессор (1935), доктор технических наук (1938).
Виктор Трамбицкий, композитор, педагог, организатор и редактор музыкального радиовещания в начале 30-х годов, Заслуженный деятель искусств РСФСР (1946).Среди его произведений – незаконченная сюита «Спите, братья», посвященная защитникам Брестской крепости.
Нелли (Нехама) Фриман уехала в США в 1913. Мать американской поэтессы Ширли Кауфман.
Николай Талаков, зам. секретаря парткома в Наркомате внутренней торговли СССР, жертва сталинских репрессий. Репрессирован и расстрелян в 1937.
Николай Юшкевич, пом. главного бухгалтера фабрики № 1 искусственной кожи в Ленинграде, сын Семена Николаевича Юшкевича, делопроизводителя дворянской опеки в Брест-Литовске. Репрессирован и расстрелян в 1938.
Подготовил Николай АЛЕКСАНДРОВ
https://www.realbrest.by/novosti/istorija-bresta/b...du-posle-bolshogo-pozhara.html
|
Метки: штер |
Долгоруков, Павел Дмитриевич |
Долгоруков, Павел Дмитриевич
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Долгоруков; Долгоруков, Павел.
| Павел Дмитриевич Долгоруков | |
|---|---|
 |
|
| Дата рождения | 9 (21) мая 1866 |
| Место рождения | Царское Село |
| Дата смерти | 10 июня 1927 (61 год) |
| Место смерти | Москва или Харьков |
| Род деятельности | писатель, политик |
| Отец | Дмитрий Николаевич Долгоруков |
| Мать | Наталия Владимировна Орлова-Давыдова |
 Павел Дмитриевич Долгоруков на Викискладе Павел Дмитриевич Долгоруков на Викискладе |
|
Князь Па́вел Дми́триевич Долгору́ков (1866—1927) — русский политический деятель, один из лидеров Конституционно-демократической партии (Партии народной свободы), член II Государственной думы.
Содержание
- 1 Происхождение
- 2 Карьера в Российской империи
- 3 Деятельность во время революции и гражданской войны
- 4 Эмигрант
- 5 Труды
- 6 Примечания
- 7 Литература
- 8 Ссылки
Происхождение
Выходец из рода Долгоруковых (Крымских). Крупный землевладелец. Последний частный владелец усадьбы Волынщина (в Рузском уезде) и дворца в центре Москвы. Ни разу не состоял в браке. Детей не имел.
- Отец — князь Дмитрий Николаевич Долгоруков (1827—1910).
- Мать — графиня Наталья Владимировна Орлова-Давыдова (1833—1885), дочь графа Владимира Петровича Орлова-Давыдова.
- Брат-близнец — Пётр (1866—1951).
Окончил частное реальное училище Фидлера[1] и естественное отделение физико-математического факультета Московского университета (1890).
Карьера в Российской империи
В 1893—1903 — рузский (Московской губернии) уездный предводитель дворянства. Создавал просветительные учреждения в своём уезде и Москве, в 1902 был организатором учительского съезда в Москве.
С 1899 года вместе с братом Петром участвовал в кружке либеральных земцев «Беседа». Один из основателей либерального «Союза Освобождения», председатель его съезда (1904). Во время русско-японской войны был уполномоченным дворянского отряда. Принимал участие в земских и земско-городских съездах 1904—1905. В 1905 за оппозиционную деятельность был лишён придворного звания. Один из основателей кадетской партии, председатель её Центрального комитета (1905—1907), затем товарищ председателя ЦК. Руководитель Толстовского общества, Общества мира. П. Н. Милюков называл Долгорукова «кристально чистым человеком» и вспоминал, что «более безобидного и незлобивого человека трудно встретить».
В 1906 году баллотировался в I Государственную думу от Московской губернии, не был избран из-за противодействия блока октябристов и правых. Также баллотировался и прошёл по московскому списку к.д.партии, но уступил своё место учёному-экономисту М. Я. Герценштейну. В 1907 был избран членом II Государственной думы, в которой стал председателем кадетской фракции. В дальнейшем был лишён права заниматься политической деятельностью из-за привлечения к суду за раздачу во время голода и войны продовольственного капитала крестьянам своего уезда.
Председатель московского Общества грамотности Павел Долгоруков открывает вместе с Львом Толстым народную библиотеку в Ясной Поляне, 31 января 1910.
Будучи с юношеских лет убеждённым пацифистом (он участвовал и даже председательствовал на мировом пацифистском конгрессе в Стокгольме в начале XX века), Павел Дмитриевич пропагандировал идеи пацифизма в России, для чего ещё с конца XIX века пытался организовать пацифистское общество в России, встречая, однако, сопротивление властей. В 1909 году князю удалось основать в Москве небольшое «Общество мира» (национальное отделение международного общества с тем же названием), однако с началом Великой войны общество было закрыто, а он, как председатель его, в воззвании по поводу закрытия, призвал всех к исполнению своих гражданских повинностей, поскольку война уже объявлена[1]:257-259.
Политические оппоненты из числа консерваторов обвиняли Долгорукова в претензиях на трон (утверждалось, что кадеты хотят сменить династию Романовых на более знатный род Долгоруковых); ходили слухи, что Павел Долгоруков может стать президентом республики в случае свержения монархии. Его также обвиняли в содействии в 1905 революционной пропаганде в Рузском уезде.
В вину Павлу Дмитриевичу ставили его противодействие получению русским правительством займа от французских банков во время его поездки в Париж весной 1906 года. Хотя Долгоруков, как и другие кадеты, считал, что займы должны получаться только с согласия народного представительства, он, будучи государственником, был сторонником получения займа и категорически отрицал слухи о том, что он совместно с В. А. Маклаковым действовал для срыва его реализации. Только лишь в конце 1930-х — начале 1940-х годов Петру Долгорукову удалось собрать подтверждения от участников той истории — В. А. Маклакова, П. Н. Милюкова и Коковцева — что слухи об участии Павла Дмитриевича в противодействии получению займа были всего лишь непреднамеренной ошибкой, произошедшей в силу того, что французы, чьи заявления породили эти обвинения, просто особо не разбирались в «этих русских»[1]:272-278.
Деятельность во время революции и гражданской войны
В 1917 году исполнял обязанности председателя кадетского ЦК в Москве. В мае 1917 поддержал уход П. Н. Милюкова из Временного правительства, в июле настаивал на том, чтобы министры-кадеты покинули правительство и выступал за установление диктатуры. Во время прихода к власти большевиков находился в Москве, все дни проводил в штабе Московского военного округа, участвуя в организации борьбы против установления советской власти. Был избран членом Учредительного собрания. В ноябре 1917 — феврале 1918 находился под арестом в Петропавловской крепости.
После освобождения находился на нелегальном положении, был одним из основателей и товарищем (заместителем) председателя Всероссийского Национального центра — антибольшевистской организации российских либералов. Осенью 1918 г. переехал на юг России, работал «пером и словом» в Осведомительном агентстве (ОСВАГ), созданном с целью координации политико-идеологической деятельности правительства генерала А. И. Деникина, — писал статьи в газетах и организовывал многочисленные публичные собрания и выступал на них, агитируя за безоговорочную и надпартийную поддержку армии, ведущую бескомпромиссную битву с большевизмом. Одним из последних покинул белый Новороссийск, будучи создателем и организатором «общества формирования белых отрядов», призванных пополнять ряды Добровольческой армии[1]:290. Находился в Крыму всё время, вплоть до эвакуации, продолжая агитацию всемерной и всепартийной поддержки сражающейся армии, для чего организовал «Объединение общественных и государственных деятелей» (ООиГД) и был его председателем[1]:146.
Эмигрант
С 1920 года находился в эмиграции. Был первым общественным деятелем, посетившим в декабре 1920 года Галлиполийский лагерь и выразившим Русской армии всемерную поддержку, так необходимую в тот критический момент колеблющимся. В эмиграции жил в Константинополе, Белграде, Париже, Варшаве. Продолжал участвовать в деятельности кадетской партии. Был беден, но легко переносил нищету, тосковал по России.
Осознавая, что налаженные и постоянные связи политической эмиграции со своими сторонниками в СССР отсутствуют и желая создать такие связи, а также желая показать молодому поколению эмигрантов пример «труда, подвига и жертвенности» и, наконец, своим появлением «там», желая «разбудить» находящихся под большевистским террором людей для работы по спасению Родины[1]:331-332, в 1924 году перешёл советско-польскую границу; был задержан, но не опознан и выслан в Польшу.
Во второй раз перешёл через границу СССР и Румынии 7 июня 1926 года. Причём, на уговоры всех посвящённых в его планы лиц отказаться от этой трудной и опасной во всех отношениях затеи, он, уже старик, тучный и страдающий одышкой, отвечал:
тот, кто посылает людей на смерть, должен и сам показать пример, когда его туда зовут идти, тем более, что я одинок, стар, надо показать пример молодым[1]:309
— Биографический очерк, написанный его братом П. Д. Долгоруковым
Павел Дмитриевич конспиративно пробыл в СССР около 40 дней (основное время в Харькове), много раз (согласно записке, которую сумел передать за границу перед самым своим арестом) был, вопреки предпринятым мерам к изменению внешности, узнан бывшими знакомыми. Был поражён (в той же записке) «запуганностью» советских граждан — те же лица, которые в 1918 году самоотверженно помогали Павлу Дмитриевичу, в 1926 году проявляли крайнее малодушие — захлопывали перед ним двери, просили больше не приходить и т.п. Был арестован 13 июля 1926 года на пути из Харькова в Москву на какой-то железнодорожной станции, возвращён в Харьковскую тюрьму ОГПУУ (ОГПУ Украины), где просидел 11 месяцев в ожидании суда и приговора, причём считалось, что наказание не может быть строгим за незначительность совершённого преступления (переход советской границы) и учитывая возраст Павла Дмитриевича. Однако он был расстрелян по «постановлению ОГПУ» в числе 20 бывших представителей знати Российской империи, находившихся в руках большевиков, «в ответ» на убийство советского полпреда в Польше П. Л. Войкова. В постановлении давалась такая «мотивировка» расстрельного приговора Павла Дмитриевича:
Долгоруков, Павел, бывший князь и крупный помещик, член ЦК кадетской партии, который после разгрома белых эвакуировался с остатками врангелевской армии в Константинополь, где состоял членом врангелевской финансовой контрольной комиссии, затем переехал в Париж, где являлся заместителем председателя белогвардейского Национального комитета в Париже, принимая руководящее участие в зарубежных монархических организациях и их деятельности на территории СССР; в 1926 году нелегально пробрался через Румынию на территорию СССР с целью организации контрреволюционных, монархических и шпионских групп для подготовки иностранной интервенции
— Председатель ОГПУ Менжинский. 9 июня 1927 года. Приговор приведён в исполнение[1]:341.
По свидетельствам неназванных источников и по слухам, достигших эмигрантских кругов, Павел Дмитриевич перед смертью «держался мужественно и ободрял других» приговорённых к расстрелу, «кн. Долгоруков перед расстрелом потребовал чтобы ему дали умыться, и красноармейцы хотя и исполнили его просьбу, но смеялись над ним, не зная, очевидно, что таков старинный русский обычай: по возможности прийти в могилу чистым»[1]:343.
Бессудное убийство невинных лиц, явившееся, по своей сути, продолжением большевистской политики «красного террора» вызвало многочисленные протесты по всему миру[1]:350-352. Место расстрела и место захоронения неизвестны.
Труды
- Долгоруков П. Д. Великая разруха. Воспоминания основателя партии кадетов 1916—1926 / Л. И. Глебовская. — М.: Центрполиграф, 2007. — 367 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-9524-2794-5.
Примечания
- Долгоруков П. Д. Великая разруха. Воспоминания основателя партии кадетов 1916—1926 / Глебовская Л. И.. — М.: Центрполиграф, 2007. — 367 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-9524-2794-5.
Литература
- Государственная дума Российской империи, 1906—1917 : Энциклопедия. — М.: РОССПЭН, 2008. — С. 169—170. — ISBN 978-5-8243-1031-3
- Долгоруков Павел Дмитриевич // Москва: Энциклопедия / Глав. ред. С. О. Шмидт; Сост.: М. И. Андреев, В. М. Карев. — М. : Большая российская энциклопедия, 1997. — 976 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-277-3.
- П. Д. Долгоруков // Политическая история России в партиях и лицах / сост. В. В. Шелохаев. — М.: Терра, 1994. — С. 229—247. — 304 с. — 1500 экз. — ISBN 5-85255-622-X.
Ссылки
- Биография П. Д. Долгорукова // Сайт «Хроно.Ру»
- Павел Дмитриевич Долгоруков (1866—1927). Фонд «Русское либеральное наследие» (25 мая 2005). — Информация о П. Д. Долгоруком и мероприятии, проведённом фондом «Русское либеральное наследие» в его память 25 мая 2005 г. Проверено 24 июня 2011. Архивировано 19 февраля 2012 года.
Депутаты Государственной думы Российской империи от Московской губернии |
|---|
Акты красного террора: Расстрел в ответ на убийство П. Л. Войкова |
|---|
|
Метки: долгоруковы |
Долгоруков, Павел Иванович |
Долгоруков, Павел Иванович
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 25 июня 2016; проверки требуют 3 правки.

Перейти к навигации Перейти к поиску
| Павел Иванович князь Долгоруков | |
|---|---|
| Имя при рождении | Павел Иванович Долгоруков |
| Дата рождения | 21 ноября 1787 |
| Место рождения | Российская империя |
| Дата смерти | 8 февраля 1845 (57 лет) |
| Место смерти | Москва |
| Похоронен | |
| Страна |  Российская империя Российская империя |
| Профессии | |
| Инструменты | фортепиано |
В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Долгоруков; Долгоруков, Павел.
Князь Павел Иванович Долгоруков (21 ноября 1787 — 8 февраля 1845, Москва) — русский чиновник, член Попечительного комитета о иностранных колонистах Южной России, действительный статский советник с 1842 г. Известен как композитор-любитель и пианист, мемуарист, издатель автобиографии отца — И. М. Долгорукова.
Содержание
Биография
Старший сын известного поэта, писателя и мемуариста князя Ивана Михайловича Долгорукова и княгини Евгении Сергеевны Долгоруковой, урождённой Смирновой (1770—1804). Брат российского дипломата, сенатора Д. И. Долгорукова и литератора, участника Отечественной войны 1812 г. А. И. Долгорукова.
Воспитывался в Московском университетском благородном пансионе. В 1806 г. поступил на учëбу в Гёттингенский университет. В 1808 г. вернулся в Россию и поступил на службу в Военное министерство, затем перешëл в Министерство финансов.
1 августа 1821 г. коллежский советник, князь П. И. Долгоруков, был направлен по месту новой службы — в Кишинëв, где вскоре познакомился с А. С. Пушкиным.
В 1821—1822 г. неоднократно встречался у полномочного наместника Бессарабской области И. Н. Инзова с поэтом, во время его ссылки на юг России.
По свидетельству современников, П. И. Долгоруков был глуховат, малообщителен, круг его знакомств ограничивался чиновниками канцелярии И. Н. Инзова и домом наместника.
Жена — княжна Елизавета Петровна Голицына (1800—1863), дочь князя Петра Васильевича Голицына (1763 — ?) и Екатерины Петровны Карамышевой.
Литературная деятельность
Автор дневника, в котором подробно описывает нравы и быт захолустного чиновничества. На этом убогом фоне особенно резко выделяется фигура Пушкина. Дневниковые записи П. И. Долгорукова сохранили ценнейший пересказ тех пылких революционных речей, которые ссыльный поэт произносил за столом И. Н. Инзова и в других общественных местах:
«… он всегда готов у наместника, на улице, на площади всякому на свете доказать, что тот подлец, кто не желает перемены правительства в России»
.
Сам мемуарист отнюдь не принадлежал к тем горячим головам, которые готовы словом и делом радеть за судьбы всего человечества. Скептическое название его дневника «35-й год моей жизни, или Два дни вёдра на 363 ненастья» красноречиво говорит само за себя; он не рвался в либералы, а был вполне добропорядочным чиновником. И тем не менее несколько ироническое отношение к жизни, стремление писать не только аккуратные служебные бумаги, но и вести потаëнный дневник, о котором, и не подозревали его сослуживцы (дневник П. И. Долгорукова пролежал под спудом свыше столетия и был напечатан лишь в 1951 г.), всё это несколько отделяло его от остальных чиновников.
Писательская жилка, полученная им в наследство от отца, мешала его размеренному существованию и побуждала его, вопреки его собственным рассуждениям о «безнравственности» поэта, жадно прислушиваться к речам Пушкина. Мемуарист обладал даром живо схватывать драматизм житейских положений.
Сочинения
- 35-й год моей жизни, или Два дни вёдра на 363 ненастья
- Дневник с записями разговоров Пушкина (ценнейший документ для характеристики общественно-политических взглядов поэта).
- Дневниковые записи.
- Жизнь в Кишиневе.
- Служба в Комитете.
- Провинциальный чиновничий быт.
- Наместник Бессарабии генерал И. Н. Инзов.
- Описание церквей Кишинева.
- Обычаи и обряды населения.
- Армейские нравы. Система наказаний.
- Сведения о пребывании А. С. Пушкина в Кишиневе.
- Описание поездки в Петербург (дорожные впечатления).
Похоронен в Донском монастыре в Москве.
Литература
- Дворянские роды Российской империи. Том 1. Князья, Князья Долгоруковы, стр.188-206
- Цявловский М. А.,Цявловский Т. Г. Дневник Долгорукова. — «Звенья», т. IX, М., 1951, с. 5—20.
Ссылки
|
Метки: долгоруковы |
Проклятие рода Юсуповых |
Проклятие рода Юсуповых
Считают, что княжеский род Юсуповых окружало множество легенд, в том числе весьма зловещих. Отчасти это связано с тем, что последним, кто носил эту фамилию в императорской России, был убийца знаменитого Григория Распутина.
Фантазёр и убийца Феликс не-Юсупов
Феликс Феликсович Юсупов уже не был потомком князей Юсуповых по мужской линии. Его отец, граф Феликс Феликсович Сумароков-Эльстон, женился на последней представительнице рода Юсуповых – княжне Зинаиде Николаевне. С Высочайшего соизволения ему было дозволено взять титул и фамилию своей жены.
Что к тому времени уже не осталось мужчин среди прямых потомков Юсуповых, тоже можно, при желании, считать проклятием. Но, как-никак, мужская линия Юсуповых существовала в России долго, более 300 лет. В то же время мужская линия Романовых пресеклась чуть более, чем через 100 лет после воцарения. Видимо, проклятие в адрес Романовых оказалось более действенным.
Сам Феликс Феликсович, актёр и фантазёр, великосветский скандалист, был известен своим эпатажным поведением и, по слухам, являлся гомосексуалистом. При этом он был женат на племяннице самого Императора Николая II. Впоследствии хвастался, что лично подложил Распутину яд, а когда увидел, что яд не действует, застрелил «старца». Феликса Сумарокова-Эльстона-Юсупова никакое «проклятие» не коснулось: он безбедно прожил в эмиграции до 80 лет.
По его словам, в фамильном дворце Юсуповых в Москве он якобы обнаружил подвал, в котором были прикованные к стенам скелеты. По его версии, это были следы забав его предка Иль-мурзы, состоявшего в Опричнине Ивана Грозного. Но дворец Юсуповых был построен уже в XVII веке.
Проклятие на пользу
Само проклятие состояло в том, что одному из Юсуповых было предречено, что все мужчины в роду, кроме единственного наследника, будут умирать не старше 26 лет.
Это проклятие обрушилось на Юсуповых вот за что. При Царе Фёдоре I Ивановиче Иль-мурзе, сыну Юсуф-мурзы, был пожалован городок Романов-Борисоглебский на Волге с окрестными деревнями. Иль-мурзе (и его потомству) было дозволено оставаться в магометанской вере, потому что Юсуф-мурзе некая ногайская старуха предрекла такое проклятие, если он или кто-то из его потомков изменит исламу и примет крещение.
Но спустя почти сто лет, в царствование Фёдора II Алексеевича, внук Иль-мурзы Абдул-мурза принимал у себя в имении Патриарха Иоакима. Был постный день, и на стол была подана рыба. Патриарх похвалил кушание, а Абдул-мурза возьми да и брякни: мой повар такой искусный, что смог приготовить гуся так, что его не отличить от рыбы. Разгневался Патриарх, нажаловался Государю.
Абдул-мурза испугался и стал думать, как ему отвратить гнев Государя. Ничего другого не надумал, кроме как стать православным. Забыл он про предостережение. За это Царь не стал отбирать у Дмитрия, как теперь звался Абдул-мурза, его владений. Но с тех пор у Юсуповых почти двести лет всегда оставался только один взрослый сын, который и наследовал все их владения.
Но можно ли назвать это тяжким проклятием? Ведь благодаря ему, владения Юсуповых не дробились, оставались в целости, и богатство рода приумножалось из поколения в поколение.
Фотоматериал использован из свободного доступа Яндекс.
https://zen.yandex.ru/media/history_russian/prokli...1ac133986100a95eb35f?from=feed
|
Метки: юсуповы |
Наталья и Наталья |
Два Петербурга. Мистический путеводительПопов Александр
Наталья и Наталья
Наталья и Наталья
Конспиративная квартира Климовой находилась по известному нам адресу на Морской улице (Большая Морская, дом 49, кв. 4). Именно там она и была арестована. Полевым судом она была также приговорена к смертной казни и, находясь в петербургском ДПЗ, на «Шпалерке», написала «Письмо перед казнью», которое было опубликовано в 1908 году в журнале «Образование».
Наталья Климова писала: «Ни в какие „будущие жизни” абсолютно не верю и думаю, что в тот момент, когда я задохнусь от недостатка кислорода, сердце перестанет функционировать, навеки исчезнет существование моего „я” как определенной индивидуальности с ее прошлым и настоящим. А если материи моего тела заблагорассудится превратиться в зеленую травку весны 1907 г., а энергии – в электричество, освещающее кабинет, то какое мне до этого дело? И эта глубочайшая уверенность в полном исчезновении моего „я” почему-то теперь меня абсолютно не пугает. Не потому ли, что я не могу конкретно себе этого представить?»
Наталья писала, что не переносила «…самоуправства, дикости и безграничного, всепроникающего произвола российского и еще во многих других видах родимой действительности. Но этот последний всепроникающий разлад все-таки не был главной причиной исчезновения жизнерадостности. С того момента, как я уладила свой внутренний разлад, и начало появляться во мне то, что я называю жизнерадостностью».
Выемки в тексте сделаны царской цензурой, но легко догадаться, что вернуло Климовой охоту к жизни, – чужие смерти.
Но ей самой не суждено было умереть в этот раз. Отец Натальи, рязанский помещик, присяжный поверенный, председатель рязанского отдела «Союза 17 октября», член Госсовета от рязанского земства, Сергей Климов написал прошение властям. Тон этого прошения потрясает: это не официальное обращение, а, скорее, спокойный домашний разговор:
«…Вам должна представляться верной моя мысль, что в данном случае вы имеете дело с легкомысленной девушкой, увлеченной современной революционной эпохой. В своей жизни она была хорошая, мягкая, добрая девушка, но всегда увлекающаяся. Не далее как года полтора назад она увлеклась учением Толстого, проповедующего „не убий” как самую важную заповедь. Года два она вела жизнь вегетарианки и вела себя как простая работница, не позволяя прислуге помогать себе ни в стирке белья, ни в уборке комнаты, ни в мытье полов, и теперь вдруг сделалась участницей в страшном убийстве, мотив которого заключается будто бы в несоответственной современным условиям политике господина Столыпина. Смею Вас уверить, что дочь моя в политике ровно ничего не понимает, она, очевидно, была марионеткой в руках более сильных людей, для которых политика господина Столыпина, может быть, и представляется в высшей степени вредной».
|
Метки: климовы |
Климова, Наталья Сергеевна |
РРФ Наталья Сергеевна Климова
Нет портрета
| Мл. братья и сёстры |
|---|
| Михаил Сергеевич * 24.06.1888 |
|
Нина Сергеевна * 25.06.1897 † 1992 |
|
Анна Сергеевна * 23.09.1898 |
|
Всеволод Сергеевич * 7.03.1901 |
|
Татьяна Сергеевна * 1903 |
| Отец |
|---|
| Сергей Семенович * 24.04.1850 † 10.03.1907 |
| Мать |
| Любовь Никифоровна Ворыпаева * 1856 † 1894 |
| Древо рода |
| Предки |
| Цепь родства |
18.09.1885 – .11.1918
эсерка-максималист, покушение на Столыпина; групповой побег из тюрьмы; 1-й брак гражданский
|
Метки: климовы столяровы |
Климова, Наталья Сергеевна |
Климова, Наталья Сергеевна
Тк.

Перейти к навигации Перейти к поиску
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Климова.
| Наталья Сергеевна Климова | |
|---|---|
 |
|
| Имя при рождении | Наталья Сергеевна Климова |
| Дата рождения | 30 сентября 1885 |
| Место рождения | Рязань, Российская империя |
| Дата смерти | 26 октября 1918 (33 года) |
| Место смерти | Париж, Франция |
| Гражданство |  Российская империя Российская империя |
| Род деятельности | профессиональная революционерка, учительница, писательница |
| Образование | Курсы Лохвицкой-Скалон в Санкт-Петербурге |
| Вероисповедание | православие |
| Партия | Партия социалистов-революционеров |
| Основные идеи | демократический социализм |
Ната́лья Серге́евна Кли́мова (18 (30) сентября 1885, Рязань, Российская империя — 26 октября 1918, Париж, Франция) — русская революционерка, член партии эсеров.
Содержание
Биография
Родилась в Рязани в семье рязанского помещика, присяжного поверенного, председателя Рязанского отдела «Союза 17 октября», члена Госсовета Сергея Семёновича Климова (24 апреля 1850 — 10 марта 1907). В 1903 году окончила Рязанскую женскую гимназию и поступила на курсы Лохвицкой-Скалон в Санкт-Петербурге[1].
В 1906 году жила с отцом на Ривьере. В мае того же вступила в партию эсеров-максималистов. 12 августа 1906 года участвовала в покушении на Петра Столыпина (взрыв на Аптекарском острове). 30 ноября 1906 опознана и арестована. В казематах Петербургского ДПЗ написала знаменитое «Письмо перед казнью», которое было напечатано осенью 1908 года в журнале «Образование». Позже, для детей, Климовой была написана повесть «Красный цветок»[2].
В 1907 году была приговорена военно-полевым судом к смертной казни. Её отец написал нетипичное прошение о помиловании, похожее на дневник, и, отослав его, внезапно умер. По мнению Варлама Шаламова, именно его смерть придала прошению нужную силу — М. А. Газенкампф заменил казнь бессрочной каторгой. При этом, цитируя текст приговора, Шаламов приводит дату, когда смертная казнь была заменена каторгой: 29 января 1907 года[2]. Отец Натальи Климовой в это время ещё был жив.
В ночь с 30 июня на 1 июля 1909 года из Московской губернской женской тюрьмы (Новинской женской тюрьмы) бежало тринадцать каторжанок, вместе с тюремной надзирательницей А. В. Тарасовой. Месяц скрывалась в Москве. Затем инженер Калашников отвез Наталью Сергеевну, как свою жену, по магистрали Великого Сибирского пути. На верблюдах через пустыню Гоби, Климова добралась до китайского порта, а затем, морем, в Токио. Из Японии пароходом в Италию. Оттуда в Париж[2].
В эмиграции — член Боевой организации ПСР. Подруга Бориса Савинкова. В 1911 году познакомилась с социал-революционером, боевиком, бежавшим с Читинской каторги Иваном Столяровым и вышла за него замуж. В 1912 году отошла от революционной деятельности, родив дочь Наталью. Занималась домашним хозяйством, родила ещё двух девочек (третья появилась в сентябре 1917).
После Февральской революции 1917 года муж уехал в Россию и ожидал переезда жены и детей позже. Наталья пыталась вернуться в Россию, однако неудачно. В 1918 году Наталья Сергеевна делает последнюю попытку уехать в Россию.
Её дочери заболели испанским гриппом, ухаживая за ними, Климова заразилась сама и умерла в Париже 26 октября 1918 года вслед за младшей дочерью[2]. Похоронена на кладбище Булонь-Бийанкур.
Её старшая дочь, врач-стоматолог, отбыла 10-летний срок в СВИТЛе в 1937—1947 годах[2].
В литературе
- Михаил Осоргин, «Свидетель истории», 1942:
Юность Наташи Калымовой[3] совпала с героическими днями России, с её самым первым пробуждением. Но та весна была так коротка и так быстро вернулись морозы, что именно молодые посадки и пострадали всего больше. Год четвёртый был годом «святого негодования», пятый — пылкого героизма и несбывшихся надежд. А когда на лобное место политической свободы прибежал, запыхавшись, человек тыла, ему ничего не осталось, как назвать толпу, расходившуюся с кладбища, смешным именем «Думы народного гнева». Но гнева уже не было, и народ притих. Под разбитым колоколом трепался наскоро, мочальной веревочкой подвязанный язык.[4]
- Марк Алданов, «Самоубийство», 1956. Роман. Издание Литературного фонда. Нью-Йорк. 1958 г.[5]
- Варлам Шаламов, 1966:
Cудьба Натальи Сергеевны Климовой касается великой трагедии русской интеллигенции, революционной интеллигенции. <…>
Трещина, по которой раскололось время — не только России, но мира, где по одну сторону — весь гуманизм девятнадцатого века, его жертвенность, его нравственный климат, его литература и искусство, а по другую — Хиросима, кровавая война и концентрационные лагеря, и средневековые пытки и растление душ <…> — устрашающая примета тоталитарного государства. Жизнь Климовой, её судьба потому и вписаны в человеческую память, что эта жизнь и судьба — трещина, по которой раскололось время.
Судьба Климовой — это бессмертие и символ[2].
Примечания
Ссылки
- Наталья Климова «Письмо перед казнью»
- Кычаков Иван Спиридонович. Тринадцать. — М.: Московский рабочий, 1971 . — 128 с.
- Mabillard M. La Fleur Rouge. Natacha Klimova et les maximalistes russes. Lausanne, 2007.
- Сергей Нехамкин Враги такие же, как мы. Как понять друг друга жандарму и террористке? // Аргументы Недели. — № 42 (283) от 27 октября 2011.
- Кан Г. С. Наталья Климова. Жизнь и борьба. — СПб.: Издательство им. Н. И. Новикова, 2012. — 392 с. — Серия: Историко-революционный архив. ISBN 978-5-87991-100-8.
- Диалог о книге Г. С. Кана / Материал подготовлен А. В. Мамоновым // Российская история. 2014. — № 1. — С.151-180.
- Сергей Степанов: Культ смерти, с. 152-157,
- Дмитрий Рублёв: Для Климовой идеология максимализма не была чем-то существенным, с. 157-161,
- Ярослав Леонтьев: Между нечаевщиной и лампадкой, с. 161-165,
- Константин Морозов: Нужно научиться понимать мир российского революционера, с. 166-172,
- Сергей Куликов: Наталья Климова — богиня и жертва террора, с. 172-180.
- Нейштадт Илья Самуилович. Две Наташи.
- Анна Наринская Хорошие девочки (о биографии Натальи Климовой) // Коммерсантъ Weekend. — № 12 (306), 05.04.2013.
- Галасьева Г. В. Высшие женские естественнонаучные курсы М. А. Лохвицкой-Скалон : [арх. 1 февраля 2013] // Universum: Вестник Герценовского университета : журнал. — 2010. — № 6. — ISSN 2306-9880.
- Варлам Шаламов. Золотая медаль (1966, цикл «Воскрешение лиственницы») / Публ. И. Сиротинской // Подъём. — 1990. — № 3. — С.156-185.
- Её прототип — Н. С. Климова.
|
Метки: климовы |
Убийство П.А. Столыпина |
Убийство П.А. Столыпина

Убийство Столыпина
14 сентября 1911 года в Киевском театре был смертельно ранен премьер-министр России Петр Аркадьевич Столыпин.
Российский государственный деятель, министр внутренних дел и председатель Совета министров Российской империи. Петр Аркадьевич Столыпин родился 15 апреля (по старому стилю - 2 апреля) 1862 в Дрездене (Германия). Происходил из старинного дворянского рода, корнями восходящего к началу XVI века. Прадедами П.А. Столыпина были Аркадий Алексеевич Столыпин (1778-1825; сенатор, друг крупнейшего государственного деятеля начала XIX в. М.М. Сперанского) и его брат - Николай Алексеевич Столыпин (1781-1830; генерал-лейтенант, убит в Севастополе во время бунта), прабабушка - Елизавета Алексеевна Столыпина (по мужу Арсеньева; бабушка М.Ю. Лермонтова). Отец П.А. Столыпина - Аркадий Дмитриевич - генерал-адъютант, участник Крымской войны, ставший севастопольским героем, друг Л.Н. Толстого; одно время был наказным атаманом Уральского казачьего войска восточного русского форпоста, находящегося по соседству с Саратовской губернией, где у Столыпина было имение; стараниями Столыпина-старшего этот Яицкий (Уральский) городок значительно изменил свой облик: пополнился мощеными улицами и был застроен каменными домами, за что местное население окрестило Аркадия Дмитриевича "Петром Великим уральского казачества". Мать - Наталья Михайловна - урожденная княжна Горчакова. Брат - Александр Аркадьевич Столыпин (родился в 1863) - журналист, один из главных деятелей "Союза 17 октября".

Герб рода Столыпиных

26 апреля 1906 П.А. Столыпин был назначен министром внутренних дел в кабинете И.Л. Горемыкина. 8 июля 1906, после роспуска Первой государственной думы, была объявлена отставка Горемыкина и замена его Столыпиным, который стал таким образом председателем Совета министров. Портфель министра внутренних дел был оставлен за ним. В течение июля Столыпин вел переговоры с князем Г.Е. Львовым, графом Гейденом, князем Е.Трубецким и другими умеренно-либеральными общественными деятелями, стараясь привлечь их в свой кабинет. Переговоры ни к чему не привели и кабинет остался почти неизменным, получив название "кабинета разгона Думы".
.jpg)
Возглавив кабинет министров, П.А. Столыпин провозгласил курс социально-политических реформ. Было начато проведение аграрной ("столыпинской") реформы (по некоторым источникам идея аграрной "столыпинской" реформы принадлежала С.Ю. Витте), под руководством Столыпина был разработан ряд крупных законопроектов, в том числе по реформе местного самоуправления, введению всеобщего начального образования, государственному страхованию рабочих, о веротерпимости.
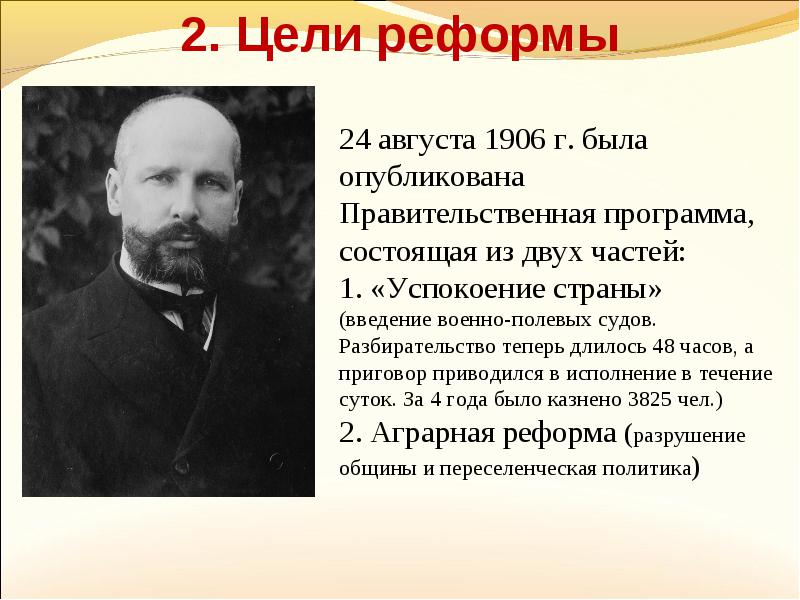
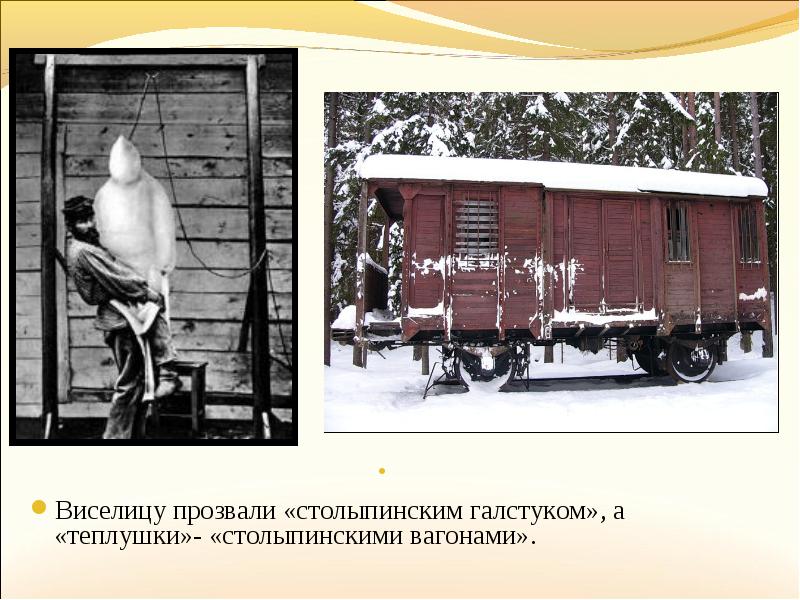
Первое покушение на Столыпина было совершено в августе 1906 года. Российские и иностранные газеты того времени печатают жуткие подробности взрыва, прогремевшего 12 (25-го по новому стилю) августа на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге на даче премьер-министра Петра Аркадьевича Столыпина: «…около 4 часов дня окрестности Аптекарского острова были потрясены страшным гулом. Через секунду гул взрыва повторился с грандиозной силой. Переполох среди обывателей мгновенно превратился в грозную панику…» («Петербургский листок»); «…Весь передний фасад дома был буквально разворочен взрывом… Из-под обломков спасали раненых, выносили трупы убитых… Паника уже проходила, но ужас был написан на всех лицах… Кажется, ни одна катастрофа в Петербурге не произвела столь тягостного впечатления» («Новое время»).
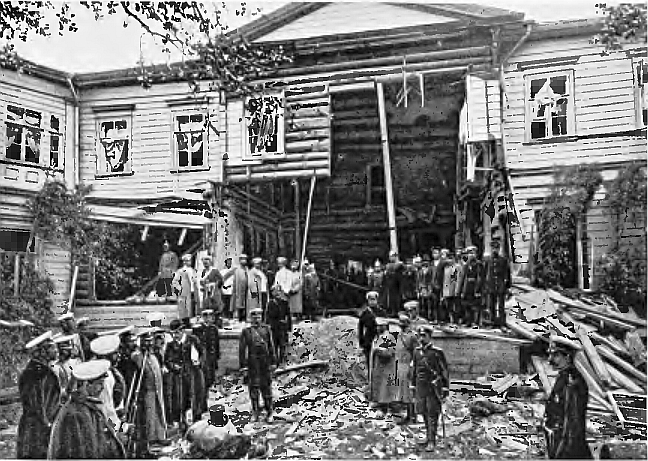


Произошла вся эта трагедия следующим образом. В четвертом часу дня к подъезду дачи на Аптекарском подъехало ландо с двумя людьми в жандармской форме, бережно державшими в руках портфели, как потом выяснилось, с бомбой весом не менее 6 килограммов в каждом. Приемная премьера была полна посетителей, дожидавшихся аудиенции у премьера. «Жандармы» эти, видимо, вызвали подозрение у швейцара и заведующего охраной Столыпина генерала Замятина. Дело в том, что незадолго до этого головной убор жандармских офицеров был изменен, а приехавшие были в касках старого образца. Швейцар попытался преградить дорогу подозрительным визитерам, а заметивший их из окна приемной генерал Замятин бросился в переднюю. Террористы, видя, что привлекли внимание, и боясь упустить момент, кидаются в подъезд, оттолкнув швейцара. В передней они наталкиваются на выбежавшего навстречу генерала Замятина и с криком «Да здравствует революция!» бросают свои портфели на пол перед собой, после чего раздается оглушительный взрыв. Результатом теракта явилась смерть более чем 30 людей (27 человек было убито на месте, 32 ранено – из них 6 умерло на другой день). В числе погибших оказались бывший пензенский губернатор, член Совета министра внутренних дел С.А. Хвостов и управляющий канцелярией московского генерал-губернатора А.А. Воронин. Кроме них, погибли или были тяжело ранены случайные, ни в чем не повинные люди и даже дети, включая одну из дочерей и сына владельца дачи. У четырнадцатилетней Наташи Столыпиной оказались сильно повреждены обе ноги, и она на всю жизнь осталась калекой, а трехлетний сын Адя (Аркадий) получил перелом бедра. Среди убитых были женщины, одна – на восьмом месяце беременности. Другая, вдова, пришла хлопотать о пособии вместе с маленьким сыном, ручку которого после взрыва нашли в саду.
В числе погибших оказался и создатель первого русского бронеавтомобиля подъесаул Михаил Накашидзе.
Сами террористы, а также генерал Замятин и швейцар были разорваны в клочья.

А.Н. Замятин
Но сам премьер-министр чудом остался жив. В момент взрыва он сидел за письменным столом. Несмотря на две закрытые двери между кабинетом и местом взрыва, громадная бронзовая чернильница поднялась со стола на воздух и перелетела через голову Столыпина, залив его чернилами. Ничего другого в кабинете взрыв не повредил.

Террористический акт совершила Боевая организация социалистов-революционеров максималистов. Идеологи Союза эсеров-максималистов (ССРМ), отколовшегося от партии эсеров (ПСР) и находившегося на крайнем фланге российских леворадикальных партий, проповедовали теорию возможности немедленного перехода России к социализму. Отказываясь от выдвижения «минимальных» задач борьбы за гражданские свободы и Учредительное собрание, они считали необходимым осуществлять максимальную социалистическую программу не только социализации земли (этого добивалась вся партия эсеров), но и социализации производства и товарно-денежных отношений. Прямое продолжение теории максималистов – их радикальная тактика, направленная на то, чтобы с помощью активной террористической деятельности вызвать подъем массового революционного движения. Американский журналист Джон Рид, сталкивавшийся с максималистами в 1917 году, называл их «крестьянскими анархистами».

Джон Сайлас Рид
В 1906 году в столице Российской империи активно работали рабочая, военная и боевая группы максималистов. Сформированная весной этого года, петербургская Боевая организация (БО) первоначально была немногочисленна, но вскоре пополнилась «москвичами», «белосточанами» (находящийся сейчас в Польше город Белосток считался «прародиной» тогдашних максималистов и анархистов) и рабочими дружинниками из Екатеринослава (ныне Днепропетровск). К июлю БО состояла уже из 60 человек. В Исполнительный комитет максималистской «боевки» вошли М.И. Соколов, В.Д. Виноградов, К.С. Мыльников, М.Д. Закгейм и кооптированный в нее заочно С.Я. Рысс. Задачей БО являлось осуществление покушений на виднейших царских сановников и самого императора. Возглавлял Союз эсеров-максималистов 25-летний Михаил Иванович Соколов по кличке Медведь, обладающий непререкаемым авторитетом у соратников благодаря незаурядным качествам – неукротимой энергии и исключительной смелости. Происходивший из семьи бедного крестьянина, дюжий Соколов и впрямь напоминал медведя. Он начал свою революционную деятельность будучи учеником в эсеровском кружке в Саратовской губернии. В 1904 году после ареста и побега оказался в Женеве, где возглавил группу «аграрных террористов». В это время он пользовался еще одной кличкой – Каин. Являясь одним из идеологов максималистского течения, Соколов–Медведь, по свидетельству некоторых соратников по партии, отличался преступно-легким отношением и к собственной, и к чужим жизням.
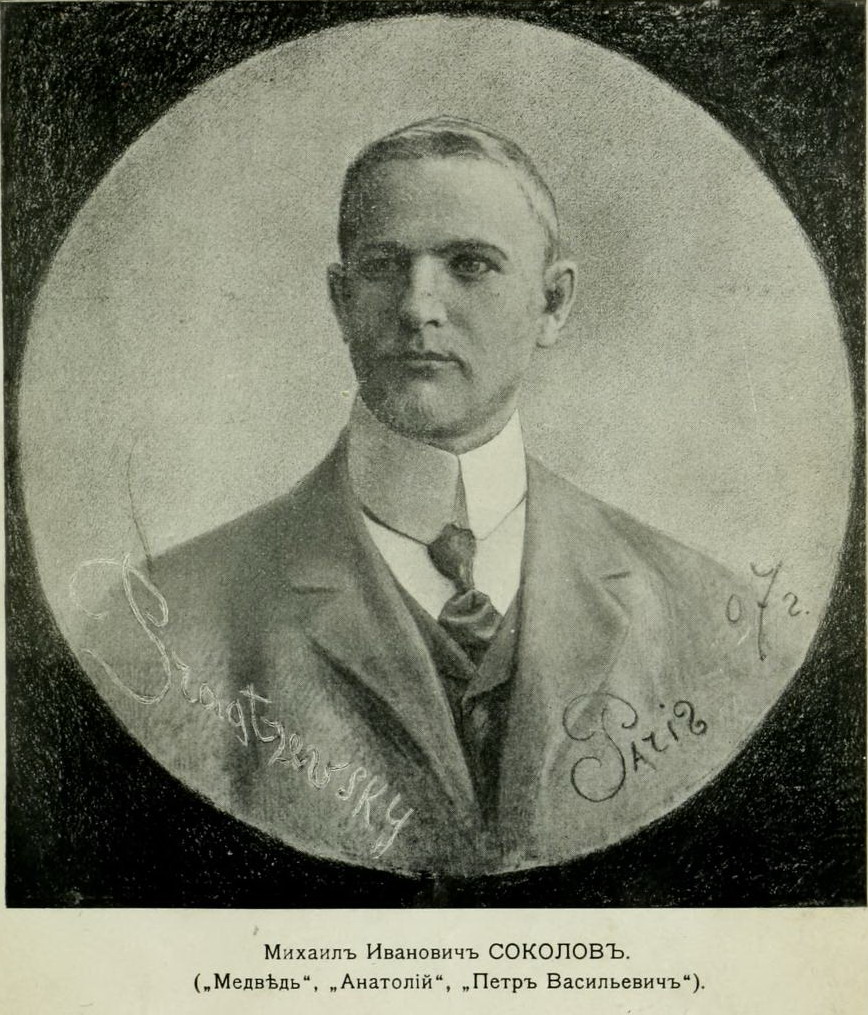
Ближайшей соратницей Соколова была Наталья Климова, по словам известной левой эсерки и максималистки И.К. Каховской, на редкость красивая и внешне и духовно. Климова была потомственной дворянкой и дочерью видного земского деятеля, члена Государственного совета и октябриста по партийной принадлежности. Вступив на революционный путь 20-летней курсисткой в 1905 году, она стала одной из наиболее ярких женских фигур максимализма.

Наталья Сергеевна Климова
В июне 1906 года максималистами была организована слежка за П.А. Столыпиным. На деньги, полученные в результате вооруженного нападения на банк Московского общества взаимного кредита 7 марта 1906 года, были сняты конспиративные квартиры, оборудованы мастерские по изготовлению бомб, паспортов, приобретены конные выезды, два автомобиля. Находившиеся в любовной связи Соколов и Климова под видом состоятельных молодоженов поселились в Поварском переулке. Детали покушения отрабатывались в наемной квартире других «супругов» (В.Д. Виноградов и Н.А. Терентьева) на Гороховой улице. Убийца Столыпина Дмитрий Богров работал и на анархистов, и на охранку. Биография «хозяйки» максималистской «конспиративки» малоизвестна даже историкам-профессионалам. Дочь богатого купца из Оренбургской губернии 25-летняя Надежда Терентьева по окончании Уфимской гимназии поселилась в Москве. Здесь она поступила на женские курсы и вскоре вступила в ПСР. В студенческом общежитии, где жила Терентьева, в ее комнате находилась партийная явка. Там она познакомилась с известными впоследствии террористками – Зинаидой Коноплянниковой, застрелившей летом 1906 года подавившего московское Декабрьское вооруженное восстание командира лейб-гвардии Семеновского полка Г.А. Мина, и Анастасией Биценко.
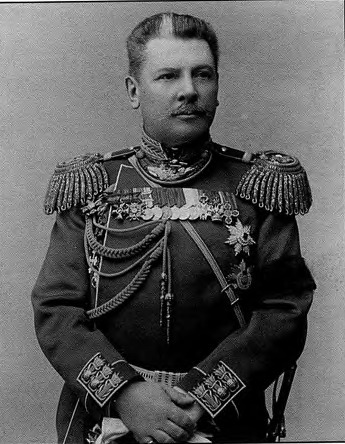
Георгий Александрович Мин
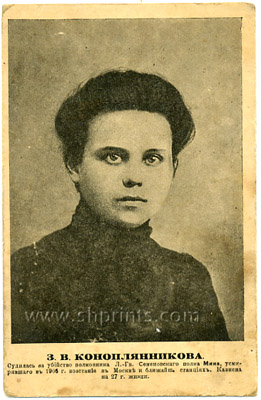
По воспоминаниям Терентьевой, Биценко не удалось получить санкцию на теракт в отношении карателя саратовских крестьян генерал-адъютанта В.В. Сахарова со стороны Боевой организации партии эсеров в лице Азефа. Однако именно в Москве в это время образовалась так называемая московская оппозиция внутри ПСР, которая не считалась с директивами руководящих органов партии. Как писала в автобиографии Терентьева, она в 1905 году вместе с Биценко участвовала в изготовлении бомб под Москвой, а потом помогала снаряжаться Биценко (именно на явке у Терентьевой) перед поездкой в Саратов. Любопытно отметить, что Сахаров остановился в Саратове в доме губернатора Столыпина. 22 ноября, явившись на прием к Сахарову, террористка застрелила его, а 3 марта 1906 года Военно-окружным судом она была приговорена к смертной казни, замененной бессрочной каторгой.

Анастасия Алексеевна Биценко
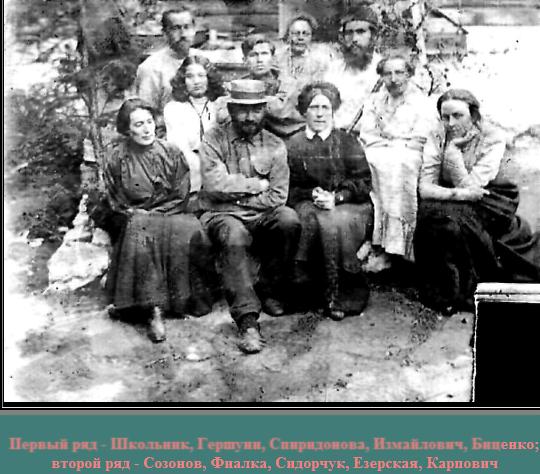
Во время Декабрьского восстания Терентьева вместе с вождями московской оппозиции (М.И. Соколовым–Медведем и другими) участвовала в баррикадных боях на Бронной и Пресне.

В мае 1906 года она вошла в Боевую организацию максималистов.
В начале июля боевики несколько раз посещали заседания Государственного совета. Первоначально в их план входил захват этого органа: в здание должны были ворваться несколько террористов-смертников и взорвать его вместе с собой.
И только роспуск верхней палаты парламента «именным высочайшим указом» на каникулы заставил их отказаться от прежних планов. После роспуска I Государственной думы все свои силы они сосредоточили для организации покушения на Столыпина. Максималистам удалось с помощью некоего инженера рассчитать необходимое количество динамита и в большевистской бомбовой мастерской в Петербурге изготовить метательные снаряды, которые и были использованы при взрыве на Аптекарском острове. Придя к решению взорвать дачу министра в приемный день, боевики прекрасно понимали, к какому количеству случайных жертв может привести подобная акция. Позже, на следствии, Н.С. Климова говорила: «…решение принести в жертву посторонних лиц далось нам после многих мучительных переживаний, однако, принимая во внимание все последствия преступной деятельности Столыпина, мы сочли это неизбежным». Время для теракта было выбрано не случайно. По мнению Соколова, последние события в стране (разгон Думы и неудачное восстание на флоте, закончившееся многочисленными казнями) создавали атмосферу, в которой система террора должна была «поднять ниспадающую волну революции».
12 августа к даче премьер-министра подъехал экипаж, в котором находились максималисты Француз (Э. Забельшанский), Гриша (И.М. Типунков), переодетые в жандармов, и Федя (Н.И. Иванов) в штатском. Все трое при совершении теракта погибли. Медведь–Соколов, находившийся поблизости, получил ранение. Не пострадал лишь сам Столыпин. Ответом правительства на столь дерзкий и кровавый теракт явилось введение системы военно-полевых судов с целью «достаточно быстрой репрессии за преступления, выходящие из ряда обыкновенных». Злые языки быстро окрестили казни через повешение по приговору этих судов «столыпинскими галстуками», а сами виселицы – «столыпинскими качелями». Новые суды формировались из офицеров местных гарнизонов и облекались чрезвычайными полномочиями: решения их не подлежали обжалованию, а приведение приговоров в исполнение следовало не позднее, чем через сутки после их вынесения. Обвиняемые предавались военно-полевому суду в тех случаях, когда «учинение… преступного деяния является настолько очевидным, что нет надобности в его расследовании». Самым распространенным приговором данных судов, которым предавались в разных местностях в течение 24–48 часов и которые порой длились по несколько минут, стала смертная казнь, за что обыватели прозвали эти суды «скорострельными».
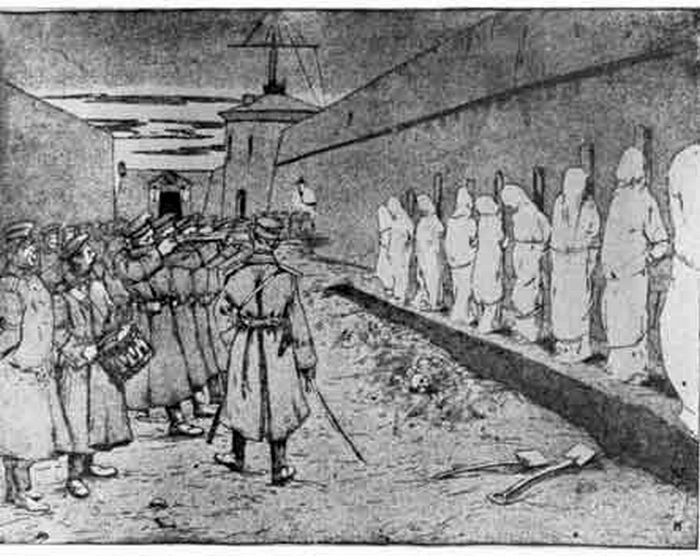
Что касается максималистов, то их организации удалось осуществить еще одну серьезную и довольно кровавую акцию: в ходе экспроприации 14 октября 1906 года инкассаторов Петербургской таможни в Фонарном переулке разгорелась перестрелка, во время которой были жертвы с обеих сторон и со стороны случайных прохожих. 10–24 октября 1906 года в г. Або в Финляндии прошла I Всероссийская конференция максималистов, на которой в качестве программного заявления Союза эсеров-максималистов был принят доклад М.И. Соколова «Сущность максимализма». К этому моменту «максы», как их называли на тогдашнем революционном сленге, оказались в центре общественного внимания. Как вспоминал один из них, Г.А. Нестроев, имя «максималист» гремело по всей России и Европе, вызывая удивление у одних, трепет у других и жажду мести у третьих. Час триумфа «максов» действительно оказался недолог. Вскоре в руках у охранки оказались фотографии виднейших членов Боевой организации, включая Михаила Соколова. Дело в том, что в руководстве Союза подвизался «маленький Азеф». Им был бывший студент Соломон Рысс по кличке Мортимер, завербованный полицией во время ареста. Он вел какую-то странную двойную игру, поставив в известность о своей вербовке Медведя и в то же время открыв охранке важные нити.
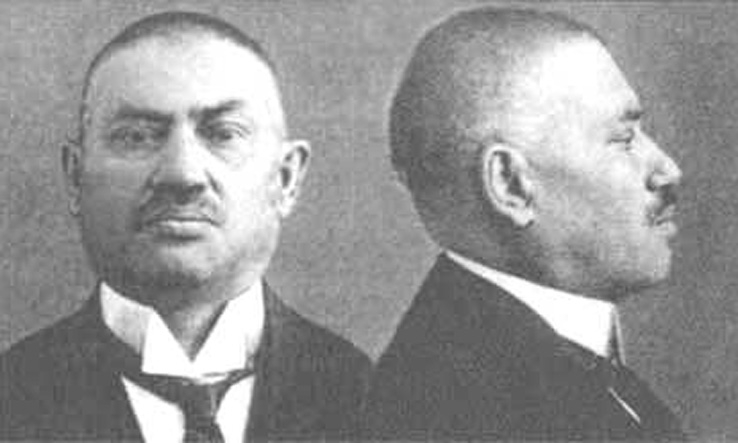
Соломон Яковлевич Рысс ( Азеф )
Как утверждает известный историк Д.Б. Павлов, с помощью Рысса в Москве была обнаружена и выслежена известная максималистка Л.С. Емельянова. При помощи наружного наблюдения полиция пошла по следу: адреса, которыми она воспользовалась по приезде в Петербург, помогли филерам нащупать «конспиративки» и явки неуловимых доселе максималистов. В романе Осоргина Рысс выведен под именем Мориса, и если писатель прав, то именно его использовал Соколов в качестве кучера во время покушения на Аптекарском. Игра Рысса с полицией в кошки-мышки закончилась для него плохо – он кончил жизнь в петле, как и другие руководители «максов». Уже 16 октября перед военно-полевым судом в Петропавловской крепости предстала группа схваченных во время зачистки города после ограбления таможни максималистов. Восемь из них во главе с В.Д. Виноградовым были повешены. 13 ноября в Одессе были арестованы боевики, выехавшие туда для покушения на командующего Одесским военным округом барона А.В. Каульбарса.

Среди них оказалась Н.А. Терентьева, осужденная на пожизненную каторгу. Спустя 13 дней пришел черед самого Медведя. Утомленный преследованиями из-за проваливавшихся одна за другой явочных квартир, Соколов был схвачен шпиками на столичной улице и 2 декабря повешен. Его подруга Климова также была приговорена военно-полевым судом к смертной казни, замененной после вмешательства отца на бессрочную каторгу. В петербургском Доме предварительного заключения она написала знаменитое «Письмо перед казнью», текст которого осенью 1908 г. был напечатан в журнале «Образование» и впоследствии стал широко известен за пределами России.
Покушением 1906 года охота на Столыпина еще только начиналась. В дальнейшем планы по его ликвидации строили не раз представители самых разных революционных направлений. Невероятно, но факт: в итоге намерения левых радикалов совпали с тайными помыслами крайне правых, не разделявших к реформаторству.
В 1911 году Россия торжественно отмечала 50-летие отмены крепостного права. В Киеве были запланированы грандиозные мероприятия, связанные с открытием памятника Александру II. 29 августа (по старому стилю) туда прибыл Николай II в сопровождении свиты и высших сановников империи, среди которых был и П.А. Столыпин.



Были приняты исключительные меры по обеспечению безопасности августейшей особы. В ночь с 28 на 29 августа было арестовано несколько десятков лиц, подозреваемых в принадлежности к партии эсеров, а также анархистов и социал-демократов. Город был буквально наводнен агентами наружного наблюдения, особое регистрационное бюро проверяло благонадежность киевлян, о приезжих запрашивали по телефону. Непосредственная охрана Столыпина состояла из 22 человек. Премьер-министр остановился в генерал-губернаторском доме, где круглые сутки находились агенты в штатской одежде. Вечером 14 сентября в Киевском городском театре давали парадный спектакль (опера «Сказка о царе Салтане» Н.А. Римского-Корсакова).
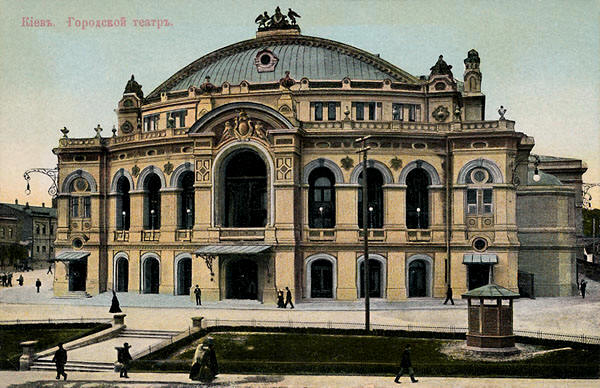
Николай II с дочерьми и болгарским цесаревичем находились в ложе генерал-губернатора, высшим сановникам был предоставлен первый ряд партера. Петр Аркадьевич сидел между министром императорского двора бароном В.Б. Фредериксом и киевским генерал-губернатором Ф.Ф. Треповым.

В.Б. Фредерикс и П.А. Столыпин
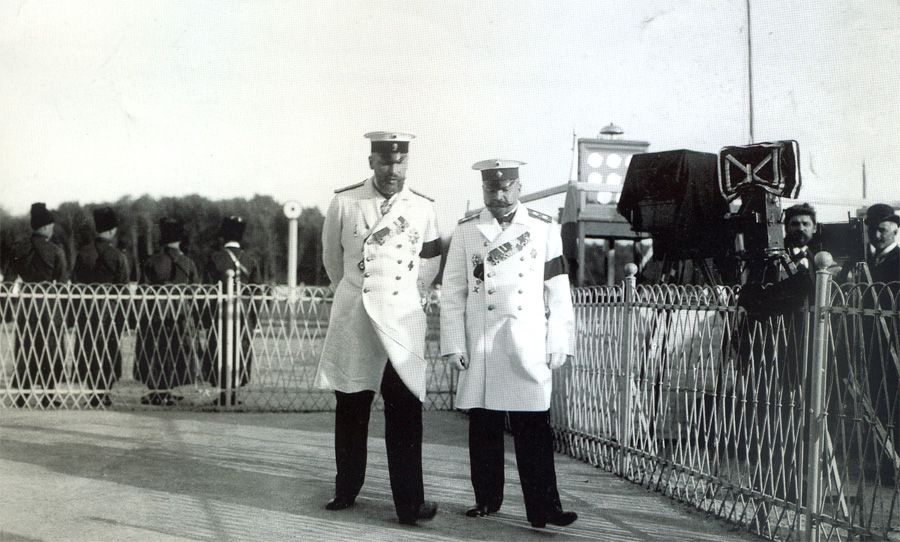
П.А. Столыпин и Ф.Ф. Трепов
Когда до конца оперы оставался один акт, Столыпин отправил охранявшего его капитана Есаулова подготовить автомобиль для отъезда. Таким образом, он остался совсем без охраны. В антракте Столыпин стоял около барьера оркестровой ямы и разговаривал с бароном Фредериксом и графом Потоцким. В это время в проходе появился молодой человек в черном фраке, который быстро подошел к собеседникам, выхватил из кармана браунинг и два раза выстрелил в премьер-министра. Стрелявший был немедленно схвачен.

Им оказался выпускник юридического факультета Киевского университета Дмитрий Богров по кличке Митька Буржуй, тесно связанный с местным анархистским подпольем и одновременно с «охранкой».

Дмитрий Григорьевич Богров
Через четыре дня Столыпин, несмотря на все старания врачей, скончался.
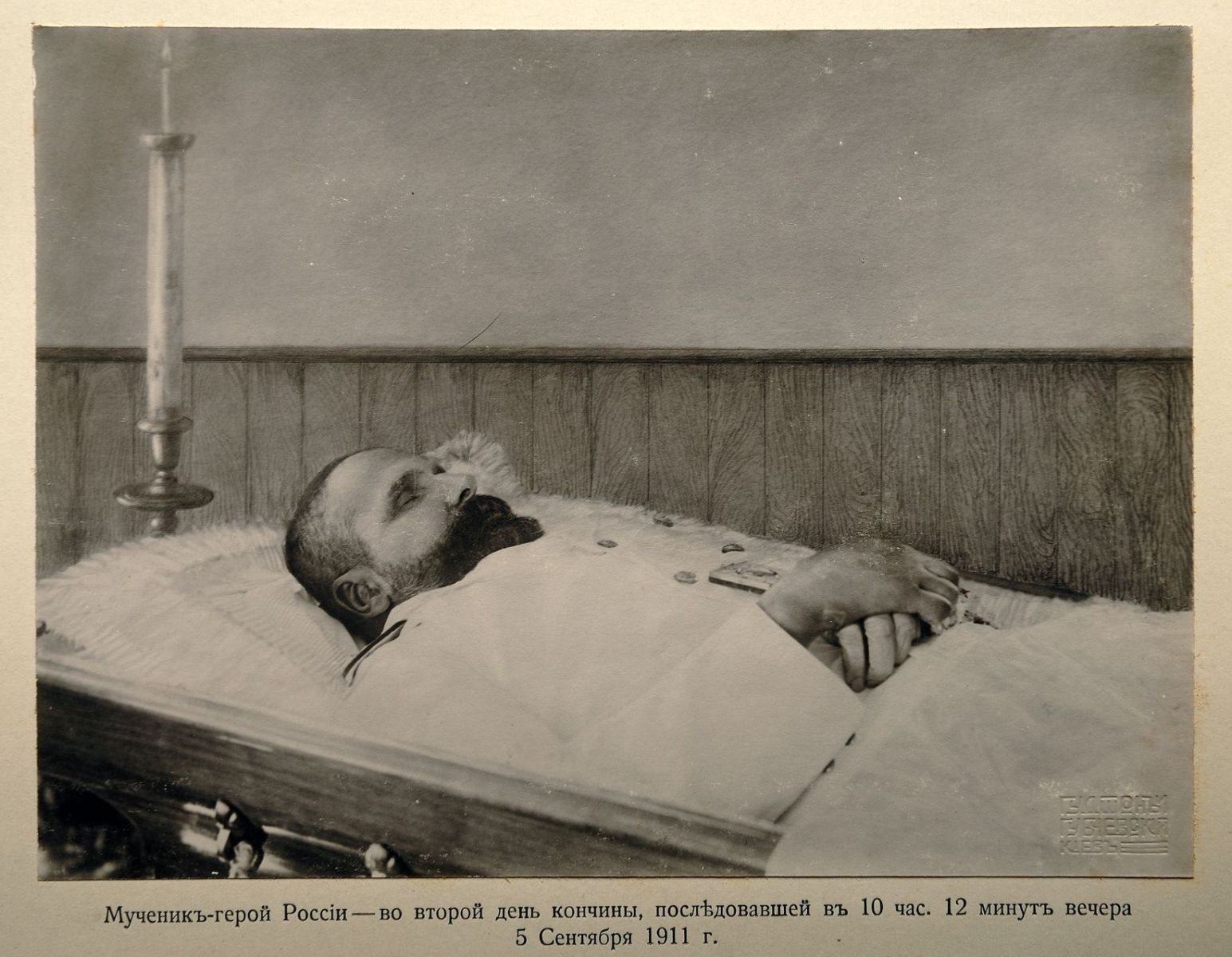

Спустя неделю террорист был повешен. Десятое по счету покушение на П.А. Столыпина оказалось успешным.
.jpg) могила П.А. Столыпина в Киево-Печёрской Лавре
могила П.А. Столыпина в Киево-Печёрской Лавре
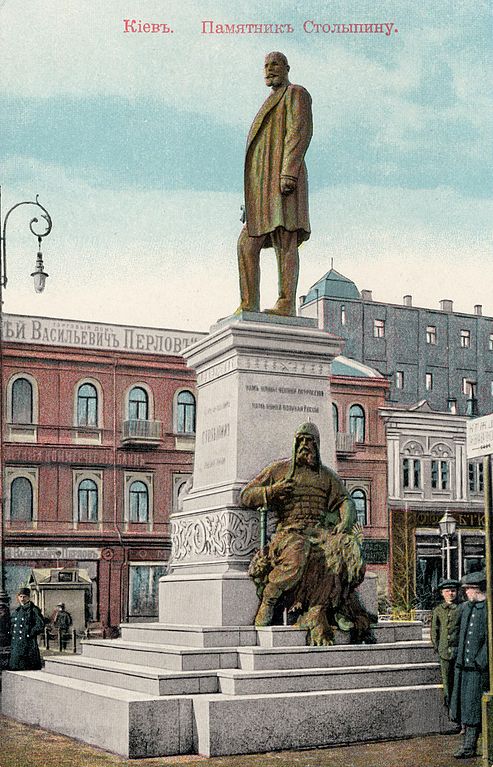

памятник П.А. Столыпину в Саратове
|
Метки: столыпины |
Взрыв на Аптекарском острове |
Взрыв на Аптекарском острове
Вечерняя Москва 25 августа 2018
Фото: Вечерняя Москва
Комментарии
25 августа 1906 года было совершено покушение на премьер-министра России Петра Столыпина. По числу пострадавших это самое кровавое покушение на политика в истории. 27 человек погибло, более 100 было ранено. Сам Столыпин не пострадал, подтвердив репутацию заговоренного, что распалило террористов, которые совершили на него 11 покушений.
Покушение на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге в доме, где премьер вел прием простых посетителей, было организовано эсерами. Огромные бомбы весом в 7 килограммов были изготовлены в лаборатории большевика Красина на московской квартире Горького под охраной большевика Камо. Помимо чиновников и офицеров погибли слуги, крестьяне, мещане и дети. Организатор покушения Михаил Соколов по кличке Каин был пойман на улице филерами и повешен в декабре того же года
Были ранены дети Столыпина, его 12-летней дочери врачи хотели ампутировать ноги, несколько лет она не могла ходить. Николай предложил Столыпину щедрую денежную помощь. Столыпин отказался: «Я кровью своих детей не торгую».
Последствия взрыва имели большой резонанс в истории. Ответной реакцией властей уже через неделю стал закон о военно-полевых судах, который позволял в ускоренном порядке рассматривать дела террористов и убийц. Разгул терроризма в России был неимоверным. Были убиты два министра внутренних дел. Губернаторов убивали, как куропаток. С 1901 по 1911 год число жертв терактов достигло 17 тысяч человек. Значительная часть — невинно пострадавшие.
Среди побудительных мотивов революционного террора было желание спровоцировать власти на репрессии и вызвать народное негодование. Что желали, то и получили, только без негодования. За 1906-1910 годы в исполнение был приведен 3741 смертный приговор военно-полевых судов. 66 тысяч человек были сосланы на каторгу. В 1911 году террор был подавлен. Последней жертвой стал Столыпин, который при странных обстоятельствах в присутствии царя был убит в Киеве.
Военно-полевые суды и вся деятельность Столыпина вызывают неоднозначную реакцию и бурные споры. Несомненный факт в том, что немного найдется в российской истории периодов, когда экономика развивалась бы столь стремительно, и страна по ключевым параметрам выходила в мировые лидеры. Политические реформы отставали, но в этом не было вины премьера. Беспощадный критик российских политиков Солженицын одобрял усмирение революции военно-полевыми судами и считал, что если бы не убийство Столыпина, он сумел бы предотвратить участие России в мировой войне, ее поражение, захват власти большевиками и миллионы жертв трагических событий ХХ века.
И хотя в советскую эпоху Столыпин изображался исключительно черными красками, сегодня можно признать, что он оценен потомками как лучший чиновник в нашей бурной истории. Память Столыпина, за которым охотились забытые историей люди, называвшие себя революционерами, увековечена многообразно. Думаю, причина не только в реформах, но и в его безупречной репутации. Мудрый Розанов писал, что в Столыпине ценили не программы, а человека. И еще: он был похож на воина, который встал на защиту России.
Старшая дочь Столыпина Мария, которая оставила описание взрыва на Аптекарском острове, прожила 100 лет и умерла в год начала перестройки, которая на родине вернула ее отцу доброе имя.
aptekarskom-ostrove
|
Метки: столыпины |
Дом Натальи Климовой |
Дом Натальи Климовой |
|---|

В начале 2013 года в Рязани произошло неизбежное — в Бульварном переулке сгорел последний уцелевший там деревянный дом.
Фото Александра Никитина, Александра Дударева и автора
Участок, прилегающий к торговому центру «Атрон-Сити» и ограниченный улицами Ленина, Введенской, Радищева и Бульварным переулком, давно освобождали от малоэтажных деревянных строений. Был снесён замечательный своим резным декором дом присяжного поверенного Леонова, другие дома на этой территории поочерёдно сгорали. Дом №1 в Бульварном переулке оставался последним деревянным зданием в квартале. Это двухэтажное резное здание имело большое общественное значение: там располагалась популярная точка по продаже нелицензированных спиртных напитков. Контингент, их потреблявший, валялся круглый год в окрестностях и время от времени подбирался органами охраны правопорядка. Рязанцы свыше десятка лет постоянно писали заявления в соответствующие органы с просьбами/требованиями ликвидировать разливочную, однако она неизменно оставалась живее всех живых. Злые языки утверждали, что только «общественная функция» и позволяет деревянному дому существовать. Несмотря даже на то, что постановлением правительства Рязанской области от 9 июля 2012 года дом был определён под снос, здание уничтожил не бульдозер, а огонь. И похоже, в народной памяти этот дом так и останется (если останется) как дешёвая и безотказная распивочная — «аптека» для людей, в силу пристрастия к спиртному попавших в трудное социальное положение.
Между тем, у данного дома есть совсем другая и самая настоящая история. В доме №1 по Бульварному переулку провела свои детские и отроческие годы известная революционерка Наталья Климова (годы жизни: 1885-1918). Однако в конце XIX — начале XX веков ни топонима «Бульварный переулок», ни самого переулка ещё не существовало. Он появился только после окончания Великой Отечественной войны. Тут надо включить воображение и представить себе овраг, начинавшийся от улицы Левицкой (ныне Радищева) — там, где сейчас установлен бюст Сергея Есенина, — пересекавший улицу Астраханскую и продолжавшийся на территории Городского парка. Овраг давал начало ручью, образовывавшему в парке пруд, а затем впадавшему в Лыбедь. Даже теперь, когда овраг давно засыпан и про трубу, покоящуюся под улицей Ленина, никто не догадывается, здесь сохранилось некоторое понижение, так что в проливные дожди на проезжей части и тротуаре образуется обширная и глубокая лужа. Именно из-за оврага территория Наташиного сквера и убереглась от застройки. Правда, вплоть до 1940-х годов красная линия улицы Астраханской продолжалась и после школы №10, за которой стоял ещё один двухэтажный дом, а уже он граничил с оврагом. Несколько домов было построено и на противоположном углу квартала, по улице Левицкой. Таким образом, дом Климовых оказывался стоящим в нише в глубине квартала.
Вдоль оврага была дорожка — место прогулок рязанцев, и то ли она, то ли весь этот незастроенный сегмент городской территории именовался до революции «Бульваром». А после революции бульвару присвоили имя Наташи Климовой. Вскоре после Великой Отечественной войны случился большой пожар, памятный рязанским старожилам. Тогда и сгорел дом, расположенный справа от школы №10. По свидетельству очевидцев, горел дом так, что «из окон прыгали». Кроме того, воды для тушения не нашлось, и поэтому дом заливали из канализации. Дома на противоположном углу квартала тоже пострадали. Восстанавливать их не стали, а продлили за счёт них территорию сквера, который как раз начали приводить в порядок в связи с благоустройством Рязани, начатым новым партийным хозяином области Алексеем Ларионовым. На месте руин сгоревшего дома и засыпанного оврага появился роскошный фонтан — некоторые из ныне живущих рязанцев ещё помнят. Тогда же возник и переулок между оградой сквера и линией, образованной торцом школы №10 и двумя домами, когда-то принадлежавшими семье Климовых.
Наталья Климова в своём знаменитом «Письме перед казнью» много говорит о детстве, проведённом в этом доме. Климова родилась в Рязани в 1885 году в дворянской семье. Её отец, присяжный поверенный Сергей Семёнович Климов, был членом Государственного Совета от Рязанской губернии, а также с осени 1906 года по март 1907 года был председателем рязанского отдела «Союза 17 октября». Мать Климовой была одной из первых женщин-врачей в России, мачеха — преподавательницей естественных наук в Рязанской Мариинской женской гимназии, тётя — врачом, педагогом и хозяйкой известной в Рязани «типографии Орловой». Сама Наталья Климова, окончив Рязанскую женскую гимназию, поступила на Высшие женские естественнонаучные курсы Лохвицкой-Скалон в Петербурге. Климова показывала отличные успехи в учёбе, была, по свидетельству целого ряда современников, девушкой незаурядного обаяния, могла не опасаться финансовых трудностей. Другими словами, казалось бы, обладала всеми необходимыми слагаемыми для «преуспевания» в жизни, но выбрала для себя совсем иную стезю.
Судя по всему, Наталья стала очевидцем событий 9 января 1905 года в Петербурге, того самого «кровавого воскресенья». Климова постоянно вела внутренний поиск нравственного идеала человека, одно время находилась под сильным влиянием идей Толстого. 9 января подтолкнуло Климову к «уходу в революцию». Это решение было не одномоментным и далось ей очень тяжело, тем более что она очень любила жизнь и до ужаса боялась смерти. К тому же она не верила в серьёзный бонус для выходящего на смертельную борьбу человека — «загробную жизнь». Тем не менее, Климова решилась посвятить свою жизнь уничтожению, как она считала, государственного террора террором индивидуальным. «Или отдаться борьбе без возврата, без сожаления, борьбе, идущей на всё и не останавливающейся ни перед чем и счастье видящей лишь в победе или смерти, — или, пользуясь всеми преимуществами привилегированного положения (в настоящем или близком будущем), отдаваясь науке, природе, личному счастью и семье, рабски подчиниться и открыто и честно признаться в полном равнодушии к тому, что когда-то считал «святая святых» души своей», — писала она в своём «Письме перед казнью».
Этот императив приводит в 1906 году Наталью Климову к эсерам-максималистам, представлявшим собой самое радикальное крыло эсеровской партии. Короткий — под знаком обречённости на гибель — период её революционной деятельности заканчивается 30 ноября того же года арестом. Она и другая женщина-максималистка Надежда Терентьева — единственные, кого стало можно привлечь к суду по делу о взрыве дачи премьер-министра Петра Столыпина на Аптекарском острове. Хотя Климова лишь играла роль хозяйки конспиративной квартиры и не была непосредственным исполнителем акта погибли, на допросах она подробно рассказывала о своей роли в подготовке покушения, преувеличивая свою вину и выгораживая соратников. В ожидании смерти она пишет не предназначавшееся для обнародования личное письмо, которое, попав за стены тюрьмы, было опубликовано в 1908 году журналом «Образование». Редакция охарактеризовала текст как «один из человеческих документов, написанный на грани между жизнью и смертью», когда человек, «изучая себя и свои новые переживания, доходит до высшего философского подъёма». Публикация сделала имя Климовой широко известным читающей публике. Однако смертный приговор Наталье заменяют бессрочной каторгой. В 1909 году она бежит из Новинской женской тюрьмы. Это был знаменитый «побег тринадцати»: каторжанки сбежали вместе с надзирательницей, распропагандированной Климовой.
Климовой удаётся проехать через всю Сибирь, пересечь на верблюдах пустыню Гоби, добраться до Японии и оказаться в итоге в Париже. Здесь она выходит замуж, становится матерью троих дочерей. В 1917 году после известия о революции в России собирается вернуться на Родину, но из-за болезни детей пропускает «русский» пароход. В 1918 году младшая дочь и сама Наталья Климова (ей было всего 33 года) умирают от «испанки».
Старшая дочь Климовой — Наталья Столярова, привлечённая идеями построения нового общества, уехала в СССР. Здесь в 1937 году она была репрессирована и провела 9 лет в лагерях. После освобождения жила в Узбекистане, а в 1953 году при помощи земляка своей матери, министра просвещения РСФСР Ивана Каирова получила место преподавательницы французского языка в Рязанском педагогическом институте. В 1956 году после реабилитации переехала в Москву, где стала литературным секретарём Ильи Эренбурга. Она сыграла важную роль в судьбе Александра Солженицына, организовав переправку рукописи «Архипелага ГУЛАГ» на Запад. Резкий в суждениях и недоверчивый к людям Солженицын всегда отзывался о Наталье Столяровой, умершей в 1984 году, с большой теплотой. Вторая дочь Натальи Климовой — Екатерина Столярова (в замужестве Анци) — осталась во Франции. Во время Второй мировой войны была участницей Сопротивления. Умерла совсем недавно, а прах, согласно воле покойной, нашёл пристанище на Рязанщине.
В настоящее время внук Натальи Климовой Алексей живёт во Франции, а потомки её сестёр — в Москве. В Рязани же о Климовой напоминает лишь топоним «Наташин парк». Да и то горожане, в большинстве своём, кажется, уверены, что название это взялось от какой-то гимназистки Наташки, повесившейся в данной зелёной зоне из-за несчастной любви. Об истории Климовой знали лишь единицы. Да и то в среде краеведов считалось, что Климовым принадлежал тот дом по Астраханской, который сгорел после Великой Отечественной войны. Лишь сравнительно недавно историки Дмитрий Филиппов и Александр Никитин, сопоставив документальные и картографические источники, установили, что домом Климовых был именно дом №1 в Бульварном переулке. Теперь, возможно, людей, посвящённых в историю дома, станет немного больше. Данный текст был уже в работе, когда в ночь с 9 на 10 марта пожар превратил это здание в обгорелый остов. Причём житель соседнего дома рассказал, что дом №1 в Бульварном переулке уже загорался недели за полторы до случившегося.
В 1950-60-е годы рязанский краевед Сергей Шульгин потратил немало усилий, пытаясь добиться переименования Бульварного переулка в переулок Наташи Климовой. Поскольку этого не случилось, Климова по-прежнему остаётся забытой у себя на родине. В гораздо большей степени её личность привлекает внимание столичных и зарубежных исследователей. Так, за последние годы вышло две книги о Климовой: в 2007 году — «Красный цветок. Наташа Климова и русские максималисты» Мод Мабийяр (на французском языке), а в 2012 году — «Наталья Климова. Жизнь и борьба» Григория Кана (на русском).
Автор благодарит историка Александра Никитина за предоставленную информацию и фотографии.
|
Метки: климовы столяровы орловы |
Как рязанка чуть не взорвала Столыпина и стала героиней рассказа советского писателя |
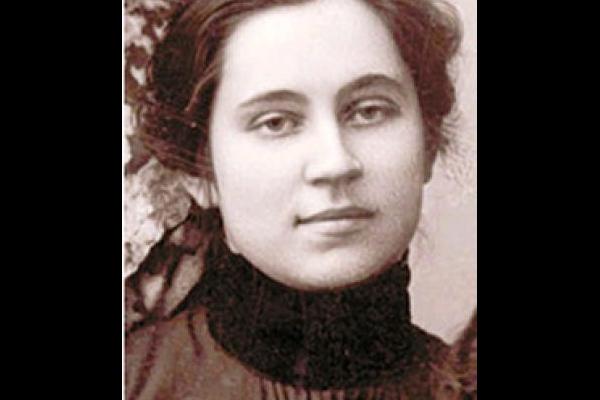 Как рязанка чуть не взорвала Столыпина и стала героиней рассказа советского писателя
Как рязанка чуть не взорвала Столыпина и стала героиней рассказа советского писателя
«Телосложения плотного, волосы темные, глаза голубые, тип русский», — так описывает внешность Натальи Климовой полицейский рапорт. По сути — это ориентировка, выпущенная после того, как Климова и еще 12 её сокамерниц сбежали из Московской губернской женской тюрьмы. Этот побег разделил ее жизнь на «до и после». До — были благополучная жизнь и перспективы, после — революционная борьба в составе партии эсеров. Впрочем, обо всём по порядку.
Наталья Климова родилась в 1885 году в Рязани, в благополучной семье. Ее отец был членом Госсовета, присяжным поверенным, медийной, говоря современным языком, личностью. Мать занималась медициной. Наталья с детства избрала для себя вроде бы путь, типичный для людей ее круга — училась в Мариинской женской гимназии, которую окончила с золотой медалью, после чего стала слушательницей курсов Лохвицкой-Скалон, решив стать учительницей.
Именно в Москве, будучи натурой целеустремленной и увлекающейся, цельной, Наталья Климова познакомилась с революционерами — эсерами, в том числе со своей первой любовью, Михаилом Соколовым. Вместе с ним и Надеждой Терентьевой, она готовила покушение на Петра Столыпина, решив взорвать его дачу на Аптекарском острове, известную всему городу. Покушение удалось, но вышло неудачным — сам Столыпин не пострадал, однако погибли и были ранены более 100 человек — посетители, которые пришли в приёмный день к Столыпину с различными нуждами. В числе пострадавшим были и близкие премьера-министра: его дочь и сын.
Уже в ноябре 1906 года Климову заключили под стражу. Суд над ней, проходивший в Петропавловской крепости, был быстрым, тем более, что свое участие в подготовке теракта обвиняемые не отрицали. Накануне приговора, о котором она догадывалась, Климова, обладавшая литературным даром, пишет «Письмо перед казнью», уникальный документ, который интересно почитать и сегодня. В нем она рассказывает о том чувстве внутренней свободы, которое дает ей революционная деятельность, вспоминает и о родной Рязани.
«Целый месяц, как тщательная внимательная проверка приводит все к тем же выводам, и только не уменьшается оно — это ощущение внутренней свободы, оно растёт с каждым днем, колеблясь лишь в яркости данной минуты… И еще появилось одно ощущение, впрочем, оно не новое, а лишь забытое… забытое потому, что оно переживалось мной во всей полноте года 4-5 тому назад. Это то чувство, благодаря которому меня дома считали веселой, бойкой и живой, и с исчезновением которого стали называть меланхоличной, мямлей. Это то чувство, что заставляло не сходить, а сбегать с лестницы, не ходить по дому, а бегать, не стоять на месте — а прыгать.
Это то чувство, заставляло ум с веселым интересом и любовью работать надо всем окружающим, улыбаться белым снегам, весне и подснежникам, саду, горячему солнцу, разливу Оки, скрипу лыж в лунную ночь, свежести тенистого хуторского пруда… Это то чувство, что придает каждому простому движению и действию особую прелесть, особый смысл. Эта жизнерадостность… И теперь я снова чувствую в себе снова струится она во мне, как алая горячая кровь моего тела, что делает его живым, гибким и ликующим», — написала она.
Девушку, которой было в то время 21 год, приговорили к казни, которую заменили каторгой. В смягчении приговора сыграло роль письмо отца Натальи в суд.
«Вам должна представляться верной моя мысль, что в данном случае вы имеете дело с легкомысленной девушкой, увлеченной современной революционной эпохой. В своей жизни она была хорошая, мягкая, добрая девушка, но всегда увлекающаяся. Не далее как года полтора назад она увлеклась учением Толстого, проповедующего «не убий» как самую важную заповедь. Года два она вела жизнь вегетарианки и вела себя как простая работница, не позволяя прислуге помогать себе ни в стирке белья, ни в уборке комнаты, ни в мытье полов, и теперь вдруг сделалась участницей в страшном убийстве, мотив которого заключается будто бы в несоответственной современным условиям политике господина Столыпина. Смею Вас уверить, что дочь моя в политике ровно ничего не понимает, она, очевидно, была марионеткой в руках более сильных людей, для которых политика господина Столыпина, может быть, и представляется в высшей степени вредной.
Корректные взгляды я старался внушить своим детям, но в такое, должен сознаться, хаотическое время родительское влияние не имеет никакого значения. Наша молодёжь всем окружающим причиняет величайшие несчастья и страдания, и в том числе родителям», — говорилось в нём. В 1907 году отец Климовой скоропостижно скончался — письмо, написанное судье, оказалось одним из последних.
На рудники Наталья Климова не попала — эсеры не хотели терять столь ценный кадр, и помогли организовать побег. Сначала Климова перебралась по Великому Сибирскому пути, в пустыню Гоби, в Токио, затем в Италию и Париж. Её гражданского мужа, Михаила Соколова, по кличке «Медведь», ждала иная судьба — его казнили, заступников у него не нашлось.
В Париже Наталья не думала отдыхать — несмотря на жизненные перипетии, решила продолжить дело жизни, как ей тогда казалось. Она входит в состав боевой группы Бориса Савинкова, однако ее боевые операции, как правило, оканчиваются неудачно. В 1911 году вышла замуж за беглого каторжанина Ивана Столярова, родила троих детей, однако этот брак был не совсем удачным — супруги более занималась революцией, чем вели совместную жизнь.
Наталья Климова хотела вернуться в Россию (но не в Рязань), но, судьба, как будто, препятствовала ей — возникали какие-то трудности, в силу которых поездка откладывалась или отменялась. В 1918 году даже были куплены билеты на пароход, однако помешала болезнь детей Климовой. Позже и она сама заболевает, так тогда говорили, «испанским гриппом» и умирает. Ее муж увидел детей лишь в 1923 году — в то жаркое время было не того.
Интересно, что тюремный срок, которого избежала Климова, «достался ее старшей дочери — по возвращении в Россию, она была осуждена на 10 лет лагерей. Имя Климовой было забыто, хотя некоторым её жизнь, напоминающая приключенческий роман, была близка. Так, известный классик Варлам Шаламов посвятил Климовой рассказ „Золотая медаль“, который сегодня опубликован в собрании сочинений писателя и доступен широкой публике.
http://news.rambler.ua/other/41227667-kak-ryazanka-chut-ne-v
|
Метки: климовы столяровы |
Рязанские улицы, парки и скверы хранят истории, сюжетам которых позавидовали бы оба Дюма, Агата Кристи и даже Дарья Донцова. |
Наташин парк |
|---|

Рязанские улицы, парки и скверы хранят истории, сюжетам которых позавидовали бы оба Дюма, Агата Кристи и даже Дарья Донцова.
Условияhttp://mediaryazan.ru/ekskursia/detail/94069.htm
Например, многие ли знают, кто такая Наташа, в честь которой в Рязани назван, пусть и не официально, целый парк? Так вот, с этим именем связывают две легенды, одна другой драматичней и романтичней, причём более невероятная из них является чистой правдой. По первой (неподтверждённой) версии, Наташа, дочь не то богатого купца, не то мелкопоместного дворянина, влюбилась в студента-семинариста. Отец, не допускавший и мысли о мезальянсе, возлютовал и запретил влюблённым встречаться. Несчастная девушка предпочла смерть жизни без ненаглядного и повесилась в саду на старой липе на своих же косах. Раскаявшийся безутешный отец подарил сад городу, а благодарные горожане назвали его в честь трагически усопшей красавицы.
Впрочем, эти страсти не имеют ничего общего с реальностью. На самом деле всё было намного интереснее. Начнём с того, что Наталья Сергеевна Климова — девушка совершенно реальная, воспетая Варламом Шаламовым в рассказе «Золотая медаль», упоминаемая Солженицыным в романе «Красное колесо» и являющаяся прототипом героини романа Михаила Осоргина «Сивцев Вражек». Наташа родилась в 1885 году в семье рязанского помещика, присяжного поверенного, председателя Рязанского отдела «Союза 17 октября», члена Госсовета от рязанского земства Сергея Климова. Семья была по тем временам продвинутой — девушка получила блестящее образование в Рязанской Мариинской гимназии, поступила на высшие естественные курсы Лохвицкой-Скалон в Санкт-Петербурге, отдыхала с отцом на Ривьере… После чего неожиданно для всего окружения вступила в партию эсеров.
Романтико-героические похождения так и могли бы закончиться с возрастом — замужеством и рождением детей, — но не тут-то было. Наташа настолько увлеклась революционными идеями, что в 1906 году участвовала в покушении на тогдашнего министра внутренних дел, председателя Совета министров Петра Столыпина. 30 ноября после взрыва на Аптекарском острове она была арестована, через год приговорена военно-полевым судом к смертной казни, заменённой впоследствии бессрочной каторгой. В казематах в ожидании решения своей участи Климова написала знаменитое «Письмо перед казнью», которое было напечатано осенью 1908 года в журнале «Образование» рядом с романом Марселя Прево и впоследствии обошло весь мир. Позже Климовой была написана повесть для детей «Красный цветок».
Но сгинуть на каторге Наташе не пришлось. В ночь с 30 июня на 1 июля 1909 года она в числе тринадцати каторжанок вместе с тюремной надзирательницей бежала из Московской губернской женской тюрьмы (нынешней Новинской). Полиция перевернула с ног на голову всю Рязань, ожидая, что блудная террористка вернётся в родные пенаты. Но она успешно скрывалась в Москве, позже путешествовала по магистрали Великого Сибирского пути, на верблюдах пересекла пустыню Гоби и добралась до Токио. Из Японии пароходом отправилась в Италию, оттуда в Париж...
Революционные порывы не оставили Климову и тут. Наташа, вернее Наталья Сергеевна, записалась в члены Боевой организации партии социалистов-революционеров. Там же в 1911 году познакомилась с революционером-боевиком, бежавшим с читинской каторги, за которого вскоре и вышла замуж. Ярая революционерка, она отошла от политической деятельности и полностью бросила себя на амбразуру молодой семьи, родила одного за другим трёх детей. Мечтавшая вернуться на Родину Климова в 1918 году сделала последнюю попытку уехать в Россию, купила билеты на пароход, но надеждам не суждено было сбыться — одна за другой заболели гриппом дочери, вслед за ними заболела и сама Наталья Сергеевна. В итоге свирепствующая в Европе в 1918 году «испанка» и унесла жизнь рязанской революционерки.
Ныне в Наташином парке стоит бюст Сергея Есенина и устроен Сад камней.
 Поделиться:
Поделиться:
Ольга Миловзорова 
|
Метки: климовы |
Квартира Натальи Столяровой |
Раздел:
Москва Александра Солженицына, Москва Варлама Шаламова
Квартира Натальи Столяровой
Адрес: г. Москва, Даев пер., д. 12/16
Тэги:
Фото: Эмиль Гатауллин, архив Общества «Мемориал»
Наталья Ивановна Столярова, которую с Шаламовым в 1960-е годы связывала тесная дружба, родилась в эмиграции. Она окончила Сорбонну, участвовала в культурной жизни Франции и русской эмиграции, была музой поэта Бориса Поплавского, но в 1936 году приехала в СССР «на зов судьбы-беды», как писал Шаламов в стихотворении «Нерест», посвященном Столяровой. С 1937 по 1946 год она находилась в лагерях. В конце 1950-х годов ее взял к себе личным секретарем И. Г. Эренбург. Впоследствии Н. И. Столярова играла большую роль в диссидентском движении, особенно в истории с переправкой за границу «Архипелага ГУЛАГ» А. И. Солженицына.
Наталья Столярова
Наталья Климова, мать Столяровой
Мать Натальи Столяровой — участник революционных событий Наталья Сергеевна Климова, член партии эсеров-максималистов, участник покушения на Столыпина — взрыва на Аптекарском острове. Климова была приговорена к смертной казни, замененной впоследствии пожизненной каторгой; однако благодаря участию в знаменитом побеге из Новинской тюрьмы каторги она избежала.
Ее «Письмо перед казнью» было известно всей российской интеллигенции, оно было переведено на иностранные языки, ходил даже слух (вошедший в роман писателя Михаила Осоргина), что Л. Н. Толстой написал «Не могу молчать» после прочтения этого письма Климовой. Шаламов, работая над рассказом «Золотая медаль», посвященным Н. И. Столяровой и ее матери, специально проверял этот слух у секретаря Толстого Н. Н. Гусева, близко знавшего Климову.
Более того, Шаламов хотел создать историко-художественную книгу о Климовой, куда были бы включены документы, письма и собственно рассказ. Название для планируемой книги было взято из поэмы Пастернака «1905 год» — «Повесть наших отцов». Проект, однако, не был реализован, так как в конце 1960-х годов Шаламов рвет отношения с кругом Н. Я. Мандельштам, к которому относилась Н. И. Столярова, и вообще разочаровывается в диссидентской среде. Особенно повлияла активная помощь Н. И. Столяровой А. И. Солженицыну, которого Шаламов несколько раз в 1970-е годы назовет «лакировщиком» и «дельцом». Активная переписка со Столяровой прекратилась, судя по имеющимся сведениям, в 1967 году, однако впоследствии Шаламов не отзывался о ней негативно ни в переписке, ни в дневниковых записях.
Как на Запад переправляли рукописи Солженицына
Наталья Столярова была одной из самых верных «невидимок» Солженицына. Именно благодаря ей были переправлены за границу ранний архив Солженицына, его романы «В круге первом» и «Архипелаг ГУЛАГ» и многие другие произведения. Впервые они познакомились в 1962 году в квартире Ильи Эренбурга и вплоть до смерти Столяровой в 1984 году сохраняли дружеские отношения.
Впервые Столярова помогла Солженицыну с переправкой его рукописей за границу в октябре 1964 года. У Солженицына уже была подготовлена капсула с пленкой архива (в том числе с романом «В круге первом»), но он не спешил с отправкой, пока в октябре 1964-го не сняли со всех должностей Хрущева. В те дни капсула с пленкой находилась у Ивана Рожанского, общего друга Солженицына и Льва Копелева, и ожидалось, что Рожанский вскоре поедет за границу, однако накануне отъезда ему отказали в командировке.
Тогда Солженицын обратился к Столяровой, которая нашла нового помощника в лице Вадима Андреева, сына Леонида Андреева и брата Даниила Андреева. Встреча Солженицына и Андреева произошла в старой коммунальной квартире Столяровой в Малом Демидовском переулке.
Из воспоминаний Солженицына:
Она [Столярова] назначила мне приехать в Москву снова, к концу октября. К этому дню уже поговорила с Вадимом Леонидовичем. И вечером у себя в комнатушке, в коммунальной квартире, в Мало-Демидовском переулке, дала нам встретиться. В. Л. оказался джентльмен старинной складки, сдержанный, чуть суховатый, отменно благородный человек, — и, собственно, это благородство уже и закрывало ему возможность выбора, возможность отказать в такой просьбе — для русской литературы да и для советский лагерей, где и его родной брат Даниил долго сидел. (Говорила мне потом Наталья Ивановна, что В. Л. считал такое предложение для себя и честью.) И жена Ольга Викторовна, падчерица эсеровского лидера Чернова, была тут же, весьма приятная сочувственная женщина, одобрявшая решение мужа и разделявшая все последствия. И вот они, формально такие же советские кролики, как мы, не защищенные не только дипломатическим иммунитетом, но даже иностранным гражданством (паспорта у них были советские, в послевоенном патриотическом энтузиазме части русской эмиграции В. Л. перешел в советское гражданство, отчасти чтобы чаще и легче ездить на родину), — они брались увозить взрывную капсулу — все, написанное мною за 18 лет, от первых непримиримых лагерных стихотворений до «Круга»! Да не знали, не вникли они, что именно там есть, но достаточно вникли, что — взрывчатое. И — везли, такое решение уже состоялось прежде нашей встречи.
Этот вечер тогда казался мне величайшим моментом всей жизни! Что грезилось еще в ссылке, что мнилось прыжком смертным и в жизни единственным — вот совершилось обыденно тихо, в вежливом негероическом разговоре. Я смотрел на супругов стариков как на чудо. О самой операции почти даже не говорили. Вынул я из кармана тяжелую набитую алюминиевую капсулу, чуть побольше пинг-понговского мяча, — приоткрыл, показал им скрутки — положил на чайный столик, у печенья, у варенья. И Вадим Леонидович переложил в свой карман. Говорили же — о синтаксисе, о месте прилагательного относительно своего существительного, о жанрах, о книге «Детство» самого В. Л., вышедшей в СССР и которую я читал. А Наталья Ивановна подбила меня рассказать о самом поразительном, что я в себе носил, — о лагерных восстаниях. Старики-женевцы слушали, изумленные. <…>
31 октября 1964, через 2 недели после воцарения Коллективного Руководства, моя маленькая бомба пересекла границу СССР в московском аэропорту. Она просто лежала в боковом кармане пиджака В. Л., он не знал никаких приемов, — а таможенник, по паспорту, поинтересовался: вы сын писателя? И дальше пошел разговор о писателе, досмотра серьезного не было. Капсула прошла как бы под сенью Леонида Андреева. (Казалось тогда — благоприятной.) Ева провожала друзей, и те еще успели дать ей понять об успехе — переговариваясь с одной воздушной галереи на другую.Солженицын А. И. Бодался теленок с дубом. С. 491-493
Авторская машинопись романа «В круге первом». 1962 г. Фото: «Александр Солженицын: Из-под глыб». Рукописи, документы, фотографии. М.: Русский путь, 2013
Авторская машинопись романа «В круге первом». 1962 г. Фото: «Александр Солженицын: Из-под глыб». Рукописи, документы, фотографии. М.: Русский путь, 2013
В начале 1966 года Столярова познакомила Солженицына с Александром Угримовым, агрономом, переводчиком, бывшим эмигрантом и участником французского Сопротивления, который в 1947 году был выслан с семьей в СССР, где их тут же арестовали и отправили в особые лагеря. В конспиративной команде Солженицына Угримов отвечал за хранение рукописей, которые держал у тайных «кротов» — с ними сам Солженицын, по условиям конспирации, знаком не был.
Александр Солженицын с Натальей Столяровой и Александром Угримовым. В доме Солженицына в деревне Рождество. 1968 г. Фото: solzhenitsyn.ru
Последней крупной пересылкой, которую Столярова организовала для Солженицына, стала отправка на Запад романа «Архипелага ГУЛАГ». В первых числах июня 1968 года благодаря Светловой, Угримову и сыну Вадима Андреева Александру переснятый на пленку «Архипелаг…» был отправлен на Запад. Эта была последняя из подобных операций как для Угримова (в силу возраста), так и для членов семьи Андреевых, с которыми Солженицын испортил отношения из-за возникших на Западе проблем с переводом «Архипелага…» (права на публикацию «Архипелага…» за рубежом первое время принадлежали Андреевым) и последовавшей повторной отправкой рукописи новому западному правообладателю.
Сергей Соловьев, Арен Ванян
Источники, литература, ссылки:
Шаламов В. Т. Переписка с Н. И. Столяровой
Соловьев С. М. «Повесть наших отцов» — об одном замысле Варлама Шаламова // СПб., 2012
Воспоминания о ГУЛАГе и их авторы. Александр Александрович Угримов (1906-1981)
Там же: Столярова Наталья Ивановна (1912-1984)
Кан Г. С. Наталья Климова: Жизнь и борьба. СПб., 2012
Сараскина Л. И. Солженицын. М.: Молодая Гвардия, 2008
Солженицын А. И. Бодался теленок с дубом. Очерки литературной жизни. М.: Согласие, 1996https://old.topos.memo.ru/kvartira-natali-stolyarovo
|
Метки: столяровы климовы |
От бомбистки Наташи до «шахидки» Вари |
http://rusnardom.ru/ot-bombistki-natashi-do-shahidki-vari/
Что роднит русских террористов вековой давности и сегодняшнюю «образованщину».

Недавняя история о том, как умница, золотая медалистка, студентка философского факультета МГУ Варвара Караулова (на фото) была охмурена и завербована исламскими экстремистами-террористами и уже почти добралась до места террора, где должна была быть использована как пушечное, читай пластидное, мясо, взбудоражила общественность: насколько легко можно, оказывается, сознание молодого (любого?) человека переформатировать, запудрить мозги духовной человеконенавистнической отравой, сделать из него потенциального или реального убийцу десятков людей.
Однако если посмотреть на времена столетней давности, на страшный террор, в который впала русская интеллигенция, то начинаешь понимать, что работают какие-то мировые константы, что человек мало меняется или вообще не меняется, и что поле битвы добра и зла в каждом поколении остается тем же – это сердца, души, умы.
Сто лет прошло, что изменилось? И нам назидание: подумать только – Россия была мировым рекордсменом по политическому терроризму.
Спрашивают: чем отличается Александр Ульянов от своего младшего брата Владимира Ульянова? И отвечают: Александр, один из организаторов и руководителей террористической фракции «Народной воли», повешенный в Шлиссельбургской крепости в 1887 г. за подготовку покушения на российского императора Александра III, «по факту», был менее кровожаден.
Тут усматривается вектор развития…
* * *
Рассказывают удивительную, но и по-своему характерную историю.
В Рязани есть место, олицетворяющее «всю глубину страшного и загадочного эксперимента, поставленного над русской интеллигенцией в XX веке». Это Наташин парк – называемый, по мнению многих, не в честь женщины, которая пекла вкусные пироги для горожан, а в честь Натальи Климовой, террористки из радикального крыла эсеров-максималистов.
Наташа выросла в хорошей семье. Отец был адвокатом, членом Государственного Совета от Рязанской губернии, мать – известныим врачом. Н. Климова, выпускница женской гимназии, поступила в элитный столичный вуз и познакомилась с революционерами. В ее жизнь вошли не только чтения запрещенных брошюр, но и подпольные лаборатории со взрывчаткой. Ее любовником стал главарь знаменитой Боевой организации эсеров-бомбистов по кличке Медведь.
 Арестовали Наталью за знаменитое покушение на Столыпина, во время которого пострадало свыше ста человек, в большинстве – простых людей, сидевших в приемной, съехавшихся со своими бедами со всей России. Женщины, дети, старики – в них пришелся чудовищный заряд, части тел «разлетелись по всей округе».
Арестовали Наталью за знаменитое покушение на Столыпина, во время которого пострадало свыше ста человек, в большинстве – простых людей, сидевших в приемной, съехавшихся со своими бедами со всей России. Женщины, дети, старики – в них пришелся чудовищный заряд, части тел «разлетелись по всей округе».
Если всматриваться в лицо Натальи Климовой (на фото) и многих других бомбистов, возникает вопрос: откуда же в них столько жестокости?
Некоторые аналитики полагают: секрет в том, что мозг человека – особенно образованного, то есть способного воспринимать «печатный канал информации», – легко поддается «перепайке» и манипулированию.
Когда террористы бросили «адскую машинку» в карету Великого князя Сергея Александровича Романова и его разорвало на куски, московская профессура на глазах у студентов острила: «Его Высочество пораскинули мозгами». Смешно, не правда ли? Смеявшиеся и тогда считались «передовыми умами эпохи». И сейчас – только многократно усиленный современными СМИ – подобный смех поставлен во главу угла бытия современного русского человека. Нажмешь на кнопку телеящика, и обязательно попадешь – там иль сям – то ль на КВН, возведенный, похоже, чуть ли не в ранг государственной информационно-развлекательной доктрины, то ль на «Аншлаг», «Комеди-клаб», «Уральские пельмени», «6 кадров» и т.п. (качество этих передач не обсуждаем, оно разное).
Большинство российских террористок-смертниц были образованными и культурными девушками. Это был воистину «ИГИЛ того времени», у них из сознания было умело удалено табу на убийство детей, простых граждан. И всякий взрыв бомбы уносил жизни немалого числа людей, случайно или по служебной необходимости находившихся рядом с «объектом покушения».
Точно замечено: русская интеллигенция в начале XX века нарушила табу на жестокость и насилие. Либералы читали в газетах сообщения о политических убийствах высших чиновников Империи – и аплодировали. Уроженец Харькова, известный террорист и писатель Борис Савинков, был вхож в лучшие салоны, дружил с писательницей Зинаидой Гиппиус, был героем литературной хроники.
Пишут, что на даче Столыпина при взрыве 27 человек погибло сразу, еще 33 – тяжело ранено, многие потом скончались. Взрыв изувечил двенадцатилетнюю дочь премьер-министра и трехлетнего сына.
И что вы думаете! «Девушка с лицом ангела» была поднята русской интеллигенцией на щит «борца с режимом». «Страдалице режима» Климовой организовали побег за границу, где она как «героиня нашего времени» давала интервью прессе, выступала публично, активно посещала эмигрантские кружки.
Читать об этом жутко, словно в зеркале тут видны восторги нынешней псевдолиберальной интеллигенции.
Про «бумеранг» тоже верно сказано: пройдет совсем немного лет, и русская интеллигенция, нарушившая табу на жестокость, с лихвой хлебнет горькую чашу, а кто выпустил кровавого джинна из бутылки – сами умоются кровью.
Правота, на мой взгляд, на стороне тех, кто говорит о судьбе Натальи Климовой, девушки их приличной семьи, с открытым и даже милым лицом, в контексте технологий обработки сознания, «перепрошивки образованных мозгов». И это в самом деле сектантские техники обработки сознания и души, известные нам теперь, скажем, и по Украине, которую давно называют «полигоном для сект». В самом деле: вдруг светлая девушка «начинает бормотать бессмысленную абракадабру, и с улыбкой идет убивать детей и стариков, а потом поет за решеткой “Интернационал”».
Многие и сегодня, увы, утверждают, что «наташи климовы» (а также «саши ульяновы», «иваны каляевы», «степаны халтурины» и другие) встали на путь борьбы с существововшим политическим режимом вынужденно, не имея возможности других способов борьбы, что никакой «перепайки» мозгов у них не было и быть в то время не могло, что это были люди с осмысленным поведением, тяготевшие к «европейской системе ценностей», для них достоинство личности было главной и безусловной ценностью, а были они людьми, в большинстве своем совестливыми и нравственными. Тогда как «царский режим», с которым они боролись, был, по их убеждению, в высшей степени аморальным и безнравственным, что, кстати, якобы роднит его с нынешним политическим режимом.
Егор Друм пишет в Фейсбуке по этому поводу: «Оценка ситуации с позиций “совестливые и нравственные эльфийские силы Добра” против “аморального и безнравственного Зла” – это и есть та самая картинка, которую рисуют неофитам. Это не экспертная аргументация. Это жречество. Следующий шаг после такого – объяснить, что лучший способ избавить мир от Зла – надеть (и одеть на кого-то – М.С.) пояс шахида. Но если вы были столь совестливыми – зачем взорвали сто стариков, женщин и детей? Неужели Вы оправдываете их поступок?»
«Русский террор» рубежа XIX–XXI вв. должен бы заставить задуматься сегодня тех, кто считает идеологический террор исключительно порождением ислама. Антон Сумин, который напомнил нам про страшную историю Наташи Климовой, пишет в Фейсбуке: «Образ “русского террориста” в контексте мировой литературы того времени – очень интересный вопрос. И парадоксальней всего то, что “русского террора” не было. Вот география террора в начале века: Прибалтика, Польша, Финляндия, Кавказ… Ну и две столицы – Москва и Питер. (Не следует забывать и Харьков – М.С.) Еще очень сильно “зажигал” Урал, но там особая история – старообрядцы. Все купеческие династии, финансировавшие террор, со старообрядческими корнями. Россию эти ребята ненавидели, царь был для них “черт с рогами“, любой урядник – это бес, на кол его и в прорубь. Немудрено, что царскую семью было решено расстрелять именно в центре старообрядческого движения». Между прочим, следует помнить также, что семья человека, снесшего Ипатьевский дом, то есть место убиения царственных страстотерпцев, тоже имеет старобрядческие корни.
Н. Климова успеет побывать подругой Б. Савинкова, выйти в парижской эмиграции замуж за бежавшего в 1911 г. с Читинской каторги эсера Ивана Столярова, родить троих дочерей, порывалась после революции вернуться в Россию, но заболела «испанкой» (гриппом) и скончалась вместе с младшей дочерью в 1918 г.
Время раскололось сто лет назад, но, увы, не срослось до сих пор.
Нам всем есть над чем работать. В первую очередь – над собой.
http://www.stoletie.ru/vzglyad/ot_bombistki_natashi_do_shahidki_vari_818.htm
|
Метки: климовы |
Мария(Муся) Ивановна Столярова |
соны > Мария(Муся) Ивановна Столярова
|

|
 |
Близкие родственники
Цитаты из источников
Источник: Smart Match™: Genealogy of Russian peasants Связь с: Мария(Муся) Ивановна Столярова Дата: 28 май 2016 Текст цитаты: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Метки: столяровы |
Мария Сергеевна Столярова |

Мария Сергеевна Столярова |
 |
Умерла: | Место: |  Ташкент Ташкент |
|
 |
|
| Мария Сергеевна - события в жизни: |
| Рождение | |||
 |
Место жительства Ташкент |
||
 |
Брак с: Иван Петрович Столяров Санкт-Петербург |
||
|
|
|||
| 1891 |  |
Рождение дочери: Мария(Муся) Ивановна Столярова Санкт-Петербург 1891 |
|
| 1894 |  |
Рождение сына: Владимир Иванович Столяров Санкт-Петербург 1894 |
|
| 1896 |  |
Рождение сына: Петр Иванович Столяров Санкт-Петербург 1896 |
|
| 1898 |  |
Рождение дочери: Ольга Ивановна Столярова (Столярова) Санкт-Петербург 1898 |
|
| 1908 |  |
Рождение сына: Борис Иванович Столяров Санкт-Петербург 1908 |
|
 |
Смерть Ташкентhttps://www.myheritage.com/person-5000123_286951_2...%C2%B0?lang=RU&show=events |
||
|
Метки: столяровы |
Трудовая деятельность бывших дворян в СССР (1920-е – 1930-е гг.) |
Трудовая деятельность бывших дворян в СССР (1920-е – 1930-е гг.)
Starley bpv перепечатал из elibrary.ru 30 августа 2013, 00:14
4 оценок, 2313 просмотров Обсудить (16)
История русского дворянства после 1917 г. ставит перед исследователем две ключевые проблемы: проблему модернизации аристократической семьи, то есть адаптации бывших дворян к радикальным изменениям в социально-экономическом и общественно-политическом укладе, и проблему сохранения традиции – трансляции устоявшейся дворянской культуры и дворянского самосознания. Без изучения этих вопросов в их сложной динамической взаимосвязи комплексное исследование темы невозможно.
Модернизация и связанные с ней социокультурные и антропологические явления (переход от многочисленной дворянской семьи-клана к компактной современной «ячейке общества» феминизация и повышение социальной мобильности) были актуальны как для представителей дворянских фамилий, покинувших Россию, так и для тех, кто остался «по эту сторону границы». Причем для эмигрантов, которым приходилось интегрироваться в иную языковую и культурную среду, новая среда обитания зачастую была менее враждебна, чем для «советских дворян» – советское общество и государство.
После Октябрьской революции русское дворянство потеряло сословные привилегии – 24 ноября 1917 г. Совет народных комиссаров РСФСР издал декрет «Об уничтожении сословий и гражданских чинов». Последовавшая затем экспроприация земельной собственности лишила многих бывших дворян основного источника существования.
Задача поиска новых источников дохода осложнялась тем, что они подверглись дискриминации по классовому признаку и были фактически «отлучены» от сколько-нибудь значимых позиций в хозяйственной сфере и бюрократическом аппарате. В результате, в каждом отдельно взятом случае адаптация и трудоустройство происходили по-разному – в зависимости от знаний, навыков и умений конкретного дворянина (дворянки), региона проживания, накопленного «социального капитала» (связей), а также стечения случайных обстоятельств. Трудности с поиском работы, адекватной уровню образования и соответствующей предыдущему роду деятельности, возникали у всех «бывших» (особенно у представителей старшего поколения, родившихся в 1870-е гг. и раньше). В то же время ассимиляция дворян в общей массе трудящегося населения была неизбежна.
Из всех категорий так называемых «бывших людей», к которым при советской власти также относили купечество, священнослужителей и прочих «классовых врагов», дворяне наиболее интересны, так как многие из них до революции жили не столько службой, сколько доходами с родовых имений. Для этого сословия процесс адаптации и трудоустройства был наиболее сложным, а виды профессиональной деятельности, в силу необходимости –наиболее разнообразными. В качестве конкретных примеров нами были выбраны трудовые биографии в советский период отдельных представителей четырех дворянских фамилий, до революции владевших земельными угодьями – князей Голицыных, Аксаковых, князей Хилковых и Зворыкиных.
Данную выборку можно считать репрезентативной, поскольку каждая из этих фамилий олицетворяет определенный тип дворянской семьи и отличается от другой по численности, степени политической активности в досоветском обществе, преимущественным местам проживания, а также по степени изученности в специальной литературе и другим факторам.
Например, княжеский род Голицыных – один из самых заметных аристократических родов в российской истории, а также один из самых многочисленных: в поколенной росписи, составленной князем Н.Н. Голицыным в конце XIX в., фигурируют более 1200 человек. Князья Хилковы, напротив, являются «малочисленным аристократическим родом с дискретной политической активностью». Род Аксаковых, из которого вышел писатель Сергей Тимофеевич Аксаков, принадлежит к числу старейших дворянских фамилий (известен с XI века). Зворыкины –фамилия «молодая» и ведется с XVIII в. Период 1920-х – 1930-х гг. выбран, поскольку в это время происходили наиболее масштабные сдвиги в общественном укладе, вынуждавшие бывших дворян проявлять максимальную мобильность.
Уникальность каждой из перечисленных фамилий, ее характеристик и исторических судеб обусловливала и специфические способы обустройства представителей рода в новой жизни. Однако различия лишь подчеркивали социальную общность бывших дворян и схожесть проблем, встававших перед ними на пути к социальной адаптации и трудоустройству. Главной проблемой, бесспорно, являлось не отсутствие тех или иных профессиональных знаний, а враждебное отношение среды и отсутствие у самих дворян жестких карьеристских установок. С.А. Чуйкина, рассматривая проблему «реконфигурации социальных практик» в дворянской среде в советские годы, выделяет, на примере мужской линии Зворыкиных, следующий исходный момент: «Основные этапы их биографии: получение образования в закрытом учебном заведении в Москве или Петербурге, ранняя отставка, самореализация в хозяйственной деятельности либо в какой-либо непрофессиональной области, женитьба. Надо особо отметить, что именно женитьба позволяла мужчинам начать самостоятельную деятельность по благоустройству имения». И далее: «Необходимо отметить особенность, присущую дворянской культуре в целом, которая нашла отражение и в жизни братьев Зворыкиных: аристократу «не подобало» быть профессионалом».
Тем не менее из дворянской среды вышло немало профессионалов высокого уровня. К примеру, отец автора «Записок» Кирилла Николаевича Голицына (1903 – 1990) князь Николай Владимирович Голицын (1877–1942) был крупным ученым-архивистом, владел одиннадцатью иностранными языками и незадолго до революции занял должность директора Санкт-Петербургского Главного архива Министерства иностранных дел.
В «Трудовом списке», введенном в 1926 г. для всех советских служащих, сохранились следующие записи о его трудовой деятельности с 1918 по 1924 г.: «помощник делопроизводителя в канцелярии правления железной дороги, старший конторщик, делопроизводитель отдела лесозаготовок, старший статистик». Послереволюционная трудовая биография Николая Владимировича – яркий пример несоответствия деятельности уровню образования и имеющимся профессиональным навыкам. Кирилл Николаевич Голицын, в 1923 г. вынужденный из-за ареста бросить учебу в Архитектурном институте, в тот же период занимался художественно-оформительской деятельностью. В его автобиографии, написанной для получения заграничного паспорта, сказано: «Осенью 1928 года участвовал в оформительских работах в музее «Ясная Поляна» по подготовке к 100-летнему юбилею Л.Н. Толстого. С января 1929 года был принят в штат сотрудников музея, где и проработал до 1932 года… В период с 1932 по 1941 год работал в Москве на договорных началах по оформлению музеев, выставок, а также в издательствах».
Можно сделать вывод, что автору «Записок» в этом плане повезло больше – так и не получив высшего образования, он все же смог работать в соответствии со своими наклонностями и полученными знаниями. Двоюродный брат Кирилла Николаевича, князь Сергей Михайлович Голицын (1909 – 1989) с детства задумывался о литературном поприще. Впоследствии он закончил Высшие литературные курсы и в 1930-е гг. стал публиковать детские рассказы в журналах «Мурзилка», «Чиж» и др., впоследствии став профессиональным писателем. Кроме того, в 1930-е гг. Сергей Михайлович работал топографом и принимал участие в строительстве канала им. Москвы. Примеры младших Голицыных (Кирилла Николаевича и Сергея Михайловича), родившихся в первое десятилетие XX в. и прошедших вторичную социализацию уже в советских институтах, показывает, что это поколение успешнее приспосабливалось к окружающей действительности, чем предшествующее, несмотря на то, что их родители и дяди, состоявшиеся как личности еще в дореволюционный период, обладали большим багажом профессиональных знаний и большим жизненным опытом.
Профессиональная деятельность живших в РСФСР, а затем – в СССР членов княжеского рода Хилковых в данный период складывалась достаточно разнообразно. Князь Борис Дмитриевич Хилков (1889 – 1938) после военной службы, в 1920-1930-е гг. работал старшим редактором законодательного отдела Реввоенсовета СССР, занимался сельским хозяйством и являлся бухгалтером в колхозе – до ареста и расстрела в марте 1938 г. Его брат, Александр Дмитриевич (1898 – 1947), родившийся и живший до 1934 г. в Великобритании, после приезда в Советский Союз работал столяром-модельщиком на вагоноремонтном заводе в Ленинграде и писал статьи для журналов «За рубежом», «Вокруг Света», «Рабселькор», «Вагоностроитель», а также работал над романом об эмиграции «Обнаженные корни», две части которого были опубликованы в 1940 г. при содействии А.М. Горького. Сын Бориса Дмитриевича, Михаил Борисович Хилков (1911–1987) по окончании Дальневосточного рисо-мелиоративного техникума в городе Уссурийске был в 1933 г. направлен на гидротехнические работы в рисосовхоз. Там же он занимался топографией и был по совместительству прорабом гражданского строительства. В целом, представители этой фамилии продемонстрировали высокую степень социальной мобильности, которая позволяла им заниматься разными видами деятельности в соответствии со складывающимися обстоятельствами. К сожалению, карьерным достижениям Хилковых (как и всех бывших дворян) препятствовали репрессии и разнообразные виды административного прессинга, дискриминации «бывших».
Из представителей фамилии Аксаковых необходимо упомянуть Бориса Сергеевича Аксакова (1886–1954), бывшего офицера, который в первой половине 1920-х гг. служил «в различных учреждениях. В 1923 г., например, – на Сызранско-Вяземской железной дороге», а в 1928 г. подписал трехлетний контракт и уехал в Казахстан, в Кзыл-Орду, где занимался сельскохозяйственным снабжением республики. В 1930-е гг. Борис Сергеевич работал экономистом в различных организациях, в частности, в Московском мукомольном тресте. Его бывшая супруга Татьяна Александровна Аксакова (урожденная Сиверс) после развода с Борисом Сергеевичем в 1934 г. осталась без средств к существованию и «впервые в жизни пошла на службу» – статистиком в пункт охраны материнства и младенчества; на момент ареста в 1935 г. она работала медсестрой. Сестры Бориса Сергеевича – Ксения Сергеевна, Нина Сергеевна и Вера Сергеевна также работали: Ксения Сергеевна – в системе народного образования, Нина Сергеевна – заместителем заведующей сектора по кадрам в Госплане РСФСР (ее муж, Н.И. Смирнов, был высокопоставленным управленцем и одно время даже занимал должность заместителя наркома связи), Вера Сергеевна – машинисткой в Жиртресте. Судьба «советских Аксаковых» в основном была связана с государственными учреждениями, в которых они трудились с большим или меньшим успехом – как мужчины, так и женщины. Интересный материал дает нам история семьи Зворыкиных, несколько отличающаяся от историй других дворянских фамилий.
Выше отмечалось, что мужчины в этом роду не стремились реализовать себя в профессии и службе – для них потеря недвижимого имущества должна была быть особенно болезненной. Как пишет С.А. Чуйкина, «непосредственным толчком к изменению повседневных практик послужила Октябрьская революция, экспроприация поместья. У наследников традиционного семейного стиля возникла необходимость выбора нового способа жизни, овладения новыми умениями». В результате, по мнению Чуйкиной, мужчины семейства Зворыкиных осуществили переход от «мира любителя» к «миру профессионала», превратив свои хобби в работу. Так, Николай Анатольевич Зворыкин, до революции серьезно увлекавшийся охотой, в начале 1920-х гг. пошел работать в Лесосоюз, а начиная с 1925 г., стал публиковать рассказы в охотничьих журналах. Кроме того, он брался натаскивать охотничьих собак, а в 1934 г. вместе с другими специалистами поехал на Кавказ – организовывать борьбу с волками по правительственному заданию. Основным же и, судя по всему, любимым занятием Николая Анатольевича были статьи и книги по охоте – в списке его работ значатся 34 публикации. Его брат, Федор Анатольевич, увлекавшийся музыкой, также попытался реализовать свои любительские навыки: в 1925 – 1929 гг. «он пишет фокстроты и продает их певцам и артистам». После не слишком удачных опытов в этой области Федор Анатольевич окончил курсы иностранных языков и начал преподавать английской язык в Лесотехнической академии и в Институте водного транспорта. Впоследствии Федор Анатольевич Зворыкин получил звание доцента и даже составил учебник английского языка для слушателей лесотехнических вузов, вышедший в 1933 г.
Женщины семейства Зворыкиных использовали тактику, отчасти схожую с мужской и основанную на «профессионализации» хобби, а также навыков хозяйки светского салона. Так, Надежда Анатольевна Зворыкина давала частные уроки английского языка, а ее сестра Ксения Анатольевна смогла, по знакомству, устроиться сначала в библиотеку Сельскохозяйственного института, а затем – в библиотеку Строительного института.
Рассмотренные нами примеры трудовой деятельности бывших дворян в 1920 - 1930-е гг. позволяют нам сделать следующие выводы. Практически все представители аристократических фамилий, оказавшись в экстремальных условиях, смогли проявить нужную степень социальной мобильности и либо превратить хобби в профессию (как Николай Анатольевич Зворыкин), либо в максимально краткие сроки овладеть новыми профессиональными знаниями (как, например, князь Борис Дмитриевич Хилков). При этом конкретные способы получения профессии различались от случая к случаю и зависели от совокупности самых разных обстоятельств, объективных и субъективных. Одним (князь Николай Владимирович Голицын) приходилось заниматься работой, косвенно связанной с предыдущим родом деятельности, однако на качественно ином (более низком) уровне. Другим (Татьяна Александровна Аксакова) приходилось фактически перебиваться случайными заработками. В этом отношении трудовой путь молодых поколений дворян, которые пережили революцию в детском, подростковом либо юношеском возрасте (дворяне 1900 – 1910 гг. рождения) оказался проще, чем у их обремененных накопленным опытом родителей. Хотя представители всех поколений дворян, которые трудились в 1920-е – 1930-е гг., пострадали от репрессий и различных форм административного давления со стороны государства, бывшим дворянам, начинавшим трудовую деятельность уже в советское время, было проще найти свой путь.
Рассматривая профессиональный состав бывших дворян, ставших со временем советскими специалистами, стоит отметить, что, несмотря на дискриминационные меры, предпринимаемые властями, многие из них влились в ряды технической и творческой интеллигенции, став преподавателями, инженерами, переводчиками, писателями (из последних наиболее известны С.М. Голицын и О.В. Волков). Это наглядно свидетельствуют о серьезном багаже, с которым отпрыски аристократических фамилий «входили в жизнь»: профессиональные знания, увлечения, для некоторых ставшие профессией, мощные культурные традиции и самоидентификация. Данный «багаж» очень пригодился им в сложнейший период 1920 - 1930-х гг. В дальнейшем, по мере ослабления давления общественного и государственного прессинга, «выравнивания» внутриполитического курса партии, бывшие дворяне постепенно ассимилировались в советском обществе.
Ефремов С.И.
|
Метки: дворянство |
Граф Григорий Орлов: красавец и неуч |
Граф Григорий Орлов: красавец и неуч
Он был скандальной личностью при жизни, остался таким в памяти потомства, хотя хорошего он оставил после себя, пожалуй, больше, чем плохого. Судите сами.
В постель к Императрице
Дети тверского помещика и новгородского губернатора Орлова не отличались утончёнными нравами и образованностью. Выучились они кое-как. Григорий ни в науках не понимал, ни французского языка не знал. Зато у него была природная смекалка и чутьё, как решать порученные ему дела. Это в придачу к привлекательной внешности, весёлому нраву и личной храбрости.
За смелость в Семилетней войне офицера Григория Орлова приметил генерал Пётр Шувалов и взял к себе адъютантом. Но Григорий закрутил роман с любовницей своего покровителя – княгиней Еленой Куракиной. Говорят, от этой связи даже родилась дочь – воспитанница Орлова Наталья Алексеева. Шувалов удалил от себя Орлова.
Этот случай обратил на себя внимание петербургского высшего света и в том числе – Екатерины, супруги наследника престола Петра Фёдоровича. Она и Орлов сблизились… В 1762 году у них родился сын – родоначальник графов Бобринских.
Администратор и эстет
Братья Орловы сыграли главную роль в перевороте 28 июня 1762 года, свергнувшем Петра III и возведшем Екатерину на престол. Начался период наивысшего могущества Григория Орлова. Одно время Императрица даже хотела официально оформить свои с ним отношения, но не посмела пойти против общественных предрассудков.
Пожалованный в 1763 году в графское достоинство Григорий Орлов успешно выполнял государственные поручения Императрицы. Особенно прославился он во время ликвидации чумы в Москве в 1771 году. Эпидемия была страшная, люди мёрли десятками тысяч. По Первопрестольной прокатился бунт, когда толпа растерзала архиепископа Амвросия и убивала «дохтуров».
Орлов, хоть и неучем был, принял разумные и энергичные карантинные меры. Порядок был восстановлен, и чума пошла на спад. Императрица отметила заслуги своего возлюбленного возведением арки-памятника в Царского Селе со словами благодарности: «Орловымъ отъ бҍдъ избавлена Москва». Арка и надпись сохранились по сей день.
Орлов начал возведение монументального дворцово-паркового ансамбля в подаренной ему Екатериной Гатчине.
1990 - Царская охота (в роли Григория Орлова актер Александр Голобородько)
Роковая любовь
Орлов привлекал женщин и сам был охоч до них. Князь Михаил Щербатов в своей не предназначенной к публикации книжке «О повреждении нравов в России» писал, что Орлов изнасиловал свою 13-летнюю двоюродную сестру Екатерину Зиновьеву, на которой потом женился. Этот брак наделал большого скандала в свете.
С трудом граф нашёл храм, где его обвенчали с кузиной. Но вопрос был вынесен на рассмотрение Сената, который постановил признать брак незаконным и обоих прелюбодеев разослать по монастырям. Тут общественное мнение возмутилось уже таким приговором. Сам граф Кирилл Разумовский едко высмеял его.
Императрица в ту пору уже увлеклась Потёмкиным. Она ничего не имела против женитьбы своего бывшего возлюбленного, на ком он хочет. Екатерина отменила решение Сената. Более того, она пожаловала свою тёзку Орлову в свои статс-дамы.
Но Григорий недолго прожил в браке. Екатерина Орлова скончалась в возрасте 22 лет от чахотки. Действительно любивший её граф не выдержал горя и впал в безумие. Он пережил супругу только на два года и скончался в 1783 году в возрасте 48 лет.
Фотоматериал использован из свободного доступа Яндекс и является иллюстрацией мыслей автора.
https://zen.yandex.ru/media/history_russian/graf-g...acc35d390d00a97639c7?from=feed
|
Метки: орловы |
Война она и для женщин - война! Гражданская - самая лютая!!!!! |
Промо-блок свободен! Разместите тут свою запись
Comments
3rd-Jan-2019 09:22 am (UTC)
|
|
Что ни фамилия,то чисто русская. |
|
3rd-Jan-2019 09:35 am (UTC)
|
|
Всё равно - не бабское это дело. |
|
3rd-Jan-2019 12:07 pm (UTC)
|
|
Ч |
|
|
Война она и для женщин - война! |
|
3rd-Jan-2019 12:08 pm (UTC)
| 1, Прапорщик Зинаида Готгард (верхний ряд слева) была одной из первых 18 девушек, изъявивших желание вступить в Добровольческую армию в начале ее формирования. Выполняла опаснейшие поручения разведывательного отделения и лично генерала Алексеева в тылу красных. Ко времени эвакуации Крыма из первого отряда девушек-прапорщиков в живых осталось не более трех-четырех.
2. Мария Мерсье окончила в 1917 г. Александровское военное училище и были произведена в прапорщики. С ноября 1917 г. находилась в Добровольческой армии и участвовала в 1-м Кубанском (“Ледяном”) походе в составе пулеметной роты Корниловского ударного полка. Погибла в 1919 г. под Воронежем.
3. Реформатская Зинаида Николаевна, участник Белого Движения. Окончила Александровское военное училище в 1917 году. Прапорщик. В Добровольческой армии. Участник 1-го Кубанского похода, затем в Алексеевском полку. Неоднократно ранена. В 1-м браке жена полковника Вертоградского, во 2-м - Кальфа. В эмиграции проживала в США. Умерла 16 декабря 1968 в Эль Пасо (США)." 4. З.Н.Реформатская и сестра милосердия, участница Кубанского похода Д. Шмидт
5. Баронесса София де Боде. Единственная из девушек-прапорщиков, оказавшаяся в коннице.В октябре 1917 участвовала в уличных боях в Москве. Первопоходница, лично расстреливала большевиков, погибла 13 марта 1918 при штурме Екатеринодара во время атаки Кубанского конного дивизиона.
6. Елена Михайловна Постоногова (Смолко).. Переводчик китайского, японского, корейского, маньчжурского, польского и немецкого языков. Участница китайского похода Русской армии. Русско-японской и гражданской войн. В русско-японскую была ранена. Георгиевский кавалер. За работу в белой контрразведке в 1920 арестована и расстреляна.
7. Елена Чоба. В 1914 вышла замуж за казака Михаила Чобу. В начале Первой Мировой Михаил погиб. За свой счет справила казачье обмундирование и обратилась к станичному обществу с просьбой направить ее на фронт сражаться вместо погибшего супруга. Поступок казачки поддержал атаман ККВ М.П.Бабыч. В октябре 1914 под именем Михаила Чобы попала на фронт. В 1915 была награждена тремя медалями и Георгиевскими крестами 3-й и 4-й степени. В 1916 тяжело ранена. В ноябре 1916 вернулась в родную станицу, тогда и была сделана эта фотография.
В начале 20-х годов от нее пришло письмо из Болгарии. Известно также, что в середине 20-х она участвовала в гастролях театрализованной труппы 'Кубанские джигиты' в городе Сен-Луис (США). 8. Ефрейтор Маргарита фон Дервиз (Лопухина). 1919 г. 17 гусарский Черниговский полк. Погибла под Джанкоем осенью 1920 года.
9. Бузун Ванда Иосифовна. Родилась ок. 1899 года. Вскоре после революции вышла замуж за капитана П. Бузуна, рядом с которым, в составе Алексеевского пехотного полка прошла всю Гражданскую войну (он командовал батальоном, она исполняла обязанности его адъютанта), участвовала в 1-м Кубанском «Ледяном» походе, была четыре раза ранена, награждена Георгиевским крестом 4-й степени, Георгиевской медалью и произведена в ефрейторы. Затем – эмиграция.
10. Графиня Мария Станиславовна Борх, псевдоним Владимир Борх. В 1916, взяв мужской псевдоним, добровольцем вступила в один из латышских стрелковых батальонов. После тяжёлой контузии эвакуирована в тыл. Увлекшись авиацией, поступила в Гатчинскую военно-авиационную школу и участвовала в пробных полётах. Старший унтер-офицер. Награды: Георгиевская медаль 4-й ст. за бои к югу от Риги. Зачислена в Северо-Западной армию, неоднократно направлялась секретным курьером в Финляндию и в Латвию для связи с Отрядом Светлейшего князя Ливена. В составе Танкового батальона принимала участие во взятии Волосова и Гатчины.
11. Ускоренный курс прапорщиков московского Александровского военного училища. В центре - прапорщик Зинаида Реформатская, над её головой прапорщик Зинаида Свирчевская. Слева внизу - прапорщик Виденек, над нею – прапорщик Антонина Кочергина. Справа внизу - прапорщик Н. Заборская. Над нею – поэтесса, прапорщик Зинаида Готгард. (1917 год).
|
|
| https://foto-history.livejournal.com/12142755.html...rer=https:%2F%2Fzen.yandex.com | |
|
Метки: российская императорская армия |
Оболенская (Макарова) Виктория Аполлоновна - участница французского Сопротивления |
Оболенская (Макарова) Виктория Аполлоновна - участница французского Сопротивления
1911 - 1944
Виктория Аполлоновна Макарова, будущая княгиня Оболенская, родилась в Баку 11 июля 1911 года. Её отец Аполлон Аполлонович Макаров - статский советник, Бакинский вице-губернатор, в 1897 году окончил Императорское училище правоведения - одно из наиболее престижных высших учебных заведений дореволюционной России. Умер 18 Апреля 1953 г. в Нью-Йорке. Мать - Вера Алексеевна, урожденная Коломнина.
Семья эмигрировала во Францию в 1920 году, когда Верочке было 9 лет, и поселилась в Париже. Здесь девочка окончила среднюю школу. Училась Вера легко. Обладая прекрасной памятью и живым умом, она без труда усваивала школьную премудрость, но, не отличаясь особой усидчивостью, предпочитала занятиям танцы, цветы, поэзию. Легкое, беззаботное, радостное детство в окружении родительской любви окончилось с победой Октябрьской революции.
До войны Вики, как звали ее близкие, была манекенщицей, одной из самых красивых женщин русского Парижа. После оккупации Франции гитлеровцами стала активной участницей, одной из центральных фигур в Сопротивлении, передавала донесения, писала сводки, работала связной.
Когда войска Гитлера стали одерживать над Красной Армией одну победу за другой, это только усугубило решимость Веры Аполлоновны продолжать свое опасное дело, теперь уже не только за Францию, но и за свой русский народ. Фашисты подвергли ее жестокой казни на гильотине в Берлине в 1944 году. На знаменитом кладбище Сент-Женевьев де Буа в Париже находится ее надгробье. Могила — не установлена. Посмертно она была награждена орденом Отечественной войны первой степени, Военным крестом с пальмами и медалью Сопротивления.
Муж Веры, Николай Александрович Оболенский (1900-1979), в 1944 г. был арестован немцами и помещён в концлагерь Бухенвальд, откуда освобождён весной 1945 г. американской армией; офицер ордена Почётного Легиона (1957), награждён медалью "с розеткой" за участие в Сопротивлении и Военным крестом с лавровой ветвью. Верный памяти жены он стал православным священником (1963), протоирей собора Александра Невского в Париже и ректором Православных школ в Биарицце и Монтарее. Почётный председатель Союза князей Оболенских (с 1970 г.).
Вера Оболенская стала посмертно известна в Русском зарубежье благодаря многолетним усилиям давнего преданного друга Дома русского зарубежья Людмилы Флам-Оболенской, выпустившей в 1996 году в издательстве «Русский путь» книгу «Вики: Княгиня Вера Оболенская»[1].
В 2010 году наша соотечественница существенно дополнила это издание и (инициировала создание фильма «18 секунд», посвященного Вере Оболенской (режиссер Александр Бурыкин).
Интерес Людмилы Флам-Оболенской к судьбе Вики Оболенской носит неслучайный характер. Она — родственница героини. Впервые услышала о ней в начале 50-х годов, став женой племянника князя Николая Оболенского — мужа Вики. Николай Оболенский свято берег все, что имело отношение к памяти его жены и ее трагической гибели. Его семейный архив извилистым путем, через Чили, попал а Вашингтон в распоряжение Флам-Оболенской и лег в основу ее исследования. Бесценным источником достоверной информации послужили воспоминания очевидцев, знавших Вики по подпольной работе. Также в распоряжении Флам-Оболенской оказались ценные воспоминания соратницы Вики — Софьи Носович и рукописные воспоминания Марии Родзянко, знавшей Вики с детства.
Книга, как и фильм, рассказывает о том, как Вики, молодая женщина, стала фактически координатором Organisation Civile et Militaire (ОСМ — «Гражданская и военная организация»), созданной Жаком Артюсом, состоятельным парижаниным, в конторе которого Оболенская работала секретарем. ОСМ занималась разведывательной деятельностью, а также организацией побегов и вывозом за границу военнопленных.
К 1942 году ОСМ насчитывала тысячи членов во всех департаментах оккупированной части Франции, став одной из самых крупных организаций Сопротивления. В нее вошли многие промышленники, высокопоставленные чиновники, служащие путей сообщения, почты, телеграфа, сельского хозяйства, труда и даже внутренних дел и полиции. Это давало возможность получать сведения о немецких заказах и поставках, о передвижении войск, о составах с принудительно завербованными французами для работ в Германии и о поездах, увозивших на восток евреев.
Информация поступала в штаб-квартиру ОСМ, попадала в руки ее генерального секретаря, то есть Вики Оболенской. Вики постоянно встречалась со связными и с представителями подпольных групп, передавала им задания руководства, принимала донесения, вела обширную тайную переписку. Часами переписывала поступавшие с мест донесения, составляла сводки, размножала приказы и снимала копии с секретных документов, добытых из оккупационных учреждений, и с планов военных объектов.
17 декабря 1943 года Оболенскую схватили на квартире у ее подруги и соратницы по Сопротивлению Софьи Носович. Сперва подруги были направлены в тюрьму Ферн, затем в Аррас, куда были доставлены и другие члены руководства ОСМ. Оболенская на все вопросы отвечала «не знаю». За что получила у немецких следователей прозвище «Княгиня — ничего не знаю».
Сохранилось свидетельство о следующем эпизоде: следователь с недоумением спрашивает Оболенскую, как это русские эмигранты могут оказывать сопротивление Германии, воюющей против коммунизма. «Они с ума сошли, что ли? Какой им смысл быть с голлистами, в этом коммунистическом гнезде? Послушайте, мадам, помогите нам лучше бороться с нашим общим врагом на востоке». «Цель, которую вы преследуете в России, — возражает Вики, — разрушение страны и уничтожение славянской расы. Я русская, но выросла во Франции и здесь провела всю свою жизнь. Я не предам ни своей родины, ни страны, меня приютившей».
20 декабря 1944 года[2] Оболенскую, отказавшуюся писать прошение о помиловании, казнили путем гильотирования в тюрьме Плетцензее. Вера Оболенская была награждена как один из основателей Сопротивления посмертно Военным крестом, медалью Сопротивления и орденом Почетного легиона с пальмовой ветвью. На памятнике жертвам войны в Нормандии установлена мемориальная доска с именем Оболенской. Вера Оболенская также награждена орденом Отечественной войны (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 13 ноября 1965 года).
Информация взята ЗДЕСЬ ЗДЕСЬ ЗДЕСЬ ЗДЕСЬ ЗДЕСЬ
- Текст книги Л.С. Флам «Вики. Княгиня Вера Оболенская» ЗДЕСЬ
- Есть расхождения в датах рождения и смерти Веры Оболенской : 11.07.1911 - 20.07.1944 и с могильной плиты: 24-6-1911 – 4-8-1944
Фотоальбом
|
Метки: оболенские |
История особняка №16 на Пречистенке |
История особняка №16 на Пречистенке
- 22 апр, 2014 at 2:27 PM
Для тех, кто вчера не смог войти в зал Дома Ученых и послушать мой рассказ про историю дома, расскажу его историю еще раз.
Этот особняк, который стоит на углу улицы Пречистенки и Пречистенским (Мертвым) переулком интересует всех кто его видит.

http://maps.yandex.ru/?um=7yxmxpkXi1IcutBvrYjX4mZPotX---fN&l=map
Эта территория в XVI в. и позднее входила в Большую Конюшенную слободу, которая в 1653 г. насчитывала 190 дворов. Здесь жили «стремянные, стадные стряпчие и задворные конюхи, конюшенные сторожа, конюшенные подковщики, государевы колымажники и т.п. Здесь же были и конюшни.
При Грозном эти земли отошли к опричнине.
И все же Пречистенка в 18 веке становится своеобразным "Сен-Жерменским" предместьем Москвы, где в лабиринте чистых, спокойных улиц и извилистых переулков жило старое московское дворянство. Тут были усадьбы Всеволожских, Вяземских, Архаровых, Долгоруких, Лопухиных, Бибиковых, Давыдовых, графов Орловых, а также Гагариных, Гончаровых, Тургеневых, чьи фамилии мы встречаем в книгах по истории России и многочисленных воспоминаниях современников.
На это фото Пречистенка. Почтовая открытка изд. «Шерер, Набгольц и К». 1902.
На переднем плане слева – дом Лопухиной (начало XIX в., архитектор Д.Г.Григорьев). Справа на заднем плане видна пожарная каланча. Справа ограда нашего дома.
Хотя в современных исследованиях утверждается, что сохранившееся до нас здание имеет в основе палаты начала XVIII столетия, документальных сведений о владельцах авторы не приводят.
В конце 18 века и до 1818 года им владел Иван Петрович Архаров.

Посмотреть на Яндекс.Фотках
Младший брат московского обер-полицмейстера Николая Петровича Архарова, дом которого находится почти напротив по Пречистенке (потом там Денис Давыдов жил).
Он был женат на княжне Екатерине Александровне Римской-Корсаковой, троюродной сестре Елизаветы Петровны Яньковой.
Они были очень дружны с сестрой. Старшая сестра Е.А. Архарова вывозила в свет своих троюродных сестер со своими дочками, так как сестры остались к тому времени без матери.
Незадолго перед Наполеоновским нашествием Яньковы купили дом напротив Архаровых и часто у них бывали. В воспоминаниях бабушки то и дело встречается "я его видела у Архаровых, девочки мои у Архаровых танцевать учились" и.т.д.
Но вернемся к Ивану Петровичу Архарову. Своей карьерой он был обязан брату — в то время петербургскому генерал-губернатору Н.П.Архарову, который в беседе с императором Павлом I как-то выбрал удачный момент для протежирования брата. Иван Петрович был немедленно потребован в Петербург, произведен в генералы от инфантерии, пожалован орденом святой Анны первой степени и тысячью душ крепостных крестьян.
С помощью прусского полковника Гессе, назначенного императором плац-майором в помощь Ивану Архарову, новый военный губернатор сформировал из отчаянных храбрецов, спаянных суровой дисциплиной, полк, которого москвичи боялись как огня. Недаром слово «архаровец» стало нарицательным.
Один из лучших знатоков бытовой истории ХVIII столетия С.Н.Шубинский писал: «Архаров зажил в Москве большим барином. Дом его на Пречистенке был открыт для всех знакомых и утром, и вечером. Каждый день у них обедало не менее сорока человек, а по воскресеньям давались балы, на которые собиралось все лучшее московское общество; на обширном дворе, как ни был он велик, иногда не умещались экипажи съезжавшихся гостей.
Широкое гостеприимство скоро сделало дом Архаровых одним из самых приятных в Москве…»
Иван Архаров благополучно губернаторствовал два года, как внезапно его карьера прервалась анекдотическим случаем, вызванным чрезмерным усердием брата угодить императору. В то время как Павел после коронации поехал осматривать литовские губернии, Николай Архаров решил преподнести ему сюрприз. Зная любовь императора к «эстетике шлагбаумов и полицейских будок», он приказал всем петербургским обывателям, не медля, окрасить ворота своих домов и заборы полосами черной, оранжевой и белой красок. Непредвиденные срочные и большие расходы вызвали недовольство жителей, а губернаторский «сюрприз» произвел на императора сильное, но совершенно противоположное ожидаемому действие. Пораженный при въезде в столицу массой выкрашенных по однообразному шаблону построек, он спросил, что означает эта нелепая фантазия? Ему отвечали, что «полиция принудила обывателей безотлагательно исполнить волю монарха».
— Так что же я, дурак, чтобы отдавать такие повеления? — гневно воскликнул Павел I.
Николаю Архарову было приказано тотчас же уехать из Петербурга и никогда не показываться более на глаза монарху. Вскоре пришел и черед московского брата. 23 апреля 1800 года был отдан приказ об увольнении обоих Архаровых от службы, а на другой день послано повеление императора московскому генерал-губернатору: «По получении сего, повелеваю объявить братьям генералам от инфантерии Архаровым повеление мое выехать немедленно из Москвы в свои деревни в Тамбове, где и жить им впредь до повеления».
Ссылка продолжалась недолго. После убийства Павла I и вступления на престол Александра I Иван Архаров поселился в своем доме, который по-прежнему открылся для всех.
Широкое гостеприимство сделало дом Архарова одним из самых приятных в Москве, чему особенно способствовала жена Ивана Петровича.
В.Л.Боровиковский. Портрет Е.А. Архаровой.1820 г.
"Екатерина Александровна Архарова была величественна и умела держать себя в людях как следует, или, как вы теперь говорите , с достоинством. Я всегда скажу, что если я умею войти и сесть как следует, то этим я ей обязана. ...
У нее было две дочери: старшая, Софья Ивановна, была за графом Александром Ивановичем Соллогубом и младшая, Александра Ивановна, за Алексеем Васильевичем Васильчиковым." (Янькова)
После Отечественной войны и смерти мужа Екатерина Александровна жила в Петербурге в семье младшей дочери Васильчиковой, проводя лето в Павловске. Архарова пользовалась всеобщим уважением: в дни рождения (12 июля) и именин все являлись ее поздравить; Императрица Мария Федоровна ежегодно 12 июля удостаивала ее своим посещением. Просьбам и ходатайствам Е. А. не отказывали, и почет “старухи Архаровой” принимался ею как нечто должное, принадлежащее по праву.
Здесь еще можно прочитать что пишет про Архаровых их внук граф В.А. Соллогуб.
Пречистенка сильно выгорела в пожар 1812 года.
Этот ужас послепожарной Пречистенки хорошо описан у все той же Яньковой:
"Долго я не могла решится побывать на Пречистенке и посмотреть на то место, где был наш дом. ...увидала я совершенно пустое выгорелое место. ...
Через переулок от нас, ниже к Пречистенским воротам, был дом Архаровых, напротив них дом Лопухина и далее еще большой каменный дом Всеволожских; они все сгорели. ... и еще много других домов по Пречистенке почти вплоть до Зубова, где ныне бульвар. - все это погорело. Уцелел только дом Н.И. Хитровой."

Так вот это пепелище в 1818 году купил Иван Александрович Нарышкин .
Как известно, Нарышкины были скромными дворянами, происходившими от крымских татар. Они возвысились благодаря женитьбе царя Алексея Михайловича на Наталье Нарышкиной, ставшей матерью Петра Первого. Это сделало их, родственников царя, крупными помещиками и вельможами.
Е.П. Янькова так характеризовала своего нового соседа: «Ивану Александровичу было лет за пятьдесят; он был небольшого роста, худенький и миловидный человечек, очень учтивый в обращении и большой шаркун. Волосы у него были очень редки, он стриг их коротко и как-то особенным манером, что очень к нему шло; был большой охотник до перстней и носил прекрупные бриллианты. Он был камергером и обер-церемониймейстером». Женат он был на баронессе Екатерине Александровне Строгановой.
Художник Жан Луи Вуаль ,1787
Она была дочерью действительного тайного советника барона Александра Николаевича Строганова (1740—1789) от брака его с Елизаветой Александровной Загряжской (1745—1831). По рождению принадлежала к высшей столичной знати. Так как мать у нее Загряжская она была двоюродная сестра Натальи Ивановны Гончаровой - тёщи А.С.Пушкина.
"От матери Екатерина Александровна унаследовала отличавшую её красоту и представительную наружность. Высокого роста, немного полная , с голубыми , несколько навыкат близорукими глазами, с смелым и открытым выражением лица. "... видная из себя, но в противоположность мужу малообщительная."(Янькова)
Имея самые высокие придворные должности, но ветреный и легкомысленный от природы, И.А.Нарышкин любил хорошо пожить и в короткое время расстроил своё и женино состояние. Из-за своей беспечности и излишней доверчивостью он утратил и расположение к себе Двора. Пользовавшаяся покровительством И.А.Нарышкина француженка г-жа Вертёль, содержательница мастерской дамских нарядов, оказалась замешанной в получении контрабандою, через дипломатическую вализу одного из иностранных посольств, разных модных товаров для своего магазина. История эта причинила много неприятностей Нарышкину и привела к его отставке. Семье пришлось переехать в Москву.
Супруги Нарышкины имели трех сыновей и двух дочерей. Елизавету Ивановну - фрейлину
Художник Тропинин.
Она замуж так и не вышла. Как Янькова про нее писала - "потом очень располнела и осталась старой девой и за свое дородство заслужила название "Толстуха Лиза".
И Варвару Ивановну замужем за Сергеем Петровичем Неклюдовым (двоюродным братом Римских-Корсаковых)
"Старший из сыновей Александр Иванович был видный и красивый молодой офицер, подававший большие надежды своим родителям, живого и вспыльчивого характера: у него вышла ссора с графом Федором Ивановичем Толстым (Американцем), который вызвал его на поединок и убил его. Это было года за два или за три до 12 года. ...
Другие два сына оба были женаты: старший Григорий , на вдове Алексея Ивановича Муханова, Анне Васильевне, которая сама по себе была княжна Мещерская. Они имели сына и нескольких дочерей...
Меньшой сын, Алексей Иванович, был женат на дочери наших соседей Хрущовых, Елизавете Александровне; он был, сказывали большой оригинал; детей... не имел."
Интересно что как раз их внук Александр Григорьевич Нарышкин был женат на Надежде Ивановне Кнорринг, которая была возлюбленной А. Сухово-Кобылина и из-за которой вся трагедия вышка с Луизой Симон-Деманш. А потом она была женой Александра Дюма сына, но уже когда постылый муж Нарышкин умер.
В семье Ивана Александровича сохранялась борода юродивого Тимофея Архипыча, который предсказал прабабке И. А. Нарышкина Настасье Александровне Нарышкиной, что пока борода будет храниться в семье, род её не пресечётся и будет верен православию. Борода хранилась в особом ящике на шёлковой подушке с вышитым крестом, и при всех перездах и путешествиях бережно сохранялась, но как раз при переезде в Москву она пропала. Поговаривали, что он поместил несколько из имевшихся у него белых мышей в тот же ящик, и они и уничтожили талисман. Так или иначе, ни у одного из сыновей Ивана Александровича не было наследников мужского пола, две внучки вышли замуж за католиков, а третья сама перешла в католицизм.
Быт в доме Нарышкиных был близок к тому, что было здесь при Архаровых. Но Нарышкины по своему рангу стояли выше Архаровых: кроме того, что они были родственниками царя, жена Нарышкина кичилась, что она была родственницей Голицыных и дочь их была фрейлиной. Поэтому и стиль в доме Нарышкиных несколько отличался от архаровского - здесь все было богаче, изысканнее.
Иван Александрович приходился дядей Наталии Николаевне Гончаровой (по жене своей как я писала выше) и был посаженым отцом невесты на венчании с Пушкиным, которое состоялось 18 февраля 1831 года в приделе еще недостроенного храма Большое Вознесение у Никитских ворот. Естественно, что поэт не раз наносил визиты Нарышкиным в их доме на Пречистенке.
Племянник Нарышкина Михаил Михайлович Нарышкин, полковник Тарутинского полка, был участником восстания декабристов и был приговорен к 8 годам каторги. Отбыв каторгу и частично ссылку, Михаил Михайлович поселился в деревне Тульской губернии и нелегально бывал на Пречистенке, у своего родственника.
Позднее дом переходит к княгине Екатерине Васильевне Гагариной.
Ее свекр князь Иван Алексеевич Гагарин был женат вторым браком на знаменитой актрисе Семеновой...
От них дом перешел к князьям Трубецким.
В 1865 году у Трубецких усадьбу приобретает на имя жены Александры Ивановны Коншиной (урожденной Ипатовой, 1838-1914)миллионер-фабрикант Иван Коншин,
Иван Николаевич происходил из старинной семьи серпуховских купцов Коншиных, которые еще в середине 18 имели там фабрику выпускавшую полотно и парусину. К началу ХIХ века их мануфактура имела ткацкое и ситценабивное производство. Кроме мануфактурных рабочих, они имели еще много кустарей надомников. Всего в их производстве было занято более двух тысяч человек. В 1840-е годы его отец Николай Максимович Коншин значительно расширил дело, создав специализированное прядильное производство, изготовлявшее пряжу для его ткацкой фабрики. Потом он создал новую громадную бумагопрядильную и ткацкую фабрику «Новая Мыза». Тут выпускалась неокрашенная ткань, которая поступала на его набивное производство. Такми образом Коншины стали крупнейшими текстильными производителями Серпухова, имеющими полный цикл текстильного производства от сырья до конечной продукции, которая уже шла на продажу. После его смерти сыновья разделили производство. Старший сын Иван Николаевич получил по разделу бумаготкацкую фабрику «Старая Мыза». Проведя удачную операцию по покупке большой партии дешевого американского хлопка в 1860-х годах перед самой Гражданской войной, а потом продав его когда цены возросли невероятно, он стал богатейшим человеком. На эти деньги он переоснастил фабрику и ее годовой доход стал равен 5 млн. рублей. Очень хорошие обороты. Женился он на дочери серпуховского купца 2-й гильдии Александре Ивановне Ипатовой. На их свадьбе гости гуляли до утра. Между прочим на ней присутствовал известный писатель С.Т. Аксаков. К сожалению детей у них не было и они много сил, времени и денег тратили на разные балгие дела – музыку и благотворительность.
Коншины и их гости на крыльце дачи Коншиной Александры Ивановны в Бору близ Серпухова
Иван Николаевич Коншин умер в 1898 году. Все огромное состояние, а он к тому времени владел не только текстильной фабрикой, но и чугуннолитейным производством и лесозаготовительной фабрикой, он оставил жене. При этом по завещанию он раздал своим работникам годовое жалование.

Коншины и их гости на крыльце дачи Коншиной Александры Ивановны в Бору близ Серпухова. 15 августа 1895 гг.
В 1882 году, к 200-летнему юбилею текстильных предприятий, род Коншиных «в воздаяние их заслуг на поприще отечественной промышленности» был возведен в потомственное дворянство.
Все огромное состояние, превышающее 10 миллионов рублей, он оставил жене — Александре Ивановне. Поскольку промышленные дела Александру Ивановну не интересовали, да и не могла она ими заниматься, она вернула промышленные предприятия мужа в семью Коншиных, продав их его братьям - «Товариществу мануфактур Н.Н. Коншина в г. Серпухов». В результате ее состояние удвоилось. После смерти супруга одной ее отрадой осталась широкая благотворительность. Она много душевных сил и материальных средств в это дело вкладывала.
Принимала племянников, внуков, устраивала благотворительные елки.
Много сил отдавала двум попечительствам о бедных - Перчистенскому и Пресненскому.
Всеми делами вдовы ведал адвокат Александр Федорович Дерюжинский.
Он жил в соседнем доме и был родственником.

Коншины и их гости на крыльце дачи Коншиной Александры Ивановны в Бору близ Серпухова
Первый раз Коншины перестроили особняк в 1867 году.
Через двенадцать лет после смерти супруга, уже весьма пожилой женщиной, в 1910 г., она затевает крупную перестройку своего Пречистенского особняка. Для этого приглашается архитектор А.О. Гунст. После его трудов дом Александры Ивановны Коншиной превратился в один из самых шикарных особняков в Москве. Архитектор Анатолий Оттович Гунст был в то время участковым архитектором Пречистенского и Хамовнического участков, куда входила территория особняка Коншиной. Анатолий Осипович был всесторонне одарен. Увлекался не только живописью, но и художественной фотографией (его работы были удостоены премий на Всемирной выставке в Париже), был своим человеком в театральном мире.
После перестройки стоимость владения оценивалась в 193.193 рубля, в том числе двухэтажного особняка - 92.802 рубля. На первом и втором этажах было по 15 комнат. На втором этаже помещались парадные, а также комнаты хозяйки и 2 комнаты для ее прислуги. Общая площадь каждого этажа составляла около 800 кв. метров.
Один из невольных вопросов, возникающих по поводу перестройки этого здания: почему Александра Ивановна Коншина, находясь в столь пожилом возрасте (ей было 77 лет), перестраивает это роскошное здание.

Весьма правдоподобным является следующее предположение - дом, построенный в 1867 г., со стороны Мертвого переулка дал трещину, в инженерном плане он был очень запущен, а она хотела оставить наследникам не развалюху, а красивый представительный дом в Москве, чтобы он отвечал тому месту в купеческом обществе тому уровню, которое по праву занимали Коншины более 200 лет занимающиеся производством и торговлей. Архитектор Анатолий Оттович Гунст разрушает старый дом и строит новый, но по плану прежнего.

Гунст проектировал особняк с большим размахом, не стесняясь в средствах. Благодаря этому его творение по праву заняло место в ряду самых роскошных построек, которыми ознаменовалось в Москве начало ХХ столетия. Зодчий тактично сохранил ясную соразмерность объема здания — удачного образца неоклассицизма.
Главный фасад акцентирован шестью плоскими пилястрами ионического ордера и фронтоном. Однако в мелкой декоративной лепнине фриза, обрамления окон прослеживается влияние эклектики. Дом выходит в сад с беседкой, огороженный со стороны улицы высоким каменным забором с арочными нишами, балюстрадами и вазами наверху. Пилоны парадных ворот украшают скульптуры львов.


Со стороны переулка на стене особняка барельефное панно в стиле модерн.

Наиболее эффектно выглядят интерьеры дома, в создании которых архитектор проявил себя как крупный мастер.
Особенно роскошен Зимний сад (ныне — парадная столовая) с остекленным эркером и световым фонарем, эффектно отделанный объем которого был встроен со двора.
Мрамор для отделки интерьеров был выписан из Италии, бронзовые украшения — из Парижа.
Громадное стекло было заказано также в Италии. Его везли в Москву в специально оборудованном вагоне. Вставить этот «уникум» на уготовленное для него место можно было только в процессе строительства.
Мраморные скульптуры были получены из Парижа - о чем на скульптурах имеется пометка.
Прекрасно представляя, что пресыщенную московскую публику удивить непросто, Александра Ивановна выбрала стиль классической роскоши.
Богатая лепнина потолков, причудливые люстры, изумительный наборный паркет (в ряде помещений сохранившийся до сих пор) - всё это давало ощущение праздника.
Бальную белую залу отделяла от музыкального салона колоннада, и таким образом можно было устраивать настоящие большие концерты. Для любителей покурить были устроены "мужские кабинеты" с комфортными диванами и приглушенным светом.
Дом Коншиной был начинен всякой современной техникой - водопроводом и канализацией, и даже специальной системой вытяжных пылесосов через вентиляционные отверстия. Эти новинки в обустройстве жилья были приманкой для многочисленных гостей. С шиком была устроена ванная (сантехнику, по традиции, привозили из Англии) - как и в других богатых особняках, здесь имелось специальное устройство для подогрева простыней, в которые оборачивались после водных процедур.
Электротехнику привезли из Британии. Освящение особняка происходило на именины хозяйки, 23 апреля 1910 года.
хозяйка была большая любительница музыки и часто устраивала званные концерты дома.
Алекесандра Ивановна недолго прожила в великолепном дворце: в сентябре 1914 года она умерла оот воспаления легких.
Дом переходит к жене племянника — Варваре Петровне Коншиной, хозяйке фабрики в Серпухове, которая через год также умирает.
Владение по наследству достается ее внукам, несовершеннолетним сыновьям ее рано сокнчавшегося сына.
В начале 1917 года Опекунский суд утверждает наследство и в мае 1917 года душеприказчики
продали дом Коншиной за 400 тысяч рублей крупнейшему русскому предпринимателю и банкиру, действительному статскому советнику Алексею Ивановичу Путилову, который приходился Коншиным родней.
В то время он был председателем правления Русско-Азиатского банка и входил в руководство свыше полусотни крупнейших акционерных предприятий и фирм. Но после Октябрьского переворота все его движимое и недвижимое имущество, в том числе купленный у Коншиных дом на Пречистенке, было конфисковано.
В 1922 году в стенах особняка Коншиных-Путилова открылся Дом ученых. Начался новый этап истории примечательного памятника на Пречистенке. Я здесь не буду рассказывать про пристроенную Весниными часть.
А теперь мы посмотрим на очень интересные детали дома, которые сохранились и сейчас.

Сравнивая старые снимки мы увидим что боковой фасад потерял часть декора.

Но замараевсикие ампирные львы до сих пор украшают окна первого этажа.


Но тут обращают на себя внимание чудесные навершия дымовых труб


Посмотреть на Яндекс.Фотках
Со стороны улицы сад отгорожен глухой кирпичной оградой с арочными нишами, балюстрадами в нижней части и вазами сверху.


Перед домом расположен сад, где сохранилась летняя металлическая беседка.

Торжественны ворота, над кирпичными пилонами которых помещены скульптуры лежащих львов.
https://il-ducess.livejournal.com/375046.html
|
Метки: дворянские владения москва пречистенка |
О Столяровых, Троицких и о Покровской церкви |
О Столяровых, Троицких и о Покровской церкви
13 March 2011 Нет комментариев
О купцах Столяровых и помещиках Троицких
Много раз за те годы, что занимаюсь краеведением, писал я о храмах нашего края. В течение нескольких лет поиска в архивах выяснил, что было их 22, но к настоящему времени уцелело только три церкви — в сёлах Алексеевка, Верхососенье и Трубицино. 19 храмов, существовавших на территории Покровского района сто и более лет, в годы Советской власти были полностью уничтожены.
В самом начале III тысячелетия в нашем крае усилиями многих людей возродились из небытия два разрушенных ранее храма — Покровская церковь (в райцентре Покровское) и Михаило-Архангельская церковь (в селе Дросково). Почти 30 лет я думал, что сравнить новый Покровский храм с тем, который существовал ранее, уже невозможно, поскольку его изображения не сохранилось. Занимаясь поиском сведений по истории района и села Покровское, я даже предположить не мог, что найду нечто замечательное далеко за пределами не только Покровского района, но и области — в Москве.
Именно там проживает в настоящее время Ольга Леонидовна Столярова — наша землячка, уроженка деревни Разуваевка (сейчас этот населённый пункт, в составе Покровского района, называется Осинки — А.П.). Родилась она в 1923 году в известной в местных краях зажиточной семье, члены которой занимались не только выращиванием зерна, капусты, но и гусей на продажу, а один из Столяровых разбил замечательный сад, яблоки и вишни из которого возил продавать на ярмарки в Орёл и Малоархангельск. Жили Столяровы на взгорке, при самом въезде в село Покровское со стороны Змиёвки. Неподалёку, в овражке, начинался ручей, воду которого можно было использовать как для питья, так и в хозяйственных целях. И сам этот тягучий подъём, и место вскоре стали назваться — «У Столяровых» или «Столярова гора». Когда семья заметно увеличилась численно, один из братьев переселился в ближнюю деревеньку — Разуваевку, построив в ней дом тоже на окраине, смежной по отношению к селу Покровскому.
В семье Егора (Георгия) Столярова было пятеро детей — сыновья Александр, Владимир, Константин, Леонид и дочь Евгения. По словам Ольги Леонидовны, дед Егор отличался крутым нравом и за какую-то провинность старшего сына Александра выгнал из дома, лишив доли наследства. Александр Егорович обосновался потом где-то в Подмосковье (в Бронницах). Владимир Егорович Столяров погиб в Первую Мировую войну. Константин Егорович и Евгения Егоровна после революции уехали в Ленинград, где и умерли от голода в блокаду. Что касается судьбы младшего из сыновей, Леонида Егоровича, то, прежде чем перейти к рассказу о нём, скажу несколько слов о Троицких, землевладельцах из Покровского.
На ещё более крутом взгорке, но уже на правом берегу реки Липовец, располагалась в конце XIX-начале XX века усадьба, в центре которой находился небольшой, аккуратный, красного кирпича, дом. В нём жила семья местных помещиков Троицких, которым принадлежало около 60 десятин земли в окрестностях Покровского. Старшие Столяровы и Троицкие дружили (семьями, как сказали бы сейчас). Один из семейства Троицких, Василий Зиновьевич, кроме обычных помещичьих занятий, увлекался и таким сравнительно новым в те годы, но набиравшим популярность, видом деятельности, как фотография. Он запечатлел на фотобумагу своё семейство, усадьбу, семьи знакомых и — виды нашей местности (об этом — чуть позже). За годы увлечения фотографией у В. З. Троицкого накопился целый альбом снимков, бережно хранившийся и передававшийся по наследству (пока было, кому передавать).
А теперь — о Леониде Егоровиче Столярове, отце Ольги Леонидовны. Закончив в Покровском церковно-приходскую школу и поработав некоторое время в отцовском хозяйстве, обучался он потом в Орловской духовной семинарии, из которой его исключили за недисциплинированность. И тогда Леонид Столяров круто поменял свою судьбу, поступив в Никулино-Городищенскую (за точное название школы не ручаюсь, потому что проверить это с помощью других источников мне не удалось — А.П.) спиртовую школу, только-только открывшуюся в Орле. Вышел он из неё с удостоверением механика по налаживанию и ремонту оборудования на винокуренных заводах (так довольно долго назывались предприятия, которые сейчас известны как спиртовые или ликёро-водочные). Работал Столяров первое время на винокуренном заводе в Карачеве, а затем переехал поближе к семье, в деревню Разуваевку, а потом — в поселок Моховое Малоархангельского уезда, где с 1906 года начал действовать местный спиртзавод помещика Кистенёва.
В родные места Леонид Столяров приехал с женой, которую нашёл себе, работая в городе Карачеве. У Леонида Егоровича и уроженки Брянска Марии Ивановны Климовой родилось трое детей — сын Сергей и дочери Елена и Ольга.
Семейство Л.И. и М.И. Столяровых покинуло наши края в 1927 году — и сделало это вовремя, потому другие их родственники были репрессированы, как «враги народа».
Поселились Столяровы (после нескольких перемен, побывав и селе Плещееве нашей области) в посёлке Петровском Ивановской области, где на местном спиртзаводе выпускался спирт высочайшего качества, который использовался в авиационной промышленности. Леонид Егорович начал работать здесь в качестве технолога и за короткое время сумел завоевать высокий авторитет как профессионал высочайшего уровня. Умер он в 1967 году, в возрасте 85 лет. Похоронили его там же, в посёлке Петровском.
В живых из семейства Л. Е. Столярова к настоящему времени осталась лишь Ольга Леонидовна. Она участвовала в Великой Отечественной войне, воевала как зенитчица, защищая наши позиции от немецких самолётов. Сейчас ей самой уже 85, и живёт Ольга Леонидовна одиноко в столице, общаясь лишь с несколькими преданными друзьями, тоже родовыми корнями связанными с Орловщиной.
Судьба однажды свела её в Москве с сыном Василия Зиновьевича Троицкого, который от отца позаимствовал любовь к технике (правда, не к фотографии, а к радио). Отслужив и отвоевав в качестве радиста несколько лет, он работал в редакции журнала «Радио». Вспомнив былое, встречались потом земляки не раз за общим столом.
От А.В.Троицкого и достался Ольге Леонидовне Столяровой семейный альбом семьи Троицких, в котором содержались ценнейшие для нас, покровчан, фотографии.
Моё знакомство с Ольгой Леонидовной зимой 2008 года состоялось благодаря Александру Ивановичу Валицкому (Лисичкину), который долгие годы дружил с землячкой (к сожалению, ветеран органов МВД недавно скоропостижно скончался — А.П.). Я долго говорил с Ольгой Леонидовной Столяровой по телефону о её житье-бытье, а спустя некоторое время получил от неё копии нескольких снимков из альбома В.З.Троицкого, на которых увидел и многочисленное семейство Столяровых, и дом Троицких с «тройкой» напротив, и — самое для нас главное — изображенную хоть и на дальнем плане, но красивейшую Покровскую церковь.
Так получилось, что мои долголетние и, наконец, увенчавшиеся успехом поиски фотографии с видом Покровской церкви завершились ровно через 100 лет после того, как фотограф-любитель Василий Троицкий сделал несколько снимков с видами села Покровского прямо от ступенек своего дома, расположенного на крутом, обрывистом берегу реки Липовец.
О Покровской церкви
С помощью старых фотографий и по рассказам старожилов села Покровское мне удалось частично восстановить облик старой Покровской церкви.
Вокруг неё была красивая решётка — кованая, вделанная в кирпичные столбики. В левом углу, внутри её (если смотреть из-за реки Липовец) находился красивый, тоже металлический, склеп, спускаться в который приходилось по ступенькам.
С левой стороны от церкви (как и в предыдущем случае) была расположена церковно-приходская школа, которая при Советской власти действовала как начальная (школа I ступени).
Закрытая в начале 30-ых годов, Покровская церковь использовалась как учреждение культуры: в помещении колокольни находился кинозал, в зале было фойе, в алтарной части — библиотека. Устраивались в церкви танцы под баян и просмотры кинофильмов. Один из входов вёл точно на кладбище. Внутри церкви икон и какой-либо утвари не оставалось, но фрески на стенах и куполе сохранялись.
С правой стороны от церкви располагался дом священника (фамилия последнего попа — Звягинцев, — отец Евгений). Ниже церкви, там, где сейчас находится бывшая контора «ОПХ Покровское», было построено из жёлтого кирпича двухэтажное здание Дома Советов. Напротив него жил уполномоченный Наркомата Заготовок по Покровскому району, ставший во время оккупации командиром Покровского партизанского отряда, -К. С. Камынин.
Дом Советов, военкомат, дома руководителей района, мост через Липовец были взорваны или сожжены при эвакуации учреждений района в октябре 1941 года. Тогда же была взорвана и Покровская церковь, битый кирпич от которой уже после освобождения понемногу разобрали на свои нужды покровчане.
Новый храм Покрова Пресвятой Богородицы в посёлке Покровское был открыт архиепископом Орловским и Ливенским Паисием и губернатором Егором Строевым при большом стечении народа 18 октября 2005 года. Есть теперь, после многолетнего перерыва, где обратиться к Богу покровчанам.
А сейчас, читатель, посмотри на те, столетние, пахнущие временем фотографии, и фотографии совсем недавние — возрождённого храма Покрова.
Фотографии 1908 года
Современные фотографии
Александр Полынкин
На фото
- вид на Покровскую церковь и окрестности села Покровское (верхнее фото);
- дом В. З. Троицкого в селе Покровское;
- большая семья Столяровых в саду у своего дома;
- вид на Покровскую церковь и окрестности села Покровское.
Эти 3 фотографии сделаны В. З. Троицким в 1908 году. 3 фото при освящении храма сделаны С. Антоновым, автор остальных — А. Полынкин.
Метки: Полынкин, Религия, Фото
Связанные записи
- Архарово. Свято-Покровская церковь — фото 13 августа 2013 года. (0)
- Церковь Михаила Архангела в Малоархангельске (0)
- Церковь в Лесках (17 фото) (12)
http://maloarhangelsk.ru/o-stolyarovyih-troitskih-i-o-pokrovskoy-tserkvi/
|
Метки: столяровы |
Андрее-Стратилатовский храм (Воскресения Христова) |
Андрее-Стратилатовский храм (Воскресения Христова)
Суббота, 05.01.2019, 19:50
Приветствую Вас Гость | RSS | Главная | Каталог статей | Регистрация | Вход
Князья Шаховские
|
|||||||||
|
Дhttp://andreystratilat.ucoz.ru/publ/usadba_knjazej...kh/knjazja_shakhovskie/2-1-0-1oz |
Copyright MyCorp © 2019
Сделать бесплатный сайт с uCoz
|
Метки: дворянские владения шаховские |
Правнучка. Княгиня А. Л. Оболенская |

Правнучка. Княгиня А. Л. Оболенская
Правнучка
Александра Леонтьевна Магницкая, в замужестве княгиня Оболенская
(1784-1846)
Родилась Александра в семье Леонтия Ивановича Магницкого и его супруги Екатерины Васильевны из рода Дурново. В это время отец служил прокурором в московской Камер коллегии. Широко известно имя старшего брата Александры – Михаила Леонтьевича. Вместе с сестрой Анастасией Леонтьевной считается она поэтессой и переводчиком. По всей видимости, увлечение стихосложением относится в основном к юным годам. Передался этот талант всем детям Леонтия Ивановича от прадеда, поскольку его Арифметика пропитана силлабическими стихами. В те давние времена еще не знали о закономерностях стихосложения, поэтому и стихи его выглядят довольно просто.
Литературная деятельность. Известно, что сотрудничала она в ряде журналов. Среди них выделяется «Приятное и полезное препровождение времени» (1796-1798), где были напечатаны ее стихи: «Сон», «Благотворитель», «На смерить жаворонка» и др. К М.М. Хераскову обращено стихотворение «К бессмертному творцу», на которое адресат ответил комплиментарным посланием, посвященным одновременно и Н.Л. Магницкой. Стихотворение «Нищий» напечатано в «Аонидах» Н.М. Карамзина (1797. Кн.2). По предположению В.Н. Орлова, Александре Леонтьевне или ее сестре принадлежат несколько стихотворений, напечатанных в «СПб журнале» (1798, февраль, март, сентябрь, октябрь; за подписью ; М.). В примечание издатель сообщал, что стихи получил от «девицы М.», скрывшей по скромности свое имя. Вместе с сестрой, а также Е.В. Щербатовой и М.А. Боске переводила с французского языка «Письма об Италии» Ш.-М. Дюпати. В «Приятном и полезном препровождение времени» (1798. Ч.16, 17, 20) опубликовала за своей подписью 11 писем. Полный перевод не был опубликован, т.к. дамское содружество опередил перевод И.И. Мартынова.
В качестве примера достаточно привести одно из ее стихотворений.
К бессмертному творцу «Россиады»
Ты звуки наших лир простыя
Приятною хвалой почтил,
Труд Музы робкия, младыя
Своей улыбкой ободрил;
Когда б имела я священный
Твой дар, с которым воспевал
Ты россиян освобожденных,
Гремел перунами, блистал,—
Тогда б прекрасными стихами,
Тогда б гремящими струнами
Воспела благодарность я;
Но лира не громка моя.
И так позволь, позволь в прелестный,
Лавровый, славный твой венок,
Бессмертный бард, певец почтенный,
Вплести усердия цветок!
Заметки на полях: К бессмертному творцу «Россиады». — Приятное и полезное, 1797, ч. 13, с.176.Творец Россиады — М. М. Херасков, который, познакомившись со стихами А. Л. и Н. Л. Магницких, одобрил их опыты. Польщенные его «приятною хвалой», сестры высказали ему признательность в своих стихах, на которые Херасков в свою очередь ответил посланием «От Т. Р. Н-...не и А-л...не М...-цким». По рассказам современников, поэтессы «в ту же минуту полетели к Хераскову сами и с личною за себя благодарностию».
Можно отметить, что ныне появился интерес к поэтическому женскому наследию ХVIII века. Так, поэтическая работа ее разбирается в докторской диссертации А.В. Беловой, которая пишет: «…перевела «Картину четырех возрастов» из широко известных в Европе «Писем об Италии» Ш. Дюпати. Каждому возрастному этапу жизненного цикла женщины соответствовал стереотипный образ, включавший в себя визуальную характеристику и ожидаемый род занятий: маленькая девочка сидит на полу, играет преважно с куклою, которую она раздевает; подле стоит молодая красавица, приятно смотрится в зеркало и наряжается; близ нее степенно одетая женщина совершенных лет сидит за пяльцами, прилежно и не спеша вышивает по холсту; подалее полулежащая в больших креслах против камина старуха с нахмуренным лицом, в очках, с книгою на коленях, кашляет и ворчит. Как не узнать в сем четырех возрастов женщины?
<…>Разумеется, в результате знакомства с данным литературным переводом происходило усвоение возрастной мифологемы на уровне культурного предписания. Причем, женщины вынужденно усваивали «мужской» взгляд на себя, приучаясь не только быть объектом оценки мужчин, но и воспроизводить соответствующие их ожиданиям внешность, манеру поведения, виды деятельности».
Семья. Далее началась семейная жизнь. Стала Александра Леонтьевна княгиней Оболенской. Муж ее относился к XXVIII колену князей, ведущих свое начало от Рюриковича. По брату Дмитрию Николаевичу на этом же уровне в род Оболенских вплелась фамилия Дашковых, брату Петру Николаевичу - Кашкиных, а по сестре Марии Николаевне – Голицыных.
Род князей Оболенских внесен в родословные дворянские книги семи губерний: Калужской, Московской, Нижегородской, Пензенской, Рязанской, Симбирской, Тульской.
Поскольку данные постоянно обновляются и дополняются не имеет смысла приводить Поколенную роспись полностью. Дед, интересующей персоны относился к ХХVI колену князей Оболенских (1).
Князь Петр Васильевич (1686 - 05.04.1761), бригадир. В 1714 поступил солдатом в л.-гв. Преображенский полк; в 1718 – сержант; в 1721 – фендрик; в 1725 – унтер-лейтенант. 3.03.1740 в чине полковника назначен асессором Вотчинной коллегии; 26.04.1740 пожалован в статские советники и назначен начальником Коллегии; в 1751 переименован в бригадиры.
За ним состояла вотчина отца в Дмитровском у. и поместье в Веневском у.
Жена Маpия Ивановна N (1696 - ум. после 1761)
ХХVII колено
Отец.
Кн. Николай Петрович (1727 - после 1796), капитан (1756), секунд-майор (1760), премьер-майор (1755, 1796). Умер между 1797 и 1800 гг.
Жена кнж. Маpия Алексеевна Белосельская-Белозеpская (? - 1800)
ХХVIII колено
Братья и сестры:
Кн. Петр Николаевич (1760 - 1837), тульский вице-губернатор, действительный тайный советник (1797). Служил в конной гвардии; в 1792 в чине ротмистра уволен к статским делам. С 1826 в отставке.
1-я жена (с 1790 г.) Александра Фаддеевна Тютчева (ум. 1793), дочь отставного поручика Фаддея Петpовича Тютчева и Авдотьи Гавриловны Деревниной
2-я жена (с 1794 г.) Анна Евгеньевна Кашкина (2.10.1778-11.06.1810), дочь генеpал-аншефа Евгения Петpовича Кашкина (1738-1796) и Екатерины Ивановны Сафоновой (1746-1801).
Кн. Алексей Николаевич (? -ум. 1822 или 28.03.1828), полковник.
Жена А л е к с а н д р а Л е о н т ь е в н а М а г н и ц к а я (1784 - 8.04.1846), дочь Леонтия Ивановича и Екатеpины Васильевны Магницких. Внучка известного математика.
Кн. Дмитрий Николаевич (ум. после 1832), полковник.
Жена Елизавета Дмитриевна Дашкова (? - 5.04.1838), дочь министpа юстиции Дмитpия Васильевича и Елизаветы Васильевны Дашковых.
Кн. Сергей Николаевич, майоp Кинбурнского драгунского полка (1798).
Кнж. Екатерина Николаевна (1768- 14.09.1844), девица, воспитанница Смольного (выпуск 1785 г.)
Кнж. Маpия Николаевна
Муж (с 1775) кн. Алексей Петpович Голицын (26.01.1754- ?).
В 1793 году в Москве имели собственные дома семь представителей рода Оболенских (2). Среди них значится и дом кн. Николая Петровича, премьер-майора, который располагался в приходе храма Девяти мучеников Кизических в Большом Девятинском переулке, от которого он и получил свое название. После того, как первая деревянная церковь сгорела, по приказу Петра I патриаршими служителями было возведено новое каменное здание. Самым знаменитым прихожанином этого храма много лет был А.С. Грибоедов.
Можно продолжить, что в 1818 году князь Алексей Николаевич будучи уже полковником имел в Москве дом, который находился в Арбатской части (2 квартал, Малые Трубники). Старший его брат Петр Николаевич, Действительный Статский Советник и Кавалер проживал в Новинской части Москвы (1 квартал, на Земляном валу, Кудринская). Дмитрий Николаевич, полковник обладал домом в Пречистенской части (2 квартал, Гагаринский переулок) (3).
***
Кроме этого, муж Александры Леонтьевны, полковник Алексей Николаевич Оболенский (? – 1828), имел усадьбу Храброво (старое название - Хоробово) в Дмитровском уезде Московской губернии. Именно в тех местах и прошла большая часть жизни Александры Леонтьевны.
Некоторые подробности удалось узнать благодаря «Рассказам бабушки. Из воспоминаний пяти поколений записанных и собранных ее внуком Д.Благово». В частности в этой книге говорится: «В Храброве, вместо старика Оболенского, стали жить его сын, князь Алексей Николаевич, с женой. Она была по себе Магницкая Александра Леонтьевна, внука известного Магницкого, составителя первой русской арифметики. Она была очень милая, добрая и любезная женщина, очень недурна собой и приятного обращения. У нее было четверо детей: два сына — Николай и Михаил, и две дочери — Екатерина и Варвара. С Оболенскою жила и сестра ее, Анастасия Леонтьевна Магницкая, пожилая девица. В Москве у них был дом под Новинским, а другой рядом, в переулке, каменный, что на бульваре, был куплен Колошиным в 1837 или 38 году и заплачен 35 ООО ассигнациями».
Внесу краткое дополнение: Дом Оболенских в Москве находился вблизи Новинского монастыря (мужской, после 1746 года - женский православный монастырь). Находился он в середине квартала между современными Новинским и Девятинским переулками, огороженный в начале XVIII века, как удостоверяет Стралленберг, каменной стеной с высокими башнями по углам.
В этих воспоминаниях всплывает еще одно имя – Анастасия Леонтьевна. В ряде источников она упоминается как автор тех стихов, которые приписывают Наталье Леонтьевне. Очевидно, смутило исследователей сходство в написании первых букв их имен - Наталья и Настасья. Сейчас могу сказать, что сестер было две и имя юной поэтессы звучит как Анастасия (Настасья).
К сожалению, дата рождения мужа Александры Леонтьевны так и не установлена, впрочем, как и смерти. Скончался он в 1822 (1828?) году, когда ей было 38 лет. Пережила она мужа почти на 25 лет. Можно с относительной долей уверенности перечислить их детей:
Николай (15.03.1815, Москва - 1857), на 1849 год отставной гвардии поручик;
Сергей (29.03.1816 - 5.08.1816);
Михаил (15.10.1818-1856), на 1849 год прапорщик л.-гв. Литовского полка;
Екатерина (? -1852)
Муж: Михаил Иванович Воронецкий (12.09.1799 - ?), коллежский асессор(1833);
Варвара, в 1849 году пребывала в девицах.
Муж: Аpкадий Павлович Оленин (27.04.1810- ?)
Исходя из даты появления на свет первого сына, можно предположить, что венчание молодых состоялось около 1814 года. Если только дочери, даты рождения которых не уточнены, не были первыми детьми в семье.
В усадьбе часто гостил декабрист Евгений Петрович Оболенский, племянник Алексея Николаевича. Вероятно, его влекло сюда нечто таинственное: он верил, что в поместье есть «вход в мир иной…».
При старшем Оболенском был построен деревянный дом, церковь, парк и фруктовый сад. Уже в 1770-х гг. в усадьбе значился деревянный дом «изрядной» архитектуры с деревянной церковью и двумя садами - плодовым и «регулярным, с весьма нарочитым расположением отдельных куртин, крытых аллей и кронных деревьев». В 1807-1811 годах церковь и господский дом были перестроены в кирпиче сыном А.Н. Оболенским. Представлял он собой одноэтажный дом со сводчатым подвалом и деревянным мезонином. Главный зал имел многогранный выступ наружу, над которым была открытая терраса, превращенная затем в веранду. Но в конце XIX века первоначальный облик дома оказался утраченным.От усадьбы осталась только церковь.
Следует отметить, что первые упоминания о деревянной Никольской церкви относятся к 1627 году. А в 1633 году говорится уже о храме Покрова Пресвятой Богородицы. В 1738 году церковь сгорела в результате попадания молнии. Тогда же было начато строительство новой церкви. Каменный храм возведен в 1790-х годах, принадлежит к типу «восьмерик на четверике» и завершен высоким сводом с отверстием для светового барабана, правда заложенным позднее. В начале XIX века хозяин усадьбы, А.Н.Оболенский, возвел также новую колокольню и трапезную.
Совсем недавно, уже в наши дни, церковь представляла руины. Окна были заколоченными. Однако сейчас ее реставрируют.
С 1890 года Храбровым стали владеть мещане Лазаревы, с 1911 – В. В. и П. Ф. Лазаревы. На сегодняшний день от усадебных построек остался лишь остов Покровской церкви из красного кирпича. Главный дом утрачен в конце 1980-х - начале 1990-х годов. Сохранился лишь запущенный липовый парк и пруд.
Известно, что свое последнее пристанище Александра Леонтьевна Оболенская нашла в Пешношском монастыре. Прожила она около 62 лет.
До революции кладбище Николо-Пешношского монастыря было настоящим мемориальным памятником дмитровского дворянства: там захоронены князья Оболенские, князья Вяземские, бароны Тухачевские, князья Волконские, князья Долгоруковы, князья Тугарины, находятся фамильные склепы известных боярских родов: Лужиных, Офросимовых, Поляниновых, Веревкиных, а также дворян Норовых, Юшковых, Бугайских, Боровиковых, Майковых, Елизаровых. Не сберегли мы одну из славных страниц нашей истории.
________
Источник (1): http://forum.svrt.ru/index.php?showtopic=9266
Фото Андрея Агафонова. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Храброво. Дмитровский район. Московская область
© Copyright: Галина Магницкая, 2017
|
Метки: оболенские магницкие |
Герои не умирают. 100-летие со дня Ухода Петра Столыпина. |
Герои не умирают. 100-летие со дня Ухода Петра Столыпина.
«Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь освобождения от исторического прошлого России, освобождения от культурных её традиций. Им нужны великие
потрясения, нам нужна Великая Россия!»

14/27 апреля 1862 – 5/18 сентября 1911
Истинный освободитель Русского народа.
В конце 19-го века Русская Деревня, обложенная налогами и огромными выкупными платежами, была на грани разорения. Во многих регионах страны начался голод. Российское правительство приступило к разработке новой аграрной концепции, итогом которой стала Реформа Крестьянского Надельного Землевладения. Её автором стал председатель Совета Министров Петр Аркадьевич Столыпин.
27 июня 1910 г. III Госдума приняла новое Законодательство. Уже в 1913-м Россия по производству зерна вышла на ПЕРВОЕ МЕСТО в мире. Банкиры США весьма и весьма встревожились. Результат их международной озабоченности, увы, не заставил себя долго ждать. В результате политического заговора, в Киевском театре, в 19011-м году Столыпин был убит.
Пётр Аркадьевич происходил из дворянского рода, существовавшего уже в XVI столетии. Родоначальником Столыпиных являлся Григорий Столыпин. Его сын Афанасий и внук Сильвестр были муромскими городовыми дворянами. Сильвестр Афанасьевич участвовал в войне с Речью Посполитой во второй половине XVII столетия. За заслуги был награждён поместьем в Муромском уезде.
У его внука Емельяна Семёновича было два сына: Дмитрий и Алексей. У Алексея, прадеда будущего премьер-министра, от брака с Марией Афанасьевной Мещериновой родились шестеро сыновей и пять дочерей. Один из сыновей, Александр, был адъютантом Суворова, другой, Аркадий, стал сенатором, двое, Николай и Дмитрий, дослужились до генералов.
Одна из пяти сестёр деда Петра Столыпина вышла замуж за Михаила Васильевича Арсеньева. Их дочь Мария стала матерью великого русского поэта, драматурга и прозаика М. Ю. Лермонтова. Таким образом, Пётр Аркадьевич приходился Лермонтову троюродным братом. При этом в семье Столыпиных отношение к своему знаменитому родственнику было сдержанным. Так, дочь Петра Аркадьевича Столыпина, Мария, в своих воспоминаниях пишет:
«Лермонтов, бабушка которого была Столыпина, оставил по себе много воспоминаний в нашей семье. Родные его не любили за невыносимый характер. Особенно одна тётушка моего отца настолько его не терпела, что так до смерти и не согласилась с тем, что из-под пера этого «невыносимого мальчишки» могло выйти что-нибудь путное...»
Отец будущего реформатора, Аркадий Дмитриевич, отличился во время русско-турецкой войны 1877 –
1878 года, по окончании которой был назначен губернатором Восточной Румелии и Адрианопольского санджака. От его брака с Натальей Михайловной Горчаковой, чей род восходит к Рюрику, родился в 1862 году сын Пётр.
Пётр Аркадтевич получил блестящее дворянское воспитание и образование и рано проявил незаурядные способности и волевые качества, присущие государственным деятелям, учёным, первопроходцам: бесстрашие, дар оратора, самодисциплину, собранность, умение доводить начатое до конца.
После успешного окончания С-Петербургского Императорского Университета (1884 г., естественное отделение факультета физ-мат наук), он уже тогда обратил на себя внимание важных государствсенных чиновников и был приписан, вопреки назначению в Минестерство земледелия и сельскохозяйственной промышленности, к Министерству Внутренних Дел.
18 марта 1889 года Столыпин назначен Ковенским уездным предводителем дворянства и председателем Ковенского суда мировых посредников. Пётр Аркадьевич провёл на службе в Ковно около 13 лет, с 1889 по 1902 годы. Это время его жизни, по свидетельству дочери Марии, было самым спокойным. Затем последовали назначения губернатором в Гродно (1902-й) и затем в Саратов.
Начало века для России ознаменовалось резким нарастанием революционного ТЕРРОРА, особенно после убийства ВК Сергея Романова в 1905-м году. До Петра Аркадьевича были убиты двое министров Внутренних дел, Д. С. Сипягин (†1902) и В. К. фон Плеве.(†1906). За период с 1901-го по 1911-й по всей стране было убито революционерами около 17 000 государстсвенных служащих (Анна Гейфман).
На Петра Аркадьевича началась откровенная, остервенелая ОХОТА убийц-одиночек и целый боевых отрядов и дружин революционеров. Всего за время с 1906-го года, когда Пётр Аркадьевич стал министром Внутренних дел, на него было организовано 11 покушений.

Дом Столыпина на Аптекарском острове после покушения. 12/25 августа 2006 г.
Всего осуществлено 4 покушения. «При первом приёме после взрыва Государь предложил папа́ большу́ю денежную помощь для лечения детей, в ответ на что мой отец сказал: «Ваше Величество, я не продаю кровь своих детей»». Дочь Столыпина Мария Бок.
После «резни в Малиновке», во время которой погибло 42 человека, в Саратов направляют генерал-адъютанта В. В. Сахарова. Сахаров остановился в доме Столыпина. Пришедшая под видом посетительницы эсерка Биценко застрелила его.
Далее случилось несчастье в Балашовском уезде, когда врачам-земцам грозила опасность со стороны осаждавших их черносотенцев. На выручку к осаждённым явился сам губернатор и вывел их под эскортом казаков. При этом толпа забросала земцев камнями, одним из которых был задет и Столыпин.
Благодаря энергичным действиям Столыпина жизнь в Саратовской губернии постепенно успокаивалась. Действия молодого губернатора были замечены Царём Николаем II, который дважды выразил ему личную благодарность за проявленное усердие.
Во второй половине апреля 1906 г. министры, за подписью Императора, вызвали Столыпина в Царское Село телеграммой. Встретив его, Николай II сказал, что пристально следил за действиями в Саратове и считая их исключительно выдающимися, назначает его министром Внутренних дел.
Переживший революцию и четыре покушения Столыпин пытался отказаться от должности. Как уже говорили, двое из его предшественников на этом посту (Сипягин и Плеве были убиты революционерами). О страхе и нежелании многих чиновников занимать ответственные посты, боясь покушений, неоднократно в своих мемуарах указывал первый премьер-министр Российской Империи Витте.
Для завершения реформ Столыпин просил 20 лет. Но положительный результат его деятельтности стал ясен с самого начала. Ходатайства «о закреплении земли в частную собственность» – были поданы членами более чем 6 млн домохозяйств из существовавших 13,5 млн. Из них выделились из общины и получили землю (суммарно 25,2 млн десятин, это 21,2 % от общего количества надельных земель в единоличную собственность) около 1,5 миллионов (10,6 % от общего числа).
Столь значительные изменения в крестьянской жизни стали возможными не в последнюю очередь благодаря Крестьянскому поземельному банку, выдавшему кредитов на сумму в 1 миллиард 40 миллионов рублей.
Из 3 млн крестьян, переселившихся на выделенные им правительством в частную собственность земли в Сибирь, 18 % вернулись обратно и соответственно 82 % остались на новых местах. Помещичьи хозяйства утратили былую хозяйственную значимость. Крестьяне в 1916 году засевали (на собственной и арендуемой земле) 89,3 % земель и владели 94 % сельскохозяйственных животных.
В 1910 году Столыпин вместе с главноуправляющим земледелием и землеустройством Кривошеиным совершили инспекционную поездку в Западную Сибирь и Поволжье. Великое переселение было частью аграрной реформы. В Сибирь переселились около 3 млн человек. Только в Алтайском крае во время проводимых реформ было основано 3415 населённых пунктов, в которых поселились свыше 600 тысяч крестьян из европейской части России, составивших 22 % жителей округа. Они ввели в оборот 3,4 млн десятин пустующих земель.
Политика Столыпина относительно Сибири состояла в поощрении переселения на её незаселённые просторы крестьян из европейской части России. Для переселенцев выделялись особые ссуды денег, устанавливались особые условия по налогам. В 1910 году были созданы даже специальные железнодорожные вагоны. От обычных они отличались тем, что одна их часть во всю ширину вагона предназначалась для крестьянского скота и инвентаря.
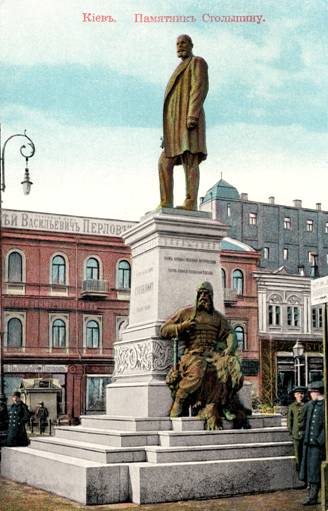
Киев. Великолепный памятник итальянца Этторе Ксименса снесён по личному указу Ленина в 1917-м.
Символично, что эти самые «столыпинские поезда» большевички использовали потом для перевозки ЗК в лагеря. Так люди и стали и остаются для них заместо скота. Вообще всё так называемлое «учение» К.Маркса – величайшая профанация, суть которой ДИСКРИМИНАЦИЯ (деление людей на классы и противопоставление одних классов – другим), УНИЖЕНИЕ И ЗАКАБАЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ВО ИМЯ МИФИЧЕСКОГО «СВЕТЛОГО БУДУЩЕГО».
Ленин присвоил себе все идеи Столыпина в сфере сельского хозяйства, однако «земли – крестьянам», несмотря на лозунги, крики и обещания, большевики так и не дали, а крестьян как класс по-просту УНИЧТОЖИЛИ. Всех зажиточных столыпинских крестьян, только-только вздохнувших на новых местах. Их – РАСКУЛАЧИЛИ.
И так, логично и неизбежно, подвели Россию вновь к голоду, террору и очередной войне. С кем свяжешься, там окажешься. А зечем мировому масонству – сытая, сильная, свободная Россия? Зачем им – Великая Россия истинного патриота своего Отечества, чей род по матери от Рюрика, Петра Аркадьевича СТОЛЫПИНА?

Книга Великой Русской Скорби XIX столетия.
LUCH 2011http://www.luchmir.com/Zhurnalistika/PetrStolypin100.htm
|
Метки: столыпины |
Американский потомок Столыпина |
Американский потомок Столыпинаhttp://ruskline.ru/monitoring_smi/2008/03/27/amerikanskij_potomok_stolypina
Николай Случевский, Русский вестник
27.03.2008
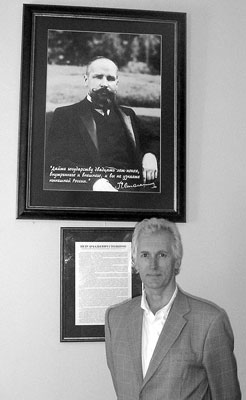 Прадед этого человека погиб в 1911 году, но его наследие и память о нём сохраняют не только родственники, но и самые разные люди, в разных странах мира.
Прадед этого человека погиб в 1911 году, но его наследие и память о нём сохраняют не только родственники, но и самые разные люди, в разных странах мира.
Правнук Петра Аркадьевича Столыпина Николай Владимирович Случевский родился в Сан-Франциско, в Калифорнии, уже после войны и долгих мытарств семьи. Бабушкой его была старшая дочь Столыпина Мария Петровна, проживавшая после революции в Литве. В 1936 г. она с мужем, Борисом Ивановичем фон Бок, и дочерью Екатериной, будущей матерью Николая, отправились в Японию в гости к брату мужа о. Николаю фон Бок, иезуиту и профессору, до революции бывшему посланником России в Ватикане (кстати, книга его воспоминаий "Россия и Ватикан накануне революции: воспоминания дипломата" вышла в Нью-Йорке в 1962 г. в издательстве Фордамского университета, а Б.И. публиковал свои воспоминания о службе на флоте в Японскую войну в сборнике "Порт Артур", вышедшем в Нью-Йорке в издательстве им. Чехова в 1955 г.). В Японии они провели почти три года, а когда собрались вернуться домой в Литву, только что подписанный план Молотова-Риббентропа сделал это невозможным.
"Семья поехала в Польшу, где приобрели имение "Франческова" и жили там до 1945 г. Там же моя мать вышла замуж первым браком, - рассказывает Николай, - и родился мой сводный брат, Герман фон Ренненкампфф. В 1945 г. муж Екатерины скончался, а семья была вынуждена бежать перед приходом немецкой, а позже советской армий. Во второй раз за менее чем 10 лет они вновь потеряли свой дом и имущество.
Они оказались в Австрии, где моя мать вышла замуж вторым браком за моего отца, Владимира, внука поэта Константина Случевского. А в 1948 г. семья бежала в Германию и попала в лагерь т.н. ди-пи (перемещенных лиц) в Мюнхене. Это был их третий и последний побег".
Так, многие эмигранты первой волны, бежавшие от советской армии из стран Восточной Европы, стали эмигрантами второй волны.
Однако на этом скитания семьи не закончились: в 1948 году они смогли уехать в Америку, в Сан-Франциско, где и родился Николай. Как и многим эмигрантам, не знающим языка, его родителям пришлось идти на первые попавшиеся работы; помощи ждать было неоткуда. Но уже в 1955 году отец устроился на работу по специальности инженера-механика в небольшом городке Конкорд вблизи Сан-Франциско.
Там не было русских, рассказывает Н. Случевский, и по воскресеньям я ездил в Сан-Франциско в приходскую школу при православной церкви. Мне это, конечно, не нравилось, так как я предпочитал проводить уикэнд, играя со сверстниками.
Благодаря учебе он сейчас прекрасно говорит по-русски, без всякого акцента. Знание русского языка помогло ему по окончании университета получить работу в 1994 году во французской коммерческой фирме "Рэми-Куантро груп" в Алма-Ате. А позже он занялся инвестиционным капиталом уже в России и часто ездит на родину своих предков.
Скончалась Мария Петровна в 1985 году в возрасте 99 лет в Сан-Франциско и похоронена рядом с мужем на сербском кладбище, где покоятся многие русские.
Николай сказал, что бабушка издала в Америке книгу "Воспоминания о моём отце, П. А. Столыпине". А в моей двухтомной "Библиографии русской зарубежной литературы, 1918-1968 г." обозначено, что книга вышла в Нью-Йорке, в изд-ве им. Чехова, 1953, 347 стр. Указано, что она есть и в Гарварде, и в Библиотеке Конгресса. А в 1970 г. в Нью-Джерси вышел английский перевод.
- Николай, Вы говорили, что в России сейчас существуют два фонда с именем Столыпина. Почему два и чем они занимаются?
- Один из них входит в инвестиционный фонд - UFG Assets Management - бывшего министра финансов РФ Бориса Фёдорова. Думаю, что он так назвал фонд, будучи поклонником Столыпина. Он написал биографию Петра Аркадьевича, получившую признание даже от президента Путина. Фонд вкладывает иностранные и отечественные инвестиции в российскую экономику и управляет ими.
Второй - Фонд изучения наследия Столыпина - был организован в 2001 году в Москве. Он занимается чисто историческими и научными вопросами. Его основатель и председатель - Павел Анатольевич Пожигайло, а в совет директоров входит академик Валентин Валентинович Шелохаев. Цель этого фонда - знакомить учёных и политиков с программами столыпинских реформ. За это время было издано уже 13 исторических исследований. Устраиваются ежегодные съезды и встречи с людьми, которые интересуются реформами Петра Аркадьевича.
С законодательством этих реформ знакомы как нынешний президент РФ В. Путин, так и первый вице-премьер Д. Медведев - вновь избранный президент России. А также целый ряд интеллектуалов нового поколения, как, например, член Совета Федерации Михаил Маргелов. На меня они смотрят не только как на "потомка Столыпина", но и как на часть истории России.
- Так что Ваши частые поездки в Россию имеют двойную цель: деловую и историческую?
- А также и семейную: у меня в России есть родственники как со стороны Столыпиных, так и со стороны Случевских. В общем же, я считаю, что все мы, кому дорога Россия, должны сотрудничать и больше принимать участие в реформировании страны. Сегодня многие историки и наблюдатели считают, что старую Россию погубили не столыпинские реформы, а, наоборот, его убийство и прекращение его реформ.
- А ведь т.н. "архитекторы ельцинских реформ", Гайдар, Чубайс, прекрасно знакомы с реформами Столыпина, как было видно из их заявлений в документальном фильме Николая Сванидзе.
- Недавно мне представилась возможность спросить г-на Гайдара в частном разговоре: А не говорят ли ему, как когда-то говорили Керенскому: " Вот человек, который погубил Россию"? На что он обтекаемо ответил: "Да, всякое говорят".
- Николай, а как Вы думаете, почему ельцинские реформаторы не пошли по следу ТЕХ реформ?
- Распад Советского Союза был не столько политическим явлением, сколь экономическим. И если взглянуть на него под этим углом, то многое станет более логичным, так как цели экономических перемен фундаментально отличаются от целей реформ политических. Определённые лица извлекли невероятные блага из экономической либерализации, чему способствовало отсутствие крепкой юридической структуры. А страна много потеряла. Я бы сказал, что, судя по последствиям этой массивной "либерализации", такие реформы в отличие от столыпинских соответствовали интересам не широких масс, а финансовым интересам ряда могущественных лиц. Хотя в это время и находились серьёзные политические реформаторы, их голоса заглушили более влиятельные оппоненты при огромной помощи Запада. Нечто похожее на то, что произошло во время революции 1917 г.
- А есть у Вас какие-либо планы на будущее сотрудничество?
- У меня сейчас два проекта. Первый - это создание инвестиционного фонда с целью предоставления капитала для развития сети российских железных дорог. И второй - безприбыльный проект создать исследовательский центр, названный в честь моего прадеда, для изучения процесса реформ и того, как этот процесс подойдёт сегодняшней России.
На этом я поблагодарила Николая Случевского и пожелала ему успехов.
Людмила ФОСТЕР, Вашингтон
http://www.rv.ru/content.php3?id=7404
|
Метки: столыпины случевские |
Черный Человек |
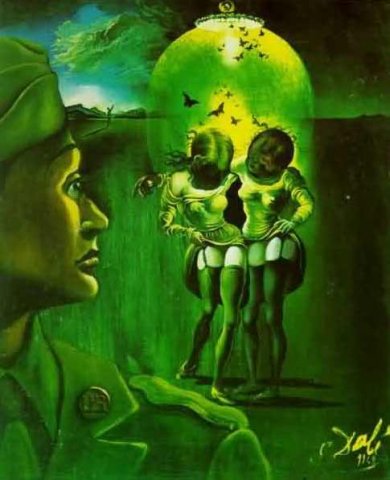
Черный Человек
<не окончена>
"... Оставь надежду всяк сюда входящий"
Данте Алигьери.
Место действия:
Городъ N.
27 июля - 10 сентября 1910 года.
Часть I.
* * *
... Он спал, закутавшись в плащ, прямо на полу, который мыли совсем недавно, и который уже успели загадить всевозможным мусором. Под его широкополой шляпой лежала записка: "Если я не проснусь никогда - выдайте мое тело псам на корм". Слуги, выделенные ему в распоряжение хозяйкой постоялого двора, конечно же, знали о существовании записки - но поступить со своим хозяином так они не решались. Православные не отдадут брата по вере на попранье, даже самого отпетого грешника.
Хозяйка постоялого двора подошла к спящему и легонько дотронулась до его руки, свисавшей без движения. Он тут же проснулся, хотя разум упорно отказывался это признавать и тянул своего обладателя обратно в сон.
- Который час, Глафира Петровна? - спросил он у хозяйки.
- Ах, почитай, седьмой час вечера уже... Господи Иисусе! - воскликнула Глафира Петровна, глядя на бледное лицо своего постояльца, - Да вы совсем бледный! А похудели-то как!.. Матерь Божья!
- Ах, нет, Глафира Петровна. Со мной все в порядке. Я просто устал...
- Когда ужин-то подавать, Петр Семенович? Сейчас?
Он на некоторое время задумался.
- Нет, нет... Я не голоден. Позже... Вот что, Глафира Петровна, принесите мне вина. Что-то я немного
не в себе...
Глафира на некоторое время пропала из комнаты, но вскоре она принесла на подносе графинчик с вином и большой хрустальный фужер. Налив в него вина почти до краев, Глафира поднесла фужер Петру Семеновичу.
- Спасибо вам, Глафира Петровна - утомленно произнес он, пересел в кресло и отхлебнул немного вина, - Что в городе слышно нового?
- Да все по-старому... В нашем-то городе N дела творятся всегда одни и те же... Не то, что в Петербурге!
- Это верно... - заметил Петр Семенович, смотря, как играет солнечный свет, проходя через призму фужера, - Глафира Петровна, ко мне сегодня должна придти одна девушка, Ульяна. Ну, та, что вчера приходила.
- А она не придет... - внезапно посмурневшим голосом ответила ему Глафира Петровна.
- Это еще почему?
- Да умерла она сегодня утром...
Ослабевшая рука выронила фужер, и он разбился об пол, разлив вино, чем-то похожее на кровь. Он не слышал причитаний Глафиры, ибо сознание ненадолго оставило его...
* * *
Город N - это типичный пример захолустья. Как говорили в старину люди, "до Бога высоко, до царя далеко". Власти - никакой: одни мещане да крестьяне. Дворянства почти нет - иначе устроили бы здесь свою вотчину. Но зато все добрые, услужливые и порядочные - но и тут есть свои сложности.
А все дело заключалось в том, что город N славился на всю губернию (да что там губерния - на всю Россию!) не только добротой своих жителей, но и, к несчастью, публичными домами. Большинству городских девиц, к сожалению, приходилось в этих самых домах подрабатывать, так как ничем другим - увы! - заниматься было нечем: город бедный, ни университетов, ни работы. Однако их деяния можно понять: семьи у всех большие, надо прокармливать их и самому кормиться! А поскольку в городе N все были, как я уже говорил, добрые, услужливые и порядочные, то на источник заработка девиц смотрели как на обычную работу. Конечно же, были и те, кто пытался осуждать подобный ритм жизни, в основном из мещанства, но сами они, как правило, не знали, что их "благородные" дочери работают там же. Некоторые видные и уважаемые жители города N вышли в люди именно благодаря публичным домам. Поговаривали даже, что хозяйка единственного в городе постоялого двора Глафира Петровна Зубарева тоже была куртизанкой, и сколотила свой капитал как раз на этом самом деле. Кто знает, может и так? Слухами жизнь полнится...
Именно в публичном доме на Зеленой аллее наш герой, художник Петр Семенович Штер познакомился с куртизанкой Ульяной Лапиной. Попал наш герой в публичный дом по велению сердца: он искал натурщицу. Он писал портрет Смерти...
Ульяна оказалась неказистой с виду девкой с длинными рыжими волосами. Прежде чем стать натурщицей, Ульяна все же побывала для Петра Семеновича куртизанкой. Тело у нее было не ахти какое, но для нашего героя сомнений не оставалось: он выбрал верно...
Немного истории...
Петр Семенович Штер родился по юлианскому календарю 26 марта 1888 года. То есть, к моменту начала нашей истории, ему было 22 года - возраст по тогдашним меркам солидный. За плечами у Штера были гимназия, Университет в Петербурге и вольные слушания в Академии Художеств. А потом... три года скандалов, ссор и интриг. Три года, за которые общество успело позабыть Петра Штера....
Все началось после того, как 19-летний художник-самородок Петр Штер написал картину "Содом и Гоморра", где в подробнейшем описании присутствуют НАСТОЛЬКО откровенные сцены, что у самых выносливых физически и морально людей случался нервный шок от увиденного. Общественность была буквально взорвана! Слухов и сплетен нарастало все больше и больше. Поговаривали даже, что сам художник принимал активное участие в том, что потом перенес на полотно. Самые именитые художники страны требовали казнить художника за его вольности...
Если бы всем проклятиям, что сыпались на голову Штера, суждено было сбыться, то его наверняка бы постигла участь жителей нарисованных им Содома и Гоморры. О, сколько ему пришлось выслушать ругани за эти три года! В конце концов, Штер просто не выдержал и сам попросился в сумасшедший дом. На почве всех обвинений у него разыгралась мания преследования. Он боялся оставаться один, боялся даже собственную тень. Он уже был настолько раздавлен, что, казалось, ничто уже не могло вернуть прежнего Петра Штера, жизнерадостного страстолюбца, художника, подававшего когда-то большие надежды...
Пять месяцев, которые Штер провел в "доме скорби", изменили его вновь. Взамен второго Штера - сумасшедшего параноика - как когда-то на смену первому, пришел третий Штер. Он стал более меланхоличным, более задумчивым, еще менее веселым. Он без конца думал о том, о чем никто не думает или не хочет думать - о смерти.
Почему-то, когда Штер размышлял о смерти, он представлял себе не женский скелет в черном плаще с накинутым наглухо капюшоном, и даже не старуху с косой. Петр Семенович представлял себе Смерть в виде молодой куртизанки, которая убивает людей во время соития с ними, а их души отправляет куда следует. Штер мечтал, чтобы ему попалась именно такая Смерть, чтобы умереть под ней во время совокупления и отправиться поскорее в Ад. В рай он себя мысленно никогда не отправлял. Видать, чувствовал, что места ему там нет...
После сумасшедшего дома Штер продал свою петербургскую квартиру, сжег свои старые дневники и испортившиеся за пять месяцев холсты, и отправился на поиски своей Смерти. На этом месте след его прерывается, и вновь перед нами Петр Семенович предстает только через месяц в городе N. Прописавшись в номерах Глафиры Зубаревой, он два дня провел в городе, ночевал, где придется, не ел, мало спал - он искал натурщицу...
Но теперь все было кончено. Ульяна умерла. Портрет Смерти никогда не будет закончен...
* * *
Дверной колокольчик противно зазвонил, оглашая покойницкую непривычным для нее шумом. Гробовщик Тихон, мысленно проклиная столь позднего посетителя, неохотно подошел к двери, вооружившись на всякий случай топором.
- Кто? - крикнул он за дверь.
- Художник Петр Штер! - был дан ему ответ, - Откройте, пожалуйста!
Гробовщик нехотя открыл. На пороге стоял ужасно бледный человек в широкополой шляпе и черном пальто до пят. "Странный он какой-то!" - подумал про себя Тихон, и спросил художника:
- Что Вам угодно в столь поздний час?
Художник замялся. Руки его задрожали - то ли от ночного холода, то ли черт знает от чего. Но Штер все же нашел себя и, с некоторой дрожью в голосе заговорил.
- Видите ли, сегодня утром к вам доставили тело Ульяны Лапиной...
- Как же, как же... - перебил его Тихон, - помню. Продажная девка с Зеленой аллеи...
- Да-да... - Штер еще сильнее начал волноваться, - Видите ли, я писал с нее портрет. Я... понимаете ли... хотел бы закончить работу...
- Понимаю... Сюда, пожалуйста, ваше благородие! - пригласил Тихон художника внутрь и закрыл за ним дверь.
Шли они недолго. Вскоре перед ними выросло трупохранилище. На столе лежали тела, накрытые белыми простынями так, что были видны только пятки. Мрак и холод помещения чуть не лишили Штера сознания, но он упрямо держался из последних сил. Последние остатки его святости говорили ему: "Что ты задумал, нехристь! Остановись!". Но Петр Семенович шел, стараясь заглушать свои эмоции.
Тело Ульяны оказалось третьим слева. Оно ничуть не изменилось с той поры, как перед Штером открылись двери ее комнаты в публичном доме. Он до мельчайших подробностей помнил этот вечер, который она провела с ним; помнил каждый бугорок, каждую ямочку на ее юном теле...
... Когда Штер вошел в комнату, Ульяна сидела за маленьким столиком и прихорашивалась... Длинные рыжие волосы ниспадали с плеч, словно морские волны, разбиваясь о мощные скалы спины... Одета она была в халат, за которым явно просматривался корсет... Когда она повернулась к нему, Штер еще раз удивился своей прозорливости: под халатом действительно был корсет... Ульяна подошла к нему и скинула халат на пол... "Боже мой!" - подумал Штер, - "Она действительно прекрасна, словно Смерть!"... Ее шелковые пальчики раздевали его... Они в объятьях упали на роскошную постель, где и провели всю ночь...
... Лицо мертвой Ульяны застыло, словно каменная маска, словно лицо мраморной Афродиты. Оно было бледным, цвета камня, глаза ее были похожи на стеклянные бусины. Штер еле стоял на ногах, но, несмотря на свою слабость, нашел в себе силы откинуть простыню с ее нежного тела.
Да, она почти совсем не изменилась. Только кожа стала грубой и твердой наощупь, да грудь сжалась до размера девчачьей... Настоящая Афродита!
- Погиб юный цветок, брошенный на попранье злодейкой Судьбой... - промолвил Тихон, глядя на Ульяну. Штер немного удивленно посмотрел на гробовщика.
- А вы, батенька, я гляжу, философ!
- А как же, ваше благородие! - развел руками Тихон, - С такой должностью, как у меня, не то, что философом - императором стать можно!
- Это почему? - спросил у него Штер.
- А как же? - ответил ему гробовщик, - Ко мне мертвых привозят, я их обмываю, одеваю, гробы им делаю и отправляю в последний путь. Можно сказать, я - последняя в этом городе инстанция. Проводник Харон, ей-богу!
Но Штер уже не слушал гробовщика. Руки уже по привычке измеряли пропорции, на пальцах меряя расстояния между точками тела.
- Эй, ваше благородие! - послышался сзади недовольный голос Тихона, - Вы чем это занимаетесь?
- Измеряю пропорции тела, - ответил ему Штер со знанием дела, - Всякий художник должен знать, как устроен человек, чтобы точнее изобразить его на холсте...
- А... Ясно! - успокоился Тихон, но успокаивало ему явно не стоило. В следующий миг Штер незаметно вынул из внутреннего кармана пальто увесистый булыжник, подобранный им на дороге, и запустил его гробовщику в лоб. Тихон вскрикнул от боли, но тут же, потеряв сознание, упал на каменный пол покойницкой...
... Вскоре из города, минуя заставы, выехали две лошади. Одной управлял Штер, а другая, подвязанная к первой под уздцы, везла два тела, завернутые в простыни. Лошади следовали к Черному утесу, находившемуся в двух верстах от города N. Там располагались огромные подземные катакомбы. По преданию, в X веке в них жили славяне, не принявшие учение Христа. Когда же их укрывище было найдено, они совершили массовое самоубийство, бросившись с утеса в реку. Их не то, что хоронить - даже вылавливать не собирались, и по сей день кости славян лежат на дне реки, покрытые илом.
Эти катакомбы были знакомы Штеру. Несколько дней тому назад он заночевал здесь, по пути в город N, и нашел подземные пещеры довольно-таки пригодными для жизни. Сегодня же он вез тела, чтобы катакомбы стали пригодными для смерти...
* * *
... Штер вернулся в город в первом часу ночи, уставший и бледный как мертвец. Глафира Петровна ужаснулась, глядя на своего постояльца, и, в который раз сославшись на недостаток питания, предложила Петру Семеновичу откушать. Штер вежливо отказался от ужина, зашел в свою комнату и, обессиленный, упал в кресло. Через несколько минут он провалился в глубокий сон...
Да, за это время он ужасно устал. Когда лошади остановились перед обрывом, Штер первым делом скинул со скалы в мутную гладь реки тело гробовщика Тихона, издававшего утробные звуки на грани полузабытья. Петр Семенович привязал к его шее камень, и довольно скоро тело "проводника Харона" скрылось из виду и ушло на дно реки.
В катакомбах Штер провел около полутора часов. Казалось бы, что делать обыкновенному человеку ночью в катакомбах с холодным трупом куртизанки на руках? По идее - ничего. Но это любому другому человеку, но не Петру Штеру. Он знал, что он сделает с трупом, и привел свой мерзкий приговор в исполнение.
О Господи, на что может пойти человек, лишенный рассудка и последних останков святости?!
... Штер лежал в объятьях своей музы. Ульяна даже после смерти была для него куртизанкой. Холодные руки мертвой девушки было бы противно трогать любому - но не Штеру. Ему казалось, что она - его собственность, его вечная рабыня. Он со знанием своего дела ласкал холодный труп, надеясь черт знает на что! Он совершал с ее телом непотребные, богомерзкие деяния, и ощущал себя свободнее...
Сегодня он - бог!
Сегодня она - богиня!
И никому, в том числе и мертвому гробовщику не отнять у него ее тело - последнюю весть о существовании новой Богини!
Богини любви и смерти.
Новой Афродиты с чертами Немезиды...
А он... Он - бог! Новый Аид, хозяин загробного мира. Только ему дано решать, кому вправе жить, а кто должен сдохнуть. Он даст людям Тьму в обличье Света, даст им новую Богиню...
Любовь и смерть - вот те два несовместимых понятия, которые они - мертвая Ульяна и полуживой Штер - соединяют вместе, дабы люди узрели тот бестиарий, в котором живут и который воспевают.
Они все - всего лишь люди.
А эти стали БОГАМИ!
* * *
Город N был взбудоражен. Исчез гробовщик Тихон. И не один. Вместе с ним исчезло тело куртизанки Ульяны Лапиной. Неслыханное дело, особенно для такого захолустья! На базарах то и дело обсуждали всевозможные подробности. Большинство все же склонялось к версии, что именно Тихон - а не кто-либо другой - украл тело куртизанки. В мещанских домах эту тему даже и не хотели развивать - было противно от одной только мысли о похищении.
Но вскоре грянул гром...
Труп Тихона обнаружили рыбаки, вышедшие утром на реку. Неводы вместо рыбы принесли им тело гробовщика с привязанным к шее камнем. Сколько тут же началось разговоров, пересудов! Тело гробовщика захоронили за кладбищенской оградой, как обычно поступали с самоубийцами. Однако, как мы уже знаем, дело обстояло совсем по-другому. Но разве могли об этом знать жители города N, отягощенные собственными проблемами и совершенно не обеспокоенные чужими?..
А что же Штер? Он отсутствовал в городе уже довольно долгое время, но упросил Глафиру Петровну оставить ему его комнату, заплатив за два месяца вперед. На вопрос хозяйки, куда он собирается, Петр Семенович сначала растерялся, потом заметно занервничал, но все же нашелся, сказав Глафире Петровне, что едет на этюды по всей губернии. "Ох уж эти художники!" - подумала хозяйка и согласилась, подсчитав в уме прибыток, который она получала сразу за два месяца.
Конечно же, Штер соврал хозяйке. Он не собирался ни на какие этюды. Он уходил в катакомбы, к своей Немезиде - холодному трупу куртизанки Ульяны.
Чтобы прожить с ней последние дни своей черной жизни, полной страха и обид...
Черный силуэт художника неспешно двигался по Зеленой аллее - главной улице города N. Он прошел мимо магистрата, мимо здания Главпочтамта и вышел к заставе. Минуя ее без всяких трудностей, Штер отправился по Нижневерховенскому тракту, в направлении Черного утеса. Он преодолел две версты пешим ходом по дороге, затем свернул на лесную тропинку, и вскорости оказался перед входом в катакомбы, где немного постоял, собираясь со своими черными мыслями.
"Я ничтожество", - думал Штер, - "Я ненавижу себя и свое дело, которому посвятил свою жизнь. Но еще больше я ненавижу людей! Они растоптали меня, бросили на попранье свиньям, изрезали, изорвали мою душу! Нет мне места среди живых! Лучше я буду среди мертвых - они-то уж точно никогда не смогут меня уничтожить! НИКОГДА!"
- Никогда... Никогда! НИКОГДА!!! - закричал в бессильной злобе Штер, и эхо ответило ему тем же. Петр Семенович поправил за спиной холсты и раму, и исчез в темноте катакомб.
Исчез, чтобы больше не появиться...
Часть II
* * *
... Штер вошел в пещерный грот. Высокий свод пещеры был заполнен разного рода минералами. Были бы на месте Штера какие-нибудь горняки - устроили бы здесь шахту, а никак не склеп.
Обнаженное тело Ульяны лежало на большом пьедестале, будто созданном под рост и фигуру куртизанки. Оно уже давно потеряло свой немного розоватый оттенок и стало абсолютно бледным. Грудь, казалось, вжалась вовнутрь, а соски на фоне мертвой бледности казались темнее, чем прежде. На фоне бледного лица губы Ульяны казались синими с тонким оттенком черного. Волосы, закрывавшие от посторонних глаз ее гениталии, на фоне мертвой бледности тела тоже стали немного темнее. Она была прекрасна даже после смерти.
Штер, конечно же, знал, что произойдет через некоторое время. А именно - сейчас он возляжет рядом, и будет ласкать ее мертвое тело.
- Моя Немезида, мой ангел! Я вечно твой! - прошептал Штер и скинул с уставших плеч пальто. Вновь он совершал этот мерзкий ритуал, и вновь ему казалось, что Ульяна чувствует его. Это было похоже на сумасшествие, на что угодно - только не на любовь, только не на страсть. Это было что-то сродни животному влечению, чему-то первобытному. Это напоминало какой-то ужасный, богомерзкий языческий ритуал. Однако это никоим образом не заботило Штера. Перед ним лежало тело Ульяны - такое чувственное, такое доступное, такое нежное... Он желал ее, и ему казалось, что его желание взаимно...
Возможно, если бы Бог взирал с небесного престола, что творил художник Петр Штер в тот злосчастный день, то гнев его наверняка был страшен. Содом, который он уничтожил, был жив, и жил он в сердце и душе падшего художника. Самому же Штеру было глубоко наплевать на то, что кто-либо свыше о нем думает. Он верил только одной богине.
Своей Немезиде...
Той, что при жизни носила имя Ульяна Лапина...
* * *
... Штер лежал на каменном пьедестале. Только что он удовлетворил свои богомерзкие желания. Мертвая Ульяна лежала рядом, упершись грудью в локоть художника. Голое тело мертвой куртизанки после ужасного ритуала казалось живым!
Штер встал, оделся и ушел в свой грот, где он уже давно расположился. На таком же пьедестале, как у Ульяны, лежала его накидка, служившая ему походным ложем. Рядом стоял холст. На него был нанесен карандашный эскиз портрета: еще живая Ульяна пристально смотрела на художника. Штер зарисовал ее сидя, полуголой - видна была лишь правая грудь, не прикрытая рукой - и с НАСТОЛЬКО выразительными глазами, что Мона Лиза со своей улыбкой не шла ни в какое сравнение! В другой, не закрывавшей грудь, руке Ульяна держала кинжал, инкрустированный драгоценными камнями. На ней была надета черная накидка с капюшоном - истинно, одежда Смерти. Штер смотрел на картину, и постепенно проваливался в черную пропасть сна. Наконец его веки сомкнулись, и он заснул...
... Он видел поле. Оно было огромным - до самого горизонта были видны пшеничные колоски. Навстречу ему по дороге шла девушка в легком летнем платье. Она ему улыбнулась, приветствуя его. Он улыбнулся ей в ответ.
Она держала в руке корзинку с ягодами. У него в правой руке был револьвер. Когда между ними оставалось шагов четырнадцать, он направил пистолет на нее и, прицелился и выстрелил.
Пуля пробила ей череп и вылетела из затылка. Корзинка выпала из рук, и ягоды раскатились, спрятав свои красные тельца от черного человека под травой. Он подошел к ней, достал охотничий нож и стал раздирать ей платье. Когда он завершил свое черное дело, платье стало похоже на рубище, а перед ним предстало голое мертвое тело.
Он наклонился...
"Еще девственница..."
Скоро она потеряет девственность. Но никогда об этом не узнает...
* * *
- Очнитесь, Петр Семенович!..
Штер открыл глаза, но никого, кто бы мог сказать эти слова, не увидел. Незнакомый голос был удивительно нежным, приятным на слух, успокаивающим душу, а главное - женским...
- Кто здесь? - испуганно озираясь по сторонам, проговорил в темноту пещеры Штер. Тут же ему в глаза ударил ослепительный свет. Петр Семенович прикрыл глаза, но все было тщетно - он не мог спасти глаза от этого дьявольского света.
- Здравствуй, художник! - снова послышался голос, на этот раз более уродливый, немного вороний, - Ты совершил много ужасных деяний! Меня послали, чтобы последние дни твоей черной жизни превратились в ад!
- Кто это каркает, как ворона? Кто ты, черт тебя дери?! - заглушая боль в глазах, в бессильной злобе закричал Штер. Свет погас, и в пещере стало непривычно темно. Когда Петр Семенович привык к слабому пещерному освещению, он увидел обладателя вороньего голоса. Вернее - обладательницу...
Когда до Штера дошло, кто перед ним, его ужасу не было предела. Он соскочил с ложа и забился в угол грота.
Ибо перед ним, вся в огне, с глазами, мечущими молнии, стояла... обнаженная Ульяна!!!
- Черт... Да что же ты такое! - наблюдая за ожившей куртизанкой, стуча зубами от страха, промолвил Штер.
- Вот видишь, художник: не знал, что я такое - а ведь как называл, как ласкал! - каркала Ульяна, и от этого жуткого вороньего голоса у Штера кровь застыла в жилах, - Мое настоящее имя Франческа де Римини. Может, слышал такое когда-нибудь...
- Де Римини... Но постой!.. Я знаю, откуда это имя!.. - воскликнул Штер в ужасе от осознания того, что все это - правда...
- Догадался... Ты прав: я - та, которую встретил во втором кругу ада Безвинный Изгнанник. Я - та, что была обманута в свою первую брачную ночь. Я - та, что умерла за любимого, но ничем ему помочь не смогла. Я - та, чью душу носит по кругу адский ветер!
"Этого не может быть... Это сон... Я все еще сплю..." - пытался обнадежить себя Штер. Немного одухотворенный, он поднялся из своего угла и решил идти в атаку:
- Что ж, история твоя интересна... Однако я, наверно, все-таки сплю, и ты мне снишься. Поэтому я заклинаю тебя: покинь мое жилище!
Злой дух засмеялся, и от этого смеха у Штера сердце ушло в пятки, и вся его одухотворенность улетела в никуда. Ульяна - то есть Франческа – подходила все ближе и ближе к художнику, забившемуся от страха в угол пещеры. Штер дрожал от ужасаю В его глазах читался страх пополам с недоумением. Петр Семенович был глубоким атеистом, и все рассказы о сверхъестественном и божественном невольно заставляли его смеяться. Но тогда, встретившись лицом к лицу с миром, в который он не верил, и который всячески отвергал, Штера обуял страх перед непознанным. В этот день рухнуло все, было им создано: все мечты, мысли, рассуждения канули в Лету, словно их и не было, обнажив страх. На месте Штера был бездушный и холодный человек, хотя даже человеком его можно было назвать с большой натяжкой. Скорее, это был живой труп, только что вылезший из могилы... <>
© Copyright: Николай Шендарёв, 2009
Свидетельство о публикации №109011904289
|
Метки: штер |
Архивная копия записи в метрической книге |
Архивная копия записи в метрической книге
В моей генеалогической работе случилось большое событие. Я перешла веху 1917 года и получила первый документ из дореволюционных свидетельств! Я вижу впервые оригинал столь давнего документа, и хочу попробовать поразбираться с ним подробно по пунктам.
Получила я архивную копию из метрической книги с записью о крещении моей прабабушки Меланьи Гавриловны Строкань, в девичестве Дудковской.
О метрической книге
Из Википедии:
Метрическая книга — реестр, книга для официальной записи актов гражданского состояния (рождений, браков и смертей) в России в период с начала XVIII века (православные метрические книги — не ранее 1722 года) по 1918 год.
Метрическая книга рассчитывалась на год и состояла из трёх частей (отсюда её второе, менее распространённое наименование — троечастная книга): "О родившихся", "О бракосочетавшихся", "О умерших".
Метрические книги велись уполномоченными духовными лицами в двух экземплярах: один оставался на хранении в церкви (как правило — подлинный), второй (иногда в виде копии, заверенной церковным причтом) отсылался в архив консистории (учреждение с церковно-административными и судебными функциями, которая подчинялась епархиальному архиерею).
Ведение метрических книг был отменено декретом Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров СССР от 18 декабря 1917 года "О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов гражданского состояния". Их заменили на актовые книги в местных органах ЗАГСа, хотя причты в приходских церквях продолжали составлять метрические книги до 1919 года.
Форма таблицы метрических книг установилась в 1830-е годы. Вот так выглядит разворот из метрической книги Николаевской церкви за 1905 год:
В верхней части каждой страницы напечатан знак Московской синодальной типографии, в которой изготавливались все церковные книги на всю Империю.
в сети я нашла изображение знака Московской синодальной типографии полностью:
Левая сторона разворота состоит из следующих столбцов:
- счет родившихся (делится на два столбца: мужеска пола и женска пола)
- месяц и день (делится на два столбца: рождение и крещение)
- имена родившихся
- Звание, имя, отчество и фамилия родителей, и какого вероисповедания
Правая сторона разворота:
- звание, имя, отчество и фамилия восприемников
- кто совершал таинство крещения
- рукоприкладство свидетей записи по желанию
Запись о рождении и крещении моей прабабушки - четвертая сверху. Прабабушка была четвертой по счету девочкой в январе, зарегистрированной в метрической книге Николаевской церкви г. Екатеринодара. Родилась она 3 января 1905 года, была крещена на следующий же день, 4 января 1905 года. Назвали девочку Мелания
Попробуем разобрать то, что написано в графе о родителях Мелании. Буду очень благодарна за помощь в расшифровке! Фрагмент страницы в увеличенном размере можно посмотреть по ссылке.
Итак. Екатеринодарский мещанин Гавриил Стефанов Дудковский и законная жена его Евфимия Макарова оба православные.
Священник Пантелеймон Стефанов
Диакон Иаков Кущ
Правая сторона разворота не точно совпадает с левой, я отсчитала четвертую сверху запись о восприемниках:
Екатеринодарский мещанин Иоанн (?) Моисеев Приступа и Екатеринодарская Мещанка Елена Максимова Зубко
Имя священника, крестившего в Николаевской церкви детей написано поперек листа, т.к. всех детей, записанных тут, крестил один и тот же священник. Увеличенный файл можно посмотреть по ссылке..
Священник Пантелеймон Стефанов и с Диаконом Иаковом Кущом
О Николаевской церкви.
Название церкви - Церковь Николая Чудотворца. Обиходные названия церкви: Никольская церковь; Николаевская церковь; Николы церковь; Николы Угодника церковь; Николая Мирликийского церковь; Свято-Никольская церковь; Святоникольская церковь.
Николаевский храм в закарасунском поселке Дубинка Екатеринодара был возведён по проекту архитектора В.А. Филиппова; заложен 9 мая 1881, построен к 1883. Воспроизводил формы шатровых храмов XVI–XVII веков в сочетании с древнерусской крестово-купольной основой. Снесён в начале 1930-х. К сожалению, не сохранилось фотографий церкви.
Сейчас на месте церкви Октябрьский суд г. Краснодара по адресу Ставропольская ул. 75
Архитектор Василий Андреевич Филиппов прибыл в Екатеринодар из Петербурга молодым специалистом. В возрасте 26 лет он занял должность Войскового архитектора Кубанского казачьего войска. Некоторое время спустя приказом Наместника Кавказского был назначен Кубанским областным архитектором.
По его проекту в Екатеринодаре построены Здание общественного собрания, «войсковой тюремный замок» (тюрьма), мужская гимназия, Николаевская церковь на Дубинке, часовня над могилой черноморского атамана Я.Ф. Бурсака, Летний театр в Войсковом саду, Триумфальная арка, обелиск в честь 200-летнего юбилея Кубанского казачьего войска, Епархиальное женское училище. «По величине своей и архитектурной красоте, – писала газета,– она занимает первое место в городе и является, таким образом, ценным украшением этой части города».
О поселке Дубинка
Церковь, как я написала выше, находилась в поселке Дубинка, образовавшемся на месте лесов, вырубленных за рекой Карасун. Этот поселок был окраиной Екатеринодара, сейчас - район Краснодара, туда меня в детстве возили в гости к нашим родственникам. Получается, это наш "родовой" район с начала прошлого века!
С сайта про Екатеринодар:
1896 год. Санитарный врач 4-й части Екатеринодара опубликовал отчет о состоянии Дубинки, в котором дал такую характеристику этого окраинного, "бедняцкого" района.
«Дубинка, — писал он, — занимает довольно значительную площадь между реками Карасуном и Кубанью, представляя собою скорее пригородный поселок, чем часть города. Занятие большинства — земледелие». К январю 1896 г. здесь проживало почти 10 тысяч человек, причем за пять последних лет население Дубинки увеличилось более чем в полтора раза за счет переселенцев из Харьковской, Полтавской и Екатеринославской губерний.
Рождаемость была высокой: на одну тысячу жителей 60 рождений, но показатели смертности достигали 51,6 %, что объяснялось «сильным вымиранием » детей до двухлетнего возраста. Дети в быту дубинцев, по наблюдениям санитарного врача, были тяжелым бременем, большинство семейств обитало в крайней нищете, занимая обычно одну небольшую комнату, а нередко в таковой помещалось сразу две или три семьи вместе с детьми. В этих переполненных людьми жилищах, сырых, с недостаточным количеством света, зачастую отделенных от сарая для скота дощатой перегородкой, воздух был настолько тяжел, что вошедший туда с трудом мог пробыть 15—30 минут... На Дубинке не имелось ни одной бани, из учебных заведений было два училища — городское и церковно-приходское. Что же касается неблагоустроенности улиц, особенно здесь, на окраине, то это тема непременно присутствовала во всех дореволюционных описаниях города. Так, в отчете санитарного врача отмечалось: «Весной и осенью, когда выпадают в изобилии дожди, всякое движение по Дубинке, пешее и конное, становится крайне затруднительным вследствие отсутствия мостовых, переходов через улицы и тротуаров».
Не являлась исключением и главная улица Дубинки — Ставропольская (ныне К. Либкнехта). В другом источнике читаем: «Круглый год Ставропольская улица на Дубинке представляет собой совершенно невероятное для города явление. Зимой, с началом весны и осенью улица эта изображает собой ловушку для пешего и конного... По целым суткам зачастую слышится неумолкаемое гиканье, удары бича и понуканье животных — это утопающие в дубинской грязи станичники выручают свой скот и добро, которые везут в город на базар... Летом улица переполняется пылью настолько, что свету божьего не видно...»
Дубинка. Вид с каланчи, ранее располагавшейся на углу улиц Шевченко (Широкой) и Ковтюха (Слободской)
Фрагмент карты Екатеринодара 1902 года, поселок Дубинка. По улице Ставропольской между номерами 382 и 383 Никольская церковь
О священнике, который крестил прабабушку.
Священника звали Пантелеймон Тимофеевич Стефанов, его имя приводится в Кубанском календаре за 1898 год:
в списке священников Екатеринодара:
О Московской синодальной типографии
В Московской синодальной типографии, чью эмблему я показала в первой части поста, издавались духовные книги на самые разные темы, пособия и учебные курсы, церковные словари, службы и каноны.
Кроме этого, там же печатались церковные книги на всю Российскую империю - метрические книги, исповедные росписи, клировые ведомости, обыскные книги.
Московская синодальная типографическая контора была основана в 1727 г. после передачи Печатного двора в ведение Духовной коллегии. Подчинялась непосредственно Синоду.
В 1811-15 гг для Синодальной типографии было построено специальное здание (архитектор И.Л. Мироновский). В «готическом» фасаде использованы декоративные мотивы древних зданий Печатного двора: изображения льва и единорога, увитые виноградной лозой колонны, белокаменная резьба.
Синодальная типография владела богатейшими в Москве библиотекой и архивом; справщики Синодальной типографии занимались изучением и описанием рукописей. В 1896 при Синодальной типографии была открыта двухгодичная школа.
Синодальная типография с успехом экспонировала свои издания на Нижегородской выставке 1896 г., на Всемирной выставке в Париже в 1900 г.
После 1917 г. Синодальная типография была ликвидирована. В 1918 г. в её помещениях разместилась 7-я типография Гознака, с 1930 г. — Историко-архивный институт (с 1991 г. Российский государственный гуманитарный университет).
О работе архива
Мы регулярно обращаемся в фонды Государственного архива Краснодарского края. Архив работает отлично - отвечает в короткие сроки, принимает запросы по электронной почте и результаты высылает туда же. Запросы выполняются бесплатно.
Документ я запросила по электронной почте из Государственного архива Краснодарского края 14 мая, а уже 22 мая, т.е. через 9 дней, мне на мейл пришел ответ.
Современная архивная обложка метрической книги:
Источники:
1. А.В. Спичак Эволюция оформления метрических книг в Тобольской епархии в 18-начале 20 веков.
2. Синодальная типография на Никольской улице.
3. Кубанская генеалогия.
4. myekaterinodar.ru
5. Старые карты Екатеринодара
Метки: генеалогическая кухня, история семьи
|
Метки: история семей |
Загадочная Мария Будберг - последняя любовь Максима Горького |
Загадочная Мария Будберг - последняя любовь Максима Горького (7 фото)

Максим Горький и Мария Будберг.
Судьба Марии Будберг (в девичестве Закревской) – одна из загадок мятежного ХХ века. Историки до сих пор пытаются установить достоверно, была ли она разведчицей, и если да, то на какую страну работала. Ей приписывают связи со спецслужбами Германии, Англии и Советского Союза. Ее любовные истории с выдающимися деятелями эпохи только усугубляют ситуацию: в числе ее поклонников – британский тайный агент Роберт Брюс Локкарт, чекист Яков Петерс, эстонский барон Николай Будберг, писатель-фантаст Герберт Уэллс и Буревестник революции Максим Горький…

Портрет Марии Будберг.
Мария Игнатьевна Закревская родилась в Полтаве в 1892 году. Девушка получила хорошее образование в пансионате благородных девиц, и, будучи 18 лет от роду, очаровала дипломата Ивана Бенкендорфа и вскоре вышла за него замуж, родила двух детей – дочь Таню и сына Павла. Когда вспыхнула Февральская революция, Бенкендорф принял решение уехать с детьми в свое имение в Эстонии, а вот Мария осталась в Москве.
Вскоре Мария Бенкендорф узнала о трагической смерти законного мужа – он был расстрелян. Однако ее мысли уже занимал британский посол Роберт Локкарт, с ним Мария проживала совместно, и когда в квартиру Локкарта 1 сентября 1918 года с обыском ворвались чекисты, то застали ее именно там. И Мария, и Роберт попали на Лубянку по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. Под руководством чекиста Якова Петерса прошло расследование, и был разоблачен так называемый «заговор послов», операция, которая якобы готовилась послами Франции, Великобритании и Америки с целью свергнуть большевиков в России.

Портрет Марии Будберг.
Несмотря на всю серьезность обвинений и тот факт, что после разоблачения заговора по всей стране развернулся красный террор, Роберт Локкарт вскоре вышел из тюрьмы, его отправили в Лондон, обменяв на советского дипломата, арестованного в Великобритании. Мария не только устроила собственное освобождение, но и выхлопотала свободу Локкарту… ценой романа с чекистом Яковом Петерсом. Освободили Марию, видимо, с условием, что она будет сотрудничать с НКВД.

Максим Горький и Мария Будберг.
Оказавшись на воле, она переехала в Петроград, стала искать помощи у знакомых литераторов. Нужно было заработать денег, чтобы на что-то жить, кроме того, Мария мечтала забрать детей к себе в Россию. Помочь ей обещался Корней Чуковский, он помнил о том, что Максим Горький был в поисках помощника-секретаря. Горький был поражен деловыми качествами Марии и ее образованностью: она не только готова была вести всю его документацию и помогать составлять письма на русском, английском и немецком языках, но еще и охотно взяла на себя управление расходами по содержанию всего дома.

Мария Будберг работала секретарем у Горького.
Со временем Максим Горький понял, что не только ценит Муру (как ее тогда называли), как образцового сотрудника, но и питает к ней самые светлые чувства. Это заметили и законная жена Горького Екатерина Пешкова, и фактическая жена Мария Андреева. Несмотря на то, что Горький был почти в два раза старше Марии, он полностью отдался этому чувству, понимал, что в его жизни эта любовь станет последней. И он действительно предугадал свой трагический финал…
Мария за свою жизнь сменила много фамилий. Еще одной стала - Будберг. Ее она взяла, выйдя замуж за эстонского барона. Брак был фиктивным, это был единственный способ для Муры повидаться с детьми. В Эстонию она отправилась в 1920 году, пыталась нелегально перейти границу зимой по Финскому заливу, но была схвачена полицией. Горький, узнав о произошедшем, похлопотал о том, чтобы Муру отпустили. Правда, ее тут же арестовали повторно по подозрению в шпионаже (в Таллине ей вспомнили любовные связи и с Горьким, и с Петерсом). Освободил ее адвокат, к которому за помощью обратился Максим Горький, имевший хорошие связи на Западе.

Мария Будберг на закате жизни.
Несколько лет Мура прожила в Европе, здесь она дождалась переезда Горького, и вместе с ним поселилась в Сорренто, забыв о фиктивном муже. Несмотря на самые теплые чувства, которые Мура питала к советскому писателю, она по несколько раз в год навещала и бывшего любовника - Роберта Локкара. В Лондоне она делала остановку, когда ездила навещать детей в Эстонию. В 1925 году Мура решилась перевезти в Сорренто детей, Горький полюбил их всей душой.
С Лондоном была связана и еще одна большая любовь Муры. После возвращения Горького в СССР, она переехала жить в Лондон. Это был 1933 год. Здесь она жила вместе с Гербертом Уэллсом. Их любовная история вспыхнула еще в 1920 году, познакомились они тогда еще в доме Горького. Уэллс, как и другие мужчины, ревновал возлюбленную, болезненно переживал ее измены (теперь она уже время от времени посещала Максима Горького) и отчаянно предлагал ей стать его женой. Впрочем, так делали все мужчины Муры.
Интересно, что Мура не предала никого из своих возлюбленных мужчин. За Уэллсом она ухаживала до самой его смерти, у нее на руках умер и Максим Горький. Кто знает, быть может, без спецслужб и тут не обошлось. Историки до сих пор не установили точно, кто виновен в отравлении Буревестника.

Мария Будберг - предположительно двойной агент разведки.
Марии Будберг не стало в ноябре 1974 года. В последние годы жизни она страдала от болезней, с трудом ходила, сказалось многолетнее злоупотребление алкоголем. В истории она осталась «железной женщиной», как называл ее Горький, или "красной Мата Хари, как ее окрестили на Западе. Незадолго до смерти уничтожила все свое эпистолярное наследие, не оставив потомкам ответов на многочисленные вопросы.
https://pressa.tv/znamenitosti/63368-zagadochnaya-...bov-maksima-gorkogo-7-foto.htm
|
Метки: закревские бенкендорф будберг |
РОДОСЛОВНАЯ СЕМЬИ УЛЬЯНОВЫХ |
РОДОСЛОВНАЯ СЕМЬИ УЛЬЯНОВЫХ
М. ШАГИНЯН ПРЕДСТАВЛЯЕТ И.Н. УЛЬЯНОВА КАК «ПОТОМКА СТЕПНЫХ КАЛМЫКОВ». ВСЛЕД ЗА НЕЙ Д. ВОЛКОГОНОВ И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ АВТОРЫ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО БАБУШКА В.И. ЛЕНИНА, ТО ЕСТЬ МАТЬ ИЛЬИ НИКОЛАЕВИЧА УЛЬЯНОВА, БЫЛА «ДОЧЕРЬЮ КРЕЩЕНОГО КАЛМЫКА». ТАК ЛИ ЭТО?
В произведениях М.С. Шагинян, объединенных в «Лениниану», представлена родословная В.И. Ленина с отцовской стороны. В романе «Семья Ульяновых» она пишет, что мать И.Н. Ульянова, А.А. Смирнова, «вышла из уважаемого в астраханском мещанстве крещеного калмыцкого рода». А в очерке «Предки Ленина (Наброски к биографии)», впервые опубликованном в журнале «Новый мир» (№ 11, 1937 г.), Шагинян прямо говорит: «Есть документ о том, что отец Анны Алексеевны был крещеный калмык». Что же это за документ? Сама Шагинян не включила его ни в одно из своих произведений. Не обнаружена и копия названного документа в ее личном фонде, хранящемся ныне в Центральном государственном архиве литературы и искусства. М.Г. Штейн предполагает, что если документ был изъят из архива по указанию партийных органов в 30-х гг. XX в. без следов этого изъятия, то в настоящее время он может находиться в каком-либо из специальных архивов: РГАСПИ или Архиве Президента Российской Федерации. Однако, учитывая то, что в 1990-е гг. публиковались многие ранее неизвестные источники о В.И. Ленине и его семье, например, письма А.И. Ульяновой-Елизаровой И.В. Сталину о еврейском происхождении А.Д. Бланка, логично предположить о представлении документального подтверждения и калмыцких корней в родословной В.И. Ленина. Но до настоящего времени поиск документа, на который ссылается М.С. Шагинян, не увенчался успехом.
Категоричная позиция Шагинян в вопросе происхождения И.Н. Ульянова вызвала справедливые нарекания со стороны родных В.И. Ленина. Так, 28 ноября 1937 г. Д.И. Ульянов написал рецензию на рукопись романа М. Шагинян «Билет по истории» и отослал ее в редакцию журнала «Красная новь», которая приняла решение о публикации романа. В этой рецензии он писал: «Автор очень категоричен в вопросе о происхождении Ильи Николаевича: „Потомок степных калмыков“ Думаю, что так безоговорочно утверждать нельзя; автор берет на себя слишком большую смелость. Да и с какой целью он это делает? Что это по существу должно или может характеризовать? В какую семью на Руси не попала монгольская кровь - если не в период татарского ига, то в последующие века, когда русские жили бок о бок с монгольскими племенами. Особенно в таком полутатарском городе, как Астрахань. Нет надобности особенно разбираться в семейных летописях, чтобы объяснить раскосые глаза или выдающиеся больше обычного скулы. Если бы характеристика предков касалась существа дела, например, особого склада ума, каких-либо талантов или особых способностей и пристрастий, тогда бы это было важно»1.
В 1960-е гг. усилиями астраханских и горьковских архивистов были выявлены документы, благодаря которым стало известно, что дед Ленина Николай Васильевич происходил из села Андросова Сергачской округи Нижегородской губернии. Документы позволили проследить три поколения Ульяновых, живших в Андросове. Прапрадед В.И. Ленина - Никита Григорьевич, прадед - Василий Никитич и дед Николай Васильевич были крепостными крестьянами нижегородских помещиков Бреховых.
В 1791 г. дед Ленина был отпущен помещиком М.С. Бреховым на оброк. В 1793 и 1797 гг. были изданы правительственные указы, разрешавшие, в силу государственных интересов, не возвращать к помещикам с окраинных земель крестьян, засчитывая их владельцам как сданных в рекруты. Так Н.В. Ульянов, отрабатывавший оброк в Астраханском крае, стал государственным крестьянином, в 1808 г. он был причислен к мещанскому сословию, жил и работал вначале в селении Новопавловском Астраханской губернии, а затем переехал в Астрахань.
В списках мужского населения Астрахани для рекрутского набора 1837 года указывалось: «Николай Васильев Ульянин, у него дети Василий 14 лет, Илья 2 лет, коренного российского происхождения»2. Таким образом, версия о калмыцком происхождении И.Н. Ульянова не имеет документального подтверждения.
1 Ульянов Д.И. Очерки разных лет: Воспоминания. Переписка. Статьи. - М.: Политиздат, 1984. - С. 144.
2 Шнайдштейн Е. Начало родословной II Волга. -1966. - № 8. - С. 134-135.
ЧТО ИЗВЕСТНО О РОДСТВЕННИКАХ В.И. ЛЕНИНА ПО ЛИНИИ ОТЦА ИЛЬИ НИКОЛАЕВИЧА УЛЬЯНОВА?
У Ильи Николаевича Ульянова был старший брат Василий и две сестры - Мария и Федосья.
Василий Николаевич Ульянов, окончивший уездное училище, мечтал о продолжении образования. Однако после смерти отца он был вынужден содержать мать, маленького брата и сестер. Он служил соляным объездчиком в «Астраханском соляном правлении» братьев Сапожниковых. В 1867 г. по состоянию здоровья он оставил работу у братьев Сапожниковых, которые в знак признания его заслуг установили Василию Николаевичу небольшую пенсию. Но пенсии не хватало, и он вынужден был подрабатывать. Василий Николаевич Ульянов умер в 1878 г. от туберкулеза. Своей семьи он не создал.
Также не имела своей семьи и Федосья Николаевна. До смерти брата Василия она проживала с ним в родовом доме, а затем жила в семье своей сестры Марии.
Мария Николаевна Ульянова незадолго до смерти отца вышла замуж за астраханского мещанина Николая Захаровича Горшкова, у которого от первого брака было двое сыновей: Константин и Александр. В этом браке у нее родилось два сына Иван и Степан. Мария Николаевна овдовела в 32 года, оставшись с четырьмя детьми на руках. Помощь ей оказывал брат Василий.
О судьбе пасынков Марии Николаевны и ее сына Ивана сведений не обнаружено. Степан Николаевич Горшков (двоюродный брат Ленина) после окончания четырехклассного городского училища работал в различных государственных учреждениях Астрахани. В 1921 г. Степан Николаевич приезжал в Москву, но встретиться с двоюродным братом Владимиром Ильичем Ульяновым ему не удалось, поскольку в это время Ленин был болен. С.Н. Горшкова тепло приняли Анна Ильинична и Мария Ильинична, приезжавшие ранее в гости к Горшковым в Астрахань. По дороге домой Степан Николаевич заболел тифом и умер1.
У С.Н. Горшкова было трое сыновей: Борис, Евгений и Вячеслав и дочь Юлия. Их потомки живут в настоящее время.
1 Марков А. Ульяновы в Астрахани. - Волгоград, 1983. - С. 105. 18
ПРАВДА ЛИ, ЧТО ПРЕДКИ В.И. ЛЕНИНА ПО ЛИНИИ МАТЕРИ БЫЛИ НЕМЕЦКОГО, ШВЕДСКОГО И ЕВРЕЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ?
Вопрос о родословной В.И. Ленина очень интересен, и действительно, в ней соединились линии немецких, шведских и еврейских предков по линии матери Марии Александровны Ульяновой, в девичестве Бланк.
Немецкая линия напоминает о том, что дед Марии Александровны по линии матери (прадед В.И. Ленина) Иоганн Готлиб Грошопф родился в 1766 г. в немецкой семье в г. Любеке. Еще в юношеские годы он переехал на жительство в Россию. По свидетельству исследователя М.Г. Штейна И. Грошопф служил в Государственной Юстиц-коллегии Лифляндских, Эстляндских и Финляндских дел. В 1793 г. он женился на Анне Беате Эстедт (Остедт), шведке по происхождению, дочери золотых дел мастера, впоследствии - учителя по гравировальному искусству Санкт-Петербургской Академии искусств. Отсюда - шведская линия в родословной В.И. Ленина. Дочь И. Грошопфа и А. Эстедт Анна Ивановна Грошопф - мать М.А. Ульяновой, бабушка В.И. Ленина.
Долгие годы оставался открытым вопрос о национальности деда В.И. Ленина с материнской стороны, Александра Дмитриевича Бланка. Это рождало и рождает различные версии. Известно, что 14 ноября 1924 г. Секретариат ЦК ВКП(б) поручил сестре В.И. Ленина Анне Ильиничне Ульяновой-Елизаровой заняться сбором материалов по истории семьи Ульяновых. Работая в Ленинграде в фонде Департамента полиции, она познакомилась с копиями документов, подтверждающих еврейское происхождение А.Д. Бланка, о чем она догадывалась и раньше: «У меня лично довольно давно стала являться мысль о возможности еврейского происхождения, на что наталкивало, главным образом, сообщение матери, что дед родился в Житомире - известном еврейском центре. Бабушка - мать матери - родилась в Петербурге и была по происхождению немкой из Риги. Но в то время как с родными по матери у мамы и ее сестер связи поддерживались довольно долго, о родных ее отца, А.Д. Бланка, никто не слышал. Он являлся как бы отрезанным ломтем, что наводило меня также на мысль о его еврейском происхождении. Никаких рассказов деда о его детстве или юношестве у его дочерей не сохранилось в памяти»1. Согласно обнаруженным документам, А.Д. Бланк приходится сыном Мойши Ицковича Бланка, житомирского мещанина. О результатах розысков, под
твердивших ее предположение, А.И. Ульянова сообщала Сталину в 1932 и 1934 гг. «Факт нашего происхождения, предполагавшийся мною и раньше, - писала она, - не был известен при его жизни Я не знаю, какие могут быть у нас, коммунистов, мотивы для замолчания этого факта»2. «Молчать о нем абсолютно», - таков был категорический ответ Сталина. Письма И. Ульяновой-Елизаровой были опубликованы лишь в 1992 г. в журнале «Отечественные архивы»2.
Заслуженный работник культуры В.В. Цаплин, работавший в 1965 г. по заданию Главархива СССР в государственных архивах Житомирской и Хмельницкой областей, уточнил, что прадед И. Ленина Мойша (Моше, Мовше) Ицкович Бланк по ревизии 1795 г. был записан среди мещан г. Староконстантинова Волынской губернии под номером 394. Жена его - уроженка Староконстантинова Марем (Марьям). У них было два сына Абель и Сруль (Израэль), которые перешли в православие, приняв при крещении имена Дмитрия и Александра. Об этом свидетельствует ряд документов, в том числе находящаяся в Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ) копия донесения Федора Барсова - священника церкви Преподобного Самсония в Санкт-Петербурге - на имя митрополита Михаила о произведенном крещении Дмитрия и Александра Бланков. Документ датирован 1820 годом.
А.Д. Бланк женился на А.И. Грошопф, в их семье родилась Мария Александровна - мать В.И. Ленина. Отсюда - немецкие, шведские, еврейские корни в родословной В.И. Ленина.
1 Отечественные архивы. -1992. - № 4. - С. 81.
2 Отечественные архивы. -1992. - № 4. - С. 78,79.
БЫЛИ ЛИ СРЕДИ ПРЕДКОВ И РОДСТВЕННИКОВ В.И. ЛЕНИНА ИЗВЕСТНЫЕ ИЛИ ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ?
В генеалогическом древе В.И. Ульянова (Ленина) немало имен известных и значительных личностей: ученых, юристов, врачей, политиков, военных. По материнской линии прапрабабушка В.И. Ленина Кристина Маргарет Эдлер была связана родственными узами с уважаемой любекской семьей Курциусов.
Эрнст Курциус (1814-1896) - один из крупнейших историков античности, археолог, исследовавший останки Олимпии, автор трехтомной «Истории Греции». Не менее известен его брат Георг (1820-1885), профессор древнегреческого языка. Его учебник по древнегреческому языку выдержал в Германии 16 изданий и в 1868 г. был переведен на русский язык. Этот учебник среди прочих был в библиотеке Симбирской гимназии, а также в домашней библиотеке семьи Ульяновых.
Дочь Э. Курциуса - Дора (1854-1931) вышла замуж за Рихарда Георга Лепсиуса (1851-1915), породнив два знаменитых в немецкой и мировой науке семейства. Р.Г. Лепсиус был профессором геологии Высшей технической школы и директором Гессенского государственного института в Дармштадте. Главный труд его жизни — геологическая карта Германии (1894-1897). Его отец Карл Петер Лепсиус (1810-1884) был крупнейшим египтологом, президентом Немецкого археологического института в Риме. Он создал египетский музей в Берлине.
Еще одна всемирно известная ветвь немецких родственников В.И. Ульянова - семья Вайцзеккеров. Эрнст Генрих фон Вайцзеккер (1882-1951) - профессиональный дипломат с 1920 г., статс-секретарь Министерства иностранных дел Германии в 1938-1943 гг., посол Германии в Ватикане (1943-1945). Его брат, Виктор Фридрих фон Вайцзеккер (1886-1957) стал основоположником антропологической медицины и известным философом. Сын Э.Г. фон Вайцзеккера, Карл Фридрих (1912-?) - один из создателей современной ядерной физики и крупный философ. Другой сын — Рихард Карл фон Вайцзеккер (род. 1920) - юрист и предприниматель, деятель Христианско-демократического союза, являлся президентом ФРГ в 1984-1994 гг.
В ряде публикаций в немецких и российских источниках сообщалось о родстве В.И. Ленина с всемирно известными писателями Томасом и Генрихом Маннами, однако новейшие исследования Г. Крузе (немецкого генеалога, внучатого племянника Ленина) заставляют в этом усомниться.
ДО КАКОГО ЧИНА ДОСЛУЖИЛСЯ А.Д. БЛАНК, ОТЕЦ М.А. УЛЬЯНОВОЙ?
В Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ) хранится формулярный список за 1847 г. о службе медико-хирурга надворного советника А.Д. Бланка1. Из него видно, что Александр Дмитриевич в 1824 г. закончил Медикохирургическую академию в Санкт-Петербурге и получил звание лекаря. Он был определен на службу в качестве уездного врача в Смоленскую губернию. Отсюда он был переведен в Петербург на должность частного врача во II части Санкт-Петербургской полиции. 26 сентября 1828 г. Александр Дмитриевич получил чин штаб-лекаря, а 30 декабря 1829 г. - звание акушера. До 1841 г.
А.Д. Бланк служил ординатором в больнице Св. Марии Магдалины, состоявшей под покровительством герцога Лейхтенбергского. В октябре 1838 г. Бланк был пожалован высочайшим указом в коллежские асессоры. Этот чин VIII класса давал право на потомственное дворянство. С февраля 1841г. А.Д. Бланк служил инспектором Пермской врачебной управы, затем заведовал Юговским заводским госпиталем, работал «доктором по Златоустовской оружейной фабрике», медицинским инспектором Златоустовских госпиталей. В 1843 г. Александр Дмитриевич был произведен в чин надворного советника со старшинством (что соответствовало военному званию подполковника), а 22 августа 1846 г. награжден знаком «За беспорочную службу». В этом чине в звании медико-хирурга с должности доктора по Златоустовской оружейной фабрике в 1847 г. А.Д. Бланк ушел в отставку. В формулярном списке в 1847 г. было засвидетельствовано, что с профессиональной стороны доктор Бланк серьезных нареканий не имел и «к продолжению статской службы и повышению чина способен и достоин». 4 августа 1859 г. Департамент герольдий Правительствующего Сената утвердил Александра Дмитриевича Бланка и его детей в потомственном дворянстве. Они были занесены в 3-ю часть дворянской родословной книги Казанской губернии.
В историю русской медицины А.Д. Бланк вошел как один из пионеров отечественной бальнеологии - лечения минеральными водами.
Так сложилась служебная карьера А.Д. Бланка - выходца из еврейской мещанской среды, перешагнувшего в начале XIX века черту оседлости, сумевшего получить высшее образование, выйти из податного состояния, ставшего дворянином и оставившего своим наследникам потомственное дворянство.
1 В фондах Музея-мемориала В.И. Ленина имеется копия этого документа.
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЛО СОБОЙ ИМЕНИЕ А.Д. БЛАНКА В ДЕРЕВНЕ КОКУШКИНО КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ?
ИМЕЛА ЛИ М.А. УЛЬЯНОВА ОТ НЕГО ДОХОД?
Незадолго до выхода на пенсию по совету Е.И. Эссен, А.Д. Бланк принимает решение на скопленные за годы службы средства и деньги Екатерины Ивановны купить имение и заняться сельским хозяйством.
В архивном фонде Казанской палаты гражданского суда в прошении П.А. Веригина и А.Д. Бланка о совершении купчей крепости от 5 ноября 1848 г. значится, что надворный советник Петр Алексеевич Веригин продает, а надворный советник Александр Дмитриевич Бланк покупает имение в сельце Кокушкино Лаишевского уезда Казанской губернии: 40 душ крестьян с землей и угодьями, по цене 240 руб. за каждую ревизскую душу, всего 9600 руб. серебром1.
Деревня Кокушкино располагалась на берегах реки Ушни в 49 верстах (53,3 км) от Казани. В 1859 году, согласно статистическим данным, в деревне было 15 дворов, в которых проживали 41 крепостной мужского пола и 46 крепостных женского пола. «Очень хорошие отношения были у него также с крестьянами, - писала Анна Ильинична Ульянова-Елизарова. - Кокушкино было благоприобретенное имение и поэтому между владельцами его и крепостными не могло быть тех отношений, которые складывались у родовитых помещиков, потомственно владевших крепостными душами. При освобождении крестьян дед советовал им пойти на выкуп, но они не послушали его совета, предпочитая дарственную землю... Позднее, видя, насколько лучше сложились условия у крестьян некоторых соседских помещиков, пошедших на выкуп, и насколько бедственно их положение при одной дарственной десятине, высказывали сожаление, что не послушали совета деда»2.
После смерти А.Д. Бланка в июле 1870 г. наследниками имения были признаны его дочери А.А. Веретенникова, Л.A. Пономарева, М.А. Ульянова, Е.А. Залежская, С.А. Лаврова и несовершеннолетняя внучка Анна Веретенникова. «Более или менее оседло в Кокушкино жили сестры моей матери - Любовь Александровна Ардашева-Пономарева и Анна Александровна Веретенникова. Обе тетки вели в деревне хозяйство»3. В архивном фонде Казанского отделения Дворянского поземельного банка в деле по залогу имения при д. Кокушкино за 1886 год указывается, что, по свидетельству старшего нотариуса Казанского окружного суда от 15 сентября 1886 г., «в Кокушкино состоит, после надела крестьян, земли 206 десятин 253 сажени с мукомольной мельницей на реке Утне Постройки в имении следующие: дом, людская, конюшня, скотная изба, каретник, хлев, курятник, 4 житницы, погреб, баня, сарай, мельничный амбар, зерносушилка. Лошадей - 7, рогатого скота — 4, овец - 30, свиней - 11. Земли усадебной - 1,9 десятины, пахотной - 187,5 десятины, сенокосной - 11,2 десятины. Земля засевается овсом, горохом, гречей, обрабатывается частью своими рабочими, частью отдается в обработку крестьянам. Урожайность с одной десятины: 60 пудов овса, 100 пудов гороха, 10-60 пудов гречи. Общий доход имения 2669 руб. На расход: найм для обработки земли, ремонт, повинности, страховые, удобрения и т. д. - тратится 1659 руб. итого чистый доход с имения 1010 руб. в год»4.
«Долей земли моей матери распоряжалась тетка Любовь Александровна и выплачивала часть урожая. Я не помню количества десятин, приходившихся на каждую из пяти дочерей дедушки Александра Дмитриевича Бланка, знаю только, что доли эти были невелики и в 70-х годах, после смерти дедушки, были оценены в 3 тыс. рублей каждая»5.
В 1898 г. имение при д. Кокушкино было продано. Его приобрел крестьянин с. Черемышево Лаишевского уезда Николай Николаевич Фадеев6.
В 1939 г. в Кокушкино был открыт мемориальный Дом-музей В.И. Ленина, а в 1964 г. населенный пункт был официально переименован в село Ленино-Кокушкино.
Примечания:
1 НАРТ. Ф. 12. Оп. 75. Д. 28. Л. 41-43.
2 Отечественные архивы. -1992. - № 4. - С. 82.
3 Ульянова-Елизарова А.И. О В.И. Ленине и семье Ульяновых. Воспоминания. Очерки. Письма. Статьи. - М.: Политиздат, 1989. - С. 294.
4 НАРТ. Ф. 259. Оп. 1. Д. 1141. Л. 1-14.
5 Ульянова-Елизарова А.И. О В.И. Ленине и семье Ульяновых. Воспоминания. Очерки. Письма. Статьи. - М.: Политиздат, 1989. - С. 294.
6 НАРТ. Ф. 259. Оп. 1. Д. 1141. Л. 195об.-196.
ЧТО ИЗВЕСТНО О СУДЬБЕ СЕСТЕР МАРИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ УЛЬЯНОВОЙ, МАТЕРИ В.И. ЛЕНИНА, И ИХ ДЕТЕЙ?
В семье Александра Дмитриевича и Анны Ивановны Бланк родилось шесть детей. Единственный сын - Дмитрий, будучи студентом 2-го курса юридического факультета Казанского университета, покончил жизнь самоубийством в 1850 г., не дожив до двадцатилетнего возраста. Эта незаживающая рана мучила отца до конца его дней. Но дочери Анна, Любовь, Екатерина, Мария и Софья радовали отца. Все они были счастливы в семейной жизни.
Старшая дочь Анна Александровна вышла замуж за друга Александра Дмитриевича Ивана Дмитриевича Веретенникова, учителя латинского языка. В их семье родилось восемь детей. Анна Ивановна Веретенникова, любимая внучка А.Д. Бланка, стала одной из первых в России женщин-врачей. Ее сестра Екатерина Ивановна, в замужестве Песковская была профессиональным педагогом. При поддержке своего мужа М.Л. Песковского, общественного деятеля, юриста и литератора, она создала в Петербурге детский сад, подготовительную школу для мальчиков и девочек, частную женскую гимназию, Юридические высшие женские курсы. После октябрьской революции Екатерина Ивановна стала руководителем Петроградской экскурсионной станции, а затем работала в архиве. Педагогами стали Александр Иванович и Владимир Иванович Веретенниковы. При этом Владимир Иванович приобрел еще и специальность врача, совмещая в течение всей жизни педагогическую деятельность с деятельностью практикующего врача. Дмитрий Иванович Веретенников погиб, попав под поезд, в возрасте 21 года сразу после окончания Института путей сообщения в Петербурге. Любовь Ивановна работала телеграфисткой, в последние годы жизни, переехав в Москву, была членом семьи А.И. Ульяновой-Елизаровой. Мария Ивановна Веретенникова свою трудовую жизнь начинала тоже учительницей, а затем стала библиотекарем. После революции она работала в Румянцевской библиотеке (ныне Российская государственная библиотека). Николай Иванович Веретенников, товарищ детских игр Владимира Ильича, длительное время занимался педагогической деятельностью. После установления Советской власти он стал заведующим одного из отделов наркомата финансов, затем работал в статистическом отделе ЦК РКП(б) и снова вернулся к деятельности педагога.
Вторая дочь А.Д. Бланка Любовь Александровна была замужем дважды. Ее первым мужем был А.Ф. Ардашев, служивший в Пермской казенной палате. Всего у Ардашевых было шестеро сыновей, доживших до зрелого возраста: Федор, Алексей, Александр, Дмитрий, Виктор, Владимир и Юрий. После смерти А.Ф. Ардашева Любовь Александровна вышла замуж за его друга А.П. Пономарева. Федор Александрович Ардашев пошел по стопам деда, став врачом. Александр Александрович Ардашев работал нотариусом в Екатеринбурге. У А.А. Ардашева было двое детей: сын Георгий, погибший в 1918 г., и дочь Ксения. В июне 1918 г. Александр Александрович и члены его семьи были необоснованно арестованы. Освобождены они были после вмешательства В.И. Ленина. После окончательного установления Советской власти на Урале А.А. Ардашев переехал в Москву и работал в аппарате Совнаркома. Дмитрий Александрович Ардашев, как и его брат Александр, работал нотариусом. У него было двое детей: дочь Любовь и сын Николай. Владимир Александрович Ардашев работал следователем в Верхотурье, Камыш лове и Екатеринбурге, а затем товарищем прокурора Екатеринбургского окружного суда. У него было две дочери - Ольга и Лидия. Юрий Александрович Ардашев работал ветеринарным врачом. Трагически сложилась судьба двоюродного брата В.И. Ленина Виктора Александровича Ардашева. Он работал нотариусом в Верхотурье и был руководителем местной организации партии кадетов. После разгона Учредительного собрания демократические партии Верхотурья организовали акции протеста. Заместителем председателя стачечного комитета стал В.А. Ардашев. Стачком опубликовал листовку в защиту Учредительного собрания. Верхотурский исполком принял решение об аресте председателя стачкома В .Я. Бахтеева и его заместителя В.А. Ардашева. После допроса, проводившегося в Екатеринбурге, по дороге в тюрьму Виктор Александрович был убит. У В.А. Ардашева осталось три дочери - Тамара, Маргарита и Галли.
Третья дочь А.Д. Бланка Екатерина Александровна была замужем за учителем математики А.А. Залежским. У них было десять детей. Один из их сыновей Александр Андреевич Залежский был врачом. Он стал известен как хирург-практик и хирург-ученый, неоднократно печатавший свои статьи в медицинских журналах. Одна из дочерей Екатерины Александровны, Александра Андреевна, вышла замуж за известного невропатолога В.П. Первушина. У них было двое сыновей - Георгий и Николай. В 1920 г. оба они были арестованы в Казани по подозрению в участии в белогвардейской организации. Заболевшего сыпным тифом Георгия Всеволодовича перевели в больницу, а после выздоровления к вопросу о его аресте не возвращались. За Николая пришлось хлопотать матери, которая обратилась к своим двоюродным сестрам Анне и Марии Ульяновым с просьбой о помощи. В.И. Ленин, ознакомившись с телеграммой двоюродной сестры, вступился за племянника. Н.В. Первушин был выпущен. В начале 1920-х гг. он выехал на работу за границу. В 1930 г. Николай Первушин принял решение не возвращаться на родину. После Второй мировой войны он работал переводчиком в ООН, а затем занимался научной работой1.
Младшая дочь А.Д. Бланка Софья Александровна была женой педагога Иосифа (Осипа) Кондратьевича Лаврова. В семье Лавровых родилось шестеро детей. Дочери Екатерина и Анна умерли в детском возрасте. Из остальных детей Софьи Александровны имеются сведения только о Любови Иосифовне и ее муже А.А. Воскресенском, который служил управляющим на мызе недалеко от Петербурга. У них был сын Александр, переехавший впоследствии в Ташкент и ставший заслуженным агрономом Узбекской и Таджикской ССР.
У Александра Александровича двое детей: Сын Александр и дочь Ирина.
Долгое время о двоюродных братьях и сестрах Ленина упоминалось вскользь. «Небожителю», каким официальная пропаганда стала изображать В.И. Ульянова, не полагалось иметь двоюродных братьев и сестер, племянников и племянниц. Между тем у В.И. Ленина было 33 двоюродных сестры и брата. По сведениям петербургского исследователя М.Г. Штейна, только по линии Бланка насчитывается 130 потомков2.
В детские и юношеские годы Владимир Ульянов, его братья и сестры поддерживали довольно близкие отношения практически со всеми двоюродными братьями и сестрами по линии Бланков. В дальнейшем их общение было эпизодическим. Однако Владимир Ильич, Анна Ильинична, Мария Ильинична и Дмитрий Ильич Ульяновы всегда помогали своим двоюродным братьям и сестрам, а также их детям, как только узнавали о грозящей им опасности или материальных затруднениях.
1 Ведяпин П. Я от Владимира Ильича. Племянник Ленина живет в Канаде II Комсомольская правда. -1991. -17 окт.
2 Штейн М.Г. Ульяновы и Ленины. Семейные тайны. - СПб., 2005. - С. 121,136.
КАКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИМЕЛА МАТЬ В.И. ЛЕНИНА?
22 февраля (6 марта) 1835 г. у жены ординатора петербургской больницы Св. Марии Магдалины Александра Дмитриевича Бланка родилась дочь Мария (пятый ребенок в семье).
Ее мать, Анна Ивановна, умерла, когда девочке было 3 года, и осиротевших шестерых детей растил и воспитывал сначала сам отец, а потом ему помогала в этом старшая сестра покойной жены Екатерина Ивановна Эссен. В 1847 г. по выходе в отставку Александр Дмитриевич приобрел имение близ деревни Кокушкино Казанской губернии, где и поселился с семьей. Марии шел тогда тринадцатый год. У нее были хорошие способности, большая любознательность и страстное желание учиться, но отсутствие средств в семье сделало это невозможным. Под руководством отца и тетки, обладавшей строгим и требовательным характером, служившей в свое время гувернанткой и имевшей опыт обучения детей, при серьезном отношении к самообразованию Мария смогла стать разносторонне образованной девушкой. В дополнение к общеобразовательным предметам гимназического курса она свободно говорила по-немецки и по-французски, читала английских классиков на языке оригинала, хорошо знала русскую и западную литературу, исполняла на фортепиано отрывки из известных опер, занималась нотным пением.
Многое она постигла и в домоводстве: научилась искусству кройки и шитья, вязания, кулинарии, основам садоводства, огородничества и цветоводства, умела оказать первую медицинскую помощь.
В 1863 г. Мария Александровна поехала в Самару, где подала в дирекцию училищ Самарской губернии прошение следующего содержания:
«Его Высокородию Господину Директору Училищ Самарской губернии девицы Марии Бланк
Прошение.
Желая получить право на первоначальное обучение детей русскому, французскому и немецкому языкам, покорнейше прошу, Ваше Высокородие, допустить меня к испытанию на этот предмет.
Июля 15 дня 1863 года
Мария Бланк».
На этом прошении исправляющий должность директора училищ Самарской губернии В. Варенцов наложил резолюцию: «Допустить к испытанию». Мария Александровна успешно сдала экзамены и получила от дирекции самарских училищ свидетельство на право преподавания Закона Божьего, русского языка, арифметики, немецкого и французского языков. Это свидетельство хранится в фондах РГАСПИ, его копия экспонируется в Ульяновском Доме-музее В.И. Ленина.
Работать учительницей Марии Александровне, однако, не довелось. 25 августа 1863 г. она вышла замуж. Росла семья, возрастали заботы о детях, весь ее педагогический талант проявлялся в семье.
По воспоминаниям Анны Ильиничны Ульяновой-Елизаровой, Мария Александровна гордилась свидетельством, полученным в Самаре, и часто говорила, что в случае нужды сможет работать и не быть мужу в тягость.
ГДЕ И ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ПОЗНАКОМИЛИСЬ РОДИТЕЛИ В.И. ЛЕНИНА?
Первым местом работы Ильи Николаевича Ульянова после успешного окончания Казанского университета - с 7 мая 1855 г. — стал Пензенский Дворянский институт, где его утвердили в должности старшего учителя математики в высших классах.
В июле 1860 г. сюда же на должность инспектора Дворянского института приехал Иван Дмитриевич Веретенников. Илья Николаевич подружился с ним и его женой, и в том же году Анна Александровна Веретенникова (урожденная Бланк) познакомила его с Марией Александровной Бланк, которая на зиму приезжала к сестре в гости. Илья Николаевич стал помогать Марии Александровне в подготовке к экзамену на звание учительницы, а она ему - в разговорном английском. Молодые люди полюбили друг друга и весной 1863 г. были помолвлены.
Бракосочетание Марии Александровны с Ильей Николаевичем состоялось в присутствии отца, тетушки, сестер, свидетелей и близких знакомых 25 августа в селе Черемышеве, находившемся в трех верстах от Кокушкино.
В метрической книге по Лаишевскому уезду Казанской губернии за август 1863 г. содержится запись о том, что 25 августа старший учитель Нижегородской гимназии Илья Николаевич Ульянов, 32 лет, православного вероисповедания, и сельца Кокушкино и дочь надворного советника Александра Дмитриевича г-на Бланк, Мария Александровна Бланк, 28 лет, православного вероисповедания, венчались первым браком. По жениху и невесте поручителями были коллежский советник лекарь Степанов Павел Николаев, коллежский асессор Надежкин1.
Но «медовый месяц» оказался слишком коротким. 7 сентября там же, в Кокушкино, скончалась крестная мать и воспитательница Марии Александровны Екатерина Ивановна фон Эссен. После ее похорон, 22 сентября молодожены уехали в Нижний Новгород, куда Илья Николаевич получил назначение старшим учителем математики и физики мужской гимназии.
1 НАРТ. Ф. 4. Оп. 1.Д. 10. Л. 30.
СКОЛЬКО ДЕТЕЙ БЫЛО В СЕМЬЕ УЛЬЯНОВЫХ? В ОДНИХ ИСТОЧНИКАХ ГОВОРИТСЯ, ЧТО ИХ БЫЛО 6, В ДРУГИХ - 8.
Старшие дети Ульяновых родились в Нижнем Новгороде, где Илья Николаевич с 1863 по 1869 гг. преподавал в гимназии и других учебных заведениях.
Анна родилась 14 (26) августа 1864 г. Ее восприемниками (крестными) были старший учитель Нижегородской гимназии Владимир Александрович Ауновский и его мать Наталья Ивановна Ауновская. Анна Ильинична Ульянова-Елизарова умерла 19 октября 1935 г.; похоронена на Волковом кладбище в Ленинграде (ныне Санкт- Петербург).
31 марта (12 апреля) 1866 г. родился Александр, восприемниками которого были старший учитель Нижегородской гимназии Михаил Павлович Мальцев и жена учителя географии Матильда Ивановна Мартынова. Александр Ильич Ульянов казнен по приговору суда за участие в покушении на Александра III 8 мая 1887 г. в Шлиссельбургской крепости.
7 июля 1868 г. в семье появился третий ребенок - дочь Ольга. В метрической книге родившихся в д. Кокушкино (приходское село Черемышево) Богородицкой церкви Лаишевского уезда Казанской губернии под № 18 значится Ольга; родилась 7 июля, крещена 14 июля 1868 г. Отец - учитель Нижегородской гимназии коллежский советник Илья Николаевич Ульянов, мать — жена его Мария Александровна Ульянова. Восприемники: д. Кокушкино надворный советник Александр Дмитриевич Бланк и статского советника Иоанна Дмитриевича Веретенникова жена Анна Александровна1. Запись № 16 в метрической книге умерших в д. Кокушкино за 1869 г. сообщает, что 15 июля 1869 г. в возрасте 1 года Ольга умерла от младенческой. Погребена 16 июля 1869 г.2 Л.И. Веретенникова, двоюродная сестра Ленина, писала своей подруге 18 июля 1869 г.: «...Нынешнее лето мне пришлось испытать тяжелые впечатления. У Ильи Николаевича и тети Маши умерла на днях их меньшая дочь Оля Болезнь и смерть Оли как будто с корнем истребили в Кокушкино веселость и наложили какую-то тяжесть на всех его обитателей. Я была свидетельницею последних страданий Оли и ревела как сумасшедшая, да и всем невыносимо жаль этого милого ребенка. Невозможно смотреть хладнокровно на то, как убивается тетя о потере своей крошки. Илья Николаевич мужчина, а так плакал»3.
Симбирск стал родиной для Владимира, его младших брата и сестер. Владимир родился 10 (22) апреля 1870 г. Крестили его 16 (28) апреля в Никольской церкви г. Симбирска. Восприемниками были Арсений Федорович Белокрысенко - действительный статский советник, управляющий Симбирской удельной конторой, и Наталья Ивановна Ауновская4.
Ольга родилась 4 (16) ноября 1871 г. Крещена 9 (21) ноября в Тихвинской церкви. Ее восприемниками стали инспектор Симбирской мужской гимназии коллежский советник Владимир Александрович Ауновский и жена старшего ревизора контрольной палаты коллежского советника Курбатова Анна Александровна5. Ольга Ульянова умерла 8 мая 1891 г. от брюшного тифа; похоронена на Волковом кладбище в Петербурге.
Дмитрий родился 4 (16) августа 1874 г. Крещен во Владимирской церкви 15 (27) августа. Восприемники Дмитрия - председатель Симбирского съезда мировых судей Николай Александрович Языков, Софья Александровна Лаврова (младшая сестра Марии Александровны) и Анна Ульянова6. Дмитрий Ильич Ульянов умер 16 июля 1943 г.; похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
Мария родилась 6 (18) февраля 1878 г. Крестили ее 12 (24) февраля в Тихвинской церкви. Восприемниками стали Арсений Федорович Белокрысенко, Любовь Николаевна Стржалковская и Анна Ульянова.
В воспоминаниях Анны Ильиничны Ульяновой-Елизаровой приводятся следующие сведения: «...в 1873 году умерший через несколько дней брат Николай»7. В черновых набросках ее воспоминаний есть такие строки: «Мы поселились в доме Костеркина на Московской улице. Это был помещичий дом с холодной кухней в подвале Она простудилась, спускаясь в холодную кухню, всю весну кашляла, а летом 1876 года имела неудачные роды, от которых чуть не умерла»8. В метрических церковных книгах Симбирска и книгах Богородицкой церкви с. Черемышево Лаишевского уезда (приходская церковь д. Кокушкино) сведений о рождении и смерти этих детей не выявлено.
Примечания:
1 Там же. Д. 164. Л. 527 об. - 528.
2 Там же. Оп. 159. Д. 132. Л. 506 об.
3 Цит. по Трофимов Ж.А. Ульяновы. Поиски, находки, исследования. - Саратов, 1978.-С. 80.
4 РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1.Д. 1. Л. Зоб.
5 ГАУО. Ф. 134. Оп. 10. Д. 11. Л. 75-76.
6 Там же. Оп. 11. Ед. хр. 3. Л. 191 об.
7 Ульянова-Елизарова А.И. О В.И. Ленине и семье Ульяновых. Воспоминания. Очерки. Письма. Статьи. - М.: Политиздат, 1989. - С. 30.
8 РГАСПИ. Ф. 13. Оп. 1. Д. 64. Л. 8. Рукопись. Фонды УМЛ. Фотокопия.
НАСКОЛЬКО СООТВЕТСТВУЮТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ПУБЛИКАЦИИ, В КОТОРЫХ ПОДВЕРГАЕТСЯ СОМНЕНИЮ ОТЦОВСТВО ИЛЬИ НИКОЛАЕВИЧА УЛЬЯНОВА В ОТНОШЕНИИ СВОИХ ДЕТЕЙ?
В последние годы появилось множество публикаций, авторы которых рассказывают историю о том, как Мария Александровна была любовницей императора Александра II (по другим версиям - одного из великих князей), как родила она от государя сына Александра, после чего была выдворена со всем семейством из столицы в Казанскую губернию. Эти авторы в погоне за сенсацией «забывают» о том, что Александр Дмитриевич Бланк, овдовев, в 1841 г. покинул столицу и вместе с детьми переехал в Пермь, где получил должность инспектора Пермской врачебной части и врача Пермской гимназии. Его дочери Машеньке в это время было всего шесть лет. Закончил службу он доктором Златоустовской оружейной фабрики и по выходе в отставку в 1847 г. приобрел имение близ деревни Кокушкино в 40 верстах от Казани. С 12-летнего возраста и до 28 лет Мария жила с отцом и сестрами в деревне, до выхода замуж за И.Н. Ульянова в 1863 г.
Другие авторы утверждают, что старший сын Александр был рожден Марией Александровной от Дмитрия Каракозова, а младший - Дмитрий - от домашнего врача Ивана Покровского. Потому- то и стал Александр «цареубийцей», а Дмитрий - врачом.
Третьи уверены, что от Покровского Мария Александровна родила вовсе не Дмитрия, а самого Владимира Ильича. Внимание многих читателей привлекли статьи А. Арутюнова, в которых он рассуждает о любовной связи М.А. Ульяновой с доктором И.С. Покровским, утверждая, что в конце 1860-х гг. Иван Сидорович стал домашним врачом семьи Ульяновых, и с этого времени началась его близкая связь с Марией Александровной, и что Покровский в 1869 г. вместе с семьей Ульяновых переехал из Пензы в Симбирск и с тех пор безотлучно жил в их доме. Он и был, по мнению Арутюнова, «настоящим отцом Ленина», и когда мать раскрыла сыну эту страшную тайну, о которой, естественно, знали все соседи, Владимир демонстративно отказался от своего отца Ильи Николаевича1.
Претендуя на истину, Арутюнов перевирает все факты. Ведь Ульяновы в 1869 г. переехали в Симбирск не из Пензы, а из Нижнего Новгорода. Что касается доктора Покровского, то из его формулярного списка видно, что в Симбирск он приехал из с. Тетюши Казанской губернии, где работал земским врачом. В декабре 1869 г. он был определен ординатором симбирских больничных заведений. Приехал он с женой Лидией Петровной (урожденной Миллер) и сыном Федором, родившимся 10 августа 1867 г. В Государственном архиве Ульяновской области имеются документы о проживании семьи Покровского в собственных домах на Покровской и Стрелецкой улицах2. Так что утверждение Арутюнова о том, что Покровский, будучи неженатым человеком, 20 лет проживал в доме Ульяновых, не соответствует действительности. Знакомство Ульяновых с доктором Покровским произошло весной-летом 1870 г., в их семье он был приходящим лечащим детским врачом.
Когда речь идет о семье Ульяновых, о взаимоотношениях родителей, нельзя игнорировать воспоминания родных, знакомых. «Илья Николаевич был образцовым семьянином, и между ним и матерью, к которой он был глубоко привязан, дети никогда не видали никаких ссор и семейных сцен. Они жили всегда очень дружно Горячо привязан был отец и к детям и отдавал им весь свой досуг. Любовь к нему детей и его авторитет среди них были очень велики»3, - писала Мария Ильинична Ульянова. Утверждать, что «бедолага Илья Ульянов жил дома на правах постояльца, с которым никто не считался»4, по крайней мере не корректно.
Измышления А. Арутюнова и других авторов показывают, как много еще желающих внедрить в сознание людей крайне убогие и извращенные картины реальной жизни семьи Ульяновых.
1 Арутюнов А. Кто был настоящим отцом В.И. Ленина. Тайна семьи Ульяновых раскрыта? II Независимая газета. - 2003, - 21 дек.
2 ГАУО. Ф. 148. Оп. 1.Д. 90. Л. 41.
3 Ульянова М.И. О В.И. Ленине и семье Ульяновых: Воспоминания. Очерки. Письмами Политиздат, 1989. - С. 221.
4 Арутюнов А. Указ. соч.
КАКИЕ ЧЕРТЫ ВНЕШНОСТИ И ХАРАКТЕРА УНАСЛЕДОВАЛ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН ОТ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ?
Владимир Ильич внешне был очень похож на отца. Много общего было у них и в характере, и в привычках. И смех у них был одинаковый, заразительный, часто до слез.
«Володя был вспыльчивым, что унаследовал от отца, на которого очень походил, и, как отец, он научился с годами побарывать эту вспыльчивость. Но, унаследовав от отца сложение, черты лица и характера: большую исполнительность, неуклонность в стремлении к поставленной цели, лично большую скромность и нетребовательность, консерватизм привычек и т. п., до мелочей - он был совершенно своеобразен по большей смелости и самоуверенности с детства. Отец, прошедший суровую школу воспитания, был очень скромным и застенчивым человеком. Строгое и замкнутое воспитание получила и мать, часто жалевшая впоследствии, что застенчивость много вредила ей в жизни. Эту дерзновенную смелость пронес через всю свою жизнь один Володя.
Конечно, свободные условия воспитания имели тут значение, но все же, несомненное своеобразие типа было в Володе с раннего детства»1.
Мария Ильинична, говоря о сходстве внешности, привычек, вкусов отца и сына, в то же время отмечала: «Но глаза у Владимира Ильича были глазами матери. От нее же унаследовал он, между прочим, большую чуткость и исключительное внимание к людям»2.
1 Ульянова-Елизарова А.И. Воспоминания. Черновые наброски. РГАСПИ. Ф. 13. Оп. 1. Д. 64. Л. 23.
2 Ульянова М.И. О В.И. Ленине и семье Ульяновых: Воспоминания. Очерки. Письма.- М.: Политиздат, 1989. - С. 253
КТО БЫЛ МУЖЕМ А.И. УЛЬЯНОВОЙ?
Мужем Анны Ильиничны Ульяновой был Марк Тимофеевич Елизаров (1863-1919). Он родился 22 марта 1863 г. в деревне Бестужевка Ново-Костычевской волости Самарской губернии в семье крестьянина. Учился в Самарской гимназии. В 1886 г. окончил физико-математический факультет Петербургского университета. Еще будучи студентом, он участвовал в поволжском землячестве, где встретился и подружился с Александром Ульяновым, который познакомил его со своей сестрой Анной.
После окончания университета Марк Тимофеевич поступил на службу в Петербургскую казенную палату. По делу 1 марта 1887 г. он тоже был арестован, но за отсутствием улик вскоре освобожден, однако уволен со службы и выслан из Петербурга. Некоторое время он жил у брата в Бестужевке, а затем переехал в Самару. Марк Тимофеевич переписывался с Анной Ильиничной, считавшейся его невестой. Осенью 1888 г. он посетил ее в Кокушкино, где Анна Ильинична находилась в ссылке. Здесь он впервые встретился с Владимиром Ульяновым. По доверенности, выданной Ульяновыми, М.Т. Елизаров в конце этого года приобрел небольшой хутор близ д. Алакаевки Самарской губернии, куда в мае 1889 г. переехала семья Ульяновых, а 28 июля того же года Марк Тимофеевич женился на Анне Ильиничне.
В августе 1893 г. Елизаровы и Ульяновы переехали в Москву, где Марк Тимофеевич поступил на службу в управление железных дорог. В 1901 г. за помощь Московскому комитету РСДРП Елизаров был арестован и выслан на два года в Сызрань. Но, не найдя работу в Сызрани, он получил разрешение уехать в Томск на работу в управление Сибирской железной дороги. По окончании срока полицейского надзора Марк Тимофеевич переехал в Петербург, где поступил на службу в управление Николаевской железной дороги бухгалтером.
Елизаров принимал активное участие в первой российской революции 1905-1907 гг.: был одним из организаторов Всероссийской забастовки железнодорожников в ноябре 1905 г. В декабре 1905 г. он был вновь арестован и выслан в Сызрань на три года. Под псевдонимом «Скорпион» Елизаров сотрудничал в газетах «Сызрань» и «Сызранское утро». В 1906 г. он переехал в Самару, где вошел в Самарский комитет РСДРП.
В 1909-1916 гг. М.Т. Елизаров служил в страховом обществе «Саламандра», Российском транспортном страховом обществе «Волга». С марта 1916 г. он был назначен директором-распорядителем пароходного общества «По Волге» (Петроград). При этом он принимал участие в большевистских организациях, разъездная работа давала ему возможность поддерживать связи с местными партийными организациями.
После Октябрьской революции М.Т. Елизаров был назначен наркомом путей сообщения. С 23 марта 1918 г. он являлся народным комиссаром по делам страхования, а после реорганизации наркомата был членом Коллегии по делам торговли и промышленности. Умер Марк Тимофеевич в Петрограде от сыпного тифа 10 марта 1919 г.
БЫЛА ЛИ ЗАМУЖЕМ МАРИЯ ИЛЬИНИЧНА УЛЬЯНОВА, МЛАДШАЯ СЕСТРА В.И. ЛЕНИНА?
Мария Ильинична Ульянова никогда не была замужем. Но в ее жизни был человек, который был ей особенно дорог. Это - Станислав Станиславович Кржижановский.
Познакомились они в 1910 г. в Саратове, где в тот период жила семья Ульяновых (Мария Александровна, Анна Ильинична, Марк Тимофеевич Елизаров и их воспитанник Гора Лозгачев-Елизаров и Мария Ильинична). М.И. Ульянова устроилась в Саратове в городскую управу, где в библиотеке работал член местной социал-демократической организации С.С. Кржижановский. Их знакомство состоялось по службе, хотя они оба уже многое знали друг о друге. Так началась их совместная работа в партии и большая дружба, занявшая особое место в жизни Марии Ильиничны. Кржижановский очень сблизился с семьей Ульяновых. Они с Марией Ильиничной ходили в театр, посещали выставки, гуляли. Уже тогда Станислав Кржижановский занял в ее жизнь особое место. В мае 1912 г. они оба были арестованы. По суду Мария Ильинична получила три года ссылки в Астраханскую губернию, замененную по прошению матери на Вологду. Станиславу Станиславовичу местом ссылки был назначен Великий Устюг. Все это время они переписывались. После окончания срока ссылки Мария Ильинична переехала в Москву. В конце 1914 г. в Москву приехал Станислав Кржижановский. Его мобилизовали в армию, и формирование полка проходило в Москве. В те дни они много общались, навещали знакомых, ходили по театрам. Полк, в котором служил Кржижановский, был отправлен в Галицию, на Западный фронт. А с января 1915 г. Мария Ильинична начала занятия на курсах медсестер. После окончания курсов она просила, чтобы ее назначили в лечебно-питательный отряд, направлявшийся в Галицию. Для нее это была возможность помогать солдатам, вести партийную работу в армии. Но была и личная причина - быть ближе к дорогому человеку. Их короткая встреча произошла во Львове, где располагалась часть Марии Ильиничны и куда на короткое время была выведена 8-я армия, в которой служил Кржижановский. Из-за болезни матери Мария Ильинична вынуждена была вернуться с фронта. Однако они обменивались письмами. Переписка Марии Ильиничны и Станислава Станиславовича почти не сохранилась.
О том, что С.С. Кржижановский не был для семьи Ульяновых посторонним человеком, свидетельствуют письма Марии Александровны и Анны Ильиничны к Марии Ильиничне, в которых они справляются о нем. Так, в одном из писем младшей дочери на фронт М.А. Ульянова писала: «...жду с нетерпением вести от тебя из Львова, как устроишься там, родная моя, как здоровье Станислава], привет ему от меня и всякие пожелания»1. Анна Ильинична в апреле 1915 г. писала сестре: «Я прямо эти дни ни о чем думать не могу, кроме как о тебе и Станиславе]»2. Она прилагала немалые усилия для того, чтобы больного туберкулезом Кржижановского вернуть в тыл или перевести в санитарный поезд. «Пробовала я заикнуться еще в другом месте (баронессе И.) с очень малыми шансами на успех (потому что она мало меня знает), и, конечно, с отрицательным результатом! Говорит, что никого знакомых в 3-ей армии у ней нет, и что она ничего не может, - писала Анна Ильинична Марии Ильиничне. - Да, Ан. Анд-не генерал сказал, что Ст[анислав] должен там заявить, что болен и тогда его эвакуируют... а здесь, мол, можно уже хлопотать»3. Но С.С. Кржижановский не мог позволить себе освободиться от военной службы ценой личных хлопот.
Последний раз Мария Ильинична и Станислав Станиславович виделись в конце 1916 г. в Москве, когда его полк был на переформировании в Курске. Он уехал на фронт, откуда вернулся в конце 1917 г. тяжело больным и вскоре умер. Мария Ильинична навсегда осталась верна своему большому и светлому чувству.
1 Переписка семьи Ульяновых. 1883-1917. - М., 1969. - С. 368.
2 Там же.
3 Там же. С. 360.
КАКИЕ ПОСТЫ ЗАНИМАЛ МЛАДШИЙ БРАТ В.И. ЛЕНИНА Д.И. УЛЬЯНОВ?
После окончания в 1901 г. медицинского факультета Юрьевского университета Дмитрий Ильич Ульянов работал врачом в разных городах России.
Первым местом его работы была земская грязелечебница на Хаджибейском лимане под Одессой, куда в 1902 году он поступил в качестве врача. В дальнейшем Дмитрий Ильич работал врачом в Тимашове под Самарой, в Киеве, в своем родном городе Симбирске (в 1905-1906 гг. как земский санитарный врач), с. Липитино Серпуховского уезда Московской губернии, Феодосии.
Когда началась Первая мировая война, Д.И. Ульянов был сразу же мобилизован и назначен старшим ординатором 2-го крепостного госпиталя Севастополя. 22 февраля 1917 г. Дмитрий Ильич был награжден орденом Святой Анны 3-й степени «За отлично усердную службу и труды, понесенные по обстоятельствам военного времени»1. В мае 1917 года по предложению главного военно-санитарного инспектора Румынского фронта профессора Н.Н. Бурденко Д.И. Ульянов был переведен в Одессу. Однако в ноябре он вернулся в Севастополь, где был избран членом Таврического обкома РКП(б). В марте 1918 года он назначен наркомом здравоохранения Советской республики Тавриды. После оккупации Крыма немецкими и англо-французскими войсками Дмитрий Ильич уехал в Евпаторию, возглавив большевистское подполье. В 1919 г. он стал председателем Евпаторийского ревкома. После восстановления в Крыму Советской власти Д.И. Ульянов был назначен заместителем председателя Совнаркома и наркомом здравоохранения Крымской республики. В 1921 г. он был переведен в Москву, где до 1925 г. находился на руководящей работе в Народном комиссариате здравоохранения. С 1925 по 1930 гг. Дмитрий Ильич работал в Коммунистическом университете им. Свердлова, а затем занимался научной работой.
1 Ульянова О.Д. Родной Ленин. - М., 2002. - С. 134.
ЧТО ИЗВЕСТНО о личной жизни ДМИТРИЯ ИЛЬИЧА УЛЬЯНОВА?
Первая жена Дмитрия Ильича Ульянова, Антонина Ивановна, в девичестве Нещеретова, родилась в 1882 г. в Екатеринославской губернии. Она воспитывалась в епархиальном училище, после чего училась на фельдшерских курсах. В 1902 г. Антонина Ивановна работала в земской грязелечебнице на Хаджибейском лимане под Одессой, где и познакомилась с Дмитрием Ильичем. В ноябре 1902 г. они поженились. Через два дня после свадьбы она писала свекрови: «Дорогая Мария Александровнаі Посылаю Вам свою карточку, благодаря которой Вы можете составить себе ясное представление обо мне. Очень жаль, что Вас не было с нами 10-го . Может быть, в скором времени нам удастся познакомиться»1. И действительно, знакомство вскоре состоялось: в конце декабря они переехали в Самару и жили вместе с Марией Александровной и Марией Ильиничной. Свекровь очень благожелательно приняла новую невестку. В сентябре 1903 года А.И. Нещеретова-Ульянова вместе с мужем переехала в Киев. Здесь она продолжила свое медицинское образование, училась на акушерских курсах при городской больнице. В 1905 г. А.И. Ульянова вместе с Дмитрием Ильичем переехала в Симбирск, а затем в село Липитино под Москвой. Осенью 1907 г. она окончила медицинские курсы в Москве. С 1911 по 1918 гг. Антонина Ивановна работала в Феодосии, позднее - в Севастополе и Москве. В 1916 г. Антонина Ивановна и Дмитрий Ильич развелись. Детей в этом браке не было. Антонина Ивановна прожила долгую жизнь и умерла в 1968 г. в возрасте 86 лет.
Еще во время работы в селе Липитино Серпуховского уезда Московской губернии Дмитрий Ильич познакомился с Евдокией Михайловной Червяковой, которая работала медсестрой в больнице. Именно она стала матерью первого внука Марии Александровны — сына Дмитрия Ильича - Виктора. О ней известно очень мало. Со слов жены Виктора Дмитриевича Ульянова, Виктории Николаевны, «жила она, вероятно, в селе Кравцово недалеко от Липитино (поскольку с. Кравцово - место рождения Виктора Дмитриевича). Евдокия Михайловна умерла, когда Виктор был совсем маленький — ухаживала за больными тифом и заразилась сама»2. Последняя встреча Дмитрия Ильича и Евдокии Михайловны состоялась, вероятно, весной 1916 года, когда он, получив кратковременный отпуск, ездил в Петроград навестить мать.
В 1914 г. Д.И. Ульянов познакомился с Александрой Федоровной Гавриш, в девичестве Карповой. Ей был тогда 31 год. В конце 1916 г. она стала его второй женой, с которой он прожил до конца жизни. В 1922 г. у них родилась дочь Ольга. Александра Федоровна Ульянова умерла в 1956 г.
1 Переписка семьи Ульяновых. 1883-1917. - М., 1969. - С. 144.
2 Вестник Музея-мемориала В.И. Ленина. Вып. 7. - Ульяновск, 2005. - С. 211.
КАКОВО БЫЛО ПОЛОЖЕНИЕ Н.К. КРУПСКОЙ ПОСЛЕ СМЕРТИ В.И. ЛЕНИНА?
Надежда Константиновна Крупская с 1917 г. работала в наркомате просвещения РСФСР, а с 1929 г. была заместителем наркома просвещения РСФСР, с 1927 г. она становится членом ЦК ВКП(б). Однако положение ее в 1930-е годы было сложным.
Душевное состояние Надежды Константиновны Крупской после смерти В.И. Ленина охарактеризовала А.И. Радченко, написавшая в своем дневнике: «Раньше она делилась с Ильичем всеми своими планами, мыслями, сомнениями... Представляю ее безумное одиночество без него».
Особенно сложным моментом в жизни Н.К. Крупской после смерти В.И. Ленина было ее участие в так называемой «новой оппозиции». Ее участие в ней было попыткой критически осмыслить действительность, в честной товарищеской дискуссии выработать взгляды на пути и методы развития социализма в стране. Между лидерами «новой оппозиции» существовали разногласия не только по политическим вопросам, и, когда личное соперничество между ними обострилось, Надежда Константиновна порвала с этой группой. Но обстановка вокруг нее становилась все более напряженной. «Меня беспрерывно травят по партийной линии, да еще как травят! - делилась она с А.И. Радченко. - Мне не могут простить моей близости к Ильичу, и что я была в курсе невыгодных для некоторых товарищей фактов - теперь мне за это мстят и не церемонятся со мной и всячески подчеркивают свое неуважение. Ставят мне в упрек даже, что я дворянского происхождения»1.
1 февраля 1931 г. общее собрание Академии наук СССР избрало Крупскую почетным академиком. На суд ученых был представлен список более ста ее научных работ, а также ее «Воспоминания о В.И. Ленине». Однако ее воспоминания стали неугодными.
9 мая 1934 г. в газете «Правда» им была посвящена целая полоса. Основной смысл рецензии носил ярко выраженный политический характер и сводился к тому, что автором была недостаточно отражена роль Сталина в создании партии, подготовке и проведении Пражской партийной конференции, Октябрьской революции. По мнению автора статьи П. Поспелова, выразившего как нельзя лучше неприязненное отношение Сталина к Надежде Константиновне, «воспоминания Н.К. Крупской нуждаются в серьезных уточнениях и исправлениях». Следуя политике «разделяй и властвуй», Сталин и его окружение попытались поссорить Н.К. Крупскую с сестрами В.И. Ленина. Воспоминания Крупской были подчеркнуто противопоставлены биографии В.И. Ленина, написанной А.И. Ульяновой-Елизаровой. В 1938 г., в связи с опубликованием романа М. Шагинян «Билет по истории», Надежда Константиновна вновь была подвергнута критике за помощь, оказанную Шагинян. В решении Политбюро ЦК ВКП(б) (август 1938 г.) говорилось: «Осудить поведение Крупской, которая, получив рукопись романа Шагинян, не только не воспрепятствовала появлению романа в свет, но наоборот, всячески поощряла Шагинян, давала о рукописи положительные отзывы и консультировала Шагинян по различным сторонам жизни Ульяновых и тем самым несла полную ответственность за эту книжку. Считать поведение Крупской тем более недопустимым и бестактным, что т. Крупская сделала все это за спиной ЦК ВКП(б), превращая тем самым общепартийное дело составления произведений о Ленине в частное семейное дело и выступая в роли монополиста и истолкователя общественной и личной жизни и работы Ленина и его семьи, на что ЦК никому и никогда прав не давал».
Не могли не потрясать масштабы репрессий 1930-х гг., число «врагов народа» превысило все разумные пределы. Н.К. Крупская отрицательно относилась к сталинской политике репрессий.
А.И. Радченко в июле 1934 г. предложила ей совершить поездку по Северной Двине, а также на Соловки и Беломорканал. В ответ Надежда Константиновна возмущенно сказала: «Ни за что! Это стало теперь модной экскурсией: Соловки и Беломорканал. Нашли увеселительную поездку! Любоваться подневольным трудом, местами людских страданий - кем бы ни были эти люди!»2
Надежде Константиновне приходили тысячи писем с просьбой о помощи, и, насколько могла, она пыталась помочь. Н.К. Крупская уберегла от гибели писателя В. Бианки, обратилась к Ежову с просьбой о пересмотре дела П.В. Руднева, поручилась за шофера Ленина - С. Гиля, спасла жизнь ученику и соратнику В.И. Ленина И.Д. Чугурину. В 1935 г. арестовали Н.А. Емельянова и трех его сыновей, которые летом 1917 г. обеспечивали безопасность В.И. Ленина. Крупской удалось умолить И. Сталина сохранить Н.А. Емельянову жизнь, но добиться ему свободы она так и не смогла. Особое совещание приговорило его к 10 годам тюрьмы.
Стараясь сломить ее противоборство, перестали обращать внимание на ее просьбы. Ей было запрещено принимать родственников репрессированных. Но она продолжала делать все, что могла. Один из самых мужественных поступков Н.К. Крупской - ее открытое заступничество за видного деятеля революционного движения, члена партии с 1898 г. Иосифа Ароновича Пятницкого, но ее бесстрашный протест не помог. Пятницкий был расстрелян.
Тучи сгущались и над родными Владимира Ильича. Был репрессирован воспитанник Анны Ильиничны, Г.Я. Лозгачев-Елизаров. Надежда Константиновна не входила в число восхвалите л ей «верного ленинца», более того, она позволила себе письменно и устно высказывать Сталину нелицеприятные суждения. Но объявить Крупскую врагом народа Сталин не решился. Однако уход из жизни Н.К. Крупской таит в себе немало загадок.
1 Цит. по Наследница: Страницы жизни Н.К. Крупской / сост. С.А. Рубанов. - П., 1990.-С. 277.
2 Радченко А.И. Беседы и переписка с Надеждой Константиновной Крупской (1921- 1937) II Голоса истории. Книга пятая. - М., 2001. - С. 124.
ЧТО ИЗВЕСТНО О ПРЯМЫХ ПОТОМКАХ УЛЬЯНОВЫХ?
ПОДДЕРЖИВАЮТ ЛИ ОНИ ОТНОШЕНИЯ С УЛЬЯНОВСКИМ МУЗЕЕМ В.И. ЛЕНИНА?
Как известно, у В.И. Ленина, в связи с болезнью Н.К. Крупской, не было детей. Дмитрий Ильич - единственный из Ульяновых, кто оставил потомство.
13 февраля 1917 г. у Дмитрия Ильича и Евдокии Михайловны Червяковой - медсестры в с. Кравцово Московской области - родился сын Виктор. Он рано лишился матери и впоследствии воспитывался в семье своей тети А.И. Ульяновой-Елизаровой. Окончив МВТУ им. Н. Баумана, он более 30 лет проработал в оборонной промышленности. Он был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы» и «За трудовое отличие».
К нему часто обращались за консультациями ленинские музеи страны. Он вел обширную переписку с музеями и ленинскими комнатами школ, ПТУ, детских домов, воинских частей.
Умер Виктор Дмитриевич Ульянов 22 ноября 1984 г., похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.
В Москве живут двое детей Виктора Дмитриевича и его жены Виктории Николаевны (умерла 8 июня 2006 г.). Их сын Владимир Викторович (род. в 1940 г.) после окончания Московского физико-технического института работал ведущим инженером в НИИ точной механики и вычислительной техники АН СССР, в Министерстве приборостроения СССР, в Агентстве печати «Новости» (зам. начальника связи информационных систем). Награжден орденом «Знак Почета». С 2000 г. - пенсионер.
Дочь Виктора Дмитриевича - Мария Викторовна Ульянова (род. в 1943 г.) закончила МГУ, кандидат химических наук. После окончания учебы и до ухода на пенсию работала в Институте нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН. Там же работал ее муж Игорь Алексеевич Литвинов (скончался в 2000 г.)
В Москве живут и работают внуки Виктора Дмитриевича. Надежда Владимировна Ульянова (1962 г.р.) - кандидат медицинских наук. Работала врачом в больницах Москвы. С 1996 г. и по настоящее время работает в фармацевтической компании, как и ее муж Михаил Юрьевич Костин.
Александр Игоревич Ульянов (1971 г.р.) закончил Московский институт электронного машиностроения. В настоящее время - учредитель и исполнительный директор полиграфической компании ЗАО «Форм Колор». Имеет сына Евгения (1989 г.р.), правнука Виктора Дмитриевича Ульянова.
Виктор Дмитриевич и Виктория Николаевна Ульяновы, их дети и внуки бывали в Ульяновском Доме-музее В.И. Ленина.
Дочь Дмитрия Ильича Ульянова и Александры Федоровны Карповой Ольга родилась 4 марта 1922 г. в Москве. В 1940 г. она поступила на химический факультет МГУ. В августе 1941 г. семья была эвакуирована в Ульяновск и поселилась в доме, где 16 августа 1874 г. родился Дмитрий Ильич. Ольга Дмитриевна с 11 ноября 1941 г. по 5 июля 1942 г. работала внештатным экскурсоводом в Доме-музее В.И. Ленина. В июле 1942 г. Дмитрию Ильичу, который нуждался в постоянном врачебном надзоре, предложили переехать в Куйбышев, где в то время находилось санитарное управление Кремля. В Куйбышеве Ольга Дмитриевна училась на химическом факультете Куйбышевского индустриального института. В 1943 году, после возвращения в Москву, - вновь в МГУ, специализируясь на молекулярной спектроскопии. В 1947 г. Ольга Дмитриевна познакомилась со своим будущим мужем Алексеем Николаевичем Мальцевым, участником Великой Отечественной войны, аспирантом кафедры физической химии МГУ. Весной 1949 г. они поженились, а в 1953 г. у них родилась дочь Надежда.
После окончания университета Ольгу Дмитриевну оставили в аспирантуре химического факультета. Успешно защитила кандидатскую диссертацию. Почти 50 лет ее жизни связано с химическим факультетом МГУ и работой с молодежью.
Начиная с 1960-х гг. Ольга Дмитриевна (параллельно с физической химией) стала заниматься историей семьи Ульяновых, с которой прожила 21 год, если считать до смерти отца в 1943 г. — последнего из них. Она подготовила к изданию книги Д.И. Ульянова «Воспоминания о Владимире Ильиче», «Очерки разных лет» и М.И. Ульяновой «О В.И. Ленине и семье Ульяновых» с написанными ею большими биографическими очерками авторов, издала более 80 статей о семье Ульяновых. В связи с возрастающим в последние годы интересом к родословию В.И. Ленина и появлением большого количества публикаций, полных искажений и предположений, Ольга Дмитриевна посчитала своим долгом составить генеалогическое древо Ульяновых. Более трех лет она собирала материалы по различным источникам и в книге «Родной Ленин» пишет о трех ветвях в родословном древе семьи: русской, немецкой и шведской.
Ольга Дмитриевна с мужем Алексеем Николаевичем и дочерью Надеждой (ныне главный специалист Государственного музея- заповедника «Московский Кремль») неоднократно бывали в Ульяновске, передали в фонды музея много семейных реликвий.
Умерла Ольга Дмитриевна Ульянова 25 марта 2011 г., похоронена в Москве на Новодевичьем кладбище.
http://leninism.su/books/4117-zhizn-vladimira-ilicha-lenina-voprosy-i-otvety.html?start=1
|
Метки: ульяновы |
барон Мейендорф Феофил (Богдан) Егорович |
| id - 1751 | ||
| барон Мейендорф Феофил (Богдан) Егорович | ||
|
||
|
пр. 06.12.1898
1856
xx.xx.1861
xx.xx.1861
xx.xx.1862
xx.xx.1868
xx.xx.1869
xx.xx.1870
xx.xx.1878
xx.xx.1883
xx.xx.1889
xx.xx.1901
xx.xx.1905
08.01.1908
06.05.1910
25.01.1879
23.08.1905 Православный. Из дворян. Барон. Пажеский корпус (1856). Выпущен Корнетом (ст. 16.06.1856) в л-гв. Конный полк. Поручик (ст. 30.08.1859). Штабс-Ротмистр (ст. 30.08.1861). Принимал участие в военных действиях на Кавказе в 1860, 1862 и 1864. Ротмистр (пр. 1862; ст. 06.10.1862; за боевые отличия). Полковник (ст. 30.08.1867). Командир 15-го драг. Тверского полка (28.11.1870-06.10.1874). Командир л-гв. Гусарского Е.В. полка (06.11.1874-06.05.1884). Флигель-адъютант (19.02.1875). Участник русско-турецкой войны 1877-78. Ген-майор (пр. 1877; ст. 12.10.1877; за боевые отличия в бою у Телиш). Утвержден командиром л-гв Гусарского Е.В. полка (18.12.1877). Неоднократно временно принимал командование 2-й бригадой 2-й гв. кав. дивизии (20.10.1877-19.03.1878, 08-11.07.1883, 20-30.08.1883, 13-19.09.1883). Начальник 2-й кав. дивизии (06.05.1884-19.05.1892). Ген-лейтенант (пр. 1886; ст. 30.08.1886; за отличие). Состоял для особых поручений при Главнокомандующем войсками Гвардии и Санкт-Петербургского военного округа (в.к. Владимир Александрович)(19.04.1892-14.06.1896). Командир 1-го арм. корпуса (14.06.1896-19.10.1905). Ген. от кавалерии (пр. 1898; ст. 06.12.1898; за отличие). Ген-адьютант (1902). Участник русско-японской войны 1904-05 во главе своего корпуса. После сражения на Шахэ в 1905 убыл в Россию. Награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. (ВП 08.01.1908). В 1905-1917 состоял при Особе Государя Императора. В 1902-1917 председатель Общества ревнителей военных знаний. С 1906 почетный председатель Мариинского приюта для ампутированных и увечных воинов и председатель Комиссии при Главном военно-санитарном управлении по снабжению воинскими протезами. В 05.1917 уволен в отставку по болезни. Умер в с. Михайловское Московской губернии. Похоронен в Новодевичьем монастыре. Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. с мечами (1861), Св. Анны 3-й ст. (1861), Св. Станислава 2-й ст. с мечами (1862), Св. Анный 2-й ст. (1868), Св. Владимира 4-й ст. (1869), Св. Владимира 3-й ст. (1870), Св. Станислава 1-й ст. с мечами (1878), Золотое оружие (ВП 25.01.1879), Св. Анны 1-й ст. (1883), Св. Владимира 2-й ст. (1889), Белого Орла (1894), Св. Александра Невского (1901; бриллиантовые знаки ордена с мечами - 1905), Золотое оружие, украшенное алмазами (ВП 23.08.1905); Св. Георгия 4-й ст. (ВП 08.01.1908); Св. Владимира 1-й ст. (06.05.1910). Высочайшая благодарность (ВП 06.05.1915; за отличное выполнение различных поручений Его Велич. и командировок во время настоящей войны). Иностранные ордена: Бриллианты к Большому Кресту Ордена Красного Орла (Пруссия 1913), Красного Орла Большой крест (Пруссия 1909), Красного Орла 1-й ст. (Пруссия 1898), Красного Орла 3-й ст. (Пруссия 1863); Льва и Солнца 1-й ст. (Персия 1901), Льва и Солнца 2-й ст. (Персия 1864), Льва и Солнца 2-й ст. со звездой (Персия 1869); Крест Почетного Легиона (Франция 1876), Офицерский Большой Крест Почетного Легиона (Франция (1894); Орден Карла I, Большой Крест (Румыния 1912), Железный крест (Румыния 1879), Орден Звезды, Большой Крест (Румыния 1899); Berthold Zering (Баден 1896); Леопольда 1-й ст. (Австрия 1897); св. Александра 1-й ст. (Болгария 1899); Восходящего Солнца 1-й ст. (Япония 1903); Орден св. Матвея и Лазаря, Большой Крест (Италия 1903); Орден Герцога Петера-Фридриха-Людвига, Большой Крест (Ольденбург 1903); Знак Красного креста (Сербия 1910); Орден Альбрехта, Большой Крест с золотой звездой (Саксония 1912). |
||
| Источники :
Брусилов А.А. Мои воспоминания. М. 2004 Список генералам по старшинству. Составлен по 15.04.1914. Петроград, 1914; Высочайшие приказы по военному ведомству ("Правительственный вестник"). Информацию предоставил Илья Мухин (Москва) Список генералам по старшинству. Составлен по 10.07.1916. Петроград, 1916 Информацию предоставил Иван Купцов (Челябинск) М.Е.Бархатов, В.В.Функе "История русско-японской войны", СПб, 1907, т.6. Информацию предоставил Д.Николаев. Исмаилов Э.Э. Золотое оружие с надписью "За храбрость". Списки кавалеров 1788-1913. М. 2007 ВП по военному ведомству//Разведчик №1285, 23.06.1915 |
|
Метки: мейендорфы |
Оболенский |
Оболенский
(20 июля 1927 года - ...) Трудовую биографию начал в 1950 году в Институте проектирования высших учебных заведений (Гипровуз). Там же стал членом Союза архитекторов СССР и поступил в аспирантуру Академии архитектуры СССР, будучи одновременно заведующим лабораторией архитектурной климатологии и светотехники НИИСФ Госстроя СССР, где защитил кандидатскую и докторскую диссертации, посвященные роли света и цвета в архитектуре.
Статья: Оболенский Николай Владимирович
Сайт: Международный Объединенный Биографический Центр
Родился 20 июля 1927 года в Москве. Является прямым потомком знаменитого русского рода князей Оболенских, которые происходят от князей Черниговских и ведут свою родословную от Рюрика. Этот род уникален в истории Руси и России. На протяжении восьми столетий начиная от князя Михаила Черниговского, причисленного Православной Церковью к лику святых за мученическую смерть в Орде, князей Долгоруковых и Вяземских, графов Шереметевых и Гудовичей, Лермонтовых и Карамзиных, с которыми князья Оболенские кровно связаны, они вносили ощутимый вклад в становление, укрепление и единство сначала Московского и затем Российского государства.
Дед Н.В.Оболенского - князь Василий Васильевич Оболенский, был Московским вице-губернатором при генерал-губернаторе князе В.А.Долгоруком. Отец - князь Оболенский Владимир Васильевич (1890-1937), окончил юридический факультет Московского университета (1912). В 1937 году он был незаконно репрессирован и расстрелян. Мать - Гудович Варвара Александровна (1900-1937), художник, правнучка генерала-фельдмаршала И.В.Гудовича, сподвижника А.В.Суворова и М.И.Кутузова. Также была незаконно репрессирована и безвестно погибла в ГУЛАГе. Оба полностью реабилитированы.
Супруга - Оболенская (Сарафанова) Нина Ильинична (1926г.рожд.), окончила Московский государственный университет, литературный редактор, награждена медалью "Ветеран труда".
Сын - Андрей Николаевич (1957г.рожд.), окончил Московскую художественную школу имени Сурикова и Московский архитектурный институт, лауреат крупных архитектурных конкурсов, соавтор проекта воссоздания храма Христа Спасителя в Москве и многих новых храмов, жилых и общественных зданий в Москве, России и за рубежом, в том числе второго по величине в России Спасо-Преображенского собора, построенного и освященного в 1997 году в новом городе Губкине Белгородской области. Советник Российской академии архитектуры и строительных наук.
Дочь - Татьяна Николаевна (1959г.рожд.), окончила Московский архитектурный институт в 1983 году, архитектор-реставратор.
Сын - Владимир Николаевич (1966г.рожд.), хирург 1-й категории, окончил 2-й Московский медицинский институт имени Пирогова в 1990 году, готовится к защите кандидатской диссертации, опубликовал более 10 научных работ.
У Николая Владимировича семь внуков.
Н.В.Оболенский окончил Московский архитектурный институт в 1950 году, получив за дипломный проект крытого стадиона в Москве первую премию Союза архитекторов СССР.
Трудовую биографию начал в том же году в Институте проектирования высших учебных заведений (Гипровуз). Там же стал членом Союза архитекторов СССР и поступил в аспирантуру Академии архитектуры СССР, будучи одновременно заведующим лабораторией архитектурной климатологии и светотехники НИИСФ Госстроя СССР, где защитил кандидатскую и докторскую диссертации, посвященные роли света и цвета в архитектуре.
После этого в 1982 году Н.В.Оболенский был приглашен заведовать кафедрой в своем родном вузе - Московском архитектурном институте, где помимо основной работы руководил крупнейшей в стране творческой секцией Союза архитекторов СССР в течение 6 лет.
В 1988 году Н.В.Оболенский получил приглашение занять пост первого заместителя начальника Московской государственной вневедомственной экспертизы при правительстве Москвы. В этом качестве он работает по настоящее время.
В стране и за рубежом по проектам Н.В.Оболенского сооружены уникальные комплексы высших учебных заведений, наиболее значимые из них: Киевский институт гражданской авиации (1956) на участке площадью 2 гектара, Технологический институт в городе Рангуне (Бирма) на участке площадью 52 гектара (1958), Политехнический институт в городе Ханое (Вьетнам) на участке площадью 80 гектаров (1961), Институт строительной физики в Москве (1978) и др. Он принимал активное участие в конкурсных проектах : Сухарева и Манежная площади (I и II премии), Боровицкая и Рижская площадей в Москве, памятник В.И.Баженову (Диплом Российской академии художеств). В общей сложности он участвовал в проектировании и строительстве 15 крупных объектов.
Н.В.Оболенским опубликовано свыше 130 научных работ. Наиболее крупные из них: "Архитектура и Солнце", учебник "Архитектурная физика", "Естественное освещение и инсоляция зданий", "Архитектурное освещение центральной части и исторических зон Москвы", "Архитектурная экология", "Язык света в архитектуре" и др. Его работы опубликованы в зарубежных изданиях, на страницах центральных журналов СССР и России: "Архитектура СССР", "Архитектура и строительство Москвы", "Жилищное строительство", "Промышленное строительство", "Светотехника", "Архитектура и строительство России", вошли в научные издания Международной комиссии по освещению, Международного совета по строительству, Большой Советской Энциклопедии и энциклопедии "Строительство". В энциклопедию "Искусство стран и народов мира" вошли его авторские постройки в Бирме и Вьетнаме. Им создан прибор "Инсолятор И-67", получивший распространение в проектных и научных организациях, он - автор уникальных экспериментальных установок ("Искусственное небо", "Искусственное солнце" и др.), участник и медалист ВДНХ, имеет 5 изобретений, защищенных авторскими свидетельствами. Под его руководством разработаны важные нормативные документы для строительства в Москве и России, имеющие высокое градостроительное, экологическое и экономическое значение.
В монографии "Архитектура и Солнце" (221 стр.) впервые в научной литературе сформулирована современная проблема повышения качества архитектуры и градостроительства, определяемая солнечной радиацией по основным параметрам: комфортности, выразительности, экономичности и энергоэффективности. Проанализированы исторические (со времен Витрувия) и современные тенденции развития роли Солнца в архитектуре (нормирования, проектирования и оптимизации условной инсоляции и солнцезащиты), а также гелиоклиматического районирования территории СССР. Раскрыты причины грубых ошибок в определении эффективности инсоляции и солнцезащиты застройки, адаптированных к современному творческому методу архитектора.
В новом учебнике для архитектурных вузов России - "Архитектурная физика" (1997) и статьях в архитектурных журналах ("Архитектура и строительство Москвы", © 6, 1999) им также впервые обоснована необходимость принципиальной реорганизации экологической подготовки архитекторов и строителей в высшей школе. Им доказано, что в основе процесса архитектурно-строительного образования и реального проектирования в этой области необходим общенаучный экологический подход, суть которого заключается в понимании архитектурного объекта и в целом города как сложной системы связей между отдельными составляющими ее элементами и обязательно прямых и обратных связей объекта с внешним природным окружением. Показана также назревшая необходимость создания новой комплексной кафедры "Архитектурная экология", которая ныне является знамением нашего времени, т.е. XXI века. Эта идея поддержана Государственным комитетом Российской Федерации по охране окружающей среды и президентом Российской академии архитектуры и строительных наук.
Значительна общественная деятельность Н.В.Оболенского. Он - член докторских ученых советов, Архитектурного совета Москвы, Экспертно-консультативного общественного совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
Н.В.Оболенский - доктор технических наук, профессор, Заслуженный архитектор России, почетный член Российской академии архитектуры и строительных наук, действительный член Международной академии наук высшей школы и Международной академии творчества (награжден ею премией имени Василия Баженова и медалью "За выдающийся вклад в архитектурную науку"), член-корреспондент Международной академии архитектуры и Международной академии информатизации; дипломант Союза архитекторов СССР и России, Российской академии архитектуры и строительных наук, Российской академии художеств.
Патриархом Московским и всея Руси Алексием II он награжден орденом святого Сергия Радонежского за труды по воссозданию российских святынь.
За многолетнюю творческую научную, педагогическую и общественную деятельность он награжден медалями "За доблестный труд", "Ветеран труда", Почетными грамотами правительства Москвы, министра высшего образования СССР и Союза архитекторов России.
В 1-м томе издания Международного Объединенного Биографического Центра "Кто есть кто в современном мире" (1998) биография Н.В.Оболенского была опубликована в числе 200 выдающихся деятелей современности.
В свободное время он увлекается классической музыкой, театром, охотой.
Живет и работает в Москве.
|
Метки: оболенские |
Оболенский, Алексей Васильевич |
Оболенский, Алексей Васильевич
Перейти к навигации Перейти к поиску
| Алексей Васильевич Оболенский | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
 |
||||||
|
||||||
| Предшественник | Алексей Петрович Бутурлин | |||||
| Преемник | Иван Семёнович Унковский | |||||
|
||||||
| Предшественник | Фёдор Петрович Корнилов | |||||
| Преемник | Александр Карлович Сиверс | |||||
|
|
||||||
| Рождение | 23 мая (4 июня) 1819 | |||||
| Смерть | 1 (13) декабря 1884 (65 лет) Санкт-Петербург |
|||||
| Отец | Оболенский, Василий Петрович | |||||
| Награды |
|
|||||
| Военная служба | ||||||
| Годы службы | 1838 | |||||
| Принадлежность |  Российская империя Российская империя |
|||||
| Звание | генерал от артиллерии | |||||
| Сражения | Венгерская кампания, Крымская война | |||||
В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Оболенский; Оболенский, Алексей.
Князь Алексе́й Васи́льевич Оболе́нский (1819—1884) — генерал от артиллерии, Московский губернатор в 1861—1866 гг.
Содержание
Биография
Представитель княжеского рода Оболенских. Родился 23 мая (4 июня) 1819 года в семье генерал-майора В. П. Оболенского и Е. А. Мусиной-Пушкиной. Получив прекрасное домашнее образование и на физико-математическом отделении Московского университета[1], князь Алексей Васильевич Оболенский в 1838 году выдержал офицерский экзамен при Михайловском артиллерийском училище. В том же году, 8 апреля, он вступил в военную службу фейерверкером 4-го класса лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады в лёгкую № 1 батарею. Спустя два года был произведён в прапорщики с переводом из 1-й во 2-ю батарейную батарею, а ещё через три года переведён тем же чином в лейб-гвардии конную артиллерию. 10 октября того же года он был произведён в подпоручики, а 6 декабря 1846 года в поручики.
В следующем году князь Алексей Васильевич был назначен адъютантом к начальнику гвардейской артиллерии Сумарокову, но в этой должности пробыл всего несколько месяцев. 10 апреля 1848 года князь Оболенский был произведён в штабс-капитаны и в ноябре того же года был назначен адъютантом к великому князю Михаилу Павловичу, главнокомандующему гвардейскими и гренадерскими корпусами. В следующем году, 19 сентября, он был назначен флигель-адъютантом, а 6 декабря произведён в капитаны.
Венгерскую кампанию князь Алексей Васильевич совершил в свите великого князя Михаила Павловича, с которым и вернулся в Варшаву, а вскоре затем, по смерти великого князя, сопровождал его тело в Санкт-Петербург. Спустя два года, за отличное выполнение Высочайших поручений он был награждён орденом св. Анны 3-й степени; в апреле 1852 года князь Оболенский назначен командующим батареей лейб-гвардии конной артиллерии. В июле того же года он был произведён в полковники. Со времени назначения своего флигель-адъютантом, князь Оболенский многократно выполнял особо возлагавшиеся на него Высочайшие поручения, как то: производил следствие о пожаре 10 июня 1850 года в Самаре и раздавал там погоревшим жителям деньги, пожертвованные для этого Государем; наблюдал за набором рекрутов в Рязанской, Подольской, Волынской, Смоленской, Могилёвской и других губерниях.
С началом Крымской кампании князь Оболенский был командирован в Новочеркасск для наблюдения за формированием пяти донских батарей, а вслед за тем, по распоряжению генерала Хомутова, был отправлен к Севастополю для подкреплений. В этой кампании князь Алексей Васильевич участвовал в сражении 8 сентября 1854 года, затем в сражении на Чёрной речке, где успешные действия находившейся под его командой батареи много способствовали общему успеху, и за это дело князь был награждён орденом св. Владимира 4-й степени с бантом. Затем, в начале следующего года князь Оболенский ездил курьером в Петербург. По смерти Императора Николая I, командирован был в Новочеркасск для приведения к присяге войска Донского, после чего снова вернулся в Севастополь. Здесь он участвовал в сражении 4 августа, а с 10 по 21 августа находился на оборонительной линии (в Севастополе). За отличное мужество и храбрость, выказанные во время обороны Севастополя, князь Алексей Васильевич был награждён золотой саблей с надписью «за храбрость».
Исполняя обязанности флигель-адъютанта, он в 1858 году, кроме того, состоял членом комиссии, учреждённой в Москве, под председательством генерал-лейтенанта Тучкова, по делу о беспорядках и злоупотреблениях по довольствию войск бывшей крымской армии, а в следующем году производил следствие о причинах медленной постройки православных церквей в помещичьих имениях Витебской губернии. 17 апреля 1860 года князь Алексей Васильевич был произведён в генерал-майоры с назначением в свиту Его Императорского Величества и с зачислением по полевой конной артиллерии, а 8 января следующего года назначен исполняющим должность военного и гражданского губернатора Ярославской губернии, откуда вскоре был переведён на должность губернатора Московской губернии. В Ярославле и в Москве он весьма энергично работал над проведением Крестьянской реформы, и кроме того исполнял обязанности вице-председателя комитета Попечительного о тюрьмах. В 1866 году князь Оболенский, по прошению, был уволен от должности Московского губернатора, с оставлением в свите Его Императорского Величества.
16 апреля 1867 года он был произведён в генерал-лейтенанты с зачислением в запасные войска и с оставлением по полевой конной артиллерии. В том же году он был назначен сенатором, причём ему повелено было присутствовать в 1-м отделении 5-го департамента Правительствующего сената. Спустя два года он был награждён орденом св. Владимира 2-й степени, а в мае 1875 года был избран почётным мировым судьёй Ольгопольского судебного округа Подольской губернии. Дальнейшими наградами князя были ордена Белого орла и св. Александра Невского. В 1878 году он был избран почётным мировым судьёй Чериковского мирового округа Могилёвской губернии. 1 января 1881 года Высочайшим указом был назначен к присутствию в Департаменте герольдии Правительствующего сената, а спустя два года (15 мая 1883 года) был произведён в генералы от артиллерии с оставлением во всех занимаемых должностях.
Князь Алексей Васильевич Оболенский отличался редкими душевными качествами: добротой, отзывчивостью и скромностью. В Петербурге он долгое время содержал на свои средства бесплатную столовую для бедных на 200 человек. Кроме того, как попечитель первой женской частной гимназии своей родственницы княгини А. А. Оболенской, он сделал немало доброго и хорошего и для гимназии.
Князь Алексей Васильевич Оболенский скончался скоропостижно в Петербурге от паралича сердца 1 (13) декабря 1884 года.
Семья
Жена — Зоя Сергеевна урожд. графиня Сумарокова (1828—1897), дочь генерала С. П. Сумарокова[2]. С середины 60-х жила в Швейцарии в гражданском браке с польским эмигрантом Мрочковским, под влиянием мужа она стала анархисткой, её дом посещали Бакунин и Реклю[3].
Пятеро детей. Четверо детей отняты у матери швейцарским правительством и возращены отцу в Петербург. О семейной драме генерала А. В. Оболенского писал А. И. Герцен в «Колоколе»[3].
Дочь — Екатерина (1850—1929)[2], старшая из детей (15 лет в момент возвращения в Петербург). Первым браком замужем за Мордвиновым, овдовев, вышла замуж за известного врача С. П. Боткина[3].
Сын — Алексей (1856, Варшава — 1910). Жена — Елена Константиновна Дитерихс (1862—1918) (в первом браке за И. Г. Щегловитовым)[4].
Дочь — Зоя (в замужестве Родзянко) (1858—1897)[2].
Брат — Андрей Васильевич Оболенский женат на Александре Алексеевне урожд. Дьяковой, основательнице гимназии. Их сын В. А. Оболенский, видный деятель земского движения, кадетской партии, депутат Первой Государственной Думы, мемуарист.
Сестра — Екатерина Васильевна (1820—1871) замужем за шефом жандармов А. Л. Потаповым.
Примечания
- ↑ Отчет о состояниях и действиях Императорского Московского университета за 1835/6 академический и 1836 гражданский годы.
- ↑ Перейти к: 1 2 3 Зоя Сергеевна Сумарокова (Оболенская) р. 1828 ум. 1897
- ↑ Перейти к: 1 2 3 Оболенский В. А. Моя жизнь. Мои современники. Париж: YMCA-PRESS. 1988. c. 26.
- ↑ Алексей Алексеевич Оболенский р. 1856 ум. 1910
Литература
- Ястребцов Е. Оболенский, Алексей Васильевич // Русский биографический словарь : в 25 томах. — СПб.—М., 1896—1918.
Ссылки
- Алексей Оболенский на «Родоводе». Дерево предков и потомков
|
Метки: оболенские |