Воспитательный дом в Москве |
Меню
Воспитательный дом в Москве
Заложен в 1764 по инициативе просветителя И. И. Бецкого как благотворительное закрытое учебно-воспитательное учреждение для сирот, подкидышей и беспризорников

- Рейтинг
- Исторический период XIX в., XVIII в., XX в. Ещё 2, Екатерина II Великая (1762–96), Российская империя (1721-1917)
- Бюджет бесплатно
- Художественный Стиль неоклассицизм
Императорский воспитательный дом в Москве — памятник архитектуры XVIII—XX веков. Крупнейшее здание Москвы дореволюционного периода (длина фасада по набережной 379 м).
Из трёх корпусов-каре в XVIII веке были выстроены только два (арх. Карл Бланк); восточный корпус завершен в XX веке (арх. И. И. Ловейко).

 Воспитательный дом, 1764—1781 NVO, GNU 1.2
Воспитательный дом, 1764—1781 NVO, GNU 1.2
В XIX веке расширением Воспитательного дома заведовали архитекторы Джованни и Доменико Жилярди, А. Г. Григорьев, М. Д. Быковский. До 2013 года в зданиях Воспитательного дома базировались Военная академия РВСН и Российская академия медицинских наук.
История строительства
Воспитательный дом учреждён на основании «Генерального плана», составленного И. И. Бецким и утверждённым Екатериной II 1 сентября 1763. Под строительство был отдан т. н. Васильевский луг — обширный участок между Солянкой и рекой Москвой, ограниченный с запада Китайгородской стеной, а с востока стеной Белого города, упразднённого в 1760. На нём располагались Гранатный двор, Устьинские бани и мелкие постройки.

 Воспитательный дом. Рис. Федора Алексеева, 1800-е гг. Фёдор Яковлевич Алексеев (1753–1824), Public Domain
Воспитательный дом. Рис. Федора Алексеева, 1800-е гг. Фёдор Яковлевич Алексеев (1753–1824), Public Domain
Для строительства была организована открытая подписка; императрица передала в фонд 100 тысяч рублей единовременно и подписалась на ежегодные отчисления в 50 тысяч.
Крупнейший частный жертвователь, П. А. Демидов, передал на учреждение Родильного института при Воспитательном доме 200 тысяч рублей. Бецкой лично внёс 162995 рублей.
Демидов здесь живёт, Кой милосердия пример даёт, Свидетель в том — Несчастный дом. — Московские ведомости, 1772, «Вывеска к жилищу Прокофия Акинфиевича Демидова»
По проекту, составленному Карлом Бланком при участии Ю. М. Фельтена, вдоль берега реки Москвы должны были быть выстроены три замкнутых корпуса-каре с обширными внутренними дворами: западный для мальчиков, восточный для девочек, и соединяющий их центральный (корделож, фр. corps de logis). Торжественная закладка состоялась 21 апреля 1764.
Екатерина II, императрица и самодержица всероссийская, для сохранения жизни и воспитания в пользу общества в бедности рожденных младенцев, а притом и в прибежище сирых и неимущих родильниц, повелела соорудить сие здание, которое заложено 1764 г. апреля 21-го дня — Закладная доска Воспитательного дома
Западное каре было завершено в 1767, главный корпус — в 1771—1781. В 1795—1797 был замощён проезд по Москворецкой набережной, в 1801—1806 устроена её пологая гранитная облицовка. Помимо основного здания, Воспитательный дом прирастал административными зданиями по Солянке. Пост главного архитектора в конце XVIII века перешёл к династии Жилярди — вначале к Джованни (Ивану Дементьевичу) Жилярди, а с 1817 — к его более известному сыну, Доменико (Дементию Ивановичу), который совместно с А. Г. Григорьевым выстроил украшение Солянки — здание Опекунского совета. В комплекс Воспитательного дома также входит бывшее Николаевское сиротское училище и въездные ворота с Солянки со скульптурами И. П. Витали.

 Опекунский Совет на Солянке неизвестенwikidata:Q4233718, Public Domain
Опекунский Совет на Солянке неизвестенwikidata:Q4233718, Public Domain
При пожаре 1812 года Воспитательный дом оказался практически в центре огня — к западу и северу полностью выгорел Китай-город, к востоку — Яузская часть города. Сам же главный корпус отстояли от пожара служители, оставшиеся в оккупированной Москве под руководством И. А. Тутолмина (1752—1815) для ухода за сиротами (их оставалось около 600 человек, общая численность находящихся в доме людей с учётом персонала составляла 1125 человек ) и оставленными в здании ранеными. По французским источникам, Тутолмину также помогали 13 французских жандармов; уходя из города, Наполеон передал на попечение Тутолмина французских раненых и больных в количестве около 3000 человек, из которых около 2000 умерли. Трупы хоронили у Китайгородской стены, кидали в колодцы.
Сей памятник воздвигнули ему супруга, его благодарные подчинённые и те из посторонних лиц, которые в 1812 году пользовались его попечением и спасены от гладной и насильственной смерти. Во время неприятельского вторжения 1812 года, среди пожаров, грабежей и убийств, сохранил он человеколюбивое заведение воспитательный дом с питомцами и служащими; при оном давал в нём пристанище несчастным жителям столицы и с ними разделял последнюю свою пищу — Надгробие И. А. Тутолмина, 1815
В октябре 1826 года Николай I передал Московскому Воспитательному Дому каменные корпуса, оставшиеся после пожара 1812 года от бывшего Слободского дворца на Яузе. Здания эти к 1830 году были перестроены известным московским архитектором Д. И. Жилярди, с прикупкой части смежной земли у соседних владельцев, для Ремесленного учебного заведения Императорского Московского Воспитательного Дома — в будущем Императорского Московского технического училища.
После революции 1917 года приют был ликвидирован, а здания Воспитательного дома заняты профсоюзными учреждениями. В 1920-е гг. были перепланированы помещения главного здания. Тогда же по проекту архитектора И. А. Иванова-Шица вокруг владения была возведена новая ограда.
В начале 1950-х годов над зданием Воспитательного дома нависла угроза уничтожения. Старые архитекторы рассказывают, что Сталин планировал построить на этом месте ещё одно высотное здание. Предположительно, архитектор И. И. Ловейко добился того, чтобы вместо новой высотки был построен второй корпус каре по первоначальному проекту. В 1960-х годах Ловейко завершил этот проект. Возведенный второй «квадрат» в целом повторяет основные формы оригинала.
История деятельности
Ещё в 1715 году своим указом от 4 ноября Петр I учредил в Москве Воспитательный дом «хотя и в малом виде», куда:
«…все незаконнорожденные дети должны были быть принимаемы и воспитываемы человеколюбиво.
...Открыв через сие надежное убежище злополучным жертвам запрещенной любви, Государь наказывал смертью тех, кои дерзали отклонить помощь сию, прибегая к зверскому детоубийству».— День 21 февраля в Николаевском университете. (По случаю 300-летнего юбилея царствования дома Романовых) С прил. речи проф. В.И. Разумовского «Медицинское дело в России в царствование первых государей дома Романовых», 1913 г.
Где располагался этот дом, установить не удалось.
В самый день закладки в ещё не построенный Воспитательный дом принесли 19 младенцев; первые двое, нареченные в честь высочайших покровителей Екатериной и Павлом, вскоре умерли. Проблемы с поиском кормилиц для новорожденных заставили администрацию пристраивать их на время в приёмные семьи. Сократить детскую смертность это не помогло — из 40669 младенцев, принятых в 1764–1797, умерли 35309 (87%, Волкевич, гл. II), так как большинство детей, попадавших в Воспитательный дом, были тяжело больны.
С самого основания Воспитательного дома важное значение придавалось медицинским аспектам деятельности учреждения. Согласно Генеральному плану «О начальниках и служителях Воспитательного дома», в Воспитательном доме предусматривался штат медицинских работников, состоящий из докторов, лекарей и повивальных бабок. Таким образом, Императорский Московский воспитательный дом по праву можно считать колыбелью российской педиатрии.
Воспитательный дом управлялся Опекунским советом и финансировался частными пожертвованиями (в том числе от имени монархов и великих князей) и налогами — четвертью сбора с публичных позорищ и особым налогом на клеймение карт. Все игральные карты, продаваемые в России, облагались налогом в пять копеек с колоды российского производства и десять — с заграничных, принося 21 тысячу рублей в 1796 и 140 тысяч в 1803. С 1819 до 1917 Воспитательный дом обладал монополией на производство карт, которые выпускала только принадлежавшая ему Александровская мануфактура в Петербурге.
С 1772 г. Опекунский совет также управлял банковскими учреждениями — Ссудной, Сохранной и Вдовьей казнами, ставшие в XIX веке основным источником дохода. В том же году на средства П. А. Демидова было открыто Демидовское коммерческое училище и театральная студия антрепренёра Медокса. Дети до 11 лет обучались письменности и основам ремёсел в стенах учреждения, а с 1774 отдавались в обучение на сторонних фабриках и мастерских. Одарённые воспитанники посылались для продолжения образования в МГУ, Академию художеств, а 180 человек были отправлены для обучения в Европу. Большинство же выпускников не имело таких привилегий — им давали одежду, один рубль денег, и паспорт свободного человека, разрешающий вступать в купечество и открывать собственные предприятия.
В 1770 году опять же по инициативе Ивана Ивановича Бецкого по образцу Московского воспитательного дома был создан Петербургский Воспитательный дом.

 Московский Воспитательный дом. Фото 1883 год Nikolay Naidenov (1834-1905), Public Domain
Московский Воспитательный дом. Фото 1883 год Nikolay Naidenov (1834-1905), Public Domain
В 1797 году император Павел I, после смерти Бецкого, передал управление благотворительными учреждениями императрице Марии Фёдоровне, которая в течение десятилетий реорганизовала всю систему общественного призрения (в её память она до 1917 называлась Ведомство учреждений императрицы Марии). В её управление удалось снизить детскую смертность — через ограничение приёма младенцев и передачу их на воспитание в приёмные семьи. Годовой оборот банковских операций ведомства к 1826 достиг 359 миллионов рублей.
По данным проф. В. Ю. Альбицкого, на основании ряда источников, в одном из зданий московского Императорского воспитательного дома в 1799 году была организована Окружная больница «для служителей и питомцев» с родильным госпиталем и отделением для больных детей; по мнению автора, «по существу, это был первый педиатрический стационар в России» (традиционно первой в России педиатрической больницей считается Инфекционная больница № 18 имени Н. Ф. Филатова, которая была открыта 31 декабря 1834 года, недалеко от Аларчина моста в Санкт-Петербурге.

 Воспитательный дом в Москве, 1900–1910 неизвестен, Public Domain
Воспитательный дом в Москве, 1900–1910 неизвестен, Public Domain
В стенах Дома обучались «...бухгалтерии, аптекарской и хирургической науке, мастерствам столярному, слесарному, каретном, кузнечному, седельному, портному, башмачному, оловянному, медному, золотому и серебряному, инструментальному, типографскому, переплётному, хлебному, токарному, часовому, гравировальному, перчаточному, галантерейному по контрактам и по разным на домашних фабриках….мужеска пола 257 человек» (Волкевич, гл. II).

 Классная комната. Воспитательный дом в Москве, 1900–1910 неизвестен, Public Domain
Классная комната. Воспитательный дом в Москве, 1900–1910 неизвестен, Public Domain
От ремесленного образования Воспитательный дом постепенно перешёл к образованию общему, классическому;с 1807 года в его стенах были открыты Латинские классы, готовившие воспитанников, прежде всего, — к поступлению в Медико-хирургическую академию. Эти классы впоследствии были преобразованы в две параллельные десятилетние гимназии. Воспитанники, не имевшие способности к медицине, поступали в университет. Были открыты Повивальный институт (1800) и курсы для подготовки к поступлению на медицинский факультет Московского университета, а также Французские классы для будущих гувернанток. Те, кто не оканчивал курса в классических классах в фельдшера при Военном госпитале, в садовники — в Никитский сад, в земледельческую школу и в ремесленное учебное заведение (ныне — МГТУ им. Н. Э. Баумана).

 Столовая. Воспитательный дом в Москве, 1900–1910 неизвестен, Public Domain
Столовая. Воспитательный дом в Москве, 1900–1910 неизвестен, Public Domain
В XIX веке на территории Воспитательного дома жили и работали до 8 тысяч человек. Посетив Москву незадолго до смерти, Мария Фёдоровна застала Воспитательный дом перенаселённым и повелела
Во-первых, хочу я учредить вне Воспитательного Дома большие мастерские для разных ремёсел, со спальнями, со столовою и прочими потребностями, и переместить туда из Воспитательного Дома всех ремесленных воспитанников, умножив их число до 300, с тем, чтобы уже впредь не отдавать питомцев в ученье к вольным мастерам, где они лишены надлежащего за их нравственностью надзора. Очистив чрез такое перемещение ремесленных воспитанников нарочитое число отделений, в Воспитательном Доме можно будет увеличить классы воспитанниц, ныне под названием французских существующих, следовательно умножить число выпускаемых наставниц. Сверх того, полагаю я учредить два особенные отделения одно воспитанниц, приуготовляемых к званию учительниц музыки и рисования и всяких женских рукоделий, а другое воспитанников, назначаемых в учители рисования, чистописания и музык, то есть игре на фортепьяно, да особенный класс для обучения некоторого числа воспитанников архитектуре и каменных дел мастерству, с потребными для сего науками, с тем, чтобы они потом упражняемы были в практике под руководством архитектора Воспитательного Дома…
— распоряжение от 5 октября 1826
В 1837 году, после смерти Марии Фёдоровны, все эти «классы» были ликвидированы, а освободившиеся обширные помещения были отданы под Николаевский институт для штаб и обер-офицерских сирот, которых оказалось много после холерных эпидемий. Николаевский институт постепенно занял почти все помещения; Воспитательному дому, ставшему с 1837 года «временной станцией для грудных детей», остался лишь 5-й этаж.
После Октябрьской революции был преобразован в Дом охраны младенца и Институт акушерства, которые в 1922 году были объединены в Институт педиатрии, ставшим впоследствии НИИ педиатрии. С 1938 года — Военная Академия им. Дзержинского. В 2015 году Военную академию Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого перевели в Балашиху, на место реорганизованного Военно-технического университета.
Статья подготовлена по материалам: Wikipedia, CC BY-SA 3.0.
Фото: NVO, GNU 1.2.
Фотогалерея















Полезная информация
Импера́торский Воспита́тельный дом
Статус
Объект культурного наследия РФ № 7710446000
Почётные опекуны Воспитательного дома
- Аршеневский, Илья Яковлевич
- Бантыш-Каменский, Иван Николаевич
- Баранов, Николай Иванович (с 1799)
- Вырубов, Пётр Иванович
- Гагарин, Сергей Васильевич
- Голицын, Михаил Николаевич
- Голицын, Сергей Михайлович (с 1807)
- Демидов, Прокофий Акинфиевич
- Долгоруков, Михаил Иванович
- Драшусов, Владимир Николаевич (с 1868)
- Мелиссино, Иван Иванович
- Нащокин, Пётр Фёдорович
- Нелединский-Мелецкий, Юрий Александрович
- Похвиснев, Михаил Семёнович
- Тютчев, Иван Никифорович
- Умский, Богдан Васильевич
- Штер, Матвей Петрович
Главные надзиратели (Обер-директоры, директоры)
- Рост, Иван Акимович (1763—1764)
- Миллер, Герхард Фридрих (1765—1766)
- Ваккергаген, Иван Петрович (1766—1767)
- Насонов, Сергей Никитич (1768—1774)
- Эссен, Антон Иванович (1776—1778)
- Коваленский, Михаил Иванович (1778—1779)
- Гогель, Григорий Григорьевич (1779—1795)
- Гаврилов, Иван Алексеевич (1795—1799)
- Тутолмин, Иван Акинфиевич (1799—1816)
- Шредер, Пётр Богданович (1816—1828)
- Шумов Иван Фёдорович (1829—1830)
- Штакельберг, Борис Борисович (1830—1835)
- Шубинский, Сергей Николаевич (1835—1837)
- Штрик, Иван Антонович (1837—1852)
- Богдадов, Исаий Егорович (1852—1859)
- Драшусов, Владимир Николаевич (1859—1868)
- Губер, Юлий Иванович (1869—1873)
- барон Фредерикс, Николай Павлович (1873—1876)
Известные воспитанники
- Еропкин, Иван Лаврентьевич
- Кряжев, Василий Степанович — окончил Коммерческое училище при Воспитательном доме.
- Райков, Гаврила Иванович
- Собакина, Арина Матвеевна
https://moscow.drugiegoroda.ru/attractions/46370-vospitatelnyj-dom-v-moskve/
|
Метки: штер москва дворянское образование |
ОРЛОВА Любовь Петровна |
| Актеры советского и российского кино
|
|
| http://www.www.rusactors.ru/o/orlova_l/ | |
|
|
Метки: орловы |
Ида Рубинштейн: самая обольстительная и раскованная муза Серова |
0 ноября 2018
Ида Рубинштейн: самая обольстительная и раскованная муза Серова
"Девочка с персиками" Валентина Серова прекрасна в своём очаровании, и неудивительно, что многие вспоминают сразу эту картину, когда речь заходит о художнике. Но есть не менее шикарный шедевр кисти Серова – колдовской, манящий и интимный – "Портрет Иды Рубинштейн".
Кем же была эта загадочная Ида и с какими ещё известными мужчинами связывают её имя? Обо всём по порядку.
Валентин Серов был тем художником, кто купался в лучах славы и плодов своего таланта (что справедливо). Он рисовал портреты семейства Юсуповых, роскошной Марии Николаевны Ермоловой и даже самого Николая II. И тут обнаженная раскованная танцовщица! Скандал случился капитальный, хоть и, справедливости ради, портрет кисти Серова лишен пошлости – да, он бесспорно эротичен.
Раскрывать сюжет не приходится – он предельно ясен. Каламбура ради, раскрывать там вообще нечего, Ида абсолютно обнажена, а из предметов одежды у её ног только зеленый шарф.
Интересный факт: одна из любимых ролей Иды Рубинштейн – роль Клеопатры, где кульминацией всей постановки выступает гибель египетской царицы от укуса змеи. В данном случае шарф ну очень символичен.
Начну с того, что Ида была скандальной танцовщицей, балериной, одной из ярких звезд эпохи. Красивая и страстная, она легко овладевала вниманием мужчин, но не спешите делать выводы. Сергей Дягилев – царь и бог русского балета и театра – так ценил талант Иды, что она стала единственной танцовщицей в его роскошных "Русских сезонах", кто не имел профессионального образования. Париж узнал Иду и влюбился в неё моментально. О ней говорили все.
Помимо природного таланта, раскованности, женской обольстительности, Ида обладала большим умом и получила прекрасное образование, знала 4 языка, музицировала и превосходно разбиралась с искусстве Древней Греции. Но зритель знал её другой – пластично раздевающейся на сцене Клеопатрой в полупрозрачном одеянии, медленно придающейся плотским утехам.
В этом и заключался парадокс искусства: на балете зрители встречали Иду овациями, в галерее портрет Серова подвергали жёсткой критике. А тем временем сам художник от своей работы был в восторге (впрочем как и от Иды), потому что она, настоящая, живая, помогла ему поднять один очень важный пласт в творчестве – тему жизни напоказ, искренности и иллюзии, чувственности и настоящих чувств.
Почему Валентина Серова так манила личность Иды Рубинштейн? Что сделал для нее великий композитор Клод Дебюсси? Какой главный секрет Ида унесла с собой в могилу? Ждите ответы на эти вопросы во второй части статьи, если вам, мои любимые читатели, конечно, интересно! Поддержите лайком! Продолжение следует...
https://zen.yandex.ru/media/artplay/ida-rubinshtei...erova-5be1ddabfdea6c00aa7856c2
|
Метки: рубинштейн |
Дом Айседоры Дункан на Пречистенке |
Дом Айседоры Дункан на Пречистенке
Дом № 20 по Пречистенке с затейливыми лепными украшениями – это настоящий московский старожил, сохранивший удивительные истории своих прежних владельцев. Имя первоначального зодчего до сих пор является спорным вопросом, однако, вероятнее всего, им был гений классицизма М.Ф. Казаков – главный московский архитектор конца XVIII – начала XIX века, создавший регулярный план застройки столицы. После французского пожара 1812 года здание было перестроено. В начале XIX века хозяйкой дома стала графиня Елизавета Орлова. Эта просвещенная женщина, увлекавшаяся нумизматикой, обладавшая роскошной многотомной библиотекой, не чуждалась, однако, древних развлечений.
Среди бесчисленного множества дворовых людей графини Елизаветы Орловой была дама, которую все звали Матрешкой. Она веселила своими непостижимыми уму эксцентричными выходками не только свою титулованную хозяйку, но и всю Москву. Одетая в самые немыслимые наряды, она частенько выходила к ажурной решетке придомового садика и бессвязными репликами привлекала внимание прохожих, которые спешили по своим делам по Пречистенке. Согласно городской легенде, однажды Матрешка вступила в шутливый разговор с самим императором Александром I, проезжавшим в этих местах, и так развеселила его, что он подарил ей очень крупную сумму денег – «на румяна».
Впоследствии дом сменил нескольких хозяев. В середине XIX века им владел прославленный герой войны 1812 года генерал А.П. Ермолов. Генерал отличался крутым характером: даже в пожилом возрасте он одним резким взглядом приводил в трепет оппонентов. Ермолов, проживавший в доме на пенсии, принимал гостей, демонстрируя им прекрасную библиотеку и составляя предсказания судьбы. Во второй половине XIX века дом сменил нескольких владельцев, а в 1870-х годах был перестроен известным мастером эклектики архитектором А.С. Каминским. В 1900 году у дома на Пречистенке появился новый хозяин – миллионер, промышленник, совладелец крупной чайной компании Алексей Ушков.
Ушаков провел новую реконструкцию пречистенского дома, вероятно, по проекту архитектора К.Л. Мюфке. Существует предположение, что скромный и сдержанный Ушков был бонапартистом, и символика лепнины, украсившей стены его дома, отразила политические взгляды нового владельца. После первого неудачного брака Ушков поселился на Пречистенке со второй, горячо любимой супругой – балериной Большого театра Александрой Балашовой, получившей впоследствии мировую известность. Многие в Москве считали, что это была довольно странная пара: сдержанный, тихий купец и блистательная, всегда окруженная поклонниками знаменитая балерина.
Однако их семейный союз оказался на редкость счастливым. Ушков распорядился создать специальный зеркальный зал для занятий супруги. Кроме того, в доме были оформлены залы в помпейском, севрском, римском и мавританском стилях. В 1920-е годы, после революции, Ушков с женой эмигрировал в Европу, где Балашова выступала на лучших сценах, а также занималась преподавательской деятельностью. Удивительно, но перебравшись в Париж, супруги поселились в бывшем доме знаменитой танцовщицы Айседоры Дункан, которая, в свою очередь, в это время оказалась в России. Пригласившие Дункан советские власти предоставили ей для проживания… бывший дом Ушкова на Пречистенке.
В шутку, танцовщица и балерина называли эту перемену кадрилью – танцем, в котором характерным движением является перемена мест партнеров. Дункан приступила к обучению свободному танцу девочек, родители которых в условиях голода, охватившего в то время страну, были рады тому, что Айседора не только учила, но кормила своих воспитанниц. Дункан прожила на Пречистенке с 1921 по 1924 год. Это время было ознаменовано романтическими отношениями с поэтом С.А. Есениным. Наутро после знакомства Дункан и Есенин поехали в пречистенский дом, и задремавший извозчик провез их несколько раз вокруг находившейся в Гагаринском переулке, церкви Власия (по другой версии – храма Христа Спасителя), словно обвенчав.
Айседоре было уже за сорок, Есенин был на восемнадцать лет младше нее. Они говорили на разных языках, но это не помешало стремительному развитию их романа и последующему браку. Они расстались в 1924 году, и Дункан покинула Россию. Впоследствии дом на Пречистенке использовался и как жилой дом, и как административное здание, пока не перешел под покровительство Наркомата иностранных дел. В настоящий момент здесь располагается главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса МИД. В здании восстановлен мавританский зал, устроенный в начале XX века, однако осмотреть его могут лишь иностранные дипломаты и представители министерства.
Александра Гурьянова
|
Метки: москва пречистенка сушковы балашовы |
Как жили купцы и дворяне в Москве |
Как жили купцы и дворяне в Москве
Елизавета Королева 09.10.2016, 10:04
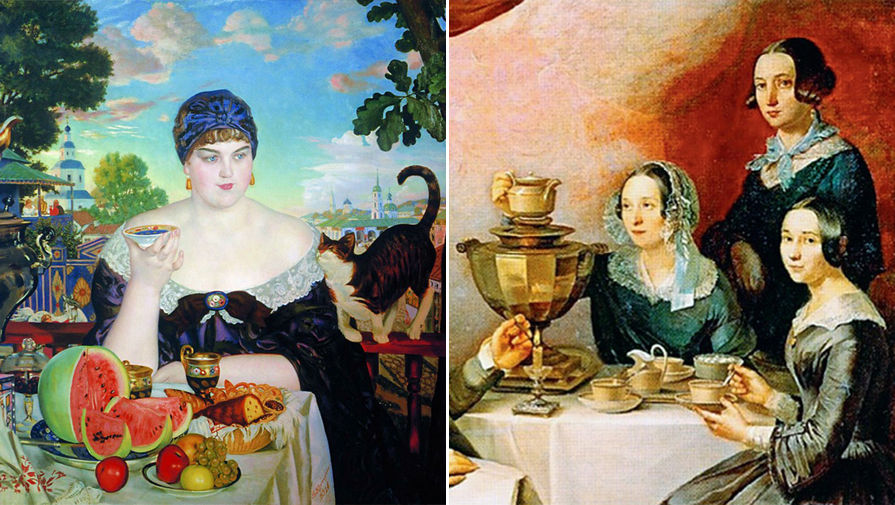 Wikimedia Commons
Wikimedia Commons
Б.М. Кустодиев. Купчиха за чаем. 1918 год / Т.Е. Мягков. Семейство за чайным столом. 1844 год. Фрагмент
Вплоть до революции в Москве существовало два высших светских сословия, которые постоянно соперничали друг с другом и были очень непохожи. Патриархальный быт купечества соседствовал с пышной жизнью дворянства, которое всеми силами старалось угнаться за модой столичного Петербурга. «Газета.Ru» рассказывает о быте московских купцов и дворян в двух разных районах: мещанском Замоскворечье и аристократической Пречистенке.
Завтрак аристократа с вилкой
Пречистенка сформировалась в городе, можно считать, случайно, благодаря тому, что в 1524 году был построен Новодевичий монастырь. В конце XVI века здесь пролегала дорога, ведущая в женскую обитель. Вскоре вдоль этого пути возникли городские постройки и новой улице дали неблагозвучное название — Чертольская, в честь ручья Чертороя, протекавшего рядом. Своим звучным именем Пречистенка обязана царю Алексею Михайловичу.
Дорога, ведущая в обитель Пречистой Божией Матери, не могла иметь название, связанное с чертями, так что в 1658 году по указу царя улицу переименовали в Пречистенскую, а Чертольские ворота города, находившиеся в ее начале, — в Пречистенские. Со временем длинный топоним улицы сократили до Пречистенки.
«Родовые гнезда не продаются»
Улица, получив наконец «нестыдное» название, вскоре стала центром притяжения московской знати. С конца XVII века здесь появляются усадьбы, принадлежавшие аристократическим семьям Лопухиных, Голицыных, Долгоруких и многих других. Большинство особняков, построенных в то время, сохранили оригинальную архитектуру до наших дней. Кроме того, имена аристократических обитателей Пречистенки оказались увековечены в названиях переулков: Всеволжского, Еропкинского, Лопухинского и прочих.
В XIX веке Москва считалась тихим патриархальным городом с населением в 250 тыс. человек (с 30-х годов XIX столетия численность достигла 300 тыс.).
Ни помпезной роскоши Петербурга, ни столичных великосветских балов и приемов — одним словом, большая деревня.
Александр Пушкин, описывая прибытие провинциалки Татьяны в дом ее московской тетки, подчеркивал, что девушке приходилось каждый день разъезжать «по родственным обедам», дабы быть представленной «бабушкам и дедам».
 Wikimedia Commons
Wikimedia Commons
Д.Н. Кардовский. Бал в Петербургском Дворянском собрании. 1913
Поддержание родственных связей было крайне характерным для дворянской Москвы: здесь все приходились друг другу тетками, племянниками, кузинами и кузенами. Родственники постоянно наносили друг другу визиты и обсуждали последние семейные новости. Интересно, что делалось это, как правило, за чашкой чая: московское дворянство предпочитало именно этот напиток, тогда как в Петербурге знать любила выпить кофе. Что касается еды, то русская кухня была не в почете у московских дворян, более любивших немецкие, английские, французские и итальянские блюда. Причем на дворянских столах обязательно присутствовали вилки, которые вплоть до конца XIX века оставались нетрадиционными столовыми приборами в купеческих домах.
Старшее поколение московских аристократов чувствовало себя в городе вполне уютно: есть нужные связи, есть с кем поболтать и поиграть в карты, но при этом не тревожит столичная суета и шум.
Однако молодые дворяне часто скучали в такой патриархальной и слишком спокойной для них обстановке.
Особенно этот контраст между светской жизнью в Москве и Петербурге становился заметным зимой, когда свой досуг можно было разнообразить разве что святочными гаданиями.
Александр Грибоедов очень точно передал атмосферу узкого аристократического круга, в котором все друг друга знают, где в почете консерватизм, а взгляды старшего поколения ставятся в приоритет. Доподлинно известно, что как минимум один житель Пречистенки стал прототипом героя комедии «Горе от ума». С начала XIX века в особняке в Обуховском переулке (сейчас это Чистый переулок, 5) жила дворянка Настасья Дмитриевна Офросимова, известная не только в Москве, но и в Петербурге. Женщина эта славилась своим независимым и порой чудаковатым поведением, прямолинейными высказываниями в адрес кого угодно и крутым, своенравным характером.
 Wikimedia Commons
Wikimedia Commons
Дом Настасьи Офросимовой на Пречистенке
Петр Вяземский писал о ней: «Офросимова была долго в старые годы воеводою на Москве, в московском обществе имела силу и власть». Один из ее современников так описывал барыню: «Старуха высокая, мужского склада, с порядочными даже усами; лицо у нее было суровое, смуглое, с черными глазами; словом, тип, под которым дети обыкновенно воображают колдунью».
Если Грибоедов в своей комедии вывел ее под именем неприятной старухи Хлестовой, то Лев Толстой, наоборот, подчеркнул положительные стороны московской дворянки, списав с нее героиню романа «Война и мир» Марью Дмитриевну Ахросимову, которая помешала Наташе Ростовой сбежать с Анатолем Курагиным.
Будь лучше пьяница, да не одевайся по моде
Замоскворечье начало заселяться в начале XIII века, а уже к началу XVII века здесь начинают жить купцы: в этой местности оказались самые дешевые земли, возможно, из-за того, что низинная местность часто подтоплялась, а почвы были глинистыми.

Панорама Замоскворечья со стороны Кремля. Д. Индейцев, акварель, около 1850 года
Заречное купечество сохранило патриархальный, степенный уклад быта. Вставали обычно часу в четвертом утра и так же рано отходили ко сну. «Ложатся спать в девятом часу, и в девять часов все Замоскворечье спит.
По улице нет никого, кроме собак. Извозчика и не ищите», — описывал Александр Островский режим дня купечества в очерке «Замоскворечье в праздник».
Особенно отличалась мода жителей этого района. «У нас никогда по моде не одеваются, это даже считается неблагопристойным. Мода — постоянный, неистощимый предмет насмешек, а солидные люди при виде человека, одетого в современный костюм, покачивают головой с улыбкой сожаления; это значит, человек потерянный. Будь лучше пьяница, да не одевайся по моде», — писал знаменитый драматург.
«Самый массовый снобизм у тех, кто живет в Москве 5–10 лет»
Надо отметить, что Замоскворечье не оставляло равнодушными не только русских писателей, но и иностранных. Например, французский литературный деятель Теофил Готье так отзывался об этом районе: «Нельзя представить себе ничего более прекрасного, богатого, роскошного, сказочного, чем эти купола с сияющим золотом крестами… Я долго стоял вот так, в восторженном оцепенении, погруженный в молчаливое созерцание».
Золотых куполов в Заречье действительно было великое множество. Самый крупный храм Замоскворечья — храм Священномученика Климента, Папы Римского. В этом же районе находится храм Николая Чудотворца на Берсеневке, который составляет архитектурный ансамбль с палатами Аверкия Кириллова.
Не менее примечателен храм Святителя Николая в Толмачах, домовая церковь при Третьяковской галерее, где постоянно хранится икона Владимирской Богоматери, а на праздник Святой Троицы сюда переносят икону Рублева «Троица». И это далеко не все: московское купечество чтило православные традиции, и богатые купцы считали за благое дело жертвовать деньги на строительство и восстановление храмов.
Умели купцы и отдыхать. Так красиво чаевничать могло только степенное купечество Златоглавой.
«Вот направо, у широко распахнутого окна, купец с окладистой бородой, в красной рубашке для легкости, с невозмутимым хладнокровием уничтожает кипящую влагу, изредка поглаживая свой корпус в разных направлениях: это значит, по душе пошло, то есть по всем жилкам. А вот налево чиновник, полузакрытый еранью [геранью], в татарском халате, с трубкой [фабрики] Жукова табаку, то хлебнет чаю, то затянется и пустит дым колечками».
Кстати, в чай никогда не добавляли сахар, поскольку считалось, что это портит вкус напитка: его всегда пили только вприкуску с сахаром.
 Wikimedia Commons
Wikimedia Commons
Б.М. Кустодиев. Московский трактир. 1916
Конечно, купеческие семьи отдыхали не только дома. Традиционным развлечением были ярмарки и гулянья, которые проходили по главным московским улицам вокруг Кремля, в Сокольниках и в Марьиной Роще, а также в тогдашних пригородах — в Царицыне, Кунцеве, на Воробьевых горах, в Коломенском и Архангельском. Дворяне на лето уезжали в свои загородные имения, так что купцам никто не мешал слушать полковые оркестры, веселиться с цыганами и смотреть вечером на фейерверки.
К середине XIX века в моду у купцов стали входить театры. Причем особой популярностью пользовались пьесы драматического или комедийного характера, напоминавшие ярмарочные представления на бытовые темы.
А вот оперы и особенно балеты — из-за странных костюмов и поведения актеров на сцене — купцы не понимали и недолюбливали.
Московских окон негасимый цвет
Постепенно купцы Замоскворечья начали перенимать атрибуты дворянской жизни и устраивать торжественные обеды и балы в своих домах. Впрочем, и тут не обходилось без мещанской специфики. Дома купцов делились на две части — парадную и жилую. Парадная часть обычно обставлялась как можно более роскошно, но не всегда со вкусом. Интересной особенностью было то, что все подоконники в парадных комнатах были заставлены разнокалиберными бутылками с наливками, настойками, медом и т.п. Из-за этого окна открывались плохо и комнаты практически не проветривались. Воздух освежали, окуривая помещения мятой, уксусом или «смолкой» (комком смолы в кулечке из бересты, сверху на который клали тлеющий уголек).
Как показало время, Москва осталась верна купеческим традициям. Бурное развитие промышленности в России после отмены крепостного права привело к усилению мещанского сословия, представители которого становились фабрикантами и предпринимателями. Так купечество начало вытеснять дворянство и с Пречистенки.
С середины XIX века дворянские усадьбы активно скупались новыми буржуа.
Вместо старых дворянских фамилий на Пречистенке зазвучали новые, купеческие: Коншины, Морозовы, Пеговы, Рудаковы. Вместе с этим менялся облик улицы: классические особняки перестраивались в более пышные и помпезные, чтобы было «дорого-богато». «Новые дома ошеломляют прохожего всею разнузданностью своего явно извращенного и тупого вкуса и заставляют проливать поздние слезы о погибающей, если не погибшей окончательно красавице столице», — именно так писал об этих событиях «Архитектурно-художественный еженедельник» в 1916 году.
Выбор читателей https://www.gazeta.ru/social/2016/10/08/10236401.shtml#page5
|
Метки: купечество дворянство москва пречистинка |
Николай Шереметев: покровитель искусств и крупнейший благотворитель |
Николай Шереметев: покровитель искусств и крупнейший благотворитель
в История Январь 14, 2019 0 3 Просмотров

210 лет назад, 14 января 1809 года, скончался Николай Петрович Шереметев, крупнейший благотворитель, покровитель искусств и миллионер. Он был самой яркой фигурой в знаменитом роду Шереметевых.
По школьному курсу истории России граф известен тем, что вопреки моральным устоям своего времени женился на собственной крепостной актрисе Прасковье Ковалевой, а после смерти супруги, выполняя волю умершей, посвятил жизнь благотворительности и начал сооружение в Москве Странноприимного дома (больница-приют для нищих и больных). Позднее это заведение получило известность как Шереметевская больница, в советские годы — Московский научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского.
Николай Шереметев родился 28 июня (9 июля) 1751 года в Петербурге. Его дедом был прославленный фельдмаршал Петра I Борис Шереметев, его отец Пётр Борисович рос и воспитывался вместе с будущим государем Петром II. В результате женитьбы на княжне Черкасской, единственной дочери канцлера Российской империи, ему досталось огромное приданое (70 тыс. душ крестьян). Род Шереметев стал одним из самых богатых в России. Пётр Шереметев был известен своими чудачествами, любовью к искусству и роскошным образом жизни. Его сын продолжил эту традицию.
В детстве, как это было принято у тогдашнего дворянства, Николай был записан на военную службу, но по армейской стезе не пошёл. Граф рос и воспитывался вместе с будущим государем Павлом Петровичем, они дружили. Николай получил хорошее домашнее образование. Юноша интересовался точными науками, но больше всего проявлял склонность к искусству. Шереметев был настоящим музыкантом – отлично играл на фортепиано, скрипке, виолончели, управлял оркестром. Молодой человек, как это было принято в семьях аристократов, совершил длительное путешествие по Европе. Учился в Лейденском университете в Голландии, тогда он был одним из самых престижных в Западной Европе. Также Николай посетил Пруссию, Францию, Англию и Швейцарию. Обучался театральному делу, декорационному, сценическому и балетному искусству.
Завершив путешествие, Николай Петрович вернулся к придворной службе, на которой находился до 1800 года. При Павле Первом достиг вершины своей карьеры – обер-гофмаршалом. Граф служил директором Московского дворянского банка, сенатором, директором императорских театров и Пажеского корпуса. Но больше всего Шереметева интересовала не служба, а искусство. Его дом в Москве славился блестящими приёмами, празднествами и театральными представлениями.
Николай Петрович считался знатоком архитектуры. На его средства были построены театры в Кусково и Маркове, театр-дворец в Останкино, дома в Павловске и Гатчине, Фонтанный дом в Петербурге. Шереметев устроил первый в стране частный архитектурный конкурс проектов своего дома в Москве. Известен граф и в деле постройки церковных сооружений: церкви Знамения Богородицы в Новоспасском монастыре, церкви Троицы при Странноприимном доме, храма во имя Дмитрия Ростовского в Ростове Великом и других.
Но в первую очередь Николай Петрович прославился как театральный деятель. В Российской империи до отмены крепостного права действовали десятки крепостных театров. Значительная их часть была в Москве. Своими труппами и репертуаром прославились домашние театры графа Воронцова, князя Юсупова, промышленника Демидова, генерала Апраксина и т. д. Среди таких театров было и заведение Николая Шереметева. Его отец – Пётр Борисович, богатейший землевладелец (владелец 140 тыс. душ крепостных), создал Крепостной театр, а также балетную и живописную школы в 1760-х в усадьбе Кусково. Театр посещали Екатерина II, Павел I, польский король Станислав Понятовский, ведущие русские вельможи и сановники. При графе Николае Шереметеве театр достиг новых высот. Унаследовав от отца огромное состояние, его называли Крёзом-младшим (Крёз – древний лидийский царь, прославившийся своим огромным богатством), Шереметев не жалел денег на своё любимое дело. Для обучения актеров выписывали лучших русских и иностранных специалистов. Николай Петрович построил новое здание в Кускове, а в 1795 году возвёл театр в другом подмосковном имении семьи, в Останкино. В зимнее время театр находился в московском доме Шереметевых на Никольской улице. Коллектив театра доходил до 200 человек. Театр отличался отличным оркестром, богатыми декорациями и костюмами. Останкинский театр по своим акустическим качествам был лучшим залом Москвы.
Кроме того, граф сосредоточил в Останкино все художественные коллекции, ценности, собранные предшествующими поколениями Шереметевым. Обладая хорошим вкусом, Николай Шереметев продолжил это дело и стал одним из самых крупных и известных коллекционеров России. Он сделал многочисленные приобретения ещё в молодости, во время заграничного путешествия. Тогда в Россию приходили целые транспорты с ценными произведениями. Не оставлял он это увлечение и впоследствии, став крупнейшим собирателем культурных ценностей (мраморные бюсты и статуи, копии античных произведений, картины, изделия из фарфора, бронзы, мебель, книги мн. другое) из рода Шереметевых. Только собрание живописи насчитывало около 400 работ, а коллекция фарфора – более 2 тыс. предметов. Особенно много произведений искусств было приобретено в 1790-е годы для дворца-театра в Останкино.
Для Николая Петровича театр был главным делом жизни. За два десятилетия было поставлено около сотни балетов, опер и комедий. Основной была комическая опера — Гретри, Монсиньи, Дуни, Далейрака, Фомина. Тогда предпочитали произведения итальянских и французских авторов. В театре существовала традиция присвоения артистам имён по названию драгоценных камней. Так, на сцене выступали: Гранатова (Шлыкова), Бирюзова (Урусова), Сердоликов (Деулин), Изумрудова (Буянова) и Жемчугова (Ковалёва). Прасковья Ивановна (1768-1803), талант которой заметил граф и всячески его развивал, стала возлюбленной Шереметева. Это было делом обычным. Многие помещики, включая и отца Николая – Петра Борисовича Шереметева, имели внебрачных детей от крепостных красавиц. Граф Шереметев в 1798 году дал девушке вольную и обвенчался с ней в 1801 году. При этом граф пытался оправдать свою женитьбу на бывшей крепостной и купил ей легенду о «происхождении» Прасковьи из рода обедневших польских шляхтичей Ковалевских. Прасковья родила ему сына в феврале 1803 году и вскоре скончалась.
После смерти любимой, выполняя её волю, граф Николай Петрович посвятил оставшиеся годы благотворительности. Он пожертвовал часть своего капитала бедным. Одних только пенсий граф ежегодно раздавал до 260 тыс. рублей (огромная по тем временам сумма). Указом 25 апреля 1803 года государь Александр I повелел вручить графу Николаю Петровичу в общем собрании Сената золотую медаль за бескорыстную помощь людям. По решению Николая Шереметева начали возведение Странноприимного дома (богадельни). Над проектом здания работали известные архитекторы Елизвой Назаров и Джакомо Кваренги. Строительство вели более 15 лет и здание открыли уже после смерти Шереметева в 1810 году. Странноприимный дом, рассчитанный на 50 больных и 25 девочек-сирот, стал одним из первых в России учреждений по оказанию медицинской помощи беднякам и для помощи сиротам и бездомным. Шереметевская больница стала шедевром русской классицизма рубежа XVIII – XIX вв. Семья Шереметев содержала учреждение вплоть до гибели Российской империи.
Личность Шереметева была интересной. Он прославился не принадлежность к богатейшему аристократическому роду, не государственными и военными заслугами и победами, не личными успехами в искусстве и науке, а чертами своего характера. Это был аристократ-интеллектуал, который и в «Завещательном письме» к сыну отметился нравственными рассуждениями.
Николай Петрович Шереметев ушел из жизни 2 (14) января 1809 года. Он велел похоронить его в простом тесовом гробу, а средства, предназначавшиеся для богатых похорон, раздать нуждающимся.
В своём завещании сыну граф написал, что в жизни у него было всё: «слава, богатство, роскошь. Но ни в чем этом не нашел я упокоения». Николай Петрович завещал не ослепляться «богатством и великолепием», и помнить о принадлежности «Богу, государю, Отечеству и обществу». Так как «жизнь быстротечна, и лишь благие дела сможем мы взять с собой за двери гроба».
Дмитрий Николаевич Шереметев продолжил дело отца, жертвуя огромные суммы на благотворительность. Появилось даже выражение «жить на шереметевский счёт». Шереметевы содержали Странноприимный дом, церкви, обители, приюты, гимназии и частью Петербургский университет.
Самсонов Александр
https://topwar.ruhttps://www.politicglobal.ru/archives/3376
|
Метки: шереметьевы |
Гирокар русского графа Шиловского |
Гирокар русского графа Шиловского
- Mar. 20th, 2016 at 5:18 PM
Гирокар — это автомобиль, имеющий два или более колёса, расположенных в одну линию. Не падает он благодаря расположенному внутри гироскопу, а первый в истории гирокар построил в 1913 году русский граф Петр Петрович Шиловский…

Что такое гироскоп, простенько расскажет нам обычная википедия: «Это быстро вращающееся твёрдое тело (ротор), ось вращения которого способна изменять ориентацию в пространстве. При этом скорость вращения гироскопа значительно превышает скорость поворота оси его вращения. Основное свойство такого гироскопа — способность сохранять в пространстве неизменное направление оси вращения при отсутствии воздействия на неё моментов внешних сил». В качестве простого примера можно привести юлу. Если вы толкнёте раскрученный волчок, он не упадёт, верно? Только «отшатнётся» в сторону. Так же работает и гироскоп с маховиком.

Гироскопическая мечта графа Шиловского
Граф Петр Шиловский был по образованию юристом и некоторое время занимал должность губернатора Костромской (1910—1912) и Олонецкой (1912—1913) губерний.

30 мая 1909 года он подал в патентное ведомство заявку, в которой просил выдать ему привилегию (патент) на изобретение «Устройство для сохранения равновесия повозок или других находящихся в неустойчивом положении тел». Патент за N27091 Шиловский получил спустя пять лет. Придавая своему изобретению важное значение, Шиловский поспешил зарегистрировать его в Англии (в мае 1909 года, патент 12021) и в Германии (в феврале 1910 года, патент 237702). Надо сказать, что на тот момент гироскопические конструкции были на подъёме — этому способствовал успех англо-австралийского инженера Луиса Бреннана, который построил на выделенные гранты два полноразмерных гироскопических локомотива и успешно демонстрировал их в 1909 году.

На первых же испытаниях локомотив Бреннана провёз по испытательному кольцу 32 пассажиров — инженеров завода, где строился локомотив, представителей власти и бизнеса.

Но история Бреннана (в какой-то мере не менее грустная, чем Шиловского) также завершилась ничем: оба локомотива были пущены на слом, потому что идея казалась на тот момент слишком сложной. Ведь гиролокомотив мог держать равновесие только при включённом двигателе, а опоры для стоянки выдвигались медленно. Любой отказ двигателя вызывал аварию.

Шиловский же подошёл к делу иначе. Как и несколькими годами ранее Бреннан и Шерль (немецкий инженер, который тоже строил гиролокомотив), Шиловский в 1911 году представил общественности модель гироскопической железной дороги.

Но Россия, как известно, щедрая душа. Если Бреннан после такой демонстрации получил инвестиции на строительство двух полноразмерных машин, то Шиловский — письменную похвалу от какого-то министерства. Несколько разочаровавшись, он отправился в Англию, где предложил свою концепцию крупному автомобильному заводу Wolseley.

В Англии ещё хорошо помнили Бреннана. Поэтому Wolseley взялся за постройку машины — и построил её в 1912—13 годах. Тут стоит отметить, что в 1913 году Шиловский сам подал в отставку с поста губернатора. поскольку хотел заниматься наукой, а политика занимала слишком много времени. На родине достижения Шиловского проходили незамеченными. Он разработал гироскопический курсоуказатель для самолётов и судов и устройства для стабилизации корабельных орудий, но все его предложения ортодоксальное министерство флота отвергало. Орудийный стабилизатор Шиловский впоследствии успешно продал британскому военно-морскому ведомству, а «Ортоскоп» всё-таки ставили на тяжёлые самолёты и в России, например, на «Илью Муромца».

Итак, менее чем за год на заводе Wolseley был построен автомобиль Wolseley Gyrocar конструкции графа Шиловского. Для парковки были предусмотрены дополнительные выдвижные колёсики по бокам. 27 ноября 1913 года двигатель завели, колёсики убрали, и водитель-испытатель проехал несколько метров. Машина не опрокинулась.
Следующий опыт заключался в том, что несколько здоровых мужчин сели в гирокар и попытались его раскачать и перевернуть — но он стоял на земле жёстче четырёхколёсной машины!

Это было совершенно естественно: ведь обычная машина не переворачивается благодаря собственному весу и достаточному количеству точек опоры — но при этом она вполне может шататься. Энергия же, вырабатываемая вращающимся маховиком, заметно превышала усилия людей и держала кузов в состоянии почти полной неподвижности.

Шестисоткилограммовый маховик представлял собою диск диаметром в один метр и толщиной почти 12 сантиметров. Для его раскрутки использовался подсоединённый напрямую 110-вольтный электромотор мощностью около 1,25 л.с. и питаемый от динамо-машины, подключённой к главному двигателю автомобиля.

Вкупе с парой 50-килограммовых «маятников» этому примитивному, но весьма внушительному гироскопу не составляло особого труда удерживать в вертикальном положении гирокар, весивший 2750 килограмм.
Осмелевшие испытатели во главе с Шиловским загрузились в гирокар и объехали сначала завод, а потом выехали в город. Закончилась их поездка тем, что машина заглохла и опрокинулась. Но главное было сделано: гирокар работал.

В качестве эксперта был приглашён знаменитый пионер гиротранспорта Луис Бреннан. Он пришёл в восторг от гирокара и честно признался, что никогда не думал о применении гироскопа в дорожном, а не рельсовом транспорте. Гирокар запатентовали в ряде стран мира. 28 апреля 1914 года в Лондоне была проведена публичная демонстрация гирокара.

Она собрала толпы зевак, и вроде как даже инвесторы заинтересовались разработкой Шиловского, но… грянула I мировая война. И всё — никому оригинальная машина стала не нужна, были дела и поважнее. А гирокар в какой-то момент был похоронен в земле. Совершенно буквально, чтобы во время войны его не повредило. Его просто закопали.

Надо отметить, что англоманией Шиловский страдал всегда. Весь строй своего дня он поставил на английский лад, от начальника своей канцелярии требовал, чтобы тот говорил с ним по-английски, и последний даже жаловался на это в Петербург. Карьера его была довольно быстрой и зигзагообразной: следователь в Луге — публицист — следователь в Новоржёве — прокурор в Ревеле — вице-губернатор в Уральске — вице-губернатор в Екатеринославе — вице-губернатор в Симбирске — губернатор в Костроме. Петербургское начальство надеялось, что новый губернатор установит наконец в Костроме «добрые отношения между администрацией и обществом» в преддверии романовских торжеств. Шиловский в самом деле нашел золотую середину между строгостью и либерализмом: он был корректен, выдержан, демократичен, но мог и спросить, и твердость проявить. Городское хозяйство налаживалось, авторитет Шиловского в Костроме быстро рос, но, как уже было сказано, Шиловский сам ушёл со всех должностей и ударился в технику. Поэтому мы вернёмся в 1914 год.
Back to the USSR
Шиловский вернулся в Россию, ещё не зная, что ждёт его впереди. А ждала его революция. Но вот странность: граф, богач, экс-губернатор не попал под пресс новой власти. Напротив, власть в первую очередь заметила его изобретательские способности. 8 сентября 1919 он выступил с докладом на заседании Всероссийского совета народного хозяйства с докладом «О постройке гироскопической железнодорожной ветки Кремль — Кунцево». ВСНХ издал постановление о необходимости проведения опытной гироскопической железной дороги длиной 6 верст и поручает члену президиума Красину создать комиссию для подготовки постановления в жизнь и выдачи аванса на строительство. Шиловскому выделили отдельное конструкторское бюро, предоставили инженеров в подчинение — и он рьяно взялся за дело. Проект вагона Шиловского:

В 1921 году началось строительство дороги. Проект локомотива был уже готов, более того, его действующую модель обдували в аэродинамической трубе Политехнического института — и теоретические скорости монорельса в сравнении с аналогичными паровозами впечатляли. Маршрут первого испытательного пути был Петроград — Детское Село (ныне Пушкин) — Гатчина. За опытной дорогой было признано общегосударственное значение. Вот то, что успели построить:

Поезд должен был состоять из двух сочлененных вагонов, моторного и пассажирского, на 400 мест обтекаемой формы, приводимые в действие двумя двигателями по 240 л.с. с электропередачей. Скорость движения должна была доходить до 150 км/час.

Всё это происходило на фоне непрекращающейся гражданской войны. К марту 1922 году успели проложить 12 километров дороги — и в этот момент приказ о финансировании был отозван без объяснения причин. Впрочем, они были понятны: стране, в которой бушевали беспорядки и голод, в которой не было нормальных двухрельсовых дорог, монорельс был не нужен.
В том же году, чувствуя опасность, Шиловский со всей семьёй (жена и трое детей) уехал в Англию, где легко устроился на работу в английском отделении компании Sperry Gyroscope Company — его слава была достаточно велика; специалистов по гироскопам в мире было раз-два и обчёлся.
И в Англии он… вспомнил про свой же гирокар, который по-прежнему ржавел где-то под землёй на территории завода Wolseley. В Англии Шиловский опубликовал несколько книг и монографий по гироскопам и пользовался авторитетом в этой области. Но вот выкапывать его машину, захороненную в 1915 году, никто не собирался.

На этой фотографии (1938) его уже выкапывают:

Лишь спустя 20 с лишним лет Шиловский добился своего: гирокар был извлечён из-под земли, очищен, отреставрирован и помещён в музей Wolseley.

А в 1940 году Шиловский отошёл от дел (умер он в 1957). Англии война напрямую не касалась, и гирокар стоял себе в музее вплоть до 1948 года, когда было решено провести ревизию экспозиции. Англичане и сегодня не могут объяснить, как они, столь трепетно сохраняющие свою историю, умудрились сделать такую глупость. Уникальный Wolseley Gyrocar был признан не имеющим ценности экспонатом и разрезан на металл.
Прочие попытки
Гирокары строили и впоследствии. Например, в 1929 году Луис Бреннан, в то время в почёте и уважении работавший над гироскопическими системами устройствами для вертолётов, решил вернуться к своему раннему проекту и построил гирокар, на этот раз не рельсовый. Бреннан демонстрировал машину компаниям Austin, Morris и Rover, но успеха не имел. В 1932 году он погиб (в возрасте 79 лет), попав под машину во время визита в Швейцарию. Гирокар Бреннана:


В 1961 году компания Ford представила шоу кар Ford Gyron. Правда, он не был действующим гирокаром: его просто показывали на автосалонах, как машину будущего. Но на Gyron вполне можно было установить маховик и гироскоп Бреннана или Шиловского — конструкция позволяла.

В 1962 году американский энтузиаст Луис Суинни на площадях компании Gyro Transport Systems построил гирокар Gyro-X. Дизайн разработал сотрудник Ford Алекс Тремулис (легенда авангарда в автодизайне), а гироскоп — инженер Томас Саммерс. Лёгкая, очень скоростная машина, почти мотоцикл, не произвела впечатление на потенциальных инвесторов. Судьба её неизвестна — скорее всего, её уничтожили в том же году. Сохранилось лишь несколько фотографий и полная техническая документация, доказывающая то, что эта машина была способна на движение.



Попыток построить гиролокомотив было больше, но это уже совсем другая история.
А дело Петра Петровича Шиловского всё-таки живёт. Потому что весь мир сегодня ездит на «Сигвеях». Думаю, увидев откуда-то из другого мира «Сегвей», Шиловский, наконец, улыбнулся и заснул спокойно. Он добился своего: гироскопический транспорт существует и пользуется популярностью, пусть и использует гироскопы исключительно в качестве датчиков, а не в качестве системы поддержания равновесия.

P. S. Компания LitMotors объявила о начале продаж полноценного гирокара в 2014 году, но воз пока что и ныне там.
Тим Скоренко
Ссылка.https://sozero.livejournal.com/933640.html
|
Метки: шиловские |
Аглая Шиловская о семье, работе, музыкальных шоу и любимом человеке |
Аглая Шиловская о семье, работе, музыкальных шоу и любимом человеке
Актриса рассказала о своих родителях, о том, как попала в театр, как пробовалась в «Голос», как стала выступать в шоу «Точь-в-точь», и как нашла своего любимого мужчину.
2 января Аглае Шиловской исполнилось 24 года, она происходит из известной творческой семьи. Ее дедушка - актер и режиссер Всеволод Шиловский, папа - режиссер и сценарист Илья Шиловский, ее бабушка - актриса Нина Семенова, служила в Театре Гоголя, играла в кино.
Всеволод Шиловский
Аглая считает, что нее замечательные родители, вложившие в нее все, что могли. Без их помощи, признается актриса, она вряд ли сумела бы добиться таких результатов. Мама пожертвовала своими интересами, чтобы в полной мере дать дочери раскрыться, постоянно была рядом. Папа же постарался дать дочери то, чего у самого не было в детстве. Они и сегодня очень близки, а его советы для Аглаи бесценны.
Творческая карьера Шиловской началась благодаря маме. Каждую неделю они посещали театр. И однажды попали к Борису Покровскому на «Сказку о попе и работнике его Балде». Едва действие закончилось, всех детей пригласили подняться на сцену, попеть, потанцевать. Видимо, Аглая понравилась, поскольку к ее маме обратилась педагог детской студии при театре, предложив отдать девочку поучиться.
Аглая Шиловская
В пять лет Аглаю перевели в Большой театр, где она стала играть дочку героя Зураба Соткилавы в опере «Прекрасная мельничиха». Мама привозила дочь, сдавала с рук на руки помрежу и потом четыре часа ждала на улице. По окончании спектакля роскошные букеты цветов, которые дарили Соткилаве поклонники, доставались и маленькой Аглае.
Школу Шиловская окончила экстерном и в пятнадцать лет поступила в Щукинское училище. Дедушка вообще не догадывался, что внучка поступает в театральный, и узнал об этом на своем юбилее в Доме кино.
Когда Шиловская еще училась на первом курсе Щукинского, к ним приехали ассистенты Станислава Говорухина в поисках актрис для картины «В стиле JAZZ». Аглая пела, музицировала, играла, в общем, сразила режиссера своей непосредственностью, он даже ее героиню превратил из художницы в музыканта. Говорухин утвердил Аглаю на роль младшей сестры.
Аглая Шиловская
У Шиловской было три съемочных дня, но она осталась в Одессе на целых две недели. Она была несовершеннолетней и ездила на съемки вместе с мамой. Сегодня в райдере актрисы значится пункт, что ее на съемках сопровождает мама.
Аглая Шиловская вспоминает, как послала свои записи на Первый канал и попала на шоу «Голос». Сама бы никогда в жизни туда не отправилась, признается актриса. На этом настоял папа, и она послушалась, ведь у нее были главные роли в суперпопулярных мюзиклах.
Но Аглая не прошла в шоу «Голос», более того судьи довольно в резкой форме высказали ей свое мнение. Но семья ее поддержала. «Мы друг за друга горой, если кого-то из семьи задели, остальные готовы загрызть обидчика. Дед, папа, Паша, я — все такие. Это порода Шиловских», говорит актриса.
Аглая Шиловская
Потом Аглаю пригласили в шоу «Точь-в-точь». По словам актрисы, отношения между участниками конкурса складывались не всегда просто. Хотя с мужчинами на проекте у нее были отличными. Аглая подружиласт с Родионом Газмановым, Оскаром Кучерой. Всегда поддерживали друг друга. С девушками конкуренция была более острой. Например с Азизой они прекрасно общались до той поры, пока Аглая не стала догонять ее по баллам. Шли почти вровень, перед предпоследним туром Шиловская опережала ее на одно очко. Но, наверное, для проекта, говорит Аглая, было нужнее, чтобы победила Азиза, а Аглая заняла лишь второе место.
Через некоторое время Шиловская уехала на съемки «Вурдалаков» по повести Алексея Толстого. Постановщик картины Сергей Гинзбург теперь один из ее самых любимых режиссеров. Кино, по мнению актрисы, получилось, дорогим, мощным и захватывающим. Съемки проходили в Крыму на фоне прекрасной природы, даже сорокаградусная жара и полученная травма не смогли испортить впечатления. В первой же любовной сцене с Константином Крюковым лошадь наступила Аглае на ногу. Гигантский синяк, стопа распухла, но обошлось без перелома. Крюкову повезло меньше: у него обнаружилась страшная аллергия на шерсть, Константину пришлось постоянно пить таблетки, поскольку сцен с животными было много.
Аглая Шиловская
На съемки «Вурдалаков» приехал Сергей Соловьев и сразу принял Аглаю такой, какая есть. Во время съемок Соловьев ей доверял, но случалось и недопонимание. В Крыму начали снимать в конце октября, было уже достаточно холодно. А Соловьев выбрал для героини Шиловской легкие сарафанчики. Вступилась за Аглаю мама, в результате она снималась в джинсах и свитере.
У Аглаи Шиловской уже есть любимый человек, актер, Федор Воронцов служит в Театре Вахтангова вместе с родителями, заслуженными артистами Михаилом Воронцовым и Еленой Ивочкиной. Так что у них тоже актерская династия. Шиловские назвали свою дочь Аглаей в честь героини Достоевского. Ей кажется хорошим знаком, что имя-отчество ее возлюбленного такие же, как у ее любимого писателя Федора Михайловича Достоевского.
Аглая Шиловская и Федор Воронцов
Пара встретилась в Щукинском училище, Федор учился на курс старше. Дружили, собирались одной компанией. По словам Аглаи, Федя ей нравился, но он рано женился, а женатые мужчины для нее табу. На ее глазах Федя обзавелся сыном, потом развелся, переживал, они стали теснее общаться. И вот уже пять лет вместе.
Шиловская уже с пятнадцати лет снималась, работала в театре, получала приличные деньги и хотя была несовершеннолетней, мечтала быть самостоятельной. А отец требовал, чтобы в одиннадцать вечера она возвращалась домой как штык. Ей же хотелось оставаться с Федором, и однажды она ушла к нему. Сначала был дикий скандал, но в результате, родители поняли, что у них все серьезно, и отпустили.
Пока Аглая с Федором живут в гражданском браке и хотят зарегистрироваться, только, когда появятся дети. Родители Аглаи ведь тоже поженились после того, как ее мама забеременела. Медовый месяц у Аглаи с Федором уже был, они съездили на Мальдивы.
Аглая Шиловская с родителями Ильей и Светланой Шиловскими и Федором Воронцовым
По словам Шиловской, Федор во многом идет ей навстречу, старается не ревновать, а радоваться ее успехам. При этом он как-то органично вписался в семью Шиловских и очень подружился с главой семейства. Федор очень сильно поддержал Аглаю после «Голоса». Когда она приехала в расстроенных чувствах, сразу подарил кота, Кунжут с ними уже два года.
Бывает так, что проекты у Шиловской идут один за другим, и на быт времени совсем не остается. Федя помогает и не предъявляет претензий. Он принимает Аглаю со всеми ее недостатками и сложным характером. Она очень привязалась к сыну Федора Матвею, он часто живет у них и считает своей семьей.
Аглае очень хочется поработать вместе с Федей и отцом. Сняться в фильме папы — ее давняя мечта. Сценарий давно написан, но пока нет возможности его реализовать.
Еще Аглая мечтает построить загородный дом с бассейном, чтобы там все могли вместе жить, творить и отдыхать. Она хочет, как можно больше времени проводить со своей семьей, ведь семья для нее все-таки важнее профессии.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 [2 Голоса (ов)]
По теме
Свекр Аглаи Шиловской умер на следующий день после ее свадьбы
Аглая Шиловская рассказала о трагедии после свадьбы, и почему семь лет не выходила замуж.
Аглая Шиловская тайно зарегистрировала брак с Федором Воронцовым
Аглая Шиловская сыграла свадьбу с актером Федором Воронцовым. Пара долго готовилась к свадьбе. Невесте даже пришлось похудеть перед столь важным событием. Расписались актеры в одном из московских загсов.
Аглая Шиловская прошлась по судьям шоу «Голос» за унижение на сцене
Аглая Шиловская не смогла стерпеть унижения от судей шоу «Голос» и сказала все, что она думает о них.
https://z-aya.ru/index.php/sh/shilovskaya-aglaya/1...nykh-shou-i-lyubimom-cheloveke
|
Метки: шиловские |
Шиловский, Пётр Петрович |
Шиловский, Пётр Петрович
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Шиловский .
| Пётр Петрович Шиловский | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|||||||
|
|||||||
| Предшественник | Николай Дмитриевич Грязев | ||||||
| Преемник | Михаил Иванович Зубовский | ||||||
|
|||||||
| Предшественник | Алексей Порфирьевич Веретенников | ||||||
| Преемник | Пётр Петрович Стремоухов | ||||||
|
|
|||||||
| Рождение | 12 сентября 1871 | ||||||
| Смерть | 3 июня 1957 (85 лет) Хердфордшир, Англия |
||||||
| Род | Шиловские | ||||||
| Отец | Пётр Степанович Шиловский (1829—1902) | ||||||
| Мать | Прасковья Фёдоровна, урожд. Лебедева | ||||||
| Супруга | Мария Николаевна, урожд. Брянчанинова (1887—1958, Англия) | ||||||
| Образование | |||||||
Пётр Петрович Шиловский ( 12 сентября 1871 — 3 июня 1957 , Херфордшир ) — русский государственный деятель, статский советник . С именем Петра Петровича Шиловского связано проведение юбилейных мероприятий, посвященных 300-летию дома Романовых , становление научно-краеведческого объединения «Общества изучения Олонецкой губернии» и начало издания журнала «Известия Общества изучения Олонецкой губернии». Пётр Петрович Шиловский получил известность и как талантливый инженер , изобретатель -самоучка, пионер гироскопической техники.
Шиловский, Пётр Петрович:
Биография
Происходил из дворянского рода Шиловских , владевшего подмосковным имением Глебово-Избище .Дед Петра Петровича — Степан Иванович Шиловский, надворный советник , более десяти лет был предводителем дворянства.Отец, Петр Степанович Шиловский — действительный статский советник , был членом Государственного Совета.
В 1892 году окончил Императорское училище правоведения , служил судебным следователем в Луге под Санкт-Петербургом и судьёй в Санкт-Петербургской губернии. Поступил на службу в Департамент герольдии Сената .
В 1894 году служил в канцелярии Первого департамента Сената. В этот период Пётр Петрович увлекается публицистикой и пишет острые статьи в прессе на правовые темы. В 1895 году назначен судебным следователем 1-го участка Лужского уездного округа Санкт-Петербургского окружного суда, в 1900 г. — товарищем прокурора окружного суда в Ревеле и Саратове , избирается почётным мировым судьёй по Петрозаводскому уезду . Затем за короткое время занимал посты: вице-губернатора в Уральске (1904), военного губернатора той же области (1905), Екатеринославского вице-губернатора (1906), Симбирского вице-губернатора (1907), а затем Костромского (1910—1912) и Олонецкого (1912—1913) губернатора [1] .
В 1905 году был пожалован в камер-юнкеры . В 1909 год получил патент на «Устройство для сохранения равновесия повозок или других находящихся в неустойчивом положении тел» в Англии , Германии , Франции и США [2] .В 1911 г. на выставке в Петербурге продемонстрировал действующую модель монорельсовой железной дороги с гиростабилизированным поездом, а в мае 1914 года на улицах Лондона — гирокар (гиростабилизированный двухколесный автомобиль). [3] [4]
1 мая 1913 года Шиловскому указом Сената утвержден почетным мировым судьей по Солигаличскому уезду Костромской губернии, 5 мая 1913 года П. П. Шиловскому, по ходатайству Костромского городского общественного управления, императором присвоено звание почетного гражданина города Костромы [5] . В июле 1913 года — уволен в отставку с поста Олонецкого губернатора.
В годы Первой мировой войны Шиловский разработал проект стабилизации корабельного орудия, действующая модель гироскопического успокоителя качки корабля, «ортоскоп» (гироскопический курсоуказатель), проверенный на яхте и на самолете «Илья Муромец» .
8 сентября 1919 г. П. П. Шиловский выступил с докладом на заседании Всероссийского совета народного хозяйства с докладом «О постройке гироскопической железнодорожной ветки Кремль — Кунцево».ВСНХ издает постановление о необходимости проведения опытной гироскопической железной дороги длиной 6 верст и поручает члену президиума Л. Б. Красину создать комиссию для подготовки постановления в жизнь и выдачи аванса на строительство.
П. П. Шиловский приобрёл широкую известность внедрением (1919 г.) и строительством (1921—1922 гг.) монорельсового железнодорожного пути Петроград — Детское Село (ныне Пушкин ) — Гатчина .В теоретическом основании монорельсовой железной дороги принимали участие известные ученые — И. В. Мещерский , П. Ф. Папкович , Н. Е. Жуковский [6] [7] .
За опытной дорогой было признано общегосударственное значение, а руководство строительством её поручено Всероссийскому совету народного хозяйства .Всего за один год, под руководством Шиловского, группа инженеров выполнила подробный рабочий проект дороги и поезда (Р. Н. Вульф, А. М. Годыцкий-Цвирко, В. Н. Евреинов, Р. А. Лютер, А. С. Шварц и др.).Поезд должен был состоять из двух вагонов и двигаться со скоростью 150 километров в час.Удалось проложить часть пути на расстояние около 12 километров, а петроградским заводам был передан заказ на постройку поезда.Однако работы, начатые летом 1919 года, постоянно замедлялись и были полностью прекращены в мае 1922 года из-за разрухи и нехватки средств.
В 1922 году эмигрировал в Великобританию, где продолжил работу в Sperry Corporation .В 1924 году он опубликовал монографию « Гироскоп : его конструкция и применение» [8] .
Скончался 3 июня 1957 в Херфордшире ( Англия ), прожив 85 лет.
Труды
- Шиловский П. Акты, относящиеся к политическому положению Финляндии. СПб., 1903
- P. P. Shilovski. The gyroscope: its practical construction and application, treating of the physics and experimental mechanics of the gyroscope, and explaining the methods of its application to the stabilization of monorailways, ships, aeroplanes, marine guns, etc.. — London, New York: E. & F. N. Spon, ltd.;Spon & Chamberlain, 1924. — 224 с.
Литература
- Н. А. Кораблёв, Т. А. Мошина. Олонецкие губернаторы и генерал-губернаторы: Биографический справочник. — Петрозаводск: «Строительный стандарт», 2012. — С. 116—123. — 140 с. — ISBN 5-87870-010-7 .
Ссылки на "Шиловский, Пётр Петрович"
- Д. М. Калихман ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА: ДВЕ СУДЬБЫ В РАЗЛОМЕ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
- Работы Луи Бреннона по гироскопическим железным дорогам
- Русский монорельс
Примечания для "Шиловский, Пётр Петрович"
- ↑ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ «ГИРОКАРА»
- ↑ SCHILOVSKY, P., 28, Dulwich Wood Park, London. May 31, 1933, No. 15695. Class 122 (v). Abstract of GB405513 405,513. Stuffing-box substitutes. (недоступная ссылка) (англ.)
- ↑ Владимир ПУШКАРЕВ Эти странные, странные, странные машины… Архивировано 7 сентября 2007 года. AUTO.ua N 10, ОКТЯБРЬ 2006
- ↑ Александр Варламов То ли буйвол, то ли бык, то ли тур Журнал МОТО
- ↑ Олонецкие губернские ведомости. 1913. 11 мая
- ↑ Двухколёсные монстры. Часть первая: Гирокар Шиловского Архивировано 19 сентября 2008 года.
- ↑ ЧУДО-ПОЕЗД ГУБЕРНАТОРА ШИЛОВСКОГО
- ↑ Олег Измеров ЗА ДАЛЕКОЙ ЗА НАРВСКОЙ ЗАСТАВОЙ
|
Метки: шиловские |
Проклятие рода Юсуповых |
https://zen.yandex.ru/media/history_russian/prokli...1ac133986100a95eb35f?from=feed
Проклятие рода Юсуповых
Считают, что княжеский род Юсуповых окружало множество легенд, в том числе весьма зловещих. Отчасти это связано с тем, что последним, кто носил эту фамилию в императорской России, был убийца знаменитого Григория Распутина.
Фантазёр и убийца Феликс не-Юсупов
Феликс Феликсович Юсупов уже не был потомком князей Юсуповых по мужской линии. Его отец, граф Феликс Феликсович Сумароков-Эльстон, женился на последней представительнице рода Юсуповых – княжне Зинаиде Николаевне. С Высочайшего соизволения ему было дозволено взять титул и фамилию своей жены.
Что к тому времени уже не осталось мужчин среди прямых потомков Юсуповых, тоже можно, при желании, считать проклятием. Но, как-никак, мужская линия Юсуповых существовала в России долго, более 300 лет. В то же время мужская линия Романовых пресеклась чуть более, чем через 100 лет после воцарения. Видимо, проклятие в адрес Романовых оказалось более действенным.
Сам Феликс Феликсович, актёр и фантазёр, великосветский скандалист, был известен своим эпатажным поведением и, по слухам, являлся гомосексуалистом. При этом он был женат на племяннице самого Императора Николая II. Впоследствии хвастался, что лично подложил Распутину яд, а когда увидел, что яд не действует, застрелил «старца». Феликса Сумарокова-Эльстона-Юсупова никакое «проклятие» не коснулось: он безбедно прожил в эмиграции до 80 лет.
По его словам, в фамильном дворце Юсуповых в Москве он якобы обнаружил подвал, в котором были прикованные к стенам скелеты. По его версии, это были следы забав его предка Иль-мурзы, состоявшего в Опричнине Ивана Грозного. Но дворец Юсуповых был построен уже в XVII веке.
Проклятие на пользу
Само проклятие состояло в том, что одному из Юсуповых было предречено, что все мужчины в роду, кроме единственного наследника, будут умирать не старше 26 лет.
Это проклятие обрушилось на Юсуповых вот за что. При Царе Фёдоре I Ивановиче Иль-мурзе, сыну Юсуф-мурзы, был пожалован городок Романов-Борисоглебский на Волге с окрестными деревнями. Иль-мурзе (и его потомству) было дозволено оставаться в магометанской вере, потому что Юсуф-мурзе некая ногайская старуха предрекла такое проклятие, если он или кто-то из его потомков изменит исламу и примет крещение.
Но спустя почти сто лет, в царствование Фёдора II Алексеевича, внук Иль-мурзы Абдул-мурза принимал у себя в имении Патриарха Иоакима. Был постный день, и на стол была подана рыба. Патриарх похвалил кушание, а Абдул-мурза возьми да и брякни: мой повар такой искусный, что смог приготовить гуся так, что его не отличить от рыбы. Разгневался Патриарх, нажаловался Государю.
Абдул-мурза испугался и стал думать, как ему отвратить гнев Государя. Ничего другого не надумал, кроме как стать православным. Забыл он про предостережение. За это Царь не стал отбирать у Дмитрия, как теперь звался Абдул-мурза, его владений. Но с тех пор у Юсуповых почти двести лет всегда оставался только один взрослый сын, который и наследовал все их владения.
Но можно ли назвать это тяжким проклятием? Ведь благодаря ему, владения Юсуповых не дробились, оставались в целости, и богатство рода приумножалось из поколения в поколение.
Фотоматериал использован из свободного доступа Яндекс
|
Метки: юсуповы |
Судьба приёмного сына Николая II |
29 декабря 2018
Судьба приёмного сына Николая II
Аромат Cuir de Russie от Channel относится к категории кожаных. Содержащий в себе ладан, можжевельник, он призывает услышать запах табака, запах кожи сапог и берёз.
Габриель Бонёр (Коко) Шанель
Коко Шанель сложила этот аромат в 1927 году в память об отношениях с Дмитрием Романовым, двоюродным братом Николая II.
Дмитрий был одним из немногих мужчин Романовых, кому удалось избежать смерти от рук новой российской власти. Его отец Павел, сын Александра II, был расстрелян в Петропавловской крепости. Сводный по отцу брат, 21-летний Владимир Палей, а также приемная мать Елизавета были убиты в числе других родственников под Алапаевском. Спасло Дмитрия, как ни странно, участие в убийстве Распутина.
Тело Григория Распутина, извлечённое из воды
За это предприятие он поначалу был помещен под арест в Петербурге, но общественная поддержка деятелей убийства одиозного друга царской семьи побудила Николая II выслать Дмитрия не только из столицы, но и направить на службу в Персию.
Если главной задачей Феликса Юсупова в убийстве Распутина было в первую очередь желание закрепить за собой образ героя-освободителя в народном сознании и войти с этим в историю, то Дмитрия Павловича сподвигли на участие совершенно иные мотивы.
Он был потомком Николая I, по отцовской линии (прямой потомок по мужской линии) и по материнской (внучка Константина Николаевича). Его мать умерла вскоре после родов, отец передал заботу о маленьком Диме и его сестре Марии семье своего брата. Дети жили 9 лет у Сергея Александровича до 1905 года, когда его, московского градоначальника у Никольской башни Кремля подорвал брошенной бомбой эсер Каляев. Революционер должен был совершить преступление на день раньше, но увидев в карете малолетних Дмитрия и Марию - он не решился на совершение. Супругой Сергея была Елизавета Федоровна, сестра императрицы.
Елизавета Фёдоровна с Марией и Дмитрием
После смерти мужа она ушла жить религиозной жизнью и детей на воспитание взял Николай II. Царя с супругой дети называли папой и мамой и стали полноправными членами семьи. Мария, как русская принцесса была выдана замуж за шведского принца. Но если этот брак был исключительно политическим и ни о какой любви молодых не шло речи, то у Дмитрия всё складывалось иначе.
Известный литератор императорский семьи Константин Романов (известный под псевдонимом К.Р.) рассказывал, что Николай назвал первых двух дочерей Ольгой и Татьяной по именам девушек-сестер из «Евгения Онегина». Но в отличии от литературных персонажей в царской семье старшей была Ольга. Именно у неё складывались отношения с Дмитрием Романовым.
Ольга была волевой, хорошо начитанной, рассудительной, играла на рояле, хорошо пела и по описанию фрейлины Вырубовой имела «чудные белокурые волосы, большие голубые глаза и дивный цвет лица, немного вздёрнутый нос».
Дмитрий был молодым офицером, его амбиции побуждали проситься воевать в Ливию на Итало-Турецкую войну. Не смотря на здоровье, с детства не вполне крепкое, активно занимался спортом, готовил олимпийскую сборную России на Играх 1912 года, более того сам принимал в них участие в качестве атлета.
У молодых были искренняя влюбленность. Более того, этот брак сулил Дмитрию большие перспективы. Наследник Алексей был очень болезненным, а Ольга даже рассматривалась Николаем для передачи ей власти, в частности во время его болезни тифом. Учитывая эти моменты, а также сугубую монаршую потомственность самого Дмитрия - будущее могло оказаться очень интересным.
Дата помолвки назначена была 6 июня 1912 года. Но вмешался Григорий Распутин. Его речи возымели силу в сердце императрицы, и она расстроила планы. Николай не смог или не захотел смочь изменить это.
Дмитрий посвятил себя военной службе и даже отличился во время Первой Мировой и награжден орденом за результативные разведывательные действия. В другие серьезные отношения он тогда не вступал. Не стоит удивляться, что планы Феликса Юсупова по устранению разрушившего планы молодого князя Григория Распутина нашли понимание и готовность к сообществу.
Вероятно, имела место и обида на императора и его супругу. Уже будучи в Персии и узнав о Февральской революции, Дмитрий открыто высказал поддержку произошедшему и направил Львову письмо:
«Заявляю свою полную готовность поддерживать Временное правительство. Ввиду появившихся в газетах сообщений о принятом будто бы Временным правительством по отношению ко мне решения касательно моего возвращения в Россию, и не имея лично никаких данных, подтверждающих или отвергающих это, очень прошу, если найдется возможность, не отказать сообщить, совпадают ли эти сообщения с действительным решением Временного правительства».
Безусловно, ему повезло, что он не вернулся в Россию. Октябрьскую революцию он уже, конечно, не приветствовал, и после неё, став британским подданным, отправился в эмиграцию. Жил в Лондоне, Париже, где и был возлюбленным Шанель в течение года. В Штатах он познакомился с Одри Эмери, на которой и женился в 1926-м году. Они прожили совсем недолго, официально развелись в 1937-м.
В отличии от Юсупова Дмитрий не любил вспоминать и говорить об убийстве Распутина, но тень этого действия преследовало его и за границей. Вначале через ажиотаж, вызванный публикацией Феликсом своих мемуаров, а затем дочь Григория пыталась взыскать с них через суд крупную сумму.
Дмитрий некоторое время использовался в качестве символа монархическими движениями, но позже совсем отошел от дел. Последние годы жизни он жил в Швейцарии в уединении без действия и цели. В 49 лет туберкулёз его окончательно погубил.
Во время недолгого брака с Одри у Дмитрия родился сын Павел, чьи дети Дмитрий и Михаил живы и сегодня. Ни у одного из них нет сыновей, а следовательно, после их смерти мужская ветвь рода Романовых уже окончательно пресечётся.
*** Советуем также почитать наш материал о Григорие Распутине.
Подписывайтесь на "11 экю". Впереди всё самое интересное!
Спасибо автору! И всем кому интересно, очень рекомендую мемуары Великой Княжны Марии Павловны. Дмитрий Павлович не считался приемным сыном императора. У Дмитрия Павловича был живой отец, с которым никто не препятствовал общаться.
Николай Ланин
Не понравилось одно - слова о пресечение ветви семьи Романовых. Последним представителем семьи Романовых была Елизавета Петровна. Все последующие императоры по мужской линии, да и по женской (исключений - жена Александра III) исключительно представители немецких династий.
Валерий Савельев
Григорий Ефимович был прав расстроив брак Дмитрия и Ольги Романовых любой врач выскажется в правоте Распутина
https://zen.yandex.ru/media/11ecu/sudba-priemnogo-...bc94a0961500ac2236ed?from=feed
|
Метки: романовы |
Пиленко, Кузьмина-Караваева, Скобцова, монахиня Мария - четыре имени на одну трагическую судьбу. |
Пиленко, Кузьмина-Караваева, Скобцова, монахиня Мария - четыре имени на одну трагическую судьбу.
Елизавета Пиленко, 11 лет
20 декабря 1891 года в Риге родилась Елизавета Юрьевна Пиленко. Отец девочки, Юрий Дмитриевич Пиленко был юристом. Мать, София Борисовна Пиленко - домохозяйкой. Проживало семейство на улице Элизабетес в доме №21. Здание сохранилось по сей день.
Мемориальная доска. На доме, где родилась Елизавета Пиленко. Рига, улица Элизабетес, 21
В 1895 году Юрий Дмитриевич уходит в отставку и вместе с семьей перебирается в Анапу. Всего в шести верстах от города находилось имение Джемете, доставшееся Юрию в наследство от отца - отставного генерала и винодела.
Господин Пиленко, как и его отец, не был лишен таланта в винодельческом искусстве. За наследственные успехи, в мае 1905 года он получил должность директора Императорского Никитского ботанического сада и училища садоводства и виноделия. В связи с назначением, семья Пиленко переезжает в Ялту.
Елизавета показывала отличные результаты в учебе. Она окончила четвертый класс ялтинской женской гимназии с наградой второй степени.
Елизавета Пиленко со своим братом Дмитрием. Костюмированный праздник, 1899 г.
Через год, весной 1906 года Юрия Дмитриевича переводят в Петербург. Поступить на новое место службы ему так и не удалось. Отец Елизаветы скончался 17 июля в Анапе.
Смерть отца оставила тяжелую печать на четырнадцатилетней девочке, которой уже довелось стать свидетельницей исторических волнений Первой революции и Русско-японской войны. Елизавета не могла разобраться в себе: верит ли она в Бога и существует ли он. Трагические события отталкивают Лизу от православной веры:
«Эта смерть никому не нужна. Она несправедлива. Значит, нет справедливости. А если нет справедливости, то нет и справедливого Бога. Если же нет справедливого Бога, то значит, и вообще Бога нет».
Никаких сомнений, никаких доводов против такого вывода нет. Бедный мир, в котором Бога нет, в котором царствует смерть, бедные люди, бедная я, вдруг ставшая взрослой, потому что узнала тайну взрослых, что Бога нет и, что в мире есть горе, зло и несправедливость. ТАК КОНЧИЛОСЬ ДЕТСТВО! "
Юрий Дмитриевич Пиленко.
В августе этого же года София Борисовна Пиленко вместе с детьми (Елизаветой и ее младшим братом Дмитрием) переезжает в Петербург. Девочке, с детства привыкшей к солнцу, морю и югу, непривычно было оказаться в дождливом и туманном городе. По воспоминаниям Елизаветы, Петербург окутывал рыжий туман и даже снег был рыжим.
"Утром начинаем учиться при электрическом свете, и на последних уроках тоже лампы горят.
Никогда, никогда нет солнца."
Лиза провела два года в частной гимназии Л.С. Таганцевой, затем перевелась в гимназию М.Н. Стоюниной. Последнее учебное заведение Елизавета Пиленко окончила с серебряной медалью в 1909 году. Продолжила получать образование девушка на Бестужевских курсах.
Софья Борисовна Пиленко. 1950-е.
Лизу поглощает политика, она мечтает пообщаться с революционерами. Ее душе хотелось подвига, сделать что-то "имеющее смысл", способное перечеркнуть промозглую действительность.
В феврале 1908 году Елизавета познакомилась с Александром Блоком, который займет важное место в ее жизни.
Пытаясь вывести из девушки "декадентский дух", двоюродная сестра Елизаветы отвела ее на литературный вечер в Измайловские роты. Среди выступающих был Городецкий, Виктор Цензор и Александр Блок.
Тёмно-медные волосы, лицо не современное, а будто со средневекового надгробного памятника, из камня высеченное, красивое и неподвижное.
Читает стихи, очевидно новые,.. «по вечерам, над ресторанами», «Незнакомка»… и ещё читает.
Александр Александрович Блок
Грустные стихи Блока, находят отклик в душе Лизы. Ей кажется, что поэту известна ее тайна, он чувствует все ее переживания.
Знакомые достают Лизе книгу со стихами Александра Александровича. Она поглощает все его произведения, пронзительные и непонятные - они отражают состояние Елизаветы. Она признает себя декаденткой, читает Блока и пишет сама.
Узнав адрес Александра, Лиза пытается встретиться с поэтом. Со второго раза ей это удается. Она поведала ему о своих метаниях, выворачивая свою душу, попросила помочь. Александр Александрович очень чутко отнесся к юной Лизе, без налета снисходительности перед еще неоперившимся созданием.
За долгим разговором в кромешной тишине Елизавета сознает, что ее злоключения меркнут перед мучениями этого "БОЛЬШОГО ЧЕЛОВЕКА". Начиная утешать Александра Александровича, Елизавета утешается сама.
Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева, 1914 г.
Продолжительная встреча закончилась, однако, Лизе совсем не хотелось покидать поэта, уходить с Галерной. Ей казалось, что там осталась часть ее души. Лизу грело сознание, что "в мире есть такая большая тоска, большая жизнь, большое внимание, большая, обнажённая, зрячая душа".
Через неделю после откровенного разговора, Елизавета получает письмо в ярко-синем конверте. Александр Блок в письме пишет стихи для Лизы и призывал ее: «Если не поздно, то бегите от нас умирающих». Поэт призывал ее попробовать найти выход, возможно через единение с народом. Она в возмущении порвала письмо, с горечью сознавая, что забыть его не в силах. На тот момент Блок был женат и ему было 27 лет, Елизавете - 16.
Когда вы стоите на моём пути,
Такая живая, такая красивая,
Но такая измученная,
Говорите все о печальном,
Думаете о смерти,
Никого не любите
И презираете свою красоту -
Что же? Разве я обижу вас?
О, нет! Ведь я не насильник,
Не обманщик и не гордец,
Хотя много знаю,
Слишком много думаю с детства
И слишком занят собой.
Ведь я - сочинитель,
Человек, называющий все по имени,
Отнимающий аромат у живого цветка.
Сколько ни говорите о печальном,
Сколько ни размышляйте о концах и началах,
Все же, я смею думать,
Что вам только пятнадцать лет.
И потому я хотел бы,
Чтобы вы влюбились в простого человека,
Который любит землю и небо
Больше, чем рифмованные и нерифмованные речи о земле и о небе.
Право, я буду рад за вас,
Так как - только влюбленный
Имеет право на звание человека.
Дмитрий Владимирович Кузьмин-Караваев
19 февраля 1910 году Елизавета обвенчалась с помощником присяжного поверенного Дмитрием Кузьминым-Караваевым. Новоиспеченный супруг был бывшим большевиком и имел неплохие связи в литературных кругах. С мужем Елизавета посещала собрания "на башне" Вячеслава Иванова, заседания "Цеха поэтов", собрания религиозно-философского характера. Елизавета Кузьмина-Караваева общалась с Анной Андреевной Ахматовой, Михаилом Леонидовичем Лозинским, Николаем Степановичем Гумилёвым и Осипом Эмильевичем Мандельштамом.
Ритм жизни четы Кузьминых-Караваевых отвечает требованиям петербургского бомонда: подъем в три часа, отбой на рассвете.
Сборища литературных кружков, казались Елизавете единственным зерном культурного наследия, среди по большей части необразованного населения России. Вся страна гудела в преддверии революции, только интеллигенция перемывала и оценивала исторические события, а где-то умирали с веревкой на шее.
МЫ не жили, МЫ созерцали всё самое утончённое, что было в жизни, МЫ не боялись никаких слов, МЫ были в области духа циничны и нецеломудренны, а в жизни вялы и бездейственны.
Второе знакомство с Блоком состоялось 14 декабря 1910 года, на собрании, посвящённом десятилетию со дня смерти Владимира Соловьёва.
Любовь Дмитриевна Блок
Муж Елизаветы предложил познакомить супругу с Блоками, она отказывалась. Тогда Дмитрий Кузьмин-Караваев подводит чету Блоков к Лизе. Александр Александрович сразу же узнает девушку и интересуется, "бродит" ли она до сих пор и удалось ли ей "справиться" с Петербургом.
Любовь Дмитриевна Блок пригласила Кузьминых-Караваевых в гости. На следующий день, собравшись вместе, они общались как простые знакомые. После они встречались неоднократно, всегда на людях.
Весной 1912 года Лиза прекратила посещать Бестыжевские курсы, так и не получив диплома. В это же время Кузьмина-Караваева выносит на читательский суд свой первый поэтический сборник "Скифские черепки". Критики благожелательно встретили творчество юной поэтессы.
Привыкшую к ласковому солнышку, Елизавету больше не радует круг именитых друзей. Во время одной из встреч с Блоком, она поведала ему, что хочет уехать:" Тут умирать надо, а я ещё бороться хочу и буду." Александр Александрович серьезно ей ответил, что надо спешить, потом будет поздно.
Мария Скобцова (Кузьмина-Караваева)
Она отправляется на немецкую землю в Бад-Наухайм, позднее переберется в Крым. Здесь поэтесса тесно общалась с Аристархом Лентуловым, Максимилианом Волошиным и Алексеем Толстым.
В 1913 году Елизавета расстается с мужем, официально супруги разведутся только в 1916 году. Осенью ей по семейным обстоятельствам пришлось вернуться в Петербург. Новые литературные встречи, обсуждения, тревога за угасающего Блока. После одной из таких дискуссий Лиза получает еще одно письмо в ярко-синем конверте.
"Думайте сейчас обо мне, как и я о Вас думаю..."
Короткая пронзительная записка останется без ответа, ведь Александр Блок и так знал, чтобы ответила Лиза. Александр Александрович, несмотря на невозможность их союза, навсегда останется в ее сердце.
Лиза переезжает из Петербурга в Анапу. 18 октября 1913 года у Елизаветы родилась дочь, которой мать дала имя Гаяна. Личность отца девочки не сохранилась в истории, Лиза нигде не упоминала о нем.
Мария Скобцова
Весна 1914 года, общество дождалось перемен, брат Елизаветы стал добровольцем, двоюродные сестры стали сестрами милосердия. Лиза отправляется в Петербург, опасаясь оставлять мать одну. Во время поездки, по признанию Лизы, она давала себе установку избегать Блока. Однако, в этот же день в три часа дня она уже стучалась в его двери.
Разговор. Тишина. Походы домой и обратно. Дни напролет. Кажется, что это единый разговор, который ненадолго прерывается. Две экзальтированные личности искали покой в неспешных разговорах.
В 1914 году Лиза отправила рукопись нового сборника стихов "Дорога" Блоку. Александр Александрович вернул книгу со своими замечаниями, но сборник так и не был опубликован.
За этот день, за каждый день отвечу, –
За каждую негаданную встречу, –
За мысль и необдуманную речь,
За то, что душу засоряю пылью
И что никак я не расправлю крылья,
Не выпрямлю усталых этих плеч.
Однажды Елизавета опоздала к встрече и Александр Александрович ушел бродить, оставив записку с просьбой пока прекратить беседы. Лиза отказалась мириться с этим, решив дождаться своего кумира. Снова личный разговор и просьба великого поэта:
"Я хотел бы знать, что Вы часто, часто, почти каждый день проходите внизу под моими окнами. Только знать, что кто-то меня караулит, ограждает. Как пройдёте, так взгляните наверх. Это всё."
Такова была последняя встреча Блока с Елизаветой. Потом будет еще одно письмо в 1916 году, уже с фронта. Она не может не переживать за Александра Александровича, чувствуя, что вместе с Россией гибнет и Блок.
Кузьмина-Караваева совсем потерялась в поисках себя, находилась на перепутье. Елизавета обратилась к религии, пытаясь найти цель в жизни и свое я в окружающем мире. Творчество поэтессы тоже претерпевает изменения, вслед за автором. В 1915 году Лиза выпускает повесть "Юрали", философская история, исполненная в стилистики Евангелия. На следующий год она публикует поэтический альманах "Руфь", сюда вошли некоторые стихотворения из сборника "Дороги".
Кузьмина-Караваева встретила февральскую революцию с радостью, даже вступила в ряды партии эсеров. В феврале 1918 года Елизавету выбрали главой городского самоуправления в Анапе.
После того как большевики укрепили власть в городе, Лиза заняла должность комиссара по здравоохранению и народному образованию. Она не была приверженицей большевистской идеологии, но боялась за гражданское население.
В мае 1918 году Елизавета приняла участие в московском съезде партии правых эсеров, скрытно занимаясь антибольшевистской пропагандой. Осенью того же года по возвращении в Анапу, Лиза была арестована деникинской контрразведкой. Ей грозила смертная казнь за "комиссарство".
15 марта 1919 года Елизавету судили, лишь великолепная защита обвиняемой помогла ей избежать жестокого наказания. Кузьминой-Караваевой присудили две недели ареста.
Мария Скобцова с детьми
Летом 1919 года Елизавета выходит замуж за Д.Е. Скобцова. Новоиспеченный муж был кубанским казачьим деятелем, непродолжительное время занимал должность председателя Кубанской Краевой Рады.
Весной 1920 года было разгромлено Белое движение на Кубани. Елизавета с матерью и дочкой Гаяной бежали в Грузию. На побережье Черного моря Скобцова родила сына Юрия. На грузинской земле Лиза не задержалась и переехала в Константинополь, после недолго жила в Сербии, где 4 декабря 1922 года у нее родилась дочь Анастасия.
В январе 1924 года Скобцова переезжает в Париж. В последующие два года из под пера Елизаветы выходят повести "Равнина русская" и "Клим Семенович Барынькин", которые публиковались в эмигрантских газетах. Ее произведения описывали тяжелые реалии Гражданской войны. Скобцова издала автобиографические произведения "Как я была городским головой", "Друг моего детства", "Последние римляне".
Мария Скобцова с детьми
Находясь заграницей, Скобцова получила признание как поэтесса в России. Там ей приходилось выполнять подсобную работу, чтобы прокормить себя и детей.
7 марта 1926 года скончалась от менингита младшая дочь Елизаветы Анастасия. Трагедия подкосила Скобцову, в семейной жизни также настало отчуждение. Утешение она нашла в вере, посвятив жизнь служению Господу и помощи людям.
С 1927 года является одним из главных активистов Русского студенческого христианского движения. В должности разъездного секретаря объездила всю Францию, навещая русских эмигрантов. Писать Скобцова не бросила, однако издавала она теперь очерки и доклады о нелегкой жизни эмигрантов. Заочно окончила Свято-Сергиевский православный богословский институт в Париже.
Прощайте берега. Нагружен мой корабль
Плодами грешными оставленной земли.
... Путь корабля таков: от берега, где страсти,
В бесстрастные Господни небеса.
Монахиня Мария (Скобцова)
16 марта 1932 года в церкви Свято-Сергиевского православного богословского института Елизавета Скобцова приняла монашеский постриг, получив имя Мария. Она начала служение посвятив себя благотворительности и проповедованию.
Мария создала в Париже общежитие для одиноких женщин, убежище для больных туберкулезом в Нуази-ле-Гран. Основную работу она выполняла сама: закупала продукты на рынке, прибирала, готовила, расписывала домовые церкви и вышивала для них плащаницы. Рядом с общежитием была организована церковь Покрова Пресвятой Богородицы и проводилось обучение псаломщиков, позднее появились миссионерские курсы.
Монахиня Мария (Скобцова)
Под руководством монахини Марии была создана православно-благотворительная организация "Православное дело". В ряды этого общества входили Константин Васильевич Мочульский, Сергей Николаевич Булгаков, Георгий Петрович Федотов, Николай Александрович Бердяев.
Современники вспоминают монахиню Марию, как бесстрашную и энергичную женщину, до сих пор не укладывается в голове как не имея ни гроша за душой, она умудрялась содержать такие затратные учреждения.
Старшая дочь Марии Гаяна летом 1935 года вернулась в СССР и уже 30 июля 1936 года скончалась в Москве. Поразительно, но это был единственный случай в Москве летального тифа в 1936 году.
Гаяна Кузьмина-Караваева
Монахиня Мария продолжала печататься, в основном ее статьи поднимали богословские и социальные вопросы. На 15 годовщину смерти Александра Александровича Блока она издает в "Современных записках" очерк-воспоминание "Встречи с Блоком". Поэзию Мария тоже не забросила, в 1937 году был опубликован ее сборник "Стихи". Из-под ее руки выходят поэтические пьесы-мистерии "Анна", "Семь чаш", "Солдаты".
1940 год. Вторая мировая война шагает по Европе и 14 июня немцы входят в Париж. Пережившая революцию на родине, монахиня Мария вливается в ряды Сопротивления. Один из его штабов находился в общежитии, организованном Марией.
Монахиня Мария (Скобцова)
В июне 1942 года нацисты начали массово отправлять евреев в Освенцим. Мария отважно пыталась помочь угнетенным, нескольких детей ей удалось перевезти, спрятав в мусорных контейнерах. В домах Лурмель и Нуази-ле-Гран были организованы убежища для евреев. Монахиня Мария вместе с отцом Дмитрием Клепинином выписывали поддельные свидетельства о крещении.
Дмитрий Андреевич Клепинин
миграцию монахиня Мария считала своей главной ошибкой. Но вернуться на Родину было не так-то просто.
8 февраля 1943 года был арестован сын Марии Юрий, после обысков в доме "Православное дело". Пытаясь спасти сына, монахиня отправляется в гестапо на следующий день. Ее арестовывают. Марию отправили в тюрьму форта Роменвиль, позднее в концлагерь Равенсбрюк.
Пустынен мёртвый небосвод,
И мёртвая земля пустынна.
И вечно Матерь отдаёт
На вечную Голгофу Сына.
Через год, 6 февраля 1944 года умер Юрий Скобцов в концларе Бузенвальда. Монахиня Мария погибла в газовой камере 31 марта 1945 года, не дождавшись всего одну неделю до освобождения Красной армией.
Существуют множество легенд, связанных с гибелью Марии. По одной из версий, она не была отобрана в тот день в газовую камеру, но, стараясь поддержать одну из напуганных женщин, отправилась на смерть вместе с ней. По другой версии, она поменялась с женщиной местами. Где правда выяснить уже невозможно.
6 января 2004 года решением Священного Синода Константинопольским Патриархатом монахиня Мария была канонизирована. Одновременно с ней были канонизированы ее сын Юрий Скобцов, Илья Фондаминский и Дмитрий Кпепинин.
Парижский архиепископ кардинал Жан-Мари Люстиже в праздничной речи обещал, что Католическая Церковь будет почитать этих великомучеников как святых и покровителей Франции.
И забыла я, — есть ли средь множества
То, что всем именуется — я.
Только крылья, любовь и убожество,
И биение всебытия.
Мария Скобцова с детьми
Смотрите также публикации по теме
Понравилось?
Комментарии9
Александр Ивашутин
Да там прямо захотел с кем то местом поменяться, и нате вам,пожалуйста.
А что значит "...весной 1914 года общество дождалось перемен". Это они войны ждали,что бы пойти санитарками работать.
Вообще текстик долбоебский.Упоминание всех по...
Лидия Бей
А сколько она детей-то спасла и где это документально зафиксировано? И потом детей и взрослых спасала не одна она, а канонизировали только ее? Фактов для святости маловато будет. А откуда в 1910 году большевики-то взялись? Фантазерка вы однако... И возбуждаться так не надо, а то вас раньше времени канонизируют. ИЛИ НАОБОРОТ - НЕ КАНОНИЗИРУЮТ...
Лидия Бей
В феврале 1910 года она обвенчалась с Кузьминым - Караваевым, бывшим большевиком... Это как?! Потом канонизируют через 100 лет после смерти, в данном случае прошло около 60 лет. Извините, я так и не поняла, а за что ее канонизировали: за то, что к Блоку лезла, или за то, что 3 раза замужем была, или за то, что фашисты сожгли. Но тогда надо канонизировать всех погибших или сожженных. Плешь какая-то...
https://zen.yandex.ru/media/id/5b6d9096955bc500a8b98aae/pilenko-kuzmin
|
Метки: толстые |
Папа Крупской |
Папа Крупской
На жизнь Владимира Ленина и его выбранный жизненный путь оказала судьба его старшего брата Александра. Даже не столько его дела - тот был всё же не революционером, а банальным террористом. Володю Ульянова тогда шокировала сама казнь близкого человека, слёзы матери и переживания родных. Такое оставляет след и корректирует мировоззрение сильнее чем любое прочитанное учение.
Схожая ситуация была у Надежды Крупской. Когда ей было 13 лет - умирает её отец - Константин Игнатьевич. Хоть и умер он всего в 44 года, его жизнь была знаковой.
Константин Крупский
Его семья была небогатой, да и родители рано умерли. Поэтому мальчику из Волынской губернии, пусть и дворянину, приходилось пробивать путь без влиятельных родственников. Понятно, что единственным путем для развития в таком случае может быть военная карьера, так как обучение в кадетском корпусе для него было бесплатным. После окончания училища Крупский отправлен служить в Польшу.
Но здесь он проявляется достаточно интересно. Несмотря на то, что образование он получал всё же в Новгороде и Петербурге и находился на российской военной службе, Константин начинает сочувствовать польским движениям за независимость. Это проявилось уже в Январском восстании 1863-1864 годов. По мере сил и возможностей Крупский оказывал содействие восставшим, помогал избегать наказания со стороны российской власти. Иногда говорят, что эти действия вызваны произволом российских наместников в Польше, но об истинных причинах, двигавших Крупского, конечно, не может быть известно.
Но при этом, его антироссийская деятельность не препятствует пока его развитию. Константин благополучно женится, заканчивает юридическую академию, становится поручиком. Но это ему не приносит материального достатка. Жена вынуждена трудится гувернанткой.
Только в 1869 году Крупский попал в опалу. Мало того, что был отправлен в отставку, так и ему запретили занимать должности на государственной службе.
Интересно, что несмотря на свою прежнюю антироссийскую деятельность в Польше - Крупский живет теперь в Петербурге и активно борется за оправдание. Он дошел до рассмотрения своего вопроса в Сенате, где был оправдан, но вскоре умер.
Надя Крупская
Константин умер за 2 дня до дня рождения дочери. Наде тогда исполнялось 14. Она родилась как раз в тот год, когда Крупский был отправлен в отставку. Получается, что всё своё детство она видела лишь то как отец, угасая от чахотки, борется за своё оправдание. Вряд ли для девочки было важно, за что он был наказан - это был её папа. Да и вряд ли дома Крупский раскаивался в своих поступках, всё более становясь для родных борцом за справедливость.
Надежда была сильной. Смерть отца не только не сломило её, но и вкупе с тяжелой жизнью матери, придало сил и смысла будущим делам. Через 4 года Крупская оканчивает гимназию с золотой медалью, а в 1890 году становится подпольной революционеркой. До встречи с ещё одним золотым медалистом, который тоже потерял родственника в политическом котле заканчивающегося 19 века остается совсем недолго.
В этом году Крупской исполняется 150 лет. Юбилей человека, который с детства верил в свои дела, в то что созидает великое будещее, но оказался никому не нужным ещё при своей жизни.
*
|
Метки: крупские |
Воспоминания Киры Владимировны Цеханской старшей |

Воспоминания Киры Владимировны Цеханской старшей
Кира Владимировна прожила долгую-предолгую жизнь, несмотря на все лишения и душевные потрясения. Читаешь ее воспоминания и не веришь, что все перипетия ее жизни реальны и что все они выпали только ей одной, что это не вымышленный сценарий, в котором собирательно сконцентрированы эпизоды из жизни многих людей…
ВОСПОМИНАНИЯ
КИРЫ ВЛАДИМИРОВНЫ ЦЕХАНСКОЙ (СТАРШЕЙ).
10.09.1997г.
Свои воспоминания я хочу начать с краткого изложения своего происхождения.
Я Кира (1917 г.р.) как и мои братья - старший Алексей (1914 - 2001 гг.) и младший Михаил (1918 - 2000 гг.) родились в дворянской семье. Старший брат родился в Царском селе и был наречен Алексеем в честь своего деда со стороны матери – Алексея Андреевича Лосева. Младшему брату по просьбе отца было дано имя Михаил в честь другого дедушки – Михаила Каземировича Местергази, брат родился в Калуге в 1918 году.
Дедушка Михаил Каземирович Местергази (отец моего отца) умер в 1913 году. Он всю жизнь служил в армии и вышел в отставку в чине генерал-майора от артиллерии. Участвовал в Турецкой кампании, кавалер многих орденов и медалей, похоронен в Калуге на Крестовском кладбище. В 30-е годы ХХ века кладбище превратили в строительную площадку, и все могилы были снесены. Кладбище было при мужском монастыре. Я помню, что когда мы ходили на могилы, то часто встречали монахов, которые ухаживали за фруктовым садом, находившимся с другой стороны кладбища.
На этом кладбище кроме дедушки Михаил Каземировича были похоронены его жена Софья Владимировна и их дочери. В период между 1913 и 1917 годами мой отец Владимир Михайлович (старший сын) заказал в Петербурге памятник. Это был камень с человеческий рост из черного гранита. По форме камень в точности напоминал постамент к памятнику Петру 1 в Петербурге, но в уменьшенном масштабе. В камне было сделана ниша, в которой по идее должны были стоять образ и лампада, но пришло другое время. Камень стоял на большой бетонированной плите. Уже позднее после революции, когда из братских корпусов устроили детский сад, к могиле дедушки была проложена ухоженная дорожка, а в нише камня вместо иконы стоял портрет Сталина. Очень долго камень не могли сдвинуть с места, настолько он был тяжел и фундаментально смонтирован.
В 60-е годы камень исчез, а все кладбище застроили жилыми корпусами. В то время о переносе могил не могло быть и речи. Не было ни материальных средств, ни возможности поднять голос в защиту праха «царского» генерала и его семьи.
По документам, хранящимся у Алексея, моего старшего брата, фамилия Местергази впервые упоминается в царствование Николая I. При Александре II мой прадед был произведен в полковники. Род Местергази имеет корни от венгров. До революции Местергази жили в Калуге. Были небогаты. Имели небольшое имение под Калугой «Перцово» и два дома в Калуге: один из них принадлежал отцу моей бабушки Софьи Владимировны – врачу Владимиру Егоровичу Кричевскому*, а другой – моему деду, генералу Михаилу Каземировичу Местергази.
У Михаила Каземировича и Софьи Владимировны было 3 сына – Владимир (мой отец, 1882-1923 гг.), Михаил и Василий (младший сын). Две дочери умерли: Софья в младенческом возрасте, Ольга - в 17 лет от менингита.
______________________________________________
*В.Е.Кричевский был личным врачом сосланного в Калугу имама Шамиля. См. очерк о нем, написанный моей дочерью – К. В. Цеханской (младшей).
Наш дед со стороны мамы Лосев тоже был военным, служил в Кирасирском полку, к которому был приписан государь Александр II. После рождения моей мамы в 1885 году он вышел в отставку в чине полковника и со своей женой Лидией Павловной (урожденной Павлищевой), моей бабушкой, уехал из Царского Села в свое имение в Орловской губернии. Когда маме было 7 лет, ее отец Алексей Андреевич заболел и умер.
В моем метрическом свидетельстве от 1917 года, сохранившемся у меня, сказано, что моими восприемниками (крестными отцом и матерью) были сенатор Александр Александрович Офросимов и жена генерал-майора Софья Владимировна Местергази.
Наша семья, лишившаяся всего во время революции 1917 года (тогда официально это событие называли Октябрьским переворотом), пережила вместе со всем русским народом все ужасы сталинизма и временщиков Советской России.
Раннее детство, юность, да и часть зрелых лет были украдены у нас этим временем. Одному Богу известно, как нашей матери удалось не только сохранить нам, троим ее детям, жизнь, но и воспитать в нас любовь к людям, любовь к труду и своей Родине, и все это в необычайно трудных моральных, физических и материальных условиях. Мать была человеком необыкновенной для нашего времени порядочности, честности и неподкупности.
Она сумела в эти трудные годы остаться самое собой и сохранить свое собственное “Я”. Но об этом позже. Да будет благословенно ее имя!
Я родилась накануне Октябрьской революции (7 сентября, а по старому стилю 25 августа) в Калуге, в доме, принадлежащем моему дедушке и бабушке – Михаилу Каземировичу и Софье Владимировне Местергази, родителям моего отца – Владимира Михайловича Местергази. Дом, который был первым моим земным приютом, находился
на углу Московской и бывшей Дворянской улиц (сейчас ул. Суворова, еще до этого она называлась ул. Глеба Успенского).
Этот дом не сохранился, на его месте после войны был построен кирпичный, 4-этажный, ничем не примечательный дом. В моей памяти сохранился тот старый одноэтажный особняк, во дворе которого помещалась еще одно здание - довольно просторный дом-кухня, где проживали кухарка и кучер. Двор был вымощен булыжниками, в конце двора - конюшня. Калитка и ворота выходили на ул. Московскую. Позднее часть булыжника сняли, и на этом месте мама в 1919 году развела огород, который был для нас большим подспорьем. Так как мы были еще малолетками, то мама завела корову Пригожку, кормившую нас какое-то время. Она была цвета беж, кажется, с подпалинами и очень ласковая.
Но времена менялись быстро. Вскоре, очевидно, в 1919 году, нас из этого дома выселили. Деваться было некуда. К тому времени семья состояла из 5 человек - мама, трое детей, бабушка Софья Владимировна и бывшая гувернантка нашего отца – Юлия Леонтьевна Насс.
Отец в середине 1918 года уехал в Крым, чтобы позднее перевезти всю семью в Ялту, где у нас был дом. Мама в то время ждала рождения младшего брата и не поехала с ним. Это было ее последнее прощание с мужем. Больше отца никто из нас не видел. Он попал в волну ужасного “бега”, позднее описанного в литературе, который захлестнул его и унес заграницу. Очевидцы рассказывали маме, что отца видели входящим по трапу на один из последних пароходов, отходящих в Турцию. На руках он нес больного старика. Вещей при нем не было. Связь была оборвана.
Позднее, в 1923 году, мама получила официальную справку от константинопольского профессора о том, что он оперировал отца по поводу гнойного аппендицита. Отец умер от перитонита - операция была сделана слишком поздно. После операции он прожил еще 6 дней. Отец, очевидно, бедствовал, как и все эмигранты, и его высшее образование, которое он получил в России, окончив факультет восточных языков, оказалось никому не нужным.
Позднее дядя Вася (младший брат отца) поставил на его могиле крест и ограду. Похоронен отец на Греческом кладбище в Ширли под Константинополем. Фотографию могилы он прислал маме, и она хранится у меня вместе со справкой о смерти отца.
Итак, после выселения мы оказались без крова. Что делать? В помещении кухни были свободны две маленькие комнатушки, куда решили поместить больную бабушку Софью Владимировну и тетю (так мы звали Юлию Леонтьевну – добрейшего человека, тесно связанную с нашей семьей). Позднее она многим помогала нам, когда переехала в Москву к племяннице Агнессе Васильевне Рингель на Солянку, где стала преподавать немецкий язык. Умерла тетя у мамы в Калуге в 1943 году. Я привезла ее из Москвы в начале 1941 года.
Мама же и мы трое детей оставались без крова. Но свет не без добрых людей. Через дом от нас (следующий дом принадлежал внукам Л.Н. Толстого) жила семья Новицких – муж Григорий Александрович, его жена Варвара Алексеевна и ее сестра. Детей у них не было. Они и приютили нас. Дом Новицких состоял из нескольких жилых комнат, кухни, маленькой комнатки, где жила кухарка с дочерью Зиной, позднее нашей няней. Маме отдали довольно просторную комнату - очевидно, бывшую гостиную с белым камином и холодной прихожей. Две комнаты в доме занимала чета Новицких. Мне было тогда два с небольшим года, но я хорошо помню свою кроватку. Помню, как по стенке (очевидно, я плохо еще ходила) пробралась в кухню, чтобы узнать, где моя мама, но чьи-то руки подхватили меня, и я со страшным ревом была водворена в свою комнату. Мама в то время работала в Железкоме. Что это значило, я не знаю, но наслуху это название я помню.
Позднее мама стала работать в бухгалтерии какой-то военной организации. Она стала получать пайки: пшено, подсолнечное масло, муку. Это было для нас сытым временем. Но началась безработица, да к тому же мама была падчерицей бывшего калужского губернатора Александра Александровича Офросимова (в Калуге об этом, конечно, все знали), и она попала под сокращение. Бабушка к тому времени умерла, и мы переселились в дом, который раньше принадлежал моему прадеду, отцу бабушки Софьи Владимировны Местергази (в девичестве Кричевской) – Владимиру Егоровичу Кричевскому, калужскому врачу, который создал в Калуге первое терапевтическое общество врачей. После себя он оставил записки, которые в рукописи находятся в семье моего младшего брата Михаила. В машинописном виде – у всех нас троих. Они относятся к концу XIX века. Дом Владимира Егоровича был следующим за угловым домом Местергази по улице Дворянской. Эти дома соседствовали через очень просторные запущенные, старые дворянские сады с вековыми, липовыми аллеями. Помню огромный дуб в несколько детских охватов, тополь - еще более объемистый, запущенный колодец, который был выложен деревянными досками, к тому времени уже почерневшими и кое-где обвалившимися. Дом снесли в 70-е годы ХХ века. Во времена моего детства он выглядел так: по фасаду в середине парадная дверь, по обеим сторонам от двери по 2 окна, наверху светелка с 2-мя окнами. Дом начинался с передней, из нее можно было пройти в 2 комнаты справа и в 2 комнаты слева, далее проходная комната (в мое время там была столовая), затем небольшой коридор, кладовая и подвал, направо – ванна вместе с уборной и, наконец, кухня.
Слева по коридору был выход на открытый балкон c видом на сад. За домом справа на дворе стоял большой сарай с чердаком, на который мы дети забирались и рассматривали с удовольствием всякую рухлядь и книги, которые не могли поместиться в доме и поэтому лежали там в ящиках.
Так как у меня не было сестер, то все свое детство я провела среди мальчиков и их друзей. Мы устроили площадку на дворе, играли в крокет, в лапту, в догонялки.
Сад зарос крапивой, которая вырастала выше человеческого роста. В этих зарослях мы прокладывали, как мы называли, тайные ходы, делали шалаши и играли в разбойников.
Часть сада, непосредственно прилегающая к дому, была более ухоженной. Перед балконом была разбита большая круглая клумба, где мама сажала цветы, здесь же росла большая голубая ель и единственная яблоня – “карабовка” – со сладчайшими яблоками. Этот сорт яблок сейчас нигде не встречается. Мы почему-то втайне от взрослых потихоньку трясли яблоньку и собирали чудесные медовые плоды, которые тут же уплетали за обе щеки. Вторым плодовым деревом была черная рябина с какими-то особыми темно-бордовыми ягодами, тоже очень сладкими.
Слева от дома росла громадная ель и под ней скамейка, куда мама и тетя (фрейлин Юлия, как называли ее отец и дяди) любили ходить по вечерам и, очевидно, наедине обсуждать наболевшее, они это называли “выть на луну”.
Мы заняли 2 комнаты слева и проходную – столовую. Наверху жила тетя, там было 2 маленьких комнатки. Лестница наверх вела из столовой.
Позднее, когда тетя уехала в Москву, там поселились в порядке “уплотнения” какой-то военный с женой из деревни. В один прекрасный день обнаружилось, что она украла часть оставшихся тетиных вещей. Затем это помещение заняли некие Молчановы.
Справа в доме две комнаты занимал мой дядя Миша – средний брат отца, окончивший биологический факультет Московского университета. Жил он с женой Ольгой Алексеевной Феофилактовой, преподавателем истории. Первый раз дядя Миша был женат на художнице – тете Лине (фамилии не помню), которая затем переехала в Москву и жила на Арбате в Плотниковом переулке в подвальном этаже. Как рассказывала тетя, связи с Линой дядя Миша не терял вплоть до войны. Затем дядя Миша уехал в Москву, стал профессором Московского университета, у него в 1925 году родился сын Май. Дядя Миша был идейным коммунистом-ленинцем.
В юношестве, будучи студентом, он нанимался на пароходах кочегаром и ездил на свои средства по всему белу свету - помощь от отца принимать отказывался. Таким образом, он объехал очень много стран и в конце жизни говорил мне, что ему надо было быть географом, а не биологом.
Во время войны он эвакуировался с семьей в Томск, где был назначен ректором Университета. Его сын Май во время Великой Отечественной войны ушел добровольцем в Армию, воевал на передовой, получил тяжелое ранение и контузию в голову, стал пожизненно инвалидом, но все же сумел закончить Московский Энергетический институт по специальности "турбины" и до последнего времени работал на ответственных участках как инженер-турбинист.
После возвращения в Москву Михаил Михайлович написал докторскую диссертацию, но лысенковцы требовали изменить содержание, касающееся наследственности. Так как дядя Миша был человеком честным и принципиальным, он отказался. Это было его убеждением. Диссертация осталась незащищенной, дядя Миша перенес тяжелейший инфаркт и в 1953 году умер.
В свое время революцию он принял с восторгом: ездил на вокзалы, в общежития, в армейские части, читал лекции и разъяснял народу суть происходящего. Когда в 1925 году у него родился сын, он назвал его Маем в честь месяца, который был связан с подъемом рабочего движения.
В доме дедушки Владимира Егоровича мы прожили до конца 20-х годов. В то время я была еще мала и плохо разбиралась в происходящем. Это было время, когда родился НЭП. У мамы появилась возможность менять оставшиеся вещи на продукты. Помню, как на Пасху уникальная, хрустальная ваза эпохи Александра 1 была обменена на окорок. Старьевщик Алим приходил со своим мешком за плечами и за бесценок скупал бронзу. Чудесные старинные бронзовые часы с амуром и боем были обменяны на ржаную муку. Народной артистке Надежде Андреевне Обуховой продали “поповский “ чайный сервиз с кленовыми листьями. Несколько картин импрессионистов мама с трудом за бесценок продала в Москве и привезла для нас конской колбасы и пару краюх черного хлеба. Выменяли на продукты весь уникальный фарфор. К этому времени из Орла приехала бабушка Ольга Павловна Павлищева – родная сестра маминой мамы со своей горничной Анютой. Им деваться тоже было некуда, и мама приютила их у себя, несмотря на то, что у самой было трое детей.
Семья увеличилась сразу на 2 человека - круг сужался. Мама работала тогда в школе, преподавала французский язык, получала по тем временам гроши, а детей надо было кормить и учить. Школы тогда только набирали силу, а нас как “бывших” могли просто не принять. Маму уже в который раз снова сократили. Тогда она поступила в школу на должность нянечки. В ее обязанность входило кипятить воду для школьников и поить их горячим чаем. В это время меня отдали в школу сразу в 3-й или 4-й класс, так как до этого я ходила заниматься вместе со старшим братом Алексеем к Анастасии Трофимовне Флеровой. Эта женщина - в прошлом учительница гимназии - учила нас “задаром”. Во-первых, потому что она была добрым человеком и знала, что маме платить нечем, а во-вторых, потому, что в свое время мой второй дедушка Александр Александрович Офросимов, будучи губернатором, сделал для нее какое-то очень доброе дело, за которое она сочла возможным ответить тоже добром, взяв старшего брата и меня в свои ученики.
В 1927 году маме предъявили какую-то бумагу, по которой нас срочно должны были выселить. На этом, собственно, и кончилось мое неосмысленное детство. Две комнаты и проходная столовая, которые мы занимали в количестве 7 человек, так как седьмой была Зина – наша помощница и няня, приглянулись семье Орефьевых. Они приехали в Калугу из деревни. Их мамаша работала в какой-то общественной организации. По решению “высших” властей Калуги Орефьевы заняли наше помещение. Бабушка умирает, Зина уходит жить к матери. Нас остается 5 человек - мама, трое детей и Анюта (Анна Афанасьевна). Взамен нам дают холодное чердачное помещение в доме бывшего купца Кожина на ул. Огарева. Мимо нас таскался весь 2-ой этаж этого дома - это несколько больших семей. Они ходили через нас вешать в другую часть чердака свое постиранное белье.
Основанием для выселения послужило абсурдное обстоятельство, что якобы мы, семья Местергази, являемся единственными наследниками дома, в котором жили до сих пор. Явное беззаконие. Дом никогда не принадлежал Местергази – ни моему отцу, ни его отцу, т.е. моему дедушке, а нам тем более. Но искать правду было негде, а заступиться за нас никто не мог. Помню сидящую в отчаянии маму, которая обеими руками схватилась за опущенную над столом голову. Что делать, мы уже знали: надо срочно собирать вещи и выезжать – был указан срок. Помню, позднее, после того, как пришлось пережить еще ряд, казалось бы, безысходных ситуаций, мама как-то сказала мне: “Если бы не вера, которая всегда меня поддерживала, я бы едва ли все это вынесла”.
В старом доме, где мы прожили лет 8, все было как-то приспособлено - было трудно, порой голодно и холодно, но это были родные стены, которые помогали нам жить. Здесь все казалось чужим. Нашу бывшую приходскую церковь на ул. Глеба Успенского закрыли. В нее нас мама водила аккуратно каждые субботу и воскресенье, а также по большим праздникам и накануне их. Церковь называлась Козьмы и Дамиана, она была построена по проекту Растрелли, имела корабельный план - колокольня как-то по-особенному устремлялась ввысь. Церковь сохранилась до сих пор, так как ее помещения в те времена заняли под склады. Сейчас, к 2002 году, ее привели в относительный порядок, но только снаружи. Служили там 2 священника: отец Антоний – монах лет 60-ти – и отец Николай – священник без монашеского пострига, в прошлом инженер (ему в то время было лет 40). Отец Николай и его друг во время войны 1914 года поклялись друг другу, что если один из них погибнет, то другой станет священником, и будет молиться за всех усопших и за живых, которые не должны больше никогда поднимать друг на друга руку. Отец Николай остался жив, а друг его погиб. Оба эти священника были большими друзьями нашей семьи. Старший брат Алексей брал уроки закона Божьего у отца Николая. Жили они напротив церкви в домике в три окошка. Отец Антоний обладал необыкновенным даром красноречия, и я помню, как взрослые говорили, что когда он произносил проповеди, то люди порой рыдали. Оба эти священника были арестованы, сосланы в Соловки и там, очевидно, погибли. Помню, как-то мама послала меня к ним по делу что-то передать. Отец Николай позвал меня к себе в комнатку. Там стояла жесткая кровать и аналой перед красным углом с иконами. Он поставил меня перед иконами и с головы до ног перекрестил маленькими крестиками (из пальцев), читая при этом молитву, затем отправил меня домой. В письме из Соловков он писал маме, как они рубят вековой лес топорами, и сколько ударов надо, чтобы свалить такое дерево. Писал о том, что я, наверное, стану опорой в жизни мамы. Не знаю, как позднее оценила это мама, но думаю, что ее независимость, ее приверженность к труду не дали мне возможности стать ее опорой. До самого последнего времени она отказывалась от помощи. Мама была очень религиозным человеком. Это было заложено в ее воспитании, и это горячо поддерживал отчим Александр Александрович Офросимов, которого она звала дядей Сашей, и который тоже был очень религиозен. Мама всю жизнь молилась за Императора Александра II. История эта очень поучительна.
Мой дед Алексей Андреевич Лосев – отец моей мамы Риммы Алексеевны – служил в Кирасирском полку вместе с Императором Александром II. Очевидно, уже в конце его царствования, в 1881 году, дедушка вышел в отставку в чине генерала и был назначен в один из городов Орловской губернии градоначальником. Имение деда Богоявленское тоже было приписано к этой губернии. Предыдущий градоначальник зарекомендовал себя плохо – долги, игра в карты и т.д. Его срочно решили сменить. Когда дедушка стал принимать дела, то в казне оказалась нехватка в 50 тысяч. Дед был очень мягкий, добрый и честный человек. Этим воспользовался бывший глава и убедил деда принять дела так, как будто все в порядке, а он обязуется в самое ближайшее время покрыть свой долг. Но нагрянула ревизия, усомнившаяся в том, что у предыдущего градоначальника все сошлось. Обнаружилась недостача. Преступник тут же скрылся за границу, навсегда забыв о данном обещании.
Дедушка срочно продал одну из принадлежащих ему деревень и покрыл долг. Но акт составлен, деду грозил военно-полевой суд, лишение чинов, а может быть, и дворянства. Положение сложилось отчаянное. И тогда он решается подать прошение на Высочайшее имя, подробно описав все обстоятельства дела. Александр II написал свое решение с просьбой прекратить дело, так как он лично знал офицера Лосева и дал ему очень хорошую характеристику. Дело было прекращено, и, умирая (маме было тогда 7 лет), он завещал ей всю свою жизнь молиться за Императора Александра II, который спас его честь.
Мама родилась в 1885 году в Царском Селе. Когда ей исполнилось 3 года, родители переехали в свое имение Богоявленское, которое славилось своим конным заводом орловских рысаков. У меня сохранилась икона Божьей Матери Казанской, на которой рукой деда сделана надпись: "Нашей дочке Римме благословение на отъезд из Петербургской губернии. Царское Село. Апреля 12 дня 1888 года".
Моя бабушка Лидия Павловна Павлищева, жена А.А.Лосева, мать моей мамы Риммы Алексеевны, принадлежала к старинному дворянскому роду Павлищевых, ее дед Иван Васильевич Павлищев был героем Бородинского сражения 1812 года. Род знатный и богатый – аристократы. Бабушка была очень красива. Павлищевы имели некровное родство с А.С. Пушкиным: сестра Александра Сергеевича - Ольга Сергеевна была замужем за Николаем Ивановичем Павлищевым, а от другого брата Павла пошла наша ветвь.
В свое время бабушке предложили стать фрейлиной при дворе, но родители наотрез отказались. Лидия Павловна с детства любила своего кузина Александра Александровича Офросимова и была им любима. Он был сыном Александра Федоровича Офросимова - генерала, имеющего большие заслуги перед Родиной и награжденного многими орденами, в том числе орденом Андрея Первозванного с голубой лентой. Его сестра Анна Федоровна была замужем за Павлом Ивановичем Павлищевым, от которого и родилась дочь Лидия, моя будущая бабушка.
Родители долго не выдавали ее замуж. Брак с А.А.Офросимовым не мог состояться из-за близкого родства. Кроме того, как высокий чиновник А.А.Офросимов должен был на такой брак просить разрешения Сената, но близкое родство этому мешало. Бабушка вышла замуж за Алексея Андреевича Лосева. Но брак был не по любви, об этом рассказывала мне Анюта (Анна Афанасьевна), близкое доверенное лицо и личная горничная одной из сестер бабушки – Ольги Павловны Павлищевой. С ее слов, мой дедушка Алексей заболел рожистым воспалением и «умер от плохого ухода», когда его дочке Римме было всего 7 лет. Такой слух пополз среди близких слуг, которые очень любили дедушку за его доброту и побаивались надменной бабушки. После смерти Лосева Александр Александрович Офросимов подал прошение в Сенат по поводу женитьбы уже не на Павлищевой, а на вдове генерала Лосева, на что и получил разрешение. Всю свою жизнь он боготворил свою жену и в начале 30-х годов, когда она умерла, А.А. писал своей падчерице Риммочке, моей маме, с которой он был очень дружен, что его потеря безгранична, и что он живет с одной лишь надеждой встретиться со своим ангелом там, на небесах после смерти. Он был очень религиозен.
Александр Александрович Офросимов относился, как я уже писала, к высшему чиновничеству России. Он окончил Царскосельский Лицей, тогда уже переведенный из Царского Села в Петербург, был камергером двора Его Императорского Величества (есть фотография). Из Петербурга он получил назначение в губернаторы г. Калуги. В 1911 г. он становится сенатором и снова переезжает в Петербург.
В лицее его товарищами были будущий первый ректор Московской консерватории Сафронов, поэт Апухтин, Президент Академии Наук Константин Романов. После революции по просьбе Бонч-Бруевича А.А. написал мемуары для Пушкинского дома, которые где-то там и потерялись. Осталась расписка в их получении, которую в 1982 году я отдала краеведу из Калуги Морозовой Генриэтте Михайловне для поисков этих записок. Но Пушкинский дом их так и не нашел, а расписка осталась или у Морозовой, или в архиве Краеведческого Музея.
Одна из историй, связанная с К.Р. (Великим князем Константином Романовым), написана рукой А.А. и хранится у меня – это история о том, как К.Р. поселился с семьей на лето в Пртытках Козельской губернии.
А.А.Офросимов был очень деятельным губернатором. Он старался облегчить жизнь крестьян, много занимался благотворительностью, организовал училище для глухонемых и многое другое, о чем он написал в своей автобиографии.
Революция 17-го года застала его с женой в Петербурге в должности сенатора. Оставив все, они уехали в Житомир к сестре Лидии Павловны - Елизавете Павловне Вишневской, муж которой когда-то был губернатором города. В конце 20-х - начале 30-х годов А.А. арестовали и увезли в Москву. Однако, убедившись в его полной лояльности и учитывая заслуги перед народом, когда он был калужским губернатором, его отпустили. Он возвратился в Житомир. Бабушка в это время заболела туберкулезом кости локтя. Средств к существованию не было. Все вещи остались в Петербурге, ценности сданы в банк и национализированы. На Украине в начале 30-х годов начался голод. Положение отчаянное. При них еще находилась горничная бабушки – Александра Никаноровна Дружинина.
Дед пишет в ЦК партии заявление с просьбой назначить ему хоть какую-то пенсию. Приходит положительный ответ от Енукидзе: назначена персональная пенсия за его общественные заслуги. Но бабушка уже умерла.
В этот период открылись ТОРГСИНы (торговля с иностранцами), которые представляли собой торговые точки во всех крупных городах, в том числе в Житомире и в Калуге. И вот, в Париже у дедушки объявляется племянник, сын одной из его сестер, - инженер Петя Шиловский, который успел до смерти дедушки несколько раз прислать ему через Торгсин доллары. Это немного поддержало его, потому что своих ценностей (серебра и золота), на которые можно было купить продукты и другие товары, у деда не было. Однако здоровье было подорвано, да и лет уже было порядочно. Дедушка написал маме, чтобы она приехала проститься с ним. Это было вначале 30-х гг. Мне было лет 12-13, младшему брату и того меньше. Хотя мы и голодали, и холодали, однако мы все 3-е детей уговорили маму поехать. Вернулась мама с ужасными впечатлениями: дедушка при смерти, в городе голод, люди опухали. Мама привезла с собой хлеба, но пока была там - поняла, что сама же помогает деду его съедать. В Калуге ждали дети, они остались одни с тогда уже ослепшей Анютой. Мама по приезду обратно получила письмо от Саши Дружининой, бывшей горничной бабушки, жившей со стариками в Житомире, о том, что дедушка умер сразу после отъезда мамы. Она осталась одна, без средств к существованию, начинает пухнуть от голода и Христом-Богом просит взять ее в Калугу. Мама согласилась. Итак, семья стала состоять из 6-ти человек – 3-е детей, мама, Анюта и Саша.
Мама была человеком высокой нравственности и, несмотря на полуголодное и холодное существование, много внимания уделяла нашему духовному развитию. Она считала, что должна выступать перед нами в двух лицах: и как мать, и как отец. Помню, вечерами, когда мы еще жили на ул. Глеба Успенского, она, уложив нас спать, каждый раз читала нам на ночь по одной главе из Евангелия и не больше - несмотря на наши просьбы. При этом говорила, чтобы мы вдумались в прочитанное. Этой памятью я обязана маме. Я до сих пор помню Ветхий и Новый Заветы, иногда их перечитываю и не считаю себя «серой» в этой области.
Помню, с каким трудом она заставляла нас в воскресенье утром вставать к началу обедни (в 6 часов утра) и отстаивать всю службу от начала до конца. Трудно было, потому что зимой температура в комнате доходила до – 5оС, и иногда только к утру начинаешь согреваться. Но ее непоколебимость граничила, как тогда мне казалось, с жестокостью. По субботам отменялись всякие мероприятия – баня, гости и уж, конечно, любые увеселительные походы. Мы должны были идти в церковь.
Позднее я осталась очень благодарна ей за это, потому что это воспитало во мне чувство долга, ответственности и другие положительные качества.
Передо мной маленькая, пожелтевшая фотография отца, сделанная перед его отъездом из Калуги.
В саду стоят: папа, мама, около них старший брат Алексей, примерно 4-х лет. Мама держит на руках меня, годовалую. Она в ожидании младшего брата, который родился уже без отца. Уезжая, отец просил: если родится мальчик, то пусть назовут в честь его отца – Михаилом. Мама так и сделала. Это было расставание навечно. Оба грустные. В ночь, после отъезда отца, за ним пришли, сделали тщательный обыск. Конечно, ничего не нашли, потому что кроме происхождения, ничего предосудительного в семье не было. Маму не тронули, видимо, из-за нас - 3-х малолетних детей.
17.02.89.
Моими первыми подругами и друзьями были Настя и Шура Гончаровы (по отчеству Николаевны) – правнучки полотняно-заводских Гончаровых, их род шел от брата Наталии Николаевны Гончаровой (Пушкиной). Жили они на той же улице, что и мы, - в одноэтажном доме, который сначала занимали целиком, а затем после бесконечных уплотнений, остались в одной комнате. Семья была большая. У Елены Александровны Гончаровой (урожденной Потехиной) кроме Шуры и Насти – ее родных детей, были еще сын Борис и дочь Кира от первого брака Николая Дмитриевича Гончарова с его первой женой Храповицкой, которая умерла в молодости. Кира и Боря были старше нас лет на 10-12. Они очень любили свою мачеху и всегда называли ее Лёлей. Семья была музыкальная. Все они учились у известной калужской учительницы музыки Юртаевой Ольги Николаевны. У Бориса был прекрасный тенор, Кира ему аккомпанировала. Позднее, обнаружился неплохой голос и у Насти. Если в нашей семье мама старалась придерживаться старых дворянских традиций, старалась привить нам хорошие манеры, то в семье Гончаровых было дозволено все, поэтому у них мы играли и шалили почти безнаказанно. К дому прилегал большой сад, двор с сараем и погребом – все это было всегда для нас доступно, поэтому я и младший брат Михаил очень любили бывать у Гончаровых и часто ходили к ним. Летом мы строили шалаши, лазили за яблоками к соседям, устраивали в чулане детскую комнату. Помню, как мы где-то достали новые фантики от конфет, и весь чуланчик обклеили «Мишками» и еще какими-то красивыми картинками. Зимой бывший кучер Потехиных, который после коллективизации уехал из деревни и поселился с женой в домике-кухне, делал нам ледяную горку, а из навоза лепил что-то вроде большой лохани, обливал ее на морозе водой - получались прекрасные сани-самокаты, назывались они «гавнюшками». Мы, детвора, с криком и гиком валились в сани и летели с горки, разлетаясь во все стороны.
В начале 30-х годов семья Гончаровых распалась. Сначала арестовали и сослали их дедушку Александра Ивановича Потехина и бабушку Юлию Константиновну. В 1937-38-х годах арестовали и сослали мать – Елену Александровну. Кира вышла замуж за доктора Кипарисова и уехала в г. Перемышль, Борис окончил строительный техникум, женился на Вере Лопатиной и уехал в Москву. Настя вышла замуж тоже в Москву за Воеводина, Шура уехала учиться в Москву. Через 50 лет мы встретились в Москве - все уже в преклонных летах.
Калуга 20-х и 30-х годов была местом ссылки дворян, которые, в общем, перед Советской властью ничем не провинились, кроме своего происхождения. Многие из них были вполне лояльны и даже поддерживали новую власть. В большинстве своем это было родовое дворянство с образованием, которое в то время могло принести большую пользу. Все эти люди, как бабочки на свет, слетались к нам в дом. Мама, как дочь (падчерица) бывшего губернатора Калуги, была на виду у всех; и эти несчастные люди - разоренные, униженные, выброшенные революцией из своих насиженных гнезд, искали у нее тепла и участия. Принимать их было в то время крайне рискованно, и многие оставляли свою дверь для них закрытой. Мать этого никогда не делала, и двери нашего дома, несмотря на страх и бедность, всегда были открыты. Разговоры велись чаще по-французски.
Помню такие имена: Полтев – это старик лет 70-ти, бывший столичный сановник, сосланный в Калугу. У нас он появлялся всегда безукоризненно одетым, с цилиндром. В передней он доставал из кармана 2 бриллиантовых перстня и надевал их. Уходя – опять снимал. И вдруг он исчез. Я помню, как взрослые говорили, что, будто он получил повестку о явке в ГПУ (Главное политическое управление, позднее НКВД, теперь КГБ – организация, которая жестоко расправлялась с «бывшими»). Полтев на вызов не пошел, его нашли повесившимся в своей комнате. На столе, в качестве последней записки, лежала повестка из ГПУ.
Совсем еще молодой (лет 38-40) бывший гвардейский офицер Николай Петрович Штер (Николай Петрович «маленький»). Красавец, всегда подтянутый, с армейской выправкой, высокого роста, безукоризненно причесанный - он ходил по улице в своей бывшей армейской форме без погон, и как-то по-особенному держал свою фуражку, прижав ее к левому боку согнутой рукой. Позднее до нас дошли слухи, что его расстреляли.
Был еще Николай Петрович Коновалов (мы звали его Николай Петрович «большой»), так как он был старше «маленького». Это был человек лет 65-70, высокий, плотный с лысой головой – бывший царский чиновник, также высланный в Калугу.
Среди этих людей была праправнучка Радищева, дама лет 50-ти, она ходила всегда в черном, по крайней мере, я ее так запомнила. Она не без юмора рассказывала о том, как следователь, который вел ее дело, укорял ее за то, что как же это она, внучка Радищева, вдруг попала под следствие? На что она отвечала, что, видно, весь род Радищевых всегда был и будет не в ладах с сильными мира сего.
Князь Ратье (Ратиашвили) – хранитель Эрмитажа, который не дал разграбить ценности музея во время бесконечных смен правительств, за что от В.И.Ленина получил личную охранную грамоту. Несмотря на это, тоже был сослан в Калугу. Ему в то время было лет 60-65: красивый, высокий, необычайно обаятельный, совсем седой человек с изысканными манерами. Я помню, как я, девчонка лет 10, влюбилась в него.
Позухины – отец с 2-мя детьми нашего возраста Надей и Алешей и две тетки. Надя была больна туберкулезом. Детей они воспитывали на прежний лад: обязательные занятия по-французски, а грамматика – в прежней орфографии с буквой ять и т.д. Они, видимо, надеялись на возвращение старого режима.
Семья бывшего генерала Михаила Евгеньевича Маслова - сам генерал, его жена, княжна Анастасия Евгеньевна Волконская, их сын Михаил и сестра жены – Ольга Евгеньевна Волконская. Позднее, чтобы скрыть свое происхождение, она фиктивно зарегистрировалась с каким-то рабочим по фамилии Давыдов, который однажды в пьяном виде явился к ним и стал настаивать на своих супружеских правах, чем привел семью в страшное смятение. Потом это как-то уладилось.
Семья Некрасовых, родственников поэта. Глава семьи – племянник поэта – был женат на княжне Горчаковой.
Родственники поэта Аксакова.
Наконец, Анна Ильинична Толстая, внучка Л.Н.Толстого. В Калуге у них был дом, и пока их не трогали. Я помню, как мы дети были приглашены к ним на елку. Анна Ильинична была первым браком замужем за Николаем Андреевичем Хольмбергом. У них было 2 сына – Сережа и Дима. Когда мы играли в жмурки, Николай Андреевич поймал меня и схватил в охапку, а так как он держал во рту папиросу, то прижег папиросой мне лоб. Ощущение от этого я чувствую до сих пор.
Позднее Анна Ильинична с Хольмбергом разошлась и вышла замуж за профессора Московского Университета, философа Павла Сергеевича Попова, ставшего при жизни писателя Булгакова его биографом.
С мамой Анну Ильиничну связывали добрые дружеские отношения, поэтому, когда во время НЭПа А.И. организовала артель по производству дамских шляп (артель «Кустари»), то пригласила туда работать маму. Артель состояла из 5 человек.
А.И.Толстая, Татьяна Александровна Аксакова, мама, мастерица по шляпам, фамилию которой я не помню и один еврей, видимо, администратор. Снимали они очень маленькое помещение на Московской улице, вблизи памятника Карлу Марксу. А.И. Толстая по поводу этого написала юмористические стихи:
«Кустари такое слово
Для Калуги очень ново
…………………………
Вся Калуга говорит:
Средь Аксаковых, Толстых
В «Кустари» пробрался жид…
У мамы была фотография тех лет, где «Кустари» представлены на групповом снимке, величиной чуть меньше обычной почтовой открытки.
На память приходят отдельные воспоминания из всего этого многотрудного времени.
Страна голодала - Украина и Поволжье пухли от голода. Крестьянство разорено коллективизацией. Об этом написано много, но я вспоминаю это время в сугубо-ограниченном калужском пространстве. В начале 30-х годов по всей стране, как я уже писала, открываются ТОРГСИНы – торговля с иностранцами. Население добровольно по установленной таксе несет все, что осталось от бесконечных обысков и конфискаций: чайное и столовое серебро – ложки, вилки, ручки ножей, оклады с икон (тогда иконы, будь они самыми ценными, никто не ценил).
В Торгсине в обмен давали бумажные деньги – бонны, на которые можно было купить крупу, сахар, подсолнечное масло, текстиль – одним словом, все самое необходимое. Сдавать нам особенно было нечего, поэтому этот источник скоро иссяк. И вдруг… несколько месяцев подряд мама получает из-за границы валюту, причем каждый раз от разных неизвестных лиц, из разных европейских стран и на разную сумму. Для нас это было спасением, потому что каждый такой перевод давал маме возможность продержаться недели 2-3, а то и месяц. Благодарить было некого. Только на бланке перевода стояла просьба написать, на что потрачены деньги. У нас это было пшено и подсолнечное масло. Деликатесов в виде консервов, лимонов, конфет мама себе позволить не могла даже ради «баловства». Вскоре это прекратилось. То ли, потому что закрылись Торгсины, то ли потому, что переводы такого рода запретили. Для нас было загадкой, откуда же шли деньги? Предположить можно было, что это либо дядя Вася (брат отца), либо Петя Шиловский, которые, будучи за границей, сообщили каким-то образом о нашем бедственном положении в какую-то организацию, занимающуюся поддержкой бедствующих дворянских семей в России. Видимо, такие переводы получала не одна мама, но все из боязни молчали.
За шалости и непослушание мама наказывала нас, ставя в угол, никогда не била, не ругала и только однажды выпорола нас с Михаилом розгами за то, что Зина (наша няня), высмотрела нас курящими в шалаше.
После этой экзекуции я долго не могла придти в себя и смотреть в лицо близким. Я думаю, что пороть нас не было необходимости. Достаточно было разъяснения, потому что мы, в общем-то, были детьми послушными. Дети Гончаровых тоже были причастны к курению, однако, их пальцем никто не тронул, хотя шло это именно от них. Елена Александровна, их мать, курила, и Настя, в основном, таскала папиросы у матери. Какое наказание постигло их, я не знаю, но, во всяком случае, точно знаю, что не порка розгами и не битье.
20.03.1989г.
Очень хотелось бы вспомнить о моем крестном отце, отчиме моей мамы, Александре Александровиче Офросимове. Я его не видела, моя первая и последняя встреча была у купели церкви Козьмы и Дамиана, где меня крестили, и где он держал меня на руках. Дальше идут лишь воспоминания по его письмам с хлопотами о назначении пенсии, разговоры о переписке с А. Бонч-Бруевичем по поводу его воспоминаний о своей жизни и деятельности, встречах и т.д.
В Калугу А.А. был сначала назначен вице-губернатором при губернаторе князе Горчакове. Когда Горчакова перевели губернатором в Тверь, А.А. поехал на аудиенцию в Петербург выяснить свое положение, где и получил пост губернатора г. Калуги. О своем назначении на пост губернатора он написал в одном из сохранившихся писем А.А. к моей маме, которая всю жизнь была очень дружна со своим отчимом. У меня осталась копия письма одного из глухонемых, который учился в Калуге в школе, организованной А.А. Он трогательно описывает отношение А.А. к своим подопечным, о том, что А.А. помог десяткам несчастных людей обрести счастье быть полноценными, квалифицированными работниками.
Когда отец сделал предложение маме и получил ее согласие, то оставалось получить благословение родителей. Со стороны родителей отца возражений, кажется, не было. Но родители мамы - Лидия Павловна и отчим А.А.(или дядя Саша), как всегда его называла мама, воспротивились этому браку. Во всяком случае, старались, как можно, дольше оттянуть его. Говорили, что отец очень легкомысленен, любил тратить деньги, поигрывал в карты. Видимо, до Офросимовых доходили эти слухи, и они боялись за судьбу дочери.
Однако брак состоялся. Свадьба была очень скромной - в ресторане «Прага» в Москве, с ограниченным количеством гостей (сохранилось меню). После свадьбы молодые поехали в путешествие по Европе. Оно было длительным, если не ошибаюсь - года 2. Посещение столиц Европы – Варшавы, Парижа, Рима и других городов Италии, посещение музеев и выставок. Отец из этой поездки привез из Парижа полотна импрессионистов, которые в наше время не имеют цены. А в голодные 30-е годы мама с большим трудом «устраивала» их в Москве по 25 рублей за полотно, чтобы прокормить нас, троих детей и двух старух – бабушку Ольгу Павловну Павлищеву и ее горничную слепую Анну Афанасьевну Маликову, которую еще в юности бабушка О.П. взяла в услужение из приюта. Она была дочерью героя турецкой войны Афанасия Маликова. Анна Афанасьевна прожила в нашей семье до конца своих дней, испив вместе с нами всю чашу лишений. Она всегда старалась своим трудом принести пользу и трогательно относилась к нам. Умерла А.А. во время войны и похоронена в одной могиле с Ольгой Павловной, которую она очень любила.
Итак, с выселением нас из дома на ул. Косьмодемьянской в дом на ул. Огарева заканчивается страница моего безоблачного детства - детства, правда, безрадостного, ущемленного, но до сих пор все же сытого и беспечного. Далее начинается юность, полная лишений моральных, физических и материальных. Ко всем бедам еще добавляются тяжелые заболевания младшего брата Михаила. В 7 лет он заболевает туберкулезом кости (нога), затем страшнейший колит. Мама была в отчаянии. Нужно было усиленное питание, и в то же время диета. Мальчик угасал на глазах. И вот, летом мама узнала, что на дачу в Бор, под Калугой, приезжает профессор Красинцев, главный врач больницы им. Склифосовского в Москве. В свое время он учился вместе с отцом в гимназии. Мама обратилась к нему. Помню, как тепло они нас встретили, назначили день приема. Возвращалась я с мамой поздно, было уже почти темно, а, главное, очень сыро и прохладно. Я до сих пор помню, что на мне была одета белая вязаная кофточка, которая, как мне казалось, совсем не грела. Это чувство холода я ощущаю до сих пор. Мы с мамой почти бежали. Нужно было пройти часть Бора, поле с километр и часть города до дома.
Красинцев, осмотрев Михаила, назначил лечение – каждый день натощак снятую простоквашу, и мальчик на глазах стал поправляться. Залечили и колит, и туберкулез, но позднее, уже в юношестве, лет в 14-16 у него открылся туберкулез лимфатических желез, от которого на всю жизнь остались рубцы на шее. Но и это молодой организм поборол. Видно, кость дворянская была крепка. Это выражение я взяла, прочитав переписку Чехова с Буниным, где Чехов сказал последнему: «Да, хорошо это у Вас, дворян, кость крепкая» (за точность формулировки не ручаюсь).
Первые мои заработки начались, когда мне было лет 9-10. Мы еще жили на ул. Глеба Успенского, а напротив жил садовник Лавров, который выращивал необыкновенно крупные и вкусные помидоры. У него была большая теплица, ранней весной мы с братом Мишей ходили к нему рассаживать по ящикам рассаду помидоров. Старший брат Леля (старше меня почти на 4 года) всегда был большим умельцем, а тогда в 13 лет он делал из бумаги корзиночки, всевозможные картонажи и продавал их. Таким образом, мы помогали маме как-то прокормить нас.
Бабушка Ольга Павловна Павлищева (родная сестра моей бабушки) последние годы, как я уже писала, жила с нами. Она была совершенно глухая, ходила с палочкой вся согнувшаяся. Была очень добра к нам, к детям. О.П. была очень религиозна, вела ежедневно дневник, который у меня сохранился. Мы, дети, любили играть с ней в прятки, забирались под диван, а она палкой нас нащупывала и, таким образом, находила. Года за 2 до смерти она приняла тайный постриг и стала «матерью Олимпиадой». Ходила она в обычной одежде, много молилась, а когда умирала (ее соборовал отец Антоний) мне запомнилось, что она лежала на постели и потом в гробу во всем монашеском, и нас детей подводили к умирающей прощаться.
Я помню времена НЭПа, ярмарки, на которые съезжались со всех окрестностей крестьяне, торговцы, покупатели – горожане и приезжие. Тогда еще ходили старые деньги в виде тысяч и миллионов. Как-то раз мама отпустила меня с няней Зиной на ярмарку и дала 1 бумажку – деньги. Вспоминается, как я была удивлена, когда мы покупали пряники, катались на каруселях и с одной бумажки, данной нам мамой, получали сдачу - бесконечно много бумажных денег.
В это время крестьяне из бывшего имения мамы «Богоявленское» Орловской губернии писали письма маме, в которых приглашали ее приехать навестить их. Мама поехала. Барский дом был разграблен, в гостиной на 1-м этаже устроили амбар, засыпали фуражем паркет и старинное трюмо в красивой раме красного дерева. По наивности мама стала просить старосту отдать ей зеркало, но он побоялся это сделать, несмотря на свое хорошее отношение к бывшим хозяевам. Остановилась мама у знакомых крестьян, была в гостях и везде видела кое-какие вещи из барского дома, в том числе и образок овальной формы с коленопреклоненным святым, вкруг образа вделаны какие-то камушки. Образок отдали, мама его привезла, и сейчас он у меня.
При отъезде из Богоявленского маме нанесли столько всякой снеди и битой птицы, что она не смогла все привезти. Помню, среди деревенских подарков была большая битая индейка. Индейку я ела впервые и затем надолго забыла ее вкус. Это были 20-е годы, снова я смогла попробовать ее лишь через 40-45 лет.
10.4.1989г.
Наше выселение из дома прадедушки Кричевского совпало со временем коллективизации. Время было тяжелое для всех: голод, безденежье, смерть бабушки Ольги Павловны. Город стал наполняться бежавшими из деревни крестьянами, безработица. В это время нас и выселили в дом Кожина.
Здесь все было чужое, в отличие от старого скромного домика на ул. Глеба Успенского. Среди здешних обитателей – людей случайных наша семья казалась «белой вороной». Дом был 2-х этажный, каменный с чердачным полужилым помещением, разгороженным перегородкой не до потолка на 2 части, площадь в общей сложности метров 20-25. Это и была наша «квартира». Лестница со второго этажа, минуя это помещение, вела во вторую часть чердака, куда весь дом ходил вешать белье. Не берусь характеризовать всех жильцов - наверное, среди них были и неплохие люди, но к нам было отношение особое. Все они в основном бывшие деревенские, попавшие в город случайно. Все, что можно было… или плохо лежало, они «приспосабливали» к своим нуждам: строили во дворе какие-то сараи, клетушки, оборудовали свое жилье. А мы этого ничего не делали, да и делать было некому. 2 раза в год все женщины собирались и мыли лестницу, требуя, чтобы и от нас кто-то был, хотя сами ходили через наше помещение, и мы с них уборки не требовали. Маму мы не пускали. Ходил либо брат Миша, либо я. Уборная находилась на 2-м этаже для всего дома, и так как яма была выгребная, то зимой туда ходить было невозможно – вырастали горы навоза. Дрова и керосин стоили дорого, поэтому печь топить ежедневно мы не могли. В морозы температура в помещении опускалась до –5о . У меня на отмороженных руках появились язвы. В школу иногда уходили голодными, потому что не было ни хлеба, ни картошки, ни крупы. Продавали все, что можно было продать.
Мама не гнушалась никакой работы. Она брала заказы на вышивки, вязание, преподавала в школе французский язык, пока не сократили, работала швеей на фабрике, давала уроки английского языка нашим хорошим знакомым Волнянским. Мама была большая рукодельница, она научила меня вышивке филе, гладью, стебельчатым швом, вязать крючком, научила шить на машинке, позднее я помогла ей выполнять заказы, правда, очень редкие. Как-то летом меня устроили работать в качестве руководительницы в детский сад. Затем летом я работала чертежницей (уже в старших классах).
Однажды мама пришла очень расстроенная. В то время она работала кассиршей в аптеке. Оказывается, к окошку, за которым она сидела, подошел человек, показал ей книжку ГПУ и велел по такому-то адресу в определенное время явиться к нему. Каждый раз, уходя на такое «свидание», мама говорила об этом старшему сыну, которому было в то время лет 15, предупреждала его, что она может не возвратиться, и тогда он остается за старшего. Нам, мне и младшему брату, мама ничего не говорила. Наверное, боялась детских слез и не хотела нас травмировать. Дом, где происходили «встречи», мама мне показывала, я знаю даже окна той комнаты на 1-м этаже. В комнате за столом сидел человек по фамилии Гусев, в противоположном конце комнаты стояла ширма, за которой, казалось, сидел еще кто-то. В одно из таких собеседований маме предложили сотрудничество в ГПУ, иными словами, стать осведомителем. Выбор был не случайным. Маму в Калуге знали как очень порядочного человека, все ее знакомые были из бывших дворянских семей – Гончаровы, Храповицкие, Горчаковы, Масловы и другие.
«За работу» было обещано устроить в высшее учебное заведение старшего брата, улучшение коммунальных условий и другие блага, о которых тогда можно было только мечтать. Мама сразу наотрез отказалась. В ответ было: «Подумайте, срок 3 дня». В противном случае была обещана тюрьма, а детей - в детдома.
Вера мамы была настолько глубока и порядочность настолько непоколебима, порядочность, приобретенная, как говорят, « с молоком матери», что и через 3 дня последовал тот же ответ. Уходя, мама была уверена, что уже не вернется. Но, слава Богу, со злобой, с упреками в нелояльности к Советской власти, с посулами заключения ее все же отпустили и на этот раз.
Я всегда думаю о том, как чиста, как безупречно честна была мама, которая даже под страхом лишиться своих детей, под страхом потери свободы и лишения всех прав, не пошла на эту грязную сделку. А ведь я знаю целый ряд лиц, из числа калужан, которые жили в более сносных условиях и которые от страха не отказались от предложенных условий.
Бог им судья.
Мы жили не только в нищете, антисанитарных условиях и в голоде. Нас все время преследовал призрак Гусева и ему подобных, но никто никогда – ни мама, ни мы, дети, не роптали на свою судьбу. Нам казалось, что иначе и быть не может. Более того, я испытывала чувство какого-то стыда, когда у меня зимой была ветхая обувь, более чем скромное платье, а чувство голода я всегда старалась скрыть. Я никогда не приглашала к нам домой своих соклассников, стыдясь перед ними за свой быт. Тогда я училась в Советской школе № 7.
Здание этой школы сохранилось до сих пор - это угол ул. Никольской против здания педагогического института – бывшей классической гимназии.
Учили в этой школе до пятого класса, поэтому после окончания четвертого класса (это считалось первой ступенью обучения) всех нас перевели в другую школу – десятилетку. Она называлась «Шахмагоновской школой», так как во время революции там работал новатор-педагог Шахмагонов, воспитавший целую плеяду учеников по новому методу обучения. К тому времени, когда я туда поступила, уже ни самого Шахмагонова, ни его методов не существовало, но о школе шла хорошая слава. Я не знаю, какие реформы проводил Шахмагонов, но когда я попала в пятый класс, там утвердился опыт так называемого «бригадного обучения». В это время шли бесконечные эксперименты с методикой обучения. У нас 5, 6 и 7 классы прошли под эгидой «бригадного метода». Состоял он в том, что весь класс, человек 30, был разделен на бригады по 5-6 человек - дети сами выбирали бригадира. Обычно это был успевающий ученик. Бригадир нес ответственность за успеваемость. Как правило, спрашивали бригадира, а отметку получала за это вся бригада. Для неуспевающих учеников было раздолье. По существу никто ничего не учил. Мне повезло. Я всегда была старательной и прилично училась. Меня часто выбирали в бригадиры, и, естественно, учить уроки лучше всех надо было мне. В общем, учебный процесс был запущен, никем не проверялся, и для многих это обернулось в старших классах катастрофой, потому что дети не знали «азов». Так мы доучились до окончания седьмого класса. По существу, для основной массы учащихся три года обучения (пятый, шестой и седьмой классы) были потеряны, ибо знания практически не приобретались. Основной упор был направлен на уроки труда (столярное, слесарное дело).
Начиная с восьмого класса, методика преподавания резко изменилась. Стали строго вести уроки литературы, орфографии, математики и других предметов, необходимых для поступления в высшее учебное заведение.
Восьмой, девятый и десятый классы считались третьей ступенью образования. Все лишения, голодное детство и притеснения от «власть имущих» уже в ранней юности, описанные мною выше, убедили меня в том, что надо учиться и добиться высшего образования. В Калуге не было в то время ни одного высшего учебного заведения. И вот первый удар.
Осенью 1 сентября я прихожу в школу, меня вызывают в учебную часть и объявляют, что я в списке восьмого класса не числюсь. Это было для меня, как гром среди ясного неба. Причины не объявляют - в учебной части я горько расплакалась. Я видела сочувствующие взгляды учителей, которые не смели мне ничего сказать.
Что делать? Я оказалась в каком-то вакууме. Учиться не дают, на работу никто не возьмет из-за малолетства. Дома полная нищета. И здесь помог Бог! Вдруг у меня блеснула мысль - ведь меня не принимают из-за происхождения, но моя мама сейчас работает на швейной фабрике швеей и, следовательно, числится рабочей. Ей должны дать справку о том, что она рабочая. Я быстро побежала к маме на работу, добыла эту справку, и, таким образом, этот вопрос через несколько дней был улажен - формально я оказалась дочерью рабочей, т.е. «пролетаркой». На основании этой справки меня приняли в школу, которую я потом окончила с отличием.
Теперь надо было ухо держать востро, так как малейшее отклонение от общепринятых в то время норм могло оказаться для меня гибельным. Я стала учиться еще лучше - очень старалась. Среди учителей были люди разные – добрые и злые, с глубокими знаниями и дилетанты или просто выдвиженцы, не умеющие читать и писать, партийные и беспартийные и т.д. Ко мне тоже отношение было разное – от покровительственного до открытой ненависти. Приведу пример. Школа праздновала один из юбилеев А.С.Пушкина. Было решено силами учеников поставить сцену из «Бориса Годунова» – бал у Вешнивецкого, сцена у фонтана. Мне был поручен вступительный доклад на тему «Пушкин в музыке». В школу была приглашена специальная учительница танцев, которая обучала нас мазурке и полонезу. Работали с большим энтузиазмом. Я пропадала в библиотеке, собирая материал для доклада. И вот наступил день спектакля. К школе была прикреплена подшефная воинская часть (опекаемая нами и опекающая нас), которую в тот день пригласили к нам на спектакль. За костюмами ездили в Москву специально брать напрокат, был приглашен гример из местного театра и оркестр из воинской части. И доклад, и спектакль прошли блестяще. Командир части пригласил нас поставить спектакль еще раз у них для тех красноармейцев, которые по тем или иным причинам его посмотреть не смогли. Учебная часть дала согласие. И вдруг учитель обществоведения Николай Васильевич Северин, придя в класс, сказал, что идут все, кроме Киры Местергази (меня), которой не место в воинской части. Но, видимо, это было уже слишком. Я точно не помню, что произошло потом - кажется, спектакль так и не поставили в части, но позднее до меня дошли слухи, что Северин получил большой нагоняй за «свою самодеятельность», и после этого случая он стал ко мне относиться идеально. В воинской части я все же побывала - не помню, то ли с докладом, то ли просто с девочками на танцах. Там появилось мое первое увлечение – сержант или младший лейтенант Костя Баландин, который стал встречать меня, когда я возвращалась из школы. Вскоре его перевели в Тюмень, затем он участвовал в событиях Халхин-Гола, за что осенью 1940 года приехал получать в Москву орден Ленина. Он был очень недоволен и разочарован тем, что всех их, орденоносцев, чуть ли ни под конвоем ввели и вывели из Кремля. И, вручив столь высокие награды, не сочли нужным или побоялись показать защитникам родины хотя бы территорию Кремля.
Много лет спустя, когда я уже получила высшее образование и крепко стояла на ногах, местный калужский краевед Генриэтта Михайловна Морозова нашла в архиве и показала мне досье на Киру Местергази (меня), которое было написано, очевидно, еще в бытность мою в начальных классах школы, когда я была еще девочкой 10-12 лет. В нем, кроме краткой социальной характеристики, говорилось, что я нахожусь под сильным влиянием своей матери, которая воспитывает во мне религиозный дух (очевидно, знали, что мы ходим в церковь) и несовременные понятия, и что семья имела контакты с бывшими ссыльными людьми.
Тогда я окончательно поняла, почему меня не пускали учиться в 8 класс.
После окончания школы я еду в Москву и подаю заявление в Институт цветных металлов и золота, что на Калужской (сейчас на Октябрьской) площади.
Кончаю 3-й курс, и вдруг – Великая Отечественная война.
Всех студентов посылают на трудфронт. Сначала рытье противотанковых рвов на смоленском направлении, затем швейная фабрика, и, наконец, осенью 1941 года нам вручают наши аттестаты зрелости, зачетные книжки, открывают спортивную кладовую, разрешают выбрать нужную обувь, одежду и отпускают до «особого распоряжения», а по существу – на все четыре стороны. В это время мы узнаем, что вышло Постановление высших властей о дополнительном наборе на старшие курсы в Бауманское училище, в Авиационный и другие институты, имеющие оборонное значение. Я и моя подруга Лида были приняты в Авиационный институт. Но так как институт уже почти весь эвакуировался в Алма-Ату, то я уезжала с последним эшелоном.
Мы были предупреждены, что в эвакуации пробудем 2-3 месяца и брать с собой ничего «лишнего» не надо. Поехали, как говорится, «налегке».
Ехали мы 37 дней. Нас без конца загоняли в тупики, так как дорогу давали в первую очередь составам с ранеными и с воинами, едущими на фронт. Крайней северной точкой нашего путешествия был Котлас (Архангельской области), затем вдруг Челябинск, затем Омск, и уже оттуда мы приезжаем грязные, все завшивевшие и голодные в Алма-Ату.
Ни теплой обуви, ни теплой одежды не было, а в Алма-Ате в то время стояли двадцатиградусные морозы. Было уже начало 1942 года.
Выяснилось, что поскольку в институтах разные программы, то чтобы попасть на четвертый курс МАИ, надо досдавать ряд предметов, о которых я не имела никакого понятия. Учебников, понятно, никаких не было, курс прослушать уже нельзя, и поэтому меня приняли только на третий курс. Пришлось соглашаться. Другого выхода не было.
Тема эвакуации – особая.
Должна сказать, что казахи встретили всех нас очень недружелюбно. Всячески ущемляли в правах, в материальном отношении, да и просто относились к русским свысока.
В то время народ этот был непросвещенным, диким и высокомерным, в быту крайне неопрятным, и о нем у меня до сих пор сохранилось очень негативное представление. Впрочем, оно подтверждается и сейчас, спустя почти 65 лет, когда казахский национализм расцвел пышным цветом.
Ни близких, ни родных, ни знакомых. Стипендия грошовая, паек – 400 г хлеба, поэтому я поступила лаборантом в одну из эвакуированных лабораторий института. Работала я посменно, поэтому совмещать работу с учебой было очень трудно.
Так я и моя подружка по институту Лида Миганадожиева (армянка) пробыли в Алма-Ате 1,5 года. Вернулись в Москву осенью 1943 года, и первое, с чем мы встретились, был салют по поводу взятия какого-то крупного города. В 1944 году мы получили темы для защиты. Моя тема – «Оборудование двухмоторного бомбардировщика типа Мессершмит».
Но война еще не закончилась. А так как на нашем курсе в основном были мужчины и только три женщины, то «сильный пол» после защиты рисковал попасть на фронт – поэтому курс подал заявление о повторении лекций по электротехники, которую мы хоть и сдали, но прослушали без достаточных лабораторных занятий из-за недостатка оборудования. Заявление было удовлетворено, и мы продолжили учебу еще полгода, а может быть и больше.
|
Метки: штер |
Сын железнодорожного магната фон Мекка, Аттал: судьба офицера Лейб-гвардии Преображенского полка в годы Первой мировой войны |
Обращаясь к последним дням Российской империи, всегда приходится отмечать, как много наша история хранит «забытых имен». В этом, пожалуй, и заключается особая трагичность Великой российской революции, после которой было решено переписать историю страны, вырвав при этом из неё целые страницы. На этих страницах оказались имена многих тех, кто преданно служил интересам России и чей пример мог бы быть образцом для русского человека. Среди них и фамилия фон Мекк, чьи представители с XVI в. верой и правдой служили Российскому государству.
Зачастую, фамилия фон Мекк ассоциируется с П.И. Чайковским, которому долгое время покровительствовала вдова одного из первых железнодорожных магнатов Российской империи, Надежда Филаретовна фон Мекк. Её переписка с Чайковским длилась 13 лет[1], ей он посвятил одну из своих симфоний.
Сын Надежды Филаретовны, Николай Карлович фон Мекк, продолжил дело своего отца и весьма преуспел в этом деле. Став в 1891 году председателем правления Московско-Казанской железной дороги, к 1913 году он увеличил её протяжённость с 233 верст до 2606[2]. Николай Карлович вошёл в историю не только как крупный железнодорожный магнат, но и стал одним из первых российских автомобилистов.
Н.К. фон Мекк был личностью во многом выдающейся. Поэтому его биография освещалась в отдельных трудах[3]. В то же время, следует заметить, что в этих исследовательских работах внимание уделяется, как правило, лишь самому Николаю Карловичу фон Мекку. Поэтому остается практически ничего не известно о судьбах членов его семьи. Известно, что у него было три сына и три дочери, при этом один из сыновей умер в младенчестве от болезни. В работах М.В. Гавлина о сыновьях сказано лишь несколько строк. Указывается, что первый сын, Марк погиб в 1919 году, а судьба младшего сына Аттала, и вовсе неизвестна[4].
В опубликованной в журнале «Автопилот» статье, посвящённой Н.К. фон Мекку, говорится, что Аттал якобы погиб в «первый день войны 15 июля 1914 года», а старший, Марк, был расстрелян большевиками в Омске 24 декабря 1918 года[5]. В другом источнике, датой смерти Аттала указывается 10 июля 1916 года[6].
Свои воспоминания уже в эмиграции оставила младшая дочь Н.К. фон Мекка, Галина[7]. Она до войны вышла замуж за английского верноподданного и 1915 года находилась в Англии. Про службу Аттала в воспоминаниях упоминается дважды: о разговоре перед отправкой на фронт и о его похоронах[8]. Датой смерти названо 14 июля 1916 года.
Более информации о сыновьях фон Мекка нет. Поэтому основной целью данного исследования является установление судьбы одного из сыновей Н.К. фон Мекка – Аттала. Так как в широкой печати, как уже ранее указывалось, семье Н.К. фон Мекка внимания почти не уделялось, основную источниковую базу для исследований составили документы Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА), в частности – послужные списки Аттала[9] и Марка фон Мекков[10].
В работе использовался метод микроисторического анализа, описанный Ж. Ревелем[11]. Исследуя судьбы отдельных представителей дворянства и их семей - видны последствия для России таких макроисторических явлений как Первая мировая война и революция. Исследуя судьбы отдельных представителей дворянства и их семей - можно проследить последствия таких макроисторических явлений как Первая мировая война и Великая российская революция.
История семьи фон Мекков отразила целую эпоху, начиная с развала Российской империи и заканчивая первыми годами Советской власти. Аттал фон Мекк погиб на фронте Первой мировой, Марк был расстрелян белыми в ходе большевистского восстания в Омске, а их отец, Н.К. фон Мекк, был расстрелян за вредительство в 1929.
Оба сына Н.К. фон Мекка в Первую мировую были офицерами Русской Императорской армии. Аттал в «Великую войну» служил в Лейб-гвардии Преображенском полку. Его судьба особо интересна: он погиб в своем первом же бою 15 июля[12] 1916 года в ходе Брусиловского прорыва.
II. Аттал фон Мекк. Биография до участия в боевых действиях
Аттал фон Мекк был вторым сыном Николая Карловича фон Мекка. Он родился 11 сентября 1894 года. В отличие от Марка, окончившего 1-й Кадетский корпус и в 1911 г. ушедшего в запас в чине прапорщика, Аттал фон Мекк пошёл по стезе гражданской: получил начальное образование в Императорском лицее в память цесаревича Николая[1], затем перешёл в Институт инженеров путей сообщения имени Императора Александра I.
Возможно, Аттал, имея такое хорошее образование, стал бы достойным продолжателем дела своего отца. Но война поменяла все планы.
С началом войны российское дворянство посчитало своим долгом поддержать государство, и дворяне целыми семьями уходили на фронт. Среди этих дворян был и Аттал фон Мекк. 1 декабря 1914 г. он зачислен на временные сокращённые офицерские курсы при Пажеском Его Императорского Величества корпусе.
Если бы у Аттала к тому времени имелось бы оконченное высшее образование, он имел бы по законам Российской империи право на производство в офицеры. Его поступление в Пажеский корпус свидетельствует о том, что на момент начала войны он ещё продолжал обучение в Институте инженеров путей сообщений и ушёл на фронт с университетской скамьи.
В Пажеском корпусе Аттал фон Мекк отучился в общей сложности 5 месяцев: с 1 декабря 1914 г. по 1 мая 1915 г., при этом 11 февраля 1915 г. он был произведён в унтер-офицеры, а 1 мая 1915 г., по окончании Пажеского корпуса, в прапорщики «Лейб-гвардии в Преображенский полк». На этом обучение будущего офицера не закончилось. 6 мая того же года он зачислен в запасной батальон полка, откуда направится с 34-й маршевой ротой на «театр военных действий» лишь 19 ноября.
Учитывая, что в среднем офицеры военного времени обучались 3-4 месяца, Аттал получил образование более существенное (почти год). 25 ноября 1915 г., прибыв в Преображенский полк, он был зачислен в 7-ю роту. 6 декабря Аттал произведён в подпоручики.
Лейб-гвардии Преображенский полк был одним из самых старейших соединений Русской армии. В конце 1915 г. полк находился в районе Двинска (современный Даугавпилс)[2], где оставался до конца июня.
Г. Н. фон Мекк вспоминала: «В июне я поехала в Москву, чтобы повидаться с Атталом, прежде чем он уйдет в свой полк. Мы пообедали в городе вдвоем. Аттал всё время был весел, но, когда мы завершили нашу трапезу, его настроение внезапно изменилось. Взглянув на меня своими грустными карими глазами, он спокойно сказал: «Не говори ничего старикам, но я хочу, чтобы ты знала. Меня скоро убьют – может быть, в самом первом бою». Я смотрела на него и ничего не могла промолвить. Аттал был готов умереть и не боялся этого»[3].
27 июня Преображенский полк погрузился на станции Молодечно. Гвардия направлялась на Юго-Западный фронт.
III. Брусиловский прорыв
До середины 1916 года на Восточном фронте Первой мировой войны стояло относительное затишье. После Великого отступления 1915 года русским войскам удалось стабилизировать линию фронта. В апреле 1916 года в Ставке обсуждается план летней кампании. Предполагается нанести главный удар Западным и Северными фронтами, а Юго-Западный фронт А.А. Брусилова должен был наносить вспомогательный удар.
Позднее наступление войск Юго-Западного фронта было названо именем его командующего. Брусиловский прорыв[1] (22 мая – 9 августа[2]) – наступательная операция русских войск Юго-Западного фронта, проведенная с целью разгромить австро-венгерскую армию на Восточном фронте и овладеть Галицией. Прорыв был осуществлен на 13 участках с последующим развитием в глубину. К середине июня удалось отодвинуть линию фронта на 80 км. 15 июня противник перешел к контратакам.
После этого Брусилов временно приостанавливает наступление для перегруппировки войск. С конца июня Верховное Главнокомандование начинает перебрасывать на фронт резервы, гвардия передислоцируется с Западного на Юго-Западный фронт. Последующие безуспешные наступательные действия продолжаются до сентября 1916 года[3].
Историография Брусиловского прорыва и роль в нем Преображенцев насчитывает уже вековую историю. Однако, необходимость обращения к малоизвестным страницам Отечественной истории обусловлена задачей восстановить картину последнего боя Аттала фон Мекка, как драматического эпизода Первой мировой войны, именуемой на Западе Великой, и выявить особенности использования войск гвардии в Брусиловском прорыве. Специфической чертой историографии о Брусиловском прорыве является ее некоторая политизированность, определяемая тем, что в него были вовлечены гвардейские части, которые в Российской империи имели большой политический вес. В гвардии служили многие молодые дворяне. Поэтому безуспешные действия войск Брусилова в июле 1916 года описываются неоднозначно, и часть исторических фактов либо замалчивается, либо упоминается вскользь.
Брусиловский прорыв стал одним из наиболее известных эпизодов Первой мировой войны в России. В целом, в первое десятилетие после окончания войны, в СССР следует отметить повышенный интерес к этой теме. Появляются переведенные мемуары командующего немецким Восточным фронтом П. Гинденбурга[4], его начальника штаба Э. Людендорфа[5], исследовательские работы А.М. Зайончковского[6], А.И. Литвинова[7], В.Н. Клембовского[8]. В 1929 году в СССР были опубликованы мемуары А.А. Брусилова[9], после революции оставшегося в Советском Союзе.
При этом с самого начала историю Брусиловского прорыва пишут непосредственные участники событий. В августе 1920 г. Брусилов в одной из дискуссий высказывает основные положения по «Луцкому прорыву»[10], а начальник его штаба во время Брусиловского прорыва В.Н. Клембовский является составителем сборника Комиссии по использованию опыта мировой и гражданской войн за 1916 год[11]. Кроме того, главной причиной остановки наступления генерал Брусилов и его начальник штаба считали «бездарность русского верховного командования»[12], которое было близко к царю. Такая позиция не могла не устраивать советское политическое руководство.
Впоследствии тема Брусиловского прорыва оказалась несколько политизирована: если советская историография верная критической концепции по отношению к действиям царского правительства, продолжала мысль Брусилова о низкой квалификации высших командиров, то литература русской эмиграции причиной того, что после столь «решительного удара» немецкий фронт не рухнул, называла «удар в спину» в виде Февральской революции 1917 г. и заговор генералитета, предавшего Николая II[13].
Вместе с тем, изложение хода прорыва зачастую ограничивается его первым месяцем: с 22 мая по конец июня 1916 года. Наступательные же действия Юго-Западного фронта Брусилова продолжались до сентября 1916 года[14]. О действиях в период с июля по сентябрь известно не очень много. В отечественной историографии потери в период с 22 мая по 30 июня 1916 г. проецируются на весь период Брусиловского прорыва[15].
С конца июня русское Верховное командование перебрасывает на Юго-Западный фронт значительные силы, в том числе – войска гвардии. В течение второй половины июля, ведя безуспешные наступательные действия, гвардия потеряет 50 000 человек[16].
Поэтому почти все работы по истории Брусиловского прорыва можно разделить на три категории. Критерием выделения направлений в историографии может служить отношение авторов к причинам неудачи Брусиловского прорыва. Выделим три направления.
К первому следует отнести большую часть работ в советской историографии, указывавшей при повествовании прежде всего на недостатки высшего генералитета. Например, в работе советского историка Айрапетяна главной причиной остановки наступления называется именно «бездарность верховного командования»[17], якобы так и оставившего Брусилова без подкреплений и «не давшего» развить прорыв. При этом достаточно высокую оценку получают действия генерала Брусилова. В более ранней работе Ветошникова[18], хоть и упоминаются июльские бои, ответственность за потери возлагается не на Брусилова, а на командующего Особой армией[19] генерала Безобразова, одновременно являвшегося командующим войсками гвардии и назначенным на этот пост лично Государем Императором.
Причем иногда во взгляде на события совпадали точки зрения и монархистов, и большевиков. В этом плане можно отметить работу монархиста А.А. Керсновского[20], написанную в 30-е года в эмиграции, в которой также основная вина возлагалась именно на генералитет.
В Великую Отечественную войну издается сразу несколько брошюр по Брусиловскому прорыву, которые закрепляют основные положения советской историографии[21]. Брусиловский прорыв «заканчивается» в конце июня 1916 г., а последующие действия упоминаются лишь как факт. Это определяет ключевой подход к описанию прорыва. С 1929 по 1983 гг. «Мои воспоминания» Брусилова в СССР переиздаются 7 раз.
В некоторых научных трудах уже современных российских историков продолжают господствовать советские взгляды. Так, военный историк А.В. Шишов в своей статье также не уделяет внимания действиям войск Брусилова с июля месяца, говоря лишь о том, что его частям удалось «добиться в наступлении только частичных успехов»[22]. Только о июньском прорыве глубиной 80 км упоминает и историк В.К. Шацилло[23]. О действиях с июля и о потерях до сентября не говорит и А.И. Уткин[24]. Упоминается лишь о июльской неудаче на Стоходе и в более современной работе «Европа и Россия в огне Первой мировой войны»[25].
Ко второму направлению следует отнести работы, которые в первую очередь рассматривают историю гвардейских частей. Мемуары гвардейских офицеров отличает то, что, оставшись верными своему долгу и Царю, их авторы не переходят на личности и редко критикуют вышестоящих офицеров. К ним можно отнести воспоминания Преображенцев С.П. Андоленко[26], С.А. Торнау[27], командующего гвардейскими частями В.М. Безобразова[28], генерал-квартирмейстера штаба войск гвардии Б.В. Геруа[29]. Действия частей русской гвардии рассматриваются с точки зрения верности воинскому долгу и в работе Ю.В. Зубова[30]. Главный недостаток вышеупомянутых работ в отсутствии аналитической части. В некоторых исследовательских трудах, где объектом исследования является гвардия, упоминаются непростые отношения между гвардейскими и армейскими офицерами. На первый план при описании выходит именно это непонимание. Особенно это проявляется в труде Е.И. Чапкевича[31]. Рассматривая в качестве основного объекта русскую гвардию и говоря о ее многочисленных подвигах, автор оставляет за кадром микроэлементы: сами эти подвиги[32] и их масштабы.
Наконец, к третьему направлению стоит отнести работы, за неудачу винившие русский генералитет, в том числе и самого Брусилова. Одним из активных сторонников этой версии является С.Г. Нелипович[33]. Кроме того, к этому числу относятся работы Зайончковского и Литвинова, которые ранее уже упоминались.
Особняком стоит работа М.В. Оськина[34], который июльские бои называет «Ковельской мясорубкой»[35] и одновременно ставит Брусилова в один ряд с генералиссимусом А.В. Суворовым[36].
Во многих вышеуказанных трудах отдельный бой как предмет исследования не рассматривается, очень мало работ, которые описывают бои в масштабе полка. Кроме того, столкновение интересов в гвардии определяет некоторую политизированность. Поэтому попытаемся, используя историографию и источники из военно-исторического архива, восстановить только ход последнего боя Аттала фон Мекка.
IV. Первый и последний бой Аттала фон Мекка
Вечером 7 июля 1916 г. Преображенский полк занял позиции против д. Райместо[1] [2]. Здесь Преображенцам предстоит принять участие в тяжелейших боях на р. Стоход.
Атака была назначена на 15 июля. Особо следует отметить местность в полосе Преображенцев. Офицер полка С.А. Торнау впоследствии вспоминал: «Свыше версты топкого болота, с параллельными фронту многочисленными и глубокими канавами, наполненными водой, надлежало наступающим частям пройти до проволочных заграждений, в изобилии окружавших подступы к Райместу»[3].
О событиях 15 июля в Дневнике полка написано лаконично: «15 утром наша артиллерия открыла сильный огонь по окопам противника и по проволочным заграждениям, но пехота ещё не наступала. В 2 часа дня было приказано наступать, мы бросились со своих окопов. Правей нас наступали егеря: они силою заняли окопы противника и забрали много пленных. Мы тоже частью вошли в окопы противника. Немцы начали отступать в паническом бегстве»[4]. За кадром этих достаточно сухих строк осталось многое. Составление более же точного описания того боя затрудняет ещё и тот факт, что журнал военных действий Преображенского полка[5], хранящийся в РГВИА, является «особо ценным» и выдается на руки лишь в качестве микрофильма. Написанный от руки, при низком качестве микрофильмирования, текст становится практически нечитаемым. Поэтому более полно восстановить ход событий удалось уже по другим документам, в том числе по журналу военных действий 1-й гвардейской пехотной дивизии[6], в состав которой входил Преображенский полк.
Согласно этому журналу в 6 часов 23 минуты 15 июля началась артподготовка. К 9 часам, согласно журналу, артиллерией «сделано два (прохода – М.С.) на участке Преображенцев»[7]. В этом же часу батареи сделали перерыв для охлаждения орудий. В 12.00 артиллерия вновь «развела самый сильнейший огонь»[8]. Как будет вспоминать Торнау: «Результаты этой артиллерийской подготовки были ничтожны. Проволочные заграждения и блиндажи Райместа, за небольшим исключением, сохранились в полной неприкосновенности…»[9]. В 13.00 началось общее наступление. Как записано далее в журнале военных действий дивизии: «Цепи (Преображенцев – М.С.) стали принимать влево, так как с северо-восточной стороны Райместа оказалось малопроходимое болото и наткнулись на неразрушенную проволоку у которой залегли»[10]. Ярче описывают тот бой его очевидцы: «Движение цепей шло очень медленно, ноги так засасывались болотом, что люди падали или вытягивали ноги из тины с помощью рук, дабы не оставить в болоте сапоги…Не хватало санитаров для оказания помощи раненым и выноса их из боя, а здоровые расстреливались немцами, как куропатки…»[11]. Один из биографов полка и яркий представитель русской эмиграции С.П. Андоленко писал: «В 14 часов (согласно журналу боевых действий, в 13 часов – М.С.) роты вышли из окопов. Их встретила буря огня. Немецкие самолёты в упор расстреливали цепи, болото замедляло движение и засасывало людей. Несмотря на это, батальоны дошли до позиции, но не смогли преодолеть неразрушенную проволоку»[12]. Далее, запись в журнале военных действий: «16 час. 30 мин. пока продвижения нет, части накапливаются»[13]. В это время добравшиеся до проволоки солдаты лежат перед ней, находясь почти как на ладони у противника. Пробить брешь в проволоке русская артиллерия не может: слишком велика вероятность попасть по своим.
18.00. Журнал военных действий: «Противник открыл артиллерийский огонь по Преображенцам и Егерям. Наша артиллерия большинством батарей открыла огонь по Райместу усилив его насколько возможно и содействуя (курсив мой – М.С.) атаке»[14]. О каком содействии идёт речь – не совсем ясно, если учесть, что проволочные заграждения по-прежнему неразрушены и вражеский огонь продолжает косить ряды Преображенцев.
Здесь, у этой проволоки, и нашёл свою смерть подпоручик Аттал фон Мекк. Согласно списку потерь[15], в том же бою погибли ещё трое офицеров: подпоручики Александр Клюпфель, Владимир Верёвкин и прапорщик граф Сигизмунд Велепальский, для которого этой бой тоже был первым. Интересно отметить, что у Андоленко фамилия Клюпфель значится с приставкой «фон», а в списках о потерях – этой приставки нет. Так или иначе, двое из четырех офицеров, погибших в бою у Райместа, были немцами. Именно немцев, которые сражались за Россию не менее храбро, чем русские, вскоре обвинят во всех поражениях. Поэтому приставка «фон» зачёркнута и в послужном списке Аттала фон Мекка. Сделано это тем же пером, которым зачёркнуто звание подпоручика и сверху подписано «Поручик». Это звание было присвоено Атталу посмертно. Тот факт, что эти правки в послужном списке были сделаны одновременно, говорит о том, что с приставкой «фон» Аттал расстался незадолго до своей гибели. В подтверждение этих слов стоит отметить, что в журнале военных действий дивизии также указывается, что бою убит подпоручик «Мекъ»[16].
По воспоминаниям Торнау, чехи, занимавшие оборону в Райместо, продолжали обстреливать наши позиции до середины ночи. Затем всё стихло. «На нашей стороне наступила тишина, прерываемая лишь стонами многочисленных раненых, лежащих на поле сражения. Ни разу за всё время войны мне не приходилось слышать таких страшных стонов, как на этом проклятом болоте. Раненые, лёжа сплошь и рядом в воде, покрытые густой травой, стонами давали знать санитарам о своем местонахождении»[17]. В ночь на 16 июля штабс-капитан Макеев с 6 сапёрами взорвал проволочные заграждения для утреннего штурма. Но утром боя не последовало. Противник отошёл, оставив на позициях одну 47-миллиметровую пушку. За 15 июля Преображенцы потеряли 4 офицеров и 112 нижних чинов убитыми и 4 офицеров и 638 нижних чинов ранеными[18]. Всего в боях на Стоходе гвардия потеряла почти 50 000 человек[19].
Немецкий генерал Людендорф об атаках на Стоходе писал: «У русских было много людей, но они тратили их слишком беспечно. С такой тактикой они не добились никакого успеха против наших тонких линий»[20].
Тем не менее, за Стоход получил Георгиевское оружие командир Преображенского полка А. А. Дрентельн. В его наградном листе указывалось, что «Генерал-майор Дрентельн пренебрегая трудным положением Л. Гв. Преображенского полка, сохранил за собой позицию до ночи, в течение которой принял все меры для разрушения проволоки и возобновления с рассветом атаки; под угрозой этой атаки противник сам к рассвету освободил занимаемую позицию»[21]. Основанием для награждения стал пункт 1 статьи 112 статута «О георгиевском оружии»: «…достойны награждения Георгиевским Оружием: п.1. Кто с частью не менее батальона или дивизиона конницы с артиллерией или без оной, с боя захватит или удержит до конца сражения какой-либо важный пункт неприятельского расположения, хотя бы и без решительного влияния на общий исход дела»[22]. Формально Дрентельн мог быть представлен к награде. Но заслуживал ли он её? И не поэтому ли так ревностно относились армейские офицеры к гвардейским, что те получали большее не за заслуги, а за свой статус.
Кроме Дрентельна, награды получило множество адъютантов и других штабных офицеров. Аттал фон Мекк получил приказом по 8-й армии орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» посмертно.
Тему наград в гвардии стоит раскрыть более подробно. Все наградные документы по Преображенскому полку направлялись в штаб 1-й гвардейской дивизии. Наградные листы были обнаружены автором в «Деле о награждении дивизии орденами и медалями за боевые заслуги и о производстве офицеров и чиновников в следующий чин»[23]. Проводя выборку наградных документов, полученных в июле 1916 года, выделим 40 представленных к наградам. Все получили военные награды. Из них 12 человек – гражданские, это 30% от числа награжденных. 25 человек или 62,5 процентов награжденных – офицеры в чине до капитана. Среди награжденных и Г. Родзянко, сын председателя Государственной Думы[24]. Процент гражданских указывает на то, как легко боевые награды доставались в гвардии. Также в целом по 1-й гвардейской пехотной дивизии можно было читать представления на делопроизводителей Управления дивизионного Интенданта к ордену Святого Станислава 2-й ст. с формулировкой «За выполнение работ под артиллерийским огнем» с припиской к представлению, что «нижние чины награждены георгиевскими медалями»[25]. Поэтому отношение армейских офицеров к гвардии было не беспочвенным, если учесть, что Преображенский полк овладел Райместом лишь благодаря отступившему противнику.
В этом вероятно отчасти кроется и нелюбовь самого А.А. Брусилова к гвардии. В своих воспоминаниях он писал, что: «Существование гвардии с ее особыми правами было другой причиной недостаточно осмотрительного подбора начальствующих лиц»[26].
Государыня Императрица писала в своем дневнике: «Генералы знают, что в России ещё довольно людей, и не скупятся на их жизни. Но эти были так превосходно подготовлены и всё пошло прахом»[27]. Один из свидетелей того боя Преображенского полка вспоминал: «Здесь впервые… пришлось слышать, как рядовые солдаты посылали проклятия высшему начальству… В общем – умышленно или по неспособности – здесь для русской Гвардии наше командование вырыло могилу, ибо то пополнение, которое укомплектовывало вновь состав полков, было далеко не гвардией»[28]. Уже в конце июля в полк прибыло пополнение: целых 4 маршевых роты[29]. Такая текучка кадров окончательно разрушила опору российского государства – гвардейские части.
Торнау вспоминал: «Подпоруч. Мекк и Клюпфель и свыше 500 солдат кровью своей вписали новые славныя страницы в истоpию полка»[30]. Но ради чего и с какой целью? Читая документы, касающееся гибели Аттала, всё чаще задумываешься о смысле этой войны. Немец, сын блестящего русского промышленника, образованный человек, гибнет в первом же своём бою в Ковельских болотах, трагично и осознанно, за страну, которая через год с небольшим перестанет существовать на карте, за царя, который отречётся от престола, но офицер Лейб-гвардии Атталл фон Мекк остается верен своим моральным ценностям, он выполняет свой воинский долг и принимает свою судьбу как неизбежность.
На примере судьбы фон Мекка видно, что кризис Российской империи был системным. В трагедии на Стоходе обвинили генерала В.М. Безобразова, который будучи в июле 1916 года командующим войсками гвардии сам был против наступления его войск в данной местности, в то время как Брусилов лично настоял на этом решении[31].
Командующий Юго-Западным фронтом оказался хорошим политиком: он по-прежнему имел лавры победителя за достигнутые успехи в июне месяце, и словно не имел никакого отношения к последующим безуспешным и кровопролитным боям, обвинив во всем своих подчиненных. И когда слухи о тех боях дошли до салонов Санкт-Петербурга[32], на фронт к своему сыну в Л.-Гв. Преображенский полк приехал лично председатель Государственной Думы М.В. Родзянко. Обвиняя во всем вышестоящее командование, гвардейские офицеры не могли знать тех, кто их направил на «неразрушенную проволоку через болота».
Родзянко в письме Брусилову впоследствии сообщал, «что вся гвардия вне себя от негодования, что её возглавляют лица. неспособные к её управлению в такое ответственное время, что они им не верят и страшно огорчаются, что несут напрасные потери без пользы для их боевой славы и для России»[33]. Этим воспользовался Брусилов, возложив всю вину за потери на саму гвардию. В своих воспоминаниях он писал: «Это письмо мне было на руку, я препроводил его при моем письме Алексееву с просьбой доложить царю, что такое положение дела больше нетерпимо и что я настоятельным образом прошу назначить в это избранное войско, хотя бы только на время войны, наилучшее начальство, уже отличившееся на войне и выказавшее свои способности»[34]. Гвардейских командиров назначал лично Государь Император, поэтому ответственность за их некомпетентность ложилась и на него самого.
Таким образом, продолжали размываться устои гвардейских частей, возникали предпосылки для заговора[35] против Николая II. Сам Брусилов в феврале 1917 года поддержит Февральскую революцию[36] и смещение Императора, лично написав ему письмо с прошением отречься от престола.
Потери войск Брусилова по современным оценкам составили 1,65 млн человек[37]. Это потребовало дополнительного призыва в армию. Как отмечал Зайончковский: «Эти дополнительные призывы вызвали серьезное недовольство среди населения России»[38]. Начиналось разложение армии. В октябре месяце оно дошло и до Л.-Гв. Преображенского полка. 18 октября, рядовой, стоя на наблюдательном посту, отказался подчиняться требованиям унтер-офицера, за что тот дважды его ударил. За самоуправство пострадал унтер-офицер, а рядовой так и не был предан военно-полевому суду[39].
V. Заключение
Аттал фон Мекк погиб в возрасте 22-х лет в своем первом же бою, забытый герой, верой и правдой служивший России. Герой не потому, что совершил что-то невозможное, а потому, что делал всё, что должен был делать для защиты своего Отечества. Память о нем осталась на Волыни, где годовщину Брусиловского прорыва в одной из газет упоминалось его имя[1].
Тела Аттала и других погибших офицеров спустя шесть дней после боя были доставлены в Петербург. На вокзале их встречал резервный батальон Преображенского полка. После церемонии их положили в Преображенский собор, где состоялось отпевание. Вечером тело Аттала поездом было отправлено в Москву[2].
Аттал был похоронен в имении отца в Воскресенском. В 1917 году усадьбу разорили, а в 1970-х на её месте построили правительственный дом отдыха, после чего могила Аттала фон Мекка куда-то исчезла.
Гражданская война и репрессии 20-30-х гг. также внесли свою печальную лепту в историю семьи Мекк. Второй сын, Марк, был расстрелян в 1918 г. белыми как член большевистского восстания в Омске[3]. Николай Карлович фон Мекк пережил своего старшего сына на 11 лет, но был репрессирован за вредительство большевиками.
Аттал погиб из-за просчета командования, Марк погиб в годы Гражданской войны, а Николай Карлович был репрессирован за отстаивание своих идей в Наркомате путей сообщения, куда он перешёл после становления Советской власти. И все они, фон Мекки, радели за Россию, каждый по-своему, но погибли в горниле Первой мировой и последующей за ней гражданской войны.
Николай Карлович фон Мекк сумел вложить чувство любви к Родине двум своим сыновьям. В 20-е годы работал в Наркомате, преподавал в МВТУ имени Н.Э. Баумана. Весной 1928 года был арестован. Своей дочери на последнем свидании в тюрьме перед расстрелом он сказал: «Дочка моя, не надо за всё это ненавидеть свою страну»[4].
Г.Н. фон Мекк с матерью в ходе Великой Отечественной войны оказались в оккупации в Малоярославце. Вместе с немецкими частями они покинули город, оказавшись после войны в Великобритании. В 1973 году в Лондоне Г.Н. фон Мекк издала свои воспоминания[5]. В 1999 году они были переведены на русский язык и изданы небольшим тиражом.
В этом году исполняется 100 лет со дня начала Брусиловского прорыва. Определенные успехи русских войск были сопряжены с большими и порою неоправданными потерями. Первый и последний бой Аттала фон Мекка – это иллюстрация абсурдности той войны. Это трагедия российского дворянства, которая повлекла за собой сначала его ослабление, а затем и гибель в результате последующей революции. В боях Первой мировой Российская империя потеряла свою опору, без которой впоследствии не смогла выйти из кризиса. Аттал фон Мекк, выполнив свой долг офицера и гражданина, погиб в первом бою, и в его судьбе как в капле воды отражена судьба целого поколения, которое заплатило своими жизнями за империализм царского правительства.
Литература и источники
- Айрапетян М.Э. Первая мировая империалистическая война 1914-1918 гг. – М. : Просвещение, 1964.
- Андоленко С.П. Л.-гв. Преображенский полк в великую войну. – Париж, 1965.
- Баранцев И. Командор // Журнал «Автопилот». – 2011. – №10. – С. 86.
- Бої на Стоході. 95 років потому…// Народне слово, 30.07.2011. Цит. по: Бої місцевого значення [Электронный ресурс]. Дата обновления: 09.07.2011. Режим доступа : http://yarovenkosp.ucoz.ru/publ/volin_u_pershij_sv...odi_95_rokiv_potomu/14-1-0-201 (дата обращения: 26.12.2015).
- Брусилов А.А. Мои воспоминания. – М.-Л., 1929.
- Брусилов А.А. Мои воспоминания. – М. : Воениздат, 1963.
- Военный энциклопедический словарь: В 2 т. Т. 2. – М. : РИПОЛ КЛАССИК, 2001.
- Волков С.В. Трагедия русского офицерства : Офиц. корпус России в революции, Гражд. войне и на чужбине. – М. : Центрполиграф, 2002.
- Ветошников Л.В. Брусиловский прорыв. Оперативно-стратегический очерк. – М., 1940.
- Военная быль. – 1966. – №80.
- Гавлин М.Л. Династия "железнодорожных королей" фон Мекк // Экономическая история. Обозрение / Под ред. Л.И.Бородкина. Вып. 7. М., 2001.
- Гавлин М.В. Из истории российского предпринимательства: Династия фон Мекк : Науч.-аналит. обзор / М. Л. Гавлин. – М. : ИНИОН РАН, 2000.
- Геруа Б.В. Воспоминания о моей жизни. – Париж : Танаис, 1969-1970.
- Гинденбург П. Воспоминания Гинденбурга. – Пг.: Мысль, 1922.
- Европа и Россия в огне Первой мировой войны. – М. : ИНЭС, Рубин, 2014.
- Зайончковский А.М. Мировая война 1914-1918 гг. – М., 1923.
- Зубов Ю.В. Лейб-гвардии Преображенский полк. С полком прадедов и дедов в великую войну 1914-1917 гг. – М. : ФИВ, 2014.
- Иоффе Г.З. Колчаковская авантюра и её крах. – М. : Мысль, 1983.
- Керсновский А.А. История русской армии. Т. 4: 1915-1917 гг. – М. : Голос, 1994.
- Кузнецов, Ф. Е. Брусиловский прорыв. – М. : Гос. изд-во полит. лит., 1944.
- Левин Ш.М. Брусиловский прорыв. – М. : Госполитиздат, 1942.
- Литвинов А.И. Майский прорыв IX армии в 1916 г. – Пг., 1923.
- Людендорф Э. Мои воспоминания о войне 1914-1918 гг. – М., 1923-1924.
- Мекк Г.Н. фон. Как я их помню – М. : Фонд им. И. Д. Сытина, 1999.
- Мировые войны ХХ века. Кн. 1. Первая мировая война. Исторический очерк. – М. : Наука, 2002.
- Нелипович С.Г. "Брусиловский прорыв". Наступление Юго-Западного фронта в кампанию 1916 года. – М. : Цейхгауз, 2006.
- Оськин М.В. Брусиловский прорыв. – М. : Эксмо : Яуза, 2010.
- Послужной список М. Н. фон Мекк // РГВИА, ф.400, оп.9, д. 33845, ч.1, лл. 318-319об
- Послужной список А.Н. фон Мекк // РГВИА, ф.409, оп.2, д. 44339 (пс.378-703)
- Приказы [1 гвардейской пехотной дивизии] за 1916-1917 годы // РГВИА, ф. 2321, оп.1, д.152.
- Дело о награждении и производстве офицеров и чиновников за боевые отличия в 1916 году // РГВИА, ф. 2321, оп.1, д.254.
- Дело о награждении и производстве офицеров и чиновников за боевые отличия в 1916 году // РГВИА, ф. 2321, оп.1, д.255.
- Журнал военных действий [1 гвардейской пехотной дивизии] // РГВИА, ф. 2321, оп.1, д.609.
- Дневник [Л. Гв. Преображенского] полка с 17 июня 1914 г. по 11 ноября 1917 // РГВИА, ф.2583, оп.2, д.885.
- Справка о потерях в бою 15 июля // РГВИА, ф.2583, оп.2, д.1189, л. 22.
- Журнал военных действий [Л. Гв. Преображенского] полка // РГВИА, ф. 2583, оп.2, д.1216.
- Ревель Ж. Микроисторический анализ и конструирование социального // Одиссей. Человек в истории. 1996. – М., 1996.
- Списки бывших и настоящих воспитанников Имп. Лицея в память цесаревича Николая. – М. : Печатня А.Н. Снегиревой, 1908.
- Сергеев-Ценский С.Н. Брусиловский прорыв. – М. : Гос. изд-во худож. лит-ры, 1944.
- Спиридович А.И. Великая Война и Февральская Революция 1914-1917 гг. Кн.2 – Нью-Йорк : Всеславянское Издательство, 1962.
- Статут Военного Ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Часть 3. О Георгиевском оружии. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://george-orden.narod.ru/statut1913s4.html (дата обращения: 30.12.2015).
- Стратегический очерк войны 1914-1918 гг. Ч.5. Период с октября 1915 г. по октябрь 1916 г. Позиционная война и прорыв австрийцев Юго-Западным фронтом / Сост. В.Н. Клембовский. – М., 1920.
- Стратегический очерк войны 1914-1918 гг. Ч. 6. Период от прорыва Юго-Западного фронта в мае 1916 г. до конца года. – М., 1923.
- Торнау С.А. С родным полком. – Берлин, 1923.
- Чайковский П. И. Переписка с Н. Ф. фон Мекк. – М.-Л., 1934-1936.
- Чапкевич Е.И. Русская гвардия в Первой мировой войне. – Орел : ОГУ, 2003.
- Шацилло В. К. Первая мировая война 1914-1918. Факты. Документы. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2003.
- Уткин А. И. Первая Мировая война – М. : Алгоритм, 2001.
- Bezobrazov V.M. Diary of the Commander of the Russian Imperial Guard 1914—1917. – Florida : Dramco Publishers, 1994.
- Meck G. N. von. As I remember them. – London : Dobson, 1973.
[1] Бої на Стоході. 95 років потому…// Народне слово, 30.07.2011. Цит. по: Бої місцевого значення [Электронный ресурс]. Дата обновления: 09.07.2011. Режим доступа: http://yarovenkosp.ucoz.ru/publ/volin_u_pershij_sv...odi_95_rokiv_potomu/14-1-0-201 (дата обращения: 26.12.2015).
[2] Мекк Г.Н. фон. Указ. соч., С. 134.
[3] Иоффе Г.З. Колчаковская авантюра и её крах. – М. : Мысль, 1983, С.164.
[4] Мекк Г.Н. фон. Указ. соч., С. 213.
[5] Meck G. N. von. As I remember them. – London : Dobson, 1973.
[1] На дореволюционных картах – Раймѣсто, ныне – Раймисто, в литературе упоминается как Райместо или Рай-место.
[2] РГВИА, ф.2583, оп.2, д.885, лл.74-75.
[3] Торнау С.А. Указ. соч. С.89.
[4] РГВИА, ф.2583, оп.2, д.885, Л.75.
[5] РГВИА, ф. 2583, оп.2, д.1216.
[6] РГВИА, ф. 2321, оп.1, д.609.
[7] Там же, Л.3.
[8] Там же.
[9] Торнау С.А. Указ. соч. С.88.
[10] РГВИА, ф. 2321, оп.1, д.609, Л.3об.
[11] Военная быль. – 1966. – №80, С. 27. Цит. по: Оськин М.В. Указ. соч., С. 315.
[12] Андоленко С.П. Указ. соч., С.10.
[13] РГВИА, ф. 2321, оп.1, д.609, Л.3об.
[14] РГВИА, ф. 2321, оп.1, д.609. Л.3об.
[15] РГВИА, ф.2583, оп.2, д.1189, л. 22.
[16] РГВИА, ф. 2321, оп.1, д.609. Л.3об.
[17] Торнау С.А. Указ. соч., С.90.
[18] Торнау С.А. Указ. соч., С.90.
[19] Оськин М.В. Указ. соч., С.322.
[20] Стратегический очерк войны 1914-1918 гг. Ч. 6. Период от прорыва Юго-Западного фронта в мае 1916 г. до конца года. – М., 1923, С.50.
[21] РГВИА, ф. 2321, оп.1, д.255, Л.105.
[22] Статут Военного Ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Часть 3. О Георгиевском оружии. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://george-orden.narod.ru/statut1913s4.html (дата обращения: 30.12.2015).
[23] РГВИА, ф. 2321, о.1, д.254.
[24] Там же, Л.121.
[25] РГВИА, ф. 2321, о.1, д.254, Л.49.
[26] Брусилов А.А. Воспоминания. – М.: Воениздат, 1963, С.70.
[27] Андоленко С.А. Указ. соч., С.11.
[28] Военная быль. – 1966. – №80, С. 27. Цит. по: Оськин М.В. Указ. соч., С. 315.
[29] РГВИА, ф. 2321, оп.1, д.152, Л.10.
[30] Торнау С.А. Указ. соч., С.92.
[31] Bezobrazov V.M. Op.cit., p. 103 ; Геруа Б.В. Указ. соч., С. 127-128.
[32] Большинство молодых дворян и представителей элиты служило именно в гвардии.
[33] Брусилов А.А. Воспоминания. – М.: Воениздат, 1963, С.242.
[34] Там же.
[35] Спиридович А.И. Великая Война и Февральская Революция 1914-1917 гг. Кн.2 — Нью-Йорк : Всеславянское Издательство, 1962, С. 177.
[36] Брусилов А.А. Воспоминания. – М.: Воениздат, 1963, С.268-269.
[37] Европа и Россия в огне Первой мировой войны, С.318.
[38] Зайончковский A.M. Первая мировая война, С.564.
[39] РГВИА, ф. 2321, оп.1, д.152, Л.97.
[1] Военный энциклопедический словарь: В 2 т. Т. 2. – М. : РИПОЛ КЛАССИК, 2001, С. 787.
[2] Даты окончания прорыва в отечественной историографии разнятся.
[3] Нелипович С.Г. "Брусиловский прорыв". Наступление Юго-Западного фронта в кампанию 1916 года. – М. : Цейхгауз, 2006, С.36-37.
[4] Гинденбург П. Воспоминания Гинденбурга. – Пг. : Мысль, 1922.
[5] Людендорф Э. Мои воспоминания о войне 1914—1918 гг. – М., 1923-1924.
[6] Зайончковский А.М. Мировая война 1914—1918 гг. – М., 1923.
[7] Литвинов А.И. Майский прорыв IX армии в 1916 г. – Пг., 1923.
[8] Стратегический очерк войны 1914-1918 гг. Ч.5. Период с октября 1915 г. по октябрь 1916 г. Позиционная война и прорыв австрийцев Юго-Западным фронтом. / Сост. В.Н. Клембовский. – М., 1920.
[9] Брусилов А.А. Мои воспоминания. – М.-Л., 1929.
[10] Нелипович С.Г. Указ. соч., С. 46.
[11] Стратегический очерк войны 1914-1918 гг. Ч. 5…
[12] Брусилов А.А. Воспоминания. — М.: Воениздат, 1963, С. 246.
[13] Нелипович С.Г. Указ. соч., С. 4.
[14] Зайончковский A.M. Первая мировая война — СПб. : Полигон, 2002, C. 563-564.
[15] Стратегический очерк войны 1914-1918 гг. Ч.5…, С. 73, 108.
[16] Копия рапорта генерал-адъютанта Безобразова к Государю Императору // Зубов Ю.В. Лейб-гвардии Преображенский полк. С полком прадедов и дедов в великую войну 1914-1917 гг. – М. : ФИВ, 2014, С.178.
[17] Айрапетян М.Э. Первая мировая империалистическая война 1914-1918 гг. – М. : Просвещение, 1964, С.78.
[18] Ветошников Л.В. Брусиловский прорыв. Оперативно-стратегический очерк. – М., 1940., С. 140, 143.
[19] Особая армия – образована в июле 1916 г. на базе гвардейского отряда, включавшего в себя все сражавшихся на фронте войска русской гвардии.
[20] Керсновский А.А. История русской армии. Т. 4: 1915-1917 гг. – М. : Голос, 1994.
[21] Кузнецов, Ф. Е. Брусиловский прорыв. – М. : Гос. изд-во полит. лит., 1944 ; Сергеев-Ценский С.Н. Брусиловский прорыв. – М. : Гос. изд-во худож. лит-ры, 1944. ; Левин Ш.М. Брусиловский прорыв. – М. : Госполитиздат, 1942.
[22] Мировые войны ХХ века. Кн. 1. Первая мировая война. Исторический очерк. – М. : Наука, 2002. С.186.
[23] Шацилло В. К. Первая мировая война 1914-1918. Факты. Документы. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. С.111.
[24] Уткин А. И. Первая Мировая война. – М. : Алгоритм, 2001. С.277-280.
[25] Европа и Россия в огне Первой мировой войны. – М. : ИНЭС, Рубин, 2014, С. 316-317.
[26] Андоленко С.П. Указ. соч.
[27] Торнау С.А. Указ. соч.
[28] Bezobrazov V.M. Diary of the Commander of the Russian Imperial Guard 1914-1917. – Florida : Dramco Publishers, 1994.
[29] Геруа Б.В. Воспоминания о моей жизни. – Париж : Танаис, 1969-1970.
[30] Зубов Ю.В. Указ. соч.
[31] Чапкевич Е.И. Русская гвардия в Первой мировой войне. – Орел : ОГУ, 2003.
[32] Там же, С.138.
[33] Нелипович С.Г. Указ. соч.
[34] Оськин М.В. Брусиловский прорыв. – М. : Эксмо : Яуза, 2010.
[35] Там же, С.273.
[36] Там же, С.411.
[1] Списки бывших и настоящих воспитанников Имп. Лицея в память цесаревича Николая. – М. : Печатня А.Н. Снегиревой, 1908.
[2] Андоленко С.П. Л.-гв. Преображенский полк в великую войну. – Париж, 1965, С.10.
[3] Мекк Г.Н. фон. Указ. соч., С. 134.
[1] Чайковский П. И. Переписка с Н. Ф. фон Мекк. – М.-Л., 1934—1936.
[2] Баранцев И. Командор // Журнал «Автопилот». – 2011. – №10. – С. 86.
[3] Гавлин М.Л. Династия "железнодорожных королей" фон Мекк // Экономическая история. Обозрение / Под ред. Л.И.Бородкина. Вып. 7. М., 2001. С. 133-152 ; Гавлин М.В. Из истории российского предпринимательства: Династия фон Мекк : Науч.-аналит. обзор / М. Л. Гавлин. - М. : ИНИОН РАН, 2000.
[4] Там же, С.68.
[5] Баранцев И. Указ. соч., С. 86.
[6] Торнау С.А. С родным полком. – Берлин, 1923, С.142
[7] Мекк Г.Н. фон. Как я их помню – М. : Фонд им. И. Д. Сытина, 1999.
[8] Мекк Г.Н. фон. Указ. соч., С. 134.
[9] Послужной список А.Н. фон Мекк // РГВИА, ф.409, оп.2, д. 44339 (пс.378-703).
[10] Послужной список М.Н. фон Мекк // РГВИА, ф.400, оп.9, д. 33845, ч.1, лл. 318-319об.
[11] Ревель Ж. Микроисторический анализ и конструирование социального // Одиссей. Человек в истории. 1996. – М., 1996.
[12] Здесь и далее даты даны по старому стилю.
При реализации проекта использованы средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации № 11-рп от 17.01.2014 г. и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи»
Историкам
http://ist-konkurs.ru/raboty/2015/1841-syn-zheleznodorozhnogo-magnata-fon-m
|
Метки: фон мекк |
Неприличная тайна «Лебединого озера». Как был написан самый известный в мире балет |
Неприличная тайна «Лебединого озера». Как был написан самый известный в мире балет
3 марта 2017, 18:30 Артем Стоцкий
Премьера «Лебединого озера» на сцене Большого театра состоялась 140 лет назад. Публика приняла балет довольно прохладно. Глубокая музыка ЧАЙКОВСКОГО не нашла тогда достойного воплощения в танце и не встретила понимания. Зато сейчас этот балет - одно из немногих классических произведений, о которых знают не только заядлые театралы, но и простые обыватели. Даже если бы Петр Ильич не написал за свою жизнь ничего, кроме «Лебединого озера», то на сегодняшний день его гонорар, по данным делового журнала «Businessweek», составил бы около $1,2 миллиарда.
Либретто к самоубийству
В основу «Лебединого озера» положена старинная немецкая легенда, повествующая о прекрасной принцессе Одетте, превращенной в лебедя проклятием злого колдуна - рыцаря Ротбарта. Чары злого гения действуют днем, но с приходом луны белый лебедь превращается в девушку. Прекрасную Одетту на берегу озера во время охоты встречает принц Зигфрид. Потрясенный ее историей, он клянется ей в вечной любви. Цепь трагических событий приводит к схватке Зигфрида с Ротбартом, но бурные волны разбушевавшейся на озере стихии поглощают и рыцарей, и заколдованных лебедей. Освободившаяся от злых чар Одетта соединяется с Зигфридом в потустороннем мире.
Чайковский верил, что его смерть тоже будет связана с водой. Однажды после очередных переживаний из-за неудач в личной жизни он весьма оригинально пытался покончить жить самоубийством. Осенней ночью 1877 года Петр Ильич простоял несколько часов в Москве-реке, ледяная вода доходила ему до горла. Композитор надеялся заболеть воспалением легких и покинуть этот мир, но даже не кашлянул. Смерть настигла его 16 лет спустя. Он подхватил холеру, выпив стакан некипяченой воды в элитном петербургском ресторане Лейнера на углу Невского проспекта и набережной Мойки.

Немцы считают, что идея балета пришла к ЧАЙКОВСКОМУ в сказочном Нойшванштайне... Фото: Wikipedia.org
Два замка - два любовника
Спор о том, что и кто вдохновил Чайковского на написание «Лебединого озера», идет до сих пор. Основных версий две.
* Балет мог быть задуман в Нойшванштайне - буквально, «Новый лебединый камень (утес)», - романтическом замке баварского короля Людвига II в юго-западной Баварии. Вероятно, вдохновением послужили тихие вечера, когда Петр Ильич катался там по озеру Schwansee (Лебединому) на лодочке в компании ученика и любовника Владимира Шиловского.
* В то же время у Чайковского был постоянный сексуальный партнер - его слуга Алеша Софронов. Вместе с ним, а так же братом Модестом и его бой-френдом Николаем
Конради композитор путешествовал по Швейцарии. Известно, что компания, по просьбе Чайковского, задержалась на Женевском озере в городе Монтре. Там находится знаменитый Шильонский замок, потрясший Байрона и воспетый им в поэме «Узник Шильонского замка».

...а швейцарцы уверены, что композитор творил под впечатлением от сурового Шильонского замка
Лебедь - птица женского счастья
Многочисленные путешествия композитора по Европе оплачивала его страстная поклонница, миллионерша Надежда Филаретовна фон Мекк. У них был общий любовник, молодой скрипач Иосиф Котек, которого оба ласково называл Котик. Именно Иосиф сообщил фон Мекк о бедственном финансовом положении Чайковского, после чего она начала оказывать гению финансовую поддержку.
Нравы за границей и в те времена были намного вольнее, чем в России. Естественно путешественников неизменно привлекали всевозможные пикантности. Петр Ильич посещал музеи и множество частных коллекций, где его внимание, как заезжей знаменитости, всегда обращали на «особые» картины.
Выросшая из античности, европейская культура многократно «перепела» все ее сюжеты, особенно игривого содержания, которые можно было использовать, не опасаясь строгого осуждения морализаторов. Самый же знаменитый сексуальный сюжет античности - это момент совокупления жены спартанского царя Тиндарея, прекрасной Леды и Зевса. Бог-громовержец овладел Ледой, представ перед ней в образе лебедя.

Ося КОТЕК много лет был правой рукой Петра Ильича. Фото: Wikipedia.org
В силу своего эротического содержания миф пользовался особой популярностью в искусстве эпохи Возрождения. Леонардо да Винчи, Микеланджело, Корреджо открыто изображали Леду в момент ее совокупления с Зевсом либо после него.
Пушкин описывает этот момент в кантате «Леда» тоже предельно откровенно:
Покров красавицы стыдливой,
Небрежно кинутый, у берега лежал,
И прелести ее поток волной игривой
С весельем орошал…
…Вид сладострастный!
К Леде прекрасной
Лебедь приник.
Слышно стенанье…
Лебедь в искусстве того времени - символ «удовлетворения сексуального желания». Чайковский, разумеется, прекрасно об этом знал и сублимировал свое неудовлетворенное желание в музыке. Живое воображение гения рисовало совершенно четкие картины, где лебедями были отнюдь не заколдованные девушки. В петербургском обществе о такой метаморфозе прекрасно догадывались, поэтому и не приняли балет на ура.

«Леда и лебедь» кисти французского живописца Франсуа БУШЕ не могла оставить творческого человека равнодушным
Нет музыки печальнее на свете
Для жителей бывшего СССР балет имеет довольно зловещее значение. Его крутили по телеку во время смерти генсеков и все дни августовского путча 1991 года. Идея использовать музыку Чайковского как седативное средство принадлежит Юрию Андропову. Он, будучи шефом КГБ, получал множество доносов на высокое начальство о том, что они засыпают в театре во время этого длинного балета и дискредитируют своим некультурным поведением партию. Вот Юрий Владимирович и дал команду председателю Гостелерадио СССР Сергею Лапину поставить «Лебединое озеро» в день смерти Леонида Ильича Брежнева. Вогнать народ в тоску и сонливость.
При этом танец маленьких лебедей считается самым веселым моментом мировой балетной классики. На него существует огромное количество пародий. Наиболее удачная показана в 15-м выпуске мультфильма «Ну, погоди!».

Советских детей с малолетства приучали к классике
Только цифра
Билет на «Лебединое озеро» в Большой театр стоит от 15 000 рублей.
Только факт
Рядом с Большим театром высаживают два сорта тюльпанов - «Большой театр» и «Галина Уланова». Их вывел впечатленный балетом голландский цветовод Теодор Лефебр.
Вам может быть интересно:

Самые странные смерти русских писателей и поэтов, о которых вам не рассказывали в школе
-
Интересное о Москве: чего не рассказывают на обычных экскурсиях по Коломенскому
Тэги
|
Метки: шиловские фон мекк |
От герцога до стоматолога. Где и как живут потомки Александра Пушкина |
От герцога до стоматолога. Где и как живут потомки Александра Пушкина
7 февраля 2017, 23:31 Смирнова Алина
Сородич великого русского поэта работал в МУРе
180 лет назад, 8 февраля (по новому стилю) 1837 года на дуэли с Жоржем ДАНТЕСОМ на Черной речке в Санкт-Петербурге был смертельно ранен Александр Сергеевич ПУШКИН. Под утро 10 февраля домашние разбудили его старших детей - дочку Машу и сына Сашу - и привели к умирающему отцу. Поэт с трудом открыл глаза, положил руку на голову сына, едва заметно перекрестил. Силы покидали его. Ребят увели. Они больше не видели отца живым, но последнюю встречу запомнили навсегда.
Когда Россия потеряла великого поэта, его четверо детей, родившиеся в течение шестилетнего брака с Наталией Николаевной Гончаровой, были совсем маленькие. Маше было пять лет, Саше - три, младшему сыну Грише не исполнилось двух, а самой маленькой, «бесенку Таше», как звали Наталью Пушкину в семье, - было восемь месяцев. Повзрослев, только двое из них - Александр и Наталья - оставили потомство. Сегодня в разных странах живут более 300 представителей знаменитого рода. Мы расскажем о самых ярких их представителях.

* Старшую дочь Машу отец называл «маленькая литография с моей особы». Это ее «упругие породистые» завитки на шее Лев Толстой подарил Анне Карениной.
* Мария Пушкина окончила Институт благородных девиц. Была фрейлиной великой княгини Марии Александровны, супруги императора Александра II.
* Замуж вышла поздно, в 28 лет, - за управляющего Императорскими конными заводами в Туле и Москве Леонида Гартунга. Он был несправедливо обвинен в присвоении чужого имущества и, не выдержав позора, застрелился.
* После смерти мужа дочь Пушкина жила одна, не имея пенсии. В 1918 году первый нарком просвещения Анатолий Луначарский выхлопотал для Марии Александровны деньги, но получить их она не успела - умерла в 1919-м от голода.
* Старший сын поэта Александр Пушкин стал генерал-лейтенантом. У него родилось 13 детей - 11 от первого брака и два ребенка от второго.
* Первая супруга, Софья Ланская, приходилась племянницей его отчиму Петру Ланскому. И хотя родство было не кровное, церковь такие пары не венчала. Потребовалось разрешение на брак от самого императора.
* После смерти первой жены старший сын Пушкина женился второй раз. Не родным детям мачеха, Мария Павлова, не скупясь, раздавала подзатыльники.
* Внук Александра Александровича - Григорий Григорьевич Пушкин работал оперуполномоченным в МУРе, затем печатником в типографии комбината «Правда». Отмечен почетным знаком «Петровка, 38». Со смертью Григория в 1997 году прервалась прямая мужская линия живущих в Москве потомков.
* Его сын Александр Григорьевич покончил с собой в 1992-м.
* Наталья Александровна Пушкина - «бесенок Таша», как звали ее в семье, - стала женой генерала Дубельта, шефа жандармерии, занявшего этот пост после графа Бенкендорфа, картежника и мота. Наталия Николаевна противилась этому браку, на что дочка ей заявила: «Одну замариновала и меня хочешь?»
* Дубельт супругу бешено ревновал, бил - у нее на теле на всю жизнь остались следы от шпор. Семья распалась. Наталья Александровна оставила в России детей и уехала ко второму мужу - принцу Николаю Вильгельму Нассаускому в Германию, с которым встретилась еще во время замужества.
* Брак был неравным, Натали не имела права называться Ее Высочеством. Она получила титул графини фон Меренберг, но, когда умерла, не могла быть похоронена вместе с мужем - прах развеяли над его могилой. Зато она была счастлива. Родила сына и двух дочерей, положив начало зарубежным ветвям семейного древа.
* «Водились Пушкины с царями…» - когда-то писал поэт. Его правнучка Надежда де Торби - жена лорда Джорджа Маунтбеттена, племянника императрицы Александры Федоровны. Участвовала в воспитании принца Филиппа, будущего супруга королевы Великобритании Елизаветы II.
* Прапраправнучка Александра Сергеевича, герцогиня Вестминстерская Натали, - крестная мать принца Чарльза, сына Елизаветы II.
* Самый молодой миллиардер Великобритании тоже из Пушкиных. В прошлом году после смерти отца - 64-летнего герцога Вестминстерского, лорда Джеральда Гросвенора, третьего в списке богатейших людей Англии, его сын, 25-летний Хью, унаследовал титул и львиную долю наследства. С русским предком он связан по линии мамы Натальи.

Хью
* Внучка Пушкина была замужем за внучатым племянником Гоголя - их правнучка Татьяна Ивановна Лукаш сегодня живет в Крыму.
* Пару лет назад из Туниса в Россию вернулся потомок по линии старшего сына Пушкина барон Александр фон Гревениц. Теперь стоматолог с женой и четырьмя сыновьями живет в Казани и мечтает заговорить на языке предков.
* Последний прямой потомок поэта проживает в Бельгии. У 75-летнего Александра Александровича Пушкина и его жены Марии-Мадлены Александровны Пушкиной-Дурново общий прадедушка, так что они - троюродные брат и сестра.

Фото: © РИА «Новости»
Как не родные: с Ганнибалом у поэта ничего общего?
Идею о том, что Александр Сергеевич вовсе не потомок «арапа Петра Великого» - Абрама (Ибрагима) Ганнибала, а внук индуса по имени Визапур - его соседа по имению, озвучил юрист, криминолог Па́вел Любли́нский. В 1938 году в обзоре «Из семейного прошлого предков Пушкина» он опубликовал бракоразводный процесс деда и бабушки поэта - Марии Алексеевны и Осипа Ганнибала, родителей его матери Надежды Осиповны. Из которого явствует: увидев белокурое дитя, в котором не было и намека на африканскую кровь, Осип Абрамович, не раздумывая, подмахнул жене бумагу на развод. Впоследствии другая белая женщина подарила Ганнибалу восемь черных детей. А вот Надежда Осиповна рожала исключительно светленьких, и ни у кого в роду Пушкиных не было ярко выраженных африканских черт. Вероятно, бабка поделилась с Сашей семейной тайной. Кстати, у самого поэта волосы были не черные и не вились мелким бесом, а шли волной - как у цыган. Тягу Пушкина ко всякого рода цыганщине эксперт объяснял зовом крови.https://www.eg.ru/society/61978/
|
Метки: пушкины |
Забытые истории Русской Италии |
Забытые истории Русской Италии
21 Февраль 2012

Русские курортники в Италии. 1890-е годы
Поделиться
Иван Толстой: Самая, казалось бы, прекрасная страна на свете стала приютом для немногих. Сегодня мы поговорим о русских, о старых русских, чтобы отличать их от новых, поселившихся на Апеннинском полуострове в последние четверть века. Старыми русскими уже много лет занимается историк Михаил Талалай, хорошо знакомый нашим слушателям участник наших радиопередач. Михаил Талалай – не только исследователь архивов и всевозможной русско-итальянской старины, но и писатель, переводчик, организатор конференций, путешественник. Он один из самых плодовитых современных ученых. В прошлом году у него вышло три больших книги и семь малых. Вот как раз забытыми историями Русской Италии он и занимается. Сегодня Михаил Талалай – гость ''Поверх барьеров''. Когда вы заинтересовались жизнью русских в Италии?
Михаил Талалай: Италия всех нас интересует потому, что с детства нас окружает итальянская культура в том или ином виде, особенно жителей Ленинграда-Петербурга. Поэтому после самых первых моих поездок в Италию как-то само собой получилось (наверное, не только для меня, но и для остальных тоже) на первом плане знакомство с русскими людьми, которые здесь жили, с интересными русскими людьми, которые сохранили какие-то архивные сведения, литературные и могли более интересно рассказать не только об Италии, но и о русской Италии. Так я определяю тему моих последних лет.
Иван Толстой: Но вы не просто поселились в Италии, но и полюбили ее, причем, как я понимаю, не только душой, но и умом историка?
Михаил Талалай: Пожалуй, да. Я влюбился в Италию. Попав в эту страну после ряда путешествий, я здесь ощутил, как я называю, полноту жизни, полноту жизни по всем ее параметрам — и культура, и кулинария, и вино, и люди. Но я нашел здесь и Россию, нашел ту самую русскую Италию. И, конечно, помогли очень знакомства с интересными людьми. Выбор темы и диссертацию свою я тоже, в итоге, посвятил русской Италии. Я написал диссертацию "Русская Церковь в Италии с начала XIX века по 1917 год''.
Иван Толстой: А кто вы по образованию?
Михаил Талалай: Как у многих людей моего поколения, мой путь в гуманитарную науку был достаточно сложным. Я выпускник Ленинградского технологического института имени Ленсовета, но меня издавна и всегда, наверное, тянуло именно к истории. Заниматься теми темами, которые меня в первую очередь привлекали, то есть, темами, связанными с историей церкви, я в советское время не мог, поэтому тянул лямку советского инженера, а сам занимался и писал в самиздат - в журналы ''Обводный канал'', ''Часы'' - заметки, посвященные судьбе Петербурга, в первую очередь - церковного Петербурга. Потом уже так судьба повернулась, что после перестройки я бросил инженерию, поступил работать в Фонд культуры, там также продолжал эту линию, связанную с нашими утраченными пластами культуры и с возможностью их возобновления. Это не только церковная жизнь, но и многие другие утраченные пласты русской духовной культуры. Затем и Советский Фонд культуры, как он назвался, основанный Раисой Горбачевой и Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, тоже сгинул, преобразовался в Российский Фонд культуры, и я решил податься в науку.
Уже тогда у меня были личные отношения с Италией, и эта церковная тема преобразовалась в тему Русская Италия, но в церковном формате. Здесь я нашел прекрасные памятники русского церковного зодчества, неизученные, забытые судьбы интереснейших людей, которыми никто до меня не занимался. Это была удача для исследователя. В итоге, я все это объединил в диссертационную тему и защитил ее в рамках Российской Академии наук. Она называется ''История русской церковной жизни''. Мы, правда, ее в рамках Академии довели только до 1917 года с тем, чтобы, скажем так, период был определенный, спокойный, потому что понятно, что после Октябрьской революции все кардинально изменилось, поэтому это лишь частично закрыло изученный мной сектор. Конечно, по жизни я занимался историей русских церквей, русских приходов, общин и в их беженском, эмигрантском существовании.

Михаил Талалай
Иван Толстой: А как обстоит дело с русскими архивами в Италии?
Михаил Талалай: С архивами, конечно, было плохо, с церковными архивами всегда сложности, в особенности послереволюционными, потому что священники очень часто меняли юрисдикции, переходили от одного епископа к другому, от ''зарубежников'' к ''евлогианцам'', от ''соборян'' (так раньше называли 'зарубежников'') в Константинопольский Патриархат, потом еще Московская Патриархия обозначилась, начиная с 70-80-х годов. И, конечно, все эти переходы плачевным образом отражались на состоянии церковных архивов.
Помимо этого, вокруг многих церковных построек возникали разного рода тяжбы, судебные иски, на них претендовали совершенно разные, совершенно немыслимые стороны, то Советский Союз, вдруг, в 20-х годах, неожиданно, непонятно зачем захотел Барийскую церковь, то какие-то частные лица, которые, говоря современным языком, спонсировали, скажем, постройки в Сан-Ремо, тоже претендовали на эти постройки. В итоге, архивы терялись, какие-то документы просто пропадали. В некоторые места, к сожалению, мне не удалось найти доступ, потому что, понятное дело, церковные архивы - это вопрос деликатный, там есть и документы частного, приватного свойства, документы о крещениях, венчаниях, разводах, отпеваниях, разного рода фамильные истории, которые по каким-то причинам люди не хотят делать публичным достоянием, они, естественно, неохотно становятся достоянием исследователей, не говоря уже об общественности. Поэтому к каждой церкви мне приходилось находить какие-то ключики, какие-то подходы. Это получалось не сразу, уходили месяцы, в некоторых случаях даже и годы, пока меня не принимали за своего.
А в некоторых случаях, как в соборе в Ницце, мне просто, в итоге, отказали — так мне и не удалось посмотреть все эти архивы, хотя территориально Ницца до 1867 года, как вы, наверное, знаете, относилась к Италии, поэтому этот кусок архива мне не удалось посмотреть.
Что же касается российских архивов, то до 1917 года, естественно, все велось хорошо, эти архивы я посмотрел, но потом - как ножом отрезало. И потом нужно сказать, что наши, отечественные архивы тоже не так уж открыты для всех, в особенности МИДовские архивы, а Русская Церковь Зарубежья до 1917 года находилась в прямом подчинении Министерства иностранных дел.
Иван Толстой: А почему, в отличие от многих европейских стран, Италия не стала пристанищем для русских изгнанников? Кто кого не полюбил?

Интерьер Русской Церкви Святого Николая в Риме
Михаил Талалай: Да, я с вами согласен, что Италия, несмотря на всю любовь русского человека к ней, не стала страной исхода. Действительно, русские заполонили собой Германию, Францию, Бельгию, а Италия казалась необычайно притягательной, привлекательной, все здесь есть, живи и радуйся жизни, но она к русским беженцам отнеслась, пожалуй, как мачеха. По разным причинам. Италия в ХХ веке, после Первой мировой войны, то есть после ''нашей'' революции, сама собой была страной исхода - бедная, отсталая страна, немножко развитый север промышленный, но в целом - бюрократический папский Рим, сельскохозяйственный отсталый итальянский юг. Сама эта страна надолго стала источником эмиграции, мы это хорошо знаем - итальянцы уезжали в Новый Свет, в Америку, в Австралию, в Северную Европу, в ту же Бельгию, Францию. Поэтому Италия не была готова к приему новой волны эмигрантов, тем более, эмигрантов обездоленных.
Поэтому особенность русской среды в Италии, которую я не сразу открыл, это то, что можно назвать словом преемственность. Здесь осели те русские, которые уже как-то и до революции имели свои корни, свои земли, дачи, квартиры, уже приезжали сюда или в качестве курортников, или командировочных, многие здесь жили подолгу. Поэтому в первую очередь и, пожалуй, в последнюю даже, этими русскими эмигрантами оказались те русские, которые были знакомы с Италией. Это касается и консервативной русской эмиграции, тех же самых священников, которые уже здесь были, служили и вновь приехали, или состоятельных русских пенсионеров, аристократов, которые обзавелись здесь, как я уже сказал, собственностью. Они и составляли важнейшую часть русских общин. То же самое, как ни странно, а, возможно, логично, касается и русской левой эмиграции - тот же Горький после революции вернулся не куда-нибудь, а именно в Италию, тот же Амфитеатров зачарованный вернулся в свою любимую Лигурию, где он жил и до 1917 года, и многие наши левые опять-таки попали вновь в Италию. Но Италия в этот момент опять изменилась и вместо консервативной, патриархальной в политическом смысле страны это стало молодое фашистское государство. И тут возник новый нюанс. Муссолини вообще подозрительно относился к русским беженцам, ему, как и его референтам, консультантам вся эта русская аморфная беженская масса казалась питательной средой для возможных большевистских агентов. Потому что, понятно, приезжали не только монархисты, ''царисты'', как их здесь называют, но и республиканцы, и разного рода розовые, в общем, публика малопонятная. В первую очередь, их всех тревожил казус Горького, вокруг которого вертелся целый мир. Поэтому русские эмигранты, русские беженцы (их всех здесь называли скопом ''Russi Bianchi '', то есть ''белые русские'') пользовались особым вниманием секретных служб, выделялась даже особая рубрика в полицейских досье, рубрика ''А-11'', куда все русские беженцы, все выходцы из России заносились сплошняком, начиная от вдов царских офицеров и кончая советскими командировочными. Они так все странно назывались в Италии ''советскими подданными'' - несколько странный термин.
Иван Толстой: Расскажите, пожалуйста, о самых ярких русских, о чьих судьбах вы писали.

Михаил Талалай: Мне как исследователю повезло, и, занимаясь этой темой, русским присутствием в церковном формате, мне удалось реконструировать, воссоздать биографии действительно замечательнейших наших соотечественников, забытых, неизвестных - в каждом городе, в каждом регионе Италии находились такие люди, которые, помимо того, что они берегли свою русскость, они берегли ее в сложнейших условиях, и от них осталось немало интересных материалов, как архивных, так и художественных.
Я все это пытался как-то оформить в виде книг и, пожалуй, если мы начнем с Флоренции, а во Флоренции наилучший образом сохранился русский архив, то самая яркая звезда флорентийская - это староста русский церкви во Флоренции Мария Павловна Демидова, княжна Сан-Донато до замужества, а в замужестве княгиня Абамелек-Лазарева. Кстати, я посвятил ей отдельную книгу, которая вышла год тому назад в Москве, ''Последняя из Сан-Донато''. Дело в том, что сам род демидовский чрезвычайно интересен, а его итальянская веточка, итальянская линия лишь недавно, с моим участием и участием моих коллег, получила достаточно широкую разработку. Дело в том, что последняя из Сан-Донато не оставила наследников, и все ее достояние, в том числе и архив, перешел ее племяннику, югославскому принцу Павлу Карагеоргиевичу. Принц Павел забрал из Флоренции самые интересные предметы, а переписку княгини, ее архив он просто бросил. И все бы это пропало, если бы культурные итальянцы не подобрали эти листочки на русском языке, которые просто были разбросаны в усадьбе Демидовой, и не сложили бы это все до поры до времени в архиве провинции Флоренции.
Мне удалось изучить эту интереснейшую переписку, это сотни и сотни писем, которые наши эмигранты, рассеянные по всей Европе, да и не только по Европе, писали во Флоренцию к старосте русской церкви, которая сумела сохранить во многом свое достояние. Дело в том, что Мария Павловна Демидова-Сан-Донато родилась во Флоренции еще до революции, ее родители жили в Италии, поэтому многую свою собственность она сумела сберечь от революционного катаклизма. Люди, которые писали Марии Павловне, конечно, описывали свои бедствия, это микроистории, микророманы, где каждый пытался в очень сконцентрированном, сконденсированном виде изложить свою драматическую судьбу в надежде на помощь Марии Павловны. И она многим действительно помогала. Конечно, она проверяла, у нее был опытный секретарь, который по своим каналам отслеживал, правду или нет сообщают русские эмигранты. В результате она составляла целые списки (я их видел) ежемесячных пособий русским эмигрантам, отдельным лицам и целым учреждениям. Она помогала, скажем, Сергиевскому подворью в Париже, митрополит Евлогий лично ее благодарил, она помогла подворью в Барграде, помогла афонским монахам, помогала валаамским монахам (Валаам тогда был, как вы знаете, на территории Финляндии, потом уже, после Второй мировой войны, перешел к Советскому Союзу), и многим частным лицам. Из этих писем я отобрал порядка шестидесяти наиболее интересных, в таком даже, я бы сказал, литературном смысле, в итоге вышла отдельная публикация ''Последняя из Сан-Донато''. Ее опубликовал в Москве Международный Демидовский фонд, отдав дань, таким образом, необыкновенной нашей соотечественнице Марии Павловне Демидовой Сан-Донато Абамелек-Лазаревой.

Русская церковь во Флоренции. 1906 год
Должен сказать, что в каждом городе, при каждой церкви, то есть почти при каждом объекте, мной изученном, существовали интереснейшие люди, и, повторю, мне повезло, что по большей части мне даже удалось найти их неопубликованные мемуары, они, собственно, и легли в основу моей книги по Флоренции. Помимо переписки Марии Павловны Демидовой, которую я задействовал и в своей книге, посвященной русской церковной жизни, я обнаружил совершенно потрясающий дневник строителя Русской церкви отца Владимира Левицкого, который приехал во Флоренцию еще молодым священником, речь идет о XIX веке, молодым, амбициозным, в общем-то, по своим качествам он, конечно, подходил бы и под епископа, но он был женат, с детьми и, понятное дело, епископская дорогая для него была закрыта. И вот протоиерей Владимир Левицкий вознамерился построить в Италии самую первую настоящую русскую церковь, настоящую красавицу. Для этого пришлось предпринять ряд очень серьезных концептуальных усилий. Почему во Флоренции, а не в Риме, не в столице? Отец Владимир это серьезно обосновал перед самыми высшими российскими инстанциями, перед Священным Синодом, перед Министерством иностранных дел и другими. Дело в том, что во Флоренции в XV веке Россия подписала несчастную Флорентийскую унию, то есть объединение с Католической Церковью в 1438 году, которую потом в Москве отвергли. Тем не менее, как отец Владимир утверждал, русскому православию был нанесен моральный ущерб: наши епископы поставили свои подписи. Кстати, я специально ходил разглядывать эти подписи, они хранятся в Библиотеке Лауренциана, и там Авраам Суздальский руку приложил, и митрополит Исидор Киевский, хотя он в Москве жил. Все хотели объединения. Но прошло несколько веков, объединение состоялось, и во Флоренции, где эта Уния была подписана, должна была, по мысли отца Левицкого, появиться эта красавица, которая даже своими формами московско-ярославского стиля архитектурного должна была выразить жизненность и красоту русского православия.
В своем дневнике он очень подробно описывает все препятствия на своем пути - где его как обижали, где ему не давали денег (потому что, понятное дело, строить дорого, тем более, строить за границей, тем более, во Флоренции), о том, как его обижали русские аристократы, жившие во Флоренции, потому что там была большая колония.
В итоге, конечно, многие помогали, проект был такой патриотический, красивый и, понятно, многие люди просто чистосердечно участвовали во всем этом деле, и отец Владимир это тоже описывает. Это и родители Марии Павловны Демидовой, и Трубецкие, жившие во Флоренции, и Олсуфьевы, и многие другие русские аристократы. Конечно, они ставили отца Владимира, как такого священника из Белоруссии, из Гродненской епархии, на свое место, предлагали ему поменять стиль, не стоить такую разлапистую русскую церковь, а строить в духе ренессанса, в готическом или в романском стиле...
В общем, разного рода были перипетии. И сначала отец Владимир очень скромно пишет о потаенной стороне этого дела, пишет сухо, но потом уже, на склоне лет, особенно после революции, когда все изменилось, он составил целую главу ''Препоны на пути строительства храма'', где он всем отомстил и рассказал, кто и как ему мешал. Но, в итоге, получилась прекрасная церковь и ее внешняя сторона достаточно известна.
Во Флоренции праздновали широко столетие храма в 2003 году, и называют церковь ''русской красавицей''. Мы в моей книге опубликовали целиком дневник отца Владимира Левицкого, я думаю, что, может быть, даже впервые русскому читателю достается дневник строителя храма, где день за днем подробно описываются все моменты - и технические, и идейные, и религиозные, и личные.
В Сан-Ремо мне довелось раскрыть жизнь еще одной забытой нашей соотечественницы - Анны Матвеевны Суханиной. Известно, что она стояла у истоков сооружения Сан-Ремской церкви. Кстати, в следующем году будет столетие этого прекрасного храма, и мы в Италии уже начали подготовку к этому юбилею. Но всегда очень глухо говорилось и меня всегда занимало, почему в церковных документах и в архивах Сан-Ремо (кстати, очень плохо сохранившихся) об Анне Матвеевне упоминается как-то вскользь. Удалось найти ее дневник и, в данном случае, даже не в Италии. Мне достались сведения о том, что он хранится в Бахметевском архиве Колумбийского университета, я списался с этим архивом, и мне очень любезно переслали ксерокопию. Выражу благодарность куратору этого архива Татьяне Чеботаревой, которая очень быстро и оперативно отреагировала на мой запрос и прислала мне обстоятельное досье ''Постройка русской церкви в Сан-Ремо в Италии, 1910-е годы''.
Кто такая Анна Матвеевна Суханина? Она родилась в Белоруссии, в семье бессарабских дворян, вышла замуж за полковника Суханина, поселилась в Петербурге, где была одной из, говоря по-современному, феминисток, эмансипированных женщин, которые как-то пытались повернуть ход истории, открыть ее в женскую сторону. Тогда, мы знаем, университеты были еще закрыты, поэтому она, как и многие другие выдающиеся девушки, поступила на Высшие педагогические курсы, где потом и преподавала историю, географию и вообще была дамой очень образованной. Затем она обосновалась вместе со своим супругом-полковником, вышедшим в отставку, в Сан-Ремо из-за слабого здоровья единственной дочери. Она дала обет (хотя она была женщина современная) Христу Спасителю с тем, что если ее дочь в Сан-Ремо поправится, то она построит церковь. Этот обет она сдержала, церковь, кстати, действительно посвящена Христу Спасителю. Нигде это не объяснялось прежде, и было непонятно это посвящение, которое у нас у всех, в основном, ассоциируется с московским знаменитым собором, но вот в Сан-Ремо Храм Христа Спасителя связан с личной историей Анны Суханиной.
Она привлекла к проектированию этой церкви своего кузена, архитектора Алексея Викторовича Щусева, уже потом знаменитого советского архитектора, который откликнулся на просьбу своей двоюродной сестры, он тоже родом из Кишинева, из Молдавии, он составил великолепный эскиз в московско-ярославском стиле и этот эскиз и был воплощен.

Храм Христа Спасителя в Сан-Ремо
Однако Суханина, будучи дамой левых, демократических убеждений, во время всего этого церковного дела вошла в контакт, в общение с другой Россией, Россией консервативной, которая также обитала и поправляла свое здоровье на знаменитом курорте в Сан-Ремо, и начались трения. Суханину нигде всерьез не воспринимали, ее отторгали, она составляла первые воззвания, собирала деньги, потом эти воззвания переписывались, и Суханина с каждым воззванием отходила на все более дальний и дальний план. Она всю эту историю подноготную подробно описывает в своем дневнике, этот дневник я публикую, естественно, уже как исторический документ, конечно, с некоторыми поправками на обиду человека, который действительно стоял у истоков, но потом некоторым образом был отринут.
В особенности, она была возмущена, когда за постройку взялись некоторые люди, которые стали завышать сметы, стали нанимать в качестве подрядчиков своих друзей и знакомых, очевидно, ожидая ''отката'', то есть, все эти истории вполне современны, она их пыталась вывести на чистую воду, писала письма в Священный Синод, в разного рода дипломатические структуры, даже было создано судебное дело (об этом как-то трудно говорить) вокруг церковного строительства , и перед тем как церковь была освещена, в Сан-Ремо проходил кратенький суд, ничем, правда, не закончившийся. В итоге эта Анна Суханина, которая дала обет, которая собрала первую группу по сооружению храма, даже не пришла на освещение церкви. Вот такие печальные истории она рассказывает на страницах своего дневника.
Затем, после революции, она осталась в России, но также жила в эмиграции социал-демократического толка, писала в левые эмигрантские газеты под псевдонимом Иван Иванов и, в общем-то, по этим причинам она мало известна в русской эмиграции, так как жила на отшибе такого магистрального русского эмигрантского потока. Она скончалась в Ницце, недалеко от Сан-Ремо, в 1969 году, и перед смертью отослала свои записки в Бахметевский архив, где они и хранятся.
Надо сказать, что Анна Суханина близко к сердцу принимала судьбу этой постройки, поэтому когда Сан-Ремской церкви угрожали разного рода напасти, а был один момент, когда муниципалитет Сан-Ремо хотел ее муниципализировать, потом еще несколько людей пытались ее приватизировать, она из соседней Ниццы всегда приходила на помощь храму.
Поэтому, несмотря на такой агрессивный, даже обиженный характер этого документа, все-таки, надо отдать ей должное как одной из инициаторов этой замечательной постройки. Ее имя высечено на мраморной доске вместе с другими людьми, эта доска висит в притворе русского храма в Сан-Ремо, все они давно упокоились, и поэтому бывшие поссорившиеся враги все вместе перечислены в одном списке как строители этого русского храма.
Кстати, я забыл назвать ее девичью фамилию - она была Зазулина, из бессарабских дворян.
Одна из самых ярких и загадочных личностей Русского церковного Зарубежья в Италии - это князь Николай Давидович Жевахов, который жил после революции и до начала Второй мировой войны в Бари, на далеком италийском юге. От него осталось немного архивных документов, но много и печатной литературы, и много разного рода документов, относящихся к судебным делам, которые развернулись в целые баталии вокруг огромной русской собственности в городе Бари, у мощей Николая Чудотворца. Николай Жевахов происходил из Киева, он князь из образованного рода, старинного российского рода, тяготел он к церковной, консервативной России и в начале ХХ века обосновался в Петербурге, где делал карьеру в околоцерковных кругах, дослужившись до очень высокого чина. В 1917 году, после Февральской революции, он даже стал товарищем обер-прокурора Священного Синода, то есть товарищем министра, заместителем министра по церковным делам всей России. Продолжалось, впрочем, это очень недолго.

Барградское Подворье
Один из главных проектов его жизни, одно из главных дел - это Барградское Подворье. Дело в том, что вся Россия стремилась в течение многих лет, многих десятилетий заиметь на дальнем итальянском юге, в городе Бари уголок, где русский паломник мог бы пожить, помолиться у мощей наиболее почитаемого святого на Руси, у мощей Святого Николая. Вообще, большая часть моей книги, моей диссертации - это история почти детективная, потому что сначала Россия желала построить такое Николаевское подворье на территории Турции, у гробницы Святого Николая в Мирах Ликийских, мы помним его титулование - Николай Мирликийский. Русские люди через подставных лиц, потому что официально действовать было трудно, купили в Турции большой участок земли, реставрировали древнюю византийскую базилику, где был епископом Святой Николай, начали строительство подворья, но затем началась очередная русско-турецкая война, турки перестали пускать туда русских людей и аннулировали предварительную сделку на основании того, что собственники не показываются и, значит, собственность аннулируется. А, чтобы запутать все это дело, они перепродали всю эту землю своим греческим православным подданным и, таким образом, вообще столкнули православных на Востоке - понятная политика древних владык.
Поэтому Россия отступилась от строительства в Мирах Ликийских, несмотря на то, что был собран значительный капитал и начались серьезные дела. Наш посол в Константинополе печально сообщал о ''тупиковом состоянии Мирликийского дела'', и он же очень ловко и умело предложил преобразовать это Мирликийское дело в дело Барградское и направить деньги, собранные на Мирликийское дело, на строительство подворья в городе Бари.
Все это протекало в рамках замечательного учреждения - Императорского Православного Палестинского Общества, все это было принято, тогда Общество возглавляла Великая княгиня Елизавета Федоровна-мученица, которая и стала главным куратором постройки в Бари.
И тут на один из первых планов и вышел князь Николай Жевахов. Он одним из первых приехал в Бари, осмотрел город тайком, потому что тогда опасались уже противодействия католического духовенства или спекуляции, поэтому все это дело производили очень тихо, вернулся, отчитался в Императорском православном обществе, выпустил книжку (тогда были редкостью такие дальние путешествия) - описание Бари, гробницы, где ни слова не говорится о реальном смысле его поездки, а просто вот такая поездка благочестивого человека к мощам Николая Чудотворца. Тем не менее, дело заварилось, Жевахов вошел в состав Строительного комитета, там было много других замечательных людей, возглавлял это все князь Ширинский-Шихматов, замечательный искусствовед и один из видных деятелей Палестинского Общества, и эту церковь, а, по сути дела, не только церковь, это целый квартал - Подворье, разного рода пристройки, сад, гигантская собственность почти в центре Бари - все это было построено тем же Щусевым, упомянутым мной, в 1913-14 году. Понятно, что началась война, и Барградское Подворье действовать просто не могло, паломников здесь никогда и не появилось. Первые русские люди, которые заселили Барградское Подворье, это были беженцы, но беженцы не от революции, а от Первой мировой войны, это наши курортники, которые летом отдыхали в Европе и не могли через враждебную Германию возвращаться домой, поэтому такой был придуман вариант поездки через Италию. И они жили на этом еще не вполне достроенном Подворье, в том числе министр Витте застрял на этом Подворье. Вот - первые жители Барградского Подворья.
Война, потом революция, конечно же, никакого паломничества в это время не было, Жевахов бежал. Куда бежать? Он прибыл в Бари. Огромная постройка, он в ней поселился, но времена радикально изменились, источников средств не было, и Жевахов начинает их добиваться в разных местах. Надо сказать, что по своему умонастроению он примыкал к России крайне правой, поддерживал идеи жидо-масонского заговора, тепло относился к Распутину, участвовал в продвижении фальшивки о сионских мудрецах, и вот все эти свои идеи он привез с собой в Италию. Поэтому он категорически отказывался от сотрудничества, от помощи либеральных церковных кругов, в первую очередь, русской церковной эмиграции в Париже. Митрополит Евлогий, знаменитый основатель Западно-Европейской епархии, хотел каким-то образом помочь всему этому делу, но Жевахов не захотел даже с ним встретиться, когда владыка Евлогий приехал в Бари. И в письме, которое я публикую (некоторые его письма я нашел), он пишет что Евлогий попал в сети жидо-масонского заговора, что его поддерживает ''YMCA'', что это организация чисто масонская и что он, Жевахов, предпочитает погибнуть, чтобы Подворье пропало бы, нежели принять средства из таких нечистых источников. Поэтому времена наступили для него очень тяжелые, и все это усугубилось процессом с советской стороной: неожиданно СССР предъявил претензии на Барградское Подворье. Для того, чтобы отнять это Подворье, точнее, завладеть им, была придумана такая операция: был учрежден правопреемник Палестинского Общества, не Православное Палестинское Общество, а Советское Палестинское Общество, которое, вроде бы, согласно уставу, продолжало все те же самые дела, которыми занималось Императорское Общество до революции, за исключением, как было написано в Уставе, ''религиозной составляющей''. И вот это новое Советское Палестинское Общество, при поддержке наших советских дипломатических структур, и предъявило претензии на всю Браградскую постройку. Жевахов, конечно, отстаивал ее как мог от советских притязаний, нашел ряд средств, писал во Флоренцию княгине Марии Павловне (именно там я обнаружил его интересные письма), она ему помогала, наняла адвокатов в Париже, и, в общем-то, на некоторых этапах удалось отстоять эту постройку от притязаний СССР.
Жевахов в Бари, за исключением этой ''борьбы с большевиками'', как он ее называл, был человеком свободным, он писал воспоминания. Первые два тома вышли в Югославии, были переизданы и пользуются определенной популярностью, где он описывает свою жизнь в России до беженства, до изгнания. Но затем Жевахов написал еще два тома и, к сожалению, эти последние два тома составляют одну из больших загадок Русской Италии: эти два тома посвящены как раз его жизни в Бари, его ''борьбе с большевиками'', как он говорил, и другим перипетиям русской жизни в Италии в 20-30-е годы. Написал он два тома, анонсировал их выход, однако этот выход не состоялся, судьба этой рукописи неизвестна и Бог знает, где находится этот документ и найдется ли он когда-нибудь.
Что произошло потом, в последние годы? Когда Жевахов от всего этого устал, он согласился на предложение муниципалитета города Бари уступить всю постройку муниципалитету, и в 1937 году вся эта гигантская собственность, включая церковь, иконостас, иконы - была передана Жеваховым муниципалитету Барграда. Он получил серьезное отступное, муниципалитет обязался платить ему ''гонорар'', как это было названо в документах, ежемесячную заработную плату, то есть, уже был на иждивении муниципалитета. Однако началась война, времена стали неспокойные, Жевахов бежал из Италии в Центральную Европу, в Австрию и, как ни странно, умер на территории СССР, потому что вернулся в 1945 году в свою бывшую западноукраинскую усадьбу и, когда вошли советские войска в нее в 1946 году, он скончался своей собственной смертью, но уже в пределах Советского Союза. Такое странное посмертное примирение.

Надо сказать, что завершающая моя книга - большой том в 400 страниц. Конечно, она получилась не сразу, ей предшествовали публикации более скромные, скажем так. Еще в 90-е годы я описал все русские церкви в Италии в отдельных брошюрках. Поэтому русский посетитель сегодняшней Италии, посетитель наших храмов практически в каждой церкви у свечного ящичка найдет и брошюру, посвящённую истории, искусству, людям той или иной общины. Это, конечно, и Русские церкви во Флоренции, в Риме, в Сан-Ремо, в Мерано. Моя заключительная книга, конечно, это не компиляция этих путеводителей, потому что я дал, естественно, и более широкий фон, и рассказал также о храмах, которые или исчезли, или существовали в кочевом виде. Поэтому книга прошлого года ''Русская церковная жизнь в Италии'' шире, чем отдельные брошюры.
Затем я стал, согласно моим побудительным мотивам русского исследователя в Италии, заниматься судьбами людей, которые, в общем-то, не были впрямую связаны с церковной жизнью, но, тем не менее, представляли собой яркое явление в русской истории и, даже, в русско-итальянской истории. На первый план вышли такие личности как Любовь Федоровна Достоевская - о ней вышла отдельная книга с соавторами. Дочь великого романиста закончила свою жизнь на севере Италии в 1926 году в безвестности, и от нее тоже остались разного рода документы. Она скончалась в городе Больцано. Это была одна из книг 90-х годов. Также у меня сложились благоприятные условия в южном Тироле, благодаря такой деятельной ассоциации под названием ''Русь''.
Мы выпустили еще несколько книг о русских людях, например, о забытом композиторе Наталье Правосудович. Ей посвящена отдельная монография. Она ученица Шёнберга, Глазунова, Скрябина, и в своих неизданных мемуарах описывала всех этих великих композиторов и свое беженское существование.
Там же вышла и общая книга ''Русская колония в Мерано''. Это замечательный уголок северной Италии, раньше он находился на территории Австрии, и там сложился такой интересный куст разных русских историй, которые я со своим соавтором Бьянкой Марабини-Цёггелер собрал и изложил в большом альбоме. Это было курортное место, приезжали туда курортники, некоторые из них интересные, фотографировались на память, эти фотографии начала ХХ века мы тоже нашли и опубликовали. И все это собрано в очень красивой книге ''Русская колония в Мерано''.
Еще я сделал, говоря церковным языком, некое ''послушание'' - стал описывать русские захоронения в Италии, обходил кладбища, переписывал метрические книги, переписывал эпитафии и собирал такие справочники, своды русских могил, русских захоронений на территории Италии. По сути дела, это такой справочный материал, но он очень помогает и в дальнейшей работе, помогает, в том числе, и людям, которые ищут своих родственников, ведь после революции, как мы знаем, все было отрезано, люди потеряли своих родных, и вот такие поиски в ряде случаев помогли связать эти ниточки.
Вышла отдельно книга по Тестаччо - это очень интересное кладбище в центре Рима, где похоронены Карл Брюллов, Вячеслав Иванов и многие другие, почти тысяча имен, поэтому это целая отдельная книга.
Вообще нужно сказать, что этот поиск близок к завершению, и в эти годы вышли большие публикации, где даны своды русских захоронений и во Флоренции, и в Сан-Ремо, и в Неаполе, и Венеции, и в других городах и регионах Италии. Поэтому, если Бог даст силы, хотел бы это рано или поздно тоже свести воедино и дать общий такой список.
Я переиздавал также забытые или неизданные рукописи и книги. В итальянском переводе я подготовил воспоминая графа Михаила Дмитриевича Бутурлина, это XIX век.
Перевод на итальянский язык стал последней работой замечательной нашей соотечественницы, о которой я тоже много писал, Марии Васильевны Олсуфьевой, которая переводила на итальянский язык Солженицына, Пастернака, Окуджаву и многих других. Ее последним переводом, неопубликованным, были мемуары графа Бутурлина, которые она подарила в качестве свадебного подарка Питеру Бутурлину, живущему сейчас в Риме. Он ко мне обратился, а также к Ванде Гасперович, с которой мы вместе готовили публикацию, и книга, в итоге, вышла на итальянском языке.
В городе Амальфи, опять-таки, на итальянском языке, вышел большой каталог под названием ''In fuga dalla storia'' - ''Бегство от истории'', посвященный нашим художникам, писателям, интересным людям, которые жили на юге Италии, на Амальфитанском побережье, в Амальфи, в Позитано. Там мы сделали большую мемориальную выставку, им посвящённую, в итоге, вышла большая итальянская книга.
На острове Капри опубликовали сборник, который я собирал и редактировал, посвященный Горькому. Это, конечно, некое левое ответвление в моей теме Русская Италия, тем не менее, это необычайно интересная личность, вокруг которой также вращались необыкновенно интересные люди, и поэтому такая русско-итальянская история, естественно, как-то меня волновала, интересовала. И когда на Капри нашли средства отметить столетие приезда, приплытия Горького на этот замечательный остров, мы там сделали в 2006 году книгу, опять-таки, на итальянском языке, и в итальянском названии я несколько это обыграл, по-русски это звучит, может быть, чуть неуклюже - ''Горький писатель в сладкой стране''. Это сборник разного рода статей, которые раскрывают разные грани пребывания Горького в Италии и людей, которые были так ли иначе с ним связаны.
Большим своим итогом я считаю, опять-таки, сборник, который вышел в Москве и посвящен также нашим русским эмигрантам. Он называется ''Русские в Италии. Культурное наследие эмиграции''. Он был сделан по материалам большой конференции, которую мы устроили в Доме Русского Зарубежья лет пять тому назад, и меня попросили собрать под одной обложкой результаты исследования многих ученых людей, которых увлекают эти сюжеты. Порядка 30 человек собраны, и это стало одной из первых книг, которая открыла широкой публике русскую Италию ХХ века.
Приходится много переводить, потому что это и бюджет, и, слава Богу, переводы интересные, может быть, уводящие чуть в сторону, но, тем не менее, конечно, расширяющие и мои собственные познания, и дающие, конечно, пищу для размышлений. Самая печальная книга, которую я перевел и опубликовал два года тому назад, это диссертация одной моей коллеги Марии Терезы Джусти, которая посвящена итальянским военнопленным в СССР. Это действительно история драматическая. Несчастные итальянцы, любители легкой, красивой жизни, попавшие в российские степи и снега, потерявшие там свои жизни. Из блестящей, прекрасной русско-итальянской многовековой истории, пожалуй, это самый черный, тяжелый и драматический момент.
Иван Толстой: А что вы пишете сейчас, сегодня?
Михаил Талалай: В настоящее время на моем письменном столе оказались материалы, которыми раньше я впрямую не занимался: слишком эта тема казалась мне трудной и неудобной. Это русское присутствие в Италии во время Второй мировой войны. Пока мне еще трудно сказать, получится ли здесь одна книга или, может быть, две, потому что здесь, в эти тяжелые годы, оказалось две России. Одна Россия, которая совершенно сложным путем, порой неоправданным и осуждаемым оказалась на стороне Вермахта, - это русские казаки, которые с Красновым пришли на территорию Италии, здесь целая казачья армия была, 40 тысяч человек, как в песне, и в каких-то своих статьях и выступлениях я немного касался уже этой темы, и не я один, конечно. С другой стороны, это наши соотечественники, которые, будучи военнопленными, попали в Италию, но перешли на сторону партизан. Казалось бы, тема участия советских партизан раскрыта была в советские времена, тема была очень популярная, понятно, по идейным соображениям, но и там тоже нашлось очень много мотивов неявных, неясных, закрытых, о которых следует вновь рассказать и рассказать с новыми документами. Поэтому тема, которой я сейчас занимаюсь и, думаю, это тоже превратится в одну а, может быть, в две книги, это ''Русские и советские граждане на территории Италии во время Второй мировой войны''.
|
Метки: дворянство русское зарубежье эмиграция |
Сведения об убитых и раненых в ПМВ офицерах по данным газеты «Русское слово», ноябрь 1914г. |
Сведения об убитых и раненых в ПМВ офицерах по данным газеты «Русское слово», ноябрь 1914г.
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1914 | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |||||||
| 1915 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1916 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1917 |
Содержание
- 1 Газета «Русское Слово» Суббота, 1-го ноября 1914 г. N 252.
- 2 Газета «Русское Слово» Воскресенье, 2-го ноября 1914 г. N 253.
- 3 Газета «Русское Слово» Вторник, 4-го ноября 1914 г. N 254.
- 4 Газета «Русское Слово» Среда, 5-го ноября 1914 г. N 255.
- 5 Газета «Русское Слово» Четверг, 6-го ноября 1914 г. N 256.
- 6 Газета «Русское Слово» Пятница, 7-го ноября 1914 г. N 257.
- 7 Газета «Русское Слово» Суббота, 8-го ноября 1914 г. N 258.
- 8 Газета «Русское Слово» Воскресенье, 9-го ноября 1914 г. N 259.
- 9 Газета «Русское Слово» Вторник, 11-го ноября 1914 г. N 260.
- 10 Газета «Русское Слово» Среда, 12-го ноября 1914 г. N 261.
- 11 Газета «Русское Слово» Четверг, 13-го ноября 1914 г. N 262.
- 12 Газета «Русское Слово» Пятница, 14-го ноября 1914 г. N 263.
- 13 Газета «Русское Слово» Суббота, 15-го ноября 1914 г. N 264.
- 14 Газета «Русское Слово» Вторник, 18-го ноября 1914 г. N 266.
- 15 Газета «Русское Слово» Среда, 19-го ноября 1914 г. N 267.
- 16 Газета «Русское Слово» Четверг, 20-го ноября (3-го декабря) 1914 г. N 268.
- 17 Газета «Русское Слово» Воскресенье, 22-го ноября 1914 г. N 270.
- 18 Журнал «Разведчик» № 1254 от 11 ноября 1914 г.
- 19 1914 г. Новое Время, 1-го Ноября (14-го). Иллюстрированное приложение. № 13880.
- 20 1914 г. Новое Время, 8-го Ноября (21-го). Иллюстрированное приложение. № 13887.
- 21 1914 г. Новое Время, 15-го Ноября (28-го). Иллюстрированное приложение. № 13894.
- 22 1914 г. Новое Время, 22-го Ноября (5-го Декабря). Иллюстрированное приложение. № 13901.
- 23 1914 г. Новое Время, 29-го Ноября (12-го Декабря). Иллюстрированное приложение. № 13908.
- 24 1914 г. Новое Время, 6-го Декабря (19-го). Иллюстрированное приложение. № 13915.
- 25 1914 г. Новое Время, 13-го Декабря (26-го). Иллюстрированное приложение. № 13922.http://www.ria1914.info/index.php?title=Сведения_о...ых_и_раненых_в_ПМВ_офицерах_по
|
Метки: российская императорская армия первая мировая война документальные источники |
Фотография семьи П.А. Столыпина. |
Вскоре после взрыва дачи на Аптекарсом острове, Столыпин вместе с семьей переезжает на жительство в Елагин дворец.
Вот, что пишет об этом времени в своих воспоминаниях сын Столыпина - Аркадий :
"Распорядок дня на Елагине был такой же, как в городе зимой. Ровно в час дня появлялся отец со своими сотрудниками, а то и с приглашенными, в овальном зале, и все садились немедленно за стол. Еда была обильная, но простая. Вино подавалось лишь в парадных случаях, и на столе красовались лишь хрустальные графины с минеральной водой. Завтрак длился не более получаса. После этого, в определенные дни, начинался прием посетителей. Полковник Голубев — адъютант принца Ольденбургского — рассказывал мне, много лет спустя, как ему однажды был назначен прием в половине второго дня. Приехав в Елагин, он был вынужден подождать пять минут в приемной: по какой-то причине отец за завтраком задержался. За это пятиминутное, непривычное для него опоздание отец принес полковнику извинения. Голубев был сконфужен. „Подумайте,— говорил он мне,— неся на плечах все судьбы Империи, Председатель Совета Министров еще извинялся за пять минут опоздания!"
Вечерний обед был столь же прост и краток. Обычно лишь в семейном кругу. После обеда, прежде чем сесть опять за работу, министр прогуливался в парке. Чудные, длинные вечера, а затем белые ночи... Стремительный бег времени огорчал отца. Глядя на беспощадно движущиеся часовые стрелки, он говорил порою: идете, проклятые! Остановить время, ему столь нужное, он не мог....
От этого времени сохранилась у меня лишь фотография, снятая на широкой террасе дворца, недалеко от окон отцовского кабинета. Я, с грозным и воинственным видом, сижу на деревянной лошадке. Стоящий сзади отец держит руку на моем плече. Из пяти изображенных на снимке моих сестер двух уже нет в живых. Сидящая рядом со мною Наталья — это та, чьи ноги были переломаны при взрыве на Аптекарском. Тогда выжила, и ноги ее удалось спасти. Умерла лишь в 1949 году в Ницце. Сидящая на земле на другом конце снимка Ольга расстреляна большевиками в 1920 году. Было ей всего 23 года"
Вот эта фотография, сделанная летом 1907 года.
В 1 ряду (слева направо) : дочери Ольга (1895-1920) и Александра (1897-1987).
Во 2 ряду (слева направо) : неизвестная (1), дочь Наталья (1891-1949), сын Аркадий (1903-1990).
В 3 ряду (слева направо) : неизвестная(2), дочь Елена (1893-1985), жена Ольга Борисовна (1859-1944), дочь Мария (1885-1985) и сам П.А. Столыпин (1862-1911).
Загадкой остаются две неизвестные дамы на снимке. После анализа всех родствеников Столыпиных, моя версия состоит в том, что одна из них - Мария Аркадьевна Офросимова (ур. Столыпина) (1861-1923), а другая - Анна Борисовна Сазонова (ур. Нейдгардт) (1868-1939) , сестра мужа и сестра жены Столыпиных.
Вот что пишет о них в своих воспоминаниях Мария Петровна Бок, старшая дочь Столыпина :
"Из частных лиц первые два года папа не бывал ни у кого, за исключением своей сестры Марии Аркадьевны Офросимовой.
Тетя Маша Офросимова переселилась с семьей в Петербург этой зимой и из дому совсем не выходила, так как была очень больна. Мой отец глубоко любил свою единственную сестру и, невзирая на связанную с этим опасность, ездил к ней во время ее болезни."
"В августе (1907 г - baronet65) приехала гостить к нам тетя Анна Сазонова и в сентябре увезла меня снова за границу, так как доктора считали для меня необходимым второй курс лечения в Сальсомаджиоре."
Остается добавить, что Анна Борисовна Сазонова была женой Сергея Дмитриевича Сазонова, будущего министра иностранных дел.
|
Метки: столыпины кропоткины |
Прогулки по улицам Ногинска Путеводитель по городу Ногинску |
Город Ногинск – центр Ногинского района Подмосковья – расположен на 55 км к востоку от Москвы на берегу реки Клязьмы. От окраины Москвы (от МКАД) до окраины Ногинска 38 км.
Население города составляет 118 тысяч человек.
Общая площадь Ногинска – 52,02 кв.км.
Ногинск – город промышленный. Развитие города исторически было связано с крупными текстильными предприятиями. В XXI веке в городе развитие получили пищевая промышленность и производство строительных материалов. Кроме того в городе работают предприятия машиностроения, энергетики и военно-промышленного комплекса, лёгкой и мебельной промышленности.
Для гостей и отдыхающих в городе предлагают услуги шесть гостиниц. Работают несколько туристических агентств.
Ногинск - один из самых театральных городов Подмосковья. Ногинский драматический театр (с 2012 г. Московский областной театр драмы и комедии) существует с 1930 года. Культуру города также представляют: Дом художника, Ногинский музейный центр. Большое внимание уделяется развитию спорта.
Ногинск - один из самых красивых и благоустроенных городов Подмосковья. В городе много фонтанов и цветов.

Страницы истории
Рогожь – Рогожский ям – Богородск – Ногинск
В Ногинске возраст города считают от 1781 года, когда императрица Екатерина II подписала указ о создании Богородского уезда и уездного города Богородска. В истории возраст того или иного поселения принято считать по первому документальному подтверждению его существовании. Село Рогожь, которое находилось на месте города Ногинска и которое в ХVIII веке было преобразовано в уездный город Богородск, а в ХХ веке стало именоваться Ногинском, впервые упоминается в духовной грамоте (завещании) Великого Московского князя Ивана Калиты, которую датируют 1339 годом.
Откуда пошло название села Рогожь? Одна из версий – по рогожам – изделиям, плетённым из сухих растений. Рогожи находили очень широкое применение в обиходе, они использовались в качестве покрывал, скатертей, подстилок, мягкой тары.
По другой версии название пошло от речки Рогожь – правого притока Клязьмы, которая указывалась ещё на карте Московии, изданной в 1774 году. По болотистым берегам этой речки росло растение «рогоз». Название Рогожь встречается в целом ряде завещаний наследников Ивана Калиты: Дмитрия Донского (1389 г.), Юрия Галицкого (1433 г.), Ивана III (1504 г.) и царя Ивана Грозного (1572 г).
Проанализировав краеведческие материалы, можно составить следующую хронологию:
· XIV век (условно 1339 г.) – первое упоминание села Рогожь в духовной грамоте Ивана Калиты.
· XVI век 1506 г. – Рогожская ямская слобода или Рогожский ям – первая от Москвы ямская станция в ведении ямской канцелярии. Основное занятие жителей – ямская гоньба – перевозка людей и грузов по Владимирскому тракту.
· XVII век 1628 г. – «Старый Рогожский оставленный ям». В результате нового деления Владимирской дороги на перегоны Рогожский ям упразднён, ямщики приписаны к Рогожской слободе в Москве. В 1646 году в селе числится 50 дворов, 46 из них принадлежат ямщикам

· XVIII век – «ямское село Рогожа». Развитие ткачества.
· 1767 г. – строительство первой каменной церкви.
- 1781 г. – 5 октября – указ Екатерины Великой о создании Богородского уезда и переименовании «ямского села Рогожи» в уездный город Богородск.
· В том же 1781 году утверждён герб Богородска, составленный геральдмейстером Волковым: «В верхней части геральдического щита герб Московский (изображение Георгия Победоносца на коне). В нижней инструмент, которым навивается шелк (мотовило) в золотом поле, в знак многих шелковых фабрик, находящихся в сем уезде».

· XIX век – Богородск – один из крупнейших текстильных центров России.
· 1883 г. - утверждён новый герб Богородска, разработанный герольдмейстером Кеном (Кёне): «В золотом щите шесть червленых пустых ромбов. В вольной части московский герб. Щит увенчан серебряной башенной короною о трех зубцах. За щитом два накрест положенных золотых молотка, соединенных александровской лентою». В геральдике изображение ромба символизирует челнок.

· 1 905-1907 гг. - революционные беспорядки на фабриках Богородска и в Глухово.
· 1914 г. – Первая мировая война. В городе сформирован 209 пехотный Богородский полк.
· 1917 г. – провозглашение власти Советов.
· 1929 г. – преобразование Богородского уезда в Богородский район в результате советской территориальной реформы.
· 1930 г. – переименование г. Богородска в г. Ногинск.
· 1941-1945 г.г. – Ногинск – тыловой город.
· 1990-е годы – в связи с распадом СССР банкротство и закрытие целого ряда предприятий, приватизация промышленных объектов, территориально-административные реформы.
· 2000-е годы – создание новых предприятий, частных фирм, представляющих самые разные отрасли. Благоустройство города, создание новых памятников, сооружение фонтанов, детских игровых площадок, тротуаров, бульваров.

Богородские легенды
Легенды создаются народом. Каждый рассказчик вносит что-то своё. Вот два варианта легенды о рождении города Богородска.
Императрица Екатерина Великая по пути во Владимир вышла из кареты на берег Клязьмы и увидела плывущую по воде икону с образом Богородицы. Императрица поняла это как знак свыше и повелела основать на этом месте город, назвать его Богородском.
По второй легенде Екатерина II, проезжая по Владимирскому тракту, в пути была застигнута грозой. Она остановилась в одном из домов села Рогожь и обратилась с молитвою к Богородице, чтобы гроза прекратилась и она смогла продолжить свой путь. Скоро туча ушла, выглянуло солнце, умытая листва искрилась в его лучах, в воздухе разливалась благодать. «Бог родился», - произнесла императрица и в знак сего доброго события повелела на месте села учредить город, наименовать его Богородском.


Так рассказывают легенды, в действительности, в 1770-1780-е годы после пугачёвского бунта Екатерина II, желая упорядочить власть на местах, проводила административно-территориальною реформу, в результате которой появились новые губернии и уезды. Так в 1781 году именным указом императрицы учреждается Богородский уезд, в связи с чем, село Рогожь было преобразовано в уездный город Богородск в составе Московской губернии. В 56 дворах числился 561 житель (306 мужчин, 255 женщин).
Tags:
Улица Рабочая (от пересечения с Патриаршей)
- Aug. 6th, 2016 at 7:01 PM

Рабочая,57. Через перекрёсток по диагонали, на нечётной стороне улицы, находился ещё один дом Елагиных, в котором до революции располагалась Богадельня имени Почётных граждан Елагиных, где призревались до 20 человек. Анисим Фёдорович Елагин на личные средства построил богадельню, обеспечив её существование вместе со своими братьями капиталом около 30 тысяч рублей. Сейчас здесь «Стоматология» и ряд организаций. Здесь же находится Штаб-квартира общественной организации ветеранов афганской и локальных войн «Боевое братство».
Дом и богадельня Елагиных находились на пересечении Нижней улицы с Соляным переулком, названным так по соляным складам. В 1911 г. переулок стал называться Николаевской улицей. В советское время в память о расстреле рабочих в «кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. она стала «улицей 9 Января». Со времени строительства нового моста через Клязьму в 1960-е годы эта улица стала одной из главных магистралей Ногинска.
Рядом с богадельней, там, где сейчас торговый центр «Мегаполис», был дом под №59 (снесён). Краевед П. Дорофеев в своей публикации в газете «Знамя коммунизма» (29.06.1967). утверждал, что в этом доме жил земский врач П. Сербский. Его сын Сербский Владимир Петрович (1858-1917) после окончания Московского университета стал врачом-психиатром, одним из основоположников судебной психиатрии в России. С 1921 г. его имя носит Центральный институт судебной психиатрии.

Сербский Владимир Петрович
В 2010 году, когда весь православный мир отмечал 100-летие патриарха Пимена, улицу 9 Января переименовали, назвав её Патриаршей. Накануне юбилея рядом с мостом открыли памятник знаменитому земляку. Автор памятника - ногинский скульптор Иннокентий Комочкин.

Патриарх Пимен

Патриарх Пимен (в миру – Сергей Михайлович Извеков) родился в 1910 году в семье Михаила Карповича Извекова, механика Морозовской мануфактуры. Детство его прошло в Троицкой слободе в Глухово. В период учёбы в школе №2 (имени Короленко) Сергей прислуживал в Богоявленском соборе, пел в церковном хоре. В 1925 году после окончании школы переехал в Москву и вскоре принял постриг в рясофор (первая ступень монашества) с именем Платон. Спустя два года принял монашеский постриг с именем Пимен. Окончание войны застало иеромонаха Пимена священником Благовещенского собора в городе Муроме. В послужном списке патриарха: наместник Псково-Печерского монастыря, Троице-Сергиевой лавры, управляющий делами Московской патриархии, митрополит Ленинградский и Ладожский, Крутицкий и Коломенский.
2 июня 1971 года единогласно, открытым голосованием был избран Поместным Собором Патриархом Московским. Патриарх Пимен возглавлял Русскую православную церковь с 1971 по 1990 годы.
На месте, где теперь стоит памятник Патриарху, ещё в 1990-е годы стоял угловой двухэтажный дом (№14), разобранный из-за ветхости.В этом доме примерно с середины 1918 г. располагался уездный совет народного хозяйства, который возглавляли сначала Августинас, а к осени 1919 г. Новожилов. В январе 1926 г. в доме располагалось уездное земельное управление.
Источники: Объявления//Красное Знамя (Богородск)._1919.- №4. - 12 октября; По уезду//Голос Рабочего. – 1926. - №17. – 21 января.» Информация от Олега Данилова Соцсеть "Одноклассники"

Дом №14 у моста (снесён).
Ближе к реке стоит особняк, претерпевший изменения в своём облике и занимаемый различными офисами и магазином (№14а). В послевоенное время здесь была баня, затем тренировались юные боксёры. Тренировал их бронзовый призёр Токийской Олимпиады 1964 г. Станислав Сорокин.
В начале 2000-х годов в городе проводилась большая работа по благоустройству. В этот период был реконструирован автомобильный мост. Его украсили «пушкинские фонари» и вазоны с цветами на перилах. Накануне 2002 года параллельно автомобильному был введён в строй пешеходный мост, облюбованный молодожёнами, которые согласно новой традиции, вешают на перила замок как символ крепкой любви. Длина пешеходного моста 70 метров, ширина 3 метра. Мост имеет декоративную подсветку. Романтический настрой молодожёнов умножают живописные фонтаны на реке.
Клязьма – главная река нашего края и одна из основных рек Подмосковья, приток Оки длиной 686 км. Исток её находится севернее Москвы в Солнечногорском районе. Протекает по территории 4-х областей: Московской, Владимирской, Ивановской, Нижегородской. Ширина русла в районе Ногинска 40 – 50 м.
С моста открывается великолепная панорама Богоявленского собора с колокольней. В вечернее время мост и колокольня собора имеют декоративную подсветку.
Богоявленский собор

№16а. Новый храм начали строить в 1867 г., освящён он был в 1876 г. Колокольня старше собора, её пристроили в 1823 г. ещё к старой церкви. В 1880-е годы колокольня была надстроена третьим ярусом звона. Верхний ярус украшают часы. Собор расположен на том же месте, на котором в 1767 г. была построена первая каменная церковь во имя Богоявления Господня в селе Рогожь, за 14 лет до указа Екатерины II о создании города. Ещё раньше на этом же месте в селе Рогожь, у переправы через Клязьму, стояла деревянная Никольская церковь. Святой Никола считается покровителем всех путешествующих по суше и по воде. От храма начиналась Малая Троицкая дорога в Троице-Сергиев монастырь, по которой шли толпы паломников к святым мощам Сергия Радонежского (город Сергиев Посад). Каждое лето на этом месте наводили «живой», т.е. временный из деревянных плотов мост или устраивали паром. А ещё раньше на этом месте была переправа через Клязьму. Позже был построен постоянный мост, простоявший на этом месте до середины двадцатого века.
Колокольню с храмом соединяет трапезная с приделами. Южный придел освящен в честь Покрова Божьей Матери, Северный - в честь Святителя и Чудотворца Николая, в память о первом престоле села Рогожь.
В конце ХIХ века, после постройки верхних ярусов колокольни, для храма отлили колокол весом 1250 пудов (20 тонн), самый большой в уездных городах.
В 1890 году Богородск посетил генерал-губернатор Москвы Великий князь Сергей Александрович с супругой Великой княгиней Елизаветой Фёдоровной. В их присутствии в Богоявленском соборе был совершён молебен.
Великие князья Сергей Александрович и Елизавета Фёдоровна
Герман Зотов (из семьи фабрикантов Зотовых) в своих воспоминаниях утверждал, что на западной стене, слева от входа в собор, где изображён ад, был облик Льва Николаевича Толстого, отлучённого от церкви.
К храму ведёт улица Соборная, с 1911 года – улица Богоявленская, в советское время улицу назвали именем Карла Либкнехта – немецкого коммуниста, деятеля международного коммунистического движения. На этой улице жили священники, в том числе отец Константин (Голубев).
Константин Голубев
Отец Константин Голубев (1852-1918) с 1895 г. в течение 23-х лет служил в Богоявленском соборе. Осенью 1918 г. за организацию крестного хода в мае того же года и молебна на городском плаце с участием Патриарха Тихона и архиереев РПЦ отец Константин был арестован и приговорён без суда и следствия к расстрелу. Когда его вели к месту казни, собралась толпа. Свидетели казни вспоминали: «В яму его бросили ещё живым, несчастный подымал из ямы голову и молил прикончить его, находившаяся при этом дочь о. Константина на коленях с рыданиями умоляла, чтобы её отца не хоронили живым, но ничего не помогло, и злодействие было доведено до конца – его засыпали живым».

Многие десятилетия место кончины о. Константина почиталось местными жителями. На могиле зажигали свечи, служили панихиды. В 1995 г. были открыты его нетленные мощи. Через год он был канонизирован как местночтимый святой Московской епархии. На Архиерейском соборе РПЦ 2000 года Константин Богородский был прославлен в лике Новомучеников Российских для общецерковного почитания.Святые мощи отца Константина находятся в Богоявленском соборе. 2 октября стало днём памяти священномученика Константина – небесного покровителя Богородского края.
В 2000 г. в городе был возведён новый храм в посёлке Октября и освящён во имя Константина Богородского.

В 1920-е годы в церковном хоре Богоявленского собора пел Сергей Извеков, будущий патриарх Пимен.
В 1938 г. собор постигла участь многих храмов России – он был закрыт. В здании собора разместились фабричный цех (валяльное и красильное производство), газораздаточная станция. В год тысячелетия крещения Руси (1988) был положительно решён вопрос о возвращении храма верующим города Ногинска. Первая служба в возрождающемся храме совершилась на Пасху 1989 года.
991 году в этом соборе находились святые мощи преподобного Серафима Саровского на пути из Москвы в Дивеево. Божественную литургию совершал Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Он сменил Пимена на патриаршем престоле.
С 2003 года Ногинское благочиние по благословению митрополита Ювеналия именуется Богородским.
Рабочая 63. Напротив собора дом с красивыми наличниками и мемориальной доской «В этом доме жил Богородский революционер-подпольщик Сергей Леснов».
Рабочая,63
Леснов Сергей Николаевич (1885-1920) после революции работал в Глуховской милиции. По окончании курсов красных комиссаров был направлен на Северный Кавказ в одну их частей Красной Армии. Погиб в неравном бою с белоказаками. Улица вдоль восточной окраины городского парка, бывшая Гжельская, носит имя Леснова, его портрет находится на панно, посвящённом революционерам-землякам на здании Торговых рядов при входе в сквер Бугрова.
№73. На углу Рабочей и Соборной в красивейшем старинном особняке с резными наличниками находится магазин рабочей одежды «Восток-сервис», второй этаж жилой.
№75. Этот двухэтажный дом интересен уже тем, что его можно увидеть на старинной фотографии, сделанной с колокольни Богоявленского собора. Сейчас дом облицован сайдингом, в нём находится салон красоты.
№77. На углу с Трудовой улицей Пятый дом Советов. Со стороны Рабочей дом имеет пять этажей, со стороны Рогожской здание четырёхэтажное. Старожилы города утверждают, что в этом доме квартиры давали работникам завода «Электросталь». Следует вспомнить, что до 1938 года посёлок Электросталь входил в состав города Ногинска.
№18. На плане города 1901 года западнее собора значится «Лесной склад Скворцова». Сейчас на этом месте хозяйственный магазин «Планета» старожилы называют его «Магазин Рафаловича».
Вид с колокольни Богоявленского собора
Справа сохранившийся до наших дней дом №75, на месте дома с мезонином сейчас стоит пятиэтажный дом №77,
далее базарная площадь, светлое здание справа – городская управа (Вечерняя школа).
От дома №77 влево уходит улица Трудовая, в прошлом Купеческая. Далее ограда сквера имени Бугрова. До революции на этом месте был городской базар (см. «Улица Рогожская»). В годы войны и в послевоенное время в цоколе Краеведческого музея со стороны Рабочей улицы находилась лавка, в которой торговали керосином. Всегда были большие очереди, так как пищу готовили на керосинках и керогазах.
Справа напротив сквера под №28 протяжённое двухэтажное здание начала XIX века в стиле раннего классицизма с простым ампирным фасадом, с мощными стенами и парадным подъездом, который украшает чугунный козырёк над входом на чугунных литых опорах. С 1970-х здесь находится Вечерняя сменная общеобразовательная школа №1 (в прошлом Школа рабочей молодёжи – ШРМ №1). Вечерняя школа была создана в 1944 году, занятия проходили в здании школы №6 (старой). После войны многие взрослые люди, не сумевшие получить полноценное школьное образование, могли восполнить этот пробел в Вечерней школе. Ещё раньше здесь была начальная школа №12.
До революции из этого двухэтажного здания с мощными стенами осуществлялось руководство городом и уездом прежде, чем Городская управа обосновалась на Дворянской улице.
В 1860 годы «с великой пользой для уезда» дворянским предводителем и председателем Земской управы был Поливанов Александр Иванович (1820-1884). В молодости за принятие вызова на дуэль он был разжалован в рядовые. Но за геройство и отвагу, проявленные им на Кавказском фронте, его наградили солдатским Георгиевским крестом, вернули прежний чин ротмистра и присвоили следующий – полковника. В Богородске «в память полезной земской деятельности в зале заседаний уездного земства был помещен его портрет и учреждена стипендия его имени». Впоследствии он самым лучшим образом проявил себя во время переговоров с Турцией.
Справа вглубь двора уходит бывший каретный сарай. Здесь до 1984 года располагалось первое в городе водопроводное хозяйство «Ногинский водоканал». Чуть ближе к Клязьме – первая в городе (1912 г.) артезианская скважина, от которой вода подавалась в водонапорную башню и из неё в городские сети.
№32. Магазин стройматериалов. Рядом на тротуаре чудом сохранилась водопроводная колонка. Полвека назад водопровод был не в каждом доме, и жители брали воду из таких колонок.
Рядом с Городской управой находился Полицейский участок. Бывший Полицейский переулок в 1911 году стал называться Толстовской улицей.
№79. На углу с Толстовской улицей, в просторном двухэтажном особняке до революции находился трактир. 16 октября 1936 года здесь открылся городской Дом пионеров. В то время здесь работали всего четыре кружка: театральный, авиамодельный, ИЗО и рукоделия. Директором была Мария Михайловна Белоусова. В годы войны коллектив Дома пионеров переехал в здание кинотеатра «Москино» (Тихвинская церковь), уступив этот особняк ремесленному училищу № 28. Примечательно, что за годы войны Дом пионеров дважды переезжал, но не закрывался. В кружке рукоделия шили и вышивали кисеты для бойцов, вязали носки, рукавицы, шарфы и отсылали на фронт. Была создана концертная бригада, которая выступала в госпиталях города и района. После войны Дом пионеров вернулся в это здание. В 1960-е годы здесь работали уже 25 кружков. В 1968 году для пионеров и школьников города распахнул свои двери новый Дворец пионеров на территории городского парка. Сейчас это Дворец детского и юношеского творчества. А в это здание переехала городская Детская библиотека, работавшая здесь до 2003 года.
№ 83 и № 85. Дома Плоховых
№87. Построил этот дом Миронов Фёдор Кирьянович из Большого Буньково женившись на Софье Григорьевне Тельновой, и поступив на службу на фабрику Шибаева. Его сын Иван Фёдорович - ногинский краевед, участвовал в становлении краеведческого музея. В молодости служил в поезде предреввоенсовета Л.Д. Троцкого. После Гражданской войны остался служить в гараже Троцкого и несколько раз заменял основного шофера. Иван Федорович собирал открытки города Богородска, а также открытки и фотографии с автографами известных земляков. Свою коллекцию он приносил на заседания общественного совета Краеведческого музея.
Сын Ивана Фёдоровича Геннадий Иванович (1926 – 2000) - инженер-атомщик много помогал клубу «Старый город», участвовал в создании «Музея богородской семьи».
№34. Справа через дорогу перпендикулярно к улице Рабочей находится дом, который старожилы называют домом Бачурина. Эта двухэтажная с полуподвалом (занимают магазины) казарма была переоборудована на квартиры. Приблизительно в 1951 г. к казарме пристроили здание вдоль Рабочей. У дома Бачурина есть выход к реке. Однако, как и другие участки на берегу Клязьмы, он захламлён и заброшен. Здесь сохраняются остатки ручья, впадавшего в Клязьму.

№36. Управление социальной защиты населения. В 1968 г. это здание построили для общественной бани. Жители называли её Новой, Старой она стать не успела, здание оказалось непригодным для бани, и уже в 1980-е годы здесь находился Ногинский промторг, с 1990-х - Соцзащита. Известно, что первую общественную баню в Богородске построил фабрикант Памфилов – владелец Успенской фабрики, находилась она на берегу Клязьмы.
№42. Слева от здания Соцзащиты - реконструированное здание, занимаемое коммерческими структурами, в том числе медицинским центром «Тонус».
Рабочая, 42 «Старое» в новой оболочке
№46. За «Тонусом» двор бывшей бани и прачечной. Среди многочисленных построек здесь внимание привлекает башня из тёмно-красного кирпича с готическими заострёнными арками в оконных проёмах. Справа и слева от башни двухэтажные жилые пристройки № 46а и 48а. На крыше башни растут берёзы. Окна выбиты. Архитектура этой башни перекликается с корпусом ленточной фабрики на улице Лебедевой. Такие узкие башни являлись технологическими объектами в текстильном производстве, они были практически на всех фабриках. В этом квартале на плане 1901 года значится красильная фабрика М.А. Сопова.
№48. Двухэтажное кирпичное здание – похоже на фабричные глуховские казармы. Местные жители называют его «морозовским». На северном углу дата «1908» с утраченной цифрой «1». Возможно, Морозовы действительно продали казарму Сопову. Уместно вспомнить, что основатель династии Морозовых Савва Васильевич имел раздаточную контору в Богородске и владение на улице Нижней.
От дома №48 направо удаляется улица Набережная. В излучине Клязьмы находится Спасательная станция. Прежде была лодочная станция.
Налево поднимается улица Красноармейская, с 1911 г. Мариинская (Марьинская).
№52. Ныне действующая городская баня с бассейном. На этом месте в 1901 году находился ещё один лесной склад. Его владельцем был купец И. Прорехов. По одной из версий, 25 августа 1858 года император Александр II с семьёй проездом из Нижнего Новгорода в Москву сделал кратковременную остановку в Богородске в доме купца Иосифа Прорехова, родной брат которого Василий Акимович состоял тогда Городским головой. Он же и встречал царское семейство. На кладбище Тихвинской церкви сохранилось надгробие с надписью: «Почётная гражданка Марина Платоновна Прорехова, скончавшаяся 15 мая 1876 года на 76 году от рождения».
Юрий Владимирович Пушкин жил в доме купца Прорехова после войны. Мальчишкой он много слышал о бывшем владельце дома с мезонином. У Прорехова была мясная лавка, где он торговал колбасами. Во дворе усадьбы была конюшня и колодец с дубовым срубом. Долго ещё жители города пользовались чистейшей водицей.
№60. Западнее территория и корпуса бывшего промышленно-торгового объединения «Ажур», которые арендуют различные организации. Чулочная фабрика дала первую продукцию в 1932 году. Начиналась фабрика с производства кустарей-одиночек, затем кооперативной артели имени Калинина. «Ажур» в Ногинске знали не только благодаря продукции, но и благодаря песням и стихам Льва Геннадьевича Субботина – Генерального директора предприятия. Осенью 2012 года Лев Геннадиевич ушёл из жизни. Он был настоящим патриотом Богородского края. Об этом говорят и названия его песен: «Улица Рабочая», «Боровое», «Богородск», «Город наш», «Клязьма».
№105. Напротив бани новое представительное здание Инспекции налоговой службы по Ногинскому району. На этом месте когда-то стоял дом под №103. В этом деревянном двухэтажном доме проживала семья Титовых. Глава семейства Василий Григорьевич - бухгалтер мясокомбината - в ноябре 1941 года по доносу был арестован. Когда пришли в дом с обыском, в кармане у сына Василия Григорьевича – Алексея, ученика 10-го класса школы имени Короленко, нашли «немецкую фашистскую листовку». В тюрьму увели и отца, и сына. Отца за контрреволюционную профашистскую агитацию приговорили к расстрелу, Алексея – к пяти годам исправительно-трудовых лагерей. Ни отец, ни сын в Ногинск не вернулись. Отец был расстрелян, Алексей умер в лагере в 1943 году.
№115. Ногинская типография находится здесь с 1979 г.
Огородный переулок. На плане города от 1855 года по этому переулку проходила западная граница Богородска. Огородным он назывался по «Огороду этапной команды», который находился у Клязьмы напротив переулка. В 1911 году переулок получил название Синельниковский, но в 1990-е годы вновь стал Огородным.
Что значит «огород этапной команды»? Общеизвестно, что через Богородск по Владимирскому тракту этапом проходили ссыльнокаторжные. Этап – это группа арестантов препровождаемых к месту каторги или ссылки. Этап – это также отрезок пути равный 20-30 верстам, который каторжане могли пройти пешком в течение одного дня. В конце каждого этапа имелась этапная тюрьма. Было такая тюрьма и в Богородске, где каторжане и сопровождающие их жандармы отдыхали. Здесь же происходила смена конвоиров. Этапные команды находились в ведомстве Министерства внутренних дел. Служащие этапной команды имели определённые льготы. На обзаведение хозяйства они получали от казны 50 рублей единовременно, им выделялись земли под постройку дома и для огорода. Каждой команде отводили для огорода по полторы или по две десятины земли.
Следующий переулок Хамовнический. Хамовниками в Древней Руси называли ткачей. Название переулку дали жители, занимающиеся надомным ткачеством, в 1911 году это название стало официальным.
От Огородного переулка до Хамовнического параллельно улице Рабочей севернее проходит улица с затейливым названием Корякин луг. Со слов Евгения Николаевича Маслова (краеведа, основателя клуба «Старый город») известно, что улица образовалась в конце 1950-х годов: здесь в казармах-бараках располагались солдаты и офицерские семьи дорожно-строительных батальонов, которые строили бетонную дорогу Москва – Горький (в то время дорога называлась Москва – Пекин). В конце 1950-х эти части были расформированы.
Рядом (Хамовнический переулок, 2) находилось Управление автодороги Москва – Н.Новгород. После пожара в 2010 году Управление переехало в п. Глухово.
№131. В глубине двора с выходом на Рабочую улицу и на Рогожскую ещё совсем недавно находился старый дом, в котором жила семья Дежосс. До революции Женни Дежосс была в Богородске известна своей общественной благотворительной деятельностью. В известном фотоальбоме «Уездный город Богородскъ на старых фотографиях» есть фотография Женни с сестрой и братом. Бельгиец Виктóр Андре Дежос году в 1895 приехал в Россию с молодой супругой и годовалой дочкой Женни из французского шахтёрского города Лиль. Приехал в поисках лучшей доли. В Богородске у него была то ли раздаточная контора, то ли он скупал товар у надомных ткачей и перепродавал. Позже в семье родилась ещё одна дочка Констанция (Тася), затем сын Генрих. Евгения Дежосс была бессменным председателем уличного комитета на Рабочей улице. Отличалась порядочностью и доброжелательностью.
№86. На доме справа мемориальная доска: «В этом доме жил Герой Советского Союза командир корабля «Бриллиант» МАХОНЬКОВ Михаил Васильевич (1918-1944)». Михаил родился в Большом Буньково. В 1928 году семья переехала в Богородск и поселилась в этом доме. С юных лет Михаил готовил себя к морской службе, занимался в клубе моряков на Черноголовском пруду и после окончания школы № 2 имени Короленко в 1936 году поступил в Одесское мореходное училище. Как лучшего выпускника его направили в Ленинград на курсы по подготовке командного состава Военно-морского флота. В 1944 году он командовал сторожевым кораблём «Бриллиант». Спасая от гибели охраняемый транспорт «Революционер», на котором было много людей, боевой техники и находился штаб похода, «Бриллиант» принял на себя удар фашистской торпеды, от взрыва которой сразу же затонул в холодных водах Карского моря. Михаил Махоньков удостоен высокого звания – Герой Советского Союза. Каждый год в день Военно-морского флота благодарные земляки приносят цветы к этому дому.
Если продолжать движение по улице Рабочей, налево поднимутся ещё несколько переулков, которые с 1911 года сохраняют свои наименования: Сокольнический, Корякинский, Измайловский, Пешковский, Жуковский. Последний переулок Клязьминский, называвшийся прежде Брыкинским. Западная часть Рабочей застроена частными домами. Так как все переулки существовали уже в 1911 году, то и основная масса частных домов имеет весьма солидный возраст..
В последние годы внешний облик города резко меняется не только в центре. Многие владельцы домов перестраивают капитально или облицовывают современными материалами свои дома на свой вкус и исходя из своих финансовых возможностей. К счастью, ещё на многих домах можно видеть необыкновенной красоты наличники, слуховые окна, веранды.
Рабочая, 143
Улица Рабочая заканчивается номерами домов №140 по чётной стороне и №195 по нечётной. На берегу
Tags:
Улица Рабочая. Елагины
- Aug. 6th, 2016 at 7:00 PM
Елагины
Владения Елагиных простирались от Богородско-Глуховского шоссе (ул. Климова) до Богоявленского собора. Здесь находились фабричные корпуса, склады, казармы, дома, где проживали семьи владельцев, богадельня.
В 1825 г. (по Токмакову в 1830 г.) Фёдор Никитич Елагин перевёл в Богородск своё шелкоткацкое заведение из деревни Гаврилово. Прежде в Богородске не было фабрик, все они находились в селениях Богородского уезда. Первые корпуса фабрики Федора Елагина выросли на восточной окраине города на берегу Клязьмы. В 1830 году фабрика выпустила первую продукцию.
Сыновья Фёдора Никитича продолжили и развили дело отца. В 1873 г. Анисим Федорович «совершил выдел братьев своих из общей фабрики и учредил торговый дом «Анисим Елагин и сыновья». Товарищество «Фёдор Елагин с сыновьями» возглавляли его братья, затем племянники.
Анисим Федорович был уважаемым в городе человеком. С 1864 по 1868 годы избирался городским головой, был ктитором (старостой) Богоявленского собора, активным благотворителем. При нём в городе открылось женское начальное училище, богадельня. А Тихвинская церковь, из скромной кладбищенской церквушки старанием и деньгами Елагиных превратилась в великолепный храм в стиле «русское узорочье», который по объёму и красоте соперничал с собором.
Тихвинская церковь
Тихвинская церковь в честь Тихвинской иконы Божьей Матери была заложена 26 июня 1846 г. Строилась она более 10 лет и освящена была 8 сентября 1857 г. святителем Московским Филаретом (Дроздовым). Церковь тогда выглядела иначе и была значительно скромнее по размеру. Первоначально храм имел один алтарь и был белым пятиглавым в византийском стиле. Колокольня была деревянной. Богослужения совершались только в летнее время, церковь не отапливалась. С восточной стороны располагалось городское кладбище. Первым настоятелем её был протоиерей Александр Сергеевич Успенский. Служил он здесь без малого сорок лет.
В 1871 г.Тихвинская церковь была расширена. В 1878 г. построили трёхъярусную каменную колокольню. Вместимость храма увеличилась в три раза. При строительстве приделов использовался нестандартный тёмно-красный кирпич. Южный придел был освящён в ноябре 1893 г. во имя Святителя и чудотворца Николая. Северный придел во имя Преподобного Сергия Радонежского освятили в 1900 г. Перестройка велась по проекту архитектора Ивана Михайловича Васильева. Его захоронение находится к востоку от алтарного выступа.
Васильев Иван Михайлович (1861 – 1919) – городской архитектор Богородска. Автор проекта расширения Тихвинской церкви (приделы), дома Куприяновых (Рабочая, 47), часовни Александра Невского и Марии Магдалины, торговых рядов (ул. III Интернационала, 72), дома Зотова (Советская, 74), дома Буткевичей (ул. Советская, не сохранился). Его жена Александра Григорьевна, урождённая Куприянова (умерла в 1954 г.). Их дочь – Васильева Евгения Ивановна (1905-1998) – педагог, была завучем купавинской средней школы.
Украшением храма был иконостас, сооружённый в стиле ХVI века, а также было величественное паникадило в виде большого четырёхгранного креста. Всего паникадило несло 272 разноцветных лампадки. «Когда в тёмном храме зажигали это паникадило, как будто парящее в вышине, это было нечто несравненное, волшебное и величественное» - вспоминал Федор Куприянов. Паникадило было изготовлено под руководством Михаила Карповича Извекова – отца Святейшего Патриарха Пимена.
В начале 30-х годов храм закрыли, была разобрана колокольня, снесены главы. В здании был устроен клуб, а затем кинотеатр «Москино», позже переименованный в «Юность», и школа киномехаников. На месте церковного кладбища был разбит сквер и танцевальная площадка.


Кинотеатр «Юность» в здании Тихвинской церкви
Спустя шесть десятилетий в мае 1991 г. была зарегистрирована церковно-приходская община Тихвинской церкви. В октябре того же года был освящён Никольский придел и стали совершаться богослужения. 9 июля 2008 г., в праздник Тихвинской иконы Божией Матери, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий
совершил освящение восстановленного Тихвинского храма. В ходе восстановительных работ в Тихвинской церкви был сооружён уникальный фарфоровый иконостас, изготовленный в Воронеже, в мастерской Шишкина В.Н. Позже фарфоровые иконостасы установили и в приделах. Во всей России подобные фарфоровые иконостасы имеют лишь несколько храмов.
Следующее за Тихвинской церковью промышленное здание – ещё один фабричный корпус бывшей Ново-Ногинской фабрики (фабрики Анисима Елагина сыновей). Это два корпуса, соединённых пристройкой. Правый двухэтажный корпус был административным. Левый трёхэтажный украшала башенка с часами. На его фасаде интересные архитектурные элементы - звёздочки в виде штурвала. Похоже, это розетки металлических перекрытий. А во дворе на берегу Клязьмы трёхэтажное здание бывшей казармы.
Фабрика Анисима  Елагина сыновей
Елагина сыновей
Один из корпусов бывшей Ново-Ногинской фабрики 2012 г.

№45, №47а. Слева, напротив бывшей Ново-Ногинской фабрики, два трехэтажных дома постройки 1959 г. А между ними одноэтажное строение с заколоченными окнами (№45а), с примыкающей к нему жилой двухэтажной постройкой. Эти дома находились на территории хозяйственного двора, занимавшего весь квартал напротив фабрики. От протяженного товарного склада сохранилась его средняя кирпичная часть, в настоящее время используется как жилая.
Рабочая, 45а
Слева за трёхэтажным домом №47А начинается Тихвинская улица (переименована в 1998 г.), Здесь в середине XIX века была восточная окраина города. С 1911 г. – это улица Благовещенская, в советский период – улица Розы Люксембург, названа была в память о немецкой революционерке, деятеле международного коммунистического движения.


|
Метки: губернии романовы мамонтовы |
Щербатова Мария Алексеевна |
Оценить работу Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы»
- Главная
- ›
- М.Ю. ЛЕРМОНТОВ
- ›
- ЖЕНЩИНЫ-АДРЕСАТЫ ЛИРИКИ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА
- ›
- Щербатова Мария Алексеевна
Щербатова Мария Алексеевна
“среди беспощадного света...”
Мария Алексеевна Щербатова (1820-1879) была дочерью украинского помещика А.П. Штерича. После смерти матери она жила в доме бабушки С.И. Штерич в Петербурге. В 1837 г. юная Мария вышла замуж за гусарского офицера князя А.М. Щербатова. Однако через год после свадьбы ее муж заболел и умер – к счастью для молодой женщины, как писала ее родственница, потому что Щербатов оказался «дурным человеком», «злым и распущенным».
Лермонтов познакомился с молодой вдовой в 1839 г. в салоне Карамзиных. Блондинка с синими глазами, она была, по словам М.И. Глинки, «видная, статная и чрезвычайно увлекательная женщина». По свидетельству троюродного брата Лермонтова А.П. Шан-Гирея, поэт был «сильно заинтересован кн. Щербатовой», которая, по его признанию, была такова, «что ни в сказке сказать, ни пером описать». Марии Алексеевне нравилась поэзия Лермонтова. После чтения поэмы «Демон» она сказала автору: «Мне ваш Демон нравится: я бы хотела с ним опуститься на дно морское и полететь за облака».
А.О. Смирнова вспоминала, что как-то при ней Лермонтов пожаловался Марии Алексеевне, что ему грустно. Щербатова спросила, молится ли он когда-нибудь? Он сказал, что забыл все молитвы. «Неужели вы забыли все молитвы, - воскликнула княгиня Щербатова, - не может быть!» Александра Осиповна сказала княгине: «Научите его читать хоть Богородицу». Щербатова тут же прочитала Лермонтову Богородицу. К концу вечера поэт написал стихотворение «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), которое преподнес ей. М.А. Щербатовой посвящено и стихотворение «Отчего»:
Мне грустно, потому что я тебя люблю,
И знаю: молодость цветущую твою
Не пощадит молвы коварное гоненье.
За каждый светлый день иль сладкое мгновенье
Слезами и тоской заплатишь ты судьбе.
Мне грустно... потому что весело тебе.
На долю Марии Алексеевны выпало много испытаний. Ее имя вошло в историю дуэли Лермонтова с французом Э. де Барантом, повлекшей за собой вторую ссылку поэта на Кавказ. А.П. Шан-Гирей писал, что «слишком явное предпочтение, оказанное на бале счастливому сопернику, взорвало Баранта... и на завтра назначена была встреча». Н.М. Смирнов в «Памятных заметках» также рассказывал, что Лермонтов «влюбился во вдову княгиню Щербатову..., за которой волочился сын французского посла барона Баранта. Соперничество в любви и сплетни поссорили Лермонтова с Барантом... Они дрались...»
Через несколько дней после дуэли Мария Алексеевна уехала в Москву. Но позднее, ненадолго вернувшись в Петербург, она виделась с Лермонтовым. П.Г. Горожанский, бывший товарищ поэта по юнкерской школе, вспоминал: «Когда за дуэль с де Барантом Лермонтов сидел на гауптвахте, мне пришлось занимать караул. Лермонтов был тогда влюблен в кн. Щ(ербатову), из-за которой и дрался. Он предупредил меня, что ему необходимо по поводу этой дуэли иметь объяснения с дамой и для этого удалиться с гауптвахты на полчаса времени. Были приняты необходимые предосторожности. Лермонтов вернулся минута в минуту, и едва успел он раздеться, как на гауптвахту приехало одно из начальствующих лиц справиться, все ли в порядке. Я знал, с кем виделся Лермонтов, и могу поручиться, что благорасположением дамы пользовался не де Барант, а Лермонтов».
Вопреки молве Мария Алексеевна не признавала себя виновницей в этой дуэли. В марте 1840 г. она писала А.Д. Блудовой: «Вы знаете, моя дорогая, нет большего позора для женщины, чем низкие домыслы о ней со стороны тех, кто ее знает. Но если женщина слишком горда, она часто предпочитает склонить свою голову перед гнусной клеветой, нежели оказать честь этим клевещущим на нее людям, представляя им доказательства своей чистоты... Я счастлива, что они не поранили один другого, я желаю лучше быть осужденной всеми, но все-таки знать, что оба глупца останутся у своих родителей. Я-то знаю, что значит такая потеря». Потерей Щербатовой был ее двухлетний сын, который умер через две недели после этой злосчастной дуэли.
В мае 1840 г. Лермонтов, направляясь на Кавказ, в Москве, видимо, встретился с Марией Алексеевной в последний раз. 10 мая ее навестил А.Н. Тургенев, который записал в своем дневнике: «Был у кн. Щербатовой. Сквозь слезы смеется. Любит Лермонтова». Через несколько месяцев она уехала за границу, когда вернулась, поэта уже не было в живых. Лирический портрет М.А. Щербатовой поэт создал в стихах.
Автор: научный сотрудник музея-заповедника «Тарханы» Т.Н. Кольян.
М.А. ЩЕРБАТОВОЙ
На светские цепи,
На блеск утомительный бала
Цветущие степи
Украйны она променяла,
Но юга родного
На ней сохранилась примета
Среди ледяного,
Среди беспощадного света.
Как ночи Украйны,
В мерцании звёзд незакатных,
Исполнены тайны
Слова ее уст ароматных,
Прозрачны и сини,
Как небо тех стран, ее глазки,
Как ветер пустыни,
И нежат и жгут ее ласки.
И зреющей сливы
Румянец на щечках пушистых,
И солнца отливы
Играют в кудрях золотистых.
И, следуя строго
Печальной отчизны примеру,
В надежду на Бога
Хранит она детскую веру.
Как племя родное,
У чуждых опоры не просит
И в гордом покое
Насмешку и зло переносит.
От дерзкого взора
В ней страсти не вспыхнут пожаром,
Полюбит не скоро,
Зато не разлюбит уж даром.
М.Ю. Лермонтов, 1840 г.

Кутявин В.Н. «Портрет М.Ю. Лермонтова». Картон, масло, 1988 г.
‹ Назадhttp://www.tarhany.ru/lermontov/zhenschini_adresat.../scherbatova_marija_alekseevna
|
Метки: щербатовы штерич лермонтовы |
Мистический Днепр: призраки дома Струковых |
-
События

Мистический Днепр: призраки дома Струковых
Бывший дом Струковых. Все фото: Шукач.
Новости Днепра - События. 14 августа 2017, 11:18
5785 Комментировать (0) Напечатать
Автор: Екатерина ШЕВЦОВА
исторические здания История Мистика Обзоры
Этот старинный особняк на бывшей Новодворянской улице, 33 (позже Дзержинского, а сегодня Вернадского) кажется, давно уснул в центре шумного мегаполиса. За этими обветшалыми стенами еще полтора столетия назад проходили пышные приемы, а возле парадного входа останавливались экипажи местной знати. Когда-то это здание было самым роскошным имением в Екатеринославе. Начиная с 19 века и до 1941 года за него боролись наиболее влиятельные чиновники города. Никто и подумать не мог, что этот дом хранит страшную тайну.

Дом Струковых сегодня.


Призрак семинариста и пожар
Усадьба указана еще на плане Екатеринослава 1793 года. Особняк в то время принадлежал статскому советнику Петру Штеричу. Правда, он здесь почти не жил. Огромный дом стоял-стоял, пока его временно не отдали Духовной семинарии в 1804 году. Здесь находились только учебные классы. Якобы в это время здесь произошел один жуткий случай.
Одного из учащихся обвинили в краже и грозились отчислить из семинарии. Мальчика жестоко избили, он не выдержал позора и выбросился из окна. Вскоре об этой истории забыли, так как семинарии пришлось искать новое помещение. Штерича назначили губернским предводителем дворянства и он потребовал обратно свое имение в качестве екатеринославской резиденции.
Тогда по городу поползли слухи о том, что в здании обитает потусторонняя сила. Кто-то переставлял предметы в доме, по ночам на лестнице слышались шаги, а иногда какой-то непонятный шепот, будто кто-то пытался рассказать обитателям особняка свою историю. Так продолжалось почти 10 лет.
Штерич снова начал редко бывать в имении, а позже продал ее некому помещику Жмелеву. Тот смог прожить здесь лишь несколько лет, пока вновь не продал дом во владение все той же семинарии, которая располагалась здесь ранее. Вот тут-то и начали происходить поистине мистические вещи.
Обветшалое здание, казалось, было готово развалиться в один миг, поглотив всех своих обитателей. Крыша протекала, отопительные каналы забивались, а однажды ночью здание чуть не сгорело. Как возник пожар, так и неизвестно. После того, как огонь потушили, на одной из стен появился эдакий профиль дьявола из сажи. Конечно, сегодня эта история кажется чем-то из рода фантастики, однако, уже в 1840 году особняк вновь передали новому владельцу. Им стал губернский предводитель дворянства Петр Струков.
Тайна герба
Струковы - это древний дворянский род (выходцы из Воронежской губернии). В Екатеринославе жил Петр Ананьевич Струков. Он-то и решил проблему с якобы проклятым особняком - снес его и построил вместо него каменный дворец. Это было самое большое имение в Екатеринославе того времени: с множеством залов, пышно обставленных комнат и даже собственным садом, высаженным с нуля.
Особняк получился настолько фешенебельным и роскошным по меркам того времени, что в 1873 году уже сын Петра Струкова передал его по просьбе губернатора Ивана Дурново под размещение квартиры и канцелярии екатеринославских губернаторов. Сам Дурново использовал усадьбу в качестве резиденции лишь до 1882 года. Затем здесь работали барон фон Розенберг (1882-1883), камергер, князь Долгоруков (1883-1884), Батюшков (с 1884).
В 1886 году к Батюшкову пришел Струков и попросил свое имение обратно. Он был избран губернским предводителем дворянства и нуждался в собственной городской резиденции. История повторилась.
Правда, не все было так хорошо у четы Струковых. У них было 11 детей и многие умерли, не дожив и до 10 лет. Интересно, что основными наследниками после смерти главы семейства остались трое старших детей, и именно три льва изображены на гербе Струковых, который сопровождает семью еще с 17 века.

Родовой герб Струковых. На щите видны выходящие на правую сторону три золотых льва с красными языками и загнутыми вверх хвостами. В левой половине находится хлебный сноп.
В те времена завещание зачастую подразумевало получение наследниками своей доли в имуществе деньгами. Возможно, именно эти выплаты и стали причиной продажи в 1890-х годах части усадьбы на Новодворянской.
В годы гражданской войны особняк Струковых разграбили, а огромный сад полностью вырубили на дрова. Не осталось ни одного дерева.
Прохожие обходили обветшалый особняк стороной, ведь неизвестно, кто облюбовал заброшенный дом в столь смутное время. В темное время суток в окнах виднелись огни, которые некоторые старожилы приписывали появлению нечистой силы. Скорее всего, причина была намного прозаичней.
Уже в 1920 году здание привели в порядок и отдали под дом отдыха железнодорожников, а в 1929 - под квартиры советских чиновников.
В 30-е годы на месте бывшего сада Струковых построили первый в нашем городе большой стадион "Динамо", а сам особняк использовали как резиденцию для местных властей до начала Великой Отечественной. В годы войны его практически полностью разрушили, но в 45-ом восстановили. Там разместили детский сад, а уже в наши дни сдали под офисы.

Территорию бывшего стадиона "Динамо" хотели превратить в парк, но из этого ничего не вышло - на его месте возникли "Башни".
https://dp.vgorode.ua/news/sobytyia/337321-mystych...dnepr-pryzraky-doma-strukovykh
|
Метки: струковы |
Княгиня Щербатова и судьба Лермонтова |
Княгиня Щербатова и судьба Лермонтова

Создать демотиватор
ЩЕРБ́́АТОВА Мария Алексеевна (урожд. Штерич) (ок. 1820—79), княгиня; в первом браке за князем М.
А. Щербатовым, во втором — за И. С. Лутковским. Лермонтов был увлечен ею в 1839—40. Молодая вдова, красивая и образованная, Щербатова вела в Петербурге светский образ жизни, но предпочитала балам салон Карамзиных, где, видимо, и познакомилась с Лермонтовым. «Поэтическая дружба» связывала Щербатову с М. И. Глинкой (см. М. И.Глинка. Записки, Л., 1953, с. 136). Щербатова высоко ценила поэзию Лермонтова; после чтения у нее «Демона» она сказала поэту: «Мне ваш Демон нравится: я бы хотела с ним опуститься на дно морское и полететь за облака» (Столыпин Д. А. и Васильев А. В., в кн.: Воспоминания) . По свидетельству А. И. Тургенева, Щербатова испытывала к Лермонтову серьезное чувство («Сквозь слезы смеется. Любит Лермонтова»). Однако бабушка Щербатовой (С. И. Штерич), как вспоминает А. О. Смирнова, «ненавидела Лермонтова» и желала, чтобы на ее внучке женился И. С. Мальцов. Лермонтов бывал у Щербатовой в Петербурге в доме на Фонтанке (ныне № 101) и на даче в Павловске, встречался с ней у общих петерб. знакомых, а в мае 1840 — в Москве. Соперничество в ухаживании Лермонтова и Э. Баранта за Щербатовой считается одной из возможных причин дуэли между ними. Поэт посвятил Щербатовой стих. «Молитва» («В минуту жизни трудную») и «М. А. Щербатовой». Последнее отдано в печать после смерти Лермонтова самою Щербатовой («ОЗ», 1842, № 1). По предположению Б. Эйхенбаума [(5), II, с. 218], к Щербатовой обращено и стих. «Отчего».
Литература: Смирнов Н. М., Из памятных заметок, «РА», 1882, № 2, с. 239—40;Семевский М. И., Устные рассказы Е. А. Сушковой, в кн.: Сушкова, с. 225;Смирнова-Россет А. О., Автобиография. (Неизд. материалы), М., 1931, с. 247; Пахомов Н., Письмо Л. к А. И. Тургеневу, ЛН, т. 45—46, с. 28—29;Майский (3), с. 154, 161—62; Мануйлов (9), с. 270—72; Нейман Б.,Прокопенко Л., Украинская страница биографии поэта, «Радуга», 1964, № 10, с. 164—65; Тургенев А. И., Хроника русского. Дневники, М. — Л., 1964, с. 493; Шан-Гирей А. П., в кн.: Воспоминания; Корф М. А., там же;Мануйлов (13), с. 330—31, 361—64,

Создать демотиватор
Лермонтовская энциклопедия - http://dic.academic.ru/dic.nsf/lermontov/1546/%D0%...%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
Л. Н. НАЗАРОВА http://feb-web.ru/feb/lermont/critics/lsb/lsb-278-.htm
М. А. ЩЕРБАТОВА И СТИХОТВОРЕНИЯ ЛЕРМОНТОВА,
ЕЙ ПОСВЯЩЕННЫЕ
О княгине Марии Алексеевне Щербатовой в литературе о Лермонтове имеются в общем довольно скудные и разрозненные сведения.1 Между тем поэт посвятил ей стихотворения «Молитва» («В минуту жизни трудную») и «<М. А. Щербатовой>». По предположению Б. М. Эйхенбаума,2 М. А. Щербатовой адресовано и стихотворение «Отчего».
Имя ее вошло также в историю дуэли Лермонтова с Э. де Барантом, повлекшей за собой вторую ссылку поэта на Кавказ; об этом свидетельствуют многие из современников поэта, в частности А. П. Шан-Гирей, Н. М. Смирнов, А. И. Тургенев, М. А. Корф и другие. Указав, что зимой 1839 г. Лермонтов был «сильно заинтересован кн. Щербатовой», Шан-Гирей пишет далее, что «слишком явное предпочтение, оказанное на бале счастливому сопернику, взорвало Баранта <...> и на завтра назначена была встреча».3 Н. М. Смирнов в «Памятных заметках» также рассказывает: «...он (Лермонтов, — Л. Н.) влюбился во вдову княгиню Щербатову <...> за которою волочился сын французского посла барона Баранта. Соперничество в любви и сплетни поссорили Лермонтова с Барантом... Они дрались...».4
Что же представляла собой женщина, вдохновившая поэта на создание замечательных лирических стихотворений, какова была ее жизненная судьба? На эти вопросы проливают свет некоторые мало привлекавшиеся до сих пор источники, а также архивные материалы.
Мария Алексеевна Щербатова (род. около 1820 г.) была дочерью украинского помещика Алексея Петровича Штерича. В 1837 г. она вышла замуж за князя Александра Михайловича Щербатова (1810 — 1838).5 Некоторые сведения об ее неудачном
279
замужестве содержатся в неопубликованных письмах Екатерины Евгеньевны Кашкиной к ее двоюродной племяннице Прасковье Александровне Осиповой,6 владелице Тригорского, близкой приятельнице Пушкина. Е. Е. Кашкина была дальней родственницей («кузиной») или свойственницей Серафимы Ивановны Штерич (1778 — 1848), бабушки М. А. Щербатовой. Позднее Поликсена Алексеевна Штерич, младшая сестра М. А. Щербатовой, стала второй женой А. А. Грессера, за которым была ранее (с 1833 г.) замужем Варвара Николаевна Кашкина, племянница и воспитанница Е. Е. Кашкиной.7
29 апреля 1838 г.8 Е. Е. Кашкина сообщала П. А. Осиповой, что молодая Мария Штерич, вышедшая замуж за Щербатова год и несколько месяцев тому назад, уже стала вдовой. Муж умер в деревне, а еще ранее бабушка («la cousine Schteritchs») привезла внучку в Петербург, чтобы здесь состоялись ее первые роды. Далее сообщается, что муж М. А. Щербатовой был молодым военным и служил в одном из гусарских гвардейских полков. С. И. Штерич предполагала, что ее внучка будет счастлива, но эти иллюзий продолжались недолго. Летом бабушка сопровождала молодую чету в деревню и заметила, но слишком поздно, что единственной заслугой молодого мужа было то, что он имел тысячу душ крестьян и титул князя. По словам С. И. Штерич, Мария была несчастлива, так как ее супруг оказался злым и распущенным человеком («méchant et libertin»). «Кузина, — заключает Е. Е. Кашкина, — сетует на судьбу своей внучки».9
Прошло четыре года. 2 августа 1842 г. Е. Е. Кашкина в письме к П. А. Осиповой снова обращается к истории неудачного брака М. А. Щербатовой. Подчеркнув, что муж внучки С. И. Штерич был дурной человек («mauvait sujet»), она пишет, что, к счастью для молодой женщины, он умер через год и несколько месяцев после брака.10
В 1838 г. молодая вдова М. А. Щербатова, интересовавшаяся литературой и искусством, встречалась с М. И. Глинкой. Ее сестре Поликсене композитор давал уроки пения.11 В недавнем прошлом М. И. Глинка был близким другом рано умершего Евгения Петровича Штерича (1809 — 1833), камер-юнкера, композитора-любителя, сына С. И. Штерич, дяди Марии и Поликсены.
М. И. Глинка, по его словам, в доме С. И. Штерич стал «как домашний, нередко обедал и проводил часть вечера». М. А. Щербатова,
280
утверждал он, была «видная, статная и чрезвычайно увлекательная женщина». «Иногда получал я, — вспоминает Глинка, — от молодой княгини маленькие записочки, где меня приглашали обедать с обещанием мне порции луны и шубки. Это означало, что в гостиной княгини зажигали круглую люстру из матового стекла, и она уступала мне свой легкий соболий полушубок, в котором мне было тепло и привольно. Она располагалась на софе, я на креслах возле нее; иногда беседа, иногда приятное безотчетное мечтание доставляли мне приятные минуты. Мысль об умершем друге (Е. П. Штериче, — Л. Н.) была достаточна, чтобы удержать мое сердце в пределах поэтической дружбы».12
Возможно, что Лермонтов познакомился с М. А. Щербатовой у Карамзиных в 1839 г. Поэт стал бывать в этом литературном салоне начиная со 2 сентября 1838 г. Но имена Лермонтова и Щербатовой одновременно впервые упоминаются в письмах С. Н. Карамзиной к Е. Н. Мещерской от 1 и 17 августа 1839 г.13 Вскоре Лермонтов начал посещать Щербатову в петербургском доме ее бабушки С. И. Штерич (ныне № 101 по наб. Фонтанки)14 и на даче в Павловске. Редко читавший свои произведения в светских гостиных, поэт несомненно делал исключение для М. А. Щербатовой. Однажды после чтения у нее поэмы «Демон» Щербатова сказала Лермонтову: «Мне ваш Демон нравится: я бы хотела с ним опуститься на дно морское и полететь за облака».15Наконец, поэт мог встречать Щербатову также у общих знакомых, на светских балах, в театрах. Ведь круг знакомых был в основном один и тот же. В записях за 1839 — 1840 гг. неопубликованного дневника К. П. Колзакова, гвардейского офицера, встречаются упоминания не только о Лермонтове, но и о Щербатовой, а также ее сестре.16 Так, например, княгиню Щербатову «с хорошенькою m-lle Стерич» Колзаков видел во Французском театре 31 октября 1839 г. 7 января 1840 г. Колзаков снова встретил Щербатову и ее сестру.17
А. О. Смирнова вспоминает о том, при каких обстоятельствах написано было Лермонтовым стихотворение «Молитва». «Машенька
281
(М. А. Щербатова, — Л. Н.) велела ему молиться, когда у него тоска. Он <...> обещал и написал ей эти стихи:
В минуту жизни трудную...».
Высокую оценку стихотворение получило у Белинского, который процитировал его полностью в статье «Стихотворения М. Ю. Лермонтова» (1841). Критик, отвечая тем, кто отрицал достоинства стихотворения «И скучно и грустно», писал: «...из того же самого духа поэта, из которого вышли такие безотрадные, леденящие сердце человеческое звуки, из того же самого духа вышла и эта молитвенная, елейная мелодия надежды, примирения и блаженства в жизни жизнию».18
Между прочим, А. О. Смирнова пишет, что М. А. Щербатова «чувствовала себя несчастной у Серафимы Ивановны (Штерич, — Л. Н.), которая ненавидела Лермонтова и хотела непременно, чтобы на ней женился Иван Сергеевич [Мальцев]».19 Жизнь М. А. Щербатовой была осложнена и теми сплетнями, злословием на ее счет, которые были связаны прежде всего с ее неудачным браком и завещанием покойного мужа князя А. М. Щербатова (согласно ему, потеряв маленького сына,20 она лишилась почти всего состояния, перешедшего в основном обратно в род Щербатовых). Отголоски светских сплетен и пересудов на эту тему сохранились в воспоминаниях современников.21
И поэт имел право, восхищаясь стойким характером и независимостью М. А. Щербатовой, написать о ней:
Как племя родное,
У чуждых опоры не просит
И в гордом покое
Насмешку и зло переносит...
(1, 429)
Сходные мысли выразил Лермонтов и в стихотворении «Отчего»:
Мне грустно, потому что я тебя люблю,
И знаю: молодость цветущую твою
Не пощадит молвы коварное гоненье.
За каждый светлый день иль сладкое мгновенье
Слезами и тоской заплатишь ты судьбе.
Мне грустно... потому что весело тебе.
(1, 444)
282
О стихотворении «Отчего» с восторгом писал В. Г. Белинский в цитированной выше статье: «Это вздох музыки, это мелодия грусти, это кроткое страдание любви, последняя дань нежно и глубоко любимому предмету от растерзанного и смиренного бурею судьбы сердца! <...> Здесь говорит одно чувство, которое так полно, что не требует поэтических образов для своего выражения...».22
После дуэли Лермонтова с Э. Барантом М. А. Щербатова 22 февраля23 поспешила в Москву, но позднее, приехав, очевидно, на могилу сына, она виделась с поэтом. Об этой их встрече известно со слов дежурного офицера П. Г. Горожанского, бывшего воспитанника школы юнкеров. Именно он разрешил Лермонтову отлучиться с гауптвахты, рискуя быть наказанным за это.24
В мае 1840 г. Лермонтов и Щербатова, возможно, виделись и в Москве, где ее навестил А. И. Тургенев, который в своем дневнике 10 мая 1840 г. записал: «Сквозь слезы смеется. Любит Лермонтова».25
Да, М. А. Щербатова несомненно серьезно любила поэта, но отвечал ли он ей взаимностью? Ответить на этот вопрос однозначно довольно трудно. Конечно, Лермонтов был увлечен Щербатовой, бывал у нее дома, открыто ухаживал за нею, встречаясь у общих знакомых, на светских балах и вечерах. Но писем Лермонтова сохранилось мало, воспоминания современников скудны. Обратимся, однако, именно к ним — свидетельствам мемуаристов.
А. П. Шан-Гирей, близкий друг и родственник поэта, указывает, что Лермонтов был «сильно заинтересован кн. Щербатовой», которая, по собственному признанию поэта, была такова, «что ни в сказке сказать ни пером описать».26
М. Н. Лонгинов, тоже родственник Лермонтова, хотя и дальний, высказался более определенно. О стихотворении «<М. А. Щербатовой>» он писал: «Кто не помнит вдохновенного портрета нежно любимой им женщины (курсив наш, — Л. Н.):
Как ночи Украины,
В мерцании звезд незакатных,
Исполнены тайны
Слова ее уст ароматных».27
283
Думается, что Лонгинов в этом суждении был прав. Стихотворение «<М. А. Щербатовой>» о многом говорит и позволяет думать об ответном чувстве поэта.
Лермонтов создал в нем необычайно привлекательный внешний и внутренний облик героини. Блондинка («И солнца отливы Играют в кудрях золотистых») с синими глазами («Прозрачны и сини, Как небо тех стран, ее глазки»), она обладает именно теми чертами, которые в любовной лирике первой трети XIX в. (например, Е. А. Баратынского) ассоциировались с носительницей «небесной души», противопоставленной «красе черноокой» с ее «недобрым лукавством».28
Справедливо рассматривать стихотворение «<М. А. Щербатовой>» в ряду тех стихотворений («Памяти А. И. Одоевского», «Как часто, пестрою толпою окружен» и др.), где беспощадному свету противопоставлен «мир природы, величественный, живой, свободный и гармоничный».29 Однако лучшие черты характера героини — ее внутренняя красота, благородство, мужество, связаны не только с миром природы; они объясняются также особенностями национального характера украинского народа.
Современники Лермонтова восхищались стихотворением «<М. А. Щербатовой>». Так, Белинский считал, что оно принадлежит к «драгоценнейшим перлам созданий <...> поэта»30 наряду со стихотворениями «Соседка», «Договор», отрывками из «Демона», поэмой «Боярин Орша», а также лучшим, самым зрелым из произведений Лермонтова — «Сказкой для детей».
А. В. Кольцов 27 февраля 1842 г. с восторгом писал Белинскому: «Лермонтова „На украинские степи“ чудо как хорошо, из рук вон хорошо!».31
Сильное впечатление произвело это стихотворение и на Н. С. Лескова, который, по словам его сына, говоря о своей жене, с «убежденностью» относил «к ней <...> строки особо чтимого им поэта, посвященные украинке же, М. А. Щербатовой:
От дерзкого взора
В ней страсти не вспыхнут пожаром,
Полюбит не скоро,
Зато не разлюбит уж даром.
Это в устах Лескова являлось высшим признанием».32
284
Со времени гибели Лермонтова прошло более двух лет. 20 ноября 1843 г.33 Е. Е. Кашкина сообщала П. А. Осиповой о предстоящем вторичном браке М. А. Щербатовой. Она собиралась выйти замуж за полковника гвардии Лутковского. 3 января 1844 г. Е. Е. Кашкина писала о том, что свадьба состоялась в Малороссии, у отца невесты.34
С Иваном Сергеевичем Лутковским (1805 — 1888) Щербатова, вероятно, встречалась ранее у Карамзиных. В 1836 — 1841 гг. он был командиром третьей батареи гвардейской конно-артиллерийской бригады,35 т. е. сослуживцем А. Н. и Андр. Н. Карамзиных.36 Впоследствии И. С. Лутковский был генералом от артиллерии, генерал-адъютантом (с 1856 г.), членом Военного совета (с 1862 г.).37 Брак с И. С. Лутковским, вероятно, оказался для М. А. Щербатовой более счастливым, чем первое ее замужество. Она на много лет пережила Лермонтова, скончавшись 15 декабря 1879 г.38
Сноски
Сноски к стр. 278
1 Наиболее существенные из источников (воспоминаний, книг, статей) см. в изд.: Лермонтовская энциклопедия. М., 1981, с. 628.
2 См.: Лермонтов М. Ю. Полн. собр. соч. М.; Л., 1936, т. 2, с. 218.
3 М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М., 1972, с. 46.
4 Рус. арх., 1882, № 2, с. 239.
5 См. о нем в статье Е. И. Мительмана «Еще о М. А. Щербатовой» (наст. сборник, с. 285 — 286).
Сноски к стр. 279
6 ИРЛИ, 22914/CLXб28. Несколько отрывков из этих писем (за 1829, 1831, 1834 — 1835, 1837 и 1843 гг.), не имеющих отношения к Штеричам и М. А. Щербатовой, опубликованы в статье:Модзалевский Б. Л. Поездка в село Тригорское в 1902 г.: (Отчет Отделению русского языка и словесности императорской Академии наук). — В кн.: Пушкин и его современники: Материалы и исследования. Спб., 1903, вып. 1, с. 65 — 72.
7 См.: Кашкин Н. Н. О роде Кашкиных. Спб., 1913, с. 367.
8 Год проставлен неизвестной рукой.
9 ИРЛИ, 22914/CLXб28, л. 129 об. — 130 (подлинники по-французски).
10 Там же, л. 200.
11 Глинка М. Письма и документы. М., 1953, с. 815.
Сноски к стр. 280
12 Глинка М. Записки / Под ред. В. Богданова-Березовского. Л., 1953, с. 136.
13 См.: М. Ю. Лермонтов: Исследования и материалы. Л., 1979, с. 325, 363, 368.
14 См.: Назарова Л. Н. М. Ю. Лермонтов. — В кн.: Литературные памятные места Ленинграда. Л., 1976, с. 171. 22 декабря 1839 г. М. А.. Щербатову навестил А. И. Тургенев и застал у нее Лермонтова (см.: Гиллельсон М. И. А. И. Тургенев и его литературное наследство. — В кн.: Тургенев А. И. Хроника русского: Дневники (1825 — 1826). М.; Л., 1964, с. 493).
15 Столыпин Д. А., Васильев А. В. Воспоминания: (В пересказе П. К. Мартьянова). — В кн.: М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников, с. 166.
16 См. об этом в статье И. С. Чистовой «Дневник гвардейского офицера» (наст. сборник, с. 165).
17 ИРЛИ, ф. 484, № 39, л. 101; № 40, л. 9.
Сноски к стр. 281
18 Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1954, т. 4, с. 527 — 528.
19 Смирнова-Россет А. О. Автобиография: (Неизданные материалы) / Подгот. к печ. Л. В. Крестова. М., 1931, с. 247.
20 См. об этом в статье Е. И. Мительмана «Еще о М. А. Щербатовой» (наст. сборник, с. 286).
21 См., например: Корф М. А. Из дневника. — В кн.: М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников, с. 230 — 231. Позднее П. И. Бартенев, со слов лиц, знавших поэта, записал, что Лермонтов и Барант «поссор<ились> за Штерич, к<оторая> тогда была богатою вдовою кн<язя> Щербатова. Когда у нее ум<ер> ребенок и она стала бедна, Л<ермонтов> ее бросил» (ААН, ф. 111, № 11, л. 1; сообщил В. Э. Вацуро). Утверждение, касающееся поэта, весьма сомнительно.
Сноски к стр. 282
22 Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 4, с. 532.
23 ЦГИА, ф. 1343, оп. 46, № 979, л. 276.
24 Висковатый П. А. Михаил Юрьевич Лермонтов: Жизнь и творчество. М., 1891, с. 318 (ср.:Найдич Э. Э. Стихотворение «М. А. Щербатовой»: (Лермонтов и Е. П. Гребенка). — В кн.: М. Ю. Лермонтов: Исследования и материалы, с. 404).
25 Лит. насл. М., 1948, т. 45 — 46, с. 420.
26 М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников, с. 46.
27 Рус. вестн., 1860, т. 26, № 4, кн. 2, отд. VI, с. 388. Вновь и вновь перечитывая стихотворения Лермонтова, обращенные к М. А. Щербатовой и исполненные высокой поэзии и большого чувства, трудно согласиться о А. Марченко. В своей интересной в целом статье она высказывает малообоснованное, на мой взгляд, предположение о том, что история взаимоотношений поэта с М. А. Щербатовой нашла отражение в «Княжне Мери», над которой Лермонтов работал зимой 1839 г. (см.: Марченко А. «С милого севера в сторону южную...»: (Эскиз к портрету). — В кн.:Лермонтов М. Ю. В тот чудный мир тревог и битв... М., 1976, с. 397 — 400).
Сноски к стр. 283
28 См.: Чистова И. С. Заметки о двух стихотворениях Лермонтова. — Рус. лит., 1981, № 2, с. 180.
29 Альбеткова Р. А. Человек и природа в лирике Лермонтова 1837 — 1841 годов. — В кн.: Традиции и новаторство в русской литературе: Сб. тр. М., 1973, с. 66 — 67 (Тр. Моск. обл. пед. ин-та им. Н. К. Крупской); см. также: Рубанович А. Л. Эстетические идеалы М. Ю. Лермонтова. Иркутск, 1968, с. 133 — 134; Найдич Э. Э. «<М. А. Щербатовой>». — В кн.: Лермонтовская энциклопедия, с. 628.
30 Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1955, т. 6, с. 533.
31 Кольцов А. В. Соч. М., 1966, с. 412.
32 Лесков Андрей. Жизнь Николая Лескова по его личным, семейным и несемейным записям и памятям. М., 1954, с. 346.
Сноски к стр. 284
33 Год проставлен неизвестной рукой.
34 ИРЛИ, 22914/CLXб28, л. 215 об., 218 (подлинники на французском языке).
35 См.: Потоцкий Павел. История гвардейский артиллерии. Спб., 1896, с. 385.
36 См.: Пушкин в письмах Карамзиных 1836 — 1837 годов. М.; Л., 1960, с 356, 387
37 Рус. инвалид, 1888, 31 дек., № 282, с. 3.
38 См.: Руммель В. В., Голубцов В. В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. Спб., 1886, т. 1, с. 567. В кн.: Мануйлов В. А. Лермонтов в Петербурге. Л., 1964, с. 271, примеч. 2 — ошибочно указано, что во втором браке М. А. Щербатова была за Ф. С. Лутковским.
А вот стихи, посвященные Щербатовой - целиком:
Молитва
В минуту жизни трудную,
Теснится ль в сердце грусть,
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.
5Есть сила благодатная
В созвучье слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.
С души как бремя скатится,
10Сомненье далеко —
И верится, и плачется,
И так легко, легко.

Создать демотиватор
На светские цепи...
М. А. ЩЕРБАТОВОЙ
На светские цепи,
На блеск утомительный бала
Цветущие степи
Украйны она променяла,
Но юга родного
На ней сохранилась примета
Среди ледяного,
Среди беспощадного света.
Как ночи Украйны,
В мерцании звезд незакатных,
Исполнены тайны
Слова ее уст ароматных,
Прозрачны и сини,
Как небо тех стран, ее глазки,
Как ветер пустыни,
И нежат и жгут ее ласки.
И зреющей сливы
Румянец на щечках пушистых
И солнца отливы
Играют в кудрях золотистых.
И, следуя строго
Печальной отчизны примеру,
В надежду на бога
Хранит она детскую веру;
Как племя родное,
У чуждых опоры не просит
И в гордом покое
Насмешку и зло переносит;
От дерзкого взора
В ней страсти не вспыхнут пожаром,
Полюбит не скоро,
Зато не разлюбит уж даром.
Ключевые слова: М.А. Щербатова, М.Ю. Лермонтов
https://s30556663155.mirtesen.ru/blog/43710890109/...SCHerbatova-i-sudba-Lermontova
!
|
Метки: щербатовы лермонтовы штерич |
Княжна Антонина Сергеевна Щербатова (Кропоткина) |
ерсоны > Княжна Антонина Сергеевна Щербатова (Кропоткина)
|

|
 |
Близкие родственники |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||
 |
 |
|
|
|
Метки: кропоткины щербатовы |
Кнжна Наталья Алексеевна Кропоткина |
|
|
||
 |
 |
Загрузите наше замечательное генеалогическое программное обеспечение
 Интересно и легко в использовании
Интересно и легко в использовании
 Легко импортирует Ваши файлы GEDCOM
Легко импортирует Ваши файлы GEDCOM
 Технология Smart Matching™
Технология Smart Matching™
 Поддерживается 40 языков
Поддерживается 40 языков
|
|
|

|
 |
Близкие родственники
БиографияКрещена 26 августа в пpиходе цеpкви л.-гв. Киpасиpского Е.И.В. полка; восприемники: отставной гв. ротмистр кн. Иван Алексеевич К., отставной гв. штаб-ротмистр кн. Иосиф Сергеевич Щербатов и действительная тайная советница кн. Анна Михайловна Щербатова.1.1.1897 за ней в нераздельном владении с сестрой вдовой титулярного советника Антониной Алексеевной Галаховой по данным Дворянского банка показано 4938 дес. земли, которые и были заложены в указанном банке. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Метки: кропоткины |
нязь Алексей Алексеевич Кропоткин |
 |
 |
Близкие родственники
БиографияКpещен 11 февpаля в Рязанской Воскpесенской цеpкви; воспpиемники: кн. Алексей Иванович К. и жена статского советника Маpия Александpовна Галахова.Из дворян Рязанской губ., сын генерала-майора. Воспитывался в Николаевском Кавалерийском училище, куда вступил юнкером рядового звания 31.08.1877; произведен юнкером унтер-офицерского звания 14.07.1878; В молодости он уехал на Дон, где увлекся казачьим бытом, записался в одну из казачьих станиц и вышел в Лейб-Гвардии Казачий полк . Зачислен в запас гвардейской кавалерии 25.05.1885; уволен в отставку 16.12.1887. Сотник лейб-гв. Казачьего полка Но 23-х лет ушел с военной службы и посвятил себя хозяйству в своем имении в Рязанской губернии и там же начал свою работу по земству. В 1899 году переехал в Казань и здесь увлекся большими планами дорожного строительства, полагая, что одна из бед развития России была в бездорожии. Действительный статский советник, в 1914-1917 Цивильско-Ядринский предводитель дворянства. В 1917 году он, после февральской революции, примкнул к Всероссийскому Крестьянскому Съезду, но практически, из за скорого появления большевиков, работа его здесь не осуществлялась. Участник Белого движения. В белых войсках Восточного фронта в Приморском правительстве, на 1922.01.08 член общества офицеров гвардии на Дальнем Востоке, с 1922.08. член Земской Думы. В эми-грации в США. Член Общества ветеранов, почетный мировой судья, действительный статский советник Сотник Лейб-гвардии казачьего полка. С 1885 находился в отставке. В эмиграции жил в США, работал на заводе, затем на ферме дочери. женат на Елизавете Павловне Галаховой, за женой в Лаишевском у. 1300 дес. земли. Внесен в 5-ю часть дворянской родословной книги Рязанской губернии и в 5-ю часть дворянской родословной книги Казанской губернии по определению Казанского дворянского депутатского собрания от 1896.02.27, утвержден указом Герольдии от 1861.10.09, герб рода внесен в 5-ю часть 1-го отделения ОГДР. двн.-Казань-губ.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Метки: кропоткины |
Княжна Мария Алексеевна Кропоткина (Пожидаев) |
Персоны > Княжна Мария Алексеевна Кропоткина (Пожидаев)
|

|
 |
Близкие родственники
БиографияКpещена 17 апpеля в Стаpоямской Николаевской цеpкви г. Рязани; воспpиемники: генеpал-лейтенант кн. Алексей Иванович К. и жена камеp-юнкеpа Двоpа Е.И.В. Павла Александpовича Галахова Маpия Александpовна.Муж; 1. Пожидаев; 2. Билкевич. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||
 |
 |
https://www.myheritage.com/person-2000026_19059531...поткина-РїРѕР
|
Метки: кропоткины |
Князь Иван Алексеевич Кропоткин |
Вы не авторизованыАвторизацияРегистрация
Кропоткин Web Site
Персоны > Князь Иван Алексеевич Кропоткин
|

|
 |
Близкие родственникиБиографияКpещен 11 февpаля 1889 года в Рязанской Воскpесенской цеpкви; воспpиемники: кн. Алексей Иванович К. и жена статского советника Маpия Александpовна Галахова.Первый Кадетский Корпус, Николаевское Кавалерийское Училище В 1911 году. Офицер 11-го уланского полка. Ротмистр 5-го Нижегородского драгунского полка. В Добровольческой армии и ВСЮР командир сотни 1-го Кабардинского полка. Во ВСЮР и Русской Армии в Ялтинской комендантской команде до эвакуации Крыма. Эвакуирован из Ялты на корабле . В эмиграции. Убит 1928. Жена Мещеринова Вера Николаевна, р. 1897, дочь Елизавета, р. 1917. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||
 |
 |

|
|
|
Метки: кропоткины |
Кропоткин, Пётр Алексеевич |
Кропоткин, Пётр Алексеевич
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 5 декабря 2018; проверки требует 1 правка.

Перейти к навигации Перейти к поиску
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Кропоткин.
| Пётр Алексеевич Кропоткин | |
|---|---|
 ок. 1900 г. |
|
| Псевдонимы | Пётр Алексеев[1] |
| Дата рождения | 9 декабря 1842 |
| Место рождения | Москва, Московская губерния, Российская империя |
| Дата смерти | 8 февраля 1921 (78 лет) |
| Место смерти | Дмитров, Московская губерния, РСФСР |
| Страна |  Российская империя→ Российская империя→ Российская республика→ Российская республика→ РСФСР РСФСР |
| Альма-матер | |
| Язык(и) произведений | английский, русский[2] и французский |
| Школа/традиция | Философия XIX века, Философия XX века |
| Направление | анархизм |
| Основные интересы | кооперация, взаимопомощь, труд, власть, федерализм, география, история, этика, социальная философия, политическая философия |
| Значительные идеи | анархо-коммунизм, «взаимопомощь как фактор эволюции» |
| Оказавшие влияние | Бакунин, Прудон[3], народники |
| Испытавшие влияние | все последующие теоретики анархизма и родственных течений |
 Пётр Алексеевич Кропоткин в Викитеке Пётр Алексеевич Кропоткин в Викитеке |
|
 Пётр Алексеевич Кропоткин на Викискладе Пётр Алексеевич Кропоткин на Викискладе |
|
| В Википедии есть портал «Анархизм» |
Князь Пётр Алексе́евич Кропо́ткин (9 декабря 1842, Москва — 8 февраля 1921, Дмитров) — русский революционер-анархист, учёный географ и геоморфолог. Исследователь тектонического строения Сибири и Средней Азии и ледникового периода. Известный историк, философ и публицист, создатель идеологии анархо-коммунизма и один из самых влиятельных теоретиков анархизма. Из рода Кропоткиных.
Содержание
- 1 Биография
- 2 Об анархизме и государстве
- 3 Общественная и политическая деятельность
- 4 Вклад в науку
- 5 Членство в организациях
- 6 Награды
- 7 Семья
- 8 Адреса
- 9 Память
- 10 Интересные факты
- 11 См. также
- 12 Библиография
- 13 Примечания
- 14 Литература
- 15 Ссылки
Биография[править | править код]
Родился 27 ноября (9 декабря) 1842 года в Москве в доме 26 по Штатному переулку.
Его семья принадлежала к древнему роду князей Смоленских, Рюриковичей в тридцатом поколении. Фамилия происходила от прозвища князя Дмитрия Васильевича Крапотки (Кропотки), современника Ивана III.
Екатерина Николаевна Кропоткина — мать революционера
- Отец — князь Алексей Петрович Кропоткин (1805—1871) — генерал-майор, владел в трёх губерниях имениями с более чем 1200 крепостных мужиков с семьями.
- Мать — Екатерина Николаевна Сулима, умерла, когда Петру было три с половиной года. По линии матери Пётр — внук героя Отечественной войны 1812 года генерала Н. С. Сулимы.
Образование и военная служба[править | править код]
Среднее образование получил в 1-й Московской гимназии, окончил с отличием Пажеский корпус (1862 год), был произведён в офицеры. После окончания Пажеского корпуса добровольно избрал военную службу в Сибири в казачьих частях. 8 октября 1862 года 19-летний Пётр был назначен в Читу в чине есаула чиновником по особым поручениям при и. о. губернатора Забайкальской области генерал-майоре Болеславе Казимировиче Кукеле.
Под командованием Кукеля прослужил в Амурском казачьем войске несколько лет. Участвовал в экспедициях в Восточной Сибири, в Маньчжурии, сплавлялся по рекам Ингода, Шилка, Амур, (1864—1865 гг.), где занимался геологическими, орографическими, картографическими и палеогляциологическими исследованиями.
Рисунок был сделан П. А. Кропоткиным в сибирской экспедиции в период между 1862 и 1865 гг
В 1864 году, под именем «купца Петра Алексеева», пересёк Маньчжурию с запада на восток, следуя из Старо-Цурухайтуя в Благовещенск через горы Большого Хингана (2034 м). Обнаружил вулканогенный рельеф в хребте Ильхури-Алинь (1290 м)… Осенью того же года участвовал в экспедиции Г. Ф. Черняева по реке Сунгари, от устья до города Гирина, на пароходе «Уссури». Собрал материал по общественному устройству бурят, якутов и тунгусов.
Кропоткин в 1864 г.
В 1865 г. совершил экспедицию в Восточные Саяны, прошёл всё течение реки Иркут (488 км, левый приток Ангары). Обследовал Тункинскую котловину и верхнее течение реки Ока (тж. левый приток Ангары), где открыл вулканические кратеры.
В 1866 г. возглавил Витимскую экспедицию Восточно-Сибирского отделения Императорского Русского географического общества[4]. В мае 1866 г. экспедиция, вышедшая из Иркутска, достигла Лены и спустилась по ней на 1500 км вниз к устью Витима. Оттуда повернула на юг, поднялась на Патомское плато (1771 м), пересекла его в верхнем течении реки Жуя (337 км, бассейн Олёкмы), где достигла Ленских золотых рудников и продолжила путь на юг. В районе рудников Кропоткин открыл ледниковые наносы, послужившие основанием для доказательства наличия в прошлом ледникового покрова Сибири. Экспедиция пересекла хребет Кропоткина (открыт Петром Алексеевичем, высота — 1647 м, служит водоразделом Жуи и Витима) и хребты Делюн-Уранский (2287 м) и Северо-Муйский (2561 м), достигла реки Муя (288 км, левый приток Витима). Продолжая движение на юг, завершила открытие Южно-Муйского хребта, пересекла Витимское плато (1200—1600 м) и Яблоновые горы (1680 м). И по реке Чита спустилась к одноимённому городу. На левом берегу реки были открыты северо-восточные отроги хребта Черского.
Кропоткин встречался с декабристами Д. И. Завалишиным и И. И. Горбачевским, ссыльнокаторжным революционером М. Л. Михайловым.
Участвовал в комиссиях — по подготовке проекта реформ тюрем и систем ссылки, а также над составлением проекта городского самоуправления, однако вскоре был разочарован существующим управленческим аппаратом и потерял интерес к идее реформистского преобразования.
В газете «Московские ведомости» и, чаще, в воскресном приложении к ней («Современная летопись»), в журналах «Русский вестник», «Записки для чтения» и др. печатал свои путевые заметки о Сибири, Забайкалье, Маньчжурии.
Весной 1867 года, после восстания польских каторжан 1866 года, — Пётр и его брат Александр расстались с военной службой. Ни тот, ни другой не участвовали в подавлении этого восстания.
Студенческие годы и научная деятельность[править | править код]
В начале осени 1867 года Кропоткин и его брат со всей семьёй переехали в Санкт-Петербург. Тогда же 24-летний Пётр поступил на математическое отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского Императорского университета и одновременно на гражданскую службу в Статистический комитет Министерства внутренних дел, которым руководил крупный учёный-географ и путешественник П. П. Семёнов (Тян-Шанский). В 1868 году был избран членом Императорского Русского географического общества (ИРГО), в ноябре 1868 г. избран секретарём Отделения физической географии ИРГО[5], награждён золотой медалью за отчёт об Олёкминско-Витимской экспедиции.
Зарабатывал переводами (в том числе Спенсера, Дистервега), написанием научных фельетонов для газеты «Петербургские ведомости». При этом несколько лет занимается научной работой на тему строения горной Азии и законов расположения её хребтов и плоскогорий.
Эту работу я считаю моим главным вкладом в науку. Вначале я намеревался написать объёмистую книгу, в которой мои взгляды на орографию Сибири подтверждались бы подробным разбором каждого отдельного хребта, но когда в 1873 году я увидал, что меня скоро арестуют, я ограничился тем, что составил карту, содержащую мои взгляды, и приложил объяснительный очерк. И карта, и очерк были изданы Географическим обществом под наблюдением брата, когда я уже сидел в Петропавловской крепости. Петерман, составлявший тогда свою карту Азии и знавший мои предварительные работы, принял мою схему для атласа Штиллера и своего карманного маленького атласа, где орография так превосходно была выражена гравюрою на стали. Впоследствии её приняло большинство картографов.
Среди других его работ в ИРГО имеет большое значение блестяще написанная им записка «Доклад комиссии по снаряжению экспедиции в северные моря» («Известия ИРГО», VII, 1871). В этой записке предлагалось снарядить большую морскую экспедицию от Новой Земли к Берингову проливу. Кропоткин предполагал стать во главе этой разведочной экспедиции — но министерство финансов не отпустило денег на приобретение судна… Между тем, изучая литературу для упомянутой записки, Кропоткин пришёл к выводу, что
К северу от Новой Земли должна существовать земля, лежащая под более высокой широтой, чем Шпицберген. На это указывали: неподвижное состояние льда на северо-запад от Новой Земли, камни и грязь, находимые на плавающих здесь ледяных полях, и некоторые другие мелкие признаки. Кроме того, если бы такая земля не существовала, то холодное течение, несущееся от Берингова пролива к Гренландии, непременно достигло бы Нордкапа и покрыло бы берега Кольского полуострова льдом, как это мы видим на крайнем севере Гренландии.
Земля, существование которой предсказал Кропоткин, была в 1873 г. открыта австрийской экспедицией Пайера-Вейпрехта и названа в честь кайзера — Землёй Франца-Иосифа[6].
Летом 1871 года Кропоткин отправился от Географического общества в научно-исследовательскую поездку по Финляндии и Швеции, с целью изучения глетчеров. Однако «разъедающее противоречие» окружающего мира заставило его отставить научную деятельность на второй план.
Осенью, вернувшись в Москву, узнал о смерти своего отца.
П. А. Кропоткин (около 1876 года)
Поездка в Европу. Первый Интернационал[править | править код]
В 1872 году Кропоткин получил разрешение на поездку за границу. В Бельгии и Швейцарии он встретился с представителями российских и европейских революционных организаций, в том же году вступил в Юрскую федерацию Первого Интернационала (реальным лидером которой был Михаил Бакунин).
«Чайковцы»[править | править код]
По возвращении в Россию, не оставляя работу секретаря отдела физической географии Русского географического общества, Кропоткин стал членом наиболее значительной из ранних народнических организаций — «Большого общества агитации», известного как кружок «чайковцев». Вместе с другими членами кружка он вёл революционную агитацию среди рабочих Петербурга, был одним из инициаторов «хождения в народ».
Арест, заключение и побег[править | править код]
«Карта южной части Восточной Сибири и части Монголии, Маньчжурии и Сахалина» 1875 года, приложенная к написанному Кропоткиным «Общему очерку орографии Восточной Сибири».
21 марта 1874 года 31-летний Пётр Кропоткин сделал сенсационный доклад в Географическом обществе о существовании в недалёком прошлом ледниковой эпохи. А на следующий день он был арестован за принадлежность к тайному революционному кружку и заключён в тюрьму в Петропавловской крепости.
Значимость сделанного учёным в науке была столь велика, что ему, по личному распоряжению Александра II, были предоставлены перо, бумага и возможность работать в тюрьме, где им была написана работа «Исследования о ледниковом периоде», обосновывающая ледниковую теорию — одну из важнейших в науках о Земле. Кропоткин предсказал существование и рассчитал координаты Земли Франца-Иосифа, Северной Земли и Барьера Кропоткина (цепь полярных островов на севере Баренцева и Карского морей — от Земли Франца-Иосифа до Северной Земли)[7] в целом, благодаря чему сохранился суверенитет России над открытыми им землями, несмотря на их первые посещения иностранными, а не русскими, экспедициями)[8],
Условия тюремного заключения, напряжённый умственный труд подорвали здоровье Кропоткина. С признаками цинги он был переведён в арестантское отделение Николаевского военного госпиталя. 30 июля 1876 года Кропоткин совершил побег из арестантского отделения (двухэтажный флигель за главным зданием).
Громадный Николаевский военный госпиталь, на Песках, вмещавший, насколько мне помнится, от тысячи до двух тысяч больных, состоял из главного корпуса, фасадом на улице, и множества флигелей и бараков, расположенных позади него. Одно из этих надворных зданий было занято заключёнными под стражу больными и называлось «арестантским отделением». Из него совершил свой замечательный побег П. А. Кропоткин в 1876 г.
Для дежурства по Николаевскому госпиталю наряжались по два офицера от одного и того же полка. Младший дежурил исключительно по арестантскому отделению, из которого не имел права отлучаться. Старший имел надзор за всем госпиталем, включая, на моей ещё памяти, и арестантское отделение, куда он приходил навещать своего более одинокого товарища по полку.
— В. Г. Чертков, Дежурство в военных госпиталях.
Вскоре Кропоткин покинул Российскую империю, пробравшись через Финляндию, Швецию и Норвегию, из Христиании отплыл в Гулль (Англия).
Эмиграция (1876—1917)[править | править код]
П. Кропоткин, около 1900 г.
Покидая Россию, Кропоткин надеялся через несколько месяцев, когда активные поиски будут прекращены, вернуться под другим именем. Сначала он прибыл в Великобританию, где находился недолго. Революционные интересы звали его в Швейцарию, и, как только это стало возможным (в январе 1877 года), он выехал из Лондона.
В Швейцарии Пётр Алексеевич поселился в Ла-Шо-де-Фон, небольшом городе, где население занималось преимущественно часовым ремеслом. Часовщики составляли главную аудиторию анархистской пропаганды, из часовщиков же выходили и некоторые лидеры этого движения[9].
Кропоткин был всегда завален работой: писал для разных учёных органов, переводил для наших ежемесячных журналов с иностранных языков, которых знал множество; но более всего времени отнимали у него, кроме издаваемого им французского листка, частые выступления на анархических собраниях. Он считался выдающимся оратором. Действительно, Кропоткин обладал всеми качествами, необходимыми для влияния на массы: привлекательной внешностью, страстностью, пламенностью, хорошим голосом и дикцией. По всесторонности развития он, несомненно, стоял значительно выше всех тогдашних последователей Бакунина, не исключая и Реклю… Решительно все, как русские, так и иностранцы, относились к нему с большим уважением и симпатией.
— Л. Г. Дейч[10].
18 марта 1877 года, в шестую годовщину Парижской коммуны, вместе с другими членами Юрской федерации принял участие в демонстрации, состоявшейся в Берне. В сентябре, в качестве делегата от Швейцарской Юры, участвовал в двух конгрессах анархистов в Бельгии: 6—8 сентября в Вервье, 9—15 сентября в Генте, где бельгийская полиция попыталась арестовать его. Однако ему удалось благополучно скрыться и добраться до Лондона. Оттуда Кропоткин отправился в Париж, где встречался с французскими социалистами.
Весной 1878 года, после очередной годовщины Коммуны, в Париже был осуществлён ряд репрессий, из-за чего Пётр Алексеевич, случайно избежав ареста, покинул Францию. Он снова вернулся в Швейцарию, поселившись в Женеве.
В 1878 году, в свои 36 лет, Пётр Алексеевич женился на Софье Григорьевне Ананьевой-Рабинович, молодой девушке, приехавшей учиться в Швейцарию из Томска. Вскоре после женитьбы они переехали из Женевы в Кларан.
Романские страны стали главной ареной деятельности Кропоткина. Основные силы он прикладывал в пропаганду и агитацию на французском языке. В феврале 1879 года начала выходить газета «Le Révolté» («Бунтарь»), созданная Кропоткиным и его помощниками[9].
В 1881 году швейцарское правительство, по предложению правительства Российской империи, предписало Кропоткину, как опасному революционеру, покинуть пределы страны. Кропоткин переехал во Францию.
22 декабря 1882 года Кропоткин вместе с лионскими анархистами был арестован французской полицией по обвинению в организации взрывов в Лионе. В январе 1883 года в Лионе состоялся суд; под давлением правительства Российской империи Пётр Алексеевич был приговорён к пятилетнему тюремному заключению по обвинению «за принадлежность к Интернационалу», которого к тому времени уже не существовало. Не помог протест левых депутатов парламента Франции, не помогла и петиция виднейших общественных деятелей, подписанная Гербертом Спенсером, Виктором Гюго, Эрнестом Ренаном, Суинберном и др. Как до суда, так и в течение двух месяцев после него, Кропоткин находился в лионской тюрьме.
В середине марта Кропоткина в числе 22 других заключённых по Лионскому процессу перевели в центральную тюрьму в Клерво. За год тюремного заключения состояние его здоровья ухудшилось: мучили боли в боку, цинга и малярия. Но благодаря стараниям жены Кропоткина, заботившейся о нём в течение всего срока заключения, условия содержания вскоре улучшились, появилась возможность работать. В Клерво Кропоткин написал на английском языке статью «Чем должна быть география» (впервые опубликована в 1885 года в журнале «The Nineteenth Century» (англ.) («Девятнадцатый век»)). В середине января 1886 года, благодаря протестам левых
|
Метки: кропоткины |
Кропоткин, Пётр Алексеевич |
Кропоткин, Пётр Алексеевич
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 5 декабря 2018; проверки требует 1 правка.

Перейти к навигации Перейти к поиску
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Кропоткин.
| Пётр Алексеевич Кропоткин | |
|---|---|
 ок. 1900 г. |
|
| Псевдонимы | Пётр Алексеев[1] |
| Дата рождения | 9 декабря 1842 |
| Место рождения | Москва, Московская губерния, Российская империя |
| Дата смерти | 8 февраля 1921 (78 лет) |
| Место смерти | Дмитров, Московская губерния, РСФСР |
| Страна |  Российская империя→ Российская империя→ Российская республика→ Российская республика→ РСФСР РСФСР |
| Альма-матер | |
| Язык(и) произведений | английский, русский[2] и французский |
| Школа/традиция | Философия XIX века, Философия XX века |
| Направление | анархизм |
| Основные интересы | кооперация, взаимопомощь, труд, власть, федерализм, география, история, этика, социальная философия, политическая философия |
| Значительные идеи | анархо-коммунизм, «взаимопомощь как фактор эволюции» |
| Оказавшие влияние | Бакунин, Прудон[3], народники |
| Испытавшие влияние | все последующие теоретики анархизма и родственных течений |
 Пётр Алексеевич Кропоткин в Викитеке Пётр Алексеевич Кропоткин в Викитеке |
|
 Пётр Алексеевич Кропоткин на Викискладе Пётр Алексеевич Кропоткин на Викискладе |
|
| В Википедии есть портал «Анархизм» |
Князь Пётр Алексе́евич Кропо́ткин (9 декабря 1842, Москва — 8 февраля 1921, Дмитров) — русский революционер-анархист, учёный географ и геоморфолог. Исследователь тектонического строения Сибири и Средней Азии и ледникового периода. Известный историк, философ и публицист, создатель идеологии анархо-коммунизма и один из самых влиятельных теоретиков анархизма. Из рода Кропоткиных.
Содержание
- 1 Биография
- 2 Об анархизме и государстве
- 3 Общественная и политическая деятельность
- 4 Вклад в науку
- 5 Членство в организациях
- 6 Награды
- 7 Семья
- 8 Адреса
- 9 Память
- 10 Интересные факты
- 11 См. также
- 12 Библиография
- 13 Примечания
- 14 Литература
- 15 Ссылки
Биография[править | править код]
Родился 27 ноября (9 декабря) 1842 года в Москве в доме 26 по Штатному переулку.
Его семья принадлежала к древнему роду князей Смоленских, Рюриковичей в тридцатом поколении. Фамилия происходила от прозвища князя Дмитрия Васильевича Крапотки (Кропотки), современника Ивана III.
Екатерина Николаевна Кропоткина — мать революционера
- Отец — князь Алексей Петрович Кропоткин (1805—1871) — генерал-майор, владел в трёх губерниях имениями с более чем 1200 крепостных мужиков с семьями.
- Мать — Екатерина Николаевна Сулима, умерла, когда Петру было три с половиной года. По линии матери Пётр — внук героя Отечественной войны 1812 года генерала Н. С. Сулимы.
Образование и военная служба[править | править код]
Среднее образование получил в 1-й Московской гимназии, окончил с отличием Пажеский корпус (1862 год), был произведён в офицеры. После окончания Пажеского корпуса добровольно избрал военную службу в Сибири в казачьих частях. 8 октября 1862 года 19-летний Пётр был назначен в Читу в чине есаула чиновником по особым поручениям при и. о. губернатора Забайкальской области генерал-майоре Болеславе Казимировиче Кукеле.
Под командованием Кукеля прослужил в Амурском казачьем войске несколько лет. Участвовал в экспедициях в Восточной Сибири, в Маньчжурии, сплавлялся по рекам Ингода, Шилка, Амур, (1864—1865 гг.), где занимался геологическими, орографическими, картографическими и палеогляциологическими исследованиями.
Рисунок был сделан П. А. Кропоткиным в сибирской экспедиции в период между 1862 и 1865 гг
В 1864 году, под именем «купца Петра Алексеева», пересёк Маньчжурию с запада на восток, следуя из Старо-Цурухайтуя в Благовещенск через горы Большого Хингана (2034 м). Обнаружил вулканогенный рельеф в хребте Ильхури-Алинь (1290 м)… Осенью того же года участвовал в экспедиции Г. Ф. Черняева по реке Сунгари, от устья до города Гирина, на пароходе «Уссури». Собрал материал по общественному устройству бурят, якутов и тунгусов.
Кропоткин в 1864 г.
В 1865 г. совершил экспедицию в Восточные Саяны, прошёл всё течение реки Иркут (488 км, левый приток Ангары). Обследовал Тункинскую котловину и верхнее течение реки Ока (тж. левый приток Ангары), где открыл вулканические кратеры.
В 1866 г. возглавил Витимскую экспедицию Восточно-Сибирского отделения Императорского Русского географического общества[4]. В мае 1866 г. экспедиция, вышедшая из Иркутска, достигла Лены и спустилась по ней на 1500 км вниз к устью Витима. Оттуда повернула на юг, поднялась на Патомское плато (1771 м), пересекла его в верхнем течении реки Жуя (337 км, бассейн Олёкмы), где достигла Ленских золотых рудников и продолжила путь на юг. В районе рудников Кропоткин открыл ледниковые наносы, послужившие основанием для доказательства наличия в прошлом ледникового покрова Сибири. Экспедиция пересекла хребет Кропоткина (открыт Петром Алексеевичем, высота — 1647 м, служит водоразделом Жуи и Витима) и хребты Делюн-Уранский (2287 м) и Северо-Муйский (2561 м), достигла реки Муя (288 км, левый приток Витима). Продолжая движение на юг, завершила открытие Южно-Муйского хребта, пересекла Витимское плато (1200—1600 м) и Яблоновые горы (1680 м). И по реке Чита спустилась к одноимённому городу. На левом берегу реки были открыты северо-восточные отроги хребта Черского.
Кропоткин встречался с декабристами Д. И. Завалишиным и И. И. Горбачевским, ссыльнокаторжным революционером М. Л. Михайловым.
Участвовал в комиссиях — по подготовке проекта реформ тюрем и систем ссылки, а также над составлением проекта городского самоуправления, однако вскоре был разочарован существующим управленческим аппаратом и потерял интерес к идее реформистского преобразования.
В газете «Московские ведомости» и, чаще, в воскресном приложении к ней («Современная летопись»), в журналах «Русский вестник», «Записки для чтения» и др. печатал свои путевые заметки о Сибири, Забайкалье, Маньчжурии.
Весной 1867 года, после восстания польских каторжан 1866 года, — Пётр и его брат Александр расстались с военной службой. Ни тот, ни другой не участвовали в подавлении этого восстания.
Студенческие годы и научная деятельность[править | править код]
В начале осени 1867 года Кропоткин и его брат со всей семьёй переехали в Санкт-Петербург. Тогда же 24-летний Пётр поступил на математическое отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского Императорского университета и одновременно на гражданскую службу в Статистический комитет Министерства внутренних дел, которым руководил крупный учёный-географ и путешественник П. П. Семёнов (Тян-Шанский). В 1868 году был избран членом Императорского Русского географического общества (ИРГО), в ноябре 1868 г. избран секретарём Отделения физической географии ИРГО[5], награждён золотой медалью за отчёт об Олёкминско-Витимской экспедиции.
Зарабатывал переводами (в том числе Спенсера, Дистервега), написанием научных фельетонов для газеты «Петербургские ведомости». При этом несколько лет занимается научной работой на тему строения горной Азии и законов расположения её хребтов и плоскогорий.
Эту работу я считаю моим главным вкладом в науку. Вначале я намеревался написать объёмистую книгу, в которой мои взгляды на орографию Сибири подтверждались бы подробным разбором каждого отдельного хребта, но когда в 1873 году я увидал, что меня скоро арестуют, я ограничился тем, что составил карту, содержащую мои взгляды, и приложил объяснительный очерк. И карта, и очерк были изданы Географическим обществом под наблюдением брата, когда я уже сидел в Петропавловской крепости. Петерман, составлявший тогда свою карту Азии и знавший мои предварительные работы, принял мою схему для атласа Штиллера и своего карманного маленького атласа, где орография так превосходно была выражена гравюрою на стали. Впоследствии её приняло большинство картографов.
Среди других его работ в ИРГО имеет большое значение блестяще написанная им записка «Доклад комиссии по снаряжению экспедиции в северные моря» («Известия ИРГО», VII, 1871). В этой записке предлагалось снарядить большую морскую экспедицию от Новой Земли к Берингову проливу. Кропоткин предполагал стать во главе этой разведочной экспедиции — но министерство финансов не отпустило денег на приобретение судна… Между тем, изучая литературу для упомянутой записки, Кропоткин пришёл к выводу, что
К северу от Новой Земли должна существовать земля, лежащая под более высокой широтой, чем Шпицберген. На это указывали: неподвижное состояние льда на северо-запад от Новой Земли, камни и грязь, находимые на плавающих здесь ледяных полях, и некоторые другие мелкие признаки. Кроме того, если бы такая земля не существовала, то холодное течение, несущееся от Берингова пролива к Гренландии, непременно достигло бы Нордкапа и покрыло бы берега Кольского полуострова льдом, как это мы видим на крайнем севере Гренландии.
Земля, существование которой предсказал Кропоткин, была в 1873 г. открыта австрийской экспедицией Пайера-Вейпрехта и названа в честь кайзера — Землёй Франца-Иосифа[6].
Летом 1871 года Кропоткин отправился от Географического общества в научно-исследовательскую поездку по Финляндии и Швеции, с целью изучения глетчеров. Однако «разъедающее противоречие» окружающего мира заставило его отставить научную деятельность на второй план.
Осенью, вернувшись в Москву, узнал о смерти своего отца.
П. А. Кропоткин (около 1876 года)
Поездка в Европу. Первый Интернационал[править | править код]
В 1872 году Кропоткин получил разрешение на поездку за границу. В Бельгии и Швейцарии он встретился с представителями российских и европейских революционных организаций, в том же году вступил в Юрскую федерацию Первого Интернационала (реальным лидером которой был Михаил Бакунин).
«Чайковцы»[править | править код]
По возвращении в Россию, не оставляя работу секретаря отдела физической географии Русского географического общества, Кропоткин стал членом наиболее значительной из ранних народнических организаций — «Большого общества агитации», известного как кружок «чайковцев». Вместе с другими членами кружка он вёл революционную агитацию среди рабочих Петербурга, был одним из инициаторов «хождения в народ».
Арест, заключение и побег[править | править код]
«Карта южной части Восточной Сибири и части Монголии, Маньчжурии и Сахалина» 1875 года, приложенная к написанному Кропоткиным «Общему очерку орографии Восточной Сибири».
21 марта 1874 года 31-летний Пётр Кропоткин сделал сенсационный доклад в Географическом обществе о существовании в недалёком прошлом ледниковой эпохи. А на следующий день он был арестован за принадлежность к тайному революционному кружку и заключён в тюрьму в Петропавловской крепости.
Значимость сделанного учёным в науке была столь велика, что ему, по личному распоряжению Александра II, были предоставлены перо, бумага и возможность работать в тюрьме, где им была написана работа «Исследования о ледниковом периоде», обосновывающая ледниковую теорию — одну из важнейших в науках о Земле. Кропоткин предсказал существование и рассчитал координаты Земли Франца-Иосифа, Северной Земли и Барьера Кропоткина (цепь полярных островов на севере Баренцева и Карского морей — от Земли Франца-Иосифа до Северной Земли)[7] в целом, благодаря чему сохранился суверенитет России над открытыми им землями, несмотря на их первые посещения иностранными, а не русскими, экспедициями)[8],
Условия тюремного заключения, напряжённый умственный труд подорвали здоровье Кропоткина. С признаками цинги он был переведён в арестантское отделение Николаевского военного госпиталя. 30 июля 1876 года Кропоткин совершил побег из арестантского отделения (двухэтажный флигель за главным зданием).
Громадный Николаевский военный госпиталь, на Песках, вмещавший, насколько мне помнится, от тысячи до двух тысяч больных, состоял из главного корпуса, фасадом на улице, и множества флигелей и бараков, расположенных позади него. Одно из этих надворных зданий было занято заключёнными под стражу больными и называлось «арестантским отделением». Из него совершил свой замечательный побег П. А. Кропоткин в 1876 г.
Для дежурства по Николаевскому госпиталю наряжались по два офицера от одного и того же полка. Младший дежурил исключительно по арестантскому отделению, из которого не имел права отлучаться. Старший имел надзор за всем госпиталем, включая, на моей ещё памяти, и арестантское отделение, куда он приходил навещать своего более одинокого товарища по полку.
— В. Г. Чертков, Дежурство в военных госпиталях.
Вскоре Кропоткин покинул Российскую империю, пробравшись через Финляндию, Швецию и Норвегию, из Христиании отплыл в Гулль (Англия).
Эмиграция (1876—1917)[править | править код]
П. Кропоткин, около 1900 г.
Покидая Россию, Кропоткин надеялся через несколько месяцев, когда активные поиски будут прекращены, вернуться под другим именем. Сначала он прибыл в Великобританию, где находился недолго. Революционные интересы звали его в Швейцарию, и, как только это стало возможным (в январе 1877 года), он выехал из Лондона.
В Швейцарии Пётр Алексеевич поселился в Ла-Шо-де-Фон, небольшом городе, где население занималось преимущественно часовым ремеслом. Часовщики составляли главную аудиторию анархистской пропаганды, из часовщиков же выходили и некоторые лидеры этого движения[9].
Кропоткин был всегда завален работой: писал для разных учёных органов, переводил для наших ежемесячных журналов с иностранных языков, которых знал множество; но более всего времени отнимали у него, кроме издаваемого им французского листка, частые выступления на анархических собраниях. Он считался выдающимся оратором. Действительно, Кропоткин обладал всеми качествами, необходимыми для влияния на массы: привлекательной внешностью, страстностью, пламенностью, хорошим голосом и дикцией. По всесторонности развития он, несомненно, стоял значительно выше всех тогдашних последователей Бакунина, не исключая и Реклю… Решительно все, как русские, так и иностранцы, относились к нему с большим уважением и симпатией.
— Л. Г. Дейч[10].
18 марта 1877 года, в шестую годовщину Парижской коммуны, вместе с другими членами Юрской федерации принял участие в демонстрации, состоявшейся в Берне. В сентябре, в качестве делегата от Швейцарской Юры, участвовал в двух конгрессах анархистов в Бельгии: 6—8 сентября в Вервье, 9—15 сентября в Генте, где бельгийская полиция попыталась арестовать его. Однако ему удалось благополучно скрыться и добраться до Лондона. Оттуда Кропоткин отправился в Париж, где встречался с французскими социалистами.
Весной 1878 года, после очередной годовщины Коммуны, в Париже был осуществлён ряд репрессий, из-за чего Пётр Алексеевич, случайно избежав ареста, покинул Францию. Он снова вернулся в Швейцарию, поселившись в Женеве.
В 1878 году, в свои 36 лет, Пётр Алексеевич женился на Софье Григорьевне Ананьевой-Рабинович, молодой девушке, приехавшей учиться в Швейцарию из Томска. Вскоре после женитьбы они переехали из Женевы в Кларан.
Романские страны стали главной ареной деятельности Кропоткина. Основные силы он прикладывал в пропаганду и агитацию на французском языке. В феврале 1879 года начала выходить газета «Le Révolté» («Бунтарь»), созданная Кропоткиным и его помощниками[9].
В 1881 году швейцарское правительство, по предложению правительства Российской империи, предписало Кропоткину, как опасному революционеру, покинуть пределы страны. Кропоткин переехал во Францию.
22 декабря 1882 года Кропоткин вместе с лионскими анархистами был арестован французской полицией по обвинению в организации взрывов в Лионе. В январе 1883 года в Лионе состоялся суд; под давлением правительства Российской империи Пётр Алексеевич был приговорён к пятилетнему тюремному заключению по обвинению «за принадлежность к Интернационалу», которого к тому времени уже не существовало. Не помог протест левых депутатов парламента Франции, не помогла и петиция виднейших общественных деятелей, подписанная Гербертом Спенсером, Виктором Гюго, Эрнестом Ренаном, Суинберном и др. Как до суда, так и в течение двух месяцев после него, Кропоткин находился в лионской тюрьме.
В середине марта Кропоткина в числе 22 других заключённых по Лионскому процессу перевели в центральную тюрьму в Клерво. За год тюремного заключения состояние его здоровья ухудшилось: мучили боли в боку, цинга и малярия. Но благодаря стараниям жены Кропоткина, заботившейся о нём в течение всего срока заключения, условия содержания вскоре улучшились, появилась возможность работать. В Клерво Кропоткин написал на английском языке статью «Чем должна быть география» (впервые опубликована в 1885 года в журнале «The Nineteenth Century» (англ.) («Девятнадцатый век»)). В середине января 1886 года, благодаря протестам левых
|
Метки: кропоткины |
Кропоткины |
Кропоткины
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 24 мая 2017; проверки требуют 4 правки.
Перейти к навигации Перейти к поиску
Кропоткины
Описание герба
Выдержка из Общего гербовника[показать]
Том и лист Общего гербовникаV, 2
Титулкнязья
Губернии, в РК которых внесён родКалужская, Московская, Рязанская
Часть родословной книгиV
Подданство
Великое княжество Московское
Царство Русское
Российская империя
Дворцы и особнякиНовый Сигулдский замок
Кропоткины на Викискладе
Эта статья — о княжеском роде. О носителях фамилии см. Кропоткин.
Кропо́ткины — русский княжеский род, ветвь удельных князей Смоленских. В документах XVII—XVIII веков представители рода зачастую упоминаются и без княжеского титула. Внесён в V часть родословной книги Московской[1] и Калужской губерний (Гербовник, V, 2).
Содержание
1 История рода
2 Представители
3 Примечания
4 Ссылки и источники
История рода
Родоначальник — князь Дмитрий Васильевич Смоленский, прозванный Кропотка, который традиционно считается племянником последнего князя смоленского Юрия Святославича[2]. Однако новейшие генетические исследования опровергли происхождение Кропоткиных от Ростислава III Киевского (ок. 1240). При сопоставлении генетического материала, полученного от князей Кропоткина и Шаховского (потомство Фёдора Чёрного), установлено, что их ближайший общий предок по мужской линии жил в первой трети XII века[3]. Единственное объяснение — то, что они происходят от разных сыновей Ростислава I: ярославские князья — от Давыда, а Кропоткины (как и Вяземские) — от Рюрика.
Неродовитые князья Кропоткины в XVI и XVII веках служили стольниками, стряпчими и бывали на воеводствах. Князь Дмитрий Николаевич (1836—79), харьковский губернатор, был убит по политическим мотивам. У него были двоюродные братья — Пётр Кропоткин и Александр Кропоткин.
Известна также ещё ветвь Кропоткиных, связь которой с предыдущим родом не выяснена; она происходит от князя Бориса Михайловича Кропоткина, владевшего поместьями в 1627—29, и была внесена в V часть родословной книги Рязанской губернии.
Представители
Семейная могила Кропоткиных-Гагариных на Русском кладбище в Ницце
Кропоткин, Александр Алексеевич (1846—1886) — математик, популяризатор астрономии.
Кропоткин, Василий Петрович (ум. 1648) — воевода и дворянин московский.
Кропоткин, Дмитрий Николаевич (1836—1879) — харьковский генерал-губернатор.
Кропоткин, Николай Дмитриевич (1872—1937) — его сын, курляндский и лифляндский вице-губернатор.
Кропоткин, Пётр Алексеевич (1842—1921) — теоретик анархизма, историк, географ, философ, литератор.
Кропоткин, Пётр Николаевич (1910—1996) — учёный-геолог, геофизик, академик.
Примечания
Московское дворянство. Алфавитный список дворянских родов с кратким указанием важнейших документов, находящихся в родословных делах Архива Московского Дворянского Депутатского Собрания. — Москва: Тип. Л.В. Пожидаевой, 1910. — С. 225. — 614 с.
Руммель В.В. Кропоткины // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
Y-DNA (37 markers) database including Rurikid princes and those males who are also suspecting their descent from Rurik (the 1st Russian prince, 9th century) (недоступная ссылка — история). Проверено 12 июля 2013. Архивировано 1 сентября 2013 года.
Ссылки и источники
Родословная роспись князей Кропоткиных
История Рязанского края: Кропоткины. Проверено 20 июня 2013. Архивировано 17 октября 2012 года.
Долгоруков П. В. Российская родословная книга. — СПб.: Тип. Карла Вингебера, 1854. — Т. 1. — С. 196.
История родов русского дворянства: В 2 кн. / авт.-сост. П. Н. Петров. — М.: Современник; Лексика, 1991. — Т. 1. — С. 121-126. — 50 000 экз. — ISBN 5-270-01513-7. (онлайн)
Современные князья Кропоткины (по данным Ж. Феррана)
Словари и энциклопедии
Большая российская · Брокгауза и Ефрона
|
Метки: кропоткины |
«Мы - дети страшных лет России»-2 |
Это последнее стихотворение, написанное Владимиром Николаевичем, датировано 1943 годом, потом было уже не до поэзии, нужно было выживать.
Воспитание в Кадетских корпусах сохраняло историческую и нравственную воинскую традицию России. Горько было сознавать, что, пройдя великолепную воинскую подготовку, воспитанные в подлинной любви к Отечеству, воспитанникам кадетских корпусов не пришлось защищать свою Родину на полях сражений. Но отличное образование, позволило многим из них, сделать впоследствии хорошую карьеру. Кадетские корпуса, помимо военных дисциплин, давали первоклассное инженерное образование.
Приход к власти Гитлера в 1933 году, убийство в 1934 г. в Марселе хорватским террористом Короля Югославии Александра 1, привело русскую эмиграцию к новому драматическому Исходу. С началом Второй Мировой войны необходимо было сделать выбор: служить в нацистских войсках или остаться верным присяге, данной Александру 1 и эмигрировать из страны. Для многих выпускников Первого Русского Кадетского корпуса Великого Князя Константина Константиновича выбора не существовало. Служить Гитлеру для них было равносильно измене Родине и присяге. В роду Случевских изменников не было, умереть за Отечество почиталось для них высшей наградой. Но Отечества было отобрано, а умирать за бесноватого Гитлера, Владимир Случевский считал позором, поэтому выход был один – эмиграция. Теперь уже на другой континент, в Америку.
До эмиграции в Америку, он непродолжительное время живёт в Австрии, в Зальцбурге, а позже в Мондзее, в семье своей тётки Александры Константиновны, младшей дочери поэта. Именно здесь Владимир Николаевич знакомится с хрупкой, изящной блондинкой Е.Б.Ренненкамф. Екатерина Борисовна была приёмной дочерью морского офицера барона фон Бока Бориса Ивановича и Марии Петровны, дочери выдающегося государственного деятеля П.А.Столыпина, умершего от ран в 1911 г., после покушения на него в театре Киева.
Екатерина Борисовна ко времени знакомства с Владимиром Николаевичем была замужем. Но в самом конце войны ее муж Юлиус Ренненкамф погиб при загадочных обстоятельствах. От этого брака у Екатерины был сын Герман, или Герик, как ласково называли его в семье.
Встреча Владимира Николаевича и Екатерины Борисовны связала их на всю жизнь. В 1948 году Владимир Николаевич и Екатерина Борисовна обвенчались. С женитьбой Владимира Случевского на Екатерине Борисовне род Случевских породнился не только с древним баронским родом фон Боков, выходцев из Германии и Прибалтики, но и стал иметь родственные связи с древним дворянским родом Столыпиных, первое упоминание о которых относится к концу XVI века.
Молодая семья пережила многое, безработицу, голод, лагеря ДИ-ПИ. Жили в бараках в тесной комнатушке, изредка подворачивалась какая-то работа, за которую платили гроши, выходить за пределы лагеря было невозможно, практически это было положение военнопленных, только без видимых оскорблений и издевательств, все, так называемые, союзники относились к ним с полным безразличием и презрением к их судьбам.
Оставаться в Европе Случевским было небезопасно. Шёл конец войны и, хотя поражение Германии было очевидно, но приход Советской Армии не вселял им надежды на безопасное будущее. Семья Боков и Случевских решает перебраться в Америку. Чтобы добраться до Америки, нужны были не только визы, но и деньги, а материальное положение семьи Боков и Случевского было в тот момент трудным. Помогла подруга детства Марии Петровны - Маруся Кропоткина, которая имела ферму под Сан-Франциско. Но после получения денег, перед семьёй встала другая проблема – визы. Семья переезжала в США по разным национальным квотам, в зависимости от места рождения каждого человека. Труднее всего было В.Н.Случевскому. Судя по рассказам его сына Николая, ему было отказано в визе, и Владимир Николаевич решается на отчаянный шаг. Из картофеля он вырезает печать, при помощи которой делает выездные документы и покидает Европу, отправляясь в трюме парохода в Америку. Эта печать, спасшая Владимиру Николаевичу жизнь, до сих пор, как семейная реликвия, хранится у его сына – Николая. Можно без труда представить себе, как и где закончилась жизнь Владимира Николаевича, если бы пограничники обнаружили подделку.
Русские эмигранты, нашедшие приют в Югославии, снова, уже во второй раз, а некоторые в третий, оказались рассеяны по всему миру. Боки и Случевские оказались в Сан-Франциско, где после войны было много русских. Борис Иванович стал членом клуба бывших русских морских офицеров, а Мария Петровна участвовала в создании Русского музея и культурного центра в Сан-Франциско, который действует и поныне.
Уже после Великой Отечественной войны воспитанники Кадетских корпусов стали искать и находить друг друга в разных городах и странах. По всему миру создавались Объединения кадет Российских Кадетских корпусов. Их выпускники оставались верными завету кадет: «Один в поле – и тот воин». «Рассеяны, но не расторгнуты». Такие объединения существуют по сей день, на всех континентах. Объединение кадет Российских кадетских корпусов в Сан –Франциско было образовано 27 мая 1951 года. С 1989 по 2009 г.г. Председателем Объединения кадет Русского Кадетского корпуса являлся Игорь Александрович Козлов. Человек, чуткий и внимательный к любой просьбе, особенно, если эта просьба касается истории кадетского движения. Таким же отзывчивым оказался друг Владимира Николаевича – Константин Фёдорович Сенькевич. Он нелегко пережил смерть Владимира Николаевича в 2003 г. Терять друзей, с которыми были связаны и радостью, и бедами, всегда тяжело. Хотя на долгие годы судьба разлучила двух друзей: Владимира Случевского и Константина Синькевича, они снова встретились на американском континенте, спустя почти 20 лет.
Константин Фёдорович пережил Владимира Николаевича всего на три года. До конца своих дней работал над второй книгой своих мемуаров. Первая часть их под названием «Вне Родины» вышла в 2003 году в Москве в издательстве «Воскресение». В ней он рассказывал о судьбах русской эмиграции, оказавшейся после революционного переворота в Европе. Константин Федорович скончался в 2006 году, так и не успев завершить второй том своих воспоминаний.
Объединение кадет - организация общественная и существует только на пожертвования соотечественников. Но, тем не менее, желание делать добро, помогать семьям, преждевременно умерших собратьев, поддерживать в порядке русские памятники на кладбище, откликаться на чужую боль, хранить память о стране своих предков, сохранять язык, для них, детей первых русских эмигрантов это является не только духовной потребностью, но и долгом перед Родиной. Объединение русских кадет в Сан-Франциско имеет свои печатные органы «Бюллетень» и «Кадетская перекличка», выходящие на русском языке, у них есть прекрасная библиотека, насчитывающая 8000 книг и военный музей. Объединение устраивает съезды кадет, поддерживает связь с Суворовскими училищами и помогает в организации Кадетских корпусов в России. Объединение русских кадет, куда входил Владимир Случевский, было прибежищем для многих русских эмигрантов, живущих в этом городе. Оно стало их малой Родиной - Россией, которую они, может быть, и не помнили, но почитали и любили истинной искренней любовью и сохраняли всё, что связывало их с ней. Для них это было не только данью прошлого, но и потребностью настоящего. «Родство с великой воинской семьёй // Гордится ей, принадлежать душой» – эти строки Великого Князя Константина Константиновича – поэта К.Р. стали девизом их Объединения. К.Ф.Синькевич в письме к автору книги 9 февраля 2004 года писал: «замечательно, что в России, наконец, окончательно признали деяния некоторых людей, особенно из Царской Семьи, внесших свою крупную долю в сокровищницу русской культуры. Мы, жившие за рубежом кадеты русских кадетских корпусов, особенно остро это чувствуем. Мы были воспитаны на уважении к представителям Царского рода, особенно к Великим Князьям, среди которых совершенно особое место занимал талантливейший и всеми кадетами горячо любимый Великий Князь Константин Константинович».
Можно только поклониться этим людям, несущим, как Прометей, священный огонь своей неиссякаемой любви к России.
Оказавшись за океаном, благодаря своему незаурядному таланту Владимир Николаевич стал инженером и сделал хорошую карьеру, что было совсем непросто в послевоенной Америке. По приезде в Америку семья Случевских прошла через бытовое неустройство, безработицу и безденежье. В письме от 14.11.1948 года Владимир Николаевич писал Александре Константиновне в Англию: «О США у многих превратное понятие как о медовых реках с кисельными берегами. Я ни один миг не жалею о том, что переехал сюда, так как хуже Европы вообще, а Австрии в особенности я ничего себе представить не мог и не могу по сей день (не считая, конечно, СССР). Однако, это страна для молодых и трудолюбивых. На интеллигентный труд рассчитывать не приходиться. В нашем случае препятствиями служат: 1) наша многочисленность при двух работающих (поэтому не остается лишних денег чтобы предпринять что-нибудь. 2) мое здоровье (уменьшает энергию и работоспособность) и 3) не знание английского языка(вообще сокращает возможности). Ну, Бог поможет и все будет хорошо, только «it take time», ведь здешние русские устраивались по 10-20 лет, пока зажили прилично».7 Полуголодное детство и юность не замедлили сказаться на здоровье Владимира Николаевича, особенно плохо было с глазами, пришлось делать операции. Брался за любую работу, чтобы содержать семью, даже работал в Канаде, некоторое время семья жила врозь. Только к началу 60-х годов, пройдя через все трудности, материальное положение В.Н.Случевского стало меняться. В течение долгих лет он служил инженером в крупной строительной кампании «Бехтель», находящейся в Сан-Франциско.
Всю жизнь, скитавшийся по углам, общежитиям, наемным квартирам, переезжая из страны в страну, он давно мечтал о постройке своего дома. В начале 60-х годов Владимир Николаевич начинает строительство дома в шестидесяти милях от Сан-Франциско на берегу Русской речки, в Форествилле. Вообще Калифорния, а тем более, ее северная часть неразрывно связана с историей освоения этих земель русскими моряками, землепроходцами, купцами. Проезжая по этой местности можно встретить и Петербургское шоссе, и Московскую дорогу, и гору Св.Елены, и Русскую речку, и знаменитый Форт Росс.
На Русской речке, которая удивительным образом своим пейзажем напоминает Крым, с его холмами, виноградниками, рощами и долинами, Владимир Николаевич Случевский начинает строительство собственного дома. Он строит его своими руками, по своему проекту, отделывает по своему собственному вкусу, с двумя открытыми летними верандами, высокими потолками, просторными комнатами, во многом напоминающими никогда не виденный «Уголок» своего деда, поэта Константина Случевского. Словно поэт передал своему внуку генетическую память о своем любимом детище. Строили дом сообща вместе с сыновьями, приемным сыном Гериком и подросшим сыном Николаем.
Да и Екатерина Борисовна не оставалась в стороне и, по мере сил, помогала во всем мужу.
Дом строили долго, почти двадцать лет, но большую часть времени жили уже на Русской речке. Дом Случевских был открыт для всех друзей, которых было великое множество, бывшие кадетские друзья, знакомые по годам скитаний в лагерях ДИ-ПИ, друзья, которых они обрели в Сан-Франциско.
До сих пор о гостеприимстве Случевских в Сан-Франциско, кто их знал и любил, ходят легенды. Они жили широко, открыто, с радостью принимая всех. Не было недели, чтобы их дом не посещали друзья. Места хватало всем, часто оставались на ночлег. Купались, готовили шашлыки на воздухе в великолепном саду, выращенном Екатериной Борисовной и Владимиром Николаевичем. Собираясь, вспоминали Отечество и свою учебу в Корпусе, молодость. Лишения и трудности, перенесенные ими, покрывались патиной времени, и помнилось все самое лучшее: дружба, преданность, любовь. Владимир Николаевич часто играл на мандолине и гитаре, Екатерина Борисовна читала стихи, свои и русских поэтов, которых она знала наизусть множество. Дом Случевских на Русской речке – стал своеобразным «уголком» никогда не виденной ими России.
Екатерина Борисовна Случевская долгое время проработала корреспондентом русской газеты «Русская жизнь» в Сан-Франциско. Почти в каждом номере появлялись ее публикации. Она вела исторический раздел, рассказывая о памятниках культуры и архитектуры России, вела поэтическую рубрику, публиковала статьи о творчестве К.К.Случевского. Она великолепно владела пером, и в своем поэтическом творчестве придерживалась классических традиций. Вообще, Екатерина Борисовна была на редкость талантливым человеком, необыкновенно тонким, душевным и духовным, много читала, прекрасно знала всю русскую литературу, владела несколькими европейскими языками, в совершенстве немецким, английским и французским. К тому же знала польский и литовский языки, так как родилась и выросла Екатерина Борисовна в имении Петра Аркадьевича Столыпина в Колноберже в Литве. Хорошо рисовала, с юных лет делала зарисовки с натуры в Колноберже, Германии и во время поездок в Японию в 30-х годах, когда семья Бок прожила в Японии в течение трех лет у брата Бориса Ивановича – Николая. В семейном архиве сохранилась целая папка ее рисунков, выполненных карандашом и акварелью.
Всю себя без остатка она отдавала семье, для нее это было главное, душевное и физическое здоровье ее близких, матери, отца, мужа, сыновей. Очень любила свой сад, посадила и вырастила в нем великолепный розарий, развела огород, и, как водится в России, выращивала овощи и фрукты, хотя никакой необходимости в этом не было.
Вела очень обширную переписку со своими родными по линии Столыпиных и Случевских, своими друзьями, разбросанными по разным странам и материкам. Под влиянием Александры Константиновны и Капитона Капитоновича стала интересоваться генеалогией своих семей.
Еще в конце 60-х годов между Фёдором Измайловичем Случевским, жившим в Ленинграде и Екатериной Борисовной, завязывается переписка. Екатерина Борисовна в 1991 г. писала Случевским в Ленинград: «Обратите внимание на наш новый адрес. Мы уже десять лет как переехали на Русскую Речку, по старому Славянка. О Форте Росс Вы, конечно, слыхали. Наше место я прозвала Славянкой!
Конечно, посадили сразу берёзки, как можно жить без берёзок?!»
Как же нужно было любить и помнить Россию, чтобы спустя более полувека среди благоухающей вечнозелёной красоты Калифорнии сажать берёзки и бережно выращивать их! Существует такое поверие, что деревья долго не переживают тех, кто их посадил. Так оно и случилось. Три великолепные, раскидистые березы, «три калифорнийских сестры» стали чахнуть сразу же после кончины Владимира Николаевича в 2003 году, и летом 2005 года их пришлось спилить. Закрылась еще одна страница жизни, связанная с семьей Случевских.
Встреча Владимира Николаевича и Екатерины Борисовны связала их на всю жизнь. Случевские прожили вместе больше сорока лет. Это была семья, во многом сохранившая традиции русских дворянских семей. Благожелательность и душевная открытость, интеллигентность, образованность, радушие и гостеприимство, сохранение традиций – всё это составляло основу семейной жизни дома Случевских. В 1953 году 18 ноября у них рождается сын. В память о погибшем отце Владимира его назовут Николаем. Он становится всеобщим любимцем матери, бабушки, деда, своих теток, живущих на другом континенте. Они нежно и трогательно заботятся о нем, как некогда заботились о своем «Володичке».
Сыновья Герман и Николай не доставляли больших хлопот и тревог супругам Случевским. Германа воспитывала Мария Петровна и, несмотря на немецкие корни внука, она постаралась привить ему любовь к русскому языку и русской культуре. Ей удалось добиться этого. Герман прекрасно владеет русским языком и говорит на нём почти без акцента. Вся семья владела языками: русским и английским. Немецкий и французский великолепно знала Мария Петровна, которая пользовалась у всех домашних непререкаемым авторитетом. Это была истинная женщина, оставшаяся до конца своих дней аристократкой духа, примером и образцом для подражания. Мария Петровна прожила долгую жизнь и не дожила до своего столетнего юбилея всего три с половиной месяца. Ещё в 50-х годах она напишет книгу об отце, под названием «Воспоминания о моём отце», которая выйдет в Нью-Йорке в 1953 году и будет переиздана в России в 1993г.
Екатерина Борисовна умерла в 1993, Владимир Николаевич Случевский умер десять лет спустя, в июне 2003 года. Им так и не довелось увидеть Россию и услышать шум её берёзовых рощ.
Екатерина Борисовна похоронена в Форествиле, на речке которую она называла Славянкой. Владимир Николаевич завещал похоронить себя рядом с женой. Так они и лежат рядом под сенью посаженных сыновьями сосен. Родители Екатерины Борисовны Мария Петровна Бок, урождённая Столыпина и её муж Борис Иванович Бок нашли свое последнее успокоение на Русском Сербском кладбище под Сан-Франциско.
Кладбище носит название «Сербское» не случайно. Эта память о стране, некогда приютившей тысячи русских, давшей им возможность получить образование и сплотившей их в одно духовное братство.
Уходит старое поколение, редеют их ряды, но те, кто остались живы, сохраняют заветы кадетского братства. Объединение Русских Кадетских корпусов Сан-Франциско в 2004 году открыли мемориал, посвящённый всем выпускникам кадетских корпусов, умерших вдали от Родины. Мемориал создавался на добровольные пожертвования всех русских, живущих в Сан-Франциско. На его постаменте, среди сотен имён русских кадет находится имя Владимира Николаевича – внука русского поэта Константина Константиновича Случевского, который в стихотворении «Воскресшее предание», вспоминая годы, проведённые в стенах Первого Кадетского корпуса в Петербурге писал:
Не так ли мы на утре наших дней
Несли огонь любви от очага родного?
Чуть только погасал – затепливали снова!
Сторожевой маяк, он посылал нам свет
По толчее зыбей, сквозь темень непогоды…
Нет, не мертвы дела давно минувших лет,
Преданьями сильны великие народы!
Преданья, это – мощь! Под их святую сень
Как к знаменам полки в кровавый битвы день
Всегда, всегда собратья торопились;
И то не вымысел, что где-то в небесах,
В гигантских очерках, на облачных конях,
С живыми заодно и тени мёртвых бились!
Эти строки поэта звучат завещанием, обращённым к потомкам, всем, кто бережно хранит память о славной и трагической истории русского воинства, среди которых были многочисленные представители рода Случевских.
Владимир Николаевич и Екатерина Борисовна сумели воспитать в своём сыне Николае чувство уважения к стране его предков – России. Екатерина Борисовна Случевская в письме к Надежде Семёновне в Ленинград в 1991 году писала: «Ваше письмо стало для нас сюрпризом. Всё старалась припомнить, когда я Вам написала. Кое-что восстановила в памяти. Ваше письмо наш старший сын (Герман – прим.автора) прочёл по телефону и дал Ваш адрес. Очень возможно, что мой муж Владимир с Вами в родстве. Он собирается, если это Вас интересует написать некоторые данные, а Вы, с Вашей стороны, сообщите Ваши данные – будет очень интересно <…> Что касается нас – то я лично очень люблю изучать родословные. В особенности важно это для нашего сына –Николы, он, как и я, всем интересуется».
Николай Владимирович действительно проявляет интерес к русской истории, её культуре и истории своего рода, свободно владеет русским языком. Как и многие из рода Случевских Николай Владимирович увлекается поэзией, пишет стихи, правда уже, на английском языке.
Who am I that I dream not
Believe not
Feel not
Follow not
Think not
Hear not
Laugh not
Grieve not
See not
I am not.
Вот уже несколько лет Николай Владимирович работает над романом, имеющим символичное значение: «Орфей». Мир его увлечений очень широк и разнообразен. Философия, литература, политика, история, поэзия, кино, горнолыжный спорт.
Начиная с 90-х годов XX века, правнук поэта уже несколько раз приезжал в Россию. Во время последнего приезда в Петербург в сентябре 2003 года он вместе со своей четвероюродной сестрой Софьей Федоровной посетил Москву и совершил поездку по «Золотому кольцу» России, побывав в Суздале и Владимире. Архитектура древней Руси, иконопись, богослужение в храмах произвели на Николая Владимировича огромное впечатление. Начиная с 2004 года, он каждый год посещает Россию. И не только посещает.
Выросший в американской школе, окончив университет в Беркли в годы «холодной войны», несмотря на великолепное знание русского языка, он не понимал и не осознавал до конца своего предназначения на этой земле. Постепенно Николай Владимирович пришел к пониманию того, что он, связан со своим Отечеством глубинными корнями, что он – наследник тысячелетней духовной культуры своих предков и является ее составной кровной часть.
И хотя Николай Владимирович живет в США, его возвращение на Родину, о котором мечтали его родители и прапредки, состоялось.
Этому возвращению в свое Отечество предшествовало многое. Приезд Николая Владимировича в Усть-Нарву в 2004 году, где он впервые увидел места, связанные с именем его прадеда – поэта Константина Константиновича Случевского. Правнук поэта был при освещении нового памятного камня на месте дома К.К.Случевского «Уголок» и почетным гостем вечера, посвященного 100-летию со дня кончины поэта, проходившим в Усть-Нарве. После этого связи Николая Владимировича с Россией и Эстонией не прекращались. Круг потомков семьи Случевского все более и более расширялся, и с 2004 года в него вошли потомки родного брата К.К.Случевского - Капитона Константиновича, проживающие в Санкт-Петербурге. Познакомился Николай Владимирович и с Петром Станиславовичем Случевским из Москвы, потомком по линии родного брата деда поэта – Стефана Михайловича Случевского. Установились прерванные связи с кузиной из Лондона Валей Элизабет Скулинг-Коростовец.
В последнюю пятницу, 28 сентября 2007 года все потомки рода Случевских-Коростовец с разных стран и городов собрались вместе, чтобы отпраздновать 170-летие со дня рождения своего предка - замечательного русского поэта К.К.Случевского. Встреча проходила в доме-музее Г.Р.Державина на Фонтанке в Санкт-Петербурге, почти напротив последней квартиры К.К.Случевского. И как полагалось на этой «пятнице» вновь звучали стихи, романсы, был показан домашний спектакль по мотивам пушкинской поэмы «Граф Нулин». Потерянные и разорванные десятилетиями родовые связи Случевских, наконец-то, соединились. Надо надеяться, что навсегда.
Таинственным и «странным сближением» через век можно считать то, что торжественный приём, посвящённый 100-летию со дня рождения И.Ф.Случевского, состоявшийся 30 октября 2003 года в Петербурге, проходил в прекрасном, чудом уцелевшим и недавно отреставрированном особняке в Петербурге, на улице Захарьевская, 31, принадлежавший в конце XIX века Борису Александровичу Нейдгардту. Борис Александрович, был обер-гофмейстером и действительным тайным советником. Он был почётным опекуном Мариинской больницы для бедных и председателем благотворительной общины при ней.8
У Б.А.Нейдгардта было несколько детей, в том числе и дочь Ольга Борисовна, вышедшая замуж на Петра Аркадьевича Столыпина. От брака со П.А.Столыпиным Ольга Борисовна имела шесть человек детей. Судьба детей семьи Столыпиных сложилась драматически. Почти все они пострадали при покушении на П.А.Столыпина в его доме на Аптекарском острове в Петербурге в 1906 году. У старшей дочери Марии от взрывной волны лопнули ушные перепонки, и она всю свою долгую жизнь ничего не слышала. У Натальи были перебиты ноги, и ей грозила ампутация, и только горячая молитва и вера Петра Аркадьевича спасла ее от увечья. Во время Гражданской войны в 1920 г. красивую и нежную «Олечек», как называли ласково в семье еще одну из дочерей Столыпиных, большевики расстреляли в имении Немирове на Украине. Остальным удалось эмигрировать, в том числе Ольге Борисовне. Она оказалась в Париже, но вела очень аскетичный, почти монашеский образ жизни, нося траур по убитому мужу. Часто причащалась в своей комнате, из которой почти никогда не выходила. Появлялась на людях только тогда, когда все ее дети и внуки собирались вместе. Она часто молилась и причащалась в одно и тоже время, ровно в три часа пополудни, в час гибели её мужа–Петра Аркадьевича Столыпина. Похоронена Ольга Борисовна Столыпина на русском кладбище Сент-Женевьев де-Буа под Парижем.
Дочь Ольги Борисовны - Мария Петровна, в 1909 году вышла замуж за барона фон Бока Бориса Ивановича, младшего офицера императорской яхты «Нева».
Интересно отметить и тот факт, что в 1915 году Ольга Борисовна Столыпина вместе со своими детьми, сыном Аркадием и дочерьми Натальей, Александрой и Ольгой отдыхала в Гунгербурге, где в это же время жила в своём «Уголке» семья Случевских с пятимесячным Владимиром, жизненные пути которого впоследствии пересекутся с этой семьёй.
Не о этих ли таинственных и странных связях писал К.К.Случевский:
Таких таинственностей в мире много,
И в каждой видится какая-то дорога.

1 Зеньковский В. Детская душа в наши дни// Дети эмиграции. Воспоминание. М., 2002, с.с.140-141
2 Случевский В.Н. Письмо Е.Б.Ренненкампф. Рукопись. с.1-20// Архив семьи Случевских. США.
3 Шмелёв И.С. Душа Родины. Сборник статей от 1924-1950 (Из литературного наследства И.С.Шмелёва) Русский научный институт, 1967, с.217.
4 Седьмая кадетская юбилейная памятка 1920-1995.// Нью-Йорк,//1997, с.132.
5 Правила приёма воспитанников в Русских Кадетских корпусах в Королевстве СХС// Перечень документов выставки «Российская эмиграция в Югославии в документах из югославских и российских архивов», состоявшаяся в Москве 29января-14 февраля 2003 г., № документа 121.
6 Личный архив автора. Нарва.
7 Из письма Случевского В.Н. к А.К.Случевской –Коростовец. //Архив семьи Случевских. США.
8 Адрес-календарь Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц в Российской империи на 1894 г., СПб., 1894, ч.2, с.1
http://amnesia.pavelbers.com/Russkie%20bez%20Rossii%2011.htm
|
Метки: столыпины случевские кропоткины |
«Мы - дети страшных лет России» |
«Мы - дети страшных лет России»




|
Внук поэта Константина Константиновича Случевского - Владимир Николаевич разделил с тысячами себе подобных, судьбу детей первого поколения русской эмиграции. Наиболее полно определил жизненную драму детских судеб В.В. Зеньковский, писавший в 1925 г. о глубоком потрясении детей, на глазах которых «рассыпались вековые устои русской жизни». Он писал:«Наши дети психически отравлены, пережили тяжелейшие ушибы и вывихи, от которых как бы парализованы и заломлены целые сферы души, - констатировал он. – А то, что осталось живым и целым, становится носителем жизни и силится хотя бы прикрыть забвением то, что нельзя уже удалить из души». 1
Мы попали в город Новый Сад на Дунае, и бабушка устроилась в английский Красный Крест. Началась новая жизнь, друзья детства - мальчишки с улицы сербы и мадьяры- дикари. Спрашивали: «есть ли солнце в России, видал ли я когда-нибудь трамвай или автомобиль» (в Новом Саде это было тогда еще диковинка).
Мои одиночные прогулки и размышления имели своим ближайшим последствием то, что я стал неплохо писать сочинения и начал получать премии за письменные работы по русскому и сербскому языкам. Кстати, пикантная подробность: с 5-го класса прекращались письменная работа по грамматике, т.е. диктовки и пр. и начинались сочинения, рассуждения и т.п. В начале года преподаватель заявил, что мы должны побольше читать классиков, иначе к 8-му классу не сможем справиться с письменными, не имея достаточно мыслей. Меня это тогда возмутило: «Как это я должен питаться чужими мыслями, хотя бы и классическими, а своих что-ли не хватит?!» И я решил классиков не читать, так что окончил я корпус, не прочитав ни одной строчки Достоевского, и когда я уже, будучи в штатском попросил преподавателя почитать что-нибудь из Достоевского, он несказанно удивился: «Как? Разве ты ничего не читал?» И когда я ему сознался в этом, он только глаза открыл шире и усмехнувшись сказал: «Ну, если бы я это знал, то поставил бы тебе 1 по русскому языку». (У меня было 5 и то у единственного в выпуске). Бедный, где он теперь?- это был хороший русский человек, каких мало было в моем тогдашнем окружении. И как он любил наш красивый русский язык! Он верил, что «такой язык мог быть дан только великому народу». Дошел ли он теперь, что может быть это была ошибка - красивые слова или его веки сомкнулись под потом какого-нибудь мужика - партизана до того, как он узнал эту горькую истину?! Быть может так и лучше - ужасно ощущать пустоту. Так ребенок строит из мокрого песка домик - терпеливо, упорно и не замечает, что песок на ветру быстро сохнет. Он работает все утро, весь вспотел и вот постройка уже к концу подходит, и он радостно предвкушает, как будет играть у своего нового домика; вот уже последнюю лопату берет, чтобы пристроить крышу, но просохший песок не выдерживает и постройка разваливается и опять - лишь куча песка. Ребенок капризно складывает губки - сейчас он заплачет. Игрушка брошена в песке, и он идет к мамаше искать утешения, но что, как и мамаши нет, как никому не пожаловаться, а лишь хор мальчишек вокруг, которые злобно хохочут?! Слеза так и высыхает в глазу, не давая скатываться по щеке, зубы стиснуты и мальчонок шепчет: «Ну, хорошо!». Прости, опять отвлекся.
В корпусе царил шпионаж и соглядатайство, что никак не мирилось с понятием товарищества. Мы «донцы», т.е. кадеты, прибывшие из Донского корпуса, жили особой группой и с другими не сливались - так сказать маленький патриотизм. У нас были свои традиции и свой внутренний устав со своим атаманом выпуска. Тут мне с омерзением пришлось разочароваться в своих товарищах, в Донском корпусе, где никто нас не преследовал, все они были прекрасные товарищи и собутыльники, а тут, когда мы попали в железную дисциплину и начали одного за другим выгонять из корпуса все переменилось, и они стали перед начальством плясать на задних лапках. Мне все это было больно и омерзительно до тошноты - дело пахло карьерой и жалкие людишки стали подкапывать друг под друга. В конце 7-го класса выставили из корпуса нашего 1-го ученика и моего друга. Быть лучше его не могли, тогда сплели вокруг него политическую интригу, в которой он никаким боком виноват не был, донесли начальству и выставили. Это был Hohepunkt, и я перестал разговаривать со всем классом, за исключением 2-3. Началось с того, что фельдфебелю я не подал руки и оказался в бойкоте.
Похоронили, перевез бабушку на другую квартиру - она сразу постарела и вся энергия ее пропала. Я никогда не замечал, чтобы они любили друг друга, слишком они были различны: он сын шведа (фон Эксе), товарищ прокурора в Сенате, в 30 лет был совершенно седой и часто хворал. За всю свою жизнь в Сербии он так и не мог найти себе какую-нибудь службу, будучи типичным русским интеллигентом. Дед был добр и честен, любил семью и меня. Читал газеты и каждый год утверждал, что следующий - мы будем в России. Он не был неверующим, но не был и верующим. В жизни он был педантичен, как полагается шведу. Когда стало не хватать денег, он бросил курить (а ему тогда было около 70-ти лет). Так прожил он спокойно без потрясений (несмотря на революцию, и внутренние войны), которых он не любил. Так он и умер спокойно, просто уснул от старости.
|
|
Метки: столыпины случевские кропоткины |
Аксакова-Сиверс, Татьяна Александровна-Штеры |
ШТЕРЫ
В первой главе своих записок я вскользь упомянула, что у моего прадеда с материнской стороны Петра Афанасьевича Чебышёва, кроме моей бабушки Александры Петровны, была вторая дочь Валентина Петровна (мужского потомства не было).
Теперь мне предстоит более подробно рассказать об этой ветви моей семьи.
- 187 -
Валентина Петровна, несколькими годами моложе сестры, была невысока ростом, но красива лицом. Точеные черты, тяжелые золотистые косы и прекрасное здоровье она сохранила до последних дней, а умерла она семидесяти лет от случайной простуды.
Воспитание, полученное сначала в Парижском пансионе, а потом в Петербурге у m-me Troubat, дало ей прекрасное знание французского языка и, может быть, способствовало развитию того упрощенного взгляда на жизнь (черты не русской), который помог ей в перенесении тягот от неудачного брака. . Муж Валентины Петровны, Петр Петрович Штер, принадлежал к бюрократическому, веселящемуся слою петербургского общества. Сын цензора С.Петербургского почтамта, он окончил Александровский лицей (XXV курс), служил по ведомству Государственных имуществ, а потом состоял предводителем дворянства по назначению в Кобринском уезде Гродненской губернии, где у него было имение. Петр Петрович претендовал на щеголя-денди. Тон его был резок и неприятен. Все немодное, нефешенебельное вызывало в нем презрение, которое он не считал нужным скрывать. Так, если радушная хозяйка за чаем угощала его печеньем, добавляя: «возьмите, пожалуйста, это домашнее», Петр Петрович холодно отвечал: «Очень жаль! Покупное наверное было бы вкуснее», — чем повергал хозяйку сначала в недоумение, а потом в смущение.
Персонажи Оскара Уайльда могли бы, пожалуй, соревноваться с Петром Петровичем в области снобизма, но в России ему конкурентов не было.
Семейными добродетелями, как и все люди этого склада, Петр Петрович не отличался, и жизнь его жены могла бы быть трагичной, если бы Валентина Петровна имела склонность к трагическому восприятию действительности. В ранней молодости она напоминала пеструю порхающую бабочку, а потом перенесла свою любовь на детей и была «матерью-тигрицей», что давало повод бабушке говорить: «Преувеличенная любовь к детям свойственна несчастным в браке женщинам».
Чтобы не возвращаться больше к Петру Петровичу, скажу, что старость его была незавидной. Лет за десять до смерти он совершенно ослеп. Я помню его высоким, чрезвычайно гибким стариком с невидящими глазами и тщательно расчесанными бакенбардами. Интересы его были сосредоточены на тонкости подаваемых к столу блюд.
- 188 -
Детей Штер было трое: Наталья, Андрей и Николай. Метод их воспитания вызывал осуждение бабушки, которая говорила: «Valentine fait de ses enfants des jouisseurs».
Андрюша, как это показало будущее, устоял против коррупции среды и материнского баловства и был безупречен. Одним из первых он окончил Морской корпус, доблестно сражался на знаменитом «Новике», раненный в голову пешком пересек Сахалин и трагически погиб 17/Х-1907 г., командуя миноносцем «Скорый». Привлекательный внешне, он оставил прекрасную память о себе. (Эпизодически выведен под своей фамилией в романе Степанова «Порт Артур» в главе о гибели «Новика».)
Ната и Котя, с точки зрения бабушки, были jouisseur'aMH. Ната в меньшей, а Котя, как любимец матери, в большей степени.
С непокорностью и свободолюбием Наты бабушка впервые столкнулась, когда тетя Лина Штер, отправившись в 1899 г. вместе со своей матерью Юлией Григорьевной Чебышёвой на Всемирную Парижскую выставку, оставила детей на попечение сестры. Перемена воспитательного режима вызвала в 12-летней Нате столь бурный протест, что в ходе какого-то скандала, она вскочила на подоконник раскрытого окна (дело было на Николаевской улице) и закричала: «Вот сейчас брошусь вниз, и Вы будете отвечать перед моей матерью!»
Впоследствии резкость характера Наты сгладилась, и годам к 16 она стала хорошенькой, веселой барышней (тысяча слов в одну минуту!), имевшей большой успех в обществе. Даже заядлый холостяк дядя Кока Муханов не устоял против ее чар: встретив Нату в нашей детской, он подумал: «не посвататься ли?» В нашей семье считалось, что «Штеры любят дешевые удовольствия», что в их вкусах и развлечениях мало «солидности». Бабушка также не одобряла того, что тетя Лина при жизни отдала свою часть бриллиантов, доставшихся от Юлии Григорьевны, Нате. Бабушка никогда не шла по пути безрассудства короля Лира, и ее вещи во славу принципа целиком погибли в недрах Волжско-Камского банка.
Нату мало тревожила та или иная оценка ее образа жизни. Подобно стрекозе из басни, она «без души» пела, танцевала, играла в спектаклях, участвовала в загородных поездках, получая цветы, конфеты, стихи, романсы и прочие знаки внимания петербургской военно-морской молодежи.
В третьей главе я говорила, что мамина двоюродная сестра Ната училась вместе с Татьяной Константиновной (Тюлей)
- 189 -
Шиловской, что Тюля Шиловская вышла замуж за гусара П.М. Котляревского, который с размахом, достойным менее меркантильной эпохи, заказывал от времени до времени экстренный поезд и вез своих знакомых «на пикник» в Полтавскую губернию.
В одной из таких поездок участвовала Ната и братья хозяйки дома: похожий на цыгана Саша Шиловский и недавно женившийся на княжне Елизавете Васильевне Оболенской его младший брат Владимир*. На правах родственника последнего приехал также и его beau-frère кн. Василий Васильевич Оболенский, один из сыновей многочисленной, но обедневшей семьи московских Оболенских (так называемых «Кореневских»).
Вася Оболенский, поручик артиллерии в запасе, был крупным, плотным, добродушным малым, с коротко остриженными волосами и розовым лицом, что придавало ему вид новорожденного ребенка, рассматриваемого в микроскоп (появившись однажды на костюмированном балу в чепчике и с соской, он имел бурный успех!).
Встреча Наточки Штер с Васей Оболенским закончилась свадьбой, состоявшейся в Москве 29/IV-1899 г. Семья Оболенских приняла новую невестку очень благожелательно. Василий Васильевич получил место земского начальника в Московской губернии, и жизнь Штеровской семьи переключилась в орбиту Москвы.
В начале 900-х годов было продано Гродненское имение и куплена усадьба Овсянниково в 80 километрах от Москвы по Николаевской дороге. В Овсянникове был поместительный двухэтажный дом, куда и переехала вся семья, за исключением Андрея, бывшего на Дальнем Востоке, и Коти, служившего в Преображенском полку.
Младший сын Валентины Петровны, Николай, не проявлявший склонности к науке, 15 лет был отдан в Пажеский корпус, но и там продвигался с трудом. Вспоминая впоследствии годы учения, он рассказывал о каком-то легендарном паже (с которым несомненно имел много общего). Будучи спрошен на экзамене о семилетней войне, этот паж мог ответить только, что она длилась семь лет и была кровопролитна. О тридцатилетней войне он знал, что она длилась тридцать лет и была еще более
* Погиб в 1907 г. во время Быковского пожара.
- 190 -
кровопролитной. Когда же преподаватель задал вопрос о войне Алой и Белой Розы, паж обиделся и сказал: «Вы можете поставить мне единицу, но я старый паж и издеваться над собой не позволю. Причем тут цветы?»
Внешне Котя был строен, ловок и даже, может быть, красив. От бабушки Юлии Григорьевны (если верить ее портретам в молодости) он унаследовал миндалевидный разрез глаз. Черты лица у него были тонкие, рот капризный и во всем облике было что-то польское. Такими я представляла себе хлыщеватых шляхтичей-конфедератов.
В августе 1902 г. он был произведен в подпоручики, вышел в Преображенский полк и прослужил там 6 лет.
В первый раз я увидела Котю Штера, когда мне было лет двенадцать. Мы с мамой, будучи на Невском, зашли под вечер в ярко освещенный магазин хозяйственных принадлежностей Цвернера. У прилавка, к нам спиной, стоял офицер в шинели с бобровым воротником и рассматривал сверкающие никелевые кастрюли особой конструкции. Его вид и осанка почему-то поразили меня, и я даже выразила предположение, что это «великий князь». Мама поспешила меня разуверить словами: «Во-первых, это не великий князь, а во-вторых...» — тут офицер обернулся, — «это — Котя!» Последовали приветственные возгласы.
Странность нахождения Преображенского офицера в посудном магазине объясняется пристрастием Коти Штера к кулинарии. Он слыл мастером в этом деле и, ужиная у Кюба, спускался, говорят, в кухню, чтобы перенять у поваров секрет приготовления того или иного блюда и потом блеснуть своим искусством в кругу знатоков.
За годы петербургской жизни, он еще обучился дирижировать танцами. Непревзойденным дирижером придворных балов много лет подряд был лейб-улан Михаил Евгеньевич Маслов. Потом его начал сменять стрелок барон Притвиц. Котя Штер, знавший толк в балете и танцах, наблюдал приемы, и, обосновавшись в 1908 г. в Москве, получил признание опытного дирижера с петербургским стажем.
Эта, если не вполне счастливая, то во всяком случае беспечная атмосфера штеровской жизни была внезапно нарушена. 17 октября 1907 г. как удар грома пришла весть о гибели Андрея. Двумя неделями позднее, на ст. Сухиничи из Владивостока прибыл цинковый гроб с его телом для погребения в Субботниках, рядом с дедом Чебышёвым. При гробе был серебряный
- 191 -
лавровый венок от команды «Новика». Первой на серебряной ленте стояла подпись командира Эссена.
Получив известие о смерти сына, тетя Лина была очень близка к помешательству, от которого ее спасло сближение со спиритическим кружком А.И. Бобровой, а также беседы с Львом Михайловичем Лопатиным, другом Владимира Соловьева. Эти влияния направили ее помыслы в некое спиритуалистическое русло и заставили поверить в то, что «надо плакать над колыбелью и радоваться над могилой».
Вера эта еще более упрочилась после того, как она обнаружила в себе способность к автоматическому писанию. Я не знаю, какими видами рефлексов объясняет наука это явление, но я была свидетельницей того, как тетя Лина в темноте, совершенно бессознательно исписывала целые тетради философскими изречениями. Был такой случай: весь день тетя Лина провела у нотариуса. Вечером она села за свои тетради. Чувствует, что ее рука выводит «Not» и с досадой думает: «ну вот, отражается то, что я была у нотариуса!» Старается удержать руку, но рука помимо ее воли выводит фразу: «Notre devoir est de vous dire: méfiez-vous des charmes trompeurs des esprits ordinaires!»
Впоследствии то ли кружок Бобровой распался, то ли тетя Лина решила «se méfier des esprits ordinaires», но она отошла от спиритизма и стала ревностной прихожанкой церкви Покрова в Левшине.
Через год после смерти брата Котя вышел из полка, перевелся на какую-то должность при Владимире Федоровиче Джунковском* и женился на единственной дочери помощника управляющего Московской конторой импер. театров Сергея Трофимовича Обухова (управляющим в то время был Николай Константинович фон-Бооль, тот самый, про которого Шаляпин во время одной из своих «молодецких» выходок кричал: «Я сотру ему весь "фон" и останется одна боль!»).
Сергей Трофимович был старшим представителем многочисленного и не раз уже мною упоминавшегося семейства Обуховых. В молодости он готовился стать оперным певцом — из этого ничего не вышло, но, будучи знатоком теории пения, он руководил музыкальным образованием своей племянницы Нади, у которой безусловно «вышло» стать украшением Большого театра.
* Московском губернаторе.
- 192 -
Бывая у Востряковых, я всегда с интересом рассматривала висевшую на стене фотографию: молодой Сергей Трофимович Обухов в обстановке итальянского возрождения и в обличий Отелло, стоя в живописной позе, повествует восемнадцатилетней красавице Дездемоне — Ел. Кир. Востряковой — о своих похождениях. Эта фотография была воспоминанием о живых картинах, поставленных в Москве в 90-х годах.
В мое время С.Т. Обухов был высоким грузным человеком мрачного вида. Он и его брат Александр Трофимович были женаты на родных сестрах Хвощинских. Надежда Николаевна и Вера Николаевна были рослыми, спокойными женщинами с приятными лицами русского склада. Такую же внешность унаследовала и дочь Надежды Николаевны, Лиля, бывшая к тому же очень молчаливой.
Увидев в первый раз новую племянницу, бабушка довольно метко сравнила ее с мраморной кариатидой (чтоб не сказать «каменной бабой»), сошедшей с фасада здания.
Николай Штер и его невеста мало подходили друг к другу и по внешности и по внутреннему складу, что позволяло думать, что брак совершается, если не по расчету, то по разуму. Венчание, на котором я присутствовала, совершалось в домовой церкви Большого Кремлевского дворца. Молодые поселились в Малом Власьевском переулке, но тесная связь Елизаветы Сергеевны с родителями не порвалась. Когда же родился ее первый и единственный сын Николенька, ставший в центре внимания, Котя оказался как бы за флагом, на что он, кстати говоря, ничуть не жаловался. Не имея склонности к «пеленкам» и прочим «тихим радостям», он вполне довольствовался ролью второстепенного члена семьи.
Крестной матерью Николеньки была приятельница обуховской семьи кн. Лобанова-Ростовская. Выходивший на Собачью Площадку дом этой оригинальной особы почти всегда стоял заколоченным, т.к. хозяйка странствовала по Европе (в последние годы по следам тенора Смирнова). Один раз мне пришлось видеть эту меценатку в ложе Большого театра — это была немолодая, сверкающая бриллиантами женщина в открытом платье и рыжем парике. И вот, по завещанию этой умершей за границей международной дамы, маленький Штер унаследовал некоторую сумму денег в швейцарских франках. Упоминаю об этом факте, так как он сыграл известную роль в дальнейшей судьбе семьи. С отъездом из Москвы Николай Петрович Джун-
- 193 -
ковский перешел на открывшуюся вакансию полицмейстера Императорских театров, на которой и пребывал до 1917 г. Должность эта была необременительна и давала постоянное место в третьем ряду партера. Став лицом так или иначе причастным к театральной жизни Москвы, Котя Штер более интересовался делами балета, чем делами «дома Щепкина», однако сумел создать дружелюбное к себе отношение. Столь нелюбимый москвичами «петербургский тон» он применял лишь в умеренном количестве, и, сравнивая его с ненавистным Нелидовым, актеры находили, что Штер «хотя и бывший гвардеец, но веселый и безобидный малый».
На этом я заканчиваю главу о Штерах, а если они и будут входить в мое повествование, то уже как знакомые лица.http://auto-ally.ru/voennoe/1528/index.html?page=18
|
Метки: штер оболенские |
Покушение на Столыпина в 1906 году |
Покушение на Столыпина в 1906 году
- Oct. 31st, 2013 at 12:04 PM
Лето 1906 года семья министра внутренних дел Петра Аркадьевича Столыпина, назначенного в июле еще и на пост председателя Совета министров и совмещавшего теперь эти две должности, проводила на казенной даче на Аптекарском острове в Петербурге.

Старшей дочери Столыпина восемнадцатилетней Марии здесь очень не нравилось. Не нравился этот дом, его казенная обстановка, вышколенные курьеры, швейцары и лакеи, полагавшиеся Петру Аркадьевичу по новой должности, но казавшиеся его близким излишне официально и даже враждебно настроенными... Маша не понимала, почему отец никогда не отпускает ее одну в город, разве что в ближнюю церковь, почему нужно гулять только по дачному саду, окруженному высоким глухим забором и прозванному детьми "тюрьмой"...
Да и сам Петрбург поначалу разочаровал Машу, показавшись ей мрачным и "ненарядным" (нужно было лучше узнать этот великолепный город, чтобы полюбить его). Редкие поездки в город были неприятными - за воротами дачи обычно прогуливались группки каких-то парней, злобно оглядывавших экипаж премьер-министра, отпуская вызывающе громкие замечания: "Хороша колясочка, скоро она нам на баррикады очень даже пригодится!"
К тому же отца можно было теперь видеть совсем недолго и только за завтраком или за вечерним чаем - он был слишком загружен делами, чтобы по-прежнему уделять много внимания детям.
Кузина Петра Аркадьевича, графиня Орлова-Давыдова осуждала двоюродного брата за излишнюю увлеченность государственными делами.
- Я не знаю, как можно работать без отдыха? - говорила она. - В Англии все государственные деятели посвящают вечер после обеда исключительно семье и удовольствиям.
Отец графини служил когда-то послом России в Лондоне, и с тех пор она привыкла мерить жизнь на английский аршин.

Мария Столыпина
А у Маши Столыпиной в Петрбурге буквально все валилось из рук. Она как тень бродила по саду, не находя себе дела. Родители понимали, что Маша тоскует на новом месте от одиночества, оставшись без подруг, без знакомств и без всякого общения со своими сверстниками. Чтобы скрасить старшей дочери первые месяцы пребывания в столице, в дом Столыпиных была приглашена саратовская подруга Маши княжна Маруся Кропоткина.
Девушки вместе читали, рисовали, ездили в манеже верхом и, главное, часами предавались задушевным беседам, столь необходимым юным девицам. Маша немного повеселела.
На даче появились два преданных слуги-литовца, Франц и Казимир, вывезенные из ковенского имения Столыпиных, и обстановка в доме сразу сделалась более теплой, хотя старые слуги заменили теперь обычное домашнее обращение "Петр Аркадьевич и Ольга Борисовна" на официальное "Ваше Высокопревосходительство".
Столыпины в своем ковенском имении Колноберже; за столом справа - Петр Аркадьевич, слева - Ольга Борисовна с маленькой Машей, у нее за спиной преданный лакей Казимир. много лет служивший в их доме
В субботу, 12 августа у председателя Совета министров был приемный день, когда каждый мог явиться на его дачу и лично передать свое прошение. В такие дни на Аптекарском собиралось огромное количество людей самых разнообразных сословий, имевших какое-либо дело или прошение к главе правительства.
В три часа дня Маша Столыпина закончила заниматься уроками с младшей сестренкой Олечкой и поднялась вместе с ней на второй этаж. Оставив девочку в верхней матушкиной гостиной, Маша пошла по коридору в свою комнату. Вдруг все вокруг затряслось, раздался ужасающий грохот, и на месте двери, в которую она хотела войти, Маша увидела огромное отверстие в стене, а дальше, вместо комнаты - набережную, деревья и реку.
"Что с папой?" - в ужасе подумала Маша, заметавшись по коридору. Убийства государственных сановников стали в России настолько привычным делом, что ничего другого в чрезвычайных обстоятельствах и в голову не могло прийти - вероятно, покушение на отца! К Маше по коридору уже бежал лакей Казимир.
- Боже мой! Казимир, что же это? Что? - закричала она старому слуге.
- Это бомба, Мария Петровна. Слава Создателю, вы хоть живы!
Хоть?! Казимир сказал: "Вы хоть живы!" Значит, кто-то погиб? Неужели - папа? Маша метнулась к окну, чтобы спрыгнуть из него вниз и пробраться в кабинет отца на первом этаже. Но Казимир, перехватив ее на подоконнике, силой вернул Машу обратно на пол. В этот момент в коридоре появилась мать, Ольга Борисовна, с искаженным лицом и совершенно белой от известковой пыли головой.
- Ты жива? Машенька, а где Наташа и Адя? Я не могу их найти...

Дача Столыпина после взрыва
В верхней гостиной, где находились маленькая Олечка, Маруся Кропоткина и Елена Столыпина, недавно тяжело переболевшая тифом и еще не вставшая после болезни на ноги, все были живы. Напуганные девочки плакали среди рухнувшей и разбитой мебели, но стены и потолок в комнате уцелели, только лежавшую на кушетке Елену совершенно засыпало кусками штукатурки и известкой.
Снизу раздался голос отца, звавшего жену:
- Оля, Оля, где ты?
Все сразу с облегчением вздохнули - жив! Петр Аркадьевич жив! Мать вышла на балкон.
- Оля, все дети с тобой?
- Нет Наташи и Аркадия.
В скупых словах Ольги Борисовны прозвучало такое отчаяние, что у Маши сжалось сердце. Она вместе с княжной Марусей бросилась к лестнице, чтобы спуститься вниз на поиски брата и сестры.
Но лестницы не было. Только несколько верхних ступенек, а дальше пустота...
Девушки, не думая, что это может быть опасно, спрыгнули вниз, на кучу щебня, в который превратились ступени лестницы. Маша Столыпина отделалась благополучно, а княжне Кропоткиной повезло меньше - она упала, сильно ударилась, как выяснилось позднее - отбила себе почки... Остальных домашних спустили вниз на простынях прибывшие вскоре пожарные.

Сад перед домом представлял такую картину, что Маше так и не удалось никогда найти слова для описания увиденного, и позже она повторяла всем, что это было "нечто ужасающее".
Со всех сторон доносились жуткие крики, вой и плач. Все было залито кровью, в лужах которой тонули куски разбитой штукатуркой, везде валялись мертвые и раненые люди, скрючившиеся в неестественных позах, и, самое страшное - части разорванных тел - и какое-то месиво из бумаг, кирпичных обломков, щепок, растерзанных в клочья вещей и человеческих органов...
Маша прежде, случалось, чувствовала дурноту от вида крови, когда ухитрялась порезать палец... А сейчас она впала в какое-то странное оцепенение, и только чувствовала, как внутри все леденеет от ужасающего холода, и как ее бьет дрожь озноба, несмотря на жаркий летний день...
Первым побуждением Маши, когда она сумела как-то взять себя в руки, было увести младших сестер подальше от этого ада. Как только девочек спустили с разрушенного второго этажа, старшая сестра отвела их вместе с рыдающей гувернанткой-немкой в самый дальний угол сада, к оранжерее.
Елена, в первый раз после тифа вставшая на ноги, передвигалась с большим трудом, но оставаться возле дома по представлениям Маши ей было нельзя.

Тем временем Петру Аркадьевичу удалось отыскать на набережной, под обломками дачи Наташу и трехлетнего Адю. Оба были живы, но тяжело ранены.
Оказалось, что они в момент взрыва стояли на балконе дачи вместе с няней, семнадцатилетней девушкой, воспитанницей Красностокского монастыря. Маленький Аркадий, с интересом рассматривавший подъезжавшие к дому экипажи, единственный из всех выживших видел, как к дому подъехало ландо с двумя жандармами, бережно державшими в руках набитые портфели...
Жандармы возбудили подозрение швейцара, старого опытного служаки, нарушениями в форме одежды. Фасон головных уборов жандармских офицеров был недели за две до того изменен, а приехавшие были в касках старого образца. На помощь швейцару, остановившему "жандармов", кинулся из приемной состоявший при персоне министра генерал Замятин, наблюдавший эту сцену из окна.

Остатки экипажа, в котором террористы подъехали к даче
"Жандармы", оттолкнув швейцара, все же ворвались в прихожую и кинули свои портфели на пол, под ноги генералу, вышедшему им навстречу. Большая часть дачи взлетела на воздух...
Террористы, швейцар и генерал Замятин были буквально разорваны в клочья. Всего от взрыва на месте погибло тридцать два человека, не считая раненых, умерших в больницах в последующие дни. (Сведения об этих смертях приходили ежедневно, причиняя Петру Аркадьевичу страшную боль...)
Дети, стоявшие с няней на балконе, были выброшены взрывной волной на набережную Невки. На них посыпались обломки дома. Наташа попала под копыта раненых осколками и обезумевших от боли лошадей, на которых приехали террористы.
От верной смерти четырнадцатилетнюю девочку спасло одно - ее закрыла сверху какая-то доска, по которой и били копытами лошади, вдавливая отколовшиеся щепки в открытые раны раздробленных ног Наташи.
Когда Наташу достали из-под кучи обломков, она была без сознания, и ее бледное лицо казалось совершенно спокойным, будто бы даже улыбка тронула губы... Но очнувшись, она закричала так страшно, так жалобно и безнадежно, что у близких мороз проходил по коже...
Узнав, что брат и сестра нашлись, Маша Столыпина взяла у прибывших на Аптекарский остров и метавшихся между кричащими ранеными докторов перевязочные средства и постаралась тоже оказать какую-то помощь пострадавшим.
Семнадцатилетняя няня, извлеченная из-под обломков дома вместе с детьми, тихо стонала и повторяла: "Ох, ноги мои, ноги!" Маша расшнуровала ботинок на ее ноге и попыталась его бережно снять, но вдруг с ужасом почувствовала, что нога остается в ботинке, отделяясь от туловища... Тут нужна была квалифицированная помощь. Позвав врача, Маша снова вышла к раненым в сад.
По садовой дорожке между мертвыми и умирающими людьми как ни в чем не бывало ползали две Наташиных черепахи... На газоне лежал мертвый мальчик лет двух-трех, около которого выставили часового.
- Чей это ребенок? - спросила Маша.
- Сын его Высокопревосходительства, - по военному козырнув, ответил тот.
Погибший мальчик, которого в суматохе приняли за Адю, оказался сыном одного из просителей, дожидавшихся приема у премьер-министра.
Взрыв был такой силы, что даже на противоположной стороне реки не осталось ни одного целого стекла в расположенных там фабричных корпусах.
Единственная комната в доме, которая совершенно не пострадала от взрыва, оказалась кабинетом Столыпина. Он сидел за письменным столом в момент покушения, и подскочившая от взрыва бронзовая чернильница окатила его брызгами. Это был единственный урон, нанесенный террористами непосредственно персоне премьер-министра. Страшнее были душевные мучения. "Когда я вытащил дочь свою из-под обломков, ноги ее повисли, как пустые чулки", - рассказывал он позже.
Даже в такой ситуации не обошлось без мародерства, хотя слуги пытались сделать все, чтобы спасти хозяйские ценности и принесли то, что удалось найти. Конечно, в момент взрыва всем было не до того, но потом Маша очень расстраивалась, что кто-то в разрушенной даче опустошил ее шкатулочку и украл сережки, подаренные ей бабушкой к восемнадцатилетию... Петру Аркадьевичу эти потери оказались безразличны. Единственное распоряжение. которое он отдал полицейским: "Поставьте караул к моему столу! Я видел, как какой-то человек пытался его открыть, а там государственные документы!"
Уцелевшие помещения на даче Столыпина после взрыва
Маша вспоминала: "При первом приеме после взрыва государь предложил Папа большую денежную помощь для лечения детей, в ответ на что мой отец сказал:
- Ваше величество, я не продаю кровь своих детей".
Наташа кричала не переставая, до тех пор, пока ее не увезли в больницу... Врачи были уверены, что ноги девочке придется ампутировать, чтобы спасти ей жизнь, но Петр Аркадьевич настоял, чтобы под его отцовскую ответственность с ампутацией подождали хотя бы сутки и сделали все возможное, чтобы спасти ноги его дочери. Маша, рыдая, вспомнила, как за месяц до взрыва, в именины матери, младшие девочки поставили пьесу собственного сочинения в стихах, где Наташа играла роль цветочка, жалующегося, что у него нет ножек и он не может бегать... Медикам удалось сделать почти невозможное - и жизнь, и ноги девочке сохранили. Но еще несколько лет она вынуждена была оставаться в инвалидном кресле...
У трехлетнего Ади была изранена голова и сломана нога, но самым страшным оказалось нервное потрясение. Он долго еще не мог спать, его мучали кошмары и, задремав на минуту, он с ужасом подхватывался и плача кричал: "Я падаю, падаю!" А революционеры вовсе не собирались отказываться от террора, как главного средства политической борьбы. Через несколько дней после событий на даче Столыпина погиб от взрыва бомбы варшавский генерал-губернатор, а на перроне в Петергофе был среди бела дня застрелен командир лейб-гвардии Семеновского полка генерал-майор Г.А. Мин...
1, 3, 6, 8 и 10 фотографии из журнала http://sudilovski.livejournal.com/
Tags:
|
Метки: столыпины кропоткины |
Аксакова Т. А. Семейная хроника : в 2-х книгах-О Наталье Оболенской |
1917 года временно поселились у тети Лины Штер и Наточки Оболенской, так что летом 1918 г. я застала их в Москве, в той самой квартире, где мы с Димой провели три недели между лечебницей Натанзона и домом Обухова на Молчановке. Живая и энергичная Наточка, которая всегда была отзывчива к людским несчастьям, в условиях первых лет революции нашла обширное поле деятельности. Работая еще со времени войны в эвакопункте «Плен-Бежа», она на службе неутомимо старалась облегчить судьбу лиц, перемещенных и обездоленных, а, вернувшись домой, кормила обедами одиноких и потерявшихся в непривычной ситуации друзей. Среди них был уже появлявшийся на страницах моих воспоминаний (как приятель дяди Никса Чебышёва и посетитель дома Востряковых) Иван Леонтьевич Томашевский. Так как я о нем упоминала лишь вскользь, мне хочется теперь посвятить ему несколько слов и даже сделать небольшой экскурс на 20 лет назад (считая от революционного 1918 года).
Иван Леонтьевич Томашевский был чрезвычайно декоративной фигурой на горизонте Москвы, не привыкшей к декоративности. Поляк по отцу и англичанин по матери, он был воплощением хорошего тона в сочетании с некоторой напыщенностью. Томашевский высоко нес голову, гордясь безупречной фигурой, говорил громко и авторитетно. Я часто встречала его у Елены Кирилловны Востряковой, которой он «отдавал дань восхищения», принося цветы в торжественные дни и даже иногда играя в рамс с ее компаньонкой Раисой Захаровной. Началу карьеры Ивана Леонтьевича способствовала в значительной мере его женитьба. Тут я не могу удержаться, чтобы не привести отрывок стихотворения столь часто цитируемого мною Мятлева. Стихи относятся к 90-м годам XIX века.
В России всем и каждому известны обстоятельства.
Есть Петербург. В нем вертятся бояре и сиятельства
Вокруг Его Величества, вокруг Его Высочества.
А те же, кто не вертятся — те жертвы одиночества.
- 295 -
А я, теперь отверженный влиятельными тетками
И признанный одними лишь парижскими кокотками,
Себе еще напакостил лирическими бреднями.
И, бывши между первыми — попал в последние.
Так вот на дочери одной из упоминаемых тут «влиятельных теток» — Варвары Ильиничны Мятлевой — и женился Томашевский.
Из рассказов Довочки Давыдовой я вывела заключение, что мать ее Софья Петровна Шипова и многие другие петербургские дамы считали нежелательным, чтобы их дочери проводили время в обществе молодых великих князей. Ничего дельного из этого не могло выйти, это забивало головы и отпугивало настоящих женихов. Дочь Варвары Ильиничны Мятлевой (по словам бывшей с ней в родстве Довочки) слышала такие увещевания, но им не следовала. Марина Мятлева была enfant terrible придворного круга, вела компанию с Владимировичами и упускала одну хорошую партию за другой. Следствием такого безрассудства был mésalliance (с точки зрения «влиятельных кругов») с Томашевским, человеком без средств, без громкого имени, незадолго до того окончившим лицей и начинавшим службу по министерству юстиции. Брак этот оказался недолговечным. Марина Владимировна вскоре покинула мужа и, забрав маленькую дочь, уехала за границу. Общественное мнение было всецело на стороне Томашевского, который «достойно» жил на холостом положении, поддерживал отношения со своей belle-mère и преуспевал по службе. В 1910-1912 годах он был директором 1-го судебного департамента и получил звание камергера. В придворном мундире «Дядя Том-Шевский» и был особенно декоративен. Таким же doré sur tranches его помню на моей свадьбе 25/I-1914 года. Когда же я снова встретила Ивана Леонтьевича зимой 1918-1919 г. в Москве, я заметила, что позолота с него в значительной мере сошла. Явление это носило всеобщий характер, но в Томашевском перемена была особенно заметна. Похудевший, часто небритый и злой, он ходил по сугробам арбатских переулков, везя за собой санки с дровами или «пайками». «Дань восхищения» он перенес с Елены Кирилловны на Наточку Оболенскую, у которой он одно время столовался. Бабушка юмористически описывала сцену за обедом: «Все сидят за столом и с нетерпением ждут миски с супом. Наконец Ната начинает разливать жидкий бульон с плавающими в нем редкими
- 296 -
крупинками пшена и одной вареной луковицей. Ее мать протягивает тарелку, говоря: "Donne-moi donc cet oignon. Je l'aime tant!" Тут раздается протестующий голос Томашевского: "Mais Madame, je l'aime aussi!" Ната примирительно делит луковицу на две части».
Я не отвечаю за безусловную точность этой сцены, но, в условиях 1918 г., считаю ее вполне возможной.
Впоследствии Томашевский оптировал польское подданство и уехал в Варшаву. Дальнейшее мне неизвестно.
В середине лета у нас на кавелинских антресолях неожиданно появился Вяземский в обличий железнодорожного проводника. Дело в том, что дня за два до этого в газетах появилось туманное извещение об исчезновении великого князя Михаила Александровича. При этом говорилось, что к гостинице, в которой он жил в Перми, подъехала тройка с неизвестными людьми. Люди эти попросили великого князя и его секретаря следовать за ними и куда-то их увезли. Узнав об этом в Гатчине, Вяземский сказал, что его место — быть при Михаиле Александровиче, где бы тот ни находился, в особенности, если великий князь в опасности. На такие слова маме нечего было возразить, и наступила разлука. Вяземский поехал на восток разыскивать Михаила Александровича, что было делом трудным, так как по Волге проходил фронт восставших чехословаков и шли бои. Мама же осталась с Брасовой в Гатчине.
Как я уже говорила, при переезде через Москву Вяземский был одет в какое-то потрепанное пальто. На голове у него была железнодорожная фуражка; в одной руке он держал фонарь, а в другой — прекрасный кожаный чемодан с бельем великого князя, которое он хотел ему «подвезти на всякий случай». Борис сразу заметил несообразность такого багажа (рубашки были помечены инициалами с коронами). Вяземский с этим согласился, бросил чемодан на кавелинском чердаке и поехал с одним фонарем, исчезнув с нашего горизонта на несколько лет. Я же сначала вырезала короны, а потом нашила из брошенных рубашек Димке костюмов. Эти костюмы из прекрасного белого полотна с синими полосками, Димка носил до шестилетнего возраста и был в них очень наряден, особенно когда к ним пристегивался воротничок из ирландских кружев.
В июле мы, поблагодарив Левочку Кавелина за гостеприимство, переехали в «Трубники» к Востряковым, у которых освободились две комнаты. Весной 1919 г. дом Маргариты
- 297 -
Кирилловны Морозовой в Мертвом переулке, построенный незадолго до революции архитектором Желтовским, был реквизирован под Норвежское посольство. В подвале этого дома из хозяйственных помещений были выделены три комнаты для бывшей владелицы дома и ее младших детей Мики и Маруси. В одну из этих комнат переехала также Елена Кирилловна Вострякова. Старшая дочь Маргариты Кирилловны — Леля Клочкова с мужем и Таня Вострякова твердо решили ехать за границу.
Что касается до старшего из детей Морозовых — Юрия, который упоминался мною в главе «Гимназические годы» и был так хорош в костюме тирольца на детском балу, то он уже не нуждался в жилплощади. Судьба его сложилась трагически. Замечая в сыне некоторые странности и боясь роковой обреченности третьего поколения российской буржуазии, Маргарита Кирилловна настояла, чтобы он по окончании Поливановской гимназии, поступил в Гардемаринские классы Морского корпуса. Этим она его отделяла от компании московских богатых бездельников и вполне разумно надеялась, что новая среда, строгий режим и физическая закалка окажут благотворное действие на его психику.
Сначала оно так и было. Присутствуя на празднике Морского корпуса 6/XI-1912 г., я с хор наблюдала, как Юра Морозов, в качестве правофлангового, маршировал со своей ротой по необъятному, самому большому в России, залу старинного здания у Николаевского моста и по выправке ничем не отличался от товарищей.
Через два года началась война, и мичман Морозов был направлен сторожить какой-то маяк на пустынном острове Балтийского моря. Такой нагрузки его психика не выдержала, и случилось то, что над ним давно тяготело: он лишился рассудка. Вылечить его не удалось, и бедный Юра умер, предварительно проведя несколько мрачных лет на Канатчиковой даче.
Его тетушка Елена Кирилловна Вострякова с первых лет революции поступила на работу в управление фанерных трестов. Там она, между прочим, познакомилась с давно известным ей по моим рассказам Николаем Густавовичем Шлиппе, который от времени до времени появлялся у нее на службе в качестве временного дhttp://bgconv.com/docs/index-40297.html?page=26иректора раньше своего, а теперь народного Чернышевского фанерного завода.
Необходимость работать ничуть не удручала Елену Кирилловну, и она, по-современному выражаясь, быстро «приобрела
|
Метки: штер оболенские |
Мария Столыпина-О Саратовском покушении |
Когда мы выезжали из Колноберже в Саратов, Сахаров был уже там. На третьи сутки, когда подъезжали мы к Саратову, неожиданно, за несколько станций до конечной остановки, входит в наш вагон один из чиновников особых поручений моего отца и говорит, что он прислан встретить нас. Очень этим удивленная, мамa просит его к себе в купе, из которого через несколько минут выходит бледная и сильно взволнованная. Оказывается, генерал Сахаров накануне убит в нашем доме, и папa послал предупредить мамa, чтобы она не узнала об этой трагедии из газет и чтобы успокоить ее, сказать, что он сам цел и невредим.
Можно себе представить чувство, с которым мы въезжали в дом, откуда за два часа до того вынесли {146} тело убитого, и в комнатах которого запах ладана красноречиво напоминал о панихидах.
Подробности этого убийства были следующие. Кабинет генерала был устроен во втором этаже, в комнате по левую сторону от приемной, отделяющей его от кабинета папa. Явилась на утренний прием миловидная, скромная молодая женщина, пожелавшая видеть генерала Сахарова. В руках она держала прошение. Чиновник ввел ее в комнату. Закрывая дверь, он еще видел, как просительница положила бумагу перед Сахаровым.
Через минуту раздался выстрел, и Сахаров, обливаясь кровью, выбежал, шатаясь, в другую дверь. В дверях силы его покинули, и он свалился на пол. Бросившаяся бежать убийца была на лестнице задержана чиновником особых поручений, князем ОБОЛЕНСКИМhttps://www.litmir.me/br/?b=46525&p= Поданная ею бумага - прошение, заключала в себе смертный приговор убитому генералу.
Как плохо работала в Саратове жандармская охрана, доказывает следующий факт: до убийства генерала Сахарова явились ночью к моему отцу рабочие с предупреждением, что из Пензы приехали террористы с целью убить Сахарова. Вызванный моим отцом жандармский полковник заявил:
- Позвольте нам знать лучше, чего хотят эти люди. Они хотят совсем другого, генерал же им вовсе не страшен.
А о том, до чего революционно была настроена часть общества, можно судить по тому, что присяжный поверенный Масленников прислал в тюрьму арестованной убийце генерала Сахарова цветы.
Глава 8-мемуаров об отце
|
Метки: столыыпины |
ПОРТФЕЛЬ С БОМБОЙ ИЗ КЁНИГСБЕРГА. Восточная Пруссия довела Столыпина до могилы |
-
Кёнигсберг - Калининград
ПОРТФЕЛЬ С БОМБОЙ ИЗ КЁНИГСБЕРГА.
Восточная Пруссия довела Столыпина до могилы
Наш сегодняшний разговор - о Петре Аркадьевиче Столыпине.
Министр внутренних дел, премьер-министр, реформатор, оратор и жёсткий политик, он сыграл весьма неоднозначную роль в истории России. И прославился он не только роскошной фразой “Им (политическим противникам, - прим. авт.) нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия”. “Столыпинский галстук” (верёвочная петля, которая захлёстывалась на шее приговорённого к казни через повешение - без права на защиту) и “столыпинские вагоны” - это ведь тоже о нём....
Пруссак надутый

Но нас в первую очередь интересует, какую роль в его, Столыпина, судьбе сыграла Восточная Пруссия.
Как и следовало ожидать - роковую.
Начнём с того, что Столыпин вполне мог родиться в Кёнигсберге. Его мать, Наталья Михайловна Горчакова (из дворян, чей род восходил к Рюрику), будучи на девятом месяце беременности, отправилась погостить у своих немецких родственников. Навестила тех, которые жили в Кёнигсберге, отправилась в Дрезден... Там и родила.
Детство Столыпина прошло сначала в Подмосковье, а затем - почти что рядом с нами, в имении Колноберже под Ковно (то есть под Каунасом). По некоторым сведениям, отец Столыпина, Аркадий Дмитриевич, три раза вывозил сыновей в Кёнигсберг. Чтобы показать город, в котором по молодости служил их дед, Дмитрий Столыпин, бывший адъютантом у Александра Васильевича Суворова.
Когда маленькому Петру пришло время поступать в гимназию, его отец купил дом в Вильно (Вильнюсе), на Стефановской улице (ныне это улица Швянто Стяпоно, а на доме красуется мемориальная доска на русском и литовском языках).
Пётр Столыпин проучился в Виленской гимназии до 6-го класса. Когда же корпус, которым командовал отец, перевели в Орёл, и Столыпин пошёл в Орловскую мужскую гимназию, там его (опять же, по некоторым сведениям) прозвали “пруссак надутый”. Ибо (по словам его биографа Фёдорова) он “сильно выделялся среди гимназистов рассудительностью и характером”. А также, надо добавить, лёгким акцентом, от коего избавился нескоро.
Вызвал на дуэль убийцу брата

Гимназию Столыпин окончил в 19 лет. Уехал в Санкт-Петербург, поступил на естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского Императорского университета (кстати, экзамен по химии - на “отлично” - он сдал самому Менделееву).
А затем была романтическая женитьба. Старший брат Столыпина, Михаил, стрелялся на дуэли с князем Шаховским и был смертельно ранен. Умирая, он “завещал” Петру свою невесту, Ольгу Нейдгардт, праправнучку Суворова. Та, собственно, и являлась причиной дуэли: князь Шаховской позволил себе сказать нечто оскорбительное о её якобы имеющихся “отношениях” с кем-то из императорской фамилии (Нейдгардт была фрейлиной императрицы Марии Фёдоровны и состояла при дворе).
Столыпин вызвал на дуэль убийцу брата. Стрелялся, был ранен в правую руку, которую затем на протяжении всей жизни был вынужден лечить. А спустя какое-то время сделал предложение Ольге Нейдгардт. И хотя он был “непозволительно молод” (еле-еле исполнилось двадцать лет!), отец невесты благословил этот брак, философски заметив: “Молодость - единственный недостаток, который исправляется каждый день”.
Племянница Кайзерлинга
Трудно сказать, любила ли Ольга Нейдгардт того, с кем пошла под венец... Но она прожила с Петром Столыпиным до его гробовой доски, родила ему пять дочерей и сына и ни разу (по свидетельству очевидцев) не упрекнула его - даже когда жертвами покушения на Столыпина стали её малолетние дети.
Кстати, по одной из семейных линий Ольга Нейдгардт была внучатой племянницей восточно-прусского аристократа из рода Кайзерлингов.
Вскоре после женитьбы Столыпин определился на государственную службу. Карьера его складывалась удачно. Всего за два года он поднялся на пять (!) ступенек по тогдашней иерархической лестнице и был “пожалован в звание камер-юнкера Двора Его Императорского Величества”. После чего перешёл на службу в министерство внутренних дел и вернулся туда, где прошло его детство, - в Ковно.
13 лет он прослужил в Ковно. Был уездным, а затем губернским предводителем дворянства, возглавлял суд мировых посредников. Занимался своим имением в Колноберже...
Здесь родились четыре дочери Столыпина.
Отдых в Кранце
Столыпин много раз выезжал в Восточную Пруссию. Особенно привлекал его Кранц (Зеленоградск).  Грязевые ванны, прописанные местным доктором, целебный морской воздух, купание, долгие прогулки по берегу моря - всё это принесло свои результаты, Столыпин стал гораздо лучше владеть правой рукой. Но главное - и фатальное для него! - он заинтересовался методом ведения в Восточной Пруссии сельского хозяйства. Он сравнивал сытые хутора прусских крестьян с нищей деревней центральной России и делал вывод: русский крестьянин, лишённый собственности, не стремится к эффективности труда, тогда как его прусский собрат от этой самой эффективности кровно зависит... Так на отдыхе в Кранце Столыпин начал обдумывать аграрную реформу в России.
Грязевые ванны, прописанные местным доктором, целебный морской воздух, купание, долгие прогулки по берегу моря - всё это принесло свои результаты, Столыпин стал гораздо лучше владеть правой рукой. Но главное - и фатальное для него! - он заинтересовался методом ведения в Восточной Пруссии сельского хозяйства. Он сравнивал сытые хутора прусских крестьян с нищей деревней центральной России и делал вывод: русский крестьянин, лишённый собственности, не стремится к эффективности труда, тогда как его прусский собрат от этой самой эффективности кровно зависит... Так на отдыхе в Кранце Столыпин начал обдумывать аграрную реформу в России.
А в 1902 году его неожиданно вызвали в Санкт-Петербург. И назначили губернатором Гродно (нынешний город на территории Белоруссии). Тогдашний министр внутренних дел фон Плеве “заткнул брешь”, образовавшуюся после убийства революционерами губернатора Сипягина. Кроме того, Плеве справедливо рассудил, что Столыпин, хорошо знающий специфику этой части Российской империи, справится лучше, чем кто-либо иной. А специфика заключалась в том, что крестьянство в губернии было представлено белорусами, аристократия - поляками, городское население - евреями.
Расстреливали, как куропаток
Столыпин был губернатором жёстким. На второй день работы он закрыл Польский клуб, где “господствовали повстанческие настроения”. Но он же открыл в Гродно еврейское народное училище, а для девочек - приходское училище “особого типа”, по образу и подобию существовавшей в это время в Кёнигсберге народной школы для девочек, с обязательным преподаванием правописания, математики, рисования, черчения и рукоделия. Здесь же Столыпин начал проводить первые реформы по расселению крестьян - по прусскому типу - на хутора. Но... вскоре его перебросили в Саратов. Опять-таки на вакантную губернаторскую должность.
...Губернаторов в ту пору расстреливали, как куропаток. Но Столыпин неизменно появлялся везде безоружным и без охраны. За четыре года он переживает четыре покушения. Но его хранит счастливая звезда. Правда, жена его выглядит гораздо старше своего возраста.

На реке Алае, в селе Столыпино, он создаёт “опытный хутор” с хозяйством “восточно-прусского образца”... По некоторым сведениям, туда из Кранца периодически завозят лечебную грязь и минеральную воду, ибо из страны, охваченной революцией, Столыпин не может позволить себе отправиться на курорт.
Террористы убили няню
В 1906 году его вызывают в Царское Село. Николай II назначает Столыпина министром внутренних дел. Назначение лестное - но смертельно опасное. Двое предшественников Столыпина на этом посту уже убиты революционерами...
Едва только Столыпин вступает в должность, на него в очередной раз покушаются: в его особняке на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге взрывается “специальное устройство”. По некоторым сведениям, пронёс его в дом молодой человек, отрекомендовавшийся немцем из Кёнигсберга и сославшийся на знакомого семьи Столыпиных, который якобы за него, молодого человека, просил. Его взяли в качестве помощника домашнего секретаря. Он погиб во время взрыва, а с ним - восемнадцать человек, по разным причинам оказавшихся в доме Столыпина.
По другим данным, террористы приехали в приёмный день под видом просителей, якобы по срочному делу. Адъютант Столыпина заподозрил неладное, террористов не пустили внутрь, они попытались прорваться силой, а затем метнули портфель с бомбой. Дети Столыпина - Наталья и Аркадий - вместе с няней находились на балконе. Взрывной волной их выбросило на мостовую. Няня погибла, Аркадий отделался лёгкими ранениями, а у Натальи оказались раздробленными кости ног, и несколько лет она не могла ходить.
“Я не торгую кровью детей”
Сам Столыпин не получил ни единой царапины. Лишь бронзовая чернильница, перелетев через голову, забрызгала его чернилами. Николай II предложил ему существенную “материальную помощь”, но Столыпин ответил: “Я не торгую кровью детей”.
Через неделю после этого покушения был принят “Закон о военно-полевых судах”. Суды, состоявшие из офицеров, в течение 24 часов должны были рассматривать “очевидные преступления” (прежде всего, нападение на военных, полицейских и должностных лиц). Смертный приговор приводился в исполнение также в течение 24 часов. Обвиняемые не имели права на защиту.

Столыпин, “проталкивая” этот закон через Думу, говорил:
“Государство может, государство обязано, когда оно находится в опасности, принимать самые строгие, самые исключительные законы, чтобы оградить себя от распада <...> Бывают, господа, роковые моменты в жизни государства, когда государственная необходимость стоит выше права и когда надлежит выбирать между целостью теорий и целостью отечества”.
Закон был принят. За шесть лет действия закона (с 1906 по 1911 годы) по приговорам военно-полевых судов было казнено 6.000 человек (по тем временам масштаб казней беспрецедентный), а 66.000 - приговорено к каторжным работам.
Жандармы в Эйдкунене
Далеко не всегда приговор выносился обоснованно и справедливо. Известно, что для устрашения бунтующих крестьян под суд отдавали “каждого десятого мужчину в деревне”, даже если лично он был “политически благонадёжен”. Тогда-то в обиход вошли термины “скорострельная юстиция” и “столыпинская реакция”. А кадета Родичева, который первым назвал петлю виселицы “столыпинским гастуком”, Столыпин вызвал на дуэль. Родичев публично принёс извинения - но фраза уже пошла гулять по России.

...Революционеров Столыпин ненавидел люто. Именно в его бытность министром внутренних дел в Эйдкунене (ныне пос. Чернышевское) появилась хорошо оснащённая “филерская служба”: российские жандармы и тайные агенты, находясь на территории другого государства, “пасли” нелегалов, перевозящих газету “Искра”. (Напомним, её печатали в Литве и Германии, а переправляли в Россию преимущественно через Тильзит и Эйдкунен.)
Они же пытались предотвратить “растворение” за границей тех “неблагонадёжных”, кому удалось по поддельному паспорту покинуть Россию. “Подозрительную личность” хватали - и в сопровождении специальных агентов запихивали в вагон поезда, идущего в обратном направлении.
Чиновников жалко не было
Но жители Восточной Пруссии - по крайней мере, рабочие - сочувствовали отнюдь не “филерской службе”. Зная, что для задержанных дело может кончиться “столыпинским галстуком”, их предупреждали, уводили... Иногда в буквальном смысле вырывали из рук шпиков.
...Ответив на “революционный террор” массовыми казнями, Столыпин жестоко ошибся. Он вызвал СОЧУВСТВИЕ к тем, кто, рискуя собственной жизнью, бросал бомбы и стрелял в государственных чиновников. Их, чиновников, жалко не было. Уничтожался как бы не человек, а “функция”. Людей в чиновниках видеть было весьма затруднительно - страшно далеки были они от простого народа. (Впрочем, ссориться с Восточной Пруссией Столыпин не собирался - гораздо больше его беспокоили “гнёзда революционеров” в Финляндии.)

А вслед за “столыпинским гастуком” пришёл черёд и “столыпинского вагона”.
Как мы уже говорили, влюблённый в прусскую систему хозяйствования, Столыпин отчаянно пытался внедрить её в России. Не будем сейчас входить во все тонкости, но Столыпин собирался... превратить Сибирь в Восточную Пруссию. “Пересадить” крестьян на хутора в центральной полосе России было невозможно из-за нехватки свободной земли. А вот в Сибири незаселённых просторов хватало.
Вагон в Сибирь
Столыпин предложил крестьянам осваивать Сибирь. Переселенцам гарантировались “подъёмные” и участок земли в частную собственность. В дальнейшем предполагалась и так называемая “агрономическая помощь”: консультации, просветительские мероприятия, создание и содержание опытных и образцовых хозяйств, торговля современным оборудованием и удобрениями и т.д.
Заманчивые условия позвали в дорогу несколько миллионов крестьян. В 1910 году для переселенцев были созданы специальные железнодорожные вагоны. От обычных они отличались тем, что были ниже пассажирских, но выше товарных, а одна часть их во всю ширину вагона предназначалась для крестьянского скота и инвентаря. Естественно, особого комфорта в них не наблюдалось (так, не были предусмотрены пассажирские туалеты).
Долгая дорога в вагоне, набитом людьми, скотом, домашней птицей, всевозможным скарбом... с ведром в углу, предназначенном для отправления естественных нужд... превращалась в сущий кошмар.
Обречены на гибель
В Сибири, как выяснилось, переселенцев особо никто не ждал. Не всем удавалось добраться так, чтобы “вписаться” в природный календарь сельскохозяйственных работ... Многие вообще не понимали, КУДА они едут, сибирские холода стали для них шокирующим откровением... “Агрономическая помощь” и прочее “сопровождение реформы”, натурально, остались лишь на бумаге... В итоге 20% переселенцев вскоре вернулись обратно - фактически разорёнными, т.к. полученные “подъёмные” им предстояло выплатить Крестьянскому поземельному банку... Ещё 25-30% остались в Сибири только потому, что деваться было некуда. То есть полтора миллиона человек - из трёх миллионов “участников эксперимента” - проклинали Столыпина денно и нощно.
Восточной Пруссии в Сибири не получилось - ещё и потому, что осваивать тамошние незаселённые земли хуторским методом оказалось невозможно. “Выяснилось”, что земли эти - в виде, готовом для сельхозупотребления - не существуют. Их надо отвоёвывать у тайги: рубить вековые деревья, корчевать пни, отстреливаться от диких зверей и “лихих людей”, например, беглых каторжников. Просторы Сибири напоминали - в этом смысле - американский Дикий Запад. А там, как известно, герой-одиночка выживал лишь в виде исключения. Даже в романах Фенимора Купера “хуторские жители” оказывались обречены на гибель.
Пытаются отравить
Понимал ли это Столыпин? Трудно сказать. По крайней мере, сам он утверждал, что его реформы должны осуществляться комплексно, а эффект может быть достигнут лишь в “долгосрочной перспективе”, для чего необходимы “двадцать лет покоя внутреннего и внешнего”. Этих двадцати лет не оказалось ни у страны, ни у него лично.
Ну а вагоны, “ведущие в ад”, стали называться “столыпинскими”. И приобрели они дурную славу гораздо раньше, чем победившие большевики снабдили их решётками на окнах и повезли в них в Сибирь и Среднюю Азию различный “репрессированный элемент”...
...В течение пяти лет (с 1906-го по 1911 год) покушения на Столыпина планируются с жесточайшей регулярностью. Поляк Добржинский формирует для его убийства “боевую дружину”. Группа захвачена до совершения террористического акта.
Сына Столыпина Аркадия пытаются отравить - он чудом остаётся жив.
В Гельсингфорсе арестовывают руководителя северного боевого “летучего отряда” Трауберга, еврея родом из Кёнигсберга. Главная цель отряда, разумеется, Столыпин... Террорист, которому поручено убить министра, устраивается в его особняк под видом столяра для ремонта лестницы. Его выдают руки - слишком белые и тонкие для столяра...
Нравился кайзеру
Однажды бомба, брошенная из окна дома на Театральной площади, падает к ногам Столыпина - его отбрасывает взрывной волной, но он остаётся невредим... Буквально через неделю в него стреляет неизвестный, но не попадает...

Арестована Фейга Элькина, организовавшая революционную группу по подготовке покушения на Столыпина... И т.д., и т.п.
Столыпин является самым ненавистным символом власти в глазах революционеров (и, соответственно, самой желанной мишенью). Но и в царских кругах он не пользуется особенной любовью. Его называют “немцем”. Даже немецкий кайзер Вильгельм II тоже отмечает в нём “немецкие черты” и говорит: “Если бы у меня был такой министр, как Столыпин, то Германия поднялась бы на величайшую высоту”.
Впрочем, эта красивая фраза ничего не меняет. Столыпин битый час убеждал кайзера Вильгельма в том, что война между Россией и Германией приведёт лишь к тому, что в обеих странах враги монархического строя добьются революции... Так оно и вышло. И Вильгельм II вспоминал об этом уже в эмиграции.
Смерть в театре
Столыпин ссорится с Николаем II из-за Гришки Распутина - и доводит своего монарха до полного исступления. Тот кричит: “Пусть будет лучше десять Распутиных, чем одна истерика императрицы!” Тем не менее, Столыпин выпроваживает Распутина из Петербурга (тот отправляется паломником в Иерусалим и вновь “рисуется” при дворе лишь после гибели Столыпина).

Императрица, лишённая общества “старца”, открыто ненавидит премьер-министра... Лев Николаевич Толстой, который был в дружеских отношениях с семейством Столыпиных, не может примириться с идеей военно-полевых судов... В общем, Столыпин со всех сторон “обложен”. Итог предрешён. Очередное покушение - 1 (14) сентября 1911 года - становится последним. По одной из версий, террорист Дмитрий Богров, стрелявший в Столыпина в Киевском городском театре (где тот находился вместе с Николаем II и членами царской фамилии), получил билет на это “протокольное мероприятие” от начальника Киевского охранного отделения.
Столыпина похоронили в Киеве. Согласно его завещанию, - там, где он был убит.
Сразу же, как и водится, погибшего премьера поспешили облить грязью. Дескать, все его реформы только усугубили тяжёлое положение в стране, а “пропасть, отделяющая государственную власть от страны, все растёт, и в населении воспитываются чувства злобы и ненависти...”
Вешатель и фашист
Затем ему, мёртвому, доставалось и от сторонников, и от противников. Для противников он был “душегубом” и “вешателем”, для сторонников... “первым русским фашистом”. Так называлась книга, выпущенная в Харбине в 1928 году. Автор её, член партии “православных русских фашистов”, доказывал, что Столыпин “даже гениальнее Бенито Муссолини”. А Солженицын в книге “Август Четырнадцатого” писал, что, если бы Столыпина не убили в 1911 году, он предотвратил бы мировую войну, а значит, и проигрыш в ней царской России, и захват власти большевиками, и гражданскую войну, и миллионы жертв этих трагических событий...
Но история, увы, не знает сослагательного наклонения.

Ну а Восточная Пруссия - частично - всё же переместилась в Сибирь. Хотя и совсем не так, как мечталось обожающему её Столыпину. В “столыпинских вагонах”, получивших название “вагон-зак”, в 1945 году повезли в Сибирь немецких военнопленных... И, наоборот, те же самые “столыпины” повезли советских переселенцев в бывшую Восточную Пруссию. И началась уже НАША история.
Кстати, по итогам проводившегося три года назад всероссийского интернет-опроса “Имя России” Столыпин занял второе место (после Александра Невского). Вот и думай, чего больше хочется миллионам: “великой России” без “великих потрясений” - или столыпинских вагонов и “галстуков”?
...А в этом году в Калининградской области предполагается ознаменовать столетие со дня гибели Столыпина установкой памятной доски в Кранце, где он неоднократно бывал. И где, по словам одной из его дочерей, он и вся его семья “неизменно были спокойны и счастливы”.
Д. Якшина
24.11.2011 | НК №268 | Адрес: www.rudnikov.com/article.php?ELEMENT_ID=20590
|
Метки: столыпины |
Кумир либералов и монархистов своими действиями способствовал краху государства |
Кумир либералов и монархистов своими действиями способствовал краху государства
https://aftershock.news/?q=node/573344&full
Премьер-министр Петр Аркадьевич Столыпин уже 20 лет является кумиром либералов и монархистов. Увы, он никогда не был премьер-министром в современном значении этого слова. Ничего общего по сравнению с британскими премьерами XVIII–XXI веков.

Петр Аркадьевич Столыпин.Фото 1908 года
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ИСПУГ
Система управления Российской империей была рассчитана на гениального правителя типа Наполеона, а в нашем отечестве – Петра I, Екатерины II или Сталина. Все министры были подчинены лично царю и имели право личного доклада. Они не подчинялись премьер-министру и не были обязаны координировать свои действия друг с другом.
Когда Сергей Юльевич Витте был уволен царем с должности министра финансов и назначен премьер-министром, он был крайне огорчен и считал сие опалой.
26 апреля 1906 года Столыпин получил пост министра внутренних дел и оставался таковым до самой смерти. 8 июля того же года он стал председателем Совета министров, но это практически не увеличило его власть. Основой могущества Столыпина в первые годы было доверие царя, напуганного революцией. Николай II в 1906–1908 годы принимал Столыпина чаще, чем всех остальных министров, вместе взятых.
Однако Столыпин никогда не занимался вопросами обороны, внешней политики, финансов, путей сообщения и т.д., там были свои министры.
Столыпин не лез даже в дела торгового флота и портов. Попробовал бы он вызвать для отчета начальника Главного управления торгового мореплавания и портов великого князя Александра Михайловича!
Апологеты Столыпина в качестве примера влияния его на внешнюю политику России говорят о том, что он де в сентябре 1910 года уговорил Николая II снять с должности министра иностранных дел Александра Петровича Извольского и поставить на его место своего родственника Сергея Дмитриевича Сазонова (жены обоих были родными сестрами). Того самого Сазонова, который втянул Россию в Первую мировую войну.
Даже если это так, ну и что? Григорий Ефимович с десяток министров «уговорил».
Итак, и до 8 июля 1906 года, и после сфера деятельности Столыпина не выходила за рамки Министерства внутренних дел.
ПЕЧАЛЬНЫЙ ИТОГ РЕФОРМ
Главной заслугой Столыпина считают проведение земельной реформы. Итог ее – с конца 1916 года по 25 октября 1917 года, то есть до прихода к власти большевиков, крестьяне в центральных губерниях России в инициативном порядке сожгли или разграбили подавляющее большинство барских усадеб и захватили помещичьи земли.
Вторая главная заслуга Столыпина – подавление революции чисто репрессивными мерами. 13 марта 1907 года он ввел закон о военно-полевых судах. По сему поводу Петр Аркадьевич изрек: «Иногда государственная необходимость стоит выше права». Если бы это прочитал Николай Иванович Ежов, он немедленно бы подписался под каждым словом.
В итоге в 1907–1910 годы военно-полевые суды вынесли 5735 смертных приговоров, 66 тыс. человек были сосланы на каторгу. Помимо военно-полевых судов господа офицеры получили право расстрела людей без суда и следствия. Типичный случай в Москве – патруль задерживает человека, у которого находят браунинг. И тут зачастую пьяный господин поручик решает, отпустить или расстрелять на месте.
Замечу, что в России до 1906 года, как и в цивилизованных государствах Европы, и в США, любые пистолеты и револьверы продавались без всякого разрешения. Столыпин в 1906 году запретил продажу без разрешения особо мощных револьверов и пистолетов, например, маузера.
Большевики, придя к власти, запретили иметь личное оружие всем, кроме членов партии. В 1934 году Сталин запретил иметь оружие и коммунистам. Причем, если при Сталине криминалом считался только патронный пистолет с центральным боем, то сейчас наши «демократические» органы могут отправить за решетку за дуэльный пистолет пушкинской эпохи, а то и времен царя Алексея Михайловича.
Когда Столыпин возглавил МВД, в России существовали монастырские тюрьмы: 16 в мужских монастырях и 15 в женских. Любопытно, что в 1786 году в Соловецком монастыре было 15 пожизненных узников, причем за что заключены семеро из них, не знал и сам архимандрит.
Ряд историков считают, что к концу своего правления Столыпин уничтожил монастырские тюрьмы. На самом деле он лишь законсервировал их, и деньги на содержание монастырских тюрем по-прежнему выделялись из бюджета. Эх, не знал Петр Аркадьевич, для кого он бережет эти тюрьмы!
ГУБЕРНАТОРСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ
Все губернаторы империи подчинялись лично Столыпину. И именно в его правление они дошли до полнейшего беспредела. Например, вятский губернатор Камышанский издал обязательное постановление: «Виновные в печатании, хранении и распространении сочинений тенденциозного содержания подвергаются штрафу с заменой тюремным заключением до трех месяцев!»
Херсонский губернатор Федор Александрович Бантыш в 1908 году оштрафовал местную газету за телеграмму Петербургского телеграфного агентства из Англии с речью какого-то английского деятеля.
И это широко распространенная практика запретов губернаторов на перепечатку статей из государственных изданий. Что бы случилось в Херсоне, что в 1937 году, что в 1967-м, если бы там запретили перепечатку статей из «Правды».
Представим себе, что секретарь Крымского обкома в 1957 году или мэр Симферополя в 2017 году заставил бы школьников при виде себя становиться во фрунт и отдавать честь, а кто замешкался – сажать на несколько дней в карцер. А симферопольский вице-губернатор Павел Николаевич Массальский это делал регулярно. И как его наказал Столыпин? Назначил губернатором в Харьков.
В октябре 1906 года ялтинским градоначальником Столыпин назначает полковника Ивана Антоновича Думбадзе, сына мещанина Кутаисской губернии.
2 ноября 1906 года Думбадзе ввел в Ялте положение о чрезвычайной охране, действовавшее до 1 июля 1914 года. Согласно этому положению можно было арестовывать любого вызывающего подозрение и без следствия выдворять за пределы уезда.
Думбадзе без суда и следствия выселял всех жителей Ялты, чем-либо не понравившихся ему. Так, были высланы художник Г.Ф. Ярцев, владелец фотостудии «Юг» С.В. Дзюба. Почему-то Думбадзе очень любил высылать докторов: земского врача А.Н. Алексина (он лечил Горького), врача Т.М. Гурька, врача В.И. Салтыковского, школьного врача Анну Степаненко, содержателя детского пляжа Лапидуса, санитарного врача Ялты П.П. Розанова, врача С.Я. Елпатьевского.
О последнем стоит сказать несколько слов. Сергей Яковлевич Елпатьевский лечил Короленко, Чехова и Горького. За счет солидных гонораров построил себе в Ялте большой дом. Усадьбу Елпатьевского Чехов шутливо называл «Вологодской губернией», а Горький завидовал: «Какой домище строит Елпатий!»
В чем-то высылка пошла Елпатьевскому на пользу. После революции он становится личным врачом Ленина и до 1928 года работает в Кремлевской больнице. Умер Елпатьевский 9 января 1933 года и похоронен на Новодевичьем кладбище.
Ну, ладно, кто-то из медиков поплатился за левые убеждения. Однако Думбадзе высылал из Ялты сотни людей и за «бытовуху». Среди них оказалась и Дейла Тайганская – дочь командира Крымского конного полка Муяти-Заде. Она поплатилась за флирт с господами офицерами.
Долго думал градоначальник, чем бы угодить жителям вверенного города, и, наконец, надумал: «А есть ли в частях, расквартированных вокруг Ялты, евреи? – Есть! – Так выслать их немедля!»
Кого бы еще выслать – озадачился Думбадзе. И начал высылать по этапу дам, которые плескались в море без купальников. Вообще-то говоря, в начале века один купальник в России приходился на несколько тысяч женщин. Да и сам Николай II купался голышом, даже документальные кадры сохранились. Чтобы не прослыть женоненавистником, Думбадзе ссылал и мужчин, которые хоть и были одеты, но преступно наблюдали за обнаженными купальщицами.
Надо сказать, что на этом Думбадзе не успокоился и в 1915 году издал указ «О соблюдении благочиния в купальных местах городов…» Там воспрещалось «лицам, купающимся с берега… оставаться вне воды для отдыха и т.п., если только они не имеют на себе носильного платья». В переводе на нормальный язык это означало, что человек, выйдя из моря, не мог находиться на пляже даже в купальном костюме, а немедленно должен был одевать верхнюю одежду.
26 февраля 1907 года в экипаж Думбадзе из-за забора особняка купца Новикова была брошена самодельная бомба. Никто не был убит, нападавший покончил с собой. Хозяина в доме не оказалось, он был в Москве. Тогда не растерявшийся градоначальник приказал конвою сходить в бакалейную лавку, взять там бидоны с керосином и сжечь дом ни в чем неповинного купца. От особняка остались только каменные стены, поскольку полиция запретила тушить огонь.
Домовладелец Новиков подал в суд иск на 75 тыс. руб. А что сделал Столыпин? Осудил действия Думбадзе? Наказал ретивого градоначальника? Нет, промолчал, а Новикову в секретном порядке выдал 40 тыс. рублей из бюджета МВД. Берег Петр Аркадьевич казенные деньги!
СТОЛЫПИНСКИЕ ПРОВОКАТОРЫ
В правление Столыпина в Департаменте полиции система провокаций приняла размеры, невиданные ни до, ни после, ни в империи, ни во всем мире.
Вообще-то, если честно признаться, первые полицейские провокации начались еще в середине XIX века. К этому времени за границей оказались несколько наиболее «породистых» князей Рюриковичей – Петр Владимирович Долгоруков, Иван Сергеевич Гагарин и Петр Алексеевич Кропоткин. В террористы они не лезли, но позволяли неприличные высказывания о сановниках, министрах и даже о самом… И вот департамент полиции провел блестящую спецоперацию. В российские подцензурные СМИ был произведен вброс компромата. Долгоруков и Гагарин были объявлены гомосексуалистами и авторами скандального пасквиля, направленного Пушкину. С этим подлогом советские криминалисты разобрались лишь в 1976 году, а до этого Долгорукова и Гагарина поливал грязью любой желающий.
Царствование Николая II началось с фарса. В мае 1895 года жандармы рапортовали царю о большом успехе в борьбе с террористами, которые собирались убить Николая во время коронационных торжеств. Во главе организации стоял… Распутин, правда, не Григорий, а Иван. Историки и публицисты подметили ряд роковых совпадений в истории династии Романовых. Все началось в Ипатьевом монастыре, а закончилось в Ипатьевом доме и т.д. А я добавлю: Распутиным началось, Распутиным и кончилось.
Всего по делу Распутина было арестовано 35 человек. «Произведенными у злоумышленников обысками было обнаружено: лаборатория со всевозможными принадлежностями для изготовления снарядов, народовольческая литература и другие данные, вполне изобличавшие кружок в задуманном злодеянии».
За подготовку террористического акта против императора Иван Распутин, Алексей Павелко-Поволоцкий, Иван Егоров, Василий Бахарев, Таисия и Александра Акимовы и Анастасия Лукьянова приговорены к смертной казни через повешение. Зинаида Гернгросс приговорена заочно к 20 годам каторги. Тем не менее террористов не казнили, а отправили на каторгу, а Зинаиду Гернгросс – в ссылку в Кутаис.
Что же произошло? Царь на радостях помиловал злодеев?
Увы, все было иначе. Подлинным организатором покушения был не Распутин, а 20-летняя Зинаида Гернгросс. Зинаида происходила из богатой семьи с немецкими корнями. В 1893 году, сразу после окончания Смольного института благородных девиц, 18-летняя высокая стройная девушка с копной золотистых волос записалась на прием к вице-директору Департамента полиции полковнику Семякину и попросилась в секретные агенты. Именно эта красотка, числившаяся в Департаменте полиции как «агент Михеев», склонила студенческий кружок Распутина, занимавшийся пустой болтовней, к проведению теракта против государя. Именно Гернгросс доставала компоненты для производства взрывчатых веществ.
Отправленная в ссылку в Кутаис, Гернгросс в конспиративных целях сошлась со студентом-медиком Жученко, вышла за него замуж, родила сына и в историю вошла как Зинаида Жученко.
В итоге рыжая красавица отправила на каторгу и виселицы несколько десятков человек, многих из которых она сама склонила к терактам.
12 октября 1909 года премьер П.А. Столыпин представляет царю «всеподданнейший» доклад, касавшийся секретного агента Зинаиды Федоровны Жученко, работавшей в охранке с 1893 года. В подробном докладе Столыпин информирует царя о перипетиях агентурной деятельности Жученко как в России, так и за границей. В связи с тем, что летом 1909 года эмигранту Бурцеву удалось разоблачить Жученко, Столыпин просит всемилостивейшего пожалования Зинаиде Жученко из секретных сумм Департамента полиции пожизненной пенсии в размере 3600 руб. в год, применительно к размеру получавшегося ею за последние годы жалованья.
Но главным супер-агентом Столыпина был Евно Фишелевич Азеф. Он, как и Гернгросс, сам предложил свои услуги Департаменту полиции.
Азефу положили жалованье в 50 руб. в месяц и присвоили псевдоним Виноградов. Позже в Департаменте полиции его именовали Капустин, Раскин, ну а у эсеров он называл себя Иван Николаевич.
Донесения Азефа устраивали охранку. На одном из них сохранилась пометка: «Сообщения Азефа поражают своей точностью при полном отсутствии рассуждений».

| Евно Азеф – главный суперагент Столыпина. Фото начала ХХ века |
«БОЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»
В 1902 году ряд организаций, близких к народникам, слились в партию социал-революционеров. Эсеры впервые провозгласили террор частью своей официальной доктрины, дабы спровоцировать правительство на ответные репрессивные меры и тем самым вызвать взрыв народного недовольства, а в идеале и революцию.
С этой целью при Центральном комитете партии была образована «Боевая организация» (БО) – наиболее законспирированная партийная структура, устроенная по образцу исполнительного комитета «Народной воли». Несмотря на то, что террористическая группа была создана по распоряжению партийного ЦК, она обладала значительной автономностью, имела отдельную кассу, собственные явки и конспиративные квартиры. Центральный комитет лишь давал БО задания и устанавливал приблизительные сроки их выполнения.
Возглавил БО один из основателей партии, член ЦК, 32-летний Григорий Гершуни. Его ближайшим советчиком был другой член ЦК – Евгений Филиппович (Азеф). В первом составе БО было 15 человек.
2 апреля 1902 года член БО эсер Балмашёв застрелил министра внутренних дел Российской империи Дмитрия Сергеевича Сипягина.
После ареста Гершуни вся власть над «Боевой организацией» сосредоточилась в руках Азефа, который вскоре после этих событий уехал в Женеву.
Став фактическим руководителем БО, Азеф решил больше не применять для террора револьверы, оставив их лишь в качестве оружия самообороны, а производить покушения с помощью бомб.
В Швейцарии были оборудованы несколько лабораторий, занимавшихся изготовлением динамита. При Азефе БО окончательно отделилась от партии эсеров – ее членам запрещалось пользоваться партийными денежными средствами, документами, явками. Азеф заявлял: «…при большой распространенности провокации в организациях массового характера общение с ними для боевого дела будет гибельно…»
В 1903–1906 годах в БО входили 13 женщин и 51 мужчина. Среди них было 13 потомственных дворян, 3 почетных гражданина, 5 поповичей, 10 – из купеческих семей, 27 мещан и 6 крестьян. Высшее образование имели шестеро, еще 28 были отчислены ранее из университетов. 24 имели среднее образование, 6 – начальное.
28 июля 1904 года на мосту через Обводный канал член БО Сазонов бросил бомбу в карету Плеве. От полученных ранений министр скончался на месте.
4 февраля 1904 года в центре Московского кремля на Арсенальной площади в карету московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича бросили бомбу. Сергей был буквально разорван в клочья. По сему поводу в свете шутили, что великий князь впервые в жизни пораскинул мозгами. Исполнитель Иван Каляев, сын полицейского офицера, был членом боевой организации эсеров и выполнял приказ ее главы Евно Азефа.
В 1906 году Михаил Ефимович Бакай, чиновник для особых поручений при Министерстве внутренних дел, вступил в контакт с Владимиром Львовичем Бурцевым – историком революционного движения. Бакай знал о существовании крупного агента Раскина в боевой организации эсеров. Он подозревал Азефа, но неопровержимых доказательств у него не было.
В 1908 году подробные сведения об Азефе Бурцеву сообщает Алексей Александрович Лопухин, бывший директор Департамента полиции. Еще в мае 1902 года при вступлении в должность директора Департамента Лопухин получил записку заведующего заграничной агентурой Рачковского с просьбой выдать ему 500 руб. для передачи через своего секретного агента боевой организации эсеров на изготовление бомб. Представим себе, насколько дико было читать подобное отпрыску старинного боярского рода, состоявшего в родстве с царями, и выпускнику юридического факультета Московского университета.
В итоге Азеф был разоблачен. Российские и зарубежные СМИ пестрели сообщениями о грандиозной провокации охранки.
Столыпин был взбешен. 11 февраля 1909 года он произнес в Государственной думе двухчасовую речь в защиту Азефа. Я внимательно прочитал речь с карандашом. Тем не менее понять ее мудрено. Суть речи в одной фразе: В 1906 году «Азеф становится близко к боевому делу в качестве представителя центрального комитета в боевой организации».
Какая прелесть! ЦК партии послало своего наблюдателя в БО, и делов - то!
САНОВНАЯ АНАРХИЯ
Но урок с делом Азефа не пошел впрок Петру Аркадьевичу. Жандармский генерал Александр Васильевич Герасимов, руководивший охранкой с 1906 по 1908 год, писал в своих воспоминаниях: «В начале 1903 г. мне пришлось побывать в Петербурге… В этот мой приезд в очередной беседе, в которой участвовали Зубатов и Медников, последний мне сказал:
– Вы ничего не делаете там. Ни одной тайной типографии не открыли. Возьмите пример с соседней, Екатеринославской губернии: там ротмистр Кременецкий каждый год 3–4 типографии арестовывает.
Меня это заявление прямо взорвало. Для нас не было секретом, что Кременецкий сам через своих агентов устраивал эти нелегальные типографии, давая для них шрифт, деньги и прочее.
И я ответил:
– Я не арестовываю типографии потому, что у нас в Харькове их нет. А самому их ставить, как делает Кременецкий, и получать награды потом – я не намерен…»
Но Санкт-Петербург – не Екатеринославская губерния. И 8 июня 1906 года на заседании I Государственной думы министру внутренних дел Столыпину все-таки пришлось отвечать на депутатский запрос о печатании «воззваний с призывами к погромам» в тайной типографии в Департаменте полиции. Объяснения министра были путаны и неубедительны. После Столыпина выступил князь Сергей Дмитриевич Урусов, бывший тверской губернатор и бывший товарищ министра внутренних дел: «Когда собирается где-нибудь кучка незрелых юношей, которая провозглашает анархические принципы, вы на эту безумствующую молодежь сыплете громы, ополчаетесь пулеметами. А я думаю, что та анархия, которая бродит в юных умах и гнездится в подполье, в потаенных углах и закоулках, во сто крат менее вредна, чем ваша сановная анархия».
Князь Урусов довольно точно сформулировал состояние власти в России – «сановная анархия». Жаль только, что он не уточнил, благодаря кому возникла сановная анархия.
Тем временем министр внутренних дел Столыпин с санкции... премьер-министра Столыпина решил продолжать охоту на министров. Новой жертвой должен был стать бывший министр финансов и премьер-министр Сергей Юльевич Витте. К подготовке покушения были подключены генерал Трепов, начальник Санкт-Петербургского охранного отделения полковник Герасимов и др.

Сергей Юльевич Витте. Фото Библиотеки Конгресса США. 1905 г.
Непосредственно с террористами общался жандармский ротмистр Комиссаров, который ранее работал в Азефом. За ликвидацию Витте взялся полицейский агент А.Е. Казанцев. Он подговорил убить Витте двух молодых рабочих – В.Д. Федорова и А.С. Степанова, не состоявших ранее в революционных организациях. Казанцев представился рабочим в качестве эсера. Разумеется, партия эсеров ничего не знала об этой затее.
Рано утром 29 января 1907 года Федоров и Степанов взобрались на крышу дома Витте и опустили в дымоходы две бомбы с часовым механизмом. Взрыв был намечен на 9 часов утра. Однако взрыватели не сработали, и вечером прислуга обнаружила бомбы.
Предоставлю слово самому Витте: «Когда я пришел наверх, то увидел во вьюшке печки четырехугольный маленький ящик; к этому ящику была привязана очень длинная бечевка. Я спросил Гурьева, что это значит? На что истопник мне ответил: что когда он отворил вьюшку, то заметил конец веревки и начал тащить и, вытащив веревку арш. 30, увидел, что там есть ящик».
На место прибыл полковник Герасимов – начальник охранного отделения Петербурга. «Ящик этот ротмистр Комиссаров вынес сам в сад и раскупорил его. Когда он раскупорил, то оказалось, что в этом ящике находится адская машина, действующая посредством часового механизма. Часы поставлены ровно на 9 часов, между тем было уже около 11 часов вечера».
По возвращении Витте из Франции в Петербург Казанцев начал готовить Федорова к новому покушению на Витте. Планировалось метнуть бомбу в автомобиль Витте по дороге в Государственный совет. Время покушения – конец мая – было выбрано не случайно. Правительство нуждалось в поводе для роспуска II Государственной думы. Расчет был прост – от думы предполагалось потребовать резкого осуждения теракта в частности и действий революционеров вообще. Отказ был неизбежен, за чем следовала бы реакция – роспуск думы. Но на сей раз у Федорова и его приятеля Петрова хватило ума посоветоваться с левыми депутатами думы. Те пришли в ужас, сообщили рабочим, что Казанцев провокатор, а о готовящемся покушении было сообщено в полицию и самому Витте.
27 мая 1907 года Казанцев отправился за город начинять бомбы взрывчаткой. Пока Казанцев снаряжал первую бомбу, к нему сзади подошел Федоров и нанес несколько ударов кинжалом.
После убийства провокатора Степанов скрылся в России, а Федоров отправился в Париж, где выступил с разоблачениями перед прессой.
Граф Витте имел тесные связи с правительственными и финансовыми кругами Франции, и он неофициально прозондировал вопрос о выдаче Федорова русским властям. Предоставлю слово самому Витте: «…мне было сказано, что Федоров обвинялся в политическом убийстве… С одной стороны, русское правительство официально требовало выдачи Федорова, а с другой стороны, словесно передало, что нам было бы приятно, если бы наше требование не исполнили».
Витте неоднократно обращался к Столыпину как к премьеру и как к министру внутренних дел с требованием выяснить, кто стоял за спиной Казанцева, но ответа не получил. Наконец при личной встрече Витте прижал Столыпина к стене. Послушаем опять Витте: «Он раздраженным тоном сказал мне: «Из вашего письма, граф, я должен сделать одно заключение: или вы меня считаете идиотом, или же вы находите, что я тоже участвовал в покушении на вашу жизнь? Скажите, какое из моих заключений более правильно, то есть идиот ли я или же я участвовал тоже в покушении на вашу жизнь? На это я Столыпину ответил: «Вы меня избавьте от ответа на такой щекотливый с вашей стороны вопрос».
КАК РАЗГОНЯЛИ ДУМУ
После этого граф Витте был поставлен Столыпиным под наружное наблюдение.
И Николаю II, и Столыпину не нравился состав Государственной думы, созванный 20 февраля 1907 года. И вот по указанию Столыпина агент Казанская разогнала Государственную думу и совершила государственный переворот.
Дело было так. Агент Казанская (Екатерина Николаевна Шорникова) работала на охранку с 1906 года. В марте 1907 года генерал Герасимов лично встретился с Шорниковой. Она предложила генералу интересный ход – связать депутатов от СДРП с военной организацией каким-либо призывом к вооруженному восстанию.
На массовой сходке солдат в поселке Лесном присутствовали два депутата из фракции СДРП, где был выработан солдатский Наказ депутатам Государственной думы.
Предоставим слово Шорниковой: «Так как солдаты плохо читали по писаному, то мне как секретарю было предложено членами организации перепечатать его на пишущей машине. Заботясь об охранном отделении, я вместо одного экземпляра напечатала 2 экземпляра, причем первый экземпляр, с печатью комитета, я отдала в организацию, а второй подполковнику Еленскому. Наказ же от руки я, с членом организации Елабеевым, уничтожила».
Тут Казанская немного лукавит. Она кардинально изменила несколько фраз, придавших наказу преступное содержание.
И вот 5 мая 1907 года в помещение фракции социал-демократов на Невском проспекте, 92, ворвались жандармы. Они изъяли отпечатанный документ с призывом о вооруженном восстании. 37 депутатов Думы были арестованы в ночь со 2 на 3 июня, непосредственно в тот момент, когда вступил в силу императорский указ о роспуске Думы и они лишились парламентской неприкосновенности.
Самое забавное, что Столыпин по привычке (вспомним купца Новикова) надул Шорникову, не выплатив обещанный гонорар за госпереворот.
В конце концов бедной девушке посочувствовал уже следующий премьер, Владимир Николаевич Коковцев. Он написал в мемуарах: «Оказалось, что Шорникова играла в процессе социал-демократической фракции выдающуюся роль: она была секретарем военной секции этой фракции; она сама или при ее содействии кто-то другой составил так называемый наказ этой секции, послуживший одним из существенных пунктов обвинения; она доставила его в руки жандармской полиции, оказавши тем самым существенную помощь к постановке обвинения».
В конце концов лишь в сентябре 1913 года Шорникова, получив 1800 рублей, уехала за границу. Дальнейшая судьба ее неизвестна.
Ну что ж, отдадим должное Кате Шорниковой, которая в 24 года помогла Столыпину произвести государственный переворот без стрельбы по Думе из 125-мм танковых пушек.
5 сентября 1911 года агент полиции Капустянский (в девичестве Мордка Богров) отправился в киевскую оперу посмотреть «Сказку о царе Салтане». Билеты в театр были именные и раздавались особо благонадежным персонам, но Богрову билет вручил лично жандармский подполковник Кулябко.
|
Метки: столыпины |
Пётр Алексеевич Ган |
Пётр Алексеевич Ган
Елена Петровна Блаватская. 1874

Пётр Алексеевич Ган – представитель древнего и знатного немецкого рода. Его дед Иоханн Густав фон Ган (родился между 1724 и 1730 – умер в С.-Петербурге 26 декабря 1799) переехал из Мекленбурга в Россию по приглашению императрицы Екатерины ІІ в 1789 году [1]. По семейному преданию, род Ганов восходит по женской линии к династии Каролингов, по мужской – к германским рыцарям-крестоносцам, о чем свидетельствует и древний родовой герб: красный шагающий петух на серебряном щите (Однажды рыцарь-крестоносец граф фон Ротерштерн, разбуженный криком петуха (hahn) обнаружил в своей палатке сарацина. Незваный гость намеревался убить его. Спасший ему жизнь петух был включен в родовой герб и родовое имя, которое теперь стало звучать Ган фон Ротерштерн-Ган).
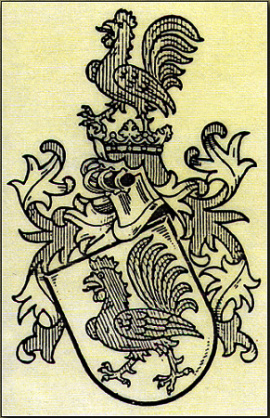 Густав Ган, как младший сын в семье, не мог рассчитывать на наследство и вынужден был искать лучшей доли на чужбине. О его жизни удалось собрать некоторые сведения [2]. Он родился в Анхальт-Цербсте и есть предположение, что с детства был знаком со своей сверстницей, принцессой Анхальт-Цербстской, будущей императрицей Екатериной II, из рук которой позже получил высокую должность Санкт-Петербургского почт-директора, чин действительного статского советника, российское дворянство и новый герб (в основе рыцарский герб Ганов), а также пожалованные земли (в том числе на Приднепровье). В России Густава Гана стали звать Августом Ивановичем и с него началась история российской ветви знатного немецкого рода. Был трижды женат и имел семерых детей. Его сыновья заняли важные посты, получили награды и земли в новом отечестве, которому верно служили, врастая в него корнями и любовью.
Густав Ган, как младший сын в семье, не мог рассчитывать на наследство и вынужден был искать лучшей доли на чужбине. О его жизни удалось собрать некоторые сведения [2]. Он родился в Анхальт-Цербсте и есть предположение, что с детства был знаком со своей сверстницей, принцессой Анхальт-Цербстской, будущей императрицей Екатериной II, из рук которой позже получил высокую должность Санкт-Петербургского почт-директора, чин действительного статского советника, российское дворянство и новый герб (в основе рыцарский герб Ганов), а также пожалованные земли (в том числе на Приднепровье). В России Густава Гана стали звать Августом Ивановичем и с него началась история российской ветви знатного немецкого рода. Был трижды женат и имел семерых детей. Его сыновья заняли важные посты, получили награды и земли в новом отечестве, которому верно служили, врастая в него корнями и любовью.
Один из них, Алексей Августович Ган (около 1780 – около 1815), был суворовским генералом, увенчанным боевыми подвигами и орденами, а также дедом Е.П. Блаватской по отцовской линии.
Недавно, благодаря С.В. Скородумову, в распоряжении специалистов музея появилась замечательная статья исследователя Лидии Маркеловой, посвященная жене генерала – Елизавете Максимовне Ган.
Из этой статьи мы узнаем, что она тоже была немкой и происходила из эстляндского рода фон Пребстинг. Дата ее рождения и многие факты биографии пока остаются неизвестными. Лидия Маркелова пишет: « Как жене офицера, ей, конечно, пришлось кочевать по городам и весям российских губерний... Последним пристанищем семьи стала, очевидно, Каменецкая крепость в Подольской губернии, где генерал-майор Ган прослужил более десяти лет. Семьи тогда, как правило, были многодетными. Из всех детей, которые родились у Елизаветы Максимовны и Алексея Гана, можно назвать Александра (1794) [3], Егора (?) [4], Петра (1798 или 1799) [5], Густава (1800) [6] и Ивана (1810) [7]. Была у четы Ган и дочь, впоследствии вышедшая замуж за курского помещика Льва Александровича Маркова. Имя дочери, предположительно, Елизавета. «Лизхен», «Лизочек» – так ее называла Елизавета Максимовна в автобиографических воспоминаниях своего внука Е.Л. Маркова [8]. Книгу Е.Л. Марков посвятил матери. Называя всех родных другими именами, он сохранил подлинное имя лишь для дяди Ивана. Есть надежда, что и мать Е.Л. Марков назвал ее настоящим именем.
Дети поначалу воспитывались дома. Но мальчиков, по нашим меркам, рано отрывали от семьи и определяли в закрытые учебные заведения. Трое из них – Петр, Густав и Иван – получили образование в престижном Пажеском корпусе [9]. Для выбора места прохождения дальнейшей службы имели значение не только успеваемость и финансовые возможности, но и семейные традиции, идейные соображения. Петр Алексеевич был направлен в Екатеринославский гренадерский полк, которым командовал когда-то его отец. Случилось это 31 мая 1815 года [10]. К тому времени отца уже не было в живых» [11].
По информации, которой располагают специалисты музея, детей у Алексея и Елизаветы могло быть шесть, семь или восемь [12]. О братьях Петра Алексеевича Ган и в музее известно немного. Так, Иван Алексеевич Ган (даты жизни не установлены) – был ротмистром лейб-гвардии кирасирского полка, а позже директором департамента портов России в Санкт-Петербурге. С ним была особенно дружна мать Блаватской, вспоминала о нем и сама Елена Петровна [13] . Вспоминала она и о другом брате отца – Густаве (даты жизни не установлены) [14]. Должна была знать она и о судьбе Алексея – еще одного брата отца. Семейные предания говорят, что Алексей Петрович Ган (даты жизни не установлены) был выпускником Сухопутного императорского кадетского корпуса, членом Южного общества декабристов, высланным на безвыездное жительство в родовое имение отца – близ села Шандровка Екатеринославской губернии [15]. В гостях у брата Алексея в родовом имении на реке Орели, по свидетельству его внука профессора П.А. Гана, Петр Алексеевич Ган бывал часто: сам, с женой, с детьми. Шандровская усадьба на Екатеринославщине стала для него, судя по всему, главной семейной пристанью после потери жены. Здесь он долго хранил свой архив и реликвии. Сюда, по всей вероятности, заезжал со старшей дочерью Еленой и во время путешествия по России и Европе в 1845 году.
Николай Васильевич Васильчиков (1781-1839)
Джордж Доу. Военная галерея Зимнего дворца
После смерти Алексея Августовича Гана его многодетная вдова Елизавета Максимовна во втором браке была замужем за генерал-майором Николаем Васильевичем Васильчиковым (1781-1839) [16], прославленным участником наполеоновских войн. Его портрет работы Джорджа Доу и поныне украшает стены Военной галереи Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. В этом браке у Елизаветы Максимовны было еще двое детей: сын Николай (1816-1843) [17] и дочь Екатерина (1818-?) [18].
Источники, которыми располагает Музейный центр, свидетельствуют, что отец Е.П. Блаватской Петр Алексеевич Ган родился в 1798 году. Как и его отец, избрал военную карьеру. «В воинскую службу я вступил из дворян Лифляндской губернии, сын генерал майора» [19]. В семнадцать лет он уже завершил образование в пажеском корпусе Петербурга, и в 1815 году в чине прапорщика получил назначение на службу в Екатеринославскую губернию. Служил в артиллерии, большую часть времени – на Украине.
Елена Павловна Долгорукова (1789-1860), бабушка ЕПБ по матери, принцесса,
выдающаяся женщина дореволюционной России. Андрей Михайлович Фадеев (1789-1867),
дед ЕПБ, Статский Советник, губернатор Саратовской Губернии.
В 1830 году в Екатеринославе женился на Елене Андреевне Фадеевой. Отец его жены, А.М. Фадеев пишет: «В этом году старшая дочь моя Елена вышла в замужество за Петра Алексеевича Гана, артиллерийского штабс-капитана, умного, отлично образованного молодого человека… Мы с женою очень неохотно согласились на брак нашей дочери по причине ее слишком ранней молодости, ей было всего шестнадцать лет; но я испытал многократно в своей жизни, что того, что определено Провидением, никак нельзя предотвратить» [20].
Есть об этом несколько строк и у Е.П. Блаватской: «Отец был капитаном артиллерийского полка, когда женился на моей матери» [21], – вспоминает она в одном из писем своему первому биографу А.П. Синнету.
Недавно найденное в Российском государственном военно-историческом архиве личное дело П.А. Гана [22], на которое выше уже сделана ссылка, дает исследователям бесценный материал для воссоздания его официальной биографии. Благодаря этому досье, теперь известно, что, прослужив в армии тридцать лет, П.А. Ган был награжден орденами Св. Анны 3-й степени, Св. Владимира 4-й степени, Георгия Победоносца 4-го класса, знаками отличия за беспорочную службу. Вышел в отставку в 1845 году в должности командира конно-артиллерийской легкой №6 батареи 3-й конно-артиллерийской бригады и чине подполковника. При увольнении со службы был награжден «чином, мундиром и пенсионом полного жалования» (т.е. получил звание полковника с правом ношения мундира).
Завершив службу в Белоруссии, из местечка Деречин Гродненской губернии Петр Алексеевич Ган переезжает в Саратов, где в то время в семье тестя - губернатора жили трое его детей: Елена, Вера и Леонид.
И в эти, и во все последующие годы до конца жизни он - заботливый отец всем своим детям.
П.А. Ган всегда был другом и поддержкой старшей дочери – Елене, как бы далеко от него она не находилась. Такое же чувство любви испытывала к отцу и Е.П. Блаватская.
Последние годы жизни П.А. Ган провел в Ставрополе, в семье сына. Там же в 1875 году он завершил свой жизненный путь и был похоронен.
Поиски материалов о Петре Алексеевиче Гане позволили исследователям обнаружить еще несколько новых источников. Так, его рисунок «Плоды» в 2006 году обнаружен в Российском государственном архиве литературы и искусства, в архивном фонде его младшей дочери В.П. Желиховской. Рисунок подписан «P. Hann» и датирован 1821 годом. Качество рисунка свидетельствует не только о художественном таланте отца Е.П. Блаватской, но и о том, что он, как считают специалисты, брал уроки академического рисунка.
Еще одной удачей специалистов стала находка двух писем П.А. Гана. Они обнаружены в фондах Никопольского краеведческого музея Днепропетровской области и адресованы Екатеринославскому помещику Г.В. Нечаеву. Эти послания отправлены П.А. Ганом из Старого Оскола и Петербурга и датированы 1836 и 1837 годами. Письма недавно опубликованы. В июне 1836 года П.А. Ган, в частности, пишет:
Милостивый Государь Глеб Васильевич!
Извините меня, что не исполнил ещё данного Вам слова, не уплотил Вам долгу своего. Обстоятельства, не зависящие от меня, тому причиной. Я был после того переведён в 3-ю Конно-артил(лерийскую) Дивизию, выехал из Екатеринослава 30 апреля, поехал в Карачев Орловск(ой) губ., там не застал батареи, которая вышла в Воронеж, поехал туда, а между тем, опять перемена – повернули в Старой Оскол. Я из Воронежа приехал сюда 24 мая, не успел разложиться, устроиться, как, на 4-й день моего сюда приезда, меня потребовали в Петербург, в образцовую батарею, на испытание по службе, для назначения меня в батарейные командиры. Дай бог, чтобы это скоро кончилось, и мне бы выехать из Петербурга. Куда ещё судьба назначит? Желал бы опять ближе к Вашим местам.
. . . Препоручаю себя, в нужде, в Ваше дружеское благорасположение, прошу принять уверения того истинного высокопочитания, с каковым честь имею быть, Милостивый Государь, Ваш покорнейший и всегда к услугам готовый Пётр (Ган…).
Стар(ый) Оскол. 1836г. 5-го июня.
Юная Блаватская с матерью.1844-1845.
Наконец, к наиболее важным находкам последних лет нужно отнести парный портрет [«Две Елены»] и несколько документов из семейного архива Ганов, которые в 1991 году передал музею профессор, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Отдела леса Института биологии Академии наук Киргизии Пётр Алексеевич Ган (1916-1993) - внучатый племянник отца Е.П. Блаватской. На портрете, авторство которого не установлено, изображена Елена Андреевна Ган и её старшая дочь Елена Петровна Ган (Блаватская) в возрасте 13-15 лет. По версии исследователей, этот портрет мог быть написан в 1845 г., во время путешествия П.А. Гана со старшей дочерью в Европу. Полковник П.А. Ган оставил портрет своей безвременно ушедшей супруги и любимой дочери, в родовом имении Шандровка на Приднепровье, где он хранился долгое время и передавался Ганами из поколения в поколение, как семейная реликвия. Из рук последнего владельца в 1991 году он передан в дар Музейному центру Е.П. Блаватской и ее семьи.
Елена Петровна Блаватская знала о своих корнях и чтила семейные традиции: её личную печать венчает корона, повторяющая корону герба древнего отцовского немецкого рыцарского рода. Об этом свидетельствует и одно из писем А.П. Синнетту от 1882г., подписанное: «Е.П. Блаватская, урождённая Ган фон Роттенштерн-Ган». В то же время она никогда не кичилась своим знатным происхождением и высоким статусом как в девичестве, будучи Еленой Ган, так и после замужества, став Блаватской. Елена Петровна вспоминала: «В письмах, написанных по-французски, мы добавляли de к своей фамилии – как благородные. Если же фамилия писалась по-немецки, то добавляли von. Мы были и мадемуазель de Han и von Han. Мне это не нравилось и я никогда не ставила de к фамилии Блаватского, хотя он и был знатного происхождения; его предок, гетман Блаватко оставил две ветви – Блаватских в России и графов Блаватских в Польше» [23].
Литература
1. Марков Е.Л. Барчуки. Картины прошлого. – СПб., 1875. 2. Пажеский Его Императорского Величества корпус за сто лет. 1802-1902. Приложения.–СПб, 1902 3. Фадеев А.М. Воспоминания. 1790-1867гг., Одесса, 1897. 4. Мэри К. Нэф. Личные мемуары Е.П. Блаватской. М., 1993. 5.Фадеев А.М. Воспоминания. 1790-1867гг., Одесса, 1897.
Примечания:
1]По некоторым источникам вместе с ним приехал и его брат Вильгельм, о судьбе которого, к сожалению, пока ничего не известно.
[2] Послужной список Августа Гана. РГИА. Фонд 1289. Опись 16. Дело 19, Дело 47. Жалованная грамота на дворянство Августу Гану. 9 декабря 1791 г. РГИА. Фонд 1343. Опись 19. Дело 570.
[3]База данных проф. Эрика Амбургера:
http://88.217.241.77/amburger/index.php?id=67335
[4]Егор Алексеевич – вероятный сын Алексея Гана и Елизаветы Максимовны, если принять во внимание его отчество. Из всех представителей фамилии Ган на тот час имя Алексей встречается единожды именно у генерала Гана.
[5]База данных проф. Эрика Амбургера:
http://88.217.241.77/amburger/index.php?id=67334
[6]База данных проф. Эрика Амбургера:
http://88.217.241.77/amburger/index.php?id=67336
[7]База данных проф. Эрика Амбургера:
http://88.217.241.77/amburger/index.php?id=67339 [8]Марков Е.Л. Барчуки. Картины прошлого. – СПб., 1875. – С. 83, С.84.
[9]Материалы для истории Пажеского Его Императорского Величества корпуса. 1711-1875 / Сост. гр. Милорадович. – Киев, 1876. Пажеский Его Императорского Величества корпус за сто лет. 1802-1902. Приложения. – СПб, 1902. Пажи за 183 года (1711-1884). Биографии бывших пажей с портретами / Собр. и изд. О. Р. фон Фрейман. – Фридрихсгамн, 1894. – Вып. 1.
[10]Пажеский Его Императорского Величества корпус за сто лет. 1802-1902. Приложения. – СПб, 1902. – С. 270.
[11]Архив Музейного центра Е.П. Блаватской и ее семьи.
[12]Последнюю цифру называет в своих «Воспоминания» А.М.Фадеев// Фадеев А.М. Воспоминания. 1790-1867гг., Одесса, 1897. - С. 107
[13]Letters of H.P.Blavatsky to A.P.Sinnett. Ed. By A.T.Barker. N.Y.-L., 1923. P. 150. (цит. по книге: Мэри К.Нэф. Личные мемуары Е.П.Блаватской. М., 1993. С.9)
[14]Там же.
[15]Участие А.А.Гана в восстании декабристов – семейная легенда, пока не получившая документального подтверждения.
[16]Не путать с родственником и тезкой, также генерал-майором Николаем Васильевичем Васильчиковым (ум. в 1849 г.) (См.: Кн. Петр Долгоруков. Российская родословная книга. – СПб., 1855. – Ч. 2. – С. 98) и Николаем Михайловичем Васильчиковым, д.с.с., губернатором Орловской губернии (См.: Кн. Петр Долгоруков. Российская родословная книга. – СПб., 1855. – Ч. 2. – С. 99).
[17]Кн. Петр Долгоруков. Российская родословная книга. – СПб., 1855. – Ч. 2. – С. 99. См. также: http://www.russianfamily.ru/v/vasilchk.html
[18]Кн. Петр Долгоруков. Российская родословная книга. – СПб., 1855. – Ч. 2. – С. 99. См. также: http://www.russianfamily.ru/v/vasilchk.html [19]РГВИА (Российский государственный военно-исторический архив) . П.А.Ган. Ф.395, Оп.36, Д.33 (1845 г.)
[20]Фадеев А.М. Воспоминания. 1790-1867гг., Одесса, 1897. - С. 107
[21]Letters of H.P.Blavatsky to A.P.Sinnett. Ed. By A.T.Barker. N.Y.-L., 1923. P. 150. (цит. по книге: Мэри К.Нэф. Личные мемуары Е.П.Блаватской. М., 1993. С.9)
[22]РГВИА. П.А.Ган. Ф.395, Оп.36, Д.33 (1845 г.)
[23]Letters of H.P.Blavatsky to A.P.Sinnett. Ed. By A.T.Barker. N.Y.-L., 1923. P. 150. (цит. по книге: Мэри К.Нэф. Личные мемуары Е.П.Блаватской. М., 1993. С.9)
05.05.2016 11:33АВТОР: | ПРОСМОТРОВ: 1237
ИСТОЧНИК: Сайт музея Е.П. Блаватской
|
Метки: фон ган блаватская |
Ко дню рождения Константина Михайловича Симонова |
Ко дню рождения Константина Михайловича Симонова
- 9 ноя, 2009 в 17:52
До сегодняшнего дня считалось, что родственные связи Константина Михайловича недостаточно изучены, скажем так.
Однако удалось соединить разбросанное, и теперь мы знаем не только его прапрадеда, который является не кем-нибудь, а Иваном Михайловичем Оболенским, родоначальником этой ветви фамилии (т.е. Симонов по матери происходит от Рюрика!), но и отыскать могилу его деда, Леонида Николаевича Оболенского. И не только.


Мама - княжна Александра Леонидовна Оболенская (1890-1975)
Папа - дворянин Калужской губернии Михаил Агафангелович Симонов (29.03.1871 - ?), генерал-полковник, участник Первой Мировой войны. После Октябрьской революции 1917 года эмигрировал в Польшу.
Второй муж, отчим, воспитавший Константина Михайловича, о котором он говорил немало добрых слов, и которому посвятил поэму "Отчим", Александр Григорьевич Иванищев - военный специалист, преподаватель.
Но родословная Константина Михайловича заслуживает более пристального внимания.
Биографам ещё предстоит выяснить, почему и каким образом Константин Михайлович избежал в те годы преследований и, более того, стал, кем стал. Непонятно ещё вот что: мама Константина Михайловича прожила до 1975 года, и внуки уже были взрослыми, и Константин Михайлович пережил её всего на 4 года... да и время было другое... каков же был СТРАХ, как же он держал их всех, что никто не посмел расспросить бабушку о корнях?!
___________________
Итак, факты.
Князь Иван Михайлович Оболенский (1774-1838) - родоначальник этой ветви фамилии, ведущей от Михаила Константиновича Сухорукого Оболенского, сына Константина Семёновича Оболенского, родоначальника князей Оболенских.
Вторая супруга: с ? до 1810 Фёкла Каблукова (1789-1862)
один из детей:
Оболенский Николай Иванович (1812-1865). Супруга: Анна Шубинская (?-1891)
один из детей:
Оболенский Леонид Николаевич (01.10.1846-15.12.1910). Похоронен на Новодевичьем кладбище С-Пб.
Супруга: (с 1874) Дарья Ивановна Шмидт(1850-1923)
их дети:
* Оболенский, Николай Леонидович (1878-1960)
Окончил юридический факультет Петербургского университета (1901), земский начальник, начальник гражданской канцелярии при штабе Верховного Главнокомандующего (1914, 1915). Курский, Харьковский и затем Ярославский (1916-1917 гг.) губернатор. Статский советник. В эмиграции состоял при Великом князе Николае Николаевиче. Почётный Председатель Семейного союза князей Оболенских (с 1957). Супруга - Наталия Степановна Соллогуб (1881-1963).
* Оболенская Людмила Леонидовна (1875-1955)
. Супруг - Максимилиан Тидеманн (Maximilian Tiedemann) (убит около 1917)
* Оболенская Дарья Леонидовна (1876-1940)
* Оболенская София Леонидовна (1877-1937). Была вместе с сёстрами Людмилой и Дарьей были арестованы в Ленинграде как "социально опасные элементы", затем была расстреляна.
* Оболенская Александра Леонидовна (1890-1975)
Супруги:
1. с 1912 Михаил Агафангелович Симонов
2. Александр Григорьевич Иванищев

Вкратце:
Отец Михаил Агафангелович Симонов (29.03.1871 - ?), генерал-майор, участник Первой Мировой войны, Кавалер разных Орденов, образование получил в Орловском кадетском корпусе Бахтина.
В службу вступил 01.09.1889.
Выпускник (1897) Императорской Николаевской военной академии.
1909 - полковник Отдельного Корпуса пограничной стражи.
В марте 1915 - командир 12-го пехотного Великолуцкого полка. Награжден Георгиевским оружием. Начальник штаба 43-го армейского корпуса (08.07.1915-19.10.1917). Генерал-майор (06.12.1915).
Кавалер Ордена Святого Станислава 3-й степени (1904) и Святой Анны 3-й степени (1906).
Последние данные о нём датируются 1920-1922 годами и сообщают об его эмиграции в Польшу.
Вот, что об этом говорит Алексей Симонов, сын писателя:
"Вторая важнейшая ее тема – история фамилии Симонов. С этой темой я столкнулся в 2005 году, когда делал двухсерийный документальный фильм об отце «Ка-Эм». Дело в том, что мой дед, Александр Григорьевич Иванишев, не был родным отцом моего отца. Константин Михайлович родился у бабки в первом браке, когда она была замужем за Михаилом Симоновым, военным, выпускником Академии Генштаба, в 1915 году получившим генерал-майора. Дальнейшая его судьба долго была неизвестна, отец в автобиографиях писал, что тот пропал без вести еще в империалистическую войну, затем и вовсе перестал его поминать. В процессе работы над фильмом я нашел письма бабки начала 20-х годов ее сестрам в Париж, где она пишет, что Михаил обнаружился в Польше и зовет ее с сыном к себе туда. У нее в это время уже был роман с Иванишевым, да, видимо, было и еще что-то в этих отношениях, что не позволило их восстановить. Но фамилию Симонов бабка все же сыну сохранила, хотя сама стала Иванишевой."
В другом интервью Алексей Симонов отвечает на вопрос об отношении Сталина к отцу:
"Вы знаете, никаких доказательств того, что Сталин относился к отцу особенно хорошо, я не нахожу. Да, отец рано стал знаменитым. Но не потому, что Сталин его любил, а потому, что написал "Жди меня". Это стихотворение было молитвой для тех, кто ждал с войны своих мужей. Оно и обратило внимание Сталина на моего папу.
У отца был "прокол" в биографии: мой дед пропал без вести в канун гражданской войны. В то время этого факта было достаточно, чтобы обвинить отца в чем угодно. Сталин понимал, что если выдвинет отца, то он будет служить если не за совесть, то уж за страх обязательно. Так оно и вышло."
Его дед, отец отца, бухгалтер, коллежский ассесор Симонов Агафангел Михайлович упоминается со своими братом и сёстрами (Надворный советник Михаил Михайлович Симонов, классная дама, из дворян девица Евгения Михайловна Симонова и учительница приготовительного класса, из дворян девица Аграфена Михайловна Симонова) в Адрес-календаре Калужской губернии на 1861 год.
В 1870 - он уже надворный советник.
***
Историю рода бабушки, Дарьи Ивановны, урождённой Шмидт, пока не удалось проследить. Известно, что
Шмидты тоже были дворянами Калужской губернии. Фамилия Шмидт есть в списке жертвователей Храма Христа Спасителя. Там же, на стене Памяти, есть погибший поручик Шмидт. Есть информация, что Иван Шмидт был женат на княжне Шаховской... Найду, сообщу))
А пока так...
P.S. Большая просьба петербуржцам - если будет времечко, отснимите, пожалуйста, могилу Леонида Николаевича Оболенского получше. Интересно к тому же, похоронена ли рядом с ним Дарья Ивановна.
Метки:
|
Метки: оболенские симоновы |
Оболенский, князь Пётр Николаевич |
Оболенский, князь Пётр Николаевич
06.12.2016 ~ Константин Троицкий
Оболенский князь Петр Николаевич
Князь Пётр Николаевич Оболенский (1760—1833) — тульский губернатор, действительный статский советник из рода князей Оболенских.
Сын майора князя Николая Петровича Оболенского (1728—1796) от брака его с княжной Марией Алексеевной Белосельской. Получил домашнее образование.
В 1783 году начал службу в лейб-гвардии Конном полку в чине подпоручика. С 1789 лейб-гвардии ротмистр, с 1793 года — бригадир.
В 1793—1795 годах вице-губернатор Тульской губернии. В 1794 году получил свой единственный орден — Св. Владимира III степени.
С 1795 правитель Вознесенского наместничества до его присоединения к Херсонской губернии указом Павла I от 12 декабря 1796 г.
Почти месяц оставался не у дел. 6 января 1797 назначен тульским губернатором и на следующий день из генерал-майора переименован в действительного статского советника. Уже в марте того же года вышел в отставку.
Жил с семьей в Москве, в своем большом доме на Новинском бульваре, где кроме родных и близких, редко кого принимал[1]. В 1811-16 гг. ему принадлежало село Ховрино близ Москвы. Оболенский был вдовцом, поэтому всем хозяйством в доме и воспитанием детей занималась его свояченица Кашкина[2].
По воспоминаниям современников, князь был «среднего роста, с высоким лбом, зачесанными назад, напудренными белыми волосами, умными голубыми глазами, любезный, веселый и резвый»[3]. Главной чертой его характера была искренность, которой он руководился на пути своей жизни. В Москве все его любили и он пользовался особым доверием в обществе[4]. Скончался в 1833 году.
Жена с 1790 года Александра Фадеевна Тютчева (ум. 1793), дочь богатого помещика Фаддея Петровича Тютчева. Умерла вскоре после родов, оставив троих детей:
Николай Петрович (1790—1847), подполковник, участник Отечественной войны 1812 года, женат на княжне Наталье Дмитриевне Волконской (ум. 1843), их внук Д. Д. Оболенский.
Дарья Петровна (ум. 1798)
Мария Петровна (1793—18..), замужем за Сергеем Борисовичем Леонтьевым (1785— ?).
жена с 1794 года Анна Евгеньевна Кашкина (1778—1810), дочь генерал-аншефа и тульского генерал-губернатора Е. П. Кашкина. Была самой красивой из всех его дочерей: с карими глазами и чертами лица тонкими, миловидными, по характеру нежная и любящая[5]. Помолвка её с Оболенским, по словам мемуариста А. Т. Болотов (находившего Оболенского «любви и почтения достойным»), была в день Вознесенья в 1794 году в Туле в доме наместника Кашкина, после торжественного обеда был бал, где все тульское дворянство поздравляло молодых[6]. Княгиня Анна Евгеньевна скончалась в 32 года при родах, оставив 8 детей:
Евгений Петрович (1796—1865), декабрист.
Константин Петрович (1798—1861), штабс-капитан, за принадлежность к движению декабристов был арестован, но по указу Николая I выпущен и переведен в Егерский полк под надзор. С 1826 года в отставке, с разрешения жил у отца в Москве. В 1841 году женился на богатой помещице Авдотье Матвеевне Чепчуговой, жили отдельно. Она перешла в католичество и умерла в Италии в монастыре.
Екатерина Петровна (1800—1827), замужем за лейтенантом Андреем Васильевичем Протасьевым (1781—1848).
Александра Петровна, замужем за Алексеем Ивановичем Михайловским.
Варвара Петровна (1806—1888), с 1828 года замужем за Алексеем Владимировичем Прончищевым.
Дмитрий Петрович (1809—1854)
Наталья Петровна (1809—1887), с 1838 года вторая жена князя Александра Петровича Оболенского.
Сергей Петрович (1810—1849)
Дом Оболенских находился вблизи Новинского монастыря (Новинский бульвар, д. 13); не сохранился.
Александра Евгеньевна Кашкина (1773—1847), фрейлина, замужем не была. В Москве пользовалась большим уважением, и её покровительство в свете имело большое значение для её племянников Оболенских
Воспоминания Е. И. Раевской // Исторический Вестник, 1898. — Т. 74.— С.523.
Е. А. Сабанеева. Воспоминания о былом. Из семейной хроники. — СПБ., 1914. — 172 с.
Н. Н. Кашкин. О роде Кашкиных. — СПб., 1913. — С. 364.
Жизнь и приключения Андрея Болотова описанные самим им для своих потомков, 1738-1793//Предисл.: М. Семевский. — СПб., 1873.— Т. 4. — С. 1176—1177 и 1148.
Опубликовано в Люди
Post navigation
< Предыдущая запись Бобринская графиня Анна Владимировна
Следующая запись > Кашкина, Александра Евгеньевна
Дlog.konstantintroitsky.ru/оболенский-князь-пётр-николаевич/
|
Метки: оболенские |
Дети графа Сергея Дмитриевича Шереметева: Дмитрий, Павел и граф Мусин-Пушкин Владимир Владимирович (справа) |
на главную | войти | регистрация | DMCA | контакты | справка | 


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
моя полка | жанры | рекомендуем | рейтинг книг | рейтинг авторов | впечатления | новое | форум | сборники | читалки | авторам | добавить
реклама - advertisement
Дети графа Сергея Дмитриевича Шереметева: Дмитрий, Павел и граф Мусин-Пушкин Владимир Владимирович (справа)
Вместе с ним на римском кладбище Тестаччо покоится его жена Ирww.e-reading.club/chapter.php/1032612/109/Nechaev_-_Russkaya_Italiya.htmlина Илларионовна (урожденная Воронцова-Дашкова), дочь министр императорского двора и наместника на Кавказе графа И. И. Воронцова-Дашкова, умершая в январе 1959 года, а также сын Сергей Дмитриевич Шереметев, умерший в 1972 году.
Интересно отметить, что родная сестра Ирины Илларионовны Софья Воронцова-Дашкова была замужем за уже известным нам Элимом Павловичем Демидовым, князем Сан-Донато.
Также в Риме в марте 1966 года скончалась графиня Елена Феофиловна Шереметева (урожденная баронесса Мейендорф). Ровно через два года в Риме же скончался военный губернатор Львова в 1916–1917 годах Сергей Владимироваич Шереметев-Строганов, сын В. А. Шереметева и М. Г. Шереметевой, урожденной графини Строгановой, что стало для него поводом именоваться (без каких-либо законных на то оснований) в эмиграции двойной фамилией. В январе 1976 года в Риме скончался граф Павел Петрович Шереметев, родившийся в Санкт-Петербурге в 1912 году.
* * * | Русская Италия | * * *
|
Метки: воронцовы-дашковы шереметьевы мейендорфы мусин-пушкины |
Давыдов Денис Васильевич |
Семейное положение:
 |
Родился |
16 июля (27 июля н.с.) 1784 года в Москве |
|
Умер |
22 апреля (04 мая н.с.) 1839 года в селе Верхняя Маза (Мыза) Сызранского уезда Симбирской губернии | |
|
Отец |
Давыдов Василий Денисович | |
|
Мать |
Щербинина Елена Евдокимовна | |
|
Женитьба |
13 апреля 1918 года на Чирковой Софье Николаевне | |
| Дети |
1.Денис Денисович Давыдов, 2.Василий Денисович Давыдов, 3.Николай Денисович Давыдов, 4.Вадим Денисович Давыдов, 5.Юлия Денисовна Давыдова, 6.Ахилл Денисович Давыдов, 7.Мария Денисовна Давыдова, 8.Екатерина Денисовна Давыдова, 9.Софья Денисовна Давыдова |
Военная карьера:
|
1801 г. |
поступление в Кавалергардский полк эстардт-юнкером |  |
|
1802 г. |
первый офицерский чин — корнет | |
|
1804 г. |
переведен в Белорусский гусарский полк | |
|
1806-1807 гг. |
Франко-русская война (сражался с французами в Пруссии) | |
|
1808-1809 гг. |
Русско-шведская война (сражался со шведами в Финляндии) | |
|
1809-1810 гг. |
Русско-турецкая война (сражался с Турками в Молдавии и на Балканах) | |
|
1812-1814 гг. |
Отечественная война (инициатор армейского партизанского движения, сражался с французами в России и гнал их до Парижа) | |
|
1814 г. |
произведен в генералы | |
|
1815 г. |
генерал-майор, занимал место начальника штаба 7-го, а затем 3-го корпусов | |
|
1818-1819 гг. |
начальник штаба 7 и 8 армейских корпусов | |
|
1823 г. |
вышел в отставку | |
|
1826 г. |
вернулся на службу | |
|
1826-1827 гг. |
участник Персидской кампании | |
|
1831 г. |
участник подавления польского восстания | |
|
1832 г. |
окончательно покинул службу в звании генерал-лейтенант |
Творчество:
Давыдов Денис Васильевич писал стихи, военно-исторические мемуары и статьи, печатался в лучших журналах и альманахах.
1816 г. стал членом литературного общества «Арзамас»
|
1811-го году 25 октября Bout-rime NN А кто он?— Француз, германец… Ахтырские гусары… Богомолка Бородинское поле Бурцову (В дымном поле, на биваке…) Бурцову: призывание на пунш В альбом (На вьюке, в тороках…) В былые времена она меня любила… В.А.Жуковскому (Жуковский, милый друг!..) |
ВальсВечер в июне Вечерний звон Вольный перевод из Парни Вы хороши!- Каштановой волной… Выздоровление Генералам, танцующим на бале Гераков! прочитал твое я сочиненье… Герою битв, биваков, трактиров и б……. Голова и Ноги Голодный пес Графу П.А.Строганову за чекмень Гусарская исповедь Гусарский пир Гусар Договоры Другу-повесе Душенька Ей Если б боги милосердия… Зайцевскому, поэту-моряку И моя звездочка К Е. Ф. С-ну, убеждавшему меня… К моей пустыне К портрету N.N. К портрету Бонапарте Как будто Диоген с зажженным фонарем… Когда я повстречал красавицу мою… Листок Логика пьяного Маша и Миша Меринос собакой стал… Моя песня Мудрость На голос русской песни На монумент Пожарского На смерть N.N. Надпись к портрету Багратиона Неверной Нет, кажется, тебе не суждено… О ты, убивший жизнь в ученом кабинете… О, кто, скажи ты мне, кто ты… Орлица, Турухтан и Тетерев Ответ женатым генералам, служащим не на войнах Ответ на вызов написать стихи |
ОтветПартизан (Отрывок) Пастушка Лиза, потеряв… Песня (Я люблю кровавый бой…) Песня старого гусара Племяннице Поведай подвиги усатого героя… Полусолдат Поэтическая женщина При виде Москвы, возвращаясь с персидской войны Река и Зеркало Речка Решительный вечер Романс (Жестокий друг, за что мученье?..) Романс (Не пробуждай, не пробуждай…) С. А. Кушкиной Современная песня Сон (Кто столько мог…) Счастлив, кто заплатил щедротой за щедроту… Тебе легко — ты весела… Товарищу 1812 года, на пути в армию Тост на обеде донцов Унеслись невозвратимые… Ученый разговор Челобитная Чиж и Роза Что пользы мне в твоем совете… Элегия I (Возьмите меч…) Элегия II (Пусть бога-мстителя…) Элегия III (О милый друг, оставь…) Элегия IV (В ужасах войны кровавой…) Элегия IX (Два раза я…) Элегия V (Всё тихо! и заря…) Элегия VI (О ты, смущенная…) Элегия VII (Нет! полно пробегать…) Элегия VIII (О пощади!..) Эпиграмма (Он с цветочка на цветок…) Эпиграмма (Остра твоя, конечно, шутка…) Эпитафия (Под камнем сим лежит…) Я вас люблю так… Я помню — глубоко… |
Биография:

ДАВЫДОВ Денис Васильевич (16.7.1784, Москва — 22.4.1839, деревня Верхняя Мыза Сызранского уезда Симбирской губернии), генерал-лейтенант (2.12.1831). Из древнего дворянского рода, ведущего свою историю от татарского мурзы Минчака, выехавшего в Москву в начале XV в. Сын бригадира. Службу начал в 1801 эстандарт-юнкером Кавалергардского полка. В 1802 произведен в корнеты. Стал известен как поэт, автор «антиправительственных» стихов, создатель особого стихотворного стиля — «гусарской лирики». В 1804 за сатирические басни переведен поручиком в Белорусский гусарский полк. Ставшие широко известными стихи создали Давыдову славу «пьяницы-гуляки», «сорви-головы», «рубахи-парня». В 1806 зачислен в лейб-гвардии Гусарский полк и назначен адъютантом генерала князя П.И. Багратиона. Принимал участие в сражениях при Гуттштадте, Деппене, Кйльсберге. Отличился в сражении при Фридланде. Участник русско-турецкой войны 1806—12 и русско-шведской войны 1808—09. В апреле 1812 переведен подполковником и командиром батальона в Ахтырский гусарский полк. Участвовал в боях при Романове, Салтановке, Смоленске. 22 авг. (3 сент.) при подходе армии к Бородину (которое принадлежало Давыдовым) получил от Кутузова отряд (50 гусар и 80 казаков) для рейдов в тылу противника.
Привлек к партизанскому движению крестьян, вооружил их и возглавил один из крупнейших партизанских отрядов в тылу Великой армии. После ряда успехов в подчинение Давыдова были переданы 2 казачьих полка, кроме того, его отряд постоянно пополнялся бежавшими из плена русскими солдатами и добровольцами. Затем Давыдов получил еще один казачий полк. Соединившись с партизанскими отрядами А.С. Фигнера, А.Н. Сеславина и В.В. Орлова-Денисова, Давыдов под Ляховым 28 окт. (9 нояб.) атаковал бригаду генерала Ж. Ожеро из дивизии генерала Л. Барагэ д’Илье и заставил его капитулировать (в т.ч. в плен попали 2 генерала и 60 офицеров). 4 нояб. под Красным взял в плен генералов Альмерона и Бюрта, большой обоз и много пленных. 9 нояб. разгромил под Копысом кавалерийское депо, которое охраняли 3 тыс. чел. 9 дек. занял Гродно. За отличия в 1812 награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. В 1813 отряд Давыдова вошел в состав корпуса генерала Ф.Ф. Винцингероде. По собственной инициативе провел набег на Дрезден и заключил договор о капитуляции франц. гарнизона. За это Винцингероде отстранил Давыдова от командования, расформировал его отряд и потребовал предания Давыдова суду. Однако Александр I вернул Давыдова в армию, но назначения он так и не получил. Лишь осенью 1813 Давыдов получил в командование 2 казачьих полка. Участник сражений при Калише, Бауцене, Рейхенбахе, Лейпциге, Касселе. С 1814 командир Ахтырского гусарского полка в авангарде Силезской армии. Отличился в сражении при Ла-Ротьере и Бриене. 20.01.1814 произведен в генерал-майоры, но из-за путаницы получил чин лишь 21.12.1815. В 1815 командир бригады 1-й драгунской, с 1816 2-й гусарской дивизии. В 1818 начальник штаба 7-го, с 1819 — 3-го пехотных корпусов. В 1820 отправлен в длительный отпуск, а после того как ему не дали занять пост начальника штаба Отдельного Кавказского корпуса (о чем просил и генерал А.П. Ермолов), Давыдов в 1823 вышел в отставку. В 1826 вернулся на службу. Во время русско-персидской войны в урочище Мирок 21.9.1826 разбил 4-тыс. отряд противника. Командовал отрядом во время подавления Польского восстания 1830—31. В 1832 вышел в отставку. Прославился как «поэт-партизан», «певец вина, любви и славы».
Источники и ссылки:
http://fb.ru/article/138959/denis-davyidov-biografiya-stihi-i-foto
Денис Давыдов: биография, стихи и фото.
Википедия — свободная энциклопедия, создаваемая совместными усилиями добровольцев.
http://www.denisdavydov.org.ru/
Цель проекта собрать воедино информацию о Денисе Давыдове. Проект входит в состав мегапроекта «Знаменитые люди Орловской губернии».
Литература:
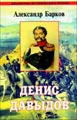
Барков Александр. Денис Давыдов. Издательство ИТРК. Год: 2002. Страниц: 416. SBN: 5-88010-150-9
Поэт-гусар Денис Давыдов (1784-1839) уже при жизни стал легендой и русской армии, и русской поэзии. Адъютант Багратиона в военных походах 1807-1810 гг., командир Ахтырского гусарского полка в апреле-августе 1812 г., Денис Давыдов излагает Багратиону и Кутузову план боевых партизанских действий. Так начинается народная партизанская война, прославившая имя Дениса Давыдова.
В эти годы из рук в руки передавались его стихотворные сатиры и пелись разудалые гусарские песни. С 1815 г. Денис Давыдов член «Арзамаса». Сам Пушкин считал его своим учителем в поэзии. Многолетняя дружба связывала его с Жуковским, Вяземским, Баратынским.
Не умрет твой стих могучий,
Достопамятно-живой,
Упоительный, кипучий,
И воинственно-летучий,
И разгульно удалой.
— писал о Давыдове Николай Языков.
В историческом романе Александра Баркова воссозданы события ратной и поэтической судьбы Дениса Давыдова.
Два исторических рассказа, заключающих книгу, также посвящены событиям Отечественной войны 1812 г.
Для широкого круга читателей.

Серебряков Г. ЖЗЛ. Денис Давыдов. М. : Мол. гвардия, 1985. — 446 с, ил. — (Жизнь замечат. людей. Сер. биогр.; Вып. 14 (661)).
Имя Дениса Давыдова стало легендарным еще при его жизни. Герой Отечественной
войны 1812 года, верный последователь суворовских традиций, он был одним из
инициаторов партизанского движения в России. Денис Давыдов известен и как
самобытный поэт, и как автор произведений по истории военного искусства. О жизни
«певца-героя», полного мужества и отваги, всегда готового «вновь за родину восстать», и
рассказывает автор.
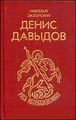
Задонский Н.А. Денис Давыдов. М. : Мол. гвардия, 1958.
Николай Алексеевич Задонский писал эту книгу в течении 12 лет с 1944 по 1956 гг. В процессе этой долголетней работы было перебрано очень много книжных и архивных материалов, на основе которых и была впоследствии написана данная историческая хроника.
Денис Васильевич Давыдов прожил бурную жизнь, в которой взлеты перемеживались с падениями. Его тихо и люто ненавидел император, его любили войска и народ. Песни и стихи Давыдова и по сей день поражают своей легкостью и смыслом. Но он был не только поэт, но и отважный воин, который принял участие во многих войнах того времени, что вела Россия.
Читая эту книгу, мы встретимся с Багратионом, Суворовым, Кутузовым, Пушкиным, Чаадаевым, Наполеоном и многими-многими другими историческими персонажами, чем так богата та эпоха.
Primary Sidebar
Поиск
род Давыдовых Уральские Давыдовы Давыдов Денис Васильевич род Василенко род Учетовых род Литвиненко род Кудаевых род Кубатиевых-Дзайнуковых род Магас род Мисаковых род Митрофановых род Старостиных Родословие Метрические книги Фамильный диплом Родословное древо Поколенная роспись Web-отчеты Семейный фотоальбом Родовой герб Дизайн Александровск Пожва Нижняя Жемтала Зюкайка Майкор Каневская Кобзево Древо Жизни Родословия Европы GenoPro Начинающему генеалогу Генеалогия в регионах Генеалогия Генеалогические сайты Геральдика Электронные книги Ссылки по Дизайну История России Архивы РФ
|
Метки: давыдовы |
Род Давыдовых |
Род Давыдовых
Давыдов — довольно распространенная фамилия, происходит от крестильного имени Давид — Давыд любимый (др. евр.)
Родственные фамилии: Давидов, Давыдкин, Давыдков, Давыдочкин, Давыдычев, Даудов, Давиденко, Давыденко, Давыденков, Давидович, Давидюк, Давидчук, Давидяк, Давыдив, Давыди, Давыдовкий, Довыденко.
Источник: Словарь русских фамилий
По результатам исследования в пяти условных регионах РФ (Северный, Центральный, Центрально-Западный, Центрально-Восточный и Южный) ученые из лаборатории популяционной генетики человека Медико-генетического центра Российской академии медицинских наук составили список из почти 15 тыс. русских фамилий. При наложении региональных списков друг на друга был сформирован следующий перечень из 250 самых частотных общерусских фамилий. Фамилия Давыдовы занимает 96 позицию.
Полный перечень фамилий, входящих в TOP 250
Давыдовы — русские дворянские роды, числом 76.
Первый из них происходит от мурзы Минчака Косаевича, выехавшего в Москву в начале XV в. и принявшего крещение с именем Семена. Иван Кириллович Давыдов был генерал-поручиком и белгородским губернатором (1773). Василий Львович Давыдов (умер в 1853 г.) был одним из видных декабристов и в 1826 г. сослан в каторжные работы. Двоюродный брат его, Денис Васильевич — известный поэт-партизан. Одна ветвь Давыдовых унаследовала состояние и имя графов Орловых и носит фамилию графов Орловых-Давыдовых . Этот род Давыдовых внесен в VI часть родословных книг Калужской, Орловской, Саратовской, Симбирской, Московской и Санкт-Петербургской губерний и в III часть родословных книг Гродненской и Киевской губерний. (Гербовник, II, 51).
Второй род Давыдовых — армянского происхождения и ведет начало от Давыда-Бея, владетеля цымакского в 1517 г. Потомок его, Степан Давыдов выехал в Россию в 1784 г. и был подполковником. Этот род внесен в VI часть родословной книги Московской губернии (Гербовник, VII, 162).
Родоначальником третьего рода был Никита Васильевич Давыдов, тверской сын боярский (1560). Из этого рода происходил Иван Иванович Давыдов . Род внесен в VI и III части родословных книг Московской и Тверской губерний.
Четвертый род Давыдовых происходит от Ивана Никитича Давыдова, новгородского помещика и сына боярского (1583) и внесен в VI часть родословных книг Новгородской и Тамбовской губерний. Тринадцать родов Давыдовых восходят к XVII в.
Остальные роды Давыдовых позднейшего происхождения.
В. Р.
Давыдовы — русский княжеский род, происходящий от царя кахетинского Александра I (умер в 1511 г.) и выехавший в Россию в 1666 г. Князь Сергей Иванович Давыдов (умер в 1878 г.) был ДТС, сенатором и вице-президентом Академии Наук. Род Давыдовых внесен в V часть родословной книги Нижегородской губернии.
141. ДАВЫДОВЫ. Род от Давыда (Давуда) сына мурзы Минчака Касаевича, вышедшего из Золотой Орды к Великому князю Василию Дмитриевичу и принявшего при крещении имя Симеон (ОГДР, II, с.51; V, с. 33; БК,. II, с. 306, № 215). С 1500 года уже имели вотчины, в том числе в XVII — XX вв. в Нижегородской и Симбирской губерниях.
В родстве с Уваровыми, Злобиными, Оринкиными (см.). Фамилия и имя Давыд -Давуд ~ Дауд — арабизиро-ванная и тюркизированная форма еврейского имени Давид,что означает «любимый, любящий» (Гафуров 1987, с. 142; Баскаков 1979, с.97). В потомках — воины (Денис Давыдов), декабристы, дипломаты, академики и др. (РБС, VI, с. 10 — 15; ЭС, 1987, с. 355).
ОГДР — Общий гербовник дворянских родов Российской Империи, а — XX). СПБ, 1797 — 1842.
РБС — Русский биографический словарь.
Источник: Альфред Хасанович Халиков. «500 РУССКИХ ФАМИЛИЙ БУЛГАРО-ТАТАРСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ»
2) род князей Давыдовых восходит до кахетинского царя Давыда I (1513-1520). У него был внук царь Александр, у сего последнего царевич Дмитрий, и по имени сына сего, царевича Давыда, получил прозвание князя Давыдова выехавший в Россию в 1666 г. под высокую державу царя Алексея Михайловича правнук его князь Элизбар — Илья(76). Потомок сего последнего, князь Макул (Мамук) Давыдов, в 1738 г. назначен капитаном грузинской гусарской роты, сформированной из прибывших в Россию с царем Вахтангом грузин(77). Род князей Давыдовых продолжается до сих пор и употребляет следующий герб: первая часть четверочастного щита их представляет изображение в голубом поле св. Георгия, поражающего дракона; во второй, красного цвета, изображен золотой крест; в третьей четверти того же цвета видна золотая пятиугольная звезда и, наконец, в последней, в голубом поле, представлен идущий вправо лев;
_____
(76) От брата его князя Хохоны пошел род Хохоничевых. См.: Бархатная кн. II. С. 397.
(77) Указы 1738 г.: Марта 25 (N 7545). Именной; Июня 8 (N 7595). Резолюция кабинет-министров на сообщение Сената; Июля 8 (N 7614).
Источник: А.Б. Лакиер. Русская геральдика (1855). § 94. Гербы родов, выезжих из Грузии.
Выписка из Родословной книги Князя Долгорукова IV, 429.
Есть шесть фамилий Давыдовых, из которых пять внесены в Гербовник;
1) Князья Давыдовы, потомки Баграта I царя грузинского (575), см. Долг. II, 5 и статью Гербовн. о Багратионах (в Гербовник не внесены).
2) Потомство мурзы Минчака, выехавшего из Большой Орды в первых годах пятнадцатого века (Герб. II, 51). Сюда принадлежат графы Орловы-Давыдовы (XII, 17).
3) Давыдовы, потомки Давыдв бея, владевшего Цымаком в 1517 г. (Герб. VII, 162).
4) Потомки Андрона Давыдова, жалованного поместьем в 1622 г. (Герб. X, 40).
5) Потомки Трофима, Ивана и Михаила Давыдовых, пожалованные поместьями в 1689 году (Герб. VII, 145).
6) Иван Юльевич Давыдов, утвержденный в потомственном дворянстве в 1844 году (Герб. XIV, еще не составленный том).
Источник: 1890. Бобринский А. Дворянские роды внесенные в общий гербовик Всероссийской Империи. Часть 2
Геральдика:
Герб рода Давыдовых (потомства Минчака Косаевича)

Описание:
В щите разделенном на четыре равные части, по середине находится малый щиток имеющий голубое поле, в коем изображены Крест, шестиугольная Звезда золотая и между ими серебреный Полумесяц рогами обращенный вниз. В первой и четвертой части в красном поле означены по одному одноглавому Орлу черного цвета держащие в лапе обнаженный Меч; во второй и третьей части в голубом поле видны по три золотые Звезды шестиугольные и под ними Лук натянутый Стрелою, означенный золотом. Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом с дворянскою на нем Короною. Намет на щите голубого и красного цвета подложенный золотом.
Фамилия Давыдовых происходит от выехавшего к Великому Князю Василию Дмитриевичу из золотой Орды Минчака Косаевича, а по крещению названного Симеоном, у коего был сын Давыд. От сего Давыда происшедшие потомки Давыдовы многие Российскому Престолу служили Стольниками, Воеводами, Стряпчими и в иных чинах, и жалованы были от Государей в 1500-м и других годах поместьями. Все сие доказывается копиями с жалованных на поместья грамот, справками Архива Коллегии Иностранных дел и Розрядного Архива, и родословною Давыдовых означенными в присланной из Московского дворянского собрания родословной Книги.
Герб рода Давыдовых внесен в Часть 2 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 51
Источник: Общий гербовник дворянских родов Российской империи
Герб рода Давыдовых (потомства Якова Давыдова)
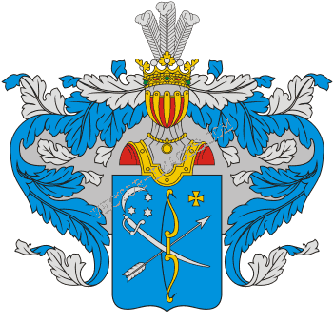
Описание:
В щите, имеющем голубое поле, крестообразно означены сабля, серебряная стрела остроконечием к левым углам обращенная и золотой лук, над коими с правой стороны изображены: серебряная луна и три шестиугольные звезды, с левой стороны золотой крест. Щит увенчан дворянским шлемом и короной со страусовыми перьями. Намет на щите голубой, подложенный серебром.
Фамилия Давыдовых, Трофим и братья его Иван и Михайло Давыдовы, за службу отца их в 1689 году от Государей, Царей и Великих Князей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича, пожалованы поместьями и на оная грамотами. Равным образом и другие многие сего рода Давыдовы, Российскому Престолу служили дворянские службы в разных чинах. Все сие доказывается жалованной на поместья грамотою, справкою Вотчинной Коллегии и родословною Давыдовых.
Герб внесен в Общий гербовник дворянских родов Российской империи, часть 7, 1-е отд., стр. 145.
Источник: Общий гербовник дворянских родов Российской империи
Герб рода Давыдовых (потомства Давыда Бея)
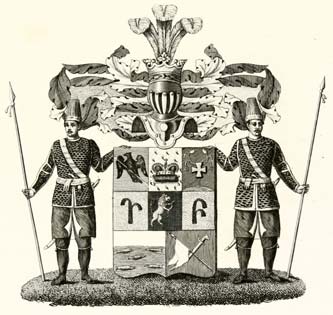
Описание:
В щите разделенном на четыре части, посредине находится щиток черного цвета, в коем изображен золотой лев, держащий в лапах лук, а по сторонам сего щитка в золотом поле две Армянские литеры черного цвета, на Российском языке Д и Б. Над сим щетком в горностаевом поле на малиновой подушке положена княжеская шапка. В первой части в голубом поле черный одноглавый орел, имеющий в лапах серебряную стрелу. Во второй в зеленом поле золотой крест, означенный на ветви с плодами того же металла. В третьей части в серебряном поле видны пять рыб, плавающие в реке. В четвертой части в красном поле крестообразно означены белое знамя с золотым древком и серебряная сабля, остроконечием вниз. Щит увенчан дворянским шлемом и короною со страусовыми перьями. Намет на щите зеленого и красного цвета, подложенный золотом и серебром. Щит держат два воина в панцирях с пиками.Предки фамилии Давыдовых, происшедшие от Атабек Ишхана, то есть знатного Князя, в древние времена имели свои Княжения. Давыд Бей в 1517 году также владел Цымаком. Потомки сего рода Степан Давыдов, в новейшие времена приехал в Россию в качестве Араратского посланника, а потом вступя в Российскую службу. был Подполковником. Сын его Богдан Давыдов Лейб-Казачьего полку Штабс-Ротмистер, в награду усердия его к службе, в 1797 году от ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА блаженной и вечной славы достойной памяти ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА ПАВЛА 1-го, пожалован в Тамбовской Губернии деревнями. Все сие доказывается свидетельством Григориопольского Армянского Городового Магистрата и другими документами.
Герб рода Давыдовых внесен в Часть 7 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 162
Источник: Общий гербовник дворянских родов Российской империи
Герб рода Давыдовых (потомства Андрона Давыдова)
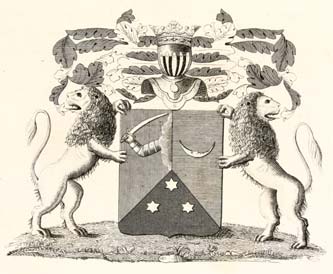
Описание:
Щит разделен на три части до половины перпендикулярно, а к подошве щита к правому и левому углам диогональными чертами в коих изображены: в красном поле выходящая из облаков рука в серебряных латах с поднятым вверх мечом; во второй части в голубом поле золотой полумесяц, рогами обращенный вверх; в третьей части в черном поле три серебряные шестиугольные звезды. Щит увенчан дворянским шлемом и короною. Намет на щите голубой и красный, подложенной серебром. Щит держат два льва.Предок рода Давыдовых, Андрон Давыдов писан был в городовых по городу Ряжску и за ним в 1622 и других годах состояли поместья и вотчины с крестьянами. Разным образом происшедшие от него потомки находились в военной и гражданской службе и владели деревнями. Все сие доказывается справкою Разрядного Архива и копией с определения Тульского Дворянского Депутатского Собрания, о внесении рода Давыдовых в 6-ю часть родословной книги, в число древнего дворянства.
Герб рода Давыдовых внесен в Часть 10 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 40
Источник: Общий гербовник дворянских родов Российской империи
Также в Общий гербовник дворянских родов Российской империи внесены еще три рода Давыдовых, но так как они внесены в части 12 и 14, которые никогда не публиковались, изображение гербов нет возможности опубликовать, вот информация по данным родам Давыдовых:
Источники:
ДАВЫДОВЫ, дворяне (где можно почитать):
-
- О роде двор. Давыдовых (Русский энциклопедический словарь профессора востоковедения И. Н. Березина)
-
- Род Давыдовых (Боярский род Колычевых. Москва , 1886. 4%с. 378)
-
- Долгоруков П. В. Российская родословная книга, СПб ч. 4
-
- Бобринский А.А. Дворянские роды, внесенные в Общий гербовник, ч. 1 и 2
-
- Грамота (1695г. ) Смолянину. Петру Дмитриевичу Давыдову. Северный Архив 1827, ч. 28
-
- Богатство Давыдовых (Карнович Е.П. Замечательные богатства частных лиц в России.)
-
- Петров П.Н. История родов русского дворянства, СПб, 1886.
|
Метки: давыдовы |
Мария Илларионовна Воронцова-Дашкова (Романова) р. 13 январь 1903 ум. 15 июнь 1997 |
| В |
Мария Илларионовна Воронцова-Дашкова (Романова) р. 13 январь 1903 ум. 15 июнь 1997
Запись:112578
Полное дерево
Поколенная роспись
| Род | Воронцовы-Дашковы |
| Пол | женщина |
| Полное имя от рождения |
Мария Илларионовна Воронцова-Дашкова |
| Смена фамилии | Романова |
| Родители
♂ Илларион Илларионович Воронцов-Дашков [Воронцовы-Дашковы] р. 1877 ум. 29 апрель 1932 ♀ Ирина Васильевна Нарышкина (Воронцова-Дашкова, Долгорукова) [Нарышкины] р. 1880 ум. 1917 |
|
| Вики-страница | wikipedia |
События
13 январь 1903 рождение: Царское Село, Санкт-Петербург, Россия
19 февраль 1922 брак: Париж, Франция, ♂ Никита Александрович Романов [Романовы] р. 16 январь 1900 ум. 12 сентябрь 1974
13 май 1923 рождение ребёнка: Лондон, Великобритания, ♂ w Никита Никитович Романов [Романовы] р. 13 май 1923 ум. 3 май 2007
4 ноябрь 1929 рождение ребёнка: Париж, Третья французская республика, ♂ Александр Никитич Романов [Романовы] р. 4 ноябрь 1929 ум. 22 сентябрь 2002
15 июнь 1997 смерть: Канны, Франция
Ближайшие предки и потомки
Деды
♀  Ирина Ивановна Воронцова-Дашкова (Паскевич)
Ирина Ивановна Воронцова-Дашкова (Паскевич)
рождение: 1835
брак: ♂ Фёдор Иванович Паскевич
смерть: 1919
смерть: 1924, вероятно
 ♂ Илларион Иванович Воронцов-Дашков
♂ Илларион Иванович Воронцов-Дашков
рождение: 27 май 1837, Санкт-Петербург, Российская империя
титул: граф
войсковое звание: 25 март 1858, корнет
войсковое звание: 17 сентябрь 1859, поручик
войсковое звание: 21 сентябрь 1861, штабс-ротмистр
войсковое звание: 17 ноябрь 1862, ротмистр, флигель-адъютант
рождение: 4 апрель 1865, полковник
войсковое звание: 28 октябрь 1866, генерал-майор Свиты Е.И.В.
брак: ♀ Елизавета Андреевна Шувалова (Воронцова-Дашкова)
войсковое звание: с 15 октябрь 1867 по 21 октябрь 1874, командир лейб-гвардии Гусарского полка
войсковое звание: 19 февраль 1875, генерал-адъютант
войсковое звание: 30 август 1876, генерал-лейтенант
профессия: с 17 август 1881 по 6 май 1897, министр императорского двора и уделов, канцлер Российских Царских и Императорских орденов
войсковое звание: 30 август 1890, генерал от кавалерии
профессия: 6 май 1897, член Государственного Совета
профессия: с 1904 по 1905, председатель Российского общества Красного Креста
профессия: с 27 февраль 1905 по 23 август 1915, наместник на Кавказе и Главнокомандующий войсками Кавказского военного округа
смерть: 25 январь 1916, Алупка, Крым
похороны: при Благовещенской церкви в селе Ново-Томниково, Шацкий уезд, Тамбовская губерния (ныне Моршанский район, Тамбовская область)
♂ Павел Андреевич Воронцов Граф Шувалов
рождение: 7 ноябрь 1846
титул: 7 июль 1882, светлейший князь Воронцов
брак: ♀ Елизавета Карловна Пилар фон Пильхау (Столыпина, Шувалова)
смерть: 4 апрель 1885, Париж
♀ Екатерина Андреевна Шувалова (Балашова)
рождение: 28 июль 1848
титул: графиня
брак: ♂ Николай Петрович Балашов , Санкт-Петербург
смерть: 27 январь 1931, Viroflay
рождение: 7 июль 1850
брак: ♀ Анна Петровна Кожина (Шувалова)
титул: 12 февраль 1886, светлейший князь Воронцов
смерть: 23 декабрь 1903
рождение: 22 октябрь 1857, Париж
смерть: 22 октябрь 1857, Париж
рождение: 22 октябрь 1857, Париж
титул: граф
смерть: 1860
♀ Мария Андреевна Шувалова (Булычева)
рождение: 1856
брак: ♂ Николай Иванович Булычев
 ♀ Елизавета Андреевна Шувалова (Воронцова-Дашкова)
♀ Елизавета Андреевна Шувалова (Воронцова-Дашкова)
рождение: 25 июль 1845, Парголово, Российская империя
титул: графиня
брак: ♂ Илларион Иванович Воронцов-Дашков
смерть: 28 июль 1924, Висбаден, Германия
рождение: 1839
смерть: 1859
рождение: 1841
брак: ♀ Тебро (Феодора) Павловна Орбелиани (Нарышкина)
смерть: 1909
♀ Тебро (Феодора) Павловна Орбелиани (Нарышкина)
рождение: 1852
брак: ♂ Василий Львович Нарышкин
смерть: 1930
Деды
Родители
♀ Александра Илларионовна Воронцова-Дашкова
рождение: 28 апрель 1869
титул: графиня
брак: ♂ Павел Павлович Шувалов
смерть: 10 июль 1959, Париж
 ♀ Ирина Илларионовна Воронцова-Дашкова (Шереметева)
♀ Ирина Илларионовна Воронцова-Дашкова (Шереметева)
рождение: 2 декабрь 1872
титул: графиня
брак: ♂ Дмитрий Сергеевич Шереметев
смерть: 3 январь 1959
♂ Иван Илларионович Воронцов-Дашков
рождение: 28 апрель 1868, Санкт-Петербург, Российская империя
войсковое звание: флигель-адъютант великого князя Михаила Александровича
войсковое звание: ротмистр
войсковое звание: полковник лейб-гвардии Гусарского полка
брак: ♀ Варвара Давыдовна Орлова (Воронцова-Дашкова)
смерть: 8 декабрь 1897, погиб на охоте
похороны: при Благовещенской церкви, село Ново-Томниково, Шацкий уезд, Тамбовская губерния (ныне Моршанский район, Тамбовская область)
♂ Роман Илларионович Воронцов-Дашков
рождение: 1874
войсковое звание: Гардемарин
смерть: 1893
 ♂ Александр Илларионович Воронцов-Дашков
♂ Александр Илларионович Воронцов-Дашков
рождение: 1881
брак: ♀ ანა ილიას ასული ჭავჭავაძე
смерть: 1938, Берлин
♀ София Илларионовна Воронцова-Дашкова (Демидова)
рождение: 28 август 1870, Ново-Темниково
титул: графиня
брак: ♂ Элим (Елим) Павлович Демидов , Санкт-Петербург
смерть: 16 апрель 1953, Афины, Греция
♂ Илларион Илларионович Воронцов-Дашков
рождение: 1877
брак: ♀ Ирина Васильевна Нарышкина (Воронцова-Дашкова, Долгорукова)
смерть: 29 апрель 1932, Париж
рождение: 1877
брак: ♀ Вера Сергеевна Витте (Нарышкина)
рождение: 20 декабрь 1875
брак: ♀ Александра Константиновна фон Зарнекау (Юрьевская)
рождение: 1885, Швейцария
рождение: 1964, Рим
♂ Сергей Александрович Долгоруков
рождение: 1872
брак: ♀ Ирина Васильевна Нарышкина (Воронцова-Дашкова, Долгорукова)
смерть: 1933
♀ Ирина Васильевна Нарышкина (Воронцова-Дашкова, Долгорукова)
рождение: 1880
брак: ♂ Сергей Александрович Долгоруков
смерть: 1917
Родители
== 3 ==
♂ Роман Илларионович Воронцов-Дашков
рождение: 1901
смерть: 1960
♂ Михаил Илларионович Воронцов-Дашков
рождение: 1904
рождение: 1983
♂ Александр Илларионович Воронцов-Дашков
рождение: 1905
смерть: 1987
♂ Илларион Илларионович Воронцов-Дашков
рождение: 1911
смерть: 1982
 ♂ Никита Александрович Романов
♂ Никита Александрович Романов
рождение: 16 январь 1900, Санкт-Петербург, Российская империя
титул: Князь Императорской крови
брак: ♀ w Мария Илларионовна Воронцова-Дашкова (Романова) , Париж, Франция
смерть: 12 сентябрь 1974, Канны, Франция
♀ Мария Илларионовна Воронцова-Дашкова (Романова)
рождение: 13 январь 1903, Царское Село, Санкт-Петербург, Россия
брак: ♂ Никита Александрович Романов , Париж, Франция
смерть: 15 июнь 1997, Канны, Франция
== 3 ==
Дети
♀ Джанет Энн (Анна Михайловна) Шонвальт
рождение: 24 апрель 1933, Оклахома, США
вероисповедание: 1961, православие
брак: ♂ w Никита Никитович Романов , Лондон, Великобритания
рождение: 13 май 1923, Лондон, Великобритания
титул: Князь
брак: ♀ Джанет Энн (Анна Михайловна) Шонвальт , Лондон, Великобритания
смерть: 3 май 2007, Нью Йорк, США
рождение: 29 ноябрь 1931, Палермо, Италия
брак: ♂ Александр Никитич Романов , Канны, Франция
рождение: 4 ноябрь 1929, Париж, Третья французская республика
титул: князь
брак: ♀ Мария Вальгуарнера , Канны, Франция
смерть: 22 сентябрь 2002, Лондон, Великобритания
Дети
Внуки
рождение: 30 ноябрь 1974, Нью-Йорк, США
титул: Князь
смерть: 25 август 2007, Флорида, США, самоубийство
♀ Анастасия Александровна Романова
рождение: 10 октябрь 1986
Внуки
|
Метки: воронцовы-дашковы |
«Идет толпа!»: крестьянские процессы в Саратовской губернии в годы первой русской революции (по материалам адвоката Н.Н. Мясоедова) |
«Идет толпа!»: крестьянские процессы в Саратовской губернии в годы первой русской революции (по материалам адвоката Н.Н. Мясоедова)
Гальперин Р.И.
На рубеже XIX-XX вв. на волне роста стачечной борьбы рабочих, заметно оживилось и крестьянское движение, которое все более принимало аграрную направленность. С отменой крепостного права, повсеместно наблюдался отход на заработки в город и крупные промышленные центры. Увеличение массовых беспорядков, вызванных рабочими скопищами, находило отзвуки и в крестьянской среде. Обычным явлением становятся земельные споры с помещиками, уничтожение межевых знаков на границах владений, запахивание помещичьих земель, столкновения с администрацией помещичьих экономий, поджоги и разгромы имений.
Крестьянские волнения не обошли и Саратовскую губернию, которая стала одним из крупнейших центров аграрных беспорядков. До конца 1905 г. в губернии не было столь массовых беспорядков, таких как, например, в Полтавской и Харьковской губерниях.[1] Но аграрные выступления крестьян на Юге России стали только прелюдией к массовым крестьянским восстаниям периода Первой русской революции, когда они охватили все районы страны. В 1905 г. в связи с военными неудачами, экономическими трудностями и революционными событиями в стране активизировались и «аграрные» выступления, особенно в Поволжье. Одним из «лидеров» по количеству беспорядков стала Саратовская губерния. Американский исследователь Тимоти Микстер указывает на то, что «в 1905 году в Саратовской губернии было сожжено, разграблено или частично разрушено около 300 поместий, что составило 31,3% от общего числа пострадавших поместий в Европейской части России, т.е. здесь было уничтожено в 6 раз больше, чем в любой другой губернии».[2] Следствием этих беспорядков явилось большое количество т.н. «крестьянских» политических процессов, на примере которых можно проследить характер и причины обострения «аграрного вопроса» в российской деревне в начале XX в.
Материалы целого ряда политических процессов, в том числе и «крестьянских», отложились в фонде известного саратовского адвоката представителя саратовской группы синергии «Молодая адвокатура»[3] Н.Н. Мясоедова[4], который оценил Саратов периода Первой русской революции как «центр аграрногодвижения, нигде в другом месте не получившего такого развития».[5] Основные проблемы при изучении т.н. «аграрных» или «крестьянских» дел сводятся к тому, что существуют, в основном, официальные документы, такие как обвинительные акты, резолюции и приговоры суда, следственные материалы. Большой редкостью являются воспоминания участников этих процессов, речи адвокатов, сказанные на заседаниях суда.
С 1906 по 1916 гг. по неполному списку дел политического характера, по которым подсудимые были под защитой присяжного поверенного Мясоедова, насчитывалось 373 дела и 4759 подсудимых, которые он разделил на 5 групп:
- О разгроме помещичьих имений, казенных винных лавок и железнодорожных станций.
- О принадлежности революционным партиям и союзам, агитаторской и пропагандистской деятельности, оскорблении величества, издание революционных книг и статей.
- О террористических актах, вооруженных восстаниях, сопротивлениях властям, поджогах казенных зданий, хранении и изготовлении взрывчатых средств и порче телеграфного сообщения.
- Об экспроприациях.
- Дела политического характера, не относящихся к предыдущим рубрикам: побеги с каторги и тюрьмы, покушения на них, оскорбления должностных лиц и другие.[6]
Самой распространенной группой политических дел были т.н. «аграрные дела», т.е. о разгроме помещичьих имений, казенных винных лавок и железнодорожных станций, которые составляли приблизительно третью часть всех рассматриваемых Мясоедовым политических дел (135 из 373 дел).
Среди разгромленных помещичьих усадеб оказались имения герцога Лейхтенбургского, министра юстиции М.Г. Акимова, действительного статского советника С.С. Иконникова-Галицкого, баронессы С. Бенкендорф-Гинденбург, кн. Воронцова-Дашкова, кн. Салтыкова, кн. Щербатова и известных деятелей земско-либерального движения (впоследствии депутатов Государственной Думы) кн. Н.Н. Львова и С.А. Унковского и т.д.[7]
Весь 1906 и 1907 гг., по словам Мясоедова, «поглотили аграрные дела».[8] Дела эти (за некоторым исключением для Судебной Палаты, в которую они поступили до мартовского закона 1906 г.) слушались в окружном суде и почти все – в Саратовском. Обвиняемыми являлись почти исключительно местные крестьяне «с самым ничтожным придатком пришлого элемента». Общее число обвиняемых по всем этим делам было приблизительно 3316 человек[9]
Мясоедов никогда не брал на себя защиты помещиков против крестьян (вроде арендаторов целых имений), хозяев и фабрикантов против рабочих, купцов против приказчиков и т.д. (вообще экономически сильных против слабейших).[10] Гонорар за данные дела чаще всего не превышал 5 рублей за человека, а некоторых крестьян защищал бесплатно. «Я могу припомнить, – вспоминает Мясоедов, – за 11 лет очень немного гражданских дел, где гонорар измерялся сотнями рублей и 2 или 3 дела, где он был выше 1000».[11]
Практически все аграрные дела подводились под действие 2691 статьи Уложения о Наказаниях. По редакции этой статьи, установленной законом 15 апреля 1906 года,[12] направленным «против возникновения стачек среди сельских рабочих» законный состав преступления ею предусмотренного, сводится к «публичному скопищу», которое «действуя соединенными силами участников, вследствие побуждений, проистекших из вражды религиозной, племенной или сословной, или из экономических отношений, или вследствие наущающих общественное спокойствие слухов, или же с целью произвести расстройство чужого сельского хозяйства» учинить одно из 19 деяний, перечисленных в четырех пунктах I части этой статьи.[13]
Основным моментом, объединяющим все случаи законного применения 2691 ст. является таким образом «публичное скопище, действующее соединенными силами участников». Таким образом, возможность применения этой статьи ставится в зависимость от учинения таким скопищем одного из перечисленных в ней 19 деяний и от наличности любого из 6 побуждений, которыми такое скопище руководилось в своих действиях причины, побудившей его действовать или цели, которые оно преследовало. Умножая 19 на 6, мы получаем 114 – число, соответствующее числу преступных деяний, предусмотренных одной только первою частью 2691 ст., которые доступны «публичному скопищу, действующему соединенными силами участников».[14]
Одним из самых громких дел начала XX в. было дело о защите 106 крестьян, обвиняемых в разгроме имений историка, краеведа, этнографа, археолога, члена Императорского Российского географического общества Александра Николаевича Минха, потомственного почетного гражданина Ивана Шмидта, дворян Николая Воскобойникова, Надежды Пашканг и других при с. Колено Аткарского уезда 29 и 30 октября 1905 г. Как следует из обвинительного акта, общий размер причиненного убытка всем пострадавшим составил чуть менее 200 тыс. рублей, причем большую часть (150 тыс.) понесло имение А.Н. Минха.[15] Крестьяне жгли господские дома, жилые и нежилые постройки, расхищали запасы хлеба, имущество, принадлежащее экономиям.
Во время погрома, не принимая лично участия ни в каких насильственных поступках, неизменно руководил действиями буйствовавшей толпы Петр Кассандров – сын местного священника, студент Юрьевского Университета, а также сын одного из местных торговцев, ученик московского строительного училища, Владимир Артемьев. Не признав своей вины, Кассандров и Артемьев, тем не менее по имеющимся в деле доказательствам, были обвинены в преступлении, предусмотренном 2 ч. 2691 ст. Улож. о Наказ. Остальные 104 человека были обвинены по 1 ч. той же статьи, т.е. за участие в публичном скопище, «учинившего соединенными силами расхищение и уничтожение имущества, вследствие побуждения, проистекших из экономических отношений».[16]
Наибольший ущерб от погромов понеслаэкономия Его Императорского Высочества Князя Георгия Максимилиановича Романовского Герцога Лейхтенбергского при с. Даниловке Петровского уезда. Общая сумма убытков составила более 500 тысяч рублей. Толпа разворовала весь хлеб, лошадей и рогатый скот, уничтожила всю экономия с господским домом, двумя винокуренными заводами и одним ректификационным, было произведено расхищение хлеба, спирта, сельскохозяйственных орудий, живого инвентаря и другого имущества.[17]
Самым массовым процессом, в котором участвовал адвокат Н.Н. Мясоедов, было дело о защите 196 крестьян, обвиняемых в разгроме домов и хлебных амбаров Лепсиева, Ковалевской, Шапошникова и Черникиной 18 декабря 1905 г. при ст. Святославка Рязанско-Уральской железной дороги. Непосредственно сам Мясоедов защищал на этом процессе 41 подсудимого, а остальных – его многочисленные помощники. Фабула этого крупного дела такова. 18 декабря 1905 г. на ст. Святославка явились многочисленной толпой крестьяне окрестных селений. Подъехав к амбарам, толпа сломала замки и стала развозить сложенный в амбарах хлеб. Развоз хлеба продолжался в течение нескольких дней и был прекращен лишь по прибытию казаков. Всего крестьянами было увезено из амбаров более 43 тысяч пудов пшеницы на сумму 38760 рублей, кроме того крестьянами была расхищена и изломана мебель, стоимостью около 1000 рублей. Как это не парадоксально, но к разгрому амбаров подстрекал крестьян мещанин Алексей Веселов, занимавший на тот момент должность начальника станции Святославка. В итоге 195 человек обвинялись в деянии, с очень популярной в то время формулировкой – «в участии в публичном скопище, учинившем соединенными силами, вследствие побуждений, проистекавших из экономических отношений», т.е. в преступлении, предусмотренном 1 ч. 2691 ст. Улож. о Наказ., а Веселов в том, что, он, не принимая непосредственного участия в совершении действий, склонил их своими уговорами к совершению погромов и расхищений, т.е. в преступлении, предусмотренном 3 ч. 2691 ст. Улож. о Наказ.[18]
Основным вопросом, который волновал всех крестьян, был, естественно, земельный вопрос, а точнее количество земли, находящейся в их владении. Чаще всего именно это служило поводом к погромам. В качестве примера можно привести дело 58 человек, обвиняемых в разгроме имений графини Воронцовой-Дашковой и дворянина Топорина в Большой Екатериновской волости Аткарского уезда. Суть проблемы заключалась в том, что в пределах Б.-Екатериновской волости, Аткарского уезда были расположены экономии графини Воронцовой-Дашковой, размером до 7000 десятин земли, и дворянина Топорина – 2829 десятин. Часть земель сдавалась в аренду крестьянам соседних поселений – слобода Б.-Екатериновка и деревня Федоровка. Экономическое положение крестьян первой считалось неудовлетворительным, так как они имели лишь дарственный надел, и на душу приходилось не более полудесятины. Недостаток в земле эти крестьяне и вынуждены были пополнять арендой у Воронцовой-Дашковой. По словам управляющего имением отношения экономии с крестьянами, ранее бывшие удовлетворительными, обострились с весны 1905 г., именно с тех пор, когда экономия, в виду задолженности арендаторов, достигшей до 30000рублей, отказала сдавать участки целым обществам, а решила перейти на сдачу земли подворно. При этой последней форме аренды земля сдавалась по более дорогой цене, но зато участки давались на выбор. При сдаче земли целому обществу посевная десятина крестьянам обходилась в 9 руб. 75 коп., а при подворной аренде – 13 руб. Что же касается экономии Топорнина, то по объяснениям бывшего управляющего, только небольшая часть ее земель (около 600 десятин) сдавалась в аренду крестьянам слободы. Б.-Екатериновке, дер. Федоровки и других селений. В последние годы крестьяне платили за десятину под яровой хлеб 12 р. 50к., а под озимые – 15р. Описанные изменения в сфере арендных отношений в связи с недостатком хлеба из-за плохого урожая 1905 г., а также из-за злонамеренной агитации среди сельского населения радикальных революционных партий, суливших отобрание земель у помещиков в пользу крестьян, породило у жителей слободы Б.-Екатериновке к осени этого года глухое недовольство.
Погром начался утром 15 октября 1905 г. В этот день по округе распространилась новость о том, что княгиня Воронцова-Дашкова намерена была продать свою землю Крестьянскому Банку. Толпа, собравшаяся у Волостного правления, с полудня 15 октября начала громить экономию Воронцовой-Дашковой, приехав туда на сотнях подвод. Крестьяне разграбили запасы зернового хлеба и всякого рода инвентарь, имущество, были сожжены экономические постройки. От произведенного разгрома экономия понесла убытка на сумму до 100000 рублей. Привлеченные по суду к ответственности погромщики обвинялись по ст. 2691 Улож. о Наказ.[19]
Вместе с тем, судя по всему, 15 рублей за десятину не являлась максимальной ценой за аренду земли. В с. Лесная Нееловка, Саратовского уезда арендная плата доходила до 30 рублей за десятину, что очень тяжело сказывалось на благосостоянии крестьян. Земский начальник Булгаков несколько раз сам обращался к управляющему имением А.А. Столыпина с просьбой о возможной сбавки цен на арендную землю, но цену не сбавляли до самой осени 1905 г., когда в ночь на 14 октября толпа ворвалась в имение Столыпина и сожгла контору, корпус для служащих, конюшню и два скотных сарая, а во время пожара часть экономического имущества расхитила. Через неделю имение подверглось второму нападению. Громилы сожгли господский дом, помещение управляющего, каретник, оранжерею и другие надворные постройки Тем самым причинив экономии убытку на сумму свыше 45000 рублей.
Еще одним «рекордсменом» по цене за арендованную десятину земли была экономия князя Щербатова. Крестьяне были вынуждены вследствие малоземелья снимать землю и платить за нее экономии по 17 рублей за десятину, и, кроме того, сверх платы удобрять бесплатно арендованную ими землю. За подножный корм ежегодно приходилось также платить деньгами, и сверх того привозить арендодателю бесплатно по 200 возов дров, около ста десятин хлеба. При таких условиях общество деревни Софьино, находящейся у экономии князя Щербатова за два года задолжало экономии более 4000 рублей. Это и послужило поводом для погромов имения 20 октября 1905 г.[20] В этот же день еще одно имение князя А.Г. Щербатова, расположенное у деревни Студенки, Сухо-Карабулакской волости, Саратовского уезда подверглось погрому толпой крестьян из окрестных селений. Разгром и поджоги проходили под предводительством 5 всадников, которые отобрали ключи от нотариальной конторы и амбаров, откуда был вывезен весь хлеб.[21]
Редким явлением для таких беспорядочных погромов была хорошая организация среди нападавших. Исключением является дело 141 крестьянина, обвиняемых в разгроме имения потомственного почетного гражданина А. Аносова у деревни Кочеевка Аткарского уезда. Несмотря на огромное количество погромщиков, скопище действовало по заранее выработанному плану. Разграбление экономии продолжалось 2 дня до того, как в имение пришли полицейские силы.[22]
Довольно часто погромы происходили по принципу «домино», т.е.происходящий погром, можно объяснить только как результат имевшего в это время общего крестьянского движения. Так, например, определял причины погрома имения Панчулидзевых у деревни Круглой, Петровского уезда пострадавший арендатор Нагорнов.[23]
Роль слухов в создании скопищ в такой напряженной обстановке, которая складывалась в конце 1905 г. нельзя недооценивать. По словам сельского старосты В. Селюкина до 1 ноября 1905 г. в селе Новый Мачим, Кузнецкого уезда было тихо. Но как только вернулся из Петровского уезда некто Иван Сонин, началось брожение. Сонин носил какие-то книжки и говорил крестьянам что «от Царя вышла свобода до 1 января 1906 г., да кого хочешь жги и убивай, и ответственности не будет». Естественно, что кроме таких подстрекательских слухов причиной погрома было отчасти и недовольство крестьян своим экономическим положением. Сонин и его тезка Афонин руководили скопищем, которое учинило вторжение в обитаемую лесную караулку объездчика Артемьева и лесника Надыбина. Нападавшие похитили, истребили и повредили имущество объездчика и лесника на сумму 900 и 200 рублей соответственно. По приговору суда Сонин был приговорен к 4 годам каторги, а Афонин к 2 годам и 8 месяцам, а остальные 7 человек – оправданы.[24]
Масштаб разрушений, вызванных крестьянским движением можно рассмотреть на примере дела крестьян Н.И. Павельева и других в числе 47 человек, обвиняемых в разгроме имений В.С. Бекетовой при с. Урлейка, княгини Дарьи Петровны Оболенской при с. Сергеевка, дворянки А.В. Логинович при с. Ермоловке, губернского секретаря А.Ф. Габлинца при д. Золоскина, хутора крестьянина Г.Ф. Самсонова при с. 1-й Чернышевке и крестьян С. и П. Мишиных при д. Хребтовке, казенной винной лавки № 250 и почтового телеграфного отделения в с. Кондоль Петровского уезда. Погромы и поджоги усадьбы и хуторов продолжались с 26 по 29 октября 1905 г. и сопровождались расхищением принадлежавшего владельцам домашнего имущества, хлеба, сельскохозяйственного инвентаря, а погром казенной винной лавки – расхищением вина, разбитием окон и дверей и поджогом сарая, находившегося во дворе при винной лавке. И, наконец, погром почтово-телеграфного отделения выразился в порче телеграфного аппарата, сшибленного со стола на пол, через разбитое окно, разбитии окон телеграфного помещения и в порче наружных телеграфных проводов и изоляторов.[25]
В деле крестьян И.И. Гарнизова и других в числе 8 человек, обвиняемых в разгроме хутора дворянки С.Д. Языковой при д. Чарыклак, казенной винной лавки, паровой мельницы и дома крестьянина М. Карпунина и М. Бадарина в с. Пылково Петровского уезда причиной погромов стала публичное обнародование Манифеста 17 октября, который зачитал местный священник Серебряков по просьбе крестьянина Гарнизова. После этого последний собрал около церкви крестьян и стал «разъяснять» им манифест, причем он говорил, что правительство вообще много обещает, но ничего не исполняет, и что народу следует добиваться всего самому. Затем Гарнизов стал уговаривать крестьян разграбить имущество с хутора дворянки С.Д. Языковой у деревни Чарыклак, Петровского уезда. Из амбаров Языковой крестьяне взяли сотни пудов зерна, скота и попортили на хуторе некоторые сельскохозяйственные орудия. 31 октября толпа крестьян напала на казенную винную лавку, похитив из нее вина на 2500 руб., а затем и подожгла. После этого погромщики направилась на паровую мельницу М. Карпунина и М. Бадарина, и после погрома сожгли и мельницу, и дома ее хозяев[26].
Одним из характерных судебных процессов периода русско-японской войны, наглядно иллюстрирующих ситуацию с погромами в Саратовской губернии, может служить дело о крестьянах сел Сокура и Оркина И.Р. Гречкина, В.П. Передреева и др. (всего 67 человек), обвиняемых в разгроме и поджоге хуторов помещицы С.Е. Бенкендорф-Гинденбург в октябре 1905 г.[27] Антивоенные настроения, обострившиеся неудачами на фронте, послужили дополнительным импульсом к антипомещичьим выступлениям крестьян.
Часть земель имения Баронессы Бенкендорф-Гинденбург (до 2700 десятин) сдавалась в аренду крестьянам села Сокур, обладающим скудным земельным наделом. Эти земельные отношения, а особенно предпочтение, которое экономическая администрация выказывала при сдаче земли состоятельным крестьянам, как более аккуратным плательщикам арендных денег, перед неимущими, создавали в населении села Сокур недружелюбное настроение к экономиям баронессы. Поэтому с 22 октября 1905 г. в течение 3 дней в экономии баронессы фон Бенкендорфф-Гинденбург при селе Сокура крестьянами этого села были разграблены и сожжены хутора: Еленинский, Михайловский, Софьинский и Владимирский[28]. Сумму причиненного вреда и убытков определить не удалось. Разграблению подверглось все, что попадалось «под руку» разбушевавшейся толпе крестьян: «…шкатулка, юбка, брюки, подушки, куртка, железная кровать, лошадь, сапоги, графин, зонт, подпруга, чемодан, детская кровать, туфли, матрац, зеркало, шубы, сундук, одеяло шерстяное…».[29] «Главными атаманами» налетчиков былИгнатий Гречкин, который на суде обвинялся как руководитель скопища по 2 ч. 2691 ст. Улож. о Наказ. Весьма показательными для характеристики настроения погромщиков являются слова Ксении Лисичкиной, произнесенные во время беспорядков: «Бейте все, они попили много нашей крови!»[30]
Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что неполный характер реформы 1861 г. и проблемы в ходе ее реализации привели в начале XX в. к широкомасштабному общероссийскому крестьянскому движению, в результате которого сотни имений были разгромлены, расхищено имущество их владельцев, а многие усадьбы сжигались погромщиками до тла. Все эти беспорядки, как правило, имели один и тот же сценарий: организация скопища, бездумное уничтожение всего имущества ненавистного имения, и дележ награбленного имущества.
Материалы «крестьянских» процессов позволяют определить их политическое и общественное значение, выявить основные объективные причины погромов, которые стали предметом судебного рассмотрения. Анализ судебных процессов позволяет установить, что «аграрные» дела не являются исключительным явлением, и не стоят особняком в общей политической ситуации в стране, а являются частью общего процесса массового недовольства существовавшей тогда системой власти.[31]
Массовые беспорядки, по мнению лидера отечественной «Молодой адвокатуры» Н.К. Муравьева, «…это – до самого последнего времени единственный, хотя и беспорядочный язык масс», и главной целью властей услышать этот многоголосый язык масс и, самое главное, научиться «…читать те кровавые страницы, которые вписывают в историю народные волнения».[32]
Список использованной литературы и источников
- Государственный архив Саратовской области. Личный фонд присяжного поверенного округа Саратовской судебной палаты Мясоедова Н.Н. (ГАСО. Ф. 409.)
- Полное собрание законов Российской Империи. Собр. 3. Т. 26. Ч.1. Отд. 1.
- Mixter T.R. Peasant collective Action in Saratov Province 1902-1906/Politics and Society in Provincial Russia: Saratov 1590-1917. Columbus. 1989.
- Варфоломеев Ю.В. Николай Константинович Муравьев: адвокат, политик, человек. Саратов, 2007
- Варфоломеев Ю.В. Политические процессы в России (кон. XIX – нач. XX вв.). Саратов, 2010.
- Троицкий Н.А. Адвокатура в России и политические процессы 1866 – 1904 гг. Тула, 2000
[1] Троицкий Н.А. Адвокатура в России и политические процессы 1866 – 1904 гг. Тула, 2000. С.335-340.
[2] Mixter T.R. Peasant collective Action in Saratov Province 1902-1906/Politics and Society in Provincial Russia: Saratov 1590-1917. Columbus. 1989. Р. 31 .
[3] Синергия «Молодая адвокатура» – неформальное объединение, синергия (содружество) политических защитников, возникшее на рубеже XIX-XX вв., которые выступили за обновление адвокатской корпорации России и приняли активное участие в политических судебных процессах (Подробнее см.: Варфоломеев Ю.В. «Молодая адвокатура»: политическая защита в России (кон. XIX – нач. XX вв.): Учебное пособие. – Саратов, 2005)
[4] Подробнее о Н.Н. Мясоедове: Гальперин Р.И. Присяжный поверенный Н.Н. Мясоедов// Социально-гуманитарные науки и современность: межвуз. Сб. науч. Труд. Пермь, 2011. Вып. 6. С. 71.
[5] ГАСО. Ф. 409. Оп. 1. Д. 356. Л. 13.
[6] ГАСО. Ф. 409. Оп. 1. Д. 356. Л. 55.
[7] Там же. Оп. 2. Д. 5.
[8] Там же. Оп. 1. Д. 356. Л. 24.
[9] Там же. Л. 15об.
[10] ГАСО. Ф. 409. Оп. 1. Д. 356. Л. 23об.
[11] Там же.
[12] Полное собрание законов Российской Империи. Собр. 3. Т. 26. Ч.1. Отд. 1. С. 391-393.
[13] ГАСО. Ф. 409. Оп. 1. Д. 278. Л. 9-10.
[14] ГАСО. Ф. 409. Оп. 1. Д. 278. Л. 10.
[15] Там же. Оп. 2. Д. 203. Л. 2-2об.
[16] Там же. Л. 3-3об.
[17] ГАСО. Ф. 409. Оп. 2. Д. 201. Л. 5.
[18] Там же. Д. 620. Л. 4.
[19] ГАСО. Ф. 409. Оп. 2. Д. 186. Л. 46-48.
[20] ГАСО. Ф. 409. Оп. 2. Д. 413. Л.2.
[21] Там же. Д. 352. Л.4.
[22] Там же. Д. 283. Л.4-4об.
[23] Там же. Д. 206. Л.8.
[24] ГАСО. Ф. 409. Оп. 2. Д. 309. Л.3-3об, 5.
[25] Там же. Д. 353. Л. 47.
[26] ГАСО. Ф. 409. Оп. 1. Д. 241. Л. 3.
[27] Варфоломеев Ю.В. Политические процессы в России (кон. XIX – нач. XX вв.). Саратов, 2010. С. 40.
[28] ГАСО. Ф. 409. Оп. 1. Д. 241. Л. 1.
[29] ГАСО. Ф. 409. Оп. 1. Д. 241. Л. 55.
[30] Там же. Оп. 2. Д. 241. Л. 3.
[31] Варфоломеев Ю.В. Николай Константинович Муравьев: адвокат, политик, человек. Саратов. 2007. С. 121.
[32] Варфоломеев Ю.В. Политические процессы в России (кон. XIX – нач. XX вв.). Саратов, 2010. С. 43.
При реализации проекта использованы средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации № 11-рп от 17.01.2014 г. и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи»
Историкам
© 2005 - 2017 Всероссийский конкурс на лучшую работу по русской истории
«Наследие предков - молодым». Все права защищены.
Go to top st-konkurs.ru/raboty/2011/1342-idet-tolpa-krestyanskie-protsessy-v-saratovskoj-gubernii-v-gody-pervoj-russkoj-revolyutsii-po-materialam-advokata-n-n-myasoedova
|
Метки: столыпины губернии |
Тайны замка Оболенских |
Тайны замка Оболенских
Один из самых загадочных объектов культурного наследия Нижегородской области – замок Оболенских – расположен примерно в 150 км к востоку от Нижнего Новгорода в поселке Красная Горка Воротынского района. По каким-то необъяснимым причинам этот уникальный объект оказался вытесненным на задворки исторической памяти. Реестр загородных усадебных комплексов Нижегородской области, составленный чиновниками от культуры, не содержит даже имени-отчества владельца замка (в реестре он числится как «усадьба Оболенских»). Местные жители, не привыкшие копаться в истории (для этого у них есть огород), приспособили архитектурно-парковый комплекс регионального значения для проведения досуга со всеми вытекающими отсюда последствиями. Забвению не мешают и туристические маршруты: они странным образом проложены стороной. Интерес к замку проявляет лишь новое поколение кладоискателей и охотников за приведениями, но точных сведений нет даже у них. Интуитивно чувствуя, что именно полное имя владельца «усадьбы Оболенских» является ключом к раскрытию тайн и загадок этого замка, я провела собственное расследование.
Тайна имени
Итак, кто же такие Оболенские? Это знаменитый княжеский род – одна из ветвей князей Черниговских. Внук князя Михаила Всеволодовича Черниговского, князь Константин Юрьевич (13 колено от Рюрика), получив в удел город Оболенск, стал родоначальником Оболенских. Начиная с князя Сергея Александровича (1819 – 1882), старший из потомков стал носить соединенную фамилию Оболенских-Нелединских-Мелецких. Князю было дозволено принять фамилию матери – Нелединских-Мелецких в связи с тем, что ее древний дворянский род выходцев из Польши угас. Сергей Александрович Оболенский-Нелединский-Мелецкий – действительный статский советник, шталмейстер – был женат на правнучке генералиссимуса князя А.В.Суворова Наталье Владимировне Мезенцевой (1820 – 1895). В этом браке родилось трое сыновей: Владимир, Валериан и Платон.
Именно Платон Сергеевич Оболенский-Нелединский-Мелецкий (1850 – 1913) и стал владельцем Нижегородского имения в Красной Горке. Князь Платон Сергеевич, генерал-майор, помимо прочего заведовал двором великого князя Владимира Александровича. Во время поездки из Нижнего Новгорода в Курмыш князь Оболенский был очарован Поволжской частью Нижегородской губернии. Особенно его впечатлили просторы «демидовской вотчины» – нижегородской ветви известного рода заводчиков Демидовых, место, где река Имза впадает в Ургу. Выкупив эти земли у Демидовых, князь Платон Сергеевич Оболенский-Нелединский-Мелецкий начал строительство фамильного замка. По его замыслу, он должен был переходить по наследству старшему из потомков вместе с фамилией Оболенских-Нелединских-Мелецких.
Будучи в курсе актуальных течений своего времени в искусстве и, в частности, в архитектуре и продумывая все до мелочей, князь Оболенский осознанно строил в Красной Горке именно замок. И дело здесь не столько в модном тогда увлечении средневековой архитектурой, сколько в общепризнанном мнении, что замок в живописном месте – отличная декорация для отдыха царственных особ. Такой декорации не хватало Оболенскому, планировавшему породниться с самим императором. А планам этим было суждено сбыться: в 1916 году дочь императора Александра II светлейшая княжна Екатерина Александровна Юрьевская (1879 – 1959) стала женой его сына – Сергея Платоновича Оболенского-Нелединского-Мелецкого (1890 – 1978).
Расцвет Красной Горки
Унаследовав после смерти отца имение в Красной Горке, Сергей Платонович создал в нем идеальное хозяйство. Князь Оболенский не видел смысла противиться техническому прогрессу: сам он был обладателем единственного автомобиля в уезде и поместье свое обустраивал по последнему слову техники. Так, были решены вопросы отопления и водоснабжения замка и летом, и зимой. Замок отапливался системой калориферных печей, о чем свидетельствуют сохранившиеся дымоходы в стенах здания. С помощью технических приспособлений вода поступала в специальный резервуар в юго-восточной башне замка из родника, расположенного у подножия горы. Из этого резервуара вода распределялась по всей усадьбе, включая фонтан в великолепном парке с уникальными посадками лип, туи, дуба и голубых елей. Продумана была также и система канализации.
 |
 |
 |
 |
Когда-то поместье с хутором в 16 десятин земли было хорошо организованным хозяйством с конным и скотным дворами, каретниками, молотильными сараями, оранжереями, садом, огородами и теплицами. Из хозяйственных построек усадьбы сохранились кузница, ледник, водонапорная башня, служебный корпус. Все они выполнены в рациональном «кирпичном» стиле. Особенно интересно здание амбара, находящееся на территории бывшего хозяйственного двора. С южной стороны этого бревенчатого сооружения находилась площадка для выгрузки с телег мешков с зерном. Высоты площадки и телеги совпадали. Мешки затем вносились в специальные проемы наружных дверей амбара*, зерно ссыпалось в сусеки. Подклет служил помещением для загрузки при вывозе зерна. В перекрытии подклета сохранились отверстия с коваными задвижками интересной конструкции для засыпания зерна сверху из сусеков в мешки.
 |
 |
 |
 |
К сожалению, насладиться достижениями своего хозяйства в Красной Горке князю Оболенскому так и не удалось. Сначала – Первая мировая война (Сергей Платонович служил в Кавалергардийском полку), потом – революция. В 1918 году на базе имения Оболенских было создано отделение совхоза «Отрадное», а князю Оболенскому предстояло проявить себя на другом континенте – в Америке.
Кот в сапогах
Эмигрировав в США, Сергей Платонович Оболенский не собирался уходить в тень. В 1924 году он развелся со своей морганатической супругой и сразу же женился на Эллис-Мюриэль Астор (1902 – 1956), дочери миллионера Джона Джейкоба Астора IV. Несмотря на то, что отношения с Эллис-Мюриэль исчерпали себя уже через восемь лет и в 1932 году они развелись, Сергей Оболенский крепко стоял на ногах благодаря работе в гостиничном бизнесе, принадлежавшем семье Астор.
Однако по-настоящему звездный час Оболенского наступил в 1943 году. Дело в том, что во время Второй мировой войны подполковник Управления стратегических служб США Сергей Оболенский успешно провел операцию под кодовым названием «Кот в сапогах». В сентябре 1943 года, вскоре после свержения Муссолини, Оболенский, высадившись на Сардинии с отрядом из трех человек вошел в контакт с генералом Бассо, командовавшим итальянскими силами на Сардинии, и, передав ему специальные сообщения от Эйзенхауэра, итальянского короля и маршала Бадольо, уговорил его перейти на сторону союзников.
Уже после войны Сергей Оболенский достиг вершин и в гражданской карьере: в 1958 году он стал вице-председателем совета Hilton Hotels Corporation. В 1971 году Оболенский женился в третий раз на Мэрилин Фрейзер Волл (1929 – 2007) и последние годы своей жизни провел в богатом пригороде Дейтройта – Гросс-Пойнт. Прославился Сергей Платонович и как коллекционер. К огромному разочарованию кладоискателей в Нижегородской области, после смерти Оболенского в 2008 году в дейтройтской галерее Du Mouchelle была выставлена на продажу принадлежавшая ему коллекция предметов искусства.
Благородные развалины
Фамильный замок Оболенских в поселке Красная Горка почти разрушен. Сначала его заняла контора совхоза, затем – дом культуры, потом – библиотека. В 90-е годы, когда замок сдали в аренду горе-предпринимателю, прошел слух, будто князь Оболенский собирается в Россию с целью вернуть свое имущество. Следствием такого предположения стал поджог. На сегодняшний день перекрытия в доме отсутствуют, утрачена крытая терраса западного фасада, после пожара полностью обрушена крыша, перестал функционировать фонтан. Оконные и дверные проемы не имеют заполнений, частично заложены кирпичом. На стенах дома видны глубокие трещины – признак неравномерных просадок фундаментов и частичной подвижки здания.
 |
 |
 |
 |
Однако и сейчас «усадьба Оболенских» впечатляет образом замка-крепости, благодаря своим завершениям в виде башен и необычной кирпичной кладке в духе средневековой мавританской архитектуры. Поражает также и расположение замка на бровке высокого левого берега реки Имзы с великолепными видами на пойму реки с ее впечатляющими далями и живописными панорамами. Такие виды не снились ни Астору и ни Хилтону!
 |
 |
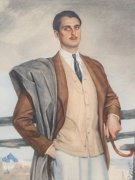 |
 |
P.S. Самый известный замок на территории Поволжья – замок Шереметевых в поселке Юрино (республика Марий Эл). Достоин внимания и уникальный объект на территории Владимирской области – замок Храповицкого.
* Отклик на публикацию – материал А.Старостина «Усадьба Оболенских: история с продолжением».
Галина Филимонова
В настоящей публикации использованы фотографии участников экспедиций проекта "Уходящая натура-2009" Галины Филимоновой, Веры Звездовой и Кинга Коши, а также репродукция портрета Сергея Платоновича Оболенского художника Савелия Сорина
Настоящая публикация размещена на сайте Галины Филимоновой в рамках проекта "Места памяти"
Материал также опубликован в газете "МК в Нижнем Новгороде" от 21 апреля 2010 года и в газете "Нижегородские новости" от 23 апреля 2010 годаhttp://www.gttp.ru/PC/pc_35.htm
|
Метки: оболенские |
Этюд об адмирале Дмитрии Сергеевиче Арсеньеве |
Этюд об адмирале Дмитрии Сергеевиче Арсеньеве
Этюд об адмирале Дмитрии Сергеевиче Арсеньеве
Д.С. Арсеньев (1832–1915) родился в селе Горячкино Можайского уезда Московской губернии в семье смотрителя Можайского уездного училища С.Н. Арсеньева (1801–1860) и писательницы Н.А. Камыниной (1805–1855), дочери крупного помещика Орловской губернии. С детства увлекался историей флота и книгами о путешествиях, поэтому поступил в Морской кадетский корпус, по окончании которого 15 августа 1848 г. в звании гардемарина ходил на фрегате «Постоянство» под командой капитан-лейтенанта А.Н. Софиано и на шхуне «Стрела», где в то время командовал Ф.Я. Брюммер. Получив морскую практику, 9 августа 1850 г. произведен в мичманы и зачислен в офицерский класс Морского корпуса (Николаевская морская академия). В 1852 г. провел морскую кампанию в плавании по Балтийскому и Северному морям на корвете «Князь Варшавский» под командой И.Н. Изыльметьева. 13 августа 1853 г. по экзамену произведен в лейтенанты и назначен в экипаж корвета «Наварин», на котором провел зимнюю кампанию 1853/54 гг.
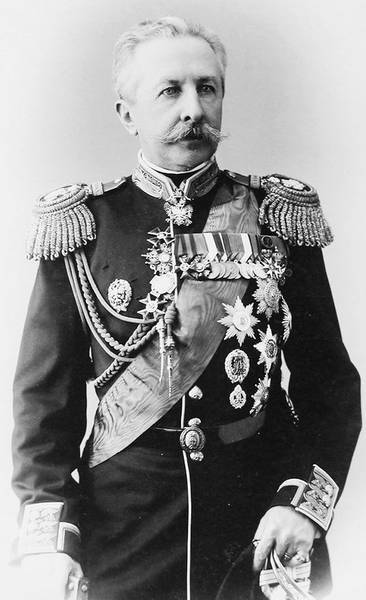
Дмитрий Сергеевич Арсеньев
Во время Крымской войны 1854–1855 гг. командовал дивизионом из четырех канонерских лодок в Рижской флотилии. В 1855 г. переведен в Гвардейский экипаж с назначением адъютантом управляющего Морским министерством барона Ф.П. Врангеля. Одновременно командовал пароходом «Фонтанка», а в следующем году – вахтенный начальник на винтовом корвете «Боярин», где командовал герой Севастопольской обороны капитан 1-го ранга М.А. Перелешин. С июня 1857 г. состоял вахтенным начальником на винтовом корвете «Вепрь», на котором совершил переход из Балтийского моря в Черное. 26 сентября 1858 г. награжден орденом Св. Станислава III степени.
В 1859 г. назначен в Аральскую флотилию к адмиралу А.И. Бутакову, где командовал 2-пушечной баржей и сначала сопровождал посольство Н.П. Игнатьева в Хивинское ханство, а затем поддерживал высадку отряда М.Г. Черняева, отправленного в помощь хану, осаждавшему восставший Кунград. За отличие в этом походе награжден орденом Св. Анны III степени.
По возвращении из Средней Азии в 1860 г. назначен адъютантом к генерал-адмиралу великому князю Константину Николаевичу.
17 октября 1860 г. вместе с капитан-лейтенантом А.Е. Кроуном командирован в Лондон для приемки построенной там винтовой лодки «Морж», на которой, будучи старшим помощником Кроуна, совершил переход из Лондона вокруг Африки до Николаевска-на-Амуре.
1 января 1862 г. за отличное совершение этого плавания произведен в капитан-лейтенанты, а 19 июня назначен флаг-капитаном при начальнике эскадры контр-адмирале А.А. Попове и совершил переходы в Японию, в русские владения на Аляске и в Сан-Франциско. Из последнего порта отправился курьером через Панамский перешеек в Нью-Йорк к великому князю Константину Николаевичу, откуда предстояло возвращение в Европу (вот и исполнилась детская мечта о кругосветных путешествиях!).
В конце 1862 г. Д.С. Арсеньев прибыл в Варшаву и 1 сентября награжден орденом Св. Станислава II степени. В феврале 1863 г. командирован в Пруссию для покупки парохода «Висла» и для заказа шести больших шлюпов, предназначенных для учреждения флотилии на реке Висле.
Во время польского восстания 1963 г. Арсеньев находился в Царстве Польском при великом князе Константине Николаевиче. С 1864 по 1885 г. он состоял сначала воспитателем, а затем попечителем великих князей Сергея и Павла Александровичей.
В 1865 г. 3 апреля награжден орденом Св. Анны II степени, а 19 апреля пожалован званием флигель-адъютанта. С 6 мая того же года состоял действительным членом Русского географического общества.
В 1866–1870 гг. последовали производства в капитаны 2-го и 1-го рангов и награждения орденами Св. Владимира IV и III степеней.
Во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. в звании контр-адмирала находился с великим князем Сергеем Александровичем в действующей армии, при Главной квартире императора Александра II и в Рущукском отряде. В 1877 и 1889 гг. награжден орденами Св. Станислава I степени с мечами и Св. Анны I степени.
27 июня 1882 г. Д.С. Арсеньев назначен начальником Николаевской морской академии и директором Морского училища, которое за время его управления было преобразовано в Морской корпус.
26 февраля 1887 г. Д.С. Арсеньев произведен в вице-адмиралы, а 14 мая 1896 г. назначен членом Адмиралтейств-совета и пожалован званием генерал-адъютанта.
В 1895 г. при Николаевской морской академии учредили курсы военно-морских наук, преобразованные в военно-морской отдел академии.
За время начальствования в академии Арсеньев удостоен орденов Св. Владимира II степени, Белого Орла, Св. Александра Невского. 9 августа 1900 г. по случаю 50-летнего пребывания в офицерских чинах удостоен звания полного адмирала.
1 апреля 1901 г. Арсеньев назначен членом Государственного совета, состоял в Департаменте промышленности и торговли и в Особом присутствии для составления Уголовного положения. После реформы Госсовета в 1906 г. остался в его составе, входил в группу правых[533]. С 1913 г. состоял почетным вице-председателем Императорского православного Палестинского общества.
Умер Д.С. Арсеньев в день своего 83-летия 14 сентября 1915 г. в Царском Селе и похоронен там на Казанском кладбище.
Оглавление статьи/книги
- Дом № 1
- Дом № 3
- Дом № 5
- Дом № 7
- Этюд о Алексее Михайловиче Ремизове
- Дом № 9
- Дом № 11
- Этюд о Иване Григорьевиче Щегловитове
- Этюд о протоиерее Владимире Спасском
- Дом № 13 / Кирочная ул., 45
- Дом № 15 / Кирочная ул., 52
- Дом № 17
- Этюд об адмирале Дмитрии Сергеевиче Арсеньеве
- Этюд о князе Багратионе
- Дом № 19
- Этюд о генерале Алексее Николаевиче Куропаткине
- Дом № 21
- Дом № 25
- Дом № 27
- Этюд о Павле Николаевиче Назимове
- Дом № 29
- Дом № 31–33
- Дом № 35 / Тверская ул., 1
- Этюд о Вячеславе Ивановиче Иванове
- Дом № 37 / Тверская ул., 2
- Дом № 43
- Дом № 45 / Таврический пер., 1–3
- Этюд о Василии Акимовиче Харламове
Реклама
Похожие страницы
- Этюд о Дмитрии Капитоновиче Лебедеве
- Этюд о Иване Григорьевиче Щегловитове
- Этюд об инженерных войсках Российской империи
- Этюд о Станиславе Константиновиче Куницком
- Этюд о литераторе Максиме Антоновиче Славинском
- Этюд о Вячеславе Ивановиче Иванове
- Этюд о российском конезаводстве
- Этюд о Павле Николаевиче Назимове
- Этюд о Александре Ивановиче Варнеке
- Этюд о Григории Соломоновиче Зайделе
- Этюд о князе Багратионе
- Этюд о Памфиле Тимофеевиче Населенкоhttps://myguidebook.ru/b/book/3078252337/122
|
Метки: санкт-петербург арсеньевы |










































































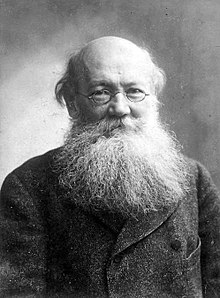











.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


