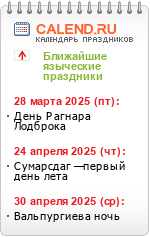-Метки
-Музыка
- Алькор. "Крокодилам весело"
- Слушали: 292 Комментарии: 7
- Кожун восходящего солнца (Марфа, спецово для тебя нашла!!!!)
- Слушали: 2003 Комментарии: 27
-Поиск по дневнику
-Подписка по e-mail
-Статистика
А, гхыр со спамерами, вот мое мыло xorxoy1@mail.ru... ежели кто позабыл.
Повесть "Рунолог" (Хюльда-1) Фэнтезятина, в проекте "Ролевик". Техномагия, духи, орки-эльфы всякие и прочие фикции подобной литературы присутствуют. На любителя.
Повесть "Мелочь пузатая" (Хюльда-2) Фэнтезятина, в том же проекте. Вторая книга о крошке Хю. Мозговынос продолжается, повесть в процессе.
"Магия для раздолбаев" на Самиздате, пишем вдвоем с Лексом Солохиным. Проект в глубокой заморозке :).
"Tiefe Brunnen muss man graben wenn man klares Wasser will" Т.Линдеманн, "Rosenrot"
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем – недооценка изобретательности клинических идиотов.
Башорг.
Рекомендую рубрику Для очумелых ручек - от садоводства и огородничества до шитья, плетения, ткачества и даже бисера. как скачивать - там написано.
Рекомендую рубрику Боевой хомяк (тот, кто бойко хомячит) - включает вышеперечисленные материалы плюс материалы для самообразования и домашнего обучения, а также полезного для мозгов досуга.
Мультиверсум внутри |
Итак, что общего между Мультиверсумом и человеком - его кро-ошечной частицей? Прежде всего, материя. Она, первоматерия, вечноматерия, которую еще называют как хаосом, так и пустотой - не пустота вовсе, и имеет одно неотъемлемое у нее свойство - движение. Все остальные свойства закладываются ограничениями - что у мира, что у "вещи", что у существа.
Наш мир - тот, который мы как-либо когда-либо можем воспринимать создан двумя независимыми параметрами - энергией и информацией. Причем, информация не зависит напрямую от упорядоченности, ни от неравновесности системы, наоборот, и упорядоченность, и неравновесность выражаются через два основных и независимых друг от друга параметров - энергии и информации. Для человека это - уровень зерна. Этот тонкий мир мы уже можем воспринимать. Уровень "понятий", "сальвийное пространство" лежит двумя (тремя?) уровнями ниже, плотнее, упорядоченнее. Но его уже мы воспринимаем во всей красе, даже иногда - обыденным сознанием. Но деление на "миры" происходит на каждом уровне, это как дерево ветвями вниз. Или корнями? Так и в человеке, один из миров, правда, ярко выражен, остальные - в зачаточном состоянии, "непроявлены". До электронов и атомов в этом дереве после "сальвийного пространства" - пять уровней. То есть он - седьмой или восьмой. Эти пять уровней наиболее изучены нами и "понимаемы", хотя - совсем не так, как хотелось бы. Миров вокруг нас (ниже "сальвийного пространства") - великое множество, и в любой мы частично вхожи, благодаря нашим "зачаточным" способностям. Но видимое нами там трудно интерпретировать в словах и формулировках нашего плотного мира, т.к. эти вещи у нас просто не существуют. Больше всего меня напрягают топологические "загогулины", меня от них просто тошнит. Все эти вывернутые наизнанку сферы и многомерные кристаллы. Но ведь что-то во мне их воспринимает?
Да, насчет информации. Все системы (начиная с того мира, где энергия и информация являются единственными ограничителями) могут делать с информацией только четыре вещи - принимать, расчленять (анализировать), "собирать" (синтезировать) и выводить. Все манипуляции осуществляются на носителе, т.к. информация - только параметр. Еще фишка - различие между "структурой" и "записью". "Запись", в самом общем определении - частичная и ограниченная модель "структуры", часто - не работающая, а лишь позволяющая собрать из более-менее подходящих деталей работающую "структуру". Вывод информации может быть как "записью", так и "структурой". Ввод - тоже. То есть, когда мы едим, к примеру, мы поглощаем определенные "структуры" типа глюкозы или аминокислот, а когда учимся - делаем "перезапись" на свой "носитель".
|
Метки: забавные наукообразные рассуждения |
Она и ее мир |
Но.
В один из таких моментов я ощутила чужое присутствие. Оно выражалось в касании мыслью и чувстве то возникающей, то гаснущей вибрации в "теле" (реального тела не чувствовалось, но было что-то, что чувствовало "трясучку"). Мысль была простая, типа "ого! тут кто-то есть... привет..."
Я тоже поприветствовала "гостя".
В ответ получила чувство радости от встречи. Все чувства-мысли были настолько мягкими, что я невольно назвала гостя - Она. А вообще у них разделения полов нет. И очень многое от нас отличается. Кое-что проще устроено, кое-что - сложнее. Нам их понять так же сложно, как им - нас. Но мы обе стараемся. С тех пор Она иногда меня навещает - в состоянии перехода к "темному сну", в отходняке от становящихся все более редкими употреблениями энтеогенов, в сильно расслабленном состоянии.
Их мир. Океан, очень неспокойный океан, возмущаемый частыми "днотрясениями" и извержениями вулканов (?). А так - эти "вулканы" выделяют в жидкую среду что-то, чем питаются "микроорганизмы". "Микроорганизмами" питаются разумные обитатели этого океана.
Разумные обитатели. Тела устроены вроде вольвокса, дифференциации "клеток" нет, все клетки могут как осуществлять "питание" из внешней среды или "пропущенного вовнутрь", так и хранить "память". Когда я показала Ей, что у нас есть системы клеток - органы, и каждый занят своим делом, то получила в ответ: "как сложно... а если часть клеток погибнет?" "Может настать и пипец" - ответила я. Сочувствие в ответ. Соседи наши бессмертны - теоретически, а практически часто гибнут - вулканы извергаются... А жизнь существует только вокруг этих "котлов", так что никуда от этой опасности не деться.
Их органы чувств. Анализируют химсостав и температуру, чувствуют разнообразные вибрации. Зрения нет.
Их общение. Вибрациями, прикосновениями, становление разумности связывают с третьим способом - телепатическим. Сейчас у них этому учатся "в детстве".
Размножение. Половое и бесполое. Бесполое: когда "вольвокс" разрастается так, что внутренние "клетки" недополучают питания, тело разделяется на два, правда, и память тоже делится, и "разделенным" приходится некоторое время жить рядом, чтобы восстановить простые жизненные навыки. Я прокомментила: "старые девы", на что она рассмеялась - "старые дети". Это и вправду больше подходит. Но большинство находит пару - по соответствию вибраций, тонких или телесных, а лучше - и тех, и других. Они касаются друг друга, обмениваясь "клетками", а потом каждый производит на свет много малышей, с клетками, совмещающими особенности родителей. Воспитывают-обучают их сами и с небольшой помощью других. Это - очень ответственно, моя контактерша делала это два раза, и "очень устала". Между "родителями" - очень доверительные и нежные отношения.
Их общественное устройство. Нечто вроде общин, разделение труда - исследователи, трудяги, теоретики, помнящие. Исследователи мониторят вулканы и течения. Трудяги способствуют увеличению питания и уменьшению опасности. Умеют регулировать течения - в ограниченных пределах. Теоретики ищут закономерности и исследуют то, что непосредственно не касается питания и безопасности. Помнящие систематизируют знания и их хранят. Конфликты есть, до убивства не доходят. Самое тяжелое - когда общине приходится разделяться. Те же траблы, что и при делении особи.
Наука. Есть и она. Что-то вроде волновой оптики, топология, нечто вроде математики, но от нашей сильно отличается - допускает "сложение" разноименных объектов, если они образуют систему, и не допускает сложения одноименованных, если не получается системы. Не "величины", а "качества"... И многое, что почувствовать можно, а в словах сказать нельзя.
Я, со своей стороны, устроила Ей "обзорную экскурсию". Ее мнение: "Какой сложный и жестокий мир. Я думала, такое может быть только в (аналог нашего ада)" И больше всего ее пугает наша неотвратимость физической смерти. Они знают, что их "Я" возвращается после смерти снова в жизнь, но потеря памяти пугает. Аналогов нашего сна, перепросмотра и "посмертного перепросмотра" нет.
Сейчас они начали исследования "смежных реальностей". Одна из них - наша. Моя контактерша рада, что встретила меня. Кое-какие мои методы Она взяла на вооружение. Несколько раз повторила: "Опыт. Опыт - не память..." Спрашивала, чем они могут нам отплатить.
|
Метки: исс контактеры |
Пришло в дурную голову |

|
|
Старый кавер на "Путешествуй "(«Reise») Раммов |
|
Метки: графомань |
Язык до Чернобыля доведет |
|
|
Ох, погуляла! |
Во время прогулки постоянно юзала "метод триангуляции", выгребая воспоминания бывшие и "небывшие". Слишком много "небывших"! Как бы выяснить, что и откуда?
Почти не устала (только вот бедренные суставы малость ноют). Посмотрим, что будет со мной завтра.
|
|
Урок |
|
Метки: путь судьба выбор |
Герой западный и восточный. Некоторые наблюдения |
Север и Запад. Изначально - огромные территории (ну, не в сравнении с нашими, конечно), покрытые более чем на 60% лесами. Разнообразный рельеф, много ресурсов, но - опасно. Очень. С таким оружием, как бронзовый нож да копье - тем более (у нас вон, в тайге до сих пор даже и с ружжом, бывает, охотнички пропадают). Народу немного. Главное - добыть как можно больше "ресурсов" для выживания наименьшей кровью. Стратегия - бережем женщин, бережем нажитое, на добычу отправляем не слишком большие группы мужчин. Вернутся с добычей - молодцы, "герои", добро пожаловать к "семейному" очагу. Не вернулись, погибли - жаль их, но - "не герои", увы. Вернулись без добычи - или трусы, или неудачники. Зато могут попытать счастье еще раз, и, может, на этот раз, наконец, накормить своих женщин. Герой - тот, кто "сделал дело" (добыл!) любым способом (подстрелил, нашел, отнял), это - главное. Распределение - герою лучший кусок (после "хранителя памяти племени", конечно). Культ добытчика и культ удачи. Практически в неизменном виде эти ценности сохранились до сих пор.
Восток, особенно - "островной". Мало территории, ресурсы ограничены, население рано или поздно заполняет всю небольшую территорию. Тут уже главным становится не добыть ресурсы, а отрегулировать бытие человеческого сообщества таким образом, чтобы оно было наиболее выживабельно. Главное - порядок. Люди - расходный и самый дешевый из расходных материал. Если по какой-то причине (даже не зависящей от тебя) перестаешь быть идеальным винтиком в механизме - убей себя сам. Чтоб поменьше расходов... Нахер "дело", оно - не самое главное, главное - порядок, каким бы он ни был.
Корпоративная культура совмещает оба этих подхода, с перекосом в ту или другую сторону. Инициатива, чаще всего, наказуема. Конкуренция - по западному ("добыча" в виде новых клиентов и прибыли, удачливость, как один из главных принципов отсева), порядок - по восточному (если ты приносишь прибыль, "добычу" - это не гарантия, что от тебя потерпят какое-то самовольное нововведение). В результате - неврозы и даже психозы у сотрудников, особенно низовых - через одного. Есть о чем задуматься.
|
Метки: психология |
Запугай свой страх. Часть вторая |
И это здорово! Нет ничего разрушительней для души, чем вечная "мистериалка". А боль? - спросите вы. А коли бы не было ее, как бы узнали мы о своей ошибке? Значит, ради разнообразия и непредсказуемости сюжета мы выбрали, родившись именно здесь, и ее. Вы выбрали, никто вас сюда не пихал. Еще и локтями работали, расталкивая других желающих! Ради чего? Если вы чувствуете себя здесь не так, чтобы очень, если "жизнь" постоянно подбрасывает вам мозговыворачивальные и зубодробительные задачки, то, скорее всего, вы еще до жизни решили получить тут необходимый опыт. Ну, и получайте его. Причем, и победа, и поражение несут его примерно в равной мере. Как в научном эксперименте: отрицательный результат - тоже результат. Не бойтесь его получить, даже если это изрядная оплеуха.
Правда, есть такая фишка, которая помогает избегать неприятностей в реале. Переживая "оплеуху" в своем воображении, вы уже получаете необходимый вам опыт, и в реале он тогда, скорее всего, не проявится. У меня было немало рискованных ситуаций, в которых мои действия могли принести мне очень большие проблемы. Я делала это - потому что так говорила мне моя натура, но потом страшно боялась. И я прокручивала в голове возможные последствия, переживая в воображении до тех пор, пока не приходило понимание: я готова платить и такую цену. И худшее обходило в реале меня стороной. А "квесты" становились все сложнее.
Но есть еще один род ситуаций, когда переживать поздно, раньше надо было думать. Сейчас пора действовать, даже если знаешь, что от этого тебе будет худо. Так бывает перед дракой, перед прыжком, на пороге нового и опасного дела. И страх сковывает тебя. Что делать? Забыть. Забыть, что собираешься делать, что с тобой может случиться, забыть, кто ты и как тебя звать, забыть, где твои руки и ноги, забыть, может быть, даже речь... Все, что потребуется - тело вспомнит само, и гораздо быстрее, чем разум. А тебе надо просто сделать шаг. Один шаг. Вперед. Если ты ничего не помнишь, это так просто... Ибо страх, если вспомнить первую фразу нашего "исследования" - предвосхищение, воспоминание-воображение страдания.
|
Метки: психология магия страх боль страдание |
Процитировано 2 раз
Спасибо вам! Вы знаете, как сделать человека счастливым! |
Неизвестно Супер дневник! Столько конкретного позитива. Просто, благородно, понятно, душевно. Я покорена! Читаю твой дневник как пью в пустыне воду - не напьюсь никак! Спасибо, что ты есть! [скрыть] 0 дн.
Неизвестно [скрыть] 0 дн.
Неизвестно Вы - супер! [скрыть] 1 дн.
tembel ты интересный и хороший человек. от tembel [скрыть] 6 дн.
Неизвестно [скрыть] 7 дн.
Неизвестно там-тадам))) [скрыть] 18 дн.
Неизвестно да просто так... [скрыть] 30 дн.
tanuki_basty [скрыть] 30 дн.
Неизвестно [скрыть] 31 дн.
Неизвестно такие как вы редки на лиру да и в жизни..мое глубокое уважение [скрыть] 40 дн.
Неизвестно [скрыть] 51 дн.
|
Метки: спасибо |
Продолжение сказки о счастливом человеке |
Жил-был великий и могущественный владыка, покоривший полмира. Скажем, Чингисхан. И вот, когда покорил он полмира, и вернулся домой, занемог странной болезнью - не пил, не ел, и был мрачен без причины. Других симптомов не было, а те, что обнаружились, не подходили ни для одной из известных болезней. Лекаря только руками разводили, да и то делали в одиночестве, чтоб величайший из правителей не прознал и не казнил их лютою казнью. И отыскали они, наконец, мудрого человека, старца столетнего, почерневшего от солнца, что головешка, и с бородою белой, как снег горных вершин. Старец выслушал их и говорит: есть такая болезнь у западных народов, что зовется меланхолией, и вылечить ее можно, только если надеть рубашку счастливого человека, и носить ее, не снимая, от рассвета и до заката, и от заката и до рассвета. И полетели гонцы во все края ханства его великого - искать счастливого человека. Но не могли найти - и богатые, и бедные, и те, что во власти, и те, что под властью - все были чем-то недовольны в своей жизни. Вот, наконец, прискакали гонцы в дикую степь, всю покрытую колючками и солончаками. Там, в тени жалкой юрты, сидел однорукий и одноглазый человек и качал люльку с ребенком, ибо жена его умерла, и некому больше было позаботиться о ребенке, а поодаль паслась одна верблюдица с верблюжонком. Не надеясь на удачу, гонцы приступили к нему с вопросом: ты - счастлив? Да, - отвечал человек. - У меня есть все, что мне нужно. Удивились гонцы, но и обрадовались - будет, с чем возвратиться к великому хану. И говорят они однорукому и одноглазому человеку: Дай нам свою рубашку, мы тебе заплатим золотом. Вздохнул тогда человек, и ответил: Не могу я отдать вам свою рубашку, хоть и желаю всем сердцем вам помочь - ее у меня нет.
В тот год Чингисхан и умер. И восшел на опустевший трон Угедей.
Но это еще не все. Прослышали о том ушлые люди, и задумались: вот нет ничего у человека, а он счастлив. Наверно, оттого, что ничего у него нет, он и счастлив.
И стали они раздавать свое имущество до последней рубашки, и уходить в дикую степь, а самые последовательные еще и отрубали себе руку и выкалывали глаз. И скитались там, нищие и бесполезные, пока смерть не забирала их. Счастливы они были или нет - неизвестно, но всем они говорили, что счастливы, чтоб не прослыть дураками. И новые дурни пополняли убыль в их рядах. И начало ханство чахнуть.
Донесли о том Угедею, и послал Угедей малое войско, и согнали они всех "счастливцев" в одну кучу, и перерезали, как паршивых овец. Ибо нефиг.
Не знали бедняги, что человек тот был счастлив не тем, чего у него не было, а тем, что было.
|
Метки: сказка |
Процитировано 1 раз
Ну, прямо мой девиз... |

|
Метки: приключения |
Процитировано 2 раз
Запугай свой страх. Часть первая |
Страх, в целом - полезная для выживания вида эмоция, она заставляет нас избегать страдания и, следовательно, разрушения, сохраняет нас в обычном течении жизни, в стрессовой обстановке легко превращается в свою "противоположность" - ярость, но имеет и кучу побочных следствий, зачастую перевешивающих пользу. Страх перед новым ограничивает наши познания, страх перед отвержением мешает проявлению, даже возникновению чувств, и, возможно, такому опыту жизни, который дал бы нам гораздо больше, чем сто лет спокойной жизни в привычном кругу. Страх в критической ситуации часто дает неверные реакции, так же, как и ярость, неверные уже оттого, что они ожидаются противником и он к ним готов. Страх, испытываемый долгое время, разрушает тело и душу много хуже болезни.
То есть - полезный-то он только тогда, когда находится под контролем и управлением, а не контролирует и управляет нами. Когда мы можем услышать его сигнал, и тут же - отключить и проанализировать причину (если достаточно времени), или - мгновенно трансформировать в нечто иное, более результативное в данной ситуации (если времени на все про все с гулькин нос).
Начнем, пожалуй, с самого главного страха, пупа земли страхов - страха смерти. Знание о том, что человек - очень стойкая к разрушению структура, очень помогает в ограничении власти и силы этого страха.
При всем наплевательском отношении к телу большинство людей живет не намного меньше тех единиц, что пекутся о своем здоровье. Те, кто гоняет на байках, ненамного опережают в смертности тех, кто жрет колеса и колбасится в клубах, или пьет без меры коньяк/паленую водку и играет на денежку в казино/притонах. А на автодорогах России ежегодно разбивается насмерть больше человек, чем погибло в афганской войне. То есть, не влезая в экстремальные ситуации, ты, возможно, и проживешь дольше некоторых, которые лезли, но - далеко не обязательно, особенно учитывая, что затяжной дистресс экстремалам и драчунам не грозит, а убивает он (инфарктом и инсультом), в основном, боязливых и добропорядочных граждан.
Смерть физтела, конечно, наступит рано или поздно, но погибнет ли при этом сознание? Опыт околосмертельных состояний ставит это под сомнение. О себе могу сказать, что первый четко зафиксированный выход из тела произошел у меня после прекардиального удара. Наблюдения были ясными, яркими (в отличие от специально вызываемых измененных состояний сознания) и длительные попытки усомниться в них ни к чему не привели. Произошло это при заносе - я вылетела с дороги на обочину, где какой-то сукин сын бросил битые ж/б плиты. Летела кувырком через руль, хорошенько приложившись об него грудью. На свое счастье, ни одна из торчащих арматурин меня не нашла, но удар был такой, что боль буквально вынесла меня наружу. Внизу я увидела себя, лежащую, а озираясь в поисках помощи - старикана с бидоном, еще не вышедшего из-за поворота. Тут я испугалась самой этой ситуации (наконец-то поняла, что она значит) и очнулась уже глядя в небо и истошно крича. Старикан вынырнул из-за поворота, наверно, минуты через две. Увидеть из того положения я его не могла. Когда я ехала по дороге, то его точно не видела, иначе пришлось бы притормозить, то есть он вылез из какой-то ближайшей к повороту калитки, когда я уже кувыркнулась.
Кто-то утверждает, что душу после смерти, дескать, все равно слопает кто-нить "балшой и рогатый (пернатый)", но это тоже сомнительно. Откуда такие различия в способностях уже у трех-четырехмесячных младенцев, откуда такая осмысленная реакция на поведение взрослых, откуда умения, никак не могущие сформироваться в отсутствие долгой жизни в человеческом коллективе? Это никак не может быть ни безусловными рефлексами, ни "слизанным" откуда-то знанием: знание и умение - слишком разные вещи.
Мы, в общем случае, не можем вспомнить ничего, что предшествовало нашему рождению, но умеем многое, чему не учились. К примеру, что я, что моя дочь взяли в руки иголку примерно в одном и том же возрасте - около года от роду. И если свои "успехи" я не помню, то ее лежат в бабушкиной коллекции - парочка пуговиц, пришитых через край к лоскуту (бабуля на нем даже подписала, когда внучка ее так удивила, получается - в год и три с небольшим месяца). Не говоря о том, что способности манипулировать людьми у моей засранки обнаружились раньше, чем она сказала первое слово. Наблюдения за другими детьми дали примерно похожий результат - будто видишь людей, потерявших память и речь, многие, чисто физические умения и навыки (всвязи с тем, что тело-то иное, не развитое и не привычное к этому), но сохранивших многие способности, связанные с пониманием природы вещей и людей. Примеры приведены в предыдущих постах.
То, что мы не можем вспомнить что-либо сейчас, не говорит о том, что этой памяти вовсе нет, тем более, что частенько что-то непонятное проскальзывает при взгляде на вроде бы рядовые вещи - к примеру, меня всегда "зацепляли" деревья, склоненные в одну сторону, темные коридоры с окном в торце, веревочные качели, разрушенная кирпичная стена в ошметках штукатурки, запах пыли, намокшей под дождем... Все это никак не связано с какими-то значимыми событиями или переживаниями этой жизни, но дразнит какими-то непонятными намеками, будто знает о тебе больше, чем ты сам. Вывести эту память - все, что сохранилось - из темноты в дневное сознание было бы очень полезно, хотя, наверняка, далеко не безболезненно. "Воспоминания" же, приходящие во сне или в ИСС, порождают больше сомнений, чем уверенности - слишком уж гладко и логично они выглядят, реальность такой не бывает.
Итак, скорее всего, нечто относительно бессмертное кочует из жизни в жизнь, обрастая склонностями и навыками, и здесь, в нашем физическом мире, оно называется - "человек". Так что для безотчетного ужаса перед неизбежным "концом всего" нет особых причин. Да, мы, как правило, теряем память, но не теряем даже характера и пристрастий, так что страх физической смерти превращается, скорее, в страх ощутимой потери, но не потери "всего себя".
Можно было бы сказать - да, "плавали, знаем", привлекая сюда опыт, вынесенный из употребления психоделиков, но не буду. Во-первых, проверить-то далеко не каждый сможет, у каждого свои переживания, и, во-вторых, нельзя тут исключить влияния "фантазирующего сознания".
Но уже по наблюдениям реала я нашла достаточно зацепок, чтобы склониться к тому, что физическая смерть - не полный пипец. Это - первый способ обуздания страха: наблюдение, рассуждение и ограничение. 60-80% страхов обыденной жизни идеально поддаются такой обработке. Найдя зацепки, оценив предполагаемый "вред" в худшем варианте, рассмотреть возможности его минимизации, понять, откуда страх берет начало и где его власть кончается, и ваш "страшный зверь" - в надежной клетке.
Это средство, конечно, не панацея, но оно помогает выявить все те моменты, которые не поддаются такой обработке. Это страхи, что некогда были загнаны вовнутрь, переработались, "ферментировались" в подсознании, и теперь отравляют жизнь своими миазмами, не поднимаясь, практически, наверх. Страх замкнутых помещений, подземелья, страх толпы, страх перед начальством, перед отчетами-экзаменами-аудитом, страх ответственности, страх быть отвергнутым... Начался он с травмирующей ситуации, которая позднее не была пережита в полной мере, а социальные нормы требовали, чтобы этого страха не было - вот вы его и запихнули в дальний ящик, вот он там и завонял. Что с ним делать? Да только достать оттуда, выкинуть, да и вымыть несчастный "дальний ящик". Как? "Руками, Энди, руками".
То есть? А вот берете страх, и боитесь его. Активно так боитесь, пересматривая раз, другой, третий, пятый-десятый вашу травмирующую ситуацию, со всеми предполагаемыми катастрофами и болями, и каждый раз прочувствуя боль и боясь ее настолько, насколько возможно. До тех пор, пока не станет "насрать". Я в семь лет сломала палец - ну, вроде ерундовина, а больно было намного сильнее, чем когда руку ломала. Терпеть не могла, по дороге к травмпункту орала, в травмпункте выла собачонкой, и еще всю ночь слезы и слюни пускала (грызла одеяло, чтоб родителям спать не мешать). А травма эта случилась, когда мы с одним мальцом поднимали камень, и он его отпустил. Слабак, ну что еще сказать можно... Но я стала панически бояться больших камней, казалось, каждый норовит перевернуться и прижать меня. И палец всякий раз ныть принимался. Все это начало меня доставать со страшной силой. Тогда я, назло себе, начала вспоминать это в самых ярких подробностях - и падение камня, и боль. Со злости вызывала ощущения намного более сильные, чем были на самом деле. И так - каждый вечер перед сном. Хватило где-то недели, чтобы этот вопрос... просто забылся напрочь, и вспомнился только тогда, когда мне покупали первое в моей жизни колечко, и его пришлось примерять на средний палец вместо слишком толстого безымянного. Произошло это через десять лет, я уже заканчивала школу. А до этого был еще интересный случай. С восьмого класса я стала прогульщицей. Не просто прогульщицей, а прогульщицей истории. Этот предмет мне дико нравился до тех пор, пока его преподавал сперва один выпускник пединститута, потом - другой. Обоих "ушли" завучиха с директрисой, первая - истеричка с тяжелыми переверсиями (подозреваю некрофилию и садомазохизм), вторая - "конь с яйцами", на дых не переносившая мужиков в своем коллективе (исключение было сделано только для двух старичков - трудовика и нвп-шника). Так вот, эта истеричка была еще и историчкой, а все уроки истории, безразлично, о каком временном периоде шла речь, начинались с "рассказов о Ленине". Потом шел экскурс в марксизьм-ленинизьм махрового рОзлива, и оставшуюся часть урока мы писали "проверочную по датам". Меня так злила эта баба, так тошно было на ее уроках, что я перестала на них ходить. Сперва изобретала всякие отмазы типа хезнувшего не вовремя здоровья и открывшегося посреди урока поноса, но хватило их ненадолго. И тогда прогулы перешли в часть откровенных нарушений. Я брала какую-нибудь интересную книгу и сматывалась в Комитетский лес, если было относительно тепло и сухо, но такая лафа скоро закончилась. Ноябрь и декабрь - не лучшее время для сидения на пенечке. Пришлось бродить бесцельно по улицам, выбирая самые безлюдные закоулки, или ховаться на каком-нибудь незакрытом чердаке в компании голубей. Изготовление липовых справок (тогда еще единого бланка не было) стало вторым моим нарушением. Стоит ли говорить, что я боялась раскрытия? До посинения рожи и липкого пота по спине, до тошноты и чуть ли не обморока. Мерзла, оттаптывала ноги, ужасалась, представляя, что меня увидел кто-то знакомый и уже настучал по телефону отцу... В декабре наступил кризис - я действительно сильно заболела, бронхит, врачи пугали астмой и даже эмфиземой, но все, как ни странно, обошлось, и я очухалась в две с небольшим недели. Наверное потому, что болтаясь на морозе уже с температурой, я как-то внутренне осознала: а фиг с ней, с истеричкой, пусть мелет свою чушь, просто слушать не буду; ну, что она может - двойками завалить? выгнать из школы? И это - страшно?! Ну, отец по морде пару раз врежет, ну, придурком и ублюдком обзовет - что, со мной такого прежде не случалось? А вот мерзнуть до зубовного скрежета и заходиться в кашле - гораздо хуже, и ведь я это выдерживаю. А ради чего? Да пойду домой, выпью чаю с лимоном и завалюсь под родное, колючее-шерстяное, одеяло. И пусть что хотят со мной, то и делают. С тех пор всякий страх перед вышестоящими инстанциями у меня исчез.
Продолжение следует.
|
Метки: психология магия смерть боль страх |
Процитировано 1 раз
Приснится же такое |
Так вот, в ОСе, вместо того, чтобы в очередной раз орать имена и ники друзей, я ширнулась кетамином
Все. Я понеслась ракетой из ракетницы... я и была ракетой... я рассыпалась искрами, пока от меня не осталась одна большая, одинокая, неделимая, и, почему-то зеленая "искра". Она медленно падала, а внизу все было очень туманно. Тут осознание потерялось, начался обычный сон. В этом сне я оказалась на каком-то грязном мясокомбинате, где вместо коровьих и свиных туш висели человеческие трупы, и уже отбивалась от мерзопакостных мясников куском отопительной трубы (где-то полутора-двухдюймовая, и длиной метра два). За моей спиной кто-то шел, спина к спине, и отстреливался, аж уши закладывало, потом я почувствовала, что это тот самый "сержант", который до этого уже пару раз снился и тыкал мне в нос моей тупостью и безответственностью. Как почувствовала - хз, может, и вдумала себе это ощущение. Но моя "совесть в берцах" меня хорошо защищала, мы там всех положили. Веселый боевичок. А потом я проснулась.
Все бы хорошо, только вот на предплечье синяк появился. Может, это я во сне об кровать треснулась?
|
Метки: сновидение психодел без психоделиков |
Помахивая дохлой змеей |
|
Метки: психология магия локианство |
Детективная история |
Родители девушки грозятся меня посадить за... "похищение человека"... киднеппинг, то есть... ну, а какое похищение, если девушка в инст ходит, правда, туда и обратно - под надежной охраной парочки наших друзей. От родительского мордобоя и насилия. Сегодня эти хмыри, родаки ее, то есть, ко мне домой заявятся. Говорят, с милицией, спецназом и прочими борцами с террористами. Врут, аднака.
Девушка эта и моя дочь в другом месте "отсидятся", у надежных друзей, а парниша утверждает, что у его папани связи в ментуре есть, чтобы разрулить ситуацию. Так это или нет, узнаем позже. Пока прочла несколько хороших заклинаний на пороге, готовлюсь мысленно и энергетически к "веселухе". В случае чего позвоню парнише - авось, чем поможет.
|
Метки: приключения |
Вчера лечила руками |
Ну, в общем, когда я пришла, то поняла, что что-то надо делать, а свою вторую работу я этой даме не афиширую - она "стойкая материалистка" и скептик. Малыш лежал и мультики смотрел, а я ему живот и желудок "прогревала", "освещала" ярко-белым светом (визуализация), легонько массируя ладонью по часовой стрелке. Понос, вроде, прекратился, рвота тоже. Но от моих действий или само прошло - хз.
Вчера домой пришла "на бровях", без вина пьяна. А что было дома - в следующем посте.
|
Метки: магия энергуйство |
Умер Бобби Фишер |
|
Метки: бобби фишер |