-Рубрики
- РИТМОЛОГИЯ (162)
- ЕВДОКИЯ МАРЧЕНКО (140)
- ЭКОЛОГИЯ (55)
-Поиск по дневнику
-Подписка по e-mail
-Постоянные читатели
-Статистика
Ритмолог и ритмологичность |
Если ритмология является наукой человека о логике ритмов, организующих жизнь, то ритмологом является тот, кто умеет читать и понимать эту логику разумом. Быть разумным значит иметь время. Человеческий мозг в отличие от тела живет во времени, он размещен в Струйной вселенной. Уровень ритмологичности отражает подъем по различным видам разума. Подъем означает, что каждый вид разума оказывается более сложным со стороны предыдущего и наоборот. Сложность предполагает всё большую мерность и всё большее количество взаимосвязей, схватываемых в данном виде разума. Таким образом, ритмологичность как качество мышления является не просто поверхностной характеристикой, отражающей степень знакомства с ритмологией, но есть сущностный параметр, отражающий уровень развития самого мозга.
В данной статье мы затронем некоторые особенности этого качества мышления, проявляющиеся в специфике ритмологического анализа в сравнении с обычным анализом, а также напомним основные способы ритмокоррекции, упомянутые в книге «Ничего случайного не бывает. Ритмология для каждого: теоретическая часть», составленной по материалам лекций и встреч Евдокии Дмитриевны Лучезарновой.
Разумность анализа в науке и ритмометоде
В психологии, занимающейся развитием мышления, давно изучено, что разумный анализ ситуации начинается с преодолением распространенной логической ошибки "Posthoc, ergopropterhoc" (после этого, значит вследствие этого). Люди в обыденной жизни легко допускает такие ошибки, поскольку с трудом отличают связь простого следования от причинно-следственных связей.
Пралогичность – это подмена сущностного анализа механизма развития событий эмпирическим наблюдением прямого следования фактов. Например, детская психология легко принимает цвет тонущих в воде предметов за причину их погружения. В известной экспериментальной методике консультант умышленно окрашивает тяжелые предметы в желтый цвет, после чего ребенок делает обобщение: желтое тонет.
В простом следовании фактов друг за другом существенные и случайные связи хаотично перемешаны между собой. Их сложно отделить друг от друга. Зрелый разум способен устанавливать глубинные, отсроченные и порой неочевидные связи между причинами и следствиями. Он открывает внутренние механизмы процессов. Эта способность является общей как для науки, так и для ритмометода.
Впрочем, научный метод имеет свои ограничения. Например, в рамках линейной причинности невозможно объяснить логику спонтанных процессов. Наука нового времени утвердила понятие полной причины, понимая ее как сочетание всего лишь двух причин: материальной и движущей. Такое описание справедливо для плотного плана, где мир объясняется слепым действием предмета на предмет. При этом из анализа исключаются целевые и формообразующие связи между событиями.
Если мы говорим о жизни и психике, как высших структурных уровнях материи, то линейный детерминизм недостаточен. Требуется подключение целевых и смысловых связей между событиями. В этом вопросе проходит принципиальная граница, отделяющая естественно научные причинно-следственные законы от законов ритмологии, позволяющей выстраивать целевые и смысловые связи между событиями, знаками и знакорядами.
Ритмология и ритмокоррекция
Ритмолог умеет в потоке обыденных ситуаций различать проблемно-ущербные, мистериальные, событийные и ритмологические нити. Это означает разумное разворачивание Ленты жизни, где все события вне зависимости от пространственных и временных расстояний выстраиваются в закономерные ряды. Их можно не только анализировать, но и своевременно корректировать с помощью соответствующих способов и методик ритмокоррекции.
Ритмокоррекция возможна исключительно за счет введения в причинное поле соответствующих субстанций и опережения и замещения времени ритмовременем. Отсюда следует, что собственно ритмологичность нарабатывается практическим ритмоопытом: подбором и чтением ритмов, чтением ситуаций через ритмологические книги, фильтрацией, переизлучением и выполнением ритмик. С этой точки зрения, ритмологичность есть способность удерживаться в событийном поле, не допуская проблем и ущербов.
Таким образом, мы видим, что ритмологический анализ имеет два эффекта. С одной стороны ритмология позволяет исследовать целевые и смысловые связи между событиями для целостного восприятия жизни. С другой стороны участие в программах Института ритмологии непосредственно учит жить в лучевой вселенной, своевременно осуществляя всю необходимую ритмокоррекцию.
© 2002-2021 Частное научное учреждение
«Институт Ритмологии Лучезарновой Евдокии» (ИрЛЕм). Все права защищены.

Метки: Ритмология ритмолог ритмология отзывы ИРЛЕМ Институт ритмологии Лучезарнова Ритмология 2021 ритмологичность ритмокоррекция |
Понравилось: 1 пользователю
Миронов Д.А. Развитие идей русского космизма: от «Овладения временем» В.Н. Муравьева к «Ритмологии» Е.Д. Лучезарновой (Марченко) |

 В статье кандидата философских наук Миронова Д.А. "Развитие идей русского космизма: от «Овладения временем» В.Н. Муравьева к «Ритмологии» Е.Д. Лучезарновой (Марченко)", опубликованной в философском журнале "Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке" (Том 8. № 2А, 2019) сопоставляются мысли двух авторов, которые относятся к идейно-мировоззренческому течению русского космизма: В.Н. Муравьева и Е.Д. Лучезарновой (Марченко).
В статье кандидата философских наук Миронова Д.А. "Развитие идей русского космизма: от «Овладения временем» В.Н. Муравьева к «Ритмологии» Е.Д. Лучезарновой (Марченко)", опубликованной в философском журнале "Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке" (Том 8. № 2А, 2019) сопоставляются мысли двух авторов, которые относятся к идейно-мировоззренческому течению русского космизма: В.Н. Муравьева и Е.Д. Лучезарновой (Марченко).
Аннотация: В статье сопоставляются мысли двух авторов, которые относятся к идейно-мировоззренческому течению русского космизма: В.Н. Муравьева и Е.Д. Лучезарновой (Марченко). Труд В.Н. Муравьева «Овладение временем» развивает мысли о научной организации труда, акцентируя внимание на человеке как субъективном времяобразующем факторе будущих преобразований человечества. Е.Д. Лучезарнова (Марченко) является создателем нового направления исследования времени — ритмологии и метода 7Р0. Прослеживаемое единство идейных представлений двух исследователей в подходах и методах изучения проблемы времени предлагается закрепить как фактор-системное течение в рамках проекта русского космизма. Показано, что проблема времени в русском космизме имеет несколько характерных решений, каждое из которых имеет своё своеобразие и специфику, окрашенное персональным творчеством его создателей, вместе с тем обозначены основные темы и вариации базовых идей русского космизма, которые в историческом аспекте получили статус традиционных.
Ключевые слова: время, русский космизм, механицизм, органицизм, причинность, эвритмия, ритмология, ритм, ритмометод 7Р0.
Русский космизм как уникальное явление русской мысли, так или иначе, пронизывает все сферы русской культуры. «Хотя попытки распространения теории эволюции на весь космос были предприняты в конце 19 — начале 20 в. Д. Фиском (США), но как самостоятельное течение космизм утвердился в России» [1, 314]. Зримые черты русского космизма можно обнаружить в поэзии (Ф. Тютчев, В. Хлебников, Н. Заболоцкий), литературе (В.Ф. Одоевский, А.В. Сухово-Кобылин, А. Платонов, И. Ефремов), изобразительном искусстве (М. Нестеров, М. Чюрленис, Н. Рерих), музыке (А. Скрябин). На сегодняшний день можно выделить несколько направлений внутри течения русского космизма: естественнонаучное, религиозное, философское. В естественнонаучной форме идеи русского космизма развивались В.И. Вернадским, К.Э. Циолковским. Религиозное направление представлено, прежде всего, Н.Ф. Фёдоровым: «можно говорить о связи русского космизма с философией всеединства В.С. Соловьева, а также с софиологическими концепциями П.А. Флоренского и С.Н. Булгакова» [1, 315].
Не меньшее значение имеет философское идейное наследие, которое передаётся из поколения в поколение, поднимая значимые мировоззренческие проблемы и пути их решения. Сегодня тема русского космизма — идейно-мировоззренческого единства идей и проектов ряда русских мыслителей — достаточно хорошо изучена специалистами. Однако она может заинтересовать не только узких специалистов по истории русской философии, но и гораздо более широкий круг исследователей ввиду широты рассматриваемой философской проблематики. К философской особенности русского космизма следует отнести гносеологическую проблему соотношения субъекта и объекта и поиск опосредствующего звена между ними. Можно выделить несколько тенденций в исследовательских стратегиях русских космистов: органическая, проективистская, фактор-системная.
Органическая тенденция представлена в трудах В.И. Вернадского, сформулировавшего свои мысли в теории биосферы и ноосферы, где показаны пределы роста индустриального производства и ограниченность природных ресурсов на Земле. Традиционный для науки механицизм получил новое осмысление в рамках органицизма в 19 веке и к 20 веку образовал единое органическое мировоззрение, которое широко нашло своё воплощение в идеологии экологических проектов в нашей стране (Н.Н. Моисеев, В.П. Казначеев). Проективистская ветвь русского космизма представлена Н.Ф. Фёдоровым и К.Э. Циолковским и получила воплощение в проекте русской космонавтики, апофеозом которого стал полёт Ю. Гагарина. Менее известной остаётся группа русских космистов, которая разрабатывает фактор-системный подход в решении субъект-объектной гносеологической проблемы. К ним можно отнести А.Л. Чижевского с проектом «гелиобиологии», Н.А. Козырева с проектом «физики времени», А.А. Богданова с идеями «тектологии», В.Н. Муравьева с его идеей «овладения временем». С одной стороны, можно рассматривать указанные имена как прикладные, «малые» проекты в рамках глобальной проективистской ветви русского космизма. Так, гелиобиология Чижевского нашла своих исследователей и получила экспериментальное подтверждение и должный статус в официальной науке, а, скажем, проекту Козырева пока «не повезло», несмотря на труд его идейных последователей (Г.И. Шипов), обнаружить субстанцию времени на экспериментальном материале. С другой стороны, с точки зрения философского осмысления, данные проекты нуждаются в объединении в единую группу. Все эти проекты, которые рассматриваются лишь в качестве исторической справки на полях магистральных течений русского космизма, следует объединять, на наш взгляд, на основе главных интенций их мыслителей. А к таковым можно с уверенностью отнести настроенность обозначенных мыслителей на поиск опосредствующего фактора — своеобразного «третьего звена» — между субъектом и объектом, на основе которого станет возможным системное рассмотрение субъект-объектных взаимоотношений. Мы обозначили данное направление мысли русского космизма как фактор-системное.
К данному направлению мысли восходят исследования В.Н. Муравьева, которые относятся к первой половине 20 века и учение ритмологии Е.Д. Лучезарновой (Марченко), которые идейно продолжают мысли Муравьева в конце 20 - начале 21 в. В.Н. Муравьев начинает изложение своих мыслей в главном труде «Овладение временем» с критики науки и культуры своего времени. Современная наука в её механико-органической форме недооценивает субъективный фактор, представленный человеком: «в современной науке, соответственно, торжествует дух определения способа действия, но не самого действия» [2, 116]. Человек как субъект «сверх своей физической природы, обладает ещё разумом» [2, 106]. Наука накопила в настоящий момент такой огромный объём знаний, который бросает человеку вызов к осмыслению своей природы в контексте природы всеобщей — «наука превращается в явление всеобщее, всечеловеческое, в преддверие науки космической», а человек «требует от своего разума, чтобы он стал органом не только созерцания и познания, но орудием власти и творчества» [2, 96]. Природа наделила человека мозгом, который обладает уникальным свойством сознания и разума, что определённо выделяет его из всего животного мира: «жизнь вносит в природный процесс новый элемент — сознание» [2, 261]. «Живое существо только до известной степени сознательно» [2, 157] и «задача, следовательно, должна быть в том, чтобы превратить несознательные элементы в сознательные» [2, 160]. Задача будущей науки – найти и изучить такой универсальный фактор природы, такие законы всеобщего, которые помогли бы раскрыть качественные стороны природы человека, причём «роль сознания в этом смысле есть роль интегрирующая» [2, 151]. Таким фактором у Муравьева выступает понятие «время», проектом же будущей науки у него выступает мысль об «овладении временем».
«Время, если рассматривать его как реальность, есть не что иное, как изменение и движение» [2, 101], даёт вполне традиционное определение мыслитель: «меняющиеся отношения вещей выражаются временем» [2, 123], «время есть показатель этой смены: оно есть как бы выразитель изменения и движения» [2, 127]. Природа понимается им как множественность: «всякая природа множественна, изменение создаётся множественностью» [2, 104], «отношения вещей суть отношения множеств», а оно, в свою очередь, «создаёт действие, действие же создаёт время» [2, 128]. «Действие есть всегда внутреннее явление системы элементов» [2, 143], и человек рассматривается как «в известной мере такое физиологическое множество, внутренне, до известной степени, овладевшее временем и потому проявляющее способность разума, воли, творчества и т.д.» [2, 144]. «Время производится природой. Если человечество овладеет природой, оно овладеет и временем» [2, 299]. Таким образом, «мы называем овладением временем всякое вообще сознательно и целесообразно произведённое изменение в природе, поскольку оно создаётся или воссоздаёт реальность, согласно имеющемуся образцу» [2, 126].
«Время есть результат множественности» [2, 106], «следовательно, от движений и деятельности её элементов меняется время системы» [2, 148]. Главным действующим фактором в науке «овладения временем» выступает человек-субъект: «решающая роль в деле преодоления времени принадлежит автономно действующим или сознательным существам. Только они могут, в конечном счёте, быть двигателями и действительными творцами времени» [2, 149]. «Субъект действия есть всегда выразитель и представитель множества, и горизонт сознания его есть горизонт этого множества» [2, 151], в этом смысле «субъективность становится универсальностью» [2, 174]: «личность начинает осознавать себя как весь мир» [2, 175]. Время сколь объективно, столь и субъективно: «времяобразующее действие требует непременно, кроме множественности объекта действия, ещё и множественности его субъекта или деятеля» [2, 145]. Граница перехода одного в другое пролегает через сознание: «мы говорим, что время создаётся сознательными существами в том смысле, что только там, где есть обособленное индивидуализированное действие, можно говорить о длительности существования чего-либо» [2, 153]. Человек как субъект представляет собой сложную систему: мозг-сознание-мышление, но главное «значение мысли в том, что она создаёт момент осознания себя отдельным актом и тем самым создаёт субъективность обособленного действия» [2, 150]. «Осознание себя деятелем есть устремлённость к автономному начинанию всего из всего собственного существа как из разумно устроенной причины» [2, 150]: «то, что ищется нами, есть всегда расширение причинности личности» [2, 175].
Время различается как объективное (календарное, астрономическое), так и субъективное (личностное). Муравьев делает своеобразный акцент на времени субъективном, не забывая в то же время об универсальных законах Вселенной: «...главным содержанием этих законов являются отношения множественности и единства» [2, 103]. Человек, будучи сложной системой элементов, состоящей из множественности, обладает сознанием и мышлением, что позволяет ему «вобрать в себя доступные объекты и претворить тем самым эти объекты в субъекты действия» [2, 152]. Являясь, подобно аттрактору, системообразующим фактором временного процесса, человек, тем не менее, не может быть сведён исключительно к механико-органическим «причинам» времени. Отличие исследователей фактор-системного подхода как раз в том и заключается, что им не присуща характерная для позитивистской науки редукция сложных элементов к простым, уже познанным, а оставляет поле для исследования ещё не познанного. Напротив, они идут путём усложнения сложного, обозначая перспективы и проекты для будущего научного поиска.
«Когда мы размышляем о потоке времени, мы обнаруживаем, что мы имеем опыт фактов совершенно иной категории, где нет присущей ему текучести и постоянного изменения» [2, 229]. Разговор о времени требует особого языка, на котором сознание сознаёт самое себя: «задача требует создания нового внутреннего ритма человека и нового ритма его жизни в сношениях её с окружающим» [2, 268]. Фактором взаимоотношений субъекта и объекта, а также достижением целостности и гармонизации самого субъекта может стать ритм: «для человека, ввиду тонкости его сложной организации, ритм является условием его внутреннего единства и координации деятельности различных частей его тела» [2, 268]. Муравьев развивает деятельностный подход: «время должно не рождаться только, но делаться, причём в первую очередь оно должно делаться в виде производства и творчества людьми культуры» [2, 188]. «Человек должен посредством эвритмики (ритмической гимнастики) выработать в себе способность не только телесной, но и умственной и духовной ритмики. Ритм должен быть везде и всюду. Ритм должен осуществляться во всех проявлениях человека и проникать всю жизнь»; «не подавлять надо в себе влечения и устремления, но ритмизировать их» [2, 269]. Ритм как опосредующее звено субъект-объектных связей важен, прежде всего, для самого человека как самосознающего существа: «важнейшей областью воздействия на организмы и их преобразование есть переработка человеком самого человека» [2, 267]. Эволюция человека как вида на планете Земля продолжается как развитие мозга человека через его творчество и культуру, программой-максимумом становится идея: «человек должен быть видоизменён всецело, одинаково в духовной и физической своей природе» [2, 272].
Человек как фактор организации времени через свои способности ритмопреобразования своей природы, взятый как целое человечество, становится системообразующим фактором времени на планете. Муравьев ставит смелую задачу – «исследовать вопрос о времени не теоретически только, но в сочетании с практикой, притом не только с практикой научно-лабораторной» [2, 97]. Он выделяет три базовых науки, которые позволят осуществить прорыв человечества к новым возможностям своей природы: генетику, политику и экономику. Критикуя современное состояние дел в науке, он говорит о больших успехах современного естествознания, «однако из этого не делается практических выводов и здесь получается такая же остановка, как у представителей теорий организации труда, когда они говорят о времени исключительно в смысле уплотнения его, т.е. о заполнении работой» [2, 269]. Необходимо на уровне государства создать теорию организации труда как организации времени на научной основе, и она была создана в СССР и именовалась как НОТ — научная организация труда, поскольку «конкретный времяобразующий акт сознательных существ есть всегда вместе с тем акт социальный и культурно-исторический» [2, 169]. Человек как фактор времени обретает реальную и действенную силу в масштабе планеты только будучи объединённым в коллектив. «Время может быть побеждено только овладением им, т.е. в самом времени или, иначе, в историческом процессе коллективного действия» [2, 177]. Муравьев с воодушевлением встретил русскую революцию и связывал с ней большие надежды: «русская революция как величайшая в истории попытка организовать массы и ввести их в русло строго продуманного и осмысленного действия даёт неоценимый материал» [2, 98]. Овладение временем требует от человека труда, однако «труд может быть не творческим: один труд может не совершать реального преобразования, ибо труд этот может быть Сизифовым трудом» [2, 107]. Если же труд будет творческим, раскрывающим природу человека, тогда «человек, одолев двойственность внутри себя, воздействует на мир отбирающей, упорядочивающей деятельностью и совершает эктропическое его преобразование» [2, 261]. Сила, упорядочивающая неупорядоченный мир, является основополагающей ценностью человека на Земле: «труд живых существ является, с космической точки зрения, чрезвычайно важным процессом — процессом превращения энтропии в эктропию» [2, 261]. Трудо-временная организационная теория Муравьева не противоречит базовому представлению об эволюции природы человека посредством труда (как она была сформулирована Ф. Энгельсом и вошла в состав идеологии в период существования СССР), однако сам акцент делается не на механическом, не творческом труде, но на преимуществах для социума исключительно творческого труда. Творческий труд тесно увязывается с концепцией «овладения временем»: «творческий труд... есть категория космическая и цель всякого труда, как и производства, есть преодоление времени» [2, 221]. «Таким образом, теория овладения временем сводится, в конце концов, в первую голову, к теории построения коллективов живых существ и, прежде всего, коллективов человеческих, а затем – к теории воздействия этих коллективов на так называемые неодушевлённые множества» [2, 106]. В связи с этим нельзя не отметить и проективность мысли Муравьева с элементами утопичности, свойственной его эпохе. «Надо перестать надеяться на готовую вечность и начать делать время. По всем признакам пора такой человеческой победы приближается. Слепое неразумное время корчится и трепещет в судорогах своих предсмертных убийств. А за ним грядёт новое, исполненное совершенства разумное время — произведение будущей общемировой культуры» [2, 230]. «Люди овладеют не только землею, но всею солнечной системой, станут факторами космического преобразования» [2, 180].
Критика культуры своего времени в контексте высказанных мыслей представляется уместной и вполне логичной, по мнению Муравьева: «наша культура грешит символичностью, останавливающейся перед осуществлением выработанных ею и унаследованных от прежних периодов проектов» [2, 114], а это, в свою очередь, «рождает различные формы застывшей жизни — обычаи, быт, основанный на одной форме, обряды, рабски следующие букве, без всякого отношения к живому смыслу» [2, 120]. «Организация культуры требует соответственной организации и направления общего дела всех людей путём придания ему коллективно космической цели — преобразование мира» и «перед культурой должна быть поставлена единая цель — целостное преобразование и обновление мира» [2, 191]. «Благодаря способности ритмизовать свои движения и движения окружающих... человек мог внести в мир действительно преобразовательную или реальную культуру. Культура означает, что часть мира стала оркестром, в котором человек является дирижёром» [2, 264], и «ритм этот должен двигать и делать участниками космического движения не только отдельных людей, но человеческие массы, должен вздымать их, давая им как бы крылья» [2, 206].
Можно сказать, что на Муравьева существенное влияние оказало творчество мыслителей «философии жизни», поскольку время и жизнь неоднократно им отождествляются: «время есть другое название для жизни» [2, 283]. Идеи «философии жизни» заметны и в некотором иррациональном уклоне в ряде представлений: «раз действительность противоречит логике, это доказывает, что мы эту действительность не понимаем, что её надо мыслить иначе, путём расширения этой логики» [2, 131]. Временами проскальзывает идея творения: «элементы, поскольку они творят или творимы, всегда являются факторами изменения системы и, следовательно, творцами её времени» [2, 136]. Идеи холизма также находят своё воплощение: «живёт то, что целостно, не отвлеченно, что представляет не одну только сторону явления, но всё явление, в многостороннем его общении с окружающим миром» [2, 119]. Творчество человека есть вершина его духовного завоевания как разумного и сознательного существа. «Всякое же творчество и, вообще, всякое целесообразное осуществление действия есть… утверждение жизни» [2, 159]. Жизнь каждого в отдельности человека должна быть окрашена трудом и творчеством, «задача искусства в том, чтобы дать людям художественный проект будущего преображённого мира» [2, 205], а «любовь является необходимым условием осуществления космической цели» [2, 191]. «Нам нужно постоянство в изменении, не единое только, но единое во множестве» [2, 145].
Подхватывая мысли Муравьева буквально, в целом система его взглядов находит неожиданное и оригинальное продолжение в творчестве Евдокии Дмитриевны Лучезарновой (Марченко) — современного русского космиста, астронома и поэта. Обладая поэтическим даром стихосложения, наряду с глубокими познаниями в области современной астрофизики, она развила и оформила мысли Муравьева в форму новой науки — ритмологии. Автор даёт такое определение своему детищу: «ритмология — логика ритма» [3, 3]. Ритм понимается сходно с пониманием Муравьева через музыкально-изобразительный ряд художественных средств. «Ритм — это звучание» [4, 69]. Муравьев полагает, что «искания Скрябина указывают верный путь»: «нужен выход искусства на площадь, перенесение картин на облака... но это должны быть образы и прообразы не в старом антропоморфическом смысле, а предзнаменования или проекты космических построений. И музыка должна соответствовать этим видениям» [2, 206]. Именно таким путём и следует Лучезарнова в своём ритмотворчестве, которое состоит их многочисленных книг-ритмов [5], музыкальных композиций [6] и спектаклей по мотивам её книг [7]. Музыка, по мнению Муравьева, «должна выйти из маленьких ритмов частичных и законченных в себе пьес и найти ритм общий и единый, не кончающийся, поскольку не кончается космическое действие» [2, 206]. Если открыть книгу с ритмами, то можно воочию убедиться в буквальном претворении в жизнь всего того, что описал как проект будущего Муравьев. Лучезарнова исходит из той же установки: «внутри каждого существа живёт его собственный ритм. Мы пришли на эту Землю только затем, чтобы найти свой ритм» [4, 83], «изначально каждый человек есть ритм» [8]. Под ритмом в исполнении Лучезарновой понимается «особая жанровая форма, за счёт определённым образом организованной структуры текста, создающая заданные вибрации и содержащая время как субстанцию, способную организовать не только окружающее пространство, но и регулировать человеческие связи» [9, 6]. Лучезарнова в своём поэтическом творчестве преследует цель создания системы образов, которая описывала бы видимый мир на русском литературном языке в жанре ритмопоэзии. В рамках гипотезы Сепира-Уорфа о том, что язык и мышление теснейшим образом взаимосвязаны, находятся в системе «прямой-обратной связи» и потенцируют друг друга в плане дальнейшего развития и эволюции, Лучезарнова создаёт мировоззренческую систему представлений, выдвигая задачи: расширения горизонта сознания, овладения механизмом самопознания, раскрытия потенциала «скрытых» талантов, способствующих дальнейшей эволюции мозга человека в контексте работы с категорией времени. Прежде чем осуществить поставленные задачи, необходимо создать социально-историческую практику в глобальном массовом масштабе, о чём говорит Муравьев в своей книге, требуется создать науку, «позволяющую через знаковую систему выйти на ритм и объясняющую логику его работы» [9, 6]. Именно на данном проекте акцентирует внимание Е.Д. Лучезарнова, создавая инструменты для его осуществления, принципы которых сформулированы ею в учении ритмологии и методе 7Р0. Создавая своеобразную ритмосемиотику, Лучезарнова от книги к книге двигается в сторону раскрытия категории времени через работу с языком как знаковой системой. На протяжении последних 30 лет, пройдя путь от традиционного стихосложения к созданию системы и метода ритмологии, в настоящее время автор трудится над обобщением своих творческих наработок за весь период и прояснением методологических оснований проекта в целом.
Е.Д. Лучезарнова исходит из гипотезы, что время представляет собой физическую субстанцию во Вселенной, для которой пока не найдено экспериментального научного подтверждения в современной физике, космологии и астрофизике. Однако данное представление о времени давно нашло устойчивый интерес у некоторых физиков в 20 веке, достаточно вспомнить исследования Н.А. Козырева с его «физикой времени», а также его продолжателей в лице Г.И. Шипова и его коллег в настоящее время. Несмотря на то, что данная гипотеза пока не обрела научной доказательной базы, исследования продолжаются. В лице Лучезарновой этот проект нашёл ещё одного идейного вдохновителя в контексте освоения мыслей о «физике времени» через художественное осмысление. Вне зависимости от претензий и соответствия на научный статус (что является делом специальных экспертов) мировоззренческая система представлений и образов, созданная Лучезарновой, может быть понята как художественный гимн человеку разумному и гуманистический призыв к осознанию человеком самого себя. «Осознавайте любой свой поступок — только и всего» [14, 268]. Опираясь на учителей-создателей русского космизма, мысль Лучезарновой пролагает пути дальнейшего развития в рамках обозначенной традиции — «наши учителя... все русские космисты» [4, 5]. «Циолковский как говорил? У него основная идея — всех животных с Земли убрать совсем, ибо они мешают эволюции..., потому что у животных нет достаточного уровня мозгового излучения» [13, 72]. Человек же обладает уникальным органом — мозгом. «В чём же уникальность мозга? Мозг единственный способен реагировать на время. Мозг — единственный, способный видоизменяться во времени и манипулировать временем» [15, 25], а значит, «задача — активизировать незанятое внутри мозга для новой темы» [15, 20].
Вселенная, по мнению автора, пронизана ритмами физической субстанции времени, «моя задача описать весь этот мир через ритмы» [4, 25]. Поскольку «ритм каждому существу выделяет время» [4, 30] и «является неким каркасом, опорой, правом осуществления любого события» [10, 33], то основа ритмологии есть ритмы, созданные её автором для чтения и изучения всеми заинтересованными в самосовершенствовании лицами. Смысл ритмологии состоит в том, чтобы снабдить человека методикой самосовершенствования посредством работы с текстами ритмов Лучезарновой, которые способствуют, по оценке самого автора, ускорению мозговых процессов у человека, поскольку «скорость мозга определяется количеством информации, которую обрабатывает человек за единицу времени. Чем быстрее скорость, тем совершенней мозг» [15, 47]. Созданные автором книги способствуют овладению временем, которое позволяют создавать события в жизни человека: «читая ритмы, познавая ритмы, вы получаете запас времени, который можно перевести в пространство, информацию, энергию» [10, 14]. «Наша задача — расширить границы вашего восприятия мира, помочь вам выйти за пределы возможной степени фиксации» [9, 14]. Осознание человеком расширенного понимания собственных интеллектуальных способностей должно привести изучающего ритмологию к пониманию ритма как универсального свойства высшей формы материи во Вселенной: «ритм – всеобщее условие организации всего сущего», «ритм есть кусочек живого времени, оформлен определённым образом словами» [11, 13]. «Основная часть человечества — та часть, которая не мыслит, живёт на основе электромагнитных и гравитационных полей: люди, не сознающие себя в пространстве, дальше подняться просто не способны [14, 85]. Различая с позиций материализма внутри человеческого телесного особую субстанцию мозга, чувствительную к ритмам и времени, Лучезарнова говорит о том, «тело — это биоскафандр» [9, 7], однако «жить в космосе можно и не покидая своей оболочки. Это доступно тем, кто достиг своего ритма» [4, 65], расширяя своё сознание и развивая способности мозга. Методика Лучезарновой предполагает создание в сознании человека своеобразного виртуального пространства мыслеобразов, которые позволяют, помимо прочего, актуализировать темы русского космизма на почве русской культуры. Анализируя мысли В.И. Вернадского, Е.Д. Лучезарнова полагает, что «русский народ имеет возможность говорить на языке ноосферы» [11, 202], более того, работа в области стихосложения на русском языке привела автора к мысли, что «каждая буква алфавита хранит определённый род энергии и информации» [10, 84]. Именно через особое переструктурирование русского языка автор надеется достигнуть эффекта своеобразного «мозгового штурма» у современного человека, мозг которого зачастую теряется в гуле избыточного и пустого информационного контента.
Е.Д. Лучезарнова очень высоко оценивает потенциал России и русского человека в деле освоения космических горизонтов будущего: «освоение космоса в техническом мире начато на территории Советского Союза с 1922 года [14, 11], и оно успешно продолжается сегодня. Однако техническая модернизация, перед тем как получить своё воплощение, нуждается в предварительном интеллектуальном осмыслении и проектировании, как это уже имело место быть в истории русского космизма, памятуя проект космонавтики, восходящий к мыслям об освоении космоса у Н.Ф. Фёдорова и К.Э. Циолковского. На современном этапе развития космонавтики, не взирая на ряд экономических трудностей в нашей стране, глубинные интенции русского народа о космосе в лице его лучших представителей непременно найдут своих идейных продолжателей. «Русь мчится в Космос, несмотря ни на что» [14, 127].
Мысль В.Н. Муравьева: «быть может, раскрытие природы человека в этом отношении приведёт к полному отождествлению личности с определённым сложным ритмом» [2, 268] — воплотилась в практическую систему ритмологии Е.Д. Лучезарновой и её авторский метод 7Р0 [12]. Муравьев писал: «ритм должен двигать и делать участниками космического движения не только отдельных людей, но человеческие массы, должен вздымать их, давая им как бы крылья» [2, 206]. Лучезарнова через чуть более чем полстолетия вторит ему: «ритм — это как бы тот, который рождается в духе, и в душе, и в теле» [8, 12], «мы должны уже быть самой любовью, это должно быть нашим естественным состоянием» [13, 276]. Остаётся надеяться, что преемственность обозначенных идей русского космизма продолжится далее и найдёт своих достойных исследователей в будущем.
Таким образом, к основным промежуточным итогам проводимого нами исследования по сопоставлению базовых мыслей и интенций В.Н. Муравьева и Е.Д. Лучезарновой следует отнести следующие. Во-первых, творчество обоих авторов по праву может быть отнесено к философско-мировоззренческому течению русского космизма в рамках истории русской философии. Во-вторых, внутри нескольких идейных разветвлений русского космизма следует выделить фактор-системный подход, который позволит прояснить исследовательские стратегии ряда русских космистов в 20 веке. Фактор-системный подход предполагает решение субъект-объектной гносеологической проблемы в рамках неклассической парадигмы и заключается в поиске русскими космистами «промежуточного звена», наделяемого ими особым мировоззренческим смыслом в контексте углубления значения субъективного фактора. В третьих, обнаруживается устойчивое развитие и эволюция идей русского космизма на протяжении последних 150 лет вплоть до наших дней, что пробуждает по новому взглянуть на наследие русского космизма в русской культуре.
Используемая литература:
- Новая философская энциклопедия: В 4 т. / Инт-т философии РАН. – М.: Мысль, 2010. – Т. II/ – 2010. – 634 с.
- Муравьев В.Н. Овладение временем. Избранные философские и публицистические произведения. – «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1998. – 320 с.
- Марченко Е.Д. Прочти себя / Ритмология: неделя за неделей. – СПб.: Авторский Центр «РАДАТС», 2008. – 280 с.
- Лучезарнова. Живой ритм. – Санкт-Петербург: РИТМОВЗЛЁТ, 2016. – 96 с.
- Марченко Е.Д. Звёздные ритмы времени: в 18-ти томах. – СПб.: Авторский Центр «РАДАТС», 2018.
- Лучезарнова Е.Д. Шагай победителем. Время ритмологии пришло. Музыкальный альбом. Песни на ритмы Евдокии Дмитриевны Лучезарновой. Циферблат-Ы, 2014.
- Лучезарнова Е.Д. Музыкальный спектакль «Дорогая секунда любви». В исполнении группы «СТ-ЭФФЕКТ». РИТМОВЗЛЁТ, 2014.
- Марченко Е.Д. Освобождение от энергий. – СПб.: Авторский центр «РАДАТС», 2008. – Т. 2. – 208 с.
- Лучезарнова Е.Д. Обо мне заботятся. – СПб.: «Ритмовзлёт», 2013. – 216 с.
- Лучезарнова Е.Д. Ничего случайного не бывает. Ритмология для каждого. – СПб.: РИТМОВЗЛЁТ, 2015. – С. 232.
- Марченко Е.Д. В русле времени, в режиме пространства. – СПб.: Авторский центр «РАДАТС», 2000. – 304 с.
- Марченко Е.Д. Введение в Метод 7Р0. – М.: РИТМ 25, 2010. – 32 с.
- Марченко Е.Д. Освобождение от энергий. – СПб.: Авторский центр «РАДАТС», 2005. – Т. 1. – 512 с.
- Марченко Е.Д. Знание человеческого опыта / Е.Д. Марченко. – СПб.: РАДАТС, 2009. – 304 с.
- Лучезарнова Е.Д. Человек и время. – СПб., 2017. – 56 с.
Первосточник: Философский журнал "Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке" Том 8. № 2А, 2019 | Изд-во: "Аналитика Родис" | Elibrary.ru | Стр. 140. | УДК 001.
Источник публикации: Nauka-news-2019 : https://nauka-news.okis.ru/news/1486470
Метки: Лучезарнова Евдокия Лучезарнова Евдокия Марченко Ритмология Ритмометод Космизм Космизм русский философия космизма лучезарнова космизм лучезарнова ритмология |
Процитировано 1 раз
Понравилось: 1 пользователю
МИРОНОВ Д.А. РИТМОПОЭЗИЯ ЕВДОКИИ ДМИТРИЕВНЫ ЛУЧЕЗАРНОВОЙ (МАРЧЕНКО) И КОСМИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ |
Это цитата сообщения Luchezarnova-kniga [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Миронов Д.А. Ритмопоэзия Евдокии Дмитриевны Лучезарновой (Марченко) и космические мотивы в русской поэзии
( кандидат философских наук)
РИТМОПОЭЗИЯ ЕВДОКИИ ДМИТРИЕВНЫ ЛУЧЕЗАРНОВОЙ (МАРЧЕНКО) И КОСМИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ
Аннотация: Статья посвящена краткому обзору русской поэзии в контексте космических мотивов. Выясняется, что даже простое сопоставление тем и вариаций на космические темы в русской поэзии, начиная с XVIII века и по сегодняшний день, показывает историческую тенденцию мировоззрения русских поэтов и литераторов, которая сегодня обозначается как русский космизм. Сам термин, череда знаменитых имен и корпус текстов получили широкое признание в нашей стране и за рубежом. В настоящее время поэтическая традиция русского космизма имеет своё творческое продолжение в лице Евдокии Дмитриевны Лучезарновой (Марченко), которая отражает основные интенции поэтической линии русского космизма в начале XXI века.
Ключевые слова: русский космизм, микро-, макрокосм, космос, вселенная, эсхатологизм, ритм, ритмология, ритмометод 7Р0.
Интерес к русскому космизму в российском культурном пространстве возник относительно недавно. Осознание его как культурно-исторического явления произошло порядка 40 лет назад. В последние несколько десятилетий вскрылся целый пласт ранее неизвестных источников, чьих авторов исследователи по праву относят к русским космистам. Несмотря на большую работу, которую проделали исследователи к настоящему моменту, ещё очень многое остаётся невыясненным и нуждается в изучении. Случаются и курьёзные споры, в которых, например, ставится вопрос о том, насколько корректно само именование «русский космизм». Например, некоторые авторы не без оснований полагают, что «лучше было бы назвать эту систему взглядов "российским космизмом" — чтобы сразу понять, что акцент в данном случае делается на географический аспект названия, а не национальный. Но термин уже устоялся» [1, 9]. Однако дело даже не в формальном поименовании, сама содержательная часть русского космизма, скажем, в XX веке, остаётся неисследованным сюжетом для философов и культурологов. В связи с тоталитарным периодом российской истории в XX веке, исчезли не только рукописи русских космистов, трагически и безвестно погибали сами космисты. А те, кому случай подарил «вторую жизнь», до сих пор не получили всестороннего исследования. Доказательством служит, скажем, судьба русского космиста А.Л. Чижевского (1897-1964), рукописный фонд которого до сих пор не получил достойного оформления. «Поэт, художник, историк и, конечно же, естествоиспытатель, он в сорокалетнем возрасте был выдвинут зарубежными единомышленниками на Нобелевскую премию с мотивировкой "как Леонардо да Винчи двадцатого века", но вместо этого получил у себя на родине пятнадцать лет лагерей и ссылки, где ни на один день не изменил творческой работе» [2, 131].
Речь идёт ещё и том, чтобы выяснить сами границы русского космизма, который, несомненно являясь оригинальным и самобытным феноменом в русской культуре, тем не менее, нуждается в дальнейшем всестороннем и глубоком изучении. Порой возникает насущная проблема, о которой говорят исследователи русского космизма. «В отечественной литературе "Русский космизм" принято делить на три течения: религиозно-философское, естественнонаучное и поэтическо-художественный. Это очень условное деление, потому что отдельных его представителей можно отнести ко всем вместе взятым» [3, 8]. Можно согласиться с мнением данного автора, поскольку таких примеров, рассмотренных по отдельным персоналиям, можно привести целый ряд: А.Л. Чижевский, К.Э. Циолковский, Н.К. Рерих и многие другие. Если попытаться окинуть взором весь длинный путь, который прошёл русский космизм как мысль о единстве человека и космоса, о цельности знания, об универсальном эволюционизме, то станет ясно, что границы русского космизма уходят корнями чуть ни в «Голубиную книгу». Конкретизация и уточнение этих границ есть дело для будущих исследователей. Рассматривая генезис русского космизма исторически в период с конца XVIII по сегодняшний день, становится более ясной его периодизация. Мировоззренческая установка, включающая в себя то мироощущение и мировоззрение, которое составит основу представлений о русском космизме, сначала проявилась в литературных поэтических текстах поэтов XVIII века, затем получила осмысление и в поэзии, и в прозе в XIX веке. Все три направления русского космизма совпали с «духовным Ренессансом» в России к началу XX века и всесторонне раскрылись во всех областях культуры: в искусстве (литературе, живописи, музыке), в религиозном творчестве, в философии. Нас будет интересовать становление и развитие космического мирочувствования в русской поэзии, начиная с М.В. Ломоносова и заканчивая ритмопоэзией Е.Д. Лучезарновой (Марченко). На этом длинном пути русская поэзия смогла аккумулировать фактически все черты мировоззренческих представлений и установок русского космизма, которые получают своё концептуальное оформление и систематическое изложение только в наши дни.
Начиная с творчества Михаила Васильевича Ломоносова (1711-1765) в русской поэзии отчётливо заявляют о себе темы, которые станут традиционными для русского космизма. К ним относятся размышления о Вселенной, вечности, бесконечности, пространстве-времени, звёздах, Солнце и свете. Темы эти получат развитие и конкретизацию в творчестве практически всех значимых поэтов России на протяжении последующих 200 лет. В «Письме о пользе Стекла» Ломоносов, рассматривая линию развития естествознания от Коперника до Ньютона, приходит к мысли о необходимости освоения природы с помощью знаний. Польза от знаний законов природы и космоса не только прагматике, но в расширении границ созерцания мира.
Астроном весь свой век в бесплодном был труде
Запутан циклами, пока восстал Коперник,
Презритель зависти и варварству соперник.
В средине всех планет он солнце положил,
Сугубое земли движение открыл [4].
И если Петр I открыл символическое «окно в Европу», то Ломоносов на основании фактов естествознания своего времени распахивает «окно в Космос»:
Открылась бездна звёзд полна;
Звездам числа нет, бездне – дна.
Творчество А.Д. Кантемира (1708-1744) и Г.Р. Державина (1743-1816) также способствовало распространению в русском образованном обществе научных и космологических идей. Кантемир лично перевёл на русский язык текст книги знаменитого популяризатора науки своего времени Бернара Фонтенеля (1657-1757) «Разговоры о множестве миров». Прогрессивные и смелые на тот период космологические идеи, представленные в поэтических творениях авторов, пробивали себе дорогу в сознании просвещённого русского человека с огромным трудом в связи с тем, что Церковь не приветствовала распространение таких взглядов. Однако именно с этих пор тема бесконечности Вселенной, идея множественности миров прочно вошла в русскую литературу и стала характерным мотивом в своеобразной «космической лирике», ставшей предтечей философии русского космизма. «Космическое видение поэтов проявляется не только в попутном вплетении философских категорий в ткань стихотворного или прозаического текста. Космизм — это прежде всего осознание целостности объективного мира во всех его проявлениях, включая единство Вселенной и человека» [2, 71].
Квинтэссенцией такого подхода является поэтическое произведение Державина «Бог». Поэт ощущает себя частицей Вселенной и, одновременно, творческим средоточием мира, как бы сказали сегодня — через чувственное восприятие автор передает единство и гармонию микро- и макрокосмоса:
Я связь миров повсюду сущих,
Я крайня степень вещества;
Я средоточие живущих,
Черта печальна божества;
Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю,
Я царь – я раб – я червь – я бог![5].
Современник поэта — А.Н. Радищев (1749-1802) — продолжает данную тему уже не только в стихах, но и в прозе. Так, в своём трактате «О человеке, о его смертности и бессмертии» он приходит к выводу, что человек является не просто частью природы, но существует и до своего рождения. В начале трактата он сразу озадачивает читателя непростыми вопросами: «Где был ты, доколе члены твои не образовалися; прежде нежели ты узрел светило дневное? что был ты, существо, всесилию и всеведению сопричастное и бодрственные твои лета? Измерял ли ты обширность небесных кругов до твоего воплощения? или пылинка, математической почти точке подобная, носился в неизмеримости и вечности, теряясь бездне вещества?» [6, 6]. Рассматривая эти вопросы исходя из материалистических представления о мире, Радищев живописует мир сверхчувственного существования как сложный, иерархически организованный мир с телесной организацией. Доступ к этому миру может открыть усовершенствование технических приборов. «Что чувства наши, или лучше сказать, что чувственность может быть изощреннее, то доказывали примеры чувств, из соразмерности своей болезнью выведенных; дай глазу быть микроскопом или телескопом, какие новые миры ему откроются! И как сомневаются в возможности лучшей организации!» [6, 142]. Можно сказать, что с этого момента в русской литературе рождается мысль об усовершенствовании не только непосредственно человеческой природы, но опосредованное её раскрытие с помощью развития техники и технологий. И только в XX веке эти мысли найдут форму для своего воплощения, скажем, в проекте советской космонавтики.
Если, по словам И.И. Лапшина: «Радищев, которому остался, по-видимому, совершенно неизвестен Кант» [6, 158], сформировал своё учение, чураясь идеалистической философии, то следующее поколение русских поэтов вполне усвоили мысли и Канта, и Шеллинга, и Гегеля. Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837) уже заговорил о «самостоянье человека», впервые введя в оборот это важное философское словосочетание, за которой стоит в свёрнутом виде вся немецкая трансцендентальная философия классического периода, олицетворяющая «коперниканский переворот» Канта.
Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.
Животворящая святыня!
Земля без них была б мертва,
Без них наш тесный мир – пустыня
Душа – алтарь без божества [7].
В этих хрестоматийно известных каждому школьнику стихах заложена вся основа национального самосознания. Влияние Пушкина на все последующие поколения русских литераторов трудно переоценить. К слову сказать, в поисках аутентичного текста мне пришлось изрядно потрудиться. Дело в том, что второе, концептуально важное четверостишие поэта вымарано практически во всех изданиях XX века, вероятно, в силу идеологических соображений. Именно проблема субъекта и его «самостоянья» в различных контекстах стала главной темой русской литературы («маленький человек», «лишние люди» и т. д.) на протяжении всего XIX века. С точки зрения русского космизма — это тема изучения человека как микрокосма, который повторяет в себе устройство макрокосма.
Начинается углубленное исследование темы «человек и космос» и формирование идей русского космизма, которые всё больше получают воплощение в текстах русских литераторов. Кружок любомудров — одно из первых начинаний подобного рода. Дмитрий Владимирович Веневитинов (1805-1827) намечает контуры модели синтетического знания, которая получит впоследствии яркое воплощение у будущих русских космистов. Если даже в грядущем земное человечество ожидает возможная гибель в результате космической катастрофы, то, не взирая на пессимизм и эсхатологизм этого возможного исхода для планеты, миссия человека на Земле должная осуществиться в полной мере. «Нравственная свобода будет общим уделом; все познания человека сольются в одну науку самопознания... Пусть солнце поглотит нашу планету, пусть враждебные стихии расхитят разнородные части, её составляющие, но, совершив свое предназначение, исчезнет, как ясный звук в гармонии вселенной!» [8, 136].
Желание слияния с космосом пронизывает поэзию Алексея Степановича Хомякова (1804-1860):
Хотел бы я разлиться в мире,
Хотел бы с солнцем в небе течь,
Звездою в сумрачном эфире
Ночной светильник свой зажечь [9].
Константин Сергеевич Аксаков (1817-1860) вторит о том же духовном чувстве родства со Вселенной:
И всю наполняя природу собой,
Я с нею летел в бесконечность –
И таинств завеса редела пред мной;
Доступной казалась мне вечность [10].
Тема жажды преодоления смерти представлена в творчестве Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841):
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в душе дремали жизни силы,
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь [11].
Новые нотки и интонации появляются в творчестве Афанасия Афанасиевича Фета (1820-1892): устанавливается незримая связь с космосом, звёздами. Космос начинает рассматриваться в своём становлении и развитии вместе с духовной эволюцией самого человека.
Мой дух, о ночь, как падший серафим,
Признал родство с нетленной жизнью звёздной
И, окрылён дыханием твоим,
Готов лететь над этой тайной бездной [12, 288].
Хрестоматийной и яркой иллюстрацией к сказанному также является его стихотворение «Среди звёзд».
Продолжает эстафету «космогонических идей» Федор Иванович Тютчев (1803-1873) с программным заявлением:
Есть целый мир в душе твоей.
Тютчев одухотворяет явления природы и стихии, создавая напряженный диалог между человеком и Космосом, в котором человек сознаёт себя самопознающей частицей Бытия.
Душа хотела б быть звездой,
Но не тогда, как с неба полуночи
Сии светила, как живые очи,
Глядят на сонный мир земной, –
Но днём, когда, сокрытые как дымом
Палящих солнечных лучей,
Они, как божества, горят светлей
В эфире чистом и незримом [13, 59].
«Космические стихи» целыми циклами появляются у поэтов к началу XX века. У Александра Александровича Блока (1880-1921) в стихах отражены мысли о будущей глобальной катастрофе в Космосе, о диалектике света и тьмы, о круговороте и циклах обновления жизни, о роди разума на планете Земля.
Я видел мрак дневной и свет ночной.
Я видел ужас вечного сомненья.
И го́спода с растерзанной душой
В дыму безверья и смятенья.
То был рассвет великого рожденья,
Когда миров нечисленный хаос
Исчезнул в бесконечности мученья. –
И всё таинственно роптало и неслось.
Тяжелый огнь окутал мирозданье,
И гром остановил стремящие созданья.
Немая грань внедрилась до конца.
Из мрака вышел разум мудреца,
И в горной высоте – без страха и усилья –
Мерцающих идей ему взыграли крылья [14].
Валерий Яковлевич Брюсов (1873-1924) ещё в самом начале заявил своё космо-поэтическое кредо: «Я буду соратником ваших космических споров». В его стихах на языке метафор и образов рассказывается о космическом воззрении на мир, построенное на фактах науки. Показательным примером и программным в его творчестве является стихотворение «Мир электрона»:
Быть может, эти электроны –
Миры, где пять материков... [15].
В его стихах возникает напряженная поэтическая перекличка воззрений как с Лермонтовым, так и с Блоком:
Нам должно жить! Лучом и светлой пылью,
Волной и бездной должно опьянеть,
И все круги пройти – от торжества к бессилью,
Устать прекрасно, – но не умереть [16, 183]
М.А. Волошин (1877-1932) в цикле «Путями Каина» посвящает целую главу с названием «Космос» с целью рассказать своеобразную историю космических представлений человечества от оккультных воззрений до теории относительности А. Эйнштейна. При всем изобилии знаний и технологических достижений своего века, Волошин показывает всю ничтожность дел человеческих в сравнении с превосходящей во сто крат сложностью Вселенной.
Темы русского космизма в лирике поэтов XX века ещё предстоит исследовать и здесь, я полагаю, нас ожидает ещё много неожиданных открытий. Но даже представленный краткий и беглый очерк русской поэзии за последние несколько столетий показывает, что космические мотивы в русской стихотворной традиции обрели устойчивый интерес со стороны поэтов, без которого русский космизм не смог бы проявиться как культурно-историческое явление. Не взирая на трагические изломы русской истории, в русской лирике никогда не прекращалась преемственность идей русского космизма на языке образов, символов и метафор.
В настоящее время в нашей стране продолжает эстафету русских космистов в художественной форме современный российский поэт Евдокия Дмитриевна Лучезарнова (Марченко). Благодаря астрономическому образованию, её интересы простираются значительно шире поэтических воззрений на Вселенную и Космос. Начав экспериментировать с традиционной стихотворной формой, она приходит к созданию собственного жанра, условно характеризуемого как ритмопоэзия. В нём в концентрированном виде представлены все темы русского космизма с учётом как поэтических мироощущений и философских воззрений за истекший период времени, так и религиозно-эзотерических представлений с вкраплениями знаний в области достижений научного космизма XX века. Лучезарнова обобщает интенции своих предшественников — поэтов и русских космистов — и приходит к мысли об интегральном и системном космизме, который возможно было бы изложить в форме стихов-ритмов. К настоящему моменту времени ею создано более 200 поэтических сборников, в которых наглядно представлена её концептуальная позиция. В её личном творчестве поэзия переросла саму себя и воплотилась в учение ритмологии и ритмометод 7Р0. Стержневой основой этого учения являются представления русских космистов в самом широком смысле слова (от поэтических воззрений до научных концепций), поскольку космизм в России — больше, чем космизм: это не только и мироощущение или мирочувствие, но особое мировоззрение, которое пронизывает всё бытие русского человека, включая сюда все сферы его жизни и творчества. Здесь просматривается удивительный духовный синтез идей «Голубиной книги» и «Слова о Законе и Благодати», который ещё нуждается в прояснении. В рамках антропокосмизма Лучезарнова выстраивает в своём творчестве практическую антропологию и гуманизм. «Все боги, которым поклоняется человек, передают потенциальные возможности самого человека» [17, 45]. Задача её проекта состоит в том, чтобы освободить человека от себя самого в пользу человека в себе, понятого как лучшая его часть: от землянина к человеку!
Вселенная по мнению автора ритмологии устроена гармонично и красиво, потому и человек, как зримая часть бесконечно становящейся Вселенной, не может быть дисгармоничным. Дисгармонии происходят по многим причинам: из-за страхов, лени, несознания, невежества и др. «Когда человек утрачивает свою связь со звёздами, утрачивает свою связь с Солнцем и Луной, он теряет своё и духовное, и душевное начало, и, что страшнее всего, космическое и космологическое начало» [17, 21]. В сущность человека природой заложены способности к сопротивлению инерции и косности энтропийным, причинно-следственным процессам, протекающим на Земле; человек способен к эктропии. «Мир устойчивый, разработанный высшим разумом, существует в своей неповторимости, и когда ты в нём появляешься, ты пытаешься поменять мир. Но на самом деле ты можешь поменять только своё отношение к миру, или самого себя, или таких же, как ты» [17, 27]. Точка зрения Лучезарновой проистекает из того самого пушкинского «самостоянья», которое восходит к кантианскому «коперниканскому перевороту» в представлении о том, что такое человек. Первый шаг к тому, чтобы человек смог в своём сознании смог отделить себя как природное существо, рожденное во плоти природой от человеческой сущности, которая дана ему высшим разумом, следует считать самосознание. «Пока человек себя не осознал, он не родился. Осознание — есть рождение» [17, 49]. Перефразируя Канта, который дал представление об априорных формах чувственности, которые заложены в человеке от природы как возможность формирования познавательной способности, Лучезарнова говорит более просто: «Человек фиксирует не саму жизнь, а своё отношение к жизни» [17, 52]. Перед ним открываются два пути: «Первый способ: усыпить разум, уподобиться животным. Второй способ: пробудить разум и вывести его за страдания» [17, 52]. Выбрав второй путь, человека ожидает трудный путь познания и самопознания, но и награда будет велика — обретение человеческого облика. «Человек — это место встречи духа и материи» [17, 68]. Опытные данные, накопленные наукой за последние века приводят к очевидности того, что «всё везде взаимосвязано, поэтому от циклов Солнца, от циклов звёзд, от циклов планет зависит цикл жизни человеческой» [17, 21]. А человеческий разум «напрямую зависит от звёзд, и, как только существо задумывается о вечности, естественно, звёзды идут к нему навстречу» [17, 22]. Человек отличается от всех других представителей животного мира особым устройством своего мозга, которое открывает перед ним огромные возможности. «Внутри мозга человека есть два состояния. Одно состояние называется "пустотность", другое называется "вместимость"» [17, 203]. Оба состояния позволяют начать работать с временем по методике Лучезарновой. А поскольку человек от рождения и до смерти непосредственно исчисляет и меряет свою жизнь относительно понятия времени, то проблема времени в учении Лучезарновой становится осевой. По наблюдению автора метода 7Р0: «само по себе время оказалось очень живой субстанцией. И моё образование — астроном, мне очень помогло, потому что первое, что я услышала о времени, — «звёзды светят временем». А если это так, значит, время можно брать, консервировать, концентрировать. И я стала наблюдать: а как человек входит во время? Оказалось, только в момент экстремальных ситуаций. Когда у человека всё сжимается, ему нужно срочно отсмотреть всю свою жизнь, он попадает во время. Перед его взором всё начинает течь, как в замедленном кино. Значит, мозг человека можно поместить во время, и это единственное, что в человеке ощущает время» [17, 187]. Более того, «время проявляется словами» [17, 187], что открыло перед творческим дарованием автора ритмологии перспективу описывать время посредством ритмов. «Ритм есть кусочек живого времени, оформлен определенным образом словами» [18, 13]. Создавая свои многочисленные книги-ритмы автор предлагает читателю открыть и для себя перспективу овладения временем: «Читая ритмы, познавая ритмы, вы получаете запас времени, который можно перевести в пространство, информацию, энергию» [19, 14]. Евдокия Дмитриевна создаёт своеобразный вариант поэзиса (ритмопоэзис) на русском языке, который преследует цель познакомить человека со временем, окунув его в космосферу представлений русского космизма, всесторонне продуманного автором. «Ритм — особая жанровая форма, за счёт определенным образом организованной структуры текста, создающая заданные вибрации и содержащая время как субстанцию, способную организовать не только окружающее пространство, но и регулировать человеческие связи» [20, 6].
Разделяя землянина и человека, забота ритмологии состоит в том, чтобы дать возможность быть человеку. «Плохих людей нет, есть люди недоразвитые» [21, 26]. Задача сложная, но решаемая, поскольку сама природа в человеке желает раскрыться: «легче стать не землянином, сложнее стать не человеком» [18, 280]. В конечном итоге усилия человека будут вознаграждены «жизнью без усилий», при которой человек осознаёт, что его жизнь только в его руках и «ничего случайного не бывает». «Счастлив может быть только человек, живущий своей собственной жизнью» [17, 227], что означает: он есть не только вещь среди вещей мира, живущий по детерминистским причинно-следственным законам природы — он свободен, потому что владеет временем. «Счастье начинается с получения свободного времени, которое можно занять, чем захочется» [17, 225]. Эти мысли удивительным образом совпадают со знаменитой максимой Канта о «звёздном небе надо мной и моральным законом во мне», под эгидой которой состоялась вся русская поэтическая традиция «космического мировидения».
Космопланетарный человек
На любви энергии взрослеет,
На любви энергии мудреет,
Ненависть в любовь преобразует,
Любви кристалл для жизни формирует,
Космопланетарный человек.
Космопланетарный человек
Уберет бумажные препоны,
Уберет насилия законы,
Мусор слов заботливо сметет,
Кланы форм до сути доведёт,
Космопланетарный человек .
Космопланетарный человек
Трансформирует свое сознанье,
Трансмутирует миров созданье,
С информацией миров заговорит,
Пласт идей духовных сотворит,
Космопланетарный человек.
Космопланетарный человек
Иерархии магнит познает,
Иерархии зенит узрит,
Иерархии закон знаком,
Знаком Иерархии пометит век,
Космопланетарный человек [22, 120].
Разностороннее учение ритмологии на сегодняшний день пытается суммировать весь интеллектуальный ресурс русского космизма и дать ему «новое дыхание». Установка на поэтическое изложение глубоких и серьёзных проблем научного космизма на языке образов и метафор свидетельствует о том, насколько сильно влияние русского языка на многочисленные поколения одарённых людей в нашей стране. Именно русский язык, осмысленный поэтами не только как поэзис, но как логос, подарил русской культуре такое уникальное в мировой истории явление русского космизма. Поэзис это начинается с космических мотивов, распространяется как вширь, так и вглубь русской культуры, прорастает все творческие площадки, на которых раскрывается творческий потенциал человека и достигает своего апогея в мышлении русского космизма. Очень возможно, что именно поэзис, понимаемый как установка мировоззрения и мирочувствования русского человека на особые взаимоотношения между человеком и космосом, является главным двигателем русского духа к свершениям в науке, творчестве, социальном преобразовании страны. Следует более внимательно относиться к культурно-историческому явлению русского космизма, оказавшее колоссальное влияние на все сферы культуры русского мира. Отрадно сознавать, что хрупкая традиция русского космизма, передаваемая через поэтические тексты из века в век не прервалась и продолжает своё существование и ныне, что вселяет надежды на разумное преобразование русского общества в отдалённом будущем.
Используемая литература:
- 1. Владимирский Б.М., Кисловский Л.Д. Путями русского космизма: Судьбы людей и идей. Влияние космоса на социальные процессы. Поиск жизни во Вселенной. Изд. 2-е. – М.: ЛЕНАНД, 2016. – 144 с.
- 2. Демин В.Н. Русский космизм вчера, сегодня, завтра. Ч. 1.: Русский космос. Изд. 3-е. – М.: ЛЕНАНД, 2014. – 200 с.
- 3. Шлёкин С.И. Русский космизм: Проблемы иррационального знания, художественного чувства и научно-технического творчества. Изд. 2-е. М.: Ленанд, 2017. – 344 с.
- 4. Ломоносов М.В. Письмо о пользе Стекла // М.В. Ломоносов. Избранные произведения. – Л.: Советский писатель, 1986. – С. 236-246. (Библиотека поэта; Большая серия).
- 5. Державин Г.Р. Бог // Г.Р. Державин. Стихотворения. – Л.: Советский писатель, 1957. – С. 114-116. (Библиотека поэта; Большая серия).
- 6. Радищев А.Н. О человеке, его смертности и бессмертии. – СПб.: Питер, 2001. – 192 с.
- 7. https://soulibre.ru/Два_чувства_дивно_близки_нам_%28Александр_Пушкин%29
- 8. Веневитинов Д.В. Полное собрание сочинений. – М.: Академия, 1934.
- 9. Антология русского романса. Золотой век / Авт. предисл. и биогр. статей В. Калугин.–М.: Эксмо, 2006.
- 10. https://bookz.ru/authors/konstantin-aksakov/stihotvo_269/page-2-stihotvo_269.html
- 11.Лермонтов Михаил. Избранное. Всемирная библиотека поэзии. Ростов-на-Дону, «Феникс», 1996.
- 12. Фет А.А. Избранное / Оформл. «Диамант».–СПб.: ТОО «Диамант», 1997.– 448 с.
- 13. Тютчев Ф.И. Избранное / Оформл. «Диамант».–СПб.: ТОО «Диамант», 1997.–448 с.
- 14. Блок А.А. Собрание сочинений в девяти томах. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1962.–Т. 1.–С. 6.
- 15. Валерий Брюсов. Стихотворения и поэмы. Библиотека поэта. Большая серия. Ленинград: Советский писатель, 1961.
- 16. Брюсов В.Я. Избранное / Оформл. «Диамант».–СПб.: ТОО «Диамант», 1997.–448 с.
- 17. Лучезарнова Е.Д. Размышления и афоризмы / Е.Д. Лучезарнова, Авторский Центр «РАДАТС». – М.: Академический проект, 2016. – 256 с.
- 18. Марченко Е.Д. В русле времени, в режиме пространства. – СПб.: Авторский центр «РАДАТС», 2000. – 304 с.
- 19. Лучезарнова Е.Д. Ничего случайного не бывает. Ритмология для каждого. – СПб.: РИТМОВЗЛЁТ, 2015. – 232 с.
- 20. Лучезарнова Е.Д. Обо мне заботятся. – СПб. : «Ритмовзлёт», 2013. – 216 с.
- 21.Лучезарнова Е.Д. (Марченко). Законы радуги. – Санкт-Петербург: РИТМОВЗЛЁТ, 2014. – 256 с.
-
22. Марченко Е.Д. Радость махатм. – Омск.: ТОО «Полиграф», 1994.
Первоисточник: Научный журнал «Культура и цивилизация» («Culture and Civilization») Том 9,№ 3А, 2019. Стр 94 (УДК 008). Издательство "Аналитика Родис" | elibrary.ru
Источник публикации: Новости науки - 2019: nauka-news.okis.ru
Серия сообщений "Лучезарнова Евдокия книги":
Часть 1 - Лучезарнова Е. Д. | «Откровенное знакомство» | «Кто и как мешает счастью»
Часть 2 - Евдокия Лучезарнова | Интервью о стремлении людей к развитию
...
Часть 8 - Лучший подарок – это книга! (Благотворительный фонд "Исполнение мечты")
Часть 9 - Евдокия Лучезарнова : Ученые научились «ловить» ритм жизни
Часть 10 - Миронов Д.А. Ритмопоэзия Евдокии Дмитриевны Лучезарновой (Марченко) и космические мотивы в русской поэзии
Метки: Лучезарнова Ритмология Ритмометод Евдокия Марченко Ритмопоэзия Космизм Русский космизм Лучезарнова космизм евдокия лучезарнова |
Конференция Института ритмологии ИРЛЕМ - 2019 |
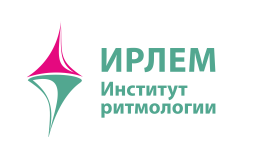 25-26 апреля 2019 г. состоялась конференция Института ритмологии ИрЛЕм, посвящённая Году Времён координатной жизни. В качестве слушателей в конференции приняло участие более 200 ритмологов и занимающихся Ритмометодом 7Р0. В этом году участники конференции осваивали интернет-пространство, находясь в разных точках территориально, но стремясь быть в «ритме единого времени».
25-26 апреля 2019 г. состоялась конференция Института ритмологии ИрЛЕм, посвящённая Году Времён координатной жизни. В качестве слушателей в конференции приняло участие более 200 ритмологов и занимающихся Ритмометодом 7Р0. В этом году участники конференции осваивали интернет-пространство, находясь в разных точках территориально, но стремясь быть в «ритме единого времени».
На конференции прозвучали 22 доклада в четырёх секциях: «Практика Ритмовремени», «Ритмология и русский космизм», «Ритмология и науки», «Знаки и знаковые системы».
Пленарные доклады обозначили цели и задачи исследовательской работы, направления ритмологических исследований. «Ритмология как наука.. обратно направлению течения всех наук, ... она как бы опустошает предыдущую научную деятельность и её замещает», – эта мысль Евдокии Дмитриевны Лучезарновой не единожды была озвучена выступающими, стремящимися выявить наиболее эффективные методы и приёмы ритмологической исследовательской работы.
В докладе И.А. Стрыжкова (ритмолог - консультант) были обозначены основные направления ритмологических исследований: ритмология исследует человека (как самого себя, так и других людей), ритмология исследует другие науки и наружный мир; и раскрыты особенности ритмологических исследований: "ритмологические исследования проводятся ритмологом из пустоты"; предметом и содержанием ритмологических исследований является переход мозга человека по рубежам восприятия.
М.А. Маевская (руководитель методического отдела) предложила создать инициативные группы, которые будут заниматься сбором, систематизацией и описанием результатов практической работы ритмологов разных направлений, благо, что опыта работы накоплено уже достаточно.
В этом году на приглашение принять участие в конференции откликнулись учёные. Как познакомить научный мир с ритмологией? – основной вопрос, который был ими поставлен. Д.А. Миронов (кандидат философских наук) предложил новую форму – ритмосемиотику как один из возможных путей введения ритмологических знаний в науку. Д.Л. Шкарин (методолог Центра развития тренинговых технологий) сказал о возможности возникновения новой науки, подобно пушкинистике, изучающей одну личность и её творчество с разных сторон и направлений, имея в виду книги и личность Евдокии Дмитриевны Лучезарновой.
Концепция времени и ритмовремени, методы работы со знаками, инструменты Ритмометода 7Р0, применение их в жизни человека – эти и другие темы были с интересом восприняты участниками конференции. И в каждом докладе – поиск путей взаимодействия с научным миром, поиск форм и методов показа преимуществ применения ритмологии и Ритмометода для человека в разных аспектах жизни.
Источник: Сайт института ритмологии ИРЛЕМ | http://irlem.ru
Метки: ИРЛЕМ ритмология ритмология наука ритмометод институт ритмологии конференция ирлем лучезарнова ирлем конференция |
Понравилось: 12 пользователям
Миронов Д.А. Тектология и ритмология: опыт сопоставления в контексте идей русского космизма |

Философский журнал «Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке» Том 8. №1А, 2019 | Изд-во: «Аналитика Родис» | Elibrary.ru
МИРОНОВ ДАНИЛА АНДРЕЕВИЧ
(кандидат философских наук)
ТЕКТОЛОГИЯ И РИТМОЛОГИЯ: ОПЫТ СОПОСТАВЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ИДЕЙ РУССКОГО КОСМИЗМА
Аннотация: В статье сопоставляются идейные представления двух авторов, которые принадлежат мировоззренческо-философскому течению русского космизма. А.А. Богданов — основатель концепции «тектологии» (науки об организации опыта) в начале XX века; Е.Д. Лучезарнова (Марченко) — создатель учения ритмологии (науки о ритме) в начале XXI века. Анализируются два авторских мировоззрения в антропологическом контексте истории русского космизма. При различиях в подходах выявляются общие сходные мировоззренческие черты. Во-первых, единство и примат практики и опыта над теоретическими построениями. Во-вторых, рассмотрение человека сквозь призму материалистического антропологизма: обе концепции вырастают из базового представления о человеке как о системе, организующим комплексом которой является мозг и сознание. В-третьих, в своих теоретических построениях оба автора ставят своей задачей преодолеть философию в пользу новой метанауки. Прослеживается единство двух концепций и в средствах осуществления заявленных целей и задач с помощью систем образов художественной литературы. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что идеи русского космизма не только не утратили своей актуальности и значения для русской философии в начале XXI века, но, напротив, развиваются в современности и получают широкий резонанс в обществе.
Ключевые слова: русский космизм, ритмология, ритм, ритмометод 7РО, эмпириомонизм, тектология.
«Русский космизм» является уникальным проектом русской философской мысли, который сформировался как мощная идейная платформа к началу XX века. Его основы были заложены во второй половине XIX века духовными усилиями Н.Ф. Фёдорова. Идеи скромного служащего Румянцевской библиотеки в Москве привлекли к себе живой интерес со стороны Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого и В.С. Соловьева. Фёдоровский проект «патронификации» — воскрешение мёртвых предков средствами науки ради воссоздания всеобщего братства — поистине неповторимое явление в мировой культуре. Крах исторического христианства, который постиг западный мир к началу XX века, вызвал диаметрально противоположные оценки в России и в западных странах. Если в странах Европы возглас Ф. Ницше: «Бог умер!» был воспринят интеллектуалами как сигнал к поиску новой онтологии и другого Начала (Ereignis), что нашло своего идейного вдохновителя в лице М. Хайдеггера, то в России кризис христианских идей получил иные трактовки: от революционных (отказ от христианских идей) до консервативных (возврат в византийству, как у Леонтьева). Русский космизм предложил своё решение: поиск новой духовной идентичности русского народа как развитие религиозно-утопического и мифологического сознания на материале христианских идей, являя собой третий путь — консервативно-революционный. Подспудно в данной интенции русских космистов прочитывается желание переосмыслить христианство как развитие божественной идеи о человеке антропологическими силами и средствами, отмежевавшись от обрядовой церковности; попытаться «снять» христианство, вернувшись к истокам — к платонизму с учётом русского культурно-исторического контекста. Проект Н.Ф. Фёдорова свидетельствует: не стоит дожидаться второго пришествия Христа (парусии), но должно усилиями человеческого разума и с помощью технологических средств науки взять духовное лидерство в попечении о человеке самому человеку. Мысль Ф.М. Достоевского о «всечеловеке», о которой он поведал в своей эпохальной пушкинской речи, примирив на время враждующие течения славянофилов и западников, говорит о том, что русский человек должен взять на себя бремя духовного становления человечества на Земле. Стать «всечеловеком», значит, вместить в себя все черты человечества, чтобы спастись в братской любви и разуме, преодолев разногласия и конфликты. Л.Н. Толстой в зените своего духовного восхождения в поиске истины приходит к мысли о религии разума, смыкаясь с мыслью И. Канта о «религии в пределах разума». В.С. Соловьев повествует о «теократическом государстве», в котором произошло бы объединение Западной и Восточной церквей, о новом становлении христианской теократической идеи.
Идеи русского космизма глубоко проникли в культурную ткань общественного сознания, их влияние не прекращается и поныне. Конкретное воплощение фёдоровские идеи получили в проекте советской космонавтики. Стоит отметить непрерывную цепочку идейного вдохновения, передававшегося, словно олимпийский огонь, от Н.Ф. Фёдорова к К.Э. Циолковскому (фёдоровскому ученику и последователю), а затем к С.П. Королеву (ученику Циолковского), который и воплотил в жизнь мысль о полёте человека в космос.
Идеи русского космизма получили настолько широкое распространение в литературе (А. Платонов, последователь Н.Ф. Федорова, И. Ефремов, братья Стругацкие), в музыке (А. Скрябин), в искусстве, в философии и науке, что сегодня любопытно найти область русской культуры, где бы не просматривались отголоски этих идей. Весь социалистический реализм советской эпохи так или иначе построен на идее достижения невозможного, являя черты проективно-утопического мышления (например, пятилетка в три года, ближайшее покорение Марса и т.д.). Данная тема заслуживает отдельных детальных исследований в философском, культурологическом и социологическом контекстах.
Дело даже не столько в утопическом сознании мыслящего слоя русской интеллигенции, сколько в удивительном прорастании зёрен идей русского космизма на благодатной почве мифомышления культурного сознания народа в целом в России XIX-XX вв в различных причудливых формах. В период СССР идеи русского космизма получили колоссальное развитие, пусть и не всегда зримое, однако весьма экстравагантное. Например, идея «богостроительства», которую развивали А.В. Луначарский и М. Горький — только один из ярких примеров духовных интенций союза русской интеллигенции и народных чаяний. Другим знаковым примером могут считаться философские идеи Александра Александровича Малиновского (Богданова). Будучи убеждённым марксистом, он явился одним из создателей и идейным движителем большевистского движения в России. Некоторое время был ближайшим другом и соратником В.И. Ленина, однако вскоре разошёлся с ним по идеологическим и философским соображениям, оставшись в памяти истории данного периода как марксист, но не ленинец. А.А. Богданов создал ряд научных трудов («Эмпириомонизм», «Тектология»), которые заложили основы системного подхода и методологии в современной науке.
«Основная идея «тектологии» (название было заимствовано А.А. Богдановым у Э. Геккеля, который употреблял это слово по отношению к законам организации живых существ) заключается в провозглашении единства строения и развития самых различных систем («комплексов» — по его терминологии) независимо от того конкретного материала, из которого они состоят, а также от уровня их организации (от атомарного до социального)» [1, с. 174]. Один из первых специалистов по творчеству А.А. Богданова А.Л. Тахтаджян определял тектологию как «всеобъемлющую науку об универсальных типах и закономерностях строения и развития систем» [2, с. 205]. Понятие комплекса привязано к телесности человека: количественное множество элементов, воспринимаемое с помощью разных органов чувств, складывается в качественные разнородности, которые, однако, образуют единство системы «человек».
К базовым принципам тектологии можно отнести следующие:
Принцип двойной взаимной регулирующей связи (идея биорегулятора), который сегодня широко используется при организации системы производства.
Принцип эмерджментности, который есть актуализация и развитие идеи Аристотеля о том, что свойства организованного целого больше, чем сумма организующих его элементов, а свойства дезорганизованного целого практически меньше суммы частей.
Принцип развития и способ существования любых систем, который проходит неизбежные системные метаморфозы: конвергенции и дивергенции.
Принцип необходимого сосуществования системы со средой как фактор для её развития.
Принцип кризиса как вызова для системы в пользу переструктурирования её элементов, благодаря которому обеспечиваются качественные скачки в развитии системы.
Кроме того, А.А. Богдановым сформулирован ряд важных методологических принципов, которые получили широкое признание в современной методологической науке.
Учёный выделяет два универсальных типа систем: централистический (эгрессия) и скелетный (дегрессия). Эгрессия (от лат. «выхождение из ряда») есть система, в которой выделяется высокоорганизованный комплекс (ядро), по отношению к которому все остальные комплексы рассматриваются как периферия. Дегрессия (от лат. «схождение вниз») — образование организационно низших комплексов, которые выделяются сложноорганизованными пластичными комплексами. Он сформулировал аксиому существования систем в среде: невозможно существование независимых и изолированных комплексов, все комплексы организованы средой. При этом и среда, и комплексы вступают в активное взаимоотношение друг с другом, что характеризуется их взаимным же изменением как результат взаимовлияния. А.А. Богданов анализирует и механизмы формирования и регулирования систем. К формирующим механизмам относятся: конъюгация (соединение комплексов), ингрессия (вхождение элемента одного комплекса в другой), дезингрессия (распад комплекса). Для универсального регулирующего механизма А.А. Богданов находит термин «подбор» (по аналогии с дарвиновским «отбором»). «Подбор» заключается в том, что сохранение форм в природе возможно лишь путём их прогрессивного развития. «Подбор» может быть как отрицательным (распад комплексов), так и положительным (с развитием и усложнением комплексов). Мир, с точки зрения тектологии, представляет собой многообразие взаимодействия различных природных начал. Любое событие является результатом взаимопроникновения этих начал друг в друга («конъюгация»).
Тектология А.А. Богданова сегодня рассматривается как одна из первых научных теорий систем [3]. Н.Н. Моисеев поставил тектологию в один ряд с таблицей Д.И. Менделеева и концепцией биогеохимии В.И. Вернадского [4, с. 43]. Тектология была для А.А. Богданова делом всей его жизни. «Этим завершается изложение общей организационной теории, поскольку она успела для меня выясниться. Дальше должны последовать специальные работы по приложению этой теории к отдельным областям науки, которые ей предстоит глубоко преобразовать» [5, с. 60].
Идеи А.А. Богданова перестали быть объектом внимания интеллектуальной элиты страны до начала 90-х гг. XX века по политическим причинам. С крахом советской идеологии его книги стали активно переиздаваться, а идеи получили «второе дыхание» на русской почве, в частности, в контексте идейной платформы русского космизма.
С начала 90-х гг. сформировалось учение ритмологии, автором которой является Евдокия Дмитриевна Лучезарнова (Марченко). Авторская концепция ритмологии представляет собой учение о ритме. Под ритмологией понимается «наука человека о времени», «ритмология — логика ритма» [6, с. 3]. «Ритмология — наука, позволяющая через знаковую систему выйти на ритм и объясняющая логику его работы» [7, с. 6]. По мнению Е.Д. Лучезарновой, вся Вселенная говорит на языке ритмов, которые поддаются расшифровке благодаря тому, что человек обладает уникальным инструментом познания — мозгом. Мозг человека в состоянии работать с ритмами космоса и производить их сам. Учение Е.Д. Лучезарновой как раз и представляет такую методику, которая оформилась в ритмометод 7Р0.
Время, по определению автора ритмометода, представляет собой субстанцию, которая имеет физическую природу и которая рано или поздно будет зафиксирована инструментально наукой. Опираясь на эксперименты Н. Козырева о «физике времени», Е.Д. Лучезарнова предлагает свою методику работы с ритмами. Ритм автор определяет как «кусочек живого времени, оформленный определённым образом словами» [8, с. 3]. Давая другое определение: «ритм — особая жанровая форма, за счёт определенным образом организованной структуры текста, создающая заданные вибрации и содержащая время как субстанцию, способную организовать не только окружающее пространство, но и регулировать человеческие связи» [7, с. 6], автор ритмометода создала серию книг-ритмов («Многомерность уникальности» в 63 томах, «Звёздные ритмы времени» в 18 томах). Ритмотексты Е.Д. Лучезарновой представляют собой особым образом организованный поэтический текст, который, по авторскому замыслу, должен приблизить человека к космической субстанции времени во Вселенной, поскольку «ритмы состоят из времени» [8, с. 24].
Е.Д. Лучезарнова полагает, что человек, начавший заниматься ритмологией (читать ритмотексты, делать специальные упражнения-ритмики, слушать и смотреть аудио- и видеоритмоконтент), получает шанс осмыслить собственное время внутри себя посредством расширения акта самосознания. Ритмометод 7Р0 может рассматриваться в таком контексте одновременно и как психотренинг, и как мировоззренческо — философская метафизическая доктрина на основе идей русского космизма. Следует особо подчеркнуть, что ритмометод предполагает активное участие человека и практическое его освоение через анализ собственной жизненной ситуации. «Ритмология — когда мы входим в свою память, и все события жизни выстраиваются в единую логическую цепочку» [6, с. 145]. Кроме того, «время можно выделять», т.е. обозначенная ритмологическая работа со временем предполагает освоение времени таким образом, что человек получает психологическое ощущение организатора и руководителя собственного времени.
Идея системной целостности и организованности во Вселенной у Е.Д. Лучезарновой получила новое неожиданное продолжение. Системность рассматривается ею через понятие «ритм». Ритм, по её мнению, есть всеобщее условие организации всего сущего, в том числе жизни. Именно ритм является той мерой, по которой можно судить о степени организованности или дезорганизованности системы. Человек, с этой точки зрения, есть система среди систем, подчиняющаяся законам ритма, по которым существует всё во Вселенной. Преимуществом человека среди других систем является его способность не только усваивать внешние ритмы космоса, но и способность производить ритмы. «Человек состоит из двух субстанций. Субстанции разума и субстанции тела, или материи» [6, с. 10]. «Человек зависит от внутреннего ритма» [6, с. 20], т.е. способен не только овладеть ритмами космоса, но и самостоятельно творить ритмы. «Человек — это тот, кто уже может сам творить» [8, с. 219]. Причём Е.Д. Лучезарнова различает несколько фаз развития человека в рамках Homo sapiens, прослеживая эволюционные ступеньки развития от Homo к sapiens: от землянина, который в большей мере представляет из себя только тело с его психофизиологическим комплексом и потребностями, к человеку разумному (человеку, овладевшему ритмологией).
Системность воззрений Е.Д. Лучезарновой состоит в различении времени и пространства, энергии и информации: пространство — это объём, заполняемый различными формами материи, способной менять свои характеристики под воздействием потоков времени. Энергия — это основа протекания / существования природных процессов. Информация — основа протекания / существования социальных процессов. Метафизика ритмологии строится вокруг представлений о времени, где время – своеобразный аттрактор всей системы комплексов сущего. Время является питающим светом пространства, энергии, информации. Время представлено в текстах Е.Д. Лучезарновой как основа лучевой вселенной, где луч — это источник разума и времени: луч-свет-мир — такова иерархия основного закона этого мира.
Энергия разделяется на ядерную (плотную, телесную): «вся ядерная энергия направлена на перестановку в пространстве», тогда как «существует и неядерная энергия» [9, с. 5]. Неядерная энергия связана с пробуждением в человеке самосознания и обретения разума. «Люди <…> умеют переизлучать время. Это и есть неядерный источник энергии» [9, с. 7]. Представление о «переизлучении» является важным концептом в учении Е.Д. Лучезарновой, оно обозначает возможность сознательного переструктурирования времени посредством ритмологической практики и ритмодействия. «Если человек начинает мыслить, он начинает переизлучать» [9, с. 7].
Другим важным положением ритмологии является представление о циклах. «Цикл — это повтор, повторение, а ритм — это первотолчок, процесса ещё нет, он пойдет позже, идёт только самое первое прикосновение. Процесс идёт только в пространстве, во времени же процессов нет» [9, с. 7].. Представления Е.Д. Лучезарновой о времени, которое, являясь физической субстанцией, вместе с тем, не может быть описано ни через какие физические понятия, позволяет рассуждать о нём в «меонических категориях» (не-сущего). «Неядерные источники энергии позволяют нам порождать энергию как бы ниоткуда» [9, с. 17]. А это, в свою очередь, открывает простор для проективно-утопических идей, которыми прославился русский космизм: наступление 5-й и 6-й расы лучистых, лучевого питания и др., которым посвящены многие тексты Е.Д. Лучезарновой. «Наступает эра неядерной энергии» [9, с. 28].
Потенциал «безумных идей» русского космизма не только не канул в Лету истории, но получил бурное развитие к началу века XXI-го в нашей стране. Представления и метафизические идеи А.А. Богданова и Е.Д. Лучезарновой (Марченко) сближаются в ряде пунктов, которые позволяют высказать гипотезу о концептуальном единстве и преемственности представлений на основе мировоззренческого поля идей русского космизма:
1. Преодоление философии: и А.А. Богданов, и Е.Д. Лучезарнова стремятся в своих теоретических построениях преодолеть философию как разрозненную совокупность систем философии разных авторов в пользу построения единой концепции метанауки. По мнению А.А. Богданова, «философия не может творить чудес, — а между тем разрешение поставленной перед нею задачи с её наличными средствами были бы именно чудом» [11, с. 316]. Эмпириомонизм снимает проблему материи и духа посредством рассмотрения психического (душа, дух) как индивидуально организованного опыта, а материального (тело) как социально организованного опыта, т.е. различая степени организации опыта внутри системы «человек». Для Е.Д. Лучезарновой философия есть праматерь всех наук, однако, образно говоря, дети (науки) вырастают и идут дальше. Вселенная и человек вступают во взаимодействие через ритм, который является универсальным организующим началом всего сущего, и ритмология может рассматриваться как прообраз такой метанауки будущего.
2. Материалистический антропологизм: обе концепции рассматривают человеческую психику в качестве материального процесса и вырастают из базового представления о человеке как о системе, организующим комплексом которой является мозг и сознание. А.А. Богданов развивает концепцию «эмпириомонизма», в основе которой лежит реалистический взгляд на сознание и психику человека, являющимися действительным отражением объективной реальности. Практика и опыт являются решающим фактором, который помогает человеку сформировать себя человеком и преобразовать мир. Эмпириомонизм есть опыт плюс организация. Е.Д. Лучезарнова предлагает рассматривать опыт и организационные процессы сквозь призму представлений о ритме, в которых «человек — это ритм» [10, с. 9], выстраивая теоретическую концепцию ритмологии и практический ритмометод 7Р0 как антропологию.
3. Организационная наука будущего сквозь призму опыта. Опыт: субъективный и коллективный — положен в основу обеих концепций в качестве категории познания. «Всякая человеческая деятельность объективно является организующей и дезорганизующей. Это значит: всякую человеческую деятельность — техническую, общественную, познавательную, художественную — можно рассматривать как некоторый материал организационного опыта и исследовать с организационной точки зрения» [5, кн., с. 69]. Таким образом, «все интересы человечества — организационные», «а отсюда следует: не может и не должно быть иной точки зрения на жизнь и мир, кроме организационной» [5, кн., с. 71]. Ритмология подхватывает эти мысли и творчески реализовывается в ритмометоде 7Р0. Е.Д. Лучезарнова высказывает смелое предположение, что главным организатором всего сущего является ритм. «Что значит ритм? – кусочек живого времени оформлен определённым образом словами. Когда вы начинаете прочитывать Ритм, к вам приходит живое время, поэтому ритмы проникают в любую проблему и убирают её. Ритм выбирается по слову-организатору: вы выбираете какое-то слово, одноимённое с вашей проблемой, находите нужный ритм и его прочитываете. Живое время «входит» в проблему, и она исчезает, так как время всегда порождает пространство, а проблемы живут в пространстве» [8, с. 14].
Наука об организации опыта выдвинута в проекте тектологии А.А. Богданова как задача «объединения всего организационного опыта человечества в особую общую науку об организации» [11, с. 322], предложив свой оригинальный путь построения тектологии от философии к организационной науке. «Область организационного опыта совпадает с областью опыта вообще» [5, с. 73]. У Е.Д. Лучезарновой находим не менее дерзкую программу: «наука ритмология, или мы назовем её «искусство ритмологии» (это и наука, и искусство, и культура, и всё-всё сразу)» [10, с. 26]. «Обычный человек работает только в трёх координатах и время для него — это просто календарь. А ритмология начинается с того, что время — это физическая величина, с которой можно работать. Её можно сгущать и помещать внутрь мозга» [1, с. 17].
4. Реализация обозначенных программ с помощью художественных средств. А.А. Богданов является автором ряда романов: «Красная звезда», «Инженер Мэнни», «Праздник бессмертия», которые рисуют утопические проекты возможной практической реализации идей тектологии и эмпириомонизма в будущем социальном пространстве человечества. В творчестве Е.Д. Лучезарновой также представлены художественные произведения в русле той же проективно-социальной тематики: книги «ИРЛЕМ», «Радастея», «Дверной звездолёт», в которых на языке образов и метафор рассказывается о возможной реализации ритмологической программы в отдалённом будущем.
Таким образом, проект русского космизма исторически является своего рода творческой идейной площадкой для свободной реализации смелых идей, не вписывающихся в современный контекст научных идей. В случае с А.А. Богдановым идея тектологии как всеобщей организации опыта получила признание лишь спустя более полувека полнейшего забвения его творчества. Сегодня возвращение его идей в оборот научной мысли в качестве методологических составляющих теории организации и систем символически восстанавливают историческую справедливость. Мысли А.А. Богданова нашли своих преемников среди многих учёных современности. Е.Д. Лучезарнова (Марченко), взяв за основу мысль о необходимой организации всего сущего, выстраивает собственную концепцию организации и опыта человеческого бытия через понятие о ритме, создавая в наше время науку ритмологию, которая суммирует и развивает идеи русского космизма на новом витке знаний о человеке и Вселенной.
Список используемой литературы:
- Александр Богданов / Т.С. Протько, А.А. Грицанов. – Минск : Книжный дом, 2009. – 256 с. – (Мыслители XX столетия).
- Тахтаджян А.Л. Тектология: история и проблемы // Системные исследования. Ежегодник. – М.: Наука, 1971.
- Уёмов А., Сараева И., Цофнас А. Общая теория систем для гуманитариев. – Варшава: Universitas Rediviva, 2001.
- Моисеев Н.Н. Люди и кибернетика. – М.: Молодая гвардия, 1984.
- Богданов А.А. Тектология. Всеобщая организационная наука / под. ред. Акад. А.Л. Абалкина, акад. А.Г. Аганбегяна, акад. Д.М. Гвишиани, акад. А.Л. Тахтаджяна, докт. биол. наук А,А, Малиновского. – М.: Экономика, 1989. Кн. 1 – 304 с., Кн. 2 – 351 с.
- Марченко Е.Д. Прочти себя / Ритмология: неделя за неделей. – СПб.: Авторский Центр «РАДАТС», 2008. – 280 с.
- Лучезарнова Е.Д. Обо мне заботятся. – СПб.: «Ритмовзлёт», 2013. – 216 с.
- Марченко Е.Д. В русле времени, в режиме пространства. – СПб.: Авторский центр «РАДАТС», 2000. – 304 с.
- Марченко Е.Д. Ритмология об экономике и управлении. – СПб.: Авторский центр «РАДАТС», 1999. – 56 с.
- Марченко Е.Д. Освобождение от энергий. – СПб.: Авторский центр «РАДАТС», 2005. – Т. 1. – 512 с.
- Богданов А.А. Философия живого опыта. – 3-е изд. – СПб., 1923.
-
Лучезарнова Е.Д. Человек и время. – СПб., 2017. – 56 с.
Автор статьи: Миронов Данила Андреевич, кандидат философских наук (Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова Мин. здравоохранения РФ).
Первоисточник статьи: Философский журнал «Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке» Том 8. №1А, 2019 | Стр. 64-72. | Изд-во: «Аналитика Родис»
Источник публикации: НОВОСТИ НАУКИ 2018/2019: https://nauka-news.okis.ru/news/1484008

|
Шкарин Д.Л. Шелестюк Е.В. Аффирмация, молитва, ритм как дискурсивные практики: прагмалингвистический анализ |
Это цитата сообщения VEKTOR_RAZVITIYA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
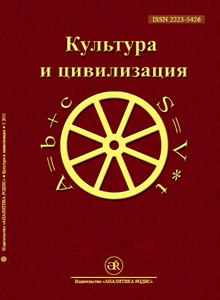 В научной статье "Аффирмация, молитва, ритм как дискурсивные практики: прагмалингвистический анализ" профессора, доктора филол. наук Шелестюк Е.В. и методиста ЦРТТ ЧелГУ Шкарина Д.Л. , опубликованной в культуроведческом журнале "Культура и цивилизация" (Том 9. №1А, 2019. Стр. 86-99. | УДК 81.23.), авторами проводится анализ аффирмаций, молитв и ритмов в контексте соответствующих дискурсивных практик.
В научной статье "Аффирмация, молитва, ритм как дискурсивные практики: прагмалингвистический анализ" профессора, доктора филол. наук Шелестюк Е.В. и методиста ЦРТТ ЧелГУ Шкарина Д.Л. , опубликованной в культуроведческом журнале "Культура и цивилизация" (Том 9. №1А, 2019. Стр. 86-99. | УДК 81.23.), авторами проводится анализ аффирмаций, молитв и ритмов в контексте соответствующих дискурсивных практик.
Аннотация. В статье проводится анализ аффирмаций, молитв и ритмов в контексте соответствующих дискурсивных практик. Выдвигается тезис о целесообразности их рассмотрения как полноценных коммуникативных актов с учетом определения специфики адресатов.
Данный прием позволяет применить прагмалингивстический инструментарий дискурс-анализа для выделения отличительных особенностей аффирмативной, молитвенной и ритмологической практик. В результате выделяются интенциональное своеобразие и контекстуальные условия их реализации. В статье подчеркивается необходимость выделения как минимума двух уровней реализации каждого вида практик: экстенсивный, предполагающий включение дискурсивной практики, в контекст повседневности, и интенсивный, предполагающий выстраивание целостной деятельности для достижения ее внутренней сверх-цели.
Ключевые слова: Дискурсивные практики, прагмалингвистика, речевые ритуалы, ритмология, трансформативы, аффирмация, молитва, ритм.
С точки зрения прагмалингвистики сравнительный анализ молитвы, аффирмации и ритмов представляет значительный исследовательский интерес, так как позволяет выделить и последовательно соотнести нелингвистические условия осуществления дискурсивных практик в условиях специфичной/нестандартной коммуникативной ситуации. Существенной особенностью обозначенных видов дискурсивных практик является своеобразие коммуникативных адресатов речи при несомненной диалогичной интенции дискурса. Аффирмации, молитвы и ритмы представляют собой с разной степенью формализации регламентированные речевые акты, предполагающие следование системе норм и правил своей реализации [1]. Для вычленения и описания этих норм мы будем использовать фреймовый анализ [3], понимая его в двойном функциональном значении: методическом и предметном. Методическая функция заключается в удобстве систематизации и структурной организации рассматриваемого материала в виде сопоставимых между собой формализаций речевого процесса. В методическом контексте аффирмации, молитвы и ритмы предстают как разновидности речевых ритуалов, регламентируемые и управляемые комплексами когнитивных, аффективно-волевых и поведенческих установок, упорядоченных соответствующими алгоритмами реализации. Предметная же функция фреймового анализа заключается в придании фреймам онтологического статуса, как реальным процессам организации опыта, имплицитно или эксплицитно сопровождающих осуществление данных видов дискурсивных практик. И в этом аспекте результаты фреймового анализа могут представлять инструментальную ценность в качестве материала для последующего осмысления в рамках социологии, культурологии и социальной философии.
Структурные составляющие коммуникативной ситуации
Аффирмация. Аффирмации, понимаемые нами в рамках данного исследования исключительно как самоаффирмации, представляют собой речевое воздействие говорящего на самого себя в акте аутокоммуникации [11, 12]. Луиза Хей, популяризатор практики аффирмаций, предлагает понимать под ними любую мысль или утверждение человека относительно самого себя: «Вы делаете жизнеутверждающие заявления для самого себя, созидая новый жизненный опыт каждыми словом или мыслью» [11]. В этом заключается своеобразие и парадоксальная неоднозначность адресата речевого воздействия. Действительно, если реципиентом воздействия выступает сам говорящий, то, на первый взгляд, представляется избыточным речевое опосредование воздействия. По этой причине феноменологический анализ позволяет интерпретировать ситуацию аутокоммуникации как фиктивный диалог, то есть как воображаемую коммуникацию с образом самого себя. Лингвистическое направление аналитической философии преодолевает данную логическую неоднозначность введением перформативного статуса речевого акта с богатым репертуаром иллокутивных целей и форм высказывания [10]. Соответственно, меняется и логическая интерпретация коммуникативных форм: утверждение интерпретируется не как информативный акт передачи требуемой и недостающей информации, где в случае совпадения адресанта и адресата речевое опосредование становится избыточным (утверждение как сообщение), а как процесс реализации позиции говорящего (утверждение как волевое утверждение). Именно в этом логическом статусе аффирмативы приобретают свой коммуникативный смысл и позволяют анализировать аффирмации с учетом целостных серий речевых актов, классифицируемых по целевым основаниям: аффирмации как директивы, декларативы, вердиктивы и т.д. в отношении самого себя. С учетом перформативного статуса аффирмации в структуре коммуникативного акта становится возможным выделять целостные комплексы реципиентов с учетом многообразия спецификаций/модификаций субъекта по логическим основаниям: 1. репертуары ролевых идентификаций (Я как человек, Я как гражданин, Я как возможность себя в будущем, Я как одобряемое проявление себя и т.п.); 2 состояния и качества субъекта (Я как здоровый, Я как мудрый, Я как жизнерадостный и т.п.); 3. функциональные и составные части (Я как внимание, Я как умение, Я как сердце, Я как дыхание и т.п.). Таким образом, в общем виде структура аффирмации как коммуникативного акта предстает в следующем виде:
|
Субъект высказывания→Текст (аффирмативная формула)→Реципиент как спецификация субъекта |
Молитва. Молитвы в прагмалингвистическом ракурсе являются речевыми актами, обращенными к трансцендентной инстанции, персонифицированной или специфицированной рамками той или иной религиозной конвенции. В этом плане полезно учитывать различие, акцентированное М. Моссом и отделяющее религиозное отношение от всей сферы магического, - вертикальные отношения сакрального: «молитва - это религиозный речевой ритуал, воздействующий непосредственно на сакральные предметы» [9]. Иными словами, никакое заклинание или заговор не могут быть приравнены молитве по причине того, что их адресат находится на том же уровне профанного измерения, где находится и адресант, хотя сами эффекты изменения посюстороннего положения вещей могут подразумеваться как прагматические следствия молитвы. Это своеобразие адресата, в конечном итоге, определяет и всю остальную специфику данного типа коммуникации в отношении, целей, форм и условий его осуществления. В то же время, своеобразие адресата и его несопоставимость со сферой профанного не означает некоммуницируемости границ трансценденции. Поэтому в прагмалингвистическом смысле молитва нами квалифицируется не как монологическая форма перед инстанцией сакрального, а как полноценный диалогический акт со всеми качественными критериями, составляющими условия его эффективности.
Выделенные основания для адресата молитвы оставляют в данной статье вне сферы рассмотрения все многообразие коммуникативных актов, входящий в круг ритуальной магической практики, от традиционных заговоров, заклинаний, причитаний и т.п. до современных форм взаимодействия с разнообразными модернизированными сущностями, изучаемыми в рамках постфольклора и аналитики кибер-культов. То есть коммуникация с душами умерших, многообразными духами и сущностями вещей, информационными симулякрами не подпадает под данное определение, если не соотносится, с одной стороны, с утвердившимися социальными конценциями и не отвечаеттребованию вертикальных отношений с адресатом, с другой. В то же время, мы сознаем условность этих критериев, поэтому косвенно учитываем, что живая коммуникация с личными божествами, - как, например, в шейлаизме, - структурно ничем принципиально не отличается от традиционных форм молитвенной практики.
Структурная схема молитвенного коммуникативного акта определяется нами следующим образом:
|
Субъект высказывания→Текст (форма молитвы)→Реципиент как спецификация трансцендентного |
Ритм. Говоря о ритмах, мы не просто обращаемся к темпоральной организации речи, изучаемой, например, в соответствующих разделах стиховедения, а рассматриваем практики обращения со специально организованными текстами (ритмами) в рамках ритмометода. Суть метода словами его автора Е.Д. Лучезарновой состоит в следующем: «Ритмы приходят из времени. При погружении в пространство происходит материализация. Сила ритма – в возможности материализовать на своем участке жизни любое событие» [7]. Таким образом, под ритмами мы будем понимать семиотические структуры, содержащие в себе, определенный онтологический потенциал действия, раскрывающийся в процессе их рецитации/произнесения или прочтения. Поскольку это достаточно новый и малоизученный феномен коммуникативной деятельности, то для нас имеет особое значение выделение точных отличительных характеристик чтения ритма как дискурсивной практики в сопоставлении с традиционными практиками, являющимися постоянными объектами прагмалингвистического анализа. В первом приближении мы сталкиваемся с двумя основными методическими трудностями структурирования коммуникативной ситуации. Первый вопрос, является ли рецитация ритма коммуникативным диалогическим актом. Отвечая на этот вопрос, мы оказываемся в кругу дискуссий, близким обсуждению статуса поэтической функции речи: от символизма до формализма и структурной семиотики, представленных, в частности, в идеях Н. Трубецкого, Р. Якобсона и более поздних последователей пражской школы семиотики. Одна из ветвей этих дискуссий ведет в направлении связывания поэтики с заклинательной магической практикой в аспекте ее генезиса. Отсюда особое внимание к сравнительному фоносемантическому анализу и семиозису мифологических схем, подпитывающих в свою очередь психолингвистические исследования механизмов воздействия речи на состояния сознания реципиента. Мы бы хотели удержаться от следования этой линии, поскольку в результате ускользает сама суть вопроса о диалогической структуре именно акта рецитации, - синхронно перцепции, - ритма. Чтобы остаться в рамках прагмалингвистики, мы сосредотачиваем внимание именно на факте обязательности рецитации ритма, как маркере коммуникативной ситуации. Соответственно, возникает вторая методическая тонкость, заключающаяся в вопросе, кто является адресатом сообщения. Если мы отвечаем, что адресатом является сам субъект высказывания, то оказываемся в привычном поле аффирмативной практики как мы ее определили ранее. И, в таком случае, речь идет о разновидностях форм и механизмов самовнушения. Если мы отвечаем, что адресатом является трансцендентная сущность, то оказываемся в поле молитвенной практики с необходимостью спецификации адресата по вертикальной оси сакральности либо соотнесения с религиозными или магическими конвенциями (вопрос о неизбежности магических конвенций, - а значит и о социальной обусловленности магической практики, - многократно дискутировался во французском структурализме). Поскольку выбор адресата в данном анализе имеет принципиальное значение, то мы четко обозначаем свою позицию, которая соответствует гипотезе семиотического адресанта рецитации ритма. Поясним, что мы имеем в виду, говоря о семиотическом статусе адресата. Это означает, что момент произнесения определенного текста имеет целью актуализацию самого текста как реализацию заложенного в нем потенциала действия. Аналогом может служить феномен пароля или активирующего шифра, но с учетом того, что здесь не подразумевается конвенциональность шифра, наличие второго коммуникатора или автора шифра. Более точно было бы сказать, что ритм - самооактивирующийся шифр в процессе его рецитации.
Таким образом, у нас появляется еще одна версия структуры коммуникативного акта:
|
Субъект высказывания→Текст (ритм)→Реципиент как активированный семиотический объект |
Интент-анализ коммуникативных актов
Разделение иллокутивной силы и предметной направленности всех трех типов коммуникативных актов для нас имеет решающее значение, поскольку аффирмативные, молитвенные и практики ритмометода полностью соответствуют целостной системе жизнедеятельности субъекта во всех ее аспектах и в связи с этим неразличимы по своему содержанию, но абсолютно подчинены перформативной логике в ее отличии от логики дескриптивной. Это обусловлено тем, что ни сам субъект, ни трансцендентная инстанция, ни семиотический объект априори не нуждаются в получении дополнительной информации о состоянии дел, что и делает дескрипцию избыточной. Решающую роль играют исключительно намерения/интенции субъекта высказывания. Поскольку же существует множество таксономий иллокутивных актов и дополнений к ним, мы в рамках данного анализа не будем заниматься сведением целевой направленности молитв, аффирмативов и ритмов к существующим таксономическим сеткам, а, напротив, зайдем со стороны внутренней интенциональной структуры, задаваемой логикой отношений адресанта и адресата высказывания. Это позволит на втором шаге установить соответствия с видами иллокутивных актов, к какой бы таксономии они ни принадлежали.
Аффирмация. Поскольку адресантом аффирмации выступает сам субъект высказывания, то, на наш взгляд, уместно акцентировать статус любого иллокутивного акта как включенного в метарамку самой аффирмации. При этом мы учитываем, что наше прочтение аффирматива отличается, например, от трактовки В.В. Богданова [2] , который предлагает рассматривать аффирматив как неинституциональный акт сообщения неизвестной информации. Но в нашем случае, во-первых, информация не может быть неизвестна субъекту по определению, во-вторых, аффирмация это и не сообщение как следствие ее не информативности. Чтобы вычленить интенциональное значение аффирматива мы должны понимать, что в эту рамку попадает широкий диапазон речевых актов от долженствования до экспрессивных оценок. Для наглядности рассмотрим внутри аффирмации простейший иллокутивный акт директива - высказывание в повелительном наклонении: «Следуй предложенному плану». Если мы рассматриваем коммуникацию в качестве интерсубъективного взаимодействия, распределенного между несколькими субъектами, то директивный акт предполагает независимость волевого решения другого субъекта, которая проявится либо с согласием действовать запрашиваемым образом либо отказом. Согласие проявится на коммуникативном уровне комиссивом (речевой акт взятия обязательств) и исполнением действия на нелингвистическом уровне.: «Обещаю придерживаться предложенного плана». В случае аутокоммуникации, воля запрашивающей и запрашиваемой инстанции совпадут на уровне полного тождества, так как принадлежат одному и тому же субъекту. В этом смысле, приказ себе как требование от себя определенного действия и обещание себе как взятие обязательств перед собой за совершение определенного действия становятся полностью равнозначными как формы одного и того же аффирматива (утверждения себя как субъекта в отношении определенного действия). «Я следую предложенному плану». Нетрудно отследить, что та же сама логика воспроизводится и на всех остальных видах иллокутивных актов. В данной логике декартовская формула «мыслю, следовательно, существую» является первичной аффирмацией – утверждение себя как субъекта различающей мысли, но не дескрипцией и не перформативом в плане интерсубъективной коммуникации. Соответственно, любой тип аффирмации можно мыслить как модификацию утверждения того или иного субъектного модуса (возможности, желания, долженствования) на любом предметном содержании в любом хронотопическом масштабе и на любом логическом уровне обобщения. Ср. аффирмативы: - Я хочу поставить левую ногу вперед. – Я способен оставить неизгладимый след в истории человечества. Иными словами, субъект аффирмации в любом аффирмативном акте не сводится к содержательной спецификации/модификации адресата, являясь и оставаясь утверждающей инстанцией. И вся история субъекта в этом ракурсе предстает как индивидуальная аффирмативная траектория, составленная из цепочек утверждений локальных субъектных модусов. Таким образом, с точки зрения интенциональной направленности аффирматив является самостоятельным видом речевого действия, направляющим субъекта к утверждению себя в качестве тех или иных модификаций, спецификаций или атрибутов самого себя. Сущностное определение аффирматиции: аффирмация – волеизъявление субъекта относительно самого себя, проявляющееся в утверждении когнитивной, аффективно-оценочной или поведенческой позиции субъекта.
Молитва. Молитвенный коммуникативный акт предполагает прежде всего учет вертикального ассиметричного соположения субъекта высказывания и его адресата. Вертикальная ассиметричность внутри отдельных теологий может пониматься, как производность, зависимость или вторичность субъекта молитвы относительно ее адресата [9]. Поэтому единственным ограничением на выбор перформативной формы оказывается принципиальная невозможность подчинения воли адресата намерениям адресанта, то есть невозможность требования. Все прочие формы допустимы как в теоретическом так и феноменальном плане: например, молитвенная исповедь как дескриптив, воспевание имени Божьего как экспрессив и т.п. Фактически, триада: «Слава тебе, господи», «Господи, помилуй» и «Благодарю тебя, господи», центрирует на себе многообразие развернутых форм коммуникации с высшей инстанцией [14]. Но при всем многообразии молитвенных практик обращает на себя внимание выделенность и разработанность речевых актов прошения, как единственно допустимом формате волевого взаимодействия в условиях вертикального соподчинения. Таким образом, в молитвенной практике просьба составляет фрейм, включающий в себя зависимые от него конкретные иллокутивные позиции. То есть, к примеру, молитвенная исповедь в метарамке просьбы предстает не как повествование о себе, а как просьба о прощении или покаянная молитва; прославление божества – не как акт чистой беспричинной экспрессии, а как взывание к милости божьей и благодарение за нее и т.п. При этом просительная интенция настолько конститутивна для молитвенного акта, что даже обращение к недифференцированной инстанции автоматически ассоциируется с молитвой («Не знаю, кто ты и есть ли ты, но прошу тебя, помоги мне»). Собственно и само значение перформативного глагола «молить» указывает на выделенность просьбы как интенциональной направленности молитвенного речевого акта. Таким образом, молитва в контексте прагматики предстает в качестве формы запроса на волеизъявление вышестоящей трансцендентной инстанции.
Ритм. Для вычленения интенционального значения акта чтения ритма сделаем несколько предварительных замечаний, касающихся таких явлений как имяславие, мантризм и заклинательная формула. Общим моментов перечисленных феноменов является представление о том, что семиотическая структура способна содержать в себе то, значением чего она и является. Так, к примеру, в случае имяславия актуализировано убеждение, что в словах умной молитвы непосредственно заключено божие присутствие. Подобные же представления распространены в индуистских воззрениях на значение определенных звуковых комплексов, таких как священный слог Аум, в которых непосредственно явлена трансцендентная природа универсума не только на уровне означаемого, но и на уровне означающего в их неразделимом единстве. Соответственно, рецитация имени божьего, мантры или заклинательной формулы не является знаковым посредником между субъектом высказывания и его реципиентом, а непосредственно вмещает и воплощает адресата в его звуковом обличии на момент проговаривания. Естественно, что в рамках ортодоксальных христианских доктрин подобная трактовка близка к ереси и не имеет отношения к молитвенной практике, если только не понимать причастность слова к божественной субстанции в общем расширительном смысле. В символизме и структурализме интерес к этой стороне семиотических структур двигался в направлении изучения феномена глоссолалии как в лингвистическом, так и в социокультурном аспектах. Что касается прагмалингвистического измерения, то нам важно зафиксировать отдельный вид иллокутивного акта, заключающийся непосредственно в трансформации наличной мировой ситуации вследствие непосредственного озвучивания определенного текста. В то же время эта трансформация сущностно не обусловлена социальной конвенцией и не требует в структуре своего осуществления определенных социальных ролей участников коммуникации, как, например, в таких перформативах как декларативы, вердиктивы и постановления («Суд постановляет признать Xневиновным в совершении преступления Y»). В то же время декларативы и постановления близки рассматриваемому нами феномену поскольку обладают необратимым характером во времени (до следующего постановления) и перформативно трансформируют реальность в направлении устанавливаемой нормы в момент своего оглашения. Чтобы подчеркнуть необратимый трансформативный характер подобных речевых действий и в то же время вывести их из ряда социально-контекстуальных актов (декларативы, вердиктивы, признания и постановления), мы считаемым возможным использовать технический термин трансформатив в значении, частично совпадающим со значением предложенным Михаилом Эпштейном: трансформатив не просто объективирует речь, делает ее объектом описания, как метаязык, но изменяет изнутри ситуацию речи, делает ее иной для самих говорящих [15]. В этом плане, ритм не является в отличие от аффирматива утверждением определенного состояния субъекта за счет апелляции к волевому ресурсу самого субъекта или в отличие от молитвы запросом на волеизъявление какой-либо вышестоящей инстанции, хотя изменение субъекта говорения и может быть одним из эффектов активизации трансформационного потенциала, заключающегося в самом построении ритма. Таким образом, в случае, касающемся ритмов, определение интенциональной направленности будет скорректировано следующим образом: ритм – это трансформатив, который не только объективирует определенную ситуацию, но и в момент произнесения делает ее иной для самого субъекта.
Прежде чем перейти к следующему блоку анализа подведем промежуточный итог относительно интенционального статуса трех дискурсивных практик. Критерием оценки действенности выделенных нами метарамок аффирмации, молитвы и ритма является, с одной стороны, их различительная сила, позволяющая отделять дискурсивные практики друг от друга, с другой стороны их внутренняя мощность, позволяющая объединять различные коммуникативные акты внутри конкретной практики. В этом плане любая комбинация и перенос выделенных нами интенциональных значений с одного вида дискурсивной практики на другой делает дискурс прагматически несостоятельным либо превращает его в разновидность косвенного речевого акта. Например, утверждение себя как субъекта существования перед лицом божественной инстанции прагматически бессмысленно, как и просьба к себе быть разумным. Точно так же произнесение аффирмации на счастье самим актом произнесения не превращает субъекта в счастливого человека, как и ритм ничего не запрашивает у вышестоящей инстанции и ничего не требует от самого субъекта дискурсивной практики.
Коммуникативные ситуации и контекстуальные модели при рецитации аффирмации, молитвы и ритма
Коммуникативная ситуация, включая свои структурные составляющие, учитывает процессы и смежные коммуникации практики. Так, например, практика молитвы как правило входит в состав определенных ритуалов и упорядочена по календарным циклам либо согласована по событийным рядам. То же касается и аффирмаций, что находит отражение в инструкциях и рекомендациях по эффективному самоуправлению. Ритмы также раскрывают свой потенциал, встраиваясь в контексты ритмики или ритмологии в зависимости от целей и способов установления отношений между ритмами, событиями и субъектами практики. Что касается контекстуальных моделей, то дискурс-анализ предполагает учет ментальных картин мира [3] , внутри которых сами практики могут получить осмысленное объяснение, с одной стороны, и задать конечные целевые ориентиры как некоторые абсолюты для самих субъектов дискурса.
Аффирмация. Коммуникативная ситуация в аффирмативных практиках связана прежде всего с необходимостью структурировать поведение субъекта во времени. Соответственно, можно говорить об аффирмативных настройках и непосредственно об оперативном управлении по ходу разворачивания поведения. В плане настроек наиболее популярны суточные регулярности: например аффимации на сон и по пробуждении, а также длинные циклы, чаще всего соотносящиеся с распространенной идеологемой «Изменение за 21 день» [12]. Предполагается, что общее развитие аффирмативной практики идет в направлении: от развернутых словесных формул к свернутым; от внешнего озвучивания к внутренней речи; от сознательного контроля к автоматизму; от поведенческого контекста к глубинным, ядерным структурам идентичности. В плане упорядочивания содержания чаще всего используется иерархия нейрологических уровней[6], выстроенная в вертикальную цепочку: окружение ®поведение ®способности ®ценности ®идентичность. Нейрологические уровни построены на принципе положительных обратных связей (рекурсий), включающих механизм подкрепления и углубления конструктивной самоидентификации субъекта [4]. При этом можно выделить ряд правил: отсутствие контролируемых аффирмаций не означает отсутствия аффирмаций как таковых; аффирмации безразличны к знаку полезности для субъекта и могут подкреплять как конструктивное, так и деструктивное поведение; позитивные аффирмации целесообразнее генерализировать вверх до уровня идентичности, а негативные аффирмации целесообразно разукрупнять, спуская их вниз с уровня идентичности до поведения и окружения; смежные конструктивные аффирмации усиливают друг друга, образуя комплексы и формируя положительные ассоциативные сети: позитивного мышления, здоровых отношений и компетентного поведения. Абсолютом практики является самодостаточный и самотождественный субъект, согласовавший все нейрологические уровни на рациональной основе.
Молитва. Коммуникативная ситуация молитвенной практики сверх упорядочена в плане общественной молитвы, где регламентация богослужений замкнута по годовому календарному циклу, и полностью процедурно и содержательна прописана в соответствующих инструкциях и молитословах. И в этом плане мы здесь мало что можем почерпнуть для прагмалингвистического анализа собственно молитвенного дискурса, поскольку формальное следование процедурам отнюдь не означает реального осуществления молитвенной коммуникативной ситуации. Об этом свидетельствуют как внешние исследователи молитвенной практики, так и наиболее продвинувшиеся в этой практике религиозные деятели [13, 14]. Индивидуальная молитвенная практика развивается как правило в двух направлениях: дифференциации поводов (молитвы на каждый случай) и духовная вертикальная интеграция (как в варианте умной молитвой). Первая линия является по сути дела набором жизненных поводов, при которых прибегают к молитвенной практике (болезни, несчастье, одиночество, страхи, сомнения и т.п.). По истечении ситуации молитвенное поведение так или иначе подкрепляется изменением ситуации, создавая отсроченные рекурсивные петли, подпитываемые в среде верующих историями и примерами благотворного влияния молитвы. В таком случае молитвенную практику в прагматическом смысле следует трактовать как коммуникацию с божественной инстанцией, ответ со стороны которой носит опосредованный событием характер (снятие ущерба или достижение желаемого состояния). Во второй линии молитвенная практика (как в линии исихазама восточного православия или бхакти-йоге) ориентирована на непосредственное общение с Богом, достигаемое за счет ступенчатого совершенствования самого субъекта, а сама молитвенная практика в лингвистическом плане превращается в непрерывную рецитацию единой формы обращения – умная молитва в исихазме, джапа в индуизме, зикр в суфизме. При этом речевое посредничество является непринципиальным, растворяясь в конечном итоге в беззвучной сердечной мысли и непрерывном внимании. Абсолютом данной линии молитвенной практики является феномен обожения и обнаружение непосредственного высшего присутствия и его энергий[13]. При этом традиции сходятся в том, что достижение высших уровней молитвенной практики ведет не к растворению субъекта в трансцендетном, а в предстоянии перед ним при сохранении волевой и личностной самотождественности субъекта.
Ритм. Практика рецитации ритмов помимо того, что может являться самостоятельным и в некотором смысле базовым уровнем ритмометода, включена в разнообразные расширенные контексты ритмик в качестве процесса объективации ритмов и ритмологии в качестве исследования причинно-следственных рядов [7]. Воссоздание этих контекстов равнозначно описанию картины мира в рамках доктринального органона ритмологического дискурса. В этом случае описание контекста необходимо дополнить инструментальными составляющими, такими как особые алфавиты, специфические имена, коды, субстанции и координаты, задействованные в практике [8]. И даже в этом случае, контекст будет неполон, так как необходимо восстановить законы, управляющие различными аспектами реальности, например, законы отражения, отображения и замещения. Кроме того, сам трансформатив как действие отразится в различных глагольных разновидностях семиотической трансформации реальности: уплотнить, разуплотнить, переизлучить, поставить на знак, снять со знака. По мере введения уровней семиотизации реальности мир предстанет как многомерный объект, где эмпирическая реальность, не подвергнутая ритмологическому прочтению, может трактоваться как частный случай относительно всего диапазона онтологических возможностей действия ритмовремени. Вхождение же в ритмовремя в данном дискурсе является целевым абсолютом и базовым ориентиром для субъекта практики. Именно по этой причине сама практика рецитации ритмов, не редуцируется до беззвучной и сокращенной формы и не стирается, как в практиках аффирмации и молитвы, где текст является только посредником для установления связи с адресатом. И в этом плане, мы возвращаемся к исходному тезису, что адресатом акта чтения ритма является сам ритм, понятый во всей онтологической полноте данной картины мира.
Общие выводы. Проведенный сравнительный анализ аффирмации, молитвы и ритма в рамках прагмалингвистики позволяет нам четко различить все три вида дискурсивной практики по позициям адресата, перформативной формы и контекстуальным условиям реализации.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В качестве дополнительного наблюдения, проявившегося в процессе анализа, мы хотели бы в заключении акцентировать следующую закономерность. Внутри каждого типа условно можно выделить два уровня развития дискурсивной практики.
С одной стороны, это экстенсивное расширение практики как инструментального средства для реализации прагматических целей, встроенных в обычный контекст жизнедеятельности. Так, например, многие аффирмативные формулы, молитвы по случаю и ритмы для решения житейских задач могут становится посредниками в текущих ситуациях как средства преднастройки и оперативной саморегуляции субъекта деятельности. В этом плане различия между практиками стираются и проступает общее назначение, которое может исследоваться традиционными инструментами анализами. К примеру, мы можем рассмотреть семиотический квадрат А.Ж. Греймаса [5] и сопоставить логику аффирмации, молитвы и ритма в плане реализации семиотических стратегий: 1. объективация ущерба – избавления от объективированного ущерба 2. Объективация желаемого события – присвоение желаемого события. И тогда без труда можно найти соответствия, например, в аффирмативной ассоциации с положительным качеством или уплотнении желаемой сущности через переизлучение в практиках ритмометода.
С другой стороны, мы видим примеры, когда сама практика приобретает самоценность как необходимый компонент для реализации определенной онтологии, как развернутая практика осуществления жизненной позиции. В нашем анализе мы обозначили этот аспект через введение концепта абсолюта практики, как горизонта целеполагания. И в этом плане аффирмация предстает как ядерное образование для конструирования субъектности человека, явившейся базисом европейской культуры нового времени. Практика молитвы в своих самых углубленных вариантах предстает как ядерное образование для преодоления онтологического отчуждения тварного существования и установления отношений с трансцендентным началом. Ритмометод же в своей развитой форме претендует на возможность преодоления эмпирических ограничений наличного существования и выход к управлению и трансформацией мировых событий, исходя из потенций ритмовремени.
В техническом же плане прагмалингвистики нам кажется полезным выделение перформативной метарамки каждой отдельной дискурсивной практики, как ее системообразующего начала. Поэтому, на наш взгляд, целесообразно рассматривать аффирмативы, утверждающие позицию субъекта, молитвенное прошение и семиотические трансформативы как самостоятельные перфомативные акты в рамках взаимодействия со специфическими адресатами коммуникации.
Список литературы
-
Адоньева, С. Б. Конвенции магико-ритуальных актов //Заговорный текст. Генезис и структура. М.: «Индрик», 2005. С. 385–400. -
Богданов, В.В. Классификация речевых актов // Личностные аспекты языкового общения. Калинин, 1989. С. 25–37. -
Ван Дейк, Тён А. Дискурс и власть: Репрезентация доминирования в языке и коммуникации. М.: URSS. 2015. 352 с -
Галущак, М. В., Шелестюк, Е. В. Особенности аффирмаций как способа речевого воздействия //Вестник Курганского государственного университета. №1(52), 2019. С. 110–116. -
Греймас, А. Ж., Фонтаний, Ф. Семиотика страстей. От состояния вещей к состоянию души. – М. : Издательство ЛКИ, 2007. 336 с. -
Дилтс,Р. Фокусы языка. Изменение убеждений с помощью НЛП. Спб.: Издательство «Питер», 2000. 320 с. -
Лучезарнова, Е.Д. Живой ритм. Спб.: Ритмовзлет, 2016. 96 с. -
Лучезарнова, Е.Д. Ключевые координаты. Наноход. Даракод. Спб.: Ритмовзлет, 2018. 280 с. -
Мосс, М. Социальные функции священного. СПб.: "Евразия" 2000 г. 448 с. -
Серль, Д. Что такое речевой акт? // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17: Теория речевых актов. М., 1986. С. 151–169. -
Хей, Л. Живи позитивом! Живые аффирмации и полезные упражнения. М.:Эксмо, 2018. 57 с. -
Хей, Л. Стань счастливым за 21 день. Самый полный курс любви к себе.М.: Эксмо, 2019. 160 с. -
Хоружий, С. С. Опыты из русской духовной традиции. М.: Изд-во Парад, 2005. 448 с. -
Шефлер, Р. Краткая грамматика молитвы.М.: Издательство ББИ, 2013. 152 с. -
Эпштейн, М. Проективный словарь гуманитарных наук. М.: Издательство: Новое литературное обозрение, 2017. 1100 с.
Первоисточник статьи: Журнал "Культура и цивилизация" Том 9. №1А, 2019 (Стр. 86-99. | УДК 81.23) | Изд-во: "Аналитика Родис" | Elibrary.ru
Источники публикации: Nauka-news.okis.ru / Новости науки - 2019 , psyera.ru , re-port.ru
Серия сообщений "Ритмология":
Часть 1 - Ритмология денег | информация и энергия
Часть 2 - Как найти свой ритм жизни? /Реализовать свою внутреннюю сущность помогут эксперты/
...
Часть 31 - Пожарский С.Д. Становление ритмологии как науки в эпоху античности
Часть 32 - Шкарин Д.Л. Шелестюк Е.В. Значение субъектных практик в социальном процессе современного общества
Часть 33 - Шкарин Д.Л. Шелестюк Е.В. Аффирмация, молитва, ритм как дискурсивные практики: прагмалингвистический анализ
Серия сообщений "Развитие мозга":
Часть 1 - Страх как оружие | О природе страха | Как бороться со страхом
Часть 2 - МУЗЫКА И РИТМОЛОГИЯ
...
Часть 13 - Недоверие к чужакам - оборотная сторона объединяющих сообщество ритуалов
Часть 14 - Пожарский С.Д. Становление ритмологии как науки в эпоху античности
Часть 15 - Шкарин Д.Л. Шелестюк Е.В. Аффирмация, молитва, ритм как дискурсивные практики: прагмалингвистический анализ
Метки: Ритм Ритмология Ритмометод Лучезарнова Луиза Хэй Эпштейн Аффирмации Молитвы |
Шкарин Д.Л. Шелестюк Е.В. Значение субъектных практик в социальном процессе современного общества |
Это цитата сообщения VEKTOR_RAZVITIYA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
 В научной статье "Значение субъектных практик в социальном процессе современного общества", опубликованной в журнале "Культура и цивилизация" (Том 8, №6А. 2018 г. Стр. 222-233. УДК 168.522, ББК 87.6), авторами Шкариным Д.Л. и Шелестюк Е.В. обсуждается актуальность обращения социальных наук к практическим вопросам социализации и трансформации социального субъекта. Практический разворот обусловлен нарастанием диспропорции между кумулятивным потенциалом культурного багажа общества и возможностями его индивидуального освоения в рамках отдельной человеческой жизни. Возрастающие скорость, сложность, глобальность социокультурных процессов актуализируют традиционную социально-философскую категорию отчуждения и конкретизируют её в новых формах, таких как фрагментация, упрощение социального субъекта и формирование ложных видов идентичности. Авторы обращаются к теоретическим основаниям парадигмы субъекта внутри социально-философского дискурса. В результате выделяются две базовые установки: на обращение к историческим формам субъекта в рамках классической и доклассической парадигм, с одной стороны, и принципиальной трансформации самой парадигмы субъекта вплоть до её нивелирования, с другой. В качестве возможного решения обозначенных противоречий рассматривается эвристический потенциал субъектных практик, понимаемых как средства самоактуализации и самотрансформации социального субъекта. В связи с этим перед социальной философией встаёт отдельная задача обращения к широкому контексту культурной традиции для обобщения и систематизации культурно-технологического арсенала духовных практик и включения его в реалии сегодняшнего дня.
В научной статье "Значение субъектных практик в социальном процессе современного общества", опубликованной в журнале "Культура и цивилизация" (Том 8, №6А. 2018 г. Стр. 222-233. УДК 168.522, ББК 87.6), авторами Шкариным Д.Л. и Шелестюк Е.В. обсуждается актуальность обращения социальных наук к практическим вопросам социализации и трансформации социального субъекта. Практический разворот обусловлен нарастанием диспропорции между кумулятивным потенциалом культурного багажа общества и возможностями его индивидуального освоения в рамках отдельной человеческой жизни. Возрастающие скорость, сложность, глобальность социокультурных процессов актуализируют традиционную социально-философскую категорию отчуждения и конкретизируют её в новых формах, таких как фрагментация, упрощение социального субъекта и формирование ложных видов идентичности. Авторы обращаются к теоретическим основаниям парадигмы субъекта внутри социально-философского дискурса. В результате выделяются две базовые установки: на обращение к историческим формам субъекта в рамках классической и доклассической парадигм, с одной стороны, и принципиальной трансформации самой парадигмы субъекта вплоть до её нивелирования, с другой. В качестве возможного решения обозначенных противоречий рассматривается эвристический потенциал субъектных практик, понимаемых как средства самоактуализации и самотрансформации социального субъекта. В связи с этим перед социальной философией встаёт отдельная задача обращения к широкому контексту культурной традиции для обобщения и систематизации культурно-технологического арсенала духовных практик и включения его в реалии сегодняшнего дня.Авторы статьи: ШКАРИН Д.Л. (методолог ЦРТТ), ШЕЛЕСТЮК Е.В. (доктор филол. н., доцент, профессор)
Первоисточник статьи: Журнал по культурологии "Культура и цивилизация" Том 8. №6А, 2018 | Стр. 222-233. УДК 168.522, ББК 87.6 (Изд-во: "Аналитика Родис")
Источник публикации: НОВОСТИ НАУКИ - 2018/2019: http://nauka-news.okis.ru/news/1482039
Метки: Ритмология Субъектные практики Культурология Евдокия Лучезарнова Евдокия Марченко Ритмометод Метод 7Р0 |
Понравилось: 2 пользователям
Миронов Д.А. Развитие идей и представлений русского космизма в ритмологии Евдокии Дмитриевны Лучезарновой (Марченко) |

 В статье кандидата философских наук Миронова Д. А., опубликованной в «Евразийском юридическом журнале», в №12 (127) 2018 г., проводится анализ творчества Евдокии Дмитриевны Лучезарновой (Марченко), а также её учения ритмологии в контексте развития ею идей русских космистов. Е.Д. Лучезарнова (Марченко) является продолжателем идейного наследия русских космистов с учётом междисциплинарного подхода...
В статье кандидата философских наук Миронова Д. А., опубликованной в «Евразийском юридическом журнале», в №12 (127) 2018 г., проводится анализ творчества Евдокии Дмитриевны Лучезарновой (Марченко), а также её учения ритмологии в контексте развития ею идей русских космистов. Е.Д. Лучезарнова (Марченко) является продолжателем идейного наследия русских космистов с учётом междисциплинарного подхода...
Русский космизм, на наш взгляд, есть мировоззрение с широким охватом художественных, научных, философских и религиозных идей, разрабатывающее проблему связи человека и космоса. Исторически русский космизм возник как результат идейного единства в многообразии представлений механицизма и органицизма.
Русский космизм являет собой максимальную степень толерантности к различным идеям разных, трудно совместимых областей знания. Понятие «человек» как интегральный антропо-космический концепт ставится здесь в идейный центр. И хотя в нём нет развёрнутой антропологии в таком ракурсе, как она проявилась на Западе (она значительно шире в русском космизме), тем не менее, именно антропологические воззрения пронизывают всё концептуальное поле русских космистов. Русский космизм исторически прошёл несколько фаз в своём развитии и проявился в религиозно-философских учениях, в научных изысканиях, в художественном творчестве. Теософско-эзотерическая ветвь познания мира также обнаружила себя в первой трети XX века в русском космизме, однако по идеологическим соображениям того времени была изгнана из культурного фонда страны. После распада СССР наследие Н.К. и Е.И. Рерих, книги Е.П. Блаватской вернулись к своему читателю с некоторым опозданием, а потому их идеи не были основательно изучены и поняты академической наукой. Между тем сегодня ведущие специалисты признают, что «эзотеризм — это одна из форм эволюции Социума, опирающаяся на личное творчество, самоактуализацию и психотехническую работу»[1]. Обозначенные теософско-эзотерические воззрения получили своё эволюционное развитие в XXI веке, в частности, в авторском проекте Евдокии Дмитриевны Лучезарновой (Марченко).
Особенностью учения Е.Д. Лучезарновой (Марченко) является развитие принципов русского космизма в контексте изучения понятия «время». В её трудах мы встретим все основные темы, поднятые русскими космистами и найдём их дальнейшую разработку и тематическое углубление.
Идеи Н.Ф. Фёдорова овсемирном братстве и воссоединении родовых, духовных и культурных связей в современном обществе получили своеобразное толкование в ритмологии. Идея «патронификации»— воскрешение мёртвых предков средствами науки во имя восстановления родовых уз, хотя всё ещё экстравагантна даже для современной науки, однако исторически имела огромное значение для пробуждения проекта космонавтики. В той же мере Е.Д. Лучезарнова (Марченко) своим учением пытается пробудить в современном человеке мысль о необходимости понимать себя как существо антропо-космического порядка, природа которого регулируется ритмами планет солнечной системы. Человек в состоянии стать активным участником этого взаимодействия, если сможет овладеть собственной телесно-духовной природой, которая может быть рассмотрена с материалистических позиций в качестве ритма. Фёдоровские представления об атомах, которые необходимо собрать обратно в плоть, у Е.Д. Лучезарновой трансформируются с учётом знаний квантовой физики. Не атомы, но субатомные частицы, которые могут находиться как в состоянии частицы, так и волны — описываются волновой функцией и являются основой космоса. Человек может быть представлен как взвесь субатомных частиц в волновом состоянии: и микросостояние может быть осознано на макроуровне. Наиболее адекватным описанием осознания человеком самого себя, по мнению автора, выступает ритм, который может быть зафиксирован художественными средствами языка. «Ритм –особая жанровая форма, за счёт определенным образом организованной структуры текста, создающая заданные вибрации и содержащие время как субстанцию, способную организовать не только окружающее пространство, но и регулировать человеческие связи»[2]. А ритмология, в свою очередь, есть «наука, позволяющая через знаковую систему... выйти на ритм и объясняющая логику его работы»[3].
Идея «патронификации» преломляется у Евдокии Лучезарновой как идея осознания череды реинкарнаций конкретного человека на планете Земля в поисках встречи с собственным предназначением – судьбой. Судьба и карма – два представления восточной мысли – органично вливаются в христианское понимание человека в ритмологии, что само по себе, пусть и проблематичное, но достижение, поскольку обнаруживает неизбежность диалога культур. Духовное в человеке не отрицается, ибо «человек есть место встречи духа и материи»[4]. Однако под духом автор метода предлагает понимать время, а под материей – пространство. Таким образом, христианская духовная природа может быть понята вне религиозного контекста, однако избегает она и плоско материалистического толкования, пытаясь удержаться на тонкой грани междисциплинарности и диалога. Эзотерический пласт идей позволяет создать учение о времени, проходя между Сцилой и Харибдой, соединяя идеи Запада и Востока. С другой стороны, проблема идеализма и материализма в контексте «бородатого» разговора о соотношении мозга и сознания также выходит на новый уровень осмысления. Как пишет Н.П. Бехтерева, «позиция философов материалистического направления именно в этом случае, как известно, дуалистична: мозг – материален, мышление — идеально!»[5], что, по сути, является скандалом в философии. Позиция идеализма не лучше, ибо в нём происходит потеря материального, что открывает путь к солипсизму. Проблема заключается в том, что «именно мы, материалисты, не даём себе труда понять – нет, даже задуматься над тем, что же это такое – идеальное»[6]. И получается весьма печальный итог: «что такое мысль? Получается, с точки зрения материалистов, – ничто»[7]. А ведь это совсем не так, поскольку возможности мозга ещё только приоткрываются современной науке: «ведь всё, что до сих пор исследовалось, – и атом, и галактика, и мозг животного, – было проще, чем мозг человека»[8]. А потому исследование такой сложной материи как мозг и появляющееся на его основе сознание – должно проводиться в междисциплинарном аспекте и в контексте методологических достижений постнеклассической науки.
Е.Д. Лучезарнова (Марченко) предлагает такой подход: «мозг есть самая незагущённая материя, которая существует внутри человеческого тела»[9]. Тем самым, выделяется своеобразная пограничная зона между идеализмом и материализмом, которая берёт на вооружение методологический принцип А.А. Ухтомского: «нет субъекта без объекта, как нет объекта без субъекта». Этот принцип должен попытаться примирить два враждующих лагеря с целью осуществления дальнейшего исследования человека на стыке разных методологий. Один из первых шагов к такому примирению делает ритмология как образец постнеклассической науки. А коль скоро учёные-когнитивисты ставят вопрос так: «задача будущего прорыва – вопрос о коде мышления»[10], то Евдокия Лучезарнова высказывает смелую гипотезу о том, что мозг находится в беспрерывном общении с космосом на языке ритма.
Идея Фёдорова о «братстве» разрабатывалась им в рамках христианского представления о втором пришествии Христа (парусии): необходимость единения и братства всех живших доныне людей обусловлена восстановлением оборванных связей с Богом, прежде чем произойдёт Великий суд, следует покаяться и примириться. У Лучезарновой братство должно быть достигнуто на основе знания и самопознания: единство человечества значительно шире и глубже по содержанию и превосходит планетарный земной горизонт, а потому и ответственность на человеке возлежит гораздо большая, чем в прежние времена. Человечество сегодня стоит перед проблемами преодоления грядущих катастроф (техногенного, энерго-информационного, экологического характера), являя системный кризис государства, общества, культуры. Человеку нужно выйти за границы естественных и привычных представлений о себе и взглянуть на себя со стороны. Антропо-космический уровень осознания человеком самого себя — человек как житель космоса – сегодня и представляет новую парадигму и выход из создавшегося тупика. Осознание кризиса само по себе уже есть позитивный симптом для возможного выздоровления. Братство в ритмологическом смысле есть единство и взаимопомощь в разностороннем и полном развитии возможностей человеческой природы в рамках индивидуальных дарований, а также овладение этим ресурсом в контексте современного уровня знаний как естественных, так и гуманитарных наук через постижение ритмологии. В целом философия «общего дела» Н.Ф. Фёдорова понимается шире христианского контекста: не только через преодоление смерти научными методами и воскрешение «отцов», но через обретение бессмертия посредством овладения «тонким» и «огненным» планами бытия, получившим в ритмологии оригинальное концептуальное оформление, которое заслуживает изучения.
Идеи К.Э. Циолковского об освоении космоса (расселение человечества по планетам во Вселенной), автотрофности (лучевое питание), лучистого человечества (приход 6-й расы) также находят продолжение в философии Е.Д. Лучезарновой (Марченко). Идея расселения человечества по планетам Галактики родилась как логическое развитие мысли К.Э Циолковского. Мысль космических полётов получила своё воплощение буквально за два поколения российских исследователей. К.Э. Циолковский (прямой ученик Н.Ф. Фёдорова) вывел формулу воздухоплавания, а С.П. Королёв (в свою очередь, идейный последователь К.Э. Циолковского) воплотил мысль в создание космической отрасли на пространстве СССР, что позволило впервые в мировой практике осуществить запуск пилотируемого космического корабля в космос с человеком на борту (Ю. Гагарин). Освоение космоса, по мысли Евдокии Дмитриевны, прежде прагматическо-технического аспекта, должно осуществиться на ментальном плане как разработка идей космизма, где человек и космос находятся не в отношении «покорения» и соперничества, но в гармоничном взаимоотношении, при котором именно человек становится своеобразным аттрактором космоса. Прежде необходимо найти и установить общий язык между человеком и космосом, и этот язык должен носить всеобщий характер для всего человечества. Вкупе с идеями Е.П. Блаватской и создателями «Агни-Йоги» – Н.К. Рерих и Е.И. Рерих, о которых автор высказывается с большой теплотой и признательностью, идею «лучистого человечества» Е.Д. Лучезарнова раскрывает в контексте эзотерических идей, считая свой метод необходимой подготовкой к рождению новой 6 расы «лучистого человечества». «Впервые о ритмах начинает говорить Елена Рерих... и говорит она о них в контексте психической энергии, потому что ещё не может перейти на информацию»[11]. Е.Д. Лучезарнова создаёт свой метод именно как практический способ овладения человеком собственной психической энергией, своего рода психотренинг, реализующий задачи самоактуализации, самореализации и раскрытие творческого потенциала человека.
Идея «автотрофного питания» получила конкретное методологическое обоснование в книгах автора, посвящённых «лучевому питанию», в которых подробно рассказывается о сущности и значении питания для человека[12]. Идея книги «Лучевое питание» произрастает из мысли о том, сложность природы человека, его многоосновность требует насущного пересмотра характера его питания. Коль скоро человек не является носителем только животной природы, но являет природу разумную, то вторая природа требует разработки специфического питания для себя. Речь не идёт об абстрактной информации, но пищевых продуктах как об информационных ресурсах: необходимо не просто потреблять продукты питания, но научиться читать продукты как информацию. По мнению Е.Д. Лучезарновой, питание есть информация для тела, так же как буквы и слова – информация для сознания. Через сознание возможно не только читать, но формировать и расформировывать энерго-информационные сгустки. Человек, с космической точки зрения, является перекрёстком энергии и информации, времени и пространства с пультом самоуправления «сознание-мозг».
Две природы неизбежным образом коррелируют друг с другом, образуя диалектическое единство противоположностей, поскольку проявляются в одном человеке как целое. Е.Д. Лучезарнова различает две природы в человеке: телесную и разумную (которые образуют единство в субстанции ритмовремени) – и для каждой составляет программы лучевого питания. Не вдаваясь в подробности, приведём краткий пример. Лучевое питание делится на струнное и струйное. Струнное предполагает монопродукт, струйное предполагает компоновку различных продуктов в одно целое (супы, салаты и т. д.). Знаковое питание предполагает знание о продуктах, их конечных точек воздействия на организм и элементный химический состав с возможностью коррекции всего процесса потребления. Методика предлагает выстроить отношения с потреблением продуктов питания таким образом, чтобы оно стало осознанным: более чем рациональным – разумным. Поразительные практические достижения участников, освоивших метод, впечатляют и заставляют задуматься о ритмометоде всерьёз[13].
Идеи В.И. Вернадского о рассмотрении человека как энерго-информационной силы планеты («геологической силы») и представлений о ноосфере (сфере разума) также находят своё подтверждение и творчески осмысляются в ритмологии. Е.Д. Лучезарнова (Марченко) расширяет понятие «геологической силы» до энерго-информационных представлений. Человек выступает как био-энерго-эволюционный импульс для развития планеты Земля, включающий в себя все предшествующие ему уровни эволюции.
Нельзя не отметить теснейшую связь идей автора ритмологии с гелиобиологией А.Л. Чижевского. Его исследования относительно влияния Солнца на биосферу и социально-исторический процесс, мысли о том, что ритмы солнечной активности и космическая энергия в целом может быть возведена в определенный физический закон, который определяет все процессы в мире и представляет собой универсальный детерминизм, практически целиком положены в учении о ритме в ритмологии[14].
Другим важным учёным, оказавшим огромное влияние на Е.Д. Лучезарнову, является Н.А. Козырев, который создал оригинальный проект «физики времени». Этот проект пока так и не получил признания в научной среде, но тем не менее нашел новых исследователей в лице Г.И. Шипова. У Евдокии Дмитриевны метафора «звёзды разговаривают временем» получила глубокое поэтическое прочтение и всестороннюю разработку в ряде текстов[15]. Идея «зеркала Козырева», возможно, слишком сложна и не проверяема для нынешнего аппаратурно-технического уровня современной науки, однако её не стоит сбрасывать со счетов как возможную и гипотетическую, которая ждёт в будущем новых «безумных» исследователей.
В.Н. Муравьев – ещё один русский космист, заметно повлиявший на формирование ритмологии. Осмысляя достижения науки начала XX века с творческими замыслами Н.Ф. Фёдорова, Муравьев описывает собственную эволюционную концепцию времени, в которой деятельность человека и человечества есть «времяобразующий фактор» мира. Человеческий разум в состоянии регулировать и преобразовывать собственную природу и является грандиозной антиэнтропийной силой космоса. Человек, по мысли Муравьева, есть «архитектор вечности», творец новых форм времени. Новаторские представления учёного легли в основу научной организации труда (НОТ), которая повсеместно была принята в СССР и, к огромному сожалению, утрачена ныне. Е.Д. Лучезарнова развивает идеи В.Н. Муравьева, предлагая человеку практический метод овладения временем через работу с ритмотекстами и ритмопоэзией[16].
Широкая эрудиция и глубокие познания по всем направлениям русского космизма – художественно-литературного (практически вся русская классическая литература XIX века); научного (К.Э. Циолковский, Н.И. Вернадский, А.Г. Чижевский); религиозного (Н.Ф. Федоров); эзотерического (Е.П. Блаватская и Н.К. и Е.И. Рерихи) – позволяет уверенно говорить о Евдокии Дмитриевне Лучезарновой (Марченко) как о представителе современного русского космизма как по форме, так и по содержанию[17]. Идеи и представления русского космизма, заложенные основателями в мировоззренческий фундамент междисциплинарного дискурса, получают у неё яркое художественно-публицистическое осмысление, где посредством богатства русского языка в поэтико-метафорической форме это наследие осмысляется и актуализируется в современном контексте.
Список литературы
- Бехтерева Н.П. Магия мозга и лабиринты жизни. – М.: АСТ: Полиграфиздат; СПб.: Сова, 2010. – 383 с.
- Е.Д. Марченко. Сам творю: теор.часть – СПб.: РАДАТС, 2009. – 288 с.
- Ивин А.А. Наука, паранаука и псевдонаука. От алхимии к химии, от астрологии к астрономии. – Москва : Проспект, 2016. – 272 с.
- Лучезарнова (Марченко) Е.Д. Живая книга / Москва: Ритм 52, 2013. – 296 с.
- Лучезарнова (Марченко) Е.Д. Лучевое питание. – 2-е изд., дополненное. – М.: Ритм 25, 2012. – 108 с.
- Лучезарнова Е.Д. Ничего случайного не бывает. Теоретическая часть – РИТМОВЗЛЁТ, 2015г., - 408 с.
- Лучезарнова Е.Д. Обо мне заботятся. – СПб.: «Ритмовзлёт», 2013. – 216 С.
- Лучезарнова Е.Д. Размышления и афоризмы. – Авторский Центр «РАДАТС». – М.: Академический проект, 2016. – 256 с.
- Лучезарнова Е.Д. Ритмика для события. – Санкт-Петербург: РИТМОВЗЛЁТ, 2015. – 176 с.
- Лучезарнова. Живой ритм. – Санкт-Петербург : РИТМОВЗЛЁТ, 2016. – 96 с.
- Маркова Л.А. Наука на грани с ненаукой. – М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2013. – 336 с.
- Марченко Е.Д. Звёздное питание. – М. : РИТМ 25, 2011. – 20 с.;
- Марченко Е.Д. Знаки зодиака. – М. : РИТМ 25, 2011. – 24 с.
- Марченко Е.Д. Ритмика: неделя за неделей. - М.: РИТМ 25, 2010. – 264 с.
- Марченко Е.Д. Сам творю: тетрадь для практических работ – М.: РИТМ 25, 2011. – 208 с.
- Марченко Е.Д.. Ритмика времени. – М.: РИТМ 25, 2010 – 384 с.
- Миронов Д.А. Русский космизм: вчера и сегодня // Космизм и органицизм: эволюция и актуальность / Материалы V Международной научной конференции 27-28 октября 2017 г. – СПб, 2018. – С. 204-211.
- Розин В.М. Эзотеризм как форма индивидуальной и социальной жизни // Дискурсы эзотерики (философский анализ) / Отв. ред. Л.В. Фесенкова. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 240 с.
Автор: Миронов Данила Андреевич, кандидат философских наук (Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова Министерства здравоохранения РФ).
Первоисточник: «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ» №12 (127) 2018. С. 509-513. | УДК 141
Источник публикации: http://nauka-news.okis.ru/news/1481245
|
Процитировано 1 раз
Понравилось: 1 пользователю
Е.В. Наумова. Авторские неологизмы в творчестве Е.Д. Лучезарновой |
Это цитата сообщения Мир_ритмологии [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Источник: "Балтийский гуманитарный журнал", Том 7 №4 (25) 2018 г. ISSN 2311-0066. УДК 81
/кандидат филологических наук, доцент, научный редактор/
(Частное научное учреждение "Институт Ритмологии Лучезарновой Евдокии" (ИрЛЕм))
АВТОРСКИЕ НЕОЛОГИЗМЫ В ТВОРЧЕСТВЕ Е. Д. ЛУЧЕЗАРНОВОЙ
В статье рассматриваются новые слова, появившиеся в творчестве современного поэта, писателя и учёного Е.Д. Лучезарновой – автора ритмологии как новой науки о времени и ритмовремени. Речевой облик современницы обращает на себя внимание своей неординарностью и богатством лексического запаса. Словотворчество является одной из характерных черт стиля Е.Д. Лучезарновой. Анализируются способы образования неологизмов, созданных автором для обозначения ритмологических понятий. Среди её неологизмов есть слова, образованные как по известным в русском языке словообразовательным моделям (сложение слов с помощью соединительной гласной, сложение основы и целого слова, слоговая аббревиация, звуковая аббревиация и др.), так и по нестандартным словообразовательным моделям, с использованием не свойственных русскому языку морфем. Новое прочтение в лексиконе Е.Д. Лучезарновой получают многие общеупотребительные слова – так проявляется семантическая деривация. Значение некоторых слов дополняется новой семой (временнОй субстанции), играющей определённую роль в ритмологической практике применения времени и ритмовремени в жизни человека. Так, временнОе значение приобрели общеупотребительные слова русского языка: дочь, сын, друг, кольцо, поле, разум, струны, струи и др. Некоторые неологизмы Е.Д. Лучезарновой образуют новые словообразовательные гнёзда.
Ключевые слова: лексикон, неологизмы, авторские неологизмы, лексические неологизмы, семантические неологизмы, семантическая деривация, модели словообразования, сложение слов, слоговая аббревиация, звуковая аббревиация, словообразовательное гнездо.
Язык – это живой организм, который постоянно пополняется новыми словами. Особенно активно этот процесс происходит во времена исторических перемен. Так, известны неологизмы петровской эпохи, послереволюционного времени, Великой Отечественной войны, перестроечного времени и т.д.
В отечественном языкознании новые слова активно исследуются с 60-х годов XX века, о чём свидетельствуют монографии, диссертационные работы, многочисленные статьи, в которых неологизмы рассматриваются в различных аспектах: словообразовательном, лексикологическом, социолингвистическом, нормативном, стилистическом, ономасиологическом (см. работы Е.А. Земской, В.В. Лопатина, Н.З. Котеловой, Л.П. Крысина, И.С. Улуханова, Н.М. Шанского и др.). Интенсивное пополнение словаря новыми словами, а также активное словопроизводство, отмечающиеся в последнее время, являются бесспорными факторами, в связи с чем представляется необходимым лингвистическое исследование новой лексики.
Неологи́зм (от греч. neos «новый» и logos «слово») – слово, значение слова или словосочетание, недавно появившееся в языке. Согласно Н. М. Шанскому, неологизмы «возникают в силу общественной необходимости для обозначения нового предмета или явления, сохраняют ощущение новизны для носителей языка, <…> ещё не вошли или не входили в общелитературное употребление» [1, с. 158].
Неологизмы характеризуют и формируют свою эпоху. По мнению современного исследователя, «объективную картину мира для определённого хронологического периода можно получить лишь в результате выявления неологизмов этого периода» [2, c.40]. Так, в 60-е годы в связи с развитием космонавтики появилось много новых слов, связанных с космосом: космонавт, космодром, ракетодром, луноход, а появление радио привело к возникновению таких слов, как радиоприёмник, радиопомеха, радировать. Конечно, в настоящее время все эти слова уже нельзя отнести к неологизмам, поскольку они давно вошли в активный словарный запас русского языка.
Часть неологизмов приходит в язык из художественной речи писателей и поэтов, окказионального употребления известных личностей. Так, стали общеупотребительными слова, которые вошли в русский язык из трудов М. В. Ломоносова: атмосфера, вещество, градусник, равновесие, диаметр, квадрат, минус, удельный (вес); произведений русских писателей и поэтов: Н.М. Карамзина – промышленность, трогательный, занимательный; М. Е. Салтыкова-Щедрина – головотяп, головотяпство, благоглупость; Ф. М. Достоевского – стушеваться, лимонничать; И. Северянина – самолёт (в значении аэроплан), бездарь; В. Хлебникова – лётчик, изнемождённый, смехач; Л.Н. Гумилёва – пассионарность и пассионарии, этногенез, суперэтносы, космизм; К.И. Чуковского – канцелярит. Множество слов-неологизмов создал В.В. Маяковский: прозаседавшиеся, серпастый, молоткастый, многопудье, громадьё. Неологизмы являются источником выразительности языка писателя, которым он пользуется для усиления точности и экспрессивности речи.
В настоящее время многие учёные говорят о четвёртом измерении, или мерности жизни – времени. В связи с возникновением целого метода, рассказывающего о том, как пользоваться временем современному человеку, возникло большое количество новых слов, с которыми неизбежно знакомится человек, осваивающий данный метод.
В статье нас будут интересовать новые слова, появившиеся в произведениях современного писателя и поэта Евдокии Дмитриевны Лучезарновой, основателя Института ритмологии (ИрЛЕм), автора Ритмометода 7 Р0 – метода работы со временем и использования времени человеком в своей жизни. Речевой облик современницы обращает на себя внимание своей неординарностью и богатством лексического запаса. По нашему мнению, она является редким представителем элитарного (полнофункционального) типа речевой культуры [3].
Словотворчество – одна из основных черт языкового стиля Е.Д. Лучезарновой. Словообразовательные возможности автора поистине неисчерпаемы. Ею созданы и продолжают активно создаваться новые слова – индивидуально-авторские лексические неологизмы: Озаригн, Зитуорд, Зимлохэф, Тотирин, Циороиц, Диротсуайя, стэздэшщ, озарий, зитуордэн, Розуз, Лучёз, Лобр, Робл, Соприульотк, ЛУРАРИ, ЫЙИ, целеводитель, Скафандриальный разум, ритмологический разум, Ритмический Рисунок, Ритмологический Рисунок, Страдастея, Хладастея, ритмомера, Наноход, Даракод, Радаст, Радатс, Даратс, Даратсея, Марлинка, Люблинка, Маряни, Стланица и многие другие.
Как известно, лексические неологизмы могут быть образованы по имеющимся в языке (обычно продуктивным) моделям. Так, известны всем индивидуально-авторские неологизмы «зеленокудрый» (Н. В. Гоголь), «громадьё», «молоткастый» (В. В. Маяковский). Такой способ появления неологизмов называется словообразовательной деривацией. Кроме этого, есть семантическая деривация — развитие в уже существующем слове нового, вторичного значения на основе сходства вновь обозначаемого явления с явлением уже известным. И, наконец, новые слова могут быть заимствованы из других языков: бобслей, макияж, спонсор.
Авторские неологизмы Е.Д. Лучезарновой поражают своей необычностью, они не похожи на неологизмы ни одного из русских писателей и поэтов. Среди её неологизмов есть слова, образованные по известным в русском языке словообразовательным моделям: целеводитель – сложение основы и целого слова, Розуз (слоговая аббревиация - РОЗеточный УЗел), ритмовремя – сложение слов с помощью соединительной гласной и др.
Самое широкое словообразовательное гнездо, которое зафиксировано в творчестве автора, образовано от слова «ритм» с помощью сложения слов: ритм - особая поэтическая форма, созданная автором ритмологии, Ритмометода Е.Д. Лучезарновой; ритмология – наука о времени, или логика ритма; ритмолог - название новой профессии, это специалист, помогающий другим людям справиться с решением проблем из времени, с задействованием для решения вопроса или проблемы четвёртой координаты; ритмовремя – время, собранное и хранящееся в ритмах; ритмоопыт - ритмологический опыт, уровень знаний человека, занимающегося Ритмометодом, изучающего ритмологию; Ритмометод – метод работы со временем; ритможизнь – уровень или способ жизни человека в четвёртой мерности жизни; ритмостаж – количество времени, стаж занятий Ритмометодом, ритмологией; ритмомера – авторская методика, позволяющая справиться со многими ущербами, проблемами, мистериями, создающая границу между проблемно-ущербным и событийном миром, а также слова: ритмомир, ритмосвет, ритмохладавит, ритмохладастея, ритмологичность, ритмодействие, ритмокаравай, ритморубеж, ритмопроект, ритмопроброс, ритмокоррекция, ритмопространство, ритмоозарение, ритмонапиток, ритмоцикл, ритмопрочтение, ритмоинтеллект, ритмосбор, ритмодопуск, ритмолестница, ритмотоннель, ритмомост, ритмофиксация, ритмопроникновение, ритмосокровище и др.
Довольно частотны в языке Е.Д. Лучезарновой и слова нестандартных словообразовательных моделей, не свойственных русскому языку. Эти слова, на наш взгляд, можно назвать «заимствованными» из языка космоса, ведь Е.Д. Лучезарнова – по образованию астроном, и метод, который она назвала Ритмометодом 7Р0, рассказывает, как пользоваться языками времени.
По известным словообразовательным моделям образованы следующие слова:
ЛУРАРИ – ЛУчистый, РАдастейный, РИтмологичный (слоговая аббревиация - по первым двум буквам слов);
стэздэшщ – буквы с, т, з, д, ш, щ взяты из названий сборов (С-сбор, Т-сбор, З-сбор, Д-сбор и т.д.) (звуковая аббревиация - по первой букве слов);
Соприульотк – слово состоит из названий книг «Сокровенное», «Прикосновенное», «Откровенное» (слоговая аббревиация).
Часто встречаются так называемые «слова-гибриды», когда корень в слове известный в русском языке, а суффикс новый, из языка времени. Например, в слове Озаригн определяется корень озар- (Ср. озарение, озаряться, озарять) и суффикс –игн, который не употребляется в современном русском языке. А в имени Озаряна с этим же корнем использован продуктивный суффикс образования женских имён, причём не только в русском языке: Татьяна, Марьяна.
Ритмологические термины, называющие разновидности ритмов – особой авторской жанровой формы – Люблинка, Марлинка, Стланица, Маряни, с одной стороны, узнаваемы своими корнями (любл- от любить, люблю; стла- от стелить), суффиксами (-инк-, -иц-), с другой, совершенно незнакомы носителю русского языка и обращают на себя внимание своей необычностью. Так, непривычны для русского языка слова: Зимлохэф, Зимблозио, Тотирин, Циороиц, Диротсуайя, Наноход, Даракод, Радаст, Радатс, Даратс, Даратсея.
И если одни из этих слов хотя бы внешне напоминают русские слова и известные словообразовательные модели: Наноход (нан – от нанотехнологий, ход, соединительная гласная о), то другие совсем не похожи на русские слова и трактоваться могут только из времени: Тотирин, Циороиц, Зимблозио, Зимлохэф, Даратс, Диротсуайя и др. Например:
Тотирин – субстанция времени внутри ритмовремени, которая создаётся из ритма и работает в фазе озарения;
Циороиц – ритмологическое действие, меняющее и человека, и мир вокруг него. Задействует и внутреннее, и наружное время.
С языке Е.Д. Лучезарновой появляются словообразовательные гнёзда из новых, ритмологических слов: Зитуорд (Основная координата) – Зитуордэн (герой книги «Зитуордэны, живущий в Лучевой Вселенной, существо мужского пола) – Зитуордэна (героиня книги «Зитуордэны», существо женского пола) – Зитуордэния (страна, в которой живут Зитуордэны). Лексемы с корнем зитуорд- в русском языке не встречаются, а грамматически слова Зитуордэн, Зитуордэна, Зитуордэния вполне узнаваемы – по суффиксам и окончаниям слов (зитуордэн – ср. названия лиц мужского пола по роду занятий: бармен, шоумен, бизнесмен; Зитурдэна – окончание –а слов женского рода в русском языке; Зитуордэния – название страны, образованное с помощью интернационального, довольно продуктивного латинского суффикса –ia, используемого в разных языках для образования топографических названий. Ср. Мермедия (сказочная страна, в которой живут русалки), Лапландия (родина Санта Клауса), Пионерия (вымышленная страна, объединяющая молодое поколение страны в советскую эпоху), а также названия разных стран и территорий – Норвегия, Голландия, Россия, Калифорния, Славия и др.
В творчестве Е.Д. Лучезарновой немало и семантических неологизмов. Новое семантическое прочтение получили многие общеупотребительные слова русского языка, каждое из которых приобрело значение временнОй субстанции:
время Белое, Чёрное, Серое, Зари;
дочь мировая, световая;
друг Главный, Простой, Денежный, Сложный, Пустой;
кольцо прав, правил, растений, поведения, признания, призвания, горизонтальное, вертикальное;
Лента Жизни, псевдожизни, ритможизни, планетарная, человеческая;
нить Событийная, Ритмологическая, Радастовая, проблемная, мистериальная;
Образ лучевой, ключевой, мировой, световой;
Облик лучевой, ключевой, мировой, световой;
Планы Солнца, Земли, Звёздный, оси, знакоряда, понятий, чувств;
Платы стыда, денег, славы, любви;
поле Хладастейное, сутевое, Радастейное, событийное, матричное;
полотна событийные, светоносные, кармостойкие, огненосные;
разум ритмологический, человеческий, землян, мужской, женский, детский, семьи, ритмологов, коллектива, лидеров, законодателей, Озаригн, ИрЛЕм, планетарный, сути, тела, имени, эго-я, лунный, генный, оболочечный, Скафандриальный;
сгусток любви, жизни, Псевдожизни, Ритможизни, здоровья, секса, свободы;
струи Серая, Событий, Планеты, сгустков;
струны цветовые, звуковые, белая (жизнеутверждения), Свиданий, Закрепления, Разметки.
Приведём примеры семантического расширения значений слов из лексикона Е.Д. Лучезарновой.
- «ВРЕМЯ, -мени, мн. -мена, -мен, -менам, ср. 1. Одна из форм (наряду с пространством) существования бесконечно развивающейся материи - последовательная смена её явлений и состояний. Вне времени и пространства нет движения материи. 2. Продолжительность, длительность чего-н., измеряемая секундами, минутами, часами. Сколько времени (который час?). 3. Промежуток той или иной длительности, в к-рый совершается что-н., последовательная смена часов, дней, лет. 4. Определённый момент, в который происходит что-нибудь. 5. Период, эпоха. 6. Пора дня, года. 7. Подходящий, удобный срок, подходящий момент. 8. Период или момент, не занятый чем-н., свободный от чего-н» [4, с. 103].
Общеупотребительное слово время получает новое прочтение под влиянием Ритмометода. Это живая субстанция, с которой человек может и должен научиться взаимодействовать. «Время – это не только календарь, который организует наше повседневное существование, а ещё и субстанция, существующая независимо от нас, организующая пространство и управляющая всеми видимыми и невидимыми процессами» [5, c. 7]. Время может быть Белым, Чёрным, Серым, Зари. Белое время работает с телом человека, задача Белого времени – конкретность. «В Белое время устремлены все желания комфорта, благосостояния, роскоши…». Белое время связано с энергией. [6, с. 10]. Чёрное время задействует имена людей, проявляется словами, движениями, мыслями. Чёрное время – информационное. Серое время соединяет энергию и информацию, имя и тело человека. «В Сером времени человек получает дополнительную свободу. У него возникает мерность времени» [6, с. 112]. Время Зари – время за пределами человеческого разума и планеты Земля. Это время сути человека, оно вбирает в себя три времени – Белое, Чёрное, Серое. Кроме того, автор ритмологии говорит о существовании календарного, относительного и абсолютного времени, а также о наличии разных времён, которые получает человек с самого рождения до 20 лет: до 5-ти лет – звёздное время, от 5 до 10 лет – солнечное время, от 10 до 15 лет – лунное время, от 15 до 20 лет – планетарное время. Всё это позволяет говорить о расширении значения слова время.
- «ДОЧЬ, дочери, дочерью, мн. дочери. Лицо женского пола по отношению к своим родителям. 2. перен.. чего. Женщина как носитель характерных черт своего народа, своей среды (высок.)» [4, c. 178].
Слово дочь получает значение временнОй субстанции – «организатора времени внутри существующих событий» [7, с. 8]. «Мировая дочь работает с уже существующими планами, украшая их. Создаёт из готовой жизни прекрасную. Сокращает время событий или продлевает их» [7, с. 8].
- «СЫН, -а, мн. сыновья, -ей и сыны, -ов, м. I. (мн. сыновья и устар. и обл. сыны). Лицо мужского пола по отношению к своим родителям. 2. Перен., чего. Мужчина как носитель характерных черт своего народа, своей среды (высок.)» [4, c. 785].
Слово сын обретает значение временнОй субстанции, самозаполняющей время. «Сын лучевой создаёт свою жизнь самостоятельно, наново, без учёта судьбы и кармы, так как он свободен от них» [2, с. 8].
- «ДРУГ, -а, мн. друзья, -зей, м. 1. Человек, к-рый связан с кем-н. дружбой.
Не имей сто рублей, а имей сто друзей (посл.). Старый д. лучше новых двух (посл.). Скажи мне, кто твой д., и я скажу, кто ты (посл.). Д. дома (друг семьи). Зеленый д. (о деревьях, растениях). 2. кого-чего. Сторонник, защитник кого-чего-н. (высок.). Д. детей. Д. свободы. 3. Употр. как обращение к близкому человеку, а также (прост.) как доброжелательное обращение вообще. Д. мой! Помоги, д. * Будь другом (разг.) - говорится в знач.: сделай так, как я прошу, советую. Будь другом, никому не рассказывай об этом. || ласк. дружок, -жка,м, (к 1 и 3 знач.) и дружочек, -чка, м. (к 1 и 3 знач.). || прил. дружеский, -ая, -ое (к 1 знач.)» [8, c. 180].
С точки зрения ритмологии, слово друг означает субстанцию времени, распоряжающуюся временем с учётом внешних обстоятельств. «Друг световой часть времени может заполнить наново, а часть времени переструктурировать» [7, с.8].
Каждой из трёх вышеперечисленных временнЫх субстанций (дочь, сын, друг) посвящена отдельная книга, в которой раскрывается их смысл и методы работы с ними в качестве улучшателей жизни человека.
- «ПОЛЕ, -я, мл. -я, -ей, ср. 1. Безлесная равнина, пространство.
Гулять по полю и по полю. На поле и на поле. Ледовое п. (перен.: сплошное пространство льда). 2. Обрабатываемая под посев земля, участок земли. Ржаное п. 3. Большая ровная площадка, пространство, специально оборудованное, предназначенное для чего-н. Футбольное, хоккейное п. Летное п. 4. Работа, исследовательская деятельность в природных, естественных условиях (спец.). Геологи летом в п. 5. Пространство, в пределах к-рого проявляется действие каких-н. сил (спец.). Магнитное п. Силовое п. П. тяготения. 6. перен., чего или для чего. Область деятельности, поприще. Обширное п. деятельности. 7. Основной цвет, фон под узором. Желтые цветы по голубому полю. 8. обычно мн. Чистая полоса вдоль края листа в книге, тетради, рукописи. Широкие, узкие поля. Заметки на полях. 9. обычно мн. Край шляпы, отходящий в сторону или вниз от тульи. Жесткие, мягкие поля. Шляпа с загнутыми полями. * Поле брани (устар.), поле сражения или битвы (высок.) - место, где происходит бой, сражение. На полях войны, сражений (высок.) - на войне, в сражениях» [4, c. 552].
За счёт ритмологии расширяется специальное значение слова: пространство, в пределах которого проявляется действие каких-н. сил.
«Хладастейное поле – самое сильное поле, которое есть сейчас возле планеты Земля разума типа «человеческого», разума Звёздного, разума Генного, разума Оболочечного и разума Скафандриального. Это поле ритмологичности. Все, кто называют себя ритмологами, живут в событиях, их нет ни в проблемах, ни в ущербах. И говорят они только ритмологически» [8, с.12]. Хладастейное поле, по словам автора ритмологии, самое сильное из известных человеку полей. С помощью Хладастейного поля человек может задействовать языки времени и управлять своей жизнью. На языках Хладастейного поля человек может «переизлучать» - то есть переводить на языки времени обычные слова русского языка, тем самым делая для себя знаковыми те или иные события, людей, предметы.
- «РАЗУМ – способность человека логически и творчески мыслить, обобщать результаты познания, ум (в 1 знач.), интеллект. 2. Ум (во 2 знач.), умственное развитие» [4, c. 654].
В ритмологии значения слов ум и разум отличаются: «Каждый человек прежде всего должен в себе развить сначала природный ум, затем просто ум, и наконец, разум. Отличие здесь огромное, вычисляется по вместимости информации» [9, с. 95]. Значение слова разум расширяется за счёт выделения и описания различных видов разума: ритмологический, человеческий, землян, мужской, женский, детский, семьи, ритмологов, озариев, стэздэшщ, зитуордэнов, коллектива, лидеров, законодателей, Озаригн, ИрЛЕм, планетарный, сути, тела, имени, эго-я, лунный, генный, оболочечный, Скафандриальный и др. [10].
Ритмологическое прочтение получают не только существительные, но и глаголы русского языка: соткать полотно (в значении выполнить ритмику), например, соткать полотно «Хлеб»; принять ритмомеру (ср. принять пилюлю, таблетку) [11], выпечь корочку хлеба (определённое ритмодействие в ритмике «Полотно «Хлеб») [12, c. 39], восстановить струны (выполнить ритмику восстановления, натяжения или ослабления цветовых или звуковых струн), построить мост (выполнить ритмику «Строительство мостов») и т.д. [13].
Из языка времени пришли в русский язык имена, которые сейчас стали распространяться среди изучающих ритмовремя: Зирати, Санрэй, Озаряна, Уранэта, Лучедар, Даратсея, Сияна, Астрэя и др. Среди них имена героев книг Е.Д. Лучезарновой (Озаряна, Зирати, Санрэй и др.) [14, 15] и имена, образованные от общеупотребительных слов русского языка: Астрэя (от астра – звезда, Сияна (от сияние).
Новыми являются особые этикетные приветствия, активно употребляемые теми, кто изучает ритмологию: Озаригн! Ритмического Рисунка! Ирлем! Ритмологических успехов! Лучёз!
Таким образом, неологизмы, связанные со временем, образуются как по традиционным в русском языке моделям словообразования: сложение, суффиксация (как с использованием известных русскому языку суффиксов, так и новых), аббревиация (слоговая и звуковая), семантическая деривация, так и совершенно новым, каким, на наш взгляд, является заимствование из языка космоса. Неологизмы Е.Д. Лучезарновой обогащают язык, привносят временнЫе значения в уже существующие слова, что является чертой нашего времени, в котором четвёртая координата начинает рассматриваться не как нечто умозрительное, а как реальность, живая субстанция, с которой можно научиться взаимодействовать современному человеку, тем самым обретая новые возможности управления жизнью.
ЛИТЕРАТУРА:
- Шанский Н. М. Лексикология современного русского языка. М., 1964. 423 с.
- Варбот Ж.Ж. Диахронический аспект проблемы языковой картины мира// Русский язык: исторические судьбы и современность. М., 2001. С. 40
- Наумова Е.В. Особенности речи одной неординарной женщины России // проблемы речевой коммуникации : межвуз. Сб. науч. Тр. / под ред. М.А. Кормилицыной. Саратов : Изд-во Сарат. Ун-та, 2016. Вып. 16. С.125-136.
- Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., дополненное. – М.: «А ТЕМП», 2004. – 944 с.
- Лучезарнова Е.Д. Ничего случайного не бывает. Ритмология для каждого. : теор. часть. – СПб. : РИТМОВЗЛЁТ, 2015. – 408 с.
- Лучезарнова Е.Д. Времена календарей. – 9-е изд., дополненное. – Киев: Аграр Медиа Групп, 2016. – 160 с.
- Лучезарнова Е.Д. Откровенное знакомство : в 4-х частях. Часть 1. Я выбираю жизнь. – 3-изд. – М. : РИТМ 25, 2012. – 216 с.
- Марченко Е.Д. Активизация Хладастей. – СПб.: РАДАТС, 2010. 69 с.
- Лучезарнова Е.Д. Апофеоз, или Обретение Лучезарности. – 4-е изд., исправл. И дополн. – СПб. : РИТМОВЗЛЁТ, 2015. – 400 с.
- Лучезарнова Е.Д. Соприульотк. – 11-е изд., переработанное и дополненное. – Санкт-Петербург : РИТМОВЗЛЁТ, 2017. – 448 с.
- Лучезарнова Е.Д. Осознание добра и зла. – М. : РИТМ 25, 2011. – 24 с. – (Ритмомеры)
- Лучезарнова Е.Д. (Марченко). Всё об энергии. – Санкт-Петербург : РИТМОВЗЛЁТ, 2014. – 96 с.
- Лучезарнова Е.Д. Ритмика для события. – Санкт-Петербург : РИТМОВЗЛЁТ, 2015. – 176 с.
- Лучезарнова Е.Д. (Марченко). Озаригн. – М. : Ритм 25, 2012. – 368 с.
- Лучезарнова Е.Д. Радастея. – СПб. – РИТМОВЗЛЁТ, 2015. – 388 с.
Автор статьи: Е.В. Наумова, кандидат филологических наук, доцент, научный редактор (Частное научное учреждение «Институт Ритмологии Лучезарновой Евдокии (ИрЛЕм)
Первоисточник статьи: "Балтийский гуманитарный журнал", Том 7 №4 (25) 2018 г. ISSN 2311-0066. УДК 81
Источник публикации: НОВОСТИ НАУКИ| NAUKA-NEWS — 2018/2019
Метки: Лучезарнова Ритмология Ритмометод Институт ритмологии неологизмы Лучезарновой ИРЛЕМ Лучез время |
Пожарский С.Д. Становление ритмологии как науки в эпоху античности |
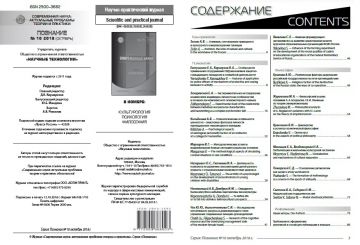 Современное научное пространство проникнуто размышлениями о человеке и его месте в мире. Существует большое разнообразие подходов к познавательной деятельности человека, остановимся на одном из направлений — ритмологии, которая фокусирует внимание на рассмотрении развития в движении и изменении. Актуальность данного направления научного знания обусловлена активным поиском в последние три десятилетия методов, концепций, изменяющих мышление человека и расширяющих его сознание. Появляются исследования, направленные на поиск устройства формы предметов и явлений материального мира в сознании человека. «Речь идёт именно о смене мышления человечества»[1].
Современное научное пространство проникнуто размышлениями о человеке и его месте в мире. Существует большое разнообразие подходов к познавательной деятельности человека, остановимся на одном из направлений — ритмологии, которая фокусирует внимание на рассмотрении развития в движении и изменении. Актуальность данного направления научного знания обусловлена активным поиском в последние три десятилетия методов, концепций, изменяющих мышление человека и расширяющих его сознание. Появляются исследования, направленные на поиск устройства формы предметов и явлений материального мира в сознании человека. «Речь идёт именно о смене мышления человечества»[1].
Так авторы коллективной монографии «Ритмология культуры: очерки» считают, что ритмология – «…это если не отдельная дисциплина, то научное направление, изучающее условия ритмической организации систем жизнеобеспечения людей. Ритм лежит в основе человекоразмерности в её психофизиологическом и социокультурном аспектах. С ритмологической точки зрения, человеческое существо – это сложное взаимодействие множества внутренних и внешних пульсаций. Биение пульса, дыхание, речь, движение человека в пространстве — всё это имеет ритмическую основу…»[2]. Происходит углублённое понимание обобщённого образа ритма как вида действительности, изменяющегося в процессе развития объективного мира. Объединяющей мыслью для книги стала идея ритма как базового организующего принципа человеческой жизни, его влияние на различные среды и индивидов. Поставлены вопросы о соразмерности ритмов, о проблемах несовпадения ритмов и трудностей, которые они вызывают, об исторической смене ритмических рисунков.
В произведениях Е.Д. Лучезарновой (Марченко) ритм связывается со временем, которое трактуется как субстанция, физическая величина. Ритмы Е.Д. Лучезарновой – новая жанровая форма, особо организованный текст с взаимопроникающими друг в друга синтаксическими и смысловыми конструкциями, делающими текст объёмным и многосмысловым. С помощью ритмов автор описала весь этот мир, раскрыла особенности человека и планеты.
Ритмология Е.Д. Лучезарновой (Марченко) практична, через систему наблюдения, чтения знаков позволяет «фиксировать связи, которые невидимы обычным людям»[3]. Поддерживая и развивая теорию о нелинейности времени и его активности, Е.Д. Лучезарнова даёт ему следующее определение: «Время – форма, способ, субстанция существования разума»[4]. Ритмология как наука о времени, с точки зрения Е.Д. Лучезарновой, исследует человека и его ритм. Научившись фиксировать время и познав законы, по которым оно существует, человек сможет смотреть на происходящее как бы со стороны, при этом все события жизни будут связываться в единую цепочку неслучайностей.
В задачи данного исследования входит рассмотрение предпосылок формирования ритмологии как науки в эпоху античности, рассмотрение основ ритмологического знания, основных понятий ритмологии – ритма и ритмики в трудах античных философов.
Жизнь человека протекает в структуре единого социального пространства и времени, этот процесс возможен благодаря способности мышления и сознания, начиная с анимистическиих форм мышления и завершая современными рационально-практическими формами сознания, направленного на преобразование объективной действительности. Как отмечают исследователи, человек живёт в условиях проявления многообразия ритмов (биоритмы, социоритмы, трудовые ритмы и т.д.), это проявляется в практической деятельности, замечено, что один человек находится в ритме возбуждения, вдохновения, а другой – в ритме пассивности.
Фундаментальное понятие философии — бытие — характеризуется такими формами, как пространство, время, движение и системность.
Развитие как наука о законах преобразования природы, общества, мышления даёт возможность управлять процессами преобразования, изменять мир в соответствии с объективными законами и потребностями человеческой цивилизации. Развитие теоретического знания постоянно расширяет горизонты познавательного и практического освоения мира человеком и связано с формированием и структурированием конкретных научных систем познания.
Человек остаётся живым существом, вписанный в единый природный ритм жизнедеятельности, он обладает громадной структурирующей силой и приводит в порядок свойства жизни. Вследствие этого при историческом анализе образа жизни ритмическое развитие у оседлых народов характеризовалось размеренностью и абстрактным понятием – протяжённостью. С одной стороны, оно характеризуется общепонятийной категорией времени, а с другой стороны, предметом, носящим утилитарную функцию — часами, которые фиксируют время и являются материальным предметом ритмической характеристики бытия.
Без понимания философского осмысления времени и его инструмента фиксации движения (часы) не понять практического значения в чередовании ритма жизни. Поэтому не случайно часы как элемент фиксации времени использовались с древнейших времен в Египте, Китае, Греции.
Ритм жизни способствует раскрытию физических и психологических сторон жизни человека и упорядочиванию элементов живой и неживой природы.
Понятие ритма и ритмологии. Положение об изначальной ритмичности объективной реальности пронизывает всё философское и религиозное мировоззрение. В древнеиндийской философии бог Брахма на основе перворитма творит и разрушает время и существующий в нём мир. В греческой мифологии Киклопы, помощники кузнеца Гефеста, чередой ударов молотов по наковальне отбивают ритм строительства мироздания. Пифагорейцы ритмичность космоса нашли в идеях числа и меры (единицы).
В древние времена человек заметил, что вся природа подчиняется определённым ритмам: сменяются времена года, день сменяется ночью, расцветает и погибает растительный мир, жизнь замещается смертью — всё это происходит с определённой повторяемостью. Опыт мировой истории подтверждает эту тенденцию сменой и развитием цивилизаций. Исторические тенденции развития этого понятия восходят к этапам развития греческой и латинской культуры. Ритм в древнегреческом языке определяется как «образ», «вид», «фигура», «соразмерность»[5].
Очень важная характеристика ритма дана в понимании соразмерности как динамической основы движения. Отметим, что в соответствии с интервалом чередования явлений и нового значения движения происходит новое понимание движения как изменения в процессе ритмики.
В практической ритмологии исследование закономерностей чередования элементов мира, видоизменение форм ритма имеет актуальное значение, когда ритм жизни человека ограничен возрастным пределом, а в процессе развития необходимо осуществить многообразие этапов этого движения.
Этапы становления категории ритма подчёркивают онтологический принцип развития бытия, что наблюдалось в первоначальном понимании пифагорейцами слова «ритм» в значении «число – (единица)», сущность бытия. Они дополнили характеристику ритма понятием «мера» как взаиморасположение частей космоса, как проявление закономерных процессов взаимоотношений элементов окружающего мира в процессе чередования.
Данная проблема становится актуальной в свете развития мировой науки, анализирующей процесс развития с созидательной точки зрения, когда для понимания преобразования мира необходима уже не констатация магии ритма, а знание закономерностей чередования не только отдельных процессов, а всего земного и космического пространства.
Так, ведущий американский социолог Льюис Мамфорд считает, что «…именно в Древнем Египте реализовалась определённая магия ритма». Он отмечал, что «уникальным феноменом египетской культуры можно считать концентрацию рабочей силы и создание основ организаций, которые сделали возможным выполнение работ невиданных ранее масштабов. Всё это требовало огромной восприимчивости к ритму. Ведь гигантские инженерные задачи, осуществлённые 5000 лет назад, были невозможны без ритмического единообразия…»[6].
Современная наука разрабатывает новый концепт понимания ритма и ритмологии в процессе переосмысления и углубления новых теоретических положений развития и его эмпирических категорий.
В исследованиях многих отечественных и зарубежных авторов это связано с одной из фундаментальных философских и научных категорий – с категорией развитие как «…закономерное, направленное качественное изменение материальных и идеальных объектов…»[7].
Предшествующие знания о ритмологии позволяют получить ответы на два важных вопроса: (1) в чём состоит сущность этого понятия и (2) каким всеобщим свойством обладает эта категория и какие основания имеются для выделения этой категории и её последующего изучения.
Данный процесс характеризуется как многообразием взглядов на эти понятия современных авторов, так и историческим подходом к исследованиям, начиная с античных времён и до современности, что способствует систематизации и научной обусловленности актуальной проблемы жизнедеятельности как отдельного человека, так и развития всего человечества.
Ритм оказывает особое воздействие на поведение человека, на раскрытие его творческих способностей.
Отметим общие свойства ритма: 1) природные и социальные ритмы характеризуются бинарной сущностью своего содержания; 2) характерная особенность ритма заключается в волнообразном чередовании составных частей ритма, эта особенность подчёркивает динамический характер ритмосодержания.
Предпосылки формирования ритмологии. Представление о развитии, движении и ритмологии как способе его реализации формировалось параллельно с осмыслением окружающего человека мира природы. Первый этап античности традиционно связывается с именами натурфилософов, а также некоторых софистов.
Фалес Милетский. В представлениях этого философа первоначало мироздания создало предпосылки для философского, а затем и научного осмысления понятия ритмология. Обратим внимание на два фактора.
Во-первых, сама постановка проблемы развития содержит в потенциале проблему ритмологии как системы функционирования, прерывистости движения, от исхода до конца, определённого движения бытия. Одновременно с этим, первоначало или перводвижение связывается с одним из современных значений ритма как фундамента или исходного пункта развития. Первый этап осмысления мира относился к анализу природы к её конкретным свойствам. Основой мироздания является вода как некий подвижный, изменчивый, текучий «фюзис» и это отразилось в мировосприятии движения как текучести.
Образ воды содержит в себе противоположности изменчивого и постоянного. При анализе процесса развития появляется важная характеристика движения — фазовый переход как прерывность однообразного состояния, что характеризует развитие с различной временной определённостью. Вода, помимо перечисленных свойств, обладает ещё одним, а именно волновым характером движения. Волна, которая имеет в своей амплитуде максимум (вершину) и минимум (впадину), непосредственным образом относится к понятию ритм, которое последовательно раскрывает происходящее с точки зрения размеренного протекания чего-либо. Будучи свойством размеренного чередования движения, волнообразность в той или иной мере должна быть присуща любому объекту. Само возникновение и растворение индивидуальной вещи в амплитуде (интервале) представляет собой в абстракции волну. Такое рассмотрение показывает, каким образом проявление свойства первоначала (ритма) в начальном состоянии и завершающей стадии, и выделение общих свойств является основанием для более глубокого проникновения в сущность исследуемых феноменов.
Следующее свойство развития – это (в понимании античных философов) текучесть, т.е. постоянная подвижность. Этот признак рассматривается как закономерное чередование свойств рассматриваемого объекта в форме ритмов.
Составные части ритма (начало и окончание движения) – это состояния конкретных форм порождения первоначала, или, как можно сказать на современном языке, индивидуализации вещей. Из некоторого бескачественного, неопределённого, первородного состояния идёт образование разнообразных объектов. В самом ритме различия слиты и находятся лишь в потенциальном виде. Их различие начинается с момента оформления вещей. Вот почему античные философы наделяли ритм свойствами формообразования. В результате, окончание движения – это высший предел существования конкретной формы, которую принимает первоначало, а начало – база, фундамент состояния движения.
У Фалеса присутствие в понятии ритмология определения «конкретная форма» существенно, т.к. безотносительно неё невозможно говорить о ритмологии в силу качественной неопределённости воды как первоначала. Первоначало наделено свойствами текучести, способности принимать различные формы, разумностью, а также волнообразным характером движения. Всё это даёт основание для того, чтобы характеризовать категорию ритм как существенную стадию в фундаментальной философской категории – движение.
Анаксимандр, рассматривая проблему конечного и бесконечного, пришёл к заключению, что первоначало должно быть бесконечным и неопределённым, ему он даёт название апейрон (απειρον — греч. «беспредельное»). Здесь основное внимание уделяется не констатации перечисленных свойств сущности бытия в форме апейрона как элемента, количественной и качественной определённости, этим в течение тысячелетий занимается философия, апейрон рассматривается как форма материального мира, как элемент ритма. На первом этапе изменения апейрон порождает противоположности, здесь начинается процесс развития нового и происходит развитие в форме ритмологического скачка, когда осуществляется переход влажного в сухое, тёплого в холодное.
Это теоретическое положение Анаксимандра имело далеко идущие последствия. Комбинация этих качеств даёт понимание развития различных элементов: земли, воды, воздуха и огня. Так, из тёплого и холодного возникла огненная оболочка, покрывающая мир (гео). Важно, что для сохранения целостности мира элементы не должны нарушать своих границ.
По Анаксимандру, развитие мира циклическое и определяется установлением и нарушением справедливости. Он возводит этический принцип справедливости в разряд природных законов, которые должны неукоснительно соблюдаться, чтобы поддерживалась устойчивость мироздания.
Беспредельность – первое и самое существенное свойство первоначала в концепции Анаксимандра. Он рассматривает два противоположных состояния ритма, или, в абстракции – точки, каждая из которых граничит с областью неопределённого и охватывающего все свойства апейрона. Через них возможен возврат вещи в состояние первоначала, но уже с новыми свойствами. Если действительно исходное состояние есть некое начальное установление границ, то ритм как её состояние в процессе чередования является переходным звеном в цепи преобразования и изменения субъекта, в котором достигается максимум индивидуального существования вещи в конкретной форме.
Таким образом, ритм — это форма максимального по времени существования вещи в выделенном из апейрона состоянии, выражаемое в ненарушении установленных с другими вещами границ.
Рассмотрение онтологических предпосылок развития в концепции Анаксимандра позволяет отметить следующее: категория ритма непосредственным образом связана с категорией предела, границы – это верхняя и нижняя грани, которые предустановлены апейроном для вещи, и в которых она должна существовать. К самому апейрону эти понятия неприменимы, в нём все противоположности тождественны. В результате, ритм – это предел существования конкретной формы движения, которую принимает первоначало, где достигается временная гармония противоположно направленных.
В силу непрерывности апейрона, границы изменения ритма при чередовании оказываются условными, перетекаемыми из одного в другое. Ритм, как и в обсуждаемой ранее концепции Фалеса, сохраняет своё значение как стадии в движении первоначала. В гносеологическом плане существенно, что:
— в основании всех явлений лежит беспредельное, производящее их благодаря установлению и разрушению границ;
— в познании сущности ритма есть предел вследствие ограниченности возможностей человека;
— главное в познании – это выяснение границ существования каждой вещи.
В аксиологическом плане высшей ценностью является следование справедливости и соблюдение границ. В этом смысле мудрость человека есть жизнь в гармонии с собой и окружающим и возврат тем самым долга породившей причине (природе).
Пифагор. Опираясь на теорию первоначала природы, Пифагор и его последователи считали число, а более конкретно, единицу выражением единого. В этом смысле пифагорейцы, как отмечает А.Н. Чанышев, дополнили «апейрон Анаксимандра как «беспредел» пределом (дуализм), поняв последний как геометризированное число»[8].
Пифагорейцы рассматривали категорию предела и беспредела как онтологическую сущность развития, как свойство, присущее всей совокупности материи, в которой движение как форма изменения сущности проявлялась как ритмическое чередование различных сфер бытия.
У Пифагора конкретное выражение категории предела находится в геометрии. В пифагореизме это не просто человеческая практика, это выражение процесса ритморазвития в космогенезе. На эту характерную особенность понимания ритма в космосе обращают внимание многие исследователи, так, например, известный французский философ и математик Роже Каратини, один из соавторов авторитетнейшей иллюстрированной французской энциклопедии Борда, обращает внимание, что «… Пифагор был первым, кто сделал арифметику и геометрию науками в подлинном смысле этого слова, освободив их от служения только делу купцов и землемеров. Пифагор преобразовал геометрию, рассматривая её принципы чисто абстрактным образом и исследуя теоремы с интеллектуальной точки зрения…»[9].
В учении пифагорейцев были выделены десять пар противоположностей, которые можно рассматривать как формы выражения ритмов: 1. предел и беспредельное; 2. нечёт и чёт; 3. единое и многое; 4. правое и левое; 5. мужское и женское; 6. покоящееся и движущееся; 7. прямое и кривое; 8. свет и тьма; 9. хорошее и дурное; 10. квадратное и продолговатое.
Гармония, наряду с пределом и беспредельным, числом также относится к центральным понятиям пифагореизма. В его развитой форме у Филолая находим, что «… эти два начала [перас и апейрон] связываются посредством гармонии Гармония есть соединение разнородного и согласие несогласного… »[10] дисгармония – господство одной над другой: то, что обладает гармоничностью, является прекрасным и наоборот, если что-то прекрасно, то оно гармонично. Таким образом, прекрасное – это признак, по которому возможно узнать гармонию. Но что же представляет собой гармония? «…Гармоничность – особое свойство, выражающее примирение противоположностей…»[11]. Достичь гармонии означает стать целостным, т.е. единым, подобным Единому (Богу).
Человек подчиняется законам чисел, их отношений и гармонии. Числовые законы, как считали пифагорейцы, умопостигаемы, следовательно, мир познаваем, но лишь настолько, насколько он определён. Основа познания заключается в осознании, что «…первичным является природа чисел и пропорций, пронизывающая всё, в соответствии с которой всё гармонично соединено и подобающим образом украшено. И мудрость поистине есть знание прекрасного, первичного, божественного и чистого, всегда неизменного и действующего так, что всё прочее, причастное ему, также может быть названо прекрасным…»[12]. С познания основы всех вещей начинается путь к совершенству. Другой вопрос, что познанию мешают чувства как источники разнообразных впечатлений, затрудняющих видение упорядоченности и единства в явлениях действительности. Противостоять этому возможно через систему приёмов, или, как их называли пифагорейцы, очищений.
Ритм возможно определить через категорию гармонии. Это состояние наибольшей гармоничности в существовании вещи, выражаемое в балансе противоположностей. Это состояние наибольшей дисгармонии, когда одно из начал максимально подавляет другое. В силу того, что в терминологии пифагорейцев «всем владеет число», соотношения противоположностей в состояниях могут быть выражены количественно.
В гносеологическом плане существенно, что познание сущности ритма возможно в той степени, в котором действует предел, выраженный числом как принцип чередования; главное в познании ритма – это выделение максимальных числовых значений в диапазоне устойчивого существования вещи. Количественные с оотношения в динамике состояний изменчивости есть главный критерий понимания их сущности.
В аксиологическом плане высшей ценностью является созерцание красоты космоса. В этом смысле мудрость человека есть познание законов мироздания, обуславливающих эту красоту и раскрытие красоты в себе.
Гераклит. Первоосновой мироздания у Гераклита является огонь, образ которого наиболее точно характеризует идею вечного движения или изменчивости. Весь мировой процесс выглядит у Гераклита как балансирование между двумя состояниями – максимального единства разнообразных вещей (воспламенение) и максимального различения разнообразных вещей (угасание огня). Эти два состояния, которые можно охарактеризовать как балансирование, названы Гераклитом «путь вверх-вниз».
Закон борьбы противоположностей – центральная идея в концепции Гераклита. Воспламенение и угасание — это две противоположно направленные тенденции в существовании первоначала, максимальная и минимальная степени выраженности его основного свойства, которые образуют суть противоречивости и принципа борьбы. В качестве иллюстрации у Теофраста содержится следующая позиция Гераклита: «… из противоположностей та, что ведёт к воспламенению, зовется Согласием, Миром …»[13], а в другую сторону – рознью. Дальнейшее развитие этих идей будет осуществлено Эмпедоклом при рассмотрении категорий Любовь и (Раздор) в форме чередования ритмопроцесса.
У любой вещи может быть бесконечное множество свойств. В этом состоянии ритм (как форма) оказывается состояниями пространственно-временной композиции (гармонической структуры) сущностных свойств объекта, характеризующихся определённой степенью их выраженности, вне этого состояния ритм (объект) будет уже другим, потому как изменится композиция (или структура) этих сущностных свойств и их значение.
Если начало и завершение обозначают форму ритма как некую композицию сущностных свойств вещей в их предельных выражениях, то первым шагом начала познания свойств ритма является выделение существенных свойств в вещи. Указанием на их существенность будет относительно устойчивая воспроизводимость, повторяемость в различных ситуациях.
Следующий шаг познания – это установление максимального и минимального значений этих свойств. Далее – соотнесение этих предельных значений с тем, что означает максимум автономного или слитного с первоначалом существования. Завершающим этапом будет выведение принципа связи различных свойств. Это возможно через сравнение состояний ритмов друг с другом.
Истинным достоверным суждением о сущности ритма будет установление закона, характеризующего принцип связи сущностных свойств объекта и их динамику. Процедура исследования – это многократные наблюдения и сравнительный анализ.
Итак, высшее достижение развития человека – это слияние его души с мировым логосом.
Мера ритма определяется природой объекта. Для живых объектов – это генетическая программа. Для человека это генетическая программа в единстве с социальной программой (идеал).
В воззрениях Гераклита обострена диалектика выбора. Если мы предпочитаем одно состояние, то мы удаляемся от противоположного ему. Принципиальный тезис, выявляемый у Гераклита – это то, что ритм есть разные степени проявления одного предельного свойства — совершенства.
Таким образом, ритмика есть активное, напряжённое состояние взаимодействия (борьбы) противоположно направленных сил. Т.к. ритм оказывается состоянием пространственно-временной композиции (гармонической структуры) сущностных свойств объекта, то он характеризует определённую степень его выраженности.
В результате в онтологическом плане существенны следующие категории: путь вверх/путь вниз, мера, борьба/согласие, гармония.
В гносеологическом плане существенно, что ритм объективно существует и доступен чувственному восприятию; критерием истины является Логос, который выражается в едином видении объекта разными людьми; в качестве процедур познания предлагаются: постоянное уточнение выносимых суждений (рефлексия), сравнительный анализ объектов в их движении (или изменении) и противоположности (неподобности) друг другу.
В аксиологическом плане важно, что высшая ценность для человека – это следование мудрости, которая достигается через очищение души (огненного начала) от влажной природы тела, способного потушить эту искру мирового Логоса.
Именно состояние ритма предполагает одновременно максимальную степень выраженности следующих свойств: мудрость (предельное сознание), чистота (свобода от побуждений тела), лучезарность (глубокое понимание сути вещей), святость (осознание единства и высшего смысла вещей).
Эмпедокл предложил одну из первых теорий биологической эволюции. Для нас Эмпедокл интересен, прежде всего, как мудрец. Он рассматривал движение как чередование вещей, как познание сущности бытия. Движущими причинами у Эмпедокла выступают две противоположно направленные силы – Любовь и Ненависть, сущность которых в соединении и разделении. Различия между ними обусловлены разной пропорцией (количественным соотношением) между Любовью и Ненавистью.
Разница заключается в том, что Любовь соединяет разнокачественные элементы и разъединяет однокачественные, а Ненависть – соединяет однокачественные и разъединяет разнокачественные. Под действием сил элементы смешиваются друг с другом в определённом сочетании, и проявляются глубинные характеристики понимания чередования ритма, как процесса движения, а впоследствии изменения сущности рассматриваемого объекта.
В развитии мира Любовь и Ненависть чередуются друг с другом. В этом чередовании существуют четыре состояния: полное господство Любви, переход от Любви к Ненависти, полное господство Ненависти, переход от Ненависти к Любви.
В состоянии господства Любви мир представляет собой высшее состояние, совершенную смесь, бескачественный Сфайрос, полное единство разнородных элементов. В состоянии господства Ненависти все элементы максимально отчуждены друг от друга. В промежутках между этими крайними состояниями под действием силы Любви возникают разнообразные вещи.
Следовательно, самой высшей или абсолютной формой ритма будет с одной стороны, тот самый бескачественный Сфайрос, совершенное смешение элементов, а с другой стороны это максимум в проявлении Раздора (Ненависти) и состояние отчуждённости элементов.
Движение ритма обусловлено разной пропорцией (количественным соотношением) между Любовью и Ненавистью. В зоне господства Ненависти, когда все элементы максимально отчуждены друг от друга, в образующихся индивидуальных вещах преобладает тенденция к соединению однородных, т.е. однокачественных корней (элементов): огонь-огонь, земля-земля и т.п.
В зоне Любви в образующихся вещах преобладает тенденция к соединению разнородных или разнокачественных корней (элементов): огонь-земля, вода-земля, воздух-огонь и т.п.
Природа развития индивидуальной вещи, её изменение при чередовании формы ритма (оболочки) в понятиях Эмпедокла определяется тремя аспектами: составом элементов/корней, количественным отношением элементов/корней (какой преобладает), характером взаимодействия Любви/Ненависти.
Развитие в сторону состояния господства Любви (восходящая ветвь) идёт по пути увеличения равноценных в количественном отношении вкладов «корней всех вещей». Т.е. вещи с парным сочетанием первоэлементов – более простые и раньше возникшие, а вещи с совершенным сочетанием, включающие все четыре элемента – более сложные и поздние по характеру образования. Появление таких вещей будет означать постепенное изменение движения к состоянию Сфайроса.
Исчезновение таких вещей будет знаменовать движение в сторону господства Ненависти и разрозненности.
Таким образом, мы можем выделить несколько свойств чередования, которые составляют сущность циклического развития у Эмпедокла: телесная организация (её пропорциональность, соразмерность); формы общения (высшая из них — общение посредством человеческой речи, следовательно, общение есть, в свою очередь, форма проявления Любви); разделение полов и, следовательно, максимальное раскрытие и выражение их природы.
Приближение к истине – это процесс развития, напряженный труд не одного поколения людей. Следование правильному разуму означает нахождение в согласии с божественным разумом. Примечательны слова Эмпедокла: «…дерзни же и воспрянь к вершинам мудрости// Исследуй всеми силами всё, что в предмете ясно, // Но не думай видеть больше, чем доступно глазу, // Ни слышать тупым слухом более того, что отчётливо высказано, // Не доверяй и другим, каким ни есть, путям знания; // Не давай веры ощущениям и размышляй, как все само себя выясняет …»[14]. Истина рассматривается Эмпедоклом как достижение высшего состояния человеческой жизни. Мудрость есть цепь вершин, открываемых Божественным разумом наиболее настойчивым.
«Познай, сделав в уме разумное деление…»[15] — фраза, указывающая на то, что истина достижима в результате мыслительных операций с теми фактами, полученными в ходе чувственного восприятия – отделения существенных свойств от несущественных.
Познание истины, в сущности, сводится к раскрытию силы Любви, действующей во всём мире. Обладая от природы этой силой, он обладает способностью видеть созидательную силу Любви и применять её для своего физического и умственного развития. Поэтому в практической ритмологии важно личность (как субъект деятельности) вывести на пик формы, на высшую ступень познания, подготовиться к периоду спада, преодолеть его и вновь оказаться на вершине очередного ритма движения.
Наконец, завершающим моментом в гносеологическом плане и подготавливающим плавный переход к аксиологии является предпосылка того, что развитие человека определяется тем, как он представляет окружающий мир: «… Ибо человеческий разум растёт соответственно представляющемуся…» и «… перемена в (нашем) состоянии сопряжена с переменой (нашего) образа мыслей…»[16]Состояния человека определяются образом его мысли. Следовательно, закон, его сущностные свойства, есть именно образ мысли. Бесконечность совершенствования человека есть производная от бесконечности отражаемых предметов и их комбинаций в представлении. Косность разума будет означать начало движения к разрушению. Состояние характеризует одну из сторон понятия «мудрость», которая с точки зрения Эмпедокла представляется как предметная мысль.
Наличие образа как ориентира в жизни – это начало движения к Любви жизни.
Взаимное желание продолжить жизнь рассматривалось различными мыслителями. У Пифагора появились противоположности мужского и женского, как некоторые универсальные пары. Эмпедокл раскрывает их смысл. Разделение полов – это определенный этап развития природы – космогонического процесса, знаменующее большее совершенство, происходящее от соединения мужчины и женщины как форм живых существ. Но на разделении полов совершенствование не заканчивается, оно продолжается в сфере межличностных отношений.
Смысл жизни — высшее понимание состояния человека – это ежедневное преодоление смерти, постоянное движение к состоянию Сфайроса, как абсолютного единства и растворённости в мире при полном господстве сил Любви.
Любящий видит Высшую сущность (ещё не реализованное, но потенциально способное к такой реализации) в любимом. Это означает, что тот, кто любит, видит в объекте своей любви лучшие свойства, он своим отношением способствует обнаружению и раскрытию этих свойств, далее идёт процесс реализации потенциального, через гармонию единого целого (в семье, в антропогенезе). Так, любящие родители видят лучшее в своём ребенке и создают условия для его развития. Дети видят лучшее в родителях и уже воздают им благодарность. Учитель видит лучшее в учениках, а ученики – в учителе, развивая лучшие его идеи. Мужчина видит лучшее в женщине, а женщина – в мужчине, и они развиваются во взаимном союзе. Примеров тому есть множество, но суть одна – видение лучшего и вера в это способствует тому, что взаимодействие субъекта и объекта любви приближает их обоих к состоянию непрерывного развития. Это происходит в результате ритмической передачи высшего единства, т.е. раскрытия своей сущности в продолжении чередования поколений в беспрерывном ритме человеческой жизни. Из этого же следует важный вывод, что состояние Высшего единства (гармония как минимум двух субъектов) не может быть достигнуто изолированным объектом, а только во взаимодействии с другими, в противном случае, теряется смысл Высшего единства.
Демокрит. Принципиальное отличие миропонимания Демокрита в том, что «…бытие существует нисколько не более, чем небытие. И оба они одинаково являются причинами для возникновения…»[17]. Любая вещь есть совокупность атомов и пустот. Существование вещей во времени связано с действием необходимости: «… в течение определённого промежутка времени атомы пребывают вместе, пока какая-либо более сильная необходимость, явившаяся извне, не потрясёт [образовавшийся конгломерат] и, разделив [атомы], рассеет их…»[18]. Необходимость составляют, с одной стороны, вихревое движение, обуславливающее разделение масс, а с другой стороны, возможность столкновений вещей, миров друг с другом. Вихревое движение составляет основу для взаимодействия атомов по принципу подобия. Важно, что в развитии вещи или мира существует стадиальность: рост, расцвет и разрушение. Признак расцвета мира, когда он не «в состоянии более принимать [в себя] что-либо извне».
Что нового позволяют увидеть перечисленные положения о бытии Демокрита? Движение вверх как направленность (одна из характеристик развития), как чередование, детерминированное определённым ритмом, есть преобразование в структуре связей элементов атомов (их положения и порядка) в сторону всё большего структурирования нового образования в связях атомов, которые приводят к разделению старого и образованию нового. Силы подобия – это силы движения к Силе столкновения (с неподобным, потому как между сталкивающимися структурами не образуется взаимосвязи) – это силы движения к Раздору.
Таким образом, любая вещь есть совокупность атомов и пустот. Бесчисленность атомов по форме, а также бесконечное разнообразие их сочетаний между собой обуславливает бесчисленность не только вещей конкретных, но и целых миров.
Итак, подведем итоги рассмотрения процесса формирования ритмологии.
Во-первых, период античности – это время расцвета различных форм деятельности и идей выдающихся мудрецов в широком кругу лиц, желающих познать действительность. Характерная особенность этого периода — анализ категорий развития, движения и чередования в деятельности человека и природы для достижения конкретного результата.
В методологическом плане значимость первого этапа философской мысли античности заключается в определении понятий первоначало, предел и сущность развития, квинтэссенция этой мысли сформирована в триединстве пространственной сущности мира, выраженной в категориях «верх-середина-низ» как универсального пути развития разнообразных природных объектов. Разработка категории первоначала приводит к ещё одной триаде — качественно-количественных определенностей вещей — «точка-граница-сферос».
Происходит процесс выделения высших свойств понятий и категорий, которые являются одновременно и вершиной философской мысли, и характеристикой процесса движения в форме ритма. Обозначаются единичные категории – исходные состояния, с которых начинается путь любого развития. Совершенствуется система понятий, связанных с категорией гармонии, понимаемой как взаимодействие между частями и целым, осмысливается пифагорийская категория «единое», как космическая единица, намечается понимание чередования ритмов как частей объективного мира в форме воды, апейрона, единицы. Рассматривается понятие цикл как чередование ритмов в единстве определённой сущности или сферы, символизирующем полную картину развития. Анализируются материальные элементы научных субстанций: вода, воздух, огонь, земля, число, «корни вещей», атом. Обобщающим фактором деятельности философов данного времени является формирование категориально-понятийного аппарата ритмологии.
Во-вторых, рассматривается особая роль ритма и ритмики в ходе ритмологического процесса как особого состояния в развитии природы и человека как внутренней гармонии, определённой чувством меры, в пределах которой взаимосвязаны элементы развития.
Вводится понятие «определённости» природного материального объекта, отражается и фиксируется его отличие от других, рассматривается его специфичность. Так как каждый ритм отличается от других в разных отношениях определённости именно как качественной определённости, то у объекта есть различные определённости: качественная и количественная, пространственная и временная и др. В данном случае подчёркивается линейная определённость какого-либо объекта, его положение относительно друг друга и его положение в длительном процессе движения – в ритмике.
Качественная определённость ритма конкретизируется с помощью понятия границы, фиксирующей отличие и взаимосвязь объектов по отношению друг к другу. Если бы у объектов не было бы границ, то они были бы неотличимы друг от друга. Наличие границы предполагает конечность объекта. С точки зрения философской мысли первого этапа античности это означает, что достигнув заданного предела в развитии, получив новые свойства, объект неизбежно начинает новый виток ритморазвития.
В третьих, для методологического понимания сущности ритмологии важно, что всякое конечное имеет внутреннее и внешнее основание для перехода в другое состояние, для выхода за границу. С понятием границы связан принцип справедливости. Так как понятие первоосновы неизбежно предполагает удвоение, порождение противоположностей, то гармония приобретает значение взаимосвязи этих противоположностей в едином целом через взаимодействие: тёплое и холодное, справедливость и несправедливость, разряжение и сгущение, филия и нейкос, вихревое движение атомов.
В-четвёртых, динамика движения как ритмочередование, как путь к совершенствованию выводится из анализа борьбы противоположностей.
Ключевая категория — это состояние движения на пути к совершенствованию, которое проходит через смену состояний, лежащих в пределах каких-либо противоположных качеств. Существенно, что для мыслителей данного периода совершенствование – это замкнутый цикл, когда с необходимостью наступает возврат к исходному пункту (первоначалу). Для характеристики состояний используются понятия: единство мира, огненная оболочка мира, определённость и неопределённость, огонь, ветер, вода, облака, земля, камни, напряжённость, гармония сфер, сферос, хаос и космос. Примечательно, что огонь, вода, земля, воздух – это и первоначало, и определённые состояния.
В-пятых, формируется принцип передачи мудрости в форме знаний, научных теорий и организации обучения достигнутым вершинам деятельности. В связи с этим повышается роль системного знания и создаются предпосылки распространения мудрости в организованных формах (школы, лицеи, академии и др.). Кроме того, обозначается проблема неравенства и осмысление иерархизации общества как ступени в развитии природы, человека и общества; определяется принцип совершенства как способ достижения результата при движении вверх по иерархической лестнице.
Таким образом, основы ритмологичеких знаний заложены уже в античности. Историко-философский подход позволяет выявить предпосылки формирования ритмологии как науки и этапы её становления, что является важным для понимания современного состояния развития данной области знаний о человеке и мире.
ЛИТЕРАТУРА:
- Весман А.Д. Греческо-русский словарь /Репринт V-го издания 1899 г. М.,1991.
- Гераклит Эфесский: все наследие: на языках оригинала и в рус.пер.: крат. изд. / подгот. С.Н. Муравьев. М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2012. – 416 с.
- Гуревич П.С. Эстетика, М. — Кнорус, 2016. – 454 с.
- Золотухина И.И. Музыка сфер и геометрия пространства. — Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2003. – 312 с.
- Каратини Р. Введение в философию — М.: Эксмо, 2003. – 736 с.
- Лучезарнова Е.Д. Ритмология от события, или к чёрту общество чистых тарелок. – 4-е изд., дополненное – СПб. : РИТМОВЗЛЁТ, 2017. – 392 с.
- Маковельский А.О. Древнегреческие атомисты, АН Азербайджанской ССР.- 399 с.
- Материалисты Древней Греции – Государственное изд-во Политической литературы – Москва. 1955. — 238 с.
- Ритмология культуры: очерки / под ред. Ю.Ю. Ветютнева, А.И. Макарова. СПб.: Алетейя, 2012.
- Философский словарь. М., Издательство «Республика», 2001.
- Чанышев А.Н. Италийская философия – Изд-во Московского университета. 1975.
- Чанышев А.Н. Пифагореизм / Философский словарь под ред. И.Т. Фролова, Ред. колл.: А.А. Гусейнов, В.А. Лекторский, В.В. Миронов и др. Составители: П.П. Апрышко, А.П. Поляков, Ю.Н. Солодухин. — 8-е изд., дораб. и доп. – М.: Республика; Современник, 2009. – 846 с.
- Ямвлих О Пифагоровой жизни / Пер. с древнегреч. И.Ю. Мельниковой. — М.: Алетейа, 2002. — 192 с.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПЕРВОИСТОЧНИК: НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СОВРЕМЕННАЯ НАУКА» (СЕРИЯ «ПОЗНАНИЕ») №10 (2018) ISSN 2500-3682 (ВАК — 09.00.00, 19.00.00, 24.00.00)
ИСТОЧНИКИ: http://nauka-news.okis.ru/ https://re-port.ru/
Метки: ритмология становление ритмологии ритмология наука лучезарнова лучезарнова философия время ритм ритмика ритмопроцесс ритмология отзывы |
Процитировано 2 раз
Ритмология | Страсть, для которой нет препятствий |
Член Союза писателей России Евдокия Лучезарнова рассказала об азарте, экстриме и смысле жизни
Нестандартные люди интересны своим ходом мыслей, взглядом на мир. Они идут вразрез с общепринятыми нормами и правилами. Азартны, целеустремлены, уверены, что в жизни надо рисковать. Член Союза писателей России Евдокия Лучезарнова – яркий тому пример. Наша героиня считает, что настоящий смысл жизни кроется в страсти, в увлечении.

- Евдокия Дмитриевна, а вы азартный человек?
- Да, я очень азартна. И считаю это качество одним из самых положительных. Я никогда не могу усидеть на одном месте: то мне на Северный полюс надо, то на Южный, то вокруг Земли облететь, то оказаться в шторме на парусной яхте с маленьким ребенком на руках… Я живу драйвом, экстримом. И, главное, ничего нельзя бояться. Если все вокруг говорят, что в той же Африке опасно – крокодилы, бегемоты, обезьяны, кашалоты… Не слушайте, летите. Ведь от азарта получаешь огромное наслаждение. Понимаешь, что нет ничего невозможного.
- Считается, что азартный человек – это игрок, ставящий на кон все, что у него есть. Человек, который не может остановиться, пока не останется у разбитого корыта…
- Разумеется, эта ситуация неприятна. И к таким историям я тоже отношусь очень плохо, так как считаю это зависимостью, болезнью. Однако хочу подчеркнуть, что азарт – это вовсе не игры. Это жизнь в глобальном понимании. Умение рисковать и выигрывать. Попытка доказать всем, что невозможное возможно.
- А азарт и экстрим, по вашему мнению, – на одной чаше весов или на разных?
- Давайте рассмотрим это на примере поездки в Гренландию. Например, решилась я посетить самый большой в мире остров. Прилетела, мне все нравится. Зная, что там вечная мерзлота – я рискнула, решилась. Это и есть азарт. А дальше начинается экстрим: суровая погода, пьяные местные жители. Нас усаживают на какое-то суденышко, холодно, везут между айсбергами... Хочется кричать от такого экстрима. И ничего здесь не сделаешь, у них своя правда жизни, своя философия, они так привыкли жить.
Думаете, на этом все? Ничего подобного! Наконец, наше судно достигло берега, мы выходим на сушу, но опять преграда – огромная обледенелая лестница. Заползли. Еле-еле… И на этом впечатления не заканчиваются. Отнюдь, экстрим продолжается. Нам говорят, что если белые медведи будут на вас нападать, специально обученный охранник отпугнет их выстрелом. Звучит жизнеутверждающе. Но и тут «но»: хищник рядом, а охранник спит пьяный. Порой, азарта не хватает, чтобы преодолевать эти «экстримы».
- Получается, что одно не может быть без другого?
- Экстрим – это когда вы попадаете в сложные условия и вам некуда деться. Вы обязаны преодолеть какие-либо препятствия. Азарт же – это внутреннее состояние, это - «я хочу», «мне нравится», «мне доставляет удовольствие». Иными словами, экстрим нам всегда предлагают, а азарт мы выбираем сами.
- А зачем человеку рисковать своей жизнью? Какие эмоции вы при этом испытываете?
- Как бы это странно не звучало, но жить без экстрима невозможно. В своей жизни я была в очень опасных местах, откуда далеко не все выходили живыми. Но при этом, моего азарта хватало для того, чтобы выдержать экстремальные условия, выжить в них. А как по-другому? Только преодоление самой страшной опасности дает нам жизненный заряд. Если человек совершает что-то неординарное – он поднимается на ступень выше в своем сознании. Он летает, он свободен. Это и есть огромное наслаждение, благодать. Ради этого стоит жить.
Источник: Комсомольская правда
|
Метки: страсть ритмология азарт лучезарнова путешествия ритмология отзывы состояние наслаждение |
Ученые научились «ловить» ритм жизни | Интервью с Е.Д. Лучезарновой |
Это цитата сообщения Luchezarnova-kniga [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Интервью корреспонденту "Комсомольской правды" М. Семеновой дала исследователь, писательница Евдокия Дмитриевна Лучезарнова. Корреспондент КП постарался обсудить с гостьей самые острые вопросы, интересующие читателей.
Евдокия Дмитриевна, расскажите, что представляет собой Ваш метод и чем он действительно может быть полезен людям?
Началось всё с того, что я, работая астрономом-солнечником, стала изучать различные философские направления. Познакомилась со многими авторами, в т.ч., с экспериментами астрофизика Николая Козырева, с его гипотезой о физических свойствах времени и объективном отличии причин от следствий. Объединив полученные знания, я пришла к выводу, что слова могут улавливать и хранить время. Это означает, что при помощи определённых словесных конструкций (ритмов) можно управлять временными потоками, которые я назвала ритмовременем, что, в свою очередь, позволяет раскрыть потенциал человека, развить у него те качества, которые позволят вписаться в быстро меняющуюся действительность.
Можно ли называть Ваш метод научным?
В настоящее время мой метод находится в стадии формирования. Конечно, его ещё нельзя назвать наукой в полном смысле этого слова. Вообще, становление и институционализация любой науки - это долгий процесс. Я ставлю вопрос о необходимости всестороннего изучения феномена времени и в последующем - о создании на основе этих исследований целостной метанауки. На Западе подобные исследования уже идут. Например, активно развивается хронобиология, биоритмология.
Это весьма созвучно с некоторыми нашими наработками. К сожалению, у нас в стране данная проблематика ещё недостаточно изучается в научных кругах, что лично у меня вызывает тревогу, поскольку данные знания могут иметь стратегическое значение для развития страны.
А Вы уверены, что Ваше учение станет наукой? Последнее время у нас в стране активно ведётся кампания по борьбе с лженаукой…
С лженауками боролись во все времена. В своё время жертвами этой борьбы были Коперник, Галилей, Джордано Бруно. Совсем недавно по историческим меркам за "лженауку" был осуждён выдающийся отечественный генетик Николай Вавилов. Генетику и кибернетику вообще объявляли "продажными девками империализма". Результатом такой борьбы стали наши отставания и в науке, и во многих других сферах народного хозяйства.
Мне сейчас не хочется говорить о злонамеренных действиях по дискредитации каких-либо исследований или самих исследователей, но такие факты, увы, тоже имеются. Не исключено, что есть такие силы, которым выгодно добиться того, что любые попытки изучать время объявлялись бы лженаукой.
Ещё основатель медицины древнегреческий мыслитель Гиппократ говорил, что один из главных принципов врача - принцип "не навреди". Скажите, может ли Ваш метод нанести вред человеку?
У нас отсутствуют какие-либо методы, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья человека. Не применяются ни технологии кодирования, ни агрессивные тренинги – ничего подобного. К сожалению (или к счастью), мои книги всегда воспринимались неоднозначно, но нет ни одного документального подтверждения, что они причинили кому-то вред. Со стороны правоохранительных органов к нам претензий нет.
Согласна, что возможно не всем подходит мой метод. Если, познакомившись с моими взглядами, человек придёт к выводу, что лично ему не подходят мои наработки, я тоже буду рада, что человек находится в состоянии активного поиска и идёт к своей цели.
Многие называют Институт ритмологии прежде всего коммерческим проектом. Что Вы скажите по этому поводу?
Возможно, в будущем ситуация изменится: сейчас в Финляндии уже введён закон о гарантированном доходе, но у нас пока такой практики нет, поэтому все мы вынуждены зарабатывать себе на жизнь. Наш институт негосударственный, у нас нет бюджетного финансирования, тем более финансирования из-за рубежа, поэтому для нашей работы необходимы финансовые ресурсы. Мы продаём наши книги, оказываем консультационные услуги. Это даёт нам возможность не только проводить исследовательскую работу, но и быть независимыми в своих исследованиях. Мы помогаем людям раскрыть их таланты, в частности,- в области предпринимательской активности. Я уверена, что чем более обеспечены будут люди, тем сильнее будет наша страна.
Также, в некоторых источниках Институт ритмологии называется религиозной организацией новой эры (нью эйдж), и даже - сектой. Как Вы прокомментируете это утверждение?
Когда мой метод еще только создавался, я в своих трудах активно использовала мифологическую риторику и образы. Действительно, в моих книгах упоминаются Изида, Анубис, Озирис. В характеристиках и терминах можно встретить такие понятия как "Полубоги", "Хладастеи", "Радастеи", "Лучи" и др. Упоминаются мифологизированные центры, такие как Шамбала и Беловодье. Всё это, конечно, художественные образы, метафоры, аллегории. Такие приёмы распространены в литературе.
Мне пришлось вырабатывать для своей доктрины особый терминологический аппарат, который характеризовался яркими образами. Такая традиция не чужда и науке.
Вообще, согласно закону о трёх стадиях развития, сформулированному Огюстом Контом, любое знание проходит три стадии развития: религиозно-мифологическое, философско-теоретическое и научно-рациональное. На первом этапе исследования человечеству необходим религиозно-мифологический опыт, впоследствии появляются точные определения, формулы, схемы.
В наши дни мы больше используем научную и философскую лексику, поскольку мы уже продвинулись в сторону собственной терминологии, а в стране произошёл ряд положительных изменений.
Недавно социологические опросы подтвердили, что среди применяющих мой метод есть и православные, и мусульмане, и представители других конфессий, и атеисты. Из всех опрошенных 80% считают ритмологию философией или групповой идеологией, 15% - наукой и 5% - религией. Я всегда с иронией относилась к тому, что меня считают богом или пророком. В нашем народе присутствует некоторая тяга к вере в сверхъестественное, не думаю, что за это надо кого-то осуждать. Видимо, людям надо пройти особый духовный путь для отделения веры от знания.
Какое Ваше отношение к Русской православной церкви?
Я крестилась в Москве в то время, когда это было совсем не модно, когда большинство в нашей стране, в отличие от меня, были коммунистами и ярыми противниками православия. В начале 90-х участвовала в восстановлении храмов на Урале. Без православия трудно представить русскую литературу, живопись, музыку и вообще русскую культуру.
Вашим постоянным критиком является православный публицист Александр Леонидович Дворкин. Как Вы относитесь к его высказываниям?
Наши разногласия продиктованы, на мой взгляд, разными жизненными обстоятельствами и разным жизненным опытом. Александр Леонидович в 1970-е годы как диссидент покинул СССР. Во время холодной войны страны Запада оказывали поддержку советским диссидентам, это дало ему возможность получить хорошее богословское образование. Позже получил американское гражданство и работал на радио "Свобода". Я в это время училась в Уральском Государственном университете в Свердловске, потом работала в оборонной промышленности, служила своей Родине, о чём не жалею. Я не получила богословское образование, но я с детства от старших знала евангельский принцип "Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете” (Лука 6,37). Также меня всегда вдохновляла идея русского космизма о единстве всего во всем. К сожалению, люди, воспитанные в духе американской культуры, часто нацелены на агрессию и поиск образа врага. На этом сюжете построены большинство голливудских фильмов. Лично мне ближе слова афонского старца Симеона: "Замечать недостатки других людей, значит – умножать собственные".
Можно ли Вас назвать российским патриотом?
Безусловно. Я уверена, что у России есть своё собственное время и пути его познания. В своей книге «Время России» я вспоминаю Отечественную войну 1812 года. С точки зрения времени совершенно очевидны причины успеха главнокомандующего русской армии. Свои размышления я оформила в следующих строчках:
Одинокий Наполеон с ключом от Москвы
стоял среди обезлюдевших пожарищ.
Император рассчитывал на славу победителя,
цель была достигнута, но..
Никто его не славил и...
подчиняться не спешил,
Выиграв территорию,
проиграл время....
Я считаю, именно время России приводит нас к победам. Россию любят за её природу, культуру, духовность, а я люблю Россию ещё и за её особое время в физической реальности, в психологии, в истории и в метафизике.
А что Вы пожелаете нашим читателям?
Всегда, когда открывается нечто неизведанное, оно сначала кажется совершенно невероятным, а потом доставляет огромное количество наслаждения и удовольствия. Так вот это «нечто», которое сейчас готово вступить в контакт с каждым человеком, готово открыть ему его собственный мозг, и есть время.
Основное пожелание — ощутите вкус времени и насладитесь этим вкусом. От этого ваша жизнь наполнится тем состоянием счастья, которое безразмерно. А всё остальное, что вас сейчас заботит, все проблемы, которые вокруг вас существуют, они будут очень легко решаться из времени.
Источник: "Комсомольская правда". 5.12.2017.
Серия сообщений "Лучезарнова Евдокия книги":
Часть 1 - Лучезарнова Е. Д. | «Откровенное знакомство» | «Кто и как мешает счастью»
Часть 2 - Евдокия Лучезарнова | Интервью о стремлении людей к развитию
...
Часть 7 - МИССИЯ РОССИИ - ЭТО ВРЕМЯ
Часть 8 - Лучший подарок – это книга! (Благотворительный фонд "Исполнение мечты")
Часть 9 - Евдокия Лучезарнова : Ученые научились «ловить» ритм жизни
Метки: Евдокия Марченко Евдокия Лучезарнова Лучезарнова философия ритмология Институт ритмологии Лучезарнова отзывы ритмы время Лучезарнова интервью |
Ритмология | Время – это радость |
Прикосновение ко времени всегда вызывает у человека радость. Это ощущение такое же безусловное, как, например, ощущение холода от прикосновения ко снегу.

Объясняется эта связь времени и радости очень просто. Именно время делает человека сильным, дает ему свободу.
Если где-то у вас нет радости, нет интереса – то здесь вашего времени гарантированно нет. И в таком «безвременном» месте вы будете только терять, терпеть неудачи и т.д. (хотя тот человек, у которого здесь есть время, будет преуспевать, находясь буквально рядом с вами.) Потому что время – это главный ресурс человека. Именно оно дает энергию событиям вашей жизни. Нет времени – и любая самоотверженная работа идет «в никуда».
Если ваше время где-то закончится – то тут для вас вмиг все изменится. То, что раньше вызывало у вас радость и интерес, мгновенно станет для вас скучным, обременительным, печальным.
И наоборот. Если в то, что вы воспринимали как малоинтересное и гнетущее, попадет время – это что-то тут же станет для вас привлекательным и желанным.
Такова власть времени над оценками человека.
Ну, а что делать в том случае, если вам что-то нравится – но вы не хотите, чтобы это вам нравилось? И вы мечтаете о том, чтобы радость вам доставляло не это, а что-то совсем другое?
Тогда вам надо учиться серьезно управлять своим временем. Вам надо научиться изымать время оттуда, откуда вы хотите его изъять, и давать время тому, чему вы отите его дать.
Но для такого управления временем нужна уже очень хорошая голова – иначе вы можете потерять много больше, чем приобрести.
К счастью, введение времени в развитие своей головы помогает улучшить возможности головы. А реально поумневший человек уже может грамотно распоряжаться своей жизнью.
Как прикоснуться ко времени поможет личный ритмолог.
Источник статьи: Практика Жизни без усилий
Метки: ритмология время радость ритмология отзывы интерес изменение ритмолог помощь восприятие свобода |
Ритмология | Вы симпатичны человеку-«энергетику»? |
В ритмологии выделяют два типа людей — тех, кто привык опираться на энергию, и тех, кто привык опираться на информацию. Это делается потому, что поведение людей-«энергетиков» и людей-«информатиков» очень резко отличается друг от друга.

Сегодня поговорим о том, как и почему симпатизируют окружающим те люди, которые привыкли опираться на энергию (чувства, предметы, природа, деньги).
Когда «энергетику» нравится та энергия, которая идёт от другого человека, если эта энергия доставляет им чувственное, эмоциональное удовольствие — он постарается закрепиться рядом с этим человеком. Если у «энергетика» хорошо с деньгами — он первым делом попытается закрепиться при помощи денег и дорогих подарков. Если с деньгами сложно — в ход пойдут другие способы. Самые неразвитые энергетики легко прибегнут к насилию, в том числе и физическому.
Если внешний мир, другие люди будут мешать человеку-«энергетику» общаться с тем человеком, к которому «энергетика» тянет — «энергетик» возненавидит эти внешние условия, этих людей. Если сам объект симпатии «энергетика» откажется от общения — «энергетик» постарается ему отмстить. Точно так же «энергетики» склонны болезненно реагировать и на те ситуации, в которых им приходится «делить» объект своей симпатии с другими людьми.
Если вы скажете, что всё это далеко от альтруизма — вы будете правы. Человеку «энергетического» типа очень сложно выйти на то понимание самоценности другого человека. На такое понимание способны немногие, самые развитые и продвинутые «энергетики». Остальные же ценят людей ровно настолько, насколько этот ценимый человек приносит им блага, деньги, удовольствия (а вот люди-«информатики», наоборот, очень легко приходят к мысли о ценности другого человека, но с трудом выходят на мысли о своей собственной ценности).
Но до тех пор, пока пребывание с вами доставляет человеку-«энергетику» чувственное, эмоциональное наслаждение — он будет прощать вам такое, что не простит ни один человек-«информатик». Да, «энергетик», может быть, будет ругаться с вами. Он может в самых жёстких словах описывать ваши вкусы, действия, взгляды, т. д. Но он потом всё равно будет «остывать» и идти на мировую. То, что ему в вас не нравится, будет намного мене важным, чем то наслаждение, которое он получает рядом с вами. На принципиальную позицию люди-«энергетики» встают с большим трудом и держатся на такой позиции очень плохо — деньги, вещи, приятные ощущения очень легко «сбрасывают» большинство людей-«энергетиков» с любых позиций.
Если ваша энергетика изменилась, перестала быть приятной для такого человека — он вас постарается заменить кем-то другим. Насколько деликатно эта замена пройдёт, зависит от конкретной ситуации. А если «энергетик» не сможет вас заменить (например, побоится реакции общества, или не захочет материальных потерь), отношения между вами станут далеко не самыми приятными. Например, если речь идёт о сохранённом браке — супруг-«энергетик» почти обязательно постарается найти кого-то на стороне. Чтобы там получать те приятные энергетические ощущения, которые уже не может получить у себя дома.
Вы заметили, насколько часто в статье употребляются слова «наслаждение», «приятные», т.д? Дело в том, что телесное, эмоциональное, физиологическое наслаждение занимает огромное место в жизни любого человека-«энергетика». Людям этого типа очень сложно отказаться от того, что доставляет им такие наслаждения. И очень сложно принять то, что таких наслаждений не доставляет (когда или перестало доставлять). Почти все «энергетики» очень старательно избегают таких отказов, такого приятия. Что, в итоге, очень сильно сказывается на отношениях к людям.
Когда люди-«энергетики» хотят создать или сохранить хорошие отношения друг с другом — они стараются доставлять друг другу побольше приятных эмоций. Некоторые делают это исключительно на уровне денег, предметов. Другие стараются подключать другие способы создания приятных ощущений.
Поэтому, если вы сами принадлежите к «информационному» типу, но общаетесь с энергетиками — не пытайтесь воздействовать на их поведение путём убеждений, логики, интеллектуальных выкладок, т.д.. В данном случае вы можете наладить отношения только через приятные эмоции и через то, что их вызывает у того человека-«энергетика», с которым вы общаетесь.
Более подробно можете узнать на беседе со специалистом-ритмологом.
Автор статьи: Татьяна Суворова
Источник статьи: Практика Жизни без усилий
Метки: ритмология энегетики люди информатики ритмология отзывы отношения наслаждение ощущения |









