...Практически семь лет без постановки, без самостоятельной работы... Мертвый режиссер... После "Оркестрика" в первый же год меня звали по театрам - во МХАТ звали, в "Современник"... Я говорил: "Не могу, Любимов для меня выбил место, взял меня режиссером, я должен отработать. Я должен пахать здесь, я не могу предать его и уйти". И отказывал одним, другим, третьим. Некоторые до сих пор со мной не разговаривают за то, что я посмел отказать. В результате за семь лет - шесть или семь работ закрытых на разных стадиях. А это все пахота с утра до ночи, и по разным причинам ни один спектакль не вышел. Гончаров, главный режиссер театра Маяковского, мне протянул тогда руку, выручил. И то просил "Уроки музыки", а я говорю, что это я на Таганке делать буду, жду решения. Тогда он дал "Жанну" Галина. Тоже повезло: хорошая пьеса и актеры - Тенин и Сухаревская. Это молодому-то режиссеру...
Это какой уже год?
"Жанна" - это 87-й. А через год, в 88-м, вернулся Любимов. Мы встретились. 8 мая он позвонил по телефону, мы 40 минут разговаривали. Все вспомнил, говорит, давай сейчас "Бориса Годунова", потом Цветаеву - по плану все... На следующий день репетиция "Бориса Годунова", он в окружении прессы, к нему не подпускают, тем не менее зовет: садись рядом. Но я не хотел светиться: там прессы столько. А на второй день уже не зовет, на третий тоже, на четвертый вроде как меня и нету. Думаю, значит, сказали уже, что я эфросовский, я предатель, работал с Эфросом, и он не хочет общаться. Ну, что делать, потерпим... В следующий его приезд за восемь месяцев ни одной встречи со мной, ни одного разговора. Я на глаза, - отворачивается, нет у него времени... Чего же я тогда тут делаю? А тут приходит человек, предлагает мне возглавить Театр Комедии. А я хорошо помню, как в юности, в двадцать пять лет, не знаю уж, что мне взбрело, брякнул при всех: "Я пока не режиссер, но через десять лет я буду главным режиссером, но буду недолго. В тридцать пять я буду главным, а в сорок пять умру". И вот я думаю: время идет, мне уже тридцать семь, а я все на Таганке, - и много лет ни единой постановки, а тут мне предлагают быть главным в областном Театре Комедии. В этом театре нет сцены, репетируют они по всяким ДК, а спектакли показывают на выездах. Я сходил, посмотрел. Конечно, ничего не скажешь, - периферийный, областной театр. Возле Елоховки на Ольховской улице у них была база, где они собирались на собрания и получали зарплату. Ну, мне 37 лет, на два года я в своих пророчествах ошибся, но ведь на Москву я не рассчитывал, для столицы можно два года набавить. Значит, надо соглашаться, уже ясно, что на Таганке делать нечего, перспектив нет. Но Любимов в Италии, очередную оперу ставит, а мне же надо ему сообщить как-то. А тут все срочно: в Министерство культуры надо срочно давать ответ. Иду, спрашиваю, как позвонить в Италию. Мне говорят: он сам звонит, что передать? Я говорю: "Передайте, что я увольняюсь". А у меня были тогда напряженные отношения: меня выгоняли с Таганки, когда Губенко пришел, выгоняли просто всем театром.
За что?
За хулиганство, я же вел себя безобразно. Ну, как безобразно? Справедливо. И с Любимовым, и с директором: мог кричать, орать, отстаивать свою позицию, доказывать. И вот Любимова нет, директор с удовольствием говорит: "Я подпишу", - и тут же подписал... Приезжает Любимов, встречает меня, говорит: "Мне сказали, что ты уходишь, мог бы меня предупредить". Я говорю: "Юрий Петрович, я пытался, но не смог. А потом за целый год, что вы были здесь, вы не нашли времени со мной переговорить". Он говорит: "У меня три сцены: старая, новая, малая. Выбирай любую, - экспериментируй, пробуй". - "Ну, а где вы были-то? Год целый ходили рядом. А сейчас, когда ухожу... Сейчас уже поздно, я уже написал заявление"... Любимов меня как предателя до сих пор простить не может.
Сколько лет Вы на Таганке проработали?
Девять - с 80-го по 89-й... Для меня Таганка очень много значит. Хотя меня и мотало там сверху вниз, взлеты и падения, ушибы сильные, но все равно она мне очень много дала. Но теперь-то, теперь началась уже другая эпопея. Пришел в свой новый театр, посмотрел... Надо торопиться - в связи со сроками, которые сам же себе обозначил. Надо успевать. Тридцать семь уже, возраст переломный, переход; может быть, и тот, следующий возраст будет не сорок пять, а сорок семь. Пошел в Министерство, говорю: даете мне право?.. Мне говорят: "Делай с этим театром что хочешь. Полный карт-бланш. Потому что этот театр - он и есть, и вроде бы как нет его". И в самом деле, состав труппы впечатлял: моложе тридцати лет было максимум два человека, от тридцати до сорока - человека четыре или пять и от сорока до пятидесяти - столько же. А остальные - от шестидесяти до семидесяти пяти лет. И у них, конечно, вопрос первый был - увольнение. Я сказал: "Увольнять никого не буду. Революционных идей у меня никаких нет. Если вы будете соответствовать моим требованиям, пожалуйста, все работайте". Я сразу несколько спектаклей начал делать, нашел возрастные роли, чтобы максимально занять всех. Допустим, есть три старика - все три на эту роль. Есть три старухи - все три на роль. Всем дал работу. И пошли репетиции. Но ведь что такое в пьесе старик: он же не просто так, не просто ходит по сцене, а это такая роль. Вот "Назначение" Володина, там роли отца, матери. Это же не просто возрастные роли. Они сами в соку, сами еще соперничают с молодыми... Говорю: "Если хотите сыграть, надо по этой вот лестнице вверх в секунду вбежать". Один говорит: "Я не могу". - "Значит, вы не подходите, мне такого немощного старика не надо". - "Да, - говорит, - я тут, наверное, не подхожу". Значит, будет играть другой. "А вы?" - "И я не могу". - "А вы?" - "И я не могу". - "А чего же вы тогда можете? На скамейке сидеть? Не знаю, когда такие роли будут. Здесь психофизическая задача другая. А где же мне для вас такие роли найти? Нет таких. Значит, надо на пенсию идти"...
В течение года я убрал пенсионеров. На освободившиеся ставки набрал ребят - с курса, молодежь. Загодя их посмотрел, сделал с ними экспериментальную работу. А через год началась кампания по закрытию театров. Мы относились к "Росконцерту". Пошла перестройка, надо "Росконцерт" ликвидировать. И ведь ликвидируют! А у меня уже спектаклей пять, и они выезжают, гастролируют, публика смотрит, актеры работают. И тут родилась идея "Трех сестер". В самом начале 91-го я собрал труппу и сказал, что есть вариант, если мы докажем этим спектаклем, что мы перерастаем из театра комедии в другой театр. И где-то 1 февраля я говорю: "Через две недели - премьера "Трех сестер"" - "Через две недели премьера? Ха-ха-ха!" Ну ладно, ха-ха-ха! Премьера состоялась пятнадцатого или семнадцатого. Там просто из-за выходных сдвинули на день-два, но практически на спектакль ушло две недели. Хотя ни костюмов же, ничего. Съездили на киностудию, подобрали костюмы, привезли... Я понимал, что у меня нет сцены: премьера на Ольховке, где у нас бухгалтерия-то помещалась, - это комната в 28 метров. Сейчас у Театра на Покровке 80 метров, а там, значит, было раза в три меньше. Всего тридцать человек зрителей помещалось. Две двери и очень длинный коридор. Поэтому в первой части гости садились сначала в коридоре, и артисты выходили из разных дверей. Вот такой это дом был Прозоровых. Я думал: здесь репетирую спектакль, а играть будем по домам-музеям всяким. И по-настоящему премьера действительно состоялась в мае в доме-музее Станиславского, было там четыре спектакля. За две недели сделали и показали группе зрителей, артисты убедились, что спектакль состоялся, потом еще поработали, а в мае я уже пригласил Министерство. Это 1991 год. Театр хотели закрывать, а я вышел с предложением: "На этой базе - затрат-то нет никаких, я от вас ничего не требую, ни помещения, ничего... Дайте только шанс сделать экспериментальный театр - с такой вот программой, с русской классикой". Тогда был министр Соломин, и в сентябре он подписал приказ об открытии театра.
А помещение на Покровке уже ваше было?
Нет, тогда только шли переговоры. В этом помещении были квартиры. Недавно жильцы той квартиры, где теперь расположен зрительный зал, пришли посмотреть какой-то спектакль. Я не знал их, а они потом подходят и говорят: мы жили в этой квартире, и мы счастливы, что это помещение попало в хорошие руки. Шли и волновались, что же в их доме, в их квартире.
...В общем, Министерство пошло навстречу, и на три года подписали контракт. В 91-м в сентябре открыли, в 93-м мы уже в Мюнхене на фестивале побывали... В России негде было играть: Покровка еще не была готова, а на Ольховке пожарные запрещали: второго выхода нет, и так далее. На Ольховке мы показывали только закрытые спектакли, для специально приглашенных. Идти к театру надо было всякими кривыми ходами, дворами, переулками, я встречал гостей у метро и вел. А во дворе там еще какие-то памятники делали - статуи какие-то; перестройка, все кувырком, - и их выставили во двор. Солдат какой-то стоял огромный. Иностранцы шибко удивлялись такой экзотике, фотографировали. Проходили двор и попадали в обшарпанное такое казенное помещение (там в конце XIX века был полицейский участок) и вдруг оказывались в каком-то совсем другом измерении. Посол Италии смотрел "Месяц в деревне" и удивлялся потом: "Как это у вас происходит? Откуда так много пространства? Я же вижу, что здесь ничего нет, и почему такой воздух, такая глубина?" И мы все спектакли там играли. И когда открылось помещение на Покровке, вышли уже с репертуаром. И появились в Москве как гром среди ясного неба. Ходили, конечно, слухи, что какой-то там подвальчик у Арцибашева, что-то он вроде делает. Но настоящего театра не ожидал никто. А потом Ефремов приехал с фестиваля и говорит: "Арцибашев произвел фурор. И где этот "Театр на Покровке", где их хоть посмотреть можно? Мне все уши прожужжали". Находит нас Ефремов, "Ревизор", премьеру, смотрит: "Да, это напомнило мне мой "Современник"..." И стал завсегдатаем, полрепертуара пересмотрел. А в 94-м уже в Польше наш спектакль занял второе место после Некрошюса, актриса получила "Золотую карету" за лучшую роль. Потом во Франции, и там уже пошло. Когда в 95-м мы открылись на Покровке, в афише была сплошная классика. Все еще только думали поворачиваться к ней, а у нас уже 5-6 спектаклей готовых и сколько-то еще репетируется. Тут еще в 95 году в Москве проходил фестиваль, посвященный Смоктуновскому - к первой годовщине смерти. Вся Москва, все театры выставили свои лучшие спектакли, и наш "Ревизор" занял первое место... Так мы сходу и очень достойно вписались в карту театральной Москвы.
Вот вы пробивали дорогу себе в театре. Какова роль в этом честолюбия?
Честолюбие могу сказать, какое. Я всегда хотел быть первым. Это существенный момент, такая установка. Я хотел быть мастером; я должен был быть первым, лучшим в профессии, самым-самым. Хотел быть лучше всех. Но дальше появился другой момент. Что это значит - быть лучше всех? Первым в мире, что ли? Сам себе удивлялся: ты чего, парень, - лучше всех?! И сам себе отвечал: да, такая у меня задача - стать лучшим. Но не могу же я стать лучшим сразу. И я сказал себе: буду идти потихонечку. Буду пока лучшим вот здесь - в этом училище. Или в этом институте. Или где-то еще... И так постепенно - все дальше и дальше. Но не сразу, не вдруг. В "Бесах" у Достоевского прочитал потом про Ставрогина, что "вдруг" - это нельзя, "вдруг" - это бесовщина. По-настоящему - это постепенно. Так что трудно, медленно, мучительно, но я иду вперед - и в ремесле, и в постижении чего-то главного...
Значит, все-таки критерий подлинности, искренности - он главный?
Ориентация на это.
А материальные, карьерные соображения играли какую-то роль?
Нет. Хотя я понимал, что если я буду первый, я, конечно, буду обеспечен. Но не для того, чтобы обеспечиться, я должен быть первым. Я понимал одно: работай - и все придет. Работай - и все будет. Потом мне подтвердил это Питер Брук. Однажды, когда я в отчаянии был... У меня ведь как: энергия, энергия, энергия, потом все отдал - полная депрессия: все, что я делаю, никому не нужно, за этим ничего нет, все бессмысленно, никто ни во что не верит, ничего не происходит... И вот опять накатило... А я сижу на этой Ольховке, в казематах, пять лет я там вообще жил: не было ни квартиры, ничего. С женой разошелся, оставил им квартиру, жил в кабинете. Пять лет. Без горячей воды, без условий всяких. Спал на работе. Первый встречал всех, открывал двери. И вот сижу в депрессии в своем кабинете. А тут Питер Брук, - маленькая заметка в книге, - пишет, что получил от одного молодого режиссера очень гневное письмо: "Вот вы достигли всего в искусстве, вам все можно, а нам, молодым, ничего не дают, все закрывают. Как в таких условиях быть режиссером?!" И Брук признается, что долго думал, что ответить этому молодому рассерженному режиссеру. Ничего не мог придумать. И написал ему: "Первое: для того, чтобы стать режиссером, вы должны сами сказать себе: я режиссер. Второе: должны собрать группу людей, которых вы убедите в том, что вы режиссер. Третье: начать ставить спектакли - все равно где: в подвале, на лестничной клетке, в квартире, в больнице, в тюрьме. Ставьте спектакль и доказывайте, что вы режиссер. И не ждите никаких благоприятных условий, потому что этих условий может никогда не быть". И я сижу, читаю и думаю: "Господи, у меня есть не подвал, у меня есть зал, есть труппа, у меня есть какие-то деньги. Я ведь так и делал, ставил везде - в техникуме, в институте... Есть ведь известные слова: "Делай, что должно, и пусть будет, что будет". Вот, делай, что должно". Вот этому я следовал. Просто Брук мне вовремя сказал: "Ты делаешь то, что надо".
Депрессии, увы, вещь у творческих людей частая. А не было какого-то суеверного страха, что Вы сами себе напророчили судьбу? Вы ведь положили себе прожить только сорок пять лет.
И это, конечно. Я очень торопился, именно потому что срок сам себе определил. И действительно ведь, лет примерно в сорок пять я чуть не умер: очень мрачное было состояние, перенапряжение сильное, депрессия, практически умирал. И умер - во сне. Не знаю, сон это был или что, но я точно помню это, потому что проснулся от укола в сердце. Кольнуло сердце и вернуло меня к жизни. А до этого сон снился, что я умер и меня ведут в чистилище. И такая вверх большая лестница, и замок наверху стоит. И голос откуда-то со мной разговаривает, подсказывает, что мой путь туда. А есть путь сюда: лестница продолжается куда-то к морю, там стоят корабли. Вот эти корабли отправляются опять на землю. Ты куда хочешь? По лестнице вверх или по лестнице вниз? Корабли скоро уходят, потому что я вижу сверху, как люди, одетые в разные театральные костюмы, спускаются с чемоданами на корабль, бегут. Я раздумываю, что я бы конечно вниз, я еще не доделал многое, мне бы надо туда. Мне говорят: тогда есть испытание. Стоит тумба какая-то каменная: столкнешь - пойдешь, не столкнешь... Ну, я поднапрягся, и она сдвинулась. И я на корабле. И тут кольнуло сердце. Я потом даже записал этот сон, я его помню четко. И я помню укол, просыпаюсь - и слезы текут. Видимо, это был момент, когда я был на какой-то грани. Я уже не помню, над чем я тогда работал, но состояние было никакое... Ну, вернулся, дали возможность. И дальше пошел новый всплеск жизни.
А сон, который вы видели, как-то связан с вашим видением мира? Вы верите в другой мир?
Я всегда в это верил. Я крещеный с детства. Мать была у нас учительница, депутат поссовета, но она всех шестерых детей крестила - отвозила куда-то за много километров и крестила. Я не религиозен настолько, чтобы постоянно ходить в церковь. Несколько раз в трудные минуты попробовал, но как-то смущает вся эта стилизация, театральность. Но я верю, что все в жизни взаимосвязано, все не просто так. И в то, что, как сказано у Достоевского, все за всех в ответе и все друг перед другом виноваты. Я знаю, что все имеет два полюса, две стороны - добро и зло. Есть добро и зло, Бог и дьявол, идет борьба, и поле битвы - сердца людей. И человек должен отдавать себе отчет, с кем он, куда работает, чему хочет служить своим творчеством, своей жизнью - добру или злу? Вот тут выбор, он есть у каждого. Так и в творчестве. Спектакль - повод для такого разговора. Вот я человек верующий и хотел бы работать на добро, хотя это и тяжело иногда. На зло легче работать. Созидать, творить - это вообще гораздо труднее, чем разрушать.
Да, из Ваших работ видно, что к творчеству Вы подходите с высокой мерой нравственной ответственности...
Для меня театр - это храм. Я не церковный человек, но мне хочется вести разговор с верхом, с Небом, со Вселенной, перед кем-то отчет держать. Для меня сцена и есть такое лобное исповедальное место. Да, я выступаю здесь под прикрытием персонажа и вроде бы скрываюсь за образом, но я могу исповедаться во многих грехах, рассказать о многих поступках и даже публично получить ответ, прав я или не прав. Конечно, как и во всем, тут важна мера. А мне под прикрытием - свобода. Сознаться в каком-то грехе мне самому не хватит смелости, мне легче и откровеннее это сделать за персонажем. Кто понимает, поймет, что я рассказываю о себе. Мне, например, помогает, когда я знаю, что в зале сидит какой-то мой знакомый. Многие боятся этого, а мне интересно: значит, есть конкретный адресат. Люблю, когда люди после спектакля говорят: "Так вот ты оказывается какой! Теперь-то мы тебя поняли". Значит, услышали, что не вру, что говорю от себя. Но даже если и не знакомые, - это же люди сидят... И мне очень важен этот разговор с залом. Зритель для того и идет в театр: он же ждет разговора на волнующую тему. У человека ведь так много проблем и не так много мест, где он их может осмыслить.
Но все вокруг твердят, что современный зритель бежит от проблем и ищет одних развлечений.
Как практик свидетельствую, что это не так. Иначе русская классика не собирала бы полные залы.
А как бы Вы сами сформулировали, почему Вас по преимуществу интересует именно классика?
Я еще когда только начал заниматься театром, всегда мечтал ставить русскую классику, потому что понимал, что в ней золотой духовный запас, без которого невозможно. Мы и "Покровку" открывали как театр русской классики. А это вообще был 91 год, когда ни театр, ни классика никому не нужны были. Был театр политический, телевизионный, где раздеваются, где ругаются матом. И когда я дал актерам "Три сестры", они мне говорят: "Сергей Николаевич, какая красота мысли, какой отрыв от обыденности, какие мечты..." А за окном - что? Талоны на все. А я им говорю: вот про это мы сейчас "Три сестры" и делаем. Вся эта повседневность, серость - все это нас опускает, но мы должны помнить и о вертикали. О том, что вертикаль есть. И хотя бы голову поднять туда. Потому и классика, что она всегда об этом помнит, что в ней всегда точка отсчета - Бог. Даже отрицательные персонажи существуют с оглядкой на Бога. Люди-то все те же, и болевые вопросы - это вопросы вечные, и ответы надо держать перед лицом вечности.
И все-таки это кажется парадоксальным, что вместо того, чтобы сидеть дома перед телевизором, люди приходят в театр смотреть классику. Ведь современный человек как будто и слышать не желает о вечном...
Так никто же не объявляет: "мы сейчас будем разговаривать о вечном"! Да нет, мы рассказываем о том, например, что я люблю ее, а она любит другого. Или о том, что будет, если я отобью ее у мужа, или там совершу насилие, или убью, или что-нибудь еще, не такое громкое, - и как это потом мне откликнется, аукнется... Потому что любая самая обычная жизненная ситуация порождает много сомнений и много вопросов. Возникает амплитуда размышлений у автора, у персонажей пьесы, и это соединяет их со мной, у которого тоже есть мысли о том, а как это будет перед Вселенной, а как это будет перед обществом, а что скажет княгиня Марья Алексеевна или мой уважаемый педагог, как они меня оценят. Со зрителями надо наладить контакт, победить их или сдаться перед ними... Конечно, они пришли не ради скучного "разговора о вечном", но они хватаются за первый пласт - жизненный, житейский, клюют на это, а потом оказывается, что пластов-то больше - и вверх к Богу, и вниз к дьяволу, а посредине человек, раздираемый противоречиями... А дальше ты уже делай выбор, парень, сам: убивать тебе, отбивать, ревновать, мучить, страдать... Или радоваться, жить в мире, искать другой путь. Ведь в общем-то в самые простые житейские ситуации и укладывается вся наша жизнь. Потому-то классика всегда и интересна, что там все пласты есть - и горизонтальные, и вертикальные, и нам всё уже давно рассказали - в восемнадцатом веке, в девятнадцатом, умнейшим, прекраснейшим языком. Все рассказали - про нас, про прошлое, про будущее, про настоящее. Проживи этот урок, и увидишь, куда что ведет и что к чему приводит. Результат-то есть уже, тебе его уже показали. Чего же опять наступать на эти грабли, опять изобретать...
Вы оптимист?
Я назвал бы свое мироощущение трагифарсовым. Я и классику так понимаю. Может быть, и само это трагифарсовое восприятие жизни идет у меня немножко от классики: ведь она совсем не оптимистична. Я болезненно воспринимаю очень многие вещи, очень болезненно. Сначала-то вообще казалось, что мир трагически устроен, а с годами все больше начинает казаться, что фарсово, и люди сами с собой этот фарс разыгрывают. Трагифарс возникает от нарушения самых главных законов бытия, от несоответствия средств и целей, от поразительной какой-то нашей безответственности. А жизнь постоянно показывает именно эту трагифарсовую свою природу - то, что человек очень злое и противоречивое животное и в то же время наделенное многими божественными неосязаемыми вещами - душой, совестью, способностью забыть себя ради другого. Я смотрю на детей, вижу, что человек рождается чистым, добрым. Потом начинается... направо, налево, вперед, вверх, вниз, совращения, искушения. И куда он в итоге движется? Но это и самая интересная загадка, тайна человеческого существования, тайна взаимоотношений человеческих со всем окружающим миром и с самим собой... И вот тут еще копать и копать... Действительно, бывают ископаемые, которые не кончаются. И трогаешь эти пласты, и пытаешься глубже заглянуть в них, и открыть в них еще затаенные человеческие слабости, пороки, вытащить их на свет, рассмотреть. Надо все вытаскивать: с явным врагом гораздо легче справиться или вступить в диалог, и это лучше и полезнее, чем пытаться запихнуть наши проблемы поглубже и сделать вид, что их нет.
И все же Вас хочется скорее отнести к оптимистам, поскольку Вы, - и это следует не только из сейчас сказанного, но прежде всего из Вашего творчества, - верите в благотворную, преображающую силу искусства.
Я не только верю в это. Я не раз был свидетелем такого преображения, я сам видел, как спектакль мог реально повернуть жизнь человека. Такое бывало и в моей биографии.
Расскажите!
Ну вот, например, такая история. Некрасивая женщина, родственница моей знакомой, как-то в компании встретились... Действительно некрасивая: зубы огромные и торчат вперед так страшно, сидит одна, забитая, обделенная какая-то и в возрасте уже приличном - лет 35-36. И такая исходит от нее энергия озлобленности на мир, на все, что находиться рядом неуютно. Спрашиваю: кто это? Говорят, сестра вот этой. Одинокая, жизни нет, страдает, мучается... Прошло года два. Опять какой-то сабантуйчик. Собрались, пора уже садиться за стол, а все чего-то ждем. Говорят: Свету. Что еще за Света, которую надо ждать? Мне говорят: а вот помнишь, это та, которая некрасивая. Ну, может ее из-за ее убогости и надо подождать, а то обидится. Вот, говорят, уже идет. Открывается дверь - и заходит не Света, а солнце заходит. Действительно, свет заходит: пышущая, радостная, улыбается, и зубы, которые торчали, - ничего, зубы как зубы. Теперь улыбка огромная, не стесняется она этих зубов. Она теперь ничего не стесняется. Глаза горят, энергия. И коляску за собой тащит с ребенком. Я спрашиваю: что это такое? А мне говорят: ты что, не знал? Оказывается, она посмотрела спектакль, и что-то в этом спектакле ее толкнуло подумать над своей жизнью, перестроить ее по-другому. И вот эта некрасивая Света куда-то исчезла, где, что - никто не знает, родила ребенка и теперь - счастливый человек. И вся компания человек пятнадцать только на нее смотрят...
Был еще случай на Таганке. Вдруг подходит ко мне монтировщик декораций и говорит: "Спасибо за то, что вы спасли мою сестру от смерти!" И рассказывает, что два года назад у его сестры были проблемы с молодым человеком. Девушка была в полной депрессии: не пьет, не ест, институт забросила, никуда не ходит, никого не подпускает, лежит, и все - месяц, второй... Мать плачет, отец плачет, боялись, не выбросилась бы в окно. Брат ее и в кино зовет, и на концерт, и на "Мастера и Маргариту", - она никуда не идет. А он все зовет: пойдем, сегодня премьера "Надежды маленький оркестрик". И вдруг она соглашается пойти. Приходит, смотрит спектакль. А на следующий день говорит, что идет в институт. Вернулась к жизни. Сейчас счастливая, родила ребенка, заканчивает институт. "Спасибо вам!" - говорит. Думаю: неужели так?! Значит, если хотя бы одного...
А как-то на "Ревизоре" в Театре на Покровке весь зал сняли фармацевты - сотрудники института, где придумывают какие-то новые лекарства. А после спектакля они захотели пообщаться с актерами. Я вышел, ко мне подошла группа, стали благодарить: как замечательно, сколько придумок, как по-своему все сделано. А один говорит: "Знаете, что вы сделали?" Я говорю: "Знаю, поставил спектакль". - "Нет, вы понимаете, что вы сделали". И несколько раз так. Я уже запутался: не понимаю, знаю я, что сделал, или нет. "Что вы от меня хотите-то?" - спрашиваю. Наконец, он говорит: "Не понимаете вы, что я с середины спектакля очень хотел, мечтаю просто, чтобы скорее наступило утро и я пошел на работу. И это сделали вы". Я даже опешил: "Это-то здесь причем?" Он говорит: "Вот вы и не понимаете, что вы сделали. Когда я увидел, что вы совсем по-другому, под другим углом посмотрели на вещь, которую я смотрел много раз, и я хохотал, смеялся, удивлялся, а потом думаю: елки-палки, почему Арцибашев на известную пьесу может посмотреть под другим углом, а я на работе своей сижу и уже несколько лет решаю проблему и, как баран, в эти ворота протоптанные пытаюсь пробиться, когда, может быть, нужно взглянуть под другим углом! И вот я мечтаю скорей добраться до работы и там..." И я подумал: вот это - высшая оценка! Это творчество, которое возбудило творчество в другом человеке, не для того, чтобы он стал артистом, а чтобы он творил свою работу и творил свою жизнь. Может быть, он на свою жизнь тоже сможет посмотреть под другим углом. Мне кажется, в этом есть и мое оправдание, и для этого и зритель идет, надеясь, что ему что-нибудь откроют такое, что у него вдруг что-то перевернется. Все люди талантливы, надо только это открыть. Вот я верю в это. И ради этого мне хочется заниматься своим делом. И когда наступает депрессия, нежелание всего, бессилие, я вспоминаю эти случаи и еще глаза зрителей после спектакля. Я люблю выходить кланяться, чтобы посмотреть как раз эти глаза. Что в них - радость, удовольствие или просто хохот? А свет там есть? Есть это мерцание, когда они благодарят и подходят с цветами?..
В ваших постановках как-то очень естественно сочетается прямое общение с залом и классический принцип "четвертой стены"...
Я стремлюсь освободить актеров от этой постоянной мысли: я за "четвертой стеной", публика мне не видна, я на нее не реагирую - и в то же время играю для зрителя. Вот эта обманка какая-то педагогическая, которая меня коробит. Актер-то работает все равно на зрителя, он не может без зрителя, и многое в спектакле зависит от того, какой установится контакт с залом. Для меня программный спектакль - "Три сестры", потому что там я закладывал мои отношения актера-исполнителя роли с публикой. Когда мы только делали этот спектакль, в самом-самом начале персонажи выходили даже в гардероб, мы начинали в фойе: "привет-привет", "Ирина, у тебя день рождения", и т. п. - а потом шли в зал, к столу. Это такое непосредственное должно было быть вовлечение, без насилия. Приглашают к столу - все пошли в зал, подняли бокалы. Это совсем не то прямое общение, как в цирке, когда актеры навязывают зрителю: выпей ты, выпей шампанского, пей, пей. Ни в коем случае! Мы приглашаем, но не тащим. Зритель - мой партнер и мой судья. Это зритель, которого я должен в чем-то убедить и который должен пойти за мной, поверить мне, независимо оттого, отрицательную я играю роль или положительную. Но это и тот, перед кем я держу ответ.
Непривычно слышать от театрального человека доброе слово по адресу публики...
Почему? Мы же работаем для зрителя, для людей, для себе подобных. И меня волнует, что они думают. Вот они приходят тысяча человек, садятся вместе и какой-то опыт получают от истории, которую мы рассказываем, пытаются понять этот опыт. И мне хотелось бы, чтобы зритель вошел в эту ситуацию, стал играть вместе с нами что-то свое. Мне важно и в зрителе возбудить творчество, возбудить творческий процесс, помочь приподняться. Если он будет просто сидеть и следить за действием, - что это будет? Пусть человек подключится и вспоминает свою жизнь, чью-то еще жизнь рядом, и пусть он играет какой-то свой спектакль - про себя, про судьбу, и начинает сопереживать, начинает смеяться, плакать, реагировать, испытывать живые эмоции... И тогда человек в зале и вправду начинает творить, плачет, смеется. А это же проявления - человеческие, и он понимает, что он человек, потому что способен сопереживать, плакать над чужой бедой, радоваться чужой радости. Он в театре ощутил себя таким человеком. Очистился, испытал катарсис...
То есть в спектакле Вы выстраиваете своего рода модель мироздания, которая включает не только то, что происходит между персонажами, между режиссером и драматургом или между персонажами и исполнителями. В эту модель на совершенно равных правах Вы вписываете зрителя - не как потребителя театрального действа, а как его участника, причем самого непредсказуемого...
Ну конечно, я уже говорил об этом. И мне хочется, чтобы и актеры испытали это удовольствие не просто изображать персонаж, создавать образ за "четвертой стеной", а вести публичный разговор, откровенный, искренний, одновременно и вкладывая и обретая в этом какой-то настоящий человеческий смысл. Станиславский требовал: отхаркайтесь перед входом в храм; забудьте все, что с вами происходит; не несите ничего извне - войдите чистыми и творите. Я говорю актерам: ни в коем случае, все свое несите сюда! Каждому из нас дорога своя жизнь, и трудно забыть, что у тебя болен ребенок, хотя сейчас ты будешь играть человека, у которого дети здоровы и счастливы. Я считаю, что было бы насилием над человеческой природой заставить актера забыть обо всех его проблемах, о его живом и страдающем ребенке ради того, чтобы три часа выяснять какие-то якобы более важные вопросы и разбираться в якобы более неотложных обстоятельствах, сочиненных драматургом. И я говорю: ни в коем случае не выбрасывайте ни того, что у вас свои сложности, ни того, что у вас болен ребенок, - это переплавляется в спектакле и всегда дает какой-то новый смысл, всегда отсвечивает какой-то другой глубиной, создает дополнительный воздух. Тут возникает какое-то такое уже измерение, что-то настолько по-человечески подлинное, что вспоминается Сикстинская Мадонна, держащая на руках своего поразительного Младенца с грустными глазами...
Вы ставите разную классику - Тургенев, Гоголь, Островский, Чехов... Но тем не менее возникает ощущение единства вашего прочтения этой классики.
Вы правы, конечно, одна подоплека всего, один нерв. По существу, если разобраться, я всю жизнь ставлю один и тот же спектакль. Просто с разных сторон кручусь вокруг одного и того же. И это одно - человек, дом, семья. Все вокруг этого, это самое главное, ячейка абсолютно всего. В любом моем спектакле, если посмотреть, семья - это либо центр существования, либо предмет устремлений, мечты... В моем понимании дом - это квинтэссенция всего. Что мне судьба народная или судьбы народов, судьбы мира, судьбы вселенной, если это абстракции, а не вопрос человеческого счастья! А человеческое счастье - это объединение двоих, создание своего очага, уюта, дома. Человек рождается в одиночестве и в одиночестве умирает, но жить в одиночестве не хочет, хочет куда-то притулиться, создать свой мир, в котором было бы комфортно, тепло и радостно существовать. Дальше появляется второй человек - другого пола, созданный совершенно по другим законам. Вроде все то же, а законы существования другие, и представления о жизни, соответственно, у одного одни, у другого - другие. И эти два человека начинают пытаться сговориться, сойтись, как-то вместе существовать. А это уже конфликт. Помимо того, что существует конфликт у каждого с самим собой: каждый человек чего-то не знает, не понимает, с чем-то спорит, чем-то доволен, а чем-то нет - жизнью, судьбой, Богом, в конце концов. У каждого множество вопросов: где я живу? в какой стране? так ли живу? почему меня сюда забросило? И вот рядом возникает другой мир, другой микрокосм... А потом рождается еще третий. Как они существуют друг с другом? Вот начинается... А сколько нас на планете, таких микрокосмов!.. Но ведь если два человека могут сговориться, понять друг друга, - хотя бы сделать попытку понимания, - то, может, тогда это возникнет и между народами, между другими людьми, между планетами и так далее... Но все начинается с одного - с индивидуальности, которая появилась и которая хочет создать свое счастье, испытать его. А отсюда возникает то невысказанное, то силовое поле любви - нелюбви, которое и привлекает художника...
Одна из характерных примет Вашего "единственного спектакля" - музыка. Она обязательно присутствует и всегда вносит душевный, лирический элемент. Как Вы определяете для себя ее роль и место в Ваших работах?
Конечно, музыка для меня очень много значит, и меня часто упрекают, что ее очень много. Но она мне необыкновенно важна, она камертон, внутренняя душевная партитура, она работает на образ спектакля в целом, но возникает каждый раз по разным причинам. Допустим, в "Мертвые души" я ввел песни только потому, что мне не хватало там народного звучания. У Гоголя есть этот народный пласт, - начиная хотя бы с крестьян, обсуждающих колесо... А в инсценировке не было. И я решил дать присутствие народа, его отношение к событиям спектакля через эти русские песни... А вот, например, в "Трех сестрах" без музыки вообще почти ничего не происходит. Там звучат "Времена года", и музыка ложится на все происходящее, подчеркивает, оттеняет, создает тональность идущего, уходящего времени. Ведь и у Чехова так: весна, зима, лето, осень - все времена года. Плюс врывающийся Шнитке, современные мотивы... Но в музыке обязательно должно быть что-то небесное, что-то возвышенное. Это я всегда говорю композитору, который оформляет спектакль.
Хочется заметить, что порой Вы умеете извлечь возвышенное из довольно неожиданных вещей. Вы умудряетесь поднять на уровень классики цыганщину, а в основание целого спектакля положить жестокий романс, - как в "Женитьбе", где лейтмотивом становится "Молчи, грусть, молчи", - и на музыке и тексте этого романса построено так много, что пьесы отдельно уже и не мыслишь. Вы берете, казалось бы, низкопробный музыкальный материал, и в лучших Ваших спектаклях он как будто очищается: становится видна его вечная составляющая.
Да, чаще всего я использую популярную классику, романсы. Часто употребляю даже то, что на слуху у всех. Вот, допустим 40-я симфония Моцарта... ну навязла уже в зубах у всех, в телефонах звенит. А я считаю: хорошо, что в телефонах звенит, - значит, знают ее, узнают. Но здесь-то она по-другому, по-настоящему будет звучать. Музыка ведь помогает навести мосточки к прошлым переживаниям зрителя, к детству, к каким-то добрым и светлым событиям жизни, будит ассоциации - в конечном итоге, побуждает к творчеству... А за цыган меня ругали не раз, но я все-таки ввел в "Карамазовых" песни и пляски. А что делать, если в Мокром Митя позвал и русский хор, и цыган. Выкинуть их? - это как выкинуть из "Живого трупа"... Ну а как, если Федя едет не просто погулять?! Ему же душа цыганская важна, свобода, воля... Я тоже мечтал о "Живом трупе"... Как же без цыган?! Конечно должны быть такие цыгане, чтобы от них улет был. Почему-то ведь тянет туда, к ним русского человека... И Пушкина, и Толстого, - великие же люди, а почему-то тоже влекло к цыганам... К их жизни, кочевности, к этим вот песням, к разгулу, к свободе, независимости, полному отсутствию цепей. А у человека цивилизованного, человека культуры, - сплошные долги, сплошная ответственность... Цепи, цепи...
Вы говорите, что Вас ругают за цыган, за то, что много музыки. Стало быть, прислушиваетесь к чьим-то суждениям, задумываетесь над чьими-то оценками. Впрочем, это понятно: человеку, который так превозносит зрителя, не может быть безразлично мнение этого зрителя. И один из вопросов, который мы предполагали Вам задать: как Вы относитесь к театральной критике? Подмечает ли она те недостатки, о которых Вы как действующий художник, возможно, и не подозревали? Помогает ли взглянуть на свое творчество трезво и беспристрастно? Или, может быть, побуждает идти от противного и, несмотря на критическую оценку, доказывать и доказывать свою правоту, - вот как с цыганским хором? Однако, готовясь к нашей беседе и просматривая прессу, мы с удивлением обнаружили, что критики, как правило, вовсе не ставят себе целью анализировать спектакль, не пытаются понять, какие задачи ставил перед собой театр и сумел ли эти задачи решить в рамках выбранной пьесы, стиля, традиции. Напротив, изо всех сил стремятся уличить театр в непрофессионализме, доказать, что режиссер не компетентен, актеры фальшивы, а публика, которой это все нравится, - глупа. И от массы прочитанных статей возникло одно общее ощущение: критики анализируют не столько реально существующий, сколько какой-то ими самими придуманный спектакль, поскольку стремятся не столько помочь театру, сколько во всеуслышание заявить о себе - "образованность свою показать", как говорилось когда-то.
К сожалению, многое из того, что вы сказали, правда: критики заняты своими проблемами, а СМИ интересуются, как правило, только скандалом и сенсацией. Так что по большей части я критических статей не читаю - ни бранных, ни хвалебных. Но зато я не раз получал настоящую помощь от квалифицированного, доброжелательного и беспристрастного разбора спектакля. Это не были рецензии или обзоры в печати, это были разговоры, беседы с людьми - и с театральными критиками, и просто со зрителями, которые мне подробно рассказывали о спектакле. И было поразительно. Вот такая критика совершенно необходима, потому что многое же, о чем я думал, о чем мечтал, чтобы это было в спектакле, я запрятал внутрь, - я же не говорю впрямую текстом: я хотел добиться этого, этого, этого, сказать об этом, о таких проблемах. Они спрятаны в спектакле, они прикрыты, они остаются вторым планом. И меня радовало, что этот второй план доходит. И еще одна вещь: спектакль спектаклю не равен. В этом эфемерность театрального действа, это все штучное, легенда: завтрашний спектакль уже другой, вчерашнее никогда не повторится. Ты смотрел сегодня, а я вчера, - зачастую это совершенно разные спектакли, и нам даже спорить невозможно. Вот был Зиновий Паперный, который по нескольку раз отсматривал спектакль и уже мог говорить о тенденции... Но чаще всего совершенно бесценные рецензии я получал от простых зрителей. И это не обязательно были положительные отзывы: люди находили и недостатки, и несоответствия, - но они судили с пушкинских позиций - по законам, самим художником над собою признанным. Начиная разговор, как бы уточняли: "Ты хотел рассказать об этом. Я понял тебя так. Правильно?" И тогда шло: здесь получилось, здесь недостаточно, а здесь ты не проявил, а здесь это, здесь то; вот это отвлекает, а здесь слишком корявая шутка, и меня это покоробило. Вот такой критик мне необходим! И тогда я думаю: а он прав, я здесь уровень разговора опустил. И зачем мне здесь вот это? И не убрать ли? - И я убираю. Еще что-то сказали: а тут, в "Женитьбе", много песен, слишком отвлекают. Можешь убрать парочку? - А почему нет, если это отвлекает? Я не хочу, чтобы был перебор, действительно, давайте откажемся от этого. Посмотрел: что-то изменилось? Ничего не изменилось, только собранней стало. Вот такой разговор я понимаю. Но когда пишут то, о чем я и думать не думал, чего в спектакле нет и быть не может, даже и персонажа по-другому зовут... Если критик приходит и сразу прикидывает: за что он будет ругать, ведь ему же и себя показать надо - и размазать, растоптать, испортить настроение... И каждый тянет на себя. Как же еще реагировать на такую критику? Только не обращать внимания, по-моему.
Про "Мертвые души" теперь пишут, что Вы воспеваете российскую государственность и военный трибунал как спасение от всех наших бед. "Либеральная" критика подозревает, что Вы выполняете заказ Кремля; "почвенники" убеждены, что спектакль и впрямь агитирует за карательные методы борьбы с "бесами либерализма".
Дело, видимо, в последнем монологе? Ко мне часто подходят и спрашивают: этот текст Малягин придумал? Помните там: "Дело в том, что пришло нам спасать нашу землю; что гибнет уже земля наша не от нашествия двадцати иноплеменных языков, а от нас самих; что уже, мимо законного управления, образовалось другое управление, гораздо сильнейшее всякого законного. Установились свои условия, все оценено, и цены даже приведены во всеобщую известность"... А я говорю: вы что, не читали, это же второй том "Мертвых душ", поэма же заканчивается на этом! Мне стоило немалого мужества пойти на это: когда персонаж сбрасывает с себя вицмундир, делает шаг к зрителю и произносит этот монолог уже от себя, от артиста Игоря Костолевского. Когда я, мы все обращаемся прямо в зал, лично к каждому из сидящих в нем соотечественников: земля наша гибнет от нас самих. При чем тут кремлевский заказ?! Я-то считал, что это мой мужественный поступок, хотя я понимал, что скажут: публицистика, от Гоголя ушли. А почему? Гоголь и был публицистом и моралистом. Я когда все это раскладываю, я думаю: нет, я тут ни в чем от автора не отхожу. Тем более, что это гоголевское, не я это придумал. И если этого не видит критика, меня это не печалит. Главное, это прочитывают зрители. А то, что они это прочитывают, я понимаю, иначе они не ходили бы на спектакль. Потому что все Чичиковы. Сейчас все Чичиковы. И эти, внизу, и эти...
Может быть, этот лобовой прием и не прозвучал бы, если бы Вы не завоевали на него право всем спектаклем - убедительнейшим первым актом, где тот же Костолевский играет роль Плюшкина, да так играет, что его, красавца, романтического героя, не сразу и узнаешь. Кстати, тут же возникает вопрос. Труппа большая, много народу не занято, надо их как-то использовать, а вы одним и тем же людям даете в "Мертвых душах" по две главные роли: одну - в первом акте, другую - во втором. Почему?
Тут принцип такой был. Здесь мне хотелось показать, во-первых, что есть оборотные вещи, - раз. Во-вторых, подумал об актерах, которых часто использовали в одном строго определенном амплуа, хотя они способны на большее, и мне захотелось дать им возможность сыграть в одном спектакле по-разному... И, в-третьих, по-моему, тут есть такая гоголевская мистификация: Плюшкин и Князь, Коробочка и Дама Приятная Во Всех Отношениях, Манилов и Костанжогло... Постарался, чтобы разнопланово это было более-менее, чтобы интересно было для зрителя, чтобы это входило в такой перевертыш, что в одной обертке может быть разное существование. И по-гоголевски. Ну, плюс театральность. Все думают, что Костолевский годится только в герои-любовники.
А не было искушения дать Костолевскому роль Манилова?
Я мог бы, но это слишком в лоб, и ему самому не интересно. Я мог бы и Князя другому дать. Но хотелось бы, чтобы вышел человек, который как личность завоевал уже расположение, которому зрители верят: ведь когда-то у многих он был идеал. Вышел бы Костолевский и сказал от себя, и сейчас он к этому подходит все ближе и ближе; и я ему говорю, что совсем надо бросить играть. Этот финальный монолог вообще и особенно когда он просит: "Теперь,.. когда приходится спасать свое отечество,.. я должен сделать клич к тем, у которых еще есть в груди русское сердце и понятно сколько-нибудь слово б л а г о р о д с т в о", - это говорит Костолевский. Так вот доверительно, по-человечески говорит сам Костолевский, которому изначально наверняка верят если не весь зал, то ползала...
В январе 2002 года Вы стали главным режиссером Театра им. Маяковского и уже пять лет возглавляете два совершенно непохожих коллектива. Одно дело камерная "Покровка", где актеры не избалованы кино и рекламой, не испорчены громкой известностью, но влюблены в свое дело и, как кажется, могут буквально всё. В "Маяковке" же, напротив, - звездная труппа, актеры по большей части хорошо известны по театру и кино, но зато, что практически неизбежно сопутствует славе, каждый имеет более или менее обширный набор фирменных приемов - гримасок, улыбок, ужимок, интонаций, того, что называют "штампами"... Не потому ли Ваши постановки на академической сцене - и "Женитьба", и "Мертвые души", и "Братья Карамазовы" - строятся отчасти по дивертисментному принципу - как набор более или менее обособленных концертных номеров?
Вы очень точно сказали по поводу разных манер. Но дело не только в этом. В "Маяковке" тысячный зал, и актеры привыкли к тому, что его надо брать, забирать - энергией, эмоцией, забирать, забирать. Тут есть какой-то такой технологический актерский аппарат, который нужно учитывать, чтобы в первом ряду не казалось, что я ору, а в последнем было слышно. Вот какой-то посыл, полет какой-то дополнительный. Даже не то, чтобы громче, а вот учитывать пространство. А часто хочется сказать: "Ребята, потише, тише". Когда маяковцы Филиппов и Костолевский пришли в спектакль на Покровке, мне надо было у них и звук, и выразительные средства приглушать, потому что в метре расстояния это выглядело театрально. А в "Женитьбе", конечно, мне хотелось бы звучания камерного: моя же задача - создать правдоподобие, чтобы зрители поверили. Конечно, на Покровке это дается легче: я все-таки там сам себе почву готовил годами, - но и обстоятельства мне помогали: там не огромная сцена, а комната, - ну и чего орать, разговаривайте нормально. Свою режиссерскую работу в театре Маяковского я начал с того, что повторил здесь "Женитьбу". Это был первый спектакль здесь, и он нужен был как успешный, поэтому вышли все "звезды", самые яркие исполнители. Да, вышли "звезды" и начали друг перед другом фасон держать. Собственно, в пьесе это заложено, такое соревнование между женихами. Но опять-таки нужна мера, и когда они совсем разыгрываются, заводятся друг от друга, я их каждый раз пытаюсь вернуть к началу, напомнить, что все эти персонажи - одинокие пожилые люди, закомплексованные и неприкаянные, а вовсе не такие наглые и победительные, как они тут пытаются представить: иначе бы и невесту не искали так долго и так безуспешно. Но, конечно, когда идет реакция, когда зал подхватывает, актеры начинают поддавать, и еще, и еще, и еще... И если спектакль идет часто, начинают придумывать для себя уже новые допинги. В данном случае я не очень их останавливаю, ругаюсь, конечно, но, с другой стороны, если они что-то придумают, и это что-то живое, не просто так, значит, они об этом думают, это не просто машинальное исполнение роли. И отсюда какая-то жизнь создается, это передается в зал, и зал видит, что это живой спектакль. А дальше "Карамазовы", "Мертвые души"... В "Мертвых душах" тоже есть момент такого дивертисмента, но уже меньше. Артисты все-таки немножко еще поглядывают, как я реагирую. Но мне бы хотелось, конечно, именно той манеры - "покровкинской". Постепенно, может быть... Это трудно. Я пробую в других спектаклях, пробую играть совсем тихо, проверяю реакцию. Я прошу: вы почувствуйте, где просто тишина в зале. И даже говорю: разговаривайте, как в комнате. Тысячный зал, полный зал - и разговаривают нормально, никто не жмет. И зал замирает, потому что вдруг заговорили не театрально, по душе. И актеры видят: значит, можно не орать. Значит, зал вовлекается и чем-то другим...
Но есть, конечно, первачи, "звезды", взлет... И наработки, которые люди эксплуатируют годами... Мне трудно их перевоспитывать, да я и моложе многих. Но дать им почувствовать, что можно и по-другому, мне бы хотелось. Я не могу на них давить, не могу их унижать, мы должны договариваться. А это часто мучительно, трудно. Конечно, всегда проще стукнуть кулаком, обматерить. Но ведь хочется, чтобы было в радость, чтобы удовольствие в работе было. И я вспоминаю, как умели работать с актерами великие мастера, тот же Любимов и Гончаров, во всем этом конфликтном мире варясь и понимая, что это и есть жизнь. Но как это не допускать близко к сердцу и очень сильно об этом не волноваться? Иногда я не знаю, как работать с актерами. Но все-таки ставлю задачи интересные, хотя они не всегда их выполняют, но даже хотя бы это остается где-то, что держит рисунок роли. К примеру, говорю, что тот же Ноздрев - это не только пьяница, дебошир и все прочее, а он поэт в этом. А то, что он дебоширит - он наказывает пороки, - у него свои способы. И когда актеры удивляются, неужели так можно взглянуть, я рад: отсюда уже росточки идут, от этого, а не от "чем будем удивлять". Вот этим и будем удивлять, другим взглядом.
Вы рассказывали, как начинали, и был период, когда вы пробовали разные вещи - Мейерхольд, форма, пластика. Сейчас есть такие соблазны - "удивлять"?
Соблазны есть, и они, к сожалению, лежат наверху, потому что рынок толкает конкурировать, все время побеждать: другие что-то придумывают, а я что ли не могу?! Конечно, иногда подмывает, - и даже пробуешь. Но тут возникает другой вопрос: то, чем я занимаюсь, исчезает, начинает теряться эта глубина... И поэтому, пока есть возможность, пока я вижу, что есть отклик на серьезный разговор, пока есть публика, которая приходит и каждый вечер заполняет зал, я буду всем этим заниматься. Вот когда уже увижу, что никому это не интересно, тогда можно и попробовать... Чего мы еще не пробовали? Не стояли на ушах? Можем и постоять. Но пока... Пока, когда меня спрашивают об этом, я отвечаю, что я консерватор.
Вы один из самых богатых людей: среди Ваших учителей Кнебель, Эфрос, Любимов, Гончаров...
Да, это великие режиссеры, с которыми, может быть, я иногда и спорю, и делаю это по-своему, но, конечно, диалог с ними существует у меня постоянно. Для меня Эфрос, что бы он ни ставил, - это все равно будет поэзия. Любимов - это социальный, жесткий, целенаправленный, образный театр. Кнебель и Станиславский - реалистический, психологический театр. И Вы правы, безусловно - это всё мои накопления, мое богатство. Я беру свое добро там, где нахожу. Оно не само свалилось мне в руки, я бегал и искал, и то, что у меня там отложилось, как-то, конечно, переваривается и как-то синтезируется во мне. А мой первый наставник Василий Константинович Козлов, человек, который поверил в меня!.. А педагог по истории зарубежного театра Яков Соломонович Тубин, ведущий критик, второй человек, который сказал мне: "Ты режиссер". Его уже нет, Царство ему Небесное. Многие уже ушли, но они со мной. И когда так хочется покоя, хочется лени, хочется соблазнов, хочется всего того, что противо истины, вот тут они мне не дают покою, и я не могу какие-то вещи переступать, думаю: "Что скажет Мария Осиповна? Что скажет Василий Константинович? Что скажет Яков Соломонович?"... Надо бороться, надо отстаивать, надо тратить энергию, силы, кровь, пот. Все дается нелегко, постоянный выбор, постоянный самоконтроль, от которого хочется отмахнуться. А мои учителя, мои наставники, меня держат, удерживают. И мне есть, чем отчитаться перед ними.
Опубликовано в журнале:
"Континент" 2007, N131
ИСКУССТВО
2001 Журнальный зал в РЖ, "Русский Континент".


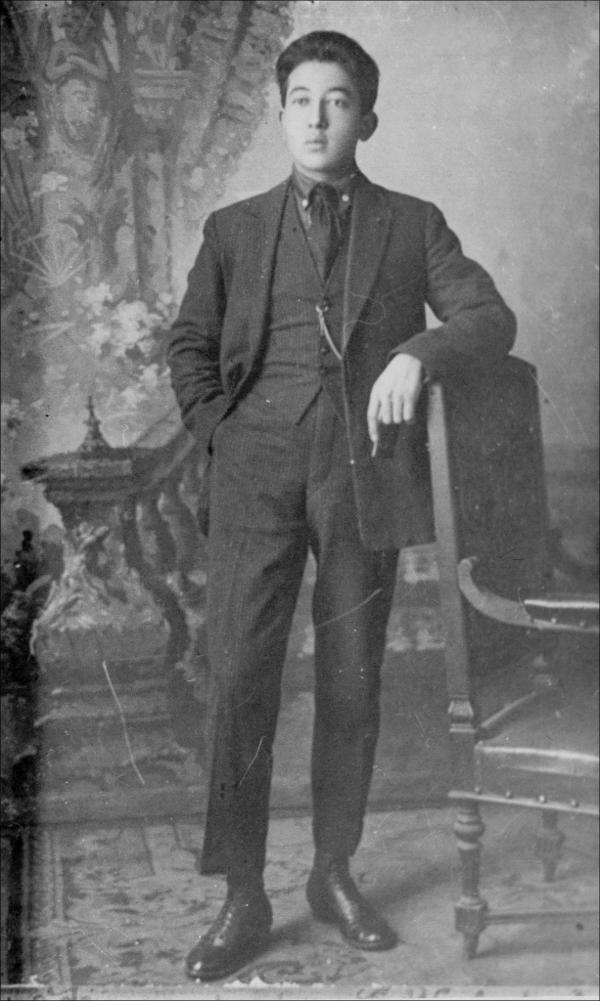




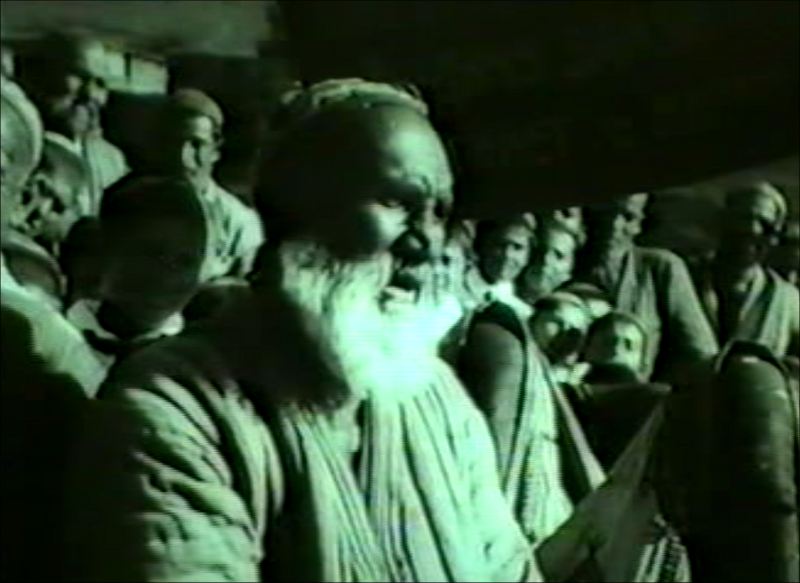
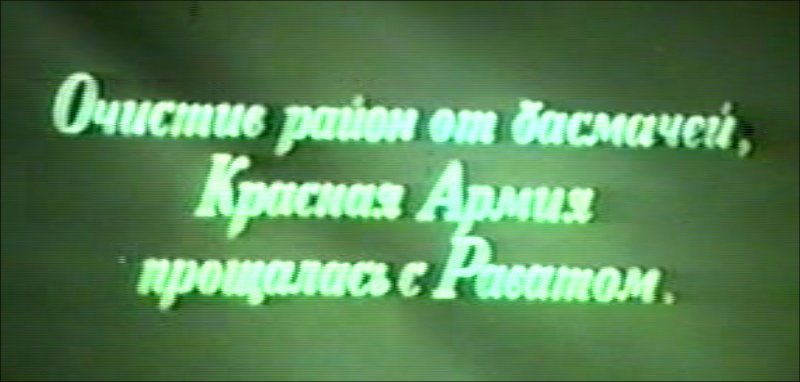



























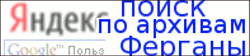








































 Василий Константинович Козлов на репетиции. (скриншот кадров любительского фильма).
Василий Константинович Козлов на репетиции. (скриншот кадров любительского фильма).

