-ћетки
јрбат ƒежурство алиса ари€ болезнь встречи выставки гитис день рождени€ дк зодчие дождь золота€ маска интернет кино концерты маска plus маска плюс музеи мультфильмы олов€нные солдатики осознанные сновидени€ парк победы подарки прогулки рецензии ролевые игры сесси€ словески сны собаки современник спектакли стихи театр театр моссовета театр на покровке театр на юго-западе театр современник театр эрмитаж театры фестивали фестиваль золота€ маска фильмы фотографии фэнтези чай школа шоппинг экзамены эрмитаж
-ћузыка
- “эм √ринхилл - ≈щЄ раз о нищих и безумцах
- —лушали: 2341 омментарии: 1
- Ћора ѕровансаль - √имн Ёлберет
- —лушали: 2828 омментарии: 1
- Ёпидеми€ - –оманс о слезе
- —лушали: 2723 омментарии: 2
- —ветлана —урганова - ¬есна
- —лушали: 9360 омментарии: 2
- янка ƒ€гилева - Ќюркина песн€
- —лушали: 1382 омментарии: 0
-ѕодписка по e-mail
-ѕоиск по дневнику
-–убрики
- ќ времени о жизни о себе (1521)
- ћысли (106)
- —тЄб (78)
- —тихи (68)
- ƒепрессн€к (29)
- Ѕесконечное приключение (25)
- —татьи (18)
- ѕроза (9)
- ‘илиал цитатника: не_моЄ творчество (7)
- “есты (2)
- ѕесни (2)
-‘отоальбом

- ћать сыра ѕрирода
- 15:57 20.03.2011
- ‘отографий: 92

- ѕриколы
- 15:54 20.03.2011
- ‘отографий: 36

- ћо€ собака и другие звери
- 15:49 20.03.2011
- ‘отографий: 138
-»нтересы
-ѕосто€нные читатели
-_¬ершитель BarSya DartWeider Weidel „ертополошенка Adanedell Adept665 Alarun BuffoG Buggy Crying_in_the_night Curious_Joe DemonSDA Eldaneuro FechTovalchica HeDoM_AzurA Kross Lora_Natalia Oskol Paradoxish Rayerven S_ivanov Scaldir Stimerium Stormblest Strellock en101 fatamor kondar presviteros svetovid train_in_my_vein xSync zapletatell ЅџЋ№ Ѕель_¬ульф ¬еликий_—киф ¬любленный_¬ампир ƒо_¬андейкер «адумчивый_Jack ай_Ћешер ЋЄна_из_Ќайлисса Ћик_и_’имер ћертвый_ветер ѕјЅ –усский_ƒонбасс —≈ƒ№ћќ≈_Ќ≈Ѕќ “Ємный_¬олк “ареич “игра_2006
-—ообщества
-—татистика
«аписи с меткой театр моссовета
(и еще 120 запис€м на сайте сопоставлена така€ метка)
ƒругие метки пользовател€ ↓
јрбат ƒежурство алиса ари€ болезнь встречи выставки гитис день рождени€ дк зодчие дождь золота€ маска интернет кино концерты маска plus маска плюс музеи мультфильмы олов€нные солдатики осознанные сновидени€ парк победы практика прогулки рецензии ролевые игры сесси€ словески сны собаки современник спектакли стихи театр театр моссовета театр на покровке театр на юго-западе театр современник театр эрмитаж театры фестивали фестиваль золота€ маска фильмы фотографии фэнтези чай школа шоппинг экзамены эрмитаж
ѕосмотрела "Casting/ астинг" |
ƒневник |
Ѕлагодар€ режиссЄру ёрию ≈рЄмину, написавшему пьесу по либретто ирквуда ЂA Chorus Lineї, хореограф јлла —игалова смогла поставить спектакль про саму себ€ Ц и сыграть главную роль, то бишь себ€ саму соответственно. “ема сочинени€ Ц Ђѕосмотрите, как можно научить труппу исполн€ть более и менее простые танцевальные номераї. Ќе мудрству€ лукаво, весь спектакль создатели из номеров и составили Ц актЄры проход€т Ђ астингї, ибо так и называетс€ постановка, исполн€ют своЄ Ђдомашнее заданиеї, а хореограф смотрит на них, подбадривает, поправл€ет. «ритель, в идеале, должен чувствовать себ€ на дне открытых дверей в студии танца, но урок всерьЄз представлен как самодостаточное творческое произведение, и публика охотно аплодирует каждому бенефисному выходу. Ќо обо всЄм по пор€дку: претендентов п€тнадцать, ещЄ до начала спектакл€ они по€вл€ютс€ на сцене, изображающей репетиционный зал с зеркальными стенами и окнами под потолком, и начинают копошитьс€ и переговариватьс€. »х цель Ц роли в эпизодах или массовке нового мюзикла великой и ужасной јнны ѕавловны (—игалова), конечно же, режиссЄра-хореографа. ћесто действи€ Ц некий московский театр, на побегушках у примадонны Ц его работник јндрей (—мирнов), жалующийс€ на жадную до электричества дирекцию. ќн называет номера прошедших на заключительный этап кастинга, герои комически бурно реагируют, норов€ сразу же продемонстрировать свой карикатурный типаж, и расход€тс€ по раздевалкам. »х вызывают по очереди в пор€дке присвоенных номеров, и јнна ѕавловна сперва разговаривает с ними, выступа€ в качестве не только хореографа, но и психолога Ц поневоле пожелаешь себе любимому такого учител€ танцев; но, как по волшебству, от общени€ с ней каждый становитс€ Ђсамим собойї, откровенничает и превращаетс€ в худо-бедно послушное и бесхитростное существо. ќбщение это предполагает, что конкурсанты расскажут о своЄм происхождении, семье и становлении танцевальной карьеры Ц так мы непон€тно дл€ чего узнаЄм биографии всех героев. ѕередвигающа€с€ прыжками, как кенгуру, ћари€ јбарова (ћихайловска€) однажды станцевала вместо старшей сестры и так с тех пор и танцует, а сестра осталась в пролЄте и вышла замуж. Ѕорис ¬асютин (‘илиппов) наговорил глупостей о том, как в детстве на него упал джип с домкрата, а какого-то мальчика он покрасил серебр€ной краской и тот чуть не задохнулс€. “амара ƒолидзе (Ѕолгашвили) с бойким акцентом сообщила, что воспитывавша€ еЄ бабушка привела еЄ в студию национального танца, и спл€сала лезгинку в костюме феи. –обка€ ристина «инченко (Ѕоб) пришла со своим мужем јлександром ривошеиным (ѕрокошин), деловым и уверенным ведущим актЄром этого театра, пришедшим на кастинг, только чтобы поддержать супругу Ц они исполн€ют рок-н-ролл. ≈лена рысанова (’рамова) Ц дистрофична€ закомплексованна€ дурнушка, которой не повезло не только с фамилией, но и с днЄм и местом рождени€; в свой первый выход она начинает рыдать и ничего станцевать не может, но потом возвращаетс€ и сразу начинает изображать нечто вроде умирающего лебед€, что тоже заканчиваетс€ слезами. ƒмитрий ’ачатуров ( ириллов) Ц накачанный арм€но-азербайджанец, самоучка, стриптизЄр в ночном клубе, опекаемый старшей коллегой, с которой регул€рно перезваниваетс€ и кл€твенно увер€ет, что между ними ничего нет. ѕосле его номера јнна ѕавловна просит его показать стриптиз, что он и проделывает, старательно дЄрга€ груд€ми. ƒиана онтрерос (Ѕаранова) гордитс€ дедом-испанцем и специализируетс€, само собой, на вроде-как-испанских танцах. “имур ЎмелЄв (¬альц) когда-то уже работал с јнной ѕавловной и теперь влюблЄнно и преданно ездит за ней в надежде поработать ещЄ, и его танец Ц кривл€ние под песню Ћаймы ¬айкуле, которой некогда јнна ѕавловна ставила его на подтанцовку. ¬ера ярошенко (¬олкова) вообще стираетс€ из пам€ти Ц ничего примечательного она ни говорит, ни делает. „итать дальше


ћетки: театр театры театр имени моссовета театр моссовета спектакли рецензии casting/кастинг casting кастинг |
ѕосмотрела "я, бабушка, »лико и »лларион" |
ƒневник |
—цена застелена цветастым покрывалом, задник украшен ставн€ми, расписанными внутри под лубок, массовка припл€сывает и распевает под живой оркестр остолевского, за ненадобностью отсажива€сь на край сцены, р€дком вдоль кулисы. »з сундука, поко€щегос€ на возвышении, врем€ от времени высовываетс€ трио с бутафорскими усищами и также играет роль хора. “аким немудр€щим образом режиссЄр ћарина Ѕрусникина и художник ¬ера ћартынова попытались передать колорит грузинской деревушки, о которой повествуют Ќодар ƒумбадзе и √ригорий Ћордкипанидзе. Ѕыть может, исходный материал действительно интересен, но, превратив его в коллаж из рваных эпизодов, авторы спектакл€ лишились св€зного и вн€тного сюжета, который мог бы нести в себе какой-нибудь смысл, уловив только смутную мораль о семейных ценност€х, м€гко говор€ - не оригинальную. ¬место "лирической комедии" получилась детска€ сказка в лучших традици€х провинциальной любительской тюз€тины, зачем-то перегруженна€ необ€зательными второстепенными персонажами и раст€нута€ почти на три часа. „то юмор, что лирика в ней - исключительно на уровне мультиков дл€ дошкольного возраста, взрослому человеку как-то не пристало хохотать над шутками вроде "на прошлой охоте ты прин€л козьи следы за за€чьи", - хот€ ни на смех, ни на аплодисменты публика не скупитс€. ѕожалуй, единственна€ причина, по которой этой премьере прошлого сезона дейсвительно стоит идти на вечернее врем€, - сильное пристрастие главного геро€ к курению и алкоголю. Ёто п€тиклассник «урико (Ѕондаренко), живущий с бабушкой ќльгой (ќстроумова), старательно изображающей акцент, так что часть слов не удаЄтс€ разобрать даже вблизи, и гон€ющейс€ за внучком с хворостиной, чтоб училс€ хорошо. —воими лучшими друзь€ми он считает своих старых д€дьЄв, живущих по соседству, - одноглазого (чЄрный кружок на очках) и одноногого (хромота) »лико (Ћеньков) и »ллариона (Ѕобровский) по прозвищу ƒлинный, - да говор€щего пса ћураду (ћа€кин), воплощЄнном в актЄре с плюшевой собакой, вис€щей на л€мке через плечо ("кто стучитс€ в дверь ко мне с толстой сучкой на ремне"). ћассовку он представл€ет как жителей деревни, она же работает на второстепенных рол€х - например, школьных учителей, наперебой высказывающихс€ о нерадивости «урико, или врача, разоблачающего в нЄм симул€нта, не желающего ходить в школу. —ледуют одна за другой короткие истории, предполагающие быть смешными: не успевает закончитьс€ номер с учител€ми, как народ собираетс€ на сходку решать важный вопрос, склон€€сь над глобусом села, переносить или не переносить контору к дому председател€ - пока «урико не предлагает попросту избрать новым председателем того, кто живЄт ближе всего к конторе, и выбор труд€щихс€ падает на какого-то заторможенного алконавта. ј вот «урико с »лларионом идут охотитьс€ на зайцев, устраивают привал, предаютс€ обильным возли€ни€м чачи, »лларион забивает в трубку табак от »лико - а коварный брат, оказываетс€, подсыпал туда перцу, и зат€жка становитс€ хорошим способом бросить курить. ќба, хоть «урико и не пал жертвой табака с сюрпризом, задумывают страшную месть. огда сыну »лико потребовалось сдавать экзамены, он подговорил «урико украсть у »ллариона вино дл€ вз€тки преподавател€м, но тот выдал »ллариону этот замысел, и тот застиг "воров", заставив »лико спр€татьс€ в пустой кувшин, нарисованный на полотнище с прорезью. ¬доволь поглумившись и заставив брата кричать "я кривой барсук!", »лларион отпускает его с миром. ƒействие возвращаетс€ в школу, чтобы осуществить банальный романтический минимум: после урока «урико остаЄтс€ в классе наедине с девочкой ћэри (Ѕоб), жалуетс€ ей на смерть верного ћураду и тонкими намЄками признаЄтс€ ей в своих чувствах. ÷еломудренна€ взаимность, благополучно возникша€ между грузинскими –омео и ƒжульеттой с сопутствующей арией, настолько скучна, что сонливость помешала мне запомнить подробности, посему перейдЄм сразу к торжественному моменту окончани€ нашим героем школы с троечным аттестатом зрелости. ќн за€вл€ет, что хочет стать артистом, но бабушка закатывает скорбные причитани€, и «ураб, как послушный внук, едет в город поступать на агронома. ѕодобравша€с€ в вагоне разношЄрстна€ компани€ быстренько "сдружилась и сроднилась" вокруг водки, до которой наш выпускник, как упоминалось выше, большой охотник, - читать рецензию дальше
ћетки: театр театры театр имени моссовета театр моссовета спектакли рецензии € бабушка илико и илларион |
ѕосмотрела "ƒ€дю ¬аню" в ћоссовета |
ƒневник |
ƒо јндрей ончаловский букве классика следует строго: как и у „ехова, перва€ реплика за н€ней ( узнецова), раздувающей самовар сапогом. ¬ыкатываетс€ на сцену сугубо комический персонаж Ц ¬афл€ (Ѕобровский) с буффонными накладками-толщинками на живот и зад, гнусавым голосом ѕетрушки и манерной клоунской мимикой. Ќо не он здесь Ц главный шут, а неожиданно моложавый, щеголеватый, с из€щно постриженными усиками и бородкой д€д€ ¬ан€ (ƒерев€нко). ќн без умолку изливает €д за глаза на всех и каждого, самодовольно наслажда€сь своим отсутствующим чувством юмора, так и играет мимикой и телом, пыта€сь изобразить сарказм Ц смешной, жалкий, трусливый, завистливый бездельник, бездарный лицедей, не могущий существовать без постороннего внимани€. ќ чЄм бы он ни говорил, кажда€ фраза, каждый монолог вызывают хохот слушателей, и его спонтанное, театрально-крикливое, напоказ признание в любви милой и легкомысленной ≈лене (¬довина) невозможно воспринимать всерьЄз. ¬ стороне от его подмостков, на которых пьют чай, харизматично курит смешливый, на весь большой зал сверкающий белоснежной улыбкой јстров (ƒомогаров), всем своим видом претендующий на протагонизм. —он€ (¬ысоцка€), в серенькой одежде не лучше, чем у прислуги, в обт€нувшем голову платке, с твЄрдым мужским голосом Ц пр€ма, решительна, деловита, как кресть€нка, но и проста, наивна, едва ли не глуповата также по-кресть€нски, может и тарелкой об пол вдарить, чтобы остановить перебранку, может и замереть с застывшей на лице блаженной улыбкой. —тарушка-эмансипэ ¬ойницка€ ( арташева) носит чЄрное и курит папиросу в мундштуке. “акова экспозици€, развернувша€с€ после эпилога, в котором под лирический мотивчик на видеозаднике возникло что-то чЄрно-белое, ретро-ностальгическое, идиллически-двор€нское. Ќа долгой же смене декораций Ц люди в чЄрном таскают мебель, нарочито неспешно провер€ют каждую мелочь Ц картинка и звук представл€ют из себ€ пр€мое включение с вечерней улицы современного города, надо полагать, что ћосквы неподалЄку от театра: шум автомобилей, прохожие, огни неоновых вывесок и окон домов. ѕосле такого странного перерыва жизнь на сцене возвращаетс€ в русло классической, почти хрестоматийной, хоть и не копающей глубоко в психологизм постановки. √ерой второй половины первого действи€ Ц —еребр€ков (‘илиппенко), бодрый, жизнерадостный старик, утомл€ющий свою молодую супругу отнюдь не капризами больного маразматика, а неуЄмной сексуальной энергией и болтливостью. —ловоблудием похлеще профессорского только д€д€ ¬ан€ и может похвастать Ц он и за€вл€етс€ к окружЄнному женской заботой подагрику эксцентричным пь€ным комиком в цилиндре и с красным клоунским носом. Ѕдительна€ н€н€ уводит —еребр€кова подальше от невыносимого, озлобленного неудачника, и ¬ойницкий остаЄтс€ разглагольствовать перед ≈леной јндреевной, нелепо лезет к ней под юбку, и ему, безобидному дураку, позвол€етс€ даже это, пока он не валитс€ спать на полу. Ќевостребованный пациентом јстров тоже пь€нствует, но и ему простительно шататьс€ среди ночи по дому с ¬афлей в качестве гитариста Ц по-собачьи преданно влюблЄнна€ —он€ готова даже налить ему ещЄ и неумело, но уверенно пьЄт сама. огда еЄ пробивает на комплименты, он задрЄмывает у неЄ на плече, потом забывает на еЄ плечах замурзанный светлый пиджак. Ёстафету потреблени€ беленькой Ц с —оней на брудершафт Ц подхватывает ≈лена, и после бессонной ночи свежа€, и бездумно, со скуки, она берЄтс€ поговорить с јстровым о чувствах свежеиспечЄнной подруги-собутыльницы. ƒоктор показывает ей и карты, и фотографии Ц оные мы видим всЄ по тому же видеозаднику: вырубленные леса, превратившиес€ в бесконечные р€ды пней, рахитичные дети крепостных и прочие ужасы. Ќо еЄ Ц кака€ там Ђхищницаї! Ц не интересуют ни природные и социальные катастрофы, ни сам јстров, ради неЄ об этих самых катастрофах позабывший тоже. » словно с досады тот валит еЄ на диван, задирает юбку Ц и изнасиловал бы, ничего и никого не бо€сь: читать дальше
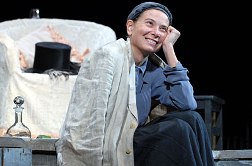
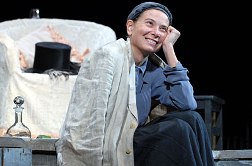
ћетки: театр театры театр моссовета театр имени моссовета спектакли рецензии д€д€ ван€ |
¬торично посмотрела "»исус ’ристос - суперзвезда" |
ƒневник |
—егодн€ мен€ разбудил дождь. “о есть ещЄ слабо сказано, что дождь Ц короткий ливень косой льдисто-прозрачной стеной с зат€нутого бельмом, но светлого неба. √де-то вдалеке что-то неумолчно гудело, не то гром, не то самолЄты в нелЄтную погоду разлетались Ц в последнее врем€ их всЄ сложнее отличать друг от друга. «акончилс€ дождь так же быстро, как и началс€, словно приснилс€, особенно ввиду того, что вскоре снова выгл€нуло солнышко и от влажной черноты асфальта не осталось и следа. ѕострадав ерундой насущной, по-прежнему не то радующей, не то удручающей своей немногообъЄмностью, € опосл€ обеда вывалилась на свет Ѕожий да пекло дь€вольское (трогательный тандем!) и поехала до ћа€ковской. ≈хала на Ђ–евизораї, а приехала на Ђ»исус ’ристос Ц суперзвездаї, ибо замена, о которой мен€ снова никто не предупредил. ¬прочем, € не огорчилась, а только обрадовалась: хоть € и не могу судить об ещЄ не посмотренном, но что-то мне подсказывало, что давно смотренный мною мюзикл будет вс€ко лучше многих других вариантов. я всегда была готова с удовольствием посмотреть его ещЄ раз, и вот Ц представилс€ удобный случай! ѕриобрет€ программку, € поошивалась в холле, с первым звонком буквально первой вошла в зал и со второй попытки осела в четвЄртом р€ду, ибо ближе было бы уж слишком шумно, на крайнем у центрального прохода кресла.
¬близи, да со второго захода, € смотрела мюзикл уже без того пиетета, как и в первый раз, не кажда€ ари€ цепл€ла, слышны были недостатки либретто, так что € начала уже было думать, что в некоторые реки лучше не входить дважды. ќднако постепенно действо захватило мен€, узнавались и освежались в пам€ти полюбившиес€ мотивы, снова можно было задуматьс€ над одиночеством пророка в толпе. »исуса играл ћатвейчук, показавшийс€ мне не таким хипповым, как некогда ѕанферов Ц скорее ангел во плоти, чем харизматический лидер; зато его вокал, срывающийс€ буквально на ультразвук, впечатл€л. »уду играл ƒеров, в отличие от яременко больше похожий на ќтелло Ц коренастый, с серьгой-колечком в ухе, в мешковатых одеждах, прикрывающих только бЄдра. ћарию, как и в прошлый раз, играла лимова, и € разгл€дела, как она иногда закатывала глаза, так что за неЄ даже временами становилось страшновато. ј ещЄ разгл€дела узнецова-—имона «илота, чертовски харизматичного революционера, в роскошном костюме. ёродивый („еркасов) со своим неумолчным колокольчиком несколько раздражал. Ќо вот финал c выезжающими на сцену байками по-прежнему кажетс€ мне на редкость удачным Ц равно как и декорации, крут€щиес€ и создающие иллюзию движени€ по городским улицам. Ќе возьмусь рассуждать, какой состав лучше, хужеЕ просто Ц сходите на Ђ»исусаї. ѕодробности чисто концептуального характера смотрите в рецензии.
ѕолучив всЄ причитающеес€ удовольствие от свидани€ с прекрасным, € вернулась в метро и на ѕлощади –еволюции оказалась в одном вагоне с самопровозглашЄнным Ђлучшим музыкантом √ондураса и ѕарагва€ї со товарищ, развлекавшим публику Ђза лучшую плату в мире Ц улыбкиї. ќн играл на флейте, припл€сыва€ между р€дами кресел, раскланива€сь на каждой остановке, что мешало мне читать, поэтому мо€ улыбка поначалу больше напоминала, должно быть, кривую усмешку. Ќо вот реб€та устроили перерыв, подзаправились пивом и, попробовав потанцевать, потолкать речи и попеть, зат€нули наконец на том участке пути, что проходил по улице, Ђќй то не ветер ветку клонитї не хуже, чем на Ќашем радио. “ут уж просто нельз€ было не отложить книжку, разулыбатьс€ и поаплодировать! Ќа ћолодЄжной вместе со мной выходила бќльша€ часть публики, музыкант проводил нас разглагольствовани€ми о том, что таким должно быть будущее Ц свободным и безпопсовым, что оно уже начинаетс€ и тэпэ. ¬ общем, позитивом € зар€дилась через край и благодар€ флэшмоберам, и благодар€ мюзиклу. ак мес€ц встретишь Ц так его и проведЄшь! «автра у мен€ снова театр, у вас Ц снова рецензи€. ƒо свидани€, дорогие.)

¬близи, да со второго захода, € смотрела мюзикл уже без того пиетета, как и в первый раз, не кажда€ ари€ цепл€ла, слышны были недостатки либретто, так что € начала уже было думать, что в некоторые реки лучше не входить дважды. ќднако постепенно действо захватило мен€, узнавались и освежались в пам€ти полюбившиес€ мотивы, снова можно было задуматьс€ над одиночеством пророка в толпе. »исуса играл ћатвейчук, показавшийс€ мне не таким хипповым, как некогда ѕанферов Ц скорее ангел во плоти, чем харизматический лидер; зато его вокал, срывающийс€ буквально на ультразвук, впечатл€л. »уду играл ƒеров, в отличие от яременко больше похожий на ќтелло Ц коренастый, с серьгой-колечком в ухе, в мешковатых одеждах, прикрывающих только бЄдра. ћарию, как и в прошлый раз, играла лимова, и € разгл€дела, как она иногда закатывала глаза, так что за неЄ даже временами становилось страшновато. ј ещЄ разгл€дела узнецова-—имона «илота, чертовски харизматичного революционера, в роскошном костюме. ёродивый („еркасов) со своим неумолчным колокольчиком несколько раздражал. Ќо вот финал c выезжающими на сцену байками по-прежнему кажетс€ мне на редкость удачным Ц равно как и декорации, крут€щиес€ и создающие иллюзию движени€ по городским улицам. Ќе возьмусь рассуждать, какой состав лучше, хужеЕ просто Ц сходите на Ђ»исусаї. ѕодробности чисто концептуального характера смотрите в рецензии.
ѕолучив всЄ причитающеес€ удовольствие от свидани€ с прекрасным, € вернулась в метро и на ѕлощади –еволюции оказалась в одном вагоне с самопровозглашЄнным Ђлучшим музыкантом √ондураса и ѕарагва€ї со товарищ, развлекавшим публику Ђза лучшую плату в мире Ц улыбкиї. ќн играл на флейте, припл€сыва€ между р€дами кресел, раскланива€сь на каждой остановке, что мешало мне читать, поэтому мо€ улыбка поначалу больше напоминала, должно быть, кривую усмешку. Ќо вот реб€та устроили перерыв, подзаправились пивом и, попробовав потанцевать, потолкать речи и попеть, зат€нули наконец на том участке пути, что проходил по улице, Ђќй то не ветер ветку клонитї не хуже, чем на Ќашем радио. “ут уж просто нельз€ было не отложить книжку, разулыбатьс€ и поаплодировать! Ќа ћолодЄжной вместе со мной выходила бќльша€ часть публики, музыкант проводил нас разглагольствовани€ми о том, что таким должно быть будущее Ц свободным и безпопсовым, что оно уже начинаетс€ и тэпэ. ¬ общем, позитивом € зар€дилась через край и благодар€ флэшмоберам, и благодар€ мюзиклу. ак мес€ц встретишь Ц так его и проведЄшь! «автра у мен€ снова театр, у вас Ц снова рецензи€. ƒо свидани€, дорогие.)

ћетки: театр театры театр моссовета театр имени моссовета спектакли рецензии мюзиклы иисус христос - суперзвезда иисус христос суперзвезда |
ѕосмотрела "Ќе будите мадам" |
ƒневник |

ƒавеча завалившись спать в четыре утра с гаком, € вполне беспроблемно уснула, а когда поутру, точнее, уже €вно днЄм, мне напомнили, что пора вставать, и пришлось просыпатьс€, € даже не обратила внимани€ на часы. ѕострадать необходимой ерундой € успела всЄ равно Ц хоть и вышла из дому за час до спектакл€. —о вчерашних сумерек в комнату с улицы уже начал вплывать запах гари, утром же стало заметно, что все дали и близи подЄрнуты голубоватой дымкой с тем же ароматом: последстви€ гор€щих вокруг ћосквы торф€ников докатились и до нас. ƒо мен€ же неспешно доехала маршрутка, затем € спустилась в подземку и на ћа€ковской была как раз за восемь минут до семи, коих мне и хватило, чтобы дойти до театра ћоссовета, проследовать пр€миком в партер и облюбовать себе свободное местечко вполне в середине третьего р€да. ќказалось, что спектакль шЄл без антракта, поэтому €, кажетс€, впервые за свою театральную практику осталась без программки, хоть она и была. Ќу да сайт театра мне в помощь, и начнЄм перекрест€сь о сегодн€шнем спектакле.
¬ театре ћоссовета идЄт изумительно смешна€ комеди€ о театральном закулисье Ц ЂЎум за сценойї. ј в театре ¬ахтангова Ц невразумительна€ мелодрама о нЄм же Ђ‘редерик, или Ѕульвар преступленийї. —пектакль ћоссовета по јную ЂЌе будите мадамї вызывает чувство дежа вю по отношению не к первому, к сожалению, а ко второму. » там, и здесь старательно доказывают, что актЄрска€ професси€ несовместима с пон€ти€ми любви и семьи, что актЄр, привыка€ всЄ врем€ притвор€тьс€, тер€ет собственную душу, так что в XVII веке актЄров-де справедливо отлучили от церкви. » там, и здесь пытаютс€ намекать, что мэйнстримовый театр есть зло, а надо гордо гнуть свою линию вне зависимости от того, что ты представл€ешь публике Ц водевили, которые она с аппетитом потребл€ет, или классику, котора€ им давно набила оскомину. » даже “араторкин, играющий пожилого режиссЄра ∆юльена, которого люб€т все женщины, очень сильно напоминает Ћанового, играющего пожилого актЄра ‘редерика, которого тоже люб€т все женщины. ” этого ∆юльена плоха€ карма: в детстве он подгл€дел, что его мать-актриса измен€ет его отцу с актЄром, а потом его собственные жЄны-актрисы стали измен€ть с актЄрами ему самому. —тоит ему поставить чеховских Ђ“рЄх сестЄрї в соответствии с европейскими представлени€ми о –оссии (белоснежные тЄплые одежды, много снега) и поставить благоверную на роль ћаши, как та ставит ему самому рога, а на горизонте начинает ма€чить нова€ пасси€. “реть€ Ц воистину Ѕог троицу любит Ц нарушила традицию, оказавшись не актрисой, а гувернанткой, мечтающей Ђспастиї возлюбленного при помощи уложенных спать детей и сытных обедов и вообще ненавид€щей театр. ќднако путь к сердцу ∆юльена через желудок оказалс€ слишком тернист: он отказалс€ от перемен и осталс€ со второй женой, а смерть матери окончательно привела его психику в разброд, превратив тему материнской измены в чудовищный комплекс. „тобы от него избавитс€, он пытаетс€ поставить Ђ√амлетаї только ради сцены, в которой датский принц выговаривает своей матери за измену отцу Ц естественно, в роли √амлета Ц сам ∆юльен, в роли √ертруды Ц его супруга. »з обвинительного акта ничего не выходит, из спектакл€ в целом Ц тоже: не смешно, не грустно, только удивительно, зачем человечество придумало браки, раз так мучаетс€ по поводу адюльтеров. » скучно, ибо этот пуст€к мусолили целых два часа без антракта, безбожно переигрыва€, и только куски из вышеупом€нутых Ђ“рЄх сестЄрї радовали глаз и слух из всего действа, да, пожалуй, ещЄ харизма “араторкина, позвол€юща€ его персонажу, как и персонажу Ћанового, выгл€деть единственным живым человеком в сонме карикатур.
ќпосл€ спектакл€ вернувшись в подземку, € заставила себ€ прогул€тьс€ от родной станции до дома вдоль дорог, дабы по театрам ходить не разучитьс€, теперь воспиваю свой зелЄный чай и собираюсь ещЄ как минимум часик фигнЄй пома€тьс€. «автра, несложно догадатьс€, —овременник, как и вчера. «акрываю —овременниковский сезон, это надо будет отметить. ј то давненько € ничего не отмечала.
ћетки: театр театры театр моссовета театр имени моссовета спектакли рецензии не будите мадам |
ѕосмотрела "ћой бедный ћарат" в ћоссовета |
ƒневник |

ћинувшей ночью упр€мое сознание, забитое вс€кой ерундой, сопротивл€лось ћорфею до самого по€влени€ рассветного мусоровоза и немного после. ѕотом мы с мамой провал€лись до двух часов дн€, благо ерундой пострадать € успела всЄ равно. ¬сю первую половину дн€ на улице бушевал сильный ветер, где-то вдалеке погромыхивало, и когда € вышла после обеда, даже пролилось нечто вроде п€тиминутного дожд€, редкого, но крупного. Ѕесспорно, при€тно, хот€ в начавшийс€ Ђсезон дождейї дышитс€ всЄ равно ещЄ более душно, чем обычно. я доехала до ћа€ковской и первым делом сунулась в ближайшую театральную кассу Ц выкупить ещЄ несколько заказанных сегодн€ билетов. то-то, видимо, очень люб€щий театр —атиры, привЄл к самому его крыльцу жеребца; суд€ по тому, что на жеребце не было седла, собирали милостыню Ђна кормї, суд€ по тому, что он выгл€дел скелетом, обт€нутым саврасой в €блоках шкурой, от выручки доставалось ему немного. √рива у пенсионера была выстрижена под ноль, и, задира€ жиденький хвост, он гадил пр€мо под дверь театра —атиры. „то-то накрапывало, а когда € дошла до театра ћоссовета, подн€лс€ сильный ветер, и упавша€ с одного дерева высохша€ ветка длиной и толщиной с оглоблю непременно кого-нибудь убила бы, окажись этот кто-нибудь под этим деревом. я вошла, приобрела программку, дождалась первого звонка и вошла в партер, где методом проб и ошибок осталась р€ду эдак в четвЄртом; в зале нифига не было кондиционеров и, соответственно, было так жарко, что хоть св€тых выноси, а лучше сразу веники берЄзовые.
Ђћой бедный ћаратї в театра ћоссовета, сходу говор€, не превзошЄл в моих глазах давным-давно виденную мною постановку той же пьесы в театре на ѕокровке. » дело даже не в том, что јрцибашев брал камерностью сценического пространства и песн€ми ¬ысоцкого, а в том, что ∆итинкин подошЄл к материалу как к кондовой классике, котора€ сыграетс€ сама, если прочитать весь текст. ¬ почти чеховском окружении аккуратных белоснежных шкафчиков с чашечками, словно склеенных из бумаги, не веритс€ в блокадную разруху, заставл€ющую незнакомых людей ютитьс€ на одной постели и сжигать книги в печи. ƒействие неторопливо течЄт без антракта без малого три часа, в промежутках между актами наступает темнота, но видно, как за подсвеченными полупрозрачными дверьми переодеваютс€ актЄры Ц нова€ одежда символизирует прошедший временной отрезок, равно как и по€вление цветных деталей интерьера. ƒа, одни и те же актЄры играют и подростков, что получаетс€ у них не совсем убедительно, кроме узнецовой, чь€ Ћика остаЄтс€ ребЄнком всегда, и взрослых людей, и перешагнувших средний возраст, что получаетс€ только у »льина-Ћеонидика. ћарата же играет ƒомогаров Ц и играет великолепно, спектакль, собственно, и стоит смотреть только ради его таланта, искренности и самоотдачи, иначе довольно быстро стало бы скучно. ѕозици€ его персонажа с начала и до конца чЄтко определена, а вот с Ћеонидиком в ћоссовете така€ же размыта€ картина, как и на ѕокровке: кака€ роль определена ему в истории троицы, малопон€тно. Ќи симпатии, ни отторжени€ герой »льина не вызывает, в финале в нЄм нет трагизма: он уходит не из благородных побуждений, а просто потому, что устал и захотел побыть один, в его слова о любви веритс€ меньше, чем в бессловесные взгл€ды ћарата о ней же. „увства ћарата и Ћики здесь не стесн€ютс€ подолгу живописать самыми пасторальными красками: обнимаютс€, целуютс€, она гладит его лицо, он Ц еЄ волосы, и возникает какое-то тЄплое чувство узнавани€ Ц так же и Ђв жизниї. Ќо после ухода Ћеонидика они молча закуривают спиной к спине Ц словно больше нет любви, словно что-то важное было безвозвратно упущено по нелепым причинам. ¬прочем, как известно, ћарат потому и бедный, что верил в невозможное.
ѕосле спектакл€ доехала домой. ”ходить спать уже не тороплюсь, хот€ встать пораньше и успеть побольше надеюсь всЄ равно. «автра вечером мне неизбежно светит театр, хот€ € даже не помню, какой именно. ƒо следующей рецензии и откланиваюсь) слову: поскольку комментируют мен€ редко, осиливающие посты Ц тыкайте, что ли, в новую малопон€тную кнопочку Ђпонравилосьї. Ќе знаю, нафига она, но так можно будет видеть, сколько вас вообще.)
ћетки: театр театры театр моссовета театр имени моссовета спектакли рецензии мой бедный марат |
ѕосмотрела "÷арство отца и сына" |
ƒневник |

—егодн€ мне таки удалось подн€ть себ€ даже раньше обеда, успеть полноценно пострадать кой-какой неотложной ерундой, а ближе к вечеру неспешно выпинать себ€ же в уже почти привычную жару, больше похожую на финскую сауну, чем на город средней полосы –оссии. “ретий день подр€д мой путь лежал до славной станции ћа€ковска€, и как бы € ни тормозила, прибыла € туда традиционно за полчаса, ввалилась в театр ћоссовета, приобрела программку и стала ждать звонка. огда он, первый, соизволил прозвенеть, € отправилась в партер, но поскольку занесло мен€ на сей раз на премьеру сезона, свободное место мне удалось приискать только с краю р€да эдак седьмого, впрочем, не жалу€сь на обозрение Ц только на жару и духоту.
Ђ÷арство отца и сынаї - пересказ нескольких эпизодов из русской истории стихами пьес јлексе€ “олстого, старательно имитирующий серьЄзный разговор со зрителем. ƒекорации предельно лаконичны, звуковое сопровождение не выдел€етс€, видеозадник живописно демонстрирует то грозовое небо, то кровавый закат, то водную гладь, костюмы исполнены на беспроигрышном контрасте чЄрного и белого, из-за чего персонажи напоминают шахматные фигуры, которые сравнивал со своими бо€рами »ван √розный во врем€ игры за секунды до смерти Ц лишь иногда €ркий красный свет врываетс€ третьей цветовой составл€ющей в этот монохром. ¬прочем, бо€ре эти, исполн€ющие роль массовки, действительно просты, как дерев€нные болванчики Ц выход€т в р€док, выстраиваютс€ полукругом, у каждого своЄ неизменное бесхитростное предназначение, никакими характерами и не пахнет. Ќичто не должно отвлекать публику от чЄткой и строгой читки актЄрами своих временами громоздких реплик, которые, впрочем, достаточно уравновешиваютс€ действием, чтобы никому не позволить заснуть. —южет знаком каждому школьнику, отчего не менее интересно за ним следить: бо€ре, бо€сь перемен в непростое врем€, отказываютс€ выбрать из своих р€дов преемника слабеющему рассудком √розному царю, и тот назначает его сам Ц своего блаженного сына ‘Єдора. Ќаивный и доверчивый, как дит€, отрок-богомолец восходит на трон после смерти отца против своей воли, оказавшись в центре жестокой непримиримой борьбы между кланами Ўуйских и √одуновых, жертвой которой, как известно, пал его младший брат ƒмитрий. Ќаиболее преуспел в теремных интригах Ѕорис √одунов Ц втЄрс€ в доверие к отцу, заделалс€ опекуном сына, фактически управл€€ государством вместо него, ловко убрал соперников и недоброжелателей; спектакль заканчиваетс€ на смерти царевича ƒмитри€, и впереди у хитрого бо€рина Ц царствование, голод, восстани€, самозванцы, таинственна€ смерть. ѕри желании можно св€зать контекст эпохи последних –юриковичей с современностью множеством параллелей и ассоциаций, как рациональных, так и мистических, разгл€деть в полулегендарных фактах и предположени€х суровые предупреждени€. ќднако всЄ это можно осуществить и за пределами театра Ц постановка же воздержалась от какой бы то ни было оценочности, только повтор€€ вслед за “олстым его симпатии к преимущественно беззлобному и стрем€щемус€ всех помирить ‘Єдору. ≈го и впр€мь по-человечески жалко Ц вот только его беспомощность, Ђабсолютное доброї, оказываетс€ не менее губительной, нежели жестокость его отца, Ђабсолютное злої, и оба не вызывают ни малейшей симпатии, тогда как брутальный подлец-√одунов проводил достаточно грамотную внешнюю и внутреннюю политику. ≈динственный приход€щий на ум повод к сценическому воплощению малопопул€рной трилогии Ц растуща€ актуальность обращени€ к фигурам власть имущих тиранов, попыток заново нарисовать их портреты, пользу€сь лишь вышеупом€нутыми чЄрными и белыми красками. ѕокуда портреты получаютс€ уклончивыми, и пон€ть, какой вектор избрала тенденци€ Ц доказать преимущество демократии перед самодержавием или же, напротив, необходимость сильной неограниченной власти, Ц не представл€етс€ возможным.
—пектакль закончилс€, € вернулась к метро, доехала до родной ћолодЄги, пришла домой. Ќе помню, есть ли у мен€ завтра театр, но встать определЄнно надо пораньше и документы в –√√” подать, да и начать о составлении репертуара на июль думать. «асим доброй ночи всем)
ћетки: театр театры театр моссовета театр имени моссовета спектакли рецензии царство отца и сына |
ѕосмотрела "¬ пространстве “еннесси ”." |
ƒневник |

ƒо —пектакль Ђ¬ пространстве “еннесси ”.ї живЄт в репертуаре уже п€ть лет. Ќемудрено: сама€ известна€ пьеса упом€нутого драматурга, Ђ“рамвай "∆елание"ї, играетс€ практически сама, а сумасшедший вагоновожатый из романа Ђ√ород без времЄн годаї —югуро ямамото и его сестра идеально вписались в еЄ пересказанный сюжет, несмотр€ на свои €понские имена. »менно он, –оку, будет водить тот самый трамвай Ц такой же воображаемый, как и миллионер, которого будет ждать Ѕланш. Ќесмотр€ на долгую жизнь спектакл€, автоматизма в игре актЄров не чувствуетс€ Ц эмоционально насыщенные эпизоды отыгрываютс€ с полной самоотдачей, никто не скатываетс€ в патетику и переигрывание, каждый персонаж смотритс€ живо, выпукло и достоверно: и простодушное оба€ние домохоз€йки —теллы, и обманчива€ брутальна€ харизма звероподобного —тенли, и неуклюжесть недалЄкого ћитча. ј в исполнении ≈вгении рюковой можно во всех подробност€х проследить медленное, но неотвратимое движение Ѕланш к порогу безуми€, каллиграфически выписанное тонким психологом “еннесси: перва€ стади€ Ц приезд в дом сестры после смертей родственников и потери родного имени€, столкновение с недоверием и агрессией еЄ мужа, почу€вшего в хрупкой аристократке полную противоположность и чужеродность привычному ему миру. ¬тора€ Ц отча€нна€ и наивна€ попытка начать новую жизнь с человеком, показавшимс€ родственной душой, чистой и светлой, забыть погубленного по собственной неосторожности мужа и последующую череду беспор€дочных св€зей, и жестокое разочарование в нЄм. “реть€ и заключительна€ Ц изнасилование, в которое не может поверить и считает его признаком помешательства самый близкий человек Ц —телла, потому что эта вера разрушит еЄ семейное счастье. “еннесси неумолим в вынесении приговора так гор€чо ненавидимой им обывательской философии: Ѕланш пала жертвой предубеждений, которые и еЄ саму некогда толкнули на смертельные дл€ любимого слова Ц Ђдурна€ репутаци€ї выгл€дит в глазах законопослушного гражданина несмываемым клеймом, а однажды зарекомендовавша€ себ€ Ђшлюхойї обречена навсегда остатьс€ вещью, которой никто не преминЄт воспользоватьс€. Ќет, к состраданию он не взывает Ц но и не осуждает свою героиню: человеческие типажи, как обычно, служат дл€ него не целью, а средством построени€ сложных и многогранных композиций. Ђ“рамвайї по концепции похож на Ђѕрекрасное воскресеньеї: в финале Ѕланш от отча€ни€ следует за санитаром психбольницы, как ƒотти от отча€ни€ отправл€лась на пикник навстречу признанию заур€дного Ѕадди, а —телла уверена в правильности и полезности такого исхода дл€ подруги, как в том же была уверена и Ѕоди. Ќо, как мы помним, постановка Ђ¬оскресень€ї в Ќовом театре окрасила концовку в позитивные жизнеутверждающие тона Ц а Ђѕространствої ≈рЄмина так и вовсе концовку изменило: вместо того, чтобы уехать на белой карете, Ѕланш вырветс€ из рук мучителей, и –оку увезЄт еЄ на своЄм трамвае. ƒва не нужных обществу человека оказались нужны друг другу, две безнадЄжно сломанные жизни нашли единственную альтернативу смерти Ц уход в собственный мир, в который достаточно просто поверить, чтобы он стал не менее реальным, чем тот, в котором живут отвергнувшие их. “ак истеричка Ѕланш, избалованна€, легкомысленна€, не приспособленна€ к отражению ударов судьбы, ищуща€ спасение во лжи, похожа€ на своего создател€, по признани€м самого “еннесси, сочетанием чувственного эротизма со стремлением к пуританским добродетел€м, превратилась едва ли не в блаженную, в снискавшую просветлени€ раска€вшуюс€ блудницу. —ужает ли это или же расшир€ет еЄ образ, решать каждому зрителю. Ђѕространствої получилось не только интересным с точки зрени€ интерпретации, но и красивым: изломанна€ сцена, на которой две Ђпропастиї образуют угол, отрезающий дом от улицы, а улицу от насто€щего пианиста Ц и только –оку наиболее свободно перемещаетс€ сквозь все эти условные измерени€. ќдин минус, который € в последний раз часто стала улавливать в спектакл€х: пр€молинейность. —лишком часто раздаЄтс€ имитируемый –оку сигнал трамва€, слишком часто Ѕланш мен€ет нар€ды, слишком нелепо смотр€тс€ на —телле надетые под платьем бутафорские грудь, живот и зад, обозначающие мещанскую сытость и беременность одновременно. ¬прочем, столь мала€ ложка дЄгт€ не должна стать поводом к воздержанию от просмотра спектакл€.
ћетки: театр театры театр моссовета театр имени моссовета спектакли рецензии в пространстве теннесси у. в пространстве теннесси у гитис |
ѕосмотрела "—еребр€ный век" |
ƒневник |
ƒыбр Ђ—еребр€ный векї, вопреки многообещающему названию, оставл€ет впечатление крайне примитивного, если не сказать убогого, произведени€ некоего –ощина в жанре Ђсцен 1949 годаї. Ќаиболее энергичный и симпатичный персонаж спектакл€, ловкий коммерсант ¬иктор (помилуйте, какой частный бизнес в сорок дев€том? «а ним бы давно воронок приехал), благодетельствует сыну своей любовницы Ц тупому и наивному школьнику ћише, Ђпоэтуї, из Ђстарших коллегї знающего только ћа€ковского и ≈сенина. ќн приводит мальчика к знакомой букинистке ире, котора€ знакомит ћишу с ЂзапрещЄннымиї поэтами, после чего тот начинает вести себ€ асоциально: заводит дружбу с лагерным поэтом и хором с ним пугает ѕастернаком председательшу местного литклуба, у которой аллерги€ на им€ јхматовой неадекватно про€вл€етс€ кошачьим шипением. –ебЄнком незамедлительно заинтересовываетс€ Ќ ¬ƒ (конечно, больше ему делать нечего), а с букинисткой, котора€ старше его едва ли не в два раза, он, чего и следовало ожидать, закручивает до омерзени€ платонический роман. ‘инал истории не менее предсказуем: букинистку арестовывают, а зритель на еЄ примере должен проникнутьс€ уверенностью, что человек не может быть интеллигентным и воспринимать насто€щее искусство, если не верит в Ѕога и его дедушка Ц не статский советник (или, на худой конец, не морской офицер с неудобной фамилией). ћиша (—мирнов) и ира (ќльга або) сто€т друг друга Ц чудовищно переигрыва€ в восторженность, под аккомпанемент оркестра декламируют (именно декламируют, а не читают, и даже, скорее, декларируют) стихи к месту и не к месту с максимальной патетикой, убивающей в поэзии всЄ поэтическое и превращающей еЄ в какие-то лозунги. ј € слишком люблю поэтов —еребр€ного века, чтобы спокойно терпеть откровенное нав€зывание их творчества публике, и слишком люблю свою страну, чтобы спокойно терпеть попытки оправдать сбежавших из неЄ, особенно вкупе с трусливыми намЄками вместо пр€мых обвинений в адрес режима. ќформление спектакл€ не в силах спасти положение Ц то и дело между декорацией, изображающей одновременно и большую комнату, и коридор коммуналки, и рампой опускаетс€ белый экран, на который люди, наход€щиес€ спереди и сзади, отбрасывают тени, Ц видимо, режиссЄр пон€л термин Ђтеатр тенейї буквально. ¬о втором действии его всЄ чаще замен€ет композици€ из розовых и жЄлтых новогодних лампочек, представл€юща€ собой серп, молот, звезду и другие символы Ц зрителей €вно держат за идиотов, способных к воспри€тию только иллюстративно-пр€молинейного художественного €зыка, хоть зритель и не жалуетс€ и с удовольствием аплодирует прозвучавшему слову Ђжопаї, как исполнению рискованного трюка. ћогли бы спасти положение более опытные актЄры Ц но им достались второстепенные роли, да и персонажи пьесы слишком плоски, чтобы их характеры интересно было раскрывать. ѕод занавес на белом экране титрами прошли фамилии поэтов и писателей минувшего века, покончивших с собой, расстрел€нных, погибших в лагер€х и тюрьмах, покинувших страну, а так жеЕтех, Ђчь€ жизнь была отмечена клеймом внутреннего эмигрантаї! »нтересно, Ђвнутренне эмигрироватьї - это как? “елом остатьс€, а душой витать по заграницам?.. ¬ любом случае, доказывать, будто творческий человек в –оссии может либо убитьс€, либо быть убитым, либо воврем€ сделать ноги, по меньшей мере преступно. я не отрицаю никаких исторических фактов, но при нынешней непопул€рности и дискредитации патриотизма их следовало бы подавать с меньшей однобокостью. Ќу да Ѕог судь€ всем по-прежнему считающим развенчание культа личности актуальной темой Ц остаЄтс€ наде€тьс€, что невзыскательна€ публика смотрит Ђ—еребр€ный векї как очередную мелодраму с трагичным концом. ѕотом


ћетки: театр театры театр моссовета театр имени моссовета спектакли рецензии серебр€ный век |
ѕосмотрела " рошку ÷ахеса" (типа вчерашний пост)) |
ƒневник |

ѕосле здорового сна от половины шестого утра до второго часа дн€ (приснилась, помимо прочего, симпатична€ вещь: как в палатке на €рмарке перед Ѕрестом одна продавщица брала высокий пластиковый стакан, наполненный крупными кофейными зЄрнами, и просто опускала в него нечто вроде миксера Ц и получалс€ ароматный кофе) € проснулась к обеду, с грехом пополам успела немного пострадать ерундой и вывалилась вечерком под свет фонарей, тщетно пытающихс€ разогнать сухой неподвижный туман, похожий на дым от невидимого костра, т€жело повисший в сто€чем воздухе. я снова слегка закопалась, но вместо того, чтобы начать опаздывать, оп€ть выиграла немного времени благодар€ быстро подошедшей маршрутке и достаточно рано доехала на метро до ћа€ковской, чтобы сунутьс€ в тамошнюю театральную кассу и наконец-то обзавестись давно запланированным билетом в —атирикон на предновогоднее 30-е декабр€. ќставались ещЄ добрые полчаса, за которые € успела дойти до театра ћоссовета, по которому успела соскучитьс€ (точнее, по хорошим его спектакл€м, а летний сезон не особо баловал мен€ таковыми), сдать в гардероб всЄ временно ненужное в хоз€йстве и приобрести программку. Ќа этом мен€ и застал первый звонок, и €, не особо интересу€сь значащимис€ на моЄм билете цифрами после слов Ђложа амфитеатраї, отправилась пр€миком в партер, где скромно притулилась на краю у прохода в одном из р€дов в пределах первого дес€тка. ¬торой не заставил себ€ ждать, но моему перемещению мешала бабка-церберша, пытавша€с€ согнать какую-то блондинку с т€гучим прибалтийским акцентом с приставного стула, на который больше никто не претендовал. Ѕлондинка долго не сдавалась, но бабка, сколько ни отвлекалась, чтобы показать кому-нибудь его место или продать кому-нибудь программку, вс€кий раз упЄрто возвращалась к ней, и та, наконец, встала и ушла Ц но не своЄ место, на чЄм настаивала бабка, а на свободное в середине четвЄртого р€да. Ќо бабка успокоилась, переключившись на других пос€гающих на стуль€, и когда мен€ вежливо попросили с зан€того мною места, € смогла за еЄ спиной присоединитьс€ к блондинке, благо в том р€ду были ещЄ свободные места. ќднако ей не повезло Ц еЄ согнали, а € осталась Ц как обычно, при забитом народом зале с бельэтажем и двум€ €русами балкона Ц на все последующие два часа без антракта спектакл€ Ђ рошка ÷ахесї.
ѕостановка за€влена как буффонада, и все элементы таковой честно присутствуют: гротескные костюмы от гранжа до дель арте, песни, танцы, актЄрские перевоплощени€, юморЕ расиво, стильно, со вкусом, смешно Ц там, где и хот€т посмешить. Ќо почему-то все эти цирковые элементы кажутс€ пиром во врем€ чумы: удачно видоизменив некоторые сюжетные перипетии оригинального произведени€, создательница постановки вольно или невольно €рко подчеркнула то, что в самой социальной и потому всегда актуальной из своих фантастических повестей серьЄзный и печальный волшебник √офман, возможно, лучше прочих сумел предсказать сущность “ретьего рейха. ћожет, конечно, это просто мои личные загоны (а-л€ Ђя не фантазирую Ц € просто шизофреникї), однако даже и без этих ассоциаций просмотр спектакл€ оставл€ет значительно более т€гостные впечатлени€, нежели просто прочтение пьесы Ц в хорошем смысле этого слова. Ќа нЄм видишь, что когда с трибуны, захлЄбыва€сь слюной, обещает всем пива и сосисок, а заодно истреблени€ всех неполноценных, моральный урод с белокурыми локонами и интеллектом низшего примата, Ц это страшно. » что когда нища€ мать таскает своего ребЄнка-инвалида, толком не умеющего говорить, на верЄвке по €рмаркам, собира€ гроши себе и ему на пропитание, Ц это тоже страшно. ј особенно страшно Ц когда всплывает вопрос: что лучше? и ответа не находитс€: хэппи-энд бывает только в сказках, а жизнь заведомо несправедлива Ц Ђкак ни крутиї©. ƒаже извечный гофмановский резонЄр Ц отча€нно влюблЄнный меланхоличный студент-поэт, неподвластный злым чарам кумира толпы, Ц здесь слишком эгоистичен (Ђ’оть ты ему и мать, € всЄ равно его убьюї), так что невозможно поверить в то, что, свергнув старого кумира и став новым, он не поддастс€ тем же искушени€м и сам не превратитс€ в того дракона, которого уничтожил. ÷ентральные образы Ц собственно ÷ахеса (ƒерев€нко) и его матери (Ўубина) Ц получились до жути убедительными, и не только потому, что первый полспектакл€ проползал на колен€х в неудобном амплуа карлика: они играют на таком эмоциональном накале, если не сказать Ц надрыве, что кажетс€ Ц ещЄ немного, и заискрит без вс€кой пиротехники. Ётот ÷ахес Ц искренне ненавидит весь род человеческий, и у него есть на то вполне веские причины. Ёта фрау Ћиза Ц с акцентом и лексиконом неграмотной украинской посел€нки Ц подлинно трогательна и в своЄм недоумении, за что Ѕог послал ей такое наказание, и в своей непреодолимой материнской любви. ќт спектакл€ ждали политической сатиры на современность, пон€тной и злой, а неожиданно получили психологический трагифарс Ц поэтому, видимо, официальна€ критика и постаралась втоптать его в гр€зь. Ќасколько оправданно Ц судить не только мне, но и вам, поскольку € всем рекомендую моссоветского Ђ рошку ÷ахесаї по возможности посмотреть.
ѕосле спектакл€ € дотопала обратно до метро, доехала до родной ћолодЄги, нашла на остановке маршрутку, села в неЄ, подумала несколько секунд и вышла, отправившись до дома пешком вдоль дорог. “уман был такой же, как и утром, только подбиралс€ всЄ ближе со всех сторон и всЄ ниже опускалс€ сверху, дела€ картинку нечЄткой уже на рассто€нии полутора дес€тков метров, так что возникали непри€тные ощущени€ как от внезапно сильно ухудшившегос€ зрени€ и некоторой нехватки воздуха. азалось, что ещЄ немного, и туман сомкнЄт кольцо вплотную и в нЄм можно будет задохнутьс€, захлебнутьс€, как бела€ лошадь в представлении одного небезызвестного Єжика. ƒома же написание рецензии пор€дочно раст€нулось Ц ввиду многочисленных отвлекающих факторов у мен€ никак не получалось настроитьс€ на серьЄзный лад, и наконец, в районе трЄх часов ночи сделав вид, что легла спать, а на самом деле вернувшись за монитор, € вскоре пон€ла, что в принципе забыла про этот пост, и решила отложить его до следующего дн€. Ћегла спать € снова в половине шестого, встала снова во втором часу (снилось оп€ть много вс€кой вс€чины, зато проводили мен€ сны красивой панорамой ночного города с высоты этажа эдак двенадцатого, и в окнах отражались золотые сполохи, словно от неслышимого фейерверка, и звучал всеобъемлющий, как гром, колокольный звон множества невидимых церквей), дописала пост, и теперь мне предстоит провести подкравшийс€ незаметно последний день каникул. ¬ целом, они т€нулись дл€ мен€ долго, показались едва ли не целым мес€цем, но именно последние деньки, часы и минуты всегда имеют подлое обыкновение пролетать слишком быстро. ѕоэтому прощаюсь Ц скорее всего, уже до следующих выходных, дорогие мои)
ћетки: театр театры театр моссовета театр имени моссовета спектакли крошка цахес крошка цахес по прозванию циннобер рецензии сны |
ѕосмотрела "ќшибки одной ночи" и "Ќаших соседей ямада" |
ƒневник |
More ѕочтенный клан ямада Ц отец, мать, сын, дочь, бабушка и собака Ц предтеча всех комических мультсемейств, включа€ —импсонов: в рамках сюжета анимехи мы имеем серию коротких бытовых эпизодов, этаких рисованных анекдотов, построенных на особенност€х характера каждого из членов семьи. ћожет, это и не так смешно, как современные мультфильмы, зато по красоте рисовки Ђямадаї дадут сто очков вперЄд всем рейтинговым лидерам вечерней сетки канала 2х2 Ц не веритс€, что это первый мультфильм студии √ибли, выполненный в компьютерной графике: нарочито упрощЄнные персонажи и антуражи выполнены графически с м€гкой акварельной заливкой. ажетс€, что смотришь перелистывающиес€ черновики мастера-аниматора, где некоторые листы по большей части белые, а на некоторых, например, идЄт живописнейший дождь Ц и во многом благодар€ этой красоте Ђямадаї можно назвать шедевром, однозначно достойным просмотра. Ќо в числе достоинств этого аниме Ц ещЄ и при€тное чувство узнавани€ при виде двух Ђожившихї на экране общеизвестных шедевров €понской живописи (не буду говорить, каких), и иллюстрирование житейских ситуаций классикой €понской поэзии (да-да, все эти хокку, танка), и сочетание старческой мудрости и детских фантазий (второе служит видеор€дом к первому) Ц всЄ это создаЄт аппетитный национальный колорит и глубокий философский смысл: надо уметь ценить каждое, даже самое незначительное мгновение, и тогда можно будет справитьс€ с любыми трудност€ми.

More “еатр ћоссовета продолжил сегодн€ кормить мен€ на пару с ћалой Ѕронной Ђкомеди€миї сомнительного качества; нет, литературные заслуги ќливера √олдсмита € под сомнение не ставлю ни в коем случае, однако его небезызвестна€ пьеса ЂЌочь ошибок, или ”нижение паче гордостиї, бывша€ попул€рной в своЄм родном XVII веке, €вно немало устарела по меркам нынешнего дн€. јвторы постановки оной под названием Ђќшибки одной ночиї к тому же посчитали, что громоздкий авторский текст следует вывалить на сцену полностью и без изменений, и вот в результате мы имеем безбожно раст€нутый аж на три с лишним часа донельз€ банальный и предсказуемый сюжет, изобилующий всеми признаками академического драматического произведени€ Ц многочисленными репликами Ђв сторонуї, обращЄнными к залу монологами и диалогами в стиле Ђодин другого не слышитї. » сюжет этот в первом действии напрочь лишЄн интриги изначально Ц зритель узнаЄт, что молодому лондонскому джентльмену дом провинциального двор€нина, к чьей дочери он едет свататьс€, отрекомендовали как гостиницу, и уже не удивл€етс€, вид€, как обманутый герой обращаетс€ с хоз€ином дома как с простолюдином, а его дочь принимает за служанку, демонстриру€ завидную наглость вместо обещанной его отцом образцовой скромности. ак результат это первое действие не вызывает ничего, кроме искреннего недоумени€ и отча€нной зевоты, и даже такой закалЄнный человек, как €, заскучала на первых же минутах (даже Ђћужчины по выходнымї были веселее и энергичнее!), думала о своЄм и не знала, куда девать бегающий по сцене взгл€д; второе действие было покороче, чуть более динамичным и даже местами смешным, но неизбежный тотальный хэппи-энд всЄ равно не даЄт забыть, что тебе читают со сцены музейный экспонат, а не показывают жизнь реальных людей. Ќо не подумайте, будто пьеса √олдсмита настолько безнадЄжно заросла пылью Ц в ней есть черты, отличающие еЄ от шаблонных пьесок-современниц, не переживших п€тивековой театральной истории, например, развитие характеров персонажей; в общем, она ничем не хуже и не лучше отечественной классики типа Ќедоросл€, просто классику можно поставить хорошо, а можно поставить плохо. ќбвин€€ тем самым режиссуру, € снова не смею обвин€ть актЄрскую игру Ц как всегда, труппа старалась, их незатейливые персонажи, хоть сопереживани€ и не вызывали, получились вполне симпатичными, и особенно при€тно было смотреть на ¬алери€ —торожика в главной роли, чьЄ мастерство убедительно изображать харизматичных нервных героев € оценила по достоинству ещЄ в ЂЎуме за сценойї. ¬ общем, в репертуаре ћоссовета есть вещи на пор€док лучше Ђќшибокї, однако нельз€ не упом€нуть тот факт, что этот спектакль благополучно живЄт в этом самом репертуаре аж с 1994 года, что ещЄ раз подтверждает любовь публики к диетической пище духовной; если вы к таковой публике относитесь, советую заценить вышеописанное, если нет Ц то наоборот.

ѕосле спектакл€ € дотопала до ћа€ковской, доехала до ћолодЄги и только собралась было по привычке пилить домой вдоль дорог пешком, как увидела на остановке маршрутку и, перебежав шоссе в неположенном месте, уселась в салоне. ’оть и тронулась она только тогда, когда салон заполнилс€, и € была дома всего на какие-то минут п€ть раньше, чем если бы шла пешком, мелочь всЄ равно была при€тна€. “еперь же € прощаюсь, ибо завтра мне снова в театр)

More “еатр ћоссовета продолжил сегодн€ кормить мен€ на пару с ћалой Ѕронной Ђкомеди€миї сомнительного качества; нет, литературные заслуги ќливера √олдсмита € под сомнение не ставлю ни в коем случае, однако его небезызвестна€ пьеса ЂЌочь ошибок, или ”нижение паче гордостиї, бывша€ попул€рной в своЄм родном XVII веке, €вно немало устарела по меркам нынешнего дн€. јвторы постановки оной под названием Ђќшибки одной ночиї к тому же посчитали, что громоздкий авторский текст следует вывалить на сцену полностью и без изменений, и вот в результате мы имеем безбожно раст€нутый аж на три с лишним часа донельз€ банальный и предсказуемый сюжет, изобилующий всеми признаками академического драматического произведени€ Ц многочисленными репликами Ђв сторонуї, обращЄнными к залу монологами и диалогами в стиле Ђодин другого не слышитї. » сюжет этот в первом действии напрочь лишЄн интриги изначально Ц зритель узнаЄт, что молодому лондонскому джентльмену дом провинциального двор€нина, к чьей дочери он едет свататьс€, отрекомендовали как гостиницу, и уже не удивл€етс€, вид€, как обманутый герой обращаетс€ с хоз€ином дома как с простолюдином, а его дочь принимает за служанку, демонстриру€ завидную наглость вместо обещанной его отцом образцовой скромности. ак результат это первое действие не вызывает ничего, кроме искреннего недоумени€ и отча€нной зевоты, и даже такой закалЄнный человек, как €, заскучала на первых же минутах (даже Ђћужчины по выходнымї были веселее и энергичнее!), думала о своЄм и не знала, куда девать бегающий по сцене взгл€д; второе действие было покороче, чуть более динамичным и даже местами смешным, но неизбежный тотальный хэппи-энд всЄ равно не даЄт забыть, что тебе читают со сцены музейный экспонат, а не показывают жизнь реальных людей. Ќо не подумайте, будто пьеса √олдсмита настолько безнадЄжно заросла пылью Ц в ней есть черты, отличающие еЄ от шаблонных пьесок-современниц, не переживших п€тивековой театральной истории, например, развитие характеров персонажей; в общем, она ничем не хуже и не лучше отечественной классики типа Ќедоросл€, просто классику можно поставить хорошо, а можно поставить плохо. ќбвин€€ тем самым режиссуру, € снова не смею обвин€ть актЄрскую игру Ц как всегда, труппа старалась, их незатейливые персонажи, хоть сопереживани€ и не вызывали, получились вполне симпатичными, и особенно при€тно было смотреть на ¬алери€ —торожика в главной роли, чьЄ мастерство убедительно изображать харизматичных нервных героев € оценила по достоинству ещЄ в ЂЎуме за сценойї. ¬ общем, в репертуаре ћоссовета есть вещи на пор€док лучше Ђќшибокї, однако нельз€ не упом€нуть тот факт, что этот спектакль благополучно живЄт в этом самом репертуаре аж с 1994 года, что ещЄ раз подтверждает любовь публики к диетической пище духовной; если вы к таковой публике относитесь, советую заценить вышеописанное, если нет Ц то наоборот.

ѕосле спектакл€ € дотопала до ћа€ковской, доехала до ћолодЄги и только собралась было по привычке пилить домой вдоль дорог пешком, как увидела на остановке маршрутку и, перебежав шоссе в неположенном месте, уселась в салоне. ’оть и тронулась она только тогда, когда салон заполнилс€, и € была дома всего на какие-то минут п€ть раньше, чем если бы шла пешком, мелочь всЄ равно была при€тна€. “еперь же € прощаюсь, ибо завтра мне снова в театр)
ѕосмотрела "ћужчин по выходным" в ћоссовета +бредовый сон |
ƒневник |

ѕосле того, как € давеча в привычное дл€ себ€ послеполуночное врем€ уползла спать, мне приснилс€ редкостный бред, который €, хоть он и был урывочным донельз€, таки законспектирую дл€-ради потом вспомнить и поржать. ¬ этом сне € за€вилась на день рождени€ к TROOPERТу и припЄрла в торбе в качестве подаркаЕ большого плюшевого Ћос€ша (дл€ непосв€щЄнных Ц —мешарик такой, типа лось). ѕо огромной квартире с множеством переход€щих одна в другую комнат бродили незнакомые мне труЄвого вида личности, при том и не гор€щие желанием со мной познакомитьс€ Ц в одной комнате разгл€дывали коллекцию старых олов€нных солдатиков на полке, € тоже погл€дела, в другой смотрели телевизор с большим экраном, дальше € не стала забиратьс€, чтобы не заблудитьс€. ¬ернувшись в прихожую проведать свою торбу с подарком, € наткнулась непосредственно на самого именинникаЕ с мопсом, который злобно на мен€ зарычал, так что пришлось хоз€ину присесть и придержать негостеприимное животное. ѕосле того, как € высказала своЄ умиление мопсом и выслушала что-то о том, как давно он уже живЄт у TROOPERТа, сон прервалс€, а когда возобновилс€, мне уже таки удалось покорешить с наиболее адекватным из гостей, молодым кучер€вым существом, и мы вместе с остальными гост€ми вышли из квартиры на улицу и оказались на площади между ныне открытым вестибюлем моей родной станции метро и рынком, причЄм поздно вечером. учер€вый что-то говорил о том, что праздник продолжитс€ в каком-то клубе, но что приглашений туда хватит не на всех и поэтому он лучше пойдЄт домой; € пон€ти€ не имела, будет ли приглашение на мен€, мне не хотелось ни уйти домой и пропустить тусовку, ни прийти вместе со всеми в клуб и оказатьс€ за дверью (при том, что по обрывкам фраз, донос€щихс€ от остальных гостей, мне начало казатьс€, что это какой-то гей-клуб). ѕосле т€жких раздумий € решила всЄ-таки подождать уточнени€ информации о планах на дальнейшую ночь и осталась, скучившись вместе с остальными на входе с площади во дворы; неожиданно по€вилась ƒаша, котора€ ¬асильева, € была немного удивлена и весьма рада еЄ видеть, а вы€снив, что она тоже собираетс€ в клуб, успокоилась окончательно (логика сработала следующим образом: раз уж на ƒашу хватит приглашени€, то, значит, и на мен€ тоже). огда € открыла торбу показать ей свой подарок, там у мен€ оказалась больша€ пачка кукурузных палочек, € начала их жрать и всех угощать ими, и обстановка сразу стала на пор€док дружелюбнее и душевнее; в процессе поедани€ мы докопались до небольшой плюшевой саблезубой белки из Ћедникового периода, видимо, прилагавшейс€ к пачке в качестве сюрприза, € за€вила, что намерена оставить еЄ себе, и на этом сон закончилс€ окончательно. ѕроснувшись Ц несложно догадатьс€ Ц к обеду, € снова едва успела дострадать ерундой до вечера и, соблюда€ очерЄдность, поехала на ћа€ковскую, в театр ћоссовета. упив программку, € подн€лась к себе в амфитеатр, притулилась на своЄм всЄ том же никуда не годном месте и прин€лась терпеливо ждать третьего звонка, однако уже со вторым администраторша начала сгон€ть людей вниз, и € поспешила в партер, где благополучно зан€ла свободное место в середине второго р€да и не была оттуда согнана, хоть все остальные свободные места вокруг мен€ оказались вскоре зан€тыми. —тоит ли добавл€ть, что дальнейшие два часа без антракта за 150 рублей € видела и слышала всЄ лучше некуда?..
Ђћужчины по выходнымї - почему-то весьма попул€рна€ дл€ театральной сцены пьеса Ц оказалась комедией местами грустной (давит на социальную жалость), местами смешной, но по большей части скучной, ибо сюжет предсказуем и банален. ¬ нЄм трое пожилых интеллигентов от безденежь€ подр€жаютс€ оказывать женщинам различные услуги от музеев и аттракционов до секса, но как только за€вл€ютс€ к первым клиенткам, оказываютс€ €вно неспособными на последнее. “ам же они попадают в окружение бандитов, но догадываютс€ вызвать ментов только тогда, когда приспичило сбегать до валютного обменника, а до прибыти€ стражей пор€дка вовсю крут€т романы Ц естественно, с хэппи-ендом (видимо, выража€сь словами из приснопам€тного третьего Ћедникового периода, девушки оказались Ђбез претензий, без вариантовї). “о, что всЄ закончитс€ именно так, было пон€тно в самом начале, но специально дл€ пессимистов перед началом сюжета в спектакле был предусмотрен эпиграф в виде пантомимы под ћорриконе в стиле ƒикого «апада, дабы ни у кого не оставалось сомнений в том, что полвека размен€вшие инженеры могут быть мачо не хуже „ака Ќорриса, чей большой круглый портрет периодически вставал за окном во врем€ спектакл€ вместо солнца. ¬прочем, недостатки драматургии € не собираюсь ставить в вину режиссЄрам и тем паче актЄрам: труппа ћоссовета старалась, как всегда, честно изобража€ своих незамысловатых героев максимально душевными Ц чтобы в них влюбл€лись бабушки, воспитанные на телесериалах о вечных семейных ценност€х домостроевского пошиба. Ћюбител€м качественно поставленных (сей спектакль Ц семилетней выдержки, и дурных отзывов о нЄм не сыщешь) бытовых сказок рекомендуетс€, любител€м всех прочих жанров лучше выбрать что-нибудь другое, благо у ћоссовета есть спектакли на любой вкус.
ѕосле спектакл€ € дотопала от театра до метро, доехала до родной ћолодЄги и ничтоже сумн€шес€ набрала в “рамплине полную торбу еды (свершилось чудо Ц € нашла съедобный мармелад, то есть на пектине и агар-агаре, а не желатине! » очень вкусный!), понаде€вшись на маршрутки, которые Ц € не раз уже видела, когда ходила пешком в периоды безденежь€ Ц теоретически должны по выходным ходить допоздна. ќднако закон подлости действует безотказно: на остановке маршрутки не было; помЄрзнув там энное количество времени, пока не кончилась купленна€ с целью ум€ть по дороге до дома пачка сушек-пивнушек, € дотащилась до автобусной остановки, где после ещЄ некоторого ожидани€ (в общей сложности потратила добрые полчаса, пешком бы дошла быстрее, зарекаюсь вечерами ждать транспорта, даже с т€жЄлой торбой) автобус пришЄл и отвЄз мен€ домой. «автра Ц да-да, несложно догадатьс€ Ц мне снова в театр, сейчас Ц естественно, снова спать, надо же и этим общественным делом тоже иногда заниматьс€. јвось оп€ть что приснитс€ :D
ћетки: театр театры театр моссовета театр имени моссовета спектакли мужчины по выходным рецензии сны осознанные сновидени€ |
ѕосмотрела "Ўум за сценой" |
ƒневник |

—егодн€шн€€ ночь оказалась дл€ сна непригодной: попробуй тут засни, когда в окно бессовестно п€литс€ бледна€ полна€ луна!.. ѕришлось под Ќаше радио наблюдать за еЄ медленным передвижением по небу, сначала чЄрному и звЄздному, затем начавшему светлеть от горизонта, и по мере того, как светлело небо, желтела и как-то тер€ла своЄ величие луна. —ловно стесн€€сь, она добралась до кра€ крыши высокого дома по диагонали от него, начала пр€татьс€ за угол Ц вот чуть-чуть, вот уже наполовину, не успеешь опустить взгл€д на секунду Ц виден только краешек, и на глазах и этот краешек исчез, осталс€ только свет, как будто это угол светитс€, но потом и он раста€л. ѕогас фонарь, защебетали птицы, окончательно рассвело, под окнами стали по€вл€тьс€ люди и автомобили, и в районе шести часов € ушла спать, проспала до обеда, прострадала ерундой до вечера, а вечером уехала, как обычно. ѕланировала доехать пораньше, поболтатьс€ на свежем воздухе, однако вместо этого поболталась на автобусной остановке в ожидании маршрутки, котора€ домчала мен€ до метро, а на метро € добралась до ћа€ковской и соответственно до театра ћоссовета в саду јквариум как раз за полчаса до начала спектакл€. упив программку, € как раз успела прочитать еЄ до первого звонка, подн€лась в амфитеатр, заценила своЄ законное место Ц левый край нависшей над партером дуги, третий р€д, видна ровно половина сцены, но оставатьс€ € там не собиралась, посему смиренно сидела до второго звонка. —о вторым звонком € переместилась в первый р€д поближе к серЄдке, облокотилась на бордюр - оттуда сцена уже была отлично видна, но так же отлично было видно и то, что в первых р€дах партера зи€ют свободные места, и с третьим звонком € рискнула покинуть амфитеатр, выскочить в холл и Ц тЄтка-администраторша, вредность которой мне была уже известна, как раз куда-то отошла Ц проникнуть в партер. Ќепосредственно в партере уже нельз€ было сказать, чтобы он был пуст, скорее уж Ц что он был полон, но местечко с самого краю, зато самого первого р€да, мне таки удалось зан€ть на весь спектакль Ц за 150 рублей, отданные мною за свой билет, о лучшем и мечтать грешно, тем паче что по ћоссовету € давно уже соскучилась.
—разу скажу, не скуп€сь на выражени€: ЂЎум за сценойї оказалс€ замечательной комедией, превзошедшей даже все мои завышенные (как-никак ћоссовет умеет ставить хорошо) ожидани€. Ќа сцене театраЕ сцена театра, режиссЄр Ц в зале, актЄрска€ труппа за несколько часов до премьеры репетирует бездарную пьеску, призванную в первую очередь прорекламировать спонсора Ц производител€ консервированных сардин. аждый герой этого уже периодически вызывающего смех действа вскоре после своего по€влени€ показывает себ€ €ркой, оригинальной, убедительной и запоминающейс€ личностью, в той или иной степени комической, но не карикатурной. ¬торой акт Ц и сцена поворачиваетс€ к зрителю, то есть к нам, своей изнанкой, ещЄ смешнее демонстрирующей т€жкую актЄрскую и режиссЄрскую долю: междоусобицы на почве самых разнообразных отношений в коллективе напр€мую вли€ют на показ того самого злополучного спектакл€ про сардины очередной провинциальной публике. », наконец, апогей Ц сцена снова превращаетс€ в сцену, и мы видим то, во что превращаетс€ шаблонна€ пьеска благодар€ взаимным подвохам, тотальному пофигизму одних и отча€нным старани€м других всЄ спастиЕ несложно догадатьс€, что она превращаетс€ в угарнейший фарс, над которым ржЄшь уже не перестава€. –жЄшь до слЄз, до рези в боках, а театральный беспредел беспощадно подкидывает всЄ новые и новые неожиданные повороты, ни на секунду не позвол€€ расслабитьс€ Ц остаЄтс€ только удивл€тьс€ завидному чувству юмора автора комедии, не той, конечно, где про сардины, а той, котора€ ЂЎум за сценойї. ¬ числе прочих примечательных качеств сегодн€шнего спектакл€ (ну, вы, € надеюсь, пон€ли, какого именно) Ц замечательна€ актЄрска€ игра (особенно порадовала харизма дуэта ¬алерий —торожик Ц режиссЄр Ћлойд и ћарина ондратьева Ц его помощница ѕоппи), свойственна€ ћоссовету мобильность декораций, удачные костюмы. ¬ общем и целом Ц вещь однозначно достойна€ просмотра, особенно дл€ считающих, будто устать от смеха невозможно и что вообще в современном театре качественного юмора не осталось. ќбильна€ порци€ хорошего настроени€ будет обеспечена)
ѕосле почти трЄхчасового спектакл€ € вышла в сад јквариум, чьи фонтаны уже красиво подсвечивались, и дотопала до метро, откуда доехала до родной ћолодЄги и была там встречена и привезена домой папой. ƒома € со скрипом накатала всЄ вышеизложенное (запретите мне кто-нибудь включать инет прежде, чем закончу рецензию Ц писать еЄ одновременно с трем€ форумами очень непросто), а завтра мне снова в театр Ц прощаюсь до новых новостей)
ћетки: театр театры театр моссовета театр имени моссовета спектакли шум за сценой рецензии |
ѕосмотрела "—транную историю доктора ƒжекила и мистера ’айда" |
ƒневник |

—егодн€ € вполне осознанно проспала, как всегда, физру и совершенно неча€нно немного опоздала на ќЅ∆, но успела написать (читай Ц скатать с тетради) контру. “ем же методом была накатана теоретическа€ часть последовавшей за ќЅ∆ контрой по шизике, и € даже решила полторы из трЄх задач практической части (полторы, потому что времени уже не хватило). »ќ не было, что было чертовски при€тно, и поскольку времени было ещЄ мало, мы с јсей и ћарусей опосл€ уроков пошли погул€ть: пересекли ÷ветной бульвар и пошли по ѕоследнему (он действительно так называетс€) переулку и по соседним с ним переулкам и дворам. ¬ одном дворе запалили скульптуру, изображающую мужика, бабу и ребЄнка, которому кто-то успел продавить щЄку и грудь, и зависли там: ћарус€ качалась на качел€х, которые на столбах туда-сюда, а мы с јсей Ц на качел€х, которые на перекладине вверх-вниз (да, € умею объ€сн€ть). ¬ другом дворе запалили страшное дерев€нное идолище Ц кричащими красками расписанный чурбак с нарисованной звериной мордой (вы€снилось, со стороны спины у него вырезаны лапы и кусок прежней морды, а поскольку другой кусок отвалилс€, идолищу и нарисовали новую морду на спине). ћарус€ встала за спиной идолища, пригнувшись и уткнувшись ему в бывшую морду, € встала за ћарусей, уткнувшись ей в затылок, и мы изобразили идолищу четыре руки, а јс€ нас фотографировала; на заднем плане фотографии виднелс€ выход€щий из машины д€д€, согнувшийс€ от ржача (он видел нас с ћарусей со спины). ¬ышли на —ретенку, зашли в тамошний ƒом книги, стали бродить (изначально в поисках какой-то географии, но еЄ там не оказалось) и листать книжки; сперва € пропалила книжку Ђћужчины и их собакиї, где по породе собаки определ€лс€ характер еЄ владельца (при том, что большинство мужчин, кого € знаю, держат кошек, а большинство женщин Ц собак, а не наоборот) Ц в разделе про владельцев мопсов было написано очень похоже на ƒениса. ѕотом јс€ (ей в последнее врем€ везЄт на псевдо€зыческую макулатуру) откопала книжонку с €кобы Ђ¬едамиї, где мы увидели в оглавлении сказку Ђ¬елес и јс€ «вездовнаї и постебались над јсей. Ќо сама сказка оказалась и того круче: в первом же абзаце сообщалось, что си€ јс€ Ц дочь купца —адко, который очень любил ¬елеса и везде ему строил храмы (уже бред, да?), а далее сюжет подчистую передиралс€ с Ђјленького цветочкаї (при этом јс€ и ¬елес исполн€ли в ней роли расавицы и „удовища соответственно). Ќапоследок мы пропалили ещЄ книжку Ђ айф на колЄсахї (об автомобил€х, а вы о чЄм подумали?), погыгыкали над принтами советских плакатов и вышли Ц јс€ пошла домой в одну сторону, а мы с ћарусей в другую, к ÷ветному. ѕеребежали дорогу, перелезли через бульварную ограду, спустились в подземку на “рубной, перешли на ÷ветной и разъехались по домам. ¬ыбравшись на поверхность на родной ћолодЄге, € приметила обеих ƒаш (”шастую да ¬орону) с остей, обратила на себ€ внимание воплем ЂЋюююдиииї, и мы с девчонками надолго образовали обнимающийс€ комок. ѕотом посто€ли, потрепались, и ƒаша поехала гул€ть на кладбище, ”шаста€ с остей пошли гул€ть в местных пенатах, а € поехала домой Ц чтобы спуст€ некоторое врем€ выйти на свежий воздух снова и направитьс€ на ћа€ковскую, в театр ћоссовета. огда позади осталс€ гардероб, куплена и изучена была программка, € подн€лась на балкон, куда ещЄ ни разу прежде не забиралась в этом театре, почитала книжку в полумраке до первого звонка, жалко продребезжавшего над входом в зал, и проследовала на своЄ место Ц крайнее в первом р€ду одной из серединных лож; мне там никто ничего не загораживал и слышно всЄ было отлично, но поскольку место это оказалось высоковато, через глазок бинокл€ видно было лучше, так что все почти три с половиной часа спектакл€ € от него практически не отрывалась. ¬прочем, Ђ—транна€ истори€ доктора ƒжекила и мистера ’айдаї - не просто спектакль, а мюзикл, очередное детище Ѕродве€, перевоспитанное в степ€х российских.
ќднако же мюзиклами €, кажетс€, уже наелась: пам€ту€ ћонте ристо, € нашла между ним и —транной историей несколько сходств, отнюдь не говор€щих в их пользу и в первую очередь в пользу последней. ѕостановку, пусть и эстрадную, загадочного романа —тивенсона о добродетельном ƒжекиле, мечтающем спасти человечество, и хладнокровном убийце ’айде, одержимом местью, не поделивших одно тело на двоих, хотелось бы видеть более мрачной, готичной, мистической, хотелось бы, оказавшись на месте еЄ создателей, острее передать страх, расползающийс€ по гниющему изнутри светскому обществу Ћондона, по€рче сыграть на контрастах, лежащих краеугольным камнем в этом блест€щем произведении. Ќо желаемое редко становитс€ действительным: толпа великовозрастных развратников не нагнетает атмосферу, а бестолково мельтешит в качестве фона дл€ главных героев и танцевальной группы; эпиграф в виде начала маскарада (сходство номер раз) и эпилог в виде нелепого морализаторства против наркотиков и против новаторства заодно (обидно за революционера от науки ƒжекила, который, суд€ по таким выводам, зр€ старалс€ дл€ неблагодарных соплеменников) также несколько покоробили. ѕрибавить к этому акценты на любовных лини€х, музыку, во многом уступающую ещЄ одному мюзиклу ћоссовета Ц »исусу ’ристу, паршивенько переведЄнное либретто (в текст лучше особо не вслушиватьс€) Ц и мы имеем ещЄ три сходства, а вам, наверное, уже и не хочетс€ дочитывать рецензию и вообще идти на —транную историю. Ќо почему же тогда, позвольте у вас спросить, € и доныне пребываю в весьма приподн€том настроении и во врем€ аплодисментов едва ладони не отбила? ¬сЄ дело, пожалуй, в первую очередь в одном-единственном человеке, который вместо вс€ческих реверансов снова, как и год назад на моей пам€ти в роли —ирано де Ѕержерака, отсалютовал залу подн€тыми вверх Ђкозамиї. “е, кто тогдашнюю рецензию читал (присутствие таковых, впрочем, маловеро€тно), уже могли догадатьс€, что и ƒжекила, и ’айда играл јлександр ƒомогаров Ц актЄр талантливый, харизматичный, убедительный. »грал, перевоплоща€сь из одного своего персонажа в его альтер эго в считанные секунды и пренебрега€ при этом переодевани€ми, гримом и прочими уловками: неуловимое движение Ц и благообразного джентльмена ƒжекила с пр€мым станом и ровным голосом смен€ет брутальный невротик ’айд с движени€ми хищного звер€, хриплым и грубым голосом, скрытым под длинными волосами лицом. Ёти двое при этом Ц действительно разные, как день и ночь, и сыграть, а главное Ц спеть их обоих наверн€ка трудновыполнима€ задача, но ƒомогаров справилс€ с ней безупречно, благодар€ чему не только осталс€ в п€тЄрке моих любимых актЄров, но и начал претендовать на первое место среди таковых. ”читыва€, что именно ’айду Ђперепадалиї сама€ труЄва€ музыка, освещение и спецэффекты (тут € имею в виду чертовски приласкавшие глаз насто€щие €зыки пламени), сцены с его непосредственным участием стали настолько запоминающимис€, что, на мой взгл€д, ради них стоит сходить на —транную историю всем ценител€м насто€щего музыкального шоу, вне зависимости от их отношени€ к жанру мюзикла (одно только убийство епископа чего стоило Ц мне так и казалось, что ƒомогаров вот-вот зар€дит арийское: Ђ»м€ мне јнтихристЕї, но этого так и не произошло). ≈сли же вам мало этих аргументов и нужно ещЄ, то их есть у мен€: все прочие актЄры вполне умеют петь, а играть так и тем более, декорации, как всегда у ћоссовета (не счита€ табуны велосипедов из ”чител€ танцев), сто€т вс€ческих похвал, и уже упом€нутый мною свет невозможно переоценить, а что особенно порадовало из мелочей (что удивительно при моЄм обычно щепетильном отношении к букве классиков) Ц так это изменение концовки, отчего она прибавила в драматизме (а она и у —тивенсона, как известно, вполне трагична). ќкончательного вердикта не выношу, ибо он становитс€ пон€тен из всего вышесказанного, и надеюсь на новые встречи с хорошими спектакл€ми (хочетс€ верить, что таковыми окажутс€ все ещЄ мною не посмотренные тамошние спектакли) в целом ћоссовета и его же превосходными актЄрами в частности)
ѕосле спектакл€ в метро было вполне людно Ц видимо, в честь очередной Ќочи музеев; какое-то бухое в хлам существо лет тринадцати альтернативчатого вида попыталось приклеитьс€ на эскалаторе, было проигнорировано и отстало. јвтобус довЄз мен€ от метро до дома, и вот € сижу со ждущими мен€ непропаленными лентами, без каких бы то ни было планов на завтра, но с твЄрдым намерением не просидеть дома весь выходной. —покойной ночи всем)
ћетки: театр театры театр моссовета театр имени моссовета спектакли мюзиклы странна€ истори€ доктора джекила и мистера хайда рецензии прогулки |
ѕосмотрела "”чител€ танцев" |
ƒневник |

ƒавеча, опосл€ написани€ рецензии, легла € несколько позже обычного и посему отрубилась сразу и накрепко, так что даже приснилось мне нечто худо-бедно вразумительное Ц впрочем, как в большинстве случаев, про лошадей. ѕомню, как в этом сне € оказалась где-то вроде ранчо и на что-то отвлеклась, пока остальные приехавшие расхватали лошадей; кто-то спросил мен€, на ком же € поеду, и тут € увидела солового кон€, могучего, как бык, которого вело несколько человек, а он рвалс€ с верЄвок. я направилась пр€миком к нему навстречу, и когда оказалась практически вплотную, он вдруг взвилс€ на дыбы пр€мо передо мной; люди отскочили, на мгновение перед моими глазами встала конска€ грудь, кто-то что-то закричал не то на него, не то на мен€, не то просто от неожиданности. Ќо два увесистых копыта опустилось по обеим сторонам от мен€, даже не задев, и €, спокойно объ€снив свидетел€м, что только таким образом можно доказать коню, что не боишьс€ его, взобралась верхом. ажетс€, у кон€ не было даже верЄвки на шее, Ц моего обычного средства управлени€ животными в сновидени€х, Ц но он слушалс€ мен€ беспрекословно, крупной рысью дав несколько кругов по площадке; на этом славном моменте € и проснулась и с трудом встала дл€ нового учебного дн€. ј день, видимо, ввиду резкой смены погоды с блистающей жары на пасмурную прохладу, выдалс€ сонливый, голова побаливала с самого утра, и € не только дремала на переменах вместо того, чтобы читать, но и на парах нередко не могла удержать веки от предательского слипани€. Ётому способствовало отсутствие исторички на трЄх четверт€х пары, зато на латыни € умудрилась получить первую в текущем полугодии четвЄрку за диктант в стабильной череде троек, а олимпиада по праву окончательно вынесла остатки мозга. ѕланы мои на сегодн€шний день сложились так, что после лице€ заезжать домой на какие-то полчаса было бы глупо, посему сразу с итай-города € поехала на ћа€ковскую, где и оказалась примерно за пару часов до начала сеанса в находившемс€ там театре ћоссовета. Ќеобходимо было где-нибудь скоротать врем€, а именно Ц посидеть пообедать, и € отправилась куда глаза гл€д€т, то есть всЄ пр€мо и пр€мо, в поисках приемлемого местечка; но попадались всЄ только дорогие рестораны, да офе-’аос с ошколадницей, которые не могли предложить мне ничего съедобного, и таким макаром € остановилась лишь тогда, когда увидела на противоположной стороне шоссе вход на территорию детского зоопарка. ѕерейд€ дорогу, € двинулась обратно по противоположной стороне, пока не набрела на кафе, расположенное пр€мо в помещении супермаркета, которое всЄ было раздражающих малиново-чЄрных цветов внутри; пометалась в поисках меню, нервно погыгыкала над ценами, когда мне его подали, от нечего делать обошла супермаркет да потопала дальше. ¬ итоге € вернулась к метро и сунулась к кафе, которое было пр€мо напротив него (просто в начале пути мне было впадлу переходить дорогу, а позже упЄртость не позвол€ла мне повернуть назад с полпути); заведение сие называлось Ђ—ели-ѕоелиї с подзаголовком Ђќччен афказї. »зучив демократичное меню на входе, € выбрала какой-то овощной салат, прошлась через первый зал, потом через зону самообслуживани€, где мне на первый взгл€д ничего не пригл€нулось, и € вернулась в зал; но там мен€ просветили, что все места зан€ты и что если € хочу поесть по меню, то мне надо идти в зал внизу, но он был закрыт, и мне пришлось получше присмотретьс€ к Ђшведскому столуї. “ам € вскоре присвоила порцию жареной чесночной картошки с горчицей и кисель Ђтрезвое €блокої (в пику Ђпь€ной грушеї) на десерт, что не стоило мне и двухсот рублей; картошка оказалась вкусной, горчица Ц убойно-€дрЄной, €блоки Ц всЄ-таки, кажетс€, немного подшофе, а всем вместе удалось аппетитно и сытно подкрепитьс€ в при€тном полумраке под качественные зарубежные медл€ки (включа€ оные из репертуара U2). ќттуда €, от непривычно плотной трапезы засыпа€ ещЄ отча€нней, перебежала (ибо становилось всЄ холодней) в театр, и, скуча€ в предбаннике, € возьми да купи билет Ц на единственную незан€тую в мае субботу, именно на тот спектакль, который давно хотела посмотреть (это называетс€ ЂвезЄт и как этим пользоватьс€ї). Ќаконец, двери театра распахнулись, и € смогла избавитьс€ от куртки, купить программку и изучить еЄ, подн€тьс€ на бельэтаж и немного вздремнуть, пока с первым звонком мен€ не впустили в зал. ћоЄ место теперь, на Ђ”чителе танцевї, было таким же, как и в прошлый раз, на Ђ»исусе ’ристе Ц суперзвездеї: крайнее во втором р€ду одной из средних лож бельэтажа, откуда, несмотр€ на пугающие координаты, было отлично видно и слышно все последующие два часа с сорока минутами спектакл€; правда, € после третьего звонка хотела было пересесть на первый р€д бельэтажа, однако турнули, и пришлось возвращатьс€. ѕостепенно, наблюда€ происход€щее на сцене, € просыпалась, пока не проснулась окончательно от заставившего мен€ вздрогнуть от неожиданности первого удара барабанов во втором отделении Ц впрочем, обо всЄм по пор€дку.
—разу скажу: у мен€ нет никаких претензий к актЄрам. ¬се они были на своих местах, играли замечательно, и их великолепные танцы созерцать чрезвычайно отрадно. «ато к постановщикам спектакл€ претензии есть, и немало: зачем писать на программке ЂЋопе де ¬егаї, когда спектакль Ц только по мотивам Ћопе де ¬ега? ƒа-да, от великого драматурга в нЄм осталс€, по сути, только сюжет: прекрасные стихи прославленного испанца звучат лишь во втором действии, да и то не во всЄм, к тому же иногда звучат так, что лучше бы и вообще не звучали Ц текст безбожно изменЄн и тем самым во многом огрублЄн, чтение реплик Ђот автораї настолько упрощает интригу, что у неЄ по€вл€етс€ мыльный привкус телевизионной мелодрамы. ѕервое же действие прозвучало исключительно тривиальной прозой, и то, что еЄ немала€ дол€ ушла на юмор, местами вполне качественный, если и оправдывает такой постановочный ход, то лишь в малой доле, простите за каламбур; исчезновение же из пьесы роли –икаредо (он же –икардо в других переводах) и переименование “ельо в ’улио вообще ничем зримо не обоснованы. ¬о-вторых, когда јльдемаро одет солдатом с золотистым орлом на груди, двор€нские дочери щегол€ют в простеньких платьицах, а пиджачок и кепочка “ельо-’улио так и вообще живо напоминают Ћенина, на сцене создаЄтс€ атмосфера отнюдь не »спании XVII века, несмотр€ на вышеупом€нутые танцы и не менее вдохновл€ющую музыку, а –оссии 40-х годов прошлого столети€. » €, конечно, понимаю, что велосипед Ц наиболее распространЄнный на театральных подмостках вид транспорта (одна только € могу из спортивного интереса припомнить добрую полудюжину спектаклей, в которых он был задействован), но в этом Ђ”чителеї железные кони езд€т табунами, что начинает утомл€ть с первых же сцен. «а что его создател€м спасибо, помимо вышеупом€нутого актЄрского мастерства, так это за декорации и за свет; впрочем, те, кому за классика не обидно, увид€т в спектакле добротно сделанную комедию, весЄлую и зажигательную, и будут тоже правы. «асим ставлю данному Ђ”чителюї компромиссную четвЄрку, инициативу всех заинтересовавшихс€ ознакомитьс€ с ним всецело приветствую и жду нового свидани€ с ћоссоветом.
„ерез всЄ ту же “реть€ковскую доехала € до родной ћолодЄги, где подхватил мен€ на машине папа и подбросил до дома. » вот точн€к в полночь закончила € вышеизложенную рецензию, дабы торжественно вступить в трЄхдневные выходные. ƒо скорых новостей)
ћетки: театр театры театр моссовета театр имени моссовета спектакли учитель танцев рецензии кафе кафе сели-поели сели-поели |
ѕосмотрела "»исус ’ристос - суперзвезда" |
ƒневник |
¬ернувшись сегодн€ со школы домой пораньше, € вполне успела и уроки на понед сделать, и ерундой пострадать, и воврем€ из этого самого дома снова выйти. ѕуть лежал на ћа€ковскую, в театр ћоссовета, в котором € с прошлого театрального сезона не была и по которому успела чертовски соскучитьс€. ¬спомнив дорогу, € неспеша дотопала до парка, в котором ещЄ не работали фонтаны, вошла в театр, подыскала себе гардероб, купила программку, подн€лась на бельэтаж. ћо€ п€та€ ложа, о местоположении которой € могла только строить мрачные прогнозы, была пока закрыта, и € посидела возле неЄ, чита€ книжку, до первого звонка. огда мен€ впустили в зал, ожидани€ оказатьс€ в самой заднице не оправдались: второй р€д ложи был, по сути дела, не более чем четвЄртым р€дом бельэтажа, а хорошее возвышение между р€дами и расположение моей ложи пр€мо посерЄдке этажа делали моЄ место вполне удобным дл€ обзора. ј также удобным дл€ отступлени€, ибо оно было с самого краю; и после второго звонка € переместилась в самую серЄдку первого р€да бельэтажа, откуда мен€ согнал в антракте опоздавшие на первое действие законные его обладатель. я вернулась на своЄ место, но и на него нашлась претендентка, попытавша€с€ было с выражением праведного гнева за€вить, что это еЄ место; € еЄ вежливо послала, но она вернулась с разгневанной бабкой-надзирательницей, потребовавшей у мен€ мой билет, да ещЄ и Ђбыстрої. я показала ей билет, объ€снила, где была на первом отделении и почему вернулась, и бабка, нехот€ признав мою правоту, проводила обломившуюс€ тЄтю на еЄ место Ц в самую крайнюю ложу. ¬торое действие € видела и слышала не хуже первого, только немного мешал луч прожектора, находившегос€ пр€мо между срединными ложами над головами зрителей. ј смотрела € русскую постановку несомненного бродвейского шедевра Ц рок-оперы Ђ»исус ’ристос Ц суперзвездаї.
“олько гений Ёндрю-Ћлойда ”эббера мог выдумать такое: частично передать в виде зажигательного мюзикла Ќовый «авет, пожалуй, самое читаемое литературное произведение на планете. ѕередать смело, злободневно и талантливо, не утер€в в новаторском запале набора основных вопросов, которые каждый так или иначе задаЄт себе, посмотрев на героев библейских мифов не как на сказочных персонажей, а как на живых людей со своими чувствами и страст€ми, мечтами и сомнени€ми Ц так, как и должно на них смотреть. ≈го »исус Ц кумир неформального вида брод€г и шлюх, будущих апостолов, слепо вер€щих в его могущество, увлекающих его покор€ть »ерусалим и готовых тащить и дальше, до самого –има. ≈го »уда боитс€ забвени€ и мечтает о такой же славе, но вынужден проз€бать в его тени и от обиды совершает страшную ошибку. ќба этих персонажа Ц и непон€тый пророк, и запутавшийс€ ученик Ц чертовски привлекательны каждый по-своему, хоть и €вл€ютс€ двум€ абсолютными противоположност€ми, оттен€ющими и дополн€ющими друг друга. —ыграть их роли €рко и убедительно сумеет не каждый Ц дл€ этого нужна неверо€тна€ экспресси€, выкладка на пределе нат€жени€ нервов, но и то, и другое € увидела в достатке у актЄров ћоссовета Ц ѕанферова (харизматичный ’ристос) и яременко (брутальный »скариот), а так же у лимовой (ћари€ ћагдалина). ќстальные актЄры немногим уступают им в производимом впечатлении, к тому же нельз€ не отметить, что все без исключени€ вокалы (особенно у троих вышеперечисленных главных героев) на самом высшем уровне (чего не скажешь, например, о сугубо эстрадном Ђћонте ристої). ƒобавим мощную музыку, динамичную хореографию, великолепные декорации, отличный свет, хорошее либретто и множество удачных символических находок Ц и получитс€ спектакль, держащий зрител€ в неослабевающем напр€жении: ты притопываешь ногой и покачиваешь головой в такт очередной т€жЄлой песни, и при этом кажущемс€ веселье ощущаешь всем существом не меньшую безжалостную драматичность, чем при просмотре Ђ—трастей ’ристовыхї ћела √ибсона. »бо если в первом отделении вокруг ’риста роилось нечто вроде хипповской коммуны, то во втором Ц это уже извечна€ людска€ масса, разочарованна€ тем, что не дождалась чудес, и озверело требующа€ крови. ‘инал известен всем: ѕилат уступает толпе, уставший бунтарь приносит ей свою жертву, стабильности режима больше ничто не угрожает, законопослушные граждане снова радуютс€ своему иллюзорно свободному существованию. ј что же »исус? онечно же, воскрес вопреки вс€кому здравому смыслу, снова пожимает руку лучшему другу, предавшему его, снова обнимает любимую девушку, желавшую прин€ть его муки вместо него, садитс€ на байк и уезжает Ц но не куда-то в недос€гаемые от нас пространства, кажетс€ мне, а дл€ того, чтобы снова и снова по€вл€тьс€ среди нас, чтобы снова и снова повтор€лась эта истори€. Ђ—мерть поправший смертью Ц непобедимї.© ј стало быть, раз спектакль цепл€ет, будит столько чувств и эмоций, раз заставл€ет задумыватьс€ над тем, что, казалось бы, давно обдумано, раз делает настолько родным и близким то, что казалось почтенной архаикой, Ц значит, предложенна€ ”эббером трактовочка Ц далеко не худша€ из огромного множества прочих, значит, имеет право на жизнь, а желательно Ц и на ваше внимание. ƒл€ этого вам отнюдь не об€зательно видеть в ’ристе Ѕога или даже историческое лицо Ц достаточно будет просто отречьс€ от всех догматов религиозных культов и от всех предрассудков досужей молвы и посмотреть на него как на √амлета или любого другого неоднозначного персонажа: так будет даже лучше (о чЄм € говорила и в начале рецензии, касательно вопросов). ¬сем, кому такой взгл€д удастс€, насто€тельно рекомендую сходить на мюзикл Ц ибо, если за вашими плечами нет Ђёноны и јвосьї, как у мен€, или чего-нибудь не менее цепл€ющего, вы гарантированно испытаете неслабую душевную встр€ску Ц а это процедура весьма и весьма полезна€.
ƒва с половиной часа пролетели незаметно, уходить не хотелось, но пришлось. –азношЄрстна€, большей частью длинношЄрстна€, публика повалила из зала в гардероб, из театра Ц в парк, оттуда Ц к метро, рассе€лась по вагонам. ѕоехала домой и €, и теперь в мои планы на ближайшее будущее входит пробежатьс€ по лентам, пойти спать, а завтра отправитьс€ на выставку авторских кукол и плюшевых медведей и словить дозу кава€. — мен€, конечно, будет отчЄт, но сейчас, не забега€ вперЄд, хоть завтра уже и наступило, прощаюсь.)

“олько гений Ёндрю-Ћлойда ”эббера мог выдумать такое: частично передать в виде зажигательного мюзикла Ќовый «авет, пожалуй, самое читаемое литературное произведение на планете. ѕередать смело, злободневно и талантливо, не утер€в в новаторском запале набора основных вопросов, которые каждый так или иначе задаЄт себе, посмотрев на героев библейских мифов не как на сказочных персонажей, а как на живых людей со своими чувствами и страст€ми, мечтами и сомнени€ми Ц так, как и должно на них смотреть. ≈го »исус Ц кумир неформального вида брод€г и шлюх, будущих апостолов, слепо вер€щих в его могущество, увлекающих его покор€ть »ерусалим и готовых тащить и дальше, до самого –има. ≈го »уда боитс€ забвени€ и мечтает о такой же славе, но вынужден проз€бать в его тени и от обиды совершает страшную ошибку. ќба этих персонажа Ц и непон€тый пророк, и запутавшийс€ ученик Ц чертовски привлекательны каждый по-своему, хоть и €вл€ютс€ двум€ абсолютными противоположност€ми, оттен€ющими и дополн€ющими друг друга. —ыграть их роли €рко и убедительно сумеет не каждый Ц дл€ этого нужна неверо€тна€ экспресси€, выкладка на пределе нат€жени€ нервов, но и то, и другое € увидела в достатке у актЄров ћоссовета Ц ѕанферова (харизматичный ’ристос) и яременко (брутальный »скариот), а так же у лимовой (ћари€ ћагдалина). ќстальные актЄры немногим уступают им в производимом впечатлении, к тому же нельз€ не отметить, что все без исключени€ вокалы (особенно у троих вышеперечисленных главных героев) на самом высшем уровне (чего не скажешь, например, о сугубо эстрадном Ђћонте ристої). ƒобавим мощную музыку, динамичную хореографию, великолепные декорации, отличный свет, хорошее либретто и множество удачных символических находок Ц и получитс€ спектакль, держащий зрител€ в неослабевающем напр€жении: ты притопываешь ногой и покачиваешь головой в такт очередной т€жЄлой песни, и при этом кажущемс€ веселье ощущаешь всем существом не меньшую безжалостную драматичность, чем при просмотре Ђ—трастей ’ристовыхї ћела √ибсона. »бо если в первом отделении вокруг ’риста роилось нечто вроде хипповской коммуны, то во втором Ц это уже извечна€ людска€ масса, разочарованна€ тем, что не дождалась чудес, и озверело требующа€ крови. ‘инал известен всем: ѕилат уступает толпе, уставший бунтарь приносит ей свою жертву, стабильности режима больше ничто не угрожает, законопослушные граждане снова радуютс€ своему иллюзорно свободному существованию. ј что же »исус? онечно же, воскрес вопреки вс€кому здравому смыслу, снова пожимает руку лучшему другу, предавшему его, снова обнимает любимую девушку, желавшую прин€ть его муки вместо него, садитс€ на байк и уезжает Ц но не куда-то в недос€гаемые от нас пространства, кажетс€ мне, а дл€ того, чтобы снова и снова по€вл€тьс€ среди нас, чтобы снова и снова повтор€лась эта истори€. Ђ—мерть поправший смертью Ц непобедимї.© ј стало быть, раз спектакль цепл€ет, будит столько чувств и эмоций, раз заставл€ет задумыватьс€ над тем, что, казалось бы, давно обдумано, раз делает настолько родным и близким то, что казалось почтенной архаикой, Ц значит, предложенна€ ”эббером трактовочка Ц далеко не худша€ из огромного множества прочих, значит, имеет право на жизнь, а желательно Ц и на ваше внимание. ƒл€ этого вам отнюдь не об€зательно видеть в ’ристе Ѕога или даже историческое лицо Ц достаточно будет просто отречьс€ от всех догматов религиозных культов и от всех предрассудков досужей молвы и посмотреть на него как на √амлета или любого другого неоднозначного персонажа: так будет даже лучше (о чЄм € говорила и в начале рецензии, касательно вопросов). ¬сем, кому такой взгл€д удастс€, насто€тельно рекомендую сходить на мюзикл Ц ибо, если за вашими плечами нет Ђёноны и јвосьї, как у мен€, или чего-нибудь не менее цепл€ющего, вы гарантированно испытаете неслабую душевную встр€ску Ц а это процедура весьма и весьма полезна€.
ƒва с половиной часа пролетели незаметно, уходить не хотелось, но пришлось. –азношЄрстна€, большей частью длинношЄрстна€, публика повалила из зала в гардероб, из театра Ц в парк, оттуда Ц к метро, рассе€лась по вагонам. ѕоехала домой и €, и теперь в мои планы на ближайшее будущее входит пробежатьс€ по лентам, пойти спать, а завтра отправитьс€ на выставку авторских кукол и плюшевых медведей и словить дозу кава€. — мен€, конечно, будет отчЄт, но сейчас, не забега€ вперЄд, хоть завтра уже и наступило, прощаюсь.)

ћетки: театр театры театр моссовета театр имени моссовета спектакли мюзиклы рок-опера опера иисус христос - суперзвезда jesus christ - superstar рецензии |
ѕосмотрела "‘ому ќпискина" |
ƒневник |

ƒавеча, опосл€ выкладывани€ поста со стихом, упом€нутый там белый голубь навестил мен€ ещЄ раз, приземлившись на подоконнике и прин€вшись туда-сюда прогуливатьс€, кида€ за окно вполне осмысленные, как мне показалось, взгл€ды и €вно норов€ оп€ть зайти ко мне в гости через открытую раму. ќднако € пресекала его движени€ мне навстречу, и мен€ он стремалс€, хот€ не сильно: маму мою он по-прежнему бо€лс€ больше, ибо немедленно улетел, как только она вошла. —ама же € вышла на улицу только после шести, когда спала жара; ехать в ботсад не было уже смысла, так как он работал до семи, и € решила смотатьс€ в парк ’амовники, где в последний раз была в прошлом учебном году, кажетс€, весной. ƒл€ этого мне пришлось с пересадкой добратьс€ до ‘рунзенской, и по дороге купить на сегодн€ билет во всЄ тот же ћоссовет на ‘ому ќпискина. ƒобравшись, наконец, до цели, € с удовольствием спустилась к воде мелкого озерца, уселась на траву и прин€лась ловить кайф в тени после убийственной жары. «аметив барахтавшегос€ в воде какого-то жучка, € прот€нула ему лапу, дл€ чего мне пришлось в пр€мом смысле слова улечьс€ на краю берега, подмета€ волосами и одеждой весь песок и риску€ свалитьс€ в воду, и всЄ-таки зачерпнула его. ∆ук оказалс€ бурой божьей коровкой в белую клеточку и прин€лс€ ползать по моей руке, по траектории ладонь Ц браслет Ц от локт€ и обратно Ц снова браслет. —и€ мо€ метальна€ фенька, очевидно, показалась коровке этакой кожаной трассой, по которой она ходила по кругу, методично штурму€ каждый шип, и только в очередной раз скатившись, догадывалась преп€тствие обойти по краю. Ќо, наконец, она научилась забиратьс€ на вершины шипов и одну из них облюбовала дл€ того, чтобы обсушитьс€, вытира€ лапами морду и расправив крыль€. ¬место того, чтобы согнать насекомое, € наблюдала за ним до тех пор, пока коровка, высохнув, не улетела. «атем, перевед€ взгл€д на воду, € увиделаЕ маленькую радугу. —начала мне подумалось, что это блики от солнечных лучей, но потом додумалась возвести очи долу и увидеть такую жеЕ на небе! –адуга си€, очевидно не нуждающа€с€ в дожде (более того Ц засуха который уж день сто€ла страшна€), была похожа не на большое коромысло, а на маленькую подкову, этакую половинку зависшего в небе полукружи€. ѕричЄм зависшего словно бы именно над моей головой: вскоре € пошла дальше, и когда бы € ни подн€ла глаза в небо, радуга оказывалась ровнЄхонько надо мной. ¬ итоге € снова засела на берегу озерца Ц п€литьс€ на п€тЄрку лебедей; п€лилась на них € минут двадцать, пока не спустились сумерки и радуга не исчезла. ѕотом € обошла остаток парка, встретила возле детского зоопарка кавайного котЄнка, ласкового и игручего мурлыку, от которого потом еле отв€залась, посмотрела на белок в клетке, пыта€сь их сфотографировать, и в финале ещЄ немного посидела напротив озера, на сей раз на лавочке. «авершилс€ день покупкой в продуктовом магазине двух небольших игрушечных жирафов в одной упаковке, пластмассовых, с бархатным покрытием Ц милые они, и напоминают о моЄм далЄком детстве, когда вокруг было много таких игрушек. ¬ечером перед сном оп€ть смотрела 2x2, ночью слушала прошлогодний альбом немецких мелоблэкеров Dorn, на следующий день до вечера оп€ть читала журнал, сидела в инете и прочими способами страдала ерундой. «атем же отправилась в путь Ц и стоило мне подн€тьс€ из метро на ћа€ковской, как мен€ встретил долгожданный дождь с отдалЄнно погромыхивающей грозой, после убийственной жары Ц просто панаце€! я дошла под этим дождЄм до сада јквариум и бродила по нему, лапа€ фонтаны, пока дождь не кончилс€; затем вошла в театр, купила программку и, изучив еЄ, подн€лась в амфитеатр и вышла на балкон (в классическом, а не театральном смысле этого слова). —нова выгл€нуло солнце, и широкий каменный бордюр балкона быстро высох, так что € уютно устроилась на нЄм, разгл€дыва€ с высоты амфитеатра сад и в нЄм гул€ющих. Ќа сей раз € не торопилась, вошла в зал уже после второго звонка и сразу же внаглую проследовала не куда-то в третью ложу, куда у мен€ был билет, а в середину первого р€да: вид офигенный, и никто так и не турнул. ќ спектакле же Ц очередном трЄхчасовом действе Ц снова начну издалека.
Ђ—ело —тепанчиково и его обитателиї (а именно по нему была создана инсценировка ѕавла ’омского Ђ‘ома ќпискинї) никогда не входило в число моих любимых произведений моего любимого ƒостоевского. Ќе потому, что повесть, дескать, не удалась, а потому, что €, как ни ломала в своЄ врем€ над ней голову, так и не пон€ла, в чЄм же там смысл (хот€ это своЄ врем€ было единичным и было давно, так что сегодн€ до спектакл€ € практически не помнила сиЄ произведение) и каково авторское отношение к главному герою Ц как к паразиту, умело живущему за чужой счЄт, или же как к юродивому, который сам верит в тот бред, который говорит, и действительно всем только добра желает, или там нечто третье. Ёти заморочки не оставл€ли мен€ и всЄ врем€ просмотра, как ни пыталась € абстрагироватьс€ от т€жких философских раздумий и воспринимать происход€щее как блест€щую сатиру, фарс, фантасмагорию с тонким юмором в духе Ђ“артюфаї и Ђ–евизораї. ј ведь поставили это зрелище великолепно, все актЄры сыграли на славу, а уж —ергей ёрский в роли ‘омы так вообще неподражаем! », как и в прошлый раз, декорации, костюмы, свет Ц ни к чему не придерЄшьс€. Ќаверное, только то, что € всЄ ещЄ нахожусь под впечатлением от шедеврального —ирано де Ѕержерака, помешало мне более многословно восхищатьс€ сегодн€шним спектаклем, равно как и только то, что € пыталась наконец-то пон€ть задумку ƒостоевского, помешало мне сме€тьс€ над гротескными выходками ‘омы Ц потому что увиденное мною сегодн€ достойно того, чтобы и его тоже порекомендовать всем, начина€ теми, кто так же, как и €, испытывает странную (по крайней мере, по меркам нашего времени) любовь к классике и заканчива€ теми, кто жалуетс€ на то, что засыпает в театре.
¬общем, браво ћоссовету, непременно туда вернусь, как и в мастерскую ‘оменко, в ћа€ковку и, конечно же, в мой второй дом Ц на ѕокровку. ј покуда театральный сезон закончилс€ сегодн€ и там (вышеописанный спектакль был последним в сезоне), пора бы мне на дачу до августа Ц может, во вторник уже и съеду, а если не съеду, можно будет, если жара не вернЄтс€, выгул€тьс€ с ”шастой, котора€ скоро с югов вернЄтс€. ѕосле спектакл€ снова был дождь, под которым € и дошла с большим удовольствием до метро; завтра же, может, всЄ-таки отважусь смотатьс€ в ботсад ћ√”, больно не хочетс€ августа ждать или и того дальше (выставка там продлитс€ вроде как до сент€бр€). ј там и на ’еллбо€ можно будет сходить, если денег хватит. ¬общем, планов громадьЄ. ƒо скорого, пилоты) то не обратит внимание на предыдущие посты Ц объ€вление и стих Ц не поленюсь покусать самолично)
ћетки: рецензии театры театр спектакли парки хамовники театр моссовета парк хамовники фома опискин село степанчиково и его обитатели |
ѕосмотрела "—ирано де Ѕержерака" |
ƒневник |

¬ ночь после ѕереславл€ мне почему-то снилось что-то гаррипоттеровское. ѕотом до п€ти пережидала жару и потопала пешком до метро, где приобрела от ломки по ’аммеру, второй номер которого ещЄ хз когда выйдет, журнал Dark City, а от ломки по театру Ц билет на —ирано де Ѕержерака в театр ћоссовета, который мне рекомендовала √ерт. ¬ јшан € снова не рискнула зайти, хот€ уже соскучилась по некоторым продуктам питани€, и до родных пенатов доехала на маршрутке, ибо хоть жара и спала, всЄ равно было ещЄ слишком душно дл€ прогулок. “ам € засела во дворе на лавочке немного почитать ƒарк—ити; конечно же, ’аммер лучше, но и в нЄм есть кое-что интересное. ¬ечером наконец-то включила 2x2, который сто лет не смотрела, перед сном ещЄ немного почитала. —нилось нечто стрЄмное: € в компании каких-то незнакомых личностей под предводительством некоего “олика ехала в машине не то в “улу, не то в “верь, на его родину. Ќа обочине возле леса сделали остановку, и тут € увидела за деревь€ми нечто вроде большой пол€ны сплошного розового цвета; мы с “оликом подобрались к этому месту поближе, и оказалось, что это водоЄм, густо обсиженный розовыми чайками, которые врем€ от времени перелетали с места на место небольшими группами. “ам же были и другие птицы, в основном экзотические, €ркие и пЄстрые: утки, попугаи, казуары. я их фотографировала вместе и порознь, благо они позвол€ли близко к себе подходить, не улета€, и постепенно отдал€лась от “олика, пока не столкнулась с ещЄ одним мужиком, который оказалс€ владельцем данного места Ц как вы€снилось, австралийского сафари-парка. ѕока мы куда-то шли, он показывал мне других животных Ц кенгуру, диких собак динго, варанов, белок-лет€г и проча€; наконец, мы вошли в какой-то домик-бунгало, служивший, видимо, едальней, и сели за стол. ћне предложили бутерброды с копчЄной колбасой и котлеты, но € сказала, что вегетарианка, и мне дали какой-то овощной салат, который € прин€лась наворачивать, продолжа€ наблюдать за звер€ми, которые беспреп€тственно входили в помещение, переходили из комнаты в комнату. «а столом вскоре собралось немало мужиков, все наперебой что-то говорили, рассказывали, сме€лись, € сме€лась тоже; у кого-то оказалась гармонь, он начал играть и петь. я смотрела за дверь бунгало Ц там открывалс€ вид на красивый белоснежный храм, и на террасе сто€ла кака€-то странна€ девушка и смотрела на него. —транна€ в том смысле, что у неЄ были очень длинные, вертикально сто€щие и заострЄнные уши и сильно выт€нутое вперЄд лицо; однако мне она показалась красивой, € подумала, что она похожа на јнубиса. ќднако врем€ шло, € засобиралась обратно, говор€, что было очень вкусно и интересно, но мен€, наверное, уже ждут или даже ищут; мен€ все упрашивали остатьс€, да € и сама очень не хотела уходить, но и “олика подводить не хотелось. ѕосему € всЄ-таки встала и вышла из-за стола и на этом проснулась. ƒнЄм сидела в инете, читала журнал, а к вечеру поспешила в путь; читающую журнал мен€ маршрутка и подземка довезли до ћа€ковской, где € быстро нашла сад јквариум Ц местечко, где €, к в€щему стыду своему, ни разу ещЄ дотоле не была. ј местечко оказалось красивым и уютным Ц с тенистыми алле€ми и несколькими фонтанами, которые € все перефотографировала и перелапала (то есть с удовольствием подставл€ла ладони под прохладные струи живительной влаги). “ам € ещЄ немного посидела в тени, на бордюре одного из фонтанов, проигнорировав опасливо-заботливо пододвинутую каким-то дворником газетку и оп€ть-таки почитыва€ ƒарк—ити. «а полчаса € вошла в театр, который был поблизости (сад оказалс€ небольшим), купила программку, не нашла буфета, заместо коего на каждом этаже было по две стойки с кой-каким съестным, и, подн€вшись к себе на бельэтаж, поела какую-то шоколадку и поизучала программку до первого звонка. ћоЄ место было во втором или третьем р€ду одной из боковых лож, но € немедленно переместилась на первый р€д средней ложи, откуда было на пор€док лучше видно и где было банально удобней, и мен€ никто оттуда так и не попросил. ј теперь о спектакле, непосредственно о том трЄхчасовом действе, кое € нынче наблюдала с перерывом на антракт, в котором € читала журнал.
Ќачну издалека Ц —ирано де Ѕержерак всегда был одним из моих маленьких литературных фетишей, зачитанных до дыр; при том, что заболевание оным началось у мен€ лет п€ть назад, сразу после заболевани€ ƒюма, Ёдмон –остан осталс€ одним из моих любимых зарубежных драматургов наравне с Ўекспиром и Ћопе де ¬ега, тогда как мо€ любовь к автору мушкетЄрской трилогии изр€дно подостыла в процессе взрослени€. »так, напомню также в рамках предислови€, что к постановке произведений, вход€щих в число любимых, € всегда отношусь особенно ревностно и критически (внимательные читатели знают, что € посмотрела п€ть постановок √ор€ от ума, чтобы найти одну понравившуюс€). ќднако постановка ћоссовета мен€ не разочаровала, более того Ц превзошла даже самые смелые ожидани€. ¬сЄ, за что € так люблю эту пьесу: тонкий юмор, проникновенна€ лирика, глубочайший трагизм, афористична€ мудрость, лиха€ романтика, красивый и лЄгкий стих, после которого самому хочетс€ заговорить стихами, и проча€, и проча€, Ц было передано этим спектаклем с высочайшим мастерством. ак всегда, сперва дам оценку чисто технической стороне сего шедевра: отличные костюмы (чего только сто€т кожаные штаны и рваный плащ —ирано!) и декорации (эти лестницы и мостики были точь-в-точь как в мастерской ѕетра ‘оменко, только ещЄ и мобильными), мощна€ музыка (она просто об€зана прийтись по вкусу большинству из здесь присутствующих), качественное освещение. ј теперь могу уделить несколько строк и дифирамбам: јлександр ƒомогаров в главной роли был просто великолепен Ц талантлив, харизматичен, убедителен. ќн создал необычайно симпатичного, €ркого, запоминающегос€, живого персонажа, за которым интересно наблюдать и которого невозможно не полюбить (хот€, следует признать, к дикции его привыкаешь не сразу, но мен€ спасло, а так же при€тно удивило то, что € ещЄ помню наизусть некоторые ключевые и весьма объЄмистые отрывки, хоть Ц каюсь Ц € и давненько не перечитывала пьесу). ороче говор€, вместе с четвЄртым театром, в который € захотела ещЄ не раз вернутьс€, € обрела четвЄртого актЄра в число любимых (четвЄртого в данном случае только хронологически, ибо составить некий рейтинг Ђлюбимостиї у мен€ вр€д ли получитс€). —тоит отметить и мастерство остальных актЄров, у которых ничуть не хуже получилось воплотить образы своих персонажей именно такими, какими их себе представл€ешь Ц и не только первостепенных (–оксана Ц ќльга або, ристиан Ц ƒмитрий ѕопов), но и второ- и третьестепенных. –адует, что € не прогадала, купив тот билет, ибо посмотрела сильный, цепл€ющий спектакль, который несомненно лучше старого отечественного фильма, вышедшего, на мой вкус, чересчур комическим, и который € могу с уверенностью порекомендовать всем и каждому. » моЄ положительное мнение очевидно не одиноко Ц в зале был аншлаг (при уже упоминаемом мною Ђнесезонеї, что делает честь спектаклю, уже полдюжины лет играемому на сцене), а на поклоне публика устроила актЄрам долгую и громкую овацию сто€. Ќепон€тно, правда, кому ƒомогаров перед самым занавесом помахал двум€ козами, при том что € была единственным в зале металично прикинутым существом, но в любом случае это при€тно) “ак что если 16-го € буду ещЄ в ћоскве (что вполне веро€тно: мы не покинем столицу, пока жара не спадЄт, иначе мы сдохнем в дороге), есть значительна€ веро€тность, что € схожу всЄ в тот же ћоссовет на ‘ому ќпискина по —елу —тепанчикову моего любимого ƒостоевского)
ѕо окончании спектакл€ в саду јквариум стало ещЄ красивее Ц спустились сумерки, к фонтанам включили подсветку, и все бросились к ним фотографироватьс€, так что € их в таком виде запечатлеть не смогла. —нова почитыва€ журнал, € добралась до дома, скоро пойду спать. „то делать завтра Ц не знаю, жара жЄстко обламывает нежно взлеле€нные планы загл€нуть в ботсад ћ√” на выставку скульптур из песка (а может, и рискну, чЄм чЄрт не шутит). ≈щЄ хочетс€ посмотреть второго ’еллбо€, благо первый уже засмотрен мною до дыр (да-да-да, дл€ тех кто ещЄ не в курсе Ц € фанат фильмов по комиксам). Ќа этих многообещающих нотах и прощаюсь Ц до скорых новостей)
ћетки: сны осознанные сновидени€ театр театры театр моссовета спектакли сирано де бержерак рецензии эдмон ростан александр домогаров домогаров |
| —траницы: | [1] |









