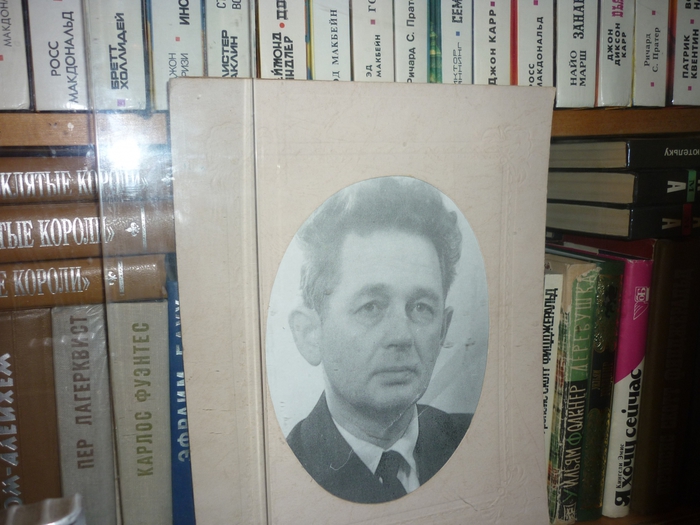-Поиск по дневнику
-Подписка по e-mail
-Друзья
-Постоянные читатели
-Статистика
Записей: 871
Комментариев: 1385
Написано: 2520
Утра |

***
Отвергаю бремя грядок и зарядок,
буду спать и видеть розовые сны.
Отвергаю ненавистный распорядок -
его рамки мне и пресны, и тесны.
Здравствуй, утро! Я стою в оконной раме.
Вот программа моего житья-бытья:
ежедневно исключать себя из правил
и выламывать из рамок бытия!
***
Балкон распахнуло от ветра.
Привет тебе, утро, привет!
Щедры твои тайные недра,
и чем отплачу я в ответ?
Потешить в себе ли гурмана,
отдать свою дань стеллажу?
Мой день оттопырил карманы
и ждёт, что я в них положу.
Карманы пока что пустые,
и девственно чистый блокнот
глядит, чем заполню листы я,
что, право, важнее банкнот.
Ещё поваляться недолго,
собрать свою душу в горсти,
где тряпка, утюг и иголка
порядок спешат навести.
Я дыры судьбы залатаю,
я тришкин кафтан удлиню,
и вот уже жизнь как влитая,
зовёт на свою авеню.
***
Утром, хоть сны ещё сладки,
я покидаю кровать
и устремляюсь в посадки -
воздух себе воровать.
Клёны, берёзы, осины
вытянутся в строю,
бабочки, голуби, псины
примут меня как свою.
Здравствуйте, парки и скверы!
Родом из блочной норы,
я полюбила без меры
щедрые ваши миры.
Сини и зелени море.
Тишь вдалеке от колёс.
Счастье за вычетом горя,
радость за вычетом слёз.
***
Утро — самый нежный час,
обморок зари.
Не наступит он для нас,
хоть теперь умри.
Мой недолгий гость души,
оторопь судьбы.
Звук шагов замолк в тиши,
замело следы.
Это день моей тоски.
Тиканье часов.
Но сквозь сжатые виски -
эхо голосов.
Это было так давно...
Пробирает дрожь.
И стучит в моё окно
только снег да дождь.
***
Открыло утро полог голубой.
А у меня теперь одно мерило:
пространство улыбнулось мне тобой,
окликнуло тобой, заговорило.
Ты где-то там, в лазоревом краю,
но время ничего ещё не стёрло.
Дома сжимают улицу твою
и мне до боли стискивают горло.
Упрямо, в ту же реку, сквозь года
к тебе стремиться снами и стихами...
О, если б знать тогда, что навсегда
твои шаги по лестнице стихали.
***
Разучилась жить за эту ночь.
За окном деревья поседели.
Как мне эту горечь превозмочь?
Есть ты или нет на самом деле?
Слёз уж нет. Всё уже ближний круг.
Жизнь всё поворачивает мудро.
Светлая любовь стоит вокруг,
как в снегу проснувшееся утро.
***
Ночь опомнилась. Мгла рассеялась.
Тихо таяла без следа,
но на что-то ещё надеялась
растревоженная звезда.
В полусонном противостоянии
заворочался шар земной.
И растаяло расстояние
между завтра и мной.
Утро нежится в царстве грёзовом.
Так прозрачен его намёк.
Вздох о розовом, чём-то бросовом…
Раздувается уголёк.
Амба. Лопнула мира ампула,
в ночь просачивая зарю.
Утро – будущего преамбула.
Как сомнамбула, я смотрю:
светом жиденьким озаримые,
в небе – контуры тополей...
Неприметное, неповторимое
утро жизни моей.
Не мудрее – старее вечера,
пробивающееся средь гардин,
увеличивающее перечень
невозможного впереди.
Я пытаюсь понять, на что оно –
утро, вылупленное из сна,
в мир, где ныне мне уготовано
место зрителя у окна.
* * *
Сонно нащупаю тапок.
Тает за окнами тьма.
Тихой крадущейся сапой
сны покидают дома.
Влагой траву оросило.
Я из окошка смотрю,
как эта ночь через силу
переродится в зарю.
Утро – синоним пролога,
с жизнью единых кровей.
Яблоки солнечных блоков
через авоськи ветвей.
Дня бытовое лекало.
Злоба. Усмешка юнца.
Всё это только начало,
только начало конца.
* * *
Я продлевала вечера,
не выпускав из рук.
Сегодня – всё ещё вчера.
Держусь за этот звук.
Вчера – ещё почти в руках,
оно со мной срослось.
Ещё в пространстве и в веках
худого не стряслось.
Повремени, чужой рассвет,
несущий тень беды.
Сияй, сияй вечерний свет
негаснущей звезды.
* * *
Тогда мне время было по нутру,
вселенная была мне по размеру.
И в мир я выходила поутру,
всё принимая к сердцу и на веру.
Тогда без счастья не было ни дня,
с губ не сходила алая улыбка.
И каждый взгляд мужской был на меня,
и каждое в строку ложилось лыко.
Промчалась жизнь, теперь она звучит
вполголоса, идёт вполоборота.
О, где её подземные ключи
и где лучи её солнцеворота?
Лишь бы остаток в горсти удержать,
хотя бы удержать её от крена,
чтобы любовь могла ещё дышать,
чтобы душа не помнила о бренном...
***
Ещё совсем свежо и рано.
По смутным улицам спешить...
Ночные затянулись раны,
и кажется, что можно жить.
Как сердцу хочется порядка
взамен расхристанной тоски.
Жизнь – как раскрытая тетрадка
без недописанной строки.
Что допишу? И что умножу?
Чем усмирю кипенье дней?
Держу отчаянно, стреножу
летящих к пропасти коней.
***
День неспешно зачинается.
Я ему пока никто.
Даль чуть брезжит, разгорается,
как в туманностях Ватто.
Он ещё пока на вырост мне,
он просторен и широк.
На невидимом папирусе –
иероглиф недострок.
Будет день с его обновами,
будет пища и питьё,
будет дом, где оба снова мы,
наше нищее житьё.
Полдень обернется вечером,
утишая шум и гам,
и спадёт жарой доверчиво
шёлково к моим ногам.
А в каком отныне ранге он –
этот день зачтётся мне
прилетевшим свыше ангелом
в полуночной тишине.
***
Серовато-розовое небо,
переливы цвета жемчугов...
Вот такое платье если б мне бы
иль обложку к томику стихов!
Нарисуешь – не поверят – что ты!
Неправдоподобно хорошо.
Как стишок по гамбургскому счёту,
где не виден ни единый шов.
Эти серо-розовые ноты –
тайная мелодия всего...
Как любви широты и длинноты,
что не ищет в мире своего.
Это утро лишь для нас с тобою
нарядилось – выглянь, посмотри –
в палевое, серо-голубое,
с пояском из розовой зари.
Доброе утро
Утро. Разинуты горлышки птиц.
Хлебные крошки – небесною манной.
Солнце без края. Любовь без границ.
Взор высоты – голубой, безобманный.
Душем прохладным смываю следы
ночи. (Поэзия – «простыни смяты»!)
Маслом янтарным политы плоды.
Каша поспела. Заварена мята.
Губы цветам увлажняю слегка.
Над разноцветным салатом колдую.
Сырникам свежим румяню бока,
и у них вкус твоего поцелуя.
Пикает компик – письмо от друзей.
Чайник бурлит. Телевизор бормочет.
Господи! Дай мне прожить этот день
так, как нога моя левая хочет.
Ветка в окошке кивнёт на ветру.
Ты улыбнёшься, как в прежние годы.
Вот и собака – живая, не «ру» –
в полной готовности мнётся у входа.
Доброе утро. Ни ссор, ни измен.
Цепь Гименея, где спаяны звенья.
Я не хочу никаких перемен.
Пусть остановится это мгновенье.
***
– Я руку тебе отлежала?
Твоё неизменное: – Нет.
Сквозь щёлочку штор обветшалых
просачивается рассвет.
– Другая завидует этой.
– А я – так самой себе...
Рождение тихого света.
Обычное утро в судьбе.
Жемчужное и голубое
сквозь прорезь неплотных завес…
Мне всё доставалось с бою,
лишь это – подарок небес.
Мы спрячемся вместе от мира,
его командорских шагов.
Не будем дразнить своим видом
гусей, быков и богов.
Пробуждение
Сна ещё не ослабла власть,
но сплетённое рвётся кружево...
Я ещё не сбылась, не срослась.
Поцелуем твоим не разбужена.
Это сказка ещё или быль?..
Грёз обрывки... не помню, о ком они.
Губ твоих ощущаю пыл,
но мои пока сном закованы.
От луча глазам горячо.
Кто-нибудь, веки мне разлепи мои...
Потягушечки... Где тут плечо
моего бесконечно любимого?
Белый свет побеждает тень.
Сколько ждёт нас здесь всякого-разного!
Здравствуй, день, новых дел канитель!
Как тебя мы сегодня отпразднуем?
***
Солнце июля в субботней тиши.
Город разъехался на огороды.
В браузер утра что хочешь впиши:
«Книги». «Уборка». «Вдвоём на природу».
В тёплых ладонях упрячется прядь,
нос обоснуется в ямке ключицы.
Нам уже нечего больше терять.
С нами уже ничего не случится.
Утро — такое богатство дано!
Мы выпиваем его по глоточку.
Счастье вдвойне, оттого, что оно,
как предложение, близится к точке.
Тянется, как Ариаднина нить...
О, занести его в буфер программы
и сохранить! Сохранить! Сохранить!
Вырвать из будущей траурной рамы!
Круг абажура и блик фонаря,
солнечный зайчик над нашей кроватью...
Лишь бы тот свет не рассеялся зря,
лишь бы хватило подольше объятья!
Стражник-торшер над твоей головой.
В веках прикрытых скопилась усталость.
Свет мой в окошке до тьмы гробовой!
Сколько тебя и себя мне осталось?
***
Я руку тебе кладу на висок -
хранителей всех посланница.
Уходит жизнь как вода в песок,
а это со мной останется.
Тебя из объятий не выпустит стих,
и эта ладонь на темени.
Не всё уносит с собою Стикс,
не всё поддаётся времени.
Настанет утро - а нас в нём нет.
Весна из окошка дразнится...
Мы сквозь друг друга глядим на свет,
тот — этот — какая разница.
***
Незаметна стороннему глазу,
я по жизни иду налегке
за волшебно звучащею фразой,
что маячит ещё вдалеке.
Начинается новой главою
день в косую линейку дождя.
Зеленеет и дышит живое,
о своём на ветру шелестя.
Чтоб мотив тот подхватывал всякий,
напевая его при ходьбе...
А когда моя муза иссякнет,
то я буду молчать о тебе.
***
Скользну на улицу, спеша,
пока все горести уснули.
Как хороша моя душа
в часу предутреннем июля.
Весь город мой, и только мой!
(Попозже выспаться успею).
Куда б ни шла — иду домой.
Куда б ни шла — иду к себе я.
Шаги и звуки не слышны.
Лежит, потягиваясь, кошка.
Как страшен мир без тишины
и без герани на окошках!
Овечек поднебесных рать
залижет нам ночные раны.
Вставать, страдать и умирать
ещё так рано, рано, рано...

|
|
Процитировано 1 раз
Понравилось: 4 пользователям
Жизнь, которая мне снилась |

***
На дно души спускаюсь я во сне.
Там русла рек моих существований.
Там смутный голос будет бредить мне
в божественной свободе и нирване.
Есть в сутках жизни заповедный час,
когда иное видит глаз и сердце,
и в вечность, недоступную для нас,
с протяжным скрипом поддаётся дверца.
Там оживает прошлогодний снег,
там конь крылатый напрягает жилы...
И всё, что ни приснится в этом сне, –
всей жизнью будет неопровержимо...

***
Привыкшие к телесным пеленам,
мы не подозреваем о свободе,
той, что от века недоступна нам,
а только снам, парящим в небосводе.
Я говорю с тобой как на духу,
на языке, понятном лишь поэтам.
Такая грусть и нежность наверху,
а нам внизу неведомо об этом.
Отбросить страх и повседневный прах, -
земля лишь для того, чтоб оттолкнуться -
и взмыть туда, куда нас тянет в снах,
откуда не захочется вернуться.
Взойдёт звезда над письменным столом,
в окне распишет бисером полотна
и защитит невидимым крылом
всё, что ещё бесплатно и бесплотно.

***
Слишком ласковый и трепетный для ветра
мои волосы ласкал средь бела дня.
Слишком яркий, слишком солнечный для света
фотовспышкою преследовал меня,
словно где-то сохранить хотел навеки...
Мне казалось, это сказка или сон.
Я смежала и распахивала веки.
Кто-то был со мною рядом, невесом.
Странный голубь, отвергая хлеба ломоть,
так осмысленно в глаза мои глядел,
словно он меня навек хотел запомнить
для каких-то недоступных высших дел.
Ледников души растапливалась залежь,
и прощалась кем-то вечная вина.
Я одна отныне знала, только я лишь,
настоящие их знала имена...

***
Я — Кассандра, слепая провидица,
в колесе Вашем пятая спица.
Что за сны Вам сегодня привидятся?
Или, может быть, тоже не спится?
Как короной, луною увенчана
полночь в звёздном своём покрывале.
И дрожит одиноким бубенчиком
мой секрет, не разгаданный Вами.

***
Я не расслышала, что Вы сказали –
не повторяйте, молю.
Чудится эхом в пустующем зале
то, что хочу и люблю.
Не повторяйте мне истину снова,
пусть лучше я обманусь.
Пусть мне домнится, доснится то слово,
пусть никогда не проснусь!
Что Вы сказали?.. Но это неважно.
Истина — яд или лёд.
Пусть лучше ветер и дождик доскажет
и соловей допоёт.
***
Сладко плыть под балдахином ночи.
Месяц – словно парусник души.
Утро образумит, обесточит,
обездолит и опустошит.
Пусть луна опять мозги запудрит –
я по снам судьбу свою прочту.
Не сменю на утреннюю мудрость
я ночную глупую мечту.
***
Моим стихом опять заговорила ночь.
Вот месяц воспарил, что как крыло у чайки.
Прислушайтесь ко мне. Молчать одной невмочь.
Лишь стих мой скажет Вам всю правду без утайки.
Мой тайный, мой чужой, роднее нет тебя!
Не верь дневным словам и закруглённым фразам.
Любовь упразднена в системе бытия.
И уз не разорвать, и не совпасть по фазам.
Во сне мы видим то, что в жизни не дано.
Мой вымысел, мой сон, не дай мне Бог очнуться!
Волшебное кино, души двойное дно...
Не встретиться никак, но и не разминуться.
О сколь — забыть, проклясть, вернуться в мир людской —
обеты я даю, не выдержав боренья,
одним ударом враз с надеждой и тоской
расправиться! — увы, напрасны ухищренья.
Мой властелин, монарх, не знаю, как ещё
тебя именовать, чтоб было адекватно.
Ищи мою любовь. Теплее, горячо...
А если ты найдёшь — то я не виновата.
...Не слушайте меня. И снова до утра
ссылает стих меня на гауптвахту ночи.
Невольнице окна, тетради и пера,
мне бредить и творить, и верить, и пророчить.
Я сделаюсь строга. Не ластюсь и не льщу.
А может, зря от Вас я нежность утаила?
Внутри своей беды блаженство отыщу,
и будет мне сиять созвездье Альтаира.
Прощайте, дорогой. Я затворю балкон.
Вы догадались, да? Я говорю не с Вами,
а с Тем, кто сотворил и нравственный закон,
и звёзды, что горят у нас над головами.

***
В душе моей утешенной
покой и тишина.
Там угол занавешенный,
где я всегда одна.
Ночное это таинство
ничей не видит взор.
Из слов и снов сплетается
причудливый узор.
Как мина, сердце тикает,
окутывает мгла...
Скажи мне что-то тихое
для этого угла.

***
Жизнь моя дремлет и сладкие сны
ей навевают остатки весны.
Пусть мне уже не послушен реал,
но как воздушен ночной сериал...
Вот загорается в небе звезда,
приоткрывается дверь в навсегда...
Кружатся лица, как листья в лесу.
Сколько любви я с собой унесу...
Нежности кружево, сны наяву...
Чтоб вы так жили, как я не живу.

***
Я жила как во сне, в угаре,
слыша тайные голоса.
А любила – по вертикали,
через головы – в небеса.
Бьётся сердце – должно быть, к счастью...
Сохраняя, лелея, для,
всё ж смогла у судьбы украсть я
два-три праздника, года, дня.
Умирая, рождалась вновь я,
поздравляя себя с весной,
с беспросветной своей любовью,
той, что пишется с прописной.
***
Луны недрёманное око
следит за каждым из окон,
напоминая, что у Бога
мы все под круглым колпаком.
Души незримый соглядатай,
ты проплываешь надо мной,
напоминая круглой датой,
что всё не вечно под луной.
Чего от нас судьба хотела,
в час полнолуния сведя,
когда в одно слились два тела,
над сонным городом летя?
И, может быть, ещё не поздно
вскочить в тот поезд на бегу...
Ловлю ворованный наш воздух
и надышаться не могу.
Придёт зарёванной зарёю
иной заоблачный дизайн...
Летящий отблеск над землёю,
побудь ещё, не ускользай!

***
Пальцы дождя подбирают мелодию
к детству, к далёкой весне.
Где-то её уже слышала вроде я
в давнем растаявшем сне...
Капли как пальцы стучат осторожные:
«Можно ли в душу войти?»
Шепчут в слезах мне кусты придорожные:
«Мы умирать не хотим...».
Люди снуют между автомобилями,
светится в лужах вода
и озаряет всё то, что любили мы,
что унесём в навсегда.
Глупая девочка в стареньких ботиках,
руки навстречу вразлёт...
Дружество леса, дождинок и зонтиков,
музыка жизнь напролёт.

Колыбельная
Спи, мечта моя, вера, надежда
на всё то, что уже не сбылось,
что закрыло навек свои вежды,
что не спелось и не родилось.
Вам моя колыбельная эта,
чтоб не плакали громко в груди,
чтоб уплыли в целебную Лету
и не видели, что впереди.
Что не встретила, не полюбила,
всё, чему я сказала гуд бай,
засыпайте, чтоб вас позабыла,
баю-бай, баю-бай, баю-бай...
Все, кого не спасла от печали,
для кого не хватило огня,
засыпайте, забудьте, отчальте,
отпустите, простите меня.
Спи, несбывшееся,
не родившееся,
баю-бай, баю-бай,
поскорее засыпай,
затухай, моя тоска,
струйка вечного песка,
не спеша теки, теки,
упокой и упеки,
холмик маленький, родной,
спи, никто тому виной...

***
Где вы, катарсис, серотонин,
дом с белым садом, камин, мезонин,
всё, что желают в дни именин,
всё, что нам снится?
Что же на деле? Лживость икон,
замков руины, дура закон,
непобедимый в душах дракон,
старость, больница.
Где в парусах кумачовых корабль?
Где в небесах утонувший журавль?
Где обещания крибли и крабль,
сказочной щуки?
А на поверку — супы с котом,
светлое завтра где-то потом,
вечная сука на троне златом,
вечныя муки...
Гости
Мандельштам приедет с шубой...
А. Кушнер
Мне снился сон: ко мне съезжались гости
на дачу, что уж продана давно.
Вот Пушкин со своею жёлтой тростью
и с кружкой, из которой пил вино,
проснувшийся от солнца и мороза,
в кибитке, к удивлению ГАИ...
А вот и Блок с привянувшею розой
в бокале золотистого аи.
Вот Анненский с обиженною куклой,
спасённой им в Финляндии волнах,
Кузмин с шабли и жареною булкой
и с шапкой, как у друга Юркуна.
Вот Хлебников, безумный, но великий,
с кольцом на пальце, взятом напрокат.
Цветаева с лукошком земляники,
с нажаренною рыбой на века.
Ахматова с неправильной перчаткой,
с тоской по сероглазым королям,
Есенин со своей походкой шаткой,
знакомой всем в округе кобелям.
Вот Мандельштам и следом Заболоцкий -
с щеглом один, другой же со скворцом.
А вон вдали вышагивает Бродский
с усталым и пресыщенным лицом.
Да, тяжела ты, слава мировая...
Он без подарка, но с собой стишок.
Вот Гумилёв с последнего трамвая,
успевший, пока с рельсов не сошёл.
Вот Маяковский с яростным плакатом,
в любовной лодке, бьющейся о быт.
С жерлом Державин, Вяземский с халатом -
никто из них не умер, не забыт.
И Пастернак с чернильницей февральской,
забрызганный слезами от дождя,
и Фет с приветом от отчизны райской,
что просиял и плачет, уходя...
О пробужденье с жалкою подменой
небесной песни на раёк земной!
И Афродита снова стала пеной,
причём не океанской, а пивной...

***
Поскрипывает мебель по ночам.
Судьбы постскриптум...
Как будто ангел где-то у плеча
настроит скрипку...
Как будто лодка с вёслами сквозь сон
по водной зыби...
Тьма горяча, смешай коктейль времён
и тихо выпей.
И выплыви к далёким берегам
из плена тлена...
Сам Сатана не брат нам будет там,
Стикс по колено.
Скрипач на крыше заставляет быть,
взяв нотой выше.
Ведь что такое в сущности любить?
Лишь способ выжить.

***
Какое странное посланье...
Скользят туманные слова
и уплывают в мирозданье,
блеснув прозрением едва.
Глухие завеси сомкнулись.
Строка размыта, неясна.
Мы вновь с тобою разминулись
в дремучих коридорах сна.
Тот шифр моею кровью набран,
но тщетно силюсь до конца
я разгадать абракадабру -
посланье мёртвого отца.
Мне не прочесть, и не ответить,
и не дождаться ничего,
и снова биться рыбой в нетях,
в тисках сегодня своего.
***
В недоступное измерение
ты ушёл, от земли отчалив,
и каким-то глубинным зрением
я гляжу на тебя, отчаясь.
В царстве сна, в государстве памяти
наши встречи с тобою грустны.
Давит на сердце тяжесть каменная,
мне не выбраться из-под груза.
Фотокарточка на надгробии.
Взгляд невыспавшийся, усталый.
Отраженье твоё, подобие
на земле без тебя осталось.


***
Идут года, бегут недели,
Но ты теперь, как ни зови –
Потусторонен, запределен,
Недосягаем для любви.
И лишь во сне всё как по правде,
Лишь там нельзя тебя убить.
Там можно всё ещё поправить,
И досказать, и долюбить.
Там светом радуги играет
То, что уже покрыто мглой,
Горит и вечно не сгорает –
Что стало пеплом и золой.

***
На небе полночном горят письмена.
Я в смутной тревоге гляжу из окна.
Пытаюсь прочесть это, как в полусне.
Я знаю, что это написано мне.
Пульсирует небо мне звёздной строкой.
В ответ неуверенный взмах мой рукой.
И слёзы глаза застилают, слепя.
Я знаю, я помню, я вижу тебя!

***
Мне снились фотографии отца,
которых я ни разу не видала.
Держа альбом у моего лица,
он всё листал, листал его устало.
Вот он младенец. Вот он молодой.
А вот за две недели до больницы...
Шли фотоснимки плавной чередой,
и заполнялись чистые страницы.
Вот с мамою на лавочке весной.
Как на него тогда она глядела!
Вот лестница с такою крутизной,
что на неё взобраться было - дело.
Но ведь давно уж нет того крыльца...
И вдруг в душе догадка шевельнулась:
- Так смерти нет? - спросила я отца.
Он улыбнулся: "Нет". И я проснулась.

***
Ты приснишься мне на день рожденья?
В небе ковш изогнут, как вопрос.
И твоё реальное виденье
проступает сквозь завесу слёз.
Из кривых и прыгающих строчек
словно перекидывая мост,
вижу твой замысловатый росчерк,
вижу руку с родинками звёзд.
О тебе узнаю всё из сна я.
Как тебе в обители иной?
Я тебя ничуть не вспоминаю,
просто ты по-прежнему со мной.
***
Нет, ты не умер, просто сединой
со снегом слился, снежной пеленой
укрылся или дождевой завесой.
Мне снился дождь и где-то в вышине
незримое, но явственное мне
объятие, зависшее над бездной.
Оно, что не случилось наяву,
как радуга над пропастью во рву,
свеченье излучало голубое.
Был внятен звук иного бытия.
Нас не было в реальности, но я
всей кожей ощущала: мы с тобою.
Ты мне свечой горишь на алтаре,
полоскою горячей на заре,
когда весь мир еще в тумане мглистом.
Однажды рак засвищет на горе,
и ты, в слезах дождя, как в серебре,
мне явишься в четверг, который чистый.

***
Это ничего, что тебя — нигде.
Ты уже давно у меня везде -
в мыслях, в тетради и на звезде,
и в дебрях сна...
Это ничего, что не увидать.
Я всё равно не смогу предать
и ощущаю как благодать
каждый твой знак.
Бог не даёт гарантий ни в чём.
Выйдешь в булочную за калачом,
в карман потянешься за ключом -
а дома - нет...
Здесь больше нечем, некуда жить.
Мир разорвавшийся не зашить.
И остаётся лишь завершить
цепочку лет.
Невыносимо то, что теперь.
Неудержима прибыль потерь.
Недостижима милая тень.
Жизнь - на распыл.
Всё нажитое сведу к нулю,
прошлому — будущее скормлю,
но ты услышишь моё люблю,
где б ты ни был.
***
Словно дети в предвкушенье чуда:
«Ёлочка, зажгись!» -
так и я, взыскуя весть Оттуда:
«Мамочка, приснись!»
Чуточку терпенья и везенья -
будет встреча вновь.
Будет Рождество и Воскресенье,
Радость и Любовь.

Сон
1
Мне приснился чудный сон о маме,
как мираж обманчивых пустынь.
Помню, я стою в какой-то яме
средь могил зияющих пустых
и ищу, ищу её повсюду...
Вижу гроб, похожий на кровать,
и в надежде призрачной на чудо
начинаю край приоткрывать.
А в груди всё радость нарастала,
тихим колокольчиком звеня.
Боже мой, я столько лет мечтала!
Вижу: мама смотрит на меня.
Слабенькая и полуживая,
но живая! Тянется ко мне.
Я бросаюсь к ней и обнимаю,
и молю, чтоб это не во сне.
Но не истончилась, не исчезла,
как обычно, отнятая сном.
Я стою на самом крае бездны
и кричу в восторге неземном:
«Мамочка, я знала, ты дождёшься,
ты не сможешь до конца уйти!
Что о смерти знаем – это ложь всё,
это лишь иной виток пути...»
И меж нами не было границы
средь небытия и бытия.
Ты теперь не будешь больше сниться,
ты теперь моя, моя, моя!
Я сжимала теплые запястья,
худенькие рёбрышки твои.
О, какое это было счастье!
Всё изнемогало от любви.
Бог ли, дух ли, ангел ли хранитель
был причиной этой теплоты,
как бы ни звалась её обитель,
у неё одно лишь имя – ты.
Тучи укрывают твои плечи,
ветер гладит волосы у лба.
Мама, я иду к тебе навстречу,
но добраться – всё ещё слаба.
И в слезах я этот сон просила:
умоляю, сон, не проходи!
Наяву так холодно и сиро.
Погоди, родную не кради!
И – проснулась… Из окошка вешним
воздухом пахнуло надо мной.
Я была пропитана нездешним
светом и любовью неземной.
Счастье это было всех оттенков,
мне на жизнь хватило бы с лихвой.
Я взглянула – календарь на стенке.
Подсчитала: день сороковой.
Плюс четыре долгих лихолетья,
как судьба свою вершила месть.
Но теперь я знала: есть бессмертье.
Мама есть и будущее есть.
2
Снилось, что стою я у черты,
за которой в призрачном тумане
проступают милые черты
и зовут, и за собою манят.
Я кидаюсь к маме, как в бреду,
только вид её меня пугает.
Что-то на тарелку ей кладу,
а она её отодвигает.
Почему бледна и холодна?
Где её весёлая повадка?
Почему безмолвствует она?
И гоню ужасную догадку.
Я на пальцы мамины дышу,
каждый согревая, как росточек,
и в смятенье вдруг произношу:
«Может быть, шампанского глоточек?»
Словно я закинула блесну,
замерев над омутом тревожно.
И она, улыбкою блеснув,
озорно ответила: «А можно?»
3
Нет с этим городом связи обратной.
Адрес размыт на конверте пустом.
Не осчастливиться вестью отрадной.
Где он теперь, твой неведомый дом?
Мама и смерть – это несовместимо!
Как затесалась она меж людьми –
смерть – отвратительный, неотвратимый,
неумолимый соперник любви?!
Только однажды над чёрною ямой
чуть приоткрылись завесы края.
Сон мне приснился: записка от мамы.
Буквы теснились, разгадку тая.
Жадно хватаю... родимые строчки...
Что-то мне хочет сказать, объяснить...
Но ускользает их смысл в заморочки,
рвётся в руках Ариаднина нить.
Сопротивлялись слова мне, слипаясь,
рамка письма им казалась тесна.
Чувствую – боже мой, я просыпаюсь!
Чья-то рука меня тащит из сна.
Тайна нетронуто в небе витала
и не давала мне грань перейти.
Но изловчилась я и прочитала –
крупными буквами: «ВСЁ ВПЕРЕДИ».
Что впереди, если сомкнуты вежды?
Что впереди, когда всё позади?!
И – озаренье: то был код надежды,
что к твоей снова прижмусь я груди.
Всё впереди, – повторяла упрямо.
Что мне косая теперь и погост?
Всё впереди. Мы увидимся, мама!
Я ухватила жар-птицу за хвост.
Спи, дорогая. Забудь про былое.
Над одуванчиком кружится шмель.
Я постою над твоим изголовьем
и попрошу, чтоб никто не шумел.
4
Как мальчик детдомовский: «Где ты, мама?» – зовёт с экрана,
так я слова те шепчу пустоте, что тебя украла.
Сегодня приснилось: иду я ночью, пустынный город...
Тоска собачья, лютая, волчья берёт за горло.
Кругом чужое... чернеют тучи... ухабы, ямы...
Ищу повсюду, шепчу беззвучно: «Ну где ты, мама?»
И вдруг навстречу мне – ты, молодая, меня моложе.
Рыдая, к ногам твоим припадаю и к тёплой коже.
Ну где же была ты все дни, родная? Что это было?
А ты отвечаешь тихо: «Не знаю... Меня убило...
Меня убило грозою весенней... вот в эти бусы...»
И я проснулась. Сижу на постели. И пусто-пусто.
И я вспоминаю, как ты боялась молнии с детства.
И пряталась в ванной, а я смеялась над этим бегством.
Кругом грохотало, а я хохотала, а ты – не пикнешь...
Цыганка когда-то тебе нагадала: «В грозу погибнешь».
Ах, мама, мама, она обманула, не будет смерти!
Ты в тёмной ванной, наверно, уснула под звуки Верди.
Как ты эти бусы носить любила, как ты смеялась!
Ах, мама, мама, грозой не убило, ты зря боялась!
Границы сна между адом и раем размыты, нечётки...
Я бус костяшки перебираю, как будто чётки...


***
– Я маленькою видела тебя.
Какой был сон ужасный… Что он значит? –
Чуть свет звонит, мембрану теребя. –
Как ты, здорова ль, доченька? – И плачет.
Никто так не любил своих детей,
так слепо, безрассудно, так нелепо,
бездумно, без оглядки, без затей…
За что тебя мне ниспослало небо?
А мне все снится: набираю твой
я номер, чтоб сказать, что буду поздно,
мол, спи, не жди… А в трубке только вой
степного ветра, только холод звездный.
И просыпаюсь… Горло рвет тоска.
В ушах звучат твои немые речи.
Как от меня теперь ты далека.
Как долго ждать еще до нашей встречи.

Номер
Мне снился номер телефона,
что набирала я упорно,
от нетерпения трясясь.
Далёкий, как полярный полюс,
чуть различим был мамин голос,
но тут же прерывалась связь.
Я набирала снова, снова,
моля услышать хоть бы слово,
готова каждого убить,
кто подступал ко мне с помехой,
с чужою речью, шумом, смехом,
кто не давал мне долюбить.
Проснулась вся в слезах надежды,
не здесь, не Там, а где-то между,
и номер тот держа в зубах,
как драгоценную шараду,
как незабвенную отраду,
уж рассыпавшуюся в прах.
Хватаю трубку, набираю,
скорей, скорей, преддверье рая,
уже пахнуло сквозняком...
И слышу: «Временно не может
быть вызван...» Значит, после — может?!
И в горле застревает ком.
О боже мой, что это было?!
Я помню номер, не забыла!
Что означает этот шифр? -
пароль, что в реку вводит дважды,
танталовой измучив жаждой,
догадки молнией прошив?!
Я обращаюсь молча к звёздам,
откуда этот номер послан,
что у меня внутри горит.
И То тончайшее, как волос,
минуя и слова, и голос,
мне прямо в сердце говорит.

***
На шкатулке овечка с отбитым ушком,
к её боку ягнёнок прижался тишком.
Это мама и я, это наша семья.
Возвращаюсь к тебе я из небытия.
Наша комната, где веселились с тобой,
где потом поселились болезни и боль.
Только ноша своя не была тяжела,
ты живая и тёплая рядом жила.
Расцвели васильки у тебя на груди...
Память, мучь меня, плачь, береди, укради!
Я стою над могилой родной, не дыша,
и гляжу, как твоя расцветает душа.
Помогаешь, когда сорняки я полю,
лепестками ромашек мне шепчешь: люблю.
А когда возвращалась в обеденный зной,
ты держала мне облако над головой.
И хотя обитаешь в далёком краю,
ты приходишь ночами по душу мою.
Я тебя узнаю в каждой ветке в окне
и встречаю всем лучшим, что есть в глубине.
Вот стоит моя мама - ко мне не дойти, -
обернувшись акацией на пути,
и шумит надо мной, как родимая речь,
умоляет услышать её и сберечь.
Если буду серёжки её целовать,
может быть, мне удастся расколдовать.
Мама, ты лепесток мне в ладонь положи,
петушиное слово своё подскажи...
Только знаю, что встретимся мы сквозь года
в озарённом Нигде, в золотом Никогда.
Я прижмусь к тебе снова, замру на груди...
Продолжение следует. Всё впереди.

***
О, сна потайные лестницы,
в непознанное лазы.
Душа в тихом свете месяца
осваивает азы.
Проснулась — и что-то важное
упрятало тайный лик...
Ноябрь губами влажными
к окну моему приник.
Ах, что-то до боли светлое
скользнуло в туннели снов...
Оно ли стучится ветками
и любит меня без слов?
Дождинки в ладони падают,
зима ещё вдалеке.
День снова меня порадует
синицею в кулаке,
где в доме — как будто в танке мы,
плечо твоё — что броня,
где вечно на страже ангелы,
тепло как в печи храня.
А ночью в уютной спальне я
усну на твоих руках,
и будут мне сниться дальние
журавлики в облаках...
***
– Я руку тебе отлежала?
Твоё неизменное: – Нет.
Сквозь щёлочку штор обветшалых
просачивается рассвет.
– Другая завидует этой.
– А я – так самой себе...
Рождение тихого света.
Обычное утро в судьбе.
Жемчужное и голубое
сквозь прорезь неплотных завес…
Мне всё доставалось с бою,
лишь это – подарок небес.
Мы спрячемся вместе от мира,
его командорских шагов.
Не будем дразнить своим видом
гусей, быков и богов.

***
До рассвета порою не спим,
нашу жизнь доедаем на кухне,
вечерком на балконе стоим,
пока старый фонарь не потухнет.
Позабыты борьба и гульба,
бремя планов и страхов дурацких.
Столько лет не меняет судьба
ни сценария, ни декораций.
Но всё так же играем спектакль
для кого-то в себе дорогого.
Тихо ходики шепчут: тик-так...
Да, вот так, и не надо другого.
До конца свою роль доведя,
улыбаться, шутить, целоваться,
и уйти под шептанье дождя
как под гул благодарных оваций.

***
С тех пор как я присвоила тебя,
казна души вовек не обнищает,
хоть нету ни щита и ни копья,
и нас одно объятье защищает.
Труднее с каждым днём держать лицо.
За горло треплет вечный страх и трепет.
Но крепко наших рук ещё кольцо,
помучается смерть, пока расцепит.
Усни во мне и поутру проснись
от щебета и лиственных оваций.
Как хорошо в тени родных ресниц...
Давай с тобой и в снах не расставаться.

***
Всё, что не сон — так буднично, убого.
Ты спи. Я охраняю вместо Бога.
И пусть тебе приснится на заре,
как мы с тобой бродили на горе,
купались в самом синем в мире море
ещё не зная, что такое горе.
Любовь уже не брызжет больше новью,
а пахнет йодом, шприцами и кровью.
Но пусть тебе спокойно будет в ней.
Лицом к лицу — роднее и видней.
Любовь моя вовеки не устанет
и над тобой дышать не перестанет.
Я за тебя, ты за меня в ответе.
Ты задержи меня на этом свете.
Пусть наша жизнь перетекает в сон,
который будет сниться в унисон.
Качаясь на волнах в небесном море,
мы позабудем, что такое горе...

***
Твой звонок из больницы, ночное тревожное: «Где ты?
Я тебя потерял и никак не могу тут найти...
Я схожу в магазин... в доме нет ничего, даже хлеба...
Я приеду сейчас. Что купить мне тебе по пути?...»
«Что ты, что ты, - тебе отвечаю, - усни, успокойся.
Я приеду сама, не успеет и ночь пролететь.
Отойди от окна, потеплее оденься, укройся...».
И пытаюсь тебя убедить и собой овладеть.
Но звонишь мне опять: «Ну куда же ты делась, пропала?
Здесь закрытая дверь, в нашу комнату мне не попасть...»
Я молюсь, чтобы с глаз пелена твоих чёрная спала,
чтоб ослабила челюсти бездны развёрстая пасть...
Что ты видишь в ночи проникающим гаснущим взором,
что ты слышишь в тиши, недоступное смертным простым?
Засыпаю под утро, прельщаема сонным узором,
видя прежним тебя, быстроногим, живым, молодым...


***
Мой бедный мальчик, сам не свой,
с лицом невидящего Кая,
меня не слышит, вой не вой,
меж нами стужа вековая.
Но жизни трепетную треть,
как свечку, заслоня от ветра,
бреду к тебе, чтоб отогреть,
припав заплаканною Гердой.
И мне из вечной мерзлоты
сквозь сон, беспамятство и детство
проступят прежние черты,
прошепчут губы: наконец-то.
Благодарю тебя, мой друг,
за всё, что было так прекрасно,
за то, что в мире зим и вьюг
любила я не понапрасну,
за три десятка лет с тобой
неостужаемого пыла,
за жизнь и слёзы, свет и боль,
за то, что было так, как было.

***
Ночь приставит ко мне стетоскоп,
к моим снам, обернувшимся явью,
и заметит, что стало узко
мне земной скорлупы одеянье.
Ночь и осень, а пуще — зима -
это всё репетиция смерти.
Разучи этот танец сама
под канцоны Вивальди и Верди.
Развевается белый хитон,
легкокрылые руки трепещут.
Рукоплещет партер и балкон,
совершается промысел вещий.
Просто танец, чарующий бред...
В боль и хрипы не верьте, не верьте.
Наша жизнь — это лишь пируэт,
умирающий лебедь бессмертья.

***
Когда хорошо — мне грустно.
Ведь это скоро пройдёт.
Читаю с помощью Пруста
себя всю ночь напролёт.
Пока глаза не смежались -
копалась в своей золе.
Какие пласты слежались
в душевной моей земле?
Когда устаёт дорога
и жизни замедлен ход -
вгрызайся в свою утробу,
в колодец глубинных вод.
Там дремлет ночная тайна,
скрываясь за далью вех...
Невидимая реальность
невидима не для всех.
Пусть карта навеки бита
и слёзы текут из век -
но детский кусок бисквита
вернёт тебе прошлый век.
И жизнь по глоточку цедишь...
Минуту, неделю, год
в конце особенно ценишь -
ведь это скоро пройдёт.
Узнаешь, души не чая,
по-новому жизнь кроя,
как выплыть из чашки чая
в лазоревые края.
Не надо делать ни шагу -
земля сама за тебя
идёт, вынося из мрака,
как плачущее дитя,
в боярышник и шиповник,
в сиреневый шум и дым...
Как важно всё это помнить,
чтоб было навек живым.
В погоне за вечным раем, -
неужто же без следа? -
когда-то все умираем...
Но это не навсегда.

***
В эту ночь выли псы и немного знобило.
Я увидела сон, осязаемо-вещий, –
всех, кого я любила, кого не забыла,
и открылись мне горькие, страшные вещи.
Души мёртвых живее, чем мёртвые души
тех, кто нас всё равно никогда не услышит.
Нас прозрения мучат, видения душат,
но в ответ только дождь барабанит по крыше.
Одиночества яд — или просто аптечный,
лишь бы боль улеглась. Что нам мериться с нею?
Под землёй убаюкает дождь скоротечный.
Вряд ли там бесприютнее и холоднее.
Где же Тот, молчаливо всегда убеждавший,
что всё будет ещё, что могло быть иначе?!
Мы умрём, для себя ничего не дождавшись.
И о нас в небесах только ветер заплачет.

***
Запомнить это небо
и тени тополей,
чтоб там, где мгла и небыль,
мне стало бы теплей.
По тёмным волнам крови,
по лабиринтам снов,
туда, где кров без кровель
и чернота без слов,
неси меня, кораблик,
в нездешние края,
туда, где всё украли,
чем жизнь была моя.
Держитесь мёртвой хваткой
за то, что у черты,
за милую повадку
и близкие черты,
чтобы хоть эхом в бездне,
травинкой в волосах,
когда оно исчезнет,
оставив нас в слезах.

***
Всё дальше, слабее их отзвук и свет, –
Родные, любимые, давние лица.
А сны всё не знают, что их уже нет,
Лишь сны не хотят и не могут смириться.
И там, продираясь сквозь толщу и тьму,
Лелею тот миг окончания бегства,
Когда догоню, припаду, обниму,
"Ну вот , наконец-то, – скажу, – наконец-то!"
***
Из телефона голосов
не услыхать родных.
Их шифры новых адресов
отличны от земных.
И надо, чтоб узнать — уснуть...
Не размыкая вежд,
так сладко без конца тянуть
резиновость надежд.
Со мною те, кого нигде
на самом деле нет.
Душе так страшно в темноте.
Не выключайте свет.
***
Эта ночь адресована мне.
Звёзды множатся, как многоточия...
Продолжение сказки во сне
я увижу, услышу воочию.
Это Бог мне прислал письмена
по ночному небесному адресу.
Я любимых своих имена
прочитаю по звёздному абрису.
Если ты одинок — не грусти.
Нам во сне невозможно не встретиться.
До свиданья на Млечном Пути,
на Большой или Малой Медведице.

***
Скользну на улицу, спеша,
пока все горести уснули.
Как хороша моя душа
в часу предутреннем июля.
Весь город мой, и только мой!
(Попозже выспаться успею).
Куда б ни шла — иду домой.
Куда б ни шла — иду к себе я.
Шаги и звуки не слышны.
Лежит, потягиваясь, кошка.
Как страшен мир без тишины
и без герани на окошках!
Овечек поднебесных рать
залижет нам ночные раны.
Вставать, страдать и умирать
ещё так рано, рано, рано...

|
|
Процитировано 2 раз
Понравилось: 3 пользователям
Неудачница |

***
Солнца луч проблеснёт в тумане
и уйдёт в облака, скользя.
Жизнь – витрина, блестит и манит,
только взять ничего нельзя.
Мне не выиграть по билету,
не пристать к другим берегам.
Неудача бежит по следу
и прислушивается к шагам.
Чтобы сбить негодяйку с толку,
я схвачу по пути такси
и петлять буду долго-долго
по раскисшей весной грязи.
Обведу её вокруг пальца...
Но опять она тут как тут!
Говорит: «Не зарься, не пялься.
Ничего тебе не дадут».
***
Жизнь моя — нескладица, нелепица.
Как я ни леплю — она не лепится.
За что ни возьмусь — оно не ладится.
А потом за всё по полной платится.
Я банкрот, тупица и растратчица.
Плачется мне, плачется и плачется...
Вот куплю себе на рынке платьице -
будет мне не счастье хоть, так счастьице.
***
Словно заначку зарою в душе
этого лета излишки.
Горечь они подсластят как драже
или «на севере мишки».
Их по карманам запрячу
и целый год не заплачу.
* * *
Я ёжик, плывущий в тумане
в потоке вселенской реки.
Мне звёзды мигают и манят,
мелькают вдали маяки.
— Плыви, ни о чём не печалясь, –
журчит мне речная вода, –
доверчиво в волнах качаясь,
без мысли зачем и куда.
Но только не спрашивай:"Кто я?"
Не пробуй, какое здесь дно.
Не стоит, всё это пустое,
нам этого знать не дано.
И лунный начищенный грошик
сияет мне издалека:
плыви по течению, ёжик,
и жизнь твоя будет легка.
Колыбельная
Спи, мечта моя, вера, надежда
на всё то, что уже не сбылось,
что закрыло навек свои вежды,
что не спелось и не родилось.
Вам моя колыбельная эта,
чтоб не плакали громко в груди,
чтоб уплыли в целебную Лету
и не видели, что впереди.
Что не встретила, не полюбила,
всё, чему я сказала гуд бай,
засыпайте, чтоб вас позабыла,
баю-бай, баю-бай, баю-бай...
Все, кого не спасла от печали,
для кого не хватило огня,
засыпайте, забудьте, отчальте,
отпустите, простите меня.
Спи, несбывшеееся,
неродившееся,
баю-бай, баю-бай,
поскорее засыпай,
затухай, моя тоска,
струйка вечного песка,
не спеша теки, теки,
упокой и упеки,
холмик маленький, родной,
спи, никто тому виной...
***
Жизнь становится вчерашнею,
словно старое кино,
словно тапочка домашняя,
что разношена давно.
Горьковатый привкус опыта,
поиск истины в вине.
Мир отпетый, но не допитый,
чуть виднеется на дне.
***
Ты на дне рождения – как на дне
себя чувствуешь, если уже за сорок.
И кажется, стали ещё видней
вьюги грядущие, хлад и морок.
Сделай кораблик себе из бумаг.
Ты же любима и любишь, да ведь?
Главное – не сколько тебе, а как.
Главное – было б кому поздравить.
***
По пальцам листья перечти.
В прогалах просинь. Или проседь?
А лета не было почти.
Вслед за весною сразу осень.
Весна цветеньем наврала,
плоды неловко бились оземь.
А лето Лета погребла.
Но у меня в запасе осень.
***
Когда-то оборачивались вслед,
теперь порой не узнают при встрече.
Но сколько бы ни миновало лет -
я лишь сосуд огня Его и речи.
Кто любит — он увидит на просвет
во мне — Меня, идущей по аллее.
Ну разве что морщинок четче след,
взгляд и походка чуть потяжелее.
Пусть незавидна старости юдоль,
настигнувшей негаданно-нежданно,
но не кладите хлеб в мою ладонь.
Пусть это будет «Камень» Мандельштама.
***
Тюльпаны осыпались. Розы опали.
Сирень распустилась зато.
Вся комната – в пышной цветочной оправе.
Как жаль, что не видит никто.
Душа – решето от бессчётных ударов,
весь мир – словно цирк шапито,
жизнь – глупая шутка и прожита даром...
Сирень распустилась зато.
***
О сирень четырёхстопная!
О языческий мой пир!
В её свежесть пышно-сдобную
я впиваюсь, как вампир.
Лепесточек пятый прячется,
чтоб не съели дураки.
И дарит мне это счастьице
кисть сиреневой руки.
Ах, цветочное пророчество!
Как наивен род людской.
Вдруг пахнуло одиночеством
и грядущею тоской.
***
Где вы, катарсис, серотонин,
дом с белым садом, камин, мезонин,
всё, что желают в дни именин,
всё, что нам снится?
Что же на деле? Лживость икон,
замков руины, дура закон,
непобедимый в душах дракон,
старость, больница.
Где в парусах кумачовых корабль?
Где в небесах утонувший журавль?
Где обещания крибли и крабль,
сказочной щуки?
А на поверку — супы с котом,
светлое завтра где-то потом,
вечная сука на троне златом,
вечныя муки...
***
Голубь стучится клювом в окно.
Я насыпаю птице пшено.
Так вот и я, тетеря,
стучалась в закрытые двери.
Крыльями билась в чужое окно,
но тем, кто внутри, было всё равно.
Билась, теряла перья,
силы, года, доверье.
Но никто не открыл.
Иль не хватило крыл?
***
Жизнь протекает в неизвестности
и в песни претворяет сны.
Но вечно у родной словесности
я на скамейке запасных.
И всё же лучше буду в падчерицах
искать подснежников зимой,
чем угождением запачкаться
и изменить себе самой.
Пронзать чужие души лезвием
и ткать невидимую нить,
пока хоть что-то у поэзии
в составе крови изменить.
***
Членства и званий не ведала,
не отступав ни на шаг,
высшей считая победою
ветер свободы в ушах.
И, зазываема кланами,
я не вступала туда,
где продавались и кланялись,
Бог уберёг от стыда.
Выпала радость и таинство -
среди чинов и речей,
как Одиссей или Анненский,
зваться никем и ничьей.
Но пронести словно манию,
знак королевских кровей -
лучшую должность и звание -
быть половинкой твоей.
***
И не верила, и не просила,
не боялась... но что-то никто
не пришёл и не дал, как гласила
поговорка. Ну что ж, а зато -
всё! Цветаевские посулы
оправдались всему вопреки.
И мерцанье огня из сосуда
мне дороже дающей руки.
Но всегда, до скончания лет -
чёрный список и волчий билет.
***
Обиды — на обед,
на ужин — униженья.
Коловращенье бед
до головокруженья.
Но помни, коль ослаб,
про мудрое решенье:
про лягушачьих лап
слепое мельтешенье.
Вселенной молоко
мучительно взбивая,
спасёт тебя легко,
вздымая высоко,
душа твоя живая.
***
Какой неохватный безудержный свет!
О мир-супермаркет, чего только нет
в витринах твоих шире моря!
Чего только нет там для горя!
Беда у ворот, перекрыт кислород,
все камни летящие — в мой огород.
Но блещут огнями витрины
и тянет туда на смотрины.
Какие хоромы, чертоги, дворцы!
А все продавцы — подлецы и дельцы.
Рекой изобилие льётся,
всё куплено, всё продаётся.
О мир-супермаркет, я вечный банкрот,
но вечно раскрыт удивлённо мой рот.
Я вся в твоей пагубной власти!
Чего только нет здесь для счастья!
Дожди, снегопады, деревья в цвету,
сиянье сгоревшей звезды на лету,
закаты, рассветы, объятья
и мамины старые платья.
Мосты и огни на другом берегу,
всё то, что сродни я в себе берегу,
любимые лица и тени,
и всё это можно без денег!
***
Привыкать к стезе земной
пробую, смирясь.
То, что грезилось весной –
обернулось в грязь.
На душе — следы подошв,
слякотная злость.
И оплакивает дождь
всё, что не сбылось.
Тот застенчивый мотив
всё во мне звучит,
что умолк, не догрустив,
в голубой ночи.
Что хотел он от меня,
от очей и уст,
как в былые времена
от Марины — куст?
Неужели это миф,
сон сомкнутых вежд, –
тот подлунный подлый мир
в лоскутах надежд?
В предрассветном молоке
жизнь прополощу,
и проглянет вдалеке
то, чего ищу.
***
Надежда, стой, не уходи.
Ты где-то там, в просторах сирых,
то впереди, то позади,
и я догнать тебя не в силах.
Скажи мне, как тебя зовут?
А лучше нет, не говори мне.
Я буду просто слушать звук
из детской сказки: "крабле, крибле..."
Пусть ноет сердце под рукой -
судьбы недоенное вымя,
своей надежде никакой
я снова выдумаю имя.
* * *
Из забывших меня можно составить город.
И. Бродский
Имена дорогих и милых -
те, с которыми ешь и спишь,
консервировала, копила
в тайниках заповедных ниш.
И нанизывала, как бусы,
украшая пустые дни,
и сплетала из строчек узы,
в каждом встречном ища родни.
Был мой город из вёсен, песен,
из всего, что звучит туше.
Но с годами теряли в весе
нежность с тяжестью на душе.
Столько было тепла и пыла,
фейерверков и конфетти...
А со всеми, кого любила,
оказалось не по пути.
Отпускаю, как сон, обиды,
отпускаю, как зонт из рук.
Не теряю его из виду,
словно солнечно-лунный круг.
Да пребудет оно нетленно,
отлучённое от оков,
растворившись в крови вселенной,
во всемирной Сети веков.
Безымянное дорогое,
мою душу оставь, прошу.
Я машу на себя рукою.
Я рукою вослед машу.
Будет место святое пусто,
лишь одни круги по воде,
как поблёскивающие бусы
из не найденного Нигде.
Я немного ослаблю ворот,
постою на ветру крутом
и - опять сотворю свой город
из забывших меня потом.
***
Под луной ничто не вечно.
Светится таинственно
неба сумрачное нечто
в обрамленье лиственном.
А внизу, под сенью крова -
дней труды и подвиги.
Бурый лист, как туз червовый
мне слетает под ноги.
Ночь земле судьбу пророчит,
карты звёзд рассыпала...
Жизнь живёшь не ту, что хочешь,
а какая выпала.
***
Перед зеркалом красуясь,
от тебя я слышу: «Рубенс!»
Огорчилась: неужель?
А мне мнилось: Рафаэль!
Вот истаю, словно воск,
будет Брейгель иди Босх!
***
Жизни нет от полноты.
Нечего надеть.
Мне для счастья полноты
надо похудеть.
Ненавижу полноту
и всё то, что с ней
как-то связано в быту
человеко-дней.
Полной грудью не дышу
(может лопнуть шов).
Полной рифмой не спешу
украшать стишок.
Полноводная река –
мне и та тошна,
и пошлее колобка
полная луна.
Надо, надо, – говорю, –
зверски голодать.
И готовностью горю
полсебя отдать
в жертву будущей себе,
стройной, как газель…
Голод с совестью в борьбе
спорят и досель.
***
Пока писала я сонеты –
сгорели на плите котлеты,
пропали в оперу билеты,
сменялся вечер новым днём,
но ничего не замечала,
покуда лирою бренчала,
прочту – начну опять сначала,
и всё гори оно огнём!
Пока слагала я поэмы –
завяли в вазе хризантемы.
Кому печаль мою повем я?
Чем искуплю сии грехи?
Но – остановлено мгновенье,
но – уничтожено забвенье,
пусть сдохну я от вдохновенья,
зато останутся стихи!
***
Героизм бессребренных стрекоз.
Мотыльков безумных суицид.
За существования наркоз
вдруг тебя охватывает стыд.
Телевизор, стол, плита, кровать –
наши траектории пути.
Жизнь на полуслове оборвать,
если дальше некуда идти.
Как колдует вечер-чародей,
перед тем, как сгинуть в никуда!
А твоя нежизнь средь нелюдей...
М-да-а.
***
Снова позвонили по ошибке.
Обознатки, я опять не та.
Свет луны рассеянный и жидкий
застилает ночи темнота.
И в глазах двоится неким фоном -
то ли глюки, то ли сонный сбой -
мой двойник с похожим телефоном,
но с иной удачливой судьбой.
Я не та. Хотя ещё живая.
Разочарованье. Немота.
Телефон звонит, не уставая.
Слишком поздно. Я уже не та.
Ну кому ещё во мне потреба?!
Что вы душу травите виной!
Телефон — связующая скрепа -
между мной и миром за стеной.
Словно разорвавшаяся бомба -
нота до, взошедшая в зенит.
И не важно, мне или по ком-то
телефон как колокол звонит.
***
Ради словечка ворочать руду –
экая малость!
Жизнь застоялась, как воды в пруду.
Не состоялась.
Вскоре подскажет – когда через край, –
сердце-анатом, –
что обернулся придуманный рай
истинным адом.
Выглянет месяц из ночи слепой,
вытянув рот свой,
словно спасая от счётов с собой
и от сиротства.
***
Как собрать себя в кучку, размытой слезами,
разнесённой на части любовью и злом,
с отказавшими разом в тебе тормозами,
измочаленной болью-тоской о былом?
И поклясться берёзами, птицами, сквером -
как бы я ни качалась на самом краю,
как бы ни было пусто, беззвёздно и скверно -
я ни тело, ни душу свои не убью.
Как сказать себе: хватит! Довольно! Не надо!
Посмотри на ликующий праздник земной...
Но встают анфилады душевного ада,
и бессильны все заповеди передо мной.
***
В своём соку закисшая строка.
Фонтан, себя питающий устало.
А я – река! Нужны мне берега
и море – то, в которое б впадала.
И – города, что плыли бы в огнях...
Мне нужно всё, несущееся вольно,
глядящееся пристально в меня,
клонящееся в трепетные волны.
Но, стиснутая вдоль и поперёк
плотиной дел, инерции,рутины,
я превращаюсь в жалкий ручеёк,
в то, что судьба и жизнь укоротила.
***
Рисунок дня. Небрежный росчерк буден.
Заветный вензель на стекле судьбы.
Подарок фей. Кофейный штрих на блюде.
Что сбудется из этой ворожбы?
Ещё одна иллюзия издохнет.
Одною болью больше будет в срок.
Не сбудется судьба моя — и бог с ней.
Ведь главное — что было между строк.
***
Мелькают лица: тёти, дяди...
Мы все – единая семья.
Махнуться жизнями, не глядя.
Какая разница, друзья?
Покуда не свалюсь со стула,
сижу и знай себе пишу.
На жизнь давно рукой махнула.
Кому-то дальнему машу.
***
И по гроба, как по грибы,
теперь хожу все чаще…
О, что там зреет у судьбы
в непроходимой чаще?
В объятьях милых или книг,
или стихи кропаем –
но каждый день и каждый миг
мы что-то погребаем.
Зияют ямы на пути,
пустоты и провалы
глухим предвестием в груди,
что всё, мол, миновало.
Но вот уж сколько зим и лет –
отпетый, забубённый –
маячит в зарослях скелет
любви непогребённой.
И ждет она сквозь все нельзя
у гробового входа –
когда настигнет, вознеся,
последняя свобода.
***
«Когда б не свет луны, – о, я тогда бы...» –
Цветаева на слове осеклась.
А что луна? Она ведь тоже баба.
Кому как ей любви известна сласть.
Она ведь тоже женщина, луна-то.
Кругла лицом, круглы её бока.
И знает, что ни в чём не виновата
Цветаева, и все мы, на века.
***
Любовь нечаянно спугнула.
Она была почти что рядом.
Крылом обиженно вспорхнула,
растерянным скользнула взглядом
и улетела восвояси,
как «кыш» услышавшая птица.
Мне Божий замысел неясен,
мне это всё не пригодится.
Зачем, скажи мне, прилетала,
куда меня манила песней?
А вот ушла, и сразу стало
бесчувственней и бесчудесней.
* * *
Вечный зазор, не пускающий в грудь,
словно забор, преграждающий путь.
Словно одежда, что хочется снять,
чтоб не мешала друг друга обнять.
Словно пейзаж, отделённый стеклом.
Тянутся руки, но снова – облом.
Жизнь, разделённая вечной межой:
близкий – и дальний, родной – и чужой.
***
В кофейной ли гуще, в стихах, во сне
увидится некий бред –
повсюду грядущее кажет мне
уайльдовский свой портрет.
Я кофе давно растворимый пью
и часов замедляю ход,
но вновь наступает на жизнь мою
непрошенный Новый год.
Меж прошлым и будущим – пять минут.
Застыло на миг бытиё.
И бездне страшно в меня заглянуть.
Страшнее, чем мне – в неё.
***
Налицо улыбка,
а с изнанки — боль.
Ты играй мне, скрипка.
Сыпь на рану соль.
Старые обиды,
не поймёшь, на что.
Вся душа пробита,
словно решето.
Сердцу нужен роздых.
Этот мир — дурдом.
Музыку как воздух
я хватаю ртом.
Гребни волн упруги,
хоть по ним скользи.
Помню твои руки
и глаза вблизи.
Надо мной смеётся
или плачет Бах?
Память остаётся
в пальцах и губах.
В этих звуках адских
радость словно злость...
В королевстве Датском
что-то не срослось.
* * *
Наш ужин скуден и нехитр:
овсянка, сэр. Сырок, кефир.
О, трапеза и затрапеза!
Да, далеко же нам до Креза.
* * *
Не Венера, не Афродита.
Выгляжу серо, гляжу сердито.
Не в шелках, не на каблуках...
Но есть что-то во мне, что нетленно.
Я – синица в твоих руках
с журавлиной душою пленной.
***
Взвалю на чашу левую весов
весь хлам впустую прожитых часов,
обломки от разбитого корыта,
весь кислород, до смерти перекрытый,
все двери, что закрыты на засов,
вселенское засилье дураков,
следы в душе от грязных сапогов,
предательства друзей моих заветных,
и липкий дёготь клеветы газетной,
и верность неотступную врагов.
А на другую чашу? Лишь слегка
ее коснётся тёплая щека,
к которой прижимаюсь еженощно,
и так она к земле потянет мощно,
что первая взлетит под облака.
***
Жизнь моя дремлет и сладкие сны
ей навевают остатки весны.
Пусть мне уже не послушен реал,
но как воздушен ночной сериал...
Вот загорается в небе звезда,
приоткрывается дверь в навсегда...
Кружатся лица, как листья в лесу.
Сколько любви я с собой унесу...
Нежности кружево, сны наяву...
Чтоб вы так жили, как я не живу.
***
Луна или жизнь на ущербе?
О, только себе не соврать.
И месяц, как маленький цербер,
мою караулит тетрадь.
Охота поплакаться Музе,
но тщетно молю я: «Сезам...»
Мы жаждем не истин – иллюзий,
что нас вознесут к небесам.
Но корчится в муках Россия,
но где-то стучат топоры...
Поэзии анестезия
спасает меня до поры.
* * *
Сорвалось с языка – не поймаешь,
как какого-нибудь воробья.
И сама потом не понимаешь,
ну зачем это ляпнула я?
Не сдержалась – и нет мне покоя.
Буду впредь молчаливее рыб!
А стихи – это нечто другое –
помраченье, наитье, порыв...
Будьте сдержанны в жизни цивильной,
придержите любовь или злость.
А стихи – это то, что стихийно.
То, что с сердца сейчас сорвалось.
***
Когда душа и жизнь в разоре —
позволь мне, Высший Судия,
остаться где-нибудь в зазоре
небытия и бытия.
Чтоб не с самой собою в ссоре
уйти, рассеиваясь в дым,
позволь остаться мне в зазоре
между небесным и земным.
Чтоб не во мгле и не в позоре,
не в пекле боли, не в петле, -
травинкой в стихотворном соре,
в Тобою вышитом узоре
на замерзающем стекле.
***
Как будто я оставлена на осень,
не сдавшая экзамен у судьбы:
запутавшись в задачке из трёх сосен,
искать в лесу ответы как грибы,
читать в корнях вещей первопричины,
смирению учиться у травы...
А я бы и осталась, и учила,
да школа жизни кончена, увы.
Что, вечной второгоднице, мне делать
с просроченною жизнью и тоской,
с застывшим в пальцах мелом задубелым
над гробовою чистою доской?
Постойте, я не всё ещё сказала!
Но вышел срок, и всё пошло не впрок.
На том свету, как перед полным залом,
в слезах любви, в прозренье запоздалом
отвечу Богу заданный урок.
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/415062.html#comments
|
|
Процитировано 2 раз
Понравилось: 3 пользователям
Когда хорошо - мне грустно... |

***
Когда хорошо — мне грустно.
Ведь это скоро пройдёт.
Читаю с помощью Пруста
себя всю ночь напролёт.
Пока глаза не смежались -
копалась в своей золе.
Какие пласты слежались
в душевной моей земле?
Когда устаёт дорога
и жизни замедлен ход -
вгрызайся в свою утробу,
в колодец глубинных вод.
Там дремлет ночная тайна,
скрываясь за далью вех...
Невидимая реальность
невидима не для всех.
Пусть карта навеки бита
и слёзы текут из век -
но детский кусок бисквита
вернёт тебе прошлый век.
И жизнь по глоточку цедишь...
Минуту, неделю, год
в конце особенно ценишь -
ведь это скоро пройдёт.
Узнаешь, души не чая,
по-новому жизнь кроя,
как выплыть из чашки чая
в лазоревые края.
Не надо делать ни шагу -
земля сама за тебя
идёт, вынося из мрака,
как плачущее дитя,
в боярышник и шиповник,
в сиреневый шум и дым...
Как важно всё это помнить,
чтоб было навек живым.
В погоне за вечным раем, -
неужто же без следа? -
когда-то все умираем...
Но это не навсегда.
***
Ветер обыскивал грубо,
но ничего не нашёл.
Был легкомысленно хрупок
юбок взлетающий шёлк.
Явно слетая с катушек
в виде каштанов и лип,
ветер обыскивал душу,
дуя на то, что болит.
Что у меня за душой?
След от любви большой.
Что у меня в крови?
Свет от большой любви.
***
Запомнить это небо
и тени тополей,
чтоб там, где мгла и небыль,
мне стало бы теплей.
По тёмным волнам крови,
по лабиринтам снов,
туда, где кров без кровель
и чернота без слов,
неси меня, кораблик,
в нездешние края,
туда, где всё украли,
чем жизнь была моя.
Держитесь мёртвой хваткой
за то, что у черты,
за милую повадку
и близкие черты,
чтобы хоть эхом в бездне,
травинкой в волосах,
когда оно исчезнет,
оставив нас в слезах.
***
Жизнь моя дремлет и сладкие сны
ей навевают остатки весны.
Пусть мне уже не послушен реал,
но как воздушен ночной сериал...
Вот загорается в небе звезда,
приоткрывается дверь в навсегда...
Кружатся лица, как листья в лесу.
Сколько любви я с собой унесу...
Нежности кружево, сны наяву...
Чтоб вы так жили, как я не живу.
***
Луны недрёманное око
следит за каждым из окон,
напоминая, что у Бога
мы все под круглым колпаком.
Души незримый соглядатай,
ты проплываешь надо мной,
напоминая круглой датой,
что всё не вечно под луной.
Чего от нас судьба хотела,
в час полнолуния сведя,
когда в одно слились два тела,
над сонным городом летя?
И, может быть, ещё не поздно
вскочить в тот поезд на бегу...
Ловлю ворованный наш воздух
и надышаться не могу.
Придёт зарёванной зарёю
иной заоблачный дизайн...
Летящий отблеск над землёю,
побудь ещё, не ускользай!

***
Раньше жизнь мы пили из горла,
а теперь смакуем по глоточку.
Но пока ещё не умерла,
и над «и» не время ставить точку.
Кружатся над нами миражи,
маски на весёлом карнавале...
Где же то, что обещала жизнь,
что от нас так долго укрывали?
Праздник, обернувшийся бедой,
на дары наложенное вето...
Помнишь, как нам в детстве жёг ладонь
фантик, притворившийся конфетой?
Отыщи орех под скорлупой
и не бойся, что он там надкушен.
Приходи, безбашенный, слепой,
по мою облупленную душу.
Пусть не достучаться к небесам
и ларец с сокровищем потерян,
но откроет, что не мог Сезам,
ключик золотой от нашей двери.
***
Сколько же раз проходили мы
вот под таким же небом,
тем же улицам, но немы
были сердца и слепы.
А Тот, кто держит свиток судьбы
и предрешает встречи,
нас уже выделил из толпы
и больше нам не перечил.
И пометил себе в блокнот
крестик на этом месте,
где однажды давным-давно
даст нам столкнуться вместе.
Помнишь ту заводскую — как
в песне — ту проходную,
где удержала твоя рука,
чувствуя, что тону я?
Сквозь агитаций наглядных вздор,
грамот почётных липу
хлынул небес грозовой простор,
грянуло: либо — либо.
Как не ошиблась средь шелухи
мудрость первого взора?
Так же, наверное, как стихи
в сердце растут из сора.

***
Незаметна стороннему глазу,
я по жизни иду налегке
за волшебно звучащею фразой,
что маячит ещё вдалеке.
Начинается новой главою
день в косую линейку дождя.
Зеленеет и дышит живое,
о своём на ветру шелестя.
Чтоб мотив тот подхватывал всякий,
напевая его при ходьбе...
А когда моя муза иссякнет,
то я буду молчать о тебе.

|
|
Процитировано 2 раз
Понравилось: 3 пользователям
"Она пела, как поёт птица". Эпилог. |
К 230-летию со дня рождения Марселины Деборд-Вальмор
Начало здесь

памятник Марселине Деборд-Вальмор
в её родном городе Дуэ
Слава
Имя Деборд–Вальмор становится знаменитым. Сборники её стихов продаются не только в книжных лавках Парижа, но и в провинции. Уже в 1832 году скульптор Пьер Жан Давид (Давид из Анжера, а не знаменитый Луи Давид), задумав создать серию медальонов самых знаменитых современников, включает в неё изображение профиля Марселины.


Молодой начинающий издатель с большим будущим Шарпантье в 1833 году подписывает с ней контракт на издание сборника «Плач» с предисловием Александра Дюма и нескольких романов.
За сборник сказок для детей в стихах и прозе «Ангелы семьи» в 1850-м году Марселина Деборд-Вальмор удостаивается академической награды.
В 1854 году талантливый, но ещё мало кому известный фотограф Надар уговаривает 68-летнюю Марселину придти к нему в ателье, ибо фото знаменитой писательницы привлечёт к нему клиентов и принесёт удачу. Марселина по доброте душевной не может не помочь молодому человеку. На фотопортрете перед нами не прославленная дама высшего света, а пожилая многострадальная женщина, не утратившая своей доброты и внимания к людям.

(Вторично Надар запечатлеет Марселину уже на её смертном ложе. Но это случится ещё пять лет спустя).
Уход в бессмертие
И вот она, старая женщина, одна на свете. Бедность и и печаль обводят её тесный удел чёрной каймой. Одна последняя подруга осталась ещё у неё, и она пишет ей о тайне своего одиночества: «Вот послушай, сегодня я пошла в церковь и зажгла там восемь свечей, таких же бедных, как я сама. Эти свечи за восемь душ — за мою душу, за отца, мать, брат, сестёр и детей. Я видела, как огни горели и сгорали, и казалось мне, - я должна умереть. Скажу только тебе — это было посещением Бога... Я живу в невозможном. Ничего уже не знаю о действительной жизни, если только это жизнь. Дорогая моя душа, я могу только обнять тебя и набросать беспорядочно о том неизменном чувстве, которое привязывает меня к тебе...»
Но вскоре ей уже некому сказать задушевного слова: и эта, последняя подруга, опережает её.
Только к тому, кто не отвечает, но всё слышит, устремлены её сетования. Все стихи, что ещё напишет Марселина Деборд-Вальмор — это беседы с Богом. Она поднимает к небу залитое слезами лицо, чтобы не видеть больше земли, которая отняла у неё то, что было жизнью. Она уже давно простилась со всем.
Всем изумлениям моим пришёл конец.
Готова взмыть душа, со всем земным простившись.

Никому уже не нужна её бесконечная любовь, и поэтому она не видит смысла жить. Последние её стихи удалены ото всего земного и пронизаны ощущением Божества, как сумрак церкви — солнечным светом, пробивающимся сквозь цветные витражи.
Любовь есть Бог, в громах творящий
свою грозу;
Не думай след её горящий
искать внизу:
внизу всё предаётся пыли
и забытью;
Земные розы — на могиле,
любовь — в раю!
Но близок, близок час, подруга:
средь вешней тьмы
мы разлучимся, и друг друга
оплачем мы.
Другую душу лёгкой тканью
ты облечёшь
и блеск бессмертному пыланью
опять вернёшь.
Ты полетишь туда, где вечно
поёт весна,
куда часы спешат беспечно,
спешит волна;
к тому, кто молод, кто смеётся
сиянью дня, -
и старость бледная сомкнётся
вокруг меня.
(«Психея»)
Жизнь могла у неё похитить всё, только не жар сердца. Но теперь она уже не полыхает как страстный факел, а горит в ясном безветрии, как некий вечный свет. «Нет, не угасло сердце — ввысь ушло!»

Сквозь всё утончающуюся телесную оболочку ещё жарче пылает душа. В этих стихах она уже восходящая, освобождённая, уже приблизившаяся к Богу, сердечно связанная с Ним.
Не бросил Ты цветка, утратившего свежесть,
земли слепой закон Ты заменил своим,
и Ты меня простил в светлейшем из убежищ
за то, что жизнь свою я раздала другим...
Не дай мне испытать, как леденеют годы,
Ты, выткавший мой дух из нежного огня!
Избавь своё дитя от долгой непогоды.
Я темноты боюсь. Пусти на свет меня!
23 июля 1859 года смерть наконец берёт её к себе.
Я ухожу, как за далёкий бор
уходит нить ручья, текущего полями;
Как птица, уношусь в сияющий простор
к источнику любви, что сердце утоляла.


Марселина Деборд-Вальмор на смертном одре
Марселину хоронят на высоком Монмартрском кладбище, недалеко от могилы Генриха Гейне.

А в Дуэ, в маленькой серой церковке, где её крестили ребёнком, священник читает последнюю молитву за упокой её души.
Но в тёмном и величавом соборе славы все великие поэты Франции служат по ней заупокойную литургию. Ш. Бодлер, В. Гюго, А. Франс — каждый произносит своё благодарение за её любовь, каждый читает её великой душе поэтическую молитву, и, быть может, прекраснейшую из них создал Поль Верлен:
Иные славы есть — славнейшие, быть может,
чей оглушает гром, чей блеск глаза слепит,
её же слава, что от жарких слёз кипит,
дымится, пенится, - на музыку похожа.
Тот роковой поток любви, скорбей, страданий,
лишь кротостью её и чистотой смирён,
и день и ночь, дождём и солнцем осиянный,
стремит свои струи под светлым небом он.
То бесконечный гимн всей нежности людской,
в него, средь ужаса, что нас влачит по свету,
дочь, мать, любовница вплетают голос свой,
в том гимне слышится рыдание поэта,
его великое всемирное моленье
и красота его живого мастерства,
где плоть и кровь, и смех и слёзы поколений,
где всё как бы само слагается в слова.

Пламя своих стихов каждый из них зажёг от её огня, и так лучезарная цепь поэтических строк потянулась от её мира до нашего времени. И теперь нам, потомкам, дано благоговейно познать высшую тайну её жизни и искусства, благороднейший завет поэта: утолить страдание бесконечной любовью и претворить жалобу в вечную музыку.

Жители Дуэ бережно относятся к памяти своей соотечественницы. Театру Дуэ присвоено её имя. На его плафоне изображена фигура поэтессы.
Во Франции стали выпускать марки и конверты с её изображением.



библиотека Марселины Деборд-Вальмор в г. Дуэ.
Здесь хранятся все её рукописи.
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/409991.html
Лит-ра:
Люсьен Декав «Горестная жизнь Марселины Деборд – Вальмор».
Цвейг С. Деборд-Вальмор // Цвейг С. Собр. сочинение М., 1963. Т. 6; Planté Ch. La petite soeur de Balzac. Р., 1989;
Гречаная Е. П. «Младшая сестра Бальзака»: М. Деборд-Вальмор // Французская литература 30-40-х гг. XIX в. «Вторая проза». М., 2006.
Е.П. Гречаная. «Младшая сестра Бальзака»: Марселина Деборд-Вальмор
Анна Плантаженэ (Anne Plantagenet) «Одна на свидании» (2005).
Великовский Самарий Израилевич "В скрещенье лучей. Очерки французской поэзии XIX–XX веков"
duchelub (ЖЖ)
Публикации на русском языке
Гостиная леди Бетти: Английские нравы. СПб.: Тип. А. Смирдина, И. Глазунова и К°, 1836
Французские лирики XIX века/ Пер. Валерия Брюсова. СПб: Пантеон, 1909
Стихотворения// Багровое светило. Стихи зарубежных поэтов в переводе Михаила Лозинского. М.: Прогресс, 1974, с.28-36
Стихотворения// Европейская поэзия XIX века. М.: Художественная литература, 1977, с.641-645
Стихотворения// Поэзия Франции. Век XIX. М.: Художественная литература, 1985, с.57-66
Французская поэзия. Ростов-на-Дону: Феникс, 1996
Стихотворения// Семь веков французской поэзии в русских переводах. СПб: Евразия, 1999, с. 270-272
|
|
Процитировано 3 раз
Понравилось: 4 пользователям
"Она пела, как поёт птица". Окончание. |
К 230-летию со дня рождения Марселины Деборд-Вальмор
Начало здесь
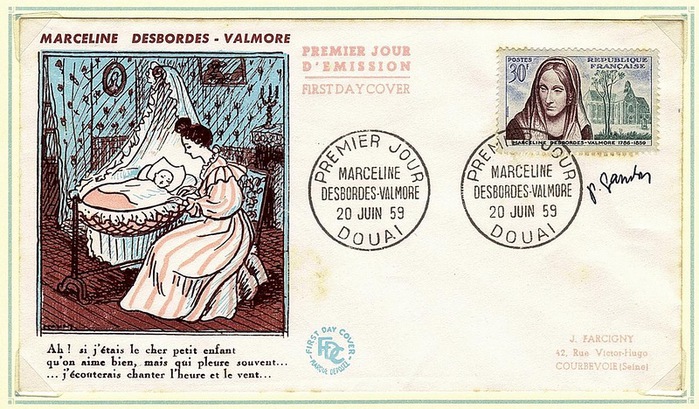
Рождение поэта
В 1818 году издатель Франсуа Луи предлагает Марселине издать однотомник всех её романсов и стихов, рассеянных по разным альбомам. Первый сборник, вышедший в 1819 году под названием «Элегии и романсы», имел большой успех у публики и у критиков. Так родился новый поэт – Марселина Деборд–Вальмор.

Король Луи-Филипп назначил ей пожизненную королевскую стипендию. Поэтесса была отмечена многими литературными премиями. Впоследствии вышли ещё несколько её поэтических сборников («Мария, элегии и романсы» («Marie, élégies et romances», 1819), «Элегии и новые стихи» («Élégies et poésies nouvelles», 1825), «Плачи» («Les pleurs», 1833), «Бедные цветы» («Pauvres fleurs», 1839), «Букеты и молитвы» («Bouquets et prières», 1843) и автобиографический роман «Мастерская художника» («L’atelier d’un peintre», 1833). Пользовались популярностью содержащая воспоминания детства повесть Деборд-Вальмор «Антильские бдения» («Les veillées des Antilles», vol. 1-2, 1821) и произведения для детей.
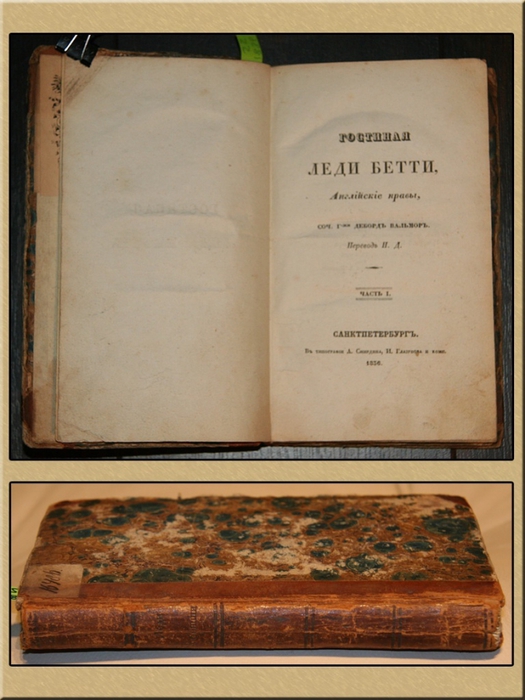
В молодости актриса, певица, выступавшая и в Париже, и по провинциальным городам, но покинувшая подмостки после замужества, Марселина Деборд-Вальмор потянулась к перу и бумаге как к отдушине в своём трудном семейном житье, заполненном хлопотами по хозяйству, переездами с места на место, болезнями родных, утратами детей. Но именно будничная непритязательность, милое чистосердечие ее исповеди кому-то очень близкому, родственнице или подруге, прозвучали разительно свежо посреди процветавшего в те годы трескучего велеречия, да и позже вспоминались как родниковое откровение.
В 20-е годы 19 столетия эти стихи стали известны и в России. Два тома 23-го и 25-го годов оказались на полках Пушкина. Критики пишут, что источником письма Татьяны к Онегину послужила одна из элегий Марселины:
Я, не видав тебя, уже была твоя.
Я родилась тебе обещанной заране.
При имени твоем как содрогнулась я!
Твоя душа меня окликнула в тумане.
Оно раздалось вдруг, и свет в очах погас;
Я долго слушала, и долго я молчала:
Нас в этот миг судьба таинственно венчала,
Как будто нарекли мне имя в первый раз.
Скажи, не чудо ли? Еще тебя не зная,
Я угадала в нем, кому обречена я,
Его узнала я и в голосе твоем,
Когда ты озарить пришел мой юный дом.
Услышав голос твой, я опустила веки;
Один безмолвный взгляд нас обручил навеки;
Тот взгляд с тем именем казались мне слиты,
И, не спросив о нем, я знала: это ты!
И с той поры мой слух им словно околдован,
Он покорен ему, к нему навеки прикован.
Я выражала им весь мир моей души;
Связав его с моим, я им клялась в тиши.
Оно мерещилось мне всюду, в дымке грезы,
И я роняла слезы.
Пленительной хвалой всегда окружено,
Светло увенчанным являлось мне оно.
Его писала я... Потом писать не стала
И мысленно его в улыбку превращала.
Оно и по ночам баюкало мой сон;
С зарей я слышала его со всех сторон;
Им полон воздух мой, и, если я вздыхаю,
Я теплоту его всем сердцем ощущаю.
О имя милое! о звук, связавший нас!
Как ты мне нравишься, как слух тобой волнуем!
Ты мне открыло жизнь; и в мой последний час
Ты мне сомкнешь уста прощальным поцелуем!
(пер. М. Лозинского)
Пушкин взял за образец «Элегию» Марселины Деборд-Вальмор для письма Татьяны к Онегину, справедливо рассматривая стихи французской поэтессы как типично женскую поэзию, которой увлекались и писали себе в альбомы его современницы.

Первым в 1929 году на сходство письма Татьяны с «Элегией» Марселины Деборд-Вальмор обратил внимание В. Набоков, а затем и другие пушкинисты.
Бедные слова, от которых плачешь
Я, странница, в слезах бредущая дорогой,
поведала о том, что говорят лишь Богу.
Это непосредственная, бесхитростная поэзия, идущая из самого сердца. Она не украшена ни искромётными самоцветами редкостных слов, ни яркими метафорами и пышными образами. Жизнь рано оторвала Марселину от детства, нужда и заботы выбили книги из рук. Судьба никогда не оставляла ей досуга, чтобы пополнить своё образование. Поэтесса была малограмотна, писала с орфографическими ошибками.
Из письма подруге: «Ты ведь знаешь, что я неучёная, не учёнее деревьев, которые гнутся и выпрямляются, сами не зная, почему».
Искусство Марселины Деборд-Вальмор безыскусно, рифмы бедны, форма стихов однообразна, её поэтический голос почти не отличается от обыденной речи. У неё нет ничего, кроме неприхотливых слов, которые, как говорил Рильке, «прозябают в буднях», маленьких, простых, «бедных слов, божественных слов, от которых плачешь». Поэтом делает её не язык, не перенятое от других, а только то, что она извлекает из собственной груди, бесконечное чувство, и затем - верховная сила всего её существа — музыка.
Она всегда разговаривает только сама с собой; погружённая в свой призрачный мир, она произносит монологи и совершенно забывает о том, что ведь и другие могут услышать её голос. Потому-то её стихи так неслыханно откровенны, исповедальны. Это не что-то сочинённое, созданное усилием воли, несущее печать замысла, это просто излившееся, мимолётное, вырвавшееся из груди подобно крику или вздоху, ибо гений Марселины Деборд-Вальмор — это гений непосредственности. Напетые за шитьём, среди трудов и забот, или занесённые на крыльях сна, эти стихи слетают к ней, лёгкие и трепетные, как мотыльки. Стихотворение «Моё жилище» - разве это не чистый воздух, растворяющийся в музыке? Вслушайтесь в него, в эту молитву бедной души, чающей утешения:
Комната над крышей,
в небо два окна;
обитает выше
лишь одна луна.
Кто стучится в двери?
Что мне до того!
В чей приход поверю,
раз не жду его?
Опустело место
за столом моим,
опустело кресло,
где сидели с ним...
Счастье, упоенье
были как во сне.
Лишь одно смиренье
остаётся мне.

В этой предельной искренности, где ни одного слова лжи, ни одной фальшивой ноты, ничего приукрашенного или лицемерного — высшая ценность её стихов. Именно потому, что они ничем не обязаны фантазии, а всем — только пережитому, кроме того эти стихи очень женственны. Никогда ещё после Сафо не было дано так глубоко и ясно заглянуть сквозь покровы поэзии в женское сердце, увидеть душу такой обнажённой, омываемой чувством. Мы, словно в чужую комнату, украдкой заглядываем в её жизнь. Но она, обнажённая, так чиста, так благородна и целомудренна, что мы, подсматривая, не чувствуем неловкости и стыда.
Ни у одного поэта чувство не было столь прозрачно, как в стихах Марселины Деборд-Вальмор, и фраза Сент-Бёва — для неё — высшая хвала: «Она уже не поэт, она — сама поэзия». Не сама она творец, а чувство как бы творит через неё.
Вот ещё один перевод этого пленительного стихотворения (к сожалению, не знаю, чей):
Высоко живу я,
выше крыш, одна.
Бледная, кочуя,
здесь гостит луна.
Если у порога
раздаётся звон,
не встаёт тревога:
всё равно — не он!
Ото всех далёко,
тку свои цветы;
в сердце нет упрёка,
но грустят мечты.
Тихого пространства
вижу бирюзу;
вижу звёзд убранство,
иногда — грозу.
Стул с обивкой алой
дремлет в стороне:
он служил, бывало,
и ему, и мне.
Лентою повитый
(тонкая тесьма),
он стоит, забытый,
как и я сама.
(«Моя комната»)

Она писала весьма простым языком, но вместе с тем ее стихотворения отличаются утонченным изяществом и музыкальностью, которые мудрено сохранить в переводе.
Родом из музыки
Её стихи изначально рождались как музыкальные произведения. Нет, Марселина сама не сочиняла музыку; она напевала знакомую мелодию (Шуберта, например) и в её ритме возникали поэтические строки.
В музыке — сущность и источник её творчества. В молодости Марселина любила гитару. Её тонкий слух запоминал мелодии, услышанные в театре, на улице и дома, в долгие часы одиночества, она и сама сочиняла меланхолические романсы и песенки к звучащему внутри её напеву. Незаметно, совершенно бессознательно, как тянется к небу полевой цветок, из этой невинной игры вырастало подлинное влечение, страсть к поэтической исповеди. «Музыка, - пишет Сент-Бёв, - сама по себе начала превращаться в ней в поэзию, слёзы запали ей в голос, и вот однажды элегия сама расцвела у неё на устах».

Марселина Деборд-Вальмор вся — музыка, потому что вся она — душа. Ей была дарована та, высшая, земная и неземная власть, которая из семи звуков, из октавы, созидает целую вселенную ощущений. Она одухотворяет самую убогую рифму, самое незамысловатое слово.
Долгие годы она слагает стихи не для мира, она просто поёт, чтобы убаюкать свою боль, «чтоб сердце бедное своё угомонить».

Утратив мать, потеряв ребёнка, осиротевшая в любви, она находит себе утешение в песне.

При этом Марселина почти не сознаёт, что слагает стихи, она всю свою жизнь не понимала, что она «поэт». Ей теснит грудь, в душе закипает боль и грозит разорвать ей сердце, эта боль поднимается всё выше и душит её, но у неё на устах она уже становится мелодией. В своих стихах она плачет, стонет, молится, и то, что другие женщины поверяют в церкви духовнику, то, что растворяется в поцелуях или одиноко тонет в слезах и жалобах, всё это здесь, благодаря музыке души, становится взлётом и освобождённой мелодией.
Музыка принесла ей поэзию, и музыка уносит поэзию от неё в мир. Подруги и посторонние кладут на ноты её песенки, и она изумлена, ей не верится, что эти стишки, которые она сочиняла за работой, полуиграя, полувосне, имеют какую-то ценность, какое-то значение. Ведь творчество было для неё только утишающим боль средством, маленькой радостью в великих страданиях.
И вдруг приходят люди, великие, знаменитые поэты, и прославляют это как литературу. Сент-Бёв приветствует её стихи гимном, Бальзак, задыхаясь и пыхтя, взбирается к ней на высокий этаж по 130-ти ступеням, чтоб выразить ей своё восхищение, Виктор Гюго ещё мальчиком восторгается ею. Но никакая слава не может отучить её от глубочайшей скромности, от невысокой самооценки:
Чтоб вверить ветру слова мысль свою,
поэту строгая необходима школа.
А я, дикарка, просто так пою,
мои учителя — леса и долы.

Марселина Деборг-Вальмор
Женщина
Она воистину женщина, потому что любовь есть смысл и подвиг всей её жизни. Её страсть питается не ответной любовью, но потребностью любить, которая в ней безгранична и нескончаема. Не извне вторгается в неё чувство, но возникает изнутри, из неисповедимых глубин её сердца. Её чувство неутомимо, она неустанно отдаёт его мужу, детям, друзьям, миру, Богу. Тот, кто стал её обольстителем, на сцене её жизни — всего лишь вестник, который подаёт реплику, чтобы могла зазвучать трагедия сердца, а затем удаляется и исчезает во тьме; великая игра, которую начала с нею любовь, кончается не с ним, а с её собственной жизнью. Ария её души не умолкает вплоть до последнего дня.

Всю жизнь она в храме своего сердца приносит жертвы Богу чувства. Она безропотно отдаёт всё, что может отнять у своей жизни: возлюбленному — свою чистоту, мужу — каждодневный труд и силы, детям — заботы, чувству — стихи и небу — молитву. Отказать было бы для неё смертью: «Доколе щедр — не хочешь умирать!»
Сама она отвыкла от счастья и находит его лишь в том, чтобы видеть счастливыми других. Её счастье — она рано сознаёт это — только слёзы, и она любит их как счастье, которого ей страшно лишиться. Она находит сладость и блаженство в страдании, страдание — её подлинный мир, и её жалоба становится молитвой.
Её кроткому сердцу неведомы гнев, укор, обида. Для своего обидчика-обольстителя она находит чудесные слова прощения:
Я Богу говорю о нём, не проклиная,
чтоб Бог его любил, как я его люблю.
Она находит оправдание для всех, кто её мучил и унижал:
За тех, кто огорчал меня своим презреньем,
кто в бурю заставлял покинуть кров,
кто солнце отнимал и сень дубов,
кто на пути моём бросал каменья, -
за всех она молит Бога:
О Господи! И ты познал презренье!
Неся свой тяжкий крест, Ты указал нам путь.
За всех безгласных, чьи мольбы теснят мне грудь,
не о возмездии прошу, но о прощенье!
И самому Богу она прощает, что Он отнял у неё четверых из пяти детей, что ниспослал своих ангелов смерти на всех, кто был ей дорог. Она обращается к Нему не с жалобой на эту самую горькую из всех утрат, а с мольбой за других матерей. И героическая доброта самоотречения звучит в её молитве:
О Боже! Охраняй счастливых матерей
во имя матери своей и нас, скорбящих,
в купели наших слёз их окрести детей
и обними моих, у врат твоих стоящих.

В этой кажущейся слабости, в этом беспредельном самоунижении скрывается сила Марселины Деборд-Вальмор, её чудесный героизм. Её жизнь — жизнь героини, святой, и Декав нашёл для неё прекрасное имя: Notre-Dame des Pleus - «богородица слёз». Стойкой её делает её внутренний пыл. Подобно тому, как её худенькое хрупкое тело вопреки всем болезням не сдавалось более полувека, так и её характер преодолевал все невзгоды.
Кто знает, чего стоила ей та улыбка, с которой она встречала вечером усталого мужа, чего ей стоил этот героизм — четыре раза подниматься с колен от смертного ложа своих детей и снова возвращаться к жизни, которая была так ужасна. Эта тысячекратно закалённая сила, позволявшая ей бороться с отчаянием и неуклонно служить любви, и есть то чудо, которое поддерживало её огонь вплоть до последнего дня и давало быть поэтом вплоть до последней строки. У других женщин чувство обычно угасает вместе с любовью, у других поэтесс страсть остывает по мере того, как уходят годы, она же преображает и беспредельно возвышает своё чувство. С возлюбленного — на мужа, с мужа на детей переносит она свою жертвенную любовь, и никогда не угасает священный огонь. Что бы ни бросала в него жизнь — страдание, горечь, отвращение, - он только жарче разгорается, и шестидесятилетняя женщина служит ему ещё самоотверженнее, чем молодая девушка. Пламя, которое некогда достигало всего лишь уст возлюбленного, согревало её детей и мужа, - в последние годы сливается воедино с вечным огнём.

Заступница
Она не знает, как раздобыть на завтра хлеба себе и детям, а тут у неё ещё просят денег брат, отставной солдат, безработный дядя, старик свёкор. И она даёт, раньше, чем взять себе. Её, вечную просительницу, знают во всех министерских приёмных. То она ходатайствует за бедную вдову, отставную актрису, то хлопочет об освобождении несчастного заключённого, то изнашивает подошвы, раздобывая 500 франков на обратный путь молодому итальянцу, - но никогда не просит для себя. Мы читаем в её письмах, как она, сама вечно бедствующая — вечная заступница во всех людских скорбях. Своими литературными связями она пользуется исключительно для того, чтобы облегчить чужую нужду.
Лионское восстание в апреле 1834 года было подавлено с большой жестокостью. В эти дни Марселина Деборд-Вальмор ходила по городу, помогая раненым и семьям убитых.

восстание лионских ткачей, 1834.
В письме к Фредерику Лепетру, главному секретарю мэрии, женатому на подруге Марселины, она пишет: «Была одна надежда: отмена смертной казни.. Мне всё время казалось: вот-вот я услышу, что это многолетнее желание осуществлено. Но это неправда... Нет милосердия, нет искренней жалости, есть только головы, которые падают, есть только матери, которые вопят в напрасном отчаянии. Я бы хотела умереть, чтобы не слышать больше».
Суровость суда, каждый приговор повергают её в безутешное отчаяние: «Когда я вижу эшафот, я готова уползти под землю, я не могу ни есть, ни спать». Она не в состоянии понять, как можно наказывать вместо того, чтобы прощать. «Галеры! Боже мой! Из-за шести франков, из-за десяти франков, за вспышку гнева, за горячее, упрямое мнение... А они, богачи, власть имущие, судьи! Они идут в театр после того, как сказали: «Казнить!»

Её сердце не в силах этого постичь, для неё всякий преступник лишь несчастный, а всякому несчастью она чувствует себя сродни. И когда в какой-то тюрьме Марселина проникает к начальнику, чтобы просить за заключённого, и выходит оттуда с хорошими вестями, она облегчённо вздыхает: «Я чувствовала себя словно на небесах, когда выходила оттуда».
Она не понимает людей, равнодушных к чужим несчастьям, тех, кто оберегают, не дарят себя, не помогают тем, кому плохо. Она глядит на них без ненависти, но с недоумением, отчуждением, как на существа совсем иные, чем она, потому что им недостаёт как раз того, в чём её единственное богатство: щедрого, неисчерпаемого милосердия, вечно расточаемого себя чувства. И в сокровенной глубине своего всепрощающего сердца она, может быть, даже жалеет безжалостных, как самых бедных среди бедных.

Эта зоркость Марселины Деборд-Вальмор к страданиям ни с чем не сравнима. Прочтите её описания Италии: она в первый раз в Милане, но замечает не мощённые мрамором улицы, по которым катят кареты, не сладострастно-чувственный воздух юга, как Стендаль, - при первом же взгляде она видит множество нищих у церковных дверей, оборванных детей, трущобы, она угадывает всё то горе, что робко ютится под этой роскошью. При восстаниях её сердце заодно с вечно побеждаемым народом: «Бедный народ, доверчивый и смиренный, он на этот раз достиг только права умирать за своих детей...»

И к ней тянутся все отверженные и обиженные: ей поверяют тайны подруги, она утешительница мужа, которому своей трогательной ложью помогает переносить театральные неудачи, её квартира всегда полна людей, которые чего-нибудь просят или ищут у неё сочувствия. «Любая мелочь, что тебя мучит, для меня значительна», - пишет она подруге. Хоть она и сама преисполнена горя, в душе у неё всегда найдётся место и для чужой печали, всегда найдётся слёзы утешения; состраданием она словно спасается от собственных забот. Не находи она исхода в чужих печалях, она задохнулась бы в собственных.
Слёзы и плач — это те два слова, что проходят сквозь всё её творчество, это вечный припев её стихов, скорбь и несчастье были единственными вдохновителями её поэзии. Но мало-помалу чувство ширится, вырастает из личных переживаний и выливается в великое сострадание. Её тихий голос становится громким, окликая других, братское сочувствие всякому земному страданию помогает ей в позднейших стихах достигать высшей ноты. Она обращается ко всем униженным:
Всех страждущих сестрой себя я называю,
в огромном мире, где неузнанной иду.

В её голосе слышится жалоба всех матерей, все слёзы мира сливаются с её слезами. И в Лионе, восставшем городе, её жалоба становится обличением, её голос переходит в крик. Она обвиняет, дрожащим пальцем она указывает на пушки, которые расстреливают живых людей, отцов, жён и матерей, и тревожное время невольно преображает её в великого гражданского поэта. Она рисует нужду рабочих, глумление богатых и комедию судов, она обращается ко всему человечеству и возносит свой голос к Богу. Всякому несчастью она сестра:
Туда, где звон цепей, душа моя стремится,
слезами горькими раскрыла б все темницы...
Но что могу? Одно — молить всем сердцем вдовым
благие небеса, чтоб рухнули оковы.
Её любовь превратилась в любовь вселенскую, её жалоба — это уже не тихая жалоба на свой удел, это громкое слово в защиту человечества. Уже не женщина повествует о тоске и муке женского чувства, это беседы страдающего создания с его Творцом, с Богом.

Мать
Брак с Вальмором не принёс Марселине желанного покоя и счастья. Девочка, их первенец, едва прожила три недели. Несчастной матери суждено было пережить ещё двух своих дочерей, Инесу, оставившую сей мир двадцатилетней после тяжёлых двухлетних страданий, тридцатидвухлетнюю Ондину и внука. Только сын Ипполит смог проводить в последний путь своих родителей. Не одно стихотворение напишет она о горе матери, потерявшей своё дитя : «Воспоминание», «Сон о моём ребёнке», «Две матери» («Не приближайтесь к удручённой горем матери»), «Моим детям».

On m’a volé mon fils et Dieu me le rendra ( «Украли сына у меня и Бог его вернёт») - восклицает мать в поэме «Маленький Артур».
Toujours je pleure au nom de mon enfant :
При имени своего ребёнка я всегда плачу.
………………………………………………..
Mon doux enfant ! ma plus vive tendresse !
Моё дорогое дитя! Моя самая сильная нежность!
Quel autre amour me tiendrait lieu de toi ?
Какая другая любовь мне заменит тебя?
De te garder, mon fils, je ne fus pas maîtresse ;
Не в моей власти было тебя сохранить.
Mais ta fidèle image, oh ! comme elle est à moi !
Но твой образ, о! он весь мой!

В жертвенности был смысл её жизни, и поэтому высшим её призванием было материнство. Когда она смотрит на своих детей, в её запуганной душе возникает новое чувство: «Бог бедности моей дал роскошь материнства».

В бурях её жизни здесь был маленький островок счастья. И когда Марселина в стихах говорит о своих детях, в её голосе звучит ликование и блаженство, чему её никогда не могла научить любовь к мужчине.
Душа моей души! Ребёнок! Совершенство!
Ты — пальмовая ветвь над горькой долей женской!
Ты — нашей слабости защита и оплот,
ты — многославный материнства плод,
любовных ран единственный целитель,
чьё милосердие не ведает границ,
склонившийся, как некогда Спаситель,
над робкой матерью, поверженною ниц.
Марселина самозабвенно любит своих детей, жертвуя ради них всем. Она охраняет их сон, отгоняет их страхи. С ними она и сама становится как дитя, её поэзия учится языку лепечущих губ; она, чтобы баюкать свою девочку, сочиняет для неё стихи, которые стали бессмертны во французской литературе и которые дети потом заучивали в школе. Это «Подушка» - прекраснейшая вечерняя молитва, какая есть в мире.
Как хорошо с тобой, моя подушка,
Когда наступит ночь и слышен бури вой!
О мягкая и белая подружка,
Нам даже волки не страшны с тобой!
Но помним мы, что есть другие дети:
У них подушки нет, они не могут спать.
Они бездомные, они одни на свете,
Им даже "мама" некому сказать!
И, Богу помолясь за бесприютных,
Свою подушку поцелую я
И тихо лягу в гнездышке уютном,
Что мама приготовила моя.
Я первая увижу утром рано
Луч солнечный сквозь полог голубой!
Теперь же спать пора. Спокойной ночи, мама,
И поцелуй меня. Нам хорошо с тобой!

В этих детских песенках для Марселины вдруг пробуждалось нечто давно забытое: её собственное детство. От детских улыбок на её жизнь падает весёлый отсвет, для этих прелестных мелодических стихов она находит особые шаловливые обороты, её омрачённое сердце вновь расцветает радостью. Ей впервые беззаботно дышится. Она восклицает, ликуя:
Есть дети у меня! Их смех, их голоса
дыханьем свежим сердце наполняют.
Когда на них смотрю — душа в моих глазах!
Они свою зарю в мою зарю вплетают!
Пусть ранили меня — но рана не смертельна:
посеяв их весну, дождусь её цветенья.

Но этой великой страдалице всякое земное обладание дано лишь как мимолётный залог, и она должна платить за него нескончаемыми слезами. Смерть стоит между счастьем и ею. Смерть похитила у неё первое дитя, дитя Оливье, и первый ребёнок, которого она дарит мужу, тоже умирает через несколько недель. Но вот на смену погибшим рождаются ещё трое и перерастают детский возраст: сын Ипполит и дочери Ондина и Инеса. Целых двадцать лет радуют они мать. Старшая, Ондина, кокетливая, умная и честолюбивая девушка, живо увлечена литературой; Сент-Бёв просит её руки, она ему отказывает; и вдруг Марселина узнаёт, что Латуш, дружественно бывающий в их доме (и в котором некоторые биографы видят Оливье, обольстителя Марселины и отца её внебрачного ребёнка), пытается — и не совсем безуспешно — обольстить Ондину. Объятая страхом, Марселина пишет далёкой дочери горячие письма, дошедшие и до нас, где она с трогательной заботливостью предостерегает её от той участи, что когда-то постигла её самоё.

К счастью, Ондину удаётся предостеречь, а вслед за тем выдать замуж за простого и честного, уважаемого человека. Спасти, чтобы вдвойне её утратить. Ибо теперь, когда она, казалось бы, в безопасности, судьба обрушивает свой первый удар. Инеса, младшая дочь, медленно умирает от чахотки, следом за нею — единственый внук, ребёнок Ондины, а немного погодя от той же болезни, к отчаянию матери, умирает сама Ондина.
И, словно эти дорогие жизни были связаны меж собою какими-то подземными корнями, внезапно рушится весь вал, которым, как ей казалось, она оградила своё существование. Её дядя, её брат, её подруга, все умирают почти одновременно в эти страшные годы, и Марселина, окаменев от горя, видит, как они падают друг за другом под стрелами судьбы.
От любви она ещё могла бежать, но от смерти — нет. Перед смертью она бессильна. Она чувствует, что теперь всё окончательно погибло. Любовь её стареющего мужа уже не подарит ей, седой женщине, новых детей. Ей уже нечего любить на этом свете. С пожарища её жизни пламя её тоски возносится теперь лишь к небу.

У неё теперь остался только Бог, чтобы любить, и Ему она отдаёт своё единственное, последнее достояние, свою боль.
Я столько слёз своих тебе отдам, о Боже,
что ты мне возвратишь моих детей.

К Нему теперь обращены все её стихи, к Нему направлены её взоры. На земле больше нет пристанища для неё, и она стремится только в тот иной мир, где теперь её дети и всё, что она любила. В отчаянии стучится она в небесные врата:
Открой скорей, Тебе удел мой ведом:
лишь жизнь моя, как тень, идёт за мною следом.
Её страдание стало её высшим правом, и то, что некогда было её блаженством, то она теперь приводит Богу как самую высшую боль, стремясь вознестись к Его сердцу: «Впусти меня — я мать!»

Марселина Деборд-Вальмор в 1850-е годы
Эпилог здесь
|
|
Процитировано 3 раз
Понравилось: 2 пользователям
"Она пела, как поёт птица". Продолжение. |
К 230-летию со дня рождения Марселины Деборд-Вальмор
Начало здесь

Покинутая
В тот день, когда возлюбленный её покинул, Марселина покидает Париж. Надеясь, что вдали легче перенесёт разлуку с ним, она бежит в Брюссель, где получает в Theatre de la Monnaie превосходный ангажемент.
Её искусство созрело в испытаниях. Лишь теперь она становится героиней. Её облик, когда-то умевший воплощать только детскую застенчивость, простодушие и робость, теперь трепещет чувственностью и страстью, её скорбный голос, отзываясь в глубинах сердца, приобрёл удивительную звучность, а произносимые стихи одушевляет мелодический ритм её поэзии.

Расставание с любимым – глубокая рана. Заглушить боль! Излить тоску в стихах, в письмах... Творчество – вот спасение. Она пишет письма возлюбленному ежедневно.

Стихи о разлуке, об одиночестве, воспоминания о счастливых днях, размышления о своей судьбе... Стихи она записывает в тетради, украшая их рисунками и засушенными цветами.

Оливье не отвечает на письма. Он холоден, равнодушен, жесток. Но она защищена своей любовью, и её оружие — прощение.
Я гибну, я нести не силах больше муку,
о дай мне в смертный час забыться в тишине.
Приди и положи безжалостную руку
на сердце мне.
Когда оно гореть устанет и бороться,
в тебе раскаянье уже не вспыхнет вновь;
ты скажешь: «Нежное, в нём больше не проснётся
его любовь».
Смотри: она из ран струится, иссякая.
Но ты без ужаса вглядись в мои черты;
Смерть у меня в груди, и всё же холодна я
не так, как ты.
Вынь сердце у меня, - подарок неценимый,
подарок женщины, прожившей страстный сон, -
и, разорвав его, ты в нём прочтёшь, любимый,
что ты прощён.
(«Прощение»)
Всё было бессильно перед факелом этой любви, который неугасимым огнём горел в её сердце всю жизнь.
Позже другой человек будет рядом с нею, она станет ему верной женой, но и в его объятиях вынуждена будет признаться: «Как забывают — неизвестно мне».

И спустя годы, уже старой женщиной, Марселина в иные минуты чувствует, что принадлежит не избранному ею мужу, а тому, созданному мечтой. Словно зарницами, мерцающими из тех далей, это очарование вновь и вновь озаряет её давно успокоенную жизнь. В пятьдесят лет, во время актёрских странствий с мужем по Италии, она испытает перед новыми местами одно лишь трепетное чувство: что 30 лет тому назад здесь звучали его шаги...

Из письма подруге Полине Дюшанж от 20 сентября 1838 года:
«Вальмор ужасно страдал, что он не показал нам Рима. А мне знаешь, чего жаль в этом прекрасном Риме? Незримого следа, который там оставили его шаги, его голос, такой молодой тогда, такой нежный всегда, такой вечно властный надо мной, я бы просила у Рима только это видение: его не будет».
И неожиданно из одного её письма подруге, написанного в 1836 году, вырывается крик признания: «Единственная душа, которую я хотела бы вымолить для себя у Бога, не пожелала моей. Какая ужасная боль в сердце, до самой смерти!».
Никогда, ни в радости, ни в горе не сможет она забыть того, первого.
Но я не умерла. Нет, я люблю, как прежде.
Я раздвигаю мрак, в котором мы идём;
как бледный луч зари, поющий о надежде,
свечу твоим глазам, дышу тебе теплом.
Больной, забывшийся дремотою, не чует,
как губы ветерка с него свевают пот;
но благодатный сон незримо кровь врачует;
Спи! Жизнь моя есть сон, мерцающий с высот.

Верная мужу, она, благодарная, верна и чувству, она никогда не отрекается от того далёкого и уже почти мифического Бога своего детства, который создал из неё женщину. В Вальморе она любит верной любовью мужа и отца своих детей, а в исчезнувшем, в «Оливье» - такою же верной любовью призрак своих сновидений, своего первого чувства. В Оливье, в обольстителе, она всю свою жизнь любит любовь.

Тайна имени
Каждое легчайшее биение её сердца стало строфою, каждый взлёт и упадок чувства она всю свою жизнь, и в самый миг переживания, и в миг воспоминания о нём исповедовала лирически. Обнажённым, лишённым всяких покровов отдавала она ветру мира каждый трепет своей страсти, каждый позор своей души, но до смертного часа её губы оставались замкнуты, когда дело касалось имени того человека, который пробудил в ней эту бурю. Она сказала о себе всё, но не выдала того, кто её предал.

Вот уже полтора века французская литература тщетно охотится за этой единственной тайной Марселины, пытаясь где-нибудь напасть на подлинное имя этого «Оливье». Авторы диссертаций и комментариев пропалывают заросли её стихов, кидаясь на каждый след, оставленный ею в пути, обнюхивают каждый вздох, откапывают каждую оброненную слезу. Однако удивительным и непостижимым образом её смиренная воля и стыдливость молчания до сих пор оказываются сильнее всех этих суетных стараний. Его по-прежнему нельзя назвать никаким другим именем, кроме как «Оливье» - тем именем, которое она даёт ему в своих стихах и с которым обращается к нему в двух дошедших до нас любовных письмах. И через 157 лет после её смерти тайна всё так же глубока и не разгадана, как в любой час её жизни.
То немногое, что удалось о нём выведать, мы узнаём от самой Марселины, поведавшей свою страсть в стихах. Одна строка свидетельствовала, что он был поэтом, в юности известным в очень узком кругу, в другом месте устанавливается его возраст, а именно, что он на три года моложе её, многие строфы славят его нежный проникновенный голос, опьянявший её, в письмах же говорится о том, что он поехал в Италию и там заболел. И, самое главное, говорится о том, что в их именах имеется что-то общее:
Ведь в имени моём
начертано твоё благими небесами...
Нельзя меня назвать, тебя ко мне не кинув,
со дня моих крестин нас связывает имя...
Я, имя услыхав твоё, узнала в нём тотчас
себя – в нём всё перемешалось,
два существа - в одном, и мне казалось,
что так меня назвали в первый раз...
Расшифровывая эти шарады, исследователи склонялись к тому, чтобы считать избранником Марселины литератора Анри де Латуша. Одно из его имён «Жозеф» совпадало с одним из её имён «Жозефина» (её настоящее имя и фамилия - Марселина Фелисите Жозефина Деборд), он был поэтом и в то время довольно видным, действительно был чуть моложе её, два года провёл в Италии, и Жорж Санд тоже восхваляла его «мягкий и проникновенный голос». Вроде бы многое сходится. Однако Стефан Цвейг в своём очерке о Марселине подвергает этот факт сомнениям, приводя немало убедительных аргументов. Так что вопрос остаётся открытым, и тайна имени главного возлюбленного великой поэтессы так до конца и не разгадана.
(Латуш – человек очень влиятельный в литературном мире. Неудачливый писатель, но блестящий журналист, директор газеты Фигаро, он обладал безошибочным нюхом на таланты. Именно он благословил на создание романов Жорж Санд, открыл для мира поэзию казнённого Андре Шенье, покровительствовал никому не известному Бальзаку. В его доме скрывался молодой Бальзак от кредиторов. Он с первых строк оценил поэтический дар Марселины и предложил ей свою помощь. Есть предположения, что эти отношения потом переросли в нечто большее).
Если же действительно, как всё настойчивее утверждают исследователи, этим «Оливье» был Латуш, тогда эта трагедия обольщённой девушки была лишь вступлением к другой трагедии, ещё более жестокой — к трагедии матери. Ибо этот Латуш, который на 22-ом году жизни был знаком с Марселиной и исправлял ошибки в её ранних стихах, через 25 лет попытается обольстить дочь Марселины Ондину, которую мать с трудом уберегла от него. Тот самый Латуш, которому она тайно родила сына, похороненного на кладбище под чужим именем, четверть века спустя замыслил соблазнить дочь своей бывшей возлюбленной — Цвейг не в силах поверить в такой чудовищный цинизм и склонен ждать каких-то более решающих доказательств того, что Оливье и Латуш — одно и то же лицо: «Пусть они ищут дальше — я не знаю ничего прекраснее, чем то, что это имя всё ещё не найдено, что великая тайна её сердца не разоблачена неопровержимо».

«Оливье» был только зовом, той формой, в которую хлынула её давно накопившаяся любовь, той глиной, которую разбивают, после того, как она даст облик горячему литью. Для её дальнейшей жизни он не имел никакого самостоятельного значения. Он дал ей возможность полюбить, и этим его значение исчерпано.
Горе
Сцена никогда не была для Марселины Деборд-Вальмор главным, успех никогда не означал для неё счастья. Она уклоняется от всех искушений, замыкается от мира, она цепляется за единственное, что у неё осталось — своё дитя, «залог бесценной горестной любви», и ищет в невинных чертах дорогое и чужое лицо.

Но судьба удивительно враждебна к ней. Жизнь почти не даёт ей вздохнуть — до того часто посещает смерть её судьбу. Внезапно умирает её единственная близкая подруга, вслед за ней её отец, а спустя несколько недель грозная болезнь настигает последнее, что у неё есть — пятилетнего сына. Два месяца она как безумная борется с роком, но напрасно...
Их шестьдесят прошло, ужасных, горьких дней...
Вотще у неба я ещё хоть дня просила!
Душа моя пуста, её иссякли силы...
Я Смерть звала: меня ты первую убей!
Но в гневе ледяном глуха к моим моленьям,
взяв роковой размах, не захотела Смерть,
сразив моё дитя, меня косой задеть.
10 апреля 1816 года мальчик умирает.

За один год она лишилась всего, что подарила ей судьба. «Всё отнято: ребёнок — смертью, друг — разлукой». Её отчаяние неописуемо. Она опять так же бедна, так же одинока, как тогда, когда в чёрном платье, сиротой, стояла на гаврской пристани, но только теперь ещё больше, потому что её жизнь обессилена безвременной утратой ребёнка, а душа растерзана пренебрежением возлюбленного. Она пытается спастись от мира бегством. Как монахиня в келье, хоронит она себя заживо.
Поднимись, душа моя, выше над толпою,
Будто птица вольная в небо голубое,
и назад не прилетай, не догнав вдали
дорогой моей мечты, скрытой от земли.
Я хочу молчания, в нём одном отрада,
в нём укроюсь, больше мне ничего не надо.
В недрах тесного гнезда скрою все мольбы,
пусть проходит целый век вне моей судьбы.
Век, гремящий вновь и вновь за прикрытым тыном,
прочь уносит на бегу сорванную тину:
цепь запятнанных имён, горестных измен,
связку ласковых имён, заключивших в плен.
Поднимись, душа моя, выше над толпою,
будто птица вольная в небо голубое,
и назад не прилетай, не догнав вдали
дорогой моей мечты, скрытой от земли.
(«Одинокое гнездо»)

Каждый человек, каждый взгляд причиняет ей боль, потому что всё становится сравнением и воспоминанием. От этих лет сохранилось стихотворение «Две матери», которое трогательно рисует, как даже самый невинный повод растравляет раны несчастной. На улице к ней подбегает ребёнок, протягивая к ней ручки, а она чуть ли не на коленях умоляет это чужое дитя не подходить к ней:
О, почему же так меня твой вид тревожит?
Чем можешь ты моё дитя напоминать?
Вы только возрастом с моим ребёнком схожи...
Достаточно, чтоб сердце растерзать!
И, кажется, что со смертью ребёнка кончилась и её молодость: тень страдания туманит её глаза, она становится мрачной и угрюмой. Марселина живёт как Ариадна на пустынном Наксосе, в бессильных жалобах и молитве, ожидая лишь одного — смерти.

И не знает, что к ней уже приближается её Тезей, освободитель, который снова уведёт её в живую жизнь.

Жена
В 1817 году Марселина вышла замуж за актёра Проспера Ланшантена (сценическое имя — Вальмор), которому родила троих детей: дочери Инес, Ондина и сын Ипполит.
Семь лет как покинутая своим возлюбленным, а за год до того лишившись своего внебрачного ребёнка, Марселина навсегда отказалась от мысли о каком бы то ни было счастье, и вдруг к ней посватался «красавец Вальмор» (так его называли, и портрет оправдывает это прозвище), её партнёр по Брюссельскому театру, выступавший на сцене в героических и страстных ролях.
Отпрыск знатной семьи, племянник генерала империи, павшего в сражении под Бородином, он на семь лет моложе её, актёрское дарование его посредственно, но всё же он подкупает своей рыцарской внешностью и душевной прямотой. В пьесах они часто подают друг другу любовные реплики, и из этого постепенно вырастает своего рода близость.
Вальмор испытывает искреннее влечение к Марселине, он пишет ей письмо, в котором предлагает связать их жизни супружеством. Она получает письмо и пугается. Ей 31 год, ему 24, она намного старше, она преисполнена скорби, чувствует себя отцветшей, опустошённой. И образ «Оливье» вечно горит в её душе, она не в силах его забыть. И всё же.. так заманчиво начать жизнь сначала, ещё раз подняться к свету из этой бездны горя и утрат!
Марселина отвечает Вальмору письмом, в котором хоть и звучит и отказ, но в то же время слышны колебания. Она просит пощадить её: «Не старайтесь внушить мне любовь — я столько страдала! Ах, оставьте меня, прошу Вас, я — печальная, я не создана для того, чтобы любить. Я не верю в счастье!».

Я счастия страшусь, и вновь мне плакать надо,
ведь слёзы были сладостью моей,
и в горестях была моя отрада.
И всё же она не говорит: «нет». Ей очень хочется впервые не только любить, но и быть любимой. Эта нежданная перемена для неё — чудо. Словно она из тюрьмы, шатаясь, выходит на свет, и глаза её ослеплены, она не решается взглянуть.
«Как? Так значит жизнь — это всё-таки счастье?» - лепечет она в своём письме на следующий день после свадьбы. «Я счастлива. Как раскрывается моя душа при этом слове, которое я забыла, которое казалось угасшим навсегда!»

Вот на дороге я... Окно мне закрывало
цветами эту даль... Как? Всё ещё весна?
Луга ещё цветут? Земля населена?
Так значит, лишь его душе не доставало?
Ещё вчера мой день был скукой омрачён...
Так значит, свет, весна и небо, это — он?
Всё для меня полно счастливого обилья:
весна, любовь, лазурь, всё есть в моей судьбе;
И я как будто чую крылья,
чтоб полететь к тебе!

После недолгого сопротивления, 4 сентября 1817 года Марселина становится женой Вальмора.
О, если может как бы жизнь вторая
начать свой круг
и протекать, другой себя вверяя
без лишних мук,
услышь мой зов, из глубины идущий:
на склоне дня
приди ко мне, мечтающей и ждущей,
возьми меня!
Он сознаёт её превосходство как актрисы, как поэтессы, чувствует её человеческое благородство и преклоняется перед нею. Он даже пытается неуклюже, нескладно, но глубоко искренне выразить свои чувства в стихах, чтобы говорить на её языке, послужить ей на её лад. Она же безмерно благодарна ему, что он вернул ей молодость, что из её омертвевшего тела создал детей, день за днём изумляется тому, что всё ещё любима и восхищается его душевной честностью. Она остаётся вечно удивлённой тем, что и для неё есть любовь, вечно благодарной, и с радостью отдаётся семейным заботам.
Омрачённое счастье
Однако счастье их омрачает лёгкая тень прошедших времён: Вальмор втайне страдает, постоянно чувствуя, насколько тот, другой, не забыт. Он надеялся, что ему, научившему её любви, она вместе со своей жизнью посвятит и своё творчество, что образ того, другого, который мучил её и презирал, померкнет в обновлённом счастье. Но Марселина Деборд-Вальмор не способна ко лжи. Её творчество имело, по-видимому свои сокровенные законы, в которых она сама была не властна. Уже в годы замужества она пишет и издаёт свои скорбные элегии к «Оливье», некогда любимому, и Вальмор, которому отдана вся её живая любовь, должен наблюдать за печатанием стихов, обращённых к другому. Это была пытка для мужа.
Но не счастье вдохновляло эту женщину, а трагизм, только слёзы рождали в ней слово, и потому её стихи всегда были обращены к тому, кто пробудил её чувство, возвысил его до любовной муки, а к тому, кто её осчастливил — почти никогда. В Вальморе она любит мужа, супруга, в Оливье — самоё любовь, источник страдания, в котором её сокровеннейшее счастье.
Марселина видит, что Вальмора мучат её признания, он ревнует её к этим стихам другому, но она не властна над своим творчеством, искренность в ней могущественнее воли. Она безоружна перед собственной поэтической силой.
В письме Вальмору от 10 декабря 1832 года она пытается как-то его успокоить и одновременно оправдаться:

«Эти стихи, которые тяготят твоё сердце, наполняют теперь и моё сердце сожалением о том, что я их написала. Я повторяю тебе чистосердечно, что они родились из нашей природы: это — музыка, вроде той, что сочинял Далерак; это — впечатления, которые я нередко подмечала у других женщин, страдавших у меня на глазах. Я говорила: «Я бы на их месте испытывала то-то и то-то, и сочиняла одинокую музыку. Видит Бог».
Марселина окружает мужа заботой и материнской нежностью. Он становится для неё как бы старшим ребёнком, которого она охраняет, лелеет и поддерживает советами. Этого плохого провинциального актёра, который нигде не может устроиться, которого в Руане освистывают, а в Париже никуда не принимают, ей приходится всё время утешать, успокаивая его болезненно уязвлённое тщеславие, тридцать лет кряду скрывать от него, что это она своей работой и всяческими ухищрениями поддерживает всю семью. В последние годы супружество превращается в материнство и сестринскую близость, в задушевный союз двух родных людей.
Из письма Марселины Вальмору от 25 ноября 1839 года (ей 53):
«Когда ты себя чувствуешь нехорошо, у меня начинается жар, и, если ты поникаешь духом, моя душа падает ещё ниже. Мы столько страдали друг возле друга, что стали словно близнецы...»
Это неприхотливое счастье длится тридцать лет (до самой смерти супруга) и находит отражение в письмах Марселины, хотя задушевнейшие её признания всегда обращены в них к любимой подруге, а её заветная тайна, любовь к «Оливье», никогда не гаснет в ней до конца.
Из письма Марселины: «В жизни есть прелесть и солнце, пока в ней есть любовь. Кто это сказал: «Ничего не остаётся в жизни, кроме былой любви?»

Марселина Деборд-Вальмор
Эта неугасшая любовь всю жизнь мучила её угрызениями совести, и когда Вальмор, уже в 47 лет, смущённо признается ей, 54-летней, что он не раз её обманывал, она будет счастлива, что тоже сможет ему что-то простить: «Разве не было бы чудом, если бы ты избежал искушений твоего возраста и твоего ремесла? - пишет она мужу. - Поверь мне, важно лишь то, что они не смогли уничтожить нерасторжимости нашего союза. Я не сержусь ни на одну из тех женщин, кому ты нравился, дорогой друг. Скорее уж им не следовало бы прощать мне, что я твоя жена и, откровенно говоря, не заслуживаю такого счастия».
Так, с добротой и чистосердечностью, они вновь и вновь укрепляют связь, которая их соединяет, и даже бедность, вечная и несносная их спутница, не способна отравить их чистую жизнь.
Кочевница
Успехи Марселины на театральных подмостках слишком контрастируют с сомнительными триумфами её мужа, это не может не ранить его самолюбия, и тогда она, не колеблясь, покидает сцену, чтобы стать просто женой и матерью, домашней хозяйкой.
Семья не имеет постоянного денежного дохода, они терпят лишения и нужду. Вальмора то выгоняют из одного театра, то не продлевают контракта в другом. Неважный актёр, он несколько лет тщетно пытается закрепиться на сцене одного из парижских театров. Ему удаётся лишь подписать контракт с Гран Театром Лиона. А нужно кормить, одевать и обучать пятерых детей.
В 1821 году семья покидает Париж и начинается их многолетняя скитальческая жизнь. Сменяются города Лион, Бордо, Руан с короткими промежуточными возвращениями в Париж.

Париж 19 века
Чаще всего Вальмору приходится работать на сцене театров Лиона и Руана. В этих городах они живут годами. Марселина ненавидит Лион. В этом городе она испытывает одно из сильнейших потрясений, став свидетельницей кровавой расправы над восставшими лионскими ткачами в 1834году, о которой не только расскажет в своих письмах, но и напишет стихи.

Несчастье и несправедливость, которые она видит повсюду, удручает её и заставляет её страдать как от собственной боли.
Нет имени иным недугам, но они
Жизнь превращают в ночь, уничтожая дни;
Ни жалоб, ни речей уста не изрекают,
И слёзы по щекам ручьями не стекают.
Откуда знаем мы на тонущих судах,
В каких таился гром карающих звездах?
Да и не всё ль равно? Несчастие повсюду,
Прошедшее темно, и мерзко верить чуду.
Тогда в самих себе опоры лишены,
Тогда не любят нас и мы не влюблены,
Тогда впиваемся полуугасшим взглядом
В неверный счастья мир, что и далёк, и рядом,
И создан для таких, как мы, - но не для нас -
И видим: луч дрожит, уходит... и погас.
(«Безразличие»)
Много лет Марселине приходится вести кочевой образ жизни. Посредственность Вальмора как актёра вынуждает их часто менять места работы. Сначала он ещё борется в больших городах, но после того, как его освистали в Лионе, начинает избегать больших сцен и бродит по провинции. Днём и ночью, с маленькими детьми и всем домашним скарбом, кочуют они из города в город, снова и снова грузится на повозки их имущество, снова и снова контракты и увольнения, надежды и разочарования. Так продолжается двадцать, тридцать лет подряд. Марселина измучена, она взывает к Богу: «Дорогам прикажи меня не уводить!» Но дороги уводят её всё дальше. В почтовой карете, на пути в Италию, где Вальмор должен был играть с одной труппой, она пишет дрожащей рукой:
Дано деревьям время расцветать,
плодоносить, расти и умирать.
Мне ж некогда: увы, всегда должна спешить я.
О Боже, дай вкусить, его не прерывая,
желанный отдых на моём пути,
с детьми, в тени... Нет больше сил идти!

Марселина Деборд-Вальмор в 1840-е годы
Но Бог ей не внемлет. Уже 50-летняя, 14 раз переезжает она с квартиры на квартиру, всякий раз изгоняемая нуждой, и всякий раз только 6 или 7 этаж оказываются ей по средствам. Её ноги изранены. Все силы уходят на мелочную борьбу за каких-нибудь 20-30 франков, которых каждый месяц не достаёт. И все эти заботы Марселина трогательно старается скрыть от мужа. В 1842 году она пишет: «Все свои женские способности, всю изобретательность, всё, что можно придумать в смысле слов и умолчаний, я употребляю на то, чтобы скрыть эту борьбу от моего дорогого мужа, который бы не вынес её и неделю. Ценою моих унижений я спасаю его гордость, и только в той жизни он узнает, какими невинными хитростями, какими слезами, о которых знает только Бог и я сама, мне до сих пор удавалось скрывать от него печальную тайну хлеба, который ещё ни разу не отсутствовал на столе ни у него, ни у наших детей».
Но затем снова восклицает: «Нужда убивает нас... Я задыхаюсь от мелких денежных забот, которые гложут мою жизнь, как моль — шерсть».
Марселина ведёт героическую борьбу, чтобы обеспечить семье скудное существование: эта великая поэтесса, которой Франция обязана прекраснейшими, незабываемыми стихами, во все эти годы лишений — единственный работник в доме. Она шьёт одежду детям, стирает, штопает, стряпает, а по ночам пишет сентиментальные новеллы и романы, чтобы заработать несколько франков. Брат в английском плену, он постоянно просит денег, и ей приходится экономить, чтобы послать ему малую лепту, родные в вечной нужде, она помогает и им, в лионские тюрьмы она несёт последний хлеб со своего стола.
Нищета преследует Марселину: она неделями не отсылает писем, потому что ей нечем их оплатить, и пишет их мелким почерком, чтобы потратить поменьше бумаги. Ей не в чем выйти на улицу, платье и обувь таковы, что она вынуждена оставаться дома. Единственное её утешение — это стихи, которые она сочиняет за работой, склоняясь над пяльцами, и песенки, эти удивительные детские песенки, которыми она убаюкивает Ипполита, Ондину и Инесу, своих детей. В её жизни нет ни одного светлого, беззаботного дня, и страшным было бы описание её судьбы, не будь страдание движущей силой её души и кипучим родником её творчества.

Окончание здесь
|
|
Процитировано 4 раз
Понравилось: 3 пользователям
"Она пела, как поёт птица" |
20 июня — 230 лет со дня рождения Марселины Деборд-Вальмор, крупнейшей поэтессы французского романтизма.

Марселина Деборд-Вальмор (1786–1859) прожила трудную, полную утрат, скитаний и каждодневных забот жизнь актрисы, поэта, жены неудачливого актера, матери многочисленного семейства. Но в этой жизни была и великая страсть, которой французская поэзия обязана проникновенной любовной исповедью. Боль неразделенного чувства, материнские тревоги и радости, живое сострадание к чужому горю, надежды на утешение в ином мире составляют содержание безыскусных, но отмеченных удивительной выразительностью и музыкальностью стихов этой поэтессы. Ей принадлежат поэтические сборники («Мария. Элегии и романсы», 1819; «Элегии и новые стихи», 1825; «Слезы», 1833), а также несколько популярных в свое время романов («Мастерская художника», 1833, и др.).

Поль Верлен назвал ее «единственной талантливой женщиной века и всех времен» и даже включил стихи Марселины Деборд-Вальмор в антологию «Проклятые поэты», опубликовав своё эссе о ней. Два томика поэтессы находились в библиотеке Пушкина, о ней писали Луи Арагон и Стефан Цвейг, ею интересовался Ницше, высоко ценили Волошин и Пастернак.
Имя Марселины Деборд-Вальмор заслуживает своего места и в памяти русскоязычных читателей, хотя бы потому, что её стихи читал Пушкин и одна из её элегий послужила моделью для пушкинского письма Татьяны к Онегину.

Хорошо знали её творчество и русские поэты-символисты. Пастернак в письме к Рильке (1926), желая познакомить поэта с творчеством Цветаевой, писал, что Марина для России – то же, что Марселина для Франции. А вот слова самой М. Цветаевой о глубинном родстве их душ:
В ЗЕРКАЛЕ КНИГИ
М. Д.-В.
Это сердце -- мое! Эти строки -- мои!
Ты живешь, ты во мне, Марселина!
Уж испуганный стих не молчит в забытьи,
И слезами растаяла льдина.
Мы вдвоем отдались, мы страдали вдвоём,
Мы, любя, полюбили на муку!
Та же скорбь нас пронзила и тем же копьём,
И на лбу утомленно-горячем своём
Я прохладную чувствую руку.
Я, лобзанья прося, получила копьё!
Я, как ты, не нашла властелина!..
Эти строки - мои! Это сердце - мое!
Кто же, ты или я — Марселина?

Позже Борис Пастернак в письме к Марине, вторично сравнивая её творчество с французской поэтессой, отдаст ей пальму первенства как поэту.
Во Франции стихи Марселины Деборд-Вальмор пользовались большой популярностью в 20-е – 30-е годы 19 века. Ею восхищались великие современники В. Гюго и его друг, знаменитый литературный критик Сент- Бёв, поэт Альфред де Виньи, Беранже, Бальзак, позже – Поль Верлен и Артюр Рембо. Композиторы М. Малибран, Ж. Бизе, С. Франк создавали песни и романсы на её стихи.

Рукописи поэтессы хранятся в библиотеке её родного города Дуэ.

библиотека Марселины Деборд-Вальмор в Дуэ
В 1993 в Дуэ была создана Ассоциация Деборд-Вальмор. Её именем названа улица в XVI округе Парижа.
Марселина Деборд-Вальмор в России
Сочинения Марселины Деборд-Вальмор были довольно популярны и в российских литературных кругах. Максимилиан Волошин и Борис Пастернак, хорошо знакомые с её работами, сравнивали с ней Марину Цветаеву. В частности, Пастернак в своем письме к Рильке писал: «Марина Цветаева, прирожденный поэт большого таланта, родственного по своему складу Деборд-Вальмор».

Два тома стихотворений Марселины Деборд-Вальмор имел в своей библиотеке Пушкин. Литературные критики (В. Набоков, а позднее Ю. Лотман) проводят параллели между одной из элегий французской поэтессы и письмом пушкинской Татьяны к Онегину.

Это созвучие может с легкостью обнаружить и малоискушённый в литературной критике читатель, сравнив следующие строки:
Я, не видав тебя, уже была твоя.
Я родилась тебе обещанной заране.
При имени твоем как содрогнулась я!
Твоя душа меня окликнула в тумане.
Оно раздалось вдруг, и свет в очах погас;
Я долго слушала, и долго я молчала:
Нас в этот миг судьба таинственно венчала;
Как будто нарекли мне имя в первый раз.
Скажи, не чудо ли? Еще тебя не зная,
Я угадала в нем, кому обречена я,
Его узнала я и в голосе твоем,
Когда ты озарить пришел мой юный дом.
Услышав голос твой, я опустила веки;
Один безмолвный взгляд нас обручил навеки;
Тот взгляд с тем именем казались мне слиты,
И, не спросив о нем, я знала: это ты!..
(«Элегия», М. Деборд-Вальмор, пер. М. Лозинского)
Вся жизнь моя была залогом
Свиданья верного с тобой;
Я знаю, ты мне послан богом,
До гроба ты хранитель мой...
Ты в сновиденьях мне являлся,
Незримый, ты мне был уж мил,
Твой чудный взгляд меня томил,
В душе твой голос раздавался
Давно... нет, это был не сон!
Ты чуть вошел, я вмиг узнала,
Вся обомлела, запылала
И в мыслях молвила: вот он!
(«Письмо Татьяны к Онегину», А.С.Пушкин)
Роман Марселины Деборд-Вальмор «Мастерская художника» (1833) заинтересовал Лермонтова: испещренный пометками экземпляр он подарил Е. А. Сушковой. Стихотворение Евдокии Растопчиной «Когда б он знал» (1830) — подражание Деборд-Вальмор.

Стихи французской поэтессы переводили Валерий Брюсов, Михаил Лозинский, Геннадий Русаков, Ирина Кузнецова, Инна Шафаренко и другие российские поэты, и сегодня с некоторыми из этих переводов я вас познакомлю.
А вот что писал о ней Георгий Адамович:
«Марселина — одна из чистейших и прекраснейших французских поэтов. У нее голос не сильный, но почти никогда не срывающийся, никогда не фальшивящий. Это редкое свойство, а у французов более редкое, чем где бы то ни было.
При том внимании, каким издавна было окружено в России французское искусство, удивительно, что имя Деборд-Вальмор у нас почти никому не известно. Причины этого, вероятно, в том мы больше учились у французов, чем читали их; мы старались переложить на «славянский лад» их технические приемы. Деборд-Вальмор же мастером, в техническом смысле слова, никогда не была.
... удивляешься, как мало эта старшая современница Гюго и Виньи была «литератором», как среди первых выкриков и манифестов романтизма, среди всяческой «суеты сует» ей удалось писать простые и, хочется сказать, вечные стихи о любви и смерти».
Печальница

В чём же притягательность этой женщины и её поэзии? В музыкальности стиха, в искренности интонации и безыскусности? Сент–Бёв писал: «Она пела, как поёт птица». Ею восхищался Паганини. В том ли, что, по словам Шарля Бодлера, «мадам Деборд-Вальмор была женщиной, всегда была женщиной и только женщиной, но она была в высшей степени поэтическим воплощением всех естественных красот женщины»?
Или может быть, трогала её судьба? Марселину называли «Дева слёз» ( Notre Dame des pleures) и «Скорбящая мать» (Mater dolorosa, Стефан Цвейг). Люсьен Декав, первый биограф поэтессы, озаглавил свою книгу «Горестная жизнь Марселины Деборд–Вальмор».

Слезами отвечает она и на восторг, и на отчаяние, слёзы — единственный её язык в любви: «Любовь видала от меня одни лишь слёзы».
Слёзы — её мир, pleurs и larmes — наиболее частые рифмы в её стихах. Она и сама была бы рада взять от любви веселье, научиться ей, как игре:
Как бы хотела я любить иначе!
Но не могу. От нежности я плачу,
и для меня страдание — любовь.

Марселина Деборд-Вальмор
Трудно сказать, была ли она красива. Немногочисленные её портреты неточны и не вполне достоверны. Но по отзывам провинциальных газет тех лет она была миловидна, с ореолом белокурых волос, с мягкими чертами полудетского личика. Она очаровывала зрителей природной грацией и неподдельной искренностью души.

Год 1808-й, актрисе - 22 года. Марселина Деборд, имя уже известное во Франции, в то время, как её будущие великие друзья ещё не вышли из детского возраста (Сент – Бёву – 4 года, Гюго – 6 лет, Бальзаку – 10, а Виньи – 11). Появляется её первый портрет кисти известного художника–классициста Мишеля Мартина Дроллинга ( 1789 – 1861).

Дроллинг уловил то мечтательное меланхоличное выражение, характерное для поэтессы, которое мы увидим на её изображениях в исполнении других художников, прежде всего, её дяди Констана Деборда, знаменитого жанрового художника, сыгравшего огромную роль в жизни племянницы.

Со временем на портретах меланхолия сменяется выражением печали, выдающим её страдания, следствия пережитых ею утрат. Марселина глубоко знала душу женщин и была их великой утешительницей и советчицей в минуты скорби.
Плачущим сёстрам
Вы, нелюбимые, вы, ведавшие слёзы,
я вам всегда сестра, я ваш безвестный друг.
Вам отданы мои медлительные грёзы
и сладость горькая моих пропетых мук.
Заточница-душа томится в этой книге.
Раскройте: кто сочтёт страдание моё?
Печальницы земли, где я влачу вериги,
склонитесь над золой, дотроньтесь до неё.
И пойте! Женщина врачует душу пеньем.
Любите! Ненависть мучительней любви.
Дарите! Доброта богата примиреньем,
кто отдаёт своё, тот слышит зов: живи!
Когда вам некогда пролить, как я, чернила,
пролейте хоть слезу на бедные мечты.
Прощая, молишься. В молитве — наша сила.
Простите дней моих раскрытые листы!
Чтоб душу расточать в стихии слова шумной, -
хоть это многие чудачеством зовут, -
быть надо нежною скорее, чем безумной:
кто сердится на птиц, когда они поют?

Злоключения юной Марселины
Марселина Деборд-Вальмор (Марселина Фелисите Жозефина Деборд) родилась 20 июня 1786 года в семье художника-иконописца и актрисы в городке Дуэ, в том же округе у фламандской границы, который подарил Франции Верлена и Верхарна.

Дуэ. 1871 год.

Дуэ сейчас. Одна из центральных улиц.
Отец был придворным геральдиком и рисовальщиком гербов, чем неплохо обеспечивал их многодетную семью. Десять лет украшал он эмблемами дворянские кареты и расписывал гербами и девизами всевозможную парадную утварь.

карета 19 века
Марселина, чей талант певческий и артистический проявился уже в раннем детстве, обучалась музыке и пению.
Но революция разорила Феликса Деборда: она разрушила дворцы, кареты стали редкостью, а гербы пошли на слом. Заказы перестали поступать. Из привольной зажиточности семья ввергается в нищету. Заработок потерян, нигде ни помощи, ни подспорья.

Французская революция
И тогда мать, Мари-Катрин-Жозеф Люкас, решает молить о спасении одного дальнего родственника, гваделупского плантатора, о богатстве которого из-за моря доходят легенды. Она собирается в дальнюю дорогу и берёт в спутницы 12-летнюю Марселину, нежное златокудрое дитя. Но у них не хватает денег на переезд, и почти два года мать и дочь скитаются по всей Франции, прежде чем им удаётся скопить и выпросить необходимую сумму. Мать слабосильна и беспомощна, и добывать хлеб изо дня в день приходится юной Марселине. Когда другие дети ещё играли в куклы, она уже выступала с бродячими актёрами, танцевала и пела. Труд был нелёгок, мать и дочь голодали, нищенствовали, мёрзли, но переносили все испытания, лишь бы перебраться в страну золота, где, как надеялись, их ждёт спасение и богатство. И вот наконец необходимая сумма собрана, и в 1801 году мать и дочь пускаются в долгое 40-дневное плавание по океану к берегам далёкого острова, в надежде спасти семью от нищеты.

Однако по прибытии женщин ждёт ужасная весть: Гваделупа уже не под французской властью, на острове — восстание порабощённых негров, и их родственник, богатый плантатор, убит одним из первых.


восстание негров
Беспомощно стоят обе женщины на берегу, одни среди этих диких людей и дикой природы. Мать не выдерживает, жёлтая лихорадка уносит её в первые же дни, и вот 14-летняя Марселина совсем одна, вдали от родины, среди чужих людей, без копейки денег. Город постигает землетрясение, она видит, как из гор вырываются огненные столбы и как рушатся дома.
На коленях девочка умоляет губернатора отправить её домой. Проходят недели, полные беспросветной нужды, пока её желание исполняется и, бездомная, осиротелая, Марселина плывёт обратно, снова сорок дней и ночей. Она — единственная женщина на судне, и капитан, грубый пьяница, пытается воспользоваться её беспомощностью. Испуганная девочка ищет спасения у матросов, и те поднимают бунт на корабле, чтобы защитить её от приставаний. Тогда в отместку капитан требует у неё плату за переезд и по прибытии в Гавр отнимает у сироты сундучок со всем её имуществом.

Гавр. Бульвар.
Пятнадцатилетняя девочка вступает в незнакомый город без гроша в кармане, но горькие испытания научили её мужественно переносить лишения. Она добралась до Лилля, где кое-кого знала, и сердобольные знакомые, тронутые её судьбой, устраивают в её пользу спектакль.

Лилль. Театр.
Извещение о том, что выступит дитя, спасшееся от гваделупской резни, собирает зрителей и приносит ей такой сбор, что наконец после почти трёхлетних странствий Марселина может снова вернуться в Дуэ, к своим. Несколько дней она отдыхает в родном доме, но потом спешно отправляется дальше, чтобы не быть в тягость близким, с трудом сводящим концы с концами. Вся тяжесть житейской нужды сваливается на хрупкие плечи юной девушки.
Блеск и нищета театральных подмосток
Благодаря яркому певческому и актерскому дарованию, Марселина вскоре была принята в театральную труппу. Она выступает в театрах Дуэ, Лилля, Руана и имеет большой успех. Ей поручают роли Золушки, обиженной сироты, отверженной пастушки — все эти небесно-голубые, сентиментальные девичьи образы, знакомые нам по пасторальным картинам Грёза.

Жан-Батист Грёз. Невинность.

Жан-Батист Грёз. Мёртвая птичка.
Но и в любую фальшь Марселина вселяет душу, потому что уже с детства её живая доброта взволнованно откликалась даже на вымышленную судьбу. И эта душевная впечатлительность делает её значительной актрисой.
Однако настоящая жизнь Марселины, та, что за кулисами, была однообразна и тускла. Когда наверху гасли свечи и падал занавес, она спешила домой, где её ждали две сестры-нахлебницы, ещё более нищие, чем она сама. И там, при мигающей лампе, она должна была шить костюмы, стирать бельё, переписывать роли, чтобы хоть сколько-нибудь приработать.

«Мне бросали цветы, - писала она впоследствии, - а я шла домой голодная и никому об этом не говорила». И когда 20 лет спустя её собственная дочь захочет поступить в театр, Марселина будет в ужасе: «Лучше умереть, чем дать ей пережить то, что пережила я».

Счастливый случай вызволяет её из провинции. Артисты Комической оперы, гастролировавшие в 1804 году в Руане, услышат песенку, которую она пела в какой-то пьесе. Милая внешность Марселины и необычайная одухотворённость её игры привлекает их внимание. Они устраивают ей ангажемент в Париж, в Комическую оперу (Opéra-Comique), и молодая актриса без всякой школы и подготовки очень скоро становится певицей мировой сцены.

Париж. Комическая опера.
Как актриса Марселина утверждает себя на ролях инженю в комической опере (нечто вроде современной оперетты).
Её нежный, но недостаточно сильный голос грозил потеряться в обширном зале, но музыканты, которых тоже покорили детское обаяние и робкая доброта души девушки, намеренно играли потише, чтобы не заглушать её пения, чтобы её лучше было слышно.
Вероятно, она обладала недюжинным певческим даром, ибо пленила своим голосом и исполнением не только публику, но и известного бельгийского композитора Гретри, который помог ей выступить на сцене Опера-Комик Руана в 1805 году и несколько лет спустя исполнить партию Розины из «Севильского цирюльника», требующую высокого мастерства и владения голосом, в Театре де ла Моннэ в Брюсселе.
С 1808 года Марселина играет в парижском театре Одеон.

Однако тогда в ней ещё не прозвучали те два голоса, которые пробудят её для своего подлинного мира и сделают тем, чем она станет: Любовь и Поэзия. Это случится позже.
Оливье
В 21 год в жизнь Марселины пришла любовь. В доме подруги она знакомится с молодым человеком, сыгравшем (он тоже был актёром и поэтом) в её жизни роковую роль. В стихотворении «Осенняя прогулка» она вспоминает их первые встречи:
Ты помнишь ли, мой дорогой, мой милый,
осенний день, усталый, бледный свет?
Он словно слал прощальный свой привет
лесам, овеянным его красой унылой.
Ничто утешить не могло природы.
Весёлые цвета уже терявший лес,
нагие берега и стынущие воды,
всё хоть бы луч тепла просило у небес.
Одна я тихо шла от праздничного шума.
Мне нужен был покой, меня смущал твой взгляд,
но тишина полей, их горестная дума
невольно в душу мне вливали тайный яд.
Без цели, без надежд, отдавшись размышленью,
я шла, не ведая, в какой я стороне.
Любовь окутала меня любимой тенью,
и воздух осени казался жгучим мне.
Напрасно разум мой, как тяжко ни метался,
спасаясь от тебя, сам от себя спасался:
неведомая власть, пока в слезах я шла,
внезапно от земли мой взор оторвала.
Сквозь вьющийся туман какой-то образ зыбкий
теплом и трепетом мне душу пронизал.
И солнце выплыло, и светлою улыбкой
разверзло небеса... Ты предо мной стоял.
Мне было страшно слов, всесильно, молчаливо
меня волшебное объяло забытьё.
Мне было страшно слов, но я была счастлива:
я сердце слушала, чужое и своё...

Главу за главой мы можем проследить в её стихах за коварной сетью обольщения, которую умело ведёт её возлюбленный, за тем, как слабеет сопротивление влюблённой девушки, за перипетиями её чувств. Застенчивая в речах и стыдливая в жизни, в стихах Марселина раскрывается до конца, беспредельно обнажая в них свою душу.
***
Была твоею я, ещё тебя не зная.
Тебе посвящена вся жизнь моя с рожденья.
Тебя не знала я, но, имя услыхав
твоё, я замерла в негаданном волненье.
Восхищена, безгласна, не дыша,
впервые слышу зов, но отвечать не смею.
Она твоя, она слилась с твоею,
тобою пробуждённая душа.
О разум, помоги от глаз его укрыться...
Напрасно повернуть судьбу хотела вспять,
спасаясь от тебя, самой себя бежать...

Однако неизбежное произошло.
Сестра, трепещущей души моей не стало:
она к пылающим устам его припала!

Ни чувства, ни разум уже не борются, прошлое и будущее растворяются в едином порыве, вспыхивает страсть:
И всё исчезло в нашем пламени двойном...

Ей больно от избытка счастья, но ей хочется ещё и ещё, она всё глубже погружается в любовь:
Друг, не узнать тебе, одна лишь я постигла,
каких глубин в тебе любовь моя достигла.
Всё выше вздымается её восторг, он сносит все преграды рассудка, и вся её душа неудержимым потоком устремляется в новое чувство.
О молнии любви, высоких гроз удары,
Средь гнезд разметанных вы сеете пожары
И смерть, но небосвод навеки тьмой одет
Для тех, кто потерял ваш несравненный свет!
(пер. И. Кузнецовой)

Всю жизнь она держала в тайне его имя, называя в своих стихах и в письмах «Оливье».
Из письма Марселины возлюбленному (сохранилось лишь два небольших отрывка из этих писем):
«Люби меня, дружок, ответь моему сердцу; о, я умоляю тебя, люби меня крепко! Это всё равно как если бы я тебе сказала: подари мне жизнь. Твоя любовь — ещё больше для меня, Оливье, мой Оливье! Ты не знаешь, до какой степени ты можешь сделать меня счастливой или несчастной».

Одиночество
24 июня 1810 года чиновник парижского магистрата заносит в городские книги имя новорождённого младенца мужского пола и делает многозначительную пометку: «Отец неизвестен». Свидетелем выступает один из друзей Марселины, потому что «Оливье», таинственный возлюбленный, видимо, не склонен заявить о себе публично. От узаконения их отношений он уклоняется под тем предлогом, будто отец никогда не согласится на его брак с актрисой. В действительности же он только о том и думает, чтобы избавиться от обременительной связи. Марселина, в упоении любви и материнского счастья, не догадывается о его охлаждении. Она тянется к нему всей своей пылающей душой, полная забот о нём, она ещё напутствует бегущего самыми нежными пожеланиями (он объявляет ей, что должен уехать, дабы повидать отца и уговорить его):
Увидишь ты отца. В сыновнем поцелуе
ребёнка своего привязанность святую
отдай ему. На сердце положи
ему любовь мою и уваженье.
Он стал и мне отцом — ему скажи.
На самом же деле неверный отправляется в Италию и долго отсутствует. Известия от него приходят очень скупо, но Марселина, бесконечно добрая и доверчивая, не подозревает всей правды. Случайно она узнаёт о его возвращении и одновременно с этим слышит ужасную весть: он давно находится в связи с другой женщиной. В её сознании молнией проносится страшная мысль:
О горе! Нравиться ему я разучилась!

В отчаянии Марселина бросается в объятия сестры, ища у неё утешения:
Сестра, ведь он ушёл! Сестра, меня покинул!
Чего же, брошенная, гибнущая, жду?
Плачь надо мной, укрой объятьями своими...
Мне слёзы так нужны...
Она не хочет этому верить, и просит сестру обмануть её, подарить ей надежду, потому что она не в силах вынести жестокой правды.
Нет, брежу я! Скажи... ужели безвозвратно?
Скажи скорее, что вернётся он обратно,
что он не изверг... обмани меня — ну что ж!
Но только пусть и он повторит эту ложь...
Спеши к нему, скажи...
И при этом она знает, что он у другой, в долгие бессонные ночи эта картина явственно встаёт перед несчастной обманутой:
О, как он к ней прильнул! Как ей в глаза глядится!
Как дарит у меня украденную страсть!
И Марселина бежит от него, уезжает к сёстрам, в провинцию, в одиночество.
Одно из её стихотворений, обращённых к нему, где она изливает тоску и боль разлуки, так и называется: «Одиночество»:
Так значит, не затем, чтоб ждать с тоскою страстной,
я эти знойные опять встречаю дни?
И прежнюю любовь мне не вернут они?
И голос милого, пленительный и властный,
мне только грёзою мерещится напрасной?
Всё кончено. Всё то, чем был мне дорог свет.
Какой пустынный мир! Куда все люди скрылись?
Не слышно времени: часы остановились.
Жить, бесконечно жить! А смерти нет и нет!
Иль надо мною ты, о вечность, тяготеешь?
Безвыходная ночь! Каким ты жаром тлеешь!
Как птица, смолкшая при угасаньи дня,
о, если б мне уснуть у мёртвого огня!
Он думает, мой дух угас для песнопений;
он, сердцем исцелясь, моих не слышит пений;
не знает, сколько я намучилась в тиши.
Но что мне? Он моей не исцелит души.
Его я не польщу отрадой горделивой
узнать из слёз моих, как он в любви богат.
Что вызвал бы мой стон? Его испуг? Возврат?
Иль жалость?.. Раньше смерть вернёт мне мир счастливый.
Всё рушилось. Он сам — уже не то, чем был:
мне сердце раздробив, свой образ он разбил.
Он мне не возвратит улыбки безмятежной
и прелесть лёгкую доверчивости нежной;
их у меня любовь умчала без следа.
Что отдано любви, погибло навсегда!
Этой же теме посвящена одна из её пронзительных элегий:
Сестра, все кончено! Он больше не вернется!
Чего еще я жду? Жизнь гаснет. Меркнет свет.
Да, меркнет свет. Конец. Прости! И пусть прольется
Слеза из глаз твоих. В моих — слезинки нет.
Ты плачешь? Ты дрожишь? Как ты сейчас прекрасна!
И в прошлые года, в расцвете юных дней,
Когда сияла ты своей улыбкой ясной,
Ты не казалась мне дороже и родней!
Но — тише, вслушайся… Он здесь! То — не виденье!
Его дыхание я чувствую щекой!
И он зовет меня! О, дай в твои колени
Горящий спрятать лоб, утешь и успокой!
Послушай. Под вечер я здесь, одна, с тоскою
Внимала в тишине далеким голосам.
Вдруг словно чья-то тень возникла предо мною…
Сестра, то был он сам!
Он грустен был и тих. И — странно — голос милый,
Который был всегда так нежен и глубок,
Звучал на этот раз с такою дивной силой,
Как будто говорил не человек, а бог…
Он долго говорил… А из меня по капле
Сочилась жизнь… Так кровь из вскрытых вен течет…
От боли, нежности и жалости иссякли
В душе слова, и страх сковал меня, как лед.
Он жаловался — мне! Вокруг все замолчало,
И птицы замерли, его впивая речь;
Природа, кажется, сама ему внимала,
Ручей — и тот затих, забыв журчать и течь…
Что говорил он? Ах, упреки и рыданья…
Я слышу их еще сейчас…
Но сколько в этот миг в нем было обаянья,
Какой струился свет из милых влажных глаз!
Он спрашивал, за что внезапно впал в немилость!
Увы, над женщиной любви безмерна власть:
Он был со мной, — и я забыла, что сердилась,
Вернулся он — и вновь обида улеглась.
Но он винил меня! Ах, это так знакомо!
Я тщилась объяснить… Но он махнул рукой
И произнес слова страшней удара грома: —
Мы не увидимся с тобой!
А я, окаменев, как статуя, сначала,
Не вскрикнув, не обняв, дала ему уйти;
И в воздухе пустом чуть слышно прозвучало
Ненужное ему последнее: «Прости!»
(Перевод Инны Шафаренко)
Марселина покидает театр, зарывается в свою печаль где-то в глухом углу Франции. Но там, униженная, уничтоженная, она, несмотря на всё, продолжает его любить. И в страхе перед самой собой поверяет это чувство стихам:
Так значит, всё равно его ещё люблю!
Как я поражена печальным откровеньем...

После двух лет борьбы со своим чувством Марселина убеждается, что в ней живёт жгучее желание снова увидеть его. Она облегчённо сбрасывает с себя гордость:
Дороже гордости моё мне было сердце!
Он позволяет себя упросить. Они вновь встречаются. Конечно, это уже не то счастье упоения и страсти, это счастье в слезах, но Марселина радостно принимает это бремя, хотя понимает, каким оно будет тяжким.

Возьмите трепетное сердце жертвы вашей
и цепи рабства возвратите ей.
Но и эта совместная жизнь, скреплённая покорностью и состраданием, длится недолго.
ВОСПОМИНАНИЕ
Когда однажды вдруг он стал белее мела
И голос, дрогнувший на полуслове, стих,
Когда в его глазах такая страсть горела,
Что опалил меня огонь, пылавший в них,
Когда его черты, омытые сияньем,
Бессмертным, как любовь моя,
Мне в душу врезались живым воспоминаньем,—
Любил не он, а — я!
(Перевод Инны Шафаренко)
Скоро он опять покидает её, и теперь это уже разлука навеки.
Мне вас послало божество,
А вы не ведали того?
Я помню и огонь и смех,
Мечты и музыку вначале,
Потом пришла пора печали,
Бессонница взамен утех…
Прощайте, музыка и смех!
В далекий край лежит ваш путь,
Где вьется ласточкой игривой
Поэзия любви счастливой.
Чтобы за ней пуститься в путь,
Вы сердце мне должны вернуть.
Пусть эти слезы в тишине
Пред богом вам придут на память,
Ведь вас они не могут ранить.
Но вспоминайте обо мне
Лишь за молитвой, в тишине!

Марселина берёт своего ребёнка, последнее своё достояние, и снова возвращается в жизнь. Убежище её любви разрушено, но взамен него возникла новая сила, утешение в несчастье: в ней родился поэт. Её чувство, отвергнутое одним, обращается ко всему миру, крылатые стихи выносят её одинокую муку на вселенский простор.

Продолжение здесь
|
|
Процитировано 5 раз
Понравилось: 6 пользователям
Публикация в журнале "Артикль" |
http://www.sunround.com/club/journals/31kravchenko.htm
* * *
За стольких жить мой ум хотел,
что сам я жить забыл.
И. Анненский
А телеграммы радости скупы,
но боль щедра и горечь хлебосольна...
Не отыскав нигде своей тропы,
не стала я ни Сольвейг, ни Ассолью.
Я так от этой жизни далека,
где всё прекрасно: лица и одежда.
Грызёт меня всеядная тоска.
Соломинкой прикинулась надежда.
Я жизнь свою сумела не прожить
по-своему, как я того хотела.
Зачем сейчас всё это ворошить?
Душа достигла своего предела.
Жить не сумела? Чем-нибудь другим
займись... Как небо – предвечерним светом...
Решай загадку замогильной зги,
что нам была предложена поэтом.
Уходят дни, неудержимо мчась,
летят, как пух от ветра дуновенья.
Проходит жизнь. Особенно сейчас.
Особенно вот в это вот мгновенье.
* * *
О сирень четырёхстопная!
О языческий мой пир!
В её свежесть пышно-сдобную
я впиваюсь, как вампир.
Лепесточек пятый прячется,
чтоб не съели дураки.
И дарит мне это счастьице
кисть сиреневой руки.
Ах, цветочное пророчество!
Как наивен род людской.
Вдруг пахнуло одиночеством
и грядущею тоской.
* * *
Меня не обманывали деревья,
книг хэппи энды, вещие сны.
Зверьё не обманывало доверья,
птиц предсказанья были верны.
Ни гриб в лесу, ни ромашка-лютик,
ни родники, что манили пить.
А обманывали только люди,
которых я пыталась любить.
* * *
Схожу с ума, как снег в апреле,
как сходит с курса иль с орбит
корабль, как кожа с обгорелых
ступней, когда земля горит.
Схожу, как сходит без рисовки
загар с убитого лица,
как – на конечной остановке
пути без края и конца.
Схожу с ума. Он мне не нужен.
Он мне – как якорь кораблю.
Везувий вспыхнул. Ад разбужен.
Я без ума тебя люблю.
* * *
Мы как будто плывём и плывем по реке…
Сонно вод колыханье.
Так, рукою в руке и щекою к щеке,
и дыханье к дыханью
мы плывем вдалеке от безумных вестей,
наши сны – как новелла.
И качает, как двух беззащитных детей,
нас кровать-каравелла.
А река далека, а река широка,
сонно вод колыханье…
На соседней подушке родная щека
и родное дыханье.
Колыбельная
Этой песни колыбельной
я не знаю слов.
Звон венчальный, стон метельный,
лепет сладких снов,
гул за стенкою ремонтный,
тиканье в тиши,–
всё сливается в дремотной
музыке души.
Я прижму тебя, как сына,
стану напевать.
Пусть плывет, как бригантина,
старая кровать.
Пусть текут года, как реки,
ровной чередой.
Спи, сомкнув устало веки,
мальчик мой седой.
* * *
Проснулась: слава богу, сон!
Прильну к тебе, нырнув под мышку.
Укрой меня своим крылом,
согрей скорей свою глупышку.
Мне снилось: буря, ночь в огне...
Бежала я, куда не зная.
Деревья рушились во мгле,
всё под собою подминая.
Но тут меня рука твоя
к груди надежно прижимала,
разжав тиски небытия,
и вырывала из кошмара.
Благословенные часы.
Мы дремлем под крылом вселенной.
Мы дики, наги и босы,
бессмертны в этой жизни тленной.
Дыханья наши в унисон,
привычно родственны объятья.
Когда-нибудь, как сладкий сон,
всё это буду вспоминать я.
***
О стрелок перевод назад!
Какой соблазн душе,
тщета отчаянных надсад
вернуть, чего уже
нам не вернуть... Но – чудеса!–
замедлен стрелок ход.
Ах, если бы ещё назад
на час, на день, на год...
***
В кофейной ли гуще, в стихах, во сне
увидится некий бред –
повсюду грядущее кажет мне
уайльдовский свой портрет.
Я кофе давно растворимый пью
и часов замедляю ход,
но вновь наступает на жизнь мою
непрошенный Новый год.
Меж прошлым и будущим – пять минут.
Застыло на миг бытиё.
И бездне страшно в меня заглянуть.
Страшнее, чем мне – в неё.
* * *
Я ёжик, плывущий в тумане
в потоке вселенской реки.
Мне звёзды мигают и манят,
мелькают вдали маяки.
— Плыви, ни о чём не печалясь, –
журчит мне речная вода, –
доверчиво в волнах качаясь,
без мысли зачем и куда.
Но только не спрашивай:"Кто я?"
Не пробуй, какое здесь дно.
Не стоит, всё это пустое,
нам этого знать не дано.
И лунный начищенный грошик
сияет мне издалека:
плыви по течению, ёжик,
и жизнь твоя будет легка.
Попрыгунья
"Вот это облако кричит", –
заметил ей художник Рябов.
В искусстве разбираясь слабо,
она глядит влюблённой бабой,
и осень на губах горчит.
"Да, это облако кричит", –
она кивает головою.
Оно кричит, о чём молчит
луна в чахоточной ночи,
о чём ветра степные воют.
Оно кричит, пока он спит,
о чём капель по крышам плачет,
о чём душа её вопит
от первой боли и обид...
Она грешна не так – иначе.
* * *
А если грязь и низость — только мука...
И. Анненский
Мне пишет зэк, что всё находит отклик
в его душе в прочитанных стихах.
И просит он издателя: не мог ли
прислать книг им, погрязнувшим в грехах?
Казалось бы, что общего меж нами?
Не зарекайся – мудрость говорит.
Никто не вправе первым бросить камень.
У каждого в шкафу скелет зарыт.
Мир – камера огромного размера.
Подглядывает Бог в глазок луны.
Он знает: все достойны высшей меры, –
читая наши помыслы и сны.
"Наш коллектив и я, Иван Молочко,
пишу не столь из отдалённых мест..."
Так что в них суть и что лишь оболочка?
Душа взревёт, как поглядишь окрест.
"И время драгоценное досуга
мы на стихи затрачиваем все..."
"А если грязь и низость – только мука
по где-то там сияющей красе?"
* * *
Между землёй и небом,
меж тем, что быль – и небыль,
меж прошлым и грядущим,
меж суетным и сущим,
меж тем, что тьма, и тем, что свет,
меж тем, что да, и тем, что нет,
между змеёй и птахой,
между тюрьмой и плахой,
меж беспорочной кельей
и приворотным зельем,
меж бесом и распятьем,
спасеньем и проклятьем,
меж адом и меж раем
всю жизнь мы выбираем.
Из цикла «Так жили поэты»
Иннокентий Анненский
Нерадостный поэт. Тишайший, осторожный,
одной мечтой к звезде единственной влеком...
И было для него вовеки невозможно –
что для обычных душ бездумно и легко.
Как он боялся жить, давя в себе природу,
гася в себе всё то, что мучает и жжёт.
"О, если б только миг – безумья и свободы!"
"Но бросьте Ваш цветок. Я знаю, он солжёт".
Безлюбая любовь. Ночные излиянья.
Всё трепетно хранил сандаловый ларец.
О, то была не связь – лучистое слиянье,
сияние теней, венчание сердец...
И поглотила жизнь божественная смута.
А пасынка жена, которую любить
не смел, в письме потом признается кому-то:
"Была ль "женой"? Увы. Не смог переступить".
***
То, что Анненский нежно любил.
То, чего не терпел Гумилёв...
Г. Иванов
Что же так Анненский нежно любил?
Тайну поэта скрывает преданье.
То, что в ларце заповедном копил -
муку сонета и яд ожиданья.
Боль старой куклы, шарманки печаль,
томные тени безумного мая,
ту, кого видел во сне по ночам,
молча колени её обнимая.
Зыбкость, неброскость и слово «Никто»,
то, чему отклика нет и созвучья.
Ну а зато, а зато, а зато -
вознагражденье за всё, что измучит,
за ощущенье вселенской беды,
обожествленье тоски и досады -
бред хризантем и струю резеды
в чеховских сумерках летнего сада.
Что он любил? Состраданье смычка,
шарик на нитке, не кончивший пытку,
трепетность дрожи во всём новичка,
жизни бесплодную эту попытку.
Шёпот прощанья в осеннем дожде,
сладость «прости» на промозглом вокзале,
всё, что тонуло в любовной вражде,
всё, что друг другу они не сказали.
Рваные ритмы прерывистых строк,
то, чего нет, не могло быть, не может...
Скажете вы, ну какой в этом прок?
Но он любил... как любил он, о боже,
ту, что в мерцанье светил средь миров
всё вызывал заклинанием снова...
Всё, чего так не терпел Гумилёв.
Честное слово, мне жаль Гумилёва!
Блок
"Ночь, улица, фонарь, аптека"
всю жизнь тоску внушали веку.
Но каждый век, сроднившись с ней,
был предыдущего страшней.
"О, было б ведомо живущим
про мрак и холод дней грядущих", –
писал нам Блок, ещё не знав,
как он до ужаса был прав.
Насколько мрак грядущей бездны
"перекромешнит" век железный.
Метафизический мейнстрим –
страшилка детская пред ним.
Аптеки обернулись в морги
и виселицей стал фонарь.
И не помог Святой Георгий,
не спас страну от пуль и нар.
О, если б только знал поэт,
когда писал свой стих тоскливый,
что через пять начнётся лет –
то показалась бы счастливой
ему та питерская ночь,
фонарь – волшебным, а аптека
одна могла б ему помочь
смертельной морфия утехой.
Никто не знает, отчего
скончался Блок... И вдруг пронзило:
не от удушья своего
и не от музыки вполсилы,
он вдруг при свете фонаря
увидел будущее наше,
все жизни, сгинувшие зря,
заваренную веком кашу
и ужаснулся этой доле:
кромешный мрак и в нём – ни зги.
Он умер в этот миг от боли.
Он от прозрения погиб.
***
Пастернак не заехал к родителям.
Тщетно ждали они в тоске.
Лет двенадцать его не видели.
Так и умерли вдалеке.
«Здесь предел моего разумения», —
от Марины дошла хула.
А сама-то в каком затмении
дочь на смерть свою обрекла?
Гёте не попрощался с матерью —
душу «Фаусту» сберегал.
Бродский сына оставил маленьким,
устремясь к другим берегам.
Вы — особые, вы — отмечены.
Что вам дружество и родство?
Как же в этом нечеловеческом
уживается божество?
Классик щёлкнет цитатой по носу:
«Мал и мерзок не так, как мы».
Вы — стихия, вы выше кодексов,
выше совести и молвы.
Что мы смыслим с моралью куцею,
именуемые толпой?
Что поэту все конституции,
коль — запой или вечный бой?
Не стреножит поэта заповедь,
он — в полёте, певец, чудак...
Только что-то меня царапает.
Что-то в этом во всём не так...
* * *
"Жид недобитый, будь ты проклят!" –
писали Бродскому в Нью-Йорк,
когда поэту и пророку
весь мир выплёскивал восторг.
Увенчана наградой лира,
и смокинг для приёмов сшит,
а на двери его квартиры
шкодливо выведено: "жид".
Вороны с профилем аршинным
из русской лужи, гады пьют,
и сионистские снежинки,
проныры, по свету снуют.
Кругом проникли инородцы...
О, макашовская страна!
Как ни фашиствуй, ни юродствуй,
ты всё вернёшь ему сполна.
Все люди – братья: Авель, Каин...
Хвалебный хор – и злобный вой.
Плохой еврей, американец,
изгой, любимец мировой.
Собака Пастернака
Подонки громили врага – Пастернака.
Все окна побили на даче.
Но этого было им мало, однако –
побили камнями собачку.
Она с перебитыми лапками выла,
скрываясь за дачною дверью.
Поэта травило двуногое быдло,
в загон загоняя, как зверя.
Хотелось им смерти поэта собачьей,
хотелось им крови поэта...
И Лёня Губанов, приехав на дачу,
собачку выгуливал эту.
Неведомо, живы ль собачьи потомки,
но подлости лик одинаков,
и отпрыски тех чистокровных подонков
всё так же громят пастернаков.
Из цикла «Ещё не ночь»
***
«Ещё не вечер» – не скажу уже.
Ещё не ночь. И каждый час всё слаще.
Но многое, что надобно душе,
жизнь отложила в долгий-долгий ящик.
Быть может, в тот, в который мне сыграть...
(Прости, читатель, этот чёрный юмор.
Я не хочу, о други, умирать,
как классик говорил, который умер).
«Две области – сияния и тьмы»
Бог примирит, перемешав, как соки.
Из известковой краски и сурьмы
родится вечер вдруг голубоокий.
Вот так бы примирить весь мрак и свет,
что борются в душе моей, стеная.
Из всех остроугольных да и нет
сложить «быть может», «кажется», «не знаю».
Вот так бы плавно жизнь свою суметь
направить между Сциллой и Харибдой.
О, сумерки... Смеркается... И смерть
вдруг снова подмигнула мне из рифмы.
* * *
За окошком ветра вой.
Мне опять не спится.
Бьётся в стекла головой
вяз-самоубийца.
Капли падают в тиши,
разлетясь на части.
Но не так, как от души
бьют стекло на счастье.
Струи поднебесных вод –
острые, как спицы.
Сам себя пустил в расход
дождь-самоубийца.
Как струна, натянут нерв.
Лунный диск нецелен.
Обоюдоострый серп
на меня нацелен.
* * *
Как завести мне свой волчок,
чтоб он жужжал и жил,
когда б уже застыл зрачок
и кровь ушла из жил?
Как превзойти в звучанье нот
себя саму суметь,
когда окончится завод
и обыграет смерть?
Как скорость наивысших сфер
задать своей юле,
чтобы хоть две минуты сверх
крутиться на земле?
***
И в затрапезной шапке-невидимке,
в которой не замечена никем,
сквозь города знакомые картинки
я прохожу беспечно налегке.
Не прохожу – скольжу бесплотной тенью,
ступенек не касаясь и перил,
не приминая травы и растенья,
не отражаясь в зеркале витрин.
Грань между тем и этим светом стёрта.
Никто нигде не нужен никому.
Как мир живых похож на царство мёртвых,
но это всё неведомо ему.
Я вижу всех – меня никто не видит.
Как странно хорошо идти одной,
неуязвимой боли и обиде,
неузнанной, незванной, неземной.
* * *
Где найти козла отпущения
всех грехов моих и стихов?
У кого попросить прощения,
что сама я и мир таков?
Вот и радуга сверху свесилась,
руку тянет моей в ответ.
Ах, и держит-то всех на свете нас
то, чего на поверку нет.
Из цикла «Родина»
Первомай 2004-го
В дождливой мороси и хмари
тонул нелепый Первомай.
Я шла с тяжёлой сумкой к маме.
(Уже не шёл туда трамвай).
Мой взор, рассеянный и сонный,
скользил поверх младых племён,
а мне навстречу шли колонны,
как будто из других времён.
О сколько их! Куда их гонят?
Что демонстрировать, кому,
когда в стране, где все – изгои,
власть, неподвластная уму?
Стояли ряженые в гриме –
Маркс-Энгельс-Ленин-Брежнев. Бред.
Мне Энгельс подмигнул игриво,
портвейном, кажется, согрет.
Толпа живым анахронизмом
флажки сжимала в кулаках.
Воскресший призрак коммунизма
маячил где-то в облаках.
Зонты – щитами – непогоде
и в ногу – мерные шажки.
А я всегда рвалась к свободе
сквозь эти красные флажки!
Всё, чем когда-то дорожили,
оплакивают небеса...
"Как хорошо мы плохо жили", –
однажды Рыжий написал.
Земля, тебе не отвертеться,
как этот шарик надувной
парит над юностью и детством.
Наивный шарик наш земной...
***
«Советская», «Октябрьское ущелье»,
- мой бог! - «Коммунистический тупик»!
И смех, и грех, и горечь, и веселье
в названиях, заведших нас в тупик.
В них всё, чего так страстно мы хотели,
все наши миражи и муляжи,
чего, конечно, не было на деле,
но нас учили жить тогда по лжи.
И я живу, старея год от года,
на улице, где нет ни фонаря,
но имени не просто там кого-то, -
«Пятидесятилетья Октября»!
И столько ж лет хожу, сутуля плечи,
не видя лучезарный тот причал,
от будущего светлого далече,
что кто-то где-то твёрдо обещал.
***
Люблю не странною уже –
шизофренической любовью –
ту, с кем Эдем и в шалаше,
ту, что мне дорога любою.
И эту ширь, и эту грязь,
и дуновения миазмов,
с чем с детства ощущаешь связь
до тошноты, до рвотных спазмов.
Но что взамен? Но что взамен
вот этой вымерзшей аллейки,
родных небес, родных земель,
родной кладбищенской скамейки?..
***
История – истерика времён,
что убивает медленно, но верно.
Мир не для тех, кто тонок и умён.
Не для поэтов, не для слабонервных.
Сидят вожди в чертогах золотых,
крутые, но пологие по сути.
Не ведает отныне чувств шестых
шестая пядь, погрязнувшая в блуде.
Где был барак – теперь царит бардак.
Казармы перестроены в бордели.
Как будто стёр безжалостный наждак
всё, чем владели и о чём радели.
Страна рабов, не чующих страны
среди рекламных сникерсов и чипсов.
Страна воров, разграбленной казны,
распроданных садов, забытых Фирсов.
Соблазн Рембо: поэзию презреть,
уйти в торговлю, на далёкий остров...
Корабль пьян. Оставшийся на треть,
он по волнам несёт свой мёртвый остов.
Закройте ваши души на засов.
Когда уходит из-под ног земное –
уж не до белых–алых парусов,
спасти б своё судёнышко, как Ною.
Куда ж нам плыть? Где выход, лаз, отсек?
О, никогда я не пополню стадо
в любви тебе клянущихся навек
и знающих, как надо и не надо.
Души с рассудком нескончаем спор.
Пустыня, как всегда, не внемлет гласу.
Стучит в сердца Лопахинский топор,
как пепел незабвенного Клааса.
***
Я вырвусь за эти страницы
ещё не написанных книг,
за эти тиски и границы
режимов, орбит и вериг,
из ряски, не ведавшей риска,
в миры беззаконных комет,
куда мне и ныне, и присно
ни хода, ни выхода нет.
|
|
Понравилось: 2 пользователям
На окраине жизни и горести |

***
На окраине жизни и горести
мы вдвоём незаметно идём,
не сбавляя замедленной скорости,
то под солнышком, то под дождём.
Метя дни то боями, то сбоями,
ни на миг не разняли руки
в этом мире, где рядом с тобою я
выживаю всему вопреки.
И признаться не стыдно, что смолоду
за твоим я скрывалась плечом,
под крылом укрываясь от холода,
обвивая тебя как плющом.
Не страдая сердечною засухой,
не меняя его на рубли,
прожила я все годы за пазухой
не у Господа, а у любви.
***
Мы в опале божьей этим летом,
в небесах горит звезда Полынь.
Холодно тебе под новым пледом,
несмотря что за окном теплынь.
Я иду на свет в конце тоннеля,
факелом отпугивая смерть.
Все слова из пуха и фланели,
чтобы твои рёбрышки согреть.
С болью вижу, как слабеет завязь,
нашу жизнь из ложечки кормлю.
Как я глубоко тебя касаюсь,
как же я до дна тебя люблю.
***
Татьяной была или Ольгой,
весёлой и грустной, любой,
Ассоль, Пенелопою, Сольвейг,
хозяйкой твоей и рабой.
Любовь заслоняя от ветра,
как пламя дрожащей свечи,
Русалочкой буду и Гердой,
твоей Маргаритой в ночи.
Пусть буду неглавной, бесславной,
растаявшей в розовом сне,
лишь только б не быть Ярославной,
рыдавшей на градской стене.
***
Февраль! Чернил уже не надо,
когда есть вилы для воды.
Писать сонеты иль сонаты,
в сердцах растапливая льды.
Бумаге жизнь передоверив,
смотреть, как гаснут фонари,
в чужие не стучаться двери,
познав, что выход — изнутри.
Когда ж сойдёт на нет удача,
побив все карты до одной,
и вековая недостача
преобразится в вечный ноль,
когда все маски и личины
оскал покажут бытия -
и в минусовых величинах
надежда выживет моя.
Но даже там где нет надежды -
моя любовь тебя спасёт.
Где утешенье безутешно -
она одна осилит всё.
***
Замки — на песке, храмы — на крови,
ну а мы стоим на одной любви,
держимся пока как на волоске,
теплимся свечой, жилкой на виске,
бьёмся как об лёд, стали ей жильём,
ибо мы вдвоём однова живём.
***
В этом мире все мы гости,
словно дети в чаще.
Жизнь разбрасывает кости
поздно приходящим.
Грустно дни свои итожу,
горести да беды.
Брось и мне крупинку, Боже,
с барского обеда.
Я и на небесном корме
продержусь, поверьте.
Стану, стану костью в горле
у голодной смерти.
***
Незаметна стороннему глазу,
я по жизни иду налегке
за волшебно звучащею фразой,
что маячит ещё вдалеке.
Начинается новой главою
день в косую линейку дождя.
Зеленеет и дышит живое,
о своём на ветру шелестя.
Чтоб мотив тот подхватывал всякий,
напевая его при ходьбе...
А когда моя муза иссякнет,
то я буду молчать о тебе.
***
Жизнь протекает в неизвестности
и в песни претворяет сны.
Но вечно у родной словесности
я на скамейке запасных.
И всё же лучше буду в падчерицах
искать подснежников зимой,
чем угождением запачкаться
и изменить себе самой.
Пронзать чужие души лезвием
и ткать невидимую нить,
пока хоть что-то у поэзии
в составе крови изменить.
***
Как будто я оставлена на осень,
не сдавшая экзамен у судьбы:
запутавшись в задачке из трёх сосен,
искать в лесу ответы как грибы,
читать в корнях вещей первопричины,
смирению учиться у травы...
А я бы и осталась, и учила,
да школа жизни кончена, увы.
Что, вечной второгоднице, мне делать
с просроченною жизнью и тоской,
с застывшим в пальцах мелом задубелым
над гробовою чистою доской?
Постойте, я не всё ещё сказала!
Но вышел срок, и всё пошло не впрок.
На том свету, как перед полным залом,
в слезах любви, в прозренье запоздалом
отвечу Богу заданный урок.
***
Передохнуть, вглядеться, отдышаться,
нащупать у судьбы второе дно,
а после что есть силы разбежаться
и взмыть туда, куда нам не дано.
От холода укутаться в объятье,
с пылающего неба брать пример
и примерять бессмертье словно платье,
что велико ещё мне на размер.
|
|
Понравилось: 4 пользователям