-Поиск по дневнику
-Подписка по e-mail
-Друзья
-Постоянные читатели
-Статистика
Записей: 871
Комментариев: 1385
Написано: 2520
Памяти Игоря Меламеда (окончание) |
Начало здесь

Боль
* * *
Полутемная больница.
Медсестер пустые лица.
Санитаров пьяный бред.
Инвалидам сладко спится:
никому из них не снится
переломанный хребет.
Кружит девушка в коляске.
Ей, мужской не знавшей ласки,
хоть собой и хороша,
все бы, глупой, строить глазки,
выпавшей, как в страшной сказке,
со второго этажа.
Слёз непролитые реки
здесь взорвать должны бы веки
бедных юношей. Но вот
странный, жуткий смех калеки,
затвердившего навеки
непристойный анекдот.
Нет надежды ниоткуда.
Тем в колясках и не худо,
этот сдался без борьбы,
этот верует покуда,
что его поднимет чудо
прежде ангельской трубы.
Боже праведный и славный,
если только разум здрав мой,
просьбу выполни мою:
всем разбитым смертной травмой
дай удел посмертный равный –
посели в Своем раю.
Исцеляющим составом
проведи по их суставам.
Не подвергни их суду.
Всем им, правым и неправым,
босиком по вечным травам
дай гулять в Твоем саду.
2000

* * *
Я неожиданно пойму:
какая ночь бы ни нависла –
никто, свою лелея тьму,
не просветляется до смысла.
Никто, в себе лелея мрак,
не прозревает своевольно.
И не бессмыслен мир, но так
бывает тяжело и больно…
Так холодна моя рука
поверх чужого одеяла.
Так бесконечно далека
моя любовь от идеала…
И все ж мне чудится порой
какой-то смутный шорох рядом,
как будто кто-то надо мной
склонился с предпоследним взглядом.
И как бы я ни пал на дно
жестокого миропорядка –
я верю вновь, что все равно
мне суждена его оглядка,
что всех нас ждет его ответ,
быть может, и невыразимый,
что нас зальет какой-то свет,
быть может, и невыносимый.
О, как я счастлив осознать,
что я еще люблю и плачу,
что в этом мире благодать
я не меняю на удачу.
И задыхаюсь, и молю,
и трепещу перед расплатой.
И называю жизнь мою
то лучезарной, то проклятой.
В блистанье солнечного дня,
в сиянье лунного разлива
он только смотрит на меня
то потрясенно, то брезгливо.
1985
* * *
Наступает мутный вечер,
а за ним – ночная тьма.
Ад, наверное, не вечен.
Лишь бы не сойти с ума.
Ибо в это время суток
боль струится через край.
Боже, попадут ли в рай
потерявшие рассудок?..
2007

Эдвард Мунк. Крик.
* * *
По душной комнате влача
полубезжизненное тело,
моли небесного Врача,
чтобы страданье ослабело.
Уйти б туда, где боли нет.
Но небеса черны над нами.
Закрыв глаза, ты видишь свет.
Закрыв глаза, я вижу пламя.
2007

В больнице
Если б разбился этот сосуд скудельный,
трещину давший, — где бы, душа, была ты?
Как в скорлупе, здесь каждый живет отдельной
болью своею в белом аду палаты.
Нет ничего на свете печальней тела.
Нет ничего божественней и блаженней
боли, дошедшей до своего предела,
этих ее снотворных изнеможений.
Черным деревьям в окнах тебя не жалко,
где отчужденно, точно в иной отчизне,
падает снег. И глухо гремит каталка.
И коридор больничный длиннее жизни.
1998
Смерть
***
Только спать, забывши обо всём.
Задушить последние желанья.
Сладко ли тому, кто в мире сём
родился в эпоху умиранья?
Ни о чем не думать — только спать,
ничего не видя и не помня.
Погружаясь в ночь, воображать
бурые кладбищенские комья.
И в каком-то самом давнем сне
изумиться: Боже, неужели
летним днем на маленьком коне
это я кружусь на карусели?..
* * *
Здесь пьют ночами алкоголики
и бьют бутылки о скамьи.
А утром дети, сев за столики,
играют в крестики и нолики,
в морские тихие бои.
И Сеня с Ваней в шашки режутся,
А Беня с Моней – в дурака.
И мотыльки на клумбах нежатся,
но не сорвать уже цветка:
былое только чудно брезжится,
а жизнь дика и коротка.
Затихло в парке птичье пение
и хризантемы отцвели.
И смерть и с Ванею, и с Бенею
в кресты сыграла и в нули.
Но ангел скорби и гармонии,
покинув темный небосвод,
над Ваней, Сенею и Монею
в пустынном парке слезы льет.
И вестник света и спасения,
незримо берегущий нас,
суровый ангел воскресения
за Ваней, Бенею и Сенею
сюда слетит в урочный час.
2005
* * *
Телефон звонит в пустой квартире.
Я уже к нему не подойду.
Я уже в потустороннем мире.
Я уже, наверное, в аду.
Над моей больничною кроватью,
как свидетель смертного конца,
кто-то наделенный благодатью,
но от горя нет на нем лица.
Или это лишь анестезия,
сон и ледяная простыня?
Надо мной склонясь, Анастасия
отрешенно смотрит на меня.
Неужели я не умираю
и в ночи февральской наяву
к светлому и радостному раю
на больничной койке не плыву?
Боже мой, Ты дал взглянуть мне в бездну,
я стоял у смерти на краю.
Неужели я еще воскресну
в этом мире, прежде чем в раю?..
2001

* * *
Душа моя, со мной ли ты еще?
Спросонок вздрогну – ты еще со мною.
Как холодно тебе, как горячо
под смертной оболочкою земною!
Ужель была ты некогда верна
иному телу? Милая, как странно,
что ты могла бы жить во времена
какого-нибудь там Веспасиана.
Душа моя, была ли ты – такой?
Не представляю чуждую, иную.
Ко праху всех оставленных тобой
тебя я, словно женщину, ревную.
Душа моя, услышишь ли мой зов,
когда я стану тусклой горстью пыли?
Как странно мне, что сотни голосов
с тобой из тьмы посмертной говорили!
И страшно мне – какой ты будешь там,
за той чертой, где мы с тобой простимся,
и вознесешься к белым облакам
иль поплывешь по черным водам Стикса.
И там, где свет клубится или мгла,
родство забудешь горестное наше…
Я не хочу, чтоб ты пережила
меня в раю, в заветной лире – даже.
И как тебя сумел бы воплотить
в безумное и горькое какое
творенье? Твой исход предотвратить
нельзя мне и бессмертною строкою.
Но если нет возвратного пути,
то, уходя к неведомой отчизне,
душа моя, за все меня прости,
что сделал я с тобою в этой жизни.
1985

* * *
Пустая ночь. Подушки мертвый ком.
Упасть ничком. Не помнить ни о ком.
Сойди на нет, умри в своей мольбе –
никто, никто не вспомнит о тебе.
Куда бежать? На улице – черно.
Промокший тополь тычется в окно.
Но и под страхом смертного конца
не повернуть любимого лица
ни окликом, ни стоном, ни стихом.
Лишь сердце бьется в воздухе глухом.
1985

* * *
Мне уже больше не хочется жить.
Мертвые письма твои ворошить.
Боже, каким я бесчувственным стал!
Как от себя я смертельно устал!
Чаще, все чаще в мучительном сне
белый челнок приплывает ко мне.
Не возмущая поверхности вод,
по отраженному небу плывет.
Машет оттуда мне черным веслом
сгорбленный горьким своим ремеслом
новый мой спутник, спокойный на вид.
Ветер лохмотья на нем шевелит.
Я его жду на пустом берегу,
желтую тень окуная в реку,
не оставляя следов на песке,
с медной монетой в холодной руке.
1986

* * *
Господи, что же случилось со мной?
Глохнет душа, утомляется тело.
Стало бедою моей и виной
все, что ласкалось, и льнуло, и пело.
Детство к рассвету подходит к концу.
Ты его пьешь, умирая от жажды,
видя себя, вопреки мудрецу,
в прежнюю реку вступающим дважды.
Только вступаешь с иного конца,
освободясь от истлевшего платья,
мертвую ветвь отведя от лица,
теплые руки убрав из объятья.
Вслед за собой устремляешься вплавь
и в прибывающем утреннем свете
вновь попадаешь в постылую явь,
словно в свои же забытые сети.
Господи, я ничего не могу!
Мне не доплыть до свиданья с собой же!…
Я очертанья на том берегу
с каждым рассветом теряю все больше.
Это – меня убивающий свет,
ставший бедою моей и виною,
неотвратимо сводящий на нет
даже родство между мною и мною.
1988
***
Так холодно, так ветер стонет,
как будто бы кого хоронят,
родной оплакивая прах.
И будет так со всеми нами:
мы в землю ляжем семенами
и прорастем в иных мирах.
О, как все здешнее нелепо:
изнеможенье ради хлеба,
разврат, похмелье и недуг.
Ты пригвожден к трактирной стойке,
я пригвожден к больничной койке —
какая разница, мой друг?
Вот нам любовь казалась раем,
но мы друг друга покидаем,
как дым уходит от огня.
И лишь в объятьях скорби смертной
мы молим: «Боже милосердный,
прости меня, спаси меня!»
И в час лишенья, в час крушенья
слетает ангел утешенья
и шепчет, отгоняя страх:
всё, что не стоит разрушенья,
познает счастье воскрешенья
и прорастет в иных мирах.

* * *
Глядишь с икон, со снежных смотришь туч,
даруя жизнь, над смертью торжествуя.
Но вновь и вновь — «Оставь меня, не мучь!» —
Тебе в ночном отчаянье шепчу я.
Прости за то, что я на эту роль
не подхожу, что не готов терпеть я, —
Ты сам страдал и, что такое боль,
не позабыл за два тысячелетья.
Прости за то, что в сердце пустота,
за то, что я, как малодушный воин,
хочу бежать от своего креста,
Твоей пречистой жертвы недостоин.

* * *
Веет холодом, как из могилы.
До рассвета четыре часа.
Даже близкие люди немилы —
отнимают последние силы
телефонные их голоса.
Днем и ночью о помощи молишь,
заклиная жестокую боль.
Милосердный мой, выжить всего лишь
мне хотелось бы, если позволишь, —
но хотя бы забыться позволь.
Неужели такие мытарства,
отвращение, ужас и бред
исцеляют вернее лекарства,
открывают небесное царство,
зажигают божественный свет?

* * *
...И ангелов я вопрошаю Твоих:
зачем я остался в живых?
Осеннею ночью с промозглой травы
зачем меня подняли вы?
Уж лучше б меня унесли далеко,
где так бы мне стало легко,
в ту местность, куда провиденьем благим
ко мне бы — один за другим —
в свой срок прибывали любимые мной
из горестной жизни земной.

* * *
В ненадежных и временных гнездах
и тела обитают, и души.
Но Спаситель приходит, как воздух,
посреди мирового удушья.
Посреди мирового мороза,
в безысходных глубинах страданья,
раскрывается сердце, как роза,
от Его дорогого дыханья.
Все оплачено было сторицей
и искуплено страшною кровью,
чтобы ты бесприютною птицей
возвратился под вечную кровлю.

***
Может быть, оттого не должны
умирать мы по собственной воле,
чтоб на тех не осталось вины,
кто не смог защитить нас от боли.
Может быть, оттого и должны
мы забыть об отравленных чашах,
чтобы меньше осталось вины
на невольных мучителях наших.
И должно быть, затем не вольны
мы покинуть земную обитель,
чтобы меньше осталось вины
и на тех, кто нас гнал и обидел…
1988
Терцины
И вот, когда совсем невмоготу,
когда нельзя забыться даже ночью,
– Убей меня! – кричу я в темноту
мучителю, незримому воочью,
зиждителю сияющих миров
и моего безумья средоточью.
Убей меня, обрушь мой ветхий кров.
Я – прах и пепел, я – ничтожный атом.
И жизнь моя – лишь обмелевший ров
меж несуществованием и адом.
ГОРОДСКИЕ ЯМБЫ
1.
Душа в телесной клетке бьется,
обиды горькие выносит,
во тьме обыденной хлопочет.
Но к вечности уже не рвется,
и вечности уже не просит,
и вечности уже не хочет.
В пространстве, где тепла не стало,
дыханье расцветает пышно,
морозный ветер сердце студит.
Но музыка уже устала,
и музыки уже не слышно,
и музыки уже не будет.
В глубинах городского ада
кричит рассерженная галка,
автомобиль ревет протяжно.
И ничего уже не надо,
и ничего уже не жалко,
и ничего уже не страшно.
1996
2.
Автомобили, улицы и лица –
в чаду, в бреду, в кошмарной круговерти –
все это будет длиться, длиться, длиться,
все это не окончится до смерти.
Не вырваться… Всегда одно и то же:
деревья, люди и автомобили.
И мне порою кажется, о Боже,
они мне будут сниться и в могиле.
И я все те же каменные зданья
увижу вместо райского сиянья.
И я все тот же дикий рев мотора
услышу вместо ангельского хора.
1997
3.
Душа моя, ударили морозы,
цветы увяли, опустели гнезда.
И ветер пламя рвет из папиросы,
уносит ввысь и зажигает звезды.
И падает холодный отблеск синий
на нашу жизнь, на все, что мы любили.
И медленно ложится черный иней
на парапеты и автомобили.
И, зная, что не вырваться из плена,
я чувствую остывшей кровью всею,
о чем поет железная сирена
блаженному от горя Одиссею.
1997
* * *
Снег, укрывший всё навеки,
клонит в сон, смежает веки,
словно манит в мир иной.
С именем, на дар похожим,
ты была мне даром Божьим,
стала горем и виной.
Снег валит неумолимо,
и болит неутолимо
все во мне и все вокруг.
Даже ты, со мной измучась,
избрала другую участь.
Бог с тобою, милый друг.
Снег летит над смертной сенью,
заметает путь к спасенью.
Спи, дитя мое, не плачь.
Ангел мой, кружа над бездной,
из пекарни занебесной
принесет тебе калач.
2008

Темный ангел
В поздний час изнеможенья
всех бессонных, всех скорбящих,
в ранний час, когда движенья
крепко скованы у спящих,
в час разомкнутых объятий,
в час, когда покой как милость
всем, чье сердце утомилось
от молитв и от проклятий,
в тишине необычайной,
в млечном сумраке над нами
появляется печальный
ангел с темными крылами.
Над безумною столицей,
восстающей из тумана,
наклонясь, как над страницей
Откровенья Иоанна, —
не блаженный вестник рая
и не дух, что послан адом,
не храня и не карая
смотрит он печальным взглядом,
смотрит с ангельского неба
в нашу ночь, и в этом взгляде
нет ни ярости, ни гнева,
ни любви, ни благодати.
В час, когда укрыться нечем
нам от родины небесной,
над жилищем человечьим
нависая, как над бездной,
как звезда перед паденьем
наклонясь во мрак тревожный,
с каждым новым появленьем
холодней и безнадежней
в час забвенья, в час бессилья
он глядит на все земное,
дикие, глухие крылья
простирая надо мною...

***
Всё навсегда похоронено
и не воскреснет вовек.
Только небесная родина
есть у тебя, человек.
И превратилось в проклятие,
в камень незримых могил
все, что, сжимая в объятии,
ты в этой жизни любил.
1999


Игорь Меламед с друзьями в последние дни

Вечная память
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/263299.html
|
|
Процитировано 3 раз
Понравилось: 1 пользователю
Памяти Игоря Меламеда (продолжение) |
Начало здесь

Память
ПАМЯТИ МАМЫ
1.
Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться…
В детство мое, покинув сырую яму,
в снежной ночи ко мне ты придешь обратно.
Я по слогам прочту, как ты мыла раму –
в прописях тех чернил не просохли пятна.
В темном проеме так силуэт твой светел,
что и не надо мне никакого утра.
Раму из рук твоих вырывает ветер,
на подоконник мерзлая сыплет пудра.
Вот за оледенелою крестовиной
ты по пустому воздуху водишь тряпкой…
– Игорчик, ты недавно болел ангиной,
в шарф запахнись и уши укрой под шапкой.
Голос твой тонет в мутной метельной каше
и остается в той недоступной жизни.
Только и слышу я твой предсмертный кашель
в обетованной, чуждой тебе отчизне,
да на далекой свежей твоей могиле
жаркого ветра тяжкое дуновенье,
да заунывный, горестный вой Рахили,
плачущей, не желающей утешенья.
2.
Еще никто не должен умирать.
И бабочка, вплывая в палисадник,
на темную твою садится прядь –
божественный и мимолетный всадник.
И пахнет мятой мокрая скамья.
И снег летит над Средиземным морем.
И проступает из небытия
ее пыльца, захватанная горем.
И жизнь твоя стремится напролом
вот в эту ночь с бездонною зимою,
шуршащая папирусным крылом,
оранжевая, с траурной каймою.
1999
* * *
В своем углу ты всем бывала рада,
во всех мужчин была ты влюблена.
Тебе таскал я плитки шоколада
и наливал дешевого вина.
Ты лучшие куски недоедала,
настырного закармливая пса,
капризничала, ныла и рыдала,
ложилась в три, вставала в два часа,
придумывала разные предлоги,
чтобы гостей привлечь вернее в дом,
полупарализованные ноги
передвигала с болью и трудом.
Прости меня за то, что обещанья
не смог исполнить, и в холодный лоб
не целовал тебя я на прощанье,
и горсть земли на твой не бросил гроб.
Быть может, там и вправду жизнь вторая,
и брызжет свет из-под могильных роз,
и для тебя раскрыты двери рая, –
я ничего не вижу из-за слез.
2002

Памяти отца
1.
Совсем не ты – а кто-то неживой,
с положенной неловко головой,
так сжавший губы, словно бы оттуда,
из темноты, не смея произнесть
блаженную разгадку или весть…
Молчи, молчи – я буду верить в чудо.
В сиротском сне не мучь меня – невмочь
мне видеть, как ты молод в эту ночь:
из твоего огромного кармана
я что-то непонятное тащу,
в буфете роясь, сладости ищу,
а ты глядишь растерянно и странно.
И я слезами жадными давлюсь,
и найденным с тобою не делюсь,
и, содрогаясь, снова это вижу…
Могильный ком, обрушенный во тьму,
подступит словно к горлу моему,
и детство я свое возненавижу.
В моем каком-то старом пиджаке,
с обшарпанным портфельчиком в руке,
во снах, где рай душа твоя нашла бы,
идешь ко мне ты – с горем пополам,
и древний дождь стекает по полям
твоей нелепой, необъятной шляпы.
И, плачущего мальчика, меня
ты снова держишь за руку, храня
на этот раз уже как бы над бездной.
И наблюдаешь с жалостью за мной
ты, не вкусивший сладости земной,
не обделенный милостью небесной…
1989

Е. Орлов. Последний трамвай.
2.
На кладбище еврейском в светлый рай
тяжелый ветер сор осенний гонит
с разбитых плит – приюта птичьих стай.
На кладбище, где больше не хоронят,
вот здесь твоя могила родилась
вблизи чужой – забытой и умершей,
где я к тебе приник в последний раз,
не веривший и плакать не умевший.
Сквозь прах и ветер мне не разобрать,
не разгадать среди родного мрака,
какую ты вкушаешь благодать
у Бога Авраама, Исаака…
Благословив свистящий этот серп,
сквозь прах и ветер на твоей могиле
я лишь шепчу: да будет милосерд
к тебе Господь Иакова, Рахили…
1990


Рейсдал. Еврейское кладбище.
3.
Я – мальчик маленький у зимних окон.
Соседи в валенках в снегу глубоком.
Замок дыханием отогревая,
отец у белого стоит сарая.
И куры белые в снегу упорно
клюют незримые мне сверху зерна.
А в доме печь полна теплом и светом.
Заслонка звонкая играет с ветром.
Все было так всегда и будет завтра.
Отец на кухне мне готовит завтрак.
Рукой с прожилкою голубою
хрустит яичною скорлупою –
такой же белой на его ладони,
как снег за окнами на голой кроне,
такой же белою, как эти хлопья
на светлом мраморе его надгробья.
Как часто в сны мои придя из рая,
ты вновь у нашего стоишь сарая.
Не открывается на двери белой
замок заржавленный, заледенелый.
Напрасны бедные твои старанья:
тепло утратило твое дыханье.
Напрасно к ангелу, который рядом,
ты обращаешься с молящим взглядом.
Крылом сияет он белоснежным,
с лицом беспомощным, безнадежным.
Пока в обратный путь бездонным снегом
за белым ангелом идешь ты следом –
я в дикой темени тебя теряю,
подвластный времени и чуждый раю.
Земную жизнь пройдя до половины,
я плачу горестно, непоправимо
в ночном беспамятстве, во сне глубоком,
как мальчик маленький у наших окон.
1992

еврейский ангел
Памяти Е. С.
1.
Вот и отмучилось бренное тело.
Как же ты, бедная, выжить хотела!
Даже не знаю, сожгли тебя или
в землю чужую бесслёзно зарыли.
Ах, говорю себе, не все равно ли,
если ты больше не чувствуешь боли
и приобщилась душа твоя к тайне,
сорокадневное кончив скитанье.
2.
В тяжком беспамятстве, ночью глубокой
часто мне снится твой взгляд с поволокой,
руки и губы (остаться во сне бы!)…
Верю, что видишь и ты меня с неба.
Чая свиданья, я думать не смею,
что повстречаю слепую психею,
чудного призрака в образе женском,
с ликом, сияющим райским блаженством.

3.
Ночью глубокой обняв тебя страстно,
я не пущу тебя в это пространство,
в эти обители, в то измеренье,
где пребываешь бесплотною тенью.
Ты навсегда остаешься со мною
вечно живою, навеки земною
в сладостном сне, где беды не случится, –
с родинкой нежной на правой ключице.
2007

БОЛЬНИЦА
Ирине Хроловой
Спи, родная… Смятенье мое
к изголовью прильнуло с мольбою:
– Если только страданье твое
не пробудится вместе с тобою!..
Заоконный фонарь кружева
отрешенно плетет на паркете.
– Если только ты будешь жива,
если только ты будешь на свете…
Если только твоя тишина
не внушала бы мне опасенья!
Если все-таки боль нам дана
не для гибели, а во спасенье…
Если все-таки выживем мы,
если все-таки ангел небесный
наши жизни отмолит у тьмы,
остановит, безумных, над бездной…
Если только мой голос живой,
если все, что сейчас говорю я,
не уносится вместе с тобой
в беспросветную ночь мировую…
1986

Ирина Хролова
* * *
Так эта ночь нежна, так ливень милосерден.
Так бескорыстен плач, так бесконечна тишь.
Я руку приложил – ты стала правым сердцем.
Покалываешь чуть. Почти что не болишь.
Я знаю – этот страх к рассвету вновь воскреснет,
войдет, как секундант, и спросит: не пора ль?
И будет щебет птиц так тяжек и надтреснут,
как будто снится им пожизненный февраль.
Я – жаворонок… нет… я – речью этой жалок.
Гортань моя суха, темнее темноты
забота о себе: рука бы не дрожала,
нога б не затекла, забыться бы, но ты
усни, усни, усни под чуткою ладонью.
Ты – правое во мне. На свете нет потерь.
Я ревновал тебя к сиротству и бездомью –
под правою рукой ты вся во мне теперь.
Но та рука влажна – от ливня ли, от слёз ли,
и крестовиной страх растет в моем окне:
ты вся теперь во мне, но ты лежала возле
и стала пустотой на смятой простыне.
Не мучься – ты права под правою рукою.
Но справа пустота на тело, как ледник,
ползет – я потерплю, я поплотней укрою
ее и притворюсь, что это – твой двойник.
Так милосерден дождь, что речь моя промокла.
Уже словам нужна защита немоты.
Не бейся ж так во мне, как бьется дождь о стекла.
Не бойся – я с тобой. Но ты… но ты… но ты…
1984
ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ БЛАЖЕЕВСКОГО

Коли водка сладка, коли сделалось горьким варенье…
Е. Блажеевский
Коль водка сладка, как писал ты, родной,
с тобой бы я выпил еще по одной.
Зачем же меня ты покинул?
Как будто в промозглый колодец без дна,
откуда звезда ни одна не видна,
ты черный стакан опрокинул.
Тебе бы к лицу был античный фиал.
Влюбленный в земное, ты не представлял
посмертного существованья.
Но если, родной мой, все это не ложь,
дай знать мне, какую там чашу ты пьешь,
сладка ль тебе гроздь воздаянья?
И если все это неправда – в ночи
явившись ко мне, улыбнись и молчи,
надежде моей не переча.
Позволь мне молиться, чтоб вихорь и град
не выбили маленький твой вертоград,
где ждет нас блаженная встреча.
1999

на презентации книги стихов «Воздаяние»

Памяти Марины Георгадзе
Любить и лелеять недуг бытия…
Баратынский
Любимая, мне страшно за тебя.
Зачем, недуг лелея и любя,
об исцеленье думаешь заране?
Земную жизнь пройдя почти на треть,
зачем в иную пробуешь смотреть,
водя пером по их незримой грани?..
Не видя в этом времени пути,
сердца свои мы держим взаперти,
и опыт нас безвыходности учит:
пойдешь направо – злую встретишь ложь,
прямым путем и вовсе пропадешь,
свернешь налево – жалостью замучат.
Я плачу, плачу – все обречено.
Я тупо пью холодное вино.
И постепенно зреет безразличье
во мне к себе, к другим и к небесам,
к невыносимым чьим-то голосам,
срывающимся на косноязычье…
Но часто все ж мне кажется – я жив,
и в общем хоре голос мой не лжив
лишь оттого, что ты на этом свете.
И за тебя в ночной моей тоске
я помолюсь на странном языке
местоимений, слез и междометий.
И, может быть, не в том моя беда,
что ты со мной не будешь никогда,
не в том, что врозь отправимся с тобою
мы и туда, чего и мысль, и речь
страшатся, от чего не уберечь
друг друга ни объятьем, ни мольбою.
Но в том беда, любимая, что нам,
скорей всего, не встретиться и там,
куда глядишь ты так неосторожно.
И если тот же холод там и тьма –
что остается?.. Не сойти с ума,
и жить, когда и выжить невозможно.
1987

Марина Георгадзе
* * *
Памяти Марины М.
Повсюду смерть, и смерть, и смерть, и смерть.
И ты ушла… Ответь мне, Бога ради,
оттуда, если можешь, – как мне сметь
пытаться жить, взывая о пощаде?
Как продолжать мне верить в то, что нет
загробной тьмы, считать себя поэтом
и повторять: нас разделяет свет,
и ты – на том, а я еще – на этом?..
2004
Памяти Натальи Беккерман
* * *
Ангел кроткий, ангел нежный,
ангел легкокрылый
зажигает свет безгрешный
над твоей могилой.
Свет струится неизбежный
в неземной отчизне
после тяжкой, безнадежной,
безысходной жизни.
Там сама ты ангел милый,
ангел легкокрылый.
Господи тебя помилуй,
Господи, помилуй!
Ради памяти Наташи
нас помилуй тоже,
и тела, и души наши,
милосердный Боже.
2000

Наталья Беккерман
Памяти Бориса Викторова
…И о тебе не плачу потому,
что я теперь тебя несчастней, Боря,
что ты уже покинул эту тьму
и больше нет мучения и горя.
Тебе уже не страшно, мой родной.
Тебе уже не больно, мой хороший.
Теперь ты там в компании одной
с Ириной, и Мариной, и Алёшей.
Там вечный праздник празднуете вы.
Ты пьешь вино с Наташею и Женей.
Теперь ты жив, а мы ещё мертвы
для жизни вожделенной и блаженной.
2004

Борис Викторов
***
Квартира гостями полна.
На матери платье в горошек.
И взрослые делятся на
хороших и очень хороших.
Звон рюмок, всеобщий восторг.
У папы дымит папироса.
Вот этот уедет в Нью-Йорк,
а тот попадет под колеса.
Осенний сгущается мрак,
кончаются тосты и шутки.
И будет у этого рак,
а та повредится в рассудке.
И в комнате гасится свет.
И тьмой покрываются лица.
И тридцать немыслимых лет
в прихожей прощание длится.
Как длится оно и теперь,
покуда, сутулы, плешивы,
вы в нашу выходите дверь,
и счастливы все вы, и живы.
2002
Окончание здесь
|
|
Процитировано 1 раз
Памяти Игоря Меламеда |
Начало здесь

16 апреля на 52-ом году жизни скончался один из крупнейших поэтов нашей эпохи Игорь Меламед.
Хотела предложить вашему вниманию подборку моих самых любимых стихов у него, но их оказалось так много, что я буквально утонула в том, что выбрала, но тем не менее не смогла отказаться ни от одного из них. Поэтому условно разбила их для себя на несколько циклов, определявших главные темы его поэзии: «Детство», «Память», «Музыка», «Боль», «Смерть». Хочу поделиться с вами тем, что давно люблю и ношу в своём сердце.
Детство

***
В больничной ночи вспоминай свое детство и плачь:
и жар, и ангину, и окна с заснеженной далью.
Придет Евароновна к нам, участковый мой врач,
и папа ей двери откроет с бессонной печалью.
И мама грустна. И в глазах ее мокрая муть.
Одна Евароновна с радостью необычайной
то трубкой холодной вопьется мне в жаркую грудь,
то в горло залезет противною ложкою чайной.
Я с ложкою этой борюсь, как с ужасным врагом.
— Ты скоро поправишься, — мне говорят, — вот увидишь…
Потом Евароновне чаю дают с пирогом,
и с мамой веселой они переходят на идиш.
Ах, Ева Ароновна, если ты только жива,
склонись надо мной, сиротою, во тьме полуночной.
В больничном аду повтори дорогие слова:
— Ты скоро поправишься с травмой своей позвоночной.
Попей со мной чаю, а если ты тоже в раю,
явись мне, как в детстве, во сне посети меня, словно
ликующий ангел, — где чайную ложку твою
приму, как причастье, восторженно, беспрекословно.
2000

* * *
И печка железная в классе продленного дня.
И пчелка на клумбе мне в палец впивается, жаля.
И, кажется, нет человека несчастней меня –
за парту к другому отсажена девочка Валя.
Но все еще живы. И шумная наша родня
еще не прощается с нами на черном вокзале.
Кто в землю уедет чужую, кого-то родной
засыплют, сверкая на солнце проворной лопатой.
Пока же соседи справляют в саду выходной
и пробует водку веселый Валера горбатый.
Чрез четверть столетья он выпьет еще по одной
с дружками в беседке и свежею станет утратой.
Бессмысленно все. И ничто не вернется назад –
ни старый еврей, ни соседские пьяные песни.
И новым хозяином вырублен маленький сад.
Зачем же душа моя плачет и молит: воскресни?
Что делать мне с жизнью моей, превращенною в ад?
Покончить с собою? Ложиться в больницу на Пресне?
О Господи Боже, зачем эта гибель и мрак?
И горькая водка, и сладкая музыка эта?
Рукою ужаленной шарит несчастный дурак,
меся пустоту в беспорядочных поисках света.
Зачем он родился? Что в жизни он сделал не так?
Кто даст мне ответ? И к чему домогаться ответа?
2000
* * *
Мне сладко ощутить тех дней очарованье:
там каждый выходной который год подряд
они к своим родным приходят мыться в ванне –
отец мой, мать моя и маленький мой брат.
И ясно вижу я, как ждут они трамвая,
собрав свое белье и в сетку положив.
И дядя Федя рад, им двери открывая, –
семнадцать долгих лет еще он будет жив.
И Софа к ним спешит походкой косолапой,
и тетя Муся им пижамы раздает.
Там жарко, и отец, обмахиваясь шляпой,
рассказывает свой еврейский анекдот.
И вот они чисты, как и нельзя быть чище,
как после многих вод, как после долгих бед.
И омывает свет еврейское кладбище,
где только Софы нет и брата Толи нет.
И вновь они идут к вечернему трамваю,
торопятся домой, белье свое неся.
А я смотрю им вслед и глаз не отрываю,
хотя на этот свет еще не родился.
2003

***
Мне восемь. Я вижу вас в жизни земной,
бессмысленной и незавидной:
у входа на рынок сапожник кривой
в коляске сидит инвалидной.
В ужасной коляске, знакомый до слез
сапожник торгует шнурками
и тяжесть ее колоссальных колес
толкает больными руками.
Я вижу, как, залпом глотая вино,
похмельный художник Алфимов
рисует в сарае при местном кино
афиши для завтрашних фильмов.
Как толстая Дора за грязным столом,
приемщица нашей химчистки,
все пишет и пишет чернильным пером
какие-то скучные списки.
До худшего дня, до могильной поры
в убогой и тусклой отчизне
вы крест свой несли, а иные миры
вам даже не снились при жизни.
За то, что грядущую участь свою
вы видели в образах тленья, –
посмертною родиной в черном раю
дарован вам сон искупленья.
Покуда кружит в негасимых лучах
над вами мучитель крылатый –
я, маленький мальчик, в бессонных ночах,
беспомощный, невиноватый,
вас вижу и плачу, и нет моих сил
к нему обратиться с мольбою,
чтоб дал вам забыться, чтоб вас не будил
своею безумной трубою.
***
Там, в детстве, она застревает в дверях:
с походкой нескладной и шаткой,
с рыдающим смехом, с рукой в волдырях
под мокрой зеленой перчаткой.
Там скоро мне пять, ей – четырнадцать, но
мы как однолетки играем.
И пес наш дворовый, истлевший давно,
за нею кидается с лаем.
Там гости за скудным столом говорят
и пьют невеселую водку.
Я вижу, как теплой струей лимонад
течет по ее подбородку,
и как ее кутают в страшный платок
и шепчут о ней: извините…
Но если не все еще в смертный клубок
незримые смотаны нити,
и если иная нам жизнь суждена
в земном нашем облике – разве
пречистому взору предстанет она
в блаженном своем безобразье?
Я верю, дитя, – среди этих высот,
за то, что была ты безгрешной,
твоя красота расцветет и спасет
нас всех для отчизны нездешней.
Но яростный ветр не доносит сюда –
какую б ни выплатил дань я –
ни скрежет возмездья, ни трубы суда,
ни тяжкий глагол оправданья.
Здесь только, терзая мой немощный слух,
за окнами поезд грохочет.
И бьется во тьме неприкаянный Дух,
и плачет, и дышит, где хочет.
1995–1996
Игорь Меламед читает эти стихи:
Музыка
* * *
На львовском базаре помешанный старый скрипач
играет на скрипке, и смех вызывая, и плач.
На призрачной скрипке какой-то беззвучный мотив
старик исполняет, на мальчика взор обратив.
В округе скрипач безобидным слывет дурачком:
никто здесь не помнит со скрипкой его и смычком.
Он вскоре исчезнет, но лет через сорок опять
на скрипке таинственной мальчику будет играть.
А в мире, куда он вернулся из детского сна,
нет музыки больше и скрипка его не нужна.
Но он не уходит: теперь ему мир нипочем,
и чем-то незримым все водит над левым плечом.
2003

* * *
…И опять приникаю я к ней ненасытно.
Этой музыки теплая, спелая мякоть.
Когда слушаю Шуберта – плакать не стыдно.
Когда слушаю Моцарта – стыдно не плакать.
В этой сказке, в ее тридевятом моцарстве,
позабыв о своем непробудном мытарстве,
моя бедная мама идет молодою,
и сидят мотыльки у нее на ладони.
Ты куда их несешь, моя бедная мама?
Ты сейчас пропадешь за наплывом тумана.
Эта музыка, словно пыльца мотылька,
упорхнувшего в недостижимые страны.
Твоя ноша для Моцарта слишком легка,
а для прочих она непосильна и странна.
И опять ненасытно я к ней приникаю.
И она приникает ко мне ненасытно.
Остается стакан полутеплого чаю
в полутемном вагоне, где плакать – не стыдно…
1982

***
Я вижу, как в древнем своем пиджаке
и в мятой соломенной шляпе,
со старой пластинкой в дрожащей руке
приходит он вечером к папе.
И спор их о роли Голанских высот
так жарок и так нескончаем,
что лишь иногда он до рта донесет
стакан с остывающим чаем.
Я вижу, как, музыкой преображен,
забыв разговор бестолковый,
по комнате медленно кружится он
под легкий мотив местечковый.
Он медленно кружится тысячу лет,
попавший в нетленное время.
И лампочки нашей немеркнущий свет
струится на лысое темя.
Когда же там звук нарастает иной,
подобный далекому вою,
когда его там накрывает волной
протяжною и духовою,
и темный над ним разверзается свод,
как будто бездонная рана,
и гневное пламя с поющих высот,
с небесного хлещет Голана, —
я здесь заклинаю незримую власть,
недетским охваченный страхом,
чтоб в то измеренье ему не попасть,
где станет он пеплом и прахом.
И может быть, он меня видит сквозь тьму
молящего о милосердье
о том, чтобы дали остаться ему
в его музыкальном бессмертье.

МУЗЫКА
Не мучайся, не плачь – она немилосердна.
Дыханье затая, прислушивайся к ней.
Как будто все в себе ты чувствуешь посмертно:
она в тебе звучит, и нет ее родней.
Ты суетен и слаб, а в ней – такая мука…
Ты лжешь себе еще об участи иной.
Но ты отдашь ей все: любимую и друга,
ребенка и сестру, отчизну и покой.
И устыдишься сам ничтожной этой дани.
Но в страшные часы ты проклянешь ее.
И не найдешь в себе ни слез, ни оправданий,
поскольку в ней одной – спасение твое.
Ты напоишь себя лишь мертвою водою
прощенья и любви, обиды и вины,
когда не обделен ты большею бедою,
и ею лишь одной уста опалены.
И сладким ядом вновь она вольется в уши.
Желанною змеей твою ужалит тишь.
В глухонемую ночь она тебя задушит,
чтоб выжить ей самой. И ты ей все простишь.
1986

Продолжение здесь
|
|
Процитировано 2 раз
Понравилось: 3 пользователям
"Жизнь моя, как летопись, загублена..." Окончание |
Начало здесь

В 1920 году выходит книга В. Нарбута «Плоть». Значительная её часть — это агитационная поэзия, лозунговые стихи-призывы, написанные на потребу войны, политики, злобы дня.
Стихи-однодневки. Нечто подобное тому, что писал Маяковский, когда наступал на горло своей песне. Эти стихи даже по внешнему рисунку напоминали стихи Маяковского.
Страна моя! Родина! Добряк-паровоз!
Квартир-экипажей и товаров обоз!
Отпихиваясь локтями, вертитесь, колёса,
быстрей, быстрей и многоголосо!
Это были искренние, честные стихи, Нарбут не кривил душой, не конъюнктурил, когда писал так, но позже он ни одно из них не включил в вою итоговую книгу, видимо, изменив отношение к такого рода поэзии. Но даже в этих стихах проступают черты его неординарности. Чего стоит, например, его стихотворение «1 мая», где в традиционную праздничность врывается трагическое звучание:
Знамёна кровью не горят.
И гаснет серп, и меркнет молот.
Идёт, кладёт за рядом ряд
скелетов человечьих голод.
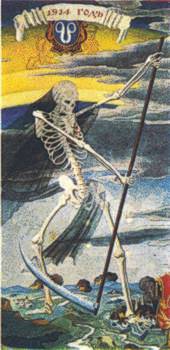
Иллюстрация Г. Нарбута
«Плоть»

Его поэзия была большей частью грубо материальной, натуралистичной, нарочито заскорузлой, антимузыкальной, временами косноязычной. Но зато, как выразился один из критиков, «его картины были написаны не чахлой акварелью, а густым рембрандтовским маслом».
Нарбут брал самый грубый, антипоэтический материал, причём вовсе не старался его опоэтизировать, а наоборот, ещё более огрублял. Эстетика его творчества состояла именно в полном отрицании эстетики. (Это сближало его с Бодлером, взявшим, например, как материал для своего стихотворения, падаль («Цветы зла»).
Ошеломляющее впечатление на многих производило такое стихотворение из книги «Плоть», как «Предпасхальное», где детально описывается, как перед пасхой кабана и режут индюка к праздничному столу.
В сарае, рыхлой шкурой мха покрытом,
сверля глазком калмыцким мутный хлев,
над склизким, втоптанным в навоз корытом
кабан заносит шамкающий зев…
Того не ведая, что скоро казни
наступит срок и - загудит огонь
и, облизнувшись, жалами задразнит
снегов великопостных, хлябких, сонь;
того не ведая, они о плоти
пекутся, чтобы, жиром уснастив
тела, в слезящий студень позолоте
сиять меж тортов, вин, цукатных слив...
И кабану, уж вялому от сала,
забронированному тяжко им,
ужель весна, хоть смутно, подсказала,
что ждёт его холодный нож и дым?..
И вдруг — пронзительные, каким-то глубинным прозрением потрясающие строки:
Молчите, твари! И меня прикончит,
по рукоять вогнав клинок, тоска,
и будет выть и рыскать сукой гончей
душа моя ребенка-старичка.
Но, перед Вечностью свершая танец,
стопой едва касаясь колеса,
Фортуна скажет: «Вот — пасхальный агнец,
и кровь его — убойная роса»...
В этих ни на что не похожих, резких, как сталь клинка, стихах мы вдруг ощущаем глубокое отчаяние поэта, предчувствие его неизбежного конца.

Г. Нарбут. Иллюстрация к стихотворению В. Нарбута «Предпасхальное», 1919 г.
Это тяжёлое предчувствие ощущается во многих стихах Нарбута, даже самых светлых и лиричных:
***
Летучей мыши крыло
задело за сердце когтем,—
и грудь — пустое дупло,
хоть руку засунь по локоть.
Сегодня, завтра, вчера —
все тот же сумрак в деревьях:
кленовые вечера
в раскидистом, добром чреве.
Нет плоти и — нет греха,
нет молний мертвецких ночью,
Сутулого жениха
заластили по-сорочьи.
Как вздернут лукавый нос!
И солнце поет в веснушках!
Худой, привязчивый пес —
я с Вами, моя пастушка!
Лиловое, синь кругом:
цветочки: иван-да-марья.
Откуда же этот гром,
удушье тягучей гари?
Ах, девушка, всех милей,
не девушка, а наяда—-
Душа! Как пес, околей!
Под тыном валяйся, падаль!
***
Высоким тенором вы пели
О чем-то грустном и далеком...
И белый мальчик в колыбели
Глядел на мать пугливым оком.
А звонкий голос веял степью —
Но с древней скифскою могилой!..
И к неземному благолепью
Душа томительно сходила...
И глаз огромной черной вишней
С багряно-поздней позолотой.
Смотрел недвижно, будто Кто-то
Уже шептал о жизни лишней...
***
Не ночь, а кофейная жижа:
гадать и гадать бы на ней!
Пошла полумесяца лыжа
на полоз моих же саней.
Козлиные гонятся лица,
поблеивают и поют.
Животная шерсть шевелится,
и волос — не гол и не крут.
Куда мне и что мне, заике,
коль ворох соломы тяжел,
коль первый попутный, великий,
огонь лишь туманом прошел.
Валун! То не я ли, дорожный,
сквозь ртутную глянул слезу?
Ухабистый, неосторожный,
везу мое бремя, везу.
Могильникам не развалиться,
за пазуху сунули крест,
и выселицам веселиться —
напраслина! — не надоест.
Под полозом — жарко и скользко,
и ворох соломы тяжел.
Но что мне, заике, до происков,
коль кучер — и тот вот — козел!
Присел, кучерявый, на козлы,
поблеивает и поет.
Чтоб жилой, хомячьей и рослой
(поет) подоило живот,
чтоб, выдавив дышащий розан,
я сам, облысел и умен,
пропал, потому что обсосан,
в кивающей прорве времен.

Литературный разнорабочий
Падение Нарбута с издательских высот произошло в 1928 году. Он был исключен из рядов ВКП(б) . В «Литературной энциклопедии» 1934 года сообщалось: «За сокрытие ряда обстоятельств, связанных с его пребыванием на юге во время белогвардейской оккупации». Официальная формулировка звучала так: «За факты, порочащие его как члена партии». Факты были следующие.
Оказавшись в самое крутое время гражданской войны на Украине, Нарбут попал в плен к деникинцам, где, спасая свою жизнь, написал отречение от большевизма. Вскоре он был освобождён красными и вернулся к привычной издательской и организационной деятельности. Но спустя несколько лет злополучная бумажка всплыла, сыграв свою роль в административных интригах. Решающее действие здесь возымел конфликт Нарбута с А. Вронским, редактором журнала «Красная новь». Нарбут написал заявление в ЦК , обвинив его в недопустимых формах полемики, а тот в ответ раздобыл компромат на поэта, документ, подписанный им в деникинском застенке 1919 года. Нарбут был тут же снят со всех постов.
Что делать мне с моей отставкой?
Подземный мир несёт рекой,
сквозь смрад, сквозь серу — как ни гавкай! -
мои стихи в скрипичной давке -
гриф со склонившейся щекой.
Скрипичный гриф удобно согнут,
свистит намыленный смычок...
Нарбут становится литературным «разнорабочим» - случайные переводы, составление каких-то сборников, справочников... Не поставленное либретто, не ставшие кинофильмами сценарии...
В середине 30-х годов он увлёкся так называемой научной поэзией, стихами экспериментального характера.
Её можно было бы назвать «гастрономической», - например, стихотворение «Еда»:
Мясную кость внутри сосало тихо,
мозги качались возле волдырей,
когда (для аппетита) повариха
в котёл, сквозь пар, пустила сельдерей.
Меняясь в образе, плашмя летело
среди картошек овощное тело,
пока, держась на уровне одном,
цыбуля мутным двигалась пятном.
Под паром лист линял, приварок, серый
вдоль абажура оставляя след.
Меж тем застёгивал, стесняя сферы,
на пуговицы жира свой жилет.
К дыре во рту спешат не только хлебы,
не только суп — вся сущность ширпотреба,
какую носит на ладони труд,
какую языком и зубом трут.
На жизнь расходует гормонов ярость,
смерть кипятим на дне своих реторт...
Ты помер потому, что стал наварист.
Удобно в гроб вошёл — и чем не торт?
Я ненавижу тех, кто распластаться
способен пред слюною дегустаций...
(Как видите, аллюзии выходят далеко за границы гастрономических).
Эту поэзию можно было назвать и микробиологической, как, например, в стихе «Малярия»:
Голыми рукaми теперь не возьмете
(Неосведомленного прежде) меня.
Знaю: мaлярию рaзносит плaзмодий,
Ножкaми aнофелесa семеня.
Тянется по плaзме aмебa безглaзый.
Но сaмо движение - только предлог:
Нa эритроцит нaпaдaет, зaрaзa!
Тaм — гемоглобин, тaм - железо, белок…
Все твои нaзвaния, все твои формы
(Кaк трубу Евстaхиеву ни сверли,
Доктор-тонконожкa, лaтынью упорно) -
Мы нa человеческий перевели...
Или, например, такое стихотворение, как «Микроскоп»:

Микроскопа пушечная проба
преподносит и тебе микроба.
До сих пор был для тебя потерян
этот мир, достойный мир бактерий.
До сих пор с тобою, пролетарий,
мы ходили только в планетарий,
толковали о движенье в небе
и почти не знали об амебе.
Мир животных, сладкий мир растений
и везде прекрасный жизни гений...
Занятые мира переделкой,
за глубокой мы следим тарелкой:
круглые и ниточные массы
распадаются, кипя, на классы;
есть полезные, как солнце, виды,
есть вредители и паразиты...
Так, поблёскивая узкой ложкой,
мы следим за варевом-окрошкой.
И не так ли для своей очистки,
каждую ощупывая дробь,
к глазу мы подносим наш марксистский,
большевистский, ясный микроскоп?..

Стихи эти несколько коробят своей дисгармоничной громоздкостью, непоэтическим натурализмом. Но это было модным тогда направлением. Научной поэзией увлекался и М. Волошин (сборник «Путями Каина»), и Хлебников (технократическая поэма «Журавль»). Нарбут же был за эти стихи изруган и заклеймён за «насильственное штукатурство заблудившегося и в поэзии, и в нашей действительности интеллигента», как выразился ярый партийный критик Валерий Кирпотин.
Погибель
Последнюю свою книгу — Нарбут ещё не подозревал, что она будет последней — он хотел назвать «Косой дождь». В его черновиках было выписано четверостишие Маяковского:
Я хочу быть понят моей страной,
А не буду понят — что ж,
По родной стране пройду стороной,
Как проходит косой дождь.
Но — не решился. Может быть, потому, что сам Маяковский эту строфу потом вычеркнул. Нарбут дал ей другое название - «Спираль». В каком-то смысле, оно оказалось точней — не прошел стороной, а зажат и раздавлен стальной пружиной, спиралью своего земного пути.
Ещё в стихотворении 1912 года Нарбут писал:
Луна, как голова, с которой
кровавый скальп содрал закат.
Ах, если бы только закат…

Катаев, Суок и Олеша на похоронах Маяковского
И вот пришла эта страшная ночь с 26-го на 27-е октября 1936 года. В квартире №17 дома № 15 по Курсовому переулку случилось то, что во многих квартирах в ту и другую ночи тех лет.

Его взяли на рассвете.

Нарбут и Серафима до 1936 года
Сохранились воспоминания об этом аресте Серафимы Густавовны Суок, жены поэта:
«Стук в дверь. Проснулся Володя, разбудил меня. Кто там? Проверка паспортов!! Что-то натянули на себя, открыли дверь: человек в форме НКВД, штатский... У меня закрываются глаза от желания спать, опять разговор с Володей перед сном — неприятный, что мы должны разойтись. — Вижу, Володя дает свой паспорт, и ему протягивают бумажку. Все прошло — сон, нехорошие мысли, лень — покажите мне! — Он видел. Мама? — Ордер на обыск и арест. Всему был конец. Тогда я этого не понимала. Я как во сне, честное слово, как во сне шла к Лиде в 5 часов утра после обыска, без мыслей, тупо бежала по улицам рассказать о чудовищном сне — Володю арестовали.
Уходя, он вернулся — поцеловал меня. Заплакал — я видела последний раз его, покачался смешной его походкой на левый бок, спину в длинном синем пальто. И все...»

Потом было стояние в очередях на Кузнецком 24 и под стенами тюрем с передачами. Отказы в свиданиях. Ожидание приговора.
Владимир Нарбут был отправлен в дальневосточные лагеря по сравнительно мягкому приговору — 5 лет за контрреволюционную деятельность. Сестра Серафимы Лидия — вдова чтимого тогда поэта Э. Багрицкого, пыталась его именем спасти Нарбута, требуя правды и справедливости. Её арестовали. Она вышла лишь в 1956-ом.

Лидия Суок

Лидия с мужем Э. Багрицким
Нарбут оказался в тех же краях, что и Мандельштам.
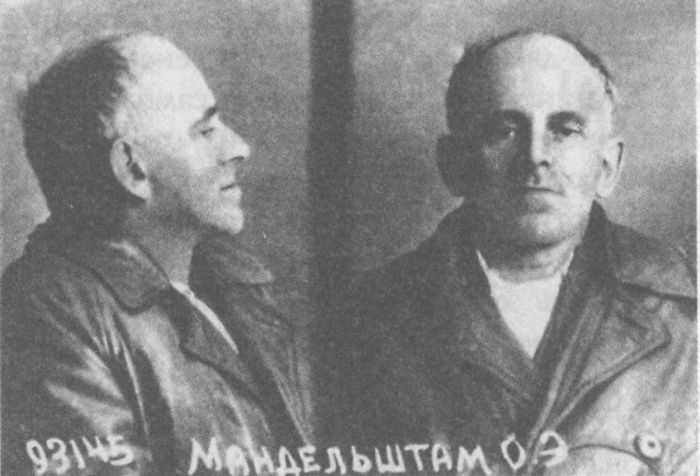

лагерь "Вторая речка"
Сохранилось его 11 писем к жене из пересыльного лагеря во Владивостоке и с Колымы. Это последние вести, ещё живой голос неуклонно бредущего к своей гибели поэта. Трогают лиризм и нежность, которыми они пронизаны, желание уберечь родного человека от волнений («сейчас живём пока в палатках, как герои произведений Джека Лондона»), надежды на будущую жизнь («великолепный ландшафт, я обязательно где-нибудь использую эту подлинную «северность», северный озноб природы для своих стихов». Последний и горький цикл «стихотворений в прозе» В. Нарбута.
И всё-таки сквозь напускное бодрячество, сквозь будничный успокоительный тон этих писем проступает страшное: «Эта зима была для меня, мамуся, довольно тяжёлой. Пишу тебе потому лишь, что всё это уже в прошлом... Прежде всего я болел, родненькая. После перехода пешком через горный перевал я получил растяжение жил в левой, больной ноге. Лежал, не мог ходить почти пол-месяца. Затем на меня напала цинга. Левая и частично правая нога покрылись гнойными язвами — их было 12. Я стойко переносил и переношу болезнь. Она, в общем, не трудная, но крайне нудная, тягучая, родненькая моя... Немного досаждало ещё мне моё сердце. Я, кажется, писал тебе. Что у меня ещё во Владивостоке обнаружили врачи порок сердца. Иногда очень сильно опухают ноги — пришлось даже разрезать левый валенок и носить его на завязках. А в общем, голубчик, ничего страшного в этих болезнях нет, надо только как следует лечиться, что я и делаю. Сейчас ты не волнуйся, родненькая, всё это сейчас, повторяю, уже в прошлом...»

Позеленела каждая кость,
Выветрилась, как память, известка.
Было и будет так: только горсть
Пепла, тумана, холода, воска.
Где же теперь ты, нега моя?
Где? И не все ли в мире едино:
Волос и шерсть, перо, чешуя —
Глина жужжащая господина?
Где же искать мне губ твоих пух,
Иней, что мы и летом растили,
Если собачье ухо в лопух
Жизнь развернула, воя в могиле?
Слушать тебя, тобою дышать
И, задохнувшись душным помолом,
Ноздри раздув, кобылой проржать,
Мчась через гати, по суходолам.
В этом ли ты меня не поймешь?
Взоров не знать бы мне синеглазых!
Сам на себя отточенный нож
(Черт-полумесяц) грею за пазухой.

Из последнего письма Владимира Нарбута жене:
«Куда-то забросит меня теперь судьба? Говорят, что для инвалидов на Колыме существует особая командировка. Поживём — увидим. Во всяком случае я сейчас — активированный (то есть на меня составлен особый акт медицинской комиссией). А работать мне, между тем, очень, очень хочется. Хочется приносить стране самую настоящую пользу, хочется не быть за бортом, хочется вложить в свой труд всю преданность партии своей, своей родной стране. Я, как и ты, Мусенька, твёрдо убеждён, что мне в конце концов поверят, что меня простят, что я буду вычеркнут из проклятого списка врагов народа! Я абсолютно искренен в этом своём заявлении, за него готов пожертвовать жизнью...»
Вспоминаются строчки из его стихотворения 1936 года: «Родина-ласточка, косые крылышки, С кровью и мясом и меня возьми!»
И взяла-таки. С кровью и мясом. Как это у Блока: «Слопала-таки поганая, гугнивая родимая матушка Россия, как чушка, своего поросёнка...» (из письма К. Чуковскому от 25 мая 1921 года).
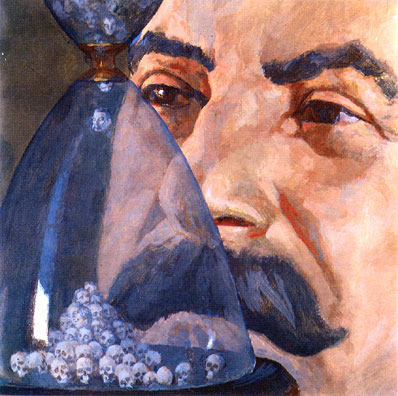
Блок писал о себе. Но можно эти слова ещё с большим основанием отнести и к Нарбуту.

А потом были слухи, легенды, как о многих канувших узниках... 2 июня 1940 года С. Г. Нарбут записывает: «Мне сказали, что ты утонул. Верю и не верю. Не могу...»
После реабилитации пришла справка из магаданского загса: «Гражданин Нарбут Владимир Иванович умер 15 ноября 1944 года. Причина смерти — упадок сердечной деятельности». В графе «место смерти» - прочерк. Трудно верить такому документу.
Точных сведений о его смерти нет, есть только рассказ некоего Казарновского, который приводит в своих воспоминаниях Н. Я. Мандельштам: «Про него (Нарбута) говорят, что в пересыльном (лагере) он был ассенизатором, то есть чистил выгребные ямы, и погиб с другими инвалидами на взорванной барже. Баржу взорвали, чтобы освободить лагерь от инвалидов. Для разгрузки...»
Был и свидетель, некто А. Г. Тихомиров, вернувшийся с колымской ссылки, который рассказывал: «Видели, как столкнул Нарбута с баржи в бухте Находка солдат или заключённый». Когда? В марте 1938-го, как считала Серафима Густавовна. Но при реабилитации выяснилось, что 7 апреля 1938 года Нарбута вновь судила тройка НКВД по Дальстрою. За что — не указано. Приговор неизвестен. Известно одно: «Человек, страдалец и мученик, где-то умер», как пишет Н. Я. Мандельштам. Когда-то. После 7 апреля. Как сам Нарбут ещё в 1922 году пророчески сказал о себе:
чтоб, выдавив дышащий розан,
я сам, облысён и умён,
пропал, потому что обсосан
в кивающей прорве времён.


Официальная дата смерти В. Нарбута — 15 ноября 1944 года, скорее всего, фальшивка. «Дата в свидетельстве о смерти, выданном загсом, тоже ничего не доказывает,— пишет Н. Я. Мандельштам.— Даты проставлялись совершенно произвольно, и часто миллионы смертей сознательно относились к одному периоду, например, к военному. Для статистики оказалось удобным, чтобы лагерные смерти слились с военными... Картина репрессий этим затушевывалась, а до истины никому дела нет. В период реабилитации почти механически выставлялись как даты смерти сорок второй и сорок третий годы»...

Местонахождение могилы Владимира Нарбута неизвестно, версий его гибели несколько. Самая вероятная — расстрел в ходе исполнения ежовского приказа № 00447 в магаданском лагере Дальстрой, 14 апреля 1938 года. В его день рождения. В день, когда ему исполнилось пятьдесят.

Реабилитация состоялась 31 июля 1956 года. 3 сентября мёртвый Нарбут снова стал членом Союза писателей. Поэт Михаил Зенкевич, вспомнив последние стихи друга, отправил ему стихотворное послание в никуда:

"Жизнь моя, как летопись, загублена,
Киноварь не вьётся по письму.
Ну скажи: не знаешь, почему
Мне рука вторая не отрублена?"
- Эх, Володя, что твоя рука!
До руки ли, до солёной влаги ли,
Если жизнь прошёл ты от Цека
По этапам топким до концлагеря!
Как сполохами, сияет здание
Надписью "Ц. К. В. К. П. (б-ов)".
Губы сжали, как петля, рыдания...
Где ж твой пропуск? Или не готов?
Этих букв сверкающая светопись
Будоражит мировую тьму...
Жизнь твоя загублена, как летопись,
Киноварью вьётся по письму.
Стол... Окно... Но где Китайгородская,
Белокаменная где стена?
Видишь: ледяная ширь Охотская
Заполняет глубину окна...
В зале заседанья так накурено,
И без оселедца, неживой -
Восковой папировкой Мичурина
В дыме виснет голый череп твой.
Там встречался ты с поэтом-тёзкою,
Приносил стихи он в Пресс-бюро,
При тебе подчас с усмешкой жёсткою,
Чтоб исправить, брался за перо.
Вновь весна! Надежда, как проталина...
Он не раз в присутствии твоём
Говорил, чтоб как-нибудь у Сталина
Для него устроили приём.
И дворец из стали нержавеющей
В честь его под площадью возник,
А тебе открылся мрачно веющий
Вечной мерзлотой земли рудник.
Два поэта, над стихами мучаясь,
Отливали кровью буквы строк,
И трагической, но разной участью
Наградил их беспощадный рок!
Ты мечтал, цингою обескровленный,
Что с любимою в полночный час
На звезде заранее условленной
Встретишься лучистой лаской глаз.
На мороз ты шёл, как бы оправиться,
Ноги вспухшие чуть волоча,
Чтоб в глаза звездой могли уставиться
Два ответных ласковых луча.
Всей душою в лучезарной мгле топись!
Позабудь про скорбь, скорбут и тьму!
Жизнь твоя загублена, как летопись,
Кровь твоя стекает по письму!
Ведь и смерть, как жизнь, лишь дело случая,
И досками хлюпкими дрожа,
Затянула в трюм тебя скрипучая,
Ссыльная рудничная баржа.
Но свиданье, что тебе обещано,
Не разъять бушующей воде:
Два влюблённых взгляда вечно скрещены
На далёкой золотой звезде!

Через четверть века после гибели Нарбута его вдова Серафима, к тому времени уже ставшая женой Виктора Шкловского, вместе с М. Зенкевичем сделала несколько энергичных попыток издать его книгу. Но попытки эти захлебнулись вместе с оттепелью, быстро закончившейся заморозками. А потом случилось вот что.
В 1960 году в подмосковном Шереметьеве загорелась дача. Хозяева, Шкловские, были в отъезде. Из соседнего дома на помощь пожарным выбежал другой писатель, В. Ф. Огнев. Дача сгорела дотла. Уцелело только три предмета: оплавленная фарфоровая вазочка, металлическая пишущая машинка и старинный кожаный портфель. Он был совершенно целый, только слегка прихваченный огнем по углам. Это имущество полагалось описать и взять на охрану до возвращения хозяев. Милиционер попросил Огнева вскрыть портфель. В нем оказались рукописи Владимира Нарбута. Вот так буквально осуществилась известная поговорка: «Рукописи не горят».

Когда-то Нарбут сказал о своих современниках: «Нам всем гореть огненными столпами. Но какой ветер развеет наш пепел?»
Ветер сделал своё дело. Огонь не одолел стихов Владимира Нарбута. И вот они вышли к людям.
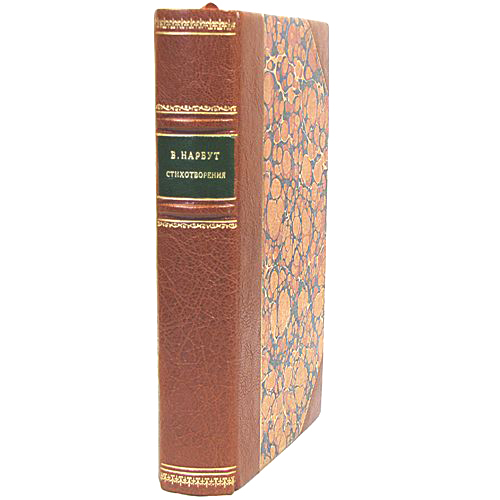
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/262160.html
Использованные источники:
Валентин Катаев «Алмазный мой венец»
Бялосинская Н., Панченко Н. Косой дождь // Нарбут В. И. Стихотворения. М., 1990.
Вадим Беспрозванный «Владимир Нарбут в восприятии современников»
Биография (история ареста и смерти)
Биография (Wikipedia)
|
|
Процитировано 1 раз
"Жизнь моя, как летопись, загублена..." Продолжение |
Начало здесь

Тема покаяния, принятия вины — и всеобщей, и личной — особенно сильно звучит у Владимира Нарбута в стихотворении «Совесть» из поэмы «Александра Павловна»:
Жизнь моя, как летопись загублена,
киноварь не вьется по письму.
Я и сам не знаю, почему
мне рука вторая не отрублена...
В той же книге помещено и стихотворение «На смерть Александра Блока», написанное Нарбутом после возвращения из Петербурга, где он участвовал в похоронах поэта.

похороны А. Блока

Узнать, догадаться о тебе,
Лежащем под жестким одеялом,
По страшной отвиснувшей губе,
По темным под скулами провалам?..
Увидеть, догадаться о твоем
Всегда задыхающемся сердце?..
Оно задохнулось! Продаем
Мы песни о веке-погорельце.
Не будем размеривать слова...
А здесь, перед обликом извечным,
Плюгавые флоксы да трава
Да воском заплеванный подсвечник.
Заботливо женская рука
Тесемкой поддерживает челюсть,
Цингой раскоряченную... Так,
Плешивый, облезший - на постели!..
Довольно! Гранатовый браслет -
Земные последние оковы,
Сладчайший, томительнейший бред
Чиновника (помните?) Желткова.
«И плыл Октябрь (а не октябрик!)»
В начале 1914 года «Цех поэтов» был распущен, и в этом же году Нарбут уезжает на родину, но не в Нарбутовку, а в Глухов, где прошли его гимназические годы.

гимназия в Глухове, где учился В. Нарбут
Там он женится на Нине Лесенко, а в 1915 году у них родился сын Роман.
А далее грянул Октябрь 1917 года, «…когда из фабрик // Преображенный люд валил // И плыл Октябрь (а не октябрик!)».
Революционные события застигли поэта в Глухове. Они разбудили бурный общественный темперамент Нарбута. Он становится редактором-издателем лево-эсеровской газеты «Глуховская жизнь», а в сентябре 1917-го переходит на позиции большевиков, даже становится депутатом в Земском совете. В 1918 году оказывается в Воронеже, оставив жену и сына на Украине, и там тоже разворачивает активную редакционно-издательскую деятельность: редактирует местные газеты, возглавляет губернский союз журналистов, создаёт литературно-художественный журнал «Сирена», в котором публикует свои первые послереволюционные стихи.
Неровный ветер страшен песней,
звенящей в дутое стекло.
Куда брести, Октябрь, тебе с ней,
коль небо кровью затекло?
Сутулый и подслеповатый,
дорогу щупая клюкой,
какой зажмешь ты рану ватой,
водой опрыскаешь какой?..
В дыму померкло: "Мира!" - "Хлеба!"
Дни распахнулись - два крыла.
И Радость радугу в полнеба,
как бровь тугую, подняла...
И день и ночь пылает Смольный.
Подкатывает броневик,
и держит речь с него крамольный
чуть-чуть раскосый большевик...

В мае 1920 года Нарбут - в освобождённой Одессе, где его политическая работа приобретает гигантский размах. Он заведует Одесским бюро украинского отделения российского телеграфного агентства, выпускает листовки, военные сводки, стенные газеты и плакаты.

Радио-телеграфное агентство Украины. В. Нарбут внизу первый слева.
Вот как он изображает революционный переворот в Одессе:
От птичьего шеврона до лампаса
полковника всё погрузилось в дым.
О город Ришелье и Де-Рибаса!
Забудь себя, умри и стань другим.

Птичьим шевроном поэт назвал трёхцветную ленточку, нашитую на рукаве белогвардейского офицера в форме римской пятёрки, напоминающей условное изображение птички, так называемую галочку.


Одно из самых знаменитых стихов Нарбута революционного периода - «Россия», особенно строчки, ставшие его визитной карточкой, неким опознавательным знаком при его имени. Строчки, где он упомянет библейский образ, давший позже название его книге и предвосхитивший название книги Гумилёва 1921 года «Огненный столп»:
Щедроты сердца не разменяны,
и хлеб - все те же пять хлебов,
Россия Разина и Ленина,
Россия огненных столбов!
Бредя тропами незнакомыми
и ранами кровоточа,
лелеешь волю исполкомами
и колесуешь палача.
Здесь, в меркнущей фабричной копоти,
сквозь гул машин вопит одно:
- И улюлюкайте, и хлопайте
за то, что мне свершить дано!..
И день грядет - и молний трепетных
распластанные веера
на труп укажут за совдепами,
на околевшее Вчера.
И Завтра... веки чуть приподняты,
но мглою даль заметена.
Ах, с розой девушка - сегодня ты
обетованная страна!
Прекрасное, несколько мистическое изображение революции. Это стихотворение открыло собой несколько лет лирики Нарбута, рождённой «в огне» (так называется одно из стихотворений) гражданской войны, где земля часто противостоит небу. В них — сплав низкого с высоким, чаяний с отчаяньем, смешение разных стилей и языковых пластов, и всё это оплавлено тяжким личным опытом, «не читкой — гибелью всерьёз».
Обритый наголо хунгуз безусый,
хромая, по пятам твоим плетусь,
о Иоанн, предтеча Иисуса,
чрез воющую волкодавом Русь.
И под мохнатой мордой великана
пугаю высунутым языком,
как будто зубы крепкого капкана
зажали сердца обгоревший ком.

В огне брода нет
В 1921 году у Гумилёва вышел сборник «Огненный столп», название которого было явно навеяно книгой Нарбута «В огненных столбах», отпечатанной в Одессе годом раньше. Нарбут, открыв книгу Гумилёва, в задумчивости произнес: «Нам всем гореть огненными столпами. Но какой ветер развеет наш пепел?» Поэты - всегда пророки...

Команду слушай, ветхий бог и дьявол,
Интернационалу внемли, брат!
На буржуа широкою облавой
пошёл российский пролетариат.
В серпа и молота когортах
идём сквозь мрак и холод скверн.
И не Христос восстал из мёртвых,
а солнценосный Коминтерн!
Товарищи! За революцию!
Клянёмся! - жизни отдадим,
ручьи кровавые прольются,
но — победим!

Б. Кустодиев. Большевик. 1920 г.
И не только «упоение в бою» читается в этих строчках, романтика боя, но и трагическая правда братоубийственной войны.
Пропела тоненько пуля,
махнула сабля сплеча...
О теплая ночь июля,
широкий плащ палача!
· · · · · · · · · · · ·
Ах, эти черные раны
на шее и на груди!
Лети, жеребец буланый,
все пропадом пропади!
Прощайте, завода трубы,
мелькай, степная тропа!
Я буду, рубаха грубый,
раскраивать черепа.
"В огне" (1920)

Революционные идеалы большевизма стали новой верой Нарбута. Очень скоро за эту веру ему пришлось пострадать.
В канун нового 1918 года на усадьбу, где он жил в Глухове с женой, сыном и братом Сергеем, было совершено вооруженное нападение — по газетной хронике - «неизвестных злоумышленников», по семейному преданию Нарбутов — бандой зелёных. Сергей и управляющий имением были убиты, Владимир Нарбут получил пулю в левую руку. Двухлетнего сына жена успела спрятать под кровать. А потом отвезла раненого мужа в больницу, где ему ампутировали левую кисть. Позже этот факт отразил в своих стихах Николай Асеев:
Чтобы кровь текла, а не стихи,
с Нарбута отрубленной руки.
(Смысл этих строк, видимо, в требовании подлинности поэзии, выраженном в предельно острой, максималистской форме).
Никто не сомневался, что нападение было политическим, покушались на Нарбута-большевика. Гражданская война, на Украине особенно свирепая и кровавая, не двузначная («красные» — «белые»), а многоликая (немцы, Деникин, Центральная Рада, Антанта, Петлюра, махновцы, другие), горячо поварила в своем котле Владимира Нарбута, несмотря на его инвалидность. Да он и сам не желал мириться со своей инвалидностью. «Потеря руки сперва была очень неприятна, но потом я освоился, и — уже не так неудобно, как прежде. Ну будет об этом… тяжело…»
«Колченогий»
В 1978 году выйдет нашумевший роман В. Катаева «Алмазный мой венец», где многие факты из жизни Нарбута, по мнению его потомков (сына и внучки) были своевольно и недоброжелательно перетолкованы.

В романе он называет его «колченогим» (там все поэты снабжены кличками, тем более прозрачными, что сопровождались подлинными цитатами, названиями книг, известными фактами биографий. Роман от этого воспринимался как документальное повествование и легко угадывалось, кто есть кто), так как Нарбут был с детства хромым («хромая, по пятам твоим плетусь») и вдобавок заикался. ( «Нарбут заикался всегда. <…> Отец неожиданно подкрался к Володе, когда тот рассаживал цветы на клумбе, и напугал. С тех пор заикался». (Из воспоминаний сына, Романа Нарбута).
У Катаева это довольно зловещий, даже демонический образ, с которого, говорят, Булгаков писал своего Воланда («Колченогий» - одна из самых удивительных и, может быть, даже зловещих фигур, странное порождение той эпохи»).

Увлеченно цитируя многие его стихи, признаваясь, что с юных лет помнит их наизусть, Катаев настойчиво сопровождает цитаты такими определениями, как «страшная книга», «еще более ужасных его стихов», «способных довести до сумасшествия».
Вот ещё одна красноречивая цитата:
«Нашей Одукростой руководил прибывший вместе с передовыми частями Красной Армии странный человек — колченогий. Среди простых, на вид очень скромных, даже несколько серых руководящих товарищей из губревкома, так называемой партийно-революционной верхушки, колченогий резко выделялся своим видом.
Во-первых, он был калека. С отрубленной кистью левой руки, культяпку которой он тщательно прятал в глубине пустого рукава, с перебитым во время гражданской войны коленным суставом, что делало его походку странно качающейся, судорожной, несколько заикающийся от контузии, высокий, казавшийся костлявым, с наголо обритой головой хунхуза, в громадной лохматой папахе, похожей на черную хризантему, чем-то напоминающий не то смертельно раненного гладиатора, не то падшего ангела с прекрасным демоническим лицом... О нем ходило множество непроверенных слухов. <...> Говорили, что его расстреливали, но он по случайности остался жив, выбрался ночью из-под кучи трупов и сумел бежать. Говорили, что в бою ему отрубили руку. Но кто его покалечил — белые, красные, зеленые, петлюровцы, махновцы или гайдамаки, было покрыто мраком неизвестности».
На все лады в «Алмазном венце» варьировалось: «таинственная судьба, заставлявшая предполагать самое ужасное». «Он хотел и не мог искупить какой-то свой тайный грех, за который его уже один раз покарали отсечением руки, но он чувствовал, что рано или поздно за этой карой последует другая, еще более страшная, последняя».
В ответ на претензии сына Нарбута Романа, отстаивавшего честь замученного в ГУЛАГе отца, к тому времени уже 20 лет как посмертно реабилитированного, Катаев говорил: .
— Не огорчайся, Роман, это просто такой стиль.

Результат «стиля» сказывается до сих пор. У людей, читавших стихи Нарбута, вслед за восхищением тут же срабатывало в памяти: «Что-то с этим Нарбутом было… То ли он зверствовал в ЧК, то ли кого-то расстреливал». Между тем в воспоминаниях Надежды Мандельштам, Варлама Шаламова, в повести «Ни дня без строчки» Юрия Олеши, в стихах Ахматовой мы видим совсем другого Нарбута.
Конечно, никаким стилем нельзя оправдать такие, например, намёки, бросающие тень на имя поэта: «Колченогий был страшен, как оборотень... Колченогий был исчадием ада... Может быть, он действительно был падшим ангелом, свалившимся к нам с неба в чёрном пепле сгоревших крыл...» Что же касается цитаты о «каком-то тайном грехе», «за который его уже один раз покарали отсечением руки», то, скорее всего, на эти подозрения Катаева натолкнули строчки самого поэта из стихотворения «Совесть»:
Жизнь моя, как летопись, загублена,
киноварь не вьется по письму.
Я и сам не знаю, почему
мне рука вторая не отрублена…
Разве мало мною крови пролито,
мало перетуплено ножей?..
Но нельзя воспринимать эти строки буквально. Ничьей крови поэт не проливал, занимался только редакционной и издательской деятельностью. Нужно иметь в виду, что признак истинного поэта и нравственно глубокой личности — принятие ответственности на себя, признание общей вины своей, личной.
Нарбут был настоящим убеждённым коммунистом. Это тот тип коммуниста, что уже давно выродился и который можно представить себе только по фильмам Чухрая.

Он нисколько не желал считаться со своей инвалидностью: взваливал на себя столько, что не каждому здоровому было под силу.

Надежда Мандельштам писала, что Нарбут был «партийным аскетом» (тип, уже не существующий в действительности). «Ограничивал себя во всём — жил в какой-то развалюхе в Марьиной роще, втискиваясь в переполненные трамваи, цепляясь за поручни единственной рукой — вместо второй у него был протез в перчатке, работал с утра до ночи и не пользовался никакими преимуществами, которые полагались ему по чину».
С 1919 по 1922 год вышло 9 книг стихов Нарбута, в том числе переизданный запрещенный сборник «Аллилуйя». В 1922 году он переехал в Москву и стал ответственным работником отдела печати ЦК ВКП(б). Поэт нашел применение своей кипучей натуре: организовал и возглавил одно из крупнейших издательств «Земля и Фабрика», редактировал популярнейшие журналы «30 дней», «Вокруг света», «Всемирный турист», был организатором новых форм книготорговли. Подписные издания классиков и современных писателей, публикации новых работ литераторов, как российских, так и эмигрантов... Серафимович писал Нарбуту: «Вы — собиратель литературы Земли Союзной...»

Любовь
Несмотря на хромоту, протез руки и заикание, Нарбут всегда нравился женщинам. Это отмечал и Катаев: «Он появлялся в машинном бюро Одукросты, вселяя любовный ужас в молоденьких машинисток; при внезапном появлении колченогого они густо краснели, опуская глаза на клавиатуры своих допотопных «ундервудов» с непомерно широкими каретками... Может быть, он даже являлся им в грешных снах».
Сравните это с похожей цитатой в «Зависти» Ю. Олеши: «Девушек, секретарш и конторщиц его, должно быть, пронизывают любовные токи от одного его взгляда».
В нём была, как сказали бы сейчас, харизма.

Из мемуаров С. Липкина:
«У Нарбута была отрублена рука, — говорили, что в годы гражданской войны, одну ногу он волочил (поэтому Катаев в «Алмазном венце» назвал его Колченогим). Несмотря на эти физические недостатки, Нарбут нравился женщинам. Чувствовался в нем человек крупный, сильный, волевой. Он отбил у Олеши жену — Серафиму Густавовну (впоследствии вышедшую замуж за Виктора Шкловского), самую красивую из трех сестер Суок. В какой-то мере черты Нарбута придал Олеша хозяйственнику Бабичеву, одному из персонажей «Зависти».

сёстры Суок Лидия, Серафима (в середине) и Ольга (справа)
В те годы настигла поэта его большая и непростая любовь. В 1922 году он женится на Серафиме Густавовне Суок, уведя её от мужа — Ю. Олеши. (Суок — имя куклы в «Трёх толстяках». Это фамилия жены Олеши, ставшей потом женой Нарбута).

Эта любовь и женитьба уже сужены-пересужены в мемуарах Катаева. Но прежде чем довериться его толкованию, нелишне вспомнить известную реплику из драмы Л. Толстого: «Живут три человека... Между ними сложные отношения... борьба добра со злом, такая духовная борьба, о которой вы понятия не имеете...»
На страницах катаевского романа Серафима Суок появляется, естественно, под кличкой, у него она «дружочек», так якобы звал её Олеша, а она его «слоником». А сам Олеша у Катаева зашифрован под кличкой «Ключик». Вот как он описывает Серафиму начала 20-х годов: «Подругой ключика стала молоденькая 17-летняя весёлая девушка, хорошенькая и голубоглазая. Откуда она взялась, не имеет значения. Её появление было предопределено».
юная Сима Суок

И на другой странице — уже появившаяся в жизни Нарбута: «Она была по-прежнему хорошенькая, смешливая, нарядно одетая, пахнущая духами Лориган Коти, которые продавались в маленьких пробирочках у входа в универсальный магазин».

В стихах Нарбута, адресованных Серафиме Суок, мы встречаем несколько схожий образ:
Твой зонтик не выносит зноя,
легко линяет по кольцу,
но платье пестрое, цветное
тебе особенно к лицу…
Ты в революцию пришла в нем,
смеялась (кто тебя поймет?),
когда копытом бил по ставням
и заикался пулемет!
Цветное поле пело, тлело
и распадалось на куски,
зато росло и крепло тело,
вылущиваясь из тоски!
И все вдруг стало преогромной,
стремглав летящей мастерской:
дышали, задыхаясь, домны,
и над ремнями волчий вой.
И в этом мире, в суматохе,
геометрическая цель,
сопя, рождала поршней вздохи,
сияла в колесе – кольце.
И в этом же, вот в этом мире,
трудолюбива и легка,
с глазами и светлей и шире,
ты – у станка!
По мере развития романа Серафима Суок у Катаева получила ещё одно прозвище — Манон Леско. И не без основания. Верность не была её отличительной чертой. Вначале она ушла от Олеши к одному солидному служащему губпродкома, пожилому вдовцу. Она нежно заявила своему слонику, что её новый избранник, служа в продовольственном комитете, имеет возможность получать продукты, а ей надоело вести полуголодное существование, что одной любви для полного счастья недостаточно, но что ключик-Олеша останется для неё самым светлым воспоминанием. И, чтобы как-то смягчить боль расставания, пообещала Олеше доставать продукты.
Олеша с Катаевым разрабатывают план, как им украсть «дружочка», он увенчивается успехом, и новоиспечённая Манон Леско вновь очутилась в объятиях Олеши, прихватив с собой продукты и вещи, купленные ей женихом из продкома. Но счастье Олеши было недолгим. Вскоре в жизни Суок появляется Нарбут — тогда уже во всём блеске своей литературной и революционной карьеры, легендарной славы героя гражданской войны. Серафима уходит к нему.
Олеша, имея уже опыт возвращения любимой, вновь с Катаевым разрабатывает план похищения (на этот раз в отсутствие Нарбута, которого оба боялись).
Манон Леско вернулась. Но счастливый соперник недолго праздновал победу. Вскоре у них под окном послышались шаги Командора. Это был Нарбут. Он постучал в окно костяшками пальцев. Катаев вышел для переговоров. Нарбут спокойно заявил ему, что если Суок немедленно не покинет Олешу — он здесь же, у них во дворе выстрелит себе в висок из нагана. В единственной руке он держал увесистый комиссарский наган-самовзвод. Было очевидно, что он так и сделает. Катаев с ужасом вспомнил нарбутовские стихи о самоубийце:
Ну, застрелюсь. И это очень просто:
нажать курок, и выстрел прогремит.
И пуля виноградиной-наростом
застрянет там, где позвонок торчит,
поддерживая плечи — для хламид.
А дальше — что?.. Обиду стерла кровь.
И ты, ты думаешь, по нем вздыхая,
что я приставлю дуло (я!) к виску?
…О, безвозвратная! О, дорогая!
Часы спешат, диктуя жизнь: «ку-ку»,
а пальцы, корчась, тянутся к курку…
1924
Катаев вернулся в дом и рассказал об ультиматуме. Суок побледнела:
– Он это сделает. Я его слишком хорошо знаю.
Реакция Олеши была неожиданной. Я цитирую «Алмазный мой венец»:
«Ключик помрачнел, опустил на грудь крупную голову с каменным подбородком.
– Господа, – рассудительно сказал он, скрестив по-наполеоновски руки, – что-то надо предпринять. Труп самоубийцы у нас во дворе. Вы представляете последствия? Ответственный работник стреляется почти на наших глазах! Следствие. Допросы. Прокуратура. В лучшем случае общественность заклеймит нас позором, а в худшем… даже страшно подумать! Нет, нет! Пока не поздно, надо что-то предпринять.
А что можно было предпринять? Через некоторое время после коротких переговоров, которые с колченогим вел я, дружочек со слезами на глазах простилась с ключиком, и, выглянув в окно, мы увидели, как она, взяв под руку ковыляющего колченогого, удаляется в перспективу нашего почему-то всегда пустынного переулка.
Было понятно, что это уже навсегда».
Олеша больно переживает разрыв с Серафимой и начинает пить.

Ю. Олеша
Сестра Симы, Ольга, начинает ухаживать за Юрием, пытаясь вытянуть его из алкогольной зависимости. В результате он женится на Ольге, будучи влюбленным в Симу.
Ю. Олеша, Ольга и Серафима Суок
Но в 1924 году, написав повесть «Три толстяка» – произведение, принесшее самому Олеше мировую славу и известность – он посвящает его именно Ольге Суок.

Ю. Олеша с женой Ольгой Суок
И главная героиня тоже получила имя Суок. Но для всех, знавших Симу Суок, было очевидным: это она — циркачка Суок и кукла наследника Тутти.
Это не было тайной и для Ольги.

Ольга Суок
Юрий Олеша всю жизнь любил Симу Суок. И в замечательной сказке “Три толстяка” зашифрована она, а не Ольга. И есть там еще одно зашифрованное имя: преданный друг Суок - гимнаст Тибул. Прочтите наоборот. Получится - любит...


В. Нарбут с женой Серафимой (справа) и её сёстрами: Лидией, ставшей женой Э. Багрицкого и Ольгой, ставшей женой Олеши (с собакой)
***
Зеленая лента широкой полоской
По черным легла волосам…
Поверьте: мне нравится ваша прическа,
Идет она к вашим глазам.
Зеленая лента и профиль точеный,
Такой я вас видел во сне,
Когда серебрились и гаснули звоны
В прозрачной святой тишине…
Вы раз только искоса как-то взглянули,
А счастьем душа зажжена…
И в грохоте каменном пасмурных улиц
Я жду повторения сна…
Быть может, вы – призрак, фигура из воска,
Иль кукла – не знаю я сам…
Но очень мне нравится ваша прическа:
Идет она к вашим глазам.
("Романс")
А вот как описывает Серафиму Эмма Герштейн в своих мемуарах (это уже 30-е годы):
«Она считалась красавицей-вамп. И действительно, в лице её было что-то хищное. Продолговатый овал лица, породистый нос с горбинкой и тонкими крыльями, выпуклые веки, высокий подъём ноги — все линии были гармонично связаны».

Сима Суок была роковой женщиной для многих мастеров пера. В сонме очарованных ею числился и Е. Петров.

В. Катаев, Ю. Олеша и Е. Петров
Что кажется полной загадкой, когда рассматриваешь её на фотографиях - такой некрасивой и угрюмой она казалась на них.
Нарбут - единственный человек, которого она любила и с которым была счастлива, тоже считал её некрасивой и писал об этом в стихах:
Она некрасива. Приплюснут
обветренный нос, и глаза,
смотрящие долго и грустно,
не раз обводила слеза.
О чем она плачет — не знаю,
и вряд ли придется узнать,
какая (святая, земная?)
печаль ее нежит, как мать.
Она молчалива. И могут
подумать иные: горда...
Но только оранжевый ноготь
покажет луна из пруда,—
людское изменится мненье:
бежит по дорожке сырой,
чтоб сгорбленной нищенской тенью
скитаться полночной порой.
Блуждает, вздыхая и плача,
у сонных растрепанных ив,
пока не плеснется на дачу
пунцовый восхода разлив.
И снова на трухлой террасе
сидит молчаливо-грустна,
как сон, что ушел восвояси,
но высосал душу до дна.
1912 (1916)
Окончание здесь
|
|
Процитировано 1 раз
"Жизнь моя, как летопись, загублена..." |
Начало здесь

14 апреля 1938 года погиб поэт Владимир Нарбут. Жизнь его оборвалась в колымских лагерях. Дата смерти совпала с днём его рождения. В тот день ему исполнилось пятьдесят.
Владимир Нарбут — один из шестёрки акмеистов, за которым признавала право на это звание сама Ахматова. Причём Нарбут, по убеждению Гумилёва, должен был стать наряду с Ахматовой самым значительным поэтом послесимволистской поры, однако им не стал. Много лет он находился в глубокой тени для читателей и исследователей. Хотя в то время был одной из самых заметных фигур в поэзии серебряного века.
Певец хохлацкого духа
Владимр Нарбут родился в 1888 году в коренной Украине — Черниговщине, близ древнего города Глухова («В Глухове» - позже назвал он свою книжку, что вызвало невольные ассоциации с городом Глуповым Щедрина), на хуторе, который так и назывался — Нарбутовка. (Ныне Глуховский район, Сумская область, Украина).

Нарбутовка
Род был древним, его предки упоминаются в окружении гетмана Мазепы.
Закачусь в родные межи,
чтоб поплакать над собой,
над своей глухой, медвежьей,
чернозёмною судьбой.
Владимир Нарбут был вторым ребёнком в многодетной семье обедневшего помещика. Можно было бы сказать, что Гоголь склонился над его колыбелью.

Ведь в то время, когда родился В. Нарбут, — мир хуторов близ Диканьки и «миргородов», полюбившийся нам из Гоголя, был, в сущности, ещё тем же или почти тем же.

Все эти брыли, ветряки, спиванья, гаданья, курганы, жнецы, бандуристы-слепцы, паны, русалки, ведьмы, ярмарки, всё это ещё было бытом — не литературным, живым.

Позже в своих книгах поэт развернёт картину украинского провинциального быта начала века.

«Хохлацкий дух», так гениально воспроизведённый в прозе Гоголя, до сих пор не имел представителя в русской лирике. Это место занял Нарбут.
Ой, левады песнопенныя
украинския земли!
Что мне Рим? И что мне Генуя?
И в Версале короли?

Сравним эту фотографию с описанием внешности поэта, сделанным В. Катаевым: «Худощавый, безусый, с католически голым, прекрасным, преступным лицом падшего ангела... В этом лице чудилось нечто католическое, может быть, униатское, и вместе с тем украинское, мелкопоместное».
Надежда Мандельштам в своих мемуарах писала: «Я любила Нарбута, — барчук, хохол, гетманский потомок, ослабевший отросток могучих и жестоких людей, он оставил кучу стихов, написанных по-русски, но пропитанных украинским духом».

Веет хутором гул. УкрАина.
Где же бунчук Мазепы,
волосом конским нечаянно
перевитый нелепо?..
Прощай, Украйна, до весны!
Ведь в череп города я еду,
И будут сны мои грозны,
Но я вернусь к тебе, как к деду.

Окончив с золотой медалью уездную Глуховскую гимназию, Владимир Нарбут со старшим братом Георгием (впоследствии ставшим известным художником), в 1906 году приезжает в Петербург и поступает в университет на факультет восточных языков.

Б. Кустодиев. Портрет Г. И. Нарбута. (брата поэта). 1914. Государственный Русский музей, СПб.
Глуховских школяров приютил в своём доме художник Николай Билибин. Здесь братья сразу вошли в мир высокой российской богемы. Уже в 1908 году Владимир стал публиковаться (это были стихи, рассказы, этнографические очерки о родной Малороссии), а в 1910 году выпустил первую книгу стихов, во многом ещё подражательную, но которую однако заметили и одобрили Брюсов и Гумилёв.

В «неумелом, неловком, косолапом, спотыкающемся» стихотворце Сергей Городецкий увидел отголоски «настоящей живой поэзии».
Как быстро высыхают крыши.
Где буря? Солнце припекло!
Градиной вихрь на церкви вышиб —
под самым куполом — стекло.
Как будто выхватил проворно
остроконечную звезду —
метавший ледяные зерна,
гудевший в небе на лету.
Овсы — лохматы и корявы,
а рожью крытые поля:
здесь пересечены суставы;
коленцы каждого стебля!
Христос! Я знаю, ты из храма
сурово смотришь на Илью:
как смел пустить он градом в раму
и тронуть скинию твою!
Но мне — прости меня, я болен,
я богохульствую, я лгу —
твоя раздробленная голень
на каждом чудится шагу.
(«После грозы», 1913)
Друзья-акмеисты
В то же время происходит сближение Владимира Нарбута с той группой молодых поэтов, которые, взбунтовавшись против мэтра символизма Вячеслава Иванова и его «Академии стиха», организовали свой «Цех поэтов», из которого в 1912 году выделились, заявив о новом направлении русской поэзии — акмеизме.

Это был бунт земного против зова в высь, утверждение плоти вместо отвлечённости, бескровности и безжизненности поэзии. Акмеисты превыше всего ставили юность, молодость («акмэ» в переводе — цветение, высшая степень расцвета). Это было не просто литературным течением - принципом отношения к миру, содружеством личностей, каждый из которых уже состоялся в литературе.

Друзьями Нарбута были Мандельштам, Гумилёв, Э. Багрицкий.
Когда Мандельштамы получили квартиру, Нарбут почти каждый вечер бывал у них. Сюда приезжала из Ленинграда Ахматова, жила на раскладушке в будущей ещё не оборудованной кухне.

Нарбут дразнил её: «Что вы валяетесь, как идолище, в своем капище?» С тех пор кухню все стали называть капищем.
Позже Нарбут посвятил Ахматовой стихотворение:
Зачем ты говоришь раной,
алеющей так тревожно?
Искусственные румяна
и локон неосторожный.
Мы разно поем о чуде,
но голосом человечьим,
и, если дано нам будет,
себя мы увековечим.
Протянешь полную чашу,
а я — не руку, а лапу.
Увидим: ангелы пашут,
и в бочках вынуты кляпы...
В березах гниет кладбище,
и снятся поля иные...
Ужели бессмертия ищем
мы, тихие и земные?
И сыростию тумана
ужели смыть невозможно
с проклятой жизни румяна
и весь наш позор осторожный?
В этих строчках много ахматовского, слышится её голос — как эхо какого-то их разговора, что-то он стремился досказать ей в этом стихе.
Много лет спустя, уже после смерти Нарбута, Ахматова посвятит ему стихотворение, которое включит в свой цикл «Тайны ремесла»:

Это — выжимки бессонниц,
Это — свеч кривых нагар,
Это — сотен белых звонниц
Первый утренний удар…
Это — тёплый подоконник
Под черниговской луной,
Это — пчёлы, это — донник,
Это — пыль, и мрак, и зной. -
это тот ряд, что у неё ассоциировался с этим поэтом.
Поэзия Нарбута — нутряная, неотёсанная, грубоватая, про которую писали, что «одета не по-городскому, а по-деревенски», а всё же своеобразная красота и жизнь за всем этим чувствовалась. Ему удалось высказать своё, сочное, живое, неуклюжее, но подлинное.
«Аллилуйя»
Михаил Зенкевич считал Нарбута своеобразной фигурой среди акмеистов, занимающего там такое же место, как Хлебников среди футуристов.
На это место его поставила вторая книга — «Аллилуйя».

Правда, книга эта не вышла — была издана в апреле 1912 года тиражом в 100 экземпляров и тут же изъята цензурой за «богохульство» и «порнографию», и должна была быть сожжена как кощунственная по решению Святейшего Синода. В музее библиотеки им. Ленина есть экземпляр, хранящийся в шкафу с грифом «цензура». На одной из его страниц - пометка синим карандашом: «Книгу надо истребить!» — там, где было напечатано стихотворение «Пьяницы»:
Объедки огурцов, хрустевших на зубах,
бокатая бутыль сивухи синеватой
и перегар, каким комод-кабан пропах,—
бой-баба, баба-ночь, гульбою нас посватай!
Услонов-растопыр склещился полукруг,
и около стола, над холщовой простынью,
компания (сам-друг, сам-друг, и вновь сам-друг)
носы и шишки скул затушевала синью...

Рисуя низменные стороны провинциального быта, лихого бурсацкого мира, Нарбут сочно и смачно демонстрировал приёмы гоголевской сатиры и гротеска. Успевший прочитать сборник Брюсов оценил его как поиск «залихватского русского стиля». Многих подобный стиль шокировал. Вот как, например, рисовал поэт «Портрет человека»:
Мясистый нос, обрезком колбасы
нависший на мышастые усы,
проросший жилками (от ражей лени), —
похож был вельми на листок осенний.
Подстриженная сивая щетина,
из-под усов срывалась — в виде клина;
не дыней ли (спаси мя от греха!),
глянь, подавилась каждая щека!
В корявых, но мощных образах заключалось истинное противоядие против приторной слащавой красивости, насаждаемой в великосветских салонах. Это писалось в то самое время, когда Игорь Северянин, услаждая взыскательные вкусы публики, жеманничал в стихах: «В шумном платье муаровом, в шумном платье муаровом Вы такая эстетная, Вы такая изячная!»

Поэзию же Нарбута «изячной» никак не назовёшь. Луна у него — не «лимонная долька» или «рыжие кудри», как у Лорки, не «холодное золото» или «рыжий жеребёнок», как у Есенина, не традиционный образ как олицетворение всего неземного и возвышенного, у него это — страшно сказать — скальпированный череп!
Луна, как голова, с которой
кровавый скальп содрал закат,
вохрой окрасила просторы
и замутила окна хат.
Или:
Пролетарий... Бьется в слове
Радость мира с желтой злобой.
И не розы - сгустки крови
Облепили гладкий глобус.
Или:
Мне не чернилом — кровью из артерий
писать стихи, как на себя донос!
Он любит шокировать всякими ужасами:
Зеленоватый, лёгкий и большой,
удавленник качается на ветке.
Любит писать на грани фола:
Бездействие не беспокоит:
не я ли (супостаты, прочь!) -
стремящийся сперматозоид
в мной возлелеянную ночь?
Однако несмотря на приказ «Истребить!», истреблена книга не была. Ее читали, знали, активно рецензировали.
Что же привлекло взоры к этой маленькой книжке (12 стихотворений), кроме самого факта конфискации? Прежде всего, ее индивидуальность, необычность, непохожесть. Дерзкая поэтика книги, как бы нарочито огрубленная лексика, синтаксис, ее метафорический лад, вернее «нелад», утяжеленная поступь стиха, неровное дыхание. Сильный, земляной, кряжистый словарь, малороссийские словечки, иногда нелепые рифмы... Шокировало то, что книга была напечатана церковно-славянским шрифтом, заимствованным из Псалтыри начала XVIII века, однако стихи, набранные им, были вызывающе грубы, богохульны и антиэстетичны.
Однако мэтр и лидер акмеизма Н. Гумилёв увидел в этой книге Нарбута главное — полемический выпад против эстетизма первого поколения русских модернистов.

«Их стихи, - писал он, - пестрели красивыми, часто бессодержательными словами. Михаил Зенкевич и еще больше Владимир Нарбут возненавидели не только бессодержательные, красивые слова, но и все красивые слова, не только шаблонное изящество, но и всякое вообще. Их внимание привлекло все подлинно отверженное: слизь, грязь и копоть мира. Но там, где Зенкевич смягчает бесстыдную реальность своих образов дымкой отдаленных времен или отдаленных стран, Вл. Нарбут последователен до конца, хотя, может быть, и не без озорства…».
Да, озорства ему было не занимать. Вот, например, стихотворение «Лихая тварь», где речь идёт о ведьме-оборотне, растленной лесовиком:
Крепко ломит в пояснице,
тычет шилом в правый бок:
лесовик кургузый снится
верткой девке - лоб намок.
· · · · · · · · · · · · · · ·
Ох, кабы не зачастила
по грибы да шляться в лес, -
не прилез бы он, постылый,
полузверь и полубес;
не прижал бы, не облапил,
на постель не поволок.
Поцелует - серый пепел
покрывает смуги щек...
· · · · · · · · · · · · ·
Кошка горбится, мяучит,
ежась, прыскает, шипит...
А перину пучит, пучит,
трет бутылками копыт.
Лапой груди выжимает,
словно яблоки на квас,
и от губ не отымает
губ прилипчивых карась.
Подчёркнутая натуралистичность, даже физиологичность образов у Нарбута не оттолкнули Мандельштама, который писал, что в тексте нарбутовских стихов проступает «божественная физиология, бесконечная сложность нашего темного организма».
Однако и «божественная физиология», и «богохульство» дорого стоили Нарбуту: его исключили из университета. Хотя учёба, видимо, не стояла на первом плане у поэта, который за шесть лет сменил три факультета. Спасаясь от судебного преследования за крамольную книгу, он, при содействии Гумилёва, присоединяется к пятимесячной этнографической экспедиции в Абиссинию, где вместе с Гумилёвым охотится на львов и носорогов.


Н. Гумилёв с проводниками у палатки

Рисунки Н. Гумилёва
Однако при всей близости взглядов и интересов, в стихах Нарбута об Африке проявилась его непохожесть на товарища по «Цеху»: его острый хохлацкий взгляд увидел совсем другие черты, нежели экзотик Гумилев, — например, прокаженных, которые у него
Сидят на грудах обгорелых,
просовывая из рубашки,
узлами пальцев омертвелых
так тонко слизанные чашки.
Вскоре в связи с амнистией по поводу 300-летия дома Романовых Нарбут получает возможность возвращения в столицу. В феврале 1913 года у него выходит ещё одна миниатюрная книжечка «Любовь и любовь», состоящая лишь из двух стихотворений, столь же дерзкая, что и предыдущая «Аллилуйя».
Щемящая нежность
***
Обвиняемый усат и брав
(мы других в герои не желаем).
Бесполезно спорить с Менелаем:
прав он был, воюя, иль не прав.
Но любовь играет той же дамой
(бархатная, сметливая крыса) -
От широколапого Адама
до крылатоногого Париса.
Что ж дурного, если вдруг она
и в мою щеку вдавила зубки:
так свежи и так душисты юбки,
яблоком накатана луна.
Охраняют, заливаясь лаем,
кобели домок за частоколом.
(Бесполезно спорить с Менелаем,
тяжбою грозящим протоколом.)
Ты не бойся яблочных часов,
в кои плоть не ведает раздора:
сыростью напитанная штора
да табачный запах от усов.
Опадает холодок на плечи
голые. Усатый молодчина,
лишь теперь я понял, в чём причина
суматохи нашей человечьей.
Лишь теперь я понял: никогда
нам не надо превращаться в кремний.
Пусть - вперёд и взад стегает время,
собирает круглые года;
Пусть течёт густая (до колена)
судорога, вьётся лай собачий.
Ева ты моя, моя Елена,
что ты в жертве ценишь наипаче?
Выпяченные — на, бери! - соски?
Виевы ли веки или губы?
Иль в пахах архангеловы трубы,
взятые в утробные тиски?
Мы поймали то, что днём ловили,
и любовь попробует свой рашпиль
не однажды, как и когти филин -
смерть на яблоке двуполой тяжбы.
Любовная лирика Нарбута этих лет отличается всё той же нетрадиционностью, тяжеловесностью, тем же образным напором, интенсивностью красок. Вот строки из стихотворения «Ночь»:
А ты раскинулась на ложе-
Ненасытимая любовь!
И росное чело тревожит
Пером отброшенная бровь.
По волосам, густым, как деготь,
Стекает, вздрагивая, лень —
На грудь, на виноградный ноготь,
На чаши лунные колен.
Под вычерпнутой с детства ямкой
Пылающего рта разрез...
За белою, за сонной самкой,
Самец, гонись в трущобный лес!
И, не натягивая лука,
Под куст добычу волоки,
Чтоб мутная, хмельная мука
Четыре выжала руки.
Лишь одно стихотворение выбивается у него из общего ряда своим тихим лиризмом, целомудренной трепетностью, пожалуй, лучшее из его лирики, посвящённое соседке Нарбутов по имению Ольге Карпеко-Глевасской:
О бархатная радуга бровей!
Озерные русалочьи глаза!
В черемухе пьянеет соловей,
И светит полумесяц меж ветвей,
Но никому Весну не рассказать.
Забуду ли прилежный завиток
Еще не зацелованных волос,
В разрезе платья вянущий цветок
И от руки душистый теплый ток,
И все, что так мучительно сбылось?..
Какая горечь, жалоба в словах
О жизни, безвозвратно прожитой!
О прошлое! Я твой целую прах!
Баюкай, вечер, и меня в ветвях
И соловьиною лелей мечтой.
Забуду ли в передразлучный день
Тебя и вас, озерные глаза?
Я буду всюду с вами, словно тень,
Хоть не достоин, знаю, и ремень
У ваших ног, припавши, развязать.
К числу лирических стихов можно отнести так же поэму Нарбута «Александра Павловна» (1922), последняя прижизненная книга поэта).

Вы набожны, высокомерно-строги,
но разве я не помню, как давно
во флигеле при городской дороге
летело настежь, в бузину, окно!
Вас облегал доверчиво и плотно
капот из кубового полотна.
О май! Уж эти тонкие полотна,
уж эти разговоры у окна!..
Или стихи из цикла «Большевик», которые с восхищением цитирует в мемуарах «Ни дня без строчки» Юрий Олеша, близко знавший Нарбута по Одессе, Харькову и Москве:
Над озером не плачь, моя свирель.
Как пахнет милой долгая ладонь!
...Благословение тебе, апрель.
Тебе, небес козлёнок молодой!
Это удивительное сочетание заскорузлой, дерзкой грубости и щемящей нежности отмечал у поэта К. Паустовский:

«…На сцену вышел поэт Владимир Нарбут, — сухорукий человек с умным, желчным лицом. Я увлекался его великолепными стихами, но еще ни разу не видел его. Не обращая внимания на кипящую аудиторию, Нарбут начал читать свои стихи угрожающим, безжалостным голосом. Читал он с украинским акцентом:
А я трухлявая колода,
Годами выветренный гроб…
Стихи его производили впечатление чего-то зловещего. Но неожиданно в эти угрюмые строчки вдруг врывалась щемящая и невообразимая нежность:
Мне хочется про вас, про вас, про вас
Бессонными стихами говорить...
Нарбут читал, и в зале установилась глубокая тишина…»
Хочется продолжить эти строки :
Над нами ворожит луна-сова,
и наше имя и в разлуке: три.
Как розовата каждая слеза
из Ваших глаз, прорезанных впродоль!
О тёплый жемчуг! Серые глаза,
и за ресницами живая боль...
Мария! Обернись, перед тобой
Иуда, красногубый, как упырь.
К нему в плаще сбегала ты тропой
чуть в звездах проносился нетопырь.
Лилейная Магдала, Кариот,
оранжевый от апельсинных рощ...
И у источника кувшин... Поет
девичий поцелуй сквозь пыль и дождь.
....................................
И, опершись на посох, как привык,
пред Вами тот же, тот же, — он один!
Иуда, красногубый большевик,
грозовых дум девичьих господин...
Продолжение здесь
|
|
Процитировано 1 раз
Понравилось: 1 пользователю
Как тонко имя Черубины... (Окончание) |
Начало здесь

Накануне разразившегося скандала Гумилёв в последний раз сделал предложение Дмитриевой и получил очередной отказ.

И тут он узнаёт тайну Черубины де Габриак. Он не может простить ей своего разочарования, её нелюбви, того, что его дурачили всё это время. Его любовь переходит в ненависть. Гумилёв при всех бросает Лиле оскорбительные слова: «Вы были моей любовницей. На таких не женятся».

На другой день Волошин, вступаясь за честь женщины, публично даёт Гумилёву пощёчину.
Гумилев отшатнулся от него и в бешенстве процедил: «Ты мне за это ответишь!» Волошин спросил: «Вы поняли?» (То есть, поняли ли за что?)
Тот ответил: «Понял».
Состоялась дуэль, которая, к счастью, обошлась без жертв.

Этот поединок больше смахивал на театральную постановку. Стрелялись на Черной речке (а где же еще?) из старинных пистолетов, где три четверти века назад Пушкин стрелялся с Дантесом.

22 ноября 1909 года в восемнадцать часов противники должны были стоять друг против друга, но дуэль задерживалась. Сначала машина Гумилева застряла в снегу. Он вышел и стоял поодаль в прекрасной шубе и цилиндре, наблюдая за тем, как секунданты и дворники вытаскивают его машину. Макс Волошин, ехавший на извозчике, тоже застрял в сугробе и решил идти пешком. Но по дороге потерял калошу. Без нее стреляться он не хотел. Все секунданты бросились искать калошу. Наконец калоша найдена, надета, Алексей Толстой, секундант Волошина, отсчитывает шаги. Николай Гумилев нервно кричит Толстому: "Граф, не делайте таких неестественных широких шагов!.."
Гумилев встал, бросил шубу в снег, оказавшись в смокинге и цилиндре. Напротив него стоял растерянный Волошин в шубе, без шапки, но в калошах. В глазах его были слезы, а руки дрожали. Алексей Толстой стал отсчитывать: раз, два... три! Раздался выстрел. Гумилев промахнулся. А у растерянного Волошина курок давал осечку. Гумилев крикнул: "Стреляйте еще раз!" И снова выстрела не произошло. Гумилев требовал третьего выстрела, но, посовещавшись, секунданты решили, что это не по правилам. Впоследствии Волошин говорил, что он, не умея стрелять, боялся сделать случайный неверный выстрел, который мог бы убить противника. Дуэль окончилась ничем.
Вся желтая пресса писала об этой "смехотворной дуэли", изгалялись над двумя известными поэтами, как могли. Саша Черный назвал в стихах Макса Волошина "Ваксом Калошиным".

После этого Волошин встретился с Гумилевым только один раз, случайно, в Крыму, за несколько месяцев до смерти Гумилева. Их представили друг другу, не зная, что они знакомы: оба подали друг другу руки, но разговаривали недолго: Гумилев торопился уходить.
Из рассказа М. С. Волошиной: «...В двадцать первом году судьба их столкнула в Феодосии.. Одна из дочерей Спендиарова прибежала и сказала, что на пароходе какой-то петербургский поэт—она перепутала: Гумилевский (а Макс был очень чуток к поэтам),— и Макс побежал, а я за ним — в порт. И когда Макс уже подходил, — пароходик этот уже должен был отплыть. И Макс заволновался... И сказал: «Николай Степанович, уже прошло столько времени и столько событий,— теперь мы можем подать друг другу руки». Макс протянул руку, и тот протянул. Но почти не обменялись словами. И загудело, и сходни подбирали... И Макс был обескуражен: зачем он бежал? Он был разочарован: ничего даже не сказали друг другу. Что произошло? Зачем это так?.. Но когда Макс прочел в газетах (он газет вообще-то не читал)... он сказал: "Ну теперь мне понятно, — в этой жизни земной мы должны были подать друг другу руки"...»

Конец Черубины
Из письма Е. Дмитриевой М. Волошину:
«Я теперь стала очень, очень скучная, у меня пустая душа… Моя внешняя жизнь идёт так скверно, так некрасиво и одиноко, что я боюсь, что она отражение внутренней. Я чувствую себя сейчас безмерно одинокой и покинутой. Около меня нет людей…Остались только твои стихи и голос, зовущий куда-то в даль... Но виденья не приходят больше, минутами я не верю в них... Мысли... спутались... все их ветви, вихри кружат вокруг... Так когда-то кружили вокруг меня твои стихи…Помнишь, как ты дарил их мне: так дарят цветы – легко, непринуждённо, с лёгким полупоклоном, с каким отец рассматривает новорожденное дитя… Да, Макс, да, ты был моим истинным отцом, а не тот человек, который умер от туберкулёза и от которого я этот туберкулез переняла…Ты дал мне имя…Ты, как Пигмалион, ведомый рукою Зевса, превратил меня, некрасивую, болезненную, хромую – в красавицу испанку – Черубину де Габриак. Ты, большой и светлый, поднял со своего пути полураздавленный цветок и показал всем чистоту его линий…»

После разоблачения и дуэли Дмитриева оказалась в трагическом вакууме. Она перестала бывать в «Аполлоне» и на Башне Вячеслава Иванова. Отношения с Волошиным осложнились. Он в те дни ещё не понимал, каким ужасным для Дмитриевой оказалось падение Черубины.

То, что для Волошина было блестящим упражнением по формированию творческой индивидуальности, для неё стало частью жизни, обернулось личной катастрофой.
«Увидели, выследили, изобличили… Окликнули, и окликом, как лунатика, сбросили с башни собственного Черубининого замка – на мостовую, о которую я разбилась вдребезги, как бьётся зеркало – в пыль…
– Елизавета Ивановна Дмитриева – Вы?
– Я…»
(М. Цветаева)
И. Крамской. Сомнамбула.
С этой минуты она навсегда потеряла себя: умерла та единственная, то выдуманное ею «я», которое позволяло ей в течение нескольких месяцев чувствовать себя женщиной, жить полной жизнью творчества, любви, счастья. Похоронив Черубину, она похоронила себя...

О, если бы аккорды урагана,
Как старого органа,
Звучали бы не так безумно-дико;
О, если бы закрылась в сердце рана
От ужаса обмана,—
Моя душа бы не рвалась от крика.
15 марта 1910 года в прощальном письме Волошину она пишет: "Я стою на большом распутье. Я ушла от тебя. Я не буду больше писать стихи. Я не знаю, что я буду делать. Макс, ты выявил во мне на миг силу творчества, но отнял ее от меня навсегда потом. Пусть мои стихи будут символом моей любви к тебе".
В тёмном поле — только вереск жёсткий,
да кавыль — серебряная пряжа.
Я давно стою на перекрёстке,
где никто дороги не укажет.

М. Цветаева так заканчивает свой рассказ о разоблачении Дмитриевой:

«Это был конец Черубины. Больше она не писала. А может быть, и писала, но больше её никто не читал, больше её голоса никто не слыхал».
Из «Исповеди Черубины де Габриак»:
«Я не смогла остаться с Макс. Ал. - В начале 1910 г. мы расстались, и я не видела его до 1917 (или 1916-го?). Я не могла остаться с ним, и моя любовь и ему принесла муку».

19 января Дмитриева пишет Волошину: «Не могу придти к тебе женой. Мне очень больно уходить от тебя. А нужно».
Где б нашей встречи ни было начало,
Ее конец не здесь!
Ты от души моей берешь так мало,
Горишь еще не весь!
И я с тобой всё тише, всё безмолвней.
Ужель идем к истокам той же тьмы?
О, если мы не будем ярче молний,
То что с тобою мы?
А если мы два пламени, две чаши,
С какой тоской глядит на нас Творец...
Где б ни было начало встречи нашей,
Не здесь - ее конец!
Его прощальным ответом было стихотворение:
Пурпурный лист на дне бассейна
Сквозит в воде, и день погас…
Я полюбил благоговейно
Текучий мрак печальных глаз.
Твоя душа таит печали
Пурпурных снов и горьких лет.
Ты отошла в глухие дали, —
Мне не идти тебе вослед.
Не преступлю и не нарушу,
Не разомкну условный круг.
К земным огням слепую душу
Не изведу для новых мук.
Мне не дано понять, измерить
Твоей тоски, но не предам —
И буду ждать, и буду верить
Тобой не сказанным словам.
Волошин просил руки Лили, добивался развода с Маргаритой Сабашниковой.
Он долго не мог поверить в конец их любви. Пока Дмитриева в последнем письме не подвела черту их отношениям: «Да, не нужно писать мне, и я не буду больше. Это моё последнее письмо, от тебя больше не надо ни слова. Мне больно от них».

Выбор был сделан ею в пользу её давнего жениха — Всеволода Николаевича Васильева. Весной 1911 года Лиля выходит за него замуж. Меняет фамилию на Васильеву и уезжает из Петербурга.
По профессии инженер-гидролог, Васильев работал над различными проектами в Средней Азии, и молодая чета уезжает в длительное путешествие по Туркестану.
Оставив поэзию, как ей казалось, навсегда, Елизавета Васильева выбирает новый жизненный путь, увлекавший многих её современников: путь духовного познания, который предлагала только родившаяся тогда философская наука антропософия. Лиля увлекается лекциями Рудольфа Штейнера, причём её занятия в этой области были настолько успешными, что уже в 1913 году она становится официальным представителем антропософского общества в России. А с 1915 года она снова начинает писать стихи.

Между Черубиной 1909-1910 гг. и ею же с 1915 г. и дальше, по словам Елизаветы Дмитриевой, - лежит очень резкая грань.
«Даже не знаю, - пишет она в «Исповеди», - одна она и та же или уже та умерла. Но не бросаю этого имени, потому что чувствую еще в душе преемственность и, не приемля ни прежней, ни настоящей Черубины, взыскую грядущей. Я еще даже не знаю, поэт я или нет. Может быть, мне и не дано будет узнать это.
Теперь от мира я иду в неведомую тишину и не знаю, приду ли. И странно, когда меня называют по имени... И я знаю, что я уже давно умерла, - все вы любите умершую Черубину, которая хотела все воплотить в лике... и умерла. А теперь другая Черубина, еще не воскресшая, еще немая...
Не убьет ли эта теперешняя, которая знает, что колдунья, чтобы не погибнуть на костре, должна стать святой,- не убьет ли она облик девушки из Атлантиды, которая все могла и ничего не сумела? Не убьет ли?
Сейчас мне больно от людей, от их чувств и, главное, от громкого голоса. Душа уже надела схиму».

Я - в истомляющей ссылке,
в этих проклятых стенах.
Синие, нежные жилки
бьются на бледных руках.
Перебираю я четки,
сердце - как горький миндаль.
За переплетом решетки
дымчатый плачет хрусталь.
Даже Ронсара сонеты
не разомкнули мне грусть.
Все, что сказали поэты,
знаю давно наизусть.
Тьмы не отгонишь печальной
знаком Святого Креста,
а у принцессы опальной
отняли даже шута.
Гибель Гумилёва в 1921 году была тяжёлым ударом для Елизаветы Ивановны.

Ах, зачем ты смеялся так звонко,
Ах, зачем ты накликал беду,
Мальчик с плоским лицом татарчонка
И с глазами, как звезды в пруду.
Под толстовкой твоей бледно-синей
Кожа смуглой была, как песок,
Раскаленный от солнца пустыни.
Были губы твои, как цветок
За высокой стеною мечети,
Расцветающий ночью в саду...
Что могу я сегодня ответить?
Сам себе ты накликал беду.
Она посвящает ему цикл стихотворений. Одно из них называется «Памяти Анатолия Гранта» (из соображений конспирации: Грант был парижским псевдонимом Гумилёва).

Памяти Анатолия Гранта
Памяти 25 августа 1921
Как-то странно во мне преломилась
пустота неоплаканных дней.
Пусть Господня последняя милость
над могилой пребудет твоей!
Все, что было холодного, злого,
это не было ликом твоим.
Я держу тебе данное слово
и тебя вспоминаю иным.
Помню вечер в холодном Париже,
Новый Мост, утонувший во мгле...
Двое русских, мы сделались ближе,
вспоминая о Царском Селе.
В Петербург мы вернулись - на север.
Снова встреча. Торжественный зал.
Черепаховый бабушкин веер
ты, читая стихи мне, сломал.
После в "Башне" привычные встречи,
разговоры всегда о стихах,
неуступчивость вкрадчивой речи
и змеиная цепкость в словах.
Строгих метров мы чтили законы
и смеялись над вольным стихом,
Мы прилежно писали канцоны
и сонеты писали вдвоем.
Я ведь помню, как в первом сонете
ты нашел разрешающий ключ...
Расходились мы лишь на рассвете,
солнце вяло вставало меж туч.
Как любили мы город наш серый,
как гордились мы русским стихом...
Так не будем обычною мерой
измерять необычный излом.
Мне пустынная помнится дамба,
сколько раз, проезжая по ней,
восхищались мы гибкостью ямба
или тем, как напевен хорей.
Накануне мучительной драмы...
Трудно вспомнить... Был вечер... И вскачь
над канавкой из Пиковой Дамы
пролетел петербургский лихач.
Было сказано слово неверно...
Помню ясно сияние звезд...
Под копытами гулко и мерно
простучал Николаевский мост.
Разошлись... Не пришлось мне у гроба
помолиться о вечном пути,
но я верю - ни гордость, ни злоба
не мешали тебе отойти.
В землю темную брошены зерна,
в белых розах они расцветут...
Наклонившись над пропастью черной,
ты отвел человеческий суд.
И откроются очи для света!
В небесах он совсем голубой.
И звезда твоя - имя поэта
неотступно и верно с тобой.

памятник Н. Гумилёву в Коктебеле
Та обида, нанесённая им ей, грубые и жестокие слова, сказанные в последнюю их встречу, долго и больно ранили Елизавету. В своей "Исповеди" она писала:
«Мы оба отвернулись друг от друга. Он ненавидел меня всю свою жизнь и бледнел при одном моем имени. Больше я его никогда не видела.
Вот и всё. Но только теперь, оглядываясь на прошлое, я вижу, что Н. С. отомстил мне больше, чем я обидела его. После дуэли я была больна, почти на краю безумия. Я перестала писать стихи, лет пять я даже почти не читала стихов, каждая ритмическая строчка причиняла мне боль; - я так и не стала поэтом - передо мной всегда стояло лицо Н. Ст. и мешало мне. До самой смерти Н. Ст. я не могла читать его стихов, а если брала книгу - плакала весь день. После смерти стала читать, но и до сих пор больно.
Я была виновата перед ним, но он забыл, отбросил и стал поэтом. Он не был виноват передо мной, очень даже оскорбив меня, он еще любил, но моя жизнь была смята им - он увел от меня и стихи и любовь...
И вот с тех пор я жила не живой; - шла дальше, падала, причиняла боль, и каждое мое прикосновение было ядом. Эти две встречи всегда стояли передо мной и заслоняли всё: а я не смогла остаться ни с кем.
И это было платой за боль, причиненную Н. Ст.: у меня навсегда были отняты и любовь и стихи.
Остались лишь призраки их...»
Да, целовала и знала
губ твоих сладких след,
губы губам отдавала,
греха тут нет.
От поцелуев губы
только алей и нежней.
Зачем же были так грубы
слова обо мне.
Погас уже четыре года
огонь твоих серых глаз.
Слаще вина и меда
был нашей встречи час.
Помнишь, сквозь снег над порталом
готической розы цветок,
Как я тебя обижала,
как ты поверить мог.

Отношения в семье дали трещину. Они с мужем становились всё более чужими друг другу. Лиля всё чаще сравнивала его с тем, кого любила, и это сравнение было не в его пользу.
Как горько понимать, что стали мы чужими,
не перейдя мучительной черты.
Зачем перед концом ты спрашиваешь имя
того, кем не был ты?
Он был совсем другой и звал меня иначе,-
так ласково меня никто уж не зовет.
Вот видишь, у тебя кривится рот,
когда о нем я плачу.
Ты знаешь все давно, мой несчастливый друг.
Лишь повторенья мук ты ждешь в моем ответе.
А имя милого - оно умерший звук:
его уж нет на свете.
11 сентября 1921
крест на месте предполагаемой гибели Н. Гумилёва. Бернгардовка.
В 1921 поэтессу вместе с мужем арестовали по обвинению в занятиях антропософией и выслали из Петрограда. Она оказывается в Екатеринодаре, где руководит объединением молодых поэтов и знакомится с Самуилом Маршаком.

Вместе они организовывают театр для детей, пишут для него пьесы, которые войдут в сборник «Театр для детей», выдержавший в 20-е годы четыре издания (позже Маршак признавался, что именно благодаря Дмитриевой он стал писать для детей).

В 1922 году Васильевы вернулись в Петроград. Лиля работала в литературной части Петроградского театра юного зрителя, делала переводы с испанского и старофранцузского, написала повесть для детей о Миклухо-Маклае «Человек с Луны».
Встреча с Петербургом - городом Черубины - была не столько радостной, сколько горькой:
Под травой уснула мостовая,
Над Невой разрушенный гранит...
Я вернулась, я пришла живая,
Только поздно - город мой убит.
Надругались, очи ослепили,
Чтоб не видеть солнца и небес,
И лежит замученный в могиле...
Я молилась, чтобы он воскрес.
Чтобы все убитые воскресли,
Бог Господь, Отец бесплотных сил,
Ты караешь грешников, но если б
Ты мой город мертвый воскресил.
(«Петербургу», 1922)
В 1922 году (в 35 лет) в её жизнь вошла новая любовь. Это был талантливый востоковед Юлиан Шуцкий, ставший её близким другом и учеником в антропософии (он был намного моложе).
Чудотворным молилась иконам,
Призывала на помощь любовь,
А на сердце малиновым звоном
Запевала цыганская кровь...
Эх, надеть бы мне четки, как бусы,
Вместо черного пестрый платок,
Да вот ты такой нежный и русый,
А глаза - василек...
Ты своею душой голубиной
Навсегда затворился в скиту, -
Я же выросла дикой рябиной,
Вся по осени в алом цвету...
Да уж, видно, судьба с тобой рядом
Свечи теплить, акафисты петь,
Класть поклоны с опущенным взглядом
Да цыганскою кровью гореть...
В письме Волошину Лиля признаётся: «В мою жизнь вошла новая любовь. Может быть, здесь я впервые стала уметь давать. Он гораздо моложе меня и мне хочется сберечь его жизнь. Он и антропософ, и китаевед. В его руках и музыка, и стихи, и живопись. У него совсем такие волосы, как у тебя. И лицом он часто похож. Зовут его Юлиан — тоже близко. Ты и он — первая и последняя точки моего круга».

Юлиан Константинович Шуцкий. Русский историк, востоковед, полиглот, исследователь даосизма. Автор первого перевода на русский язык китайской "Книги перемен", И-Цзин, Антологии китайской лирики VII-IX вв. по Р. Хр. Репрессирован в 1937 и убит в 1938 году, на 10 лет пережив Дмитриеву.
Лиля посвящает Шуцкому много стихов.
Красное облако стелется низко,
Душный и дымный огонь...
Сердце отпрянуло, сердце не близко,
Душно и стыдно, - не тронь!
Нам ли идти этой страшной дорогой,
Красным туманом дыша?
Бьется и плачет, кричит у порога
Наша душа...
Пусть всё тебе! Моих путей не надо.
Душа огонь, в котором только ты.
Средь обступившей темноты
один лишь ты — мучительная радость
в моей судьбе.
Но она боится поверить своему чувству, боится отдаться этой радости. Яд тяжёлых предчувствий гнетёт её.
Не верь себе, как я себе не верю,
у нас с тобой другая есть стезя, -
щадя любовь от муки лицемерий,
уйдём с путей, где вместе нам нельзя.
Ценой души, в себе несущей пламя,
куплю ли я обмана краткий час?
Отверзлась бездна — и она меж нами,
мы смотрим лживыми и жадными глазами...
Умей понять связующее нас.
И, значит нет чуда
единой любви...
Каждое сердце - Иуда,
каждое сердце - в крови...
Не носи мне лиловый вереск,
неувядающий цвет...
Мы - только жалкие звери,
а любви - нет.
Предчувствие не обмануло. В 1927 году в разгар кампании советской власти против антропософов Елизавету Васильеву вновь арестовывают и отправляют по этапу. Всё, что было связано с религиозным, мистическим восприятием жизни, тогда считалось отступлением от марксизма и каралось законом.
«Минус шесть городов, минус жизнь.… Ну, здесь ещё не плохо, это не Соловки… Я давно люблю Туркестан, но кто бы знал, как я очень до боли хочу домой… Я никого не вижу здесь, в письмах всего не напишешь… Три года ссылки… Заперта, брошена умереть… Господи, никуда я так не хочу, как в Коктебель, даже во сне его вижу и слышу солёный запах ветра.… Верни мне Коктебель, Господи.… Почему он растворился в прошлом, как и киммерийское лицо Макса?..»

Разлука с любимым была тяжким ударом. Однако судьба даст им возможность ещё однажды встретиться. Позже Лиля была выслана в Ташкент, по месту работы мужа. Проездом из Японии к ней туда заехал Шуцкий, и неожиданно, под его влиянием Елизавета создаёт цикл стихов в китайском стиле «Домик под грушевым деревом». Она пишет этот цикл от лица вымышленного ссыльного китайского поэта Ли Сян Цзы, сосланного на чужбину «за веру в бессмертие человеческого духа».

Ли Сян Цзы (Лао-Цзы)
Это была вторая и последняя мистификация Черубины.
Мхом ступени мои поросли,
И тоскливо кричит обезьяна;
Тот, кто был из моей земли,-
Он покинул меня слишком рано.
След горячий его каравана
Заметен золотым песком.
Он уехал туда, где мой дом.
("Разлука с другом". 1927)
Имя Ли Сян Цзы, с одной стороны, соответствовало китайскому написанию имени Елизавета, а с другой — переводилось как «Философ грушевого флигеля», что отражало реальные условия жизни Дмитриевой в Ташкенте: грушевое дерево действительно существовало, оно вросло в террасу флигелька, где жила Лиля.
Домик под грушей...
Домик в чужой стороне.
Даже в глубоком сне
сердце своё послушай:
там — обо мне!
Звёздами затканный вечер -
время невидимой встречи.
Е. И. Васильева мечтала вернуться в город, где она родилась и где такой блестящей кометой прочертила путь на литературном петербургском горизонте ее Черубина.
Прислушайся к ночному сновиденью,
не пропусти упавшую звезду...
По улицам моим Невидимою Тенью
я за тобой пройду...
Ты посмотри (я так томлюсь в пустыне
вдали от милых мест...):
вода в Неве еще осталась синей?
У Ангела из рук еще не отнят крест?

Это стихотворение было написано ею за полгода до смерти.

Из письма Е. Дмитриевой М. Волошину от 26 мая 1916года:
«Милый Макс, 6 лет тому назад, когда ты ушел, я знала ясно одно: я умерла для искусства, я, любящая его «болью отвергнутой матери, я сама убила его в себе. Я это знала ясно и отчетливо... У меня странная душа, Макс, и никто, кроме тебя, не приоткрывал ее. Тебе это просто было дано, потому что ты имел ключи: искусство. «Черубина» для меня никогда не была игрой… «Черубина» поистине была моим рождением; увы! мертворожденном. Все твое «признание» не было для меня тайной, я так и знала. И тогда 6 лет тому назад я провожала не только тебя, это я знала. Говорила ли я тебе когда-нибудь, что я видела во сне, как ты надел мне на шею золотую цепь из лавровых почти прозрачных листьев? И одна ветка свешивалась на грудь. Это не только сон, это была возможность.
Что я тебе скажу дальше, Махе? Где мое освобождение, где исцеление и в чем души? Что мне в ней, умершей для творчества?
Я только стала внешне твердой и старой. Я знаю, что мой путь я отбросила, встала на чужой и узурпировала его. Но я сделаю его своим или умру раньше, Макс.
Но пойми, пойми, Макс, милый, как тяготит меня мертвое творчество, как изнасилована моя душа!
Макс! прошу тебя ответить, и не бойся написать одно слово «нет», ведь я все принимаю с любовью, за все благодарю. «Твоя любовь в моих воспоминаньях».
Не бойся ответить «нет», Макс, потому что пойми, какая я мертвая».

Фальшиво на дворе моем
поет усталая шарманка,
гадает нищая цыганка...
Зачем, о чем?
О том, что счастье - ясный сокол
не постучится в нашу дверь,
о том, что нам не ведать срока
глухих потерь...
Из-под лохмотьев шали пестрой
очей не гаснущий костер.
Ведь мы с тобой, пожалуй, сестры...
И я колдунья с давних пор.
Чужим, немилым я колдую
Всю ночь с заката до утра,-
кто корку мне подаст сухую,
кто даст кружочек серебра.
Но разве можно коркой хлеба
насытить жадные уста,
не голод душит - давит небо,
там — пустота.
Она скончалась от рака печени в ташкентской больнице в ночь на 5 декабря 1928 года в 41 год, не дожив до конца ссылки. Была похоронена на Боткинском кладбище в Ташкенте. В настоящее время местоположение могилы Елизаветы Дмитриевой неизвестно.
Братья — камни, сестры — травы.
Как найти для вас слова.
Человеческой отравы
я вкусила и мертва.
Принесла я вам, покорным,
бремя темного греха,
я склонюсь пред камнем черным,
перед веточкою мха.
Вы и все, что в мире живо,
что мертво для наших глаз, —
вы создали терпеливо
мир возможностей для нас.
И в своем молчанье — правы.
Святость жертвы вам дана.
Братья — камни. Сестры — травы.
Мать-земля у нас одна.
Ей от природы был дан особый Дар, выраженный во всем: в письмах, стихах, пьесах, переводах, манере говорить, в восприятии Мира. И - в способности любить. Вопреки всему: ссылкам, арестам, голоду, невозможности писать, угрозе расстрела и тюрьмы, потери любимых...
Однако, есть непреложный кармический закон. Закон принадлежности своему имени.
Он соприкасается с Судьбой, и своевольная измена его всегда чревата большими последствиями. Он жесток по отношении к Личности, что осмелится его нарушить.
Я часто думала о судьбе этой незаурядной женщины, такой яркой, необычной и несчастливой. Как «беззаконная комета в кругу расчисленных светил», она прочертила в небе жизни свой непохожий ни на кого путь и — сгорела, погасла, растворилась в космических пространствах Поэзии. Но навсегда осталась в ней планетой по имени Черубина.
А закончить мне хотелось бы своим стихотворением, которое когда-то написала. В какой-то степени оно не только о ней, но и о себе.
Черубина
Лицом бледна, нехороша.
Лилит. Испанская инфанта.
В мечтах и снах её душа.
В слезах погибшего таланта.
Был скромен быт её дневной,
но в этой хромоножке школьной
жил дар нескромный, неземной,
толкнувший на обман прикольный.
Не знал продвинутый журнал,
что титул, гордо ей носимый,
лишь имя чёрта означал,
кусок морёной древесины.
Частица чёрта в ней была,
когда, как папоротник ночью,
в свой час единственный цвела
так обморочно и порочно...
Ты стала феею стихов,
легендой петербургских залов,
но пряным облачком духов
из рук их алчных ускользала.
И демонический твой смех
сводил с ума аристократов.
Ты знала дьявольский успех!
Но как он был до боли краток...
Твой рыцарь, Сирано, гуру
не внял смертельности забавы.
Обманом горьким стало вдруг -
что начиналось гордой славой.
Молва одёрнула: «Очнись!» —
и этим окликом убила,
с высокой башни сбросив вниз...
О Черубина! Черубина!..
Вот так и я, сквозь снов туман,
в погоне за нездешним раем,
высокий пестуя обман,
бреду сомнамбулой по краю.
Не окликай своей судьбы.
От правды — никакого толка.
Итог — расквашенные лбы.
И только!

Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/260002.html
|
|
Процитировано 2 раз
Понравилось: 1 пользователю
Как тонко имя Черубины... (Продолжение) |
Начало здесь

Идея самой знаменитой мистификации Серебряного века принадлежала Максимилиану Волошину.

Из «Исповеди» Черубины де Габриак:
«Я вернулась совсем закрытая для Н. С., мучила его, смеялась над ним, а он терпел и все просил меня выйти за него замуж. - А я собиралась выходить замуж за М. А. - Почему я так мучила Н. С.? - Почему не отпускала его от себя? Это не жадность была, это была тоже любовь. Во мне есть две души, и одна из них верно любила одного, другая другого. О, зачем они пришли и ушли в одно время!..
Больше, гораздо больше я знаю М. Волошина, видела его всю жизнь. Считаю его очень большим художником, с причудами, которые не мешают его charm'y. Он все же выше их. У него большая эрудиция и особое уменье брать слово.
Мои встречи с Максимилианом Александровичем относятся к годам: 1909, 1916, 1919, 1923. В последний раз я видела М. А-ча в 1927 г., когда он был в СПБ. Акварели М. А. похожи на жемчужины и на самые нежные работы японских мастеров.

Если в его теперешних стихах - весь целиком его дух, то в его акварелях осталась его душа, которую мало кто угадывает до конца.
Я люблю «Венки», больше всего «Corona Astralis» и «Lunaria». Считаю М. Волошина непревзойденным в спаянности венков. Моя «Золотая ветвь» мне дорога. Она посвящена М. Волошину. Да ведь в поэзии Черубина его крестная дочь».

Дневник, получивший название «История моей души», М. Волошин начал вести в Париже в 1904 году. Нерегулярные записи появляются в нем до 1931 года. Подробные, многостраничные описания каждого движения души, каждого впечатления сменяются годами молчания. В дневнике - размышления, чувства, наброски стихотворений, портреты людей, диалоги.

Записи Волошина о Дмитриевой относятся к самому началу их знакомства и сближения. Они интересны, как прекрасный психологический портрет Лили до появления Черубины. Во время мистификации и после Волошин записей не вёл - эпизодичные записи появляются в дневнике только в 1911 году, когда и Лиля и Черубина были уже в прошлом.
В 1909 году Волошин посвятил Дмитриевой ряд стихотворений: Corona Astralis (Венок сонетов); «Ты живешь в молчаньи темных комнат...»; «К этим гулким морским берегам...»; «Теперь я мертв. Я стал строками книги...», «Судьба замедлила сурово...», «Себя покорно предавая сжечь...», «С тех пор, как тяжкий жернов слепой судьбы...»; «Пурпурный лист на дне бассейна...»; «В неверный час тебя я встретил».
В неверный час тебя я встретил,
И избежать тебя не мог -
Нас рок одним клеймом отметил,
Одной погибели обрек.
И, не противясь древней силе,
Что нас к одной тоске вела,
Покорно обнажив тела,
Обряд любви мы сотворили.
Не верил в чудо смерти жрец,
И жертва тайны не страшилась,
И в кровь вино не претворилось
Во тьме кощунственных сердец.
Позже, в своем обширном очерке «Рассказ о Черубине», Максимилиан Волошин удивленно писал об особенностях детства и юности трагически любимой им женщины, считая, что именно «отсветы» удивительно-странных впечатлений тех, ранних, лет наложили на нее свой отпечаток, горький, волшебный и неповторимый:
«Она была хрома от рождения и с детства привыкла считать себя уродом. В детстве от всех ее игрушек отламывалась одна нога, так как ее брат и сестра говорили: «Раз ты сама хромая, у тебя должны быть хромые игрушки».
Однажды брат сказал мне таинственно: «Я узнал необыкновенную вещь, которую не знает еще никто. Взрослые еще об этом я не подозревают. Дьявол победил Бога и запер его в чулан. Теперь нам надо подумать о том, не стоит ли перейти на сторону Дьявола, он всех тех, кто с Богом, будет мучить и убивать». Я была потрясена этим известием и несколько дней ходила сама не своя, а брат точно забыл обо всем этом. Наконец я спросила его: «А как же с Богом?» - «Ах, с Богом... Ему удалось спастись. Он удрал через форточку». На меня это произвело такое сильное впечатление, что я с тех пор перестала молиться Богу».
Из стихов Е. Дмитриевой, адресованных М. Волошину:
Давно, как маска восковая,
Мне на лицо легла печаль...
Среди живых я не живая,
И, мертвой, мира мне не жаль.
И мне не снять железной цепи,
В которой звенья изо лжи,
Навек одна я в темном склепе,
И свечи гаснут... О, скажи,
Скажи, что мне солгал Учитель,
Что на костре меня сожгли...
Пусть я пойму, придя в обитель,
Что воскресить меня могли
Не кубок пламенной Изольды,
Не кладбищ тонкая трава,
А жизни легкие герольды —
Твои певучие слова.
1909-1910
Рождение Черубины
Волошин спустя 20 лет напишет очерк «История Черубины», в котором поведает историю создания мистификации, сыгравшей огромную роль в судьбах всех участников этой истории.

«Я начну с того, с чего начинаю обычно, – с того, кто был Габриак. Габриак был морской чорт, найденный в Коктебеле, на берегу, против мыса Мальчин. Он был выточен волнами из корня виноградной лозы и имел одну руку, одну ногу и собачью морду с добродушным выражением лица.

один из габриаков, хранящийся в мастерской Волошина
Он жил у меня в кабинете, на полке с французскими поэтами, вместе со своей сестрой, девушкой без головы, но с распущенными волосами, также выточенной из виноградного корня, до тех пор, пока не был подарен мною Лиле. Тогда он переселился в Петербург на другую книжную полку.
Имя ему было дано в Коктебеле. Мы долго рылись в чертовских святцах («Демонология» Бодена) и, наконец, остановились на имени «Габриах». Это был бес, защищающий от злых духов. Такая роль шла к добродушному выражению лица нашего чорта».
Имя же Черубина придумала (вернее, вспомнила) сама Лиля (это имя героини Брета Гарта, популярного в то время писателя, автора приключенческих романов).
В 1909 году была создана редакция журнала «Аполлон», которой поэты очень давно ждали.

Редактор Сергей Маковский был классический сноб, который судил людей по внешним особенностям и вряд ли оценил бы поэтическое дарование Дмитриевой — скромной школьной учительницы. «Папа Мако, как мы его называли, был чрезвычайно аристократичен и элегантен. Я помню, он советовался со мною — не вынести ли такого правила, чтобы сотрудники являлись в редакцию «Аполлона» в смокингах», а в роли сотрудниц женского пола «прочил балерин из петербургского кордебалета», - писал Волошин.
Лиля — скромная, неэлегантная и хромая, не вписывалась в эталоны Маковского и стихи её были им сразу в редакции отвергнуты. Тогда Волошин решил проучить заносчивого эстета. Он придумал Лиле такой образ, который не мог бы не поразить воображения Маковского, который должен был сразить его наповал.
В один прекрасный день редактор «Аполлона» получает по почте письмо, в котором были стихи от неизвестной поэтессы под загадочным именем Черубины де Габриак.

В письме незнакомка как бы вскользь проговаривалась о себе, о своей необычной участи, таинственной и печальной.
С моею царственной мечтой
Одна брожу по всей вселенной,
С моим презреньем к жизни тленной,
С моею горькой красотой.
Царицей призрачного трона
Меня поставила судьба...
Венчает гордый выгиб лба
Червонных кос моих корона.
Но спят в угаснувших веках
Все те, кто были бы любимы,
Как я, печалию томимы,
Как я, одни в своих мечтах.
И я умру в степях чужбины,
Не разомкну заклятый круг.
К чему так нежны кисти рук,
Так тонко имя Черубины?

Впечатление усиливалось и изящным почерком, и запахом пряных духов, пропитавших бумагу, и засушеными травками изысканных растений, которыми были переложены листки. Облик поэтессы, который складывался из стихов и писем, будил и поражал воображение: испано-французское происхождение, демоническая красота и гордость, влюблённость в средневековую Испанию, образ страстной католички, пронизанный чувственностью и преступной мистической любовью к Христу.
Эти руки, как гибкие грозди,
все сияют в перстнях дорогих,
но оставили острые гвозди
чуть заметные знаки на них.
Она сравнивала себя с алым цветком папоротника, цветущим лишь раз, и умоляла сорвать его, уступить любовной порче.
Лишь раз один, как папоротник, я
цвету огнем весенней, пьяной ночью...
Приди за мной к лесному средоточью,
в заклятый круг, приди, сорви меня.
Люби меня. Я всем тебе близка.
О, уступи моей любовной порче.
Я, как миндаль, смертельна и горька,
нежней чем смерть, обманчивей и горче.

Чарующие строки завораживали, дурманили, кружили голову...
Замкнули дверь в мою обитель
навек утерянным ключом,
и черный Ангел, мой хранитель,
стоит с пылающим мечом.
Но блеск венца и пурпур трона
не увидать моей тоске,
и на девической руке -
ненужный перстень Соломона.
Не осветит мой темный мрак
великой гордости рубины...
Я приняла наш древний знак
святое имя Черубины.
Стихи удивляли незаурядным, отточенным мастерством:
Флейты и кимвалы
в блеске бальной залы
сквозь тьму,
пусть звенят бокалы,
пусть глаза усталы -
пойму...
Губ твоих кораллы
так безумно алы...
К чему?
Марина Цветаева, узнавшая позже всю эту историю от Волошина, тоже описала её в очерке «Живое о живом», где, в частности, писала о Дмитриевой:
«В этой молодой школьной девушке, которая хромала, жил нескромный, нешкольный, жестокий дар, который не только не хромал, а, как Пегас, земли не знал».
Ахматова вспоминала, что в эти годы в русской литературе остро ощущалась вакантность места «первой поэтессы», которое вскоре на короткое время и заняла Черубина, чтобы потом уступить его Ахматовой и Цветаевой.

Новизна Черубины де Габриак заключалась не только в её таинственности и экзотичности, но в тех чертах, которые отличали её от всех прочих поэтесс и делали её, по словам Анненского, «поэтессой будущего». Её стихи поражали и эпатировали совершенно новой для русской литературы чертой — откровенным и гордым нарциссизмом, неожиданным для женской лирики той эпохи. В образе Черубины узнавался традиционный романтический герой, демонически гордый, страстный, трагический, известный тогда по стихам Байрона, Лермонтова, но это как правило был мужчина. Волошин, отмечая «темперамент, характер и страсть» в стихах Черубины, писал: «Нас увлекает страсть Лермонтова. Мы ценим темперамент в Бальмонте и характер в Брюсове, но в поэте-женщине черты эти нам непривычны и от них слегка кружится голова».

Романтическая героиня, которой литературная традиция отводила лишь место какой-нибудь экзотической дикой женщины аула, цыганки, жительницы горного Кавказа, должна была наконец появиться в русской литературе как женский вариант Алеко и Чайльд Гарольда. Волошин и Дмитриева гениально угадали острую нехватку такого персонажа в русской литературе и в русской жизни, и в лице Черубины создали эту романтическую героиню, уникальность которой была в том, что она одновременно была и реальным человеком, а не литературным персонажем, поэтом — автором собственного лирического я, «героиней собственной поэмы», а не сюжетом чужих стихов. В этом была главная причина, обеспечившая Черубине такой бешеный успех.
Адрес в письмах указан не был, но вскоре в кабинете Маковского раздался звонок по телефону, - низкий, обворожительный, влекущий женский голос — так разговаривали женщины, уверенные в своей неотразимости. И ещё письма, стихи, телефонные звонки, получасовые разговоры по телефону, в которых интриганка умело дурила редактору голову. Она — испанская аристократка, воспитывалась в монастыре, одинокая, чувствительная...

Маковский был сражён, обескуражен, обезоружен. Он влюбился не на шутку.

Он жаждал встречи с таинственной незнакомкой, а та всякий раз уклонялась от неё.

Но в разговоре туманно намекала: «Тогда-то я буду кататься на островах. Конечно, сердце Вам подскажет, и Вы узнаете меня». Маковский ехал на острова, выбирал самую красивую, а на другой день описывал её Черубине. Лиля смеялась: «Я никогда не катаюсь на лошадях, только на автомобилях...»
Стихи Черубины помещали в каждом номере, почитая за честь. Все «аполлоновцы» влюбились поголовно, слух о прекрасной аристократке разнёсся по всему Петербургу, все вокруг говорили только о ней.
Гумилёв вздыхал по экзотической красавице и клялся, что покорит её, не подозревая, что это Лиля Дмитриева, с которой они уже давно были близки.

Но всех нетерпеливее “переживал” Черубину обычно такой сдержанный Константин Сомов.

Ему нравилась “до бессонницы”, как он признавался, воображаемая внешность удивительной девушки. “Скажите ей, — настаивал Сомов, — что я готов с повязкой на глазах ездить к ней на острова в карете, чтобы писать ее портрет, дав ей честное слово не злоупотреблять доверием, не узнавать, кто она и где живет”. И написал-таки — такой, какой её воображал.

Волошин в стихах Черубины играл роль режиссёра и цензора, подсказывал темы, выражения, но писала их сама Лиля. Переписка же с Маковским было делом исключительно рук Волошина. Комизм ситуации заключался в том, что Маковский избрал Макса своим наперсником. По вечерам он показывал Волошину им же утром написанные письма, восхищаясь их слогом: «Какая изумительная девушка! Ты только послушай... Я всегда умел играть сердцем, но теперь у меня каждый день выбита шпага из рук».
Сочиняя ответ, он прибегал к помощи Волошина, говоря: «Вы — мой Сирано», не подозревая, до какой степени он был близок к истине, так как Волошин был Сирано для обоих сторон.
Вообще в этой истории поначалу было много комичного.
«Как только Маковский выздоровел, - вспоминал Волошин, - он послал Черубине на вымышленный адрес (это был адрес сестры Л. Брюлловой, подруги Лили) огромный букет белых роз и орхидей. Мы с Лилей решили это пресечь, так как такие траты серьезно угрожали гонорарам сотрудников «Аполлона», на которые мы очень рассчитывали. Поэтому на другой день Маковскому было послано Лилей письмо со стихотворением «Цветы»:
Цветы живут в людских сердцах;
Читаю тайно в их страницах
О ненамеченных границах,
О нерасцветших лепестках.
Я знаю души, как лаванда,
Я знаю девушек мимоз.
Я знаю, как из чайных роз
В душе сплетается гирлянда.
В ветвях лаврового куста
Я вижу прорезь черных крылий,
Я знаю чаши чистых лилий
И их греховные уста.
Люблю в наивных медуницах
Немую скорбь умерших фей.
И лик бесстыдных орхидей
Я ненавижу в светских лицах.
Акаций белые слова
Даны ушедшим и забытым.
А у меня, по старым плитам,
В душе растет разрыв-трава.

Черубина была выдумана Волошиным. Он изобрел эту игру “в таинственную красавицу” для благоговевшей перед ним некрасивой женщины, одаренной острым умом и литературными способностями, но сознававшей недостатки своей внешности и от этого глубоко несчастливой. Он убедил ее вообразить себя другой — прекрасной, желанной, неотразимо-пленительной в образе какой-то веласкесовской героини.

Мало того: помогая ей воплотить этот призрак, Волошин насытил его своей собственной мечтой о женщине непостижимо-обаятельной и, таким образом, оказался творцом вдвойне: он создавал призрачную душу и пересоздавал живого человека.
Волошин сам полюбил Черубину, не Дмитриеву, конечно, а ту, вымышленную, созданную и возвеличенную им самим. Черубина была его “Незнакомкой”, и, вероятно, ее воображал он, когда писал одно из своих стихотворений — “Она”:

В напрасных поисках за ней
Я исследил земные тропы
От Гималайских ступеней
До древних пристаней Европы.
Она забытый сон веков,
В ней несвершенные надежды:
Я шорох знал ее шагов
И шелест чувствовал одежды.
Тревожа древний сон могил,
Я поднимал киркою плиты...
Ее искал, ее ловил
В чертах Микенской Афродиты.
Пред нею падал я во прах,
Целуя пламенные ризы
Царевны Солнца-Таиах
И покрывало Монны-Лизы...
В ответ на его «Звёздный венок сонетов» Лиля пишет стихотворение «Золотая ветвь».
Моему учителю
Средь звездных рун, в их знаках и названьях
Хранят свой бред усталые века,
И шелестят о счастье и страданьях
Все лепестки небесного венка.
На них горят рубины алой крови;
В них, грустная, в мерцающем покрове,
Моя любовь твоей мечте близка.
Моя любовь твоей мечте близка
Во всех путях, во всех ее касаньях,
Твоя печаль моей любви легка,
Твоя печаль в моих воспоминаньях,
Моей любви печать в твоем лице,
Моя любовь в магическом кольце
Вписала нас в единых начертаньях...

Для них обоих создание Черубины явилось неким выходом их любви, мифическим ребёнком, которого в реальной жизни у них не было. Волошин посвящает ей мучительные строки:
Напрасно обоюдоострый меч,
Смиряя плоть, мы клали меж собою:
Вкусив от мук, пылали мы борьбою
И гасли мы, как пламя пчельных свеч...
Невольник жизни дольней - богомольно
Целую край одежд твоих. Мне больно
С тобой гореть, еще больней - уйти.
Не мне и не тебе елей разлуки
Излечит раны страстного пути:
Минутна боль - бессмертна жажда муки!

Сотрудники «Аполлона» бредили прекрасной Черубиной, мечтали увидеть её, пытались вычислить, разыскать. Один Анненский отнесся к ней недоверчиво, скептически, вчитываясь в ее стихи с тем удивительным умением проникать в авторскую душу, каким он отличался от простых смертных.

— Нет, воля ваша, что-то в ней не то. Не чистое это дело, — говорил он.
Однако это не помешало ему уделить Черубине несколько строк в своей статье о поэтессах — “Оне”.
Но Анненский так и умер, не узнав “тайны” Черубины. И, кстати, главная причина его сердечного приступа, ставшего причиной скоропостижной смерти на царскосельском вокзале, была в страшном огорчении и чувстве обиды: в очередном номере «Аполлона», где должна была выйти его статья, материал был неожиданно снят ради стихов Черубины. Фактически это убило поэта...

Единственный, кто знал о тайне Черубины с самого начала мистификации, был А. Толстой. Он узнал в стихах прекрасной незнакомки некоторые строчки, услышанные в Коктебеле от Дмитриевой.

Но никому ничего не сказал, только предупреждал Волошина об опасности затеянной игры, говорил, что добром это не кончится.
Он оказался прав. То, что начиналось шуткой, хохмой, розыгрышем, обернулось в итоге человеческой драмой. Причём эта драма развивалась в душе героини исподволь, гораздо раньше того момента, когда её, как лунатика, сбросили с небес на землю грубым и трезвым окликом.
Мне вспоминается строчка другого поэта, казалось бы, не имеющая ничего общего с Черубиной и её историей: «Как больно, милая, как странно раздваиваться под луной...» Раздваиваться — это больно.

Это не проходит бесследно и безнаказанно для души. Об этом говорят многие стихи Черубины: «Двойник», «Зеркало»...

Есть на дне геральдических снов
Перерывы сверкающей ткани:
В глубине амфилад и дворцов
На последней, таинственной грани
Повторяется сон между снов.
В нем все смутно, но с жизнию схоже...
Вижу девушки бледной лицо,
Как мое, но иное и то же,
И мое на мизинце кольцо.
Это - я, и все так не похоже.
Никогда среди грязных дворов.
Среди улиц глухого квартала.
Переулков и пыльных садов -
Никогда я еще не бывала
В низких комнатах старых домов.
Но Она от томительных будней,
От слепых паутин вечеров -
Хочет только заснуть непробудней,
Чтоб уйти от неверных оков,
Горьких грез и томительных будней.
Я так знаю черты ее рун,
И, во время моих новолуний,
Обнимающий сердце испуг,
И походку крылатых вещуний.
И речей ее вкрадчивый звук.
И мое на устах ее имя,
Обо мне ее скорбь и мечты,
И с печальной каймою листы.
Что она называет своими,
Затаили мои же мечты.
И мой дух ее мукой волнуем...
Если б встретить ее наяву
И сказать ей: «Мы обе тоскуем,
Как и ты, я вне жизни живу» -
И обжечь ей глаза поцелуем.
(«Двойник»)

О, не гляди назад,
Здесь дни твои пусты,
Здесь все твое разрушат,
Ты в зеркале живи,
Здесь только ложь, здесь только
Призрак плоти,
На миг зажжет алмазы в водомете
Случайный луч...
Любовь.— Здесь нет любви.
Не мучь себя, не мучь,
Смотри, не отрываясь,
Ты в зеркале — живая,
Не здесь...
Ты в зеркало смотри...
http://www.youtube.com/watch?v=_U8xGeoVShg#t=89
Разоблачение мистификации произошло неожиданно быстро. Немецкий поэт и переводчик Иоганн фон Гюнтер сыграл в этом деле неблаговидную роль.

Ему удалось добиться признания от Дмитриевой, доверившейся ему в минуту откровенности. Гюнтер рассказал тайну М. Кузмину, а тот — Маковскому. Он поначалу не поверил, но Кузмин дал ему номер телефона «незнакомки», которая оказалась не кем иной, как... Елизаветой Ивановной Дмитриевой. Маковский позвонил - и ему ответил тот единственный для него «волшебный» голос. Стоном вырвалось у нее: «Вы? Кто вам сказал?»

Падение новой литературной звезды произошло так же стремительно, как и её появление. Псевдоним был раскрыт, и за ним оказалась женщина, не соответствующая экзальтированным эстетическим ожиданиям литературной публики. И стихи, ещё недавно пользовавшиеся безусловным успехом у самых взыскательных литературных судей, вдруг внезапно потеряли всякую ценность. Печатать их перестали. Появились хулительные статьи, высмеивающие то, чем ещё вчера восхищались: и её внешность, и стихотворные строки.

Черубина написала Маковскому последнее стихотворение под названием «Конец»:
Милый рыцарь! Дамы Черной
Вы несли цветы учтиво,
власти призрака покорный,
Вы склонились молчаливо.
Храбрый рыцарь! Вы дерзнули
приподнять вуаль мой шпагой...
Гордый мой венец согнули
перед дерзкою отвагой.
Бедный рыцарь! Нет отгадки,
ухожу незримой в дали...
Удержали Вы в перчатке
только край моей вуали.
Маковский, будучи не в силах примириться с жестоким разочарованием, приглашает «на чашку чая» поэтессу Дмитриеву. Он еще надеялся на то, что в ее облике есть черты пленительной испанки. Но в комнату вошла невысокая полная темноволосая и прихрамывающая женщина, показавшаяся ему жутко некрасивой. Сказка Черубины кончилась.
Утром меркнет говор бальный...
Я — одна... Поет сверчок...
На ноге моей хрустальный
Башмачок.
Путь, завещанный мне с детства -
Жить одним минувшим сном.
Славы жалкое наследство...
За окном
Чуждых теней миллионы,
Серых зданий длинный ряд,
И лохмотья Сандрильоны —
Мой наряд.

Окончание здесь http://www.liveinternet.ru/users/4514961/post319331899/
|
|
Процитировано 2 раз
Понравилось: 2 пользователям
Как тонко имя Черубины... |
Начало здесь

Осень 1909 года стала в русской литературе, по словам Марины Цветаевой, эпохой Черубины де Габриак. Алексей Толстой называл ее "одной из самых фантастических и печальных фигур русской литературы".

Читая и вникая в биографию этой незаурядной женщины, порой теряешься, чей же всё-таки облик предстает перед нами - блестящей поэтессы - легенды Петербурга Серебряного века Черубины де Габриак или - скромной и никому особо не известной, (да и неинтересной!) переводчицы и преподавательницы французской литературы, авторши детских пьес и неизданных сказок, члена кружка антропософов, последовательницы идей доктора Рудольфа Штейнера Елизаветы Ивановны Васильевой, окончившей свои трудные дни в ссылке, в Ташкенте. Трудно поверить, что та и другая — это одно и то же лицо.
Елизавета Дмитриева родилась 31 марта в 1887 году в бедной дворянской семье. Отец — учитель чистописания в гимназии, мать — акушерка. Отец рано умер от туберкулеза, костным туберкулезом болела в детстве и сама Елизавета — Лиля, как звали её в семье, до 16 лет прикованная к постели, позже на всю жизнь оставшаяся хромой. В 9 лет она почти на год ослепла. Когда ей было 11 — её старшая сестра умерла от заражения крови. А муж сестры на глазах Лили застрелился. У матери от пережитого потрясения развилась мания преследования. В 13 лет девочку изнасиловал, воспользовавшись её беспомощным состоянием, близкий друг матери. Такой концентрации несчастий трудно себе даже представить, такое можно прочесть разве что у Достоевского.
Под влиянием болезней и всех трагических обстоятельств, сложившихся взаимоотношений в семье, у Елизаветы формировалось особое мироощущение, сознание собственной необычности, отличности от других, мистическое восприятие всех сторон жизни. Всё это потом наложит отпечаток на её судьбу и творчество.
Серый сумрак бесприютней,
Сердце - горче. Я одна.
Я одна с испанской лютней
У окна.
Каплют капли, бьют куранты,
Вянут розы на столах.
Бледный лик больной инфанты
В зеркалах.
Отзвук песенки толедской
Мне поет из темноты
Голос нежный, голос детский...
Где же ты?
Книг ненужных фолианты,
Ветви парка на стекле...
Бледный лик больной инфанты
В серой мгле.

Елизавета Дмитриева с матерью и братом
Из «Исповеди» Черубины де Габриак:
«В детстве, лет 14-15, я мечтала стать святой и радовалась тому, что я больна темным, неведомым недугом и близка к смерти. Я целых 10 месяцев была погружена во мрак, я была слепой, мне было 9 лет. Я совсем не боялась и не боюсь смерти, я семи лет хотела умереть, чтобы посмотреть Бога и Дьявола. И это осталось до сих пор. Тот мир для меня бесконечно привлекателен. Мне кажется, что вся ложь моей жизни превратится в правду, и там, оттуда, я сумею любить так, как хочу...
А потом долгие годы... я прикована к кровати и больше всего полюбила длинные ночи и красную лампадку у Божьей Матери Всех Скорбящих... А когда встала, то почти не могла ходить (и с тех пор немного хромаю) и долго лежала у камина, а моя сестра читала мне сказку Андерсена про Морскую Царевну, которой тоже было больно ступать. И с тех пор, когда я иду и мне больно, я всегда невольно думаю о Морской Царевне и радуюсь, что я не немая. Люди, которых воспитывали болезни, они совсем иные, совсем особенные.
Мне кажется, что в 16-17 лет я знала больше и вернее. Мне кажется, что с 18-ти лет я пошла по пыльным дорогам жизни, и что постепенно утрачивалось мое темное ведение и вот сейчас я ничего не знаю, но только что-то слышу, и верю в то, что слышу, а им всем кажется, что у меня открытые глаза.
И мне хочется, чтобы кто-нибудь стал моим зеркалом и показал меня мне самой хоть на одно мгновенье. Мне тяжело нести свою душу».
Когда Медведица в зените
Над белым городом стоит,
Я тку серебряные нити,
И прялка вещая стучит.
Мой час настал, скрипят ступени,
Запела дверь... О, кто войдет?
Кто встанет рядом на колени,
Чтоб уколоться в свой черед?
Открылась дверь, и на пороге
Слепая девочка стоит;
Ей девять лет, ресницы строги,
И лоб фиалками увит.
Войди, случайная царевна,
Садись за прялку под окно;
Пусть под рукой твоей напевно
Поет мое веретено.
...Что ж так недолго? Ты устала?
На бледных пальцах алый след...
Ах, суждено, чтоб ты узнала
Любовь и смерть в тринадцать лет.
(«Прялка»)
В 1904 году — в 17 лет — Лиза поступает в Императорский Женский Педагогический институт.

Здесь она изучает историю средневековья и французскую средневековую литературу.

К этому времени относятся её первые литературные опыты, несущие печать декадентства в духе того времени. В них уже появляется тема испанской инфанты — праобраза будущей Черубины.
Душа, как инфанты
Поблекший портрет...
В короне брильянты,
А счастья все нет!
Склоненные гранды,
Почтительный свет...
Огни и гирлянды,
А принца все нет!
Шлют сватов с Востока,
И нужен ответ...
А сердце далеко,
А принца все нет!..
Душа, как инфанта
Изысканных лет...
Есть капля таланта,
А счастья все нет!..
1906
О внешности Елизаветы сохранились противоречивые мнения. Вот отзыв о ней М. Волошина:

«Некрасивое лицо и сияющие, ясные, неустанно спрашивающие глаза... Лиле в то время было 19 лет. Это была маленькая девушка с внимательными глазами и выпуклым лбом…»
(из записи в дневнике от 18 апреля 1908 года).
снимок, сделанный М. Волошиным в Коктебеле в 1909 г.
Сергей Маковский отмечал, что «она была среднего роста и достаточно полна. Большая голова и лицо бледное и некрасивое». Но отмечал также её обаяние, юмор, интеллект.
А вот мнение поэта и переводчика Иоганна фон Гюнтера: «Она была среднего роста, скорее маленькая, довольно полная, но грациозная и хорошо сложена. Нет, она не была хороша собой — она была необыкновенной, и флюиды, исходившие от неё, сегодня, вероятно, назвали бы сексом». (Так вот почему столько мужчин теряли от нее голову…)
У всех этих мнений есть нечто общее: все отмечали полноту, но грациозность, некрасивость, но необычность, хромоту, но обаяние и сексуальность.
Давайте теперь сравним эти словесные описания с реальными фотографиями Дмитриевой.
Вот фото, сделанное в 1909 году в Коктебеле самим Волошиным, где Лиля возлежит на шезлонге и смотрит на него в объектив своими сияющими чёрными глазами.

А это коллективный снимок, тоже сделанный в Коктебеле в том же году.
В верхнем ряду А. Толстой читает книгу, справа — мать Волошина, а внизу возлежит Дмитриева в грациозной позе Ахматовой, в какой её запечатлел Модильяни. (Фигура Лили, правда, уступала ахматовской, но мужчинам она нравилась не меньше, а может быть, даже и больше, несмотря на хромоту).

Закончив институт, Дмитриева едет в Париж, заниматься изучением средневековой истории и литературы, слушает лекции в Сорбонне.
Там и произошла её судьбоносная встреча с Николаем Гумилёвым.
Мечта о счастье, казалось, получила воплощение...
"Когда выпадет снег", - ты сказал
и коснулся тревожно
моих губ, заглушив поцелуем слова,
Значит, счастье - не сон. Оно здесь.
Оно будет возможно,
Когда выпадет снег.
Когда выпадет снег. А пока пусть во взоре томящем
Затаится, замолкнет ненужный порыв.
Мой любимый! Все будет жемчужно-блестящим,
Когда выпадет снег.
Когда выпадет снег, и как будто опустятся ниже
Голубые края голубых облаков,-
И я стану тебе, может быть, и дороже, и ближе,
Когда выпадет снег.
1907, Париж

Снег в Париже. К. Писарро.
Из письма Е. Дмитриевой Е. Я. Архиппову:
«При жизни моей обещайте «Исповедь» никому не показывать, а после моей смерти - мне будет все равно».

Из «Исповеди» Черубины де Габриак:
«В первый раз я увидела Н. С. в июне 1907 г. в Париже в мастерской художника Себастиана Гуревича, который писал мой портрет. Он был еще совсем мальчик, бледное, манерное лицо, шепелявый говор, в руках он держал небольшую змейку из голубого бисера. Она меня больше всего поразила.
Мы говорили о Царском Селе, Н. С. читал стихи (из «Романтических цветов»). Стихи мне очень понравились. Через несколько дней мы опять все втроем были в ночном кафе, я первый раз в моей жизни. Маленькая цветочница продавала большие букеты пушистых белых гвоздик, Н. С. купил для меня такой букет; а уже поздно ночью мы втроем ходили вокруг Люксембургского сада и Н. С. говорил о Пресвятой Деве. Вот и всё.
Больше я его не видела. Но запомнила, запомнил и он. Весной уже 1909 г. в Петербурге я была в большой компании на какой-то художественной лекции в Академии художеств, - был М. А. Волошин, который казался тогда для меня недосягаемым идеалом во всем. Ко мне он был очень мил. На этой лекции меня познакомили с Н. С., но мы вспомнили друг друга. - Это был значительный вечер моей жизни.
Мы все поехали ужинать в «Вену», мы много говорили с Н. Степ. об Африке, почти в полусловах понимая друг друга, обо львах и крокодилах. Я помню, я тогда сказала очень серьезно, потому что я ведь никогда не улыбалась: «Не надо убивать крокодилов». Ник. Степ. отвел в сторону М. А. и спросил: «Она всегда так говорит?» «Да, всегда», - ответил М. А.
Я пишу об этом подробно, потому что эта маленькая глупая фраза повернула ко мне целиком Н. С. Он поехал меня провожать, и тут же сразу мы оба с беспощадной ясностью поняли, что это «встреча», и не нам ей противиться».
Не смущаясь и не кроясь,
я смотрю в глаза людей,
я нашел себе подругу
из породы лебедей, -
написал Гумилёв на альбоме, подаренном Лиле.

Долгое время все любовные стихи Гумилёва периода его отношений с Е. Дмитриевой (1907-1909) было принято считать адресованными Ахматовой, поскольку это мнение в значительной степени было создано самой Анной Андреевной. Однако сейчас уже известно, что некоторые из них, в частности, «Поединок», «Царица», а по некоторым версиям, и «Беатриче», адресовано Дмитриевой. В них обыгрывается её имя Лиля: «В твоём гербе — невинность лилий», «светла, как древняя Лилит».
Я вызван был на поединок
Под звуки бубнов и литавр,
Среди смеющихся тропинок,
Как тигр в саду, - угрюмый мавр.
Ты - дева-воин песен давних,
Тобой гордятся короли,
Твое копье не знает равных
В пределах моря и земли.
Вот мы схватились и застыли
И войско с трепетом глядит,
Кто побеждает: я ли, ты ли,
Иль гибкость стали, иль гранит...
(Н. Гумилёв «Поединок»)

Этот сложный характер их отношений, действительно напоминавший поединок, подтверждает и Лиля в своей «Исповеди»:

«В нем была железная воля, желание даже в ласке подчинить, а во мне было упрямство - желание мучить. Воистину он больше любил меня, чем я его. Он знал, что я не его невеста, видел даже моего жениха. Ревновал. Ломал мне пальцы, а потом плакал и целовал край платья».

Но рот твой, вырезанный строго,
Таил такую смену мук,
Что я в тебе увидел бога
И робко выронил свой лук.
Толпа рабов ко мне метнулась,
Теснясь, волнуясь и крича,
И ты лениво улыбнулась
Стальной секире палача.
(«Н. Гумилёв «Царица»)
Лиля тоже посвящала стихи Гумилёву:

В нежданно рассказанной сказке
Вдруг вспыхнула розами даль.
Но сердце при первой же ласке
Разбилось, как хрупкий хрусталь.
И бедного сердца осколки
Такими колючими стали,
Как будто от острой иголки,
От каждой печали
Сочатся по капелькам кровью,
И всё вспоминается вновь...
Зовут это люди любовью...
Какая смешная любовь!
Париж, 1907
Из «Исповеди» Черубины де Габриак:
«Мы стали часто встречаться, все дни мы были вместе и друг для друга. Писали стихи, ездили на «Башню» и возвращались на рассвете по просыпающемуся серо-розовому городу. Много раз просил меня Н. С. выйти за него замуж, никогда не соглашалась я на это; в это время я была невестой другого, была связана жалостью к большой, непонятной мне любви. В «будни своей жизни» не хотела я вводить Н. Степ. Те минуты, которые я была с ним, я ни о чем не помнила, а потом плакала у себя дома, металась...»
Мое сердце - словно чаша
Горького вина,
Оттого, что встреча наша
Не полна.
Я на всех путях сбирала
Для тебя цветы,
Но цветы мои так мало
Видишь ты.
И венок, венок мой бедный
Ты уж сам порви!
Посмотри, какой он бледный
Без любви.
Надломилось, полно кровью
Сердце, как стекло.
Все оно одной любовью
Истекло.
1907, Париж

Однако этой любви суждено было длиться недолго.
Из «Исповеди» Черубины де Габриак:
«В мае мы вместе поехали в Коктебель. Все путешествие туда я помню, как дымно-розовый закат, и мы вместе у окна вагона. Я звала его «Гумми», не любила имени «Николай», - а он меня, как зовут дома меня, «Лиля» - «имя похоже на серебристый колокольчик», так говорил он.
В Коктебеле все изменилось. Здесь началось то, в чем больше всего виновата я перед Н. Ст.»

Ветви тонких берез так упруги и гибки
В ноябре, когда лес без одежд!..
Ты к нему приходи без весенней улыбки,
Без ненужных весенних надежд.
Много желтых и ярко-пурпуровых пятен
Создала, облетая, листва...
Шорох ветра в ветвях обнаженных не внятен,
И, желтея, угасла трава.
Но осенние яркие перья заката
Мне дороже, чем лес в серебре...
Почему мое сердце бывает крылато
Лишь в холодном и злом ноябре?
Ноябрь, 1908
Ещё в 1908 году на Башне Вячеслава Иванова Лиля познакомилась с М. Волошиным.

Обаяние его личности победило прежнее чувство. Дружба, а позднее роман с Максом окажут огромное влияние на Дмитриеву. Духовная связь с ним пройдёт через всю её жизнь.
«Судьбе было угодно свести нас всех троих вместе: его, меня и М. Ал. - потому что самая большая моя в жизни любовь, самая недосягаемая это был Макс. Ал.»

В письме Волошину Лиля признаётся: «Мне вдруг стало светло и радостно от сознания, что Вы есть и что можно быть с Вами». Она посвящает ему стихи:
Ты помнишь высокое небо из звезд?
Ты помнишь, ты знаешь, откуда, —
Ты помнишь, как мы прочитали средь звезд
Закон нашей встречи, как чудо?
Не бойся земли, утонувшей в снегу, —
То белый узор на невесте!
И белые звезды кружатся в снегу,
И звезды спустились. Мы вместе!
Волошин тоже посвятил Лиле с десяток стихотворений. В одном из них он даёт такой психологический портрет своей новой подруги:
Ты живёшь в молчанье тёмных комнат
Средь шелков и тусклой позолоты,
Где твой взгляд несут в себе, и помнят,
Зеркала, картины и киоты.
Смотрят в душу строгие портреты…
Речи книг, звучат темно и разно…
Любишь ты вериги и запреты,
Грех молитв, и таинства соблазна.
И тебе мучительно знакомы
Сладкий дым бензоя, запах нарда,
Тонкость рук у юношей Содомы,
Змийность уст у женщин Леонардо.

- Макс, теперь я ничего не помню. Но ведь ты все знаешь, ты помнишь. Я тебе все рассказала. Тебе меня отдали. Я вся твоя. Ты помнишь за меня.
Она садится на пол и целует мои ноги. «Макс, ты лучше всех, на тебя надо молиться. Ты мой Бог. Я тебе молюсь, Макс». Меня охватывает большая грусть. — Лиля, не надо. Этого нельзя. — Нет, надо, Макс...
(М. Волошин. «История моей души»)
Возник пресловутый любовный треугольник.
Из «Исповеди» Черубины де Габриак:
«Если Н. Ст. был для меня цветение весны, «мальчик», мы были ровесники, но он всегда казался мне младше, то М. А. для меня был где-то вдали, кто-то никак не могущий обратить свои взоры на меня, маленькую и молчаливую.
Была одна черта, которую я очень не любила в Н. Ст., - его неблагожелательное отношение к чужому творчеству, он всегда бранил, над всеми смеялся, - а мне хотелось, чтобы он тогда уже был «отважным корсаром», но тогда он еще не был таким.
Он писал тогда «Капитанов» - они посвящались мне. Вместе каждую строчку обдумывали мы.
Но он ненавидел М. Ал. - мне это было больно очень, здесь уже с неотвратимостью рока встал в самом сердце образ Макс. Ал. То, что девочке казалось чудом, - свершилось. Я узнала, что М. А. любит меня, любит уже давно, - к нему я рванулась вся, от него я не скрывала ничего. Он мне грустно сказал: «Выбирай сама. Но если ты уйдешь к Г-ву - я буду тебя презирать». - Выбор уже был сделан, но Н. С. все же оставался для меня какой-то благоуханной, алой гвоздикой. Мне все казалось: хочу обоих, зачем выбор! Я попросила Н. С. уехать, не сказав ему ничего. Он счел это за каприз, но уехал».

И вот тут разворачиваются события, которые позволили потом Дмитриевой написать в «Исповеди»:
«Я до осени (сент.) жила лучшие дни моей жизни. Здесь родилась Черубина».

Продолжение здесь: http://www.liveinternet.ru/users/4514961/post319324058/
|
|
Процитировано 4 раз
Понравилось: 2 пользователям
Украденная песня - украденная жизнь |
Начало здесь
(об истории песни «Позови меня с собой»
и драме её настоящего автора)

Сейчас по Первому каналу идёт очередной мыльный сериал («Дурная кровь»), где главная героиня — юная красавица, воплощение всех добродетелей, но бедная, осиротевшая, вдобавок изнасилованная и беременная, тем не менее всех любящая, всепрощающая, типичная Золушка из сказки (и ежу понятно с первых же серий, что впоследствии та непременно обернётся принцессой, то бишь дочерью или женой олигарха, и свалившееся на голову богатство сиречь счастье вознаградит бедную страдалицу за все перенесённые муки и неземную доброту. Смотреть не смотрела, но иногда на кухне в экран поглядывала, отмечая про себя, как же неправдоподобно всё накручено: за девицей, которой светит огромное наследство, охотится целая кодла негодяев, чтобы устранить претендентку на состояние, о котором она и не подозревает, тут и убийства (по ошибке вместо неё убили подругу), поджог дома, всяческие покушения, подосланные киллеры... Ну надо же, чего только не придумают эти горе-сценаристы, - вздыхала я, шинкуя капусту, - и как же далеко всё это от реальной жизни...
Оказалось, отнюдь не далеко. Вчера включила «Прямой эфир» - терпеть не могу эту передачу, но тема и героиня меня весьма заинтересовала, а история её буквально потрясла. В этой истории оказалось много схожего со злоключениями героини сериала. Притом что это была самая что ни на есть правда.

В двух словах перескажу суть. Всем хорошо известен нашумевший хит, исполненный в 1997 году Аллой Пугачёвой «Позови меня с собой». Песня не бог весть что на мой вкус, но ореол автора стихов Татьяны Снежиной, божественной красавицы, разбившейся в автокатастрофе в 23 года, исполнение этой песни первой звездой эстрады, магия ранней смерти поэтессы и аура славы примадонны сделали своё дело: песня гремела долгие годы, принося немалые дивиденты её автору (вернее, уже наследникам оной) и главной исполнительнице.


Но спустя некоторое время выяснилось, что у этой песни другой автор — некая Ирина Орешко.

Неожиданно для всех она выступила с заявлением, что эту песню написала еще в 1990 году и посвятила своей первой школьной любви Диме Смолякову.

Снежину она лично не знала, а вот с ее продюсером Сергеем Бугаевым, вместе с которым та разбилась в аварии, была знакома более чем близко, жила у него в новосибирской квартире довольно продолжительное время.

Он обратил на неё внимание на новосибирском конкурсе молодых исполнителей «Транзит» и привёл к себе. Там Ирина и забыла свою тетрадь со словами и нотами песен, которая — как она уверяет — через Бугаева — и попала впоследствии к Снежиной.
Ирина была довольно взбалмошной и непостоянной девушкой. Вскоре вышла замуж, родила сына, ей было в тот период не до песен. И вдруг спустя несколько лет до неё докатились раскаты славы хита «Позови меня с собой», раскрученного Пугачёвой, в котором она узнала свою песню. Всюду была указана автором «погибшая в автокатасрофе Татьяна Снежина».

Поначалу Ирина решила, что произошла ошибка, недоразумение, которые легко исправить. Ведь она даже посылала свою композицию «Позови меня с собой» на какой-то конкурс, казалось, её авторство установить было нетрудно. Она позвонила в студию и сказала всего одну фразу: «Ребята, Татьяна Снежина погибла в катастрофе, но автор песни жив, это я». Эта фраза стала для неё роковой. Если бы она знала, какая цепь событий за ней последует — наверное, тогда прикусила бы себе язык.
Надо сказать, что на Снежину Ирина не имела зла. «Я даже не уверена, что Снежина сама присвоила авторство «Позови меня с собой», возможно, она просто решила спеть мою песню, - поясняла она. - А когда Татьяна и Сергей погибли, родственники не разобрались, что эта песня чужая».

Выдвинутая Ириной версия была не такой уж неправдоподобной, какой могла показаться на первый взгляд. Брат Снежиной Вадим Печенкин сам признавал в интервью, что к ее творческому наследию причислили все, что было написано ее рукой, и ошибочно издали под ее именем несколько чужих стихов. В частности, в книгу Татьяны попали тексты песен Ромы Жукова, написанные экс-солисткой группы «Мираж» Светланой Разиной.

- Я подала в суд и предоставила справку из Российского авторского общества, что эти тексты были зарегистрированы мной еще в тысяча девятьсот восемьдесят лохматом году, - рассказывала Разина.
- «А вот у нас есть рукопись Снежиной!» - заявили мне в ответ. И предъявили ничем не заверенную ксерокопию бумажки, на которой аккуратным почерком были переписаны мои стихи.
- Это не рукопись, а урок чистописания! - возмутилась я и достала из сумки листок бумаги с набросками своих новых стихов.
- Вот как выглядит настоящая рукопись! Здесь так все перечеркано, что вы вряд ли сможете что-то разобрать. А на обратной стороне вообще записан текст песни Энрике Иглесиаса. Что же, по-вашему, если я переписала его своей рукой, получается, что я теперь его автор?!».
Но судья не захотела слушать никакие доводы и отказала в удовлетворении моего иска.
Для никому не известной Ирины Орешко борьба за свое авторство завершилась гораздо более плачевно, чем для экс-солистки «Миража». Выяснилось, что отец Татьяны Снежиной генерал Валерий Печенкин в то время занимал пост замдиректора ФСБ России.

В адрес новосибирской певицы начали поступать предупреждения, что ей лучше отказаться от своих претензий. Но она не унималась, пытаясь отстоять истину. Вскоре убивают мать Ирины, которая вышла из дома в её лыжном костюме. (Они довольно похожи с матерью, можете убедиться по снимку).

Много лет назад ОРЕШКО была счастлива с мамой и маленьким сынишкой
Убийцу, конечно, не нашли. Ирина убеждена, что мать убили по ошибке, приняв её за неё.
- Вы связываете два эти события? - усомнился ведущий передачи.
- А Вы бы не связали? - спросила она его.
А через некоторое время на саму Ирину было совершено нападение. Это произошло в узком тёмном коридоре на квартире её знакомой. Орешко схватили за волосы, потащили в кухню, стали наносить удары руками и ногами. Защищаясь, она схватила со стола нож и нанесла одному из нападавших смертельную рану. На суде ей дали 8 лет строгого режима «за умышленное убийство».
- Вы превысили меру необходимой обороны? - с видимым сочувствием спросил мальчик-ведущий.
- Не было никакого превышения. Мне просто не дали выбора — если бы не я — он бы меня убил.
- По всем признакам, мой случай попадал под статью 37 УК «Необходимая оборона», - утверждала Ирина. – Причем, если бы он убил меня, он бы за это не просидел даже дня, так как, согласно прилагавшейся к делу справке, якобы состоял на учете в ПНД (психоневрологическом диспансере). Но я видела его. Какой там ПНД?! Это был накачанный парняга под два метра ростом, с солдатской выправкой и титьками, как у Шварценеггера. Судья тоже изначально была настроена против меня, и сама постановка ее вопросов уже предполагала ответы не в мою пользу. Она припаяла мне 105 статью «Умышленное убийство». И дала 8 лет строгого режима. Ее приговор конкретно говорил: «Плевала я на ваш закон!».
- Следствие пыталось представить все так, будто я ворвалась в квартиру с ножом в руках и напала на потерпевшего, - рассказывала Орешко. - Я резонно возражала: "Почему же я тогда не воспользовалась ножом прямо в дверях, а позволила человеку схватить меня за волосы, оттащить в кухню и наносить мне руками и ногами удары по лицу и телу?"
Ко мне приезжал оперативник и вырывал у меня из головы клочки волос с кусочками кожи, чтобы сличить их с фрагментами кожи и волос, оставшимися под ногтями у убитого. Но эта экспертиза в деле почему-то отсутствовала. Было в нем и много других нестыковок.
К сожалению, мне было очень трудно защищаться в одиночку. В течение года у меня был запрет на переписку, я не могла сообщить о себе даже родственникам. Формально мне, конечно, предоставили адвоката. Какая-то тетенька встретилась со мной один раз, когда проводился следственный эксперимент. Больше я ее не видела. На суде присутствовал уже другой адвокат, который предварительно со мной не общался. Он заявил, что я превысила пределы самообороны.

жертва спецслужб: боролась в одиночку
Несмотря на многочисленные попытки обжаловать несправедливое решение суда, Ирина так и не добилась его отмены и загремела в мордовские лагеря. Но самым ужасным для неё было даже не это. Пока она отбывала наказание в колонии строгого режима, ее через суд безо всяких на то оснований лишили родительских прав и отобрали у нее четырёхлетнего сына Диму. Она долго потом искала его по детским домам, пока не выяснилось, что его усыновили американцы. Мальчик никогда не видел своей матери, у него даже не было её фотографии. На протяжении долгого времени Ирина не оставляла попыток разыскать своего потерянного сына. Ездила в новосибирский детский дом, откуда его в 2000 году передали американским усыновителям. Но, к кому она ни обращалась, выяснить что-либо о местонахождении и дальнейшей судьбе Димы ей так и не удалось.

сын Дима с новой американской мамой
Ну чем не остросюжетный сериал? Вот только хеппи энда в наших жизненных «сериалах» как правило, не случается. Если героиня и осталась жива после стольких злоключений, то зло никогда не бывает наказано. Особенно если оно скрывается под магической аббревиатурой ФСБ.
Сердобольный ведущий «Прямого эфира» пытался всё свести к излюбленной подобными передачами мистике: «Проклятие песни... Роковой хит... Несчастья вдруг стали преследовать Ирину...» Ну конечно, злой рок, не иначе, божий промысел, божья кара... Только вот кара эта почему-то никогда не настигает подлинных убийц и злодеев.
Вот что писала «Экспресс-газета» от 9 апреля 2004 года (№ 14 (479) в статье под заголовком:
Автор пугачевской песни «Позови меня с собой» вышла из тюрьмы!

ИРИНА ОРЕШКО: показывает диск со своими песнями обозревателю "ЭГ" Михаилу Филимонову
«Семь лет назад наша газета опубликовала сенсационное интервью с певицей и автором песен из Новосибирска Ириной ОРЕШКО. По ее утверждению, именно она, а не трагически погибшая Татьяна СНЕЖИНА написала песню «Позови меня с собой», ставшую суперхитом в исполнении Аллы ПУГАЧЕВОЙ («ЭГ» № 49, 1997). В тот момент вокруг имени Снежиной была развернута мощная рекламная кампания, инициированная ее отцом - генералом Валерием Печенкиным, тогдашним зампредседателя ФСБ России. В адрес Орешко начали поступать угрозы. А летом 1998 года Ирину внезапно арестовали по обвинению в тяжком преступлении. Все попытки получить хоть какую-то информацию о ней блокировались. Мы уже не надеялись увидеть ее живой...»
Ирина выжила, хотя потеряла всё: мать, сына, здоровье, честное имя, свои песни.
Отбыв тюремный срок, подурневшая, без зубов, с хриплым голосом и грубоватыми манерами предстала она перед приглашённой на передачу публикой, среди которой я успела заметить Бари Алибасова, бывшего продюсера группы «Ласковый май» А. Разина , композитора А. Журбина и многочисленных коллег и поклонников примадонны. Они с усмешкой поглядывали на певицу, подначивая «спеть» и отпуская шуточки по поводу её неказистой внешности: «А что? Она прекрасно смотрится! Шура отдыхает!»
Ну кто такая бывшая зэчка Орешко против этой мощной и слаженной команды шоу-бизнеса? Она и сама с горечью признала: «Ну конечно, Снежина для них лучше, чем я».



Снежина — это миф, легенда, это бренд, фишка Пугачёвой, неоднократно выступавшей с прочувствованными речами по поводу мистики песни, в которой юная поэтесса напророчила свою трагическую безвременную смерть. Она с Киркоровым не раз позировала у знаменитой могилы.

Выйдя на страницу Снежиной, я была шокирована мощной рекламной кампанией, которая велась во славу этой певицы все эти годы.
В 1997, 1998, 1999 и 2008 годах Т. Снежина посмертно становилась лауреатом премии «Песня года». Существует награда имени Татьяны Снежиной — «Серебряная снежинка» за вклад в помощь молодым талантам. Одной из первых эта статуэтка была вручена Алле Пугачевой.
В 2008 году на Украине учреждена литературная премия Межрегионального союза писателей страны им. Татьяны Снежиной и соответствующая памятная медаль. Ежегодно лучшие поэты-песенники номинируются на эту награду.
В Казахстане в честь Татьяны Снежиной названа вершина горного массива Джунгарского Алатау. Вершина была впервые покорена в итоге целевой экспедиции группы молодых российских альпинистов.

В 2006 году в школе № 97 (ранее школа № 874) г. Москвы, где училась Татьяна Снежина с 1981—1989 гг., силами педагогического коллектива, на основании официального решения правительства Москвы, открыт «Литературно-музыкальный музей памяти Т. Снежиной».
На Украине, в городе Луганск в 2010 году решением властей в центре города установлен бронзовый памятник Татьяне Снежиной. Автор скульптуры Е. Чумак.

В 2008 году в Новосибирске учреждён и ежегодно проводится широкомасштабный региональный телевизионный конкурс молодых исполнителей эстрадной песни «Ордынка», посвящённый памяти Т. Снежиной и С. Бугаева. Конкурсанты съезжаются со всей России и конкурс проводится в несколько этапов, широко освящаемых прессой и телевидением. Традиционно одним из этапов фестиваля является исполнение песен Т. Снежиной.
В Новосибирске в 2011 году в честь Татьяны Снежиной названа одна из новых улиц.

С 2012 года Новосибирский Велоклуб «Райдер» проводит ежегодный «Велопробег памяти Татьяны Снежиной» по маршруту Новосибирск — 116 км. Черепановской трассы (место гибели поэтессы).
С 2012 года в Москве проводится ежегодный «Международный фестиваль школьного творчества памяти Татьяны Снежиной» в дату, приуроченную ко дню рождения поэтессы.
14 мая 2013 года в Новосибирске, на улице Татьяны Снежиной по инициативе поклонников автора, решением властей города установлена бронзовая пятиметровая стела посвященная этой поэтессе и композитору. Авторы скульптуры — главный художник Новосибирска Юрий Бурик и томский скульптор Антон Гнедых. Стела в виде стилизованного паруса-арфы с силуэтом юной поэтессы увековечивает не только образ самой Т. Снежиной, но и одно из её знаменитых произведений — на переднем плане композиции изображен из бронзы нотный стан с первыми нотами песни «Позови меня с собой».

В XXI веке Татьяна Снежина стала одним из самых популярных и продаваемых поэтических авторов России. Тиражи её книг перешагнули стотысячный рубеж.
Я даже не представляла себе таких гигантских масштабов пиара — и за что? За одну-единственную песню, и то лишь потому, что она была умело раскручена Пугачёвой. Да ни один великий поэт или певец в нашей стране не имеет столько памятников и знаков отличий!
И кто такая Ирина Орешко по сравнению со всем этим великолепием и величием, любовно создаваемым долгие годы? Ну и что, что на обложке книги Т. Снежиной, хранящейся в её музее, помещена ксерокопия знаменитого текста, написанного рукой Ирины? Кого это волнует?

А тут ещё папа генерал-фсб-шник с мощными связями.

Ирине перекрыли все пути. В студии, куда она посылала свою композицию «Позови меня с собой», заявили, что да, композицию посылала, но ТОЙ песни там не было. Ирина только руками всплеснула от возмущения. Все в студии «Прямого эфира» спаянно стояли горой за авторство прекрасной покойной Снежиной. Публика в зале успокаивала: у Вас всё ещё будет, напишете новые песни! И снисходительно похлопывала в такт её бесхитростным куплетам — но, разумеется, не тем, на которые она уже не имела никаких прав, отсидев, в сущности — давайте уж не будем лукавить — за своё авторство пять лет в лагерях.
Когда Орешко начала говорить, что на обложке книги Снежиной с ксерокопией стиха, хранящейся в музее, где посетители благоговейно рассматривают почерк великой поэтессы, на самом деле почерк её, и это может подтвердить любая графологическая экспертиза, ведущий посоветовал: «А Вы обратитесь в суд!»
Ирина, при одном слове «суд», видимо, мысленно содрогнувшись, махнула рукой: «Никуда я не пойду! Пусть, кому надо, это делает...»
И тут телевизионная публика закричала в один голос (и в нём уже зазвучали воинственно-наступательные торжествующие нотки):
- А в таком случае Вы не имеете права говорить, что это Ваши песни!
- Как не имею? Когда они мои...
- Потому что Вы обвиняете — бездоказательно — умершего человека! Да разве и Пугачёва могла бы утверждать это, не проверив всё досконально? Да это щепетильнейший в таких вопросах человек...
- Да мало ли кто может сказать, что он автор? А может Вы просто переписали её песни в свою тетрадь? Теперь сотни вот таких «авторов» ринутся в суд, доказывая, что это они написали!
Я поняла, что Ирина попала в капкан. Пойди она в суд — нет никакого сомнения, что в авторстве ей будет отказано, как отказали Светлане Разиной из группы «Мираж». И найдутся десятки свидетелей её «самозванства» и желания нажиться на плодах труда безвременно погибшей поэтессы. Не пойди она в суд — за публичное утверждение своего авторства её саму могут привлечь за клевету и упечь в лагеря снова. Куда ни кинь — всюду клин.
- Ничего, Вы себе ещё новые песни напишете, - лицемерила массовка. И глумливо переглядывалась и перешучивалась, когда Ирина выводила рулады своим беззубым ртом. Ведущий попытался бросить клич помочь певице сделать новые зубы и тряс каким-то подписным листом, который акулы шоу-безнеса сразу с ухмылкой отклонили: «Шуре вот зубы сделали и он потерял в цене». Много мол чести.
Я смотрела на весь этот парад слаженной, такой с виду благопристойной подлости, пошлости и низости, и меня буквально трясло. Хочу сразу оговориться, что ни песни, ни сама личность Ирины Орешко восторга у меня не вызывают. Я даже не назвала бы её талантливой, как, впрочем, и Татьяну Снежину. Ведь ясно, что дело не в гениальных стихах, не в самой песне, а в красоте — действительно, редкой — девушки, романтике её ранней гибели с любимым, таланте Пугачёвой, раскрутившей этот бренд на всю страну при активном "соучастии" ФСБ в лице отца-генерала, и теперь эта запущенная машина крутится, принося золотые яйца, уже без их помощи, автоматически, на автопилоте.
И вдруг появляется подлинный автор, который наивно попытался остановить эту машину. Конечно, он тут же был смят и уничтожен — чудом что не физически — что такое правда и истина против бешеных бабок, против всенародной славы, против увековеченного в камне и бронзе мифа! Снежина и Пугачёва — это ответ на извечное желание толпы: «сделайте мне красиво!». Талантливый ответ, хоть и лживый. А правда в лице Ирины — беззубой зэчки, некрасивой, не обаятельной, не очень умной, - кому она нужна, кому интересна?
Они её сделали одной левой.

А ведь когда-то в школе на уроках литературы мы изучали произведения о «маленьком человеке», и нам было жаль и Акакия Акакиевича, и Макара Девушкина, и бедную Лизу, никаких не красивых и не талантливых, жаль просто потому, что они — люди, и их обижали так больно и несправедливо, и как нам тогда хотелось прийти им на помощь, защитить от обидчиков, отстоять добро от зла, правду от лжи. Куда же деваются потом эти «души прекрасные порывы», когда нарастает на ней панцырь, дубовая кора, когда люди превращаются в сытых равнодушных подлецов, предпочитающих глянец и гламур душе человеческой?
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/257066.html
|
|
Процитировано 13 раз
Понравилось: 3 пользователям






















