-Поиск по дневнику
-Подписка по e-mail
-Друзья
-Постоянные читатели
-Статистика
Записей: 871
Комментариев: 1385
Написано: 2520
Блажь |
Из старых стихов

* * *
Новое русло моей души.
Я от прежней себя в бегах.
Здесь в тиши поют камыши.
Так хорошо в его берегах.
Только серым крадётся волчком
Страх: дознаются, обвинят...
Как спартанец, живу молчком
С целым выводком лисенят.
* * *
Я – чокнутый, как рюмочка в шкафу
Надтреснутая.. но и ты – с приветом.
А. Кушнер
Она пьёт водку, словно подданная русская.
О. Митяев
Под этим небом, выпитым до дна,
Вернее, штукатурным небом в триста
Свечей, немного красного вина –
И мир бездомный обретает пристань.
Мы чокаемся рюмочками всклень, –
И звук стекла, как нота, ухо режет –
За этот дом, за сталинскую смерть,
За твой успех, что за горами брезжит.
"Как подданная русская..." – сей дар
Мне не был дан, расхристан и неистов.
Ты пьёшь один данайцев солнцедар.
Так спаивают русских сионисты.
Чем чаще взмах бестрепетной руки –
Тем музыка души твоей всё глуше.
Я вижу, как глотки твои горьки,
Как тело перекрикивает душу.
Остановись! Не отдавай за грош
Заветной ноты чистоту и мяту.
Пока еще ладонь не смяла дрожь,
Пока ещё душа твоя не смята.
О пьяниц и поэтов братский класс!
Бредёте вы, куда не зная сами,
То с наливными рюмочками глаз,
То с кроличьими красными глазами.
Физкульт-привет! Что – этот хмель земной
Против того небесного букета?!
Я – чокнутая рюмочка с виной
Взамен вина. Но ведь и ты – с приветом.
* * *
Звёзд горящий уголёк
Чертит путь ко мне.
Как безумный мотылёк,
Ты летишь на огонёк,
Что в моём окне.
Бьёшься слепо о каркас,
Что тепло дарит.
Слышу с неба Божий глас,
И не знаю, кто из нас
Раньше обгорит.
* * *
Уравнения строк не сходились с небесным ответом.
Не давался мне синтаксис боли и логос тоски.
Ты приснился мне впрок в белом облаке лунного света,
И – где тонко, там рвётся – душа порвалась на куски.
Души белыми нитками шиты, причём наживую.
Их, до нитки обобранных, чуть прикрывают слова.
А любовь – живодёрня. Люблю – стало быть, освежую.
Губ закушенных кровь. И на плахе твоя голова.
Жизнь – ловушка. Ты ищешь лазейку, какой-нибудь дверцы,
Но заводит в тупик бесконечный её лабиринт.
В стенках клетки грудной детским мячиком мечется сердце,
И не знаешь, какой оно, глупое, выкинет финт.
* * *
Так беспоследственно и бесполезно
То, что в душе я ношу.
Блажью назвать это или болезнью?
Данью ли карандашу?
Скрыть – невозможно, сказать – безнадёжно,
Молча потупить глаза.
Истину ты никогда не найдёшь, но
Знают её небеса.
Кровно, кроваво, нерасторжимо
Свяжут души миражи.
Что с этим в жизни делать, скажи мне?
Что с этим сделает жизнь?
* * *
He малодушие-великодушие
Эти слова заставляет обрушивать.
Просто душа, что хранит на плаву,
И безвоздушность, в которой живу.
Мне не хватило какой-нибудь малости –
Чуточку смелости, капельки жалости.
Я отступила, в себе унося
Острое лезвие слова "нельзя".
Всё разметало ветров дуновением,
Но и под слоем глухого забвения
Что-то живёт, не проходит, болит
И позабыть до конца не велит.
Я прислоняюсь к тебе, словно к дереву.
Пол не причём. Только сердце. Поверь ему.
Слов листопад, снегопад, звездопад.
Всё невпопад, невпопад, невпопад...
* * *
Наверно, ослепил неон...
Мне показалось вдруг,
Что ты мне друг, а ты – не он.
Я обозналась, друг.
Не просыхаю от утрат.
Все в чёрном зеркала.
Ты мне не друг, ты мне не брат.
Такие, брат, дела.
* * *
Ты – то, с чем я справилась. Сердца бойня
Закончилась – скоро год.
От первой листвы ещё чуточку больно,
Но это пройдёт, пройдёт.
Июль целебной травою залечит,
Сентябрь зальёт дождём.
Зима похоронит, увековечив
Своим ледяным литьём.
Я сердцу скомандовала: "хватит!",
Стать смирным ему велев.
Теперь оно как оловянный солдатик,
Что утром нашли в золе.
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/212523.html
|
|
Понравилось: 1 пользователю
Жалость |
Из старых стихов

* * *
Не обида больно ранится,
Не болезнь терзает плоть –
С нежностью никак не справиться,
Жалость не перебороть.
Сестры единоутробные,
Одинаков ваш звонок.
"Дитятко моё голодное..."
"Не ушибся ли, сынок?"
Страсть оставит равнодушною,
Речи, полные тоски,
Но не шея золотушная,
Не дырявые носки.
Вывернув всю подноготную,
Загрызут тебя, поверь,
Нежность – страшное животное,
Жалость – беспощадный зверь.
* * *
Детской слабостью твоей обезоружена,
Всё гадаю: кем ты будешь, кто ты есть
В этой жизни сумасшедшей, обездушенной,
Под названием "Палата № 6"?
Будешь к Бахусу кидаться за защитою
И судьбе своей препятствия чинить.
Будешь рёбрышки гитары пересчитывать,
Будешь перышки гусиные чинить.
Пусть бы музок легион на шею вешалось,
Пусть сердчишки разбивал бы им шутя, –
Что угодно, чем угодно пусть бы тешилось,
Только б лишь оно не плакало, дитя.
***
Несбыточен быт, безнадёжна надежда,
Давно обносилась худая одежда,
Во рту – ни росинки, в кармане – ни гроша,
С душою бродяги – Вийона, Гавроша,
Бредёт он по жизни, Всевышним отмечен,
И строк жемчуга свои под ноги мечет.
Но люди их топчут бездумно и тупо,
И жёлуди предпочитают под дубом.
* * *
О своём я уже не заплачу,
Но не видеть бы мне на земле
Золотое клеймо неудачи
На ещё безмятежном челе.
А. Ахматова
Ты – на целую тоску
Старше, больше и богаче.
Я храню твою строку
И порой над нею плачу.
Жизнь иль смерть тебе сестра?
Вижу с болью безутешной
Отблеск адова костра
На челе твоём мятежном.
Мальчик с белых похорон
Без забрала и без кожи...
Ты из тех, других ворон,
Из породы непохожих.
Воспари же над собой,
Над обидой и бедою,
Не сгори в ночи слепой
Оборвавшейся звездою.
Нежность прячется в строфу.
Строчек сбитые коленки...
В синей папке на шкафу
Я храню твои нетленки.
***
Дитя, глупыш, зверёныш, чадо,
прошу тебя, не надо чада,
не надо ада и чертей,
тоски, погоста и смертей.
За что мне небо ниспослало
сиё, иль было горя мало?
Но поняла, что не смогу
на том оставить берегу.
Но в память о родной утрате —
давно погибшем бедном брате —
я поклялась тебя спасти,
из царства теней увести.
Но в память обо всех, кто стынет,
о нерождённом мною сыне,
о всех, кому не помогла,
кого навеки скрыла мгла...
Сто раз я повторяю кряду:
за что ты так себя? Не надо!
Как в пропасть, рухаться в кровать
и со свету себя сживать.
Заморыш, плакса, чудо-юдо,
с тобой до смерти биться буду
за душу бедную твою
у чёрной бездны на краю.
***
Дорожу твоей жизнью, нелепой такой,
на которую сам ты махнул уж рукой.
И дрожу, как над слабым огарком свечи.
Но поэты — по Герцену — боль, не врачи.
Закую, заплету её в ямб и хорей -
пусть оставит, отпустит меня поскорей.
Что там? Синий троллейбус? Безумный трамвай?
Я тебя заклинаю: живи, оживай!
***
С этим нежности грузом в груди тону,
мне не справиться с ним никак.
Стопудовая жалость идёт ко дну
о двух вытянутых руках.
Покидая земной ненадёжный кров,
я вливаюсь в речной поток,
осязая потусторонних миров
обжигающий холодок.
* * *
Ты весь – как заросший, запущенный сад,
Откуда уже нет дороги назад.
Запущенный шарик в земной непокой
В небесном угаре Всевышней рукой.
Игрушка на ёлке, кружась и слепя,
Напомнит, как в детстве дразнили тебя.
Но кокнулся шарик – такие дела.
И трещина та через сердце прошла.
Заплаканный мальчик поёт о весне,
Но падает белогорячечный снег.
Деревья, как демоны, встав на пути,
Пророчут, что выход уже не найти.
Душа-побирушка, бобылка-душа,
Всегда за тобой ни кола, ни гроша.
Но снова ты голубем рвёшься в полёт,
Где ангел невидимый в ризах поёт.
***
А что осталось? В общем, ничего.
По крохам соберу — такая малость...
Но что-то вопреки всему живо.
Печаль и свет. И отчего-то жалость.
Найдёныш, несмышлёныш, сирота.
Сиянье нимба божеского дара.
Юродивая песенка у рта
под треньканье истерзанной гитары.
Дым сигареты. Истина в вине.
Судьбы немилосердные уроки.
«Нет, я не лгу — лжёт память обо мне!» -
ударом тока ранящие строки.
Лги, память, лги! Безудержней, нежней!
Показывай, что хочется увидеть.
Обманчивой, ей издали видней,
чем близорукой пристальной обиде.
Высвечивай: котельной закуток,
тетрадка, лампа, атлас Ленинграда.
Как сверху мне надписывал листок.
Как я тебе всегда бывала рада.
Трёхлетнюю событий череду,
Гандлевского, Б. Рыжего, Севелу,
в глазах твоих застывшую беду
и — дверцу того шкафчика в аду*,
что запереть я так и не сумела.
* «Каждый сам себе отвори свой ад,
словно дверцу шкафчика в душевой» (С. Гандлевский)
Продолжение здесь
|
|
Понравилось: 1 пользователю
Обида |
из старых стихов

* * *
Меж наших душ, их полярным сиянием
Не поскупился на расстояние
Бог, разведя далеко берега.
Что ж мне дорога твоя дорога?
Я отношусь к тебе вне этих бренностей:
Всяческих нежностей, ревностей, верностей.
Кроме души, ничего не ищу.
Птицу письма в небеса отпущу.
Вновь повторяю и устно, и письменно
Вечные, кем-то избитые истины.
Рвётся душа из графлёных тенет.
Я тебя слышу, а ты меня – нет.
* * *
Я опять пишу тебе в блокноте.
Не трудись, коль мне ответишь ты
Не на той же высшей пробы ноте
Подлинности, правды, чистоты.
Я пишу, рискуя и взыскуя,
Суррогат почуя за версту.
Не тебе я строки адресую –
Богу, чёрту, в прорву, в пустоту.
***
Пишу неизвестно зачем и кому,
Хоть адрес конкретный указан.
То, что просияло звездою сквозь тьму,
Зачем доверяю я фразам?
Звуча потаённо на все голоса,
Оно и без писем известно.
Как бабочки, ангелы и небеса –
Безадресно и повсеместно.
* * *
Меня не обманывали деревья,
Книг хэппи энды, вещие сны.
Зверьё не обманывало доверья,
Птиц предсказанья были верны.
Ни гриб в лесу, ни ромашка-лютик,
Ни родники, что манили пить.
А обманывали только люди,
Которых я пыталась любить.
***
Свеча не горела. Горела, действительно, люстра.
И это было совсем не такого характера чувство.
Оно было просто, буднично и безыскусно.
Хотелось утешить, подбодрить и накормить тебя вкусно.
Хотелось помочь, предостеречь, направить.
Теперь уже ничего не поправить.
Свеча не горела.
Она была бы совсем неуместна.
Но как душа за тебя болела,
не находила места.
Кто-то из мудрых сказал:
«Я верю только тому, кто тонет».
А ты не понял во мне ни аза,
ты так ничего и не понял.
И ведь не Иуда, не какой-нибудь там
Чикатило, –
всего лишь поверивший тем котам-скотам
Буратино.
Купившийся, польстившись на то, что блестит...
Грустная сказка.
Но жизнь когда-нибудь ставит на вид
и срывает маску.
Снимает с глаз пелену, заслон,
и ищешь – где он?
А этот – в ангельских ризах – слон
из мухи сделан.
«Что было после – было зря».
Живи как знаешь, какое мне дело.
Свеча сгорела, не горя.
Перегорело.
***
Бывший друг обернулся врагом.
Не хватает дыхания в лёгких.
Был он близок, а стал незнаком,
променяв твой приветливый дом
на лохань чечевичной похлёбки.
Песнопенья молчат голоса.
Не врачуется дух мой болящий.
Память прежнего ставит впросак,
и как будто двоится в глазах:
так когда же он был настоящий?
И сместились понятия вдруг
из разряда простых и привычных,
размыкая незыблемый круг.
Будь здоров, мой отъявленный друг.
До свиданья, мой враг закадычный.
***
Разбей этот кубок...
А.Фет
А был ли мальчик? Что Гекубе
его фантом?
Что зыбилось в душевной глуби –
покрылось льдом.
Погиб поэт. В моих глазах лишь,
но что с того?
Где чудилась алмазов залежь –
нет ничего.
Разбился кубок. Если даже
его слепить –
я никогда из этой чаши
не стану пить.
* * *
Гроздья грёз, словно майских гроз…
Не нуждается сердце в роздыхе.
Незадавшийся мой вопрос,
Словно радуга, виснет в воздухе.
Не понять мне никак умом,
Что искала в тебе упорно так?
Почему я к тебе письмом,
Как лицом на восход, повёрнута?
Но молчи. Какой с тебя спрос?
Мне дороже свобода вящая,
Никогда никакой вопрос
До ответа не доводящая.
***
Но жаль того огня...
А. Фет
Жизнь движется вперёд, обозначая вехи.
Не жалко мне тебя, не жалко и себя,
а жаль того огня, что в ночь ушёл навеки,
однажды озарив, согрев и ослепя.
Над головой твоей как нимб сияло Слово.
Но случай вырвал вдруг три тонких волоска,
и оказалось, что обман, корысть и злоба –
где виделись беда, обида и тоска.
Ты из чужих краёв, ты из другого теста.
Рассеялся туман, развеяна волшба.
Зияет как провал теперь пустое место,
где чудились миры, и правда, и судьба.
И стала вмиг ясна вся низость голых истин.
Все факты собрались и выстроились в ряд.
Лежат твои листки, как груда мёртвых листьев
и ничего душе уже не говорят.
Просвет между землей и небесами сужен
благодаря тебе. Спасибо за урок
не отворять дверей, не греть чужому ужин,
не верить, не дарить... Надеюсь, что не впрок.
Я стискиваю лоб, зажмуриваю веки.
Я постараюсь быть, хоть не осталось сил.
Прощаю за себя. Но не прощу вовеки
за тот огонь и свет, который ты убил.
http://natalia-cravchenko2010.narod.ru/olderfiles/1/09_No_zhal_togo_ognya.mp3
***
Я отпускаю зонт и не смотрю,
как будет он использовать свободу...
Б. Ахмадулина
Ты зонт не отпустишь, о нет...
А если отпустит прохожий —
поймаешь... Зонт нынче в цене.
Но где же ты прежний, о Боже?!
Кто мог всё отдать и забыть,
с душой, обожжённой запалом,
взахлёб и творить, и любить —
по лужам, по струнам, по шпалам!
Как жизнь обтесала тебя,
под сердце всадив ножевое,
скульптурное что-то лепя,
где плакало тонко живое...
***
А был ли в реальности мальчик?
О да, без сомнения, был.
Но что-то с годами всё жальче
впустую растраченный пыл.
Устала душа возвращаться
к обломкам разбитых корыт.
Она научилась прощаться,
не плача при этом навзрыд.
И чувство, что стало обузой
и грузом, с которым — на дно,
ночами беседует с Музой:
зачем оно было дано?
Кормила души своей кровью,
но волка тянуло в леса.
Застыло из строчек надгробье
над тем, что ушло в небеса.
Раскрытая хлопает дверца
и звук тот разит наповал.
Гнездо опустевшее сердца
зияет как чёрный провал.
***
Не возвращайся к прежним людям
на пепелища прежних чувств.
Сказать себе «давай забудем»
когда-нибудь я научусь.
Ужели вечно панацеей -
одна могила для горба?
Прощения теодицея -
самозащита для раба.
Огранка тех, кто нас ограбил,
не хлеб, а камень клал в ладонь,
и целованье тех же грабель,
и фокусы с живой водой.
Не оживляй его из мёртвых,
кто умер для тебя хоть раз.
Сотри черты, сотри всё к чёрту,
и мир увидишь без прикрас.
***
Из забывших меня можно составить город.
И. Бродский
Имена дорогих и милых -
те, с которыми ешь и спишь,
консервировала, копила
в тайниках заповедных ниш.
И нанизывала, как бусы,
украшая пустые дни,
и сплетала из строчек узы,
в каждом встречном ища родни.
Был мой город из вёсен, песен,
из всего, что звучит туше.
Но с годами теряли в весе
нежность с тяжестью на душе.
Столько было тепла и пыла,
фейерверков и конфетти...
А со всеми, кого любила,
оказалось не по пути.
Отпускаю, как сон, обиды,
отпускаю, как зонт из рук.
Не теряю его из виду,
словно солнечно-лунный круг.
Да пребудет оно нетленно,
отлучённое от оков,
растворившись в крови вселенной,
во всемирной Сети веков.
Безымянное дорогое,
мою душу оставь, прошу.
Я машу на себя рукою.
Я рукою вослед машу.
Будет место святое пусто,
лишь одни круги по воде,
как поблёскивающие бусы
из не найденного Нигде.
Я немного ослаблю ворот,
постою на ветру крутом
и - опять сотворю свой город
из забывших меня потом.
Продолжение здесь
|
|
Понравилось: 2 пользователям
Рисунок дня |
Из новых стихов

***
Мёртвый голубь под моим балконом,
ветка вяза, бьющая в окно...
О себе напомнило уколом
что-то позабытое давно.
Выхожу из дома, как из комы,
и брожу, рисунок дня лепя.
Я с собою будто незнакома.
Я так мало знаю про себя.
Всё носила, как цветок в петлице,
на губах заветное словцо.
Так оно хотело в мир излиться,
даже проступало сквозь лицо.
То ли ангел райский, то ли кондор
душу нёс в объятиях, когтя,
в небесах очерчивая контур,
за которым всё, что без тебя.
Если бы когтями было можно
в прошлое вцепиться посильней
и втащить сюда его безбожно,
вырвав из кладбищенских камней!
Что-то мне привиделось сегодня.
Что-то засветилось над травой.
О судьба, бессмысленная сводня!
Мёртвый голубь, ангел неживой.
Но сквозь все запреты и потери
я в ночи твой облик сторожу
и держу распахнутыми двери,
окна все раскрытыми держу.
И поскольку ты во мне отныне
так сияешь радугой в тиши,
я должна лелеять как святыню
оболочку тела и души.
***
В эту дырявую насквозь погоду
я как под душем бродила одна,
в улицу, словно в холодную воду,
погружена, никому не видна.
Жизнь потемнела, всё кончено будто.
Встали деревья, дома, чтоб уйти.
Дождь моросящий следы мои путал
и зеркала расставлял на пути.
Всё приводил он собою в движенье,
правдою жеста зачёркивал ложь.
Дождь с необычным воды выраженьем,
чистым и синим сверканием луж.
И открывались мне улиц улики,
встречной улыбки несмелый цветок...
Блики на лицах, пречистые лики,
капелек хлебет и струй кровоток.
В лунную глубь человеческой ночи
падало с неба как в руки ранет,
противореча, переча, пророча -
влажное да - пересохшему нет.
***
Как бы жизнь ни точила резцов,
суетнёю мышиной ни грызла, -
я живу, улыбаясь в лицо
тупорылого здравого смысла.
Постигая секреты пружин,
что владеют, незримые, вами,
прищемила не палец, а жизнь,
и теперь истекаю словами.
Чтобы ими растапливать лёд,
добавляя то соли, то перца,
ускоряющих бег и полёт
низкокрылого вашего сердца.
***
Писать без удержу не лень же,
но — говори — не говори -
всегда слова на номер меньше,
чем настоящее внутри.
Ты прав, навеки прав был, Тютчев,
мысль изречённая бледна.
Как это мучит, мучит, мучит -
невысказанное сполна.
Слова — за пазухой лисёнком -
мне душу раздирают в кровь.
А если вырвется бесёнком -
то вновь оно не в глаз, а в бровь.
О слов безудержная нежность,
неизречённость бытия!
Несбыточность и неизбежность.
А между ними — жизнь моя.
***
Отвергаю бремя грядок и зарядок,
буду спать и видеть розовые сны.
Отвергаю ненавистный распорядок -
его рамки мне и пресны, и тесны.
Здравствуй, утро! Я стою в оконной раме.
Вот программа моего житья-бытья:
ежедневно исключать себя из правил
и выламывать из рамок бытия!
***
...Как пудрила носик зубным порошком
и мазала губы вареньем,
в трамвае, робея, сидела тишком,
завидуя полным коленям,
стесняясь своих угловатых ключиц,
короткого детского платья,
мечтая, когда же мне явится принц,
и я ему брошусь в объятья.
Как мы говорили бы с ним до зари,
в глаза бы другу другу глядели...
Когда же я вырасту, чёрт побери,
и стану красавицей в теле?..
Теперь же в трамвае, устало кренясь,
теснима другим поколеньем,
невольную чувствую я неприязнь
к их острым локтям и коленям.
О, стройные ноги от самых бровей!
К груди прижимаю покупки
и, тихо вздыхая, стесняюсь своей
вдруг ставшею тесною юбки...
Звонок себе в 20 век
Я звоню ей по старому номеру в вымерший век
(убираясь, нашла в телефонной заброшенной книжке).
И встаёт, проступая сквозь темень зажмуренных век,
всё, что было со мной, отсечённое жизнью в излишки.
Ни работы-семьи, не волшебник, а только учусь...
Неумеха, оторва, влюблённая девочка, где ж ты?
Ненадолго себя покидая, в тебя отлучусь -
подышать свежим воздухом детства и глупой надежды.
В этом городе юном, где нету снесённых домов,
а все улочки прежних названий ещё не сменили,
всё свершалось бездумно по воле нездешних умов -
по какой-то волшебной нелепой всевидящей силе.
Непричёсаны мысли, расхристанны чувства и сны.
Два сияющих глаза из зеркала с жаждой блаженства.
Это я — то есть ты — в ожидании первой весны,
в предвкушении самого главного взгляда и жеста.
Там витало рассветное облачко радужных грёз,
облачённых не в слово ещё, а в бурлящую пену.
Много позже подступят слова, что из крови и слёз,
и свершат роковую в тебе и во мне перемену.
Лишь порою напомнят бегущей строкою дожди,
как потом было поздно, светло и безвыходно-больно.
«Не туда ты идёшь, не тому ты звонишь, подожди!» -
я кричу сквозь года, но не слышит за толщей стекольной.
И не слушает, как и тогда — никогда, никого,
выбегая к почтовому ящику десять раз на день.
И мне жаль той тоски, за которой потом — ничего.
И мне жаль этих слов в никуда, этих слёз-виноградин.
Я шепчу ей бессильно, что будет иная пора,
будут новые улицы, песни и близкие лица.
«Это лишь репетиция жизни, любви и пера,
это всё никогда, никогда тебе не пригодится!»
Только что им, с руками вразлёт, на беду молодым,
различить не умеющим в хмеле горчинки и перца!
А излишки ушедшего, жизнью отсеянных в дым,
ощущаешь сейчас как нехватку осколочка сердца.
Натянулись, как нервы, незримые нити родства,
сквозняком нежилым — из неплотно захлопнутой двери...
Почему-то мне кажется, девочка эта жива,
только адрес её в суматохе отъезда утерян.
Коль замечу, что почву теряю, в тревоге мечусь,
наберу старый номер в тоске ожиданья ответа.
Оболочку покинув, в былую себя отлучусь -
подышать чистым воздухом детства, надежды и света.
***
Уютный комнатный мирок
с родными старыми вещами,
без обольщений и морок,
из сердца вырванных клещами.
Отброшен гаршинский цветок,
не надо ран очарований!
Мой домик, угол, закуток,
что может быть обетованней?
Принять неспешный твой уклад,
тонуть в тепле облезлых кресел
и на домашний циферблат
глядеть без Батюшковой спеси.
На коврик, чашки, стеллажи
сменить бездомность и огромность.
Не Блоковские мятежи,
а Баратынского укромность.
О здравствуй, снившийся покой!
Ты наконец не будешь сниться!
Утешь меня и успокой
в ладонь уткнувшейся синицей!
Повисло облака крыло -
прощай, мой путеводный пастырь!
На всё, что мучило и жгло -
налепим стихотворный пластырь.
Уходит завтра во вчера
без жертв, без жестов и без тостов.
Дней опадает мишура
и остаётся жизни остов.
И пусть из зеркала не ты
глядишь, какой была когда-то.
Закроет бреши темноты
заката алая заплата...
Ну что, купились? Я смеюсь.
Сменю ли крылья на копыта?
Всё, что люблю, чему молюсь -
о, не забыто, не забыто!..
***
Мне кажется, что я живу неправильно,
ни чёрту кочерга, ни богу свечка.
Боюсь, сие уже неоперабельно.
Чего-то там произошла утечка.
И вроде небольшая в жизни трещина,
но всё через неё ушло по сути.
На дне ещё недавно что-то брезжило,
и вот один огонь в пустом сосуде.
На что мне эта окись и окалина!
Всё выжжено от края и до края.
А я б его сменяла на бокал вина,
где истина нетрезвая играет.
***
Как собрать себя в кучку, размытой слезами,
разнесённой на части любовью и злом,
с отказавшими разом в тебе тормозами,
измочаленной болью-тоской о былом?
И поклясться берёзами, птицами, сквером -
как бы я ни качалась на самом краю,
как бы ни было пусто, беззвёздно и скверно -
я ни тело, ни душу свои не убью.
Как сказать себе: хватит! Довольно! Не надо!
Посмотри на ликующий праздник земной...
Но встают анфилады душевного ада,
и бессильны все заповеди передо мной.
***
я всего лишь пассажир
незапамятного рейса
жизнь отчаянно бежит
по кривым разбитым рельсам
колея ведёт в овраг
кто ты есть в кого не верю
мой вожатый, враг иль враль
господа вы звери звери
мой трамвай идёт в депо -
все сошли, кто ехал рядом
а ведёт его слепой
с мутным брейгелевским взглядом
жизнь короткая как май
засветилось и погасло
Заблудился мой трамвай
Аннушка спешит за маслом.
***
Выжить не чаяла вроде, но
всё ж дожила до весны я.
Вот моя малая родина -
скверы и тропки лесные.
Радость моя изначальная,
в сердце впечатано фото.
Чур меня речь величальная,
пафос квасных патриотов.
Выпита, предана, продана,
но аплодирует клака...
Вот моя тихая родина -
комната, ты и собака.
Столько пришло и отчалило,
но уцелело лишь это.
Не расплескать бы нечаянно
каплю бесценного света.
Звёзд разметало смородину,
взгляд поднебесный бездонен.
Вот моя милая родина -
губы твои и ладони.
***
На стене висела карта мира,
закрывая старые обои.
Сколько мест для зрелищного пира,
где ещё мы не были с тобою!
И уже, наверное, не будем...
Нам не плыть по тем морям и рекам.
Карта наших праздников и буден
на стене застыла оберегом.
Карта улиц первых поцелуев,
перекрёстков рук переплетённых...
Может быть, когда в минуту злую
мне укажут путь они в потёмках.
Комната парит над спящим миром.
У неё в ночи своя орбита...
И пока живём родным и милым,
наша карта всё ещё не бита!
***
Я несчастлива? Я счастлива.
Жизнь застыла у причала.
А вокруг всё так участливо
и внимательно молчало.
Я одна? О нет, единственна!
И совсем не одинока.
С неба чей-то глаз таинственный
на меня глядит в бинокль.
Я замечена... Отмечена...
Здравствуй, канувшее в небыль!
На губах горчинка вечера
и прозрачный привкус неба.
***
Как с полки, жизнь мою достала
и пыль обдула.
Б. Пастернак
За жизнью из окна подглядывать,
о том и не подозревавшей,
её или себя обкрадывать, -
нет, мои будни, я не ваша...
О выводи меня, Нездешнее,
в чарующую флейту дуя,
из повседневного, кромешного
в мир праздника и поцелуя.
Как радугою в небо вхожее,
как звёзд ночное поголовье,
на наши речи непохожее
и не нуждавшееся в слове...
О музыка листа упавшего,
о эти дивные длинноты
аккорда, душу всю отдавшего
за эту маленькую ноту!
Ты не приснился, ты всё тут ещё,
они по-прежнему со мною, -
воспоминания о будущем,
переодетые в лесное...
От туч, нахмуренных опасливо,
от снов злопамятных — подальше,
и непрерывно будешь счастлива,
одета в музыку без фальши,
от постоянного сопутствия
обдутых жизней, снятых с полок,
от постоянного присутствия
мечты, застрявшей как осколок.
Изъять - останется зияние,
норой безрадостной, безвестной.
Пусть лучше танец и сияние,
душекружение над бездной!
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/211853.html
|
|
"Постой, но это же о вечном..." Продолжение |

размышления по поводу статьи Бориса Кутенкова
«Безутешный утешитель» ( Сибирские огни» №7, 2013)
Начало здесь
Григорий Померанц назвал стихи Миллер «поэзией горькой правды». Иногда мороз по коже пробирает от ее строчек:
Спасибо тебе, государство,
Спасибо тебе, благодарствуй
За то, что не всех погубило,
Не всякую плоть изрубило,
Растлило не каждую душу,
Не всю испоганило сушу,
Не все взбаламутило воды,
Не все твои дети – уроды.
В стихах её много мрака, но все это осенено высью. От слов словно идет свечение. И, кажется, чем больше в них земли, тем ближе они к небесам.
А между тем, а между тем,
А между воспаленных тем,
И жарких слов о том, об этом
Струится свет. И вечным светом
Озарены и ты, и я,
Пропитанные злобой дня.
А ощущение света в стихах Миллер возникает во многом благодаря их совершенной, безукоризненной форме – точной рифме, внутреннему звучанию. Восхищает абсолютная законченность стихотворения, соразмерность частей: звуков, смыслов, образов. Это просто какая-то «рукой Челлини ваянная чаша»!
«Вроде бы и лирический дневник, — но «половинчатый», стыдливо избегающий подробностей. Сдержанность оборачивается общими местами, — при избыточной подаче этот стоицизм, вызывающий уважение, начинает утомлять... в случае с Миллер — природная скованность, мешающая «взять» на полтона выше. И тут начинаешь отчасти понимать антипатизантов поэта».
По поводу упрёка в излишней сдержанности, «надличности» её поэзии.
Мне очень нравится, что стихи ее – не «женские», а – общечеловеческие. Есть такая затертая уже фраза (которую Блок сказал Ахматовой), что стихи надо писать не как перед мужчиной, а как перед Богом. Стихи Миллер – именно такие. Они обращены ввысь, минуя посредника в мужском обличье. В них как бы отрезана почва со всем ее мусором, с подробностями личной судьбы, предпочтение отдано целому перед частью, Главному, Сути. Поэтому мир в ее стихах кажется таким незамутненным, кристально чистым и ясным, хотя и не лишенным драматизма. Но с другой стороны, у Ларисы Миллер много конкретного и личного в стихах. Начиная со стихотворения "Встань, Яшка, встань" и кончая массой стихов о детстве, маме, близких, особенно в стихах 1977 года. Есть стихи, где она поднимается над подробностями, а есть и такие, где погружается в них с головой.
«Есть какая-то ирония в том, что последние сборники (как, впрочем, и большинство книг Миллер) выходят в издательстве «Время». Взаимоотношения Ларисы Миллер со временем — в обратной пропорции. Оно — переменчиво, поэт же хранит верность и классической традиции, и собственной манере, игнорируя «актуальные» течения. Времени (а вместе с ним и его отдельным представителям, ценящим «уместность») это, разумеется, неугодно, но что поделать — есть то, что дороже времени».
Отношение к времени у Миллер — это тема особая.
В одном из рассказов Миллер есть описание бессонницы и ощущение хода времени (тиканье часов), которое мучает ее, школьницу, по ночам. Возможно, это было для нее каким-то предчувствием поэтического ритма?
Электронная начинка,
Примитивная починка:
Батарейку заменили,
И часы засеменили.
А они теперь без тика.
Хоть и мчится время дико,
Хоть, как прежде, убывает,
Но бесшумно убивает.
Ни бим-бома, ни тик-така,
Только тихая атака:
Час не стукнул и не пробил,
А подкрался и угробил.
* * *
Постой же, время, не теки.
Постой со мною у реки
Такой медлительной и сонной.
Пусть жизнь покажется бездонной
Упрямым фактам вопреки.
На этом тихом берегу
Поверить дай, что все смогу,
Что ничего еще не поздно,
Что я… «И это ты серьезно?» –
Шепнуло время на бегу.
Позже в интервью Миллер признавалась, что «помешана на времени», что это для неё одно из главных понятий: ход времени, ощущение человека во времени.
Где ты тут, в пространстве белом?
Всех нас временем смывает,
Даже тех, кто занят делом –
Кровлю прочную свивает.
И бесшумно переходит
Всяк в иное измеренье,
Как бесшумно происходит
Тихой влаги испаренье…
* * *
Мы у вечности в гостях
Ставим избу на костях,
Ставим избу на погосте
И зовем друг друга в гости:
«Приходи же, милый гость,
вешай кепочку на гвоздь».
И висит в прихожей кепка,
И стоит избушка крепко,
В доме радость и уют,
В доме пляшут и поют,
Топят печь сухим поленом.
И почти не пахнет тленом.
Существует огромное пространство, в которое мы все заброшены, и несущее нас время. Все, что в стихах Миллер – продиктовано этим. У нее страстное желание во что-то спрятаться: «Под небесами так страшно слоняться./ Надо хоть как-то от них заслоняться».
Куда бежать, как быть, о Боже, –
Бушует влажная листва.
И лишь непомнящих родства
Соседство с нею не тревожит:
Ее разброд, метанье, дрожь,
И шелестенье, шелестенье:
«Ты помнишь? Помнишь? Сном и бденьем
Ты связан с прошлым. Не уйдешь.
Ты помнишь?» Помню. Отпусти.
Не причитай. Не плачь над ухом.
Хочу туда, где тесно, глухо,
Темно, как в люльке, как в горсти.
Где не беснуются ветра,
Душа не бродит лунатично,
А мирно спит, как спят обычно
Под шорох ливня в пять утра.
«Как страшно жить»,– вспомнилась вдруг присказка Ренаты Литвиновой. Но в самом деле, если вдуматься – охватывает чувство экзистенциального отчаяния. Никаких гарантий, никакой внешней защиты!
Погляди-ка, мой болезный,
Колыбель висит над бездной,
И качают все ветра
Люльку с ночи до утра.
И зачем, живя над краем,
Со своей судьбой играем,
И добротный строим дом,
И рожаем в доме том.
И цветет над легкой зыбкой
Материнская улыбка.
Сполз с поверхности земной
Край пеленки кружевной.
Это отголоски прозы её любимого Набокова: «Колыбель качается над бездной. Заглушая шепот вдохновенных суеверий, здравый смысл говорит нам, что жизнь – только щель слабого света между двумя идеально черными вечностями. Разницы в их черноте нет никакой, но в бездну прижизненную нам свойственно вглядываться с меньшим смятением, чем в ту, к которой летим со скоростью четырех тысяч пятисот ударов сердца в час» («Дар»). Основное чувство от поэзии Ларисы Миллер – это ощущение хрупкости и непрочности бытия.
Такой вокруг покой, что боязно вздохнуть,
Что боязно шагнуть и скрипнуть половицей.
Зачем сквозь этот рай мой пролегает путь,
Коль не умею я всем этим насладиться.
… И давит, и гнетет весь прежний путь людской
И горький опыт тех, кто жил до нас на свете,
И верить не дает в раздолье и покой
И в то, что мы с тобой избегнем муки эти;
И верить не дает, что наша благодать
Надежна и прочна, и может длиться доле,
Что не решит судьба все лучшее отнять
И не заставит вдруг оцепенеть от боли.
Все так невечно, зыбко, разрушительно в этом мире… Но и одновременно очень весомо и значимо. Каждая частица бытия связана невидимыми нитями с чем-то, чего не увидишь глазами, но что является смыслом и сутью всего видимого, явного, что «знает из опыта» наша генетическая память.
Как будто с кем-то разлучиться
Пришлось мне, чтоб на свет явиться…
И шарю беспокойным взором
По лицам и земным просторам…
* * *
И замысел тайный еще не разгадан
Тех линий, которые дышат на ладан,
Тех линий, какими рисована быль.
И линии никнут, как в поле ковыль.
Мелок, ворожа и танцуя, крошится,
И легче легчайшего жизни лишиться.
Когда и не думаешь о роковом,
Тебя рисовальщик сотрет рукавом
С туманной картинки, начертанной всуе,
Случайно сотрет, чей-то профиль рисуя.
* * *
Наш рай земной невыносим.
На волоске с тобой висим…
Пронзительное понимание того, что «жизнь и любовь не прочней волоска», почти физиологическое ощущение бездны, которая буквально в двух шагах. Точно идешь по очень тонкому льду и можешь рухнуть. Иные творческие натуры сами ищут этой потерянности в бездне, упоения на ее краю. Миллер не ищет. Но она сама находит ее.
Ты сброшен в пропасть – ты рожден.
Ты ни к чему не пригвожден.
Ты сброшен в пропасть – так лети.
Лети, цепляясь по пути
За край небесной синевы,
За горсть желтеющей травы,
За луч, что меркнет, помелькав,
За чей-то локоть и рукав.
Существует мнение – его придерживается, например, Станислав Рассадин, что гармоническое начало ушло из искусства едва ли не сразу после смерти Пушкина. Трудно с этим согласиться, держа в руках книгу Миллер.
Есть удивительная брешь
В небытии. Лазейка меж
Двумя ночами. Тьмой и тьмой…
* * *
Существование на грани
Невесть чего. Исхода нет.
Любовь? Она лишь стылый след.
Покой? Но он нам только снится.
Так что же есть? Небесный свет,
В котором облако и птица.
* * *
Между облаком и ямой,
Меж березой и осиной,
Между жизнью лучшей самой
И совсем невыносимой,
Под высоким небосводом
Непрестанные качели
Между Босховским уродом
И весною Боттичелли.
Ее среда обитания – «меж небом и землей», «между облаком и ямой». Пространство метафизическое, эфемерное, пространство, где таится «мерцающий свет, рожденный мгновеньем, которого нет». А что же есть? То, что она силится передать: неуловимое состояние, мимолетное ощущение бытия.
Некто, нечто, дом, калитка,
Сад, готовый отцвести, –
Бесконечная попытка
Скоротечное спасти.
Можно, конечно, выразить дисгармоничность мира какофонией звуков, резкой сменой ритма, изломанной линией метра – и в этом отношении в 20 веке многое было сделано. Но гораздо труднее, находясь внутри этого искореженного, искаженного судорогой боли «страшного мира», увидеть его как бы снаружи, отстраненно, из далекого далека, из невидимого космоса, пронизывающего все обыденное. Эта запредельная пристальность зрения, слуха, всех чувств – главное свойство стихов Ларисы Миллер.
Да разве можно мыслить плоско,
Когда небесная полоска
Маячит вечно впереди,
Маня: «Иди сюда, иди».
Маячит, голову мороча,
Неизреченное пророча,
Даруя воздух и объем,
Которые по капле пьем
Из голубой бездонной чаши.
Отсюда все томленье наше,
Неутоленность и печаль.
Попробуй к берегу причаль,
Когда таинственные дали
Постичь идущему не дали
Ни первым чувством, ни шестым,
Что там, за облаком густым.
Космическое чувство бездны, пространства и связи со всем этим дает ощущение масштаба и защищенности от зацикливания на временном и пустячном. Чем больше хаос, чем злее «злоба дня» – тем больше у нее потребность в гармонии. Стихотворение – это как лодочка, на которой она должна удержаться на плаву.
В тихом омуте черти,
В небесах ангелок.
Ну а мы посерёдке
В неустойчивой лодке
В неизвестность плывём.
Наши вехи нечётки,
Ясен лишь окоём.
Она предпринимает отчаянную попытку ухватиться за что-то в этой неустойчивости, непрочности бытия:
Но в хаосе надо за что-то держаться,
А пальцы устали и могут разжаться.
Держаться бы надо за вехи земные,
Которых не смыли дожди проливные,
За ежесекундный простой распорядок
С настольною лампой за кипой тетрадок,
С часами на стенке, поющими звонко,
За старое фото и руку ребенка.
Поэт чувствует враждебный мир за спиной и – продолжает строить свое убежище от смерти и тлена.
Люби без памяти о том,
Что годы движутся гуртом,
Что облака плывут и тают,
Что постепенно отцветают
Цветы на поле золотом.
Люби без памяти о том,
Что все рассеется потом.
Уйдет, разрушится и канет,
И отомрет, и сил не станет
Подумать о пережитом.
Могуществу разрушения она противопоставляет детское доверие миру.
Хорошего уйма. Хорошее сплошь.
Вот хвост у сороки отменно хорош:
Большой, черно-белый. Такое перо –
Ему бы стоять на старинном бюро,
И если не манна слетает с небес,
То все ж филигранна, воздушна на вес
Снежинка, летящая в снежных гуртах.
И это о радости в общих чертах.
И это два слова про дивный пейзаж,
Про фон повседневный обыденный наш,
Про фон наш обычный. Но, может быть, мы
Являемся фоном для этой зимы,
Для этих сугробов, сорок и ворон.
И терпит картина серьёзный урон,
Когда и летают, и падают ниц
Снежинки на фоне безрадостных лиц.
Первейшая задача поэта, как её понимает Миллер, – гармонизировать хаос и мужественно, достойно пройти земной путь между колыбелью и бездной. И она протягивает нам эту соломинку спасения всем тонущим, руку помощи, фонарик, лучик света, которым освещает мрак и холод бытия.
Тьма никак не одолеет,
Вечно что-нибудь белеет,
Теплится, живёт,
Мельтешит, тихонько тлеет,
Манит и зовёт.
Вечно что-нибудь маячит…
И душа, что горько плачет
В горестные дни,
В глубине улыбку прячет,
Как туман огни.
В благодатных стихах Миллер нет благостности, сусальности, елея. Она – не церковный человек, природное чувство фальши удерживает ее от придуманной веры, но есть в ее стихах и нечто религиозное, если понимать под религиозностью то, что помогает испытать чувство вечности. Или хотя бы намек на это чувство. «А вместо благодати – намек на благодать». Ибо
Все дело в том, что дела нет
Ему до нас. И всякий след
Готов исчезнуть через миг.
Все дело в том, что Светлый Лик
Всегда глядит поверх голов,
Не видя слез, не слыша слов,
Не опуская ясных глаз,
Глядит туда, где нету нас.
* * *
Досадно, Господи, и больно,
Что жизнь Тебе не подконтрольна,
Она течет невесть куда…
В стихах Миллер порой звучат богоборческие мотивы.
О, скольких за собою увлек еще до нас
Тот лик неразличимый, тот еле слышный глас.
Тот тихий, бестелесный, мятежных душ ловец.
Куда, незримый пастырь, ведешь своих овец?
В какие горы, долы, в какую даль и высь?
Явись хоть на мгновенье, откликнись, отзовись.
Но голос Твой невнятен. Влеки же нас, влеки.
Хоть знаю – и над бездной Ты не подашь руки,
Хоть знаю – только этот почти неслышный глас –
Единственная радость, какая есть у нас.
Но ей удается выразить и почти библейскую радость, рассказывая, как сотворены стихи.
Когда Господь на дело рук
Своих взглянул, и в нем запело
Вдруг что-то, будто бы задело
Струну в душе, запело вдруг…
«И с той поры/ трепещет рифма, точно пламя,/ рожденное двумя словами/ в разгар божественной игры».
Я опять за своё, а за чьё же, за чьё же?
Ведь и Ты, Боже мой, повторяешься тоже,
И сюжеты Твои не новы,
И картинки Твои безнадёжно похожи:
Небо, морось, шуршанье травы…
Ты – своё, я – своё, да и как же иначе?
Дождь идёт – мы с Тобою сливаемся в плаче.
Мы совпали и как не совпасть?
Я подобье Твоё, и мои неудачи –
Лишь Твоих незаметная часть.
Наверное, это и есть подлинное религиозное чувство, гармоническое ощущение Бога в себе и себя в Божьем мире.
Что за жизнь у человечка:
Он горит, как Богу свечка,
И сгорает жизнь дотла,
Так как жертвенна была.
Он горит, как Богу свечка,
Как закланная овечка
Кровью, криком изойдёт
И утихнет в свой черёд.
Те и те, и иже с ними;
Ты и я горим во Имя
Духа, Сына и Отца –
Жар у самого лица.
В толчее и в чистом поле,
На свободе и в неволе,
Очи долу иль горе –
Все горим на алтаре.
Мне очень дорога непоказная, целомудренная душевность и человечность стихов Ларисы Миллер. Она непритворно болеет за всё живое, и в её присутствии чувствуешь себя уже не так одиноко и заброшенно. Поэт тянет руки к Богу, но тут же оглядывается и протягивает их ниже – к ближним, дальним, сирым, несчастным.
Так и маемся на воле,
Как бездомные.
То простые мучат боли,
То фантомные.
Ломит голову к ненастью,
В сердце колики…
Сядем, братья по несчастью,
Сдвинув столики.
Сдвинем столики и будем
Петь застольную,
Подарив себе и людям
Песню вольную,
Все болезненное, злое
И дремучее,
Переплавив в неземное
И певучее.
Это её способ жить, возможность сопротивления злу и хаосу. Мир природной красоты – её оплот, плот, на котором она спасается и помогает спастись другим. Это уже не стихотворчество – это жизнетворчество.
Поэзия Ларисы Миллер открывает нам тайны нашей собственной запутанной жизни. Сколько бед мы несём в себе сами своей глухотой, слепотой к ближнему, сколько бед от непонимания себя и других.
Несовпадение, несовпадение…
О, как обширны земные владения,
О, как немыслима здесь благодать.
Как ненавязчиво Божье радение,
Сколько причин безутешно рыдать.
Жаждешь общения – время немотное.
Жаждешь полёта – погода нелётная.
Жаждешь ответа – глухая стена,
Воды стоячие, ряска болотная,
Да равнодушная чья-то спина.
* * *
Смертных можно ли стращать?
Их бы холить и прощать,
Потому что время мчится
И придется разлучиться,
И тоски не избежать.
Смертных можно ль обижать,
Изводить сердечной мукой
Перед вечною разлукой?
В сущности, это перекличка с цветаевским: «Послушайте! Еще меня любите за то, что я умру!». Но если у Марины – эгоцентристская жалость к себе, то у Миллер – мучительная жалость к людям, к их детски неразумной слабости, потерянности, заброшенности, не ведающим, что творят, не сознающим, что жизнь неминуемо и жестоко воздаст им с лихвой за все их грехи и ошибки.
Мы еще и не живём,
И не начали.
Только контуры углём
Обозначили.
Мы как будто бы во сне
Тихо кружимся
И никак проснуться не
Удосужимся.
Нам отпущен воздух весь,
Дни отмерены,
Но как будто кем-то здесь
Мы потеряны.
Нас забыли под дождём –
Мы не пикнули,
Но как будто вечно ждём,
Чтоб окликнули.
Стихи Миллер – как этот оклик, на который невозможно не остановиться, не оглянуться, не вглядеться в себя и в тех, кто рядом, оклик, который рождает благодарный отклик в душе. Чувствуется, что стихи эти писал человек очень честный, мужественный, безгранично добрый к другим и сурово требовательный к себе, человек, внутренне свободный и удивительно здоровый душой, который находит слова, где так органично слились боль и надежда:
Нас годы предают,
Нас годы предают,
Нас юность предаёт,
Которой нету краше,
И птицы, и ручьи
Весенним днем поют
Не нашу благодать,
Парение не наше.
Лети же, юность, прочь,
Я не коснусь крыла
И не попомню зла
За то, что улетела.
Спасибо, что была,
Спасибо, что вольна –
И улетела прочь
Из моего предела.
И я учусь любить
Без крика «подожди!»,
Хоть уходящим вслед
С отчаяньем гляжу я.
И я учусь любить
Весенние дожди,
Что нынче воду льют
На мельницу чужую.
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/210479.html
|
|
Процитировано 9 раз
Понравилось: 5 пользователям
"Постой, но это же о вечном..." (о поэзии Ларисы Миллер) |

размышления по поводу статьи Бориса Кутенкова
«Безутешный утешитель» ( Сибирские огни» №7, 2013)
Начало здесь
Начну с того, что статья мне понравилась — своим скрупулёзным анализом, знанием стихов и прозы Ларисы Миллер, литературы о ней, попыткой разобраться в тончайших нюансах её творчества. Не со всем в ней согласна (об этих неточностях я пишу в комментариях на её странице, поэтому не буду повторяться). Но о многом хотелось бы поговорить подробнее.
Буду приводить те фрагменты статьи, которые меня «зацепили», и — свои размышления по этому поводу.
«Сергей Чупринин задался вопросом о «поэтической норме, имя которой — аутизм» и привёл имена поэтов, «не инфицированных неслыханной сложностью, не отворотившихся от нас, сирых, с гримасой кастового, аристократического превосходства», — в список счастливых исключений можно было бы легко включить и Миллер. Вспоминается и определение Чупринина «миддл-литература», — то есть не синонимичная усреднённости, но сочетающая художественную ценность с ориентированностью на условного «простого» читателя».
Да, стихи Миллер безыскусны, почти аскетичны. «За чертой бедности»,– как она сама с иронией говорит о них. Сколько за последние годы сменилось поветрий, и много раз открывали, что простота кончилась, что она немодна, отстала от века. Но вся эта пена рано или поздно схлынет, как бывало не раз. А чистые и строгие стихи пишутся снова, и ничто их не берет.
В 1996 году, выступая на презентации книги "Стихи и о стихах", Юрий Ряшенцев сказал:" Когда я слушаю стихи Ларисы Миллер, то возникает загадка. Где те средства, которыми она добивается успеха, успеха у меня – читателя?.. Я почти не знаю людей, которые писали бы стихи настолько загадочно. Этот поэтический аскетизм поразителен... " ("Литературная газета", 19 февраля 1997 г.)
А Татьяна Бек в Литгазете в феврале 2000 года ("Отважная весть" - отклик на сборник "Между облаком и ямой") писала: "«Её строгий, чистый, совершенно отдельный голос талантливо противостоит массовке тупика, являясь вестью оглушающе внятной, насущной и отважной».
Стихи Миллер – вне времени и пространства, по ту сторону всего. Их можно было бы писать и в прошлом веке, они возможны и через века. И в то же время эти стихи современны. Более того, они способны остановить время, замедлить его бег. Читая их, хочется жить медлительнее, внимательнее.
Плывут неведомо куда по небу облака.
Какое благо иногда начать издалека
И знать, что времени у нас избыток, как небес,
Бездонен светлого запас, а черного в обрез.
Плывут по небу облака, по небу облака…
Об этом первая строка и пятая строка.
И надо медленно читать и утопать в строках,
И между строчками витать в тех самых облаках.
И жизнь не хочет вразумлять и звать на смертный бой,
А только тихо изумлять подробностью любой.
Или:
Ритенуто, ритенуто,
Дли блаженные минуты,
Не сбивайся, не спеши,
Слушай шорохи в тиши.
Дольче, дольче, нежно, нежно…
Ты увидишь, жизнь безбрежна,
И такая сладость в ней.
Но плавней, плавней, плавней…
Легкость. Невесомость. Непринужденность. Бунинское «легкое дыхание». Это высший пилотаж в поэзии, когда мастерства не видно, его не замечаешь. Поэзия не должна пахнуть потом.
«Не будучи признанной в так называемом «литературном сообществе», Миллер не обладает и широкой популярностью...» - сетует автор, и в то же время приводит в пример вечер Ларисы Миллер, на котором ему довелось присутствовать:
«При этом на одном из редких вечеров Ларисы Миллер — прошедшем весной 2012 года в Малом зале ЦДЛ (место само по себе периферийное, с неоднозначной репутацией и отсутствием внятности в отборе выступающих), — яблоку было негде упасть. Симптоматично, что присутствовали в основном люди, совершенно не имеющие отношения к тому сообществу, о котором шла речь в начале статьи, — а благодарные посетители интернетовского блога поэтессы, которые затем признавались ей в любви, читали неумелые, но трогательные стихи собственного сочинения, произносили искренние слова о том, что её творчество для них является спасительной «аптечкой» (позже, из переписки с поэтессой, я узнал, что кто-то из читателей однажды метко употребил по отношению к ней фразу «безутешный утешитель»). Картина была впечатляющая. С трудом представимая и на вечерах гораздо более востребованных и «авторитетных» фигур».
Автор пишет о «тусовочности, умении коммуницировать с «нужными» людьми и правильно подать себя», предлагая задуматься «о разнице между читательской любовью и «признанностью» в актуальном сообществе».
«...среди «профессионалов» создаётся впечатление пренебрежительного отношения к стихам Миллер как к эстетическому анахронизму и недостаточности критической рецепции. При давней и плодотворной работе — ограниченное количество откликов; имя Миллер редко встретишь в премиальных списках... «Вы сами отмечали, что многим современникам кажетесь старомодной», — это из беседы Инги Кузнецовой с Ларисой Миллер («Вопросы литературы», 2003, № 6).
По поводу «старомодности», в которой порой упрекают Ларису. Кто-то говорил: кратчайший путь – от сердца к сердцу. Наверное, поэзия и есть этот самый путь. Может быть, это звучит старомодно в наш век постмодернизма – игры, пересмешничанья, ерничанья, когда поэзия выполняет совершенно другие функции, но все-таки главным ее критерием всегда был один: нужны ли эти стихи людям? И если нет, то зачем они?
В поэзии Ларисы Миллер я нашла то, чего мне так не хватало в других современных поэтах – разговор о том, как человек справляется с жизнью, как он чувствует себя перед лицом вечности. Я была потрясена невероятной простотой этой поэзии. Она голенькая: ни оборочек, ни рюшечек – стихи из ничего. И при этом так цепляют!
Возвращаемся на круги своя,
Наболевшее от других тая.
А захочется поделиться вдруг,
Не поймет тебя самый близкий друг.
Он и сам в беде, он и сам в тоске,
Он и сам почти что на волоске.
Тянешь руки ты, тянет руки он,
А доносится только слабый стон.
И когда молчим, и когда поем –
Каждый о своем, каждый о своем.
Я читала и соглашалась с каждым словом. Было такое чувство, что не Лариса Миллер делится со мной своими печалями и радостями, а я говорю ее словами, ее мыслями, радостями и печалями. «Кому повем? Кому нужда в моей наживке?» – пишет она, а мне хотелось крикнуть: «Мне! Мне!». Ее стихи стали для меня больше, чем стихи.
«Но позвольте, разве «несовременность» стихов обязательно противоположна критериям художественной ценности? Оценочное ли это вообще понятие? И правомерен ли такой упрёк по отношению к поэту, не гонящемуся за «изменчивой модой»?»
Вот именно. Да, какому-нибудь снобу стихи Миллер покажутся суховатыми, скучными, несовременными. В них не встретишь никакой экспериментальной эквилибристики, никаких неологизмов, стилистических ухищрений, никакого оркестра аллитераций – ничего из того, чем грешит нынешняя поэзия, от чего в ней так устаешь. Устойчивый, в чем-то однообразный ритмический рисунок. Парная рифма, напоминающая дыхание: вдох – выдох, скромная, неброская, не рассчитанная на читательский шок. На ее стихах глаз отдыхает, притом что душа – трудится, работает.
Такая поэзия считается старомодной. Да, она старомодна, если за новомодность принять игру в литературные кубики и шарады. Она старомодна, если старомодны любовь и смерть, детский смех и прозрачный воздух в осеннем лесу.
Поговорим о пустяках,
О том, что не живет в веках,
О том, чего подуй – и нету,
О том, что испарится к лету,
К рассвету, к осени, к весне…
– О чем ты? Говори ясней.
– Я о пустячном, мимолетном,
О состоянии дремотном,
О том, что просыпаться лень,
Как тянет в беспросветный день,
Забыв себя, стать первым встречным…
Постой, но это же о вечном.
Когда читаешь эти стихи – проникаешься внутренней силой. Такая поэзия целительна и животворна. Она для тех, для кого Слово, Живопись, Музыка остались ценностями неизменными.
«Строгая дисциплина стиха становится средством самодисциплины, — потому творчество приобретает смысл почти прагматический («Хоть бы дали инструкцию, как обращаться…»).
Хоть бы памятку дали какую-то, что ли,
Научили бы, как принимать
Эту горькую жизнь и как в случае боли
Эту боль побыстрее снимать.
Хоть бы дали инструкцию, как обращаться
С этой жизнью, как справиться с ней –
Беспощадной и нежной – и как с ней прощаться
На исходе отпущенных дней.
Стихи Миллер и стали для меня такой «инструкцией». Их хотелось выписать, выучить и жить по их «рецептам». В них и молитва:
Ночь метельная была.
Ангел мой, раскрыв крыла,
Обойми меня, закутай,
Не пускай на холод лютый.
* * *
Все зачинает, чтоб вновь погубить.
Ангел мой ласковый, дай долюбить.
И заклинание:
Все переплавится. Все переплавится.
В облике новом когда-нибудь явится.
Нету кончины. Не верь в одиночество.
Верь только в сладкое это пророчество.
Тот, кто был другом единственным, преданным,
Явится снова в обличье неведомом –
Веткой ли, строчкой. И с новою силою
Будет шептать тебе: «Милая, милая».
И утешение:
Ну успокойся, успокойся.
Живи и ничего не бойся.
* * *
Все поправимо, поправимо.
И то, что нынче горше дыма,
Над чем сегодня слезы льем,
Окажется прошедшим днем,
Полузабытым и туманным
И даже, может быть, желанным.
И надежда:
Поверь, возможны варианты.
Изменчивые дни – гаранты
Того, что варианты есть.
* * *
Осенний ветер гонит лист и ствол качает.
Не полегчало коль еще, то полегчает.
Вот только птица пролетит и ствол качнется,
И полегчает наконец, душа очнется.
Душа очнется наконец, и боль отпустит.
И станет слышен вещий глас в древесном хрусте
И в шелестении листвы. Под этой сенью
Не на погибель все дано, а во спасенье.
И руководство к действию:
Ах, не можешь? Надо мочь.
Все твоё – и день, и ночь.
Вот он, день твой, белый, белый.
С этим днем что хочешь делай.
«Эссе Миллер неоценимы для желающих проникнуть в её творческую лабораторию и лучше понять не только жизненные принципы автора, но и стихи. Написанные слегка архаичным языком, на первый взгляд — слишком «человечным» (по сравнению с распространённым наукоидным филологическим воляпюком, который часто маскирует ничтожность анализируемого текста), но затем — единственно правильным. Читаешь — и начинаешь верить в необходимость человеческой сопричастности, недавно казавшейся наивным критерием, выброшенным далеко за оценочный барьер. Вот программное высказывание об отношении к стихам в целом: «Всё в них правильно, всё на месте, а душа моя молчит».
Совершенно верно. Это и для меня главный критерий.
Стихи Ларисы Миллер очень компактны. Четыре – восемь строк. Иногда – двенадцать. Реже – шестнадцать. Как говорил ее любимый Синявский: «Я буду краток, потому что жизнь коротка». Но эти строчки запоминаются сразу, намертво впечатываясь в сознание. Это речь огромной концентрации и напряжения. Миллер хорошо знает, что значит точное слово. На малом плацдарме она ведет большие бои.
Судьбу не надо умолять.
Ты – в окруженье.
В тебя позволено стрелять
На пораженье.
Укрыться где и от кого?
Кругом бойницы.
Нас выбьют всех до одного –
Не уклониться.
Пока для тайного стрелка
Ты служишь целью,
Цветут небесные шелка
И звонкой трелью
Сам соловей пугает тьму,
Сменив кукушку,
И кружит голову тому,
Кто взят на мушку.
* * *
Однажды выйти из судьбы,
Как из натопленной избы
В холодные выходят сени,
Где вещи, зыбкие, как тени,
Стоят, где глуше голоса,
Слышнее ветры и леса,
И ночи черная пучина,
И жизни тайная причина.
Поражает, как в такую лаконичную форму можно вместить бездну глубины содержания. Ведь по сути эти восьмистишия – квинтэссенция жизненной мудрости, их можно было бы развернуть в философские трактаты. В её стихах угадывается влияние античных и христианских авторов, влияние философов-экзистенциалистов и писателей, близких к такому ощущению жизни (Габриэль Марсель, Герман Гессе и др.). Миллер продолжает традиции почти дневниковой философской лирики, которая в русской поэзии восходит к Тютчеву. В одном стихотворении у нее есть такая строчка: «И лежит моя закладка в толстой книге философской». В своей автобиографической прозе она рассказывает, что когда что-то в жизни ее брало за горло, происходили потрясения, с которыми она с трудом справлялась, она начинала читать философов, чтобы разобраться во всем. Она читала китайских, индийских, русских философов, но самым сильным ее впечатлением был Мейстер Экхарт. Он и другие мистики – в частности, исихасты – хотели сохранить Слово ценой молчания, на его грани. Немногословной Миллер это очень близко.
Ждали света, ждали лета,
Ждали бурного расцвета
И благих метаморфоз,
Ждали ясного ответа
На мучительный вопрос.
Ждали сутки, ждали годы
То погоды, то свободы,
Ждали, веря в чудеса,
Что расступятся все воды
И дремучие леса…
А пока мы ждали рая,
Нас ждала земля сырая.
«Штампам поэт, как ни странно это может показаться на первый взгляд, воспевает осанну: это — понятие гораздо более широкое, чем штамп языковой, и связываемое в восприятии Миллер с привычностью, уверенностью в завтрашнем дне. Таковы, по её мнению, «штампы природы». «О мир, твои прекрасны штампы…»
Поэтическая речь Ларисы Миллер непривычно для нас сдержанна. Она словно стесняется пафосности, открытой эмоциональности. «На тьму лирических словес наложим вето»,– пишет она. «Ни цветаевской ярости», ни губановской расхристанности, ни шершавой «плотскости» Т. Бек в ее поэзии не обнаружишь. Миллер не грузит нас своими проблемами, не выворачивает нутро наизнанку, а просто, негромко делится какими-то открывшимися ей вечными истинами. Но так, что истины, увиденные ее незамыленным пристальным взглядом, вдруг начинают сиять заново, помогая ощутить мир в его первобытной прелести.
О мир, твои прекрасны штампы:
То свет с небес, то свет от лампы,
То свет от белого листа…
Прекрасны общие места.
* * *
Неслыханный случай. Неслыханный случай:
Листва надо мной золотистою тучей.
Неслыханный случай. Чудес чудеса:
Сквозь желтые листья видны небеса.
Удача и праздник, и случай счастливый:
Струится река под плакучею ивой.
Неслыханный случай. Один на века:
Под ивой плакучей струится река.
«Мысль о незнании утрат, о творчестве как некоем спасительном приюте, — остаётся с ранних стихов, ещё не лишённых некоторого оттенка общекультурности, но высоко и даже восторженно оценённых Арсением Тарковским. В книгах «Безымянный день» (1977), «Земля и дом» (1986) не к чему придраться: всё математически отлакировано. Есть собственный лирический мир, советская «правильность» размеров и рифмовки. Но и сказать выдающегося о них тоже особо нечего.
Такой вокруг покой, что боязно
вздохнуть,
Что боязно шагнуть и скрипнуть
половицей.
Зачем сквозь этот рай мой
пролегает путь,
Коль не умею я всем этим
насладиться.
Коль я несу в себе сумятицу, разлад,
Коль нет во мне конца
и смуте и сомненью,
Сбегаю ли к реке, вхожу ли
в тихий сад,
Где каждый стебелек послушен
дуновенью.
Классически ясное письмо? Милая созерцательность? Всё это было не единожды — и у Рубцова, и у Владимира Соколова, и у второстепенных поэтов… Это отношение к собственным страданиям как к чему-то постыдному, создание иллюзии, тот самый несвойственный Иванову «самообман». Сам акт творчества в этом мире — не честный взгляд в глаза реальности, а средство эскапизма».
Как сказал о стихах Миллер открывший ее А. Тарковский, «у нее прозрачно-родниковая форма при истинно глубоком содержании». Но как обманчива эта внешняя гладкость и прозрачность! Так в чистой, незамутненной воде просвечивает дно, до которого однако не дотянуться, как ни пытайся. Ее стихи – это ровность и глубина океана. У Шнитке есть концерт для хора, где все очень ровно, там нет глубоких перепадов. Но это такая океаническая глубина смысла и миропонимания!
Неужто два такта всего до конца?
Семь нот в звукоряде. Семь дней у Творца.
И нечто такое творится с басами,
Что воды гудят и земля с небесами.
Поэзия Миллер – это трепет радости и боли одновременно.
Небо к земле прилегает неплотно.
В этом просвете живем мимолетно.
И, попирая земную тщету,
Учимся жизнь постигать на лету.
Чтоб надо всем, что ветрами гасимо,
Стерто, повержено, прочь уносимо,
Духу хватало летать и летать,
И окрыляться, и слезы глотать.
Это – жизнь с ощущением вечной иглы в сердце.
Дни текли. Душа алкала.
Кошка с блюдечка лакала.
В небе плыли облака
Далеко, издалека.
Ни в четверг, ни в воскресенье
Не нашла душа спасенья.
Кошка с блюдечка пила,
Тучка по небу плыла,
Проплывала в небе синем…
Нынче здесь, а завтра сгинем,
Кошке сливочек налив
И души не утолив.
"Истинно миллеровское, — то, что в её поздней лирике приобретёт черты едва ли не аутотренинга, — проявляется скорее на уровне психологической интенции, минуя индивидуальные ритмические и стилистические ходы".
Лариса Миллер признавалась, что ее стихи очень часто – как бы заклинания от обратного: «На самом деле все плохо, а я себе говорю: скажи, что жить легко!» Стихи часто построены как обращение к себе, самоуговаривание, урок. По сути это своеобразный аутотренинг: «я спокоен, я спокоен…». И вдруг прорывается: «День придет, и дожди будут литься,/ И распустятся вновь лепестки./ Будут петь оголтелые птицы/ В день, когда задохнусь от тоски». И эта «проговорка» – у нее так редки стихи от первого лица – обжигает прозрением, что ей не так уж легко и безмятежно живется.
За внешней простотой формы и видимой легкостью слога многие не способны увидеть драматизма и глубины содержания. Ведь в том-то и чудо, и ужас, что «вроде просто – дважды два, щи да каша, баба с дедом, а выходит, что едва мир не рухнул за обедом», что в ее строчках «прозрачнейшие дни вдруг взрываются, как мина». Поэтическая сущность Миллер вовсе не благостна, в ней есть и щемящий трагизм человеческого бытия, и тоска, и страх смерти, и безотчетная тревога, и отчаяние: «Дело, кажется, пахнет психушкой».
Идет безумное кино
И не кончается оно.
Творится бред многосерийный.
Откройте выход аварийный.
Хочу на воздух, чтоб вовне,
С тишайшим снегом наравне,
И с небесами, и с ветрами,
Быть непричастной к этой драме,
Где все смешалось, хоть кричи.
Бок о бок жертвы, палачи
Лежат в одной и той же яме
И кое-как, и штабелями.
И слышу окрик: «Ваш черед».
Эй, поколение, вперед!
Явите мощь свою, потомки.
Снимаем сцену новой ломки.
* * *
…Все канет со временем. Помни одно:
И хуже бывает.
Но время, которое лечит, оно
Увы, убивает.
Продолжение здесь.
|
|
Процитировано 7 раз
Понравилось: 5 пользователям
"О, как убийственно мы любим!.." Часть четвёртая |
Начало здесь

Это было время страшного, беспощадного, неумолимо-отчаянного раскаяния, которое столько раз предрекала ему она. Тютчев жестоко укорял себя, что в сущности именно он сгубил её тем двусмысленным положением, в которое поставил. Иногда казалось, - ещё чуть-чуть — и рассудок не выдержит самоистязания. Ничто не излечивало от душевного недуга, не выводило из состояния страшного одиночества. Не спасло и бегство из Петербурга — сначала в Женеву, потом в Ниццу. В те дни на Лазурном берегу он напишет:
О, этот Юг, о, эта Ницца!..
О, как их блеск меня тревожит!
Жизнь, как подстреленная птица,
Подняться хочет - и не может...
Нет ни полета, ни размаху-
Висят поломанные крылья,
И вся она, прижавшись к праху,
Дрожит от боли и бессилья...
Нигде он не мог спастись от самого себя... Тютчев пишет дочери Дарье: «Не было ни одного дня, который я не начинал бы без некоторого изумления, как человек продолжает ещё жить, хотя ему отрубили голову и вырвали сердце».
Он испробовал всё: стихи, много значившую в его жизни политику, все виды самообмана. Ничто не помогало. Елена не отпускала его, выматывала душу не «тоской желаний», как некогда было с ним после другой страшной потери, а безнадёжностью запоздалого раскаянья. С той виной он сумел сжиться, потому что был ещё молод. А 60-летнему человеку не уйти от содеянного, не обмануть себя надеждой на искупление.

Есть и в моем страдальческом застое
Часы и дни ужаснее других...
Их тяжкий гнет, их бремя роковое
Не выскажет, не выдержит мой стих.
Вдруг все замрет. Слезам и умиленью
Нет доступа, все пусто и темно,
Минувшее не веет легкой тенью,
А под землей, как труп, лежит оно.
Ах, и над ним в действительности ясной,
Но без любви, без солнечных лучей,
Такой же мир бездушный и бесстрастный,
Не знающий, не помнящий о ней.
И я один, с моей тупой тоскою,
Хочу сознать себя и не могу -
Разбитый челн, заброшенный волною,
На безымянном диком берегу.

Он пишет стих-реквием по Денисьевой, где его мольба Богу прозвучала как вызов:
О господи, дай жгучего страданья
И мертвенность души моей рассей:
Ты взял ее, но муку вспоминанья,
Живую муку мне оставь по ней, -
По ней, по ней, свой подвиг совершившей,
Весь до конца в отчаянной борьбе,
Так пламенно, так горячо любившей,
Наперекор и людям и судьбе, -
По ней, по ней, судьбы не одолевшей,
Но и себя не давшей победить,
По ней, по ней, так до конца умевшей
Страдать, молиться, верить и любить.
А в августе 1865 года Тютчев создаёт одно из высших своих творений, названное им очень просто: «Накануне годовщины 4 августа 1864 года».
Это была первая годовщина смерти Елены. Утром он выехал из Москвы в Овстуг по Калужской дороге.
Вечером, пока на одной из станций перепрягали лошадей, он пошёл вперёд по дороге. И в такт шагам сами собой слагались строчки:
Вот бреду я вдоль большой дороги
В тихом свете гаснущего дня,
Тяжело мне, замирают ноги...
Друг мой милый, видишь ли меня?
Все темней, темнее над землею -
Улетел последний отблеск дня...
Вот тот мир, где жили мы с тобою,
Ангел мой, ты видишь ли меня?
Кажется, во всей русской поэзии не найдётся стихотворения проще и обыденней, чем это. Оно написано совершенно простой, будничной речью, но именно эта простота и создаёт ощущение какой-то детской беспомощности, покинутости, жалобности. Перед нами как будто не стихотворение о скорбном событии в жизни поэта, а само это событие, не рассказ, о том, что он пережил, а само это переживание, и в этом тайна гениального обаяния и силы такого внешне бесхитростного стихотворения. Никакой позы, сгущённого драматизма, поэтической риторики. Душа стала словом и выражала себя напрямую.
Завтра день молитвы и печали,
Завтра память рокового дня...
Ангел мой, где б души ни витали,
Ангел мой, ты видишь ли меня?
Спустя несколько лет Тютчев пишет в письме Георгиевскому: «Не живётся, мой друг, не живётся. Гноится рана, не заживает...» Он пишет письмо жене, находившейся в Германии, в котором намёками сообщает о случившемся.

вторая жена Тютчева Эрнестина (слева) с дочерью Марией
В ответном письме жена позвала мужа к себе.

Высота души этой женщины была поразительна. Она ни разу ни в чём не упрекнулаТютчева. «Его скорбь, - говорила она, - для меня священна, какова бы ни была её причина».
Эрнестина всегда считала, что любовь мужа к Денисьевой — это возмездие Бога за то, что когда-то она в свою очередь украла любовь поэта у его первой жены, и со смирением принимала эту божью кару.
Уже в последний год своей жизни Тютчев, преисполненный чувства благодарности к жене, посвящает ей такие строки:

Всё отнял у меня казнящий Бог:
здоровье, силу воли, воздух, сон.
Одну тебя при мне оставил Он,
чтоб я Ему ещё молиться мог.
Дочь Анна писала об отце, что «его горе всё увеличивалось, переходило в отчаянье, которое было недоступно утешением религией». Всем казалось, что поэту самому недолго осталось жить. Это было медленное умирание, затянувшаяся агония, которая длилась ещё девять лет.

А жизнь продолжала наносить удары. Через год после смерти Денисьевой в 1865-ом умирает от чахотки её дочь, 14-летняя Лена.

А на следующий день — годовалый Коля. Оставшегося сына Федю Тютчев упросил взять к себе старшую дочь Анну. Он положил капитал на его счёт, определил в военное училище. Фёдор Фёдорович Тютчев стал офицером и военным писателем, участвовал в русско-японской и в I-й мировой войне, был награждён многими боевыми орденами и умер в звании полковника от ран в 1916 году (в 55 лет) в прифронтовом госпитале.

Ф. Ф. Тютчев, незаконнорожденный сын поэта, русский офицер, журналист и писатель, герой Первой мировой войны.
В 1866 году Тютчев хоронит свою мать, в 1870-м умирает старший сын поэта Дмитрий и единственный брат Николай. Возвращаясь с похорон брата, Тютчев пишет стихотворение:
Дни сочтены, утрат не перечесть,
живая жизнь давно уж позади.
Передового нет, и я как есть
на роковой стою очереди.
Но он ошибся. «На очереди» была ещё смерть младшей дочери Марии Бирилёвой, умершей от чахотки 2 июля 1872 года за границей...

Мария Бирилёва, урождённая Тютчева
В 1868 году (за два года до смерти) Иван Аксаков предпринял новое издание книги стихов Тютчева (всего лишь второй при его жизни). Поэт, как он сам признал, «дал своё согласие из чувства лени и безразличия».

Всех, кто близко знал Тютчева в его последние годы, поражала его свобода от груза лет. Груз пережитого, казалось, совсем на сказался на его внешнем облике. И. Аксаков писал об этом: «Кроме внешних примет, Тютчев казался как бы непричастным действиям возраста: до такой степени не было ничего старческого ни в его уме, ни в духе. Никто никогда не относился к нему как к старику». На плотно сжатых губах блуждала грустная ироническая улыбка, а глаза, задумчивые и печальные, смотрели сквозь стёкла очков загадочно, как будто что-то прозревая впереди.

Однако поэту было суждено пережить ещё одну любовь. Правда, это была скорее иллюзия любви, желание заполнить душевную пустоту. Это была баронесса Елена Богданова, с которой Денисьева училась вместе в Смольном институте.

Она носила то же имя, и судьба её во многих отношениях совпадала с её судьбой. Тютчев знал её давно и после смерти возлюбленной искал возможности поговорить о ней с хорошо знавшей её подругой.

С конца 1865 года поэт начал постоянно встречаться с Богдановой. Это была высокообразованная незаурядная женщина, её друзьями были Гончаров, Апухтин, Яхонтов, отношения с ней у Тютчева продолжались до конца его жизни. Дочь Дарья писала сестре Екатерине о 70-летнем отце: «Бедный папа потерял голову. Страсть как будто бичует его. Эта особа пытает его медленным огнём».
Но в жизни поэта суждено было появиться ещё одной женщине, сердечное чувство к которой он испытал на склоне лет. Это Александра Васильевна Плетнёва, вдова известного критика и поэта, издателя «Современника» П. А. Плетнева. Известный юрист Кони называл её «пассией» Тютчева.
После похорон поэта Плетнёва писала подруге: «Писать о нём как о прошедшем ещё не терпит душа. Он так много занял места в моей жизни».
Но не Богдановой и не Плетнёвой было суждено вдохновить Тютчева на лучшие поэтические шедевры любовной лирики. Сокровенная жизнь поэта по-прежнему принадлежала Елене Денисьевой.

Через четыре года после её смерти он напишет:
Опять стою я над Невой,
И снова, как в былые годы,
Смотрю и я, как бы живой,
На эти дремлющие воды.
Нет искр в небесной синеве,
Все стихло в бледном обаянье,
Лишь по задумчивой Неве
Струится лунное сиянье.
Во сне ль все это снится мне,
Или гляжу я в самом деле,
На что при этой же луне
С тобой живые мы глядели?
В декабре 1872 года с Тютчевым случился удар (инсульт). Врачи рекомендовали ему покой, запрещали читать, думать. Но когда 28 декабря умер в изгнании один из главных врагов России, инициатор Крымской войны Наполеон III, Тютчев не смог не откликнуться на это событие.

И стихи эти явились главной причиной его второго удара. Сочинялись они с невероятным трудом: не повиновались звуки, рифмы, мысли. С огромным напряжением он всё же сделал эту работу, отнёс стихи в редакцию газеты. А на следующий день с ним случился второй инсульт. Его привезли домой разбитого параличом.
Узнав о болезни, царь изъявил желание навестить поэта, но тот заметил с присущим ему юмором, что «это приводит его в большое смущение, так как будет крайне неделикатным, если он умрёт на другой же день после царского посещения».
После третьего удара доктора уверяли, что Тютчеву осталось жить день-два. Он прожил ещё три недели. Последним его стихотворением было это:
Если смерть есть ночь, если жизнь есть день —
Ах, умаял он, пестрый день, меня!..
И сгущается надо мною тень,
Ко сну клонится голова моя...
Обессиленный, отдаюсь ему...
Но всё грезится сквозь немую тьму —
Где-то там, над ней, ясный день блестит
И незримый хор о любви гремит...
Последние его слова были: «Я исчезаю, исчезаю!»
Ранним утром в воскресенье 27 июля 1873 года Фёдор Иванович Тютчев скончался в Царском Селе в возрасте 70 лет. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Петербурге.

Семейное захоронение Тютчевых в Петербурге. Фото 1993 года.

Могила Тютчева

памятник Тютчеву в Мюнхене

мемориальная доска на его доме в Мюнхене
памятник Тютчеву в Овстуге
А закончить мне хочется словами так любившего его Льва Толстого:
«Так не забудьте же Тютчева достать. Без него нельзя жить».

Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/209674.html
Литература:
1. Ф. Тютчев. Стихотворения. М., Сов. Россия, 1986г.
2. Ф. Тютчев. Стихотворения. М., Худ. Лит-ра, 1985г.
3. В. Кожинов «Тютчев», ЖЗЛ, М., Молодая гвардия, 1988г.
4. А. Петров «Личность и судьба Ф. Тютчева». Изд. Культура, 1992г.
5. А. Петров «Небесный огонь», Изд. Культура, 1992г.
6. Ю. Нагибин «Сон о Тютчеве». Собр. Соч., т. 4, М., Худ. лит-ра, 1981г.
7. Ю. Айхенвальд «Тютчев». «Силуэты русских писателей», М., Изд. «Республика», 1994г.
8. Аксаков И. С. «Биография Ф. И. Тютчева», М., 1886г.
9. Георгиевский А. И. Воспоминания. Литературное наследство, том 97, кн. 2, М.,1989 г.
10. Мещерский В. П. «Мои воспоминания». Ч. 1-2, Спб. 1897-1898 гг.
11. Пигарев К.В. «Ф. Тютчев и его время».., М., 1978г.
12.Погодин М.П. «Воспоминание о Ф. Тютчеве» («Московские ведомости» 1873, 29 июля).
13. Пфеффель К. Заметка о Тютчеве. Лит. наследство, т. 97, кн. 2, Москва, 1989.
14. Раич С. Е. Автобиография. Русский библиофил, 1913 № 8.
15. В. А. Соллогуб. Воспоминания М-Л, 1931 г.
16. Тютчев Ф. Ф. «Ф. И. Тютчев (Материалы к биографии, ист. Вестник, 1903, июль.)
17. А. Кушнер. Эссе «Душа хотела б быть звездой», ж. «Звезда» № 2, 1996 г.
18. Г. В. Чагин «О ты, последняя любовь». «Женщины в жизни и поэзии Ф.И. Тютчева. Санкт-Петербург, Лениздат, 1996 г.
19. Семён Экштут «Тютчев — тайный советник и камергер». М., Прогресс -Традиция, 2003г.
|
|
Процитировано 1 раз
Понравилось: 1 пользователю
О, как убийственно мы любим!.." Часть третья |
Начало здесь

Такого глубокого женского образа, наделённого яркими индивидуальными психологическими чертами, никто до Тютчева в лирике ещё не создавал. «Денисьевский цикл» рассказал о гордой молодой женщине, бросившей вызов светскому обществу, совершившей подвиг во имя любви и погибшей в отчаянной борьбе за эту любовь.

По своему характеру этот образ перекликается с Настасьей Филипповной у Достоевского, с Анной Карениной у Толстого.

акварель работы Иванова. 1851 год.
Такой Елена Денисьева изображена на известном портрете: у зеркала, словно после бала, только-только успев снять нитку жемчуга, она повернулась к вошедшему, устремив на него свои чёрные глаза. «Я очи знал, - о, эти очи!» - скажет он о её глазах. Огромные, глубокие, чего-то ждущие, они хранят непроницаемую боль так не сбывшегося до конца счастья. Но всё-таки — счастья.
Внешне Тютчев был малопривлекателен, - маленького роста, скверно одет, неряшлив, (на фотографии видно, что пиджак застёгнут не на те пуговицы), рассеян (об этом ходили анекдоты), непричёсан (расчёской чаще служила пятерня). Однако при всём этом пользовался бешеным успехом у женщин. «Казалось загадкой, как этот неказистый неуклюжий человек влюблял в себя первых красавиц Европы, - писал современник о Тютчеве. - В нём ощущалась огромная сексуальная сила, завораживающая женщин. Он обладал магической притягательностью, утончённым обаянием и всегда был центром любого общества». Молодые салонные львы, только входившие в моду, с завистью пожимали плечами, признавая за ним, низкорослым, невзрачным, немолодым, первенство.
Современники вспоминали, что Тютчев обладал даром удивительной афористичности и остроумия, он был прекрасным рассказчиком, оратором, собеседником. В 1873 году, сразу после смерти поэта, П. Вяземский даже высказал мысль о необходимости записать, собрать и издать Тютчевиану — прелестную, живую современную антологию его высказываний. Такая книга вышла в 1922 году: «Тютчевиана. Эпиграмы, афоризмы и остроты Тютчева».
Когда поэт впервые увидел Елену Денисьеву, ей было 20 лет, ему 42. Она воспитывалась в Смольном институте благородных девиц, где в то время учились его дочери.

В течение последних четырёх лет они встречались достаточно часто, но отношения их не шли дальше взаимной симпатии. Денисьева была дочерью обедневшего дворянина, майора, мать её рано умерла, и она воспитывалась у тётки, которая была инспектрисой Смольного.

Та ни в чём не стесняла племянницу, вывозила её в свет, у неё было много блестящих поклонников. Но из всех Лёля Денисьева избрала поэта.

Первое их объяснение произошло 15 июля 1850 года. Ровно через 15 лет Тютчев напишет об этом «блаженно-роковом дне»:
Как душу всю свою она вдохнула,
как всю себя перелила в меня.

Что она поддалась его обаянию до совершенного самозабвенья, это как нельзя более понятно, хотя ей было в то время 25, а ему 47, но Тютчев и позже, до конца жизни, по своему уму, остроумию, образованности, по своей утончённой светскости, был необыкновенно обаятельным человеком.

До глубокой старости он сохранил такую свежесть сердца и цельность чувств, такую способность к безрассудочной, не помнящей себя любви, что читая его дышащие страстью письма и стихи, трудно поверить, что они вышли из-под пера не впервые полюбившего 25-летнего юноши, а 50-летнего человека.
Вот стихотворение 1852 года, адресованное Денисьевой:
Ты волна моя морская,
Своенравная волна,
Как, покоясь иль играя,
Чудной жизни ты полна!
Ты на солнце ли смеешься,
Отражая неба свод,
Иль мятешься ты и бьешься
В одичалой бездне вод, –
Сладок мне твой тихий шепот,
Полный ласки и любви;
Внятен мне и буйный ропот,
Стоны вещие твои.
Будь же ты в стихии бурной
То угрюма, то светла,
Но в ночи твоей лазурной
Сбереги, что ты взяла.
Не кольцо, как дар заветный,
В зыбь твою я опустил,
И не камень самоцветный
Я в тебе похоронил.
Нет – в минуту роковую,
Тайной прелестью влеком,
Душу, душу я живую
Схоронил на дне твоем.

Тютчев встретил Денисьеву после 20 с лишним лет на Западе, где он долго не видел русских женщин, кроме европейски отшлифованных жён и дочерей дипломатов. Молодость поэта прошла в Германии, все его прежние жёны и возлюбленные были немки — утончённые, благовоспитанные. Елена же, несмотря на строгий режим Смольного института, сохранила полную непосредственность душевных движений. Природа одарила её большим умом, живостью характера, глубиной и энергией чувств. Она не знала удержу ни в любви, ни в гневе.
Однажды, разгневавшись на поэта (причиной ссоры была его отрицательная реакция на то, что она ждёт от него ещё одного ребёнка), Денисьева в ярости схватила со стола первую попавшуюся ей под руку бронзовую собаку и бросила её в Тютчева, по счастью не попав и отбив от угла печки большой кусок изразца. Потом её раскаянью, слезам и рыданиям не было конца.
Любовь, любовь - гласит преданье -
Союз души с душой родной -
Их съединенье, сочетанье,
И роковое их слиянье.
И... поединок роковой...
И чем одно из них нежнее
В борьбе неравной двух сердец,
Тем неизбежней и вернее,
Любя, страдая, грустно млея,
Оно изноет наконец...

Елену Денисьеву ожидало место фрейлины при дворе и вполне обеспеченное будущее. Но о её связи с Тютчевым стало известно управляющему Смольным институтом, который напал на след их квартиры, тайно снимаемой для свиданий. Разразился скандал. При этом жестокие обвинения пали почти исключительно на Елену. Перед ней навсегда закрылись двери тех домов, где прежде она была желанной гостьей. Она потеряла всех своих подруг и всякую надежду на устройство при дворе.

Отец в гневе отрёкся от дочери и запретил родственникам с ней встречаться. Её тётка вынуждена была оставить место в Смольном и вместе с племянницей переселиться на частную квартиру.
Тогда поэт и написал это стихотворение:
Чему молилась ты с любовью,
Что как святыню берегла,
Судьба людскому суесловью
На поруганье предала.
Толпа вошла, толпа вломилась
В святилище души твоей,
И ты невольно постыдилась
И тайн, и жертв, доступных ей.
Ах, если бы живые крылья
Души, парящей над толпой,
Ее спасали от насилья
Бессмертной пошлости людской!
С семьёй Тютчев не порывал и никогда бы не смог решиться на это. Он метался между двумя женщинами, не находя покоя ни у одной из них. Он не был однолюбом. Подобно тому, как раньше любовь к первой жене жила в нём рядом со страстной влюблённостью в Эрнестину Дернберг, так теперь привязанность к ней, его второй жене, совмещалась с любовью к Денисьевой, и это вносило в его отношения к обеим женщинам мучительную раздвоенность. Поэт сознавал себя виновным перед каждой из них за то, что не мог отвечать им той же полнотой и беспредельностью чувства, с каким они относились к нему.
О, вещая душа моя!
О, сердце, полное тревоги,
О, как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия!..

Он пытается понять любимых женщин, поставив себя на их место. И пишет стихи как бы от от их имени, причём написаны они так, что могли бы прозвучать как из уст Елены, так и Эрнестины.
Не говори: меня он, как и прежде любит,
Мной, как и прежде, дорожит...
О нет! Он жизнь мою бесчеловечно губит,
Хоть, вижу, нож в его руке дрожит.
То в гневе, то в слезах, тоскуя, негодуя,
Увлечена, в душе уязвлена,
Я стражду, не живу... им, им одним живу я -
Но эта жизнь!.. о, как горька она!
Он мерит воздух мне так бережно и скудно,
Не мерят так и лютому врагу...
Ох, я дышу еще болезненно и трудно,
Могу дышать, но жить уж не могу!
Что же это за явление такое — любовь одновременно к двум женщинам, не миф ли это, не лицемерие ли? Над этой тютчевской дилеммой бились биографы ещё при жизни поэта. Его сын Фёдор Тютчев (от Елены) писал: «Натура Фёдора Ивановича такова, что он мог искренно и глубоко любить не только одну женщину после другой, но даже обеих одновременно».
Это была особенность его натуры. Однажды полюбив, поэт уже не мог разлюбить — не умел. Его сердце было слишком вместительным: всё, что происходит с другим в любви — влюблённость, пик любви, медленное угасание чувства, наконец, привыкание — всего этого у Тютчева не было. А были лишь три стадии этого чувства: влюблённость, любовь и вечная признательность. Такова была необъяснимая — космической мощи — стихия любви, жившая в этом человеке.
В то же время он винил себя за непостоянство, неверность, но ничего не мог с собой поделать. И предостерегал женщин от любви к таким, как он:
Не верь, не верь поэту, дева;
Его своим ты не зови —
И пуще пламенного гнева
Страшись поэтовой любви!
Его ты сердца не усвоишь
Своей младенческой душой;
Огня палящего не скроешь
Под легкой девственной фатой.
Поэт всесилен, как стихия,
Не властен лишь в себе самом;
Невольно кудри молодые
Он обожжет своим венцом.
Вотще поносит или хвалит
Его бессмысленный народ...
Он не змиею сердце жалит,
Но как пчела его сосет.
Твоей святыни не нарушит
Поэта чистая рука,
Но ненароком жизнь задушит
Иль унесет за облака.
Чувство любви поэта к обеим женщинам было глубоко различным, как и они сами. В Эрнестине Тютчева восхищала серьёзность и выдержанность, Елена пленяла его своим страстным и увлекающимся характером. О безмерной любви к нему своей Лёли Тютчев не раз говорил в стихах, сокрушаясь, что он, породивший такую любовь, не способен подняться до её высоты и силы.

Ты любишь искренно и пламенно, а я -
О, не тревожь меня укорой справедливой!
Поверь, из нас, из двух завидней часть твоя:
Ты любишь искренно и пламенно, а я —
Я на тебя гляжу с досадою ревнивой.
И, жалкий чародей перед волшебным миром,
Мной, созданный самим, без веры я стою;
И самого себя, краснея, сознаю
Живой души твоей безжизненным кумиром.
Тютчев был убеждён, что он не достоин её любви. «Я не знаю никого, - писал он, - кто бы был менее, чем я, достоин любви. Поэтому когда я становился объектом чьей-нибудь любви, это всегда меня изумляло».
Как же воспринимала жена поэта любовь мужа к другой?
Старшая дочь Анна, которая достаточно ясно представляла себе положение вещей, писала о своей мачехе: «Мама как раз та женщина, которая нужна папе — любящая слепо и долготерпеливо. Чтобы любить папу, зная его и понимая, нужно быть святой, совершенно отрешённой от всего земного...»

Тютчев посвящал ей стихи:
Не знаю я, коснется ль благодать
Моей души болезненно-греховной,
Удастся ль ей воскреснуть и восстать,
Пройдет ли обморок духовный?
Но если бы душа могла
Здесь, на земле, найти успокоенье,
Мне благодатью ты б была —
Ты, ты, мое земное провиденье!..
Эрнестина Фёдоровна являла в этой мучительной для неё ситуации редчайшее самообладание. За все 14 лет она ни разу ничем не обнаружила, что знает о любви мужа к другой. Единственное, о чём она говорила в письмах к Тютчеву — что он разлюбил её и поэтому им следует расстаться. Тютчев возражал ей в ответном письме:
«Ты написала мне такие страшные слова, что ты для меня всего лишь старый гнилой зуб, когда его вырывают — больно, но потом боль сменяется приятным ощущением пустоты...» Он разуверял жену, клялся, что любит и верен ей. Он не хотел её терять.
Однако Эрнестина была хорошо осведомлена и о других увлечениях поэта, в частности, о давней, с 1840-х годов его связи с иностранкой Гортензией Лапп, родившей от него двоих детей. Гортензию Лапп он привез за собой из Германии еще за три года до того, как встретил Денисьеву. Ей и их общим сыновьям Тютчев завещал свою генеральскую пенсию, которая по закону полагалась вдове – Эрнестине.
И теперь другая женщина, отнявшая у неё мужа, называла себя Тютчевой и совершенно искренне говорила: «Прежний его брак уже расторгнут тем, что он вступил в новый брак со мной». Тютчев и Денисьева, как настоящие супруги, не раз путешествовали по Европе, и жизнь поэта в 1850-64-х годах была отдана прежде всего Елене. Эрнестине оставалась, по сути, только переписка с ним.
Но это была поистине жизнь в письмах, жизнь, проникнутая высоким напряжением души, полная мысли и чувства. Тютчев, обычно неохотно пишущий письма, послал их жене - 675, из них 300 — в годы его любви к Денисьевой. В это время он пишет Эрнестине: «Ты — самое лучшее из всего, что мне известно в мире», «ты — единственная ветка, удерживающая меня над небытиём». Половину этих писем она сожгла. У Тютчева есть стихи об этом:
Она сидела на полу
И груду писем разбирала,
И, как остывшую золу,
Брала их в руки и бросала.
Брала знакомые листы
И чудно так на них глядела,
Как души смотрят с высоты
На ими брошенное тело...
О, сколько жизни было тут,
Невозвратимо пережитой!
О, сколько горестных минут,
Любви и радости убитой!..
Стоял я молча в стороне
И пасть готов был на колени,-
И страшно грустно стало мне,
Как от присущей милой тени.
Эрнестине в 1850 году исполнилось 40 лет, ею уже не владела та молодая сила страсти, которая запечатлена в обращённых к ней тютчевских стихах 30-х годов. Но её любовь к нему была по-прежнему безгранична.

Падчерица Дарья писала сестре Анне о том, как Эрнестина встречала мужа на дороге в Овстуг, куда он должен был к ней приехать: «Дважды в день напрасно ходили мы на большую дорогу... Каждое облако пыли казалось нм содержащим папу, но каждый раз было разочарование: то это было воловье стадо, то телега... Наконец, доехав до горы, мама прыгает прямо в пыль. У неё было что-то вроде истерики...»

То ли из жалости, то ли из малодушия Тютчев опровергал в письмах свою неверность, для всех очевидную. И в этом выражалось трудно понимаемое, пожалуй, даже пугающее раздвоение его души.

«Что же произошло в глубине твоего сердца, - писал он жене в июле 1851 года, - что ты стала сомневаться во мне, что перестала понимать, перестала чувствовать, что ты для меня — всё, и что в сравнении с тобою все остальные — ничто? Я завтра же, если это будет возможно, выеду к тебе. Не только в Овстуг, я поеду, если это потребуется, хоть в Китай, чтобы узнать у тебя, в самом ли ты деле сомневаешься и не воображаешь ли, что я могу жить при наличии такого сомнения...»
Строго говоря, это «всё» и это «ничего», написанные Тютчевым, были неправдой. Он, кстати, так и не приехал тогда в Овстуг. В это время он приехал в Москву вместе с Денисьевой и их новорождённой дочерью.

Елена Денисьева и её старшая дочь Лена
Они часто проводили вместе лето и осень в Москве или за границей. До нас не дошло тютчевских писем к ней, но, вероятно, в них тоже содержались это «всё» и «ничего», что мы читаем в письмах к Эрнестине.
Любовь поэта к Елене продолжалась 14 лет, до самой её смерти. У них было трое детей. Все они записывались в метрические книги под фамилией Тютчевых, что, однако, не снимало с них клейма «незаконности» их происхождения и не давало им никаких гражданских прав, связанных с сословной принадлежностью отца.
Но Елена, которая и себя называла Тютчевой, постоянно была обращена к истинному смыслу их отношений, видя в формальных преградах только роковое стечение обстоятельств. Она говорила: «Мне нечего скрываться и нет необходимости ни от кого прятаться, я более всего ему жена, чем бывшие его жёны, и никто в мире его так не любил и не ценил, как я его люблю и ценю, никто его так не понимал, как я его понимаю — всякий звук, всякую интонацию его голоса, всякую его мину и складку на лице, я вся живу его жизнью, я вся его, а он мой, «и будут два в плоть едину, а я с ним и дух един... Ведь в этом и состоит брак, благословенный самим Богом...»

Тютчев восхищённо писал о ней:
Как ни бесилося злоречье,
Как ни трудилося над ней,
Но этих глаз чистосердечье -
Оно всех демонов сильней.
Все в ней так искренно и мило,
Так все движенья хороши;
Ничто лазури не смутило
Ее безоблачной души.
К ней и пылинка не пристала
От глупых сплетен, злых речей;
И даже клевета не смяла
Воздушный шелк ее кудрей.

Хорошо характеризует Елену Денисьеву одно письмо Тютчева, написанное уже после её смерти:
«Вы знаете, она, при всей своей поэтичной натуре в грош не ставила стихов, даже моих, ей только те из них нравились, где выражалась любовь моя к ней, выражалась гласно и во всеуслышанье. Вот чем она дорожила: чтобы целый мир знал, чем она была для меня. В этом было её душевное требование, жизненное условие души её».
Елена просила его об одном: она хотела, чтобы Тютчев переиздал свои стихи и всю книгу посвятил ей. Она верила, что эти стихи заменят ей аналой, дадут ей право глядеть в глаза целому свету — и своим прежним подругам, и прежним наставницам, и своему отцу, порвавшему отношения с «дочерью-блудницей», и своим детям, когда они подрастут, и самому Господу Богу.
Тютчев отказал ей в этом. Он сказал, что с её стороны подобное требование невеликодушно, ибо он не может отнять посвящений у тех, кого он любил. Как он мог обокрасть свою первую жену Нелли (Элеонору), отняв у неё «Ещё томлюсь тоской желаний» - эту единственную плату за её любовь и самоотверженность?

Легко изменять живым, но невозможно изменять мёртвым.
Но ведь Елена и требовала у него подвига во имя их любви. Она же совершила подвиг, покорно подставив плечи и лоб под клейма. Но её высота оказалась для него недоступной. Обычно мягкий и податливый, здесь Тютчев проявил непоколебимое упорство. Он говорил, что не понимает, зачем ей ещё каких-то печатных заявлений, когда он и так принадлежит ей. И, признав своё поражение, она сказала ему почти жалеючи: «Ты ещё поплатишься за это!»

Он не знал тогда, как непомерна окажется эта плата.
Всю жизнь потом Тютчев будет изводить себя муками совести и раскаяния, что не выполнил тогда её просьбу, не понял её правоты.
Ещё в самом начале их любви он напишет стихи, которые войдут в сокровищницу мировой поэзии:
О, как убийственно мы любим,
Как в буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей!
Давно ль, гордясь своей победой,
Ты говорил: она моя...
Год не прошел - спроси и сведай,
Что уцелело от нея?
Куда ланит девались розы,
Улыбка уст и блеск очей?
Все опалили, выжгли слезы
Горючей влагою своей.
Ты помнишь ли, при вашей встрече,
При первой встрече роковой,
Ее волшебный взор, и речи,
И смех младенчески живой?
И что ж теперь? И где все это?
И долговечен ли был сон?
Увы, как северное лето,
Был мимолетным гостем он!
Судьбы ужасным приговором
Твоя любовь для ней была,
И незаслуженным позором
На жизнь ее она легла!
Жизнь отреченья, жизнь страданья!
В ее душевной глубине
Ей оставались вспоминанья...
Но изменили и оне.
И на земле ей дико стало,
Очарование ушло...
Толпа, нахлынув, в грязь втоптала
То, что в душе ее цвело.
И что ж от долгого мученья
Как пепл, сберечь ей удалось?
Боль, злую боль ожесточенья,
Боль без отрады и без слез!
О, как убийственно мы любим,
Как в буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей!
Есть кровный союз между любовью и самоубийством, любовью и убийством, и Тютчев глубоко чувствовал эту смерть в самой любви, этот разлад в самом единении. Мы фатально обречены на то, чтобы любить убийственно. Мы убиваем то, что любим. В нашем любовном прикосновении таится гибель. И она поражает как раз то сердце, которое нашему сердцу всего милей.
Так называемый «денисьевский цикл» - самый значительный в любовной лирике Тютчева. В последние годы его часто называют романом - по объёму, по сложности, по глубине психологизма. Роман, трагедия, драма — никакое слово здесь не будет преувеличением. Это, может быть, самые в русской поэзии тяжкие по безнадёжности стихи.

Никто так, как Тютчев, не выразил трагедии счастливой любви. «О, как убийственно мы любим», - такого признания русская поэзия ещё не слыхивала, поскольку чаще всего лирический герой выступал лицом страдательным, а не обвиняющим себя. Разве что Пушкин обмолвился: «Чем меньше женщину мы любим...», но Тютчев ответил ему точно в рифму, словно дописав второе двустишие: « Мы то всего вернее губим, Что сердцу нашему милей». Поди пойми, сознательная ли это перекличка или случайность, но взято, конечно, тоном выше. Только Оскар Уайльд со временем дописался до того, что все мы только и заняты убийством своих любимых, но у Тютчева это и жёстче, и неприкрашенней.
11 октября 1860 года Елена Денисьева родила второго ребёнка от Тютчева — сына Фёдора, а в мае 1864-го — сына Николая. Сразу после родов у неё началось быстрое развитие туберкулёза.
О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней...
Сияй, сияй, прощальный свет
Любви последней, зари вечерней!
Полнеба обхватила тень,
Лишь там, на западе, бродит сиянье, -
Помедли, помедли, вечерний день,
Продлись, продлись, очарованье.
Пускай скудеет в жилах кровь,
Но в сердце не скудеет нежность...
О ты, последняя любовь!
Ты и блаженство и безнадежность.

Это стихотворение («Последняя любовь») можно считать вершиной «Денисьевского цикла», как бы завершающей первую его часть, увертюру их любви. Кажется, что поэт здесь до срока прощается со своей последней любовью.

Последняя фотография Е. Денисьевой. 1862 год.
4 августа 1864 года (спустя 2 месяца после рождения третьего сына) Елена Денисьева скончалась на руках у Тютчева. Ей было 39 лет. 7 августа он похоронил её на Волковом кладбище.
На другой день после похорон он пишет в Москву мужу сестры Елены А. Георгиевскому: «Все кончено, — вчера мы ее хоронили... Что это такое? Что случилось? О чем это я вам пишу — не знаю... Во мне все убито: мысль, чувство, память, все... Пустота, страшная пустота. И даже в смерти — не предвижу облегчения. Ах, она мне на земле нужна, а не там где-то...
Сердце пусто — мозг изнеможен. Даже вспомнить о ней — вызвать ее, живую, в памяти, как она была, глядела, двигалась, говорила, и этого не могу. Страшно, невыносимо...»
Весь день она лежала в забытьи,
И всю ее уж тени покрывали.
Лил теплый летний дождь - его струи
По листьям весело звучали.
И медленно опомнилась она,
И начала прислушиваться к шуму,
И долго слушала - увлечена,
Погружена в сознательную думу...
И вот, как бы беседуя с собой,
Сознательно она проговорила
(Я был при ней, убитый, но живой):
"О, как все это я любила!"...
Любила ты, и так, как ты, любить -
Нет, никому еще не удавалось!
О господи!.. и это пережить...
И сердце на клочки не разорвалось...

Весь цикл стихов, посвящённый Денисьевой, проникнут тяжёлым чувством вины, насыщен роковыми предчувствиями. В этих стихах нет ни пылкости, ни страсти, ни радости, только нежность, преклонение перед силой и цельностью её чувства, жалость к ней, мучительный стыд за себя.
Тютчев на протяжении долгого времени жадно стремился встречаться с людьми, знавшими Денисьеву, в разговорах с ними она хоть в воображении оживала для поэта. Он даже писал тогда: «Право, для меня существуют только те, кто её знал и любил». Он объездил все места в Петербурге, где они бывали вместе с Лёлей. Но и всё это не могло облегчить его душу.
Старшая дочь Анна, к которой Тютчев приехал в Германию, была потрясена его состоянием.

«Он постарел лет на пятнадцать, - пишет она сестре, - его бедное тело превратилось в скелет». Через семь месяцев после своей утраты поэт встретился с Тургеневым, который вспоминал потом, как Тютчев «болезненным голосом говорил, и грудь его сорочки под конец рассказа оказалась промокшей от падавших на неё слёз».
Всё это свидетельствует о безусловно жизненной (а не только художественной) правде созданных тогда его трагедийных стихотворений. Сознание своей вины удесятеряло его горе.

Нет дня, чтобы душа не ныла,
Не изнывала б о былом,
Искала слов, не находила,
И сохла, сохла с каждым днем, -
Как тот, кто жгучею тоскою
Томился по краю родном
И вдруг узнал бы, что волною
Он схоронен на дне морском.
Окончание здесь
|
|
Процитировано 1 раз
Понравилось: 1 пользователю
"О, как убийственно мы любим!.." Часть вторая |
Начало здесь

Мы привычно связываем любую лирику с так называемым лирическим героем, с ярко выраженной авторской индивидуальностью. Лирика Лермонтова, Блока или Есенина — это прежде всего определённый психологический склад, своеобразная личность. Лирика Тютчева лишена такого индивидуального характера, да и стихи его чаще всего прямо не проецируются на биографию поэта.
О, нашей мысли обольщенье,
Ты, человеческое Я, -
писал Тютчев. Вот это человеческое - общечеловеческое Я и есть герой его лирики. Всеобъемлющая всемирная душа.

Первый поэт-философ
Тютчев — самый космогонический русский поэт. Он словно подошёл к самому краю, к загадочному первоисточнику вселенной. Достоевский увидел в Тютчеве «первого поэта-философа, которому равного не было, кроме Пушкина».
Тютчев нашёл небывалый ещё язык философской поэзии. В литературе о Тютчеве — в работах Д. И. Благого, В. В. Гиппиуса, Бухштаба, Берковского, Л. Гинзбург, Айхенвальда раскрыты его исходные философско-поэтические идеи: романтический пантеизм, одухотворение природы, полярность космоса и хаоса, дня и ночи, стихии бессознательного, ночная сторона души... Все эти темы звучат в его стихах.

О чем ты воешь, ветр ночной?
О чем так сетуешь безумно?..
Что значит странный голос твой,
То глухо жалобный, то шумно?
Понятным сердцу языком
Твердишь о непонятной муке -
И роешь и взрываешь в нем
Порой неистовые звуки!..
О, страшных песен сих не пой
Про древний хаос, про родимый!
Как жадно мир души ночной
Внимает повести любимой!
Из смертной рвется он груди,
Он с беспредельным жаждет слиться!..
О, бурь заснувших не буди -
Под ними хаос шевелится!..
Владимир Соловьёв писал, что никто глубже Тютчева не захватывал таинственные основы тёмного корня бытия, называл его «поэтом хаоса».
Тютчев объяснил нам, почему страшна для нас ночь. Он раскрыл в своих гениальных стихах, что день, друг человека, исцеляющий его больную душу — это не что иное, как блистательное златотканное покрывало, участливо накинутое богами над бездною мира. Ночью же мировая Пенелопа распускает дневной ковёр, ткань его парчи, и бездна открывается глазам души во всей своей обнажённой истине.
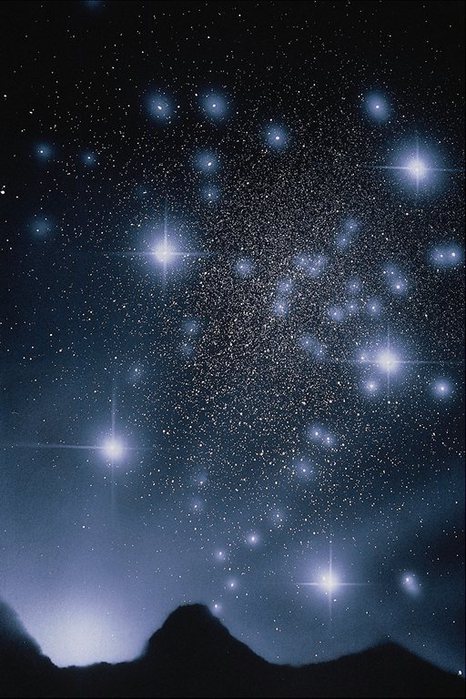
И бездна нам обнажена
С своими страхами и мглами,
И нет преград меж ней и нами;
Вот от чего нам ночь страшна!
Святая ночь на небосклон взошла,
И день отрадный, день любезный,
Как золотой покров, она свила,
Покров, накинутый над бездной.
И, как виденье, внешний мир ушел...
И человек, как сирота бездомный,
Стоит теперь, и немощен, и гол,
Лицом пред пропастию темной.
На самого себя покинут он -
Упразднен ум, и мысль осиротела -
В душе своей, как в бездне, погружен,
И нет извне опоры, ни предела...
И чудится давно минувшим сном
Ему теперь всё светлое, живое...
И в чуждом, неразгаданном ночном
Он узнает наследье родовое.

Ночь словно говорит нам, что мир глубок, и глубже, чем это думал день. День обманчив в своих светлых утешениях, а ночью мы узнаём правду. Мир по существу трагичен, и лучше всего его можно познать в те минуты роковые, когда поднимается древний хаос, когда «в безлюдии ночном» явственно слышится живой язык природы. Днём его нельзя услыхать, потому что мы заглушаем его своими речами, но вот наступает ночь, и слово принадлежит вселенной. Тогда всё обнажёно, и нам воочию предстаёт сама космическая душа.

Есть некий час в ночи всемирного молчанья,
И в оный час явлений и чудес
Живая колесница мирозданья
Открыто катится в святилище небес.
Наши мысли, покинув нас ночью, сплетаются в прихотливые узоры сонных грёз и в этом виде опять прилетают к нам. Кругом сны, и трудно провести границу между сновидением и реальностью, меж явью и мечтой.

Как океан объемлет шар земной,
Земная жизнь кругом объята снами;
Настанет ночь - и звучными волнами
Стихия бьет о берег свой.
То глас ее; он нудит нас и просит...
Уж в пристани волшебный ожил челн;
Прилив растет и быстро нас уносит
В неизмеримость темных волн.
Небесный свод, горящий славой звездной,
Таинственно глядит из глубины,-
И мы плывем, пылающею бездной
Со всех сторон окружены.

«Твой милый образ, незабвенный...»
В марте 1826 года (в 23 года) Тютчев женится на Элеоноре Петерсон, урождённой графине Ботмер.

Элеонора Тютчева, урождённая Ботмер. Портрет неизвестного художника.
Со старого портрета неизвестного художника на нас смотрит большеглазая молодая женщина. Нежный овал лица. Румянец, пышная причёска, очаровательная округлость форм...
Это был во многих отношениях странный брак. Вдова, мать четырёх сыновей, 26-летняя Элеонора была старше Тютчева почти на 4 года. Возможно, поэт решился на эту женитьбу, чтобы спастись от тоски по утрате своей истинной возлюбленной, Амалии.

Но так или иначе, союз оказался удачным. Элеонора беспредельно любила Тютчева, и тот привязался к ней всем сердцем. В 1837 году он пишет родителям:

«Эта слабая женщина обладает силой духа, соизмеримой разве с нежностью, заключённой в её сердце. Я хочу, чтобы вы знали, что никогда ни один человек не любил другого так, как она меня... Не было ни одного дня в её жизни, когда ради моего благополучия она не согласилась бы, не колеблясь ни мгновенья, умереть за меня».
Принято считать, что любовь из благодарности — чувство искусственное и непрочное. Но это не так. Подлинная, исходящая из глубины сердца благодарность — высочайшее и крайне редко встречающееся чувство, доступное лишь немногим избранным натурам. Через много лет Тютчев напишет в стихотворении, посвящённом Элеоноре:
Так мило-благодатна,
воздушна и светла,
душе моей стократно
любовь твоя была.
Они прожили вместе 12 лет, до трагической преждевременной смерти Элеоноры. У них было три дочери.
Первые семь лет были временем безоблачного счастья — до тех пор, пока в 1833 году на одном из балов Тютчев не встретил другую женщину — баронессу Эрнестину Дёрнберг, дочь баварского посла, одну из первых мюнхенских красавиц.

Эрнестина Дёрнберг. Портрет работы Й. Штилера. Мюнхен, 1834.
Любовь отступила перед страстью. Тогда на балу произошла странная история.

Барон Дёрнберг почувствовал себя плохо и покинул бал, сказав на прощанье Тютчеву: «Поручаю Вам свою жену». Эти слова обернулись пророчеством. Через несколько дней он скончался от брюшного тифа, и вскоре 23-трёхлетняя вдова становится тайной любовницей Тютчева.
Но поэт не мог ради новой любви не только расстаться с Элеонорой, но даже разлюбить её. И в то же время не имел сил разорвать отношения с Эрнестиной. В их любви была та полнота духовной близости, которой не доставало в его первом — в какой-то мере случайном — браке. Эрнестина была советчицей, помощницей в работе, равноценной собеседницей Тютчева. Она даже стала изучать русский язык, чтобы читать его стихи. До нас дошло почти 500 писем Тютчева к Эрнестине, и стихи, в которых запечатлена его жаркая страсть к ней: «Люблю глаза твои, мой друг...» («Итальянская вилла»).

Эрнестина Дёрнберг, вторая жена Тютчева. Портрет работы Ф. Дюрка. 1840 год.
Известие о романе русского дипломата и вдовы-баронессы проносится по Мюнхену вместе со слухами о её беременности. Жена Тютчева Элеонора едва не сошла с ума от горя и в состоянии сильнейшего потрясения даже пыталась покончить с собой. Узнав доподлинно, что обожаемый муж отправился на свидание к любовнице, она схватила какой-то кинжал, лежавший на столе и несколько раз ударила им себя. К счастью, это оказался кинжал от маскарадного костюма и не причинил глубоких ран, хотя кровь всё же хлынула. Элеонора в ужасе бросилась на улицу, где упала без чувств. Соседи принесли её домой. Тютчев был потрясён поступком жены и клятвенно обещал ей разорвать отношения с Эрнестиной.
Супруги договариваются бросить Мюнхен и уехать в Россию.

Элеонора Тютчева, первая жена поэта. Портрет неизвестного художника.
Элеонора сумела простить мужа и их отношения стали прежними. Но в России Тютчев пробыл недолго: в августе 1837 года состоялось его назначение на пост секретаря русской миссии в Турине.

Тютчев. Акварель Ипполиты Рехберг. Мюнхен, 1838.
Почти 10 месяцев Тютчев жил в разлуке с семьёй. А в мае 1838 года Элеонора с тремя малолетними дочерьми решила приехать к мужу. Они сели на пароход, на котором ночью вспыхнул пожар. (На этом же пароходе был и молодой И. Тургенев, ехавший поступать в берлинский университет. Через 45 лет он опишет ту страшную ночь в очерке «Пожар на море», где упомянет и «госпожу Тютчеву, которая, спасая детей, испытала сильнейшее нервное потрясение»).
Пароход сгорел дотла, несколько человек погибло. Элеоноре удалось спастись и спасти детей, но сгорели все их вещи, деньги, к тому же сильнейший стресс и простуда подорвали её здоровье. Женщина заболела и через два месяца в августе 1838 года умерла «в жестоких мучениях», по словам Тютчева, не отходившего от её постели. За одну ночь он поседел от горя. Элеоноре было всего 37 лет.

Элеонора Тютчева. Акварель Шёлера. Мюнхен, 1827 год.
Он никогда не забывал её. Через девять лет в годовщину смерти жены Тютчев пишет Эрнестине: «Сегодняшнее число... печальное для меня число. Это был самый ужасный день моей жизни и, не будь тебя, он стал бы, вероятно, и последним моим днём».
А в 1848 году, в десятую годовщину смерти Элеоноры, поэт посвятит ей бессмертные строки, которые стали знаменитым романсом:
Еще томлюсь тоской желаний,
Еще стремлюсь к тебе душой -
И в сумраке воспоминаний
Еще ловлю я образ твой...
Твой милый образ, незабвенный,
Он предо мной везде, всегда,
Недостижимый, неизменный,
Как ночью на небе звезда...
Судьбы дочерей
Через год после смерти жены Тютчев женится на Эрнестине. Они обвенчались в Берне, в церкви при русском посольстве. До нас почти не дошло стихов Тютчева, отразивших настроения и события первого года совместной жизни со второй женой, но нам известны стихи 1837 года, обращённые к ней ещё до помолвки, в которых поэт с провидческой силой выразил то, что их ждало в будущем, что сам он тогда мог лишь смутно предчувствовать:
О, если бы тогда тебе приснилось,
что будущность для нас обоих берегла...
Как, уязвлённая, ты б с воплем пробудилась
иль в сон иной бы перешла...
На следующий год у них родилась дочь Мария, через год — сын Дмитрий, и в 1846 году родился сын Иван. Эрнестина удочерила девочек от первой жены Тютчева Анну, Дарью и Екатерину. Таким образом у них стало шестеро детей. Несколько слов о судьбе дочерей поэта.


дочери от первого брака Анна, Дарья и Екатерина
Старшая, Анна, 13 лет будет фрейлиной — воспитательницей царских детей, потом напишет об этом книгу «При дворе двух императоров».

А.Ф.Тютчева со своими воспитанниками Великой княжной Марией Александровной и Великим князем Сергеем Александровичем. Петербург. 1862 г.
Позже она выйдет замуж за писателя И. С. Аксакова, ставшего биографом и издателем своего тестя.

И. С. Аксаков, русский публицист, поэт, общественный деятель, зять Тютчева

Дарья стала фрейлиной императрицы Марии Александровны. Она так и не вышла замуж.

У Дарьи в молодости было глубокое чувство к самому Александру Второму.

Ничего удивительного, романы членов императорской фамилии с фрейлинами случались нередко. Дарья поделилась своей тайной с отцом, и тот с большим тактом и пониманием чувств дочери сумел отговорить её от необдуманных поступков. Результатом этого разговора стало прекрасное стихотворение поэта, посвящённое большой и верной любви дочери:

Когда на то нет божьего согласья,
Как ни страдай она, любя, -
Душа, увы, не выстрадает счастья,
Не может выстрадать себя...
Душа, душа, которая всецело
Одной заветной отдалась любви
И ей одной дышала и болела,
Господь тебя благослови.
Он милосердный, всемогущий,
Он греющий своим лучом
И пышный цвет, на воздухе цветущий,
И чистый перл на дне морском.

Дарья Тютчева
В 1853 году Тютчев близко сошёлся с Тургеневым — тому было тогда 35 лет, и друзья старались его женить, проча в невесты старших дочерей Тютчева — Анну и Дарью, но из этого сватовства ничего не вышло.

Самой красивой из дочерей Тютчева считалась Китти (Екатерина).

Она была писательницей, переводчицей, занималась литературным трудом. Как-то в литературном салоне её увидел Лев Толстой и влюбился. Об этом есть строчки в его дневнике.

По Москве поползли слухи об их скорой помолвке. Но ей не суждено было осуществиться, так же, как помолвке Китти с Вронским. В конце концов будущий великий писатель, мечтающий о жизни в имении, занятиях сельским хозяйством, понял, что Китти Тютчева для него «слишком оранжерейное растение».


А Китти, отказав Толстому, так замуж и не вышла.

Когда она умерла, из её дневника узнали, что она любила известного журналиста Юрия Фёдоровича Самарина. Тот об этом, по-видимому, и не догадывался.

Ю. Ф. Самарин, российский философ, историк, общественный деятель, публицист. Один из идеологов славянофильства.
И, наконец, Мария, старшая дочь от второго брака.

К ней сватался поэт Яков Полонский.

Но сердце девушки принадлежало другому — герою севастопольской обороны капитану I-го ранга Николаю Бирилёву, с которым она на беду связала свою жизнь.

Н. А. Бирилёв - капитан-лейтенант, причисленный к свите императора
Судьба этой любви оказалась трагической, о ней будет написан впоследствии роман Аркадия Петрова «Небесный огонь» и даже снят фильм. Вследствие контузии Бирилёв лишился рассудка, но Мария продолжала любить его и самоотверженно ухаживать, пока сама не умерла от чахотки в 32 года.

Слева направо: капитан I ранга Н. А. Бирилёв, его жена Мария Фёдоровна (в девичестве Тютчева) и её мать, вторая жена Ф. И. Тютчева Эрнестина Фёдоровна. Фото Г. Деньера, 1868.
«Вот эта книжка небольшая...»

В этом петербургском доме на Невском № 42, напротив Гостиного двора, в 1854-1873 годах жил Тютчев. Слева от него - Армянская апостольская церковь (18 век).
Вот так этот дом выглядит в 2013-ом (второй справа налево. Церковь здесь не видна).
Сейчас здесь итальянский ресторан быстрого питания "Сбарро", а также Центральная театральная касса - старейшая в городе. Прямо под квартирой поэта была расположена почта и телеграф. А на двери дома висит мемориальная доска: «Здесь жил и работал выдающийся поэт Ф. Тютчев». Хотя Тютчев, строго говоря, никогда не работал в буквальном смысле — так, как работают поэты, литераторы, сидя за письменным столом, испещряя листы помарками, - нет, стихи он писал между делом, чаще всего в дороге и не придавал им никакого значения. У него была иная шкала ценностей, и литературные интересы занимали там невысокое место.

Сколько уж рассуждали по поводу того, горят рукописи или не горят. Сожжение Гоголем II-го тома «Мёртвых душ» считается у нас национальным бедствием. Между тем до сих пор остался незамеченным роковой эпизод из жизни Тютчева, когда он по рассеянности бросил в огонь большую часть стихотворений, написанных им до 1833 года.
Невозможно найти человека, который бы более равнодушно относился к судьбе своих стихов. Он оставлял их там, где они нечаянно писались — на казённых листках в министерском заседании, на клочках бумаги в бальных залах, на дорожных документах в коляске. Некоторые из них сохранились только потому, что кто-то подобрал за ним клочок бумаги, оставленный им в чьей-то книге, в карете или на скамейке в саду. Многие были затеряны и утрачены безвозвратно.
Тютчеву было свойственно полное равнодушие к самому факту напечатания: публикациями его стихов занимались всегда другие люди, сопровождая их при этом произвольной редактурой. Тургеневу стоило большого труда выпросить у поэта тетрадку его стихотворений для журнала «Современник».

В 1836 году эти стихи попали к Пушкину, были одобрены им и напечатаны в двух номерах «Современника» под заголовком «Стихотворения, присланные из Германии». Однако они остались не замеченными ни критиками, ни публикой.
И только спустя 15 лет в январском номере «Современника» за 1850 год Некрасов как бы воскресил их, опубликовав статью «Русские второстепенные поэты», где назвал Тютчева «первостепенным поэтическим талантом», стихотворения которого «принадлежат к немногим блестящим явлениям в области русской поэзии». Только тогда на эти стихи обратили внимание, их стали печатать и в других журналах.
А в 1854 году под редакцией Тургенева выходит первый сборник стихов Тютчева (поэту шёл уже 51-ый год). Эта книга сыграла первостепенную роль в становлении поэтов, вступавших в литературу в 40-е годы: Некрасова, Фета, Полонского, А. Толстого, Майкова и других. «Вот эта книжка небольшая томов премногих тяжелей», - сказал о ней Фет. С этого времени Тютчев становится известным и признанным поэтом.

Поздний Тютчев
Если ранняя поэзия Тютчева — это поэзия цветущей молодости, праздник, пир жизни, то позднее его творчество может показаться похмельем на чужом пиру.
Так грустно тлится жизнь моя,
и с каждым днём уходит дымом.
Так постепенно гасну я
в однообразье нестерпимом.
Если раннее творчество проникнуто мировым, космическим, вселенским духом («О, бурь заснувших не буди — под ними хаос шевелится!»), то в поздний период на первый план выходят черты человечности, некоторой житейской мудрости. Он как бы спускается с Олимпа на землю.
Не рассуждай, не хлопочи!
Безумство ищет, глупость судит.
Дневные раны сном лечи,
а завтра быть чему, то будет.
Живя, умей всё пережить:
печаль, и радость, и тревогу.
Чего желать? О чём тужить?
День пережит — и слава богу!
(Чем-то напоминает пушкинское «Если жизнь тебя обманет...»)
Если в раннем творчестве Тютчева человек мог предстать как бог, как небожитель - «По высям творенья, как бог, я шагал», то в поздней его поэзии человек сведён с этих высей. Он предстаёт в ней не как всесильный бог, а как человек, как заведомо смертный.
Мужайтесь, о други, боритесь прилежно,
Хоть бой и неравен, борьба безнадежна!
Над вами светила молчат в вышине,
Под вами могилы — молчат и оне.
Пусть в горнем Олимпе блаженствуют боги:
Бессмертье их чуждо труда и тревоги;
Тревога и труд лишь для смертных сердец...
Для них нет победы, для них есть конец.

Тютчев в 1840-е годы
Поэт через два десятилетия как бы возражает самому себе. Можно сказать, что было два Тютчева: ранний и поздний. И оба по-своему прекрасны.
Нельзя не отметить в его поздней поэзии политических, гражданственных и богоборческих мотивов.
Тютчев-политик
В 1844 году Тютчев возвращается из Германии в Россию. Он снова начинает службу в министерстве иностранных дел, сначала в должности чиновника особых поручений при государственном канцлере, затем — в качестве старшего цензора министерства и, наконец, - председателем комитета иностранной цензуры. На его обязанности лежал просмотр газет, статей и заметок по вопросам внешней политики.

Тютчев пропускал к печати всё, что посылалось ему на одобрение. Исполняя роль цензора, он фактически при этом боролся против цензурного гнёта. Возможно, это и послужило причиной его скорой отставки. (Формальный повод был в том, что он не вернулся вовремя из отпуска).
Император никогда не скрывал своего стремления освободиться от ненадёжных, как он выражался, литераторов. Ему нужны были цензоры, гипертрофированно подозрительные, не имеющие своего мнения, отличного от циркуляров и инструкций. Тютчев таковым не был.
Годы работы в цензурном ведомстве и его положение камергера императорского двора не оставляли места для иллюзий. Однажды он так выразился о людях, которым было доверено управление страной: «Все они более или менее мерзавцы, и глядя на них, просто тошно, но беда наша та, что тошнота наша никогда не доходит до рвоты».
Тютчеву было ясно, что император Николай Павлович - отъявленный лжец и лицемер, и не худо бы нынешним хозяевам России припомнить эту эпитафию, написанную ему поэтом: «Всё было ложь в тебе, всё призраки пустые. Ты был не царь, а лицедей...»

Николай I Павлович Романов
Канцлер Нессельроде расценивал пылкие речи поэта, произносимые в салонах на злободневные политические темы, как враждебные ему выступления, и призывал его «утихомириться». Тютчев, однако, не утихомиривался. Он писал о Нессельроде: «Вот какие люди управляют страной! Нет, право, если только предположить, что Бог на небесах насмехается над человеком...»

К. В. Нессельроде, граф, министр иностранных дел России (1816—56)
До нас дошла замечательная тютчевская фотография 1851 года.

Перед нами лицо или, пожалуй, можно сказать — лик — поэта-мыслителя, поражающий глубиной и высотой духа. И — такая характерная деталь портрета: в правой руке поэта — газета, от которой он только что поднял глаза. Известны стихи Марины Цветаевой, саркастически клеймящие «читателей газет — глотателей пустот», но такие люди, как Тютчев, Достоевский, Толстой, Некрасов (а их в пустоте не обвинить) поистине жить не могли без газет, ибо должны были повседневно слушать бьющийся в них живой пульс мировой истории.
В последние годы жизни Тютчев отдаёт много внимания внешней политике России. Подавляющее большинство его стихотворений, написанных во второй половине 60-х-70-х годов — это сугубо «политические» стихотворения. Они предназначались для публикаций в газетах и играли тогда немалую роль в общественной жизни страны. Возможно, художественная ценность этих стихов Тютчева сравнении с основными его вещами и невелика, но в отдельных стихах этого типа поэт как бы поднимался над «прикладной» целью и создавал довольно сильные творения. Ну вот, например:
Ты долго ль будешь за туманом
Скрываться, Русская звезда,
Или оптическим обманом
Ты обличишься навсегда?
Ужель навстречу жадным взорам,
К тебе стремящимся в ночи,
Пустым и ложным метеором
Твои рассыплются лучи?
Всё гуще мрак, всё пуще горе,
Всё неминуемей беда —
Взгляни, чей флаг там гибнет в море,
Проснись — теперь иль никогда...
Или вот это стихотворение 1870 года — как актуально оно звучит и сейчас!
Два единства
Из переполненной господним гневом чаши
Кровь льется через край, и Запад тонет в ней.
Кровь хлынет и на вас, друзья и братья наши! –
Славянский мир, сомкнись тесней...
«Единство, – возвестил оракул наших дней, –
Быть может спаяно железом лишь и кровью...»
Но мы попробуем спаять его любовью, –
А там увидим, что прочней...
Позже были попытки искусственно отделить политическое в Тютчеве от его поэзии. Блок дал мощный отпор этим попыткам.
В марте 1919 года он записал в дневнике:
«Быть вне политики... С какой же это стати? Это значит, бояться политики, прятаться от неё, замыкаться в эстетику и индивидуализм, предоставить государству расправляться с людьми, как ему угодно... Будем носить шоры и стараться не смотреть в эту сторону... Нет, мы не можем быть вне политики, потому что мы предадим этим музыку, которую можно услышать только тогда, когда мы перестанем прятаться от чего бы то ни было. В частности, секрет некоторой антимузыкальности, неполнозвучности Тургенева, например, лежит в его политической вялости».
Отстранение от политики ведёт к антимузыкальности художника — таково - парадоксальное на первый взгляд — убеждение Блока.
Тютчев — единственный поэт, у кого политической лирики было едва ли не больше, чем любовной. Политика была для него такой же страстью, как и поэзия, и философия, и влюблённость. Страсть, доходившая порой до курьёзов.
Так, за несколько часов до смерти, очнувшись от забытья, поэт спросил: «Какие последние политические известия?» Подобно тому, как Василий Львович Пушкин перед смертью прохрипел: «Как скучны статьи Катенина!» - так и Тютчев умер с вопросом о политических новостях.
Тютчев-богоборец
Отношение к религии и церкви у Тютчева было сложным и противоречивым. Поэт пребывал на грани веры и безверия. Биограф поэта И. С. Аксаков (женатый на дочери Тютчева) писал о нём:

“Он был совершенно чужд в своём домашнем быту не только православно-церковных обычаев и привычек, но даже и прямых отношений к церковно-русской стихии”.
Ещё в 30-х годах Тютчев написал стихи, опубликованные лишь после его смерти, где обращался к Творцу с такими “богохульскими” словами:
И чувства нет в твоих очах,
и правды нет в твоих речах,
и нет души в тебе.
Мужайся, сердце, до конца:
и нет в творении Творца!
И смысла нет в мольбе!
А в 1851 году он напишет одно из самых значительных своих стихотворений “Наш век”:
Не плоть, а дух растлился в наши дни,
и человек отчаянно тоскует.
Он к свету рвётся из ночной тени
и, свет обретши, ропщет и бунтует.
Безверием палим и иссушен,
невыносимое он днесь выносит...
И сознаёт свою погибель он,
и жаждет веры... но о ней не просит.
Не скажет ввек, с молитвой и слезой,
как ни скорбит пред замкнутою дверью:
“Впусти меня! Я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему неверью!”
В 1847 году в возрасте 44 лет Тютчев пишет: «Я отжил свой век... у меня ничего нет в настоящем».

Однако через каких-то два года совершилось подлинное возрождение: в 1849 году после почти 10-летнего творческого молчания поэт вступает в новую и наивысшую для него творческую пору, а в 1850 году его охватывает едва ли не самая властная и глубокая в жизни любовь. Эта любовь найдёт отражение в лирической исповеди поэта, своеобразном романе в стихах, который получил название Денисьевского цикла, названный по имени этой женщины.

И вот тут-то начинается главный Тютчев, которого мы ещё не знали...
Продолжение здесь
|
|
Процитировано 1 раз
Понравилось: 1 пользователю
"О, как убийственно мы любим!..." |
Начало здесь
27 июля 1873 умер Фёдор Иванович Тютчев. Сегодня 140 лет со дня его смерти.

Поэзия Тютчева сопровождает нас на протяжении всей нашей жизни. Мы обращаемся к ней и в дни радости, и в дни печали. Находим в ней ответы на многие состояния души.
Однако в глазах широкого круга и литераторов, и читателей, творчество этого гениального поэта долгое время оставалось «второстепенным явлением», а сам он считался «второстепенным поэтом».
«Душа хотела б быть звездой»
Тютчев пророчески предвидел свою поэтическую судьбу, в одном из стихотворений сказав:
Душа хотела б быть звездой,
но не тогда, как с неба полуночи
сии светила, как живые очи,
глядят на сонный мир земной, -
но днём, когда, сокрытые, как дымом
палящих солнечных лучей,
они, как божества, горят светлей
в эфире чистом и незримом.

Именно такой неяркой неброской звездой была в течение долгих десятилетий судьба тютчевской поэзии. Палящие лучи стихий русской жизни сокрывали её как дымом — в сущности, до наших дней.
Было у него глубокое духовно-аристократическое презрение к толпе, к «бессмертной пошлости людской», ему хотелось замкнуть молчанием душу и жить в своём внутреннем святилище, в Элизиуме теней, среди таинственно-волшебных дум, хотелось быть звездой, но не вечерней, а дневной, когда никто её не видит и можно гореть незаметным для других сиянием.
Он был титулярный советник...
Фёдор Иванович Тютчев родился 5 декабря (по старому стилю 23 ноября) 1803 года в родовом имении Тютчевых в селе Овстуг Орловской губернии Брянского уезда (ныне Брянская область Жуковского района. В этом году — 210 лет со дня его рождения.
усадьба Овстуг. Акварель О. Петерсона, сына Тютчева от первого брака. 1860-е годы.
Накануне Первой мировой войны этот дом был разобран на кирпичи, но позже — восстановлен. Теперь в нём музей.

Тютчев принадлежал к одному из древнейших дворянских семейств. Его мать — Екатерина Львовна — урождённая Толстая.

Лев Толстой приходился Тютчеву шестиюродным братом.

Его пращур — герой Никоновской летописи Захарий Тутчев был послан в Золотую орду к Мамаю с дипломатической миссией, и этим как бы предначертал ещё в 14 веке карьерный путь далёкого потомка.
Когда в 18 лет Тютчев закончил словесное отделение московского университета, на семейном совете было решено, что он поступит на дипломатическую службу.

Ф. Тютчев. Портрет неизвестного художника. 1825.
В 1822 году он был зачислен в Государственную коллегию иностранных дел и в том же году выехал в Мюнхен в качестве чиновника русской дипломатической миссии в Баварии.
Мюнхен

городская ратуша в Мюнхене
17 лет Тютчев проживёт в Германии, занимаясь, в основном, составлением и перепиской бумаг. Продвижение в чинах было весьма скромным — по выслуге лет (титулярный советник, коллежский), к тому же без малейших поощрений. Дело было не в нерадивости или бесталанности будущего поэта — просто он был слишком неординарен для того, чтобы пройти обычным, пусть даже самым успешным путём карьерного дипломата. И слишком велик для любого, самого высокого официального дипломатического поста. А потому был обречён оставаться на самом низком.
«Молчи, скрывайся и таи...»
Поэтом стать Тютчев тоже не торопился, несмотря на то, что первые же его опыты встретили самый благоприятный приём, было несколько публикаций в университетских изданиях. Но стихи очень редко попадали в печать по его инициативе. И причиной была не только скромность поэта, но и убеждение, что в стихах невозможно правдиво и до конца выразить то, что лежит на душе.

О вещая душа моя,
о сердце, полное тревоги...
Тютчев постоянно сомневался в том, что ему удалось внятно выразить открывшееся ему, ибо слово всегда искажает и замутняет мысль. Об этом, в частности, его знаменитое стихотворение «Silentium»:
Молчи, скрывайся и таи
и чувства и мечты свои -
пускай в душевной глубине
заходят и встают оне
безмолвно, как звезды в ночи, -
любуйся ими - и молчи.
Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи, -
питайся ими - и молчи.
Лишь жить в себе самом умей -
есть целый мир в душе твоей
таинственно-волшебных дум;
их оглушит наружный шум,
дневные разгонят лучи, -
внимай их пенью - и молчи!..
Читает Владимир Набоков:

http://prostopleer.com/tracks/4891795Y4uX
Это сквозная тютчевская тема, тема обречённости на непонимание при полной, казалось бы, гармонии, - статус классика в кругу знатоков у него был при жизни, и с читателем была полная взаимность. Однако, «молчи, скрывайся и таи». И - «быть до конца так страшно одиноку, как буду одинок в своём гробу». И - самое откровенное:
Когда сочувственно на наше слово
одна душа отозвалась -
не нужно нам возмездия иного,
довольно с нас, довольно с нас...
(«Возмездие» он употреблял в смысле «воздаяние»). И то уже большое счастье...
"Умом Россию не понять"
Больше двадцати лет, почти треть сознательной жизни Тютчева прошла за границей. Там он создал половину своих лучших творений. Нужно было обладать большой самобытностью духовной природы, чтобы в иноземной среде, чужеязычной обстановке сохранить себя как русского поэта. Лев Толстой с изумлением вспоминал о первой встрече с Тютчевым:

«Меня поразило, как он, всю жизнь вращавшийся в придворных сферах, говоривший и писавший по-французски свободнее, чем по-русски, выражая мне одобрение по поводу моих «Севастопольских рассказов», особенно оценил какое-то выражение солдат, и эта чуткость к русскому языку меня в нём удивила чрезвычайно».
Подобное же изумление испытал при встрече с Тютчевым и Аполлон Майков:

В. Перов. Портрет А. Н. Майкова
«Поди ведь, кажется, европеец был, всю юность скитался за границей в секретарях посольства, а как чуял русский дух и владел до тонкости русским языком!»
Это чувствуется и по его стихам.
Эти бедные селенья,
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!
Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.
Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь небесный
Исходил, благословляя.
Эти стихи восхищали Чернышевского, Тараса Шевченко, цитировались в сочинениях и письмах Достоевского. И что с того, что всю свою молодость, лучшие годы жизни Тютчев провёл в Германии и с чужой землёй был связан самыми дорогими воспоминаниями сердца, привычками быта, воспитанием ума. Но, как сказал другой поэт: «Большое видится на расстояньи». И Тютчев многое из своего далека видел лучше, зорче нас. Именно там он написал свои знаменитые строки:
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.
Другой величайший художник того же поколения Гоголь писал в 1841 году в Италии: «Русь! Русь! Вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу: бедно, разбросано и неприютно в тебе...» Как перекликается с этими словами тютчевское: «Эти бедные селенья, Эта скудная природа...»
"Не то, что мните вы, природа..."
В 20-30-е годы Тютчев написал более десяти стихотворений, непосредственно связанных с Россией, хотя приезжал на родину редко и ненадолго. В 1830 году он создаёт свой «Осенний вечер»:

Есть в светлости осенних вечеров
Умильная, таинственная прелесть!..
Зловещий блеск и пестрота дерев,
Багряных листьев томный, легкий шелест,
Туманная и тихая лазурь
Над грустно-сиротеющей землею
И, как предчувствие сходящих бурь,
Порывистый, холодный ветр порою,
Ущерб, изнеможенье — и на всем
Та кроткая улыбка увяданья,
Что в существе разумном мы зовем
Божественной стыдливостью страданья!..
А через три года в Болдине Пушкин создаст свою осень: «Унылая пора! Очей очарованье! Приятна мне твоя прощальная краса...»
В нашей поэзии найдётся не так много стихов, которые было бы столь уместно поставить рядом, как эти тютчевские и пушкинские строки. Они поистине родные друг другу...
В стихах Тютчева присутствует своего рода первичное, изначальное восприятие природного мира, которое закладывается в нашем сознании в самые ранние годы. Кто не знает из нас этих хрестоматийных строк, знакомых со школьных лет:
«Люблю грозу в начале мая...»
«Чародейкою зимою околдован лес стоит...»
«Зима недаром злится. Прошла её пора...»
«Есть в осени первоначальной...»
«Ещё в полях белеет снег, а воды уж весной шумят...»
Эти строчки уже вошли в состав нашей крови, мы мыслим ими, мы не мыслим себя без них.
Тютчев — пантеист. Он свято верует в одушевлённость природы, в своё конечное слияние с ней. Каждому душевному настроению должно быть непременно соответствие в природе, каждая дума и каждое чувство имеют в ней свой отзвук.
Однажды в весенний дождливый вечер Тютчев, вернувшись домой, почти до нитки промокший, пока его раздевали, стал смотреть на дождевые капли, струящиеся по оконному стеклу.

И вдруг сказал дочери: «Я сочинил стихотворение». И продиктовал ей:
Слезы людские, о слезы людские,
Льетесь вы ранней и поздней порой,
Льетесь безвестные, льетесь незримые,
Неистощимые, неисчислимые,-
Льетесь, как льются струи дождевые
В осень глухую порою ночной.

Для Тютчева жизнь сердца и вселенной образуют стройное созвучие, великую и вечную рифму.
Дума за думой, волна за волной -
два проявленья стихии одной.
Он никогда не ограничивается простым описанием картинки природы, любая зарисовка говорит нам что-то о жизни сердца.
Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик -
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...

Эта природа, в лоно которой мы все вернёмся, примет нас, блудных сыновей, и она же забудет о нас и рассеет мираж нашего я, будто все мы — только её сновидения...
Поочерёдно всех своих детей,
свершающих свой подвиг бесполезный,
она равно приветствует своей
всепоглощающей и миротворной бездной.
Ранний Тютчев
Ранняя и поздняя лирика Тютчева отличаются настолько, что нужно говорить о них отдельно, как о самостоятельных поэтических мирах.
Раннее творчество поэта (20-30-е годы) проникнуто мировым, космическим, вселенским духом. Поэзия Тютчева этих лет празднична, даже в своих драматических, трагедийных проявлениях:
Как жадно мир души ночной
внимает повести любимой!
Из смертной рвётся он груди,
он с беспредельным жаждет слиться!

В ранней тютчевской поэзии отсутствует тема смерти, есть лишь мотив растворения в бессмертном мире природы, слияния с беспредельным.

Ранний Тютчев — это поэт цветущей молодости, который чувствует себя призванным на пир богов и верит в своё бессмертие:
Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир.
Он их высоких зрелищ зритель,
Он в их совет допущен был -
И заживо, как небожитель,
Из чаши их бессмертье пил!
Стихи поэта в эти годы лаконичны, цельны, в них нет эпических или драматических начал, это чистая лирика. Она субъективна, её повод — всегда в личном ощущении, впечатлении и мысли. Это глубоко интимная лирика, обращённая к сокровенной душевной жизни человека.
«Как я любил их — знает Бог!»

Любовь — чувство, занимавшее в жизни Тютчева исключительное место. Он отдавался ему безоглядно, всем своим существом. На седьмом десятке он пишет дочери Дарье (уже тоже далеко не юной и так и не вышедшей замуж) письмо, где отмечает то общее, что было в их натурах: «Тебе, столь любящей и столь одинокой, тебе, кому я, быть может, передал по наследству это ужасное свойство, не имеющее названия, нарушающее всякое равновесие в жизни, эту жажду любви, которая у тебя, моё бедное дитя, осталась неутолённой».
Тютчевские любовные романы не похожи на пушкинские: лёгкое отношение к любви ему незнакомо. Если у Пушкина мы читаем: «Кляну коварные старанья преступной юности моей... И ласки легковерных дев, и слёзы их, и поздний ропот...», то Тютчев ничего подобного сказать о себе бы не мог. Всякое любовное увлечение он доводил до самых серьёзных обязательств перед любимой женщиной, до неразрывных сердечных и семейных уз.
Я очи знал — о, эти очи!
Как я любил их — знает Бог!

В том-то и дело, что любил, и не врал перед Богом, и был преступно неосмотрителен, безнадёжно неопытен и в 30, и в 50, и в 60 с лишним лет. Никакой «науки страсти нежной, которую воспел Назон» - всё как впервые, и женщины это чувствовали, и любили его, и прощали то, что другим бы простить не смогли.
В его отношении к женщине никогда не было ничего низкого, грязного, недостойного. Он вносил в него столько поэзии, мягкости, деликатности чувств, что походил скорее на жреца, преклоняющегося перед своим кумиром, нежели на счастливого обладателя. Ни в одном стихотворении Тютчева, посвящённого женщине, не отыскать и тени чего-либо не только циничного, сладострастного, но даже просто игривого, лёгкого, несерьёзного. Все они дышат одним и тем же чувством скромного и глубокого обожания.
Полюбив, Тютчев уже не мог, не умел разлюбить. Любимая женщина являла для него как бы полнозвучное воплощение целого мира. Это ясно запечатлелось в его стихах к той, кого мы знаем как первую любовь поэта.
«И всюду страсти роковые!..»
Вскоре после приезда в Мюнхен (весной 1823 года) Тютчев влюбляется в дочь мюнхенского дипломата 16-летнюю графиню Амалию фон Лерхенфельд.

Поэт посвящает ей восторженные строчки:
Твой милый взор, невинной страсти полный,
златой рассвет небесных чувств твоих...

Но им не суждено было связать свои судьбы. А в 1833 году Тютчев, уже давно женатый на другой, напишет одно из обаятельнейших своих стихотворений, которым, по-видимому, отметил 10-летнюю годовщину своей влюблённости в Амалию, воссоздав поразившую его душу встречу с ней:

Я помню время золотое,
Я помню сердцу милый край.
День вечерел; мы были двое;
Внизу, в тени, шумел Дунай.
И на холму, там, где, белея,
Руина замка вдаль глядит,
Стояла ты, младая фея,
На мшистый опершись гранит,
Ногой младенческой касаясь
Обломков груды вековой;
И солнце медлило, прощаясь
С холмом, и замком, и тобой.
И ветер тихий мимолетом
Твоей одеждою играл
И с диких яблонь цвет за цветом
На плечи юные свевал.
Ты беззаботно вдаль глядела...
Край неба дымно гас в лучах;
День догорал; звучнее пела
Река в померкших берегах.
И ты с веселостью беспечной
Счастливый провожала день;
И сладко жизни быстротечной
Над нами пролетала тень.

Место прогулок Тютчева и Амалии под Регенсбургом. На заднем плане руины старинного замка.
Амалия была одарена редкостной, уникальной красотой. Ею восхищались Гейне (он называл её «божественной Амалией»), Пушкин, Николай I, его министр Бенкендорф. Баварский король Людвиг I заказал портрет Амалии для собираемой им галереи европейских красавиц.

Амалия Крюденер. Портрет работы И. Штилера. 1831 год.
Взаимоотношения Амалии Крюденер с Тютчевым, продолжавшиеся целых полвека, говорят о том, что она сумела оценить поэта и его любовь. Она любила его, но не смогла или не захотела связать с ним свою судьбу.
В 1824 году Тютчев решился просить руки Амалии у её родителей. Но их не устраивал нетитулованный русский дипломат, находящийся в Германии почти без места, на внештатной службе, небогатый — они не считали это удачной партией.
Тютчеву отказали. 23 ноября 1824 года он пишет стихотворение, начинающееся словами:
Твой милый взор, невинной страсти полный,
Златой рассвет небесных чувств твоих
Не мог, увы! умилостивить их –
Он служит им укорою безмолвной.
Родители Амалии отдали предпочтение другому жениху — барону Крюденеру. Тютчев немедленно тайно вызвал соперника на дуэль. Счастливый жених отказался, придравшись к какому-то незначительному нарушению дуэльного кодекса. Обвенчавшись с Амалией, он вскоре стал I секретарём русской миссии в Мюнхене (Тютчев числился лишь сверхштатным чиновником) и являл собой, конечно, более надёжного супруга, чем его соперник.

баронесса Амалия Крюденер
Надо отметить, что Амалия лишь считалась дочерью видного мюнхенского дипломата графа Лерхенфельда, на самом же деле была внебрачной дочерью прусского короля Фридриха-Вильгельма III-го и являлась таким образом побочной сестрой другой дочери этого короля — русской императрицы, супруги Николая I-го Александры Фёдоровны.

король Пруссии Фридрих-Вильгельм III
Королевская дочь, к тому же ослепительная красавица, Амалия явно стремилась добиться более высокого положения в обществе. И это ей удалось. Её первый муж, а затем и второй — адъютант императора Николай Адлерберг - сделал карьеру, занял ответственный пост в министерстве иностранных дел.

Николай Адельберг
К Тютчеву же она всю жизнь относилась с теплотой, много раз и совершенно бескорыстно оказывая ему важные услуги, что того всегда очень смущало. Поэт говорил, что использовать высокие дружеские отношения для своих низких нужд — это всё равно что скроить панталоны из холста Рафаэля.
Тютчев продолжал её любить всегда, хотя это была уже скорее нежная дружба, чем любовь. Через много лет в 1870 году (в 67 лет) он встретился с Амалией Максимилиановной в курортном Карлсбаде (ныне Карловы Вары). Там (по одной из версий) родились его знаменитые строки:
К. Б.
Я встретил вас - и все былое
В отжившем сердце ожило;
Я вспомнил время золотое -
И сердцу стало так тепло...
Как поздней осени порою
Бывают дни, бывает час,
Когда повеет вдруг весною
И что-то встрепенется в нас,-
Так, весь обвеян духовеньем
Тех лет душевной полноты,
С давно забытым упоеньем
Смотрю на милые черты...
Как после вековой разлуки,
Гляжу на вас, как бы во сне,-
И вот - слышнее стали звуки,
Не умолкавшие во мне...
Тут не одно воспоминанье,
Тут жизнь заговорила вновь,-
И то же в нас очарованье,
И та ж в душе моей любовь!..

«Я встретил вас ...» История романса
Одно из самых своих пленительных стихотворений «Я встретил вас» Тютчев написал в Карлсбаде в июле 1870- го, после внезапной встречи и прогулки с... по традиции считается, что с Амалией Адлерберг. Долгое время утверждалось, что посвящение "К.Б." следует расшифровывать, как "Крюденер, баронессе" (в прим. к полн. собр. соч. 1912 года). При этом ссылались на свидетельство Я. П. Полонского (1819-1898), которому Тютчев сам назвал адресата; к тому же в стихотворениях "Я встретил вас – и все былое..." и "Я помню время золотое..." упоминается одно и то же "время золотое".
Однако позже этот факт был поставлен под сомнение. Во втором номере журнала «Нева» за 1988 год появилась статья А. А. Николаева «Загадка К. Б.», в которой утверждалось, что стихи Тютчева написаны вовсе не Амалии Крюденер. Хотя бы потому, что летом 1870 года Амалия Крюденер не была в Карлсбаде или поблизости от него: в полицейских протоколах и бюллетенях курортных гостей за летние месяцы 1870 года имя Амалии Адлерберг (в первом браке – Крюденер, в девичестве – Лерхенфельд) не значится. А стихи написаны именно там. Амалия же, судя по семейной переписке, находилась в это время или в Петербурге, или в его окрестностях, или в своих русских имениях.
Сам А. А. Николаев считает, что за этими буквами Тютчев скрыл инициалы Клотильды Ботмер ( в замужестве Мальтиц), сестры первой жены Тютчева Элеоноры Ботмер.

Клотильда Ботмер ( в замужестве Мальтиц), сестра первой жены Тютчева Элеоноры Ботмер, адресат (предполагаемый) его стихотворения «Я встретил Вас»
Исследователь привел и ряд доказательств в пользу своей версии, главное из которых – именно с Клотильдой мог повидаться поэт между 21 и 26 июля 1870 года в одном из городов невдалеке от Карлсбада перед поездкой в Теплиц (прим. к Большой серии БП 1987 года), и потому «она – наиболее вероятный адресат стихотворения «Я встретил вас». Только к ней Тютчев мог обратить строки:
Тут не одно воспоминанье,
Тут жизнь заговорила вновь…»

Это стихотворение при жизни поэта не получило широкой известности. Напечатано впервые было в 1870 году в небольшом петербургском журнале «Заря». И лишь спустя 22 года как новое было опубликовано в «Русском архиве».
Первым написал мелодию к этим стихам Тютчева композитор С. Донауров. Потом их положили на музыку А. Спиро и Ю. Шапорин. Но эта музыка напоминала больше медленный вальс, чем романс, поэтому не прижилась. А автором мелодии, столь органично слившейся со словами, стал русский композитор Л. Д. Малашкин, автор оперы «Илья Муромец» и симфонии «Жизнь художника».

композитор Л. Д. Малашкин
Ноты романса Малашкина «Я встретил вас» были изданы в Москве в 1881 году тиражом не более 300 экземпляров.

Немудрено, что этот крошечный тираж не только мгновенно разошелся, но и за целый век (век!) потерялся, исчез в океане нотных публикаций. А возрождению этого романса мы обязаны замечательному певцу И. С. Козловскому, который исполнил «Я встретил вас» в своей аранжировке в середине 50-х годов.

А он в свою очередь много лет назад услышал его от народного артиста МХАТа Ивана Москвина и потом записал по памяти.

Иван Москвин, артист МХАТа
И этот романс запели повсюду.
http://video.mail.ru/mail/lyudm7-395/9580#video=/mail/lyudm7-395/9580/12350
Романс "Я встретил Вас" в исполнении И. Козловского. Запись 40-х годов.
Продолжение здесь
|
|
Процитировано 4 раз
Понравилось: 4 пользователям




















