-Поиск по дневнику
-Подписка по e-mail
-Друзья
-Постоянные читатели
-Статистика
Записей: 871
Комментариев: 1385
Написано: 2520
"Болящий дух врачует песнопенье..." (окончание) |
Начало здесь

Пробуждение
По большому счёту Пушкин оказался прав. На какое-то время Баратынский с головой ушёл «в шапку с ушами» и писал друзьям вот такие полусонные послания: «Я живу потихоньку, как следует женатому человеку, и очень рад, что променял беспокойные сны страстей на тихий сон тихого счастья. Из действующего лица я сделался зрителем и, укрытый от ненастья в моём углу, иногда посматриваю, какова погода в свете».
Но однажды поэт проснулся в нём. И с новой силой вспыхнула страсть к Аграфене Закревской.
В порыве откровенности Баратынский признаётся в письме другу Путяте: «До сих пор ещё эта женщина преследует моё воображение, я люблю её и желал бы видеть её счастливой». Скорее всего, это была лишь тоска по прежней бурной жизни его души, по всему тому, что питало его поэзию.
В борьбе с тяжелою судьбой
Я только пел мои печали, -
Стихи холодные дышали
Души холодною тоской;
Когда б тогда вы мне предстали,
Быть может, грустный мой удел
Вы облегчили б... Нет! едва ли!
Но я бы пламеннее пел.
Это не столько стихи, сколько крики отчаяния, обращённые к той, которую он и презирал, и одновременно мучительно желал.
Нет, обманула вас молва,
По-прежнему дышу я вами,
И надо мной свои права
Вы не утратили с годами.
Другим курил я фимиам,
Но вас носил в святыне сердца;
Молился новым образам,
Но с беспокойством староверца.
Но уж если и в былые времена Аграфену мало волновали и сам Баратынский, и его стихи, то теперь она и вовсе не удостоила своим вниманием этих строк. Что ей какой-то Баратынский, когда для неё теперь писал влюблённые стихи сам Пушкин!
В это время у Закревской был в самом разгаре роман с Пушкиным, который тоже, в общем, был для неё одним из многих. А Пушкин был страшно ревнив...

В письме Елизавете Хитрово он пишет: «Я имею несчастье состоять в связи с остроумной, болезненной и страстной особой, которая доводит меня до бешенства, хоть я и люблю её всем сердцем».
Именно в это время в стихах Пушкина, в его прозе и набросках возникает образ ненасытной Клеопатры, которой мало одного любящего мужчины, одного постоянного любовника («Египетские ночи», «Гости съезжались на дачу...»). Ей он посвятил свой знаменитый восхищённый «Портрет»:
С своей пылающей душой,
С своими бурными страстями,
О жены Севера, меж вами
Она является порой
И мимо всех условий света
Стремится до утраты сил,
Как беззаконная комета
В кругу расчисленном светил.
Баратынский, узнав, что у Пушкина роман с Закревской, ссориться с ним не захотел и отступился. В стихах он поспешил успокоить соперника:
Поверь, мой милый! твой поэт
Тебе соперник не опасный!
Он на закате юных лет,
На утренней заре ты юности прекрасной...
Счастливый баловень Киприды!
Знай сердце женское, о! знай его верней.
И за притворные обиды
Лишь плату требовать умей!
А мне, мне предоставь таить огонь бесплодный,
Рожденный иногда воззреньем красоты,
Умом оспоривать сердечные мечты
И чувство прикрывать улыбкою холодной.

Закревская же не относилась к Пушкину серьёзно, смотрела на него как на «арапчонка», милого забавника, а в общем-то гордилась, что делила ложе со всероссийской знаменитостью. Когда тело убитого поэта оставили до дня погребения в склепе при Конюшенной церкви, Аграфена Фёдоровна вместе с несколькими дамами провела ночь у гроба, втихомолку сладострастно обсуждая дорогие её сердцу подробности.
Соперники

Баратынского и Пушкина многое связывало, как в жизни, так и в поэзии. У них много перекличек в стихах, вольных и невольных совпадений, заимствований. Например, стихотворение Пушкина «Вновь я посетил тот уголок земли…» кажется составленным из первых фраз стихов Баратынского: «Есть милая страна, есть угол на земле...» и «Запустение» («Я посетил тебя, пленительная сень...»).
У Баратынского: «И брызжет мельница. Деревня, луг широкий...» У Пушкина: «Рассеяны деревни – там за ними скривилась мельница...».
Очевидна связь между «Признанием» Баратынского («Притворной нежности не требуй от меня...») и пушкинской элегией 26-го года «Под небом голубым страны своей родной...».
У Баратынского:
Напрасно я себе на память приводил
и милый образ твой, и прежние мечтанья:
безжизненны мои воспоминанья...
У Пушкина:
Напрасно чувство возбуждал я:
из равнодушных уст я слышал смерти весть
и равнодушно ей внимал я.
И даже пушкинскому «для бедной легковерной тени» предшествовало у Баратынского: «уж ты жила неверной тенью в ней».
Очевидно, что оба поэта были призваны решить сходные задачи, стоявшие перед поэтической речью. При этом Пушкин, делавший это более ярко и энергично, затмевал собрата по перу.

Самолюбие Баратынского страдало. Гордость не позволяла ему подражать гению. Он стремится идти своим путём: начинает бороться с той лёгкостью и накатанностью поэтического стиля, для которых так много сделал вместе с Пушкиным в начале 20-х. От прелестной соразмерности и гармоничности стихотворной речи Баратынский переходит к грамматическим нарушениям нормативной лексики и синтаксиса, сознательно архаизируя и утяжеляя речь так, словно с гладкой наезженной дороги вдруг съезжаешь на обочину, где читателя трясёт на кочках и ухабах. Про него, как про Толстого, можно сказать, что он сознательно начинает писать «коряво». И только так, осмелясь пойти против течения, Баратынский добивается того, что его стих уже невозможно спутать с пушкинским.

Это не зависть. Завистник мечтает поменяться судьбой и талантом с объектом своего страстного чувства. Баратынский не хотел бы поменяться с Пушкиным своим даром. Он слишком дорожит своей независимостью в литературе. Они очень разные. Как свет и тьма. Пушкину ночь внушала чувство подавленности и тоски («Всюду мрак и сон докучный»). Для Баратынского всё наоборот: «Видений дня боимся мы, людских сует, забот юдольных...», «На что вы, дни...». Пушкин – «солнце русской поэзии», Баратынский – «сумрачный гений». Баратынский – поэт мысли («живых восторгов лёгкий рай я заменю холодной думой»), Пушкин ратует за «глуповатость» поэзии. (Конечно, Баратынского отличает от Пушкина не превосходство ума, а склонность к анализу. Пушкин слишком гармоничен, чтобы выглядеть поэтом какой-то одной черты).
Баратынский, обманутый лёгкостью слога, явно недооценивал интеллект Пушкина. Он был потрясён, заглянув в бумаги поэта после его смерти. И писал жене: «Ненапечатанные пушкинские стихотворения отличаются – чем бы ты думала? – силою и глубиною».

Пушкин же оказался проницательнее Баратынского, он с самого начала оценил его самобытность и независимость, «стройность и зрелость необыкновенную» самых первых опытов, всегда восхищался его творениями в письмах друзьям. В письме П. Вяземскому:
«Но каков Баратынский? Признайся, что он превзойдёт и Парни, и Батюшкова. Оставим ему его эротическое поприще и кинемся каждый в свою сторону, а то спасенья нет». В письме А. Бестужеву: «Признание» – совершенство. После него никогда не стану печатать своих элегий».

Сквозь восхищение отчётливо просвечивает поэтическая ревность. Это у Пушкина-то! Да, он был далёк от самодовольства «самодостаточных» виршеплётов, ничего не читающих и никем не интересующихся кроме себя, любимых. Баратынский тоже недоволен собой, в том числе и своим хвалёным «раздробительным» умом: «Всё мысль да мысль! Художник бедный слова...» Он сетует, что «на грудь мне дума роковая гробовой насыпью легла», и удушает его этот дар, он чувствует, что из-за него не будет ему хмеля на празднике жизни:
Но пред тобой, как пред нагим мечом,
мысль, острый луч, бледнеет жизнь земная!
Они оба завидуют друг другу: Пушкин – простодушно-открыто, Баратынский – не признаваясь в этом даже себе самому. Но это плодотворная, поэтическая, а не житейская зависть, следствием которой были не желание строить козни сопернику, опорочить его творения, а требовательность к себе, стремление превзойти своего кумира, то есть зависть вдохновляющая, стимулирующая творческий импульс. Она не исключает симпатии к сопернику. Пушкин тянется душой к Баратынскому. Тот, напротив, старается отдалиться. Пушкин с горечью пишет:
Но посреди печальных скал,
отвыкнув сердцем от похвал,
один, под финским небосклоном,
он бродит, и душа его
не слышит горя моего.
На самом деле Баратынский всю жизнь напряжённо думал о Пушкине, соизмерял с ним каждый творческий шаг. Книга «Сумерки», вышедшая в 1842 году, только формально посвящена Вяземскому, на самом деле – Пушкину. Постоянная мысль о нём пронизывает едва ли не каждое стихотворение.
Но в целом их творчество – это перекличка несогласия, спора. Например, любимому пушкинскому слову «пора» («Пора, мой друг, пора...», «Пора, пора! Рога трубят...» и т.д.) у Баратынского противостоит слово «поздно»: «Уж поздно. Встать, бежать готова с негодованием она...», «Уж поздно. Дева молодая...» За этими двумя словами – всё различие их темперамента и мировоззрения.
«Затем, что ветру и орлу// и сердцу девы нет закона» – с этими пушкинским стихами спорят стихи Баратынского: «Бродячий ветр не волен, и закон //его летучему дыханью положён». И с ослепительной лучезарной «Осенью» Пушкина спорит «Осень» Баратынского, самое мрачное и трагическое стихотворение в нашей поэзии.
Да, Баратынский спорил с Пушкиным, но то был высокий, поэтический спор.


Можно ли считать его проявлением низкой зависти и сальеризма? «Баратынский не был с ним искренен, завидовал ему, радовался клевете на него», – писал П. Нащокин. С. Соболевский, хорошо знавший и Пушкина, и Баратынского, называл это высказывание «сущей клеветой».
Баратынский был первым, кому Пушкин прочёл свои новые вещи, написанные им в Болдино в 1830 году, в том числе и «Моцарта и Сальери».

А как слушал их Баратынский, мы узнаём из письма Пушкина П. Плетнёву: «Написал я прозою пять повестей, от которых Баратынский ржёт и бьётся». Завистники так не слушают.
Но кто сказал, что одному поэту должно нравиться всё, что делает другой? Заболоцкий не любил Ахматовой, Ахматова не признавала Цветаеву, а позже – всех шестидесятников, в том числе и Ахмадулину. Мандельштам «не заметил» лучшей вещи М. Кузмина «Форель разбивает лёд». Ю. Карабчиевский ниспровергал Маяковского – да мало ли таких примеров.
Баратынскому не нравились «Сказки» Пушкина (в частности, «Сказка о царе Салтане»). Он вообще с сомнением относился к необходимости дублировать фольклор и перекладывать его на современный поэтический язык. Сам, во всяком случае, этого никогда не делал. И это его право. Что же касается его критических замечаний по поводу «Евгения Онегина» в письме Киреевскому, упрёков в подражании Байрону, действительно несправедливых, – опять-таки это его частное дело. Пушкин, например, тоже в частном письме высказывает едкие замечания по поводу «Горе от ума». Более того, вполне вероятна и, по-видимому, неизбежна ревность одного поэта к другому, особенно когда один из них незаслуженно обойдён вниманием и славой.
Но вот портрет Пушкина в стихах Баратынского:
Ты, Пушкин наш, кому дано
Петь и героев, и вино,
И страсти молодости пылкой,
Дано с проказливым умом
Быть сердца верным знатоком
И лучшим гостем за бутылкой...

Завистник так никогда не напишет.
Сумерки
В 1828 году были предложены два варианта судьбы поэта в России. Пушкинский, как мы знаем, оказался гибельным.

Но и вариант Баратынского, вариант частной жизни, не был счастливым: новый, непривычный, он означал изоляцию, равнодушие публики, непонимание критики, забвение.

Последней книгой Баратынского стала «Сумерки». Время, когда свет и тьма сходятся, составляет единое целое. Это сумерки души, сумерки жизни.

Это стихи об одиночестве художника, о бессмысленности и бесплодности жизни, об отчаянии человека, не находящего отзыва своему слову.
Летел душой я к новым племенам,
любил, ласкал их пустоцветный колос.
Я дни извёл, стучась к людским сердцам,
всех чувств благих я подавал им голос.
Ответа нет!
(Эхом отзывается пушкинское «Эхо»: «Тебе ж нет отклика... Таков и ты, поэт!»)
Разлад с современностью, подведение неутешительных итогов жизни, противопоставление исторического прогресса и духовной природы человека, природа человеческой духовности — всё это составляет сквозной лирический образ «Сумерек». Книга эта была очень дорога Баратынскому. Выстраданная, выношенная, можно сказать, программная книга поэта.
Лермонтов писал в предисловии к «Журналу Печорина»: «История души человеческой — едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно, когда она — следствие наблюдений ума зрелого над самим собою...» Книга Баратынского «Сумерки» - по существу, и есть то, что Лермонтов называл « следствием наблюдений ума зрелого над самим собою».

Благословен святое возвестивший!
Но в глубине разврата не погиб
Какой-нибудь неправедный изгиб
Сердец людских пред нами обнаживший.
Две области — сияния и тьмы —
Исследовать равно стремимся мы.
Самое прекрасное и самое мрачное стихотворение Баратынского в этой книге - «Осень». Это элегическая жалоба на увядание, одиночество, опустошённость, крушение надежд. Человек здесь дышит «с природой одною жизнью».
Прощай, прощай, сияние небес!
Прощай, прощай, краса природы!
Волшебного шептанья полный лес,
Златочешуйчатые воды!
В поразительно красивых строфах Баратынский описал, что приносит этот вечер года человеку, «оратаю жизненного поля», какую жатву собирает он «в зёрнах дум».
Ты так же ли, как земледел, богат?
И ты, как он, с надеждой сеял;
И так, как он, о дальнем дне наград
Сны позлащенные лелеял...
Любуйся же, гордись восставшим им!
Считай свои приобретенья!..
Увы! к мечтам, страстям, трудам мирским
Тобой скопленные презренья,
Язвительный, неотразимый стыд
Души твоей обманов и обид!
Твой день взошел, и для тебя ясна
Вся дерзость юных легковерий;
Испытана тобою глубина
Людских безумств и лицемерий.
Ты, некогда всех увлечений друг,
Сочувствий пламенный искатель,
Блистательных туманов царь — и вдруг
Бесплодных дебрей созерцатель,
Один с тоской, которой смертный стон
Едва твоей гордыней задушён.
Зови ж теперь на праздник честный мир!
Спеши, хозяин тароватый!
Проси, сажай гостей своих за пир
Затейливый, замысловатый!
Что лакомству пророчит он утех!
Каким разнообразьем брашен
Блистает он!.. Но вкус один во всех
И как могила людям страшен:
Садись один и тризну соверши
По радостям земным твоей души!
Это в полном смысле симфоническое произведение — таким оно наполнено торжественным, могучим оркестровым звучанием.
Баратынского называли самым мрачным поэтом в России, отцом современного пессимизма, сравнивая с Шопенгауэром, что особенно очевидно на фоне светлого гармоничного Пушкина. Но чем безысходнее был его пессимизм, чем упрямее он отгораживался и замыкался, тем надёжнее обеспечивал себе место в душе читателя. Пусть — избранного. Пусть — будущего. Ведь трагедия — она в конечном счёте плодотворна и в каком-то смысле оптимистична: ставя человека на грань существования, она открывает ему смысл бытия.
Образ Баратынского нередко ассоциируется с Гамлетом: аналитичность ума и склонность к меланхолии дают к этому основания. Или с Фаустом. Его стихотворение «Памяти Гёте» своим пантеизмом поразительно созвучно монологу Фауста из сцены «Лес и пещера», где Гёте выражает само существо своей натурфилософии. Природа будила у Гёте и у Баратынского родственные чувства.

С природой одною он жизнью дышал,
Ручья разумел лепетанье,
И говор древесных листов понимал,
И чувствовал трав прозябанье.
Была ему звёздная книга ясна,
и с ним говорила морская волна.
Изведан, испытан им весь человек!
И ежели жизнью земною
Творец ограничил летучий наш век,
И нас за могильной доскою,
За миром явлений не ждет ничего, —
Творца оправдает могила его.
(«На смерть Гёте»)
Тема теодицеи — оправдания творца, оправдания божественного промысла — звучит и в неоконченной поэме Баратынского «Вера и безверие» (более позднее название «Отрывок»). Там поднимаются будущие вопросы Ивана Карамазова: богоборческий ропот, вызванный нравственным несовершенством мира.

Как! Не терпящая смешенья
в слепых стихиях вещества,
на хаос нравственный воззренья
не бросит мудрость Божества!
Поражает отчаяние и отчаянная смелость поэта, его готовность призвать Всевышнего к ответу.
Там, за могильным рубежом
сияет день незаходимый,
и оправдается Незримый
пред нашим сердцем и умом.
церковь в усадьбе Баратынского
Религиозные мотивы вообще не свойственны поэзии Баратынского, но и атеистом он не был. Бог для него — организующая субстанция, сосредоточившая в себе всю творческую, волевую, разумную, эстетическую и нравственную мощь мира. Тему эту подытоживает стихотворение поэта, написанное в последний год жизни - «Молитва», которое очень ценил Лев Толстой:
Царь небес! Успокой
дух болезненный мой!
Заблуждений земли
мне забвенье пошли
и на строгий твой рай
силы сердцу подай.
«В область свободную влажного Бога»
Осенью 1843 года Баратынский с женой и тремя старшими детьми решили осуществить давнюю мечту — отправились путешествовать. Их маршрут был таким: Берлин, Дрезден, Лейпциг, Кёльн, Брюссель, Париж. А в апреле 1844-го из Парижа они отправились в Италию.
Италия более всех прочих стран привлекала поэта. Ещё в юности он мечтал побывать там, и даже однажды воскликнул экспромтом:
Небо Италии, небо Торквата,
прах исторический древнего Рима,
родина неги, славой богата,
будешь ли некогда мною ты зрима?
Это путешествие оказалось для него роковым.
В Италию Баратынские добирались пароходом, по-тогдашнему — пироскафом, на котором и сочинилось его стихотворение «Пироскаф». Стихотворение, которому суждено было стать последним, похожее на прощание.
Дикою, грозною ласкою полны,
Бьют в наш корабль средиземные волны.
Вот над кормою стал Капитан.
Визгнул свисток его. Братствуя с паром,
Ветру наш парус раздался недаром:
Пенясь, глубоко вздохнул океан!
Мчимся. Колеса могучей машины
Роют волнистое лоно пучины.
Парус надулся. Берег исчез:
Наедине мы с морскими волнами;
Только что чайка вьется за нами
Белая, рея меж вод и небес...
«Пироскаф» критики считали загадкой и чудом поэзии Баратынского. Это единственное за всю его жизнь такое беспримесно-бодрое, энергичное, радостно-ликующее, уверенно устремлённое в будущее стихотворение.
Много земель я оставил за мною;
Много я вынес смятенной душою
Радостей ложных и истинных зол;
Много мятежных решил я вопросов,
Прежде чем руки марсельских матросов
Подняли якорь, надежды симвОл!
С детства влекла меня сердца тревога
В область свободную влажного бога;
Жадные длани я к ней простирал.
Темную страсть мою днесь награждая,
Кротко щадит меня немочь морская,
Пеною здравия брызжет мне вал!
В «Пироскафе» и следа не осталось от скорбного надрыва, характерного для «Сумерек». Никогда ещё прежде у Баратынского сама музыка стиха не звучала так мажорно, открыто, светло, как здесь. Всё в этом стихотворении было необычно для поэта: и восхищение одним из достижений «железного века» - пароходом, и короткие, отрывистые фразы, придающие стиху напряжённость и динамичность, и какая-то безоблачная ясность и непосредственность чувства. Это опыт абсолютно новой поэзии Баратынского и, казалось, за этим брезжит новая страница его жизни.
Нужды нет, близко ль, далеко ль до брега!
В сердце к нему приготовлена нега.
Вижу Фетиду; мне жребий благой
Емлет она из лазоревой урны:
Завтра увижу я башни Ливурны,
Завтра увижу Элизий земной!
Но «Пироскафу» не суждено было стать новым этапом творчества Баратынского. 29 июня (11 июля) 1844 года он скоропостижно скончался в Неаполе.
У А. Кушнера есть стихотворение «Путешествие», заканчивающееся так:
Так Баратынский с его пироскафом
Думал увидеть, как мячик за шкафом,
Влажный Элизий земной,
Башни Ливурны, а ждал его тесный
Ящик дубовый, Элизий небесный,
Серый кладбищенский зной.
Загадка смерти
В его смерти была какая-то загадка. Врач посетил накануне заболевшую (нервный припадок) Настасью Львовну, а придя назавтра в 7 утра с повторным визитом, застал мёртвым её мужа, скончавшегося за 45 минут до его прихода.
Баратынский был очень привязан к жене. О его чувствительном сердце говорил ещё Плетнёв, когда тот буквально слёг при известии о смерти Дельвига. Пушкин писал тогда Плетнёву: «Баратынский болен с огорчения. Меня не так-то легко с ног свалить». И вот так же на этот раз он занемог от тревоги за жену.

Из воспоминаний П. А. Плетнёва: «Накануне русского праздника святых апостолов Петра и Павла занемогла жена Баратынского. Доктор советовал, чтобы ей открыть кровь — и когда муж удивился, что надобно употребить эту сильную меру в припадке, по-видимому, обыкновенном, то доктор объявил, что иначе может последовать воспаление в мозгу. Слова его так встревожили Баратынского, что он сам почувствовал лихорадочный припадок, который ночью усилился».
Жена-то выздоровела, а вот Баратынского припадок свёл в могилу. Ему было всего 44 года.

Похоронен в Петербурге на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры, рядом с Гнедичем и Крыловым.

А. Кушнер, посетивший могилу поэта, написал стихотворение, которое начиналось так:
Я посетил приют холодный твой вблизи
Могил товарищей твоих по русской музе,
Вне дат каких-либо, так просто, не в связи
Ни с чем, — задумчивый, ты не питал иллюзий
И не одобрил бы меня,
Сказать спешащего, что камень твой надгробный
Мне мнится мыслящим в холодном блеске дня,
Многоступенчатый, как ямб твой разностопный.
И — последние его строки:
И, примирение к себе примерив, я
Твержу, что твердости достанет мне и силы
Не в незакатные края,
А в мысль бессмертную вблизи твоей могилы
Поверить, — вот она, живет, растворена
В ручье кладбищенском, и дышит в каждой строчке,
И в толще дерева, и в сердце валуна,
И там, меж звездами, вне всякой оболочки.

Этими словами мне бы и хотелось закончить.
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/208440.html
Литература:
1. Баратынский. Полное собр. Стих-й. Сов. писатель. 1989. Большая серия.
2. Баратынский. Стихотворения и поэмы. Изд. «Наука», М., 1982, под ред. Л.Г. Фризмана.
3. С. Г. Бочаров. О художественных мирах. М., Сов. Россия, 1985.
4. Е. Лебедев. Тризна. Книга о Баратынском. Изд. Современник, М.,1985.
5. Ю. Айхенвальд. Силуэты рус. писателей. М., изд. Республика, 1994.
6. Л. Гинзбург. О лирике. Сов. писатель, Л., 1974.
7. А. Кушнер. Волна и камень. Стихи и проза. Санкт-Петербург, Логос, 2003.
|
|
"Болящий дух врачует песнопенье..." (продолжение) |
Начало здесь

« Страшись прелестницы опасной»
Аграфена Закревская приходилась двоюродной сестрой художнику Ф. П. Толстому и двоюродной тёткой писателям Л. Н. и А. К. Толстым.
Среди её многочисленных поклонников были самые высокопоставленные особы, например, принц Кобургский, будущий король Швеции Леопольд.
Был у неё и страстный роман с Пушкиным, который назовёт её «беззаконной кометой в кругу расчисленном светил» в стихотворении «Портрет», а позже выведет в "Евгении Онегине" под именем Нины Воронской - "Клеопатры Невы", посвятив ей стихотворение "Наперсник", отражающее чувства поэта:
Твоих признаний, жалоб нежных
Ловлю я жадно каждый крик:
Страстей безумных и мятежных
Как упоителен язык!
Но прекрати свои рассказы,
Таи, таи свои мечты:
Боюсь их пламенной заразы,
Боюсь узнать, что знала ты.

Однако Закревская была не просто весёлой и распутной прожигательницей жизни, какой её считали многие. В её душе был какой-то надрыв, какая-то чёрная тоска.

Это почувствовал Баратынский и выразил в стихах:
Как много ты в немного дней
Прожить, прочувствовать успела!
В мятежном пламени страстей
Как страшно ты перегорела!
Раба томительной мечты!
В тоске душевной пустоты,
Чего еще душою хочешь?
Как Магдалина плачешь ты
И как русалка ты хохочешь!
И этот загадочный обольстительный русалочий хохот надолго отравит потом русскую поэзию и откликнется даже в прозе — вспомним Веру из гончаровского «Обрыва» с её русалочьим смехом... Именно Баратынский, обуреваемый неразделённой страстью и ревностью, ввёл в русскую литературу образ этакой роковой соблазнительницы, разбивательницы сердец, сокрушительницы судеб, бессердечной грешной красавицы, которую мы встретим потом на страницах Достоевского, Тургенева, Толстого. Опыт его любовной лирики окажется важным не только для последующего развития поэзии, но и русского психологического романа.

Для Баратынского Аграфена Закревская осталась любовью на всю жизнь. Она вдохновила его на создание поэмы «Бал», в которой выведена под именем княгини Нины.
Переменчивая, капризная, обольстительная, блистательная, опасная... Как не потерять голову?
Но как влекла к себе всесильно
Ее живая красота!
Какая бы Людмила ей,
Смирясь, лучей благочестивых
Своих лазоревых очей
И свежести ланит стыдливых
Не отдала бы сей же час
За яркий глянец черных глаз,
Облитых влагой сладострастной,
За пламя жаркое ланит?
Какая фее самовластной
Не уступила б из харит?

Баратынский словно предостерегает молодых юношей, которые могут последовать его примеру:
Страшись прелестницы опасной,
Не подходи: обведена
Волшебным очерком она;
Кругом ее заразы страстной
Исполнен воздух! Жалок тот,
Кто в сладкий чад его вступает:
Ладью пловца водоворот
Так на погибель увлекает!
Беги ее: нет сердца в ней!
Страшися вкрадчивых речей
Одуревающей приманки;
Влюбленных взглядов не лови:
В ней жар упившейся вакханки,
Горячки жар — не жар любви.

В главной героине - княгине Нине, роковой, эмансипированной женщине — совершенно новый образ в тогдашней литературе — дерзко презирающей мнение света, смело нарушающей принятые там нормы поведения, внешние приличия и условности, - все без труда узнали Аграфену Закревскую. Это был её портрет, её натура, её манеры, грехи, причуды. Баратынский здесь свёл счёты с отвергнувшей его возлюбленной, изображая её в нелицеприятном виде. В этой поэме очень много личного. Каждое слово сочится сарказмом, обидой, оскорблённым самолюбием. Написано что называется кровью сердца.
В Москве меж умниц и меж дур
Моей княгине чересчур
Слыть Пенелопой трудно было.
Презренья к мнению полна,
Над добродетелию женской
Не насмехается ль она,
Как над ужимкой деревенской?
Кого в свой дом она манит:
Не записных ли волокит,
Не новичков ли миловидных?
Не утомлен ли слух людей
Молвой побед ее бесстыдных
И соблазнительных связей?

В конце поэмы Баратынский расправится со своей героиней: он заставит её влюбиться в человека, сердце которого будет занято другой, «малюткой Оленькой» - воплощением всех женских добродетелей, полной противоположностью распутной Нине, и когда её любовник сделается счастливым супругом — Нина покончит с собой, отравится. Так свершится возмездие.
Счёты с неверной возлюбленной будут сведены. Но Баратынскому легче от этого не станет. Он лишь ещё сильнее растравил свою рану, а Закревская прочла поэму с пятое на десятое, пожала плечами, усмехнулась — и отбросила не до конца разрезанную книжку, в следующую минуту вовсе забыв о ней.
Пушкин однако проницательно заметил двойственность отношения Баратынского к своей героине: «Напрасно поэт берёт иногда строгий тон порицания, укоризны, напрасно он с принуждённой холодностью говорит о её смерти, сатирически описывает нам её похороны и шуткою кончает поэму свою. Мы чувствуем, что он любит свою бедную страстную героиню».

Баратынский рано сделался взрослым. В 20 лет в послании другу писал:
Уж отлетает век младой,
Уж сердце опытнее стало:
Теперь ни в чем, любезный мой,
Нам исступленье не пристало!
Оставим юным шалунам
Слепую жажду сладострастья;
Не упоения, а счастья
Искать для сердца должно нам.
Пресытясь буйным наслажденьем,
Пресытясь ласками цирцей,
Шепчу я часто с умиленьем
В тоске задумчивой моей:
Нельзя ль найти любви надежной?
Нельзя ль найти подруги нежной,
С кем мог бы в счастливой глуши
Предаться неге безмятежной
И чистым радостям души...
Уставший от любовных неудач, поэт мечтает о простом человеческом счастье, о женщине, которая поняла бы его, отогрела.
О счастии младенчества тоскуя,
всё счастьем беден я.
Или вовек его не обрету я
в пустыне бытия?
В послании другу он признаётся:
Где ж обреченная судьбою?
На чьей груди я успокою
Свою усталую главу?
Или с волненьем и тоскою
Ее напрасно я зову?
Или в печали одинокой
Я проведу остаток дней,
И тихий свет ее очей
Не озарит их тьмы глубокой,
Не озарит души моей!..

«Счастливый отдыхом, на счастие похожим...»
И такая вскоре встретилась. В июне 1826 года Баратынский женится на дочери отставного генерала Анастасии Львовне Энгельгардт.

Вяземский отзывался о ней как о женщине «любезной, умной, доброй, но не элегической наружности». Брак этот вопреки многим предсказателям оказался удачным. В своей молодой жене поэт нашёл то, чего искал все эти годы, - глубокое сочувствие, понимание, нежность, заботу. В письме к женатому другу Баратынский пишет: «Так, мой милый, вашего полку прибыло, я женат и счастлив... Бог мне дал добрую жену, я желал счастья и нашёл его».
Есть что-то в ней, что красоты прекрасней,
Что говорит не с чувствами — с душой;
Есть что-то в ней над сердцем самовластней
Земной любви и прелести земной.
Как сладкое душе воспоминанье,
Как милый свет родной звезды твоей,
Какое-то влечет очарованье
К ее ногам и под защиту к ней.
Когда ты с ней, мечты твоей неясной
Неясною владычицей она:
Не мыслишь ты, — и только лишь прекрасной
Присутствием душа твоя полна.
Бредешь ли ты дорогою возвратной,
С ней разлучась, — в пустынный угол твой,
Ты полон весь мечтою необъятной,
Ты полон весь таинственной тоской.
(«Она»)
В стихах, посвящённых Настасье Львовне — умиротворение, тишина, безмятежность, что резко контрастирует с его стихами Закревской, с их страстью, тоской и тревогой. В стихах, написанных жене — совсем иное настроение:
Склонюсь главою
на сердце к ней
и под мятежной
метелью бед,
любовью нежной
её согрет,
забуду вскоре
крутое горе...

Ты, смелая и кроткая, со мною
в мой дикий ад сошла рука с рукою:
рай зрела в нём чудесная любовь.
О сколько раз к тебе, святой и нежной,
я приникал главой моей мятежной,
с тобой себе и небу веря вновь...
Любовь, кротость и преданность Настасьи были высшей наградой поэту, спасением от собственного болящего духа. Он лечился этим браком от любовных неудач.
Но кто постигнут роком гневным,
Чью душу тяготит мучительный недуг,
Тот дорожит врачом душевным.
Как будет сладко, милый мой,
Поверить нежности чувствительной подруги,
Скажу ль? все раны, все недуги,
Все расслабление души твоей больной;
Забыв и свет, и рок суровый,
Желанья смутные в одно желанье слить
И на устах ее, в ее дыханьи пить
Целебный воздух жизни новой!
Это была она, та самая «малютка Оленька»! Ну, пусть Настенька, какая разница. Явилась на арену жизни, словно сойдя со страниц его «Бала», став счастливой супругой поэта.
Однако «Нина» и не подумала травиться от горя. Ей было не до того: нужно было кружить головы мужчинам. Весть о свадьбе Баратынского заставила Аграфену Фёдоровну лишь вздёрнуть брови:
- Женился? Кто? Ах, Б.! Да что Вы говорите! А знаете, во французской лавке на Кузнецком появился такой бархат... лиловый... Ну просто цвет траура французских королей! Как Вы думаете, милочка, будет ли он мне к лицу? Не станет ли бледнить? Или придётся прикупить и румян?

И Баратынский вместе с его «малюткой Оленькой» оказался погребён где-то между аршинами бархата «цвета траура французских королей» и обсуждением цены на новые румяна.
Тихий сон тихого счастья
После женитьбы Баратынский поселился в доме тестя в Большом Чернышевском переулке (ныне ул. Станкевича 6, дом сохранился, но в перестроенном виде).

Гостиная в московском доме Энгельгардтов
Отец Пушкина Сергей Львович в письме дочери оставил интересное свидетельство о характере семейной жизни Баратынских в ту пору:

«Видим Баратынских в Москве очень часто. Не зная бессонных ночей на балах и раутах, Баратынские ведут жизнь самую простую; встают в семь утра во всякое время года, обедают в полдень, отходят ко сну в 9 вечера и никогда не выступают из этой рамки, что не мешает им быть всегда довольными, спокойными, следовательно, счастливыми».
Баратынский преисполнен благодарности к жене:
Явилась ты, мой друг бесценный,
И прояснилась жизнь моя:
Веселой музой вдохновенный,
Веселый вздор болтаю я.
Прими мой труд непринужденный!
Счастливым светом озаренный
Души, свободной от забот,
Он твой достаток справедливый:
Он первый плод мечты игривой,
Он новой жизни первый плод.
Порой ему кажется, что жена для него важнее его музы:
О, верь: ты, нежная, дороже славы мне.
Скажу ль? мне иногда докучно вдохновенье:
Мешает мне его волненье
Дышать любовью в тишине!
Я сердце предаю сердечному союзу:
Приди, мечты мои рассей,
Ласкай, ласкай меня, о друг души моей!
И покори себе бунтующую музу.
Но муза — ревнивая женщина, и измены себе не прощает...
Спустя годы Баратынский спроектировал себе новый дом в английском стиле.
Это был большой барский дом без прихотей старого русского барства, но со всеми удобствами английского комфорта, отделанный со вкусом, с красивой и удобной гостиной с камином, с большой библиотекой, с прекрасными, примыкающими к дому оранжереями...
внутренний вид дома. Столовая.
В браке у них было 9 детей (двое умерли во младенчестве). Это была тихая нравственная жизнь, к которой он всегда стремился. То, о чём мечтал Пушкин, замышляя «побег в обитель тихую трудов и чистых нег», осуществил в реальности Баратынский.
общий вид усадьбы Баратынских
въездные ворота в имение Баратынского. Рис. дочери.
Теперь я знаю бытиё.
Одно желание моё -
покой, домашние отрады.
И, погружён в самом себе,
смеюсь я людям и судьбе,
уж не от них я жду награды.
Из его писем друзьям:
«Я живу потихоньку...», «я счастлив дома», «я женат и счастлив».

Желанье счастия в меня вдохнули боги:
Я требовал его от неба и земли,
И вслед за призраком, манящим издали,
Жизнь перешел до полдороги;
Но прихотям судьбы я боле не служу:
Счастливый отдыхом, на счастие похожим,
Отныне с рубежа на поприще гляжу
И скромно кланяюсь прохожим.
Однако это умиротворённое стихотворение называется у него «Безнадёжность»...
Казалось бы, судьба наконец улыбнулась поэту: прекрасный дом, любящая жена, здоровые дети, материальный достаток, ясное будущее... Живи и радуйся. Но... что-то мешало ему чувствовать себя счастливым.
Судьбы ласкающей улыбкой
я наслаждаюсь не вполне.
Всё мнится: счастлив я ошибкой,
и не к лицу веселье мне.

С мирной и ровной, почти без событий благополучной внешней жизнью не совпадал нарастающий внутренний драматизм, появившийся в поздней лирике Баратынского. В письме к П. Плетнёву он пишет: «Эти последние 10 лет существования, на первый взгляд, не имевшие никакой особенности, были мне тяжелее всех годов моего финляндского заточения». Вот чем обернулось для него это тихое семейное счастье!
Словно предчувствуя такой финал, Пушкин ещё накануне женитьбы Баратынского спрашивал о нём в письме к Вяземскому:

«Правда ли, что Баратынский женится? Боюсь я за его ум. Законная п...да — род тёплой шапки с ушами, голова вся в неё уходит... Брак холостит душу». (Заметим, что самому Пушкину до его женитьбы — ещё пять лет).
И действительно, с 1826-27-х годов, после женитьбы на Анастасии Энгельгарт число любовных стихотворений у Баратынского резко идёт на убыль. В последней книге «Сумерки» эта тема вообще отсутствует.
Баратынский не раз говорил о своём примирении, тишине, покое, но его «отдых, похожий на счастие», сладкое усыпление походило порой на душевное оцепенение. И когда поэт просыпался от своего душного сна, он впадал в какое-то холодное отчаяние, создававшее ему славу пессимиста. Баратынский был слишком умён, чтобы поверить, будто человек, тем более поэт, может утихнуть в мёртвой зыби покоя. Он знает, что закон жизни — волнение, и говорит об этом в стихотворении «Мудрецу»:
Тщетно меж бурною жизнью и хладною смертью, философ,
Хочешь ты пристань найти, имя даёшь ей: покой.
Нам, из ничтожества вызванным творчества словом тревожным,
Жизнь для волненья дана: жизнь и волненье - одно.
И вот вместо волненья наступает внуреннее омертвение. Страстная одержимая душа вдруг останавливается, застывает, умолкает призывный гул её водопада — участь, которой в той или иной степени подвержено каждое человеческое существо. Оно смертно не потому, что его настигает смерть, а потому, что оно постепенно умирает ещё при жизни. Баратынский с горечью пишет:
На что вы, дни! Юдольный мир явленья
Свои не изменит!
Все ведомы, и только повторенья
Грядущее сулит.
Не даром ты металась и кипела,
Развитием спеша,
Свой подвиг ты свершила прежде тела,
Безумная душа!
И тесный круг подлунных впечатлений
Сомкнувшая давно,
Под веяньем возвратных сновидений
Ты дремлешь; а оно
Бессмысленно глядит, как утро встанет
Без нужды ночь сменя;
Как в мрак ночной бесплодный вечер канет,
Венец пустого дня!
Свою жизнь он сравнивает с оледеневшим водопадом, которые наблюдал в Финляндии:

Взгляни на лик холодный сей,
Взгляни: в нем жизни нет;
Но как на нем былых страстей
Еще заметен след!
Так ярый ток, оледенев,
Над бездною висит,
Утратив прежний грозный рев,
Храня движенья вид.
Итак, старосветского помещика из Баратынского не получилось. В один прекрасный день он пробуждается от душевной спячки, предпочтя «болящий дух» - участи тех убогих счастливцев, которых так презирал, жизнь духа — растительному существованию.
Окончание здесь
|
|
"Болящий дух врачует песнопенье..." |
Начало здесь.
11 июля 1844 года умер Евгений Баратынский.

Болящий дух врачует песнопенье.
Гармонии таинственная власть
тяжёлое искупит заблужденье
и укротит бунтующую страсть.
Душа певца, согласно излитая,
разрешена от всех своих скорбей;
И чистоту поэзия святая
и мир отдаст причастнице своей.
По поводу правильного написания фамилии Баратынского
Как известно, некоторые свои письма и деловые бумаги поэт подписывал «Боратынский», но художественные произведения (за исключением «Сумерек») печатал с подписью «Баратынский». Прижизненная критика использовала только эту форму. Так писали фамилию Баратынского Пушкин и Белинский, а позднее Толстой, Бунин, Брюсов, сыновья Баратынского, готовившие его посмертное издание.
В конце 19 века возникли попытки узаконить написание «Боратынский» на том основании, что фамилия его происходила от названия замка Боратынь, принадлежащего его предкам. И весь род Баратынских происходит из польского города Боратынь. Но, несмотря на периодически возникавшие дискуссии, вызвавшие разнобой в написании фамилии поэта, форма Баратынский остаётся преобладающей. Так она указана в википедии. Так её пишет А. Кушнер в своих статьях о нём. Хотя окончательно вопрос о единственно верном правонаписании так и не решён.
«Любви простое упоенье»
В начале 20-х годов известность Баратынского была связана в первую очередь с его любовными элегиями.
В мае 1821 года 20-летний поэт знакомится с Софьей Пономарёвой и влюбляется в неё.

Вот одно из посвящённых ей стихотворений:
Любви приметы
Я не забыл,
Я ей служил
В былые леты!
В ней говорит
И жар ланит,
И вздох случайный…
О! я знаком
С сим языком
Любови тайной!
В душе твоей
Уж нет покоя;
Давным-давно я
Читаю в ней:
Любви приметы
Я не забыл,
Я ей служил
В былые леты!
Пономарева (Софья Дмитриевна, урожденная Позняк, 1794 - 1824) - основательница одного из первых петербургских литературных салонов 20-х годов 19 века.

салоны пушкинской поры
Блестяще образованная, говорившая на четырёх европейских языках, она сумела сгруппировать вокруг себя многих тогдашних литераторов.

В ее альбом писали Измайлов, Дельвиг, Панаев , Плетнёв, Гнедич , Кюхельбекер.
Дельвиг, Сомов, Измайлов были влюблены в неё и посвящали ей стихи.
Из записок В. И. Панаева, опубликовавшего позже воспоминания о своём романе с ней:

«Эта была та самая, со множеством странностей, проказ и причуд, но - очаровательная София Пономарева, которую так трепетно воспевал старик Измайлов. В ней с добротою сердца и веселым характером неизменно соединялась бездна самого милого, природного кокетства, перемешанного с каким-то, ей только свойственным, детским проказничеством...»

Скромный салон Софии Пономаревой на Фурштадской улице в Северной Пальмире дал начало новой традиции русской дворянской культуры первой половины девятнадцатого века: литературным гостиным, в которых собирался, казалось, весь цвет ума и духа, и в которых неизменно царила – Женщина. Это было ново, необычно, это утверждало высокий, волнующий романтический культ Прекрасной Дамы.

Баратынский запечатлел в её знаменитом альбоме один из лучших стихотворных портретов Софии:
Не ум один дивится Вам,
Опасны сердцу Ваши взоры:
Они лукавы, я слыхал,
И все предвидя осторожно,
От власти их, когда возможно,
Спасти рассудок я желал.
Я в нем теперь едва ли волен,
И часто пасмурной душой,
За то я Вами недоволен,
Что недоволен сам собой.

При первом же появлении Баратынского в доме Пономарёвой она демонстрирует особое внимание к нему, и вскоре поэт записывает ей в альбом игривые строки:
О своенравная София!
От всей души я Вас люблю,
хотя и реже, чем другие,
и неискусней Вас хвалю.
По стихам Баратынского, посвящённых Софии, можно проследить все перипетии их отношений. Поначалу поэт боится дать волю своему чувству, сдерживается, робеет, словно подчиняясь инстинкту самосохранения, предчувствию, что ничего хорошего из этих отношений не выйдет.
Когда б Вы менее прекрасной
Случайно слыли у молвы,
Когда бы прелестью опасной
Не столь опасны были Вы...
Когда б еще сей голос нежный
И томный пламень сих очей
Любовью менее мятежной
Могли грозить душе моей…
Предаться нежному участью
Мне тайный голос не велит.
И удивление – на счастье
От чар любви меня хранит.
Его чувство пока ещё робко и нетребовательно.
Любви простое упоенье
Вас не довольствует вполне;
Но с упоеньем поклоненье
Соединить не трудно мне;
И, ваш угодник постоянный,
Попеременно я бы мог -
Быть с вами запросто в диванной,
В гостиной быть у ваших ног.
Б. М. Кустодиев. В московской гостиной. 1840-е годы.
Пылкие признания в стихах чередуются с нежными укорами:
Неизвинительной ошибкой,
скажите, долго ль будет Вам
внимать с холодною улыбкой
любви, укорам и мольбам?
Но поэт ещё не смеет мечтать о взаимности:
Мне с упоением заметным
Глаза поднять на вас беда:
Вы их встречаете всегда
С лицом сердитым, неприветным.
Я полон страстною тоской,
Но нет! рассудка не забуду
И на нескромный пламень мой
Ответа требовать не буду.
Не терпит бог младых проказ
Ланит увядших, впалых глаз.
Надежды были бы напрасны,
И к вам не ими я влеком.
Любуюсь вами, как цветком,
И счастлив тем, что вы прекрасны.

Как лёгок слог, изящен стиль Баратынского, его легко можно принять за пушкинский. Но это ещё не настоящий Баратынский, он не обрёл ещё своего голоса.
Видимо, в ту же пору, осенью 1821-го между ним и Софьей началась переписка (ни одного письма не сохранилось, о самой переписке известно из строк Баратынского к Дельвигу):


Я перечитываю строки,
где, увлечения полна,
любви счастливые уроки
мне самому даёт она.

Со временем поэт начинает верить в то, что и он любим:
На кровы ближнего селенья
Нисходит вечер, день погас.
Покинем рощу, где для нас
Часы летели как мгновенья!
Лель, улыбнись, когда из ней
Случится девице моей
Унесть во взорах пламень томный,
Мечту любви в душе своей
И в волосах листок нескромный.

Но для Софии это было лишь любовной игрой, не более, Баратынский для неё — один из многих поклонников. Развязкой романа стало послание «Дориде», где поэт обращается с обвинительными упрёками к бывшей возлюбленной, называя её именем греческой богини:

Зачем нескромностью двусмысленных речей,
Руки всечасным пожиманьем,
Притворным пламенем коварных сих очей,
Для всех увлаженных желаньем,
Знакомить юношей с волнением любви,
Их обольщать надеждой счастья
И разжигать, шутя, в смятенной их крови
Бесплодный пламень сладострастья?
Он не знаком тебе, мятежный пламень сей;
Тебе неведомое чувство
Вливает в душу их, невольницу страстей,
Твое коварное искусство.
К Софье Пономарёвой обращены такие стиховорения Баратынского, как «К жестокой», «Вы слишком многими любимы», «Хлое»...
Приманкой ласковых речей
Вам не лишить меня рассудка!
Конечно, многих вы милей,
Но вас любить - плохая шутка!
Вам не нужна любовь моя,
Не слишком заняты вы мною,
Не нежность - прихоть вашу я
Признаньем страстным успокою.
Вам дорог я, твердите вы,
Но лишний пленник вам дороже.
Вам очень мил я, но, увы!
Вам и другие милы тоже.
С толпой соперников моих
Я состязаться не дерзаю
И превосходной силе их
Без битвы поле уступаю.
Стихи, адресованные Софии, переадресовать кому-либо было бы невозможно: из них явственно выглядывает она - существо милое, проказливое, шаловливое, несущее страдание и радость одновременно.
Я вспоминаю голос нежный
Шалуньи ласковой моей,
Речей открытых склад небрежный,
Огонь ланит, огонь очей;
Я вспоминаю день разлуки,
Последний, долгий разговор,
И полный неги, полный муки,
На мне покоившийся взор;
И говорю в тоске глубокой:
Ужель обманут я жестокой?
Или всё, всё в безумном сне
Безумно чудилося мне?

О, страшно мне разуверенье,
И об одном мольба моя:
Да вечным будет заблужденье,
Да век безумцем буду я...
Когда же с верою напрасной
Взываю я к судьбе глухой,
И вскоре опыт роковой
Очам доставит свет ужасный,
Пойду я странником тогда
На край земли, туда, туда,
Где вечный холод обитает,
Где поневоле стынет кровь,
Где, может быть, сама любовь
В озяблом сердце потухает...
Иль нет: подумавши путем,
Останусь я в углу своем,
Скажу, вздохнув: Горюн неловкий!
Грусть простодушная смешна;
Не лучше ль плутом быть с плутовкой,
Шутить любовью, как она?
Я об обманщице тоскую:
Как здравым смыслом я убог!
Ужель обманщицу другую
Мне не пошлет в отраду бог?
Но умиление «обманщицей» и «плутовкой» вскоре сменяется в стихах оскорблённым мужским самолюбием, нестерпимой обидой.
Если Пушкин своей неверной возлюбленной великодушно желал счастья: «как дай Вам Бог любимой быть другим», уязвлённый Баратынский высказывает пожелание, чтобы однажды той стало так же больно, как сейчас ему:
Я видел вкруг тебя поклонников твоих
Полуиссохших в страсти жадной;
Достигнув их любви, любовным клятвам их
Внимаешь ты с улыбкой хладной.
Не верь судьбе слепой, не верь самой себе:
Теперь душа твоя в покое;
Придется некогда изведать и тебе
Любви безумье роковое!
Но избранный тобой, страшась знакомых бед,
Твой нежный взор без чувства встретит
И, недоверчивый, на пылкий твой привет
Улыбкой горькою ответит.
Когда же в зиму дней все розы красоты
Похитит жребий ненавистной, —
Скажи, увядшая, кого посмеешь ты
Молить о дружбе бескорыстной,
Обидной жалости предметом жалким став?
В унынье все тебя оденет,
Исчезнет легкий рой веселий и забав,
Толпа ласкателей изменит...

Можно сказать, что его пожелания сбылись. В. Панаев, в которого Софья была влюблена, отплатит ей таким же жестоким равнодушием. Да ещё с самонадеянным бахвальством нескромно опишет это в своих мемуарах... Она будет очень страдать. В 30 лет её не станет.

Из воспоминаний В. И. Панаева:

«Спустя год, встретившись со мною на улице, она со слезами просила у меня прощения за все, умоляла возобновить знакомство… Прощание это было трогательным: она горько плакала, целовала мне руки, вышла проводить меня в переднюю во двор и на улицу. Я уехал совершенно с нею примиренным, но уже с погасшим чувством прежней любви. В марте следующего года я воротился из Казани помолвленным. Во вторник на Страстной неделе, она присылала меня поздравить. В первый же день Святого праздника еду к ним похристосоваться. Муж печально объявляет мне, что она нездорова, лежит в сильном жару. Прошел, однако, спросить, не примет ли она меня в постели, но возвратился с ответом, что — не может, но очень просит заехать в следующее воскресение. Приезжаю — какое зрелище?! Она была уже на столе, скончавшись в тот самый день от воспаления мозга!!
Когда я рядом с ее отцом шел за гробом, он сказал мне: «Если бы она следовала Вашим советам и сохранила Вашу дружбу, то мы не провожали бы ее сейчас на кладбище!»
Волково кладбище в Петербурге, где была похоронена Софья Пономарёва
История отношений Баратынского с Софьей Пономарёвой — единственная любовная история, оставившая в его творчестве такой автобиографический след: целых 12 стихотворений.
«Не властны мы в самих себе...»
В одной из лучших своих любовных элегий «Признание» («Притворной нежности не требуй от меня...»), которой так восхищался Пушкин, Баратынский сказал: «Я клятвы дал, но дал их свыше сил...» Человек не хозяин своему чувству. Он не отвечает за то, что в нём происходит помимо его воли. «Не властны мы в самих себе». Судьба — безличная сила, детерменирующая жизнь и душу человека. И вскоре эта судьба сыграла с Баратынским свою злую шутку.

Зимой 1824 года Баратынский влюбляется в жену генерал-губернатора Аграфену Закревскую, женщину редкой красоты и столь же редкостного безнравственного поведения, изменявшую мужу направо и налево чуть ли не на его глазах.

Но супруг сквозь пальцы смотрел на «шалости» своей благоверной, привыкший к её выходкам и смирившись с её распутством.

А. А. Закревский
Баратынский был от Закревской без ума. В стихах он называл Аграфену Альсиной, Магдалиной, Феей, пытаясь прикрыть хоть лёгким флёром приличия обуревавший его пламень.
Сей поцелуй, дарованный тобой,
Преследует моё воображенье:
И в шуме дня, и в тишине ночной
Я чувствую его напечатленье!
Сойдёт ли сон и взор сомкнёт ли мой,
Мне снишься ты, мне снится наслажденье;
Обман исчез, нет счастья! и со мной
Одна любовь, одно изнеможенье.
На портрете Дж. Доу (1827 г.) Закревская изображена в неоклассическом стиле, подчеркнутом соответствующим фоном и драпировками, в виде античной богини, с роскошными формами, в царственно-небрежной позе. У неё были ярко-рыжие волосы, за которые Пётр Вяземский, тоже влюблённый, называл её «медной Венерой».
Поначалу оказав Баратынскому знаки внимания, Аграфена обращалась с ним всё небрежней, и вот однажды Евгений, «любви слепой, любви безумной тоску в душе своей тая», увидел рядом с ней нового фаворита. И ещё одного. И другого, и третьего...

«Страдаю я!...»
Страдаю я! Из-за дубравы дальней
Взойдет заря,
Мир озарит, души моей печальной
Не озаря.
Будь новый день любимцу счастья в сладость!
Душе моей
Противен он! что прежде было в радость,
То в муку ей.
Что красоты, почти всегда лукавой,
Мне долгий взор?
Обманчив он! знаком с его отравой
Я с давних пор.
Обманчив он! его живая сладость
Душе моей
Страшна теперь! что прежде было в радость,
То в муку ей.
Он страдает. Но осознаёт необходимость и плодотворность страдания для того, чтобы понять, что такое счастье. Страдание — божественный дар, отличающий поэта от толпы заурядных счастливцев.
Поверь, мой милый друг, страданье нужно нам;
Не испытав его, нельзя понять и счастья:
Живой источник сладострастья
Дарован в нем его сынам...
Одни ли радости отрадны и прелестны?
Одно ль веселье веселит?
Бездейственность души счастливцев тяготит;
Им силы жизни неизвестны.
Не нам завидовать ленивым чувствам их:
Что в дружбе ветреной, в любви однообразной
И в ощущениях слепых
Души рассеянной и праздной?
Счастливцы мнимые, способны ль вы понять
Участья нежного сердечную услугу?
Способны ль чувствовать, как сладко поверять
Печаль души своей внимательному другу?
Способны ль чувствовать, как дорог верный друг?
Но кто постигнут роком гневным,
Чью душу тяготит мучительный недуг,
Тот дорожит врачом душевным.
Что, что дает любовь веселым шалунам?
Забаву легкую, минутное забвенье;
В ней благо лучшее дано богами нам
И нужд живейших утоленье!
Баратынский пишет апологию страдания и отвергает привычные понятия о счастье.
Хвала всевидящим богам!
Пусть мнимым счастием для света мы убоги,
Счастливцы нас бедней, и праведные боги
Им дали чувственность, а чувство дали нам.

24-летний юноша уже тогда постиг истину: счастье — не в удовлетворении минутных желаний, а в силе чувства, глубине и яркости эмоций, в остроте восприятия мира. И даже в неразделённой любви душевно тонкому человеку возможно обрести блаженство.
Продолжение здесь
|
|
Как я искала Людочку |
Начало здесь
Прошло много лет. И однажды мне захотелось найти мою Людочку. Собственно, подсознательно мне этого хотелось всегда, я просто не оформляла это для себя во что-то словесное и определённое. Долгие годы о ней конкретно я не думала и не вспоминала. Но — встреченные мамы с крошечными дочками на дорожках парка, делающими первые неуверенные шажки... попавшаяся на глаза старая фотография с первомайской демонстрации, где двухлетняя Людочка рядом со мной цепко держит шарики в маленьком кулачке... какой-то промелькнувший ностальгический кадр старого телефильма, виды городских двориков, обрывки песен 60-х - всё цепляло, подспудно напоминая её образ, окутанный тёплым туманным облаком. Это держалось на тёмном дне почти каждой мысли, овладевая душой при малейшем толчке извне. В такие минуты даже воздух, казалось, теплел вокруг меня, и деревья понимающе кивали ветвями и трепетали всеми листочками, словно окликая из того давнего далека. Призрак Людочки всё время незримо жил со мной.

Я помнила её совсем маленькой двухлеткой, которую учила ходить и говорить, помнила постарше, когда она, завидев меня во дворе, бросалась с разбегу на шею с ликующим криком: «Наташенька пришла!» Помнила подносившей булки работавшей в булочной матери — ей было лет семь или восемь, и все хвалили её: вот какая помощница растёт! А Людка, радуясь похвалам и сияя от гордости, старалась ещё пуще. Помнила в школе, как ко мне подвела её мать, первоклассницу, в новенькой школьной форме, и она смотрела на меня чуть смущённо и радостно-горделиво — вот, мол, я тоже теперь, как и ты, большая, ученица...
Потом следы Людочки затерялись. И вот теперь тоска по той милой и славной девочке, которую я любила и растила, не давала мне покоя. Захотелось найти её, увидеть, какой она стала, как сложилась её жизнь...
Мы не виделись много лет. Я помнила только фамилию, примерно год рождения — ни нового адреса, ни места работы, ни тех, кто её знал. Попыталась найти через «Одноклассников», зарегистрировалась, набрала Людмилу Гнездилову. Попалась однофамилица и тёзка, такого же возраста и внешне даже чем-то похожа. Но когда я ей позвонила — по голосу сразу же поняла — не она. Дикое разочарование. На какое-то время я затихла и оставила эту затею с поисками. Но вот однажды в одном из ЖЖ увидела фотографию девочки, до боли напомнившей мне мою Людочку. Неужели же никогда нам не суждено встретиться?! И я решила всё же найти её во что бы то ни стало. Если б я знала, чем это для меня обернётся!
Начала с того, что отправилась в наш старый дом, откуда уехала в 17 лет.

Хотела выяснить что-нибудь о ней у оставшихся соседей. Куда там! Почти все, кого я знала, либо умерли, либо уехали за границу. Количество смертей потрясало: вымирали целыми семьями, целыми квартирами. Те, что остались, сдавали квартиры. Я разговаривала в основном с молодыми жильцами. Людку и её мать никто не помнил. Только одна старожилка, которую удалось отыскать, сообщила мне, что они выехали отсюда много лет назад, когда Людка вышла замуж, родила ребёнка, им выхлопотали квартиру где-то на Дачных, и они наконец выбрались из того сырого тёмного подвала, где прожили больше двадцати лет. На этом месте теперь был какой-то склад, на дверях — увесистый замок. Но как узнать её новый адрес? Старуха посоветовала мне сходить к паспортистке, дав её телефон. Я спросила у неё бывший номер Людочкиной квартиры.
- То ли 30, то ли 31.
Паспортистка по телефону была недружелюбна и подозрительна.
- А кто Вы ей? Зачем Вам адрес? Я не обязана... Вы меня отрываете от дела! У меня приём!
- Я понимаю, простите, я только хотела узнать в принципе...
- Приезжайте сюда. Я ещё сначала посмотрю на Вас, кто Вы такая...
На другой день я отправилась к паспортистке и, чтобы смягчить её агрессивный казённый нрав и пресечь флюиды недоброжелательства , торопливо положила на стол сторублёвку.
Та взяла и без звука стала просматривать свои амбарные книги. Просмотрели все тридцатые, двадцатые и десятые квартиры, но, к великому моему разочарованию, ни Люды, ни матери её Нины ни в одной квартире не оказалось.
- Узнайте точно номер квартиры. В этих их нет...
И я снова отправилась в свой старый двор. Он, к моему недоумению, оказался закрыт. На воротах красовался неведомый шифр. Этого ещё не хватало! Ещё вчера я входила сюда беспрепятственно. Я знаю, что такое практикуют в так называемых элитарных домах, но здесь, где практически не осталось людей, где только груды мусора и грязных ящиков... Стояла у ворот где-то с полчаса. Ни одна душа не вошла и не вышла. Мёртвый дом. Казалось, он забит наглухо, как заколоченная на зиму дача. Я теребила шифр, пыталась протиснуться между решётками, кричала: «Эй! Есть тут кто живой?» Наконец вдали показался парень. Я закричала, призывая его к себе знаками. Он подошёл, отодвинул задвижку.
- Зачем вы закрываете?!
- А чтоб не ходили.
Исчерпывающий ответ. Чтоб не ходили, не искали, не дышали, не жили... Я блуждала по пустому двору, натыкаясь на закодированные железобетонные подъезды. А ведь когда-то — всего каких-то 40 лет назад — здесь была жизнь. Носилась детвора, взлетали мячи, скакалки, гонялись обручи, чертились классики на асфальте, молодёжь вечерами до полночи шепталась в беседке, старики собирались в подвальный дворовый клуб, где смотрели телевизор (он был тогда ещё не у всех), играли в шахматы, шашки, домино, листали журналы и газеты, днём во дворе работала детская площадка (с детворой, оставшейся на лето в городе, занимались за небольшую плату пенсионерки). Двор был живой, ухоженный, зелёный, ежедневно поливался из шланга, воздух стоял свежий, звенели голоса, детский смех. А сейчас он был похож на заброшенное кладбище. Вспоминался Шпаликов:
По несчастью или к счастью,
Истина проста:
Никогда не возвращайся
В прежние места.
Даже если пепелище
Выглядит вполне,
Не найти того, что ищем,
Ни тебе, ни мне.
Путешествие в обратно
Я бы запретил,
Я прошу тебя, как брата,
Душу не мути...
Ирина Снегова:
Не надо приходить на пепелища
Не надо ездить в прошлое, как я,
Искать в пустой золе, как кошки ищут,
Напрасный след сгоревшего жилья.
Не надобно желать свиданий с теми,
Кого любили мы давным-давно,
Живые ощущения потери
Из этих встреч нам вынести дано.
Не нужно приходить на пепелища
И так стоять, как я теперь стою.
Над пустырем холодный ветер свищет
И пыль метет на голову мою...
Но я уже пришла. Вдруг — о радость! - увидела приоткрытый подъезд, шмыгнула туда. Ходила по квартирам, спрашивала, не знает ли кто... Никто ничего не знал. Не помнит ли... Никто не помнил. Наконец нашла одну, которая сказала:
- Если встанете лицом к мусорке, то по правую руку будет подъезд, где живёт Ида Викторовна. Вот она всех знает и помнит.
Я отправилась к мусорке. В искомом подъезде прямо в дверях столкнулась с нужной старухой. Она действительно помнила тётю Нину с Людкой. Я спросила номер их квартиры.
- Какой там номер! Не было там никакого номера. Они непрописанные жили. (Теперь понятно, почему паспортистка не могла их отыскать).
Больше Ида Викторовна ничего ценного не могла для меня сообщить.
- Да когда это было! Она ещё сопливой девчонкой отсюда уехала...
Круг замкнулся. Но мне надо было его разомкнуть во что бы то ни стало. Я отправилась в адресный стол. Там потребовали отчество, которого я не знала. На этом основании мне отказали. Я умоляла, пыталась достучаться до их бюрократических сердец, совала в руки фотографию, где я с маленькой Людочкой, наивно полагая, что умилятся и дрогнут, но они лишь брезгливо отворачивались. Наконец одна сжалилась, дала мне анкету. Я заполнила и она с ней ушла. Я узнала, что теперь другие порядки: на руки адресов никто не даёт, а пишут запрос, и если человек не возражает, только в этом случае сообщают адрес. Я боялась, что Людка через столько лет может сразу меня не вспомнить, и лихорадочно сочиняла своё письмо, чтобы добавить к их казённому, где напоминала о нашем общем прошлом. Женщина вернулась с листком, который не торопилась мне оглашать и показывать. Как-то мялась, темнила, тянула резину.
- Расскажите, что Вы ещё о ней знаете.
- Да я же всё уже сказала.
- Откуда она родом? Не из Казахстана?
Родом из Казахстана была однофамилица Людки, с которой я заочно уже была знакома.
- Нет-нет, это не она. А что, у вас их много, Люд Гнездиловых?
- Две.
Я обрадовалась:
- Ну вот, значит, вторая — моя! Где она, дайте, покажите!
И услышала в ответ:
- Она... умерла.
Я чуть не упала.
- Как?.. Когда?!
- В 2010 году.
Я вышла оттуда, не помня себя,как в тумане. Пройдя немного, опомнилась, вернулась.
- Скажите, где она похоронена? Как узнать номер могилы?
- На Киселёва 7. Там архивы.
Я шла, не разбирая дороги, слёзы сами текли по щекам. Боже, как больно. Моя Людочка... Маленькая моя. Как это, почему так рано, за что? Что же так поздно я нашла тебя, где я была раньше, ты так и не узнала, как я люблю тебя, как всё время вспоминаю...
Всплыла фраза Набокова из «Лолиты», поразившая меня когда-то: "Мелодия, которую я слышал, составлялась из звуков играющих детей, только из них... Стоя на высоком скате, я не мог наслушаться этой музыкальной вибрации, этих вспышек отдельных возгласов на фоне ровного рокотания, и тогда-то мне стало ясно, что... голоса ее уже нет в этом хоре".
Но я не могла ощутить умом непреложность и неумолимость этого «больше нет». Не могла примириться. У меня было одно желание - найти могилу, и - дикая надежда, - а вдруг там на фотографии на памятнике будет не она, ведь бывают же ошибки! Я её искала под девичьей фамилией, а она вышла замуж, и возможно теперь живёт под фамилией мужа. Правда, тогда уж я точно её не найду... Но хоть будет надежда, что жива.
На Киселёва 7 было закрыто. Надпись гласила, что архив работает с 10 до 12 и с 14 до 16 часов. А был уже вечер. Не помню, как добралась домой. Давид спросил о чём-то. Я зарыдала:
- У меня горе... Людочка моя умерла...
Давид утешал меня как умел. Я проплакала весь вечер и ночь. Утром с распухшим лицом отправилась на Киселёва. Там нарвалась на очередную порцию хамства. Дама из архива заученным тоном вопрошала:
- Имя, фамилия, отчество? На каком кладбище захоронена?
- Так это я и хотела узнать...
- Дата смерти?
- Не знаю... Мне сказали лишь, что в 2010 году.
Она вперила в меня свой прокурорский прищур:
- Вам не мог-ли не ска-зать даты смер-ти! - чеканила она каждое слово. - Где Вы были?
- На Радищева 25, в адресном столе.
- Вы лжёте! Вы не были там! Если бы Вы были — Вам бы дали бумагу!
- Да как Вы можете! Да позвоните, спросите, Вам подтвердят, я была перед самым закрытием, в шесть часов!
- Звоните сами куда хотите.
Я попробовала её умолить, взывала к чувствам — всё тщетно. Потом та процедила:
- Спуститесь вниз, налево от нас загс, там Вам могут сказать дату смерти. Там увидите, она одна там сидит.
В загсе меня встретил ледяной приём.
- С какой стати мы должны Вам давать сведения? Вы кто ей?
Я растерялась.
- Я ей была как сестра...
- Чем можете подтвердить степень родства?
Я опешила.
- Мы не имеем право сообщать Вам такие сведения.
- Да какие сведения?! - взорвалась я. - Где похоронен близкий человек? Вы чего боитесь, я не понимаю, что я взорву эту могилу? Вскрою гроб? Украду памятник? Это уже не бюрократизм, это идиотизм! Мне сказали в архиве, что Вы мне должны назвать дату смерти!
- Мы им не подчиняемся. Они сами по себе, мы сами по себе. Они не имеют права нам указывать.
Я вышла из этого дурдома. Достала мобильник, позвонила в адресное бюро. Попросила позвать вчерашнюю женщину.
- Пожалуйста, скажите мне дату смерти, Вы сказали мне вчера только год. Без неё я не могу найти могилу.
- Мы не имеем права говорить дату.
- Но почему?!
- Там не было даты.
- Но этого не может быть. Раз есть год, должна быть и дата. Пожалуйста, узнайте, прошу Вас.
После некоторого замешательства она сказала:
- Ждите.
Потом наконец выдала «военную тайну»:
- 2 июля.
Но 2 июля — это сегодня... Значит, сегодня — ровно три года со дня смерти Люды. Эта точность совпадения меня смущала. Может быть, там, где она спрашивала, просто отмахнулись и сказали ей сегодняшнее число, первое, что пришло на ум, чтобы отвязалась?
Я спросила:
- А как её отчество, скажите, пожалуйста, в архиве требуют.
- Я не имею права Вам говорить. Это Вы должны были сказать отчество.
- Но почему? У Вас ведь есть оно...
- Я не имела права ничего Вам говорить без отчества! Я и так Вам пошла на уступки!
И бросила трубку.
Но хоть дату я теперь знала. Поплелась в архив.
- Я узнала дату. 2 июля 2010 года.
- На каком кладбище захоронена?
- Я не знаю. Я вот и хотела узнать, где её могила.
- У меня 12 книг! Я что, буду их все просматривать?!
- Но у неё редкая фамилия — Гнездилова. Их всего две в Саратове. Вернее, умерла лишь одна... Посмотрите, пожалуйста. Я заплачу Вам за беспокойство.
Она с остервенением стала листать книгу. Буквально через минуту заявила:
- Не числится!
- Вы смотрели Елшанку? Посмотрите на Новом, пожалуйста.
Она опять принялась листать.
- И здесь нет!
- Но как же так? Где же...
- Почём я знаю! Может её увезли из Саратова, ещё где-нибудь захоронили! Мало ли где! Идите, женщина! Не мешайте работать!
Круг замкнулся. На это раз, кажется, окончательно.
Я вышла из кабинета. Внизу на меня подозрительно вытаращился охранник — с нависшими колючими бровями, колючими усами и весь какой-то ощетиненный. Такое впечатление, что ему хотелось меня обыскать. Я дерзко взглянула в его набыченные глаза.
- Где у вас тут ближайшая милиция? то бишь полиция?
- Чего-чего?! Зачем вам?
- Здесь ничего не узнала, может быть, там узнаю.
Он пожал плечами.
- Не знаю.
- Скажите лучше: «Не имею права разглашать!» Разве Вас не так учили отвечать просителям?
Ну, насчёт полиции это я, конечно, загнула, мысленно усмехнулась я. Страшно представить, что там пришлось бы выслушать и испытать, если даже здесь, в учреждениях, созданных, казалось бы, для помощи людям, для нужд граждан, столько формализма, бездушия, откровенного хамства... Пожалуй, это и небезопасно. Кто знает, в чём они меня заподозрят... Зайдёшь — и не выйдешь. А ноги сами уже несли меня к нашему РОВД.
И вдруг — как молнией озарило: Сухов! Наш участковый! Он ведь так помог мне пять лет назад. А вдруг?...
Но тут я должна сделать одно отступление и рассказать эту историю пятилетней давности.
Итак, Сухов. Однофамилец героя из «Белого солнца пустыни». Легко запомнить. Но я бы и так никогда не забыла эту фамилию. Для меня этот реальный Сухов стал гораздо большим героем, чем тот, выдуманный киношный.

История эта была связана с нашей дворовой акацией, которая была для меня больше, чем просто деревом. Подробно я писала об этом в эссе «Часовые любви», не буду повторяться, кто захочет — прочтёт. На месте срубленной акации из маленького прутика, торчавшего из пня, мы с Давидом вырастили кустик, который постепенно нашими стараниями превращался в деревце.
Я мечтала дожить до того дня, когда оно дорастёт до моего окна на 3 этаже и снова будет укрывать мой балкон тенью, цвести, шелестеть, разговаривать и участвовать в моей жизни, как когда-то. Кустик был слабенький, его одолевали полчища тли, и мы с Давидом обмывали его мыльной водой, раствором марганцовки, вызывали опылителей за свои деньги, поливали, оберегали от излишне ретивых подростков. Но как только он начинал выравниваться и понемногу пышнеть — сволочной сосед с первого этажа выходил и выламывал-вытаптывал мой кустик. Дважды я находила на месте прежнего побега груду обломанных веток. Никакие увещевания и взывания к совести не помогали — соседа науськивала его жена - «прокурорша», как её с опаской называли соседи, так как она работала — уж не знаю кем — в прокуратуре.
Когда я пришла к ней по поводу в очередной раз изуродованного ими деревца, она заявила , что оно ей застит свет и здесь под её окном она его не потерпит, а когда я в следующий раз предъявила ей отксеренную вырезку из УК с указанием штрафа в 400 рублей за подобные деяния, то порвала её и вытолкала меня взашей, крича, что законы и без меня знает. Которые, надо было думать, ей не писаны.
В последний раз сосед срезал ножовкой нашу акацию под корень, это было в Рождество. Когда я увидела это — мне стало плохо. Первым побуждением было пойти и перебить им все окна. Но вовремя опомнилась и ограничилась выкриком в их форточку слов, которых они были достойны. У Андрея Белого есть душераздирающее стихотворение, которое сопровождалось ремаркой: «выкрикивается в форточку». Ну, стихотворение — это было бы для них слишком тонко, а вот презренную прозу я им всё-таки выкрикнула. Но легче не стало. Вандалы отмолчались.
Я советовалась с братом-адвокатом. Он только посмеялся над моим намерением идти в милицию (тогда была ещё она). На фоне глобальных злодеяний, с которыми он ежедневно сталкивался в своих уголовных делах, моё дело казалось ему мелким и не стоящим внимания. Когда тут на каждом шагу убивают, грабят, насилуют — кто будет заниматься моими кустиками? Не смеши людей — говорил он мне. - Это бесполезно.
То же самое твердили мне друзья. Я и сама это понимала. Но стерпеть не могла. Пепел Клааса — замученной акации, которая была для меня живым и родным существом — стучал в моё сердце и требовал каких-то действий.
Как сейчас помню тот зимний вечер. Была жуткая метель. Я, постояв, как на могиле, над останками моего растерзанного деревца, которому так и не дали вырасти, мысленно дала клятву отомстить за него, найти управу на подонков. И решительно направилась в сторону РОВД. Шла как сомнамбула под завывания ветра, не очень сознавая, куда иду и зачем.
В милиции не было ни души. Я прошла по пустынному коридору и вошла в первый попавшийся кабинет. За столом сидел участковый — молодой парень — и что-то писал. Я села напротив. Он осведомился о цели моего прихода. Я сказала, что пришла сюда без всякой надежды, даже заявление писать не стала, ибо все говорят, что это бесполезно. Что понимаю несоизмеримость масштабов их дел и незначительности — на сторонний взгляд — моего. Но очень прошу выслушать меня просто по-человечески.
Я рассказывала ему об акации, о моей маме, чей образ после смерти неразрывно связан для меня с этим деревом, о том, как её убили дважды, казнив акацию, расчленив её тело, грубо надругавшись над ним. Говорила сумбурно, как в бреду, стихи какие-то читала...
… Оно живое было. И цвело
его худое чахленькое тело
неброско и застенчиво, светло.
Оно летело, пело, шелестело.
Беспомощны отчаянье и гнев.
Не вызвать совесть в стерве и дебиле.
Была моя акация в окне.
И вот её средь бела дня убили.
Участковый внимательно слушал, ни разу не перебив. В этой сцене было что-то ирреальное.
А когда я наконец умолкла, сказал:
- Ну и зря Вы не стали писать заявление. Надо было написать.
Я опешила. На меня участливо смотрели внимательные молодые глаза. В них не было равнодушия и формализма, к которым я так привыкла. Подумалось невольно: «участковый» … «участие»... Ведь это слова одного корневого ряда... Неужели ещё такое бывает?
Участкового звали Дмитрий Сухов. А дальше — вы не поверите — было вот что. Он пошёл со мной к моим врагам-соседям и провёл с ними внушительную беседу.

Пригрозил штрафом, запретив подходить близко к моему дереву. Потом пошёл в наше ЖЭУ и велел им не допускать больше подобных случаев. Рассмотрел этот вопрос на какой-то своей летучке. Написал рапорт куда-то наверх. Моё деревце вздохнуло спокойно и снова стало расти. Теперь, спустя пять лет, оно уже большое и сломать его не так-то просто.
А имя Сухова я навсегда вписала в свои сердечные святцы. (Это выражение Софии Парнок: «Из моих любовных святцев вырываю имена!» Она вырывала, а я наоборот - вписала).
И вот теперь я снова вспомнила об этом Сухове — нереальном участковом, рыцаре без страха и упрёка, непонятно как затесавшемся в наш паскудный ментовский криминально-материалистическй мир. А вдруг он опять мне поможет? - появилась несмелая мысль, которую я тут же отбросила. В одну воронку дважды снаряд не попадает... Нельзя войти дважды в одну реку... Но я всё же сделала эту попытку и вошла дважды в милицейскую — теперь уже полицейскую — дверь.
На дверях было расписание, согласно которому капитан Сухов дежурил в понедельник и четверг. А сегодня — во вторник — какой-то майор. Я потопталась в нерешительности, но ждать, изнывая от неизвестности, до четверга, было выше моих сил. И я — а, была не была, отправилась в кабинет. Там так же, как пять лет назад, сидел молодой парень, но уже не писал, а что-то списывал с компьютера. Я начала излагать суть дела.
- Помогите, пожалуйста, разыскать человека. Мы росли в одном дворе. Вот карточка.. Это Людочка... Она была мне как родная. А вчера я узнала, что она умерла. Мне бы узнать, где она похоронена. И адрес... Ведь у неё кто-то остался, наверное — муж, ребёнок... Я хоть узнаю, что случилось... Хоть с соседями поговорю. Цветы на могилку отнесу, попрощаюсь. Душа не на месте... Никто мне не может помочь — ни в адресном столе, ни в загсе, ни в похоронном архиве, все не имеют права ничего разглашать без отчества, требуют подтверждения родства, всякие бюрократические проволочки... Одна надежда на вас...
Участковый — (что-то он молод для майора — успела отметить я) попросил немного подождать, пока он закончит работу. Через какое-то время я решилась нарушить тишину:
- Вы знаете, пять лет назад мне очень помог ваш сотрудник Дмитрий Сухов... -
И я с жаром принялась описывать его достоинства и былые деяния, не без тайной мысли направить нового полицейского по тому же благородному пути. Парень вдруг смущённо улыбнулся:
- Это я Сухов.
И тут я его узнала! Ну конечно же, это он! А я поверила расписанию! Недаром — как это у Козьмы Пруткова: "Если на клетке слона увидишь надпись "буйвол", не верь глазам своим."
- Ой, это Вы! То-то я смотрю... А как же написано...
- Мало ли что у нас написано...
И снова Сухов, как добрая фея из сказки с волшебной палочкой в виде Интернета, мне помог!
Он пробил Людочку с её мамой Ниной по новейшей базе данных, и выяснил в считанные минуты, что она жива-здорова и носит фамилию мужа. У неё сын, дочь и двое внуков. И даже адрес мне её дал, показав на компьютере план дома, даже чертёж нарисовал, как лучше доехать. И при этом — никаких опасений, что разглашает мне что-то государственно-недозволенное, явно не испытывал. Я, с ещё не просохшими слезами горя по моей Людочке, теперь чуть не плакала от счастья. Вне себя от благодарности, стала совать ему деньги — он замахал руками:
- Что Вы-что Вы, заберите сейчас же! Ещё увидит кто не дай бог!
- Но как же мне Вас отблагодарить? Давайте я Вам благодарность напишу!
А! - отмахнулся он. - Не надо ничего. Если захотят уволить — всё равно уволят...
- Но я всё равно о Вас напишу! Не знаю пока куда, но напишу...
Сухов смущённо улыбался.
Вот эту фотографию я с трудом раздобыла в Интернете. Это он, участковый уполномоченный полиции Кировского РОВД Саратова Дмитрий Александрович Сухов. Страна должна знать своих героев.

Я пришла домой, накупив по дороге на радостях всяких вкусностей, с драгоценным листочком бумаги в трепещущей руке. В этом листочке с адресом, как в игле Кощеева яйца, таилась жизнь: Людочка, старый двор, наше детство, прошлое...
«Прошлое! Пусти меня, пожалуйста, на ночь! Это я бьюсь бронзовой головой в твои морозные ставни... И закрой меня на ключ, от будущего напрочь …Прошлое, я просто пришёл погреться...» - вспомнился Губанов. Стрелки моих часов вдруг начали двигаться против времени, окунаясь в обратное Ничто, таинственным образом преображая его во Всё... Я ощутила безмерную усталость. В течение одного дня похоронить дорогого человека, оплакать и узнать, что он всё-таки жив — такое не каждая нервная система выдержит. Я рассказала Давиду всё, что со мной приключилось за этот день, потом мы пообедали, потом я провалилась в мертвецкий сон. Но и проснувшись, звонить не спешила, медлила — а вдруг это всё-таки не она? А вдруг я услышу чужой голос?
По адресу узнала в платной горсправке телефон. Но он оказался «с закрытым соединением». Они должны были соединить лишь в случае согласия абонента.
- Как Вас представить? - вопрошала чиновница.
- Скажите, что Наташа, что мы росли в одном дворе...
В трубке что-то щёлкало и квакало, раздавались какие-то шумы, помехи.
Я, испугавшись, что сейчас оборвётся эта драгоценная ниточка связи, закричала, врываясь в чьи-то казённые голоса:
- Людочка! Это я, Наташа, мы жили с тобой в доме по Советской 18... Ты слышишь меня?
- Да... - раздался голос Людочки.
Конечно, он изменился, был слегка хрипловатым, даже чуть грубоватым для того ангельского существа, что я хранила в памяти, но я узнала бы его из тысячи других. Сомнений быть не могло, это была она!
- Ты жила в подвале с мамой Ниной, а я в квартире 45, мой обруч залетел к вам в подвал, я учила тебя ходить, говорить, сказки тебе читала, помнишь?!
- Да, я жила в подвале, на Советской 18, с мамой Ниной, всё правильно...
Но Вас я, простите, не помню.
Это был нокаут. Я ожидала чего угодно, но только не этого. Почему-то я была уверена, что она тоже вспоминала и тосковала по мне...
Круг замкнулся.
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/208221.html
|
|
Понравилось: 2 пользователям
Чувство материнства |
(из книги "Непрошедшее время", 2005)
В последнее время я ловлю себя на том, что живу как бы с головой, повёрнутой в обратную сторону. Это похоже на прустовский поиск утраченного времени.

Пытаюсь взять след, отыскать прошлогодний снег, давно ушедший поезд, позараставшие стёжки-дорожки.

Те дни – нет, минуты – нет, мгновения, когда я была по-настоящему счастлива. Каждый такой миг неуловим, воздушен, ускользает из рук, не даётся облечь себя в слова.
“Мысль изречённая есть ложь”. Что же говорить о чувстве? “А душу можно ль рассказать?” И всё же попробую.
Я жила тогда на Советской в большом угловом сером доме, выходившем сразу на три улицы.

Там в моей жизни и появилась Людка. Я катала обруч, и он залетел в этот подвал. В подвале жила женщина с ребёнком. Не помню, как у меня завязалась дружба с этой девочкой, но скоро мы уже не мыслили жизни друг без друга. Ей было полтора годика, мне – восемь. Казалось бы, что общего. Но я, едва позавтракав (если это был выходной) или сразу же после уроков спешила к ней. Девочка тянула ко мне ручки: “Ля-ля!” Так она меня называла. Потом “Ляля” превратилась в “Няню”, потом в “Атасу”, и, наконец, она научилась выговаривать моё имя.
Мои недовольно ворчали, не понимая, что я забыла в том подвале. А мне Людка вмиг заменила всё: подружек, игрушки, книжки.


Она была для меня живой куклой, превращавшейся на моих глазах в настоящего человечка. Я кормила её, гуляла с ней, учила первым словам, стишкам, играм. Боже, какой горячей радостью заливало грудь, когда из тёмного подвального угла мне навстречу звенел её голосок: “Атасенька плисла!”
Я запомнила одну, самую-самую счастливую минуту. Наш двор. Летний вечер. Я сижу на перекладине качелей с Людкой на коленях, мы тихонько с ней раскачиваемся. Она прижалась ко мне стриженой головкой. Я что-то ей рассказываю, кажется, какую-то сказку. Прямо перед нами заходит солнце, огромный нежно-розовый шар. Это было так прекрасно, что-то было такое тихое, щемящее, вечное, священное в этой минуте, что я запомнила её навсегда. Это было настоящее чувство материнства, которое я испытала с этой девочкой во всю мощь души, испытала в восемь лет, чтобы потом больше не испытать никогда.

Вскоре Людка с матерью куда-то переехали. А я ещё много лет видела во сне её маленькую фигурку, упрямо ковыляющую мне навстречу на беспомощных ножках, её тёплое тельце, прижимающееся к моей груди. И плакала горько-сладкими слезами.
А однажды я встретила свою Людку в трамвае. Это была высокая, довольно крупная девушка с добрыми глазами и смущённой улыбкой. По этим глазам я её и узнала. Она была уже выше меня ростом. Казалось, мы поменялись местами и теперь я уже была младше её. Я не знала, как мне вести себя с ней, о чём говорить. Всё перевернулось с ног на голову. Это была уже не моя девочка, я никак не могла найти нужный, естественный тон в разговоре. Мы обменялись несколькими общими фразами, и я торопливо вышла не на той остановке. У меня было чувство какой-то невосполнимой утраты, подмены.
Но до сих пор нет-нет да и приснится та – маленькая, тёплая, единственная. То, что мы любим – никуда не уходит, оно навеки остаётся там, где мы его когда-то оставили, в нашем прошлом, в нашем сердце. И тогда нет слова “было”. Есть только слово “Есмь”.
Продолжение здесь
|
|
Смерть, где жало твоё?... Часть пятая. |
Начало здесь

Цветаева узнала о смерти Рильке в самый канун Нового года.

В ту новогоднюю ночь она пишет ему письмо. Письменное слово – её спасательный круг в самые тяжкие минуты жизни – даже тогда, когда нет уже на земле человека, к которому оно обращено.

«Любимый, я знаю, что ты меня читаешь прежде, чем это написано», – так оно начиналось. Письмо почти бессвязное, нежное, странное. - «Год кончается твоей смертью? Конец? Начало! Завтра Новый год, Райнер, 1927,7 – твоё любимое число... Любимый, сделай так, чтобы я часто видела тебя во сне – нет, неверно: живи в моём сне. В здешнюю встречу мы с тобой никогда не верили – как и в здешнюю жизнь, не так ли? Ты меня опередил и, чтобы меня хорошо принять, заказал – не комнату, не дом – целый пейзаж. Я целую тебя – в губы? В виски? в лоб? Милый, конечно, в губы, по-настоящему, как живого...
Нет, ты ещё не высоко и не далеко, ты совсем рядом, твой лоб на моём плече... Ты – мой милый, взрослый мальчик. Райнер, пиши мне! (Довольно глупая просьба?) С Новым годом и прекрасным небесным пейзажем!».

Оплакивание. Заклинания. Предтеча будущих реквиемов – в стихах и прозе.

Новый год Цветаева встречала вдвоём с Рильке.

Она говорила не с умершим и похороненным Рильке, а с его душой в вечности. Она чувствовала его бездну своей бездной. Этого нельзя объяснить. Этому можно только причаститься.

Лучшие цветаевские произведения всегда вырастали из самых глубоких ран сердца. В феврале 1927-го ею была завершена поэма «Новогоднее», о которой Бродский скажет, что это «тет-а-тет с вечностью». Подзаголовком было проставлено: «Вместо письма».

рис. А. Эфрон
Это своеобразный реквием, нечто среднее между любовной лирикой и надгробным плачем. Письмо-монолог, общение «поверх явной и сплошной разлуки», поверх вселенной. Поздравление со звёздным новосельем, любовь и скорбь, бытовые подробности, которые Саакянц называет «бытовизмом бытия». Поверить в небытие Рильке для неё невозможно. Это значило бы поверить в небытие собственной души. Небытие бытия.

Что мне делать в новогоднем шуме
с этой внутреннею рифмой: Райнер – умер?
Если ты, такое око смерклось,
значит, жизнь не жизнь есть, смерть не смерть есть.
Значит, тмится, допойму при встрече!
Нет ни жизни, нет ни смерти, – третье,
новое...

Следом за «Новогодним», будучи не в силах расстаться с Рильке, Цветаева пишет небольшое произведение в прозе «Твоя смерть».

«Вот и всё, Райнер. Что же о твоей смерти? На это скажу тебе (себе), что её в моей жизни вовсе не было. Ещё скажу тебе, что ни одной секунды не ощутила тебя мёртвым, себя – живой, и не всё ли равно, как это называется!» – строчки, почти дословно повторяющие строки стихотворения «Петру Эфрону»: «И если для целого мира вы мёртвы, я тоже мертва».

Владислав Ходасевич. Один из самых мрачных, желчных и язвительных наших поэтов.

Трудно представить, что этот холодный, ироничный и как будто такой трезвомыслящий человек горячей и сострадательной любовью любил своего друга, любил даже после его смерти. Его сборник «Путём зерна» посвящен памяти Муни – это псевдоним поэта Самуила Кисина, близкого друга Ходасевича.

Муни служил в армии военным чиновником, сопровождал санитарные поезда. Во время одной из таких поездок он застрелился. Ходасевич очень тяжело переживал его смерть, винил себя, что не уберег друга. Вся его книга – это непрерывный взволнованный разговор с Муни.
«Я говорю с тобою, друг заочный, на только нам понятном языке». «Но, вечный друг, меж нами нет разлуки! //Услышь, я здесь. Касаются меня// твои живые, трепетные руки, //простёртые в текучий пламень дня».
Он постоянно думает о нём, пишет стихи как бы от его имени, от имени его духа, который обращается к нему с того света:
Ищи меня в сквозном весеннем свете,
я весь – как взмах неощутимых крыл,
я звук, я вздох, я зайчик на паркете,
я легче зайчика: он – вот, он есть, я – был.

А. Камю писал в своих записных книжках: «Смерть сообщает новую форму любви, а равно и жизни, она превращает любовь в судьбу».
У меня есть такое стихотворение:
Я, как наледью, скована памятью...
И встаёт из глубин снеговых,
запорошенный пылью и заметью,
город мёртвых и город живых.
Здесь пространство и время распорото,
ариаднина тянется вязь.
Меж реальным и призрачным городом
существует незримая связь.
Я кружу над своими утратами...
Мир единый распался на два.
Словно в оба кармана запрятаны
одного пиджака рукава.
Каждый смертный, коль любит и помнит он,
здесь отыщет родные сердца.
Жизнь и смерть – это смежные комнаты
одного ледяного дворца.
Все свободно тут перемещаются,
ведь для душ не бывает границ.
А туман всё плотнее сгущается,
растворив очертания птиц.

Есть вещи, в которые не то чтобы веришь или предполагаешь, догадываешься, а которые просто знаешь доподлинно, каким-то внутренним зрением, внутренним знанием, шестым чувством, генетически знаешь. Это то, что сильнее логики, разума, здравого смысла.
Очень сильное впечатление на меня произвели «Реквиемы» Л. Петрушевской, особенно первый, который называется «Я люблю тебя».

Он – о семейной паре, муже и жене. Муж изменял жене, не ценил, не замечал, занятый своей личной жизнью, а она любила его и мирилась с тем малым, что ей ещё оставалось. Занималась детьми, бытом, терпела и любила молча. Так прошла жизнь. Потом её разбил паралич. И вот тут он словно проснулся, прозрел, понял, кто действительно был для него самым родным человеком. Он бережно ухаживал за ней, уже потерявшей речь, прикованной к постели, а в ночь, когда она умерла и её увезли, он заснул и вдруг услышал, что она тут, прилегла на подушку и сказала: «Я люблю тебя». И он спал счастливым сном, и был спокоен и горд на похоронах и говорил всем, что она ему сказала фразу: «я люблю тебя». Что она всё-таки успела ему это сказать – «без слов, уже мёртвая, но успела».
Что это? Мистика? Нет. Это высшая правда жизни, правда души, которую невозможно объяснить, её можно только постичь сердцем, душевным опытом.
Последняя книга Инны Лиснянской «Без тебя» посвящена памяти мужа.

Это портрет Семёна Липкина, но портрет, ахматовски изменённый («когда человек умирает – изменяются его портреты»…)
Упустила последний я час твоей жизни,
и застыл в укоризне
глаз твой синий, уставленный в белое небо.
Как всё вышло нелепо!
Ты во сне 30 дней меня не навещаешь –
ты меня не прощаешь.
Но я вижу всей явью душевного ада:
над деревьями сада
облака расступились, тебя пропуская
к обитателям рая.
Сорок дней дышу я, как в дыму
около огня.
Сорок дней душа твоя в дому
около меня.
Для тебя и рюмка, и калач,
весь в поминках стол.
Сорок дней мне говоришь: «Не плачь,
волю я обрёл,
волю ту, что я имел в обрез,
будучи живым.
Не горюй! Я здесь! Я не исчез!
Просто стал незрим».

«Книга эта писалась мной в великой скорби» – слова автора с форзаца издания. И говорить о таких стихах со стороны – невозможно, о них судить нужно уже в другой системе координат.
Я брожу, мой милый,
меж соседних дач,
в собственные жилы
загоняя плач.
Каменеет в теле
дождевая нить.
А на самом деле
хочется мне выть.
Хочется мне горе
выплакать моё,
но оно не море,
а небытиё.

Эта книга – обнажённый нерв расставания. Боль, бьющая поверх рифм, строф.

Я оплачу тебя под напев былинный,
под горчайший напев, но славный,
я оплачу тебя, как Христа Магдалина
и как Игоря Ярославна.
Ах, как много простора для женского плача –
от олив назаретских до ельников жёстких,
от холодных снегов до песков горячих,
от Овечьих ворот до кремлёвских!

В стихах настойчиво, упрямо звучит мотив воскрешения из мёртвых:
...и мне, так долго живущей,
простит овдовевший стих,
который мычит, скорбя,
мычит из последних сил,
что Он воскресит тебя,
как Лазаря воскресил.
В сущности эта книга – попытка Орфея обернуться и перехитрить закон.
И луч весенний –
всё та же дрожь.
Я жду: хоть тенью
домой придёшь.

Она чувствует его повсюду – в голубе, который «бьётся о ставень так, что седые перья летят с крыла», в звезде, что «удержалась в своём паденье и засверкала перед окном седым», в его пиджаке, что «с гвоздя упал, как подранок, машет пустым рукавом и не может взлететь».
Это весь мир окружающий стал тобою,
пренебрегая тенью и сладким сном.
Видишь, сижу я с закушенною губою
двадцать девятые сутки перед окном.

Свет, наподобие колеса,
в майскую зелень ныряет.
Птицы на разные голоса
имя твоё повторяют:
имя твоё выдувают шмели
в златомохнатые дудки,
шепчут на влажных участках земли
имя твоё незабудки.
И одуванчик поседелый
с твоей смешался сединой.
Стою с улыбкой оробелой
к стене бревенчатой спиной.
А где упал, там незабудка
расширилась, как вещий глаз.
Ты стал природою. И жутко
мне на неё смотреть сейчас.

Она пишет письма «умершей своей половине», как Цветаева – Рильке на тот свет:
Я беспокою вечный твой покой.
Прости, но я не верю, что ты спишь, –
мне кажется, за жизнью ты следишь:
сырая вечность под её рукой,
а под моей – компьютерная мышь
мне помогает справиться с тоской.

Она пытается «миры разобщённые связывать в Интернете» в безумной надежде, что «непременно встретимся мы с тобой, как Гумилёв говаривал...»
Хочется думать иль грезить, по крайней мере,
что непременно встретимся мы с тобой,
как Гумилёв говаривал: «Ах, на Венере»
или ещё на какой звезде голубой.
Хочется верить – ещё мы увидим оттуда,
что трясогузка цела и черёмуха хладно бела,
что на серебреники не польстился Иуда
и на поправку пошли на земле дела.
Сквозь боль и горечь потери, сквозь стон и плач просачивается «тепло жизни и свет любви», они бьют сквозь неё – точно солнце сквозь дождь.

В одном из стихотворений Лиснянской есть такие пронзительные строки:
За ночь одну пожелтели берёзы,
поздней красой меня сводят с ума.
Господи Боже, кому мои слёзы?
Господи Боже, кому я сама?
А я читала их сквозь слёзы и думала: мне! Мне! Настолько мне всё это было близко. Я написала ей тогда письмо о том, что значит для меня её поэзия. И вот её ответ:
«Дорогая Наталия Максимовна! Получила от Вас письмо и книгу. Большое спасибо за добрые слова о моём стихотворчестве. Книгу Вашу прочла с большим интересом от корки до корки. В стихах много горечи, одиночества и печали с просветлениями души. Вы пишете мне о близости наших душ. Действительно, все души стихотворцев уже тем близки, что вдуты в нас Господом. А вот характеры, определяющие судьбу, у каждого пишущего, как и музыка стиха (чем главным образом и отличаются друг от друга крупные русские поэты), совершенно разные. Вы удивляетесь, как зачастую поэты не похожи сами на себя. Это естественно. Поэзия не проистекает из одной только биографии, если это так, то это не поэзия, а сплошное самовыражение «в минуту жизни трудную». Моя жизнь – совершенно другая вследствие моего характера, – никогда: пионерство, комсомольство, партийность, литкружковство. Живу уединённо и лишь под нажимом раз в пять лет выхожу на сцену. Мне очень тяжело обнажать свои мысли и чувства перед аудиторией. В моём воображении есть некий читатель, общающийся с моими виршами с глазу на глаз. В поэтах я себя, в сущности, не числю. Не потому, что я, скажем, пишу хуже всех пишущих ныне, а потому, что передо мной всегда образцы великой русской поэзии, до коих мне не дотянуться. Такое самопонимание приносит скорее облегчение, чем тягость. Ибо я знаю: никто о моих стихотворных опытах не отзовётся хуже, чем я сама. Не примите моё предельно искреннее письмо за кокетство или жеманство. А пишу стихи я, как и Вы говорите о себе, оттого, что не могу не писать. Но добрые слова, за которые я Вас благодарю, тем не менее всегда согревают.
Желаю Вам вдохновения, стихов и прозы, и радостей жизни.
Ваша Инна. 2 мая 2004»

У А. Кушнера есть чудное стихотворение «В павильоне у моря...» Оно большое, я приведу только его конец:
Он вошёл в павильон, поднял стул за спинку
и, поставив его на краю площадки,
сел над морем, с полночною тьмой в обнимку,
словно с кем-то, как в детстве, играя в прятки.
– Проигрался? – спросил его тихий голос.
Казино золотыми, как сноп, лучами
за спиной полыхало, звезда кололась.
– В переносном значенье? – Пожал плечами.
– Знаю, ты не игрок. Но перила, сходни,
берег, лестницы – всё здесь ведёт к обрыву...
– Лучше я тебя, голос, спрошу сегодня:
Смерть сулит нам какую-нибудь поживу?
И смутился, услышав: – Ещё какую!
Тень цеплялась за тень, среди их сплетений
чайку он разглядел, а за ней – другую, –
там не будет обыденных отношений.
То есть там, если нам назначают встречи,
эти встречи такую же дарят радость,
как звучащая здесь в стихотворной речи
окрылённость, – так можно сказать? – крылатость.

Недавно я увидела сон. Приснилось непередаваемое ощущение детского восприятия свежести летнего утра. Рано-рано. Липки.

Я иду по аллеям. Город спит. Мощное ощущение утренней свежести и будоражащей радости – биологической, «нутряной», неудержимой, от которой хочется бежать, прыгать, кричать, которая бывает только в детстве. Ни души. И вдруг вдали замечаю отца. Образ его двоится: то он молодой – всегда бодрый, подтянутый, с готовой шуткой на губах, жизнерадостный, то уже старый, но улыбающийся, радостный меня видеть.

Такой светлый-светлый сон. Так редко такие бывают. И под конец – небо, облака, как показывают в кино, когда герой прощается с жизнью (Андрей Болконский, Баталов «Летят журавли»). И я вижу это небо как бы их глазами, то есть не просто, а – крупно, со значением, как в последний раз.

И – мысль: значит, я умираю? Но – не испуг, не печаль, а радость от этой мысли.
Что нужно, тень, тебе? Но тень не говорит.
То дверцей хлопает, то к полке приникает.
И в мыслях роется, храня невинный вид,
и сердце бедное, как ящик, выдвигает.
(А.Кушнер)
И ещё один сон об отце. Снилось, что он мне показывает альбом с его фотографиями, которых я прежде не видела. Вот он маленький мальчик... Вот школьник... Молодой... Чередовались кадры его неведомой мне жизни, наполняя жадной радостью открытий. С каждым снимком я знала о нём всё больше и больше. Передо мной возникали снимки, где он с мамой – в саду на лавочке, он обнимает её за плечи («в городском саду играет духовой оркестр» – как иллюстрация к этой песне), какие-то военные, довоенные картины... Я вдруг поняла всю его жизнь, всего его – без связи со мной, как-то отстранённо, точно откуда-то с небес увидела. Это было то Большое, что «видится на расстоянье». Радость копилась в груди, крепла, нарастала и вдруг – как высшая её точка, как верхняя нота, выше которой уже ничего не бывает – озарила догадка: «Так смерти нет?!» И отец улыбнулся мне, как несмышлёнышу, и сказал чуть устало, как о чём-то само собой разумеющемся: «Нет».

И всё. Больше он мне не снился. Может быть, потому, что лучше этого сна уже ничего быть не может. Вспомнились посмертные слова из «Гранатового браслета»: «Ты меня слышишь? Слышишь? Успокойся, моя безмерно любимая…»
Я успокоилась. «Не говори с тоской: их нет. Но с благодарностию: были». Я счастлива, что вы были – все, кого я любила и люблю. Но если были – значит, есть. Это как закон физики, закон земного притяжения, которое перетягивает небесное.
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/206249.html
|
|
Процитировано 2 раз
Понравилось: 1 пользователю
Смерть, где жало твоё?.. Часть четвёртая. |
Начало здесь

В одной из своих книг я написала, что «Рассказ синего лягушонка» Ю. Нагибина – это лучшее, что я когда-либо читала о любви. Нагибин и сам считал его лучшим своим рассказом. Синий лягушонок – это он сам, это тот новый образ, новое обличье, которое его душа приняла в другой жизни. Но – пишет он: «со мной случилось самое худшее из всего, что могло принести новое существование – я стал лягушкой с человечьей памятью и тоской». Он продолжал тосковать по жене, которую оставил в прежней жизни, и обнаруживал те же страдания в своих собратьях – тех животных и растениях, которые были прежде людьми.

«Вы слышали когда-нибудь ночные голоса леса? Скрип деревьев, вздохи трав? Я не раз наблюдал, став лягушкой, как по-разному ведут себя деревья с наступлением ночного часа. Соседствуют две берёзки-однолетки с крепкой корой без раковых наплывов и здоровой сердцевиной ствола, с густо облиственной кроной, но приходит ночь, и одно дерево спокойно, тихо спит, а другое начинает скрипеть – в полное безветрие. И скрип этот – как стон, как бессильная жалоба, как сухой, бесслёзный плач. У природы нет общего языка, как нет его у людей. И всё-таки я знаю, о чём они скрипят и стонут, – это тоска по оставшимся в прежней жизни».

«Будучи человеком, я заигрывал с идеей переселения душ, гарантирующей жизнь вечную. Казалось заманчивым примерить на себе другие личины. Разве знал я, что в это бессмертие втянется лютая тоска». «Скрип деревьев, бормот кустов, шёпот трав перебили и заглушили другие звуки – ухали, охали, скулили, взрыдывали животные, бывшие когда-то людьми. Те же, что не пили жизни из человечьей чаши, спали безмятежно, глухие к памяти своих былых превращений; среди этих тихонь находились и первенцы бытия. А ведь и они могут когда-нибудь очнуться в человечью муку».

Потом лягушонок встречает свою жену в своей новой жизни в облике косули. Их сердца сразу подсказали им, кто они есть на самом деле, и их любовь продолжалась, пока её не прервала новая смерть. «Корчась и задыхаясь, я сумел вспомнить о том, что толкалось мне в мозг и душу, когда я шёл от мёртвой Алисы: это не конец, будет ещё тоннель... А раз так... То когда-нибудь, где-нибудь... Пусть через тысячи лет, через все превращения и муки... Господи, прости мне хулу на тебя... Господи, воля твоя!»

– Мы здесь, – говорят мне скользнувшие лёгкою тенью
туда, где колышутся лёгкие тени, как перья, –
теперь мы виденья, теперь мы порою растенья
и дикие звери, и в чаще лесные деревья.
– Я здесь, – говорит мне какой-то неведомый предок,
какой-то скиталец безлюдных просторов России, –
ведь всё, что живущим сказать я хотел напоследок,
теперь говорят за меня беспокойные листья осины.
– Мы вместе с тобою, – твердят мне ушедшие в камень,
ушедшие в корни, ушедшие в выси и недра, –
ты можешь ушедших потрогать своими руками, –
и грозы и дождь на тебя опрокинутся щедро...
– Никто не ушёл, не оставив следа во вселенной,
порою он твёрже гранита, порою он зыбок,
и все мы в какой-то отчизне живём сокровенной,
и все мы плывём в полутьме косяками, как рыбы...
Эта тема – переселения душ – мимоходом затрагивается в эссе И. Бродского «Полторы комнаты», где он рассказывает о своём детстве и своих родителях. В конце повествования он каким-то будничным бесстрастным тоном как бы вскользь сообщает о том, что во дворе его дома в Америке недавно появились две вороны. Он не говорит прямо, но тон не оставляет сомнения в том, что эти вороны – его умершие родители.

«Две вороны тут во дворе у меня за домом в Саут-Хадли. Довольно большие, величиной почти с воронов и, подъезжая к дому или покидая его, первое, что я вижу, это их. Здесь они появились поодиночке: первая – два года назад, когда умерла мать, вторая – в прошлом году, сразу после смерти отца. Во всяком случае, именно так я заметил их присутствие. Теперь всегда они показываются или взлетают вместе и слишком бесшумны для ворон. И я не пробую отыскать их гнездо. Они чёрные, но я заметил, что изнанка их крыльев цвета сырого пепла».
В одном из интервью Бродский сказал: «Когда Арсений Тарковский начал надгробную речь словами «С уходом Ахматовой кончилось...» – всё во мне воспротивилось: ничто не кончилось, ничто не могло и не может кончиться, пока существуем мы. Не потому, что мы стихи её помним или сами пишем, а потому, что она стала частью нас, частью наших душ, если угодно. Я бы ещё прибавил, что, не слишком-то веря в существование того света и вечной жизни, я, тем не менее, часто оказываюсь во власти ощущения, будто она следит откуда-то извне за нами, наблюдает как бы свыше, как это она делала при жизни. Не столько наблюдает, сколько хранит».
Бродского серьёзно занимала проблема воскресения, дыры, которую он сам надеялся проделать в «броне небытия». В последних своих стихах, представляющих собой слова прощания и завещания, уходя, он приоткрывает русской поэзии этот путь, для неё пока новый. О жизни после смерти писал Случевский, тема воскрешения волновала по-разному Пастернака и Маяковского, но это были только отдельные произведения, а не целое направление. Бродский пишет:
Только пепел знает, что значит сгореть дотла.
Но я тоже скажу, близоруко взглянув вперёд:
не всё уносимо ветром, не всё метла,
широко забирая по двору, подберёт.
Мы останемся смятым окурком, плевком, в тени
под скамьёй, куда угол проникнуть лучу не даст,
и слежимся в обнимку с грязью, считая дни,
в перегной, в осадок, в культурный пласт.
Замаравши совок, археолог разинет пасть
отрыгнуть, но его открытие прогремит
на весь мир, как зарытая в землю страсть,
как обратная версия пирамид.
«Падаль!» – выдохнет он, обхватив живот,
но окажется дальше от нас, чем земля от птиц,
потому что падаль – свобода от клеток, свобода от
целого: апофеоз частиц.
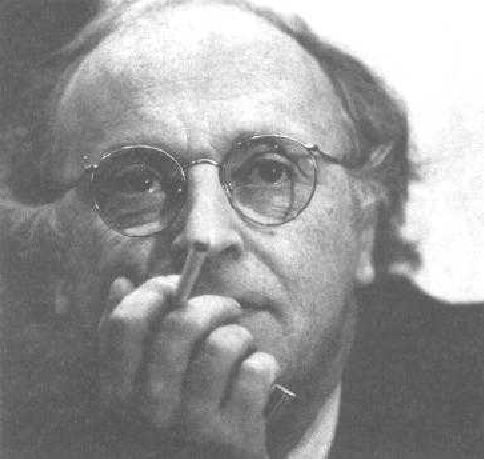
Несмотря на натурализм, в этом стихотворении речь идёт не только об органике. Падаль, которую отроет будущий археолог, это и «зарытая в землю страсть». Этот посмертный дуализм разложения, когда разложению, то есть не исчезновению, а изменению формы существования подвергается не только материальная, но и духовная ипостась человека, был навеян Бродскому чтением Марка Аврелия: «Подобно тому, как здесь тела, после некоторого пребывания в земле, изменяются и разлагаются и таким образом очищают место для других трупов, точно так же и души, нашедшие прибежище в воздухе, некоторое время остаются в прежнем виде, а затем начинают претерпевать изменения, растекаются и возгораются, возвращаясь обратно к семенообразному разуму Целого, и таким образом уступают место вновь прибывающим».
Судя по другим стихам Бродского, единственная форма загробного существования, признаваемая им, это – тексты, «часть речи», его горацианский памятник. Перо поэта надежнее, чем причиндалы святош: «от него в веках борозда длинней, чем у вас с вечной жизнью с кадилом в ней».

«Бессмертия у смерти не прошу», – написал он когда-то в 60-х. Оно само нашло его. Перечитывая сейчас его строчки, мы лишний раз осознаём, что поэты не умирают. Бродский просто ушёл туда, где он встретит Элиота и Одена, Ахматову и Джона Дона, Овидия и Проперция – тех, с кем он на равных разговаривал при жизни.

Разбегаемся все. Только смерть нас одна собирает.
Значит, нету разлук. Существует громадная встреча.
В прошлом те, кого любишь, не умирают.

Бродский никогда не вернулся на Васильевский остров, он похоронен на острове Мёртвых, как называют кладбище Сан-Микеле в Венеции. Но стихами своими он хотел бы остаться жить здесь, где родился, любил, был счастлив и несчастлив и, подобно Цветаевой, обращавшейся через головы современников к «тебе, через 100 лет», обращался к своим будущим «воскресителям»:
Мой голос, торопливый и неясный,
тебя встревожит горечью напрасной,
и над моей ухмылкою усталой
ты склонишься с печалью запоздалой,
и, может быть, забыв про всё на свете,
в иной стране – прости, в ином столетье –
ты имя вдруг моё шепнёшь беззлобно,
и я в могиле торопливо вздрогну.
У А. Кушнера есть стихотворение, написанное им вскоре после смерти Бродского, в котором он словно продолжает с ним этот загробный разговор:
Поскольку я завёл мобильный телефон, –
не надо кабеля и проводов не надо,
ты позвонить бы мог, прервав загробный сон,
мне из Венеции, пусть тихо, глуховато, –
ни с чьим не спутаю твой голос: тот же он,
что был, не правда ли, горячий голос брата.
По музе, городу, пускай не по судьбам,
зато по времени, по отношенью к слову.
Ты рассказал бы мне, как ты скучаешь там.
Или не скучно там и, отметя полову,
точнее видят смысл, сочувствуют слезам,
подводят лучшую, чем здесь, под жизнь основу?

Пушкин писал в одном из писем Александре Смирновой: «Мне кажется, мёртвые могут внушать нам свои мысли». Как иллюстрация к этой мысли может послужить рассказ Тургенева «После смерти».

Это мистическая история любви молодой девушки, талантливой актрисы Клары Милич к юноше, который не понял её любви. И тогда она приняла яд во время спектакля, где играла главную роль и, доиграв до конца, умерла, когда опустился занавес. А юноша полюбил её после смерти так, что ушёл вслед за ней, умер от горячки, «воспаления сердца». В основу этой повести была положена реальная история самоубийства провинциальной актрисы Евлалии Кадминой, которую Тургенев услышал от семьи Полонских. Кадмина приняла яд во время спектакля «Василиса Мелентьева», где играла главную роль, а некий Аленицин, магистр зоологии, увидев её там в первый раз – влюбился в неё.

После смерти актрисы эта любовь вспыхнула с неожиданной силой, приняв форму психоза. Тургенева чрезвычайно заинтересовал этот психологический факт – посмертная влюблённость, и он с необычайной силой воплотил её в этой повести.

Любовь Аратова к Кларе, вполне осознанная им только после утраты этой женщины, до тех пор любимой бессознательно, – чувство, которое оказалось сильнее смерти. Оно до такой степени овладевает всем существом человека, что тот уже не в состоянии осознавать, что любимого существа нет более в живых. «Встречу – возьму», – вспомнились ему слова Клары, переданные Анной... вот он и взят. Да ведь она – мёртвая? Да, тело её мёртвое... а душа? Разве она не бессмертная? разве ей нужны земные органы, чтобы проявить свою власть? Вон магнетизм нам доказал влияние человеческой души на другую человеческую душу... Отчего ж это влияние не продолжится и после смерти – коли душа остаётся живою? Да с какой целью? Что из этого может выйти? Но разве мы – вообще – постигаем, какая цель всего, что совершается вокруг нас?»

«Мысли о бессмертии души, о жизни за гробом снова посетили его. Разве не сказано в библии: «Смерть, где жало твоё?» А у Шиллера: «И мёртвые будут жить!» Или вот ещё, кажется, у Мицкевича: «Я буду любить до скончания века... и по скончании века!» А один английский писатель сказал: «Любовь сильнее смерти».

Евлалия Кадмина
Так вот, в продолжение мысли о любви после смерти. Сашу Чёрного при жизни часто обвиняли в женоненавистничестве (уж очень много непривлекательных женских типов встречалось в его стихах).

В критических статьях пускались в ход такие выражения, как «душевный дальтонизм», учёные словечки типа «мисогиния». Обвиняли поэта в том, что у него вообще нет любовной лирики. Так ли это? Да, стихов о любви у Чёрного очень мало. Есть о мечте полюбить, встретить свою единственную. В 1914 году (в 34 года) он пишет стихотворение «В Тироле», где описывает немецкое кладбище:
Над кладбищенской оградой вьются осы...
Далеко внизу бурлит река.
По бокам – зелёные откосы.
В высоте застыли облака.
Крепко спят под мшистыми камнями
кости местных честных мясников.
Я, как друг, сижу, укрыт ветвями,
наклонясь к охапке васильков.
Не смеюсь над вздором эпитафий,
этой чванной выдумкой живых –
и старух с поблёкших фотографий
принимаю в сердце, как своих.
Но одна плита всех здесь мне краше –
в изголовье старый тёмный куст,
а в ногах, где птицы пьют из чаши,
замер в рамке смех лукавых уст...
Вас при жизни звали, друг мой, Кларой?
Вы смеялись только 20 лет?
Здесь в горах мы были б славной парой –
Вы и я – кочующий поэт...
Я укрыл бы Вас плащом, как тогой,
мы, смеясь, сбежали бы к реке,
в Вашу честь сложил бы я дорогой
мадригал на русском языке.
Вы не слышите? вы спите? – Очень жалко...
Я букет свой в чашу опустил
и пошёл, гремя о плиты палкой,
вдоль рядов алеющих могил.
Значит ли это стихотворение, что Чёрный не надеялся встретить любимую здесь, на этом свете, что она навсегда осталась для него несбыточной мечтой?
Вообще смерть близких (и дальних, но чем-то дорогих нам) людей часто выявляет в человеке качества, о которых ни окружающие, ни сам он не подозревал. Каких только эпитетов ни сопровождало одиозное имя Шарля Бодлера: «демонический, «сатанинский», «мрачно мизантропический», – но этот образ поэта, получивший широкое распространение в литературном мире, был весьма далёк от действительности.

Марсель Пруст писал о нём: «В действительности поэт, которого считают бесчеловечным, был самым нежным, самым сердечным, самым человечным из поэтов». Об этой его человечности говорят многие стихи Бодлера.
Например, трогательное стихотворение, посвященное покойной няне, которая его воспитала:
Служанка скромная с великою душой,
безмолвно спящая под зеленью простой,
давно цветов тебе мы принести мечтали!
У бедных мертвецов, увы, свои печали...
Холодным декабрём, во мраке ночи синей,
когда поют дрова, шипя, в моём камине, –
увидевши её на креслах в уголку,
тайком поднявшую могильную доску
и вновь пришедшую, чтоб материнским оком
взглянуть на взрослое дитя своё с упрёком, –
что я отвечу ей при виде слёз немых,
тихонько каплющих из глаз её пустых?
Борис Пастернак перевёл и опубликовал в России «Реквиемы» Рильке.

Один из них под названием «Реквием по одной подруге» был посвящен памяти талантливого скульптора Паулы Модерзон-Беккер. Некоторые биографы считают, что Рильке был влюблён в эту женщину.

Этот реквием пронизан ощущением большой личной утраты.

Я чту умерших и всегда, где мог,
давал им волю и дивился их
уживчивости в мёртвых, вопреки
дурной молве. Лишь ты, ты рвёшься вспять.
Ты льнёшь ко мне, ты вертишься кругом
и норовишь за что-нибудь задеть,
чтоб выдать свой приход.
Приблизься к свечке. Мне не страшен вид
покойников. Когда они приходят,
то вправе притязать на уголок
у нас в глазах, как прочие предметы.
Я, как слепой, держу свою судьбу
в руках и горю имени не знаю.
Оплачем же, что кто-то взял тебя
из зеркала. Умеешь ли ты плакать?
Не можешь. Знаю...
Но если ты всё тут ещё, и где-то
в потёмках это место есть, где дух
твой зыблется на плоских волнах звука,
которые мой голос катит в ночь
из комнаты, то слушай: помоги мне.
Будь между мёртвых. Мёртвые не праздны.
И помощь дай, не отвлекаясь, так,
как самое далёкое порою
мне помощь подаёт. Во мне самом.

Окончание здесь
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/205840.html
|
|
Процитировано 2 раз
Подборка, вошедшая в лонг-лист |

***
Я свернула в сторону
от больших дорог,
где цветы не сорваны
и рассвет продрог,
где лесное озеро -
словно лик судьбы,
где растут по осени
строки как грибы.
Я стою под ливнями,
на ветру планет.
Генеральной линии,
магистрали — нет!
Все дворцы с бассейнами,
светские пиры,
все пути шоссейные
в Скотные дворы -
всё, что здесь упрочено -
отвергаю прочь.
Жизнь моя — обочина,
шаг с обрыва в ночь,
где репейник колется
и поёт вода.
Жизнь моя — околица,
тропка в никуда!
Где не обезличена
стадная артель,
где своя лишь личная
внутренняя цель.
Лузеры с бастардами,
вы — России честь.
С утками стандартными
лебедю не сесть.
Танец
Ночь приставит ко мне стетоскоп,
к моим снам, обернувшимся явью,
и заметит, что стало узко
мне земной скорлупы одеянье.
Ночь и осень, а пуще — зима -
это всё репетиция смерти.
Разучи этот танец сама
под канцоны Вивальди и Верди.
Развевается белый хитон,
легкокрылые руки трепещут.
Рукоплещет партер и балкон,
совершается промысел вещий.
Просто танец, чарующий бред...
В боль и хрипы не верьте, не верьте.
Наша жизнь — это лишь пируэт,
умирающий лебедь бессмертья.
Последний день
Знаю, умру на заре! - Ястребиную ночь/
Бог не пошлет по мою лебединую душу!
...Чтоб на вечерней заре и на утренней сразу!
А зато... А зато — Всё.
М. Цветаева
Нет, не на утренней, не на вечерней заре...
Это случилось меж часом-двумя пополудни.
Все разошлись кто куда. Ни души на дворе.
Ты торопилась — не будет минуты безлюдней.
Выход был найден. Скорее же... Нужно спешить...
Скоро с воскресника должен был сын воротиться.
Не поддавались рассудку метанья души -
загнанность зверя, мучения пойманной птицы.
Что вспоминала, от нас навсегда уходя?
Пальцы вцепились в виски... Умолкающий Кафка...
Год примерялась к крюкам, но хватило гвоздя
в час, когда смертной тоски затянулась удавка.
Нет ни надежд, ни иллюзий — одна пустота.
Выжженный взор прикрывали усталые веки.
«Скоро уеду — куда не скажу». Вот и та
станция, имя которой запомнят навеки.
Пряничный город. Бревенчатый домик. Тупик.
Кама, как Чёрная речка, как чёрная яма...
Кто тебе виделся в твой умирающий миг?
Что твои губы шептали: «Любимые»? «Мама»?
Было душе твоей тесно в телесном плену.
Но до последней минуты, пока не убита -
жарила рыбу для Мура, глотая вину, -
эту последнюю дань ненавистному быту.
«Это не я», - ты писала. «Мурлыга, прости».
Звал за собою в высоты простор лебединый.
Жизнь, не держи и домой в небеса отпусти!
Быт с бытиём наконец-то слились воедино.
Ужаса крик и ликующий радости гимн
перемешались в стихе твоём исповедальном.
Взгляд напоследок вокруг — что оставишь другим?
Что от тебя остаётся и ближним, и дальним?
Старый набитый стихами тугой чемодан
и сковородка, где наскоро жарила рыбу.
Пища земная и пища духовная. Дар
сыну прощальный и миру - души своей глыбу.
Вот твой, Создатель, билет, получи, распишись!
Волчья страна, где и небо затянуто тиной...
Царство Психеи, душа, занебесная жизнь -
вот твоё Всё, за которое ты заплатила.
Прорезь улыбки на белом блаженном лице.
В фартуке синем качается тело у входа.
Ждёт её Комната в потустороннем Дворце,
та, что заказывал Рильке за год до ухода.
После сна
О, сна потайные лестницы,
в непознанное лазы.
Душа в тихом свете месяца
осваивает азы.
Проснулась — и что-то важное
упрятало тайный лик...
Ноябрь губами влажными
к окну моему приник.
Ах, что-то до боли светлое
скользнуло в туннели снов...
Оно ли стучится ветками
и любит меня без слов?
Дождинки в ладони падают,
зима ещё вдалеке.
День снова меня порадует
синицею в кулаке,
где в доме — как будто в танке мы,
плечо твоё — что броня,
где вечно на страже ангелы,
тепло как в печи храня.
А ночью в уютной спальне я
усну на твоих руках,
и будут мне сниться дальние
журавлики в облаках...
***
Любовь нечаянно спугнула.
Она была почти что рядом.
Крылом обиженно вспорхнула,
растерянным скользнула взглядом
и улетела восвояси,
как «кыш» услышавшая птица.
Мне Божий замысел неясен,
мне это всё не пригодится.
Зачем, скажи мне, прилетала,
куда меня манила песней?
А вот ушла, и сразу стало
бесчувственней и бесчудесней.
***
Трамвай желанья заблудившийся
летит в ночи без тормозов.
Жизнь умирает не родившейся
и начинается с азов.
Но будь хотя бы трижды бабушка -
к тебе я ринусь как стрела,
не посмотрев на то, что Аннушка
на рельсы масло разлила.
Трамвай увижу как в тумане я
и лица милых из окон...
Прощай, надежда. Спи, желание.
Остановился мой вагон.
***
Взвалю на чашу левую весов
весь хлам впустую прожитых часов,
обломки от разбитого корыта,
весь кислород, до смерти перекрытый,
все двери, что закрыты на засов,
вселенское засилье дураков,
следы в душе от грязных сапогов,
предательства друзей моих заветных,
и липкий дёготь клеветы газетной,
и верность неотступную врагов.
А на другую чашу? Лишь слегка
ее коснётся тёплая щека,
к которой прижимаюсь еженощно,
и так она к земле потянет мощно,
что первая взлетит под облака.
***
Поэзия не знает дня рожденья.
Ещё не воплощённая в словах,
она была озвучена гуденьем,
журчанием, шептаньем в деревах,
небесным громом, рыком динозавров...
Заполнив чёрный космоса провал,
зародыш поэтического завтра
в утробе мира тайно созревал.
Из бренной пены, вдохновенной дрожи,
выпутывая голос из сетей,
она рождалась, тишину корёжа
страдальческим мычаньем предлюдей.
Теперь уже не вызнать, не исчислить,
как чувства, переросшие инстинкт,
преображались постепенно в мысли,
как те потом перетекали в стих...
Добравшись до истоков этой жажды,
себя на любопытстве я ловлю:
кто, на каком наречии однажды
исторг из глотки: «я... тебя... люблю!»?
Сквозь хаос ритмов, щебетанье птичье
пробилась мука музыки немой.
И стало тех слогов косноязычье
рождением поэзии самой.
***
А телеграммы радости скупы,
но боль щедра и горечь хлебосольна...
Не отыскав нигде своей тропы,
не стала я ни Сольвейг, ни Ассолью.
Я так от этой жизни далека,
где всё прекрасно: лица и одежда.
Грызёт меня всеядная тоска.
Соломинкой прикинулась надежда.
Я жизнь свою сумела не прожить
по-своему, как я того хотела.
Зачем сейчас всё это ворошить?
Душа достигла своего предела.
Жить не сумела? Чем-нибудь другим
займись... Как небо — предвечерним светом...
Решай загадку замогильной зги,
что нам была предложена поэтом.
Уходят дни, неудержимо мчась,
летят, как пух от ветра дуновенья.
Проходит жизнь. Особенно сейчас.
Особенно вот в это вот мгновенье.
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/205423.html
|
|
Понравилось: 1 пользователю
Смерть, где жало твоё?.. Часть третья. |
Начало здесь

Так явственно со мною говорят
умершие, с такою полной силой,
что мне нелепым кажется обряд
прощания с оплаканной могилой.
Мертвец – он, как и я, уснул и встал –
и проводил ушедших добрым взглядом...
Пока я жив, никто не умирал.
Умершие живут со мною рядом.

А ещё я часто вспоминаю Нину Сергеевну Могуеву, её последние письма. В одном из них она, по-матерински предостерегая меня от «стычек с этими» и высказывая пожелание, чтобы в моей новой книге было больше светлого, писала: «А в общем, я хорошо понимаю, что никакие советы ни к чему (это я о своих советах идти в осиянный храм), «стихи не пишутся – случаются». Что случится, то и будет. И не слушайте Вы старую больную бабку, которой хочется, чтобы её наболевшую душу тихонько нежили и гладили, и напевали ей сладким голосом райские песни» (5.06.04).
Эти строчки её письма у меня слились в сознании с некрасовскими строками из стихотворения «Баюшки-баю», когда в последние минуты перед смертью в полусне-полубреду к нему приходит давно умершая мать и говорит ему светлые утешительные слова, которые его измученной душе так хотелось тогда услышать:
Усни, страдалец терпеливый,
свободный, гордый и счастливый,
увидишь родину свою,
баю-баю-баю-баю.
Ещё вчера людская злоба
тебе обиду нанесла,
всему конец: не бойся гроба,
не будешь знать ты больше зла.
He бойся клеветы, родимый,
ты заплатил ей дань живой,
не бойся стужи нестерпимой,
я схороню тебя весной.
Не бойся горького забвенья,
уж я держу в руке моей
венец любви, венец прощенья,
дар кроткой родины твоей.
Уступит свету мрак упрямый.
Услышишь песенку свою
над Волгой, над Окой, над Камой –
баю-баю-баю-баю...

Вот каких стихов подсознательно ждала от меня её измученная душа – утешающих, просветленных. А я была занята литературной борьбой, расчисткой авгиевых конюшен.
Недавно мне попала в руки последняя книга И. Алексеева «Трамвай живых». Это были уже совсем другие стихи, сильно отличающиеся от тех, что я резко критиковала три года назад в «Ангелах ада» («Тут конец перспективы»). Когда Лидия Гинзбург услышала стихи юного Бродского, она сказала А.Кушнеру: «Это серьёзно». Когда я прочла последние стихи И. Алексеева, я подумала этими же словами: «Это серьёзно».
...А человек засыпает, спасён,
от равновесий любви и разлуки.
Слышит он сквозь посторонние звуки:
«Спи, мой любимый, забудь обо всём».
Чувствуя прикосновенье руки,
он распадается под одеялом,
слыша: «На нас не таращится дьявол.
Это у страха глаза велики.
Здесь никого. Мы с тобою вдвоём.
И далеко беспощадное утро.
Мы не расстанемся ни на минуту.
Жили мы вместе. И вместе умрём».
Вновь тишина воцаряется, лишь
голос в ответ дребезжит, убывает:
«Ты говори, только так не бывает.
Так не бывает, как ты говоришь».
Странная перекличка этих строк с некрасовским «Баю-баю», с «Посмертным дневником» Г. Иванова, с предсмертными стихами Р. Рождественского, Б. Рыжего. Эти поэты раскрылись во всю мощь перед лицом неотвратимой смерти. «Memento mori». Но одно дело – помнить, и другое – знать. «Верующая? Нет. Знающая из опыта» (Цветаева).
Горькая усмешка на губах. Обречённость. Мужество. И отчаянный страх. Это уже совсем другой человек. Всё наносное слетело с него, и под сброшенной маской крутизны и брутальности оказался испуганный мальчик, цепляющийся за руку любимой.
Я стараюсь не ныть и не жаловаться по мелочам.
Я даже пытаюсь пореже к тебе подходить.
Я только изредка прикасаюсь к твоим плечам,
как бы проверяя, цела ли меж нами нить.
Ты можешь задерживаться насколько угодно – я пойму.
Ты можешь даже однажды совсем не прийти.
Ты знаешь, иногда мне легче быть одному.
Есть на свете маршрут, по которому нам не по пути.

Это уже по ту сторону... Даже если бы стихи были плохи – о них нельзя было бы судить как о всех прочих. Но стихи хороши. – Нет, это тоже не то слово. Любое слово тут не то.
Сильный мужчина. Слабый мальчик. Сочувствие и жалость сменяются уважением, восхищением, благодарностью. Но «какой ценой купил он право» стать тем, кем он стал в поэзии? Ведь от строк «но мужчина я здоровый, мне без баб никак нельзя» – до этих стихов – дистанция огромного размера. Это два разных человека. Но неужели такой ценой? Боже мой, неужели только такой ценой...


И невольно думаешь: пусть бы он был тем, прежним – заносчивым, грубым, новым русским, гоняющим на «Мерседесе», трахающим баб, но живым, «живым и только», в самом буквальном смысле этого слова. Чтоб «смотреть на Небеса просто как на небеса».
Но я горжусь тем, что могу острить,
хотя, увы, довольно мрачновато.
Какая-то дурацкая расплата.
Да и за что, но некого спросить.
Неужели всё это было послано ему лишь затем, чтобы он понял, что главное в человеческой жизни, и стал иным? Чтобы, как сквозь негатив, проступили его подлинные черты, о которых он сам не подозревал? Это мне напомнило рассказ Т. Толстой «Чистый лист». Он всё-таки сделал эту операцию по пересадке души. Но это – смертельно.
Спаси меня не знаю кто!
Людей таких не существует.
Утешь, угрей, накинь пальто,
мне отовсюду смертью дует.
Прекрасна тьма, небес волшба,
в сугробе яркая лачуга.
А гибель – жёсткий контур чуда,
та дверь – в которую вошла. –
писала смертельно больная Татьяна Галушко.
Поэт не вмещается в прокрустово ложе земного существования. Марине Цветаевой было тесно в телесной оболочке. «В теле – как в трюме, в себе – как в тюрьме». И – совсем ясно: «Мир – это стены. Выход – топор». «Жизнь и смерть давно беру в кавычки, как заведомо пустые сплёты». И – как итог всего – «Поэма воздуха», в которой она попыталась прикоснуться к потустороннему миру, передать ощущение от полёта в Ничто (в смерть).

Она пишет её в 1927 году, в 35 лет.

Поэму, которую можно было бы назвать поэмой удушья, самоубийства. Это вопль одиночества и безутешности, исторгнутый из души, которой нечем больше дышать.
В ней Цветаева как бы репетирует свою смерть.

Это потрясающее прозрение о всемогуществе духа, победившего плоть. Это самая отвлечённая и трудная для восприятия поэма Цветаевой. Ахматова называла её «заумью». Она кажется закодированной, зашифрованной. Её фабула – цепь последовательных переходов из одного состояния, которое может испытать умирающий, – в другое, показ, что может чувствовать задыхающийся в петле человек. Каждый этап, пройденный умираюшим, описан подробно, почти физиологично.

«Поэма воздуха» – это своеобразный философский трактат о посмертном блуждании духа, вобравший в себя отдельные элементы различных идеалистических систем, из Канта, В. Соловьёва, Шопенгауэра. И всё же модель мира, представленная здесь Цветаевой, – её сугубо индивидуальная поэтическая гипотеза. В её понимании мир разделён на земной, плотский и мир занебесный, мир идеального несуществования, свободный от любой тяжести, в том числе и от тяжести души, ибо душа, по Цветаевой, есть вместилище чувств и желаний, связанных с землёй и плотью. Там же – мир чистой мысли, почти безжизненное отвлечённое пространство некоего мирового стерильно чистого разума.
Её манила эта тайна, неуловимая грань, отделявшая небытиё от бытия. У неё всю жизнь был роман со смертью, с небытиём, с запредельностью. Рано или поздно она должна была уйти. Вопрос был только в сроках.

В январе 1925 года, с нетерпением ожидая рождения горячо желанного сына, она пишет стихи о... смерти:
...Расковывает
смерть – узы мои! До скорого ведь?
Предсмертного ложа свадебного
последнее перетрагиванье.

Марина Цветаева, великий поэт, была создана природой словно бы из иного вещества: всем организмом, всем своим человеческим естеством она тянулась прочь от земных измерений в миры иные, о существовании которых знала непреложно. («Верующая? Нет. Знающая из опыта»). С ранних лет она знала и чувствовала то, чего не могли чувствовать и знать другие. Знала, что поэты – пророки, что стихи сбываются, и ещё в ранних стихах предрекала судьбу Мандельштама, Сергея Эфрона, не говоря уже о своей собственной. Это тайновидение с годами усиливалось, и существовать в общепринятом «мире мер» становилось всё труднее.
Что же это было? Вероятно, страдание живого существа, лишённого своей стихии: человеку не дано постичь мучения пойманной птицы, загнанного зверя, это страдание, непостижимое для окружающих. Разумеется, страдание не было единственным чувством, цветаевских чувств и страстей, её феноменальной энергии хватило бы на многих и многих. Однако трагизм мироощущения поэта идёт именно от этих, не поддающихся рассудку мук.
Мятущемуся естеству Цветаевой было тяжко, душно в телесной оболочке. «Из тела вон хочу» – это не литература, это состояние. Что ей было делать «с этой безмерностью в мире мер»? Её страшный быт и высокомерное бытие, которые всю жизнь противостояли друг другу, 31 августа 1941 года слились воедино.

Уже и не светом,
каким-то свеченьем светясь...
Не в этом, не в этом
ли... И – обрывается связь.

В прошлом году исполнилось 170 лет со дня рождения уникального поэта Константина Случевского. Его всегда притягивала тема вечности – и в «Профессоре бессмертья», и в «Загробных песнях», и в «Песнях из «Уголка». И теперь при звуке его имени тут же вспоминается: «Меня в загробном мире знают...».

Вениамин Блаженный (Айзенштадт) ощущает и изображает смерть в своих стихах как запредельную и спасительную для живого, пребывающего в экзистенциальном тупике, область:
Есть у меня страна, в которую всё время
могу я улететь, как ведьма на метле.
Да только жаль, что «смерть» она зовётся всеми, –
и мне её, как всем, назвать велели смерть.
Как об избавительнице от мук пишет о смерти Борис Чичибабин в одном из самых горьких и страшных своих стихотворений «Сними с меня усталость, матерь Смерть...»

Одним стихам вовек не потускнеть,
да сколько их останется, однако.
Я так устал! Как раб или собака.
Сними с меня усталость, матерь Смерть.
Он приникает к ложу смерти, как блудный сын к коленям слепого отца, словно говоря: «Сними с меня всё наносное, всё мелкое, всё недостойное вечности. Сними. Вот я, весь перед тобой».

Мне книгу зла читать невмоготу,
а книга блага вся перелисталась.
О матерь Смерть, сними с меня усталость,
накрой рядном худую наготу.
На лоб и грудь дохни своим ледком,
дай отдохнуть легко и беспробудно.
Я так устал. Мне сроду было трудно,
что всем другим привычно и легко.
Эта усталость кажется не только чичибабинской, но какой-то всечеловеческой, вековой. Это уже не слова. Это вселенский вздох.
Борис Слуцкий думал о смерти как об избавлении от безысходного одиночества, неотступающих мук. Туда толкала его боль, отчаяние.
На полуфразе, нет, на полуслове,
без предисловий и без послесловий,
на полузвуке оборвать рассказ.
Прервать его притом на полуноте,
и не затягивать до полуночи,
нет, кончить всё к полуночи как раз.
Ему вторит Борис Рыжий: «Ты меня отпусти, я живу еле-еле. //Я ничей навсегда, иудей, психопат».

Он совсем не таков, каким может показаться неискушённому или невнимательному читателю. Многие поклонники таланта Рыжего, привлечённые блатной прикольной интонацией, ультрасовременной лексикой его стихов, не способны расслышать высокие регистры его голоса, различить тонкие модуляции этой поэзии, довольствуясь её поверхностным слоем. Разумеется, хулиганский жаргон и приблатнённый лирический герой Рыжего – не просто модный прикид и дань времени, что-то такое было, конечно, в составе его крови. Но только экзистенциальная бездна, раскрывающаяся за лучшими стихами поэта – иного качественного размаха, иного масштаба.
Чтобы жизнь трещала и ломалась,
и прощалась с ней душа жива,
в небесах музыка сочинялась
вечная – на смертные слова.
В 1995 году в литературном приложении к газете «Горняк» Свердловска были впервые опубликованы стихи студента 4 курса геофизического факультета Бориса Рыжего об английском манекене в витрине ЦУМа.
И дождливый светился ЦУМ
грязно-жёлтым ночным огнём.
«Ты запомни его костюм –
я хочу умереть в таком…»

Все его стихи – о любви и о смерти. Ни о чём другом он не хотел, а может, и не умел писать.
Я умру в старом парке
на холодном ветру.
Милый друг, я умру
у разрушенной арки.
Чтобы ангелу было
через что прилететь.
Листьев рваную медь
разорвать белокрыло...

Интонация смерти есть в стихах любого крупного поэта. Но страшно, когда она овладевает им целиком.
Смертяшкина не любит, когда с ней заигрывают. Рыжий дразнил страшных гусей. Он заигрался в смерть. Теперь, после его гибели, многие его строки обретают пророческий смысл, предвосхищают тот последний майский рассвет. В них отчётливо слышится упоение «страшной бездной».

Похоронная музыка
на холодном ветру.
Прижимается муза ко
мне: я тоже умру.
Отрешённость водителя,
землекопа возня.
Не хотите, хотите ли
и меня, и меня.
До отверстия в глобусе
повезут на убой
в этом жёлтом автобусе
с полосой голубой.

Но с кем бы я ни повстречался,
какая бы со мной беда,
я не кричал и не стучался
в чужие двери никогда.
Зачем – сказали б – смерть принёс ты,
накапал кровью на ковры...
И надо мной мерцали звёзды,
летели годы и миры.

Готовность к самоубийству в Рыжем жила давно. Это решение назревало, набухало буквально на глазах. Он давно знал, что уйдёт. Непреложно знал.

Закурить, опохмелившись, поглядеть на облака,
что летят над головою из далека-далека,
в граде Екатеринбурге с гордо поднятой главой,
за туманом различая бездну смерти роковой.

В его готовности к смерти было много от цветаевского отношения к ней. Смерть была её обитель, её дом, где всё было обжито ею в мыслях, снах и стихах, всё было ей родное. На небо – значило: домой. Не «домой с небес», как у Поплавского, а домой на небеса. И у Рыжего читаем:
...И думаю: о жалкие умы,
предметы не страшатся разрушенья –
вернее, всё, что разрушаем мы –
в иное переходит измеренье.
И мне не страшно предавать словам
то чувство, что до горечи знакомо.
И я одной ногой гуляю там,
гуляя здесь и, знаешь, там я дома.

Стихи из его последней подборки в «Знамени»:

Над домами, домами, домами
голубые висят облака –
вот они и останутся с нами
на века, на века, на века.
Только пар, только белое в синем
над громадами каменных плит...
Никогда, никогда мы не сгинем,
мы прочней и нежней, чем гранит.
Пусть разрушатся наши скорлупы,
геометрия жизни земной –
оглянись, поцелуй меня в губы,
дай мне руку, останься со мной.
А когда мы друг друга покинем,
ты на крыльях своих унеси
только пар, только белое в синем,
голубое и белое в си...

Впрочем, жизнь после смерти не исключает и наука. Эту мысль развивает в своих натурфилософских поэмах Николай Заболоцкий, который, в свою очередь, аккумулировал в них идеи Вернадского, Циолковского, Филонова, Хлебникова – о кровной связи всего живого: людей, животных, растений.

Заболоцкий утверждал, что смерти не существует.

В основе этого утверждения лежала мысль, что если каждый человек – часть природы, а природа в целом бессмертна, то и каждый человек бессмертен. Смерти нет, есть только превращения, метаморфозы. В стихотворении «Кузнечик» он писал:
Настанет день, и мой забвенный прах
вернётся в лоно зарослей и речек.
Заснёт мой ум, но в квантовых мирах
откроет крылья маленький кузнечик.
Довольствуясь осколком бытия,
он не поймёт, что мир его чудесный
построила живая мысль моя,
мгновенно затвердевшая над бездной.

На Заболоцкого сильное впечатление произвели слова Гёте: «Я не сомневаюсь, что наше существование будет продолжаться, ибо природе не обойтись без того, что понимают под энтелехией (целенаправленной жизненной силой). Но бессмертны мы не в равной мере, и для того, чтобы в грядущем проявить себя как великую энтелехию, надо ею быть». То есть, бессмертны те люди, которые в жизни проявили себя как творцы, мыслители, созидатели, великие личности. Их душа, их мысли, аура остаются в природе.
С этими словами Гёте перекликаются стихи Заболоцкого:
Вчера, о смерти размышляя,
ожесточилась вдруг душа моя.
Печальный день! Природа вековая
из тьмы лесов смотрела на меня.
И нестерпимая тоска разъединенья
пронзила сердце мне, и в этот миг
всё, всё услышал я – и трав вечерних пенье,
и речь воды, и камня мёртвый крик.
И я, живой, скитался над полями,
входил без страха в лес,
и мысли мертвецов прозрачными столбами
вокруг меня вставали до небес.
И голос Пушкина был над листвою слышен,
и птицы Хлебникова пели у воды.
И встретил камень я. Был камень неподвижен,
и проступал в нём лик Сковороды.
И все существованья, все народы
нетленное хранили бытиё,
и сам я был не детище природы,
но мысль её! Но зыбкий ум её!

Идея метаморфоз и бессмертия занимала Заболоцкого ещё в юные годы и возникла под влиянием сочинений Лукреция и Гёте. Он отрицал принципиальное различие между живой и неживой материей – и та, и другая в равной степени составляет целостный организм природы.

Пока существует этот необъятный организм, человек, носитель его разума, орган его мышления, не может исчезнуть бесследно. Посмертно растворившись в природе, он возникает в любой её части – в листе дерева, птице, камне – передавая им хотя бы в небольшой степени свои индивидуальные черты и соединяясь в них со всеми живущими ранее. А с другой стороны в процессе своей жизни человек объединяет в себе все предшествующие формы бытия. В человеке – весь мир, но и человек – во всём мире. Заболоцкий писал об этом в стихотворении «Метаморфозы»:
Как мир меняется! И как я сам меняюсь!
Лишь именем одним я называюсь, –
на самом деле то, что именуют мной, –
не я один. Нас много, я живой.
Чтоб кровь моя остынуть не успела,
я умирал не раз. О, сколько мёртвых тел
я отделил от собственного тела!
И если б только разум мой прозрел
и в землю устремил пронзительное око,
он увидал бы там, среди могил, глубоко
лежащего – меня! Он показал бы мне –
меня, колеблемого на морской волне,
меня, летящего по ветру в край незримый, –
мой бедный прах, когда-то так любимый,
а я всё жив!

Жизнь, переливаясь из формы в форму посредством материальных превращений, не теряет своих основных свойств, а проявляет их в каждой форме. Мир подобен сложному организму, в котором каждая клетка несёт информацию о строении целого. Вот почему, например, в птице можно различить человека:
Вращая круглым глазом из-под век,
летит внизу большая птица.
В её движенье чувствуется человек,
по крайней мере, он таится
в своём зародыше меж двух широких крыл.
А в кристалле уже предсуществует человеческая мысль:
Я на земле моей впервые мыслить стал,
когда почуял жизнь безжизненный кристалл.
То есть человек начинает жить задолго до рождения. («Я разве только я? Я – только краткий миг //чужих существований...»).

Николай Чуковский, с которым Заболоцкий как-то поделился своими сокровенными мыслями о бессмертии, иронически к ним отнёсся и даже попытался в пародийном стихотворении разоблачить, с его точки зрения, эти беспочвенные иллюзии. Он думал, что Заболоцкий боится смерти и все его философские построения предназначены только для того, чтобы обрести защиту от этих страхов. На самом деле взгляды поэта были далеко не столь утилитарны. В один из последних своих дней он спокойно говорил жене: «Ещё и не такие люди, как я, умирали. Природа не зря создала человека, и природа не допустит, чтобы её лучшие творения исчезали бесследно».

Подобно Заболоцкому, В. Блаженный, заранее обживая будущую смерть, творит гарантию личного бессмертия (простодушный вариант пушкинского «Нет, весь я не умру…»):
Я не вовсе ушёл, я оставил себя в каждом облике –
вот и недруг, и друг, и прохожий ночной человек, –
всё во мне, всюду я – на погосте, на свалке, на облаке, –
я ушёл в небеса – и с живыми остался навек.
Я поверю, что мёртвых хоронят, хоть это нелепо,
я поверю, что жалкие кости истлеют во мгле,
но глаза – голубые и карие отблески неба,
разве можно поверить, что небо хоронят в земле?..
Было небо тех глаз грозовым или было безбурным,
было радугой-небом или горемычным дождём, –
но оно было небом, глазами, слезами – не урной,
и не верится мне, что я только на гибель рождён!
...Я раскрою глаза из могильного тёмного склепа,
ах, как дорог им свет, как по небу душа извелась, –
и струится в глаза мои мёртвые вечное небо,
и блуждает на небе огонь моих плачущих глаз...

Продолжение здесь
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/205129.html
|
|
Процитировано 2 раз
Смерть, где жало твоё?.. Часть вторая. |
Начало здесь

В стихах Ларисы Миллер я нашла то, чего мне так не хватало в других современных поэтах – разговор о том, как человек справляется с жизнью, как он чувствует себя перед лицом вечности. Я была потрясена невероятной простотой этой поэзии. Она голенькая: ни оборочек, ни рюшечек – стихи из ничего. И при этом так цепляют! Её стихи стали для меня больше, чем стихи.

Хоть бы памятку дали какую-то, что ли,
научили бы, как принимать
эту горькую жизнь и как в случае боли
эту боль побыстрее снимать.
Хоть бы дали инструкцию, как обращаться
с этой жизнью, как справиться с ней –
беспощадной и нежной – и как с ней прощаться
на исходе отпущенных дней.
Стихи Миллер и стали для меня такой «инструкцией». Их хотелось выписать, выучить и жить по их «рецептам». В них и молитва:
Ночь метельная была.
Ангел мой, раскрыв крыла,
обойми меня, закутай,
не пускай на холод лютый.

Всё зачинает, чтоб вновь погубить,
Ангел мой ласковый, дай долюбить.
И заклинание:
Всё переплавится. Всё переплавится.
В облике новом когда-нибудь явится.
Нету кончины. Не верь в одиночество.
Верь только в сладкое это пророчество.
Тот, кто был другом единственным, преданным,
явится снова в обличье неведомом –
веткой ли, строчкой. И с новою силою
будет шептать тебе: «Милая, милая».

И утешение:
Ну успокойся, успокойся.
Живи и ничего не бойся.
Всё поправимо, поправимо.
И то, что нынче горше дыма,
над чем сегодня слёзы льём,
окажется прошедшим днём
полузабытым и туманным,
и даже, может быть, желанным.

И надежда:
Поверь, возможны варианты.
Изменчивые дни – гаранты
того, что варианты есть.
Осенний ветер гонит лист и ствол качает.
Не полегчало коль ещё, то полегчает.
Вот только птица пролетит и ствол качнётся,
и полегчает наконец, душа очнётся.
Душа очнётся наконец и боль отпустит.
И станет слышен вещий глас в древесном хрусте
и в шелестении листвы. Под этой сенью
не на погибель всё дано, а во спасенье.

Поэзия Миллер – это трепет радости и боли одновременно.
Небо к земле прилегает не плотно.
В этом просвете живём мимолётно,
И, попирая земную тщету,
Учимся жизнь постигать на лету,
Чтоб надо всем, что ветрами гасимо,
Стёрто, повержено, прочь уносимо,
Духу хватило летать и летать,
И окрыляться и слёзы глотать.

Это – жизнь с ощущением вечной иглы в сердце.
Дни текли. Душа алкала.
Кошка с блюдечка лакала.
В небе плыли облака
далеко, издалека.
В небе плыли облака
Далеко, издалека.
Ни в четверг, ни в воскресенье
Не нашла душа спасенья.
Кошка с блюдечка пила.
Тучка по небу плыла,
Проплывала в небе синем...
Нынче здесь, а завтра сгинем,
Кошке сливочек налив
И души не утолив.

Поэтическая речь Ларисы Миллер непривычно для нас сдержанна. Она словно стесняется пафосности, открытой эмоциональности. «На тьму лирических словес наложим вето», – пишет она.
Ждали света, ждали лета,
ждали бурного расцвета
и благих метаморфоз,
ждали ясного ответа
на мучительный вопрос.
Ждали сутки, ждали годы
то погоды, то свободы,
ждали, веря в чудеса,
что расступятся все воды
и дремучие леса...
А пока мы ждали рая -
нас ждала земля сырая.

Мы у вечности в гостях
ставим избу на костях,
ставим избу на погосте
и зовём друг друга в гости:
«Приходи же, милый гость,
вешай кепочку на гвоздь».
И висит в прихожей кепка,
и стоит избушка крепко,
в доме радость и уют,
в доме пляшут и поют,
топят печь сухим поленом.
И почти не пахнет тленом.
Существует огромное пространство, в которое мы все заброшены, и несущее нас время. Всё, что в стихах Миллер – продиктовано этим. У неё страстное желание во что-то спрятаться: «Под небесами так страшно слоняться. Надо хоть как-то от них заслоняться».
«Как страшно жить», – вдруг вспомнилась присказка Ренаты Литвиновой. Но, в самом деле, если вдуматься – охватывает чувство экзистенциального отчаяния. Никаких гарантий, никакой внешней защиты!
Погляди-ка, мой болезный,
колыбель висит над бездной,
и качают все ветра
люльку с ночи до утра.
И зачем, живя над краем,
со своей судьбой играем,
и добротный строим дом,
и рожаем в доме том.
И цветёт над лёгкой зыбкой
материнская улыбка.
Сполз с поверхности земной
край пелёнки кружевной.

Это отголоски прозы её любимого Набокова: «Колыбель качается над бездной. Заглушая шёпот вдохновенных суеверий, здравый смысл говорит нам, что жизнь – только щель слабого света между двумя идеально чёрными вечностями. Разницы в их черноте нет никакой, но в бездну прижизненную нам свойственно вглядываться с меньшим смятением, чем в ту, к которой летим со скоростью четырёх тысяч пятисот ударов сердца в час («Дар»).

Основное чувство от поэзии Ларисы Миллер – это ощущение хрупкости и непрочности бытия. Всё так невечно, зыбко, разрушительно в этом мире... Но и одновременно очень весомо и значимо. Каждая частица бытия связана невидимыми нитями с чем-то, чего не увидишь глазами, но что является смыслом и сутью всего видимого, явного, что «знает из опыта» наша генетическая память.
И замысел тайный ещё не разгадан
тех линий, которые дышат на ладан,
тех линий, какими рисована быль.
И линии никнут, как в поле ковыль.
Мелок, ворожа и танцуя, крошится,
и легче легчайшего жизни лишиться.
Когда и не думаешь о роковом,
тебя рисовальщик сотрёт рукавом
с туманной картинки, начертанной всуе,
случайно сотрёт, чей-то профиль рисуя.
Наш рай земной невыносим.
На волоске с тобой висим...
Пронзительное понимание того, что «жизнь и любовь не прочней волоска», почти физиологическое ощущение бездны, которая буквально в двух шагах. Точно идёшь по очень тонкому льду и можешь рухнуть. Иные творческие натуры сами ищут этой потерянности в бездне, упоения на её краю. Миллер не ищет. Но она сама находит её.

Ты сброшен в пропасть – ты рождён.
Ты ни к чему не пригвождён.
Ты сброшен в пропасть – так лети.
Лети, цепляясь по пути
за край небесной синевы,
за горсть желтеющей травы,
за луч, что меркнет, помелькав,
за чей-то локоть и рукав.
Она предпринимает отчаянную попытку ухватиться за что-то в этой неустойчивости, непрочности бытия:
Но в хаосе надо за что-то держаться,
а пальцы устали и могут разжаться.
Держаться бы надо за вехи земные,
которых не смыли дожди проливные,
за ежесекундный простой распорядок
с настольною лампой за кипой тетрадок,
с часами на стенке, поющими звонко,
за старое фото и руку ребёнка.
Первейшая задача поэта, как её понимает Л. Миллер, – гармонизировать хаос и мужественно, достойно пройти земной путь между колыбелью и бездной.

И она протягивает нам эту соломинку спасения всем тонущим, руку помощи, фонарик, лучик света, которым освещает мрак и холод бытия.
Тьма никак не одолеет,
вечно что-нибудь белеет,
теплится, живёт,
мельтешит, тихонько тлеет,
манит и зовёт.
Вечно что-нибудь маячит...
И душа, что горько плачет
в горестные дни,
в глубине улыбку прячет,
как туман огни.

В благодатных стихах Миллер нет благостности, сусального елея. Она – не церковный человек, природное чувство фальши удерживает её от придуманной веры, но есть в её стихах и нечто религиозное, если понимать под религиозностью то, что помогает испытать чувство вечности.
Что за жизнь у человечка:
он горит, как Богу свечка,
и сгорает жизнь дотла,
так как жертвенна была.
Он горит, как Богу свечка,
как закланная овечка
кровью, криком изойдёт
и утихнет в свой черёд.
Те и те, и иже с ними;
ты и я горим во Имя
Духа, Сына и Отца –
жар у самого лица.
В толчее и в чистом поле,
на свободе и в неволе,
очи долу иль горе –
все горим на алтаре.

Мне очень дорога непоказная, целомудренная душевность и человечность стихов Ларисы Миллер. Она непритворно болеет за всё живое, и в её присутствии чувствуешь себя уже не так одиноко и заброшенно.
Смертных можно ли стращать?
Их бы холить и прощать,
потому что время мчится
и придётся разлучиться,
и тоски не избежать.
Смертных можно ль обижать,
изводить сердечной мукой
перед вечною разлукой?

В сущности, это перекличка с цветаевским: «Послушайте! Ещё меня любите за то, что я умру!».
Религиозным философом Рудольфом Штейнером, основоположником антропософского учения, была выдвинута идея, что прожитый человеком отрезок от рождения до смерти – лишь незначительная часть его вечного существования. Человек не впервые живёт в этом мире, он уже существовал в нём некогда, о чём свидетельствует человеческая интуиция. Она-то и связывает человека с вечностью, с пра- историей, опыт которой откладывается в подсознании. Категория вечности давала опору людям слабым, неудачникам, не нашедшим себя в действительной жизни. Теория Штейнера давала надежду обрести себя заново, в ином существовании.

Рудольф Штейнер
Человек привыкает
ко всему, ко всему.
Каждый год получает
по письму, по письму.
Это в белом конверте
ему пишет зима.
Обещанье бессмертья –
содержанье письма.
Есть ли жизнь на том свете? Наверное, нет поэта, который бы над этим не задумывался, не пытался как-то для себя ответить на этот вопрос. Фёдор Сологуб попытался сделать это буквально.

После похорон жены он заперся у себя в кабинете и две недели никуда не выходил и никого не принимал. Когда же, опасаясь за жизнь и рассудок поэта, к нему заглянули, то увидели Сологуба за столом, заваленным листками бумаги с каким-то цифрами, уравнениями. «Это дифференциалы», – спокойно пояснил он. Математик по профессии, он решил с помощью дифференциалов проверить, вычислить, существует ли загробная жизнь. И проверил. И убедился, что существует. Он стал снова появляться в Доме литераторов – спокойный, даже повеселевший. Причиной хорошего настроения стала уверенность в неминуемой встрече с Анастасией. Скоро он с ней соединится. Уже навсегда.

Мой ангел будущее знает,
Но от меня его скрывает,
Как день томительный сокрыл
Безмерности стремлений бурных
Под тению своих лазурных,
Огнями упоенных крыл.
Я силой знака рокового
Одно сумел исторгнуть слово
От духа горнего, когда
Сказал: — От скорби каменею!
Скажи, соединюсь ли с нею? —
И он сказал с улыбкой: — Да. —

Сологуб не выносил грубой жизни, он мог бы сказать про себя вместе с Достоевским, что чувствует себя так, как будто с него содрана кожа. Всякое прикосновение извне отзывается в нём мучительной болью. Жизнь представляется Сологубу румяной и дебелой бабищей – Евой, в отличие от прекрасной лунной Лилит – его мечты. Она кажется ему вульгарной, пошлой, лубочной. Поэт хочет переделать её на свой лад, вытравить из неё всё яркое, сильное, красочное. У него вкус ко всему тихому, тусклому, беззвучному, бестелесному. Чем-то Сологуб в этом смысле напоминает Бодлера, который предпочитал накрашенное и набеленное лицо живому румянцу и любил искусственные цветы. Он боялся жизни и любил Смерть, имя которой писал с большой буквы и для которой находил нежные слова. Его называли Смертерадостным, рыцарем смерти.
Я холодной тропой одиноко иду,
я земное забыл и сокрытого жду, -
и безмолвная смерть поцелует меня,
и к тебе уведёт, тишиной осеня.

У Сологуба появляется культ смерти. Он создаёт миф о смерти-невесте, подруге, спасительнице, утешительнице, избавляющей человека от тягот и мучений.
О Смерть! Я твой. Повсюду вижу
одну тебя, – и ненавижу
очарование земли.
Людские чужды мне восторги,
сраженья, праздники и торги,
весь этот шум в земной пыли.
Но в последние годы жизни поэт стал иным. Стихи последних лет отмечены знаками смирения, умиления, тихой печали. И уже не к дьяволу он обращается в них, а к Богу.
Подыши ещё немного
тяжким воздухом земным,
бедный, слабый воин Бога,
весь истаявший, как дым.
Что Творцу твои страданья?
Капля жизни в море лет!
Вот – одно воспоминанье,
вот – и памяти уж нет...
Последние стихи его приближались своей мудростью к тютчевским, и сам он последние годы внешне разительно напоминал Тютчева. «Старик весь как-то просветлел, – писал А.Белый. – Он ищет людей, ласки, общения. Ему это нужно, хоть он и готов отрицать это. Перед смертью он силился вобрать всё в себя и на всё отозваться».

И прошу я у милого Бога,
Как никто никогда не просил:
«Подари мне ещё хоть немного
Для земли утомительной сил!
Умирал он долго и мучительно. И тут только выяснилось, что этот «поэт смерти», всю свою жизнь её прославлявший, совсем не любил её и боялся. Он яростно отмахивался при разговорах на эту тему: «Да мало ли что я писал! А я хочу жить!» – и до последней минуты он цеплялся за жизнь уже ослабевшими руками, шепча стихи, как молитву:
У тебя, милосердного Бога,
много славы, и света, и сил.
Дай мне жизни земной хоть немного,
чтоб я новые песни сложил.
Но новых песен ему сложить уже не довелось.
Из многих стихов поэтов видно их явственное, почти физическое ощущение потустороннего мира.
Как писал А.Кушнер:
Я готов под сомненье поставить честь
свою, впрочем, об этом и Еврипид
рассказал, и все древние: что-то есть,
что-то есть. Значит, кто-то за всем следит.
Тема жизни после смерти давно интересует писателей всех времён и народов. Она поднимается и в произведениях многих современных писателей, например, в повести Л.Улицкой «Казус Кукоцкого», не так давно удостоенной Букеровской премии, где действие во второй части книги происходит в потустороннем мире. Но у неё жизнь героев просто автоматически переносится в некую ирреальную пустыню, где всё почти так же, как на земле. Гораздо интереснее это решается в книге рассказов Людмилы Петрушевской «Найди меня, сон».

Там жизнь героев так плавно переходит в иное измерение, что они порой сами не догадываются, что живут уже в нездешнем мире.

Причём в конце каждого рассказа даётся какое-то реальное объяснение мистическим моментам (сон, наркотический бред, состояние после наркоза на операции), то есть правда жизни не страдает, но при этом такие прорывы в экзистенциальные глубины и высоты человеческого сознания, такие потрясающие прозрения, что дух захватывает.

Когда читаешь эту книгу, кажется, что стоишь перед мерцающей поверхностью зеркала, за которой начинается тревожащий послежизненный мир. И, подчиняясь льющейся мелодии окутывающих тебя слов, ты медленно входишь сквозь зеркало в запредельность, блуждаешь по его полутёмным лабиринтам, встречаешь жутковатых людей в гулких комнатах, говоришь с ними... Но в какой-то момент, будто опомнившись, быстро летишь назад, выпрыгиваешь из зеркала в нынешнюю жизнь, облегчённо вздыхаешь и – задумываешься о месте, в котором только что побывал. Идёт мучительное рождение главного человеческого вопроса: что нас ждёт за пределами смерти? А точнее – есть ли способ спасти свою душу?
Мне будет вечно сниться дождь
и шум листвы у изголовья
каких-то баснословных рощ
бесчасья или безвековья.
Мне будет вечно сниться путь,
скрывающийся за холмами,
которым позабыл шагнуть,
как снится детский сон о маме.
Мне будет вечно сниться дождь
с почти расплывшейся страницы
и то, как ты меня зовёшь,
и я встаю, мне будет сниться.

Продолжение здесь
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/204930.html
|
|
Процитировано 18 раз
Понравилось: 1 пользователю










































