-Подписка по e-mail
-Поиск по дневнику
-Интересы
-Постоянные читатели
-Статистика

1-я МСД |

|
|
Ещё фотка |
Думаю, ВВ надо освещать во всех её аспектах.
Два храбрых саксаула.... тьфу... аксакала на службе вермахта. Прекрасный интернационал, не правда ли? Активистов АКМ с MG-34 не хватает на заднем плане))))

|
|
Русская карта |
В дневниках появилось 2 фильма Ивана Сидельникова "Русская карта" и "Русская карта 2", посвященных нынешнему состоянию России.
Размещение http://www.liveinternet.ru/community/1418029/profile/
Сообщество «Русский Путь»
|
|
Фотографии WW II |
Пример -


|
|
Понравилось: 1 пользователю
Новое сообщество "Русский Путь" |
http://www.liveinternet.ru/community/1418029/profile
|
Метки: новости религия история сообщество православие экономика философия политика россия русские русский путь русская идея дпни |
У ВОЙНЫ — НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО… |
Все, что мы знаем о женщине, лучше всего вмещается в слово «милосердие». Есть и другие слова — сестра, жена, друг и самое высокое — мать. Но разве не присутствует в их содержании и милосердие как суть, как назначение, как конечный смысл? Женщина дает жизнь, женщина оберегает жизнь, женщина и жизнь — синонимы.
На самой страшной войне XX века женщине пришлось стать солдатом. Она не только спасала, перевязывала раненых, а и стреляла из «снайперки», бомбила, подрывала мосты, ходила в разведку, брала языка. Женщина убивала. Она убивала врага, обрушившегося с невиданной жестокостью на ее землю, на ее дом, на ее детей. «Не женская это доля — убивать», — скажет одна из героинь этой книги, вместив сюда весь ужас и всю жестокую необходимость случившегося. Другая распишется на стенах поверженного рейхстага: «Я, Софья Кунцевич, пришла в Берлин, чтобы убить войну». То была величайшая жертва, принесенная ими на алтарь Победы. И бессмертный подвиг, всю глубину которого мы с годами мирной жизни постигаем.
В одном из писем Николая Рериха, написанном в мае-июне 1945 года и хранящемся в фонде Славянского антифашистского комитета в Центральном государственном архиве Октябрьской революции, есть такое место: «Оксфордский словарь узаконил некоторые русские слова, принятые теперь в мире: например, слово добавить еще одно слово — непереводимое, многозначительное русское слово „подвиг“. Как это ни странно, но ни один европейский язык не имеет слова хотя бы приблизительного значения…» Если когда-нибудь в языки мира войдет русское слово «подвиг», в том будет доля и свершенного в годы войны советской женщиной, державшей на своих плечах тыл, сохранившей детишек и защищавшей страну вместе с мужчинами.
…Четыре мучительных года я иду обожженными километрами чужой боли и памяти. Записаны сотни рассказов женщин-фронтовичек: медиков, связисток, саперов, летчиц, снайперов, стрелков, зенитчиц, политработников, кавалеристов, танкистов, десантниц, матросов, регулировщиц, шоферов, рядовых полевых банно-прачечных отрядов, поваров, пекарей, собраны свидетельства партизанок и подпольщиц. «Едва ли найдется хоть одна военная специальность, с которой не справились бы наши отважные женщины так же хорошо, как их братья, мужья, отцы», — писал маршал Советского Союза А.И. Еременко. Были среди девушек и комсорги танкового батальона, и механики-водители тяжелых танков, а в пехоте — командиры пулеметной роты, автоматчики, хотя в языке нашем у слов «танкист», «пехотинец», «автоматчик» нет женского рода, потому что эту работу еще никогда не делала женщина.
Только по мобилизации Ленинского комсомола в армию было направлено около 500 тысяч девушек, из них 200 тысяч комсомолок. Семьдесят процентов всех девушек, посланных комсомолом, находились в действующей армии. Всего за годы войны в различных родах войск на фронте служило свыше 800 тысяч женщин…"
Всенародным стало партизанское движение. "Только в Белоруссии в партизанских отрядах находилось около 60 тысяч мужественных советских патриоток". Каждый четвертый на белорусской земле был сожжен или убит фашистами.
Таковы цифры. Их мы знаем. А за ними судьбы, целые жизни, перевернутые, искореженные войной: потеря близких, утраченное здоровье, женское одиночество, невыносимая память военных лет. Об этом мы знаем меньше.
«Когда бы мы ни родились, но мы все родились в сорок первом», — написала мне в письме зенитчица Клара Семеновна Тихонович. И я хочу рассказать о них, девчонках сорок первого, вернее, они сами будут рассказывать о себе, о «своей» войне.
«Жила с этим в душе все годы. Проснешься ночью и лежишь с открытыми глазами. Иногда подумаю, что унесу все с собой в могилу, никто об этом не узнает, страшно было…» (Эмилия Алексеевна Николаева, партизанка).
"…Я так рада, что это можно кому-нибудь рассказать, что пришло и наше время… (Тамара Илларионовна Давыдович, старший сержант, шофер).
«Когда я расскажу вам все, что было, я опять не смогу жить, как все. Я больная стану. Я пришла с войны живая, только раненая, но я долго болела, я болела, пока не сказала себе, что все это надо забыть, или я никогда не выздоровлю. Мне даже жалко вас, что вы такая молодая, а хотите это знать…» (Любовь Захаровна Новик, старшина, санинструктор).
"Мужчина, он мог вынести. Он все-таки мужчина. А вот как женщина могла, я сама не знаю. Я теперь, как только вспомню, то меня ужас охватывает, а тогда все могла: и спать рядом с убитым, и сама стреляла, и кровь видела, очень помню, что на снегу запах крови как-то особенно сильный… Вот я говорю, и мне уже плохо… А тогда ничего, тогда все могла. Внучке стала рассказывать, а невестка меня одернула: зачем девочке такое знать? Этот, мол, женщина растет… Мать растет… И мне некому рассказать…
Вот так мы их оберегаем, а потом удивляемся, что наши дети о нас мало знают…" (Тамара Михайловна Степанова, сержант, снайпер).
"…Мы пошли с подругой в кинотеатр, мы с ней дружим скоро сорок лет, в войну вместе в подполье были. Хотели взять билеты, а очередь была большая. У нее как раз было с собой удостоверение участника Великой Отечественной войны, и она подошла к кассе, показала его. А какая-то девчонка, лет четырнадцати, наверное, говорит: «Разве вы, женщины, воевали? Интересно было бы знать, за какие такие подвиги вам эти удостоверения дали?»
Нас, конечно, другие люди в очереди пропустили, но в кино мы не пошли. Нас трясло, как в лихорадке…" (Вера Григорьевна Седова, подпольщица).
Я тоже родилась после войны, когда позарастали уже окопы, заплыли солдатские траншеи, разрушились блиндажи «в три наката», стали рыжими брошенные в лесу солдатские каски. Но разве своим смертным дыханием она не коснулась и моей жизни? Мы все еще принадлежим к поколениям, у каждого из которых свой счет к войне. Одиннадцати человек недосчитался мой род: украинский дед Петро, отец матери, лежит где-то под Будапештом, белорусская бабушка Евдокия, мать отца, умерла в партизанскую блокаду от голода и тифы, две семьи дальних родственников вместе с детьми фашисты сожгли в сарае в моей родной деревне Комаровичи Петриковского района Гомельской области, брат отца Иван, доброволец, пропал без вести в сорок первом.
Четыре года и «моей» войны. Не раз мне было страшно. Не раз мне было больно. Нет, не буду говорить неправду — этот путь не был мне под силу. Сколько раз я хотела забыть то, что слышала. Хотела и уже не могла. Все это время я вела дневник, который тоже решаюсь включить в повествование. В нем то, что чувствовала, переживала,. в нем и география поиска — более ста городов, поселков, деревень в самых разных уголках страны. Правда, я долго сомневалась: имею ли право писать в этой книге «я чувствую», «я мучаюсь», «я сомневаюсь». Что мои чувства, мои мучения рядом с их чувствами и мучениями? Будет ли кому-нибудь интересен дневник моих чувств, сомнений и поисков? Но чем больше материала накапливалось в папках, тем настойчивее становилось убеждение: документ лишь тогда документ, имеющий полную силу, когда известно не только то, что в нем есть, но и кто его оставил. Нет бесстрастных свидетельств, в каждом заключена явная или тайная страсть того, чья рука водила пером по бумаге. И эта страсть через много лет — тоже документ.
Так уж случилось, что наша память о войне и все наши представления о войне — мужские. Это и понятно: воевали-то в основном мужчины, — но это и признание неполного нашего знания о войне. Хотя и о женщинах, участницах Великой Отечественной войны, написаны сотни книг, существует немалая мемуарная литература, и она убеждает, что мы имеем дело с историческим феноменом. Никогда еще на протяжении всей истории человечества столько женщин не участвовало в войне. В прошлые времена были легендарные единицы, как кавалерист-девица Надежда Дурова, партизанка Василиса Кожана, в годы гражданской войны в рядах Красной Армии находились женщины, но в большинстве своем сестры милосердия и врачи. Великая Отечественная война явила миру пример массового участия советских женщин в защите своего Отечества.
Пушкин, публикуя в «Современнике» отрывок из записок Надежды Дуровой, писал в предисловии: «Какие причины заставили молодую девушку, хорошей дворянской фамилии, оставить отеческий дом, отречься от своего пола, принять на себя труды и обязанности, которые пугают и мужчин, и явиться на поле сражений — и каких еще? Наполеоновских! Что побудило ее? Тайные, семейные огорчения? Воспаленное воображение? Врожденная неукротимая склонность? Любовь?..» Речь шла только об одной невероятной судьбе, и догадок могло быть множество. Совсем другое, когда в армии служило восемьсот тысяч женщин, а просилось на фронт их еще больше.
Они пошли, потому что «мы и родина — для нас это было одно и то же» (Тихонович К.С.., зенитчица). Их пустили на фронт, потому что на весы истории было брошено: быть или не быть народу, стране? Так стоял вопрос.
Что же собрано в этой книге, по какому принципу? Рассказывать будут не знаменитые снайперы и не прославленные летчицы или партизанки, о них уже немало написано, и я сознательно обходила их имена. «Мы обыкновенные военные девушки, каких много», — приходилось мне слышать не раз. Но именно к ним шла, их искала. Именно в их сознании хранится то, что мы высоко именуем — народной памятью. «Когда посмотришь на войну нашими, бабьими, глазами, так она страшнее страшного», — сказала Александра Иосифовна Мишутина, сержант, санинструктор. В этих словах простой женщины, которая всю войну прошла, потом вышла замуж, родила троих детей, теперь нянчит внуков, и заключена главная идея книги.
В оптике есть понятие «светосила» — способность объектива хуже-лучше зафиксировать уловленное изображение. Так вот, женская память о войне самая «светосильная» по напряжению чувств, по боли. Она эмоциональна, она страстна, насыщена подробностями, а именно в подробностях и обретает свою неподкупную силу документ.
Связистка Антонина Федоровна Валегжанинова воевала под Сталинградом. Рассказывая о трудностях сталинградских боев, она долго не могла найти определения чувствам, которые испытала там, а потом вдруг объединила их в единых образ: «Запомнился один бой. Очень много было убитых… Рассыпаны, как картошка, когда ее вывернут из земли плугом. Огромное, большое поле… Они, как двигались, так и лежат… Их, как картошку… Даже лошади, настолько деликатное животное, она же идет и боится ногу поставить, чтобы не наступить на человека, но и они перестали бояться мертвых…» А партизанка Валентина Павловна Кожемякина хранил в памяти такую деталь: первые дни войны, наши части с тяжелыми боями отступают, вся деревня вышла их провожать, стоят и они с матерью. «:Проходит мимо пожилой солдат, остановился возле нашей хаты и низко-низко, прямо в ноги кланяется матери: „Прости, мать… А девчонку спасай! Ой, спасайте девчонку!“ А мне тогда было шестнадцать лет, у меня коса длинная-длинная…» Припомнит она и другой случай, как будет плакать над первым раненым, а он, умирая, скажет ей: «Ты себя побереги, девка. Тебе еще рожать придется… Вон сколько мужиков полегло…»
Женская память охватывает тот материк человеческих чувств на войне, который обычно ускользает от мужского внимания. Если мужчину война захватывала, как действие, то женщина чувствовала и переносила ее иначе в силу своей женской психологии: бомбежка, смерть, страдание — для нее еще не вся война. Женщина сильнее ощущала, опять-таки в силу своих психологических и физиологических особенностей перегрузки войны — физические и моральные, она труднее переносила «мужской» быть войны. И то, что она запомнила, вынесла из смертного ада, сегодня стало уникальным духовным опытом, опытом беспредельных человеческих возможностей, который мы не вправе предать забвению.
Может быть, в этих рассказах будет мало собственно военного и специального материала (автор и не ставила себе такой задачи), но в них избыток материала человеческого, того материала, который и обеспечил победу советского народа над фашизмом. Ведь для того, чтобы победить всем, народу всему победить, надо было стремиться победить каждому, каждому в отдельности.
Они еще живы — участники боев. Но человеческая жизнь не бесконечна, продлить ее может лишь память, которая одна только побеждает время. Люди, вынесшие великую войну, выигравшие ее, осознают сегодня значимость сделанного и пережитого ими. Они готовы нам помочь. Мне не раз встречались в семьях тоненькие ученические и толстые общие тетради, написанные и оставленные для детей и внуков. Это дедушкино или бабушкино наследство неохотно передавалось в чужие руки. оправдывались обычно одинаково: «Нам хочется, чтобы детям осталась память…», «Сделаю вам копию, а подлинники сохраню для сына…»
Но не все записывают. Многое исчезает, растворяется бесследно. Забывается. Если не забывать войну, появляется много ненависти. А если войну забывают, начинается новая. Так говорили древние.
Собранные вместе рассказы женщин рисуют облик войны, у которой совсем не женское лицо. Они звучат как свидетельства — обвинения фашизму вчерашнему, фашизму сегодняшнему и фашизму будущему. Фашизм обвиняют матери, сестры, жены. Фашизм обвиняет женщина.
Вот сидит передо мной одна из них, рассказывает, как перед самой войной мать не отпускала ее без провожатого к бабушке, мол, еще маленькая, а через два месяца эта «маленькая» ушла на фронт. Стала санинструктором, прошла с боями от Смоленска до Праги. Домой вернулась в двадцать два года, ее ровесницы еще девочки, а она уже была пожившим, много видевшим и перечувствовавшим человеком: три раза раненая, одно ранение тяжелое — в область грудной клетки, два раза была контужена, после второй контузии, когда ее откопали из засыпанного окопа, поседела. Но надо было начинать женскую жизнь: опять научиться носить легкое платье, туфли, выйти замуж, ребенка родить. Мужчина, он пусть и калекой возвращался с войны, но он все равно создавал семью. А женская послевоенная судьба складывалась драматичнее. Война забрала у них молодость, забрала мужей: из их одногодков с фронта вернулись немногие. Они и без статистики это знали, потому что помнили, как лежали мужчины на истоптанных полях тяжелыми снопами и как нельзя было поверить, смириться с мыслью, что этих высоченных парней в матросских бушлатах уже не поднимешь, что останутся они навечно лежать в братских могилах — отцы, мужья, братья, женихи. «Столько было раненых, что, казалось, весь свет уже ранен…» (Анастасия Сергеевна Демченко, старший сержант, медсестра).
Так какие же они были, девчонки сорок первого, как уходили на фронт? Пройдем их путь вместе с ними.
|
|
Процитировано 1 раз
поисковики |
товарищи, а есть ли среди Вас те, кто занимается раскопками?

|
|
.. |
Почитав это сообщество я наткнулась на комментарий о завышенной роли штатов в войне в фашистами. Я раньше считала что американцы действительно думают что это они выиграли войну, но теперь я поняла что ошибаюсь...В их учебниках написано, да и они сами это признают, что Россия сыграла важную роль в войне с немцами. Это в старых учебнебниках написано какой плохой Совецкий Союз и какие хорошие американцы, но сейчас всё поменяли, сейчас пишут что всё народные беды свалили на Совецкий Союз и обвинили их во многом...Прияно было читать...У как ни странно, написано с юмором, Гитлера обозвали неграмотным, потому что он не учил историю и напал на Россию...Неучил историю в том смысле что не учел ошибки Наполеона.
|
|
"Если завтра война" |
Особенно упорно предупреждала об опасности песня. Их было много - и маршевых , и лирических, и балладного строя песен, говоривших о возможности вражеского нашествия.Пришла война , для всей земли - вторая мировая, для нас - Великая Отечественная, и грохот орудий заглушил эти песни. Не потому, что "когда говорят пушки, молчат музы" - утверждение соответствующее нашему времени, а по простой причине : сбывшиеся предупреждения и прорицания уже не нужны. Нельзя петь "если завтра война", коль она уже идет сегодня.
Вот несколько цитат из песен середины 30-х годов:
| Если в край наш спокойный Хлынут новые войны Проливным пулеметным дождем... |
(это "Конармейская" Алексея Суркова, 1936 год),
| Только мы видим, Видим мы седую тучу, Вражья злоба из-за леса, Эх, да вражья злоба, словно туча! |
(знаменитое "Полюшко-поле" Виктора Гусева, 1934 год),
| Мы и прежде умели неплохо Посчитаться с врагами в бою, И теперь до последнего вздоха Будем драться за землю свою. |
(песня казака Голоты, написанпая В. И. Лебедевым-Кумачом в 1936 году к фильму "Дума про казака Голоту").
Как видите, песня стояла на страже. А стихи? Тут уж можно было бы собрать многотомную поэтическую антологию на всех языках народов Советского Союза, тревожно говорящую о том же: война у порога.
Было в этих стихах и песнях много наивного. Не обошлось и без бахвальства, без "шапкозакидательства", причинившего нам немалый вред. Но лучшие стихи были строги и мужественны. Вернувшись с Халхин-Гола, Константин Симонов писал:
Да, враг был храбр.
Тем больше наша слава!
Появилось в ту пору и несколько кинофильмов о будущей войне. Мы можем друг другу признаться - люди, жившие и творившие в те годы,- не было на экране картин, которые потом, после начала войны, можно было смотреть без досады и огорчения. Одно дело - слово, в значительной степени декларативное, другое дело - зрительный, картинный, воспроизводящий жизнь, движущийся образ. Сколь непохожий на обрушившуюся на нас войну была война, изображенная на кинопленке в середине 30-х годов!
Сохранилось смутное воспоминание о фильме "Если завтра война", поставленном режиссером Ефимом Дзиганом, автором незабываемого "Мы - из Кронштадта". Но песня, оставшаяся после этого фильма, свидетельствует, что прицел в постановке фильма "Если завтра война" был взят правильный, хотя строка о "малой крови", увы, не сбылась...
Василий Иванович Лебедев-Кумач создал в содружестве с лучшими композиторами того времени немало боевых песен.
Можно смело сказать, что оборонная тема во второй половине 30-х годов вышла на передний край творчества поэта-песенника. Она зародилась еще в "Марше веселых ребят", опа прозвучала в "Песне о Родине", не только в этих самых всенародно признанных песпях, но и во многих других.
Даже спортивный марш в кинокартине "Вратарь" Кумач сумел сделать боевой песен: "Эй, вратарь, готовься к бою, часовым ты поставлен у ворот". Слова из лирической раздольной "Песни о Волге" пригодились пам, фронтовым газетчикам, в 1942 году в осажденном Сталинграде. На две полосы разверстали мы в солдатской газете перед решающим наступлением на фашистов: "Не видать им красавицы Волги, и не пить им из Волги воды".
В своих стихах Кумач говорил, что "пахнут порохом газетные листы", и спрашивал: "Товарищ боевой, готов ли к битве ты?" Это была стихотворная закваска для песни "Если завтра война..." Музыку для фильма Дзигана писали братья Покрасс. Появившаяся в 1937 году песня "Если завтра война" дала людям душевные формулы, такие как:"Если завтра в поход, будь сегодня к походу готов"
Пусть дотошный исследователь скажет, что в строчках
| Как один человек весь советский народ За свободную Родину встанет! |
Нет предсказания, что, в общем-то, сказано то, что всем так и было ясно, но я утверждаю: впервые эта простая истина, ставшая реальным фактом уже в июне 1941 года, была за четыре года до большой войны сформулирована поэтом.
Трубач видел далеко с крепостной стен.
Если завтра война сл.В.Лебедева-Кумача
муз.бр.Покрасс
Если завтра война,если враг нападет
Если темная сила нагрянет-
Как один человек, весь советский народ
За свободную Родину встанет
Припев:
На земле в небесах и на море
Наш напев и могуч и суров:
Если завтра война,
Если завтра в поход ,-
Будь сегодня к походу готов!
Если завтра война- всколыхнется страна
От Кронштадта до Владивостока
Всколыхнется страна, велика и сильна
И врага разобьем мы жестоко!
Припев:
На земле в небесах и на море
Наш напев и могуч и суров:
Если завтра война,
Если завтра в поход ,-
Будь сегодня к походу готов!
Полетит самолет, застрочит пулемет,
Загрохочут могучие танки,
И линкоры пойдут, и пехота пойдет,
И помчатся лихие тачанки
Припев:
На земле в небесах и на море
Наш напев и могуч и суров:
Если завтра война,
Если завтра в поход ,-
Будь сегодня к походу готов!
Мы войны не хотим, но себя защитим-
Оборону крепим мы недаром.
И на вражьей земле мы врага разгромим
Малой кровью,могучим ударом!
Припев:
На земле в небесах и на море
Наш напев и могуч и суров:
Если завтра война,
Если завтра в поход ,-
Будь сегодня к походу готов!
Подымайся народ, собирайся в поход,
Барабаны сильней барабаньте!
Музыканты, вперед! Запевалы, вперед!
Нашу песню победную гряньте!
Припев:
На земле в небесах и на море
Наш напев и могуч и суров:
Если завтра война,
Если завтра в поход ,-
Будь сегодня к походу готов!
|
|
|
Процитировано 2 раз
Понравилось: 1 пользователю
Подборки документов |
Выдержка из "Сборника справочных материалов об органах германской разведки, действовавших против СССР в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг."
Протокол судебного заседания над Власовым.
Наставление вермахта "Боевые действия против партизан" от 1 апреля 1944 г. Мы обвиняем. Документы и материалы о злодеяних гитлеровский оккупантов и латышских буржуазных националистов в ЛССР. 1941-1945.
Судебный процесс по делу о зверствах немецко-фашистских захватчиков и их пособников на территории гор. Краснодара и Краснодарского края в период их временной оккупации
|
|
Понравилось: 1 пользователю
плиз хелп |
очень буду благодарен за помощь:)
|
|
фотоархив Второй Мировой Войны |
|
|
Ju-87G2 |

Базовой машиной для противотанкового самотела стал Ю-87D-5. Снизу под консолями были убраны тормозные щитки и кронштейны с приводными механизмами. Основным назначением 20-мм орудия была пристрелка перед использованием длинноствольной 37-мм пушки, располагавшейся в контейнере под крылом. Подкалиберный снаряд с вольфрамовым сердечником пробивал бортовую броню Шерманов и Т-34.
|
|
ИС-2 |
Первая встреча ИСов с «Королевскими Тиграми» (Tiger II) была не в пользу немцев. 13 августа 1944 года взвод танков ИС-2 гвардии старшего лейтенанта Клименкова из 3-го танкового батальона 71-го гвардейского тяжелого танкового полка с заранее подготовленных позиций вступил в бой с немецкими танками, подбил один Королевский Тигр и еще один сжег. Примерно в то же время, одиночный ИС-2 гвардии старшего лейтенанта Удалова, действуя из засады, вступил в бой с 7-ю Королевскими Тиграми, и также сжег один и еще один подбил. Уцелевшие пять машин стали отступать. Танк Удалова, совершив маневр навстречу противнику, сжег еще один Королевский Тигр.

|
|
ШИСБр(Инженерные части РГВК) |
Штурмовые инженерно-саперные бригады резерва Верховного Главнокомандования (ШИСБр РВГК) предназначались для прорыва мощных укрепленных вражеских оборонительных полос. Структурно такое соединение состояло из командования, штаба, рот инженерной разведки и управления, пяти штурмовых инженерно-саперных батальонов, роты собак-миноискателей и легкого переправочного парка.
Вооружение и оснащение также изменилось: каждый солдат-штурмовик имел автомат (сначала ППШ, позже—ППС) и финский нож. К тому же на батальоны выделялись довольно щедро снайперские винтовки, противотанковые ружья и ручные пулеметы (ДП), не считая различного вида гранат: противотанковых (РПГ-43), противопехотных (Ф-1, РГД-33) и специальных зажигательных (бутылки КС), предназначенных для уничтожения огнем оборонительных сооружений противника. Соответствующим образом строилась и подготовка: наибольшее время уходило на изучение приемов рукопашного боя и метания гранат. Бойцы учились преодолевать штурмовые заборы, проволочные и деревянные препятствия, вести ближний бой с использованием носимого шанцевого инструмента. С этой целью командиры учили бойцов использовать малые саперные лопаты, отточенные натри канта.
Боевое снаряжение солдат штурмовых подразделений состояло из обычной стальной каски и стального нагрудника, не пробиваемого пулями и мелкими осколками. Этот «панцирь» солдаты обычно надевали на ватник с оторванными рукавами, который служил дополнительным амортизатором, несмотря на то, что у нагрудника с внутренней стороны имелась специальная подкладка. Но бывали случаи, когда «панцирь» надевали сверху маскхалата, а также и сверху шинели.
По отзывам фронтовиков оценка подобного нагрудника была самая противоречивая — от лестных отзывов до полного неприятия. Но проанализировав боевой путь «экспертов», приходишь к следующему парадоксу: нагрудник был ценен в штурмовых частях, которые «брали» крупные города, а отрицательные отзывы шли в основном из частей, которые захватывали полевые укрепления. «Панцирь» предохранял грудь от пуль и осколков, пока солдат шел или бежал, а также в рукопашной схватке, поэтому он был больше необходим в уличных боях. Однако в полевых условиях саперы-штурмовики больше передвигались по-пластунски, и тогда стальной нагрудник становился абсолютно ненужной помехой. В частях, которые вели бои на слабозаселенной местности эти нагрудники перекочевали сначала на батальонные, а потом и на бригадные склады."
Продолжение здесь: http://www.fortification.ru/library/shisbr/



|
|
Документы вызывающие интерес |
Из 21 Фердинанда - 10 подорваны на минах и фугасах. Часть подоженна и подбита и подбита снарядами.
Один уничтожен попаданием 203 мм снаряда в люк командира,что привело к разрушению боевого отделения.
САУ номер 731 находиться в музее трофейного имущества(наверное в Кубинке).
Или вот к примеру,любопытный документ о потерях 18,29 гв.Танковых корпусов и группы Генерала Труфанова:
В наличии имелось 679 танков(учитываются также БА-64,БА-10 и БТР).Безвозвратные потери составили 227 танков.
Это стоит показать нашим составителям учебников по истории,а то у них жертвы РККА завышены в несколько раз,дабы показать всю трагичность ситуации.
В 29 гв.т.к наибольшие потери пришлись на Т-34(из 130 безвозвратно потеряно 99) и на Т-70(из 85 потеряно 55).
Ссылки - Фердинанды:http://www.battlefield.ru/index.php?option=com_con...view&id=255&Itemid=123&lang=ru
Потери:http://www.battlefield.ru/index.php?option=com_con...view&id=252&Itemid=123&lang=ru
|
|
Док. кино: |
Превосходное качество и русский дубляж. 628 mb
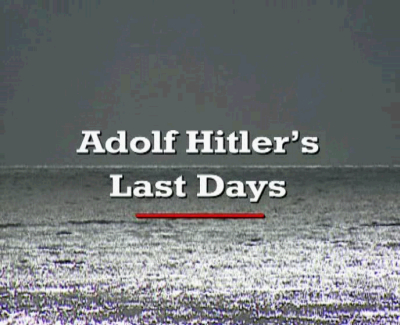
|
|
Пишет Vandall, blacksystem.ru |
"23 июня 1941 4-я танковая группа достигла реки Дубисса и заняла несколько плацдармов. Разбитые пехотные части противника укрылись в лесах и полях пшеницы, угрожая немецким линиям снабжения. 25 июня русские неожиданно контратаковали южный плацдарм в направлении Расейняя 14-м танковым корпусом (это ошибка - на самом деле 3-м мехкорпусом). Они смяли 6-й мотоциклетный батальон, захватили мост и двинулись в направлении города. Чтобы остановить основные силы противника, были введены в действие 114-й моторизованный полк, два артдивизиона и 100 танков 6-й танковой дивизии. Однако они встретились с батальоном тяжелых танков неизвестного ранее типа. Эти танки прошли сквозь пехоту и ворвались на артиллерийские позиции. Снаряды немецких орудий отскакивали от толстой брони танков противника. 100 немецких танков не смогли выдержать бой с 20 дредноутами противника и понесли потери. Чешские танки Pz35 были раздавлены вражескими монстрами. Такая же судьба постигла батарею 150-мм гаубиц, которая вела огонь до последней минуты. Несмотря на многочисленные попадания даже на расстоянии 200 метров, гаубицы не смогли повредить ни одного танка. Ситуация была критической. Только 88-мм зенитки смогли подбить несколько КВ-1 и заставить остальных отступить в лес."
Еще интересней следующий отрывок из немецких докладов:
"Один из КВ сумел перекрыть маршрут снабжения немецких войск в районе северного плацдарма. Он блокировал его несколько дней. Сначала он сжег колонну грузовиков с боеприпасами и продовольствием. Подобраться к этому монстру было невозможно - дороги проходили среди болот. Передовые немецкие части лишились снабжения. Тяжелораненые не могли эвакуироваться в тыл и умирали. Попытка уничтожить танк 50-мм противотанковой батареей с расстояния 500 м окончилась тяжелыми потерями личного состава и орудий. КВ остался невредимым, несмотря, как выяснилось впоследствии, на 14 прямых попаданий - но они оставили лишь синие пятна на его броне. Была подтянута 88-мм зенитка, танк позволил ей встать на позицию в 700 м, а затем расстрелял, прежде чем расчет смог произвести хотя бы один выстрел. Ночью были посланы минеры. Они заложили взрывчатку под гусеницы КВ. Заряды взорвались как положено, однако смогли лишь вырвать несколько кусков из траков. Танк остался мобильным и продолжал блокировать маршрут снабжения. В первые дни экипаж танка снабжался припасами окруженцами и местными жителями, но потом вокруг танка была установлена блокада. Однако даже эта изоляция не заставила танкистов покинуть позицию. В итоге немцы применили хитрость. 50 немецких танков стали обстреливать КВ с трех направлений, чтобы отвлечь его внимание. В это время 88-м зенитка была скрытно установлена в тылу КВ. Она 12 раз попала в танк, и три снаряда пробили броню, уничтожив его."
Вот такая история. Она неоднократно описывается в англоязычных книгах (возможно и на других языках, но я ими не владею). Причем в некоторых из этих книг этот эпизод приукрашивается - в сторону восхваления наших танкистов, не немцев. Например, в одной американской книге заключительный момент описан так - КВ выведен из строя зениткой, немцы подбираются к нему и кричат "сдавайтесь!". В ответ оставшийся в живых танкист поворачивает башню и стреляет из пулемета. Некий немецкий оберлейтенант подползает к танку и бросает гранату в пробоину.
Непонятно вот что. Советская сторона не могла не узнать об этом подвиге. Доклады пленных немцев были давно (в начале 1950-х годов) опубликованы. Однако в СССР этот подвиг наших танкистов упорно замалчивался.
|
|
Понравилось: 1 пользователю
принмайте! |
чтопп принимаои не просто так ловите сцылко на один очень интерсный сайт не менее интересной игры))) очень рекомендую)))
www.game-war.ru
|
|
Без заголовка |
...Когда началась война мне было 6 лет. Мы жили в городе
Ровно.Это Западная Украина. В первый же день войны начались бомбежки.Нам
пришлось уйти за город, т.к жили возле железной дороги и постоянно бомбили.
Находясь за городом,мы видели зарево,город горел.Там остались все наши
родственники и погибли. А моя родная старшая сестра уехала за неделю до
начала войны в деревню к бабушке,там ,кроме неё было еще десять детей.
двоюродных братьев и сестер. Брат моего папы был председателем колхоза,он
ушел.А все роные остались,когда пришли фашисты,украинцы-националисты их
выдали.Детей закопали живьем, а взрослых растреляли. Я с родителями очень
долго шли пешком,по очереди несли меня на руках, т.к трудно было идти.
Потом на попутках доехали до Киева , сели в теплушки,долго ехали, часто
бомбили,пришлось прятаться в канавах. Один раз я попала в воронку.
Постепенно,пересаживаясь с поезда на поезд ,добрались до Узбекиистана, в
Ташкент.Отсюда нас послали в город Хиву. Все родные погибли.Мой дядя, брат
моей мамы погиб в апреле 1945 г.,дедушка Леня,папа дедушки Толика умер от ран
в 1942году в Госп.в Ташкенте.Ему было 35 лет.Он похоронен на
Волгоградксой,где братские могилы...
Нам в школе (я учусь в немецкой школе) дали задание записать воспоминания наших родственников...вот...
|
|
Великий день! |
Поздравим друг друга, своих родителей, своих стариков, которые обеспечили нам нормальную жизнь теперь. В тот день резко повернулась мировая история, и еще не известно чтобы стало с миром, народом и вообще планетой, случись все иначе.
Так что лично я хочу поздравить всех присутсвующих с этим очень важным
Праздником и хочу сказать большое спасибо тем, кто не с нами, тем, кому лично я обязан своим рождением-своим обоим дедам и бабкам. Они для меня старались и для всех, потому огромное им спасибо, я буду помнить их всегда!
Еще раз всех с Праздником!
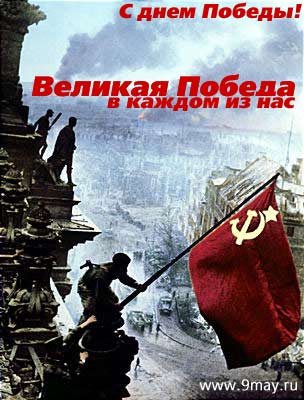
|
|
Тост |
Тост в честь русского народа!
Товарищи, разрешите мне поднять еще один, последний тост.
Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего советского народа, и прежде всего, русского народа.
Я пью прежде всего за здоровье русского народа потому, что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза.
Я поднимаю этот тост за здоровье русского народа потому, что он заслужил в этой войне общее признание, как руководящей силы Советского Союза среди всех народов нашей страны.
Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он — руководящий народ, но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение.
У нашего правительства было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в 1941-1942 годах, когда наша армия отступала, покидала родные нам села и города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, Прибалтики, Карело-Финской республики, покидала, потому что не было другого выхода. Иной народ мог бы уже сказать правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Но русский народ не пошел на это, ибо он верит в правильность политики своего правительства и пошел на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии. И это доверие русского народа советскому правительству оказалось той решающей силой, которая обеспечила историческую победу над врагом человечества — над фашизмом.
Спасибо ему, русскому народу, за это доверие!
За здоровье русского народа!
Выступление И. В. Сталина
на приеме в Кремле в честь
командующих войсками Красной Армии
24 мая 1945 года.
|
|
Процитировано 1 раз
Понравилось: 1 пользователю
Оружие возмездия Рейха. |
Так что же Гитлер считал "оружием возмездия"? Сегодня считается что он говорил о баллистической ракете Вернера фон Брауна А-4, более известной как ФАУ-2 («Фау» — от первой буквы немецкого слова Vergeltungswaffee - «оружие возмездия»). Удивительно, но на ракетный полигон Вернера фон Брауна, Пенемюнде, расположенный на острове Узедом в Балтийском море в 1942 году, в разгар войны, тратилось всего вдвое меньше средств, чем на производство танков.
Ведь первый удачный пуск ФАУ-2 был осуществлён ещё в 1942-ом году, а военное применение началось 7 сентября 1944 года. С этого дня, по март 1945-го по Лондону и Антверпену было выпущено 4300 ракет «Фау-2». Замечу, что в июле 1943 года польские партизаны сумели достать и переправить в Лондон чертежи «Фау» и план ракетной базы. Через неделю на Пенемюнде было сметено. В налёте 600 английских «летающих крепостей» погибли 735 человек и все готовые ракеты.
Нацисты перенесли производство ракет в известковые горы Гарца, где в подземном лагере Дора неподалеку от Нордхаузена на 70-метровой глубине был создан подземный завод, где трудилось 30 тыс. смертников из концентрационных лагерей. 4 апреля 1945 года, когда советские войска подступили к Нордхаузену, охранники покинули Дору, расстреляв перед этим около 30 тысяч узников. Кстати, Пенемюнде, где остались только лаборатории (там разрабатывали ракеты и проводили испытания) был захвачен советскими войсками ещё в феврале 1945 года.
Сам же Вернер Фон Браун укрылся на альпийском лыжном курорте, где 10 мая появились американцы. «Ракетного барона» со всеми почестями переправили за океан как особо ценный груз. В июне 1945 года группа советских военных специалистов прибыла в Пенемюнде где в ходе работы с захваченными секретными документами и бывшими сотрудниками Пенемюнде.

|
|
Процитировано 1 раз
Патриотическое воспитание. |
Сам я в детстве был членом КЮМ (клуба юных моряков), многое узнал, многому научился. Вёл нас замечательный кэп 1-го ранга Корнеев И.Г. но на определённом этапе всё развалилось в конец, сказалось отутствие финансирования. Отец с детства подкидывал мне книжечки о венных операциях, боевой технике. Всегда звал, когда показывали старые советские военные фильмы, потом часами обсуждали с ним увиденное. Но не у каждого же есть такой отец =|.
Об учебниках истории - там изложены скудные и сухие факты, ничего более.
Об играх - к примеру в Day of Defeat : Source (один из лучших сетевых ww2-боевиков)
нам навязывают то, что войну решили силы Союзников, там нету РККА. В сюжетных боевиках аlа Call of Duty нашу армию всячески принижают и цинично высмеивают, сажая в ЗиСы против немецких пикировщиков.
Другая тема - Ил-2 штурмовик, однако там раскрыта тема воздушного боя, но нет и намёка на сюжет.

Добавлено:
Товарищи, давайте подумаем что ещё можно впихнуть в интересы сообщества, чтобы нас было проще найти по ним.
И вот вопрос:
Что для вас и в чём выражается ваш патриотизм?
|
|
кое-что о ленд-лизе |
Да больше и не могло получиться. Поскольку из 42951 млн. долларов, в которые обошлась американцам вся ленд-лизовская помощь, для разгромившей три четверти вооруженных сил Германии и ее европейских союзников Красной Армии добрый вашингтонский дядюшка выделил всего 9119 млн., то есть чуть больше одной пятой. В то время как одна Британская империя получила 30269 млн. И даже страны Южной Америки, чьи боевые подвиги без электронного микроскопа практически неразличимы, урвали свой 421 млн. зеленых.
Что касается современных истребителей «аэрокобра», то наш друг Черчилль поставил нам в 1941 году всего 11 штук. При этом первая машина прибыла в разобранном виде, без соответствующей документации и вдобавок оказалась с практически полностью отработанным моторесурсом. Правда, наши левши, несмотря на нестандартную конструкцию (двигатель «кобры» расположен не в носовой части, а под кабиной, соединяясь с винтом длинным валом), все же самолет собрали и даже в воздух запустили. Но воевать на нем, естественно, мог разве что кандидат в камикадзе.
Это, кстати, относится, и к двум эскадрильям «харрикейнов», вооруженных 40-мм танковыми пушками для борьбы с бронетехникой противника. Когда британцы убедились на своем опыте, что штурмовики из дерьмовых истребителей получаются совсем поганые, они, не моргнув глазом, отправили их в Россию. Где те и пробыли всю войну без дела, поскольку желающих лететь на крылатых мутантах у нас не нашлось.
В целом, ознакомившись с присланным нам в помощь металлом, сталинские соколы быстро поняли принципиальную разницу между американцами и англичанами. Если британские джентльмены все же блюли приличия и, периодически посылая товар по принципу «на тебе, убоже, что мне не гоже!», хотя бы доставляли его в оговоренном количестве, то янки просто внаглую срывали поставки. Обещали прислать в 1941-м 600 танков и 750 самолетов, а послали первых всего 182, а вторых – 204.
НЕВОЕННЫЕ ПОСТАВКИ
И тут, казалось бы, крыть нечем, поскольку цифры получаются и вправду солидные. В частности, именно по ленд-лизу мы получили 2586 тыс. тонн авиационного бензина (37% произведенного в СССР в июне 1941 – мае 1945 гг.) и 409,5 тыс. автомобилей (45% использованных Красной Армией за годы войны, без учета трофейного автотранспорта). Немалую роль сыграли и поставки продовольствия. Хотя за первый год войны они были крайне незначительны, всего США поставили нам примерно 15% потребленного мяса и немало прочих вкусных вещей. А ведь еще были станки, рельсы, паровозы с вагонами, радиолокаторы и другие полезные предметы, без которых много не навоюешь.
Ознакомившись со всем этим впечатляющим списком, можно бы искренне восхищаться Рузвельтом… Но – только если забыть о том, что одновременно вполне сравнимую по объемам помощь американские корпорации оказывали и Германии!
Например, рокфеллеровская нефтяная корпорация «Стандарт Ойл» только по линии немецкого концерна «И.Г.Фарбениндустри» продала Гитлеру бензина и смазочных материалов на 20 миллионов баксов. Один венесуэльский филиал «Стандарт Ойл» ежемесячно отправлял в Германию 13 тысяч тонн нефти, которую мощная химическая промышленность Рейха тут же перерабатывала в тот же бензин. До середины 44-го года танкерный флот «нейтральной» Испании работал почти исключительно на нужды вермахта, снабжая его американским «черным золотом», формально предназначенным для Мадрида. Доходило до того, что немецкие подлодки иной раз заправлялись американской горючкой прямо с испанских танкеров – и тут же плыли топить штатовские же транспорты, перевозившие оружие для СССР!
ОБРАТНЫЙ ЛЕНД-ЛИЗ
Общепринятая версия о том, что со стороны США ленд-лизовская помощь носила характер чуть ли не благотворительности, при ближайшем рассмотрении не выдерживает никакой критики. Прежде всего потому, что уже в ходе войны – в рамках так называемого «обратного ленд-лиза» – Вашингтон получил необходимого сырья общей стоимостью почти в 20% от переданных материалов и вооружений.
Немало поживились с нас союзнички также платиной, ценной древесиной, пушниной, а также горячо любимыми ими красной рыбкой и черной икоркой. Наконец, значительную часть оружия и боевой техники, как и полагалось по договору, Советский Союз по окончании войны вернул обратно. Получив взамен счет на круглую сумму в 1300 млн. баксов. На фоне списания ленд-лизовских долгов прочим облагодетельствованным державам это выглядело откровенным ограблением, и Сталин потребовал пересчитать должок нормально. Впоследствии американцы были вынуждены признать, что приврали. Однако накрутили на итоговую сумму проценты. Взаимопризнанная сумма с учетом этих процентов, согласно вашингтонскому соглашению 1972 года, составила 722 миллиона баксов. Из них 48 миллионов были выплачены при Брежневе, а остальные согласно дополнительному соглашению между Горбачевым и Бушем-старшим, Москва должна вернуть до 2030 года.
|
|
Мой город |
______
Немецкое командование требовало от своих подчиненных взрывать и сжигать всё. За две недели с 8 по 22 июля 1944 года была уничтожена сохранившаяся до той поры половина города: взорваны мосты, разрушена электростанция, промышленные здания, исторические памятники, обращена в руины центральная часть города. Один из немецких офицеров при этом сказал : «Пскова больше нет и никогда не будет».
______
а вот так он выглядел когда отсюда ушли эти чертовы крестоносцы!

|
|
Понравилось: 1 пользователю
WW2-Community, поехали! |

Первый пост в сообществе для людей интересующихся второй мировой войной и всем, что с ней связано. Самое главное - давайте почтим погибших в те страшные времена. В каждой стране-участнице тех событий люди дорожат своей историей, не забывают своих героев. Нашей родине досталась самая тяжкая доля, немецкий сапог топтал нашу землю, почти дошёл до Москвы. Советский Союз потерял убитыми и ранеными десятки миллионов своих граждан, потери были почти в каждой семье, но наши прадеды и деды выстояли на фронтах и установили красный флаг над Рейхстагом, ценой тысяч жизней брали высоты и освобождали города. Наши прабабушки и бабушки переносили все тяготы оккупации, работали без еды сутками.
А сегодня молодое поколение не знает и не хочет знать о тяжёлом, но героическом прошлом, о великой войне против фашисткого геноцида.
О Войне.
О том, как вели себя немцы в оккупации.
Большая просьба активно обмениваться фактами, делиться тем, что знаете, рассказывать то, что слышали от воевавших людей. Так же поднимем тему военной техники всех воевашвих сторон, игр и фильмов о ww2. Вносите предложения!
|
|
| Страницы: [1] Календарь |







