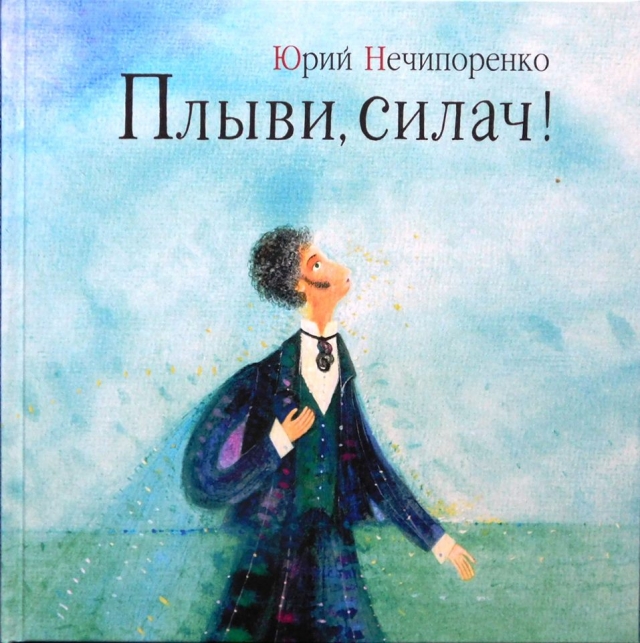"
Борис Годунов" А. Пушкина не был понят ни при жизни поэта, ни после его смерти. Трагедию толковали или в качестве "картинок с выставки", т.е. чисто иллюстративной "романтической" драмы, попутно называя ее композиционно "рыхлой", "подражанием Шекспиру", или (как в советские времена) гениального гимна "народу – творцу истории". И дореволюционное, и послереволюционное понимание "Бориса" несло в себе общий порок – историю толковали как явление исключительно "посюстороннее". В этом сходились и дореволюционные либералы, и "революционные демократы", и советские исследователи. То общее, что было присуще и до- и послереволюционным толкователям Пушкина, их видению истории и мира, четко сформулировал герой М. Булгакова — "пролетарский" поэт Иван Бездомный: "Сам человек и правит". Бога нет. Отсюда и соответствующее толкование пушкинской трагедии во всех его многочисленных вариациях. Одним словом, общим идейным знаменателем, как дореволюционной, так и советской науки было их безбожие.
Важно и другое: сознание людей пушкинского времени уже и в ту благословенную эпоху было достаточно секуляризовано и вести с читателями серьезный и открытый разговор о тончайших духовных материях значило вызывать непонимание и активное неприятие со стороны "образованной" публики. Кроме того, это было бы и недостойно великого художника, поскольку Пушкин писал не наставление, не проповедь, а художественное произведение, в котором, как писал замечательный историк А. Боханов, "не созерцал историю, а переживал ее".
Атеистический взгляд на мир, превращавший его в плоский и картонный, изначально не позволял узреть в трагедии заложенные в ней смыслы, а в Пушкине — глубоко православного художника, историка и мыслителя.
Но что значит православный поэт? Ответим: это художник, пусть и многогрешный (кто из нас без греха?), в основе идейно-художественного мира которого лежат евангельские идеи и ценности. И не важно, о чем он пишет, важно то, с каких духовных позиций изображает.
Мир Пушкинской трагедии – это мир в котором живет Бог Отец – Творец – Небу и земли видимым же всем и невидимым. А это требует совершенно иной системы категорий, с помощью которых и следует прочитывать "Бориса Годунова". Это и мир самого Пушкина, человеческая история в котором есть Промысл Божий (Провидение).
История, "которую нам Бог дал", напишет Пушкин Чаадаеву. Напишет по-французски, а французское "Бог дал", это не русское "Бог дал" — обиходная фигура речи. По-французски это выражение следует понимать прямо и точно: "Бог. Дал". И если бы дело обстояло иначе, то какой смысл был бы Пушкину изображать свершавшиеся на глазах его героев чудеса?
Чудо – неотъемлемая часть мира "Бориса Годунова", равно как и мира русской жизни XVII века. Но что есть чудо, и выражением чего оно является?
На этот вопрос дали исчерпывающий ответ святые отцы.
"Бог идеже хощет, побеждается естества чин: творит бо, елика хощет" ("когда пожелает Бог, то нарушается порядок природы, ибо Он творит, что хочет", – поется в Великом каноне прп. Андрея Критского.
"Чудеса суть действование Божие", – наставляет Иоанн Дамаскин.
Будем и дальше постоянно держать в уме, что Пушкин писал художественное произведение, стараясь ни на йоту не отступать от исторической правды, какой она ему виделась в результате глубокого изучения Русской Смуты, погружения и "вживания" в ее дух.
Пушкин писал своего "Годунова", в своем родовом гнезде на Псковщине. "Там русский дух… там Русью пахнет!" Здесь, духовной жаждою томимый, обращается он к чтению русских летописей и житий святых. Так входит в его жизнь сама русская история, русская трагедия.
Могучее и успешное государство размером в четверть Европы подвергается нападению со стороны кучки наемников и авантюристов – сброда, сволочи. И вот финал: Самозванец въезжает на белом коне в Кремль.
По прошествии времени даже самые невероятные исторические события начинают казаться обыденными и легко объяснимыми: они превращаются в привычные, лишенные покрова загадочности и непостижимости, столь поражавшего современников. Вот и события русской Смуты воспринимались в пушкинские времена в качестве преданий старины глубокой – чем-то вроде сказки со счастливым концом для взрослых и детей. А ведь было чему поражаться! Как писал в своем отзыве на трагедию Пушкина историк Н. Полевой, "смелый, сильный, могущий властитель" вдруг нисходит в могилу "от бродяги, дерзкого расстриги, от ничтожной толпы его сообщников… никогда фантазия никакого поэта не превзойдет поэзии жизни действительной".
Но гибель Московского государства от "бродяги" и "ничтожной толпы его сообщников" являлась событием куда более катастрофичным, нежели Русская трагедия 1991 года, а по своему "невероятию" и глубине едва ли не превосходила катастрофу 1917 года.
Современники же Русской смуты не видели никакого иного объяснения случившемуся, кроме вмешательства сил неземных, потусторонних, дьявольских, ибо все случившееся на их глазах превосходило всякое воображение и описание. Жившие в ту пору русские люди еще не пришли к убеждению, что всем распорядком на земле управляет сам человек.
Но каким образом нечисть обрела ни с того, ни с сего такую силу?
Нам не дано знать механику процесса, но Пушкин показывает, что катастрофа разразилась оттого, что и народ, и царь преступили заповеди, порушив некий незримый, установленный Богом порядок ("правопорядок"), и теперь всяк расплачивается за свои грехи и "достойное по делом своим приемлет". Равно как и народ в целом.
Устами Варлаама Пушкин прямо говорит о этом в сцене "Корчма на литовской границе": "Плохо, сыне, плохо! ныне христиане стали скупы; деньгу любят, деньгу прячут. Мало Богу дают. Прииде грех велий на языцы земнии. Все пустилися в торги, в мытарства; думают о мирском богатстве, не о спасении души. < > Ох плохо, знать пришли наши последние времена..."
"Борис Годунов" — это художественное постижение смуты, орудием которой является самозванец. Быть орудием возмездия Борису за его преступление. И народу за его грехи – "функция" Самозванца. В трагедии Пушкина Самозванец – это не просто своего рода поэт и романтик, не просто поддавшийся искушению – похоти власти, человек, но субъект, заключивший сделку с дьяволом. Пушкин недвусмысленно дает понять, с чьей именно помощью "бродяга безымянный <…> мог ослепить чудесно два народа". О том, что являет собой сущность Самозванца и в чем заключается его феномен, говорит Царю и боярам пушкинский Патриарх: "Обман безбожного злодея и мощь бесов" (выделено мной – Б.К.). Это и есть формула успеха Гришки Отрепьева.
Но и сам он не более, чем "расходный материал". И "… горе человеку тому, имже соблазн приходит" (Мф. 18:7).
Тема "смуты" у Пушкина – сквозная, звучащая помимо "Бориса Годунова" и в "Полтаве", и "Медном всаднике", и в "Истории Пугачева", и в "Капитанской дочке".
Но что есть смута? Это, прежде всего, смута в умах и сознании людей, в первую очередь, сознании религиозном. Это утрата авторитетов, оскудение в народе веры и небрежение к Христовым заповедям, и – как неизбежное следствие – девальвация моральных ценностей. Результат катастрофичен: невозможность даже силовыми методами обеспечивать общественный порядок и сдерживать усиливающийся хаос в сознании людей и общественно-политической жизни в целом.
… Прошел ровно год с момента ликвидации "евромайдана" на Сенатской, истинные вдохновители его "ложатся на дно до лучших времен" и ждут своего часа… А перед этим в Западной Европе – Испании, Португалии, еще не объединенной Италии и на Балканах вспыхивают бенгальскими огнями восстания и революции.
В июле 1830 года происходит революция во Франции, напрямую отразившаяся в Царстве Польском, в котором в январе следующего года начинается бунт, грозивший перерасти в новый "европоход" на Россию.
И вот в это самое время Пушкин выступает со своей трагедией о цареубийстве, самозванчестве и вторжении иноплеменников и иноверцев.
Одним словом, выход пушкинской трагедии в свет в таком политическом контексте – сам по себе чудо. И удивляться следует не тому, что его произведение так долго не публиковалось (помимо неизбежных аллюзий присутствовала интрига чисто литературного свойства), а тому, что она вообще увидела свет при жизни автора. Не был же опубликован при жизни поэта "Медный всадник"!
Актуальность трагедии бьет в глаза и рождает множество политических аллюзий. И тем не менее, трагедия увидела свет именно в это время.
Все происходящее в ней предстанет при таком прочтении в качестве своеобразного наложения вины народа на вину Бориса. Виновны все. И каждый по-своему. Расплата за грехи становится неотвратимой.
Народ смотрит на избрание царя как на знатную потеху:
Вся Москва
Сперлася здесь; смотри: ограда, кровли,
Все ярусы соборной колокольни,
Главы церквей и самые кресты
Унизаны народом.
Утрачено даже элементарное благочестие: ведь Кресту поклоняются. Эта пушкинская деталь глубоко символична, поскольку именно на Кресте и Евангелии, целуя их, русские люди присягали Царю. Пушкин показывает, что эта клятва верности Кресту, на котором примостился народ, вскоре будет с легкостью попрана и уже заранее считается за ничто. Все лицемерят. Вскоре ситуация будет описываться печально известной формулой: "Кругом измена, трусость и обман".
Однако в 1917 ситуация будет еще трагичнее: народ засомневается не только в Царе, но и в Боге. С другой стороны, сомнение в царе есть сомнение в Боге. Верно и обратное.
И начнется гражданская война, и вновь посыплются на Русь, словно мохнорылые твари из бездны, новоявленные самозванцы-псевдонимщики. Но и в XVII, и в XX итоги одинаковы: полный распад государства Российского. Рухнула Русь – опора Православия, Третий Рим, каковым мыслили русские люди свое царство-государство. А если Четвертому Риму не бывать, то, стало быть, настают "последние времена", о которых и говорил пушкинский Варлаам, сиречь царство антихристово и конец света.
А теперь поговорим о том, в какую точку бьют "вдохновители и организаторы" смуты. Удар наносится по узловому моменту духовной консолидации русского общества ("точке сборки системы", как сказали бы современные "политологи"): царь Борис объявлен цареубийцей (справедливо или нет – другой вопрос), т.е. рушащим установленный Богом порядок. Подчиняться такому царю – великий грех, пагуба души, ибо такой царь вводит подданных в великий грех.
Страшно идти против Русского царевича – "грех велий", но он ведет с собой на Русь полки еретиков – "воинов антихристовых".
Страшно и защищать царя-"святоубивца" — "велий грех", но долг требует защищать Русь от иноземцев. И не просто от иноземцев, а от еретиков, "антихристов"! Защищать веру православную.
Вот такая напасть!
Если царь есть "гарант" правды и христианского закона, то подмененный (ложный) царь есть царь не от Бога, а от сатаны, и царствие его есть царствие сатанинское. А что значит служить сатане? Это означает пагубу души. Посему вопрос о подлинности царя – это не формальный, а самый значимый вопрос, определяющий исход дела спасения. Но какое же спасение может быть при службе, пусть и невольной, основанной на искреннем заблуждении, антихристу, самому дьяволу?
"Сбились мы. Что делать нам!
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам".
Что делать православным?
Нет "лучшего" решения. Оба катастрофичны.
Собственно, в самом термине "самодержавие" заложено признание власти Самого, т.е. Господа, над государством. Оттого-то провоцирование сомнений в истинности самодержца и влечет за собой кровавую смуту. Иначе говоря, общественная катастрофа, непременно разражающаяся в результате подрыва царской власти, показывает и доказывает, что самодержец есть ключевая фигура в "системе взаимодействия" горнего и дольнего миров. Недаром же сказано: "Не прикасайтеся помазанным моим" (Пс. 104:15).
Пушкинский взгляд возвращает нас к источнику этих бед и пониманию их первопричины, заключенной в отказе от христианских ценностей (с недавних пор снисходительно именуемых у нас "традиционными") и фактической подмене их, что и ведет к катастрофическим последствиям в жизни человека, народа и государства.
Смута наступает, когда понятия Отечества и Царя, доселе нераздельные, расходятся. Триада "Вера-Царь-Отечество" дает трещину, государство распадается и гибнет. Так начинается народная трагедия.
В советское время нас учили, что главным героем "Бориса Годунова" является народ – носитель высшего нравственного чувства. Но так ли это у Пушкина?
Народ – понятие ведомое и равно как и отдельный человек может пребывать в различных состояниях.
Он впадает в безумие и беснуется (монолог Бориса), он впадает в прелесть, обманываясь мечтой о царевиче и, как итог, становится … цареубийцей. "Вязать Борисова щенка!" – кричит с амвона "агитатор", и народ, согласно пушкинской ремарке, несется толпою: "Вязать! Топить! Да здравствует Димитрий! Да гибнет род Бориса Годунова!"
Впрочем, это уже не народ. Это – толпа, качественно иное состояние людей. Одержимых, впавших в прелесть, беснующихся. Осознание содеянного все же приходит, но с опозданием. Но что сделано, то сделано. Теперь народ такой же цареубийца, пусть и символический, как и проклинаемый им Борис Годунов.
Но когда человек и народ остается особенно податлив к прелести, насылаемым врагом рода человеческого и дьявольской прелести? Тогда, когда в человеке и народе оскудевает вера и нарушаются Христовы заповеди. И тогда сатана по попущению Господнему начинает играть человеком, а провоцирование сомнений в истинности самодержца и влечет за собой кровавую смуту. Иначе говоря, общественная катастрофа, непременно разражающаяся в результате подрыва царской власти, показывает и доказывает, что самодержец есть ключевая фигура в "системе взаимодействия" горнего и дольнего миров. Недаром же сказано: "Не прикасайтеся помазанным моим" (Пс. 104:15).
Пушкинский взгляд возвращает нас к источнику этих бед и пониманию их первопричины, заключенной в отказе от христианских ценностей (с недавних пор стыдливо именуемых у нас "традиционными") и фактической подмене их, что и ведет к катастрофическим последствиям в жизни человека, народа и государства.
Скажем прямо: историки пушкинских и последующих времен оказывались далеко позади Пушкина, несмотря на то, что поэт не писал о Смутном времени диссертацию и не имел ни ученой степени, ни ученого звания. Однако именно он обнажил суть Смуты и показал ее феноменологию, выразив в художественной форме, само существо события, вывел ее формулу.
Пушкин оказался не только великим поэтом, но и великим и честнейшим историком, рассказавшим нам о главной угрозе Отечеству и помогающим нам всей силой своего таланта осознать главные ценности, из которых Россия сложилась как государство и без которых для нее нет будущего.
Когда отвергается небесный порядок, страна погружается в Смуту. Мы не знаем, что именно происходит в мире горнем, тонком, зато видим результаты человеческого своеволия на земле. Это и показывает Пушкин в "Борисе Годунове".
Пушкин детально проанализировал для нас внутренние мотивы, приведшие народ к мятежу и братоубийственной войне, и показал, что в критические моменты истории народ по сути оказывается перед одним и тем же выбором: жить по заповедям или прельститься мятежным словом.
Пророчество Пушкина проявилось в его способности подняться над либерально-революционными идеями, господствовавшими уже с конца XVIII-го века и открыть читателям и потомкам глубокий и обоснованный взгляд на ключевое событие в истории русского государства.
Гений Пушкина сотворил поистине вневременное произведение, т.е. актуальное, живое и значимое во все времена.
https://pushkinskij-dom.livejournal.com/460262.html