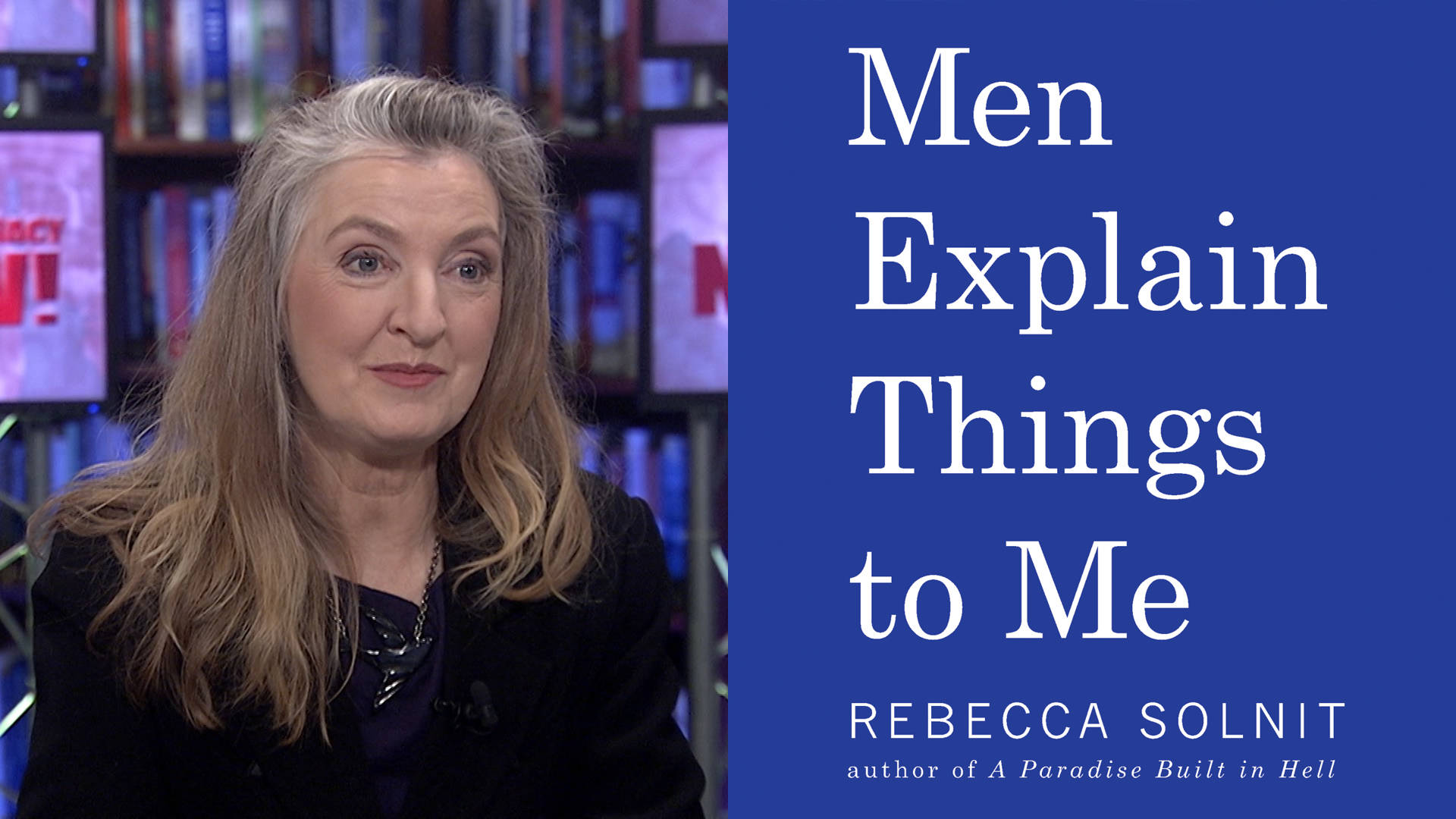Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.
Исходная информация - http://conjure.livejournal.com/.
Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss/??96aea1e0, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.
По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.
[Обновить трансляцию]
Что такое мужяснения? |
Пару месяцев назад я опубликовала две статьи — об Артуре Шопенгауэре и небольшое эссе с размышлениями по поводу несуществующих различий при оценке качества женского и мужского искусства. Комментарии пришлось закрыть, потому что после нескольких практически идентичных мужских пояснений о меньшем весе женского мозга по сравнению с мужским и якобы вытекающей из этого женской бесполезности для общества, стало скучно предлагать оценить вклад слонов в мировой фонд интеллекта.
Забавно, что примерно в это же время я столкнулась с таким понятием как mansplaining = man + explaining. Назовём его на русском мужяснением от мужчина + пояснение.
Мужяснение — это якобы когда мужчины начинают пояснять, нередко более осведомлённой женщине, как и что устроено, будучи уверенными в превосходстве по гендерному признаку. Женщины для таких мужчин всегда лишь школьницы с парой свободных ушей.
Впервые это слово как будто появилось в 2008 году в эссе американской публицистки и автора ряда книг Ребекки Солнит (амер. Rebecca Solnit, род. 1961) «Men Explain Things to Me; Facts Didn’t Get in Their Way». Можно перевести как «Мужчины поучают меня без оглядки на факты». {1} Позже несколько эссе, посвящённых феминистским темам, переросли в книгу с одноимённым названием.
Однако сама автор в послесловии к эссе в книге, которое появилось уже в переиздании, протестует и утверждает, что никогда не была автором этого поверхностного понятия. И я понимаю, почему она упирается.
В эссе 2008 года автор описала один из анекдотичных случаев, как некий пожилой состоятельный мужчина на лыжном курорте поучал её, что ей непременно стоит изучить книгу об отце хронофотографии Эдварде Мейбридже. При этом мужчина только в конце своего монолога понял, что всё это время говорит с автором упоминаемой им книги. Книгу он, разумеется, не читал — ограничился аннотацией в известной газете. С этой истории начинается и одноёменная книга Ребекки Солнит, которую я упоминаю выше. {2} Видимо люди, которые не прошли в издании дальше этого коротенького эссе, подозревают, что вся книга написана дерзкой хохочущей юмористкой. Но не тут-то было.

Название здесь — простой маркетинговый ход, который должен был заставить людей купить как будто серьёзную книгу под вывеской юмора. Меня вот заставил. Если бы книга называлась «Размышления феминистки о том, в какой ж*е находится наш мир», я бы потратила эти деньги на очередную кисточку из колонка — честно.
Вы уже наверняка поняли, что «Мужчины поучают меня без оглядки на факты» несколько разочаровала, но и озадачила. Разочаровала, потому что написана человеком без какого либо чувства юмора и к теме мужяснений, которая меня собственно интересовала по ряду причин, никакого отношения не имеет. Здесь более правильный адрес.
Озадачила, потому что при всей своей бессвязности заставила переосмыслить какие-то вещи, задуматься. Хотя и написана в американско-патетичной манере.
В книге много грустного и душещипательного о насилии над женщинами с примерами из криминальных новостей разных стран, беспринципных приёмах ведения войны через изнасилования, как в Югославии, статистики избиений и убийств в стенах собственного дома, но и интересные размышления о природе патриархата, однополых браках и много мутного о Вульф и её депрессии патамушто. По мнению Солнит, именно невинные поучения, неприятие или унижения женщин в обществе являются тревожными колокольчиками того, что людей женского пола за людей в общем-то до сих пор не считают. Даже учитывая то, что вменяемых мужчин тоже хватает. Тревожная мысль, конечно.
После прочтения первых эссе книги у меня создалось впечатление, что мы, женщины, вообще ни о чём другом не думаем, как о защите от насильников и убийц. Прямо вся жизнь вокруг этого строится. Как же страшно нам женщинам жить!
Поёрничала, однако всё-таки вспомнила, как действительно боялась в студенчестве выходить в тёмное время суток одна на улицу. И сейчас не хожу и никому не советую. Во время учёбы, а зимой всегда возвращалась из университета уже затемно, я носила в кармане маленький флакон синего лака для волос, которым красила чёлку подростком в школе — на перцовый баллончик не было денег. Казалось, что если что — я успею брызнуть преступнику лаком в глаза и убежать. Но к счастью моя жизнь не выстроена вокруг страха. Он остался, но скорее из серии «мы потомки тех, кто умел быстро бегать при малейшем подозрительном шорохе в кустах» и быстро набирать телефон полиции.
Ребекка рассказывает в книге, что во времена её студенчества на территории кампуса произошло несколько изнасилований, и администрация вуза отреагировала запретом выхода девушек в тёмное время суток на улицу. Тогда кто-то из шутников повесил плакат с надписью «А может пусть парни перестанут выходить в тёмное время суток на территорию кампуса?»
По словам Ребекки, мужчины были возмущены и шокированы до глубины души этим плакатом, что, мол, из-за какого-то мерзкого насильника их могут урезать в их правах и заставить сидеть взаперти. А что девушек заперли — ну так им же не привыкать. {2}
Напоминает мне историю с одной моей знакомой. Когда у меня родился неспокойный и страдающий нескончаемой бессонницей мальчик-крикун, у неё примерно в это же время родилась мирно сопящая девочка, которую надо было к тому же будить, чтобы покормить, когда мой мужичок постоянно чего-то хотел и настойчиво требовал. Знакомой казалось, что это потому, что я явно плохая мать и что-то делаю не так. Следом у неё родился сын и когда мой всё ещё не спал, и я рыдала от хронического недосыпа и элементарного изнеможения, знакомая пожаловалась, что сил её больше нет, и ей так плохо, что она готова выброситься от бессилия из окна. Я испугалась, посочувствовала и сказала, мол, добро пожаловать в клуб — ты не одна такая, пройдёт, ну или как минимум станет чуточку легче — надо просто запастись терпением. На что получила в ответ: «Тебе хорошо, ты уже привычная, а мне знаешь как тяжело!» Занавес, как говорится.
Итак, мужяснением в книге Солнит пахнет только слегка — в истории с Мейбриджем. А так — книга из серии «полезно знать для общего развития».
У меня тоже были случаи, когда мне присылали мои же статьи и поучали, ссылаясь вообще-то на мои собственные слова, как надо правильно делать то и это. Но среди поучающих были и мужчины, и женщины. Поэтому речь здесь скорее о феномене повальной поверхностности, когда у людей нет ни времени, ни желания на глубокие раскопки, но при этом хочется выглядеть осведомлёнными и знающими. Быстро что-то погуглили, пробежались по Википедии и «привет Шишкину». В таких случаях мне скорее неловко за «пояснителя».

И да, у меня уже было достаточно ситуаций в жизни, когда мне говорили, что я как женщина — существо слишком эмоциональное, истеричное, хрупкое, слабое, малокомпетентное и так далее в том же ключе глупая_ты_баба.
Но использовали подобные узколобые гендерные аргументы и мужчины, и женщины, особенно когда прикопаться больше не к чему было.
Но видимо придётся взять термин мужяснения на заметку. Есть подозрение, что ещё ни раз пригодится. Особенно если мозги вынимать и взвешивать начнём ;-)
P.S. И кстати о птичках — с Днём знаний, дорогие читатели!
______________________________
Источники
{1} "Mansplaining" in Gem"alden: Erkl"ar' mir nicht meine Welt!
{2} Rebecca Solnit, "Wenn M"anner mir die Welt erkl"aren"
|
Метки: книги и авторы мужчины и женщины мысли |
Откуда взялась богема |
Слово «богема» появилось в обиходе с выходом романа Анри Мюрже (фр. Henri Murger, 1822-1861) «Сцены из жизни богемы» (фр. Sc`enes de la vie de boh`eme, 1847–49)[1].
С его подачи некогда негативное слово boh`eme, которым называли цыганей с их кочевым образом жизни в бедности и гонениях, получило весьма радужную окраску. Идея, что якобы нельзя одновременно служить Богу и маммоне нашла в сердцах парижской творческой молодёжи большой отклик.

Герои романа Анри Мюрже представлены истинными служителями искусства, которые вопреки нищете раз и навсегда сделали свой выбор в пользу творчества и любви. На одной чаше весов были благополучие и буржуазный образ жизни, который они якобы отвергали, а на другой, как будто, гений творца, который мог произрастать только в нищете и свободе от материального мира.
— Сударь! — в ужасе вскричал папаша Дюран (швейцар), указывая хозяину на мольберт. — Он художник!
— Живописец! Так я и знал! — воскликнул господин Бернар (хозяин квартиры), и волосы его парика поднялись от ужаса. — Художник!!! Так вы не навели справок об этом молодом человеке? — обратился он к швейцару. — Так вы не знали, чем он занимается?

Забавно, что когда появилось такое понятие как «богема» по отношению к малоимущей творческой прослойке населения, цены на пигменты, масла, художественные инструменты, бумагу, холсты и мольберты были настолько высокими, впрочем, как и сейчас, что их себе мог позволить только по-настоящему состоятельный человек. Сомневаюсь, что как минимум богемные художники действительно были нищими.
Во времена Мюрже основными причинами покинуть отчий дом и пуститься в богемное плавание была жажда свободы и приключений без чуткого надзора консервативных родительских глаз. Бунтарных «богемцев» XIX века стесняли буржуазные нормы поведения их родителей, в то время как жизнь в буйных эротичных вечеринках считалась по-настоящему живой и интересной.
Выходило, что бунтарство у богемной тусовки XIX века было по сути дела напускное и нормой жизни даже тогда не являлось. Никто из богемщиков не помышлял о том, что им в какой-то момент может стать не на что жить. Потому как большинство из них были выходцами из довольно состоятельных семей, например, тот же граф Анри Тулуз-Лотрек (фр. Henri comte de Toulouse-Lautrec; 1864-1901).

Или вы слышали когда-нибудь о буйных выходках трудяги Клода Моне (фр. Oscar-Claude Monet; 1840-1926), который был потомком разорившегося бакалейщика? Его жизнь и благосостояние напрямую зависели от количества проданных им картин. Моне настолько был озабочен своей работой и имиджем, что, вопреки целому ряду жизненных невзгод, настолько преуспел в накоплении довольно солидного капитала, что даже на пленэрные зарисовки на реке выходил на лодке с мадам Моне в накрахмаленной белой рубашке.
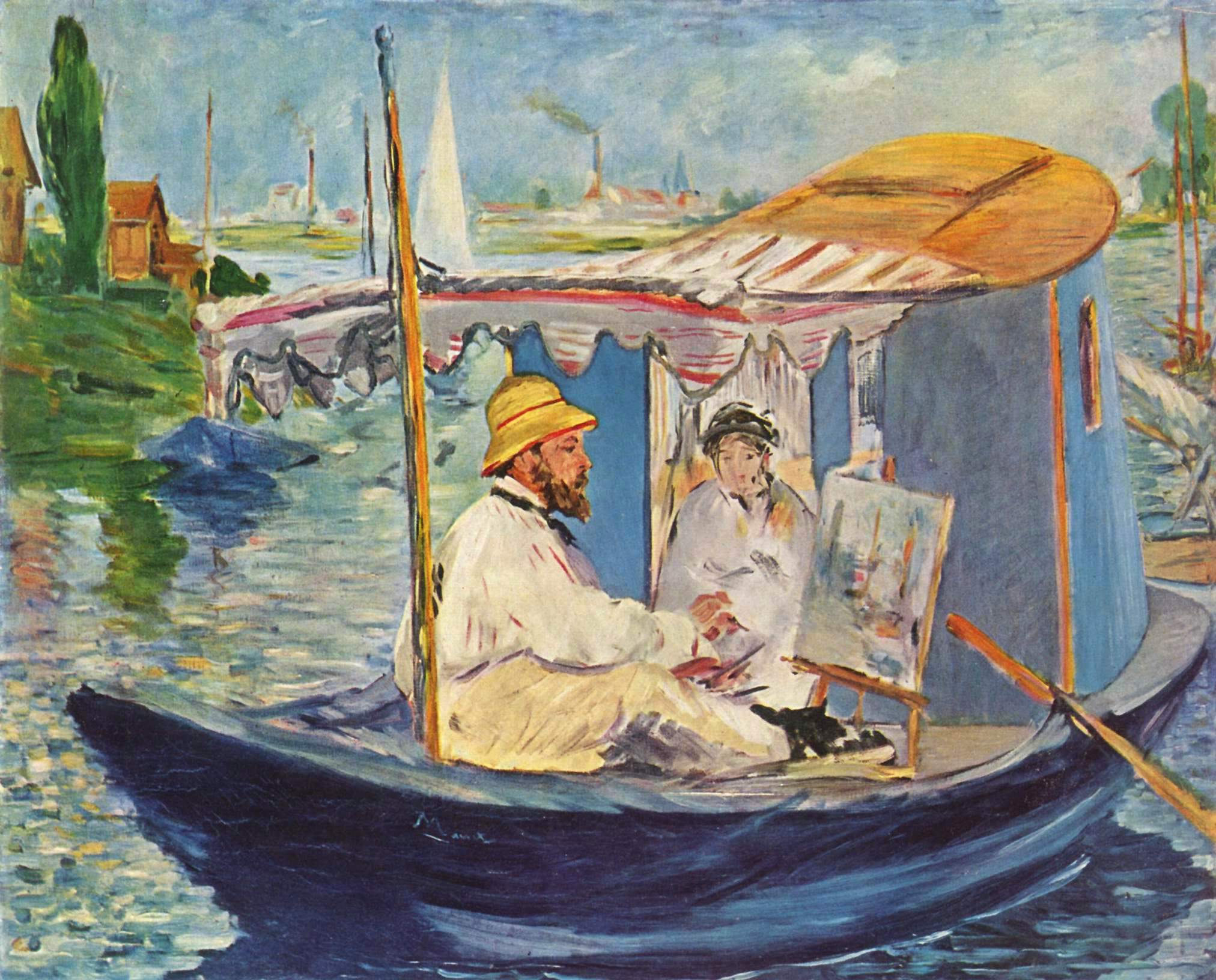
Зато книги о муках великих богемных художников выходят до наших дней с завидным постоянством и продаются большими тиражами. Ведь в молодые годы даже Моне в порыве отчаяния как будто чуть не покончил жизнь самоубийством – настолько плачевным было его положение. Но если вы присмотритесь к биографии мастера, то быстро заметите, что в молодые годы жизни с Камиллой, художник просто не умел грамотно распоряжаться деньгами. Как только в доме молодой четы Моне появлялись деньги, они обрастали предметами роскоши, прислугой, садовниками и часто наведывающимися друзьями. Через некоторое время семья снова оказывалась на мели.

Хаотичный образ жизни отличал и другого великого художника – Винсента ван Гога, мистификация судьбы которого продаёт куда больше принтов с вишнёвыми деревьями, чем если бы люди наконец-то поверили в правду о физиологическом наследственном заболевании художника и в то, что его в общем-то погубили последствия злоупотребления абсентом и беспорядочными половыми связями. Но увы. Это же скучно и не так увлекательно, как истории о сумасшествии и пьяных вечеринках.
В какой-то момент художник сам пришёл к выводу о том, что здоровый образ жизни куда больше способствует продуктивной работе. В письме своему брату Тео от 3 мая 1888 года, всего пару месяцев после того, как Винсент покинул в хмельном дурмане Париж, художник пишет: «Я был на верном пути получить инсульт, когда уезжал из Парижа. И после отъезда меня всё ещё прихватывало! Боже мой, насколько же я был подавлен, когда перестал так много пить и курить, и когда начал задумываться о своей жизни вместо того, чтобы попытаться забыться! Работа в окружении этой прекрасной природы дала мне моральную поддержку, но даже тогда мои силы иногда изменяли мне... И всё же если мы хотим жить и работать, нужно оставаться рассудительными и беречь своё здоровье. Холодная вода, свежий воздух, хорошая и простая еда, здоровый сон и никакого негатива.»[2] Золотые слова, если бы ещё Винсент остался им верен.

Взгляд снаружи и изнутри
Нашим современникам пришлось изрядно попотеть, чтобы на смену образа богемного художника, который пишет в пьяном дурмане, следом жжёт и режет свои картины и умирает не своей смертью, постепенно пришёл образ работяги, чьи труды должны хорошо оплачиваться. При этом даже сейчас ни одна другая сфера общественной жизни не соткана столь сильно из противоречий, как мир искусства. И хотя отношение к художнику с каждым днём становится чуточку лучше, в общественном сознании люди творческих профессий всё ещё лентяи, которые спят до обеда, живут в своих мечтах, творят для вечности и в хорошей оплате не нуждаются по определению.

Ведь хороший художник должен быть вечно голодным. А значит, в отличие от всех других, просто не существует как экономическая единица, нуждающаяся в признании и достойной оплате результатов своей деятельности.
К сожалению это представление укоренилось не только в людях снаружи, но и в самих художниках.
Например, с представлениями о романтике «богемной жизни» в сознание людей искусства вошли и представления о том, что нельзя одновременно быть талантливым и богатым. А значит сытый художник – плохой художник.
Если вас посещают такие саморазрушительные мысли, вспомните старика Пикассо с его женщинами и виллами [3] и дышите глубже.
И ни дай бог вы талантливый и целеустремлённый человек, которому не чужды ни радости семейной жизни, ни размеренный рабочий день.
А между тем у современного художника именно семья и искусство являются опорой его творчества, а не абсент, наркотики и выходящие из берегов вечеринки. И работать приходится с раннего утра до позднего вечера – без выходных и нормального человеческого отпуска колбаской на пляже. Потому что стало нечеловечески тяжело пробиться и зарабатывать именно искусством на жизнь. (Я не говорю сейчас о дизайне или об иллюстрации.) Художник должен быть человеком-оркестром: менеджером, пиарщиком, бухгалтером, актёром, продавцом и ещё каким-то образом творить так, чтобы все ахнули. Какой, простите, «абсент», когда работать нужно так, чтобы папа Карло нервно курил в углу.
Ниже фильм про моего любимчика — немецкого художника Нео Рауха, который уходит писать в мастерскую как на работу: по часам и с размеренным рабочим днём. При этом относится к числу самых успешных художников-современников, прекрасно выглядит и живёт, о боги, всю свою жизнь с одной единственной женщиной.
Что до разгульного образа жизни, который с такой лёгостью приписывали художникам ещё пару десятков лет назад, – естетсвенно, у каждого могут быть свои методы погружения в творческий транс. Но только именно алкоголь и наркотики в творческой среде – это уже скорее малоприятное исключение из правил. И жизнь в бедности, но свободе – вредящий художникам во всех отношениях миф.
И как же приятно осознавать, что сейчас уже есть целый ряд знаковых современных художников, которые беспощадно расправляются с отсталыми представлениями XIX века о богеме. Но об этом как-нибудь в другой раз.
[1] Справка из энциклопедии: de.wikipedia.org/wiki/Boh`eme
[2] Martin Bailey, «Vincent Van Gogh’s Provence», Nymphenburger, Мюнхен, 1992
[3] Экскурсия по вилле Пикассо
|
Метки: знаменитые люди art artists мои статьи вдохновение художнику на заметку |
Был ли Ян Вермеер художником? |
Если верить современникам и самому мастеру — нет. По официальным документам гильдии художников города Дельфт, в котором родился и умер Ян Вермеер (нидерл. Jan Vermeer van Delft; 1632—1675), художником он не был.

Как оказалось, по образованию Вермеер был ткачом каффы — плотного, но лёгкого материала, который так же называли фальшивым дамастом, потому что настоящий ткали из шёлка сразу с узорами, а каффу — однотонной, из смеси волокон, красили в различные цвета — в основном в красный, а потом уже поверх набивали или вышивали всевозможные узоры.[2]

В гильдии художников Дельфта Вермеер по собственному желанию записался как торговец картинами (нидер. Konstverkoper) и эксперт по живописи итальянского Возрождения. Уже в те времена Вермеер в присутствии нотариуса заверял цену и подлинность произведений искусства. Что, по мнению автора книги «Вермеер и его время»[1] Хайо Дюхтинга было совершенно нормальной вещью.

К середине 17 века в Нидерландах художников было настолько много, что по-настоящему зарабатывать искусством на жизнь могли только единицы.
Казалось, у Вермеера всё как будто сходилось: получил хорошее художественное образование от отца-художника и как минимум двух мастеров Дельфтской школы живописи, картины уходили за довольно большие деньги, он был одним из самых уважаемых людей города и даже периодически возглавлял местную гильдию художников «Lukasgilde». Однако жить на вырученные за живопись деньги было нереально.

Чтобы прокормить себя, жену Катарину и футбольную команду Вермееров из 11 детей, художник дополнительно сдавал в аренду свои земели и получал выручку от пивной «Mechelen», которую унаследовал от отца. За свою короткую жизнь он создал лишь около 37 картин — примерно 2 в год, потому что, повторюсь, художником он сам себя не считал.

Вермеера открыли лишь в конце 19 века. Импрессионисты были поражены чистотой цветов, которые использовал Вермеер, и как он использовал свет в своих работах. Оказалось, что Вермеер был на целых 200 лет впереди остальных художников. Он, как и позже импрессионисты, не использовал для изображения теней оттенки серого. Поэтому свет в его работах максимально похож на пленэрный.

Своей популярность целых 200 лет спустя Вермеер обязан французскому искусствоведу и художественному критику Теофилу Торе (фр. Etienne-Joseph-Th'eophile Thor'e, 1807-1869), известному так же под именем Уильям Бюргер (William B"urger). Этот человек посвятил большую часть своей жизни тому, чтобы собрать забытые произведения Вермеера, описать и каталогизировать.

К счастью Вермееру присвоили статус одного из величайших живописцев Золотого века нидерландского искусства, хотя в 17 веке его упоминали в списке художников скорее как пометку на полях.
Сейчас уже ни у кого не возникает даже тени сомнения в том, что Ян Вермеер – художник с большой буквы!

-------------
Источники
[1] Hajo D"uchting, «Jan Vermeer und seine Zeit», 11. 03.2011 издательство Belser, ISBN-13: 978-3763025831
[2] Каффа
|
Метки: истории знаменитые люди art artists Нидерланды художнику на заметку |
Сlose-up: Ковры на столах в работах художников |
Close-up или «клоуз-ап» – термин для изображений, максимально приближенных к зрителю. В этой рубрике я рассказываю об интересных деталях в произведениях искусства.
Обращали ли вы уже внимание на то, что в работах художников Золотого века в Нидерландах можно довольно часто увидеть столы, покрытые самыми разнообразными коврами? Если коврам на стенах ещё можно придумать какое-то логическое объяснение, то ковры на столах — озадачивают. Ведь по идее это неудобно — если каждый раз убирать и застилать заново перед каждой трапезой — и негигиенично — если обедать прямо на ковре. И если такая традиция «скатерных» ковров правда существовала, почему ковры с различными узорами стали называть по именам художников? Может это они, люди с кистью, придумали такую фишку для красоты композиции, а на самом деле ничего подобного не было?

Символическое значение ковра
Оказалось, что о символике ковров нет таких же подробных сведений, как, например, о лютне — символе союза и сексуальной связи в жанровой живописи, или черепе — символе бренности и смерти в работах Ванитас. Существуют доказательства того, что некоторые ковры действительно были просто придуманы изобретательными художниками[1] и использовались в чисто композиционных целях. Однако существует и доказательство того, что ковры достаточно продолжительное время были символом благосостояния их владельца.
Даже сейчас купить настоящего «перса» стоит каких-то нереальных денег. По ним не только ходить страшно, но даже дышать. Ориентальный турецкий или персидский ковёр ручной работы в конце 16, начале 17 века ценился настолько, что его использовали и в жизни, и в живописи как символ огромной власти и богатства.
Порою только королевские семьи могли себе позволить редкие персидские ковры. Поэтому часто дорогими коврами застилали троны, а особ королевских домов изображали стоящими прямо на коврах ручной работы, которые ценились больше, чем золото.
На репродукции ниже Генрих VIII стоит на так называемом ковре Гольбейна по имени художника Ганса Гольбейна младшего (нем. Hans Holbein der J"ungere, 1497/1498 - 1543).

Многие состоятельные семьи Нидерландов в эпоху Золотого века настаивали на том, чтобы при создании портрета семьи художник изображал интерьер его дома очень близко к оригиналу. Поэтому всё-таки ковры на столах действительно существовали. Но почему именно на столах, а не на стенах, кроватях или сундуках?
Ориентальная традиция
В книге Хайо Дюхтинга «Вермеер и его эпоха» (Jan Vermeer und seine Zeit)[2] есть упоминание того, что персидские ковры стоили каких-то совершенно нереальных денег. Потому что доставляли их на перекладных из самых отдалённых уголков Османской империи. Присутствие настоящего «перса» или «турка» в доме означало неслыханное богатство его владельца. Это были ковры тончайшей работы с узорами, присущими лишь одной определённой группе ориентальных ткачей. [7]

Существуют свидетельства того, что ещё в Венеции эпохи раннего Возрождения во время торжеств на главной площади города — площади Святого Марка — было принято вывешивать дорогостоящие ориентальные ковры из окон домов. Это придавало празднику особенное убранство и атмосферу торжества.
Традиция сервировки восточного стола тоже сыграла большую роль. Когда в Европе уже столовались — сидели за столом и пользововались различными столовыми (а не ковровыми) приборами, на Востоке было принято принимать еду руками и не более двух раз в день — поздним утром до обеда и ранним вечером перед заходом солнца. Вся семья собиралась на трапезу — только султан ел отдельно от своего гарема.

Еду принимали прямо в главной комнате дома, где обычно обитали все домашние. Такой вещи, как столовая комната или «поедим на кухне», разумеется, не было. Семья усаживалась есть прямо на пол, устланный ковром. Подушки и ковры позволяли удобно разместиться вокруг блюд. Кушанья сервировали на больших подносах из дерева или металла, которые в свою очередь сервировались на специальных ножках-подставках (у тех, кто мог себе позволить). В богатых семьях еду подавали в чашах из драгоценных металлов. Султаны ели из золотых, серебряных или китайских фарфоровых чаш. И все равно всё это происходило прямо на коврах.[3]

Нидерландцы, которые вели бойкую торговлю с Османской империей, переняли эту традицию на свой лад и стали есть с ковра в привычной им обстановке — за столом.
Наука ковроведения
Марию с Христом-младенцем как царственную особу (Царица небесная, лат. Regina Coeli) так же было принято изображать на редкой красоты и качества турецких коврах. Но может ли так быть, что христианка изображалась сидя на исламской роскоши? Существует версия, что многие ковры, изображённые на религиозных полотнах, попадали в Европу из христианской Армении. Мол, никакого противоречия. Однако из-за того, что наука ковроведения сравнительно молодая, по целому ряду ветвей всё ещё идёт проверка теорий со всевозможными корректурами. Скорее всего ковры и здесь — признак царственных особ.
Почему ковры называют по именам художников?
Собственно, почему многие ковры в Европе до сих пор называют по именам художников: Кривелли, Гольбейн, Лотто? Потому что вплоть до 19 века никто не интересовался историей и возникновением невероятного количества ориентальных ковров.[1] Были утеряны не только сами экземпляры, традиция узоров различных изделий, но и технологии изготовления той или иной школы восточного искусства ковра. А когда стали разбираться, на помощь исследователям пришли именно художники, которые работали в сверхреалистичной манере изображения.

Первую классификацию ориентальных ковров составляли при помощи картин — распознавали узоры и давали им автоматически имя автора живописного произведения. Позже, правда, выяснилось, что, к примеру, ушакские ковры встречаются и у других художников, но привычка называть ковры с золотыми звёздами по краям именно коврами Гольбейна так и сохранилась.
Юлиус Лессинг (нем.Julius Lessing, 1843-1908) - немецкий искусствовед и первый директор музея ремесла в Берлине — Kunstgewerbemuseum Berlin — первым предложил классифицировать ковры с помощью живописи и иллюстрации. А всё потому, что оригинальные ковры просто выбрасывали по старости — никто не видел в запыленных и протёртых тряпках какой-то ценности. По картинам старых мастеров Лесинг определил не только различные узоры, но и возможный период появления ковров в Европе.
Дело было примерно так: брали картину знаменитого мастера, анализировали узоры изображённых ковров, ворс, мягкость (спасибо нарисованным складкам), частоту появления в работах самого мастера и его современников, а потом для удобства и классификации во времени давали ковру имя художника. Благодаря подобному сравнительному анализу так же выяснилось, что первый налаженный импорт восточных ковров принял какие-то очертания лишь только в 15 веке. То есть ковры были известны и раньше, но бойкой торговли, как в 17 веке, между Европой и Османской империей ещё не было.
Перемена участи?
К середине 17 века статусность ориентальных ковров, как и страстное желание обладать ими, постепенно сошли на нет. Случилось это потому, что в моду вошли другие ковры — французских мануфактур [6]. Они постепенно вытеснили ориентальные ковры и стали признаком вкуса и роскоши у европейской знати.
К тому же предпринимательные нидерландцы наладили в своё время торговые пути с Востоком настолько, что стали завозить с хорошим и весьма низкокачественный товар. Существуют даже свидетельства различных восточных мастерских, что для того, чтобы удовлетворить спрос Европы, Восток стал производить очень грубые, быстрого изготовления ковры. К тому же некоторые ковровые изделия стали изготавливать в самих Нидерландах — имитировать восточные узоры менее трудоёмкими методами. Спрос рождает предложение. В какой-то час рынок просто перенасытился, в том числе и товарами низкого качества. Всё, как сейчас.
Символ грехопадения?
Итак, судя по всему гордиться ориентальными коврами было модно только на протяжении довольно короткого времени. Ситуация примерно такая же, как с тюльпанами. До краха тюльпанной биржи в Алкмаре в 1637 году тюльпаны с языками пламени на лепестках были символом богатства настолько, что состоятельные нидерландские женщины украшали себя ими вместо золота и драгоценностей. Но сразу после Чёрной пятницы тюльпаны стали символом глупости, алчности, тщеславия и расточительности.
А что, если ковры в работах мастеров начала века означают нечто совсем иное, чем те же ковры в середине или конце века? Давайте присмотримся.

Можно подумать, что хозяйка дома в «Спящей девушке» — а она очень хорошо одета для служанки — устала так, что заснула за столом. Но ковёр, как будто беспорядочно разбросанные предметы и опрокинутый бокал говорят совсем о другом. В строгой Голландии 17 века хозяйка очага должна была поддерживать постоянный порядок и чистоту. Картина — словно немой укор. Напоминание женщине — хранительнице очага — о её обязанностях. Леность считалась одним из худших пороков.[20] Путешественники того времени часто рассказывали о том, что нидерландские дома просто блестели от чистоты. Но почему это вдруг дорогой ковёр мог неожиданно стать символом греха?
Ковры Вермеера
Ян Вермеер, который известен всем как прекрасный художник, был ещё и ткачом каффы [5] — материала для обивок диванов и кресел. Он прекрасно разбирался в технологии изготовления различных тканей и их ценности.
У Вермеера было 11 детей и весьма нестабильное финансовое положение. [2] Предположительно именно поэтому в его хозяйстве водился дешёвый ковёр, который всплывает в целом ряде картин художника. Ведь некогда дорогостоящие восточные ковры настолько обесценились и в восприятии, что Вермеер использует их изображение как символ праздности и греха.

Сцены из жизни борделя были довольно излюбленными в жанровой нидерландской живописи. Их называли bordeeltjes. Популярностью они пользовались совсем не из-за пикантности ситуаций, а как призыв к более моральному поведению — в качестве назидания.
Добрую часть картины «У сводницы» занимает именно ковёр достаточно грубой, по мнению экспертов, работы. Доступный по цене, он сравнивается с девушкой, которую тоже покупают как доступную. На этой картине вы видите так называемый «медальонный ушак» — ковёр с узорами из медальонов и сетки из флоральных элементов из турецкого города Ушак (Usak).
Изображение этого ушакского ковра на картине Вермеера считается одним из самых знаменитых. Этот же ковёр можно встерить как символ предостережения в других картинах художника.
Например, «Урок музыки». Ковёр занимает большую часть переднего плана картины. За ним находится музыкальный инструмент — в случае Вермеера символ страсти и желания плотских утех, а на заднем плане учитель и ученица. Картина, что бы вы там не подумали, предостерегает от грехопадения.

Тот же самый «медальонный ушак» изображён и на картине «Девушка, читающая письмо у открытого окна», фрагмент которой я демонстрирую в самом начале поста. Скрытая эротичность сцены считывается не только благодаря чаше с фруктами, из которой выкатываются символы страсти и грехопадения — персики и яблоки, но и да-да, ковром. Открытое окно трактуется как желание вырваться из замкнутого помещения. Падение очень близко, женщина явно должна быть начеку.

Многие всё-таки склоняются к тому, чтобы видеть в работах Вермеера только то, что изображено — без эмблематических толкований. Как поступать вам — толковать или нет — ваш личный выбор.
На сегодняшний день не сохранилось ни одного экземпляра ушакских ковров. Все были бесследно утеряны. Но благодаря нидерландским художникам на «медальонных ушаков» можно всё ещё полюбоваться.
Современная традиция застилать столы коврами
Традиция застилать столы коврами сохранилась в Нидерландах до наших дней. Когда я увидела своими глазами ковёр на столе в одном из ресторанов в Нидерландах, сначала не могла понять, в какой ящик сознания уложить увиденное. Ведь одно дело, когда видишь красивый, детально прописанный ковёр на столе в работах нидерландского мастера, которым беспредельно восхищаешься. И совсем другое дело, когда понимаешь, что на этом едят.
Подобные ковровые покрытия для столов можно купить в нидерландских мебельных магазинах.
В гугле эти ковры на столы можно найти по ключевым словам на нидерландском 'Smyrna tafelkleed', 'Perzisch tafelkleed', что в общем-то просто означает «персидская скатерть». Нужно, правда, признаться, что у этих ковров действительно скатерное качество — они тонкие, мягкие, зачастую с напечанным узором и по достаточно доступной цене. Это уже далеко не те ковры-тебризы [4], которыми из соображений богатства и статусности застилали столы или позировали на их фоне. И даже не те более грубые и дешёвые ковры, которые Вермеер использовал как символ грехопадения. То, что используется сейчас — доступная по цене дань традиции.
Теперь вы знаете, что те или иные ковры означают в картинах и почему. Смотрите внимательно на ковры, на дату создания работы и радостно отмечайте про себя, что вы знаете о работе нечто, что ускользает от простого обывателя ;-)
-----------------------------
Источники
[1] Orientteppiche in der Renaissancemalerei
[2] Jan Vermeer und seine Zeit
[3] Die Tischkultur der Osmanen
[4] Ковры «Тебриз»
[5] Caffa (Gewebe)
[6] Savonnerie Manufaktur
[7] Orientteppich
Более подробная и разносторонняя версия статьи опубликована впервые в моём журнале несколько лет назад и находится по ссылке.
|
Метки: истории знаменитые люди art artists Нидерланды удивительное рядом мои статьи сlose-up |
Скажи нет чёрной риторике |
|
Метки: психология помоги себе сам правила хорошего тона мои статьи этика |
Интересные факты о дизайне: Фирменный шрифт |
Каждая уважающая себя компания или организация рано или поздно сталкивается с проблемой единого фирменного стиля. От того, насколько быстро потенциальный клиент или потребитель распознаёт ту или иную марку, зависят порою не только объёмы продаж выпускаемых продуктов, но и положительные эмоции, способствующие более выгодному позиционированию марки на рынке и, как следствие, лучшим продажам.
 YouTube" title="Рекламная кампания Кока-Колы об утилизации пластика для их бутылок. "Coca-Cola is pushing a big sustainability message in its latest marketing campaign." Image / YouTube" />
YouTube" title="Рекламная кампания Кока-Колы об утилизации пластика для их бутылок. "Coca-Cola is pushing a big sustainability message in its latest marketing campaign." Image / YouTube" />
К сожалению, многие заказчики упускают из вида, что частью фирменного стиля, способствующего формированию восприятия целого бренда, является шрифт: выбранная гарнитура, размер, соответствие продукту и многое другое.
Для того, чтобы стиль компании был действительно фирменным и единственным в своём роде, следует озадачиться разработкой индивидуального шрифта. Бренды должны «говорить» на своём индивидуальном языке. А шрифт, как сказал известный немецкий типограф Эрик Шпикерман (нем. Eric Spikermann, *1947), — это визуальный язык. {1}
Если использовать банальный и избитый шрифт, сам бренд и его продукция или аудиовизуальные материалы станут банальными и даже незаметными.
Чтобы избежать банальности и незаметности, около 1985 года компания Mercedes обратилась за дизайном фирменного стиля, который включал в себя и разработку корпоративного шрифта, к известному дизайнеру и типографу Курту Вайдеману (нем. Kurt Weidemann, 1922-2011). Работа продлилась около 4х лет.

Если даже такой концерн как Mercedes на протяжении порядка 100 лет не боится перемен и неустанно работает над улучшением не только своей продукции, но маркетинговых стратегий, к которым относится и единый, последовательный фирменный стиль, чем ваша компания хуже?

Эрик Шпикерман в своей книге «О шрифте» {1} говорит, что раньше проектировать или переделывать шрифт было дорого и затруднительно. Теперь же, в эпоху цифровых технологий, подобный шрифт можно заказать у любого дизайнера шрифтов — типографа.
По Шпикерману:
Дизайнеры шрифтов снабдят вас и одним начертанием для конкретного продукта, и большой системой для всех нужд.
Курт Вайдеман создал для компании Mercedes целую шрифтовую семью Corporate A-S-E. {2} Речь о следующих трёх гарнитурах шрифтов:
- Corporate A относится к шрифтовой семье Антиква — шрифт с засечками — и используется компанией для легковых автомобилей;
- Corporate S относится к семье Гротеск — шрифт без зесечек — и используется для грузовиков;
- Corporate E относится к семье Эгиптьен, он же брусковый шрифт, и используется для инженерных разработок.
На свет появились три фирменные гарнитуры шрифта, которые используются по сей день не только для продукции компании, но и для каталогов, рекламной продукции, для оформления автомобильных салонов, корреспонденции, а так же для визитных карточек служащих Mercedes по всему свету.
Подобную практику переняли и другие компании, телеканалы и издательские дома. Например, компания Bosch пользуется в рамках фирменного стиля и коммуникации с клиентами одноимённым шрифтом, разработанным немецким дизайнером и типографом Эриком Шпикерманом, которого я уже упоминала выше.
В личном разговоре в студии Эрика в Берлине он рассказал мне, что компания Bosch уже давно «отбила» расходы на создание своего фирменного шрифта, потому что продаёт его даже тем дизайнерским агентствам, которые оформляют печатную и цифровую продукцию для самой же Bosch. Без покупки лицензии дизайнерские или рекламные агентства не имеют права приступать к оформлению продукции. Вот так-то.
Всё тот же Шпикерман в сотрудничестве с коллегой Кристианом Швартцем разработал в 2005 году шрифт DB Type для немецкой железнодрожной компании Deutsche Bahn AG. Если вы будете путешествовать по Германии на поезде, то теперь будете знать, что надписи, которые вы видите из окна поезда на вокзалах, в фирменном журнале немецкой железнодорожной компании или на билетах, созданы Шпикерманом и его коллегой.
Индивидуальный шрифт, разработанный специально для вашей компании — это не роскошь, а необходимость. Не только возможность заявить о себе, но и организовать внутреннюю работу фирмы так, чтобы какой-нибудь новичок-дизайнер не оформил вашу продукцию самым ненавистным шрифтом Comic Sans :-)
----------------------
Источники
{1} Шпикерман, Э., О шрифте, издательство Манн, Иванов и Фербер, 2014г.
{2} Corporate A·S·E von Kurt Weidemann
|
Метки: знаменитые люди Германия design мои статьи |
Сlose-up: Причудливый прибор доктора Лероя |
|
Метки: art artists удивительное рядом мои статьи steampunk художнику на заметку |
Интересные факты о дизайне: Безумцы |
«Безумцы» (англ. Mad Men) — американский драматический телесериал 2007-2015 годов, снятый по замыслу американского режиссёра и сценариста Мэттью Вайнера (англ. Matthew Weiner, *1965) для телеканала American Movie Classics (AMC). [1]

Он получил рекордное количество наград и положительных откликов. Существует даже мнение, что телесериал стал культовым и отражает как нельзя лучше не только социальную жизнь вообще, но и быт дизайнеров в Америке 60-70х годов. Однако реальный человек — легенда дизайна Джордж Лоис (амер. George Lois, *1931), который якобы послужил прототипом главного героя — креативного директора Дона Дрейпера в вымышленном рекламном агентстве «Стерлинг-Купер», весьма недоволен авторами телесериала, и даже считает фильм оскорбительным и крайне лживым.
По фильму, престижное рекламное агентство «Стерлинг-Купер» расположено на элитной Мэдисон-авеню в Нью-Йорке со всеми вытекающими. Его опустошённые сотрудники в погоне за «длинным долларом» сами называют себя «безумцами», прожигают жизнь и становятся участниками целого ряда событий.

Легенда Джордж Лоис, которого Wall Sreet Journal назвал в своё время супергероем рекламного бизнеса, был настолько возмущён эксплуатацией своей фигуры в «Безумцах», что отреагировал весьма резко и бескомпромиссно на попытку дискредитации целого поколения талантливых, незаурядных дизайнеров.
Если вы пока не знаете, кто такой Лоис и не знакомы с его обложками для «Esquire», вот небольшой пример его рекламной дерзости в «особо крупных размерах». В своих рекламных кампаниях дизайнер иногда умышленно перегибал палку. В 1985 году молодой модельер Томми Хилфигер (англ. Tommy Hilfiger, *1951) был всего лишь владельцем небольшого магазинчика одежды в Манхеттене и особой популярностью не пользовался. Первые плакаты Лоиса для рекламной кампании Хилфигера были совершенно дерзко развешаны на Таймс-сквер (англ. Times Square) — на площади в центральной части Манхэттена в Нью-Йорке и провоцировали читателя возмутительным высказыванием:
Четыре великих американских дизайнера мужской одежды
R_ _ _ _ L _ _ _ _ _
P_ _ _ _ E _ _ _ _
C_ _ _ _ _ K _ _ _ _
T _ _ _ _ H _ _ _ _ _ _ _

Уже на следующий день весь город хотел знать, кто же, чёрт побери, этот «T _ _ _ _ H _ _ _ _ _ _ _» . Томми Хилфигер стал знаменитым буквально за ночь. Эта оригинальная Томми-кампания стала исполнившимся предсказанием, потому что на сегодняшний день бренд Tommy Hilfiger является одним из самых популярных во всём мире. У нас в семье есть даже шутка: «Поедем за новой одеждой? А что там даёт Томми, который нас одевает?» :-) Не знаю, как вам, а мне в своё время пришлось поискать, кто такой, чёрт побери этот P_ _ _ _ E _ _ _ _ на плакате Лоиса. Оказалось, что Perry Ellis.

Упомянутая выше рекламная кампания в исполнении Лоиса весьма разозлила модельеров, чьи имена словно эксплуатировали для поднятия имиджа неизвестной марки. Джордж Лоис рассказал, что пару месяцев после старта рекламной кампании для Хилфигера, он, Лоис, отправился поужинать с женой в ресторан. Там дизайнер встретил тогда уже знаменитого модельера Кельвина Кляйна (англ. Calvin Klein, *1942), на чьё имя был намёк в Томми-кампании и который был явно разозлён растущей популярностью какого-то там Хилфигера. Кляйн приблизился к Лоису и стал разъярённо размахивать пальцем перед лицом дизайнера: «Знаете ли Вы, что я потратил 20 лет жизни, чтобы оказаться там, где я сейчас нахожусь, и куда вы приписали никому неизвестного Хилфигера?» Лоис якобы вежливо взял Кляйна за палец, отодвинул от своего лица и ответил: «Дурак! Зачем терять 20 лет на то, что можно уладить за 20 дней?!» [2]
Ваше дело, верить или нет словам Лоиса — у меня такое чувство, что на старости лет он стал приукрашать свои слова и поступки. Например, в своей книге [2] он описывает, что попал солдатом на войну в Корею, потому что, возмущённый расистским оскорблением офицера, смачно отправил командующего сержанта туда, где и раки не зимуют. Или что приучил себя ещё в молодые годы спать всего 3 часа и называет идиотами всех, кто отводит отдыху больше 3х часов в сутки. Однако сложно отрицать, что Джордж Лоис прослыл человеком не только весьма талантливым, но и дерзким, решительным, провокативным. Вероятно, времена тогда были такие, что сыну цветочника из семьи греческих эмигрантов местом жительства в проблемном районе Нью-Йорка нужно было уметь махать кулаками, в том числе и вербально. При этом постоянно держать марку человека прямолинейного и задиристого.
Итак, в первую неделю 1960 года, когда разворачивается и действие телесериала «Безумцы», Джордж Лоис действительно основал второе по величине во всём мире креативное агентство «Papert Koenig Lois», которое сейчас принято называть «The Real Mad Men» (настоящие «Безумцы») и произвёл переворот в мире рекламы[2].
По его словам, 60е годы в Америке были по-настоящему героичными в истории коммуникативного дизайна. Тогдашние создатели рекламы были настоящими смельчаками и не имели ничего общего с прилизанными героями «Безумцев».
Так, Лоис говорит в своей книге: «Этот сериал действует изрядно на нервы и является очередной мыльной оперой в гламурном офисе, где стильные кретины спят с похотливыми секретаршами с начёсанными волосами, попивают мартини и курят до смерти, при этом создают тупую, безликую рекламу, в которой нет ничего от того времени. Ни намёка на Движение за гражданские права чернокожих в США, ни слова о зарождающемся движение за права женщин, мерзкой войне во Вьетнаме или других революционных событиях 60х годов, которые навсегда изменили Америку. Чем больше я думаю о «Безумцах», тем больше воспринимаю этот сериал как личное оскорбление. Убирайтесь к чёртовой матери, «Безумцы», — лживые шовинисты в серых фланелевых костюмах, бездарные сынки, расисты, антисемиты и республиканские сукины дети! И к слову, в свои 35 я выглядел куда лучше, чем Дон Дрейпер»[2].
Как бы там ни было, спасибо Лоису за его идеи, величие и да, за его задиристость тоже. Долгих лет и ещё большего количества потрясающих идей!
Источники
-----------------------
[1] Britannica: Mad Men, American television series
[2] Lois G., Verdammt gute Tipps (f"ur Leute mit Talent!), Phaidon, 2012
|
Метки: истории знаменитые люди design книги и авторы мои статьи отличные книги |
Интервью в прямом эфире "Будем друзьями" |
Дорогие читатели! 23 июня в 19:00 по московскому времени вы можете присоединиться к онлайн-интервью команды Живого журнала с моей скромной персоной в качестве зрителей или участников. Буду рада ответить на ваши вопросы о жизни в творчестве, иллюстрации и живописи.
Подробная информация о встрече здесь: «Будем друзьями» с Натали Ратковски
Присоединиться к мероприятию в день интервью можно по ссылке: Zoom c Натали
До встречи в прямом эфире 23 июня в 19:00 по Мск!

|
Метки: обо мне любимой будемдрузьями |
Знаменитые женщины |
У многих хоум-офис связан сейчас с бесконечными совещаниями в скайпах, зумах и прочих видео-конференциях. Как правило, мне приходится скучать во время таких мероприятий, поэтому я — рисую. Народ, правда, начинает нервничать: со стороны кажется, что я что-то дотошно записываю. Тогда я стала показывать у себя в строит на Инсте, что я там скетчу и какие портреты получаются. Среди них были и шаржи на нескольких женщин-художниц. Вслед за показом скетчей последовали просьбы рассказывать почаще и побольше о женщинах-художницах. Ну что ж, почему бы и нет — я ведь и так периодически говорю о женщинах в искусстве. Волнующая тема, так сказать. Если вы не видели, вот ссылки на старенькие посты:
1. Статья, в которой есть рассказ о женщинах Баухауса
2. «Женское искусство хуже мужского?»: часть 1, часть 2
3. Статья о дизайнере Дорте Маилил
4. Шерше ля Фам или Святой мир Ларссонов под солнцем
5. Здесь есть о Марии Сибилле Мариан: часть1, часть 2
6. Софонисба Ангишола и судьба женщины в эпоху Возрождения
7. Цветы и женщины или потрясающая мастерская Клер Баслер
8. Эбигейл Браун: птицы из ткани
9. Софи Вудроу: миры из керамики
Глубже уже не стала копать: в этом блоге вся жизнь «на плёнке». Всего не пересмотришь уже, да и лень. А продолжение будет. Хочется верить.

|
Метки: знаменитые люди art artists мои статьи мужчины и женщины |
Шерше ля фам или Почему Моне воспитывал шестеро чужих детей |
Часть 1; часть 2
Cherchez la femme — французская фраза, означающая в переводе на русский «Ищите женщину». Вошла она в нашу жизнь с лёгкой подачи Александра Дюма и означает, что причиной многих, в том числе и необъяснимых, поступков мужчин, как правило, являются женщины — спутницы жизни.
В случае с великим французским импрессионистом Клодом Моне (1840-1926) многие его поступки были продиктованы любовью к двум женщинам в его жизни: Камилле Донсье (фр. Camille Doncieux, 1847 — 1879) и Алисе Райнго (фр. Alice Raingo, 1844 — 1911).
Алиса
Алиса Ошеде-Моне (фр.Hosched'e-Monet), урождённая Райнго, была долгие годы официальной супругой Эренста Ошеде — одного из первых меценатов импрессионистов, который позже стал ярым противником своих любимцев, автором и критиком. И только далеко за 40 Алиса Ошеде превратилась из гражданской жены художника в Алису Моне.
В наши дни некоторые матери-одиночки уверены, что с ребёнком на руках из первого брака им будет сложно найти нового спутника жизни. Это предубеждение кажется тем более странным, когда понимаешь, что некоторых женщин уже в беспокойном 19 веке брали замуж и с шестью «чужими» детьми. При этом слёзно признавались в любви и умоляли остаться. Поэтому «шерше ля фам» здесь можно перевести и как «всё дело в женщине», куда её берут или нет. Кем же была эта персона, которая с несколькими детьми на руках вскружила голову сразу двум мужчинам?

Как я уже упоминала в первой части поста, спутницей жизни известного французского импрессиониста Алиса Ошеде стала примерно ещё в период болезни и смерти первой жены Моне — Камиллы — в 1879 году. Если поверить подозрениям в тайной связи Алисы и Клода в замке Роттембург (фр. Ch^ateau de Rottembourg), то ещё несколькими годами ранее — в 1876.
Женщина она была с характером и, хотя прожила с Моне более десятка лет в гражданском браке до официального оформления отношений, рьяно придерживалась условных приличий, ссылаясь на свою глубокую религиозность. До свадьбы Алисы с Моне, которого даже дети уже звали «папа Моне», художник обращался к даме сердца исключительно на вы и не позволял себе ни в одном письме говорить с Алисой о каких-то интимных вещах, хотя переписка была весьма эмоциональной и частой. К тому же жениться на возлюбленной художник смог только через год после смерти Эрнеста — лишь после условного времени траура, хотя Алиса практически не видела законного супруга все эти годы.

В своё время мама Эрнеста была в шоке от решения сына связать свою судьбу с 17-летней светской пигалицей. Ведь уже мать Алисы была внебрачной дочерью некоего богатого фабриканта — так себе пассия для требовательной маман. Эрнест же, опьянённый любовью, женится на Алисе против воли родителей и даже имеет дерзость познакомить свою избранницу с ними уже после свадебного путешествия. Вопрос об антипатии семьи Ошеде к Алисе был предрешён. Однако, после знакомства с молоденькой женой Эрнеста, maman Ошеде делает пометку в своём дневнике, что не так уж всё плохо:
«Эрудированная молодая женщина, интеллигентная и волевая... Она с такой лёгкостью подхватывает беседу, только вот говорит на мой вкус немного громко. И черты лица у неё куда более тонкие и мягкие, чем на фотографии.» {1}
В последующие годы неприязнь семьи Ошеде к невестке улетучилась окончательно. Во-первых, хотя у Алисы было ещё восемь братьев и сестёр, она получила внушительное приданное размером более 100 тыс. франков. {1} Во-вторых, потому что родила один за другим шестерых крепких внуков, к тому же активно участвовала в светской жизни и слыла изысканными манерами.

После смерти отца Алиса получает не менее внушительное наследство — около 300 тыс. золотых франков и замок Роттембург, стоимость которого оценивалась в 175 тыс. франков. Подобный поворот событий пришёлся Эрнесту весьма по вкусу. К тому времени он уже пустил по ветру львиную долю своих собственных денег и приданное Алисы. С новой финансовой «прививкой» жены мужчина начинает жить по-королевски. Коллекционирует искусство, устраивает пышные приёмы, на которых шампанское льётся рекой, и окружает себя предметами роскоши. При этом по-прежнему остаётся никудышним предпринимателем.
На просьбы своей матушки изменить расточительный образ жизни, пока не стало совсем поздно, упрямый Эрнест кивает на Алису. Это якобы она так привыкла к роскоши и светскому обществу, что не готова расстаться со своим Роттембургом.
Примерно в это же время — в 1876 году — Моне устал от начавшей пить Камиллы: у неё уже тогда обнаружились проблемы со здоровьем, якобы связанные с многочисленными прерываниями беременности. Он устал и от Аржантея, и от постоянных финансовых трудностей. Художник уезжает в Париж, но его больше не радует даже сад Тюильри.

И здесь на сцену выходит Алиса: очаровательная, изысканная интеллектуалка, одетая по последней моде — воплощение мира, который кажется художнику просто недосягаемым. А дальше следует приглашение Эрнеста поработать в Роттембурге, долгие месяцы бурной живописи Моне вдали от Камиллы и маленького Жана.
Примерно через 9 месяцев после лета, которое Алиса и Клод провели наедине в замке Роттембург, когда Эрнест улаживал дела в Париже, а Камилла занималась школой Жана в Аржантее, на свет появляется шестой ребёнок Алисы — Жан-Пьер, который напишет позже книгу «Claude Monet, ce mal connu» — можно перевести как «Малознакомый Клод Моне», в которой он раскроет широкой общественности неизвестные стороны жизни великого мастера и поведает о своих личных впечатлениях и воспоминаниях.
Вероятнее всего этот мальчик всё-таки был сыном Эрнеста, а не Клода. Ведь в итоге всё своё состояние, включая десятки работ и этюдов ценой в миллионы франков, как и дом с садом в Живерни, Клод Моне оставил своему единственному выжившему родному сыну — Мишелю Моне. Тот в свою очередь завещал всё добро отца ни сводным родственникам и их потомкам — своих у него не было, а музею Мармоттан-Моне в Париже.

Однако, вернёмся к событиям 19го столетия в конце 70х. Кажется, что в то время обе семьи сильно лихорадило — и Моне, и Ошеде. Эрнест Ошеде объявляет себя банкротом, бросает жену и шестерых детей на своего друга Клода Моне в деревенском Ветёй, закладывает замок Роттембург и укрывается от кредиторов. Некоторым сложно представить ситуацию, когда супруги официально ведут раздельно друг от друга финансы. Но Алиса вела свою «кассу» и с Эрнестом, и позже с Клодом. Поэтому не стоит удивляться, что среди кредиторов Эрнеста была и его собственная жена Алиса, которая от лица семьи Райнго выставила ему счёт на более чем 90 тыс. франков.
Открытым остаётся вопрос, почему Эрнест оставил свою семью именно на Клода Моне? Злые языки утверждали, что «сначала Эрнест содержал никчёмных импрессионистов, чтобы они потом содержали его.» {1} Думаю, что здесь было всё куда сложнее. Однако факт остаётся фактом, что хотя у Эрнеста Ошеде была масса друзей, свои проблемы в виде жены, шестерых детей и кредиторов, которые наведывались в дом Моне в Ветёй и громили мебель и посуду в поисках должника, Ошеде переложил именно на плечи Клода. Этот факт породил множество кривотолков, включая предположение, что последний ребёнок Ошеде — плод тайной любви Алисы и Клода.

Что до Моне — в конце 70х он тоже оказывается в безнадёжной ситуации. Сначала в тяжёлых муках умирает его первая жена Камилла, болезнь которой поглощала огромные суммы денег, а художник погружается в сильнейшую депрессию. Пошатнувшееся финансовое положение осложняется ещё и тем, что упомянутый выше друг и меценат Моне — Эрнест Ошеде — пускает собственную коллекцию работ Моне с молотка и сбывает картины по цене в десятки раз ниже, чем они стоили при покупке. Позже Ошеде будет винить именно импрессионистов в личном фиаско, а не собственный расточительный образ жизни. {1}
Работы художника падают в цене ещё и потому, что круг потенциальных покупателей весьма обозрим: импрессионисты все ещё те самые пройдохи, которые забывают дописать свои работы и довольствуются кривыми эскизами на полотне, выдавая их за готовые картины. К тому же покупателям известно, в каком безысходном положении находится художник и пользуются этим: он вынужден отдавать им свои работы за копейки, чтобы хоть как-то выжить.

Алиса, которая оказывается сиделкой Камиллы, а потом «приёмной матерью» осиротевших детей усопшей, сначала пишет о ней в письмах свекрови как о подруге, которая нечеловечески страдала. Но уже некоторое время спустя, когда Алиса сближается с Клодом, якобы первым её требованием к новому избраннику становится уничтожение всех личных вещей Камиллы, включая письма и фотографии. Историки утверждают, что Алиса сделала это из ревности {1}, но доказательств тому я не встречала. Вполне возможно, что всё куда банальнее и не так «зажигательно», и вещи Камиллы просто затерялись при многочисленных переездах семьи. Поэтому до наших дней дошли столь скудные сведения о первой жене художника.
Долгие годы у Моне нет ни воли, ни средств выкупить у города землю на кладбище, где похоронена Камилла. Простая могилка с ржавеющей железной оградкой, заросшая бурьяном, — всё, что остаётся от бывшей любимой женщины великого импрессиониста.

Но как же так случилось, что Алиса, которая с пелёнок была окружена роскошью и прислугой, оказалась сиделкой при умирающей «путане», учительницей музыки, матерью восьмерых детей, а позже даже кухаркой и прачкой, когда прислуга покинула дом из-за вечных задержек гонорара? И как будто этого было мало, некоторое время спустя Алиса становится сама падшей — замужней женщиной, сожительствующей с другим мужчиной.
Как чувствовала себя бывшая владелица замка, когда даже деревенская молочница могла остановить её на рынке среди промозглой зимы и отчитать за долги, а прачка могла неделями удерживать чистое бельё семьи, вынуждая Алису оплатить задолженности? Видимо, в какой-то момент что-то пошло не так.

Когда же Эрнест, озабоченный близостью жены к другу, зовёт Алису с детьми покинуть Ветёй и приехать к нему в Париж, та уклончиво отвечает, что если они уже в деревне создают для него такие большие расходы, что же тогда говорить о столице. И остаётся рядом с Моне, не забывая отчитываться перед мужем, сколько денег господин Моне занял ей на еду и одежду модистки для детей. Поясню, что эти долги исчислялись тысячами в месяц, когда средняя французская семья жила на скромные сотню франков.
Неопределённость Алисы в отношениях с Эрнестом будет ещё долгие годы камнем преткновения в её отношениях с Клодом. Законный муж будет ещё многократно и настойчиво требовать возвращения жены любой ценой. Даже станет вовлекать в ссоры старших детей и родных Алисы, которые так же осуждали связь Алисы и Клода. При этом так называемый законный муж и отец будет по-прежнему оставлять семью без средств к существованию и элементарного внимания.

Существует мнение, что с Камиллой художник разделял горести, а с Алисой — успех и достаток. {2} Но это не совсем так. Как можно понять из слов выше, на долю Алисы выпали непростые испытания.
Дело здесь скорее в том, что отношения с Алисой развивались во второй половине жизни Клода Моне, когда к художнику постепенно пришло признание, уверенность в собственных силах и финансовая стабильность. При этом именно Алиса обеспечила Моне такие бытовые условия для творчества и столь надёжный тыл и поддержку, каких он скорее всего не знал в свои молодые годы рядом с Камиллой.

В 1881 году, всего через два года после смерти Камиллы, младшие дети Алисы уже называют художника «папа Моне». Эрнест не появляется даже на совершеннолетие старшей дочери. Но ровно в тот момент, когда Ошеде-Моне решают покинуть Ветёй, законный муж в очередной раз вспоминает, что где-то там у него есть семья и шлёт Алисе письмо, обвиняющее её в сожительстве с Моне. Но не тут-то было. Алиса даёт ему решительный отпор: мол, какая дерзость с твоей стороны «дорогой друг» — я, мол, с удовольствием приеду к тебе в Париж, но где просторная квартира, где подарки, где извинения за то, что ты поставил уважаемого Моне в такое нелепое положение? Учитывая то, что Алиса действительно сожительствовала с Моне, а жена и дети были в то время по закону практически собственностью мужа, — довольно дерзкий ответ. Если вы знакомы с историей Гогена — современника Моне, то наверняка вспомните, насколько низко он себя вёл по отношению к брошенной жене и детям, требуя «отдачи от собственности».
В итоге Алиса оказывается на распутье. Одно дело жить под крышей друга семьи, посылать мужу счета и якобы из любви к ближнему воспитывать обоих осиротевших мальчиков Моне. А другое, вопреки призывам мужа о воссоединении семьи, последовать за Моне из Ветёй в Пуасси и обнажить постыдную историю связи замужней женщины с вдовцом — признаться всему свету в так называемом «диком браке».

Мужчины — Эрнест и Клод — в итоге настолько рассорились, что даже в те редкие дни, когда Эрнест приезжает проведать детей, Моне убегает их своего собственного дома, чтобы не встречаться с соперником. А Алиса всё ещё не может решить, что же делать. Как женщина практичная, она понимает, что у Эрнеста нет денег и уже никогда не будет. К тому же подозревает, что если она всё-таки уедет с мужем — ведь дети любят папочку вопреки всему — ей грозят новые долги, потому что придётся вернуть огромную сумму уважаемому Моне за содержание её детей. Она ведь уверяла Эрнеста, что живёт под крышей Моне как у друга и занимает у него деньги. Но, что куда трагичнее, Алисе придётся навсегда расстаться с любимым мужчиной. И что же она делает? Оставляет в подвешенном состоянии обоих ещё на 10 лет. И это, повторюсь, в общей сложностью с восемью детьми на руках, причём без надёжного дохода и постоянного места жительства.
Зимой 1885 года Моне настолько потрясён возможной разлукой с Алисой — Эрнест в очередной раз пожелал вернуть её себе, подключив к скандалу старших детей — что уезжает прямо в день рождения возлюбленной из дома и пишет даме сердца более чем грустные строки. Он понимает, что все эти годы жил в иллюзии, что Алиса принадлежит только ему. Клод Моне находится на грани нервного срыва:
«Я благополучно прибыл в порт на моей родине, но охвачен печалью и подавлен после столь жестокого удара судьбы. ... Я знал ещё в начале нашей любовной истории, что это прекрасное приключение заведёт нас в тупик. Но когда я поставлен перед фактом разлуки с Вами, то понимаю, что не могу жить без Вас — моей спутницы. ... Художник во мне умер. ... Я не смог бы сейчас работать даже при самой прекрасной погоде. ... Прежний Моне — мёртв.»

Видимо, некому было встряхнуть Клода за плечи. Казалось бы, беги ты от этих проблем с замужней женщиной с выводком детей. Зачем тебе весь этот цирк? Но со стороны всегда проще рассуждать, что и кому лучше сделать ;-)
История умалчивает о том, что же в итоге произошло, почему и как улеглись страсти, потому что Алиса с детьми осталась при Моне и ещё пару раз сменила вслед за ним место жительства, пока не оказалась в Живерни, куда её законный муж так никогда и не приехал — даже ради детей. Ей суждено вернуться к Эрнесту буквально за неделю до его смерти, когда женщина словно чувствует неладное и отправляется в Париж к умирающему супругу, которого излишки еды и алкоголя привели к параличу. Она не отходит от него день и ночь, и, судя по всему, улаживает все формальности по наследству и организует для больного последнее причастие, как в своё время для Камиллы. По просьбе детей Алисы, их папу хоронят недалеко от дома — в Живерни.

Итак, именно Алиса стала для Моне той самой тихой и надёжной гаванью, которая позволила мастеру успокоиться и посвятить себя исключительно творчеству. Дети четы Ошеде-Моне рассказывали в последствии, что Моне был настоящим тираном, но мог быть и абсолютно нежным и любящим. В доме в Живерни был строгий распорядок дня — как в казарме. Дети вставали по звонку, завтракали, выполняли поручения по дому, должны были вести себя тихо и не мешать работать папе Моне.

Сам Моне никогда не заходил на кухню, но требовал от Алисы уже в воскресенье составленное на всю неделю меню, которое предварительно одобрял. Якобы потому, что только он знал, сколько и чего созрело в саду, и сколько курочек и кроликов находятся в хозяйстве. Моне вообще обожал хорошо и изысканно поесть — об этом свидетельствуют многочисленные рецепты — порядка 180, которые он собирал и записывал, хотя сам никогда не готовил. По свидетельству детей, вся жизнь семьи была устроена вокруг Моне и его потребностей. В одном из многочисленных документальных фильмов о Живерни, к сожалению не припомню названия, куратор музея объясняет это тем, что Алиса отдавала себе отчёт в величии Моне. Думаю, что и здесь всё было куда проще. Как иначе было прокормить семью из 10-ти человек, многочисленных слуг, нянек и садовников, если Моне был единственным, кто зарабатывал деньги? Чем меньше он писал картин, тем меньше продавал. Простая математика.
Да, Алиса Ошеде-Моне больше никогда не жила в замке и не блистала на светских приёмах, но общественное признание, жизнь в достатке в Живерни, огромный сад и дом, путешествия с мужем, образование и свадьбы детей, многочисленные внуки — всё это было частью может и простой, но счастливой жизни.

Моне было суждено пережить свою вторую жену на 15 лет. После смерти Алисы он впал в глубокую депрессию настолько, что был готов последовать за любимой женщиной. Гюставу Геффрою — другу и критику — Моне пишет следующие строки:
«Мой дорогой друг, все кончено! Моя любимая спутница умерла сегодня в 4 утра. Я подавлен и потерян.» {3}
Убитый горем, Моне запирается в одиночестве в своём розовом доме, покидает и свою мастерскую, и свой сад. Дети, из страха потерять и папу Моне, по очереди навещают художника и проводят с ним время. И лишь уход за упавшим духом Клодом Моне, который переняла на себя приёмная дочь и невестка — Бланш Ошеде-Моне, и уговоры друзей доработать этюды, созданные художником в последнее путешествие Моне с Алисой в Венецию, вернули художника к жизни. Работая над своими венецианскими этюдами, он словно ещё раз пережил драгоценные минуты с Алисой. С той самой женщиной, которая любила художника всем сердцем и предоставила ему возможность раскрыться и создать сотни произведений, которыми мы не устаём восхищаться.

-------------------------
Источники
{1} Daniel Wildenstein "Monet. Der Triumph des Impressionismus", 1996, Taschen
{2} Fondation Monet: Camille, l’autre madame Monet
{3} Fondation Monet: Mai 1911 — Alice Monet s'eteint...
{4} Alice Hosched'e (статья на немецкой Википедии)
{5} Wildestein-Plattner Institut: Monet or the Triumph of Impressionism (полная версия книги на английском языке)
{6} Работы Моне на GooglArts
{7} Dear Monsieur Monet on Christie's
{8} Monet Orte im Museum Barberini in Potsdam
{9} Мой блог об искусстве в картинках на Инстаграм, в котором я публикую фотографии из тех мест и музеев, где бывала сама: Art at Breakfast
|
Метки: знаменитые люди art artists мои статьи мужчины и женщины |
Шерше ля фам или Почему Клод Моне женился на путане |
Cherchez la femme — французская фраза, означающая в переводе на русский «Ищите женщину». Вошла она в нашу жизнь с лёгкой подачи Александра Дюма и означает, что причиной многих, в том числе и необъяснимых, поступков мужчин, как правило, являются женщины — спутницы жизни.
В случае с многоуважаемым монсеньором Клодом Моне (1840-1926) — великим французским импрессионистом — можно смело утверждать, что теми самыми «фам», благо что не фаталь, были обе жены художника. Многие его поступки были продиктованы в первую очередь не любовью к искусству, а вполне земной любовью к двум женщинам в его жизни: Камилле Донсье (фр. Camille Doncieux, 1847 — 1879) и Алисе Райнго (фр. Ang'elique 'Emilie Alice Raingo, 1844 — 1911).
Камилла

О том, когда и как именно Моне познакомился со своей первой спутницей жизни — Камиллой Донсье — мало что известно. По мнению Фонда Моне {1} существует вероятность того, что Камиллу представил Клоду их общий друг, покровитель и художник — Фредерик Базиль (фр. Jean Fr'ed'eric Bazille, 1841— 1870), который погиб в начале прусско-французской войны 1870 года.
Похоже, что девушка была низкого происхождения и была вынуждена в довольно раннем возрасте зарабатывать самостоятельно на жизнь.
Во многих случаях роль натурщицы, а тонкая, черноглазая красавица Камилла появляется в работах Моне уже в 1865 году {4}, подразумевала доступность и некую сексуальную раскрепощённость женщин этой профессии. Нередко натурщицами становились и путаны — широко распространённая практика в мире искусства.

Но случалось и наоборот, когда модели рано или поздно оказывались на дне общества и пускались на проституцию. В любом случае, если актрисы и танцовщицы имели хоть какой-то шанс стать куртизанками под крылом состоятельных покровителей, например, как в романе Эмиля Золя «Нана» или в романе Александра Дюма «Дама с камелиями», натурщицы были музами, многие из которых оказывались на дне без средств к существованию.

Горячо влюблённый Моне скрывал свою связь с Камиллой. Видимо, опасаясь гнева семьи? Ведь даже успех работы Моне «Дама в зелёном» на выставке французского «Салона» 1866 года, на которой изображена Камилла, не произвёл должного эффекта на отца Моне и тётушку Лекадр.

Простолюдинка Камилла, которая, как знать, уже до Моне делила своё ложе с десятком других мужчин, была, по мнению семьи, не самой подходящей пассией для состоятельного буржуа и восходящей звезды мира искусства.
Когда год спустя Камилла ожидает своего первого ребёнка, совет папаши-Моне сыну звучит скорее как ультиматум. Отец требует от Клода бросить молодую женщину на произвол судьбы, если тот желает вернуться в лоно семьи — к сытой и обеспеченной жизни. Довольно распространённая практика буржуазных семей того времени по отношению к заблудшим сыновьям.
Непосредственно перед родами Моне действительно покидает бедную Камиллу, оставив на попечение друзей в Париже, и возвращается к отцу в Гавр, где прошли детство и юность художника. Однако, мало кто знает, что причиной такого решения стала сама Камилла. По свидетельству хрониста и автора Даниэля Вильдештайна в книге «Моне или Триумф импрессионизма»{2} Камилла умоляет возлюбленного вернуться к отцу, чтобы Клод мог в тайне от семьи поддерживать гражданскую жену и сына хоть какими-то средствами. В итоге первый сын Клода Моне — Жан — рождается без отца. И хотя в свидетельстве о рождении сердобольная Камилла указывает отцовство Клода Моне, документ так и остаётся без подписи мужчины.

Последующие три года проходят у молодой пары в скитаниях и лжи. Клод скрывает от семьи присутствие в его жизни Камиллы и Жана. Сначала он наведывается к своей гражданской семье тайно в Париж — об этом свидетельствуют портреты младенца, написанные Моне с натуры. Потом художник увозит возлюбленную и сына из дорогостоящей столицы и квартирует в разных деревнях вблизи от своего места жительства, тайно наведываясь время от времени.

Подобное сожительство было вещью весьма распространённой в конце 19го века, но при этом лицемерно считалось порочным, и жёстко осуждалось обществом. Моне, по-прежнему находившийся в финансовой зависимости от семьи, как будто не мог себе позволить пойти против воли родных. А они настаивали на том, что хорошая репутация — надёжный старт в будущее.
В те годы, когда Моне прятал Камиллу от всего света, падшую изгнанницу отказывались принимать у себя. Её сторонились. Женщина подвергалась критике и насмешкам при каждом удобном случае. И хотя успех «Дамы в зелёном» был ещё на слуху, Камилле приходилось слышать о себе высказывания вроде тех, что изысканное зелёное платье ещё не делает из неё дамы, и что, мол, даже улицу девушка переходит неуклюже. Н-да, не было у людей телевизоров и интернета, развлекались наблюдениями за пешеходами.
Когда в 1870 году Клод Моне объявляет отцу своё окончательное решение о женитьбе на Камилле Донсье, старик приходит в ярость и лишает сына и без того иссохшей со временем финансовой «подушки». Что повлияло на решение Моне официально оформить лишь почти 5 лет спустя отношения с любовницей?

Возможно, что надвигающаяся война. Но возможно и то, что семья Камиллы решила простить падшую дочь и поддержать финансово. Но только при условии, если та официально оформит свои отношения с любовником и отцом своего сына. Внук семьи Донсье нуждался в законном отце, а дочь в восстановлении утраченной чести. В итоге даже в свидетельстве о браке Камиллы и Клода адресом проживания девушки, как это и требовали моральные нормы того времени, был указан родительский дом.{2}
Однако «финансовая прививка» оказалась более чем скромной и спасла молодую чету Моне от бедствий лишь на короткое время. Камилла получила относительно маленькие проценты от своего приданного, полная сумма которого должна была перейти ей в руки только после смерти её небогатых родителей. Не помог здесь и брачный контракт между супругами, который освобождал Камиллу от обязанности уплачивать по закладным мужа.{2}

Вскоре после свадьбы Моне бежит в Лондон, чтобы не участвовать в бессмысленной войне между Пруссией и Францией 1870-1871 годов. И хотя Нормандия оказывается в стороне от военных событий, разрушивших в то время Париж, Камилла остаётся в очередной раз одна с ребёнком на руках и следует за мужем только некоторое время спустя, не забыв прихватить с собой в багаже несколько работ художника. В последствии им удаётся более менее удачно продать эти картины и даже завести выгодные знакомства в Лондоне, например, с известным парижским галеристом и торговцем предметами искусства — Полем Дюран-Рюэлем (фр. Paul Durand-Ruel, 1831-1922). Это помогает семье переждать время добровольно-вынужденного изгнания из Франции.

Пока молодая семья укрывается от войны в Англии, во Франции умирает отец Моне. Перед смертью он оставляет сыну малоприятный подарок, потому что незадолго до кончины женится на своей любовнице и признаёт незаконнорожденную дочь. Таким образом и без того истощённое наследство Моне оказывается ещё скромнее. Тем не менее, именно с этого момента у супругов начинается новый и как будто безмятежный отрезок жизни в провинциальном Аржантее.

Там начинается золотое время как для молодой семьи, так и для творчества Моне. Маковые поля, летнее солнце, развевающиеся платья Камиллы, играющий в саду Жан — безмятежность и тепло считываются в каждом мазке.

К сожалению, Камилла и Клод по-прежнему довольно плохо распоряжаются деньгами. В Аржантее, при как будто скромном бюджете семьи, в их доме появляются кухарка и няня. В гости наведываются и многочисленные друзья, а любовь семьи к роскоши и экзотике загоняет их в дальнейшие расходы. Стоит ли удивляться, что уже через довольно короткое время Ренуар, который работает в это время вместе с Моне на пленэре, якобы уносит украдкой еду из родительского дома, чтобы у семьи Моне было хоть что-то на столе. {2}
Примерно в это волнительное и зыбкое время на горизонте появляется фигура Алисы Ошеде, урождённой Райнго, которой было суждено стать второй женой Моне. В то время Алиса Райнго состояла в браке с Эрнестом Ошеде, который на протяжении нескольких лет был ярым поклонником таланта Моне и его меценатом. Человеком он был сумасбродным и расточительным. За довольно короткое время после смерти отца — хранителя и накопителя состояния семьи Ошеде — Эрнест умудряется потратить не только все деньги собственной семьи, но и достаточно обеспеченной жены Алисы.

Существует мнение, что сын Алисы — Жан-Пьер, рождённый в 1877 году чуть ли ни в вагоне поезда — в бегстве от кредиторов мужа, причём незадолго до рождения второго сына Камиллы — Мишеля — мог бы быть и внебрачным сыном Клода Моне {2}. Дело в том, что около 9 месяцев до рождения Жан-Пьера муж Алисы — Эрнест Ошеде — уезжает в очередной раз в Париж, чтобы заверить кредиторов в своей платёжеспособности. Камилла остаётся в Аржантее, потому что маленький Жан как раз пошёл в школу, а Моне оказался на несколько месяцев наедине с Алисой в её родовом поместье. Судя по всему, именно тогда Алиса почувствовала разницу между целеустремлённым, трудолюбивым и обходительным Моне, и инфантильным и взбалмошным Эрнестом {2}. Но Алиса слыла светской дамой — утончённой и образованной. В те времена ставшая явной внебрачная связь приравнивалась для женщины из высокого общества с признанием себя падшей со всеми вытекающими. Вспомним Анну Каренину...

А дальше события развивались не только печально, но и странно. Камилла, которая так и не смогла толком оправиться после родов Мишеля, узнаёт о своей онкологии — раке матки — и в очередной раз меняет вслед за Моне место жительства. Их новой обителью становится небольшой дом в Ветёй, в котором женщина гаснет с каждым днём. Следом за четой Моне туда приезжает Алиса со всем своим выводком из уже шестерых детей и становится там единственной вменяемой хозяйкой в доме.

Ошеде и Моне якобы дружили семьями, но именно в то время Эрнест объявляет себя банкротом и покидает Алису с детьми — попросту бросает на Моне. С этого времени Алиса даёт уроки музыки, ведёт хозяйство, ухаживает за отрядом из восьмерых детей, двое из которых совсем маленькие — Жан-Пьер и Мишель, за самим Моне и за лежачей, умирающей Камиллой. В письмах родным Алиса сочувствует заболевшей и страдающей в нечеловеческих муках женщине и даже просит прощения за то, что желает Камилле скорой, но облегчительной смерти. Кстати, некоторые источники утверждают, что Камилла Моне умерла от чахотки — туберкулёза лёких. Ведь она всегда была такой хрупкой, печальной и бледной, а сама болезнь — куда более модной и, видимо, благородной, чем рак.

Сложно представить, что творилось на душе у умирающей Камиллы. Что испытывала она? Ревность, ненависть, бессилие, боль, страх, отчаяние? Был ли Моне верен ей или уже тогда не мыслил своей жизни без Алисы? Или всё-таки Камилла испытывала благодарность за уверенность в будущем её детей и за достойный уход со стороны «новой хозяйки»? И каково при этом было Алисе? И каково же при этом было Моне?

Каждый справляется по-своему с потрясениями, которые приносит с собой смерть близких людей. Моне остаётся художником даже в горе и пишет усопшую Камиллу на смертном одре как печальную невесту, уснувшую после слёзной ночи. При этом сокрушается, что не уход любимой женщины заботит его в эти последние прощальные минуты, а то, как улетучиваются и меняются оттенки цветов на любимом, и уже покойном лице. {3}
Продолжение следует...
-------------------------
Источники
{1} Fondation Monet: Camille, l’autre madame Monet
{2} Daniel Wildenstein "Monet. Der Triumph des Impressionismus", 1996, Taschen
{3} "Im Licht des Augenblicks", немецкий документальный фильм французско-немецкого телеканала arte, 2019
{4} Camille Doncieux (статья на немецкой Википедии)
{5} Wildestein-Plattner Institut: Monet or the Triumph of Impressionism (полная версия книги на английском языке)
{6} Собрание работ Моне на GooglArts
|
Метки: истории знаменитые люди art artists мои статьи мужчины и женщины |
О работе на стоках |
Моё личное отношение к стоковым творческим людям за последние пять леть тоже изменилось с отрицательного на весьма положительное. Моя предвзято-критическая позиция сменилась глубоким уважением и пониманием. Не в последнюю очередь потому, что я узнала из первых рук, насколько это кропотливый труд. Однако на мой взгляд существует целый ряд «Но». Например, таких, что многим вне стоков по-прежнему кажется, что это лёгкий путь добывания денег. При этом массовость, потоковость иллюстраций для стоков лишает их авторов должного признания. В любом случае иллюстраторы и дизайнеры, которые трудятся над индивидуальными заказами, уважаются как будто в разы больше. Но, обо всём по порядку.

Ссылка на все мои иллюстрации из серии
Стоки - тяжёлая работа
Для стоков нужно иметь определённый склад характера. Если вы любите работать в коллективе и активно общаться с клиентами, то стоки – это не про вас. Зато если вы глубокий интроверт и индивидуалист, вы можете сами решать, на какую тему рисовать, не обязаны выслушивать просьбы о корректурах, лишены необходимости общаться с коллегами и подстраиваться под коллектив. Во всём есть свои плюсы и минусы.
По признанию многих творческих людей, стоки начинают приносить доход только через 2-3 года с начала работы там. Если у кого-то есть возможность порядка трёх лет жить без стабильного заработка, при этом довольно много работать – почему бы и нет. Подчеркну, в моих словах нет никакой негативной коннотации. У одной моей знакомой - стокового иллюстратора - решение связать свою жизнь со стоками совпало с материнством. Девушка не могла больше ходить на работу в офис, но трудолюбия и упорства ей было не занимать. Она добилась большого успеха на стоках именно в период, когда "сидела" дома с двумя маленькими детьми. Снимаю шляпу!

Иллюстрации одной из моих любимых иллюстраторов - Оксаны Гривиной, работы которой можно встретить и на страницах моей книги "Профессия - иллюстратор". Если вы хотите купить набор этих иллюстраций, вам сюда:Rain people.
Что до меня, я не стала даже пытаться работать на стоках. Поясню, почему. Стоковый бум идёт уже очень давно. Запрыгнуть в этот идущий поезд прямо сейчас уже не так просто. Если бы конкретно у меня была ситуация "рисуй на сток - другой работы всё равно нет" - я бы села и рисовала с прицелом на будущее. Но уже для одной полноценной попытки попасть на стоки нужно время. Например, создать приличную массу стоковых иллюстраций, обработать их, оформить в портфолио и разослать в несколько мест, чтобы получить место под солнцем стоковых людей. Мне было выгоднее дальше свою работу работать, которая меня кормит - хорошо и прямо сейчас, а не через 3 года. Причём кормит она меня всю мою сознательную жизнь. Когда у вас уже есть одна полноценная работа, то возлагать на свои плечи вторую полноценную - стоки - не самая простая вещь. Мне с постоянной работой и заказами не удалось создать даже порядка 100 стоковых изображений, потому что элементарно не было выгоды этим заниматься. Тем не менее я отношусь с огромным восхищением к тем, кто это может и хочет делать!

Ссылка на все мои иллюстрации из серии
Математика лично для меня была очень простая. Предположим вам нужны чистыми минимум 2000 евро в месяц. Не знаю, как в других странах, а по немецким налогам для этого нужно зарабатывать брутто как минимум 3500. Если вы их 3 года не получаете, то по сути дела вкладываете в будущее. Но на тот момент, пока вы начинаете зарабатывать, у вас образуется минус в семейном бюджете размером 126000 евро (3500*12*3) - это не считая отпускных и 13й зарплаты. Через какое время вы их вернёте на стоках при условии, что эти же стоки должны покрывать и текущие 3500? Предположим, ваш бизнес-план рассчитывает вернуть в течение первого года "вложенные" 126000 евро. Но тогда на протяжении этого года вы должны зарабатывать на стоках 14000 евро в месяц: 126000:12 + 3500. И только потом вы можете выдохнуть и позволить себе зарабатывать там только 3500. Например, меньше работать и больше времени посвящать индивидуальным проектам и семье.

Ссылка на все мои иллюстрации из серии
Здесь были люди, которые рассказали, что заливают на стоки остатки - всё, что не вошло в другие проекты, и зарабывают небольшие суммы на кофе или спортзал. Видимо, у них какие-то схожие сферы деятельности? Потому что, к примеру, мои отходы от проектов бесполезно куда-то заливать - это мусор. Я обычно не трачу силы на тщательную отрисовку чего-то, если работа не утверждается на уровне скетча. А если я её уже отрисовала - мне её всё равно оплатят, а значит я не имею никакого морального, а иногда и юридического права заливать её на стоки. Но если есть такая возможность - тоже вариант! Почему нет?
Хорошо зарабатывать на стоках можно, но это не так просто, как кажется!
У вас должен быть большой выбор стоковых изображений – начальная база из порядка 1000 картинок, которые можно комбинировать друг с другом. Как минимум на этом шаге можно распрощаться с мыслью, что стоки - это лёгкий дополнительный доход. Повторюсь, вам потребуется ежедневно полноценный рабочий день, который будет включать в себя не только создание изображений, но их оформление, обработку, оптимизацию портфолио, исследования рынка, позиционирование своих продуктов - какие возможности вообще существуют, пути продвижения и прочее.

Иллюстрации Оксаны Гривиной: Technology graphics set
Мастерство тоже никто не отменял. Все изображения должны быть выполнены на высоком уровне как в изобразительном, так и в техническом плане: вектор или растровые изображения по слоям, в идеале возможность работы с вашими файлами с прозрачным фоном в разных программах, возможность комбинировать различные части изображений и пр. К тому же повторюсь, что рисовать всё подряд - это как тыкать пальцем в небо. Ваш материал должен шагать в ногу со временем и соответствовать запросам потенциальных потребителей. Здесь важны анализ и светлый ум. А вы помните, да, что вам в случае со стоками о покупателях и их потребностях на начальном этапе мало что известно.
К вам как к автору тоже существует ряд требований. Как минимум ваше портфолио должно быть выполнено по возможности в едином фирменном стиле. Ваши картинки должны быть узнаваемы. Если же вы работаете в разных техниках и стилях, то как минимум ваша фишка - что именно отличает вас от других - должна в идеале быстро считываться, а наборы иллюстраций - смотреться единой линейкой одного автора.
Итак, много требований, для удовлетворения которых нужно приложить максимум усилий. При этом у стоковых творческих людей, которые невероятно упорно и много работают, по-прежнему одна из самых худших репутаций в творческой тусовке. На шкале "ощущаемой температуры" по статусности профессии стоковые люди находятся где-то в минусовом диапазоне. Что, впрочем, многим из них не мешает зарабатывать хорошие деньги и игнорировать все сложившиеся стереотипы.
Ощущаемая температура
Что такое ощущаемая температура? Например, +5 с ветром и холодным дождём ощущается нами как -10. В сухую солнечную погоду те же +5 будут радовать и казаться ласковыми и весенними. Ощущаемая температура - та, которую мы ощущаем, а не та, что мы действительно видим на градуснике.
Примеры "ощущаемой температуры" можно найти повсюду. Так, например, фирма D&G одевает единицы, фирма H&M - добрую половину западного человечества. Обе марки весьма известные. При этом существует некое коллективное мнение, что у D&G куда более высокий статус в обществе, чем у H&M. На первый взгляд эти фирмы и сравнивать бесполезно: у них разнятся и сегменты рынка, и потребители, и подход к контролю качества, и ценообразование. Но обе они производят одежду, которую можно купить и носить. При этом ни у кого не вызывает сомнения, что D&G - это люксус. А H&M - одежда для простых смертных. Умаляет ли это значимость H&M? Нет конечно. H&M выпускает весьма качественные товары и зарабатывает миллиарды. Не удивлюсь, если доход у них побольше, чем у D&G. Но общественное мнение - это как ощущаемая температура.

Dolce & Gabbana: True Monica Collection, via

Реклама женской одежды H&M
Сначала я думала, что дело в массовости стоковых продуктов. Ведь в нашем сознании совершенно чётко укрепилось представление о том, что масса - это плохо - если только это не масса денег. А вот эксклюзив, лимитированный тираж, доступность для избранных, индивидуальные проекты - это хорошо. Но тогда я вспомнила фирму Apple, которой удалось порвать все шаблоны. Одной из самых успешных фирм мира, которая выпускает свои продукты многомиллионными тиражами, получилось сохранить статус эксклюзивности и стать своего рода религией для современного техногенного общества. Но возможно, что дело в старте компании, когда она действительно выпускала продукты только для узкого круга специалистов по весьма высокой цене. Как знать. У меня здесь нет однозначного ответа.
Думаю, что тенденция такова, что уже через пару лет "ощущаемая температура" по отношению к стоковым творческим людям поднимется в плюсовой диапазон. Ведь уже куда больше людей будут знать, что "стокеры" работают много и упорно, при этом могут зарабатывать не хуже, а порою даже лучше тех специалистов, которые трудятся над индивидуальными проектами для заказчика.
К слову, такие стереотипные ранжировки в мире искусства встречаются сплошь и рядом. Типографы порою считают себя богами среди дизайнеров. Многим дизайнерам кажется, что иллюстраторы - всего лишь поставщики сырья для макетов книг, журналов и приложений. А профессиональные художники считают и дизайнеров, и иллюстраторов всего лишь ремесленниками, потому что наслаждаются в обществе статусом инакомыслящих, свободолюбивых, творческих, талантливых. При этом только единицы художников зарабатывают хотя бы десятую часть того, что получают за свою работу дизайнеры и иллюстраторы. Видимо дело в странном мире творчества, в котором хороший доход и востребованность - не самый лучший показатель успешности, уважаемости и признания? Здесь есть над чем задуматься.
Что до меня - я равнодушно пожимаю плечами, когда мне кто-то пытается сообщить, что профессия - дизайнер и иллюстратор в обществе куда менее уважаемая, чем врач, юрист, банкир или теперь уже и программист. Я провела 5 лет в стенах вуза, чтобы получить свою профессию. Причём сама финансировала своё образование и вложила немалые деньги и сотню часов своей жизни. За это моя профессия кормит меня и мою семью всю мою сознательную жизнь. Она, профессия, и связанные с ней доходы - один из ключей к счастью и достатку моей семьи. На этой ноте - пусть говорят! Время всё равно расставит свои собственные приоритеты.
|
Метки: помоги себе сам иллюстраторы и их работы insta |
100 лет Баухауса и Машина времени |
Прямые лини, минималистичные архитектурные конструкции, геометрические шрифты и узоры на тканях, металлические конструкции - простые, практичные, квадратные и складные. Вещи, которые являются своего рода общим знаменателем качества и вкуса для ценителей изысканного дизайна. Они объединяют в себе простоту, красоту, изящество и функциональность. Входит ли в этот список удобство - вещь скорее спорная. Но те, кто сегодня может позволить себе украсить собственный интерьер "Василием" или столами-матрёшками, придуманными выходцем Баухауса - архитектором и дизайнером Марселем Брёйером - считаются настоящими эстетами. Красиво жить не запретишь, учитывая сегодняшние цены на произведения, выполненные согласно стилю Баухауса.

Стул "Василий" - в честь Василия Кандинского, выполненный по дизайну известного выпускника Баухауса, немецкого-американского архитектора, художника и дизайнера - Марселя Брёйера (нем. Marcel Breuer, 1902-1981). Предмет интерьера, который стал действительно культовым. Источник.

Набор столиков B9 B9-9c, разработка 1927 дизайнером Марселем Брёйером. Bauhaus-Archiv Berlin, Foto: Gunter Lepkowski. Источник.
Ученики Баухауса - этого революционного для своего времени заведения - получали не только практические навыки, но и привыкали выходить за рамки стандартных мыслитльных структур, искать новые пути реализации собственного потенциала. Вещи, которые являются обыденными для многих учеников сегодняшних творческих вузов во всём мире. Давайте разберёмся, откуда у этого выросли ноги и куда привели.
Баухаус просуществовала всего 14 лет: с 1919 по 1925 год в Веймаре, потом до 1932 года после вынужденного переезда - в Дессау и всего 1 год до закрытия школы нацистами в 1933 в Берлине. Однако эта школа до сих пор оказывает сильнейшее влияние на нашу жизнь, хоть мы этого больше совершенно не замечаем или просто не знаем. Столь обыденными и привычными стали идеи, которые в начале 20 века заставляли бурлить умы и вызывали протесты и возмущение общественности.

Слева: здание высшей школы изобразительного искусства в Веймаре, в котором в первые годы разместилась школа Баухаус. Архитектор - Хенри ван де Вельде, фотограф - Луис Хельд, 1911 год. Справа: плакат Юста Шмидта (Joost Schmidt) к выставке Баухауса в 1923году.
Преподавателями, или как раньше было принято называть - мастерами, этой школы дизайна и искусства были такие потрясающие люди, как Йоханнес Иттен, Василий Кандинский, Анни и Йозеф Альберс, Пауль Клее. К тому же Вальтер Гропиус неустанно приглашал для проведения лекций или небольших курсов гостевых доцентов. Например, таких творческих провокаторов, как нидерландский художник, архитектор, скульптор и один из основателей группы «Стиль» (нидерл. «De Stijl», 1917) - Тео ван Дусбург (нидерл. Theo van Doesburg, 1883-1931). Здесь можно посмотреть весь список постоянных преподавателей и известных студентов Баухауса, которые оказывают влияние на мир искусства и в частности дизайна по сей день.
Веймарская республика и Баухаус
Интересным в Баухаусе было то, что впервые за всю историю художественных заведений в манифесте школы было провозглашено равенство между мужчинами и женщинами, к тому же к обучению официально допускались евреи и иностранцы. Ведь речь шла о новом устройстве школ в новой Веймарской республике (нем. Weimarer Republik, 1918-1933) - периоде демократической оттепели в немецкой истории после Первой мировой войны и революции 1918-1919.
Это было нелёгкое время, когда страна наконец-то освободилась от самодержавия кайзера и мечтала о новом, демократическом государстве. Привычный строй рухнул, но оставил в наследие тысячи ветеранов, катастрофальные международные отношения, упадок экономики и разруху. Немцам предстояло изобрести себя заново. Демократическая Веймарская республика, которой было суждено просуществовать всего несколько лет до захвата власти фашистами в 1933 году, далась очень большой кровью. Здесь можно посмотреть архивные фотографии революции в Германии и волнений зимы 1919 года.

Революция в Берлине 1918/19 года - конфликт между коммунистами - так называемыми "Спартаковцами" во главе с Розой Люксембург и Карлом Либкнехтом - и социалистическими властями - SPD - социально-демократической партией Германии. Из страха диктатуры пролетариата, как в России, SPD была вынуждена опираться на поддержку военщины. Среди бывших солдат было много сторонников фашисткой партии. На фото: "Спартаковцы" в январе 1919 года в газетном районе Берлина. Баррикады из бумаги перед издательстким домом Рудольфа Моссе. © Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek, Photothek Willy R"omer / Willy R"omer. Источник.

Фото Вилли Рёмера "Выборы к национальному собранию", 1919г. © Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek, Photothek Willy R"omer / Willy R"omer. Источник.
Традиционно, люди, которые получали классическое художественное образование, формировали вкусы своего поколения. Ниже - архивный снимок в художественно-ремесленной школе Берлина. Урок у профессора Коха.

Источник. Bildhauer-Werkstatt in der Unterrichtsanstalt des Kunstgewerbemuseums Berlin, Mitte: Prof. Max Friedrich Koch (1859-1930) © bpk/Kunstbibliothek, SMB, Photothek Willy R"omer/Willy R"omer.
Однако уже в конце 19го века ремесленные художественные школы и их выпускники оказались в глубоком кризисе. Они не могли угнаться за прогрессивными Англией и Фринцией, которые могли похвастаться не только новыми изобретениями, но и их красотой, а так же функциональностью. Казалось, что возможности новых технологий и материалов были безграничны, но только не для немцев. Споры об упадке вкуса в казерской Германии ожесточенно разгорались с каждой новинкой. Изделия казались многим современникам совершенно лишёнными смысла, деформированными и даже карикатурными. На Всемирной выставке 1851 года в Лондоне были найдены современные паровозы с античными украшениями, резные козлы из дерева, которые карабкались по огромным часам или ковры с тиграми, ползающими в джунглях. Люди были в полнейшем отчаянии от безвкусного дизайна многих изделий того времени.[11]
В Веймарской республике вопросы формирования вкуса, устройства новых школ и воспитания нового поколения грамотных специалистов стали вопросами государственной важности. В итоге Вальтер Гропиус [12] получил зелёный свет от нового демократического правительства Веймарской республики на основание Баухауса. А именно на создание школы, которая объединила бы в себе ремесленное и академическое художественное образование, поставленное на службу граждан страны.

Портрет Вальтера Гропиуса. Источник.
В первый год основания школы Баухаус "по мотивам" британского Arts-and-Crafts туда записалось куда больше женщин, чем мужчин, а немногие из студентов-мужчин были евреями и иностранцами. Если вы помните, исторически так сложилось, что выходцам из еврейских семей - не только в России, но и в Германии - d в основном дозволялось заниматься только торговлей или ломбардничеством (ростовщичеством). Та часть общества Германии, которая опиралась на поддержку армии и фашистких группировок и не хотела никаких перемен, стала оказывать давление на Гропиуса. А таких ультра-правых в партии, как показали события 1933 года, было больше, чем хотелось бы.
Результатом стало то, что даже в таком прогрессивном месте как Баухаус женщин поставили на обслуживание столовых, окучивание полей и садов школы, приготовление пищи. Единственным классом, в котором девушки могли получить художественное образование, стал класс ткацкого дела. Можете себе хотя бы на минуту представить ситуацию, чтобы сейчас современная девушка пришла в вуз, и ей сообщили: "Хочешь учиться у нас - подпишись сначала на обслуживание." Мол, у нас сейчас трудные послевоенные времена. Голод, нищета и вообще нужно сильное женское плечо для будущего мужского поколения художников и дизайнеров, которые изменят лик страны.
В итоге Баухаус всё равно прославился своими ученицами, хотя в преподавательстком составе оказались лишь несколько женщин-мастеров, которые, о неожиданность, преподавали ткацкое дело, дизайн тканей или гимнастику и музыку.[2] Но это уже отдельный разговор.
Баухаус в одной фотографии
Если вернуться к теме того, что же такое Баухаус и попытаться объяснить коротко, что это за зверь - у немецко-французского телеканала arte существует замечательный короткометражрный сериал Flick-Flack, в одном из эпизодов которого как раз и была предпринята подобная попытка объяснения по всего лишь одной фотографии. А именно вот этой.

Сидящая в театральной маске Оскара Шлеммера в стуле из стальных труб Марселя Брёйера, около 1926г. Фото: Erich Consem"uller, Bauhaus-Archiv Berlin / © Dr. Stephan Consem"uller. Источник.
В ней собрано много из того, что характеризовало Баухаус. Её автор - Эрих Конземюллер (нем. Erich Consem"uller, 1902-1957) - был студентом Баухауса, фотографом и художником-графиком, который создал по заказу школы более 300 инновативных для того времени фотографий. Именно благодаря этому материалу сейчас можно узнать многое о жизни школы.[8]
С большой вероятностью женщина в маске на фото - Лиз Байер-Фольгер (нем. Lis Beyer-Volger, 1906-1973)[5] - модельер и дизайнер тканей. Она тоже была в своё время студенткой Баухауса и создала невероятное скандальное для 1928 года платье. Ведь оно даже не закрывало колени. Именно в этом платье и сидит девушка на фото. Если вы посмотрите на него внимательно - это та форма летних платьев, которые носят многие современные девушки и женщины - и это почти 100 лет спустя! К слову о машине времени. Кстати, геометрические узоры на платье - тоже были чем-то невероятным для того времени и вещью весьма инновативной.

Слева фото Лиз Байер, справа фото её платья. Источник.
Чтобы вы понимали, почему платье Лиз стало скандалом, обратите внимание на фото ниже, как именно женщины начала 20го столетия одевались. Причём это на снимке вполне прогрессивные женщины, которые идут на демонстрацию.

Источник.
Сама маска, в которой девушка сидит на фото Конземюллера, сделана театральным художником, скульптором, дизайнером по костюмам и хореографом Оскаром Шлеммером (нем. Oskar Schlemmer, 1888-1943), который был одним из мастеров в Баухаусе. Одна из его знаменитых постановок - экспериментальный танец "Балет Триад" (нем. Das Triadische Ballett). Его идеи легли в основу многих современных экспериментальных постановок, а костюмы до сих пор просто поражают воображение.

Cлева: Портрет Оскара Шлеммера из архива Баухауса. Костюм по дизайну Шлеммера к "Балету Триад" - Академия искусства Берлина совместно с Баварским государственным балетом. Источник.
Современная постановка по Оскару Шлеммеру - совместный проект Академии искусства Берлина с Баварским государственным балетом: "Triadisches Ballett". Всю прекрасную фото-галерею можно посмотреть здесь.


Источник этой фотографии и статья о современных постановках балета здесь.
Стул "Василий", на котором сидит девушка в маске на фото, вы уже видели в начале этого поста. Оригинал был создан как комбинация традиционного кресла и велосипеда одним из выходцев Баухауса. А именно, как я уже упоминала выше, Марселем Брёйером (нем. Marcel Breuer, 1902-1981).

Слева: портрет Марселя Брёйера из архива Баухауса. Справа: вторая версия стула "Василий". Источник.
Так что действительно так и выходит, что в одном фото собрано многое, что характеризовало Баухаус: экспериментальность, инновативность, революционность, простота, вкус и изящество.
Правда и вымысел
В этом году тот же телеканал arte в сотрудничестве с немецким государственным каналом ZDF выпустили шестисерийный фильм "Новое время" (нем. Neue Zeit, 2019), в котором через историю любви одной из студенток Баухауса - Доротеи Хельм (нем. Dorothea „D"orte“ Helm, 1898-1941) - и директора Вальтера Гропиуса иллюстрируется короткая, но искромётная история школы.

Кадр из телесериала "Новое время". В главных ролях Аугуст Диль как Вальтер Гропиус и Анна Мария Мюэ как Дёрте Хельм
Бесполезно искать имя этой женщины в списке успешных учеников школы. Представленная в фильме история любви никаким образом не была подтверждена. В школе действительно было официальное расследование о том, в каких отношениях состояли Хельм и Гропиус, но всё так и осталось на уровне слухов. Поэтому история в фильме, по признанию самих создателей, - фиктивная.[3] Кулиса для повествования о том, что даже в прогрессивном Баухаусе женщинам отводилась обслуживающая роль, дозволялось учиться только на дизайнеров тканей и готовить обеды для мужчин-студентов, которые получали полное художественное образование.

Кадр из телесериала "Новое время". Подруга и сокурсница Дёрте Хельм за работой у ткацкого станка.
Но и здесь есть одно но. Именно Доротея Хельм, которую сокурсники называли коротко Дёрте, действительно получила от Гропиуса в своё время разрешение не участие в курсах монументальной настенной живописи, к которой девушки-студентки не допускались. А значит Дёрте удалось каким-то образом обойти строгие правила школы и настоять на своём, а точнее на том, что было изначально прописано в манифесте школы: равенство между мужчинами и женщинами. Потомки Дёрте открыли даже сайт художницы с работами, фактами и данными из её биографии, потому что были возмущены кривотолками и нездоровым интересом к своей родственнице.[4] К слову, это уже не первый фильм о несуществующем романсе Хельм и Гропиуса. Дым без огня тоже бывает - если его нарисовали и размножили.

Фрагмент фото-портрета художницы-иллюстратора Доротеи Хельм. Источник.
По словам потомков Доротеи Хельм, Гропиус никогда не просил руки Дёрте у её родителей. Доротея никогда не играла решающую роль в каких-то проектах, хотя была отмечена как их активная участница. В защиту жены Гропиуса - Изы, хотелось бы отметить, что в фильме ей совершено несправедливо отвели роль посторонней пустышки с деньгами. Что якобы Гропиус женился на ней только ради того, чтобы спасти Баухаус. Сам Гропиус не зря называл жену Фрау Баухас. Но это так - "хозяйке на заметку". Сам фильм снят с рядом красивых технических приёмов, хотя по сути дела жуёт историю несуществующей любви на фоне событий, предопределивших судьбу Баухауса.

Кадр из телесериала "Новое время". Не смущайтесь, что по фильму Дёрте - блондинка, хотя в жизни она была брюнеткой. Создатели хотели таким образом подчеркнуть то, что персонаж по большей части вымышленный, хотя такая художница дейтствительно существовала.
Наследие Баухауса
Сейчас, 100 лет спустя, многие из нас окружены мебелью, одеждой, дизайном, типографикой и архитектурой, которые появились на свет благодаря Баухаусу и его влиянию. Радикальные идеи Баухауса перевернули на границе столетий представление о том, как именно искусство может идти рука об руку с индустриализацией и потребительством.
Если вы погрузитесь в историю Баухауса самостоятельно, то будете выходить на улицу с так называемыми всплывающими подсказками вроде "Вот он складной стул в любимом кафе - появился на свет благодаря дизайнеру и мастеру Баухауса - Альфреду Арндту (нем. Alfred Arndt, 1898-1976).[9]" Вот оно любимое прямое платье до колена с геометрическими узорами, вот он гемометрический шрифт в каждом втором логотипе на улице и так далее.

Слева: портрет Альфреда Арндта, справа: его складной стул 1928г. из архива Баухауса
У меня к Баухаусу только одна претензия - невероятно безликая, угрюмая архитектура спальных районов. Это же просто невыносимо. Сама по себе идея создать нечто простое и функциональное, которое лишь изнутри наполнялось бы индивидуальным - прекрасна. Но в итоге за неё держатся мёртвой хваткой и узурпаторы, и капиталисты всего мира. При этом строят безликое убожество, которое продолжает уродовать облик городов абсолютно во всём мире.
С другой стороны, можно ли в этом обвинять именно Баухаус? Ведь те же фашисты, которые в своё время закрыли Баухаус, обратились к идеям школы, чтобы выстроить супер-функциональные концентрационные лагеря. Мерзко. Или то, к какому запущению в Европе в области художественного образования привела идея объединить ремесло с искусством и поставить их на службу индустрии - как минимум немецкий худ-народ не умеет теперь толком ни ремесленничать, ни рисовать. Столкнулась с проблемой, когда получала второе художественное образование в Германии.
Здесь всё, видимо, как с ядерной физикой. Можно сделать потрясающее открытие, вывести самые невероятные формулы и сформулировать сверхгениальные теории. Но при этом всегда найдётся кто-то, кто придумает, как из этого прекрасного и прогрессивного сделать оружие массового уничтожения.
А это на десерт - один из примеров изящной архитектуры Баухауса: дом-корабль "Шминке" в Лёбау, который был создан архитектором Хансом Шароуном для немецкого фабриканта Фрица Шминке - производителя макаронных изделий.[10] Речь об одном из знаменитых домов мира, в котором до сих пор можно остановиться на ночлег, снять квартиру или просто навестить.

Иточник
Кстати, на юбилейной странице "100 лет Баухаусу" в архиве можно посмотреть собрание знаковых работ Баухауса в области архитектуры, театра, печатной рекламы, фотографии, настенной росписи и работы со стеклом, керамики, дизайна мебели и текстиля.
--------------------
Источники
[1] www.bauhaus100.de
[2] Архивный материал о мастерах и преподавателях школы
[3] Wenn Omas Leben zum TV-Event wird
[4] Dorothea Helm: Leben und Wirken
[5] Lis Beyer-Volger
[6] Das Triadische Ballett: фотогалерея
[7] Marcel Breuer
[8] Erich Consem"uller
[9] Alfred Arndt
[10] Haus Schmincke
[11] Industrie und Geschmack
[12] Walter Gropius: Биография и работы
|
Метки: Германия design art artists мои статьи film mode мужчины и женщины художнику на заметку |
Головной убор дожа или Причудливые атрибуты власти |

Детали портрета дода Леонардо Лоредана - 75го дожа Венеции - кисти Джованни Беллини (итал. Giovanni Bellini, 1430 –1516), масло по осиновому дереву, около 1501г
Корона или шапка?
Хотя на первый взгляд кажется, что речь идёт о шапке, под её необычным внешним видом скрывается своего рода корона дожа - человека, наделённого верхновной властью. Дож (итал. dux - предводитель, князь) на протяжении почти 1000 лет выбирался весьма сложным, но демократичным способом на должность главы Венецианской республики. Многоступенчатый метод голосования был призван учесть интересы всех сторон и не допустить на высшую ступень власти в государстве ставленника отдельно взятых лобиистов, человека опасного или неспособного удержать в руках бразды правления. Когда дож был выбран, он представал перед народом, принимал присягу, в которой торжественно клялся действовать согласно законам и на благо государства, и символически венчался с Венецией, выходя в воды лагуны на корабле Бучинторо (итал. Bucintoro). На изображении ниже крупная галера справа с красной крышей и золотой отделкой. [2][3]

"Праздник обручения венецианского дожа с Адриатическим морем" кисти итальянского художника Каналетто (итал. Canaletto, 1697-1768)
Головной убор дожа принято называть Corno Ducale. Он действительно состоит из жёсткого обруча, представляющего собой корону, и небольшой жёсткой шапки в форме древне-фригийского колпака. Античный фригийский колпак делали из выдубленного куска кожи быка, а именно из мошонки. Причём сохраняли нетронутой окружающую меховую часть. По мнению древних народов подобный головной убор должен был придать его новому владельцу силу и упорство, присущие быку. Итак, со времён Античности фригийская шапка слыла символом мужской силы, потенции, жизненной силы, воинственности, свободы и даже божественности, поэтому пришлась весьма ко двору для украшения головного убора дожей [7].

Мозаика «Поклонение волхвов»; конец VI в., базилика Сант-Аполлинаре-Нуово, Равенна
Под корно дукале голова дожа покрывалась мягкой льняной шапочкой - камауро (итал. camauro). Дожу не дозволялось появляться в народе без своего головного убора - узнаваемого издалека символа власти. Исключение составляли только торжества - коронование и пасхальное шествие, когда обычный головной убор дожа заменялся на такой же, только более богато украшенный - например, драгоценными камнями и золотой парчой - и именовался Zogia.[5]

Детали портрета дожа Андреа Гритти кисти Тициана, National Gallery of Art, Washington D.C.
Корно дукале, сохранившиеся до наших дней
В мой последний приезд в Венецию этим летом я заглянула в музей Коррер на площади Сан-Марко и сделала несколько фотографий бюста, живописного портрета и сохранившегося корно дукале известного дожа Венеции Франческо Моросини (итал. Francesco Morosini, 1619-1694). Помимо своих заслуг в разрешении конфликта между Турцией и Венецией в Великой турецкой войне 17го века, дож прославился любовью к своей кошке, без которой он не выходил ни только на важные мероприятия, но даже в бой. Мумия кошки дожа так же выставлена в музее Коррер. К сожалению я так увлеклась предметами искусства, что кошку сфотографировала только издалека и в сильном искажении, но её немного видно на фотографии ниже рядом с бюстом дожа. Кстати, в книжных магазинах Венеции можно встретить много образцов прекрасно проиллюстрированных книг о доже и его любимице.
Франческо Моросини любил одеваться с головы до ног в красное.

Портрет дожа Моросини кисти Доменико Уберти, музей Коррер.
Ниже на фото сохранившийся корно дукале дожа Франческо Моросини из музея Коррер в Венеции.

А полюбуйтесь ниже на бюст Моросини руки итальянского скульптора времён самого Моросини - Джованни Комина (итал. Giovanni Comin, 1673-1695).

Меня поразило, с какой любовью к человеку он выполнен. Можете на секуду представить, чтобы портрет какого-нибудь современного политика изобразили, скажем, с завернувшимся от ветра галстуком? Художника в лучшем случае уволили бы. А здесь такая необычная деталь, как завернувшийся кружевной воротник, придаёт всему облику великого дожа некую простоту и человечность, которые сразу располагают к себе. Кстати, слева на правом снимке как раз немного видно мумию любимого животного дожа.

Ниже версия карнавальной корно дукале, которую можно приобрести в магазинах Венеции шикарным дополнением к изысканному карнавальному костюму дожа.

Так что традиция живёт и дальше не только на картинах, фресках и в скульптурах, но и в праздничных костюмах. И теперь если когда-то вы встретитесь с изображением шапочки дожа, то будете точно знать, что этот головной убор зовётся корно дукале, а его история берёт своё начало в далёкой Античности.
------------------------
Источники
[1] Джованни Беллини
[2] Doge von Venedig
[3] Венецианский дож
[4] Bucintoro
[5] Головной убор дожа Венеции, Corno Ducale
[6] Phryger
[7] Phrygische M"utze
|
Метки: italy art artists разные культуры удивительное рядом мои статьи insta художнику на заметку |
Как Джефф Кунс подарил себе Париж |
История была на самом деле весьма печальная. По факту Кунс подарил себе Париж в качестве выставочной площадки. Его как будто всего лишь посоветовали, сам он достойно и даже обиженно стоял в сторонке, когда французские деятели культуры подписали длинную петицию-протест против установки руки, утащенной у статуи Свободы, с импотентными тюльпанами вместо факела. Скульптура должна была стать чем-то вроде знака солидарности американского народа с французским. Ведь когда-то французы подарили американскому народу статую Свободы. Но ответный подарок вышел более, чем американский в духе "Радуйтесь, что мы соблаговолили". К тому же сам художник даровал лишь скетч в фотошопе, который потом распечатали для презентации - на фото ниже, а делать и устанавливать это добро французам пришлось самостоятельно и за свой счёт.

Джефф Кунс на фоне своего нового старого проекта в Париже. Фото отсюда.
Если вы помните, я вам тогда ещё предсказала, что скульптуре - быть! А все эти трепыхания вокруг, хоть и возмутительной, но громкой истории - дополнительная вирусная реклама Кунсу. На создание и установку этой скульптуры ушло в общей сложности порядка 7млн. долларов, которые, повторюсь, пришлось уплатить принимающей стороне из налоговой кассы и различных частных фондов. Поставить всё это благолепие собирались на одном из самых видных мест в Париже - на площади перед Дворцом Токио - Palais de Tokyo и музеем современного искусства Mus'ee d'Art Moderne.

Palais de Tokyo. Фото отсюда.
Как бы Кунс не притворялся беднюсиком, для него это был чистой воды бизнес, который принёс ему дополнительную славу без каких-либо затрат на пиар. Когда ему предложили в свете протестов поставить скульптуру в другое место - например, именно туда, где погибли люди, творец упёрся, что согласен на "подарок" только в том случае, если он будет установлен перед Дворцом Токио, потому что он там лучше всего будет просматриваться со всех сторон.[1]
Теперь, почти два года спустя, когда страсти вокруг "отравленного подарка" улеглись, ему всё-таки нашли другое место. Так как куда попало, вроде места трагедии, где в 2015 году погибли и были ранены сотни людей, не разместишь, драгоценный презент установили недалеко от Елисейских Полей между двумя другими знаковыми музеями Парижа: перед Малым дворцом (фр. Petit Palais) напротив Большого дворца (фр. Grand Palais) — одного из величественных архитектурных сооружений Парижа, известного как крупный культурный и выставочный центр.

Оригинал фотографии отсюда
На всякий случай уточню, что Малый дворец - это бывший выставочный павильон проходившей в Париже в 1900 году Всемирной выставки и городской музей изящных искусств с бесплатным входом, который включает в себя коллекции греческого, римского и египетского искусства, предметы эпохи Средневековья и Ренессанса, собрания книг и эмалей, картины голландских и фламандских мастеров XVI и XVII вв., коллекции мебели и гобеленов XVIII в., а также полотна французских художников XIX в., включая работы Делакруа и Сезанна.[3] Так что теперь перед этим знаковым и величественным музеем будет стоять "подарок".
Троянский конь был вчера. Сейчас в моде троянские тюльпаны. Ниже на фото они ещё упакованы и ждуть открытия "монумента". А я жду фотожаб этой работы Кунса. Делайте ваши ставки, как быстро вместо тюльпанов кто-нибудь пририсует альтернативу - что именно там может висеть в руке. Потому что этот "подарок" имеет куда больше общего с наскальными рисунками из трёх букв, чем трагедией ноября 2015 года.

Джефф Кунс "Bouquet of Tulips". Фото: dpa.
Я надеюсь этой осенью попасть снова к Малому Дворцу в Париже и порадовать читателей своего блога фотографиями этого "чудесного подарка" с разных сторон. Оценю, как он там "просматривается со всех сторон". Как сказала одна моя подруга: "А представь, если нам эта хрень понравится?" Я уверена, что понравится. Я ведь теперь просто обязана её заскетчить! А пока остаётся только ёрнически повторить: "Ну? Что я вам говорила!? "Подарку" - быть!"
----------------------------
Источники
[1] Pariser protestieren gegen Terror-Mahnmal von Jeff Koons
[2] Das ungeliebte Geschenk
[3] Малый дворец (Париж)
[4] Как сколотить капитал из трагедии или Страсти вокруг предпринимателя Джеффа Кунса
|
Метки: retrofuturism art artists мои статьи insta |
Артур Шопенгауэр о женщинах |
Несколько фактов о Шопенгауэре
Шопенгауэр слыл женоненавистником, но при этом имел весьма большой вес в культурных кругах во всём мире. Им восхищались Фридрих Ницше, Рихард Вагнер, Альберт Эйнштейн, Томас Манн, Курт Тухольский и Вильгельм Буш.[1] Сегодня Шопенгауэр был-бы кем-то вроде блогера, который писал бы к тому же очерки, эссе и книги по философии. Инфлуэнсером, так сказать. Народ обсуждал его тексты в различных литературных салонах того времени и волновался или одобрительно кивал головой. Только с поправкой на то, что, например, у женщин, на которых он так активно нападал своим слогом, не было возможности «оставить комментарий» или пожаловаться редакции, впрочем как и лобби, способного отстоять их интересы.

Деталь портрета Шопенгауэра 1859 года
У Шопенгауэра был крайне негативный образ женщины. Он утверждал, что мы существа второго сорта, слабые, бездуховные и неспособные к восприятию прекрасного: "По праву женский пол можно назвать неэстетичным. Женщины не восприимчивы ни к музыке, ни к поэзии, ни к изобразительному искусству", - писал он в своем эссе. Там же он утверждал, что по природе своей женщины лицемерны, их даже нельзя допускать к присяге. Более того - многие женщины просто воровки. Любовь между мужчиной и женщиной объяснялась по мнению Шопенгауэра исключительно животным влечением.
Несчастная любовь
Сохранилось только одно любовное стихотворение Шопенгауэра. Оно посвящено актрисе и оперной певице Каролин Ягеманн (нем. Henriette Karoline Friedericke Jagemann, 1777-1848), которая была на одиннадцать лет старше Шопенгауэра, и в которую он был безответно и несчастно влюблён в возрасте 21 года.

Деталь портрета Каролин Ягеманн
Каролин слыла своей красотой, талантом и воспитанием. Но в те времена актрисы были своего рода элитарными проститутками - куртизанками или содержанками. Не удивительно, что она отвергла тогда ещё зелёного и никому неизвестного Шопенгауэра. "Шлюхи должны умирать на соломе"- гласил лист бумаги, прибитый к входной двери успешной актрисы. Госпожа Ягеманн не пользовалась особой симпатией у добропорядочных граждан Веймара. То, что она, дочь библиотекаря, получала сказочную зарплату в качестве певицы и актрисы при дворе театра маленького городка и даже вращалась в кругах княжеской семьи, наблюдали с завистью, но терпимостью. Но когда она стала любовницей герцога Карла Августа из Саксонии-Веймара и со временем родила от него троих детей, терпение лопнуло. Уверенная в себе Каролин спокойно отнеслась к враждебности, ведь её талантом восхищался сам Гёте. Под его руководством она блистала во всех главных ролях на сцене Веймара.[2]
Разрыв с матерью
Ко всему прочему Шопенгауэр разругался со своей матерью - писательницей Иоганной Шопенгауэр (нем. Johanna Henriette Schopenhauer, 1766-1838). После смерти мужа, отца Шопенгауэра, женщина продала его фирму и дом в Гамбурге, после чего перебралась в Веймар, где кипела бурная культурная жизнь, и мадам Шопенгауэр по-настоящему расцвела. В Веймаре она вела литературный салон, постоянным гостем и гвоздём программы которого был Гёте. Иоганна была к тому же одной из первых, кто признал любовницу и позже жену Гёте - Кристиану Вульпиус, открыла для неё двери своего салона и позаботилась о её приятии в обществе. Гёте и его жена относились к Иоганне с благосклонностью на протяжении всей жизни. Один из самых известных и знаковых романов писательницы Иоганны Шопенгауэр - роман «Габриэла».
Мать Иоганна и сестра Шопенгауэра - Адель были на протяжении всей жизни прикованы друг к другу. С одной стороны потому, что они неопрометчиво вложили свои деньги в банк, который обанкротился, и потеряли львиную долю своего состояния. В итоге жили на остатки от наследства Адели. Во-вторых, потому что Иоганна была весьма расточительным человеком и пыталась из последних сил производить впечатление богатой, знатной женщины, загоняя семью всё дальше в долги. Сейчас бы её траты назвали вложением в маркетинг для поддержания имиджа. Ведь приёмы и вечеринки в литературном салоне стоили огромных денег, и нужно было держать лицо, чтобы не потерять положение и признание в обществе.

Слева Йоханна Шопенгауэр в возрасте 39 лет с дочерью Аделью в 1806 году кисти свободной художницы Каролин Бардуа (нем. Caroline Bardua, 1781-1864), справа портрет Йоханны до смерти мужа в 1800 году. На одном портрете она молодая, полная сил женщина, на другом, хотя шестью годами ранее, старушка.
Разрыв с сестрой
Под гнётом подозрений у Шопенгауэра разладились отношения с сестрой Аделью (нем. Adele Schopenhauer, 1797-1849). Он утверждал, что она заодно с Иоганной и покрывает её, при этом положила глаз и на его доходы, полученные от отца. При жизни он постоянно обвинял мать в том, что она растратила состояние отца, хотя та честно разделила его между детьми, и Шопенгауэр не остался в накладе. При этом Адель, разносторонняя и талантливая, ещё при жизни, в отличие от брата, стала признанной в широких кругах писательницей, отрабатывала долги матери текстами и переводами, со временем переняла на себя домашние хлопоты и надзор за финансами. «Благодаря» расточительности матери и банкротству банка, она была полностью лишена приданного и не могла по тем временам выйти замуж, была вынуждена работать за двоих, а позже не только содержать, но и ухаживать за послеинсультной матерью. Напомню, что мы говорим о 19 веке и полнейшем женском бесправии.
При этом сам Шопенгауэр жил в своё удовольствие без бед и хлопот, терзаемый внутренними демонами и отсутствием признания. В молодые годы мало кто интересовался Шопенгауэром-философом. Когда Гёте сказал Иоганне, что её сын получит в будущем широкое признание, потому что работал к тому времени с молодым Артуром над совместными очерками, эссе и позже над известным трактатом о цвете, она воскликнула, что в одной семье не бывает двух гениев. Ведь её дочь куда более талантлива. Увы, но Адель так и не смогла в полной мере реализовать себя, потому что только после смерти матери ей удалось отработать и вернуть долги Иоганны, привести в порядок собственное финансовое положение и отправиться в столь желанное путешествие по Италии. В нашем наследии осталось несколько литературных произведений Адель Шопенгауэр, которые переиздаются и продаются по сей день.[4]
Видимо, в своём эссе Шопенгауэр говорит именно о матери, сестре и двух подругах Адели, с которыми они жили одной семьёй - что женщины по природе своей живут стаями. При этом как удобно было удрать подальше от проблем и обязанностей и подозревать всех в алчности на расстоянии, в то время, как сестра и мать боролись за своё существование.
Печально, что в итоге этого озлобленного человека цитировали и приводили строки из его эссе в качестве серьёзного, обоснованного аргумента.
Итак, ниже перевод текста эссе Артура Шопенгауэра "О женщинах". Сразу оговорюсь, что разбираться с текстом 19 века и модными тогда оборотами и выражениями - то ещё удовольствие, но я постаралась сохранить оригинальный слог автора. На немецком название звучит как ""Uber die Weiber". В современном немецком слово das Weib практически не используется, потому что имея средний род - как какое-то неодушевлённое существо - уже звучит негативно и весьма близко к оскорбительному 'баба'. В немецком языке 19 века в обиходе были оба слова - Frau и Weib, но имели практически равное значение - женщина, супруга - и негативной коннотации не имели. Иллюстрации к тексту выбраны мною и носят скорее ёрнический характер, как можно понять под некоторыми комментариями к изображениям. Постарайтесь не закипать при прочтении на каждой строке, но вовремя подмечать интересные повороты и ход мыслей, и каким образом всё это лихо подкреплялось не самыми лицеприятными примерами из дикой природы и сопоставлением с чистой мужской "расой".
********
О женщинах
Артур Шопенгауэр, 1851 год. Оригинал на немецком ""Uber die Weiber". Внимание, там тоже только часть. Полная версия здесь: "Uber die Weiber
"Создавая женщин, природа стремится к тому, что в драматургическом смысле можно назвать эффектом взрыва. В молодости она вооружает их на несколько лет чрезмерной красотой, обаянием и пышностью, в ущерб всей оставшейся жизни. А всё для того, чтобы в эти годы они могли захватить воображение мужчины до такой степени, чтобы он был готов честно заботиться о женщине в любой форме и на протяжении всей жизни. И никакие разумные доводы не могут удержать его от этого решения.

"Рынок рабов", Отто Пилни, 1918г.
Таким образом природа снабдила женщину, как и всех других своих созданий, оружием и инструментами, необходимыми для выживания, и на время, когда она в них нуждается, но со свойственным природе бережливым отношением. Так же, как самка муравья после спаривания теряет крылья, которые отныне лишние, даже опасные для потомства, так и женщина после одних или двух родов теряет красоту, возможно по той же причине.

После «брачного полёта» и оплодотворения матки муравьёв обламывают себе крылья, чтобы основать новую семью или остаться в материнской колонии. Муравьиная царица Iridomyrmex purpureus роет нору, основывая новую семью. Via.
В соотвествии с этим молодые девушки совершенно не держат в голове ни проблемы быта, ни проблемы бизнеса и глубоко в душе считают эти заботы второстепенными, даже смешными. Единственно серьёзной профессией для них является любовь, завоевания и то, что с этим связано, например, вечерние туалеты, танцы и т.д.

Фрагмент работы Джона Эверетта Милле "Офелия", 1851—1852. Холст, масло. Галерея Тейт, Лондон
Чем благороднее и совершеннее создание, тем позже и медленнее оно созревает. Мужчина едва достигает зрелости разума и духовной силы к 28 годам, в то время как женщина уже в 18. Но в этом кроется и причина недоразвитости: женщины остаются детьми всю свою жизнь. Они всегда видят только то, что перед их носом, придерживаются только настоящего, принимают желаемое за действительно и предпочитают копаться в мелочах вместо занятий важными делами. Разум гласит, что человеку негоже жить как животному только в настоящем. Он должен пересматривать прошлое и мыслить о будущем, из которого вытекает его осторожность, забота и обеспокоенность.

Федотов Павел Андреевич, "Свежий кавалер. Утро чиновника, получившего первый крестик", Третьяковская галерея
Женщине трудно понять, в силу её скудного ума, преимущества и недостатки подобного. Они словно больны духовным близорукием, когда их ум интуитивно резко видит что-то вблизи, но имеет узкий круг обозрения, в который не попадают предметы удалённые. Поэтому все, что отсутствует, прошлое, будущее, имеет гораздо более слабое воздействие на женщин, чем на нас. От этого у них порою возникает склонность к безмерным и бездумным тратам, граничащая с безумием.
В глубине души женщины уверены, что участь мужчин - зарабатывать деньги, а их - тратить; по возможности уже при жизни мужчины или по крайней мере после его смерти. Одно то, что мужчина отдаёт им всё заработанное для поддержания домашнего очага, укрепляет их в мысли о своей правоте. Вопреки всем недостаткам, есть и положительные стороны. Пока женщина растворяется в настоящем больше, чем мы, она делает его более выносимым. Из чего вытекает присущая женщине безмятежность и радость, которыми она способна принести мужчине отдых и в случае необходимости утешение, необходимые для комфорта мужчины, обремененного заботами.

Маковский Владимир Егорович, "Варят варенье", 1876г, Третьяковская галерея
В сложных вопросах, по обычаю древних германцев, можно обращаться за советом и к женщинам: их понимание вещей сильно отличается от нашего, особенно в том, что им нравится идти кратчайшим путем к цели, и близлежащая точка находится по определению в их поле зрения. То, что мы в основном упускаем, именно потому, что решение лежит перед нашим носом, а мы зрим куда дальше. Нас потом трудно вернуть к более простому взгляду на вещи. Кроме того, женщины явно более трезвы по своей природе, чем мы, потому что они не видят в вещах большего, чем есть на самом деле. В то время как мы, если воспламенить нашу страсть, легко преувеличиваем то, что есть, или добавляем что-то воображаемое.

Jean-Pierre Saint-Ours, "Свадьба германцев", 1787г
По этой же причине можно сделать вывод, что женщины проявляют больше сострадания и, следовательно, больше человеколюбия и участия по отношению к несчастным, чем мужчины: но в вопросах справедливости, честности и совести они уступают им. Вследствие слабого ума настоящее, осязаемое, реальное оказывает на них столь сильное воздействие, против которых асбстрактные мысли, афоризмы, принятые решения, и вообще осмысление прошлого и будущего, призрачного и далекого полностью проигрывают.

Вот почему, оказывается, Гераська утопил крошку Муму
Соответственно, несправедливость можно считать фундаментальным недостатком женского характера. Это связано прежде всего с вышеупомянутой скудностью разума и отсутствием рефлексии. К тому же как существа более слабые, они по природе своей должны расчитывать не на силу, а хитрость: отсюда и их инстинктивное коварство и неуничтожимая склонность ко лжи.
Ибо так же, как природа снабдила льва когтями и зубами, слона и кабана бивнями, быка рогами и каракатицу чернилами, она наделила женщину лицемерием и притворством, для защиты и обороны в такой же мере, в какой наградила мужчину физической силой и разумом. Вследствие этого, притворство – врождённое женское качество, присущее как глупым, так и мудрым женщинам. Использовать его при первой возможности как оружие для женщин так же естественно, как для упомянутых животных пускать в ход клыки и бивни при нападении. При этом они ещё чувствуют себя правыми. По этой причине правдивая, безупречная женщина – вещь скорее невозможная.

Понятно теперь, кто придумал Троянского коня - женская бригада в донайской армии. Забудьте Одиссея и Эпея. Кадр из кинофильма «Троя» 2004г.
Именно поэтому они так легко распознают чужую ложь настолько, что даже не стоит пытаться их обманывать. Описанный выше основополагающий недостаток характера и все вытекающие последствия порождают ложь, нелояльность, предательство, неблагодарность и т.д. Женщины гораздо чаще, чем мужчины, виновны в лжесвидетельстве. Можно было бы вообще усомниться в том, можно ли их допускать к присяге. Время от времени случается и так, что дамы, которым нечего терять, украдкой берут вещи и крадут из торгового магазина. (Простите, но слов нет. Ищу упавшую челюсть под столом.)
По сути единственная причина существования женщин – пропаганда собственного пола. Роль, в которой они полностью растворяются. Поэтому они скорее живут группами, чем отдельными индивидуумами. И в сердце своём они больше озабочены проблемами своего рода, чем индивидуальными. Всё это придаёт их натуре и их действиям своего рода легкомыслие и полностью противоположное мужчине направление. Из чего собственно и проистекают разногласия в браке.
Это низкорослое, узкоплечее, коротконогое существо с широким тазом мог назвать прекрасным только мужчина, одурманенный половым влечением. По праву женский пол можно назвать ни прекрасным, а неэстетичным. Женщины не восприимчивы ни к музыке, ни к поэзии, ни к изобразительному искусству и совершенно ничего не понимают в этом. Они лишь мимикрируют и притворяются. Они совершенно не способны к иксреннему участию в чём-либо. И причина этому в следующем. Мужчина стремится во всем к прямому господству над вещами, либо понимая их, либо завоевывая. В то время как женщина всегда и везде претендует косвенно на власть, а именно с помощью мужчины, которым она хочет управлять. Поэтому по природе своей женщины воспринимают мужчин лишь как средство, а их участие является лишь симулируемым. Обходной путь к власти посредством кокетства и обезьянничества.
Женщин называют sexus sequior – слабым полом, из чего исходит, что речь о людях второго сорта, которые отстают во всех отношениях и поэтому требуют к себе более трепетного отношения, которое порой граничит с нелепостью, к тому же унижает нас в их собственных глазах.
Когда природа разделила человеческую расу на две половины, разрез не прошёлся прямо посередине. Несмотря на полярность, разница между положительным и отрицательным полюсами не только качественная, но и количественная. Так что древние европейские и восточные народы смотрели на женщин и отводили им куда более правильное место, чем мы с нашим старо-французским галантством и безвкусным поколением женщин. Этим высокоразвитым цветком христианско-германской глупости, который распустился во всю красу и сделал девиц настолько высокомерными и жестокими, что порою они уже напоминают святых обезьян в Бенаре, которые, осознавая свою святость и неприкосновенность, позволяют себе всё, что им угодно."

Авраам Тенирс, "Парикмахерская с обезьянами и котами"
********
Можете себе представить, какими кругами по воде пошли слова из этого эссе на заре зарождения эмансипации, когда женщины стали поднимать голову и требовать права на обучение, право политического голоса, право на самоопределение? Насколько многим пришлось ко двору объяснение, почему женщин нельзя допускать к образованию и в политику - они же, дескать, все равно глупые, лживые и вороватые. Увы, но это наша история, и её нужно знать, чтобы не попадать снова и снова в одни и те же ловушки сознания, останавливающие наше общество в развитии.
---------------
Источники
[1] Verkannter Philosoph und Frauenverachter
[2] Todestag von Karoline Jagemann
[3] Arthur Schopenhauer: "Uber die Weiber
[4] Daniel Schubbe, Matthias Kossler "Schopenhauer Handbuch: Leben, Werk, Wirkung"
|
Метки: знаменитые люди Германия art artists книги и авторы art projects мужчины и женщины |
Что такое синжери? |

Фрагмент работы Авраама Тениерса "Синжери, обезьяны арестовывают ночью кота", масло по дереву, 31,1 X 26,2см. Угадайте, на какое литературное произведение пародия? :-)
В этом году я побывала в прекрасном особняке мадам Эпрусси де Ротшильд близ Ниццы, среди экспонатов которого находится небольшая коллекция статуэток из «Обезьяньей капеллы», стоимость которой, однако, можно оценить в круглую сумму с многими нулями.

Эта серия фарфоровых фигурок — один из самых известных предметов искусства в жанре синжери производства немецкого фарфорового завода Майсен (нем. Meissen по одноимённому названию города), который в 18 веке стал первой европейской фарфоровой мануфактурой.[1] К сожалению, внутри виллы у меня остались только телефонные фото обезьянок, поэтому немного страдает качество.


Сначала мастера Майсена повторяли формы и росписи посуды Китая, которые пользовались огромным спросом у европейской знати.[2] Но во второй половине 18 века, с приходом мастера Иоганна Иоахима Кендлера (нем. Johann Joachim K"andler, 1706–1775), который создавал модели, по которым производились фарфоровые изделия, фабрика стала выпускать помимо изящной посуды прекрасные, увеселительные статуэтки. По словам Алёны Фроловой, заведующей сектором зарубежного искусства Дальневосточного художественного музея, в котором хранится одна из статуэток 18 века, с периодом творчества Кендлера на майсенской мануфактуре связан расцвет малой скульптуры. «Именно Кендлером заложены основы майсенского пластического стиля, для которого характерны грациозность и жизнерадостность.»[3]

Как вы уже поняли, героями всех произведений жанра синжери являются обезьяны, которые ведут себя, как люди и имитируют их поведение. Работы в этом жанре были весьма популярны среди знати, особенно во Франции. В некоторых имениях, например как в замке-резиденции Шантийи (фр. Ch^ateau de Chantilly), обезьянками оформляли целые комнаты, обтягивая стены и мебель тканями с мотивами синжери. Полы устилались коврами с обезьянами, а стены украшали многочисленные статуэтки, рисунки и картины. Кстати, как правило графика известного французского синжери-художника Кристофа Хюта (фр. Christophe Huet, 1694-1759) служила образцом для майсенского ансамбля сложных, расписных статуэток с обезьянками.

Реставрационные работы в замке-резиденции Шантий. Больше фотографий здесь. [5]
После обжига фигурки-обезьяны направлялись прямиком в Париж. Так, например, одна из самых первых статуэток оказалась во владении Мадам де Помпадур, любовницы короля Людовика XV.[4] Приведённая ниже фигурка, размером всего 13 см и называется "Пианист". Вся коллекция состоит из более 30 музыкантов-обезьян.

Фото отсюда.
Кендлер создал свой причудливый оркестр впервые в 1753 году, после чего образцы многократно повторялись и вариировались в производстве вплоть до наших дней. В соответствии с модой того времени, Кендлер иронично и с юмором, но вполне вежливо, подносит к носу тогдашнего общества своеобразное зеркало, в котором отражаются привычки и традиции времени.

Фото отсюда
Cейчас различные версии оркестра, как впрочем и его подделки, можно увидеть по всему миру. Однако только оригинал содержит характерный синий логотип Майсена с пересакающимися мечами. «Обезьянья капелла» была и остаётся прекрасным напоминанием сатирического жанра в искусстве под названием синжери.

---------------
Источники
[1] Майсен: официальный сайт мануфактуры
[2] Делфтский фарфор, Тюльпаномания и другие страсти по синему
[3] Статуэтка из «Обезьяньей капеллы» в собрании Дальневосточного художественного музея
[4] Affenkapelle
[5] La Grande Singerie
|
Метки: Германия art artists мои статьи Франция керамика вдохновение художнику на заметку insta |
Женское искусство хуже мужского? (Часть 2) |
Может мужчины просто талантливее?
Известный философ и мыслитель 19 века – Артур Шопенгауэр (нем. Arthur Schopenhauer, 1788- 1860) утверждал в своих трудах, что как художники женщины совершенно бездарны.[5] Причём ровно до того момента, пока в 1860 году известная скульптор Элизабет Ней (нем. Elisabeth Ney, 1833-1907) не подарила закоренелому шовинисту идеально выполненный бюст, изображающий его самого в наилучшем виде. К слову, Элизабет была первой женщиной-скульптором, которая могла содержать себя и гражданского мужа благодаря своему творчеству.[1]

Слева фото Элизабет Ней в её ателье, справа выполненный ею бюст Шопенгауэра.
К сожалению, слова Шопенгауэра ложились на весьма благодатную почву. Большинство мужчин, да и самих женщин того времени, были уверены в том, что материнство и прислужничество, в том числе и сексуальное, – предел мечтаний для особей женского пола. И если вы думаете, что Шопенгауэр – это давно и неправда, то спешу заверить, что ещё в 20 веке его охотно цитировали при аргументации целостности мужского искусства и несостоятельности женского. Мол, сам Шопенгауэр вынес вердикт!
Да и сейчас всё ещё на каждом шагу можно встретить подобную гендерную дискриминацию, которая подкрепляется словами: «Мужчины лучшие художники, или почему их настолько больше, чем женщин?»
Но, простите, о какой развёрнутой деятельности женщин можно было вообще говорить, если, к примеру, в такой развитой европейской стране как Германия гражданский кодекс вплоть до 1977 года содержал в себе следующее предписание: «Каждая женщина, которая хочет работать, обязана получить на это разрешение мужа».[2] До 1 июля 1958 года супруг, если ему так хотелось, мог по собственному усмотрению и без согласия жены подать заявление о её бессрочном уходе с работы. Некоторые источники утверждают, что речь шла о тех случаях, когда мужчина мог доказать в суде, что дома некому присмотреть за детьми. Лишь тогда он мог подать заявление об увольнении женщины без её согласия. Что всё равно возмутительно, на мой взгляд. О самоопределении и самореализации женщины не могло идти и речи.
В Баварии учительницы были вынуждены жить как священнослужители – в целибате. Если они выходили замуж, то были вынуждены увольняться. А всё потому, что по контракту учительница была обязана посвящать всё своё время взращиванию чужих детей. Если только у неё появлялись свои – она якобы больше не могла работать в профессии, потому что должна была растить собственных отпрысков. Кстати, мать художницы-керамистки Барбары Хольтмайер как раз была такой учительницей. Поэтому вышла замуж только в 40 лет и ещё успела родить двоих детей. Но она была скорее исключением из правил. В основном женщину ставили перед жёстким выбором: семья или карьера. Причём выбор был почти всегда в пользу первого, ведь у беременной женщины не было других вариантов. [3]
Женское образование
На заре 20го века для девушки из буржуазной семьи хорошее образование и светские манеры были важной составляющей, но обеспечивались они скорее на любительском уровне – гувернантками, специальными школами или лицеями для домохозяек. Целью любой приличной женщины было замужество. И именно оно означало конец занятиям живописью, дизайном, иллюстрацией, литературой или музыкой. Приобретённые навыки должны были всего лишь услаждать супруга и гостей благородного семейства. О профессиональном занятии творчеством не могло быть и речи.
Талантливую сестру известной художницы-импрессионистки Берты Моризо – Эдму – постигла именно такая участь. В замужестве она, как и полагалось приличной женщине того времени, полностью отказалась от живописи, хотя была не менее одарённой, чем Берта.

Painting of the artist's sister, Edma Morisot by Berthe Morisot, 1869
Берта Моризо боялась участи сестры, ведь не мыслила своей жизни без живописи. Будучи весьма привлекательной и умной девушкой, она была окружена поклонниками и предложениями руки и сердца, но упорно отказывалась их принять. Приводя тем самым в полное отчаяние родителей.
Однако, даже Моризо, при всей необычности взглядов на судьбу женщины, не была бунтаркой настолько, чтобы надеть брюки и подписываться мужским именем, как знаменитая современница Моризо – французская писательница Жорж Санд, урождённая Аврора Дюпен. Берта даже не решалась протестовать против светских приличий. И так как нравы того времени предписывали девушке выходить на улицу только в сопровождении, художница была лишена возможности работы на пленэре или в кафе. Тем более работать с обнажённой натурой. Вещь, которая была и остаётся важной составляющей художественного академического образования. Максимум, что дозволялось изображать художницам - одетых взрослых или полуобнажённых детей.

Мария Башкирцева, «Ателье», 1881, холст, масло.
Авторы издания «Женщины в искусстве»[4] так говорят о положении женщин-художниц: «Вплоть до конца 19 века женщинам воспрещалось находиться в присутствии обнажённых моделей. Весомое ограничение, учитывая то, что в те времена работа с моделью являлась предпосылкой для создания популярной в то время мифологической живописи, впрочем как жанровых, исторических и ландшафтных сцен.»
И если сегодня кто-то крутит носом, что многие женщины до сих пор рисуют только детей и цветы, то речь не о чём ином, как о последствиях веками налагаемых ограничений, которые нам только предстоит преодолеть – нравится нам это или нет.
Пожертвовать семьёй – типично женское решение?
Работы той же Берты Моризо – это женские и детские образы, повседневные домашние хлопоты, невинные пейзажи. В её работах нет эпатажа, нет ярких событий. Возможно, это тоже было причиной недооцененности со стороны публики. И тем не менее, Моризо нашла своё счастье: вышла замуж за человека, который был её самым ярым поклонником и всячески поддерживал. Моризо даже стала матерью, не растеряв при этом страсть к живописи.

Berthe Morisot (1841-1895) Le berceau 1872, RMN-Grand Palais (Mus'ee d'Orsay)
Первая женщина в Мюнхенской академии художеств – Мари Элленридер (нем. Marie Ellenrieder, 1791–1863) была одной из первопроходцев среди европейских художниц, получивших профессиональное академическое образование.[7] И хотя Мари была весьма талантливой потретисткой и даже придворной художницей, цена решения посвятить себя искусству была высока. Она отказалась вполне осознанно от брака и детей, потому что рассматривала свой талант как божий дар. А значит была обязана оставаться бескомпромиссной на своём пути и оставаться только художницей, лишая себя семейного счастья. Выбор, который приходилось делать мало кому из мужчин.

Слева автопортрет Мари в 1820 году, справа работа художницы "Святая Цецилия с лютней" 1833 года
Софонисба Ангуиссола, которая, как и Мари, была придворной портретисткой, так же уплатила цену долгого безбрачия. Её наставлял сам Микельанджело, а молодые Питер Пауль Рубенс и Антониус Ван Дэйк учились у художницы и cоздавали копии её произведений. Знаменитый Джорджо Вазари беспредельно восхищался её талантом. Но, несмотря на это, имя этой одарённой художницы было забыто и вычеркнуто из истории искусства на несколько столетий![8]
Доктор наук Марта Шад в своей книге «Самые знаменитые женщины в мировой истории»[9] дает о художнице довольно сухую справку. А между тем судьба закинула Софонисбу в одиночестве в чужую страну. Причём прожить она могла только своим талантом, так как была незамужней до довольно преклонного по меркам 16 века возраста – до 40 лет.
В 24 года её имя гремело по всей Европе. В 28 лет она была портретисткой при мадридском дворе. Она писала портреты королевской семьи и наставляла других художников. Если вы знакомы с биографиями придворных художников, то наверняка можете себе представить, какие связи, средства и интриги были нужны, чтобы художник мог заполучить подобное «теплое место». И теперь задумайтесь, насколько велик был талант этой женщины и её влияние на могущественных людей того времени, что хотя Софонисба была иностранкой и незамужней, никто не оспаривал её право на почётное и прибыльное место придворного художника. И тем не менее, даже несмотря на своё положение и признание, Софонисба была человеком зависимым и подневольным. Испанский король был её официальным опекуном и распоряжался жизнью женщины до глубокой старости. И хотя Софонисбе удалось проявить стойкость характера и даже во второй раз выйти замуж по-любви, испанский король был вне себя от ярости, что у него не испросили разрешения. Однако, простил художнице подобную вольность в знак уважения её таланта.

Автопортрет Софонисбы с учителем Бернардино Кампи, холст и масло, 1550г via
Удивляться тут, конечно, не приходится. Ведь всего пару десятков лет до рождения Софонисбы женщин вообще за людей не считали. И именно Возрождение и распространение гуманизма в Европе дало им право, пусть на сравнительно короткое время, на саморазвитие и реализацию. И если бы ни эта короткая оттепель, мир никогда бы не узнал другую потрясающую потомственную художницу эпохи Возрождения с весьма трагичной судьбой – Артемизию Джентилески (итал. Artemisia Gentileschi, Artemisia Lomi, 1593-1653), которая пошла ещё дальше и стала первой женщиной, избранной в члены Академии живописного искусства во Флоренции — первой художественной Академии Европы.

Self-Portrait as a Lute Player, 1615–17
Сколько талантливых женщин нам бы подарила история, если бы оттепель эпохи Возрождения переросла в настоящую смену климата? Но увы. Даже женщины-коллеги Мари Элленридер во второй трети 19 века были вынуждены всего несколько лет спустя освободить залы вузов - женщинам в очередной раз запретили официальное образование, которым могли во все времена наслаждаться мужчины.
Страна, в которой не было дискриминации, всё равно не помогла?
Естественно, вполне легитимно спросить, почему в такой стране, как Советский Союз, где женщина была таким же полноценным членом общества, как и мужчина, не засияли на творческом небосводе сотни, может быть даже тысячи огней женского пола? Двери вузов были как будто для всех открыты. К тому же официально в СССР не было дискриминации по половому признаку. В чём же дело? И хотя каждый из нас знает, что эта дискриминация была, этот вопрос меня озадачил. Я стала опрашивать всех знакомых, кого из советских художниц люди могут вспомнить без того, чтобы гуглить.
Естественно, многие тут же вспомнили имена таких потрясающе талантливых художниц как Мария Башкирцева (1858-1884), Зинаида Серебрякова (1884-1967) и Наталия Гончарова (1881-1962). Вот только небольшая поправка: ни одна из них не была именно советской художницей. Более того, и обучение, и основные годы жизни этих женщин прошли вдали от Родины. И даже известная советская скульптор-монументалист Вера Игнатьевна Мухина (1889-1953), которая, как выразилась одна моя знакомая художница, заткнула всех коллег-мужчин по самую шляпку, и скульптура которой «Рабочий и колхозница» стала символом СССР, получила своё образование скульптора в Париже.[10]
Но об этом в следующей части моего рассказа.

Вера Игнатьевна Мухина в своём ателье
-----------------
Источники
[1] Biographie von Elisabet Ney
[2] Женский день и каково пришлось инициаторам - немецким женщинам
[3] Lehrerinnen mussten ledig bleiben
[4] Frauen in der Kunst (edition suhrkamp)
[5] Arthur Schopenhauer: "Uber die Weiber, Артур Шопенгауэр о женщинах
[6] Frauen in der Kunst
[7] Marie Ellenrieder: Als erste Frau an deutscher Kunstakademie
[8] Софонисба Ангишола и судьба женщины в эпоху Возрождения
[9] Самые знаменитые женщины в мировой истории
[10] Краткий курс истории. Вера Мухина
[11] Artemisia Gentileschi
|
Метки: знаменитые люди art artists мои статьи art projects мужчины и женщины insta |
Импульс от пульса |
Напоминает мне одну историю с пьяной подругой. В школе мы дружили вчетвером. Трое из нас приехали после первого курса вуза домой на каникулы, а одна не поступила и провела весь этот год дома. Смартфонов и скайпов тогда не было. Компьютеры были только в каких-то невероятно крутых офисах. Интернет и подавно - невиданное чудо света. Звонить по межгороду - дорого. Оставались только бумажные письма, но как-то на первом курсе не до переписки с друзьями было. Решили отметить встречу и как-то странно захмелели от простого «Советского».
Вышли из кафе, сидим в парке на скамейке - ноги идти не хотят. Подруга поворачивается к нам «понаехавшим домой» и начинает в пьяной патетике толкать речь: «ПасмАррите только на себя! На кого вы пАххожжи-и-и-ик! И Бальмонта вы наверняка не читали!»
Посыл фильма «Puls» такой же: Бальмонта вы не читали, торчите в телефоне, как зомби, и ходите табуном по кругу, управляемые непонятно кем.
Интересно, а почему никто не критикует, что нам несколько раз в день нужно пить? Как зомби какие-то пьём и пьём эту воду! Пьём и писаем. И так по кругу. Или читаем и читаем. Смотрим и смотрим. Дышим и дышим.
Коммуникация, возможно, потребность далеко не базовая, но отрицать ее необходимость как минимум глупо.
Да, жизнь изменилась. Критический взгляд нужен и важен. Только зло - оно не в гаджетах. Оно, как обычно, в нас самих. В том, что мы делаем с новыми возможностями и технологиями.
И Бальмонта почитайте, ага. Не помешает :-)
|
Метки: film |