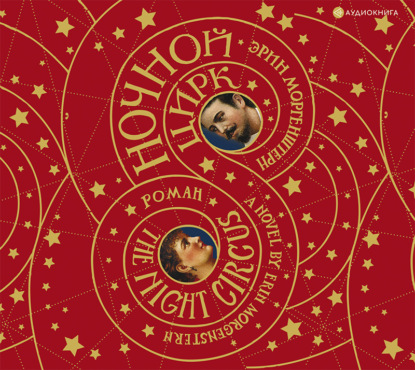-Поиск по дневнику
-Подписка по e-mail
-Постоянные читатели
-Статистика
Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.
Исходная информация - http://chto-chitat.livejournal.com/.
Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss/??ac108cb0, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.
По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.
[Обновить трансляцию]
Посоветуйте пожалуйста |
что-нибудь художественное (скорей всего, НФ, хоррор, магреализм, но не обязательно), убедительно описывающее нечто нечеловеческое, неподдающееся пониманию и от этого жуткое. И желательно чтобы поменьше про межчеловеческие отношения при этом.
Идеальный пример — «Зеленое письмо» Стивена Холла, это прямо 100% то.
Еще «Перевал Дятлова» загадочного Алана Бейкера, написано не литературно (или стилизация) и не про группу Дятлова, но жутко неимоверно и именно то, чтО хотелось бы читать. Некие иные миры, проникающие в наш, при этом их чужеродность в центре сюжета, а не фоном к людским междусобоям, как, например, у Кинга.
У Лема есть много про ограниченность познания, но прочитано. «Нездешние» Беккета тоже. «Извне» Лавкрафта тоже, конечно.
Вандермеер прочитан, Данилевский тоже, про Стругацких и Кафку знаю — но экзистенциальное все равно про людей, а постмодернизм немного не то, тут бы скорей классической фантастики, где авторы писали о немыслимом, используя приемы реализма.
Наверное, такого не очень много написано, но, может, коллективный разум сработает.
Спасибо!
|
|
Донато Карризи "Дом голосов" |
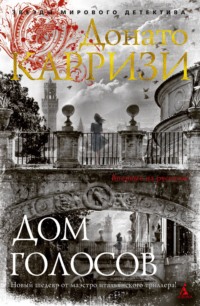
Пьетро Джербер - детский психолог из Флоренции. С помощью гипноза он помогает маленьким жертвам или свидетелям преступлений вспомнить и рассказать важные для следствия или суда детали, а также отличить правду от вымысла. Однажды Джерберу звонит коллега аж из Австралии, мол, к ней обратилась молодая женщина по имени Ханна, дабы путем гипноза навести порядок в голове, однако во время первого же сеанса у нее внезапно всплыло воспоминание об убийстве, которое она совершила, будучи ребёнком. Жертва, мальчик по имени Адо, как помнится Ханне, покоится где-то в полях Тосканы, и теперь она летит в Италию, дабы разобраться, правдивы ли эти воспоминания. И пусть доктор Джербер - детский психолог, по таким случаям он мастер, так почему бы ему не помочь бедной женщине. Пьетро соглашается и, нетрудно догадаться, тем самым вляпывается в отборную жуть.
Пролог захватывающий: семья с ребенком в бегах, причем не первый день, на этот раз они прячутся на отдаленной ферме. Ребенок, девочка, приучена соблюдать правила безопасности, но что-то все равно пошло не так и в дом врываются... кто? по какой причине? что такого сделала эта семья, что некто положил столько сил на выслеживание и преследование? Автор не делает секрета из того, что эта девочка - Ханна, однако остальное интригует.
Карризи умеет нагнать мрачняка, но не депрессивного, а приятно триллерного, обещающего что-нибудь этакое . Эта книга не стала исключением - история жутковатая, напряженная и запутанная, развивается быстро, все чертовски загадочно и интересно.
А вот финал неоднозначный, и оставляет простор для толкования: то ли автор намеренно оставил ряд вопросов без ответов (это означало бы, что разгадка подкачала) , то ли некая персона в романе просто спятила - и если так и есть, то следовало хоть чуток это подчеркнуть, ведь как вариант развязки такой поворот был бы совсем неплох.
Но общее впечатление неплохое, большую часть книги было интересно.
|
Метки: триллер |
"Мареновая Роза" Стивен Кинг |

На самом деле, я Рози,
Я Рози настоящая.
Советую запомнить это.
Со мною шутки плохи.
Она в моей топовой тройке кинговых романов, которая выглядит, как: "Талисман", "Мареновая Роза", "Колдун и Кристалл". Именно под этим заглавием, с репродукцией Дали на обложке и в переводе Олега Рудавина. Говорю об этом, потому что как-то случилось, что мою зачитали (слово из старых времен, нынче уже надо объяснять: это когда у тебя брали книгу почитать, да так и не возвращали, а ты не могла вспомнить, кому давала или по деликатности стеснялась стребовать).
Так вот, мою зачитали, а хотелось вернуться, купила "Розу Марену" не то в Сарновском, не то в Покидаевском переводе и то была совсем другая книга, может и не хуже, но не та, не смогла читать, пока не нашла в букинисте точь такую, как прежняя моя. Было важно иметь этот роман и время от времени перечитывать его.
Ничего личного, о самоотождествлении с героиней в части чудовищного брака не может идти и речи. Не скажу того же о картине. Понимаете, о чем я: сначала ты бежишь из мучительных, неправильных, не своих отношений. Куда угодно, неважно куда. Но потом, оставив их позади и зализав раны, нужно найти, к чему стремиться: вот река и женщина на холме, она горда, сильна, независима, она держит свою жизнь в своих руках и никому не позволит дурно с собой обращаться - буду как она!
Дальнейшие события, впрочем, покажут, что гордость, независимость и умение самостоятельно распоряжаться своей жизнью вовсе не так обаятельны в непосредственном общении, как при взгляде издалека. А носители этих качеств могут быть не менее опасными, чем давно знакомый психопат и садист. Но в одном ты не ошибалась: шагнув сюда, попадаешь в иной мир, пусть глубоко чуждый, неуютный, полный опасностей, но в тот, где платят. И за выполненную с риском для жизни тяжелую работу, эта опасная женщина заплатит тебе.
Вопрос, снесешь ли плату? Стивен Кинг оттого и гениален, что не просто блестящий рассказчик, умеющий напугать, растрогать, насмешить (нечасто,но случается); не только создатель безупречно прописанных миров и героев, которым безусловно веришь. Даже не тем, что посвятил лиру заботе о малых мира сего, кто сам за себя сказать не умеет, и добился серьезных изменений в отношении общества к домашнему насилию, защиты и социальных гарантий для них.
Кинг удивительно хорош со временем, предусматривая развитие событий в перспективе. Он никогда не бросает героев наедине с открытым финалом, даже просто с хэппи-эндом, непременно рассказывая, как произошедшее отразятся на дальнейшей жизни. Модная нынче тема травмы, в его романах была естественной прежде всякой актуальности. Ты попробовала быть жестокой однажды, дала демонам ярости войти в себя Будь готова, к тому, что избавиться от них будет не так просто, а контролировать собственную склонность к агрессии станет все труднее.
Так а о чем все-таки книга? Ну, в двух словах, молодая женщина, вышедшая замуж совсем юной, а вскоре потерявшая в результате аварии всю семью, остается наедине с мужем, садистом и психопатом. Заперев ее на роли домохозяйки и ограничив все контакты с миром, он полностью подавляет ее волю, избивая за малейшую провинность - за то, что сам считает провинностью. Одновременно внушая, что все полицейские братья, кто осмелится пойти против одного из них, будет жестоко наказан (он офицер полиции, знаете ли).
Кошмар этого брака продолжается четырнадцать лет. Пока одна единственная капля крови на наволочке - у нее иногда идет носом кровь от постоянных побоев и весь комплект белья нужно тотчас переменить, потому что если Норман увидит кровь, он изобьет ее, и если поменять только наволочку - он изобьет ее за лень и нерадивость. А чистого комплекта, как на грех, нет. И тогда она думает: что, если в следующий раз или через неделю, через месяц, год, он ударит недостаточно сильно, чтобы убить, но достаточно - чтобы покалечить. И Рози встает, и уходит, прихватив кредитную карточку мужа, с которой снимет только триста долларов, на автобусный билет в далекий город, где у нее никого нет.
Она встретит там людей, которые дадут на первое время приют и помогут с работой. А зайдя в ломбард, чтобы заложить обручальное кольцо (с бриллиантом, стоимостью почти как бьюик - так говорил Норман, оказавшееся дешевеньким дутышем с фианитом. Кто бы сомневался!) Зайдя в ломбард, меняет символ своего несчастного брака на картину, которая словно бы позвала ее. На картине, спиной к зрителю, женщина в алой (мареновой) тоге с белой косой, сильная, гордая и независимая.
А дальше все начнется. Потрясающая книга. и да, в ней было первое упоминание об аудиокнигах, с которым я вообще встретилась в жизни, еще не зная, что спустя четверть века, они станут более привычной реалией моей жизни, чем бумажные.
|
Метки: Кинг |
Мыслишка о будущем литературы в сети |
"Оттого ли, что мы ещё не достигли гражданской зрелости, или оттого, что в наши сердца самой природой вместо principes вложена масленица, только в нас как-то ничего этакого солидного не имеется."
Начал искать эту цитату в интернете и обнаружил, что в двух онлайн вариантах книги "Помпадуры и помпадурши", которые я нашел , нет целой страницы текста с рассуждениями о принципах и масленице! а в моем собрании сочинений 1951 года - есть.
Могут быть разные варианты - почему так случилось, самый очевидный - источник был взят из издания в другой редакции. Но мыслишка то появилась - а кто вообще хоть как-то следит за тем, что выкладывается в сети? в смысле - следит за соответствием источнику? ну если не принимать в расчет правообладателей, я сейчас не о деньгах, а о литературе. По моему - никто ни за чем не следит. Поэтому допускаю, что через сто лет, читатель, зашедший в сеть (ну давайте пофантазируем и предположим. что тогда еще останутся читатели) и открывший книгу, ну скажем - "Как закалялась сталь" - прочитает труд о изготовлении эльфийских клинков времен войны с гномами. А книга Носова "Незнайка на Луне" - сократится до размеров анекдота. Как-то так.
|
|
Дети Исана. Кхампхун Бунтхави. |
Я прочитала книгу писателя Кхампхуна Бунтхави «Дети Исана». Этот роман рассказывает о детстве лаосского мальчика в тридцатые годы прошлого века. Исанцы - это лаосцы, ставшие подданными короля Сиама. Меня удивило, что из 68 миллионов населения Таиланда (данные за 2016 год), 22 миллиона - это исанцы, а еще 6 миллионов - это жители северного Таиланда, которые тоже являются этническими лао.
В книге описывается путешествие к далекой реке нескольких семей, покинувших на время свои засушливые и голодные места. Люди наловили много рыбы, заквасили ее, наелись от души за многие месяцы и вернулись с добычей домой.
Главный герой романа - мальчик Кун. На вопрос « Кем ты хочешь быть, когда вырастишь», мальчик Кун ответил – «Вьетнамцем, у них много добра на продажу». Мама мальчика тоже хорошо относится к вьетнамцам - «Если бы мы, исанцы, брали пример с вьетнамцев, то не страдали бы от голода». Вьетнамская семья живет в этом поселке и принимает лягушки в обмен на товары, одежду. Там есть еще и китайская семья. Отец мальчика, которого ребенок обожает, вьетнамцев не любит. Он говорит сыну –« Давай перессорим вьетнамцев с китайцами и посмотрим, что выйдет» . Мать Куна вмешивается в воспитательный процесс -«Да, стравим китайцев и вьетнамцев и вернемся спать под дырявую крышу».
Отец отказывается переезжать из этого места, хотя уже многие уехали, и мать Куна тоже готова переехать. Отец говорит: « Нет, не перееду, раньше и по 4 года засухи стояли, но никто не умер, а если уж умирать, то здесь». Отец не может сделать выгребную яму, все бегают в лес по нужде, во время обратного пути домой сломалась повозка именно у отца Куна, он долго не мог собраться с силами , чтобы перекрыть крышу. Но мальчик его любит всем сердцем, жалеет, считает лучшим отцом на свете. У мальчика доброе сердце. Он любит и мать и обеих сестренок.
Он талантливый. «Ему хотелось подпрыгнуть и, сорвав солнце неба, выбросить его куда-нибудь подальше». « Он хотел выучиться, а если родители не дадут ему возможности выучиться, то он убежит». Он ходит в школу босиком, да, в пекло по горячему песку сложно ходить. Правда, иногда школу закрывают, так как дети заняты вместе с родителями поисками еды. Он любит смотреть на поединки буйволов. Он ходит с сетками, плетенными матерью, на охоту с отцом. Запоминает его советы. Отец не глуп, у него есть нужные умения: он учит Куна пользоваться арбалетом, показывает, что достаточно поймать только самца лягушки и тогда все остальные не квакающие самки сами прибегут на зов. Почему - то при своих знаниях и умениях, необходимых в тех условиях, и при своем веселом и неунывающем характере, он позволяет семье умирать с голоду. По поводу умений - из всей деревни только один человек может залезть на кокосовую пальму и сорвать плоды. И это не отец мальчика.
Да, похоже, отец Куна в своем нежелании менять жизнь к лучшему не одинок. Многие остаются, хотя голодают, сидя на сверчках, мангустах, пауках, муравьях, это если удастся еще их поймать. Только поучают друг друга. «Что ты себе яму выгребную не сделаешь», « себе выкопай». « А почему вы не переезжаете в другое место», « а вы сами почему не переезжаете». Староста говорит на собрании «А вдруг придут воры грабить наш скот? Где найти смельчаков, которые смогут защитить деревню». Да, « нарядных полицейских» в деревне нет, мать объясняет мальчику это тем, что у них в деревне все спокойно. Староста только радуется, что из 8 призывников ни один не прошел отбор в армию и все остались дома.
В романе описываются религиозные обряды, а также традиции вековые. Меня удивила безусловная любовь мальчика к отцу, абсолютный страх перед переменами у большинства мужчин деревни, ну и стали понятны поучения экскурсоводов в Паттаейе о том, что на тайцев нельзя давить и погонять их тоже нельзя.
Я сделала для себя свои маленькие открытия. Еще узнала, что кхмеры делают себе татуировку на ноге, чтоб защитить себя от укусов змей и собак.
Этот роман входит в перечень 50 книг, которые следует прочесть тайцу в течение жизни, в 1979 году произведение получило высшую литературную премию Юго-Восточной Азии.
|
|
Демон-гуманист, или «Мельмот Скиталец» Чарлза Метьюрина |

Готический роман. Классика. Первое издание – 1820 год.
Пока было в процессе, казалось длинно, нудно, скучно, усыпляюще, а вот закончил и – вещь-то серьезная, очень серьезная. И значительная. В том числе и по оказанному на последующую литературу эффекту: Эдгар По, Бальзак, М. Булгаков, "Портрет Дориана Грея", альтист Данилов et cetera.
С точки зрения дня нынешнего противоречиво и в чем-то даже наивно. Вроде бы ужасы, но… нет там никаких ужасов. И демонов никаких нет. Хотя герои в постоянном напряжении и на грани нервного срыва – ну, со слов автора. Но от того, что вам десять раз повторят слово "страшно" страшно не будет. А больше-то пугаться не от чего.
Рассказ в рассказе и далее в периоде. С такими подробностями и таким количеством прямой речи, что совершенно невероятно. Разве что демонические силы какие привлечь – чтоб сохранили и по цепочке передали.
Природный испанец, никогда до того не бывавший в британских владениях, попадает в Ирландию – и в разговоре с аборигеном через фразу прибавляет "сэр". Смешно. Двенадцатилетний мальчик пусть и умный от природы, но ни в каких университетах не обучавшийся, даже хоть сколько-нибудь приличных домашних преподавателей не видевший, выдает такие суждения да так оформленные, до которых любому современному взрослому, как до луны. Смешно вдвойне. То есть автор совершенно не утруждает себя необходимостью подстраиваться к собственным персонажам.
Церковь автор пинает активно. Преимущественно католическую. Пуританам тоже перепадает. А вот англикан отчего-то не трогает. Нет, не по догматике – по части мирского бытия. Испанскому обществу достается: лицемерие, ханжество, самодовольство, косность, социальные язвы опять-таки. Можно подумать, английское чем-то от испанского отличается. Предвзятость налицо.
Сюжет… рассыпчатый. Получил в 1816 году один молодой человек наследство и через то приобщился к семейной тайне. Да только оказывается, про тайну ту знает половина континентальной Европы. Вплоть до провинциальных трактирщиков. Но все молчат. Потому что бояться. Хотя вроде бы никому худо еще ни разу не было. Однако наследнику удается то бумажку какую с каракулями найти, то разговорить кого. И тайна, по-прежнему оставаясь тайной, приобретает определенные формы. Занимательно, но чрезвычайно многословно. Натурально индийское кино!
В общем, ляпов много. Но книга все-таки притягивает. Отчего?
Несмотря на антураж, это не сказка. А фантастика. Почти научная.
Жил-был Мельмот. Образованный. Умный. Прогрессивных взглядов. Любознательный и энергичный. И заинтересовал его потусторонний мир. Как научная проблема. И стал он эту проблему изучать. В какой-то момент что-то пошло не так. А может, так, как и должно было пойти. Научный прорыв, так сказать. Пусть и с последствиями. В общем, в известном смысле это гимн науке. "Безумству храбрых поем мы песню…" Но не завидуем. Потому что плата высока. Чем такой ученый отличается от какого-нибудь Кука, которого съели открытые им дикари? Кто хочет в Куки?
И возник Скиталец. Демонический.
Кто он, Скиталец? Демон? Может, и демон. Но… благородный. И человечный. Вот, как ни странно. Искушает и заманивает, но… сам же старается этому воспрепятствовать. Чего только стоят его бесконечные переспросы жертв о переподтверждении согласия! Неудивительно, что за полтора века он так никого и не соблазнил. За то и наказан. Еще раз.
Демон-гуманист. Как это не похоже на всем известного Мефистофеля!
Или человек, и в демоническом обличье не забывающий о своей человечности?
Любопытный момент, которого автор коснулся, но… не заметил и прошел мимо. Можно ли полюбить посланца дьявола? И как расплачиваться за то? Любовь ведь не обуславливается свободой воли – по желанию не влюбишься. Любовь – божественный дар. То есть Бог принуждает человека влюбиться в подручного дьявола, а потом за это его наказывает? Или то не Бог? Или то не дьявол? Или различия между Богом и дьяволом не так уж велики? И рушится вся система христианского мировосприятия (и шире – авраамического). Вопрос… Настоящий прорыв. Был бы. Если бы автор акцентировал проблему… А вышла лишь печальная история Иммали/Исидоры.
В прошлом году по роману появилась рок-опера. Сюжет безбожно переврали, как водится, – очевидно, никто из творцов так и не осилил весь текст целиком (более 50 авторских листов, для тех, кто понимает). Но что-то все же уловили, раз тема Скитальца поднята вновь. Метьюрин продолжает будоражить умы…
|
Метки: рецензия |
"Эшелон на Самарканд" Гузель Яхина |

А ведь и правда, хорошо было бы встретить чистую доброту! Круглую со всех сторон и не испакощенную грехами предыдущей жизни.
Есть писатели, как Алексей Иванов, настолько разные с каждой новой книгой: тема, язык, форма - что трудно бывает поверить, все они написаны одним автором. Есть, напротив, такие, кто словно бы раз за разом пишет одну книгу. Третий роман Гузели Яхиной - это снова Поволжье, двадцатые, голод, раскулачивание, полная опасностей дорога, сиротство и несвятые святые, спасающие тех, кого еще можно спасти.
Снова добро с кулаками и переосмысление коллективной травмы с позиций всех участников - всякий со своей правдой; с опытом горя, причиненного им и причиненного ему. Новая попытка осознания событий вековой давности с даруемой дистанцией сложностью и полнотой, без ошельмовывания одних и вознесения других.
И новый виток абьюза. На сей раз не на этапе премьеры сериала, получения крупной литературной премии или хотя бы выдвижения на нее. Даже не тогда, когда роман уже всеми прочитан. Инициированной обвинением в высшей степени абсурдным. С комментариями, авторов которых порой трудно заподозрить в наличии иного мозга, кроме спинного. Ну, то есть, с той же степенью обоснованности Яхину мог бы обвинять в плагиате поэт Николай Клюев, тоже писавший страшные вещи о голоде в Поволжье.
Что же в ней такого, в этой молодой хрупкой женщине, которая последовательно деконструирует страшные страницы нашей истории? "Да это все ради хайпа!" - кто-нибудь скажет. И будет неправ, я вас умоляю, она ж не Ольга Бузова, да и не того рода это популярность, какой желал бы снискать уважающий себя писатель. Чем так злит она стада питекантропов? Молодостью? Хрупкостью? Талантом? Принадлежностью к женскому полу? Непринадлежностью к титульной нации?
Тем, что осмеливается поднимать темы, до сих пор будящие в нас лютый ужас, стыд, чувство вины. Что, проговаривая боль и горечь коллективного бессознательного, пытается примирить нас с прошлым. Не с тем, в котором "революционный держите шаг, неугомонный не дремлет враг", "на горе всем буржуям мировой пожар раздуем" и "комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной".
И не с тем, где "мы живем, под собою не чуя страны", "Затем, что и в смерти блаженной боюсь забыть громыхание черных марусь, забыть, как постылая хлопала дверь, и выла старуха, как раненый зверь" и "цветик мой дитячий, над тобой поплачет темень да трезор".
Но с тем, "что, когда положат на весы всех тех, кто не дожили, не допели, в тайге ходили, чёрный камень ели, и с храпом задыхались, как часы. а что, когда положат на весы Орлиный взор, геройские усы и звёзды на фельдмаршальской шинели? Усы, усы, вы что-то проглядели, Вы что-то недопоняли, усы!" и "только я, став слепым и горбатым, отпущу всем уродством своим, тем, кто молча стоит с автоматом над поруганным детством твоим."
А еще тем, что написала на эту тему вестерн, точнее - истерн (у нас - на восток). С набором свойств присущих лучшим образцам жанра: интересный, яркий, захватывающий, страшный, в меру сентиментальный (не "Ночевала тучка золотая" Приставкина на близкую тему, над которой я рыдала, помню, до полной утраты красы). С героями, в которых влюбляешься и хочешь им подражать. С немыслимыми приключениями и неожиданными поворотами сюжета.
По ходу действия раскрывая тайны, которых прежняя наша литература не касалась. Да. я про ссыпной пункт. То есть, всякий, наверняка, думал о том, куда девалось экспроприированное продотрядами добро, ведь куда-то это все направлялось, где-то складировалось. Но ничего более-менее внятного на эту тему не говорила ни она из читаных раньше книг. Здесь ответ будет, в непосредственной близости описания вымирающих с голода деревень, и Гузель Яхина рисует эту сцену с присущими ей тактом и деликатностью, без надрывно-кликушеских интонаций. Так было. Просто так было.
Мы здесь не за тем, чтобы вперить гневный взор и направить перст указующий. Не для новых плясок на костях. Мы за тем, чтобы спасти, накормить, обогреть - дать будущее детям, которые иначе погибнут. Знаете, ведь у нас, при всей изобильности советской литературы, освещавшей послереволюционные годы, очень мало обращений к теме беспризорничества.
Только и вспоминается, что "Ташкент - город хлебный" Неверова, "Республика ШКИД" Белых, Пантелеева, да "Флаги на башнях" Антона Семеновича Макаренко и это всюду причесанное, приведенное к некоему общему подцензурному знаменателю, социальное явление. Помню, как меня наотмашь хлестануло "Переводчиком" (The Translator) Джона Краули, который обращается к этой теме с присущим ему умением спокойно говорить о страшном. Я лишь тогда осознала, насколько и теперь равнодушно наше общество к страданиям самых бесправных своих членов.
Яхина имеет мужество обратиться к этой неявно табуированной теме, бестрепетно касаясь того страшного, с чем приходилось сталкиваться детям: болезни - не в последнюю очередь венерические, ранние беременности, волчьи законы внутри стай, сексуальная эксплуатация всех форм. Это тоже не может не вызывать негодования "блюстителей нравственности", которые не читали (и вряд ли прочтут), но на всякий случай заранее осуждают. Да и черт с ними. Жизнь расставит все по местам, а "Эшелон на Самарканд" отличная книга.
Добрым быть —это не слезы лить над бедными лежачими! А погрузить их в вагон — голыми, без еды — и отправиться в Туркестан! Добрым быть — это молока им в пути добыть и мяса! И довезти до Самарканда.
|
Метки: русская современная историческая |
"Анахрон" Хаецкая, Беньковский |

- Сигисмундс, ми йедем Крэмл когда?
- Никогда, - сказал Сигизмунд.
- Патамутто? - строго спросила Лантхильда.
- Патамутто мы живем в другом городе. - Подумав, Сигизмунд добавил: - Лантхильд живет в Петербурге. В Петербурге нет Кремля. И слава Богу!
Время действия - конец девяностых, с четвертьвековой дистанции вполне себе ретро, место - город на Неве. Мелкий предприниматель Сигизмунд Борисович Морж, внезапно обнаруживает девицу в гараже возле дома, где держит старенький жигуленок. Девка более, чем странная, одета не по погоде в какое-то домотканное тряпье, грязна до последней степени и лопочет на непонятном языке.
Поначалу герой принимает ее за хиппи, наркоманку, бомжиху и собирается сдать с рук на руки участковому, но, приволокши домой, видит украшение - золотой полумесяц, эдак на полкило, подвешенный за простой потертый кожаный ремешок. К тому же, гостья поневоле, похоже, не умеет пользоваться туалетом, пугается бегущей из крана воды в ванной, завшивленна.
И, вместо того, чтобы сделать вывод, к которому мы с вами пришли мгновенно - девушку забросило из прошлого, Морж принимается множить сущности: она любовница преступного босса-извращенца, который держал девку буквально в черном теле, вытравив из нее все человеческое, но повесил ей на шею небольшое состояние.
И нет, он не выглядит на этом основании в наших глазах скудоумным, потому что каждый знает, что при всей приятности отвлеченных рассуждений на темы сверхъестественного, столкнуться с ним в своей жизни - упаси, боже. Если есть возможность смотреть и не видеть чего-то в упор, абсолютное большинство предпочтет ею воспользоваться.
Время, однако, идет, а отмытая и приодетая в цивильное, девка оказывается вовсе не так страшна, и главное, ее присутствие в жизни тараканоморца (его микробизнес инсектицидного свойства) Сигизмунда, придает ей, этой жизни сути, тепла и света. Которых сильно поубыло в последнее время, когда развелся, в придачу к свободе получив осознание фиаско семейной жизни, когда возраст Христа, а ничего значимого не достиг.
Когда ясно, что хорошее, что было в Союзе: стабильность, чувство защищенности от житейских штормов, право на законный оплачиваемый отпуск раз в году и возможность съездить в этот отпуск на курорт - ушло безвозвратно, а хозяином нового времени стать не сумел, да уже и не сумеешь. Не ездить тебе на мерине, не носить на работу костюма от Армани, не обедать в ресторане с вышколенными официантами и пятью переменами блюд.
Но с появлением в его жизни этой вахлачки, которую продолжает считать полуидиоткой, а красивой и вовсе не считает (по зрелом размышлении, пришел к выводу, что она бывшая пленница какого-то таежного тупика, вроде Агафьи Лыковой) - с ее появлением в нем проснулось желание заботиться о другом человеческом существе. Оберегать, защищать, учить, лечить. Такой, своего рода материнский инстинкт, подстегиваемый беспомощностью гостьи при отсутствии у нее выраженных дефектов.
И, знаете, я попробовала читать продолжение, которое многое объясняет, в частности появление Лантхильд; которое разворачивает конспирологическую теорию сталинских экспериментов, сопоставимых с деятельностью Аненербе; которое усложняет композицию книги, превращая ее из камерной истории на двоих в многофигурный авантюрный роман - да и бросила, чтобы не разочаровываться.
Потому что обаяние "Анахрона" именно в этой недосказанности, неопределенности мистического, в сочетании с абсолютной правдой жизни. ну вот явилась откуда-то тролль-дева, взял ее к себе, полюбил, потерял. И ни один из героев не делает бешеных лингвистических успехов, довольствуясь для общения "твоя-моя-понимай" при поддержке мимики и пантомимики (еще пиктограмм). И кобель у них такой же бестолковый, как в жизни (не как в книжках и кино).
Этому безусловно веришь, узнавая-вспоминая себя в то время и себя в том возрасте. Да, так оно было, да такими были мы. и да, мужья после развода не слишком вспоминали о том, что у них дети, да вообще не вспоминали, в большинстве. То есть, последнее, выпевая осанну книге, правильнее было бы опустить. Но как можно, если в этом немалая доля обаяния романа Хаецкой. Герой, которому безусловно сочувствуешь, регулярно отвечает бывшей жене на напоминания о нуждах сына: "Денег нет".
То есть, убери эту подробность, Сигизмунд куда более четко впишется в образ положительного героя, но и правды, а с ней веры истории, изрядно поубудет. А так, "Анахрон" в моей табели о рангах пример книги о попаданцах, которая литература. В отличие от многих произведений, позиционируемых как боллитра, которые макулатура.
|
Метки: фантастика |
Найти книгу |
Из книги помню только начало. Жанр антиутопия. Некая девушка с друзьями постоянно проводят время в сетевых играх, буквально с утра до ночи. Потом у нее что-то случилось с бабушкой и она просит одолжить ей денег, чтобы поехать туда. Друзья сыпят ей груду виртуального золота и камней, а настоящих денег не дают. Помню, что одежда там была одноразовая, утром одели, вечером выкинули. Какой-то бзик на микробах был. Потом у бабушки, которая была против всего современного, девушка училась есть обычную еду и одежду Что дальше было, не помню Кто поможет, моя благодарность!
|
|
книги февраля |
Токийский Зодиак
читает Суслов Максим
Первая книга из серии о Киёси Митараи, чудаковатом астрологе и разгадывателе детективных загадок. Присутствует некоторый перебор с зодиакальными сведениями, но если их пролистнуть - остальное интересно! Тип детектива - убийство в запертой комнате, когда надо разгадать не только - кто убил, но и как это вообще смогли сделать.
Содзи Симада
Дом кривых стен
читает Корольков Константин
Второй детектив из серии о Киёси Митараи, этот очень атмосферный. Тут целый дом - весь загадочный, сам кривой, полы наклонные, лестницы странные, кровати разные, всё чтоб усложнить жизнь прибывшим. А на дворе зима и снег, и пустоши вокруг.
При этом чувство долга узы чести и сдержанное слово. И внезапный Голем из Польши)
Захар Прилепин
Обитель
читает Геннадий Смирнов
Очень понравилось, просто не могла оторваться. По многим причинам, например там описаны все места на Соловках, где я была - и я ощущала приятное узнавание. Прилепин ещё как-то ловит все те чувства, комарьё, Белое Море, вся странность и одиночество этого места. Ещё захватило - потому что поначалу герою непрерывно фартит и читать становится всё страшнее - какая расплата догонит. Соловки же!
Да и просто - очень живое всё.
Кстати, во времени и в писателях очень трансформируется тема "виновность/расплата", и если Солженицын пронизан мыслью "все невиновные, ну кроме блатных", то у Водолазкина, Филипенко и Прилепина - настойчивое "виновен каждый". Очень надеюсь не присутствовать лично, когда маятник качнётся назад.
Иоанна Хмелевская
"Всё красное"
Перечитывала. Болела, лежала на диване, хотела лёгкого, весёлого и знакомого. В инсте собрала максимальное количество комментариев - именно про Хмелевскую, её любят все!)
Е.В. Кунин
Логика случая. О природе и происхождении биологической эволюции.
Глазами я читаю только в метро, только там совместимо действие(поездка) и возможность смотреть на текст.
Февраль короткий, а у Кунина 600 страниц, поэтому не успела целиком.
Дочитала до того места, где рассказывается, что эволюция это вовсе не победное шествие более сложных, более приспособленных и в целом "более лучших"(тм) форм жизни. А просто мусорных репликаций много образуется, а очищающий отбор работает плохо.
Эволюция сложности - тоже запускается, но НЕ когда у популяции успех, а когда "бутылочное горлышко" и размножаться в стороны невозможно.
По настоящему успешные и эффективные формы жизни просты и оптимизированы.(с) И боюсь, это сказано о вирусах, которые являются самой распространённой формой существования органической материи на планете по численности.
|
|
О картинках и цитатах |
В связи с этим хочу напомнить, что это сообщество - для обсуждения книг, а не для создания художественных коллажей. Основной материал вашего поста - ваш авторский текст. Если цитаты из текста и графические иллюстрации занимают больше места на экране, чем ваш текст - значит, их слишком много.
Доп. материал должен иллюстрировать ваши мысли. Если вы хотите обсудить иллюстрации к определенному изданию - флаг в руки, и размещайте обсуждаемые иллюстрации. Если вы обсуждаете язык произведения и хотите проиллюстрировать те особенности, о которых говорите - цитируйте. Но мы не пропустим пост, состоящий из трех фраз типа: «Прочитал Моби Дик, и мне понравилось, хотя и затянуто», плюс портрет Мелвилла, обложка трех изданий книги, три кадра из экранизации, клип о китах, песня про капитана Ахава и кружка из Старбакса. Плюс страница цитат.
Еще раз: если вы не можете показать пальцем, где в тексте вашей рецензии идет отсылка к цитате или картинке, скорее всего, им там не место. Исключения возможны, но, как правило, это так.
И последнее. Если уж вы вставляете картинку, то делайте это грамотно. Осмысленного размера, и, идеально, так, чтоб ее обтекал текст.
|
Метки: модераторское |
помогите найти повесть |
Эта повесть была кажется, напечатана в Пионере или Костре в 90-х...Главная героиня - девочка подросток, лет 12, из положительной семьи, с мамой и бабушкой-врачом. Она знакомится на улице с мальчиком (он вроде постарше, лет 13 или 14), который живет в подвале или на чердаке...Он то ли сбежал с детского дома, то ли сирота, которого не успели забрать туда...С ним по-моему, живет еще младший брат или сестра...Словом, дети подземелья. Они голодные, оборванные, но чем-то подзарабатывают, то ли машины моют, то ли что-то еще. Девочка им сочувствует, начинает приходить к ним. Еще к этим голодным ребятишкам приходила какая-то девушка, по прозвищу Жар-птица, приносила им еду кажется. Главная героиня пытается помочь, но про ее знакомых узнают родители и бабушка, начинают подозревать ее в каких-то грязных вещах, помню, что девочку ведут к врачу-гинекологу, и она там разбивает что-то. Чем закончилось — не помню, но чем-то трагическим. Кажется смертью младшего, или их обоих увезла милиция, что-то такое.
|
|
"Как я был Анной" Павел Селуков |

Я частенько был предметом, но никогда – гордости.
Вторая книга пермского писателя Павла Селукова, это снова сборник рассказов. Что можно расценивать, как смелость, во времена, когда твердят о смерти рассказа, а всякий пишущий склонен самовыражаться крупной формой: роман, на худой конец - повесть. Такого рода мегаломания хороша для издателя (стандартный формат) и автора (серьезность, солидность), но довольно неудобна для читателя, который мог бы по одному-двум рассказам составить представление о том, насколько автор ему интересен и хочется ли продолжать знакомство.
В то время, как крупная проза требует иных вложений энергии, времени, внимания, другого уровня читательской дисциплины. Галина Юзефович много говорила в недавнем Манифесте о сегодняшней нехватке читателей в некогда "самой читающей стране мира". У любой проблемы много корней, но нынешняя склонность автора и издателя вливать даже микросодержание в эпический масштаб, вернее способствует оттоку потенциально читающих людей к интернет-статьям, чаще всего сопоставимых размером с рассказом.
То есть, понимаете, потребность в коротких жизненных (или наоборот - максимально удаленных от обыденности) историях, имеющих зачин, основное действие и развязку, лучше в неожиданном, панчлайновом стиле - она никуда не делась. Но законодатели литературной моды отчего-то решили, что читателя надобно пичкать нетленкой в количествах, несовместимых с жизнью. Стоит ли удивляться, что многие ушли в чтение интернет-постов и статей?
Селуков пишет рассказы и со вторым сборником снова в точку. В том смысле. что незамеченным не проходит. В отличие от первой книги "Добыть Тарковского" персонажами которого были люмпены, словно бы законсервированные в лихих девяностых, в новом отчетливо звучит современность, хотя герои, по-прежнему, в большинстве сильно не от мира сего.
Рассказы можно условно разделить на три группы: 1. оммаж Андрею Платонову; 2. современность в гротескно-абсурдистском ключе, эти часто очень смешные; 3. дистопическая фантастика с сильным социальным подтекстом на тему ближайшего будущего.
Рассказы отчетливо платоновского звучания: от "Мальчика" до "В Архангельск к девочке-собаке" отмечены некоторой остраненностью с неяркой, но выраженной инверсивностью, характерной для платоновской прозы проспавших счастье и преодолевающих жизнь, с ее одновременной богооставленностью, богоискательством и пребыванием в Боге.
Во вторую группу, хотя, стоит помнить, что любое деление достаточно условно, я поместила бы "Игру в куклы", "Усыпить Банди", вообще, основной пласт рассказов сборника. И могу сказать, что они хороши, а с некоторыми я очень смеялась, "Слесари" и "Поэтический разбой" - прямо чудо.
Третья, фантастическая часть, включающая такие вещи, как "Бессмертный Пол и проклятые воронки", "2057 год, Пермь. Кински", "Хрустящего человека", титульный рассказ, "Как я был Анной" - достаточно оригинальна. Во всяком случае, многообразие бед и несчастий, обрушенных автором на наши головы в ближайшем будущем, позволяет восхищаться его изобретательностью и надеяться, что все это только в рассказах и останется.
Но я вообще считаю, что дистопическая литература приносит больше пользы, чем принято думать. Вот подсуетились же мировые правительства с вирусом, вместо того, чтобы привычно, в былом стиле, замалчивать проблему и пытаться решать ее локальными действиями (часто переходящими в драконовские меры). Да, со многим перегнули палку, но есть ситуации, в которых лучше перебдеть, и то был первый такого рода катаклизм. Потому - пусть будет.
Есть аудиокнига в несколько брутальном исполнении Ильи Дементьева, которое хорошо сочетается с тематикой и стилем селуковской прозы, читает он энергично, в хорошем темпе
|
Метки: русская современная |
"Литературный архипелаг" А. З. Штейнберг |

Шершавым языком философии
Тут же "Лилия Сарона"
(Говорю я про Арона)
Охраняем фило-софьей,
Посвятил немного слов ей,
"Он спал с Блоком" - озаглавив так, в сенсационном стиле желтой прессы, рецензию на "Литературный архипелаг", я могла бы привлечь к ней больше внимания, чем с нейтральным текущим вариантом. Даже не погрешив против истины. Мой герой, на самом деле, провел ночь в феврале девятнадцатого года, когда, после демонстрации эсэров, были арестованы многие видные представители интеллигенции, на одних нарах с Александром Блоком. Спасаясь от холода, они вдвоем приютились под огромной, с чужого плеча, беличьей шубой Штейнберга.
Блоку, который был ближе к стене, приходилось уничтожать клопов, проложивших дорожки по белой отштукатуренной стене сверху по направлению к нашей койке. Он недаром года два был на фронте помощником санитара и знал, что нельзя бороться со зловредными насекомыми иначе, как террором.
Не думаю, чтобы имя Аарона Захаровича Штейнберга было известно сегодня многим, включая знатоков Серебряного века, а между тем, в истории этого периода расцвета русской культуры он был заметной фигурой.
Произвел большое впечатление на Брюсова, по протекции которого вошел в круг знаменитых литераторов того времени - молодой выпускник Гейдельберского университета, философ, поэт и специалист по международному праву, стал ведущим рубрики "Философское движение" в журнале "Русская Мысль" выходившем под редакцией Валерия Яковлевича.
Был близок с Ивановым-Разумником (о котором я впервые узнала из этой книги, а меж тем, он являл собой весьма интересную персону). Очень дружен с Андреем Белым. Успешно отражал антисемитские выпады Петрова-Водкина. Водил знакомство с Николаем Клюевым, Маяковским, Есениным. Ремизовым. Сотрудничал с Мережковским и Гиппиус.
Был вхож к Луначарскому и просил заступничества для арестованных у Горького, многих таким образом удалось спасти. Не Гумилева, о казни которого узнал из информационного листка, какие расклеивали в то время на афишных тумбах.
Николай Степанович должен был выступить с докладом на Всемирном философском конгрессе, организацией которого тогда занимался Штейнберг. Разумеется, после этого известия мысль о Конгрессе стала даже не утопической, но абсурдной. Подготовку к нему пришлось свернуть, спешно развернув подготовку к эмиграции, пока она еще была возможна.
Из сказанного может создаться неверное впечатление, что Штейнберг был таким попутчиком, эпигоном без выраженных талантов, какие всегда сопровождают творческий процесс, в большей степени клакеры, чем равноправные участники. Но нет, поспешу разуверить вас. Дело в том, что при достаточной освещенности литературной и театральной сторон Серебряного века, мы практически ничего не знаем о развитии и движении философской мысли того периода.
А между тем, на протяжении пяти лет, с 1919 по 1924 у нас была Вольфила - Вольная философская академия (ассоциация у Штейнберга) и это потрясающе интересно. Представляете, сто лет назад, в начале двадцатых прошлого века, в России был проект, предвосхитивший успех оттепельной поэзии Евтушенко и Вознесенского, собиравших огромные залы. Где предметом интереса была даже не поэзия, но философские диспуты и открытые заседания философского общества.
Штейнберг стоял у истоков создания Вольфилы, руководителями которой стали Андрей Белый и Иванов-Разумник, а членами-учредителями выступили Блок, Мейерхольд, Петров-Водкин, Ремизов, Лосский и многие другие видные деятели эпохи. Целью своей Вольфила ставила исследование и пропаганду философских вопросов, осмысление которых необходимо для духовной революции, в стране победившей революции.
Утопично? Ничуть, просвещение не только никогда не бывает лишним, но в итоге даже способно творить чудеса, требуя лишь времени и относительно спокойной обстановки. Ни того, ни другого тогдашние обстоятельства не предоставили, благое начинание свернуто было по причине иных уж нет, а те далече. В сегодняшней России Вольфила возрождается и, наткнувшись на информацию об одноименном фейсбучном сообществе, я подумала, что непременно загляну.
Однако Штейнберг - это не только и не столько философия, не менее матери-истории ценен он возвращением Достоевского в круг классических русских писателей (ученики десятых классов, которых тошнит от петербургского детектива со старушкой, студентом и топором - теперь вы знаете, кого ненавидеть). А если кроме шуток, то канон раннесоветского литературоведения не признавал мрачного, горького, бесконечно рефлексирующего Федора Михайловича с его отчетливо евангельским звучанием сколько-нибудь значительной фигурой отечественной литературы.
Штейнберг был одним из первых достовсковедов, вернувших писателю статус классика и столпа культуры. сделав это с необычайной элегантностью, опираясь на науку, представителем которой был в преимущественно литературной среде Серебряного века. Смотрите, он возвел достоевские искания ни много, ни мало - к философии Платона. Это было мощно, ярко, необычно и очень своевременно.
Интересно, что антисемитизм Достоевского мой герой не то, чтобы оправдывал, но находил ему объяснение в изначальном неприкаянном сиротстве русского человека, выброшенного из ласковых объятий иудаизма, чье благотворное кланово-семейственное влияние невольно ощущает на себе всякий еврей. Достоевский по Штейнбергу предстает отчасти недолюбленным в детстве ребенком, несущим клеймо своей отверженности жизненным стигматом.
К большому сожалению книги "Система свободы Ф. М. Достоевского" и "Достоевский и еврейство" увидели свет уже в эмиграции, в Берлине, в 1923 и 1928 годах соответственно. Но этот период жизни героя выходит за рамки, очерченные "Литературным архипелагом"
|
Метки: мемуары серебряный век |
Испанский для начинающих |
С чего начинали читать?
Спасибо большое!
|
Метки: совет |
Лосев А. История античной эстетики. Т. 2. Софисты, Сократ, Платон. |

Лосев А.Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон Общее введение в античную эстетику периода зрелой классики М. Изд-во Искусство 1969г. 715 с. твердый переплет, бум. суперобл., обычный формат.
Данное эссе-рецензия не претендует на глубокую компетентность автора в вопросах истории античной философии или творчества Алексея Лосева, и носит скорее обзорно-полемический характер.
…Важнейшим документом взрывного развития человеческой мысли служит древнегреческая философия. Любой, кто интересуется развитием человеческой мысли, поневоле возвращается к крупным фигурам Платона и Аристотеля, Демокрита и Пифагора, Плотина и Прокла. Именно древнегреческая философия, а не атомистские идеи Прашастапады или логические конструкции Мо-Цзы. Любой философ в самом начале своих изысканий вынужден прикладываться к этому источнику мысли, в силу его гигантского культурного шлейфа, видимого и ощутимого по сию пору.
Почему именно они? Философы Древней Греции представляют собой опыт непосредственно миросозерцания, фактически, на основе рефлексии собственного опыта и придания зримых очертаний своей картине мира, особенно это проявляется в досократической философии. Рождение математики посредством геометрии, вычисление простейших закономерностей мира механики и движения, первичные мосты причинно-следственных связей, каждый из которых прокладывался по «нови» - вот что привлекает внимание любого мыслителя. Незамутнённый чужим опытом зрак…
Особое место в этом ряду занимает воистину титаническая фигура Платона, значение которого для истории развития мысли переоценить. Его диалоги написаны настолько противоречиво, сумбурно и туманно, что одна попытка осмысления написанного порождает множество конструктов и концептов, нередко противоречащих друг другу. Недаром сочинения Платона из раза в раз переиздаются, и по всему миру всё новые поколения переводчиков стараются разгадать тёмные места наиболее сложных фрагментов сочинений афинянина.
Свой, весьма своеобразный вклад в изучение греческой философии, в частности, в платоноведческие штудии, произвёл такой сложный и противоречивый представитель отечественной мысли, как Алексей Лосев (1893-1988). Сложно определить его место в развитии российского гуманитарного пространства, уж слишком это был своеобразный мыслитель. С одной стороны, он наследник специфического и самобытного направления русской религиозной философии, наследник Владимира Соловьёва и Павла Флоренского, протащившего их угасшие было идеи сквозь всю эпоху Советского Союза, в своей вере даже тайно принявший монашество. В тоже время, этот очень плодовитый автор, оставивший несколько сотен научных работ и десятки монографий, всю жизнь занимался в основном античностью, причём античной культурой, философией и мифологией, погружаясь в изучение античных философских трактатов и литературы. Лосев занимался историей музыки и математикой, вытаскивал из небытия творчество русских философов, в особенности – Соловьёва, прославлял средневековых теистов, в частности уделяя особое внимание Николе Кузанскому. Его принадлежит очень спорная, и в тоже самое время очень важная книга «Эстетика Возрождения» (1978), породившая волну рефлексии в отношении к Ренессансу. Необычную и колоритную фигуру Лосева сложно обойти при знакомстве с греческой философией, ведь ему принадлежит одна из наиболее объёмных и сложных работ по её истории.
Почему он изучал именно «эстетику»? Не «мифологию», не «картину мира», не «культуру» наконец, а именно «эстетику»? Лосев понимал эстетику, если можно так выразиться, как гармоничность, цельность мира во всех его проявлениях, и в прекрасных, и в уродливых. Эстетика античного миросозерцания, который автор явно считает провозвестников христианского мировидения, цельна прежде всего в своей космичности, всеобъемлющности и универсальности. Он одновременно и метафизичен и телесен, «геометричен», то есть «симметричен» в своей гармонии, и «музыкален» в своей абсолютной красоте. Главные сущностные категории античной эстетики, по Лосеву – «мера», «размеренность», «симметрия», «ритм» и «гармония». Философия античных мудрецов – описание выраженности космической гармонии, поиск неразрывных связей между метафизическим и телесным, сознанием и бытием, идеями и их воплощениями, попытка описания ощущения одновременно и покоя, и движения космоса, сплетаемого в единое целое, начиная от движения небесных тел и заканчивая связями мельчайших частиц материи.
Свой многотомный труд об античной эстетике Лосев задумал уже в 1920-е, в те времена, когда создавал «Диалектику мифа» и в открытую говорил о своём идеализме… за что и оказался на Беломорканале. Рукописи работы создавались и пропадали, горели, в прямом смысле, в огне, терялись в недрах издательств, цепких лапах рецензентов и цензоров. Первый том, посвящённый досократикам, увидел свет только в год семидесятилетия философа, в 1963 году, и почтенного старца уже было не остановить. Последний, восьмой том титанического цикла вышел в 1994 году, закольцевав тем самым авторскую версию модели античного мира, показав её в «целокупности».
…И нужно сказать, что многократно воссоздаваемый первый том серии действительно стал прекрасным путеводителем по досократической философии, и вообще архаичной греческой эстетике. В частности, прекрасный анализ мировидения гомеровского эпоса придавал великим поэмам больший объём и значимость, показывая нам закольцованную и чуть диковатую картину мира «богоравных ахейцев». Анализ классиков – Анаксагора, Парменида, Эмпедокла, Пифагора, Гераклита и иных выдающихся мыслителей приобретал у Лосева чёткость и логичность, которая сочеталась с общим осмыслением концепций, с отслеживанием логики умопостроений древнегреческих мудрецов, и его текст выходил далеко за пределы привычной истории философии. Например, анализ математической логики геометрических концепций космической структуры с прослеживанием чёткой арифметической логики каждой из них поражает своей точностью и логичностью.
Такой же точности и чёткости я ждал и от тома, который посвящён Платону. Я ожидал, что Лосев даст цельный и объёмный взгляд на философию платонизма, после которого можно будет с большим пониманием листать философские сочинения о греческой мысли, в том числе и объективно оценивать критику, например, от Карла Поппера. Однако я снова ошибся.
Конечно, работать с текстами Платона очень тяжело, каждый, кто хоть одним взглядом окидывал его диалоги, знает, насколько они сложны и противоречивы, как тяжко продираться сквозь софистические наслоения философа. Это признаёт и сам Лосев, говоря, что у Платона нет чёткой системы мировидения, она полна противоречий и недосказанностей, поэтому автору пришлось вычленять глубинные смыслы самостоятельно. Что вышло?
Основа мысли Лосева достаточно проста, он её высказывает сразу же, ещё в предисловии, прямым текстом. Как известно, основное отличие Платона от досократиков в выделении понятия «эйдос», то есть – «идея», выражающей суть мироздания, её неотъемлемую метафизическую основу. Именно теория «эйдосов» и была основным объектом критики Платона испокон веку, однако Лосев всю её отвергает. Диалектически эйдос вещи и её телесное воплощение неразрывно связаны друг с другом, одна не существует без другой, метафизика Платона является не столько абстрактной, сколько вполне осязаемой и эргонистичной, подверженной осмыслению и пониманию. Да, вещь является лишь отражением её эйдоса, но он неотрывно присутствует в ней, и посредством философских техник познания его можно постичь.
Стоит отметить, что, изучая эстетику платонизма, Лосев действительно использует впечатляющую палитру методов. Как филолог, скажем, он анализирует ряд сложно переводимых с древнегреческого понятий («каллокагатия», «софросиния» и т. д.), за неимением системы, находясь в поисках общих для всех диалогов понятий. Так же, словно услышав вздохи Бертрана Рассела, Лосев немало обращается и к математической логике Платона, сделав немалый вклад в понимание значимости числа для классических греческих учений. Но… И очень большое «но» - смог ли философ показать «целокупность» платоновского космоса?
Ответ однозначен, по крайней мере, на мой взгляд – нет. Второй том «Истории античной эстетики», в конечном счёте, остался компедиумом применения различных исследовательских подходов к текстам Платона, а также собранием интересных находок и ракурсов в изучении их содержания. Однако читатель так и не увидит стройной и чёткой картины космоса, поскольку к концу книги его призрак рассыпается на отдельные отражения «идей» которые, вероятно, отображают специфику взгляда самого Лосева, не Платона. Несмотря на чёткую, казалось бы, структуру второго тома, столь же последовательную в своей форме, что и в первом, его содержанием весьма размыто и раздражающе смутно. Это как раз тот случай, когда великолепные развёрнутые, ярко-метафорические характеристики лосевского языка превращаются лишь в многословную авторскую назойливость. По ряду вопросов – в частности, в характеристике платоновской концепции государства и общества – Лосев, в общем-то, мастерски затушевал, хотя и дал весьма обстоятельную и ёмкую характеристику философов-«стражей», хранителей космическо-социального порядка.
…Но чего не отнять у Лосева – это создания ощущения платоновского мира. Несмотря на определённые вопросы к чисто научному анализу текстов, автор способен создать общее чувство нахождения в середине этого космоса, в центре эйдетического мироздания, воспеваемого последователями Платона. Здесь, наверное, главным становится уже не «понимание», а «вживание» в этот мир.
Что же можно сказать в конечном счёте? Чтение текстов Лосева – очень интересный читательский опыт для историка и просто интересующегося человека со стороны. Ты сталкиваешься с мышлением человека, который мыслит сложными чувственными и эмпатическими категориями, вплетая их в научный метод изучения источникого материала и его контекста. Однако, приступать к чтению «Истории античной эстетики» стоит лишь с определённым багажом знаний, и с особым пониманием специфики философского мышления Алексея Лосева. Постигните ли вы платонизм после этой книги? Только при определённом настрое сознания. Так что эта книга годится лишь для опытных пловцов, готовых с головой нырнуть в текстологические и метафизические водовороты платоновских диалогов.
|
|
Страна Рождества — Джо Хилл (Джозеф Хиллстром Кинг) |
 "Ты кричишь и я кричу:
"Ты кричишь и я кричу:Земляничного хочу!
Просим о мороженном,
Но дадут по роже нам!"
Хотели бы вы жить там, где никто не стареет, а несчастье противозаконно? Где можно кататься на всех аттракционах бесплатно, все время пить какао и каждое утро вскрывать рождественские подарки? Где рождество каждый день, а каждый вечер - сочельник? Слышать голоса детей, катающихся на гигантских горках? Где стоит ель высотой в десятиэтажные дом? С праздником вас! Страна Рождества существует! Но где она и как вы сможете туда попасть?
Надеюсь, у вас есть аварийный люк, в который вы можете выбраться, когда не можете справиться с реальностью! Утешительная фантазия о расширении возможностей поможет вам в этом, но фантазия ли это?
В 9 лет Вик, она же Пацанка, получила в подарок флуоресцентно-синий, с бананового-желтыми дисками байк "Роли" и обнаружила, что может на нем перемещаться в пространстве и времени куда угодно, стоит ей только пересечь туннель старого крытого моста, который называют "Короткий путь". Тут же она узнает, что короткого пути нет - его разрушил какой то придурок, въехав туда на машине. А знаете ли вы ВАШИ скрытые возможности?
Все мы хотим заранее знать, как с нами может произойти все самое худшее и хотим представить это от первого лица, как авиакатастрофу, поэтому и любим ужасы. Чтож, у вас будет такая возможность! Сначала она просто находила потерянные вещи, но потом встретила этих опасных маньяков... у которых были СВОИ скрытые возможности...
Кто такой Человек В Противогазе и как на вас подействует его "пряничный дым"? Для чего он этим воспользуется? Кто такой Чарли Мэнкс и почему он разъезжает по стране на старом Роллс-Ройсе 1938 года с номером NOS4A2, который означает "Носферату", из которого, в любое время года звучат рождественские песни? И вообще, причем здесь Рождество?
Если вы любите мистический триллер, добавляйтесь, пожалуйста, ко мне в друзья и всегда будете знать, что почитать, а я, в свою очередь буду знать, что меня хоть кто нибудь читает! :)
Счастливого Рождества!
Ваш Чарли Мэнкс! :)

|
Метки: мистика книги ужасы |
Прочитано в феврале |
1. Соня Шах. Пандемия: всемирная история смертельных вирусов. Начиналась очень увлекательно. Но ровно на середине книги я поняла, что всё - мне достаточно, и бросила. На мой взгляд, на всемирную историю это не тянет: постоянные перескакивания с континента на континент, с одной болезни на другую, с одного века в другой и обратно. Хотелось более плавного и структурированного повествования, хотя бы в хронологии что ли. В общем, устала я от постоянного мельтешения и потеряла интерес к теме.
2. С. Лукьяненко. Ловец видений. Эту книгу он начал писать давно - в 2009 году, когда ещё был здесь в ЖЖ, но дописал только недавно. А я её ждала с тех самых пор. И не зря. Мне очень понравилось. Действие происходит в мире сновидений, куда попадает каждый, когда засыпает. Но кто-то просто видит сны, а кто-то в них живёт. Сюжет на первый взгляд простой, но заканчивается не так, как ожидалось. По атмосфере мне напомнило Фальшивые зеркала.
3. Мартин Модер. Генетика на завтрак. В названии ещё обещались какие-то лайфхаки для повседневной жизни, но ничего нового и неожиданного не было. Эта книга мне досталась бесплатно в какой-то акции от литрес. Она небольшая, так что я её всё же дочитала до конца. За всю книгу попалась пара интересных моментов, а по большому счёту рассказывались общеизвестные факты и немного школьной биологии, приправленные шуточками в стиле стендап. Не советую.
4 и 5. В. Пелевин. Непобедимое солнце. Ч.1 и 2. Это третья книга, прочитанная мной у этого автора, и вторая, которая понравилась. Тут есть и мистика, и религия, и древние боги, и современные культы. Сама история прекрасна! И всё это таким языком, что я просто в восторге! Пелевин в этой книге называет Льва Толстого гением, а я бы сказала, что и сам он очень близок к этому званию:)
6. Б. Кокс и Дж. Форшоу. Квантовая вселенная. Два британских физика решили рассказать квантовую теорию понятным языком. И у них почти получилось. Почти, потому что иногда они слишком увлекались и забредали в дебри допущений и формул, понятных не всем. Но всё равно очень познавательно и увлекательно для тех, кто интересуется этой темой, но не имеет соответствующего образования. Я, например, наконец поняла, что значит "ведёт себя, как волна", и для чего придумали адронный коллайдер:)
|
|
"Ночной цирк" Эрин Моргенштерн |
На прощание прорицательница напоминает тебе, что будущее нигде не записано. Оно в твоих руках.
У книги, несмотря на ее кажущуюся несовместимость с жизнью, есть утилитарный способ применения. Даже два. Вы можете использовать ее в качестве теста на способность к синестезии, и как тренажер по прокачке этого психологического феномена. Напомню, синестетики - это люди, которые видят звук, обоняют и/или осязают цвет, слышат цифры или буквы как музыкальные аккорды. Сверхспособность на грани экстрасенсорики, с той разницей, что напрочь лишена внешней броскости - кино для одного зрителя.
Всякий читатель в той или иной степени наделен ею. Как иначе из маленьких черных букашек на бумажном листе, могли бы создавать города и страны, населять их живыми людьми, переживать с героями приключения, пылать их страстями? Читательские зачатки синестезии изначально окультурены, тщательно культивированы и введены в удобное, социально одобренное русло.
Большей частью мы об этой своей способности не думаем, позволяя затухать понемногу, потому и детская яркость книжных впечатлений с годами блекнет, меркнет. Помните, каким счастьем в детстве был бег? А после тридцати заставь кого из нас пробежаться: неловкость, одышка, и "чо я, дура?" Так со всем: незадействованные душевные и ментальные мышцы атрофируются, и уже занятие, прежде бывшее естественным как дыхание, требует значительных усилий.
Пока не сталкиваемся с такой невыносимо красивой книгой. Узнала о ней на днях. Маленькая птичка принесла на хвосте, что в марте АСТ побалует читателей "Беззвездным морем" от Эрин Моргенштерн, первый роман которой покорил читательские сердца, и прочее бла-бла-бла в духе аннотаций. Я ничего о ней не слышала, потому пошла гуглить. Ух ты, дебютный роман писательницы, "Ночной цирк", взял Локус!
Ого, есть аудиокнига, прочитанная любимым исполнителем! Берем. И я не прогадала. Несмотря на намеренную переусложненность повествовательной хронологии: действие охватывает тридцатилетний промежуток, с 1873 по 1903 годы, то и дело совершая прыжки во времени, которых и флешбеками не назовешь: на год вперед, на семь-десять лет вперед, на двенадцать лет назад - в чрезвычайно некомфортном для восприятия режиме.
Впрочем, может быть выход из зоны комфорта - то, что подготавливает тебя к чудесам и диковинам этого романа, вобравшего жестокость и "чудесатость" цирковых книг, какие приходилось читать. То же можно сказать и о многофигурности: персонажей много и разобраться в роли, какую каждый из них должен играть в сложной архитектонике романа, весьма непросто.
Хотела бы сказать "до самого финала", но нет, конец не дает ответов на все вопросы и не раздает сестрам по серьгам. Напротив, оставляет в недоумении, отчего циничные манипуляторы, на протяжении хреновой тучи лет губившие людей, порой с чудовищной жестокостью (вспомним бедную мисс Тару, салют, Анна Каренина), отчего они не только не понесли наказания, но продолжают занимать менторскую позицию по отношению к героям?
В чем смысл состязания, вокруг которого строится сюжет? О сюжете: два могущественных мага ведут с незапамятных времен поединок посредством аватаров-учеников. Один из них практик, отчаянно нуждающийся во внешнем выражении успеха, другой скорее отшельник и серый кардинал. Соответственно, первый избрал карьеру циркового иллюзиониста, маскируя подлинную магию цирковым трюкачеством, второй "господин никто", проходит сквозь людей, как нож сквозь масло, после никто не может вспомнить и, тем более, описать его.
Оба давно перешли от лобового столкновения к игре креатурами, выставляя каждый своего ученика, состязание может длиться годами, цена победы жизнь, проигравший погибает. На сей раз практик Просперо выставляет от себя дочь Селию, теоретик Александр - приютского мальчика Марко. Каждый из них проходит жестокую школу в манере, наиболее естественной для наставника: девочку папаша режет и ломает ей руку, чтобы научить магией сращивать ткани и кости; Марко недели проводит в изоляции от мира, наедине только с книгами.
Достигнув определенного возраста, юноша и девушка оказываются непосредственно связаны с жизнью самого волшебного шоу на свете - Ночного цирка, чьи представления проходят лишь по ночам, а прибывает и исчезает он внезапно. Странный режим работы, имея в виду, что цирк традиционно относится к тому сорту развлечений, какие взрослые посещают, сопровождая детей, а дети ночами спят.
Странная монохромная эстетика: шатры цирка, костюмы артистов, антураж и декорации выполнены исключительно в черно-белой гамме - стильно, не спорю, но несколько претенциозно и не по-цирковому, не находите? Впрочем, это не мешает зрелищу обзавестись фанатами, которые следуют за ним по свету, сообразно своим финансовым возможностям, облаченные в черно-белые одежды с алыми шарфами. Адепты именно цирка в целом, не отдельных его звезд.
Бродячий монстр находит по всему миру поклонников, питаясь энергией двух магов-симбионтов, совместная циркуляция душевных сил которых, становится почти общей системой кровообращения. Неминуемо приводя их к осознанию, что каждый из двоих платонова половинка другого. Несмотря на то, что и он и она, в общем, имеют духовно близких людей. Которые легко устраняются, когда приходит время.
Знаю, что у книги много поклонников, она невероятно красива в части описания чудес, воплощаемых героями-влюбленными. Я тоже задыхалась порой от восторга. Но даже наслаждаясь дивным чтением Игоря Князева, не могла избавиться от подспудного чувства, что в моей жизни уже была история с волшебником, который свел для развлечения девушку с юношей, заставил их полюбить друг друга, чтобы после одного уничтожить.
И там все было настоящим: министр администратор: "Вы привлекательны, я - чертовски привлекателен. Нынче в полночь у амбара"; старшая фрейлина: "На кой мне черт моя голова, когда она три дня не мыта!"; король: "Почетный святой, почетный великомученик, почетный папа римский нашего королевства". И все-все-все. Любовь тоже была настоящей. Вот как-то так.
|
Метки: фэнтези |
Кэт Эллис "Мистер Джиттерс" |
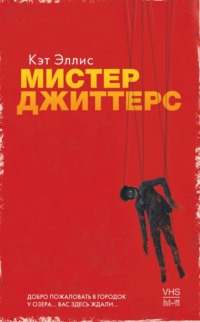
Нолан Нокс - режиссер чертовски впечатляющих ужастиков. Его самый известный фильм "Ночная птица" был снят в Харроу-Лейк - маленьком городишке, словно застывшем в 1920-х годах. Местные жители полны суеверий, например, они убеждены в пещерах обитает некий мистер Джиттерс, охотящийся на людей - в общем, атмосфера колоритная, как раз для съемок ужастика... во время которых пропал один из членов съемочной группы.
В прологе, написанном в форме интервью Нокса, упоминается, что его дочь Лола пропала год назад как раз в Харроу-Лейк. Затем повествование откатывается назад, и мы узнаем, какого черта девушку понесло в эту дремучую глухомань, где жители с приветом и пропадают люди, и что же с ней произошло...
Начинается история с мелких странностей: Нолан Нокс не только мудаковатый, но и явно чуток того, так же, как и бабуля в Харроу-Лейк, к которой зачем-то отправили Лолу, да и сам городок, законсервированный во времени, явно какой-то неправильный - все это интригует. Постепенно градус странности повышается, и вот это уже отдает безумием и жутью.
Написано складно, занудства нет, читается легко. Тема кино, легендарный ужастик "Ночная птица" - дополнительная изюминка. В конце сюжет делает хитрый поворот и вот все уже не то, чем казалось.
Неплохой триллер.
|
Метки: мистика триллер |