Граф И. Стенбок-Фермор Первый полет на воздушном шаре |
Граф И. Стенбок-Фермор
Первый полет на воздушном шаре
Прогулка по воздуху на обыкновенном, неуправляемом аэростате в Европе дело обычное. К одному аэроклубу Франции приписано около 80 шаров. Люди знакомятся с условиями воздушной стихии, привыкают летать и скоро будут чувствовать себя как дома и на новых летательных аппаратах, призванных в XX веке заменить все остальные способы передвижения для людей.
У нас такое простое дело, как мой пятидесятиверстный полет с товарищами по аэроклубу, пробудило, как я мог заметить, благодаря своей новизне, столько интереса, сообщать на словах свои впечатления мне пришлось стольким лицам, что я решаюсь поделиться ими путем печати со всеми интересующимися воздухоплаванием.
Уважаемый инициатор всероссийского аэроклуба В. В. Корн и я, его председатель, находились оба в оригинальном положении. Убежденные сторонники новых способов передвижения, мы до сего времени могли работать на этом поприще лишь обычным, столь знакомым Петербургу способом: заседания, речи, бумаги. Что делать, другим путем организовать ничего нельзя, а организационная работа была огромная. Теперь, слава богу, аэроклуб существует, и всякий интересующийся делом знает, куда ему идти, где он найдет сочувствие, где может поучиться или сообщать свои мысли другим. Но нам, ответственным [34] должностным лицам спортивного клуба, начинало делаться невыносимым наше положение, так сказать, береговых моряков воздушного океана. Необходимо было приобрести ценз не только в глазах общества, но и для себя. Всякая практика значительно изменяет точку зрения на дело, знакомое до того лишь теоретически.
Сферический шар у клуба есть. Первый наш русский воздухоплаватель-пилот, член совета нашего клуба генерал Кованько, любезно предлагает свое участие, и вот мы собрались совершить свой первый полет 11 марта. Поднялись вчетвером: A. M. Кованько, В. В. Корн, Д. В. Фельдберг и я.
В 12 часов 25 минут дня шар, наполненный светильным газом на дворе газового завода, был пущен и сверху сделал скачок вверх до 300 метров, — это необходимо, чтобы не задеть за фабричные трубы; затем плавно пошел по диагонали кверху. Первое впечатление — переселение на самостоятельную планету с особыми условиями жизни, законами и обычаями. Тишина кругом полная, не чувствуется ни движения, ни дуновения ветра, ни даже чувства высоты, связанного с головокружением, а нечто совсем особенное, близкое к эстетическому наслаждению. Внизу сквозь дымку облака проходит панорама соседней планеты Земли, а у нас распределяются роли. Все должны работать: Кованько командует; Фельдберг ведет журнал (и тут нельзя без канцелярии), записывает показания инструментов и эпизоды путешествия; Корн и я, с мешками балласта наготове и с совками на руках, по указаниям пилота регулируем вертикальный ход шара.
— Два совка (песку)! Три совка! Четверть мешка! Полмешка! — в зависимости от показаний барометра раздается команда.
Генерал Кованько летит в 67-й раз, и насколько вообще можно управлять сферическим аэростатом, мы им под его руководством управляем. Очень хочется мне подняться совсем над облаками, видеть их белые массы под собою, но, говорят, нельзя терять земли из виду, наверху неизвестно какой ветер, еще понесет вдоль финского залива, и тогда придется погибнуть. Так и летом на высоте не свыше 1500 метров, полторы версты. Вот перелетели Фонтанку, вот Покровская площадь, Никола Морской, театры. Новое адмиралтейство, Нева, вправо Николаевский мост, видны трамваи, автомобили, экипажи и лошади в странном, необычном ракурсе, дальше идут острова: Васильевский, Крестовский с речным яхт-клубом, Елагин со знаменитой Стрелкой, Лахта, затем опасное нам море окончательно остается влево, и мы держим курс прямо на Финляндию. [35]
Спокойно, тепло и уютно в корзине. Стоять приходится все время, но стоять очень удобно, облокотившись о высокие края корзины. Внизу был мороз, наверху — плюс 4 градуса. Снизу доносятся собачий лай, свистки паровозов, пресмешными кажутся сверху стаи грачей. А мы ведем степенные беседы на профессиональные темы. Генерал нам читает легкий курс теории воздухоплавания, необыкновенно ясный и понятный здесь, у самой практики. Мы увлечены, все хотим быть пилотами: еще два-три полета — и будем держать экзамен. Хочется летать и лететь без конца, но надо вернуться домой к вечеру: служба, дела, семья; надо подумать о спуске при наилучших возможных условиях, поближе к жилью и железной дороге. Вот Финляндская линия, вот станция Белоостров. Перелетим и спустимся поблизости. Перестаем бросать балласт, шар медленно опускается. С часами в руках, по барографу, Кованько вычисляет скорость падения: 2 метра в секунду — хорошо, 4 — будет уже опасно, надо будет тормозить спуск. Я стою с балластом наготове, Корн отцепляет якорь, но ни того ни другого бросать не приходится. Гайдрон, канат, распущенный на 80 метров книзу, уже волочится по земле и служит пружиной: облегчая шар на вес той своей части, которая лежит на земле, он не дает ему спускаться быстрее, чем нужно, и мы по отлогой диагонали приближаемся к земле. Наверху казалось, что мы почти не двигаемся, в действительности же мы все время шли по 27 верст в час на круг и теперь замечаем, что скорость наша равняется ходу хорошего рысака. Тем не менее наш пилот «сажает» нас артистически. Выбираем удобную полянку у самого шоссе и близ деревни.
«Клапан — раз, клапан — два!» Фельдберг висит на клапанной веревке (тянуть надо очень сильно, чтобы преодолеть давление газа). Мы коснулись земли. «Разрывной ремень! Раз». И наверху, сбоку шара, открывается зияющее отверстие, газ выходит моментально, шар, как подстреленное чудовище, ложится набок, и мы стоим на месте, в полуторааршинном снегу, даже не заметив толчка. Разрывное приспособление, изобретение сравнительно недавнее, совершенно обезопасило спуск, устранив так называемый тренаж, когда при медленном выпуске газа через клапан шар парусило, корзина волочилась по земле, от толчков выпадали предметы и даже люди, отчего шар опять взлетал и т. д. Теперь у опытного пилота он останавливается, как у хорошего кучера лошадь перед подъездом. Место мы выбрали удачно; до границы Финляндии не долетели около полуверсты, так что не будет разговоров на таможне; до станции Белоостров 16 верст. Народу сбежалось немедленно человек полтораста. Под [36] руководством генерала шар быстро был убран, аккуратно сложен в корзину и брезент, увязан и отправлен на станцию железной дороги, куда и мы вскоре поехали, слегка закусив взятой с собою провизией и выпив чаю у гостеприимного местного обывателя, почтенного финна, по фамилии Пакки. Хорошее, говорим, предзнаменование: паки будем летать и паки. Настроение у всех повышенное; друг друга поздравляем с почином и благодарим нашего чудного пилота, мастера своего дела, а он аттестует нас способными учениками. Самое обидное — очутиться опять в будничных условиях жизни, барахтаться в глубоком снегу, балансировать на чухонских санках, наконец, прозаически дожидаться очереди у железнодорожной кассы — словом, потерять привилегированное и высокопоставленное положение и подчиниться условиям жизни на нижней планете, сдав свою собственную планету в багаж.
Вернувшись в Петербург, я испытал странное впечатление. Мои друзья и знакомые встретили меня очень сердечно, очень мило, но все же большинство приветствовало таким тоном, каким поздравляют человека, вернувшегося после очень опасного приключения — войны или дуэли. Полететь для своего удовольствия — все еще кажется у нас необычайной затеей, почти покушением на самоубийство. Пора оставить этот взгляд. Европа давно уже освоилась с воздушной стихией и покрыта сетью аэроклубов. Каждый день там совершаются свободные полеты. Во Франции без такого полета не обходится ни одна порядочная ярмарка. Там же деятельно работают над усовершенствованием как управляемых аэростатов, так и новых аппаратов, тяжелее воздуха. В патриотическом порыве Германия собрала по частной подписке 8 миллионов марок на аппараты графа Цеппелина, и это после блистательного доказательства их малой пригодности и опасности. А пока мы все ждем чудотворца, какого-нибудь гениального самоучки, который нам откроет «секрет воздухоплавания» — и мы сразу станем, безо всякого приготовления, впереди всей Европы. Проекты в этом роде загромождают канцелярию аэроклуба, а также и других учреждений.
Пора и это оставить и работать правильно и научно, не отставая от немецких аэронавтов, французских и американских авиаторов. Недостатков у нас много, но есть и преимущества, например отсутствие или малое количество капиталов, затраченных на дорожные сооружения, автомобили и т. п. Воздух везде тот же, и никто не мешает нам от нашего бездорожья перейти прямо к самым усовершенствованным летательным аппаратам, подобно тому как провинциальные [37] города прямо заводят электрические трамваи и освещение, минуя конки и газ.
А главное — не пренебрегать спортом. Сначала это как будто забава богатых людей от нечего делать; сколько проклятий сыпалось на автомобили, и не без основания; немало они передавили и искалечили людей, зато возникла огромная, колоссальная автомобильная промышленность, дающая заработки многим, и теперь никто не скажет, что автомобили только забава и роскошь.
А спорт воздушный никому не вредит и для посторонних вовсе не опасен, для участников же очень мало, во всяком случае, чем, например, парусный или буерный, а будущность этого дела огромна, и трудно даже себе представить, как новые способы передвижения отразятся на всех сторонах человеческой жизни — экономической, общественной и государственной. На многое точка зрения должна измениться.
Одно, во всяком случае, несомненно. Чтобы избегнуть порабощения, если не прямо военного, то уж, во всяком случае, экономического и культурного, чтобы сохранить свою независимость и оставаться великой державой, России нужен воздушный флот.
Воздухоплаватель. 1909. № 3–4.
|
Метки: стенбок-фермор |
Дом Стенбок-Ферморов |
Дом Стенбок-Ферморов
Подробная информация о достопримечательности. Описание, фотографии и карта с указанием ближайших значимых объектов.
Фото и описание
Дом Стенбок-Ферморов располагается в Санкт-Петербурге на Английской набережной, 50. Представляет собой архитектурный памятник федерального значения.
Дом сменил большое количество владельцев. А началось все с 1717 года, когда хозяином этой земли на Английской набережной был чиновник К. Естихеев. Спустя 2 года, здесь появиля новый владелец – чиновник Л.О. Сытин, который строил тут палаты (скорее всего, мазанковые). К 1730-м годам участок перешел во владение А.Я. Шереметевой. Она была замужем за А.П. Шереметевым, детей у них не было. При Анне Яковлевне здесь в 1736-1738 годах был возведен типовой каменный жилой дом, имеющий мезонин и высокое крыльцо.
После смерти А.Я. Шереметевой в 1746 году участком стал владеть её племянник – князь А.А. Долгорукий, который в 1785 году продал его английскому купцу Я. Мейбому. Спустя 5 лет, Мейбом продал владение камергеру М.А. Голицыну, который в это время вернулся из образовательной поездки по Европе. Был женат на П.А. Шуваловой. В 1816 году после кончины Михаила Андреевича вдовой и наследниками дом был продан московскому купцу М.К. Веберу, хозяину ситцевой фабрики в Шлиссельбурге.
К 1820-м году особняком владел генерал-адьютант В.В. Левашов, прославившийся весьма жестоким характером. В 1831 году ему предлагают должность губернатора в одном из провинциальных городков, и он продает дом Е.П. Зиновьевой, вдове тайного советника. С 1835 по 1837 годы здесь проживал богатый горнозаводчик В.А. Всеволожский, который скончался в этом доме.
К концу 1837 года особняк купила семья Стенбок-Ферморов. Дом на берегу Невы приобрел А.Н. Стенбок-Фермор. Именно для него имевшийся здесь особняк был перестроен, и в то время фасад со стороны набережной обрел современный облик (имя архитектора неизвестно). После кончины Александра Николаевича дом отошел его вдове Надежде Алексеевне, а потом их сыну Алексею Александровичу (шталмейстер, генерал-лейтенант). Здесь устраивались музыкальные вечера, балы. В особняк приезжали ближайшие родственники хозяев дома – князья Барятинские, Гагарины, Толстые.
В 1859-1862 годах в доме Стенбок-Ферморов жил и работал прусский посланник, будущий канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк. Поначалу он обосновался в «Демутовом трактире» на Мойке. Но там предлагался «обязательный утренний самовар, чай в стакане и сомнительное масло», из-за чего Бисмарк вынужден был искать новый дом. Тогда он и поселился на Английской набережной. Здесь Бисмарк начал обустраивать свой быт. Его жена из Франкфурта переправила ему французскую резную мебель, модную в то время. В Петербурге Бисмарк пребывал лишь несколько месяцев в году, остальное время он работал в Пруссии. Но в своих письмах к друзьям из России он писал, что сильно скучает по дому на набережной. В середине весны 1862 года Бисмарка отозвали из России и направили послом в Париж. В настоящее время на доме можно увидеть памятную мраморную доску О. Бисмарку (архитектор Е.Е. Лазарева, скульптор Л.К. Лазарев, 1998 год).
В 1862 году особняк переходит к малолетней дочери Алексея Александровича Надежде Стенбок-Фермор. В 1882 году она вышла замуж за дипломата П.А. Капниста. Бывая в Петербурге, они жили в особняке со стороны Галерной улицы. В доме на набережной продолжал жить Алексей Александрович Стенбок-Фермор. Еще при его матери архитектором В.П. Цейдлером на участке были осуществлены перестройки. Во дворе появился 3-ёхэтажный флигель, а со стороны Галерной улицы был обновлён фасад дома.
В 1870-1876 годах в особняке располагалось посольство Австро-Венгрии, для которого интерьеры были переделаны. В 1902 году по проекту Цейдлера на корпусе по Галерной улице появился третий этаж. В 1905 году архитектор В.А. Теремовский перестроил дворовые флигели, изменил интерьеры особняка.
С 70-х годов XIX века и до настоящего времени в доме сохранились некоторые детали интерьеров. Перегородки в комнатах не достигают потолка и открывают сохранившуюся отделку потолков и карнизы. До наших дней сохранился паркет из ценных древесных пород. В одном из помещений левого корпуса можно увидеть медальоны и расписные падуги. Вход на двухмаршевую парадную лестницу имеется только со стороны двора.
|
Метки: дворянские владения стенбок-фермор санкт-петербург |
Стенбок-Фермор, Иван Васильевич |
Стенбок-Фермор, Иван Васильевич
Из Википедии — свободной энциклопедии
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Стенбок-Фермор.
| граф Иван Васильевич Стенбок-Фермор | |||||||
 |
|||||||
|
|||||||
|
|
|||||||
| Вероисповедание | Православие | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рождение | 13 января 1859 | ||||||
| Смерть | 9 июля 1916 (57 лет) | ||||||
| Место погребения | |||||||
| Род | Стенбок-Ферморы | ||||||
| Отец | граф Василий Иванович Стенбок-Фермор | ||||||
| Дети | Иван | ||||||
| Образование | Александровский лицей | ||||||
| Награды |
|
||||||
 Иван Васильевич Стенбок-Фермор на Викискладе Иван Васильевич Стенбок-Фермор на Викискладе |
|||||||
Граф Иван Васильевич Стенбок-Фермор (13 января 1859 — 9 июля 1916) — русский общественный и государственный деятель, член III Государственной думы от Херсонской губернии, член Государственного Совета по выборам.
Содержание
Биография
Православный, из старинного дворянского рода. Землевладелец Херсонского уезда Херсонской губернии (2523 десятины). Младший брат Владимир — также общественный деятель и член ГД от Херсонской губернии.
Окончил Александровский лицей IX классом (1878)[1] и поступил на службу в отделение законов Государственной канцелярии.
В 1893 году был причислен к Министерству государственных имуществ чиновником особых поручений и командирован в Северную Америку для устройства русского сельскохозяйственного отдела на всемирной выставке в Чикаго. Будучи чиновником особых поручений, принимал участие в работе многих совещаний и комиссий по вопросам сельского хозяйства. С 1895 года занимался исследованием и описанием благоустроенных хозяйств Херсонской губернии. Дослужился до чина действительного статского советника (1901), в 1909 году был пожалован в камергеры, а с 1914 года состоял в должности егермейстера.
В своем родовом имении вел сельское хозяйство, достигнув заметных результатов в повышении производительности земли. Также занимался общественной деятельностью: избирался гласным Херсонского уездного и губернского земств, почетным мировым судьей Херсонского уезда (1883—1895), состоял уполномоченным херсонского дворянства на съездах Объединенного дворянства.
В 1907 году был избран членом III Государственной думы от Херсонской губернии. Входил во фракцию умеренно-правых, с 3-й сессии — в русскую национальную фракцию, с 5-й — в группу независимых националистов П. Н. Крупенского. Состоял товарищем секретаря земельной комиссии, а также членом комиссий: по судебным реформам, распорядительной, по направлению законодательных предположений, по запросам, по рабочему вопросу.
В течение четырех лет был председателем сельскохозяйственного отделения Императорского Вольно-экономического общества, в 1908 был избран первым председателем Императорского Всероссийского аэроклуба. С 1910 года состоял членом отдела воздушного флота Особого комитета по усилению военного флота на добровольные пожертвования.
25 октября 1915 года избран членом Государственного совета от дворянских обществ, примкнул к группе правого центра. Состоял членом комиссии по военным сухопутным и морским делам.
Умер в 1916 году. Похоронен на Казанском кладбище в Царском Селе.
Семья
Был женат. Дети:
- Иван (1887—1986), воспитанник Пажеского корпуса, корнет лейб-гвардии Конного полка. Участник Белого движения в составе ВСЮР и Русской армии барона Врангеля, штабс-ротмистр (1920). В эмиграции во Франции, затем — в США[2].
Награды
- Орден Святого Станислава 2-й ст. (1896);
- Орден Святого Владимира 4-й ст. (1905);
- Орден Святого Владимира 3-й ст. (1910);
- Высочайшая благодарность (1911);
- Орден Святого Станислава 1-й ст. (1914);
- Высочайшее благоволение (1915);
- Орден Святой Анны 1-й ст. (1915).
- медаль «В память царствования императора Александра III»
- медаль «В память коронации Императора Николая II»
- медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых»
Публикации
- Граф Стенбок-Фермор И. Первый полет на воздушном шаре // Воздухоплаватель. — 1909. — Вып. 3–4.
Проектная декларация на рекламируемом сайтеЭлитные посёлки на Новой Риге
villagio-vip.ru
Примечания
- ↑ Памятная книжка лицеистов. Издание Собрания Курсовых Представителей Императорского Александровского лицея, СПб.: Типография МВД, 1911. С. 103
- ↑ Русские в Северной Америке. Е.А. Александров. Хэмден (США)-Сан-Франциско (США)-Санкт-Петербург (Россия), 2005.
Источники
- Список гражданским чинам IV класса на 1907 год. — СПб., 1907. — С. 1108
- Список гражданским чинам четвёртого класса. Исправлен по 1 марта 1916 года. — Пг., 1916. — С. 360
- 3-й созыв Государственной Думы: портреты, биографии, автографы. — Санкт-Петербург: издание Н. Н. Ольшанскаго, 1910.
- Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Москва. Российская политическая эн
|
Метки: стенбок-фермор |
Памяти графа Андрея Ивановича Стенбок-Фермора |
Памяти графа Андрея Ивановича Стенбок-Фермора
Тамара Спиридонова0:13, 12 июня 2016Зарубежная РоссияРаспечатать
3-го июня 2016 года в пять часов утра ушел из жизни граф Андрей Иванович Стенбок-Фермор (род.30.04.1924 г.), заместитель председателя Общества памяти Российской Императорской Гвардии во Франции.
Помню, как много лет назад меня покорил молодой человек с портрета Владимира Гау из Конногвардейского альбома, хранящегося в ИРЛИ. Его имя, Василий Иванович Стенбок-Фермор, я тогда хорошо запомнила. И, когда научные дела привели меня в Chateau du Marais в местечке Le Val-Saint-Germain под Парижем, где меня принимал граф Андрей Иванович Стенбок-Фермор, я, конечно же, поинтересовалась, не приходится ли родственником ему юный розовощекий корнет из Николаевской эпохи.
Моему удивлению не было конца, когда Андрей Иванович, всплеснув руками, радостно воскликнул: «Да, ведь это мой прадедушка!». Затем последовали подробности из жизни предка, как будто он говорил о близко знакомом ему человеке. Позже я много раз встречалась с Андреем Ивановичем, и всегда он восхищал своими глубокими познаниями в области русской истории, своей родословной.
Андрей Иванович Стенбок-Фермор родился в семье потомственного конногвардейца штабс-ротмистра лейб-гвардии Конного полка графа Ивана Ивановича Стенбок-Фермора в Чехословакии, куда была вынуждена эмигрировать его семья. Затем Стенбок-Ферморы жили во Франции в Париже, а после второй мировой войны переехали в США. Поэтому Андрей Иванович являлся подданным Соединенных штатов. Жил в США, Франции, последние годы провел в Бельгии.
По своей первой фамилии Андрей Иванович происходит из знаменитого шведского дворянского рода, поселившихся в Эстляндии, Стенбоков. До сих пор эта фамилия причислена к дворянской книге Швеции. Всем хорошо знакомая по портрету русского художника И.Я. Вишнякова очаровательная и трогательная девочка Сарра Элеонора Фермор из Русского музея приходится Андрею Ивановичу прапрабабушкой. Ферморы выходцы из Шотландии, служившие Российской империи. Так как по мужской линии род Ферморов пресекся, к фамилии мужа Сарры Стенбока было дозволено присоединить ее девичью фамилию Фермор. Так в России появился графский род Стенбоков-Ферморов.
Андрей Иванович свято хранил семейные традиции, переданные ему его предками. Он был высокообразованным человеком, работал переводчиком; являлся знатоком русской истории, семейной генеалогии.
Как сын конногвардейца, он был принят в Конногвардейcкое объединение во Франции и до конца жизни являлся членом Объединения потомков офицеров лейб-гвардии Конного полка. А.И. Стенбок-Фермор был членом многих эмигрантских общественных организаций, в том числе заместителем председателя Общества памяти Российской Императорской Гвардии (Гвардейского объединения).
Неоднократно Андрей Иванович был гостем Дома Русского зарубежья в Москве. В 2007 г. принял участие в проекте, посвященном 40-летию выхода в свет парижского издания «Истории лейб-гвардии Конного полка»; на научной конференции выступал с сообщением «Эскадрон Конной Гвардии в Добровольческой армии генерала Врангеля», покорив слушателей своим интеллектом и познаниями.
Последний раз мы встретились случайно в 2012 году на службе в русском Свято-Александро-Невском соборе на улице Дарю в Париже. Служба подходила к концу, когда распахнулась дверь, и в нее влетел в развивающемся пальто граф Андрей Иванович. Я его остановила, он был весел, бодр и здоров. Тогда я узнала, что до этого долго болевший и плохо себя чувствовавший, он удачно прооперировался и был полон сил и надежд на будущее.
Андрей Иванович Стенбок-Фермор – последний из сыновей офицеров-конногвардейцев, который помнил и чтил полковые традиции Конной гвардии. Он был истинно русским православным человеком. У него остались дети Алексей и Ксения, внуки.
Светлая ему память и наша благодарность за неподдельную любовь к своему родному Отечеству, верность русскому миру!
Теги: Андрей Иванович Стенбок-Фермор
usoch.fr/ru/events/pamyati-grafa-andreya-ivanovicha-stenbok-fermora-comte-andre-stenbock-fermor.html
|
Метки: стенбок-фермор |
ДВАЖДЫ графское |
|
|||||||||||||||||||
БАРСКАЯ ЖИЗНЬДВАЖДЫ графское С середины XIX века до революции побережьем от Лахты до Лисьего Носа владели графы Стенбок-Ферморы.
|
|
Метки: дворянские владения стенбок-фермор |
Лучший губернатор |
 |
|||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Метки: столыпины |
Крым, Ливадийский дворец, жизнь династии Романовых |
Крым, Ливадийский дворец, жизнь династии Романовых

 uctopuockon_pyc
uctopuockon_pyc
June 4th, 2017
Оригинал взят у 
Автор статьи - дочь Настя, посетившая недавно прошедшую в Ливадийском дворце конференцию, сроки проведения - с 25 по 27 мая, под названием "Романовы и Крым. Научные чтения в Ливадии, 2017 год". Акредитована она там была как блогер Крыма. Ей удалось полностью погрузиться в атмосферу царского дворца и той эпохи, так как даже проживала она в одном из корпусов дворца, который сейчас принадлежит санаторию "Ливадия".
Этот очерк - первый из нескольких, которые мы планируем выпустить по теме "Романовы в Крыму" в течение лета.
Итак, ей слово.
Мне кажется, что не может эта тема быть неинтересной любому русскому человеку, тема истории родового гнезда семейства, которое несло тяжелый груз правления огромной страной в течение долгих лет. Когда входишь в эти стены, наконец, понимаешь, кто ты, в чем коренится величие русской нации, страны и народа. Как ни странно, начинаешь понимать лучше даже свою частную, вроде бы весьма далекую от исторических масштабных событий жизнь.
Эта небольшая статья написана по следам моего посещения конференции, посвященной жизни Романовых в Крыму, которая теперь уже ежегодно проходит в Ливадийском дворце, о ней я расскажу подробнее отдельно; а также под впечатлением прочтения прекрасных книг Марины Александровны Земляниченко – увлеченного исследователя жизни Романовых в Крымских усадьбах, автора многочисленных научно-популярных и научных исторических очерков и путеводителей по романовским местам в Крыму, с которой мне лично посчастливилось познакомиться и пообщаться этой весной.
Мои очерки, к сожалению, не могут охватить всю широту материалов, представленных на конференции, я постараюсь осветить самые яркие и запоминающиеся темы. Я разделила подачу тем на три части по хронологическому принципу:
- эпоха Александра II,
- эпоха Александра III,
- эпоха Николая II.
Я постаралась описать исторический фон, дать краткую характеристику членам императорской семьи, описать созданные по их заказу памятники искусства и архитектуры и привести немного бытовых подробностей пребывания царской семьи в имении Ливадия. Первая часть, этот очерк, будет посвящен жизни в Ливадии семейства императора Александра II и его жены Марии Александровны.
Александр II и Мария Александровна
В 1860 г. по распоряжению Александра имение Ливадия, что в переводе с греческого обозначает «лужайка» или «луг», было приобретено у дочерей известного российского дипломата графа Л. C. Потоцкого. Дочери графа не особенно стремились продать имение, но Государю отказать не смогли. Имение было приобретено для императрицы Марии Александровны. К 37-ми годам у нее появились все признаки самой беспощадной болезни XIX в. – чахотки.
1. Цесаревна великая княгиня Мария Александровна, с 1855 г. - императрица. Художник И. Макаров.

2. Император Александр II (1818-1881). Художник Е. Ботман.

Здесь я хочу несколько слов сказать о личности императрицы: Мария Александровна, урожденная София-Мария-Аугуста, была немецкой принцессой. После вступления в брак с Александром, она приняла православие и родила в течение жизни 8-мь детей, двоих из которых ей довелось пережить (старшая дочь Александра рано умерла от менингита, а любимый сын Николай, Великий князь Николай Александрович, погиб в результате падения с лошади на скачках с препятствиями в возрасте 22-х лет).
Мнение Императрицы по государственным вопросам, особенно в течение первой половины совместной жизни, имело огромное значение для Государя. Так, супруга всячески поддерживала решимость мужа в вопросе отмены крепостного права, опровергая доводы против отмены рабства. Важно отметить, что она присутствовала при подписании манифеста «Об отмене крепостного права» 1861 г. и поставила на нем свою подпись, что показывает, насколько супруг высоко ценил ее как настоящего соратника.
Манифест об отмене крепостного права от 19 февраля 1861 г. стал главным событием царствования Александра II. Затем проводились и другие реформы: земская, вводившая новый порядок управления на местах, судебная, отменившая телесные наказания и клеймление преступников, а также утвердившая суд присяжных. При помощи К. Ушинского Мария Александровна подготовила для императора несколько записок о реформе начального и женского образования в России. Именно по инициативе Императрицы женщины получили доступ к высшему образованию, утроилось количество мужских и женских гимназий и городских училищ.
Кроме всего прочего, Императрица возглавляла огромное благотворительное ведомство Мариинских гимназий, воспитательных учреждений, приютов, больниц, открыла – во многом на личные средства – первое в России отделение Красного Креста и ряд крупнейших военных госпиталей во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Мария Александровна горячо поддержала инициативу двух выдающихся православных подвижниц Сабининой и баронессы Фредерикс, при ее активном участии благотворительное движение в стране вскоре объединилось под эгидой Красного Креста. Интересно, что одной из первых благотворительных организаций, получивших эмблему Красного Креста, стала основанная в Ялте Община сестер милосердия Святого Благовещения.
При поддержке мужа Мария Александровна также основала крупнейший в Петербурге и России театр и балетную школу, которые и по сей день носят ее имя и прославили его на весь мир.
Кем же была Императрица для современников? Это тот редкий случай, когда воспоминания людей, окружавших ее или встречавшихся с нею, сходятся в едином мнении: императрица Мария была человеком незаурядным и по своему уму, и по высоким нравственным качествам.
Поэт, Граф Алексей Константинович Толстой писал о ней: «... Я вижу, как она всегда старается ...видеть дальше через стену, которая ее окружает; и потом у нее большое благородство и великодушие в суждениях, которые ее заставляют смотреть очень беспристрастно на вопросы, против которых имеются предвзятые суждения. Да хранит ее Господь!»
А известный поэт Федор Иванович Тютчев посвятил Императрице такие строки:
Кто б ни был ты, но, встретясь с ней,
Душою чистой иль греховной,
Ты вдруг почувствуешь живей,
Что мир есть лучший, мир духовный.
Судьба распорядилась так, что вторая половина жизни Императрицы была полна страданий. Отдушиной было только имение в Ливадии и спокойная, полная простых мирских радостей жизнь там. Мучило все ухудшающиеся здоровье, да и супруг, который был влюбчив, на склоне жизни полюбил особенно горячо другую молодую женщину. Полюбив, Александр II не хотел отказываться от своего счастья. Скрывать долгую связь на стороне с княжной Екатериной Долгорукой (после венчания с Александром – княгиней Юрьевской) и рождение внебрачных детей ему не удавалось. И хотя Мария Александровна никогда не обсуждала эту тему даже с фрейлинами-подругами, измена мужа глубоко ее оскорбляла. Это ускоряло течение ее хронической болезни легких.
Императрица страшно похудела и осунулась. С какого-то момента, новая пассия княжна Долгорукая, стала сопровождать Александра и в Крым. Она поселилась в имении Биюк-Сарай, купленном специально для нее. Каждый вечер император отправлялся на встречу с ней.
Не в силах больше терпеть пересуды, Императрица распорядилась построить только для себя на территории Ливадии небольшую дачу – Эреклик, что переводится как «Долина Слив». Здесь она предпочитала проводить большую часть своего времени в уединении и в простых человеческих радостях: при даче была небольшая ферма, где разводили породистых коров, птичник и фазанник.
Императрице предстоит пережить еще 6 покушений на Александра, смириться с тем, что вторая семья мужа поселится в Зимнем дворце, на втором этаже. Фрейлина графиня Александра Андреевна Толстая вспоминала: «Слабое здоровье Государыни пошатнулось после покушения (на Александра) 2 апреля 1879 г.; после него она уже не поправилась. Я, как сейчас, вижу ее в тот день – с лихорадочно блестящими глазами, разбитую, отчаявшуюся. «Больше незачем жить, - сказала мне она, - я чувствую, что меня это убивает». Императрица прожила много горьких минут, но никогда не винила мужа.
В 1879 г. императрица вновь приехала в Крым, но южнобережный климат мало помогал. Мария Александровна прибыла в Ливадию уже смертельно больной и пробыла в своем любимом имении совсем недолго. По настоянию Александра она вернулась в Петербург, а в октябре выехала заграницу – сначала в Киссинген, затем в Канны. Мария Александровна очень противилась этой поездке, предчувствуя, что для нее нет уже никакой надежды на выздоровление. В «Записках» фрейлины Толстой описываются последние месяцы жизни Марии Александровны, наполненные физическими и нравственными страданиями.
В Германии она продолжала угасать, и тогда было принято жесткое решение перевезти ее в Россию, хотя уже наступила зима. По приезде в Россию, весной, встал вопрос о переезде ее в Царское Село, Толстая пишет: «... но доктора заявили, что нечего и думать об этом. Силы ее стремительно угасали. Каково же было всеобщее удивление, когда стало известно, что Государь покинул город и поселился в Царском. Знали, что он там не один (со своей новой избранницей), и это производило тяжелое впечатление. ... Императрица...обо всем догадывалась, потому что старалась выгородить Государя в глазах окружающих. «Я сама умоляла Государя уехать в Царское, - говорила она, - этого настоятельно требует его здоровье...Утром 22 мая никто, даже окружавшие ее сиделки, не смогли точно указать минуту, когда отлетела ее...душа. После ее смерти нашли лишь единственное письмо к Государю, написанное когда-то давно. Она трогательно благодарила его за счастливо прожитую жизнь рядом с ним...»
Спустя всего лишь месяц Император обвенчался с княжной Долгорукой. А в 1880 г. он вместе с новой семьей отправился в Ливадию. Надо сказать, что свет враждебно воспринял теперь уже княгиню Юрьевскую. «Своей» здесь она так и не стала. Что уж говорить о семье наследника: цесаревич Александр (будущий царь Александр III) и его жена Мария Федоровна (принцесса Дагмар) едва ее терпели.
Мария Федоровна открыто протестовала против нарушения приличий двора, вступая в конфронтацию даже с самим Государем.
3. Император Александр II. Фото середины 1860-х гг.

4. Незнакомка. Художник: Иван Крамской. 1883 г. По многочисленным свидетельствам современников на картине была изображена именно княгиня Долгорукая, после венчания с Императором - Юрьевская.

Покушения на жизнь Александра участились и в связи с этим он хотел обезопасить свою новую семью, жену и детей. Осенью 1880 г. он составил завещание, стремясь обеспечить материальную безопасность своей новой семьи. По возвращении в Петербург царь напряженно работал: он готовил проект конституции. Ему казалось, что реальное спасение от революционной угрозы существует: необходимо наделить избранных депутатов законосовещательными полномочиями и смягчить традиционное самодержавие. В конце февраля 1881 г. Александр объявил жене: «Это сделано. Я подписал Манифест. В понедельник утром он появится в газетах и, надеюсь, произведет хорошее впечатление. По крайней мере, русский народ увидит, что я дал ему все, что возможно. И все это – благодаря тебе». 1 марта 1881 г. взрыв бомбы, брошенной террористами, оборвал жизнь Александра II.
Ливадийский дворец: начало
Вернемся к ранней истории Ливадийского имения, ставшего вотчиной Романовых.
Купленное имение в Ливадии было подарено Императором Марии Александровне. Церемония дарения была очень оригинальной: на ветках ярко освещенной рождественской елки в 1860 г. были развешаны все документы, связанные с приобретением Ливадии, – акты покупки, планы имения, описания построек и т. д. Надо сказать, что на территории имения уже имелись жилые и хозяйственные постройки, кроме того, оно было окружено прекрасным парком, который занимал 40 десятин земли. Мария Александровна поручила проведение всех работ Архитектору Высочайшего Двора и Царскосельских Дворцов И. А. Монигетти.
5. Ипполит-Мартин-Флориан – родом из семьи богатого московского негоцианта итальянского происхождения. С раннего детства проявил яркое художественное дарование. Более пяти лет И. Монигетти путешествовал по странам Средиземноморья, изучая памятники зодчества. В 1847 г. ему присуждено звание академика. Активная деятельность Монигетти как практикующего архитектора началась с назначения его в ведомство царскосельских построек при Министерстве Императорского Двора.
И. А. Монигетти. Художник Карл Брюллов.

За 5 лет работы (1861-66 гг.) Монигетти создал новый облик царского имения: под его руководством в Ливадии было возведено более 70 зданий. Многие здания Монигетти характерны сочетанием приемов, свойственных зодчеству народов стран Магриба (Туниса, Алжира, Марокко) с элементами самобытных крымско-татарских домов. Именно в этом стиле были построены навсегда утерянные на сегодняшний день здания Большого и Малого дворцов.
Здание Большого дворца было изначально реконструировано из особняка Потоцкого и впоследствии полностью перестроено архитектором Красновым в 1909 г. в силу возникших со временем разрушений фундамента и стен, а здание Малого дворца, особенно любимое членами Императорской фамилии, на месте которого сейчас находятся теннисные корты, сгорело в 1941 г. во время паники, охватившей жителей Ливадии при известии, что на ЮБК уже наступает 11-ая армия Э. Фон Манштейна.
На территории Ливадийского парка, тем не менее, сохранился «дом садовника», также возведенный Монигетти, который может дать представление о том, как были украшены созданные Монигетти в том же стиле Большой и Малый дворцы. Подобно этому дому об облике Дворцов может дать представление дом Лищинской в Ялте на Екатерининской улице, построенный в «ливадийском стиле». Во второй половине XIX в. владельцы городских земельных участков часто заказывали архитекторам строительство своих особняков «в царском стиле».
6. Дом Л. С. Потоцкого в Ливадии. Акварель Л. Премацци. 1860 г.

7, 8. Императорский дворец в Ливадии. Архитектор: И.А. Монигетти. 1862-1863 гг.

8.

9. Малый Имераторский дворец в Ливадии. Архитерктор: И.А. Монигетти. 1862-1863 гг.

10. Малый Императорский дворец в Ливадии: фрагмент.

11. Большой императорский дворец, Ливадия: декоративное оформление лестницы, соединявшей покои второго этажа с парком.

12. Дом садовника. Акварель Р. фон Альта. Архитектор И.А. Монигетти. 1864 г. Предназанчался для постоянного проживания главного садовника имения. Экстерьер этого дома, сохранившийся до наших дней, - пример архитектурного стиля, в котором Монигетти возводил многоие здания в Ливадии.

13. Особняк Лищинской на Екатерининской улице в Ялте: очень хорошо сохранившийся особняк, исполненный в "царском стиле," вторая половина XIX в.

14. Жилой дом для высших чинов охраны: архитектор А.А. Бибер, 1901-1902 гг., также выполнен в стиле старых Императорских дворцов (сейчас корпус санатория Ливадия).

15. Жилой дом для высших чинов охраны: фрагмент деревянной резьбы балкона.

16. Жилой дом для высших чинов охраны, фрагмент.

16. Жилой дом для высших чинов охраны, фрагмент.

Большое значение придавал Монигетти и малым архитектурным формам для украшения парка. Им были найдены удачные решения беседок, пергол с вьющимися растениями, подпорных стен, изящных фонтанов. До наших дней сохранилась «турецкая беседка», ставшая своеобразным символом Ливадии, фонтан «Мария» во внутреннем дворике дворца, «Мавританский» и несколько чашеобразных фонтанов в парке.
17. Турецкая беседка, архитектор И. А. Монигетти, 1864-1865 гг.

18. Фонтан "Ливадия": сохранился от прежнего владельца имения, графа Л.С. Потоцкого, у которого он стоял в зимнем саду Большого дома. С небольшими дополнениями - новыми навершием и основанием, также из каррарского мрамора, - он был впоследствии перенесен И. А. Монигетти на площадку возле Крестовоздвиженской церкви. В верхней части фонтана арабской вязью высечено название имения - "Ливадия." Вода в нем вытекала непрерывной струйкой изо рта бронзового барашка.

19. Фрагмент мраморного орнамента фонтана "Ливадия".

20. Сторожка: архитектор И. А. Монигетти. 1864 г. С этой сторожкой связан трогательный эпизод в истории ее строительства: первым, кто занял скромную должность сторожа, был солдат-инвалид, потерявший в Крымской войне 1854-1855 гг. ногу. М. А. Земляниченко пишет в своем путеводителе по дворцу: "Сам знаменитый Монигетти в докладной записке в Управление Уделов объяснял, почему несколько превысил сумму, выделенную на эту постройку: он решил сделать лестницу, ведущую ко входу в дом с каменными ступеньками, удобными для инвалида, а внутри - дополнительные приспособления для передвижения. В этой заботе архитектора о простом солдате проявилось то глубокое чувство уважения и восхищение участником защиты Севастополя, которое охватило тогда все слои российского общества, - их считали не побежденными, а победителями."

При составлении плана построек главным пожеланием Марии Александровны было расширить дом Потоцкого, превратив его в большой Императорский дворец, и обязательно выделить в самостоятельное здание церковь, которая должна была быть выполнена в традициях старинных православных храмов. Для Государыни имело огромную важность сделать церковь центром своей обширной усадьбы, ведь по воспоминаниям современников, близко знавших Императрицу, Мария Александровна была человеком глубоко религиозным.
Мария Александровна приняла новую для себя веру (православие) по глубокому сердечному убеждению. Православие покорило ее своей искренностью, чистотой, способностью поддержать человека в самых тяжелых невзгодах. Именно через веру и православную церковь цесаревна постигала Россию. Она прекрасно знала русский язык и досконально – русскую историю (сохранились свидетельства современников тому – Мария Александровна не раз доказывала отличное знание, например, ранней истории России). Своих шестерых сыновей и дочь Императрица воспитывала в строгой церковной дисциплине.
Александр III писал: «Мама своим примером и глубокою христианскою верою приучила нас любить и понимать христианскую веру, как она сама понимала. Благодаря Мама ...мы сделались и остались истинными христианами и полюбили и веру, и церковь». Марие Александровне очень понравился проект церкви , в котором Монигетти гармонично соединил архитектурные традиции культовых сооружений Закавказья и Византии. Церковь решено было назвать в честь праздника Воздвижения креста Господня (отмечается 14 сентября).
Праздник этот посвящен важному в христианской жизни событию: обретению Византийским императором Константином Великим Креста Господня и воздвижению его на Голгофе. Вот что пишет об этом Мария Александровна Земляниченко в своей книге, посвященной Крестовоздвиженской церкви: «Идея этого праздника была особо близка Марие Александровне: человек, подобно Христу, проходит в жизни «крестный путь», ведущий его к спасению. Через страдание к радости, через смерть к победе, через жертвенную самоотдачу к выполнению воли Бога Отца – таков путь Христа, таков и путь всех идущих за Ним. «Кто хочет за мною идти, да возьмет крест свой и по Мне грядет». «Взять крест свой» - значит «отвергнуть себя», победить себялюбие, учиться жить для других, учиться терпению».
21. Крестовоздвиженская церковь в Ливадии. Архитектор И. А. Монигетти. 1862-1863 гг.

22. Восточный (алтарный) фасад Крестовоздвиженской церкви в Ливадии.

23. Запрестольный образ Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Мозаичная работа А. Сальвиатти. 1887 г. Современная фотография.

24, 25. Внутренне убранство Крестовоздвиженской церкви в Ливадии в наши дни.

25.

Закладка фундамента Крестовоздвиженской церкви произошла 8 сентября 1862 г. Несмотря на сложности с наймом рабочей силы, доставкой строительных материалов, уже к лету 1863 г. были реконструированы Большой и Малый дворцы и построена Крестовоздвиженская церковь.
Крестовоздвиженский храм из инкерманского камня сверкал белизной среди остальных зданий – либо оштукатуренных в светло-коричневые тона, либо сохранивших естественный серый цвет местного гаспринского известняка.
Внутренним убранством церкви по поручению Государыни занимался академик живописи Бейдман. Судить о плодах его трудов можно по отчету о проделанных живописных работах авторства Монигетти. Он дал высокую оценку образам святых, созданным выдающимся мастером, которые он писал с древних оригиналов, найденных на Востоке и в Римских катакомбах.
Прим. Бейдман Александр Егорович – известный художник исторической религиозной живописи, академик, адъюнкт-профессор петербургской Академии художеств.
Всех входящих в храм поражали три прекрасных настенных панно: «Воздвижение Честного Креста», «Тайная Вечеря» и «Рождество Богородицы».
Богатство внутренней отделки храма подчеркивалось роскошным иконостасом из белоснежного резного мрамора, литыми бронзовыми царскими вратами, паникадилом и дверными решетками, дорогими коврами, сотканными в Париже. Конечно, все это великолепие вызывало восхищение. Автор справочника-путеводителя по Крыму, изданного в Одессе в 1869 г, . говоря об иконостасе с милым простодушием писал, что «...ни серебро, ни золото не в состоянии затмить его».
Талант Монигетти проявился не только в оформлении дворцов, но и церкви: только эскизов церковной утвари и одеяний, выполненных архитектором, насчитывалось более 900! По его рисункам работали итальянские мастера Рафаэло Изелла и Ахиллес Рампини.
В этой церкви были собраны бесценные православные сокровища: икона Иверской Божией Матери византийского письма X в., коллекция христианских реликвий, принадлежавшая грузинскому царскому роду. В середине XIX в. Она была преподнесена грузинскими князьями в дар императорской семье. Мария Александровна распорядилась перевезти всю коллекцию в Ливадию и хранить в особой витрине храма слева от иконостаса.
В дальнейшем церковь претерпела ряд реноваций, о которых я расскажу в продолжении своих заметок. В завершение замечу, что церковь довольно хорошо сохранилась до наших дней и на сегодняшний момент является действующей.
Бытование императорской семьи в имении Ливадия
Как уже было сказано, имение было приобретено в 1860 г., а весной 1861 г. императорская семья отправилась в Крым. Причиной такого скорого отъезда являлось здоровье Императрицы, которое ухудшалось с каждым днем: кстати, современные медики утверждают, что заболевание Марии Александровны являлось бронхоэктатической болезнью, а не истинным туберкулезом (это заболевание бывает врожденным и приобретенным и современной медициной лечится с использованием антибиотиков). Сохранились также многочисленные свидетельства современников о том, что крымский климат крайне благоприятно действовал на здоровье Императрицы.
26. Современный вид на море из свитского корпуса Императорского Дворца, Ливадия.

27. Современный вид на Ялту из свитского корпуса Императорского Дворца, Ливадия.

28.

Путешествие это требовало в те годы большого количества времени и сил: железных дорог еще не было за пределами ветки Москва-Петербург, и ехали сначала железной дорогой до Москвы, а потом в экипажах, делая остановки в крупных городах, обычно по две ночи. В некоторых городах (как в Харькове, Николаеве, например) останавливались на пять ночей. Из Николаева на колесном пароходе «Тигр» Императорская семья приплыла в Одессу, из Одессы - в Ливадию. В общей сложности путешествие заняло две недели. Но в нахождении в Крымы, несмотря на удаленность, был и свой безусловный плюс: возможность не покидать Россию.
Путешествие было тем более непростым, что Мария Александровна взяла с собой маленького сына, Павла, которому не было еще и года, и еще двух маленьких детей, которым в то время было четыре и семь лет. Для справки: из Петербурга в Ливадию дорога тогда была длиной 3 328 верст (что составляет чуть более 3 550 км).
Конечно же, подготовить дом для августейших особ в полной мере за такой короткий промежуток времени не представлялось возможности. Некоторые члены свиты Императрицы откровенно пишут о том, что обустройство дворцов шло постепенно и в течение нескольких лет. Несмотря на все трудности переезда и первоначальную неустроенность, - в этом сходятся во мнении все современники, - Императорское семейство очень полюбило Ливадию: «Здесь они могли воображать себя частными владельцами»... То есть жить той простой, человеческой жизнью, которой в столице, по большей части, бывали лишены.
С 1867 г. Мария Александровна и дети стали посещать Ливадию регулярно и находились здесь в течение продолжительного времени. Императрица чаще всего приезжала с детьми уже на Пасху и оставалась здесь на все лето и осень (в отличие от семьи Николая II, которая предпочитала проводить лето в Финляндии). А вот Император чаще всего приезжал ближе к осени: государственные дела не позволяли ему проводить все лето в такой удаленной области, как Крым.
Известно, что императрица в Ливадии купалась в море – в списках покупок царской семьи сохранились упоминания о том, что для нее приобреталась специальная обувь из текстиля для купания в море, поскольку берег в Ливадии, как известно, галечный. Позднее именно для нее были сделаны специальные купальни, в которых вода прогревалась заранее, поскольку ухудшающееся здоровье не позволяло купаться в открытом море. Также императрица очень много гуляла в той части парка, где росло много хвойных деревьев, это было предписано ей медиками.
В присутствии Императорской семьи особенно торжественно отмечался храмовый праздник Крестовоздвижения и дни тезоименитства семьи Романовых. На дни тезоименитства обычно давался салют. Семейство жило простой и размеренной жизнью, наслаждаясь прогулками, роскошной крымской природой и относительной свободой, которой они могли здесь пользоваться.
Подводя краткий итог, можно сказать, что, как и любой предмет, носящий на себе отпечаток владельца, оставленные Романовыми памятники хранят отпечатки их характеров, стремлений, убеждений, чаяний. Наша задача – читать эту открытую книгу и сохранять память об этих замечательных жертвенных людях.
29. Императрица Мария Александровна. Фото 1860-ые гг.

Источники:
1. М. А. Земляниченко. Дворцовая церковь в Ливадии: история Крестовоздвиженского храма. Симферополь. Бизнес-Информ. 2012 г.
2. М. А. Земляниченко. Императорские имения Ливадия и Ореанда: что было и что осталось. Симферополь. Бизнес-Информ. 2016 г.
3. Н. Н. Калинин, М. А. Земляниченко. Романовы и Крым. "У всех нас осталась тоска по Крыму", Симферополь. Бизнес-Информ. 2002 г.
4. И. В. Зимин, текст доклада "Поездка императорской семьи в Ливадию в 1861 г., будет опубликован в "Сборнике научно-практической конференции "Романовы и Крым. Научные чтения в Ливадии." 2017 г.
Все фото, кроме старинных репродукций, выполнены автором очерка.
___________________________________________
Регулярно в Ливадийском дворце проходят различные тематические выставки и специализированные экскурсии, ниже информация только о двух из них.
Сайт дворца-музея (там можно найти информацию о других экскурсиях и выставках):




Tags: Крым, Царь, исторические личности, история России
|
Метки: крым романовы |
Николай Кропоткин |
Уникальная фотография
Учащиеся Вилянской основной школы
Николай Кропоткин
Николай Дмитриевич Кропоткин (16 июня 1872, Харьков - 11 октября 1937, Берлин) - князь, потомок Рюрика, камер-юнкер, вице-губернатор Курляндии (1907-1912) и Лифляндии (1912-1915).
С 1910 г. главный Церемониймейстер Высочайшего двора, действительный статский советник. В 1910 г. был избран председателем Балтийского Автомобиль и Аэро клуба.
После революции эмигрировал в Германию, умер в Берлине и похоронен на православном кладбище Тегель. Владения, принадлежавшие князю Кропоткину в Сигулде, были национализированы Латвийским государством в ходе аграрной реформы в начале 1920-х годов.
Имя Н.Д. Кропоткина тесно связано с преобразованием Сигулды (Зегевольда) в курорт, получивший название «Лифляндской Швейцарии». При его содействии были построены железнодорожный вокзал, гостиница и санная трасса длиной в 900 метров.
В 1898 г. Н.Д. Кропоткин унаследовал от своей матери урожд. Ольги фон дер Борх (в замужестве Кропоткиной) родовое имение, включавшее Сигулду и Новый замок, построенный в 1878-1881 годах на месте замка, возведенного крестоносцами в начале XIII века. Супругом Ольги фон дер Борх (1847-1898) был князь Дмитрий Николаевич Кропоткин (1836-1879), генерал-лейтенант, Харьковский генерал-губернатор (1870-1879), погибший в результате покушения, организованного членом организации «Народная воля».
У Н.Д. Кропоткина от брака с Марией фон Рихтер (1871-1945), придворной дамой императрицы Марии Федоровны, был сын Дмитрий Николаевич Кропоткин (1895-1931, Берлин). Уже будучи в эмиграции он женился на Нине Стольниковой (1901-1940). В 1924 г. у них родился сын Николай, единственный наследник рода Кропоткиных (в 109 поколении), скончавшийся в Ганновере (Германия) 29 апреля 2014 года и похороненный на семейном кладбище в Сигулде..

Jaunākās Ziņas: Pirmdiena, 18. oktobris, 1937
Александр Гурин. Потомок Рюрика - основатель Сигулды
Элина Чуянова. Последний Кропоткин
Элина Чуянова. Похождения князей Кропоткиных
Юлия Александрова. Последний из князей Кропоткиных будет похоронен в Сигулде
В субботу состоится отпевание и похороны князя Н.Д.Кропоткина
http://zegewold.livejournal.com/39045.html - Князья Кропоткины возвращаются в Сигулду
http://www.e-novads.lv/rigasregions/siguldas-novad...-dzimtas-sapnis-piepildas.html
http://www.fonrogge.lv/lv/
http://pravoslavie.lv/index.php?newid=5634&lang=LV
http://pravoslavie.lv/index.php?newid=5634&lang=RU
http://www.gazeta.lv/story/24255.html
https://www.facebook.com/gazeta.lv
http://www.sigulda.lv/public/lat/jaunumi/9030/comm
Иллюстрации к теме
Связанные темы
Потомок Рюрика – основатель Сигулды
Сигулдский замок - бывшее владение князей Кропоткиных
|
Метки: кропоткины |
Свита...Часть III |
Свита...Часть III
- Dec. 26th, 2011 at 3:22 PM
Оригинал взят у 
Идем дальше.
Мария Петровна Трубецкая, княжна (1870- 1954).
Назначена фрейлиной в 1891 году. У нее весьма интересная родословная. Самая младшая из семи детей князя Петра Никитича Трубецкого (1826-1880)(племянника известного декабриста Сергея Трубецкого) и светской львицы Елизаветы Эсперовны Белосельской-Белозерской (1834-1917). Существует знаменитый портрет Елизаветы Эсперовны кисти блистательного льстеца Винтергальтера. В свете княгиню Трубецкую звали 'Лизон' – она собирала в своем салоне дипломатов и политиков, вела переписку с Тьером, Пальмерстоном и Горчаковым и всячески изображала из себя гранд-даму, играющую важную политическую роль.
Старшая дочь Трубецких – Елена – вышла замуж за Павла Демидова – а их дочь Аврора стала матерью принца Павла Югославского. Вот такая интересная родословная коллизия – получается Мария Петровна была в родстве с Сербско-Югославской королевской семьей.
Фрейлиной Мария Петровна пробыла недолго, потому что в 1894 году – в Ильинском – стала женой графа Алексея Алексеевича Белевского-Жуковского, внебрачного сына великого князя Алексея Александровича от Александры Жуковской. Вот и еще один брачный союз 'внутри двора'. Граф Алексей состоял при своем дяде великом князе Сергее и позже стал его адъютантом. Я расскажу о нем и его семье позже – когда речь пойдет об адъютантах великого князя. Маруся и Алексей были очень любимы великокняжеской парой и те всегда привозили им подарки из заграничных путешествий. Сергей Александрович стал крестным отцом единственного сына Белевских – тоже Сергея…А Елизавета Федоровна в своем черновом завещании 1905 года 'отпишет' Марусе свои наручные часы.
Фото Марии Петровны и Алексея Алексеевича

В сумасшедшие революционные годы Мария Петровна с детьми покинет Россию и проживет оставшуюся жизнь во Франции – опубликует небольшие воспоминания о Елизавете Федоровне, будет читать лекции о последней царской семье. В общем – эмигрантское житье и последнее место упокоения – кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.
Александра Николаевна Лобанова-Ростовская ,княжна (1868 -?). Фрейлина, оставившая по себе самые интересные воспоминания у современников. Мои уважаемые коллеги по ЖЖ уже не раз писали об этой веселой девушке
http://il-ducess.livejournal.com/129054.html
http://il-ducess.livejournal.com/174991.html?thread=3338383
http://ne-nai.livejournal.com/49328.html
Но кто она была и откуда?..О том, что в наши дни ее путают с двоюродной сестрой Людмилой – я уже рассказала. Между прочим – я с большим удивлением прочитала в Придворном Календаре -первоначально Александра была фрейлиной не Елизаветы Федоровны, а великой княгини Александры Георгиевны. То есть на свой пост она заступила в 1889 году – исполнять обязанности при юной жене великого князя Павла. В электронной описи ГАРФа - фонде греческой королевы Ольги – есть указание о наличии фотографии Групповая фотография с надписью "Александра", дочь Ольги Константиновны, "фафочка" и два мужчины с датой 1890 год. Можно легко догадаться, что Фафочка – это Фафка…
Кстати, я вдруг задумалась о происхождении прозвища Александры Николаевны. Моя версия – Фафка – это детское шепелявое произношение уменьшительного имени Сашка – может кто-то из братьев-сестер Александры (а может и она сама) не мог произнести имя правильно. В конце концов – так часто рождаются прозвища. Вон мать бывшего румынского короля Елена Греческая среди родни была известна как Sitta…потому что в детстве ее брат не мог хорошо произносить слово sister .
Теперь о родословной. Лобановы- Ростовские очень примечательный род в истории России – в 19 веке тесно связанный с дипломатическими кругами. Хорошо известен князь Алексей Борисович – дипломат, посол, министр иностранных дел. Многие женщины из этого ряда выходили замуж за дипломатов. Две тетки Александры Николаевны таким образом нашли мужей. Собственная сестра Фафки – Ольга – первым браком была за секретарем при российском посольстве в Португалии, а вторым за британским посланником при различных дворах сэром Эджертоном…
Обратимся к семье Александры. Ее родителями были князь Николай Алексеевич Лобанов-Ростовский (1826 -1887) и Анна Ивановна Шаблыкина (1837-после 1907) (в первом браке Шеншина). Родословный сборник Руммеля указывает, что у них было 8 детей – 4 сына и 4 дочери. Фафка – третья дочь. В дальнейшем их семью прославит самый старший брат Алексей (Шталмейстер Высочайшего Двора, действительный статский советник, член Государственного Совета)и старшая сестра Ольга – она же леди Эджертон – которая откроет в 1919 году модный дом Paul Caret в Лондоне, чтобы помочь нуждающимся русским эмигранткам…Кстати, самая младшая сестра – Люба – выйдет замуж за американца – профессора истории Калифорнийского университета James B. Landfield. Воистину – Лобановы – семья интернациональная.
В 1892 году Фафка становится фрейлиной Елизаветы Федоровны – видимо, после смерти Александры Георгиевны великокняжеская чета не распрощалась со всеми приближенными великого князя Павла и его покойной жены, а оставила при своем дворе. Тем более, судя по отзывам современников, Фафка была популярным персонажем в их окружении. Она часто сопровождала великокняжескую пару в заграничных путешествиях в 1890е годы…По каким причинам она покинула службу в 1902 году – неясно. Замуж она не выходила. Возможно – стала жить вместе с семьей старшей сестры Ольги – в Риме, а затем в Лондоне. Воспоминания Феликса Юсупова о болтливой Фафке на выставке ювелирного искусства в Лондоне относятся аж к 1935 году! Как видно, характером Фафка не изменилась даже в преклонные годы – в 1935 году ей было уже 67 лет…
Делаем справедливое заключение, что Александра Николаевна пережила революционные годы – может и за пределами России – и, скорее всего, продолжала жить у сестры Ольги Эджертон, которая еще в 1916 году потеряла и сына, и мужа. Косвенное тому доказательство – запись в дневнике императрицы Марии Федоровны от 5 июня 1919 года (она недавно приехала в Англию и жила в Лондоне, после всех жутких лет ‘заточения’ в Крыму):
'…Затем приняла Хюне с женой, а потом – леди Эджертон и ее сестру Тафку, которую я никогда бы не узнала с этой чудовищной шляпкой на голове. Вид у нее весьма привлекательный, только уж очень она большая'.
Понятно, что Тафка это Фафка – императрица спутала прозвище (немудрено, учитывая сколько лиц и фамилий ей встречались в течение жизни).
Интересно, что в своем черновом завещании Елизавета Федоровна не упомянула Фафку – там есть имена Маруси Белевской, Китти Струковой и Софьи Шаховской, а также графини Олсуфьевой. О Фафке ни слова. Но среди современников княжна оставила неплохую память.
Когда она умерла и как складывалась ее жизнь в 1902-1935 гг и после 1935 года – найти не удалось. Надеюсь, данные о ней есть где-то в генеалогиях, написанных эмигрантами и вышедших на Западе в 1950е и далее – годы. Мои ручки пока не дотянулись до этих томов.
Теперь - фотографии княжны с великой княгиней и среди Романовых и прочих лиц. Чтобы не повторять фото из постов моих друзей – выставлю пару других. Но не удержусь от соблазна еще раз напомнить вот это групповое фото из Франценсбада 1896 года:
 Фафка сидит внизу. А рядом с великим князем Сергеем наверняка ее сестра – Ольга. Фамильное сходство налицо.
Фафка сидит внизу. А рядом с великим князем Сергеем наверняка ее сестра – Ольга. Фамильное сходство налицо.
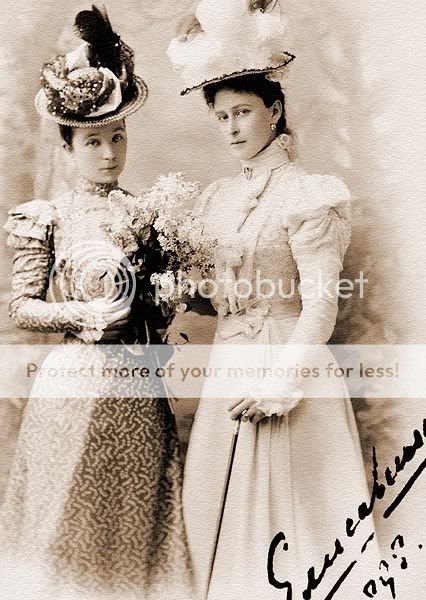
Фафка с великой княгиней.

А здесь групповое фото из Ильинского образца 1896 года – послекоронационный отдых царственных особ в великокняжеском имении. Фафка –самая крайняя слева.
Ну вот...на сегодня все)). To be continued...
Tags:
|
Метки: романовы трубецкие |
Петр Кропоткин, или Князь в валенках |
Петр Кропоткин, или Князь в валенках
В этом году исполнилось 95 лет, как город Кропоткин получил свое нынешнее наименование. И это чудо, как заштатному поселению под названием «Романовский хутор», к которому Петр Алексеевич Кропоткин не имел никакого отношения, было присвоено имя человека, оказавшего влияние на ход мировой и европейской истории. Об истоках этого чуда скажем позже…
Сразу после кончины «великого Бунтаря» почестей было немало — назвали улицы, город, потом одну из первых станций Московского метро. А теоретическое наследие, увы, положили под сукно. Иногда вспоминали его как географа. Но как историка, теоретика анархизма и пропагандиста социализма незаслуженно забыли и в СССР, и в России.
Пришло время возвращать долг! Усилиями многих энтузиастов это происходит. Но пока мало заметно.
Город Кропоткин теперь один из гармонично развитых в Краснодарском крае. И кому как не его гражданам и властям взяться за пропаганду наследия великого гражданина России? Чтобы и грядущее 100-летие присвоения городу имени Петра Алексеевича Кропоткина подготовить и провести достойно!
А сейчас краткий экскурс, в котором абрисно проследим его бурную биографию.
И пусть мое слово послужит как бы предтечей этого славного юбилея.
Увековечен в бронзе… и в названии города
В подмосковном городе Дмитрове на улице Кропоткинской у небольшого деревянного дома соорудили не особенно приметный памятник. Без традиционного постамента или коня, нередко дополняющих скульптурные произведения. Добродушного вида бородатый старичок в бронзе восседает на скамейке. Как будто отдыхает на завалинке, а может, поджидает гостей или старуху с рынка. Больше похож на дедушку Мазая. Но одет как гимназический учитель или купец первой гильдии. Если бы… не валенки. Обувь явно не по сезону, но для многих россиян в преклонных годах валенки, по понятным причинам, норма в любое время. Надпись на основании памятника гласит: «Князь Кропоткин». Князь и в валенках!?
Памятник этот установлен дмитровцами (по проекту известного скульптора Рукавишникова) в 2004 году крупнейшему русскому ученому и видному революционеру Петру Кропоткину. Человеку из рода Рюриковичей, потомку князей смоленских, ведущих родословную аж от самого великого князя Владимира Крестителя. В этом городе Дмитрове он жил недолго. Всего три года. Поселился в 1918 году. А в феврале 1921 года здесь и окончил земной путь.
Еще при жизни был признан фигурой мирового масштаба. Хотели было город в его честь переименовать, да не решились. Ведь Дмитров — древнее Москвы. И тут подвернулся кубанский город Романовский Хутор, совсем далекий от мест рождения, жизни и смерти Кропоткина, но очень подходящий в плане тогдашней компании по удалению из народной памяти всякого упоминания о царской династии. Так в 1921 году поселение Романовский Пост, а потом город Романовский Хутор стал городом Кропоткин. Хотя, на первый взгляд, ерунда получалась. Название в честь царя (хотя есть мнение, что Романовский Пост был именован в честь выходцев из станицы Романовской войска Донского. — С.П.) большевики поменяли на имя князя?
Нет, не все так просто. Сам Ленин считал его единомышленником, а по некоторым вопросам революционной теории даже учителем.
Оказался пророком…
Идею-лозунг «экспроприация экспроприаторов», что означает изъятие и дележ имущества богатых, он у Кропоткина позаимствовал. Главное их разногласие заключалось в том, что Кропоткин — в отличие от Ленина — предостерегал от построения государственного социализма с помощью диктатуры пролетариата, а фактически партийной диктатуры. В декабре 1920 года Кропоткин написал Ленину: «Я должен сказать вам откровенно, что, согласно моему взгляду, попытка построить коммунистическую республику на основе строго централизованного государственного коммунизма под железным законом партийной диктатуры в конце концов потерпит банкротство». Он предвидел невозможность такого проекта из-за того, что, как и при капитализме, работник в качестве СЛАБОЙ стороны в договоре найма будет вынужден продавать свой труд обладателю капиталов на кабальных условиях. Но только не частному лицу, а государству. Что не меняет сути жесткой зависимости рабочего от работодателя. Ленин и все последующие советские правители в течение долгих десятилетий пытались опровергнуть прогноз Кропоткина. К сожалению для всех нас, Кропоткин оказался пророком. Советский режим на государственническом замесе не выстоял в бурях людских страстей, желаний и горбачевско-ельцинского идиотизма. Нами под банкротством советского режима понимается не развал государства, а фиаско в области социальной идеологии. То есть возврат к капитализму наихудшего криминального варианта.
Но в итоге, на мой взгляд, от социализма не отвертеться. Только теперь не по ленинской модели, которая себя не оправдала, а по Кропоткину — идеологу анархо-коммунизма. Ведь согласно философии анархизма Кропоткина власть не должна быть полицейской по сути. Скорее всего — это подобие действий дирижера в оркестре. Не дарвиновская в природе и не марксистская — борьба животных и людских классов за существование, а конкуренция и взаимопомощь — вот два вечных начала как в природе, так и в обществе. Идеальное устройство жизни, неустанно убеждал Петр Кропоткин, зависит от гармонии этих двух начал. А работодателями будут выступать представители общин, обладающие полномочиями не собственников, а только пользователей без права присвоения какой-либо части прибылей. Другим способом производства, работ и услуг будет самозанятость работников-индивидуалов. И над всем этим федеративное правительство. Для защиты от внешнего противника необходимо всеобщее вооружение народа. Как в США или в Швейцарии. Движение к этому состоянию началось не вчера и будет явно и подспудно ускоряться, если наша ложная вера в незаменимость современного государства не станет в очередной раз помехой этому естественному процессу.
Правда против мифов
Кроме того, считал Кропоткин, необходим еще один «пустячок» — переход от представительной к прямой (референдумы на всех уровнях. — С.П.) демократии. Большевики не захотели или не смогли этого «пустячка» соблюсти, и в 1993 году (расстрел Белого дома) получили буржуазную контрреволюцию, для которой представительная демократия весьма органична, а для советского режима — противоестественна.
Но сам анархизм у нас скомпрометирован поздними большевиками основательно, и потому отношение к нему, мягко говоря, настороженное. Для большинства публики он синоним хаоса. Над анархистами кто только не потешался. А в художественном творчестве они сплошь отрицательные типы. Оттого и мало кто основательно знаком с теоретическим наследием Кропоткина, широко известным в мире и мало известным в России. К тому же оно огромно по объему. Хотя для понимания читателя средней подготовки не сложное. Может, мы действительно ленивые и нелюбопытные? Все так и не совсем. Ведь вождя анархизма вознесли до того, что город в его честь назвали! Ладно бы большевики начудили. Но и другие власти не отстают от них. При анархо-правителе Ельцине улице Кропоткинской в Москве возвратили историческое название Пречистенка, но в компенсацию переулок с прекрасной усадьбой, где родился великий анархист, так и оставили Кропоткинским, переименованным из переулка Штатный в 1921 году. Еще парадокс. Когда станцию метро «Кропоткинская» только проектировали, одно из будущих ее названий значилось как «Храм Христа Спасителя». Но по окончании стройки в 1935 году назвали в честь безбожника и анархиста Кропоткина. Храм в 1934 году снесли, как «не представляющий архитектурной ценности». На самом деле — как следствие оголтелой антирелигиозной пропаганды. А станция и сегодня носит его имя. Рядом с возрожденным храмом! Так что, анархисты — плохие, а вождь анархистов — хороший? Да еще такая одиозная фигура Гражданской войны, как Нестор Махно. Он добавил отрицательных красок, объявив себя анархистом и свое крестьянское движение анархистским. А Кропоткина — кумиром. Известно, что в голодные годы Гражданской войны он прислал Кропоткину мешок муки, сопроводив подарок письмом с уверениями уважения к Учителю.
Так что придется нам еще долго отделять мифы и легенды от правды в его учении и биографии. И хорошо разобраться в сущности наследия великого бунтовщика. Но пока еще, увы, не разобрались. Понять значение его революционной теории, особенно для будущего, — надо. Ибо «без теории древо жизни мертво». И опять забредем не туда.
Успел князь прославиться также как ученый-географ, геолог и историк. Слыл знатоком музыки и живописи. И как философ и писатель не на последнем месте. Кропоткин — известный во всем цивилизованном мире ученый-энциклопедист. Но, к сожалению, малоизвестен до сих пор на Родине. А вся жизнь его круче любого детектива — отказ от высшего общества, полные опасностей научные экспедиции по Сибири и Дальнему Востоку, аресты, тюрьмы, фантастический побег из тюремной больницы, 40 лет эмиграции и триумфальное возвращение в июле 1917 года на Родину.
Сергей ПЛАТОНОВ.
Доктор права
Источник: Вольная Кубань
http://krasnodar.bezformata.com/listnews/kropotkin-ili-knyaz-v-valenkah/50703064/
|
Метки: кропоткины |
Последний Кропоткин |
Последний Кропоткин

21 апреля 2011 («Вести Сегодня Плюс» № 32)
Единственный прямой потомок старинного рода, восходящего к Рюриковичам, в эти дни гостит в Латвии.
Внук вице–губернатора Лифляндии, камер–юнкера Императорского двора Николая Дмитриевича Кропоткина — его полный тезка. Князь живет в Ганновере, но в свои 87 лет готов переехать в Латвию, чтобы быть ближе к истокам. Ведь это именно его дед создал туристический феномен Сигулды, а на местном кладбище есть даже фамильное захоронение Кропоткиных. Последний из могикан хочет перевезти из Германии в Сигулду прах своих близких и мечтает сам закончить здесь свой земной путь…
Любовь к отеческим гробам
В последние 10 лет Николай Дмитриевич неоднократно бывал в Латвии. А началось все в 2000 году в Ганновере на международной выставке EXPO. Увидев латвийский павильон, он подошел, представился, взял в руки проспект о Сигулде, на обложке которого был изображен родовой замок Кропоткиных, и… нахлынула генетическая память.
В детстве Коля всего два раза бывал у бабушки в Сигулде и замок Зегевольд видел только со стороны. Бабушка — Мария Рихтер — после развода с дедом и его отъезда во Францию жила на Зеленой вилле. Эта вилла — единственная из широкого списка фамильной недвижимости к тому времени оставалась за Кропоткиными. Сегодня уж не осталось ничего. Как только в начале 2000–х последний потомок впервые приехал в новую Латвию и заикнулся о возврате ветхого домишки с громким названием Зеленая вилла, собственность неведомым образом ушла в чужие руки. Впрочем, точку в этой мутной приватизации ставить еще рано — впереди судебные разбирательства…
А пока Николай Дмитриевич по приезде останавливается в отеле "Сигулда", здание которого, к слову, тоже принадлежало его деду. Однако и тут не обходится без конфуза. Владелец гостиницы, в свое время клятвенно обещавший предоставлять номер редкому гостю за счет заведения, сегодня требует "консолидации" от Сигулдской думы. И впрямь, неслыханная роскошь — на неделю раз в два–три года обеспечить князю чистую постель!
И тем не менее Сигулда в глазах последнего Кропоткина вовсе не теряет свое лицо, а даже напротив — год от года кажется все лучше. Во всяком случае, новый мэр города Угис Митревиц делает для этого все возможное. Именно по его личному приглашению князь гостит в Сигулде в эти предпасхальные дни. К его визиту был презентован сигнальный номер путеводителя "Князья Кропоткины и Сигулда", который вот–вот будет издан массовым тиражом на двух языках и за счет городского бюджета. Кроме того, уже известно, что Сигулдское самоуправление возьмет на себя основную часть расходов, связанных с перезахоронением предков Кропоткина, которые покоятся в Германии. Князь желает перевезти на фамильное кладбище прах не только своего деда, но и других родственников. "Помочь в этом — долг Сигулды перед родом Кропоткиных", — сказал на пресс–конференции господин Митревиц.
Анархия — не порядок
— Хоть я в Сигулде не родился, но считаю ее своей родиной, — признался "Вести Сегодня" Николай Дмитриевич. — Я вижу, как здесь чтят моего дедушку. А ведь почти 100 лет прошло. Хотя что такое 100 лет? Для истории цивилизации это миг, а для истории семьи — целая вечность. Надо помнить, откуда мы происходим, кто наши предки — без этого мы как дерево без корней. Папу–маму мы еще знаем, бабушку–дедушку — как повезет, а дальше уже темный лес. Пока я был молод, мало интересовался историей семьи, а когда спохватился — уже было не у кого спросить. Люди забывают, что жизнь коротка. Не знаю, сколько лет проживу, но меня тянет в эти места, я люблю сюда возвращаться…
Согласно семейной традиции, старших сыновей в роду Кропоткиных называли то Николаем, то Дмитрием. По словам князя Николая Дмитриевича, жизнь у Николаев обычно длилась дольше, а Дмитрии умирали безвременно. Однако был в роду еще и Петр Кропоткин — теоретик анархизма, путешественник и ученый, совершивший открытия в области биологии, географии, социологии и этики. Он приходился родным дядюшкой основателю сигулдского курорта.
Но не знаменитым анархистом гордится последний Кропоткин, а своим дедом — прогрессивным хозяином города, справедливым к нижестоящим, снисходительным к сирым и убогим. Это был тот редкий тип, которого любили и господа, и слуги. И, к его чести, было за что. Ну вот хотя бы несколько фактов…
Кропоткинская Сигулда
Именно с князем Николаем Дмитриевичем Кропоткиным был связан наивысший расцвет Сигулды. Как только он вернулся сюда в 1895 году после обучения в Пажеском корпусе Императорской гвардии, то решил обустроить свои земли по курортным образцам Европы… После смерти матери, урожденной графини фон дер Борх, молодой князь унаследовал ее родовой замок Зегевольд, где ныне разместилось местное самоуправление. А еще для него построили Белую виллу, которой теперь владеет Министерство среды. Когда Николай Дмитриевич стал хозяином Сигулды, ему было меньше 25 лет, но он сразу проявил деловую хватку и широкий кругозор. Первое, чем он удивил соседских помещиков, было современное переобустройство сельского хозяйства. Он закупил племенных коров и породистых лошадей, завез из–за границы сельхозтехнику, построил механическую мельницу и молокохранилище. В местной газете "Варпа" писали, что зимой 1901 года хозяин усадьбы приказал завезти из России 3000 зайцев, так как в охотничьих угодьях Сигулды они совсем перевелись.
Принадлежащие поместью переправу, пансионы и гостиницу князь отдал внаем, начал сдавать в аренду и самую выгодную с точки зрения торговцев землю в районе железной дороги. Первые 50 договоров о продаже земли местным крестьянам были подписаны еще в 1867 году его матерью Ольгой фон Борх. Чтобы популяризировать Сигулду, князь Кропоткин взялся лично оплачивать местным владельцам дач и пансионов размещение объявлений в газетах России. Все это влекло за собой сезонные наплывы приезжих. До Первой мировой войны в Сигулде было 114 дач, а численность населения летом увеличивалась втрое за счет отдыхающих: 3000 против 1000. Особенно любили приезжать сюда туристы из Москвы и Петербурга, Одессы и Варшавы.
В 1901 году в журнале "Вардс" были опубликованы "Письма из Видземской Швейцарии", где местные жители вспоминали зарождение сигулдского курорта: "Владельцы дач жаловались, что гостям города совершенно негде встречаться и проводить время. Хозяин Сигулды это учел и к следующему летнему сезону недалеко от гостиницы в березовой роще был открыт публичный парк, объединенный с привокзальным садом. Все было устроено роскошно. По воскресеньям и даже в рабочие дни в парке играл оркестр. На содержание парка и сада князь жертвовал крупные суммы… Он делал все, чтобы Сигулда стала красивейшим дачным местом. В результате росло благосостояние местных жителей: им уже не нужно было везти свой урожай и ремесленный товар на продажу в Ригу. Все это можно было продавать на месте — тем более что благодаря состоятельным отдыхающим цены в Сигулде были выше, чем в Риге…"
Ну и, наконец, первая бобслейная трасса в Балтии — тоже детище прогрессивного Кропоткина. Едва на альпийских курортах Швейцарии — в Давосе и Шамони — появился новый вид спорта, Николай Кропоткин тут же встроился в мейнстрим и начал приобретать сани, устроив в Сигулде бобслейную трассу с виражами. Вскоре это принесло городу славу зимнего центра Латвии. В 1928 году газета "Яунакас зиняс" писала о национальных особенностях нового спорта: "Подавляющее большинство постоянных ценителей трассы составляла немецкая молодежь из Риги — они регулярно навещали Сигулду по воскресеньям. А разве для латышской спортивной молодежи Сигулда недостаточно привлекательна?"
В 1917 году Кропоткины бежали в Россию. Когда в 1918–м, в годы немецкой оккупации, они вернулись, их встретило разоренное поместье: церковь была разгромлена, сильно пострадал новый замок, от богатейшей библиотеки ничего не осталось. В 1920 году Николай Дмитриевич эмигрировал во Францию. К тому времени он уже был в разводе с Марией Оттовной Рихтер, которая осталась в Сигулде. Три их дочери и сын Дмитрий уехали в Берлин. Там в семье Дмитрия как раз и родился последний Кропоткин — Николай.
Последний из могикан
Из двух своих детских поездок к бабушке в Сигулду Коленьке запомнилось немного — вкус довоенного черного хлеба и великолепное мороженое. Мама сажала его на пароход с именной табличкой на груди, а в Риге встречала бабушка.
— Дед потом снова женился, но ненадолго, — вспоминает Николай Дмитриевич. — В 1935–м он из Франции переехал к нам в Берлин, где мы с мамой и сестрами отца занимали большую 4–комнатную квартиру. Позвонил в дверь — мы открыли, а на пороге стоит дедушка с громадным кофером: "Ну вот я и приехал". Через два года деда не стало. А папа умер еще раньше — в 1931–м, когда мне было 7 лет, и я его очень плохо помню. До войны в Берлине я окончил гимназию. Как немецкого подданного меня в 1942–м призвали в армию и отправили на Восточный фронт переводчиком в часть военной разведки, я занимался радиоперехватом. Тогда в кругах русской эмиграции все думали, что Гитлер хочет освободить Россию от большевизма, поэтому для меня было довольно естественно участвовать с той войне.
…По иронии судьбы, Николай Кропоткин был взят в плен летом 1944–го в Смоленской области — именно там, где владели землей его славные предки великие смоленские князья Рюриковичи. Потом — смертный приговор за военные преступления и замена его на 25 лет лагерей. Из них он отсидел 11 лет и сменил 12 лагерей — Урал, Донбасс, Украина… Весь Союз посмотрел из–за колючей проволоки. Первые два года скрывался под вымышленным именем — Петер Франке. Но потом НКВД докопалось до истины: "Мы про тебя все знаем. Ты — Кропоткин! Как же ты можешь — против своих?" Письма домой не доходили. Первое дошло только после смерти Сталина. В Германии весточки от Николая ждала невеста Нина — наполовину русская, наполовину швейцарка. И дождалась. Они поженились. Наследников, правда, Бог им так и не дал. Кропоткин возглавил представительство округа по торговле специальным оборудованием — штемпель–машинками для почты. Потом переехали в Италию близ Вероны, прожили там 25 лет, держали строительный бизнес. Жена говорила: "В Германии всегда дождь, и немцев я не люблю".
— Я считаю, что без России Европы не было бы, — убежденно говорит князь. — Потому что русские всегда спасали всех. И от Чингисхана, и от турков, и от Наполеона, и от Гитлера. До Гитлера ведь никто не додумался людей живьем сжигать… К России можно относиться по–разному, но этой победы у нее не отнять.
Фото автора и из архива.
«Вести Сегодня+» № 32.
http://www.ves.lv/article/170219
Связанные темы
Потомок Рюрика – основатель Сигулды
Сигулдский замок - бывшее владение князей Кропоткиных
Митрополит Александр и Н.Кропоткин мл.
http://www.russkije.lv/ru/lib/read/chujanova-kropotkin.html
|
Метки: кропоткины |
Диаспоры в Петербурге |
Курс № 17 Петербург накануне революцииЛекцииМатериалы
Курс № 17 Петербург накануне революции
Лекции
Императорский дом
Высший свет
Интеллигенция Серебряного века
Крестьяне в городе
Хулиганы, попрошайки, проститутки
Пролетарии и революция
Курс № 17 Петербург накануне революции
Материалы
Cыграйте в игру — и отыщите 12 повторяющихся портретов Романовых
Что слушали в дореволюционной России
Плейлист с короткими рассказами об исполнителях
Как власть боролась с журналистами после отмены цензуры в 1905 году
Над чем смеялись
в дореволюционной России
Аудиозаписи выступлений комиков начала XX века
Путеводитель по дореволюционному Петербургу
Диаспоры в Петербурге
Кого было в Петербурге больше — евреев или немцев? Где жили поляки и шведы, чем занимались итальянцы и англичане, откуда было столько финнов? Arzamas исследует жизнь диаспор дореволюционного Петербурга
Подготовила Софья Лурье
58
Этнический состав населения Петербурга в 1900–1910 годах
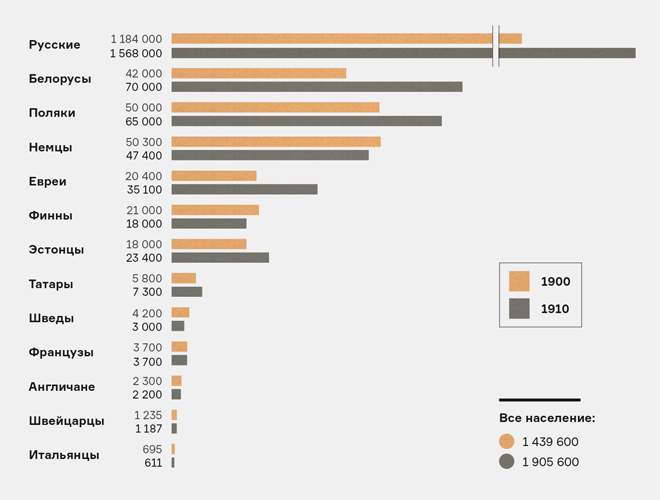
Англичане
Немногочисленные британские подданные в Петербурге жили обособленно, предпочитая селиться в окрестностях Галерной улицы и Английской набережной. В начале XIX века заметную группу составляли английские коммерсанты: более 40 британских торговых компаний и купцов экспортировали российские товары, в частности пеньку, из которой делали корабельные канаты. Кроме того, в Петербурге были востребованы английские гувернеры, садовники, каретники и жокеи. В конце XIX века английское присутствие было заметно в текстильном производстве и металлообработке: русские заводы охотно нанимали британских квалифицированных рабочих и инженеров. Англичане импортировали в российскую столицу и национальную любовь к спорту: тренеры по теннису, гребле, велоспорту, а также жокеи традиционно были выходцами из Великобритании. Первые футбольные матчи в Петербурге проходили между командами британских судов, затем по инициативе англичан была основана Петербургская футбольная лига и устроено первое поле для игры в мяч (на месте нынешнего ДК имени Кирова на Васильевском острове).
Поляки

Гимнастическое общество «Польский сокол». Женская группа на занятиях. Санкт-Петербург, 1907 год © Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга
Появление большого количества поляков в Петербурге во второй половине XVIII века было обусловлено разделами Речи Посполитой, в результате которых восточные и центральные территории этого государства вошли в состав России. С Екатерининского времени польские аристократы занимали заметное место в придворной и светской жизни Петербурга. Среди российской аристократии распространен был обычай жениться на польках — так, брат Александра I великий князь Константин Павлович ради брака с графиней Жанеттой Грудзинской отказался от претензий на российский престол. Выходцы из Польши находили в столице работу портных, парикмахеров, женщины шли в модистки и содержали пансионы для соотечественников. Польская община сложилась в Коломне , вокруг костела Св. Станислава на Коломенской улице (сейчас улица Союза Печатников). Другим районом компактного проживания поляков были Пески , Рождественская часть. Со времени реформ Александра II число поляков постоянно возрастало. Половину новых переселенцев составляли крестьяне. В конце XIX века возникают польские рабочие слободы на Выборгской стороне и в Лигове, открываются польские рестораны и гостиницы, в Измайловских ротах и на Васильевском острове в окрестностях учебных заведений появляются польские меблированные комнаты. К началу XX века в столице было 27 католических костелов и каплиц (часовен), основными прихожанами которых были поляки. Кроме религиозных общин центром польской диаспоры служило гимнастическое общество «Польский сокол», которое столь эффективно прививало молодым полякам «идеи благородства, изящества и рыцарских доблестей», что его членов охотно брали преподавателями гимнастики в школы и военные училища.
Немцы

Пивная завода «Бавария». 1910-е годы © Wikimedia Commons
Немецкая община до начала XX века представляла собой одну из самых многочисленных групп нерусского населения Петербурга. Немецкая колония формировалась из остзейцев — немецкого населения прибалтийских земель, включенных в состав России, и из немцев, прибывавших в Россию из княжеств Германии. Немцы играли значительную роль практически во всех сферах жизни города. На протяжении XIX века около 20 % государственных служащих высокого ранга имели немецкое происхождение. Среди немцев было немало выдающихся медиков — достаточно вспомнить имена Карла Андреевича Раухфуса, Романа Романовича Вредена, Дмитрия Оскаровича Отта, в честь которых в Петербурге названы больница, институт и роддом. Крупнейшая аптека Василия Васильевича Пеля на Васильевском острове обслуживала в год более 50 тысяч человек и была поставщиком императорского двора. Немцы составляли треть петербургских часовщиков, четверть ювелиров и пекарей. Согласно одной из легенд, немецкая фамилия Кренгель дала название кренделю, который вешали над входом в пекарню — такую вывеску наблюдает лирический герой Александра Блока в стихотворении «Незнакомка»: «Чуть золотится крендель булочной, / И раздается детский плач». Стабильно много среди немцев было колбасников, слесарей, аптекарей и провизоров. К началу XX века наиболее заметно немецкое присутствие было в торгово-ремесленной Казанской части и на востоке Васильевского острова. 90 % немцев были лютеранами. В Петербурге существовали три немецкие лютеранские общины, основанные еще в начале XVIII века. При двух из них, церкви Святых Петра и Павла на Невском проспекте и церкви Святой Анны на Кирочной улице, были открыты евангелические школы, позднее преобразованные в знаменитые гимназии — Петришуле и Анненшуле. После войны и двух революций многие немцы покинули Россию, остальные постарались ассимилироваться.
Финны
Ингерманландские финны — коренное население приневских земель, они жили на будущей территории Петербурга еще до основания города. Финнов, населявших ближайшие к столице Петербургскую и Выборгскую губернии и наделенных теми же правами, что и русские крестьяне, называли чухнами или чухонцами. Этим они отличались от финляндцев — уроженцев и жителей Финляндии. Финляндцы нередко приезжали в российскую столицу получать профессию и заниматься ремеслом — их было много среди сапожников импортных, а также среди подмастерьев в ювелирных, часовых и столярных мастерских. Специфически финской была профессия трубочиста: финны составляли 60 % столичных трубочистов, причем происходили они все из одной местности в Финляндии. С расцветом петербургской промышленности и открытием в 1870 году ветки, соединившей Петербург с Выборгом, город наводнили финские рабочие и железнодорожники — они селились на Выборгской стороне рядом с фабриками и в окрестностях Финляндского вокзала (о чем до сих пор напоминает название: Финский переулок). Ингерманландские финны в основном занимались сезонными промыслами — грузовым извозом, вывозкой снега и заготовкой льда зимой. Особую категорию составляли «вейки» (от финск. veikko — «парнишка», «друг», «товарищ») — извозчики из карельских и ингерманландских крестьян: на нарядно украшенных ленточками и бубенцами санях они катали столичную публику на Масленой неделе. Финские крестьянки работали наравне с мужчинами, нанимаясь к петербуржцам горничными и прачками. Кроме того, финны из окрестных уездов снабжали Петербург рыбой, дровами, молочными продуктами, санями и глиняной посудой.
Евреи
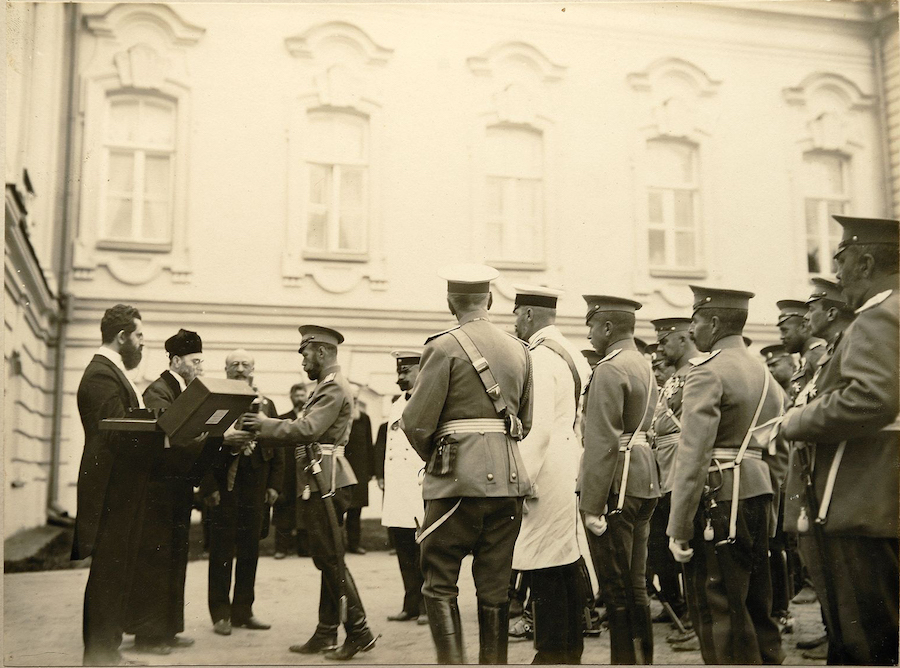
Петр Столыпин (в белом мундире справа от императора) при представлении Николаю II еврейской делегации и поднесении Торы. 1911 год © Wikimedia Commons
Евреями назывались в Российской империи люди, исповедующие иудаизм, а также иудеи, недавно перешедшие в христианство (евреи-выкресты).
Вплоть до 1860-х годов еврейская диаспора столицы исчислялась несколькими сотнями человек, поскольку по закону о черте еврейской оседлости, появившемуся при Екатерине II, иудеи могли лишь на время приезжать в Петербург для ведения торговли и судебных разбирательств в Сенате. Благодаря реформам Александра II, еврейские ремесленники, купцы 1-й гильдии, бывшие солдаты и обладатели высшего образования смогли постоянно жить вне черты оседлости. Петербургские евреи в основном были родом из Белоруссии, Курляндии и Литвы.
Подавляющее число еврейского населения жило бедно, занимаясь мелким ремесленничеством, портняжным или сапожным промыслом, а также торговлей. Богатые евреи — банкиры и строительные подрядчики — играли заметную роль в финансовой жизни Петербурга и поддерживали благотворительные организации для членов общины. Еврейские кварталы располагались в Коломне, вдоль Садовой улицы за Сенной площадью и за Мариинским театром, в окрестностях Хоральной синагоги. Здесь были сконцентрированы ремесленные мастерские, кошерные кухмистерские и лавки. К 1870 году в Петербурге было уже 4 синагоги и 3 молитвенных дома, в 1893 году на Большой Мастерской улице (ныне — часть Лермонтовского проспекта) был возведен комплекс Большой и Малой хоральных синагог, остальные места иудейского культа были закрыты. К началу XX века в Петербурге насчитывалось более 20 000 евреев. Квота иудеев традиционно была высока среди представителей интеллигентных профессий: евреями были 22 % присяжных поверенных, 44 % помощников присяжных поверенных, 52 % дантистов и 17 % врачей. Во время Первой мировой войны за счет беженцев еврейское население Петрограда увеличилось до 50 000 человек.
Итальянцы
Итальянская община в Петербурге никогда не превышала 1000–1500 человек, однако практически с момента основания города ее представители занимали ключевые позиции в архитектурной, художественной и театральной жизни столицы. Выходцами из Италии были Джакомо Кваренги, Карло Росси, Антонио Порто, а Доменико Трезини, Луиджи Руска приехали из итальянской Швейцарии. Итальянские музыканты стояли у истоков столичной музыкальной школы: до 1885 года итальянская оперная труппа выступала на сцене Большого театра (нынешняя Консерватория), с 1880-х годов в столицу с гастролями начинают приезжать частные оперные и балетные антрепризы из Италии — в частности, таким образом петербургская публика услышала Энрико Карузо и Титту Руффо. Цирковая семья Чинизелли основала первый стационарный цирк на набережной реки Фонтанки, а династия Деммени — первый марионеточный театр. Рядовые итальянцы занимались в Петербурге виноторговлей и импортировали строительные материалы, например каррарский мрамор. Представители художественной и артистической элиты предпочитали жить в фешенебельных кварталах Адмиралтейской части и вблизи императорских театров. В начале XX века посольство Италии располагалось в самой аристократической части города, в бывшем особняке Демидовых Сан-Донато на Большой Морской, 43. Дипломатические отношения с Италией оказались прерваны с началом Первой мировой войны.
Шведы

Церковь Святой Екатерины, построенная шведской общиной в Петербурге. Начало 1900-х годов © Wikimedia Commons
Костяк первой шведской колонии в Петербурге составляли военнопленные, захваченные в ходе Северной войны, а также специалисты, приглашенные Петром I на строительство города. Центром общинной жизни, не потерявшим значения и к началу XX века, была лютеранская церковь Святой Екатерины на Большой Рождественской (позднее Малой Конюшенной улице). Благодаря обилию поселенцев ближайший к церкви переулок был назван Шведским. В 1870-х около трети пятитысячной шведской диаспоры жило в пределах исторической слободы, однако к 1910-м годам большинство шведов переместилось в окрестности промышленных предприятий Васильевского острова и Выборгской стороны. Самая малочисленная из лютеранских общин Петербурга первенствовала в промышленных специальностях: среди шведов была высока доля квалифицированных рабочих и инженеров, занятых на Балтийских верфях и на предприятиях братьев Нобель, самых знаменитых в Петербурге выходцев из Швеции. Интенсификации русско-шведских связей способствовала женитьба сына короля Швеции Густава V на кузине Николая II Марии Павловне.
Источники
- Три века Санкт-Петербурга. Энциклопедия. В 3 т. Т. 2: Девятнадцатый век. Кн. 1–8. СПб., 2003–2011.
- Юхнева Н. В. Этнический состав и этносоциальная структура населения Петербурга.
М., 1984.
Теги
|
Метки: санкт-петербург |
КРОПО́ТКИНЫ |
Большая российская энциклопедия
КРОПО́ТКИНЫ
Авторы: А. А. Шумков
Герб княжеского рода Кропоткиных.
КРОПО́ТКИНЫ (Крапоткины), рус. княжеский род, Рюриковичи. В кон. 15 – нач. 16 вв. мн. представители рода перешли на службу в Рус. гос-во. К. были «испомещены» в Деревской, Водской и Шелонской пятинах, в сер. 16 в. ряд видных представителей рода, попавших в Тысячную книгу 1550 и Дворовую тетрадь 1550-х гг., получили поместья под Москвой и Серпуховом.
А. П. Кропоткин (1805–1871).
Родоначальник – племянник последнего вел. кн. смоленского Юрия Святославича кн. Дмитрий Васильевич Кропотка (гг. рождения и смерти неизв.). Его сыновья: Фёдор Дмитриевич (? – не ранее 1488), в 1487–88 получил от польского короля Казимира IV Ягеллончика 4 копы грошей от корчем Бреста и 6 коп грошей с мыта в Смоленске; Александр Дмитриевич (? – 1520), родоначальник старшей ветви рода К.; Иван Дмитриевич (? – 13.9.1502), в 1487–88 получил от польск. короля 12 коп грошей с мыта в Луцке, постав сукна и воз соли, а 4.7.1496 – письм. подтверждение на имение Еловичи в Луцком повете Вел. кн-ва Литовского (ВКЛ) «с приселки» (Ворсин, Чекон и Котелев) и «з людьми», на рубеже 15–16 вв. перешёл на рус. службу, погиб во время рус.-литов. войны 1500–03.
В. В. Кропоткин.
Александр Алексеевич Кропоткин.
Из сыновей А. Д. Кропоткина наиболее известен Андрей Большой (по отношению к своему двоюродному брату) Александрович (? – не ранее 1524), воевода полка правой руки в походе на Ливонию (1501) в ходе рус.-литов. войны 1500–03, полка левой руки в походах рус. войск из Ржевы Володимеровой на ВКЛ (1515, 1519) в ходе рус.-литов. войны 1512–22, воевода в Сыренске (1508), Торопце (1521), 2-й воевода полка левой руки в конной рати во время казанско-рус. войны 1523–24. Его внук – Пётр Иванович (? – 1630), участник Ливонской войны 1558–83, воевода в Крейцбурге (ныне – г. Крустпилс, Латвия) (1579) и Зесвегене (Чествине) (1582), участник рус.-швед. войны 1590–93, воевода в Орешке (1590–92), Ладоге (1593–94), 3-й воевода в Ивангороде (1602–03). Сын П. И. Кропоткина – Василий Петрович (ок. 1564–1648), моск. дворянин (с 1636), юношей участвовал в Ливонской войне 1558–1583, участник походов царских войск против сил И. И. Болотникова и Лжедмитрия II под Елец (июль – авг. 1606), Калугу (конец дек. 1606 – май 1607), боя на р. Вырка под Калугой (февр./март 1607), похода под Перемышль и Лихвин (лето 1607), в 1609 ездил гонцом от кн. М. В. Скопина-Шуйского к царю Василию Ивановичу Шуйскому и обратно, воевода в Городецко (ныне – Бежецк) (1621–22), Ладоге (1627–28), Угличе (1630–32). Из сыновей В. П. Кропоткина наиболее известны: Александр Васильевич (? – 1659/60), стольник, воевода в Сургуте (1650–53); Василий Васильевич (? – 1691), стольник (1649), воевода в Воронеже (1651–1653), в 1654 участвовал в походах на Витебск и Полоцк в ходе рус.-польск. войны 1654–67, в 1656 – в походе на Ригу в ходе рус.-швед. войны 1656–58, воевода в Переяславле-Рязанском (1661–1664), участвовал в подавлении Разина восстания 1670–71, воевода в Нижнем Новгороде (1687–88), автор семейного летописца (записи за 1640–60-е гг.). Сын В. В. Кропоткина – Михаил Васильевич [14(24).11.1649 – 1718], комнатный стольник царя Ивана V Алексеевича (1682), сторонник царевны Софьи Алексеевны, в 1690 был сослан в Белгород за поездку в Вологду к опальному кн. В. В. Голицыну, поэт, переводчик, генеалог; 8(18).3.1682 был в числе подателей родословной росписи К. в Палату родословных дел, 20(30).1.1687 подал письмо о невозможности происхождения Полевых и Еропкиных от смоленских князей, в феврале и февр./марте 1687 вместе с князьями Дашковыми подавал протесты на решение включить росписи Полевых и Еропкиных в состав Бархатной книги (несмотря на убедительные доводы, не были приняты во внимание по внутриполитич. причинам). Из его сыновей наиболее известен Алексей Михайлович (? – 1747), в 1717–30 на флоте, затем в гражданской службе при Сенате, товарищ губернатора Воронежской губ. (1746–47).
Из сыновей И. Д. Кропоткина наиболее известны: Василий Иванович Кропотца Еловицкий (? – не ранее 1542), остался на службе в ВКЛ, в 1507 получил от короля Александра Ягеллончика 5 коп с мыта в Луцке, в 1528 должен был выставить на войну 2 конных воина, в 1534 судился с луцким епископом, со смертью его внучек род К. в ВКЛ прервался; Андрей Меньшой (по отношению к своему двоюродному брату) Иванович (? – не ранее 1558), родоначальник младшей ветви рода К. Известен внук А. И. Кропоткина – Дмитрий Васильевич (? – 23.6.1574), участник Ливонской войны 1558–83, 2-й голова сторожевого полка в Ливонии (1558), голова в сторожевом полку в походе к Феллину (ныне – г. Вильянди, Эстония) в 1560, 1-й воевода в Говье (1567), 3-й воевода в Юрьеве (Дерпте; ныне – Тарту, Эстония) (1572–73), 2-й воевода «на выласке» в Нарве (Ругодиве) (1573–74), погиб в стычке со швед. войсками. Его двоюродный брат – Михаил Иванович Большой (? – после 1598), участник рус.-швед. войны 1590–93, воевода в Гдове (1590–91), Яме (1593–94). Его сыновья: Кузьма-Воин Михайлович (? – не ранее 1643), участвовал в походах царских войск против сил И. И. Болотникова и Лжедмитрия II под Елец и Новосиль (июль – авг. 1606), под Калугу (1607) и Тулу (май – окт. 1607), воевода в Шуе (1618, 1633), Новом Торгу (Торжке) (1627, 1636–37), в 1625 составил писцовые книги Тульского и Крапивенского уездов, в 1635–1643 описывал Владимирский у.; Борис Михайлович (гг. рождения и смерти неизв.), помещик Рязанского у., родоначальник большой рязанской отрасли князей К. Внучатый племянник Д. В. Кропоткина – Семён Никитич (? – после 1609), участник Ливонской войны 1558–83 (1-й голова большого полка в походе 1565), рус.-швед. войны 1590–93, воевода в Ладоге (1590–94), в 1602 встречал наречённого жениха царевны Ксении Борисовны – Ханса (Иоганна) и состоял при нём приставом, 2-й воевода в войсках, освободивших Крапивну и Одоев от сил И. И. Болотникова, участник осады Тулы (июль – окт. 1607). Потомок И. Д. Кропоткина в 6-м поколении – Яков Иванович (гг. рождения и смерти неизв.), д. стат. сов. (1741), обер-штер-кригс-комиссар, гл. судья Сыскного приказа (с 1740). Потомок К.-В. М. Кропоткина в 6-м поколении – Алексей Петрович [20.8(1.9).1805–7(19).9.1871], ген.-м. (1855), участник рус.-тур. войны 1828–29, подавления Польского восстания 1830–31, крупный землевладелец (имения в Калужской, Рязанской и Тамбовской губерниях, св. 1,2 тыс. душ крестьян). Из сыновей А. П. Кропоткина [в историографии существует также точка зрения, что реальным отцом двух его сыновей был лечащий врач 1-й супруги А. П. Кропоткина Екатерины Николаевны, урождённой Сулима (1811–46), – Андрей Е. Берс] наиболее известны: Александр Алексеевич [14(26).8.1841–25.7(6.8).1886], тит. сов. (1870), обществ. деятель, участник студенч. волнений в Москве осенью 1861, в 1864–67 служил в Иркутском казачьем полку, с 1867 в С.-Петербурге, окончил Военно-юридич. академию (1869), служил в С.-Петерб. воен. суде, затем – в Почтовом деп-те МВД, с 1872 в отставке, публиковал научно-популярные статьи по астрономии, небесной механике и др. В 1872–74 находился в Швейцарии, где сблизился с рус. революц. эмигрантами (П. Л. Лавровым и др.), вскоре по возвращении в Россию арестован и в нач. 1875 выслан в Минусинск, в 1882 переведён в Томск, в 1870–80-х гг. сотрудничал в местных периодич. изданиях, покончил жизнь самоубийством; П. А. Кропоткин. Их старшие двоюродные братья: Пётр Николаевич [7(19).12.1831–12(25).10.1903], ген.-л. (1901), участник подавления Польского восстания 1863–64, ком. 1-го гусарского Сумского полка (1867–74), с 1874 член Гл. к-та по устройству и образованию войск, ком. 2-й бригады 5-й кав. дивизии (1876–81), с 1883 в запасе; Дмитрий Николаевич [8(20).1.1836–9(21).2.1879], ген.-л. (1878), флигель-адъютант (1861), с 1863 состоял при Свите Е. И. В., с 1864 при Инспекторском деп-те Военного мин-ва, ген.-м. Свиты Е. И. В. (1868), губернатор Гродненской (1868–70) и Харьковской (1870–79) губерний, проводил жёсткую политику, направленную на предотвращение разл. рода антиправительственных выступлений, застрелен народовольцем Г. Д. Гольденбергом. Сын Д. Н. Кропоткина – Николай Дмитриевич [6(18).6.1872–11.10.1937], д. стат. сов. (1913), церемониймейстер (1910), вице-губернатор Курляндской (1907–12, до 1910 – и. д.) и Лифляндской (1912–15) губерний, с 1898 владелец замка Зегевольд (ныне Сигулда, Латвия), автор работ «Дорожная повинность в Лифляндской, Курляндской и Эстляндской губерниях» (1906), «Патронат и церковные повинности в прибалтийских губерниях» (1906), после Окт. революции 1917 в эмиграции в Германии. Внук А. А. Кропоткина – П. Н. Кропоткин. Его сын – Алексей Петрович (р. 13.11.1937), д-р физико-математич. наук (1984), с 1967 в НИИ ядерной физики МГУ: старший науч. сотрудник (1973–86), зав. лабораторией космич. электродинамики (с 1986), зав. отделом излучения и вычислит. методов (с 1998); специалист в области физики плазмы.
Рязанская отрасль рода К., основанная Б. М. Кропоткиным, в нач. 18 в. разделилась на три линии, родоначальниками которых стали его внуки – П. М. Кропоткин (гг. рождения и смерти неизв.), Т. М. Кропоткин (1660–1734), В. М. Кропоткин (1662–1726).
Из 1-й линии этой отрасли рода известен потомок П. М. Кропоткина в 4-м поколении – Алексей Иванович [8(20).3.1816–14(27).11.1903], ген.-л. (1873), участник Венгерского похода 1849, Крымской войны 1853–56, в т. ч. Севастопольской обороны 1854–55, флигель-адъютант (1853), в 1857 член комиссии для рассмотрения следственных дел и дознаний, а также для вынесения приговоров о беспорядках и злоупотреблениях по снабжению разл. довольствиями Крымской и Южной армий, ген.-м. Свиты Е. И. В. (1858, старшинство с 1863), моск. обер-полицеймейстер (1858–60), лужский уездный предводитель дворянства (1897–1900), вице-президент С.-Петерб. попечительного о тюрьмах к-та. Из его сыновей наиболее известны: Алексей Алексеевич [17(29).1.1859–15.11.1947], д. стат. сов. (1914), видный земский деятель, цивильский и ядринский уездный предводитель дворянства (1914–17), участник Всерос. крестьянского съезда (1917), участвовал в Гражд. войне 1917–22, чл. Приамурской Земской думы, в эмиграции в США; Илья Алексеевич [7(19).4.1878–23.2.1943], гв. полк. (1917), служил в л.-гв. Уланском полку, участник 1-й мировой войны и Гражд. войны 1917–1922 в составе ВСЮР, в 1919 ком. 3-го Кабардинского конного полка, в эмиграции во Франции.
Потомок П. М. Кропоткина в 5-м поколении – Михаил Степанович [28.10 (9.11).1823–9(21).2.1868], ген.-м. (1864), ком. Перновского гренадерского (1861–1864) и л.-гв. Гатчинского (1864–68) полков. Потомок П. М. Кропоткина также в 5-м поколении – Дмитрий Алексеевич [7(19).10.1818–8(20).5.1883], поэт, публиковался в «Библиотеке для чтения», «Литературной газете», «Пантеоне», «Сыне отечества», «Маяке», ряжский уездный предводитель дворянства (1870–74, 1881–83). Потомок П. М. Кропоткина в 7-м поколении – Елизавета Сергеевна [23.8(4.9).1870–4.7.1944], с 1911 нач. основанной ею Частной женской гимназии в Москве, сотрудница музейного отдела Главнауки (1918–22), организатор и первый руководитель музея «Новодевичий монастырь» (1922–1929). Потомок П. М. Кропоткина также в 7-м поколении – Владислав Всеволодович (2.2.1922–23.8.1993), археолог, д-р историч. наук (1973), зав. отделом скифо-сарматской археологии Ин-та археологии АН СССР (1974–88). Занимался вопросами интерпретации археологич. памятников готов, алан, волжских булгар, славян, гуннов, вопросами кризиса рабовладельч. системы и зарождения феодализма, товарного производства и денежных отношений в Вост. Европе, общими вопросами истории ср.-век. Крыма. Автор книг «Клады римских монет на территории СССР» (1961), «Клады византийских монет на территории СССР» (1962), «Экономические связи Восточной Европы в I тысячелетии нашей эры» (1967), «Римские импортные изделия в Восточной Европе. (II в. до н. э. – V в. н. э.)» (1970).
Из 3-й линии этой отрасли рода известен потомок В. М. Кропоткина в 6-м поколении – Дмитрий Алексеевич [18(30).3.1867 – нояб. 1914], ген.-м. (1913), окончил Николаевскую академию ГШ по 1-му разряду (1895), нач. строевого отделения штаба Владивостокской крепости (1897–1900), преподаватель Новочеркасского казачьего юнкерского уч-ща (1900–03), участник рус.-япон. войны 1904–05, штаб-офицер при управлении 49-й пех. резервной бригады (1903–05, 1906–07), нач. штаба 49-й пех. дивизии (1905–06), ком. 97-го пех. Лифляндского полка (1908–1910), 61-го пех. Владимирского полка (1910–13), 1-й бригады 3-й Сибирской стрелк. дивизии (1913–14), участник 1-й мировой войны, погиб в ходе Лодзинской операции 1914.
Род князей К. внесён в 5-ю часть дворянских родословных книг Казанской (1896), Калужской (1787), Могилёвской (1837), Московской (1824), Рязанской (1796), С.-Петербургской (1893) и Тульской (1834) губерний и во 2-ю часть дворянской родословной книги Московской губ. (1856), в матрикул Лифляндии (1899).
|
Метки: кропоткины |
Мария Кропоткина |
 Мария Кропоткина
Мария Кропоткина
|
|
Родители
- Николай Кропоткин, Князь 1831-1887
- Мария фон Бенкендорф, Дворянка 1833-1887
Браки
- В браке с Александр Муромцев 1868-1930..1937
Братья или сесты
 Дмитрий Кропоткин, Князь 1857-1902
Дмитрий Кропоткин, Князь 1857-1902 Александра Кропоткина, Княжна 1861-
Александра Кропоткина, Княжна 1861- Елизавета Кропоткина, Княжна 1870-1936
Елизавета Кропоткина, Княжна 1870-1936
Ветвь фамильного дерева
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Метки: кропоткины |
Императрица Александра Федоровна. Проблемы со здоровьем |
П
Императрица Александра Федоровна. Проблемы со здоровьем
О больных ногах императрицы, которые я упомянула в прошлом посте, да и о других проблемах, в сети информации - масса. Увы, если ты высшее публичное лицо, жена монарха, то все подробности о тебе быстро становятся достоянием общественности. И не сделайте, пожалуйста, вывод, что последняя императрица была более хворой, чем предыдущие. Все они болели, не боги же, обычные люди. Да и болезни в общем-то обычные, просто подход к ним и лечение более скрупулезное.
Проблемы с ногами беспокоили Александру Федоровну с юных лет. Судя по воспоминаниям, крестцовопоясничные боли у еще молодой девушки носили наследственный характер. Поэтому после помолвки, состоявшейся в апреле 1894 г., 22-летняя невеста наследника российского престола немедленно начала «приводить ноги в порядок», проведя лето 1894 г. на английском курорте Харрогит, где принимала серные ванны: «…у меня сегодня так болели ноги, и я приняла мою первую серную ванну, запах довольно неприятный». При этом невеста наследника передвигалась в кресле-каталке, что, безусловно, сразу же начало вызывать нежелательные толки в среде русской аристократии. В свою очередь, влюбленному цесаревичу было плевать на больные ноги невесты, поскольку ему страстно хотелось добраться до них самих: «…твои бедные ножки опять болят. хотел бы я быть рядом с тобой, уж я бы их растер».
 ...
...
Впоследствии «фактор ног» постоянно учитывался в церемониальной и повседневной жизни императорской четы. Так, накануне коронации 1896 г., как я и писала, императрице сшили платье из особой «облегченной» парчи, поскольку во время коронации ей предстояло много стоять. Николай II, планируя совместные мероприятия, постоянно учитывал то, что жена не может долго находиться на ногах. Поэтому со временем императрица до минимума сократила свое участие в различных церемониальных и представительских мероприятиях. Дома Александра Федоровна много времени проводила, лежа на кушетке, а по аллеям Александровского парка ее катал супруг все в той же инвалидной коляске.
 На аллеях Александровского парка. Николай II катит Александру Федоровну в коляске
На аллеях Александровского парка. Николай II катит Александру Федоровну в коляске
В России больными ногами императрицы занимался врач-ортопед К.Х. Хорн, которого рекомендовали императрице ее германские лечащие врачи. С 1894 г. Хорн возглавлял ортопедическое отделение Максимилиановской лечебницы, также работая в своей частной ортопедической клинике. О том, насколько интенсивен был процесс лечения, свидетельствует справка камер-фрау М.Ф. Герингер за январь, февраль и март 1900 г.: «Доктором Хорном было сделано Ее Величеству в Царском Селе 14 визитов и в Петербурге 70 визитов». Тогда же, по его рекомендации, для императрицы купили два тренажера. Побочным результатом врачебной деятельности Хорна стало строительство Института ортопедии в Александровском парке, близ Петропавловской крепости.

Когда в Петергофе для императорской четы построили Нижнюю дачу, в ней отвели специальную комнату для принятия серных, солевых и грязевых ванн. Такие же ванны принимались и в Александровском дворце. Вскоре после рождения первой дочери Николай II записал в дневнике (28 ноября 1895 г.): «Аликс опять купалась – теперь она будет по-прежнему принимать ежедневно соляные ванны».
После рождения третьей дочери, осенью 1899 г., царская семья впервые отправляется на лечение в Германию, на курорт Вольфгартен. За лечение императрицы профессор терапевтической клиники Берлинского университета Г. фон Бергман был награжден орденом Св. Анны 1-й ст. В октябре 1899 г. Николай писал сестре, великой княгине Ксении Александровне: «…от здешней спокойной жизни боли у нее совсем прошли, слава Богу! Лишь бы они не возобновились опять зимою от стояния при разных случаях и приемах».
В июне 1901 г., после рождения четвертой дочери – Анастасии, начались уже привычные для императрицы послеродовые осложнения, и поэтому лечащий врач доктор К.Х. Хорн вызывался в Петергоф в течение лета 1901 г. 33 раза. Осенью того же года императрица прошла очередной курс грязевых ванн в Александровском дворце. В октябре 1901 г. Александра Федоровна писала великой княгине Ксении Александровне: «Приняла сегодня 18-ю грязевую ванну». После смерти К.Х. Хорна в 1905 г. его обязанности перешли к ортопеду Р.Р. Вредену. В 1910х годах к ортопедическим проблемам императрицы добавился варикоз ног.

Были у императрицы проблемы и в области неврологии. Дело в том, что в 1917 г. усилиями «креативной» либеральной интеллигенции в общественном сознании был успешно сформирован устойчивый образ императрицы-истерички, страдавшей наследственным «тяжелым психозом». Эту линию продолжили большевистские историки: «За Царскосельским двором начинался уже прямо сумасшедший дом, клиника для больных». Объективных данных в этой деликатной сфере очень немного, но мемуарных упоминаний дилетантов масса. Характер у императрицы был действительно, что называется, сложный.
Первым звонком в этой сфере стали бесконечные изнуряющие головные боли, которые беспокоили Александру Федоровну на протяжении многих лет. Николай II поначалу супружеской жизни без конца упоминал об этом в дневниковых записях. Потом это стало привычным фоном жизни: «Дорогая Аликс проснулась с головной болью, поэтому она осталась лежать в постели до 2-х» (29 января 1895 г.); «К несчастью у дорогой Аликс продолжалась головная боль целый день… только теперь после целой недели у нее прошли головные боли!» (апрель 1895 г.).
Тяжело сказывалось на душевном состоянии императрицы рождение подряд четырех дочерей. Отметим, что отсутствие наследника волновало не только придворные круги. Начиная с 1899 г. в Министерство Императорского двора начинают поступать письма из различных стран: Англии, Франции, Бельгии, США, Латинской Америки и Японии с предложениями сообщить секрет, гарантирующий рождение наследника. Советы были небескорыстны. Суммы назывались разные, в некоторых письмах в несколько десятков тысяч долларов. Большинство советов основывалось на известной в то время теории австрийского эмбриолога профессора Венского университета Шенка. Он опубликовал целый ряд расследований по развитию яйца и органов чувств у низших позвоночных и стал известен своими опытами по определению пола зародыша у млекопитающих и человека при помощи соответствующего кормления родителей. Писали также и жители империи.
Для того чтобы представить содержание этих советов. обратимся к одному из них, написанному относительно сведущим в медицине человеком – фельдшером Н. Любским: «…можно предсказать какого пола отделяется яйцо у женщины в данную менструацию и, следовательно, можно иметь ребенка желаемого пола. Такую строгую последовательность в выделении яичек у женщин я осмеливаюсь назвать законом природы». Были советы и попроще: «… попросите Государя, Вашего Супруга, ложиться с левой стороны, или иначе сказать к левому боку Вашего Величества и надеюсь, что не пройдет и года, как вся Россия возликует появлением желанного наследника». Отметим, что архивное дело с подобными рекомендациями насчитывает более 260 листов.
Как следует из документов, некоторые советы принимались во внимание. Например, крестьянин деревни Хотунки (Тульская губерния) Д.А. Кирюшкин писал министру Императорского двора В.Б. Фредериксу: «В 1902 г., 7 января я имел счастие быть во дворце у Вашего Высокопревосходительства по поводу рождения наследника престола. Я ходатайствовал перед Вашим Высокопревосходительством о допущении меня и доклада Его Императорскому Величеству Всемилостивейшему Государю Императору»
В 1901 г. в Россию пригласили французского экстрасенса Филиппа, который гарантировал царской чете рождение мальчика. Результатом гипнотических пассов французского экстрасенса стала ложная беременность императрицы в 1902 г. При этом ни лейб-акушера Д.О. Отта, ни акушерку Е.К. Гюнст к императрице даже не подпускали. Это событие породило в народе множество слухов, например говорили, что царица родила «неведому зверушку». Государственный секретарь А.А. Половцев в августе 1902 г. писал, что «во всех классах населения распространились самые нелепые слухи, как, например, что императрица родила урода с рогами». В результате этой, в общем-то трагической для царской семьи, истории, за императрицей окончательно закрепился диагноз истерички. Даже друг семьи императора Николая II, великий князь Александр Михайлович, писал об «остром нервном расстройстве», а министр финансов С.Ю. Витте называл Александру Федоровну в мемуарах «ненормальной истеричной особой».
Объективная медицинская информация об этом неврологическо-акушерском эпизоде содержится в архивном деле Кабинета Его Императорского Величества Николая II.

После этого эпизода императрица периодически страдала недомоганиями неясной этиологии, не расшифровывавшимися в документах. Периодически императрице становилось очень плохо. Воспитательница царских дочерей С.И. Тютчева вспоминала, как в 1907 г. «в середине ноября императрица, гуляя с государем в царскосельском парке, почувствовала себя настолько дурно (у нее был невроз сердца), что государь почти принес ее во дворец. К этому нездоровью прибавилась еще простуда. Незадолго перед этим лейб-медик, всегда лечивший императрицу, умер и на его место никого еще не назначили. К императрице пригласили какого-то доктора Фишера из царскосельской городской больницы».
Действительно, с 11 по 30 ноября 1907 г. в Александровский дворец 29 раз приглашался врач Дворцового госпиталя Придворной медицинской части доктор Фишер. С 1 по 21 декабря он посетил императрицу 13 раз. То есть сделал в общей сложности 42 визита. Видимо, эти визиты продолжались и далее, поскольку сама императрица писала дочери Татьяне 30 декабря 1907 г.: «Доктор сейчас опять сделал укол – сегодня в правую ногу. Сегодня 49 день моей болезни, завтра пойдет 8-я неделя».
Следствием этой болезни стала поездка императорской семьи осенью 1908 г. на бальнеологический курорт Наугейм в Германии. Недолюбливавший императрицу С.Ю. Витте упоминал в своих «Воспоминаниях», что поездка была вызвана проблемами «нервно-психического» характера. Курс лечения, по словам С.Ю. Витте, был связан с приемом лечебных ванн. По его сведениям императрица «большею частью ванны эти брала в самом замке. Вообще лечение ее шло, как мне говорили франкфуртские профессора и знаменитости, недостаточно рационально, и именно по этой причине Наугейм не принес ее величеству надлежащей пользы».
В июле 1910 г. царская семья, как и в 1908 г., вновь приехала в Наугейм, где пробыла до ноября. По свидетельству А.А. Вырубовой, эта поездка была предпринята в надежде, что «пребывание там восстановит здоровье государыни». Лечение не было особенно эффективным, и А.А. Вырубова пишет, что по ее приезде в Наугейм она «нашла Императрицу похудевшей и утомленной лечением». В качестве лечащего врача императрицу в этой поездке сопровождал ее новый лейб-медик Е.С. Боткин. В ноябре 1910 г. царская семья отправилась домой, и, по словам А.А. Вырубовой, ситуация несколько стабилизировалась. По ее мнению, «лечение принесло пользу и она чувствовала себя недурно». Однако, как следует из письма царя к матери в ноябре 1910 г., «Аликс устала от дороги и снова страдает от болей в спине и в ногах, а по временам и в сердце».
 Императрица и Анна Вырубова
Императрица и Анна Вырубова
Поскольку недовольство императрицей постоянно накапливалось в самых разных слоях общества, то мемуары пестрят множеством ее негативных оценок. Весьма информированная А.В. Богданович в дневнике в феврале 1909 г. записывает: «Про царицу Штюрмер сказал, что у нее страшная неврастения, что у нее на ногах появились язвы, что она может кончить сумасшествием». Бывший министр народного просвещения граф И.И. Толстой записал в дневнике 21 февраля 1913 г.: «…молодая императрица в кресле, в изможденной позе, вся красная, как пион, с почти сумасшедшими глазами, а рядом с нею, сидя тоже на стуле, несомненно усталый наследник… Эта группа имела положительно трагический вид».
Посол Франции в России М. Палеолог, профессионально собиравший информацию об императорской чете, в июле 1914 г. описал в дневнике свои впечатления о встрече с императрицей: «…вскоре ее улыбка становится судорожной, ее щеки покрываются пятнами. Каждую минуту она кусает себе губы… До конца обеда, который продолжается долго, бедная женщина видимо борется с истерическим припадком». Через месяц, в августе 1914 г., он вновь фиксирует внешний облик Александры Федоровны: «Она едва отвечает, но ее судорожная улыбка и странный блеск ее взгляда, пристального, магнетического, блистающего, обнаруживает ее внутренний восторг». В дневнике (в августе 1916 г.) французский посол приводит мнение весьма информированного министра финансов В.Н. Коковцова: «Это очень благородная и очень чистая женщина. Но это больная, страдающая неврозом, галлюцинациями, которая кончит мистическим образом и меланхолией».
Приведем мнение одного из ключевых руководителей личной охраны Николая II, полковника А.И. Спиридовича, который по должности с 1905 по 1917 г. постоянно находился близ императорской семьи. Он прямо называет императрицу «нервно больной» и «религиозной до болезненности». В мемуарах он жестко пишет, что «она была нервно и психически больной женщиной». Спиридович подчеркивает, что «вообще Государыню не любили. По разному, за разное, очень часто несправедливо, но не любили». Фактически это была констатация профессиональной непригодности императрицы Александры Федоровны. При этом Спиридович упоминает и о том, что императрица «безусловно хорошей души человек».
Ну, любили - не любили, это уже из области отношений. Кто знает, может и большинство этих воспоминаний описывают не факты, а лишь отношение.

Кардиологические проблемы. Лечил императрицу от «сердечных припадков» лейб-медик Е.С. Боткин, которого по современной классификации можно назвать врачом общего профиля, или домашним врачом. Сердечные «припадки», о которых упоминалось выше, начались у 35-летней императрицы осенью 1907 г. Ближайшая подруга императрицы А.А. Вырубова писала, что осенью 1909 г. в Ливадии «все чаще и чаще повторялись сердечные припадки, но она их скрывала и была недовольна, когда я замечала ей, что у нее постоянно синеют руки, и она задыхается. – Я не хочу, чтоб об этом знали, – говорила она». Таким образом, начиная с 1906–1907 гг. в воспоминаниях просматривается отчетливая симптоматика, указывающая на серьезные кардиологические проблемы императрицы.
Но поскольку эти проблемы не афишировались, на них начинают накладываться слухи о ее психической неуравновешенности.
О проблемах с сердцем упоминается и в дневнике сестры царя, Ксении Александровны. В январе 1910 г. она записала в дневнике: «Бедный Ники озабочен и расстроен здоровьем Аликс. У нее опять были сильные боли в сердце, и она очень ослабела. Говорят, что это на нервной подкладке, нервы сердечной сумки. По-видимому, это гораздо серьезнее, чем думают». Великий князь Константин Константинович тогда же записал в дневнике: «Между завтраком и приемом Царь провел меня к Императрице, все не поправляющейся. Уже больше года у нее боли в сердце, слабость, неврастения».
Для лечения императрицы активно применяли успокаивающий массаж. Александра Федоровна писала Николаю из Александровского дворца: «Была массажистка, голова лучше, но все тело очень болит, влияет и погода… идет доктор, я должна остановиться, кончу позже».
Борясь с сердечными недомоганиями, императрица пыталась бросить курить. В апреле 1915 г. она упоминает, что принимает «массу железа, мышьяку, сердечных капель» и после этого чувствует себя «несколько бодрее». В августе 1915 г. она упоминает в письме, что ее «пост состоит в том, что я не курю – я пощусь с самого начала войны и люблю ходить в церковь».
По мнению современных медиков, лечащий врач императрицы Е.С. Боткин был убежден, что императрица в первую очередь была больна истерией, на фоне которой развились различные психосоматические нарушения. При этом истерия в «чистом» виде встречается редко. Чаще ее симптомы соседствуют с клиникой, характерной для других неврозов – неврастении, психастении, ипохондрического невроза. Элементы неврастении – неприятные ощущения в сердце, связанные с изменениями погоды, приступы сердцебиения и одышки, ощущение «распирания» в груди, хроническая бессонница. Императрица плохо переносила резкие звуки и яркий свет. Как все неврастеники, из-за «игры вазомоторов» – реакций, вызывающих сужение или расширение сосудов, – она легко и болезненно краснела. Диагноз Боткина подтвердил и немецкий врач Тротте, не обнаруживший у императрицы серьезных изменений сердца. В свою очередь, он рекомендовал лечить нервную систему и изменить режим в сторону его активизации. Отметим, что, когда началась Первая мировая война и императрица полностью погрузилась в решение организационных проблем своих санитарных поездов и лазаретов, все ее сердечные проблемы как-то незаметно сошли на нет или, по крайней мере, не проявлялись столь отчетливо.
Женские проблемы. Главной обязанностью всех российских императриц было рождение детей, желательно мальчиков. Как известно, только пятая беременность принесла императорской чете долгожданного сына. За это время сложилась «акушерская команда», которая решала соответствующие проблемы Александры Федоровны. Эту «команду» возглавлял крупнейший гинеколог Д.О. Отт, роды императрицы принимала акушерка Е.К. Гюнст, кроме этого, периодически привлекались и другие специалисты-гинекологи.
Если говорить о конкретике, то в ходе первых родов императрицы (3 ноября 1895 г., Александровский дворец Царского Села) на головку ребенка были наложены щипцы. Судя по тому, что великая княжна Ольга Николаевна выросла совершенно нормальной девушкой, последствий эта манипуляция не имела. В результате именным высочайшим указом от 4 ноября 1895 г. Д.О. Отт был «всемилостивейше пожалован в лейб-акушеры Двора Его Императорского Величества с оставлением в занимаемых должностях и званиях». Акушерке Е.К. Гюнст ежегодно выплачивалось по 1000 руб. и оплачивались ее ежегодные поездки на крымские курорты. Отметим, что Д.О. Отт жалованье по должности лейб-медика не получал. Его услуги оплачивались разовыми гонорарами, а после рождения детей он получал разовые крупные выплаты (за Алексея – 10 000 руб.). Кроме этого, на Рождество он несколько раз получал императорские подарки – усыпанные бриллиантами золотые табакерки.
Подчеркнем, что императрица аккуратно рожала раз в два года (1895 г. – Ольга, 1897 г. – Татьяна, 1899 г. – Мария, 1901 г. – Анастасия. Все роды, кроме Ольги, в Петергофе), давая возможность восстановиться организму. Такая аккуратность связана с тем, что императорская чета пользовалась контрацептивами (в бухгалтерских книгах императрицы имеются соответствующие счета).
В 1905 г. императрице понадобились услуги специалистов по женским болезням. С весны 1905 г., как следует из документов, женщина врач Докушевская «пользовала Ее Величество» с 10 мая по 4 сентября 1905 г. Она приезжала в Александровский дворец и Петергоф, по рекомендации доктора Д.О. Отта, более 90 раз. Одновременно с ней консультировал императрицу и Д.О. Отт. Он бывал «для пользования» императрицы в Петергофе 3–4 раза в неделю в течение двух месяцев. Осенью 1905 г. основным консультантом царицы становится доктор А.А. Драницын. Он с первых чисел октября 1905 г. по 8 января 1906 г. бывал у императрицы в Александровском дворце почти ежедневно, нанеся ей за три месяца 50 визитов. Таким образом, акушерская помощь императрице за 1905 г. была связана со 185 визитами специалистов по женским болезням.
Попутно отметим, что интимная жизнь императорской четы была более чем гармонична. Уцелевший массив переписки между Александрой Федоровной и Николаем Александровичем за 1914–1917 гг., содержит более 400 писем и телеграмм, которыми они обменивались изо дня в день. Они дают нам возможность понять некоторые сокровенные стороны жизни этой семьи. Известная писательница З. Гиппиус сказала об этих письмах следующим образом: «…не знали бы мы правды, отныне твердой и неоспоримой, об этой женщине. Не знали бы с потрясающей, неумолимой точностью, как послужила она своему страшному времени. А нам надо знать. Эта правда ей не принадлежит».

Всю супружескую жизнь у императорской четы была общая спальня, что по тем временам редкость. Через полтора года после свадьбы Николай II записал в дневнике (6 мая 1896 г.): «В первый раз после свадьбы нам пришлось спать раздельно; очень скучно!». В письмах к супругу императрица регулярно упоминала о приходе «критических дней», которые в переписке именовались либо «инженером-механиком», либо «мадам Беккер». Например, в начале января 1916 г. она пишет: «Инженер-механик явился неожиданно и лишил меня возможности принимать лекарства, это очень неприятно». Свои визиты в Ставку к супругу во время Первой мировой войны императрица старалась подгадывать сразу же после завершения визитов «мадам Беккер».
Гемофилия. Говоря о здоровье императрицы Александры Федоровны, нельзя пройти мимо вопроса, связанного с проблемой гемофилии. О том, что родственники британской королевы Виктории несут в себе гены гемофилии, было доподлинно известно среди владетельных домов Европы, поэтому гемофилию вполне официально назвали «викторианской болезнью». Механизм ее действия на генном уровне на рубеже XIX–XX вв. не был известен, но ее страшные последствия на эмпирическом уровне были известны хорошо. Естественно, возникает вопрос, как случилось, что германская принцесса, внучка королевы Виктории, то есть потенциальная носительница мутантного гена, стала невестой, а затем и женой российского императора? Мнений на этот счет множество, но достоверно известно, что мнение медиков по этой проблеме не запрашивалось.
Следует подчеркнуть, что проблема гемофилии для самодержавной России с ее традициями персонифицированной власти носила, безусловно, политический характер. В весьма авторитетном «Историческом вестнике» в апреле 1917 г. проблема гемофилии рассматривалась в конспирологическом ключе: «Знал ли Николай II, что в роду Алисы Гессенской имеются гемофилики, – неизвестно. Но об этом хорошо знала сама Александра Федоровна и, особенно, князь Бисмарк. Существует предположение, что железный канцлер из вполне понятных политических расчетов умышленно подсунул наследнику русского престола Алису Гессенскую, кровь которой была заражена страшным ядом». Отчасти это мнение косвенно подтверждается и тем, что император Вильгельм II счел необходимым приехать в Кобург в апреле 1894 г., где около двух часов, наедине, уговаривал принцессу Аликс дать согласие на помолвку с наследником Николаем Александровичем. Что же касается самого Николая II, то он просто любил свою принцессу.
Можно утверждать, что к 1904 г. императорская чета была вполне осведомлена о наследственной болезни среди потомков королевы Виктории мужского пола – гемофилии, но супруги надеялись, что «проскочит». Дело в том, что старшая сестра императрицы Александры Федоровны Ирена (1866–1953) вышла замуж за принца Генриха Прусского (в 1888 г., младший брат кайзера Вильгельма II). От этого брака родилось три сына: Вольдемар (1889–1945); Сигизмунд (18961978), которые дожили до преклонных лет. Третий сын, Генрих (1900-1904), больной гемофилией, погиб от гемофилического кровотечения буквально накануне рождения цесаревича Алексея в 1904 г. Необходимо также добавить, что «фактор гемофилии» не способствовал душевному равновесию императрицы.
 Императрица и царевич Алексей
Императрица и царевич Алексей
Оториноларингологические проблемы. Лечащим оториноларингологом Александры Федоровны был профессор Н.П. Симановский (1854–1922), основавший в 1893 г. в Военно-медицинской академии первую в России кафедру и клинику болезней уха, носа и горла. Первые 22 визита его в Зимний дворец состоялись зимой в 1900 г. Судя по всему, недомогание была серьезным. По крайней мере в марте 1900 г. Николай II счел необходимым сообщить министру внутренних дел Д.С. Сипягину: «Ее Величество просит предупредить, любезный Дмитрий Сергеевич, что к крайнему Ее сожалению, но по совету доктора Симановского, Она не может быть на завтрашнем обеде у Вас». Зиму 1901 г. Александра Федоровна, в отличие от предыдущих, практически не болела. В документах упоминается только о трех визитах, нанесенных ей профессором Симановским в течение зимы 1901 г.
В ноябре 1903 г. во время пребывания императорской семьи в Польше, в Скреневицах, ЛОР-проблемы императрицы обострились настолько, что в газетах начали появляться бюллетени о состоянии ее здоровья, где указывалось, что императрица «заболела острым воспалением правого среднего уха». Лечили ее лейб-хирург Г.И. Гирш и профессор Симановский. Последнего срочно вызвали в Скреневицы 9 ноября 1903 г. В бюллетенях, которые начали печататься с 5 ноября 1903 г., отмечались «довольно сильные боли». Кризис в развитии болезни наступил 12 ноября, когда Симановским был сделан «прокол перепонки». На следующий день, 13 ноября, началось «обильное отделение гноя из больного уха», оно продолжалось вплоть да 15 ноября, и только 16 ноября бюллетени зафиксировали, что «общее состояние удовлетворительное».
Военный министр А.Н. Куропаткин записал в дневнике (13 ноября 1903 г.): «Сейчас светлейшая Мария Михайловна Голицына говорила мне о делах в Скреневицах. Болезнь государыни очень мучительна, теперь прокололи барабанную перепонку, гноя идет очень много». 17 ноября 1903 г. в газетах появился последний бюллетень, в котором сообщалось, что «отделение из уха постепенно уменьшается. В виду хорошего общего состояния здоровья и благоприятного хода местного болезненного процесса печатание бюллетеней прекращается».
Судя по всему, оториноларингологические проблемы Александры Федоровны носили хронический характер, поскольку о визитах специалистов этого профиля в императорские резиденции упоминается вплоть до 1917 г. Например, в июле 1906 г. камер-фрау императрицы в записке к секретарю императрицы упоминает об одном визите «горлового врача (ассистент Симановского)» Гелебского «один раз в июле». В декабре 1906 г. к императрице в Александровский дворец вновь трижды приглашался профессор Симановский. В ноябре 1912 и в марте 1916 г. в документах зафиксированы однократные приглашения к императрице профессора Симановского.
Проблемы с глазами. Первое обращение императрицы Александры Федоровны к окулистам фиксируется по документам в 1897 г., вскоре после рождения второй дочери. Тогда лейб-окулист профессор Н.И. Тихомиров (1860–1930) после 12 визитов прописал 25-летней императрице очки. Среди многочисленных опубликованных фотографий императрицы нет ни одной, где она была бы снята в очках, поскольку пользовалась ими она только в самом тесном кругу семьи.
Преемником Н.И. Тихомирова стал профессор Императорской Военно-медицинской академии Л.Г. Беллярминов. В июле 1906 г. камер-фрау императрицы в записке к секретарю императрицы указывала, что «в апреле месяце был у Ее Величества для пользования окулист Беллярминов три раза в Царском Селе».
Сама императрица в переписке с мужем неоднократно пишет о своих офтальмологических проблемах. Так, в марте 1916 г. Александра Федоровна, рассказывая, что проходит курс лечения массажем, упоминает, что Беллярминов выписал ей более сильные очки. При этом императрица буквально мучилась от болей в глазных яблоках. По ее словам, боли происходили от подагры, так же как и нервные боли в лице. Поскольку применяемые мази помогали мало, то начиная с середины марта начали применять электролизацию. Все это помогало мало, и боли были такие, «как будто втыкали карандаш в самую середину глаза».

Стоматология. Тут - как у всех. Когда после рождения четырех дочерей у императрицы начали «сыпаться» зубы, визиты стоматолога стали регулярными. Зубы Александре Федоровне лечил придворный зубной врач Генрих Васильевич Воллисон. В декабре 1898 г. Г.В. Воллисону выплатили 129 руб. 50 коп. за лечение зубов императрицы и 6 руб. за осмотр зубов 4-летней великой княжны Ольги Николаевны. Г.В. Воллисон лечил зубы императрицы около 20 лет. В декабре 1912 г. ему выплатили за лечение по двум счетам 840 руб. 50 коп.
Инфекционные проблемы. Наряду с обычными сезонными инфекционными болячками, у Александры Федоровны случались и более серьезные проблемы. Так, в феврале-марте 1898 г. императрица переболела корью, которую Николай II в одном из писем назвал «поганой», добавив, что жена «вчера, в первый раз после семинедельного сидения дома… вышла погулять в саду». Болела императрица достаточно тяжело, если детская корь заставила ее провести почти два месяца в постели.
Лечил Александру Федоровну, как это ни удивительно, ортопед, уже упоминавшийся доктор медицины К.Х. Хорн, который, как следует из справки камер-фрау от 1 мая 1898 г., «с 9-го марта посещал Ее Величество ежедневно за исключением воскресенья и праздничных дней. В Царское Село ездит с 15-го апреля». Всего консультант Максимилиановской лечебницы доктор медицины К.Х. Хорн нанес императрице 29 визитов в Санкт-Петербурге и 48 визитов в Царском Селе и Петергофе и в общей сложности заработал на лечении «императорской» кори 3125 руб., что было равно годовому жалованью ординарного профессора университета.
Отметим, что лечение было комплексным, поскольку в это же время к императрице приглашались на консультацию акушер профессор Попов (более 30 раз, выплачено 2000 руб.) и оториноларинголог профессор Симановский (12 визитов, выплачено 1000 руб.). Таким образом, двухмесячное заболевание императрицы корью потребовало вмешательства трех известных медиков, которые нанесли ей как минимум 118 визитов, что обошлось Кабинету Е.И.В. в 6000 руб.
Зимой 1899 г. императрица болела гриппом. В дневнике великого князя Константина Константиновича в феврале 1899 г. появляется запись: «…он ответил, что императрица лежит с инфлюэнцией». Болезнь, видимо, также переносилась тяжело и привела к обострению хронических заболеваний Александры Федоровны. Как следует из письма царя к матери в марте 1899 г., «Аликс себя чувствует, в общем, хорошо, но не может ходить, потому что сейчас же начинается боль; по залам она ездит в креслах». Позже инфекционные болячки заслонили более тяжелые проблемы, и о них фактически перестает упоминаться в документах.
Так или иначе, а проблемы были, причем разного рода. Не потому ли была вечно печальна Аликс? И болезненное состояние жены несомненно влияло на императора. Насколько это повлияло в целом на страну... стоит ли гадать?
Основные факты взяты из
Александровский дворец в Царском Селе. Люди и стены, 1796–1917. Зимин Игорь Викторович
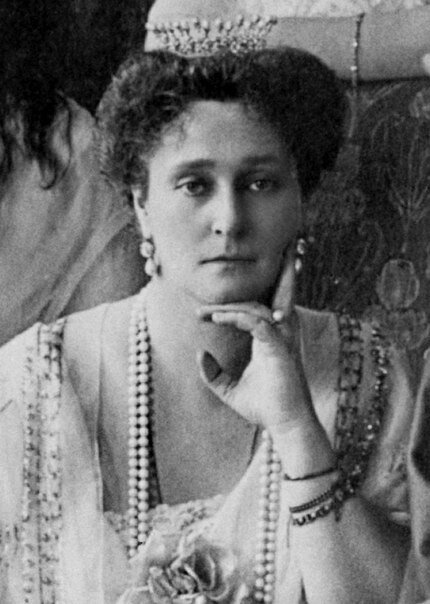
|
Метки: романовы |
Княгиня Кропоткина |
|
||
Княгиня Кропоткина


вс., 26/02/2017 - 13:08
В воспоминаниях Георгия Николаевича Кашина среди тех, с кем общалась Лидия Ивановна Кашина, названа княгиня Кропоткина, к которой приходила константиновская помещица, оставляя своих детей Нину и Юру (Георгия) в доме священника Ильинской церкви Брежнева (ГМЗЕ, ОНФ).
Имя княгини Кропоткиной – Анна Николаевна – мне сообщила Людмила Николаевна Власова, сотрудница есенинского музея и родственница Сергея Есенина по отцовской линии.
Анна Николаевна Кропоткина (урожденная княжна Лобанова-Ростовская) родилась 3 октября 1864 года в селе Александровском Ефремовского уезда. Её родителями были отставной Гвардии Ротмистр князь Николай Алексеевич Лобанов-Ростовский и жена его Анна Ивановна.
Фамилию «Кропоткина» и владение имением в селе Кузьминском она получила в результате замужества, которое состоялось 18 октября 1887 года. Её муж князь Николай Алексеевич Кропоткин принадлежал к старинному дворянскому роду, который происходил от князей Смоленских, в роду которых был Великий князь Владимир
Святославович, крестивший Русскую землю, и князь Владимир Всеволодович Мономах.
Как и все потомки князя Дмитрия Васильевича Кропотки, Николай Алексеевич князь Кропоткин служил Российскому престолу и был жалован «поместьями и другими почестями и знаками Монарших милостей».
Он родился 12 мая 1855 года. Воспитывался в старшем спец. классе Пажеского Его Императорского Величества корпусе и окончил курс по 1 разряду. 14 сентября 1871 года был определён на службу. Был награжден «темнобронзовой медалью в память войны России с Турцией 1677-1678 гг.». 9 мая 1880 года Высочайшим приказом «за болезнью» был «уволен со службы майором».
17 июля 1861 года Николай Алексеевич Кропоткин был причислен к роду князей Кропоткиных.
20 июня 1896 года по его прошению была причислена к его роду и его жена Анна Николаевна и внесена в 5-ю часть Дворянской Родословной Книги по Рязанской и Тульской губерниям.
В ГАРО хранится копия с герба рода князей Кропоткиных и его описание: «В щите, имеющем серебряное поле, изображена черная пушка на золотом лафете, поставленном на траве, на пушке сидит райская птица. Щит покрыт мантией и шапкой, принадлежащим княжескому достоинству».
Согласно плана, составленного в 1893 году, майор князь Николай Алексеевич Кропоткин владел имением, «состоящим в Рязанской губернии Рязанского уезда стана в третьей и шестнадцатой части соединённых дач села Кузьминского с деревнями: Аксёновой, Поповой стороной и Шехминой слободой, в первой части пустоши Тагаевской и второй части деревни Иванчиной по правой стороне течения реки Оки, в шестнадцатой части деревни Иванчиной по левой стороне реки Оки», «заключающемся в земле в количестве 1631 десятин 745 сажен», а также получил «право на одну четвертую часть из числа пятидесяти семи десятин 1880 сажен выгона, находящихся в общем владении с священно-церковно-служителями села Кузьминского и двумя обществами крестьян того же села».
В составленных 18 октября 1896 года описи, оценке и плане строений, находящихся в имении князя Николая Алексеевича Кропоткина указаны постройки при селе Кузьминском: барский дом, каретный сарай, амбар, конюшня, хлев, людская изба, сарай для дров, ледник, баня, амбарчик, флигель с кухней, сарай.
Так же, как Лидия Ивановна Кашина стала последней владелицей имения Кулаковых-Кашиных в Константинове, княгине Анне Николаевне Кропоткиной (по второму мужу Барятинской) было суждено стать последней владелицей имения Кропоткиных в селе Кузьминском вплоть до 1918 года, когда имение было национализировано и в результате рачительного хозяйствования к настоящему времени уничтожено, за исключением заросшего и частью вырубленного парка, который является Охранной зоной Государственного музея-заповедника С.А.Есенина.
Архивные документы, на основании которых составлен текст «Княгиня Кропоткина»
Дворянский род князей Кропоткиных своими корнями уходит в глубокую древность.
«Род князей Кропоткиных происходит от князей Смоленских. В Родословной князей Смоленских, находящейся в Бархатной и других Родословных книгах показано, что правнук Великого Князя Владимира Святославича, крестившего Русскую землю, Великий Князь Владимир Всеволодович Мономах имел сына Мстислава князя Смоленского, а у него был сын Ростислав Князь Смоленский же, которые потом находились и на великом княжении Киевском, потомок его, князя Ростислава князь Святослав Иванович имел внука князя Дмитрия Васильевича Кропотку. Потомки сего рода князья Кропоткины очень многие Российскому престолу служили Стольниками и в иных знатных чинах, и жалованы были от Государей поместьями и другими почестьми и знаками Монарших милостей. Все сие доказывается сверх Российской Истории, Бархатной книгою и справкою разрядного Архива». (ГАРО, фонд 98, опись 10, дело 40, стр.123).
Четыре линии дворянского рода князей Кропоткиных идут от одного предка – Бориса Михайловича Кропоткина.
Род князей Кропоткиных внесен в 5 часть Дворянской Родословной Книги по Рязанской, Могилевской и Тульской губерниям. ГАРО, фонд 98, опись 10, дело 40, стр. 177 об.
В ГАРО хранится копия с герба рода Кропоткиных и его описание: «В щите, имеющем серебряное поле, изображена черная пушка на золотом лафете, поставленном на траве, а на пушке сидит райская птица. Щит покрыт мантией и шапкой, принадлежащим княжескому достоинству». (ГАРО, фонд 98, опись 10, дело 40, стр.123).
«По указу Его Императорского Величества и по резолюции Герольдии, сия копия с герба рода князей Кропоткиных по прошению уволенного от службы гвардии ротмистра князя Ивана Алексеева сына Кропоткина, ему выдана июля 15 дня 1837 года» за №14. (ГАРО, фонд 98, опись 10, дело 40, стр.123).
Гвардии ротмистр князь Иван Алексеевич Кропоткин, принадлежащий к 1 линии дворянского рода князей Кропоткиных, внесен в 5 часть Дворянской Родословной Книги Рязанской губернии 26 апреля 1837 года.
«В книге 1847 года Симеоновской церкви, что в Моховой ул. и д. №8», его сын «лейтенант гвардии Кираширского Его Величества полка, прикомандированном из Сумского гусарского полка, ротмистр князь Алексей Иванович Кропоткин, православного исповедания, первым браком, 34 лет, с дочерью Действительного Тайного Советника князя Сергея Григорьевича Щербатова фрейлиной Двора Их Императорских Величеств княжною Антониной Сергеевной, православного исповедания, 26 лет, повенчаны 19 января 1847 года». Поручителем был граф Александр Николаевич Толстой. (ГАРО, фонд 150, опись 11, дело 308).
За отцом Алексея Ивановича Кропоткина значилось – Тамбовской губернии Моршанского уезда в деревне Тютчеве 100 душ крестьян, С-Петербургской губернии Лугского уезда в Любенском погосте 250 душ крестьян и 1 тысяча десятин земли, Рязанского уезда в селении Павловске 500 десятин и Пронского уезда в селении Касимове 200 душ крестьян Новгородской губернии Белозерского уезда 7000 десятин.
За женою князя Алексея Ивановича Кропоткина, последней урожденной княжной Щербатовой, в Рязанской губернии и уезде в селе Кузьминском значилось 800 душ крестьян.
«…у генерал-лейтенанта Алексея Ивановича князя Кропоткина и законной жены его Антонины Сергеевны урожденной княжны Щербатовой родились дети: 22 июля 1850 года Наталья, 9 февраля 1853года Сергей и Антонина, 12 мая 1855 года Николай и 18 января 1859 года Алексей. Из них Антонина Алексеевна находится в замужестве за Александром Павловичем Галаховым». ГАРО, фонд 150, опись11, дело 308, связка 107, стр. 356, об.
По определению Рязанского Дворянского Депутатского собрания «17 июля 1861 года майор Николай Алексеевич князь Кропоткин причислен к роду отца его генерал-майора Алексея Николаевича князя Кропоткина, внесенному в 5-ю часть Дворянской Родословной Книги.(Указ Правительственного Сената по Департаменту Геральдии от 9 октября 1861 года за № 8031). (ГАРО, фонд 150, опись 11, дело 308, связка 107, стр.346).
В связи с отставкой 9 мая 1880 года по болезни князь Николай Алексеевич Кропоткин по его просьбе получил «Указ Его Величества Государя Императора Александра Николаевича самодержца Всероссийского и прочая и прочая и прочая … с надлежащими подписями и приложением казенной печати 10 гусарского Ингерманландского Великого герцога Саксен-Веймарского полка»: «Предъявитель сего майор Николай Алексеевич князь Кропоткин имеет темнобронзовую медаль в память войны России с Турцией 1677-1678 гг.; родился 12 мая 1855 года; из дворян Рязанской губернии; вероисповедания православного; воспитывался в старшем спец. классе Пажеского Его Императорского Величества корпусе и окончил курс по 1 разряду; получал по службе: жалованья 366 руб., порционных 96 руб., квартирных 70 руб. в год и фуражных по утвержденным ценам. В службу вступил Пажем к Высочайшему Двору тысяча восемьсот семьдесят первого года сентября четырнадцатого дня; определен в корпус экстерном с платою в младший спец. класс 1872 г. сентября 11; переведен в камер-пажи 1874 г. августа 10; зачислен в комплект корпуса 1874г. октября 16; корнетом Лейб Гвардии в Гусарский Его Величества полк 1875г. августа 4; прибыл в полк и зачислен на лицо 1875 г. августа 10; поручиком 1875г. ноября 6; Высочайшим приказом уволен от службы 1877 января 29; определен вновь на службу в 10 Гусарский Ингерманландский Великого Герцога Саксен-Веймарского полк 1877 года мая 17; прибыл в полк по определению из отставки 1877 г. июня 2; согласно предписания Главного Штаба от 11 ноября 1877 за № 11313, старшинство в чине Ротмистра зачтено с 1876 г. февраля 24; прикомандирован для письменных занятий к штабу 10 Армейского корпуса 1878 г. октября 8. Членом офицерского суда 1878 г. декабря 22; отчислен от этой должности 1880 г. января 20. Был в отпусках: 28-и дневном с 13 августа по 10 сентября 1875 г; 10-и дневном с 16 по 31 ноября 1876 г.; 14-и дневном с 5 по 16 января 1877; 2-хъ месячном с 5 июля по 8 октября 1878 г.; 28-и дневном с 15 ноября по 17 декабря 1878 г.; 28-и дневном с 2 по 30 июня 1879; 28-и дневном с 2 февраля по 2 марта 1880 г. и отпуску впредь до увольнения от службы с 16 апреля по 9 мая 1880 г. Холост; за отцом его состоит: Санкт-Петербурской губернии … 4000 десятин земли, Новгородской губернии в Белозерском уезде 7000 десятин лесу; Рязанской губернии в Пронском и Спасском уездах 1500 десятин земли; Вятской губернии в Глазовском уезде 1600 десятин лесу и в Рязанской губернии 10100 десятин земли; в штрафах по суду или без суда, также под следствием не был. В 1877-1878 гг. во время войны с Турцией состоял в числе войск назначенных для обороны Крымского Полуострова; ранен, контужен и в плену не был; особых поручений по Высочайшим повелениям и от Начальства не имел; под судом не подлежащей внесению в штрафную /ХШ/ графу не повергался.
В службе Штаб-офицера сего не было обстоятельств, лишающих права на знак отличия беспорочной службы, а также отдаляющих срок выслуги к этому знаку.
Высочайшим приказом тысяча восемьсот восмидесятого года мая девятого дня Ротмистр князь Кропоткин за болезнью - уволен от службы майором». (ГАРО, фонд 150, опись11, дело 308, связка 107, стр.372).
«В метрической книге Московской Александринской при Александровском военном училище церкви, 1887 года, №7 писано: октября 18 числа женился мировой судья Рязанской губернии четвертого участка, майор, князь Николай Алексеевич Кропоткин, православного вероисповедания, первым браком 32 лет, взял за себя: княжну Анну Лобанову-Ростовскую, православного вероисповедания, первым браком, 23 лет, венчал Александринской церкви протоиререй Александр Иванцов-Платонов с дьяконом Константином Остроумовым». (, фонд 150, опись 11, дело 308, связка 107, стр.376).
Событие рождения и крещения Анны Николаевны урожденной княжны Лобановой-Ростовской «по метрическим книгам Ефремовского уезда села Александровского за 1864 год значится так: третьего октября села Александровского у помещика отставного Гвардии Ротмистра князя Николая Алексеева Лобанова-Ростовского и законной жены его Анны Ивановой, православных, родилась дочь Анна, крещена 8 числа священником Александром Успенским с причтом. Восприемники были: статский советник князь Александр Борисов Лобанов-Ростовский и вдова статского советника Анна Николаевна Шеншина». (ГАРО, фонд 150, опись 11, дело 308, связка 107, стр.373).
В мае 1896 года майор Николай Алексеевич князь Кропоткин обратился с прошением в Рязанское Дворянское Депутатское собрание причислить жену его Анну Николаевну к его роду и выдать ему и ей паспортные описи на жительство. (ГАРО, фонд 150, опись 11, дело 308, связка 107, стр.371).
20 июня 1896 года «Слушали: прошение майора Николая Алексеевича князя Кропоткина» и определили причислить Анну Николаевну Кропоткину к его роду и выдать «паспортные книжки ему и жене его». (ГАРО, фонд 150, опись 11, дело 308, связка 107, стр. 378, об.).
В деле также имеется прошение князя Николая Алексеевича Кропоткина в Тульское Дворянское Депутатское Собрание о внесении его с женою Анной Николаевной в Дворянскую Родословную книгу Тульской губернии. (ГАРО, фонд 150, опись11, дело 308, связка 107, стр. 345, 346).
Согласно плана, составленного в 1893 году, майор князь Николай Алексеевич Кропоткин владел имением, «состоящим в Рязанской губернии Рязанского уезда стана в третьей и шестнадцатой части соединенных дач села Кузьминского с деревнями : Аксеновой, Поповой стороной и Шехминой слободой, в первой части пустоши Тагаевской и второй части деревни Иванчиной по правой стороне течения реки Оки, в шестнадцатой части деревни Иванчиной по левой стороне реки Оки», «заключающемся в земле в количестве 1631 десятин 745сажен», а также получил «право на одну четвертую часть из числа пятидесяти семи десятин 1880 сажен выгона, находящихся в общем владении с священно-церковно-служителями села Кузьминского и двумя обществами крестьян того же села». (ГАРО, фонд 150, опись 11, дело 308, связка 107, стр.364).
По документам, составленным 1 июня 1895, в имении находился «барский дом со службами, конторою, людской и прочими необходимыми постройками», на базарной площади – деревянный дом, каменный двухэтажный дом, деревянный флигель , восемь лавок деревянных, амбар.
«Доход от имения извлекался посредством сдачи в аренду луговой и пастбища, базарной площади, разработки леса, огорода, сада». (ГАРО, фонд 150, опись 11, дело 1115).
В Кузьминской лесной даче владения князя Николая Алексеевича Кропоткина росли сосна, береза, ель, ольха, осина. (ГАРО, фонд 150, опись 11, дело 308, связка107, стр.65).
В составленных 18 октября 1896г. описи, оценке и плане строений, находящихся в имении князя Николая Алексеевича Кропоткина указаны постройки при селе Кузьминском: барский дом - каменный с подвальным этажем, стены деревянные, крыша железная; каретный сарай, амбар, конюшня и хлев, людская изба, сарай для дров, ледник - каменный фундамент, деревянные стены, тесовая крыша; баня, амбарчик, флигель с кухней – фундамент каменный, стены деревянные, крыша железная; сарай – фундамент каменный, стены деревянные, крыша тесовая; (ГАРО, фонд 150, опись 11, дело 308, связка 107, стр. 85, об, 86, об.) и при селе Шехмина слобода: контора людская, амбар, сарай, скотный двор, конюшня, скотная изба с сенями, погреб и ледник, изба. (ГАРО, фонд 150, опись 11, дело 308, связка 107, стр. 87, об, 88, об.).
Отданное в залог имение Кропоткиных при селе Кузьминском за неплатеж недоимок было назначено Государственным Дворянским Земельным Банком в публичную распродажу, и 8 декабря 1912 года (по всей вероятности, уже после смерти князя Кропоткина) была совершена купчая крепость «на имение княгини Анны Николаевны Барятинской (по 1-му мужу Кропоткиной)» госпожой Листовской дворянкой Ольгой Андреевной. (ГАРО, фонд 150, опись 11, дело 308, связка 107, стр. 121).
«Запрещение, наложенное на принадлежащее княгине Анне Николаевне Барятинской по 1-му мужу княгини Кропоткиной имение и внесенное в сборник запретов по рязанскому уезду за 1913 года под № 33… 29 декабря 1916 года уничтожается» (ГАРО, фонд 150, опись 11, дело 308, связка 107, стр.127).
15 декабря 1916 года вследствие погашения долга Дворянскому Банку по ссуде № 79067, числившейся за княгиней Анной Николаевной Барятинской и выданной Банком под залог имения при селе Кузьминском Рязанского уезда Рязанской губернии «Государственный Дворянский Земельный Банк, препровождая при сем залоговую подписку, поручает Отделению выдать таковую, а также все имеющиеся в Отделении по означенной ссуде подлежащие возвращению бывшей заемщице дом и планы по принадлежности под надлежащую расписку» (ГАРО, фонд 150, опись 11, дело 308, связка 107, стр.128).
«Залоговая подписка и план имения для выдачи княгине Анне Николаевне Барятинской отосланы г. приставу Мещанской части г. Москвы 23 января 1917 года за № 147» (ГАРО, фонд 150, опись 11, дело 308, связка 107, стр.128).
17 июня 1917 года был возвращен «остаток от расчета при погашении долга князя Николая Алексеевича Кропоткина по имению его Рязанского уезда при селе Кузьминском» - 799 р.95 к. (ГАРО, фонд 150, опись 11, дело 308, связка 107, стр.114).
Галина Иванова.
https://62info.ru/history/node/15471
|
|
|||
|
Метки: кропоткины |
БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ РАЕВСКИХ |
- БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ РАЕВСКИХ
-
И снова Жигулин о гусях-лебедях:
Летели гуси за Усть-Омчуг
на индигирские луга,
и всё отчётливей и громче
дышала сонная тайга.И захотелось стать крылатым,
Лететь сквозь солнце и дожди,
И билось сердце под бушлатом,
Где черный номер на груди.А гуси плыли синим миром,
Скрываясь в небе за горой.
И улыбались конвоиры,
Дымя зеленою махрой.И словно ожил камень дикий,
И всем заметно стало вдруг,
Как с мерзлой кисточкой брусники
На камне замер бурундук.Качалась на воде коряга,
Светило солнце с высоты.
У белых гор Бутугычага
Цвели полярные цветы...
(1963)Русским родоначальником Раевских, от которого произошло шестнадцать поколений, был Степан Раевский, боярин Мстиславского удельного княжества; он владел поместьем «Раевщина» на р. Соже, поблизости от г. Мстиславля.
«По семейному преданию и указаниям польских генеалогов XVIII в. род Р. считается происходящим от Есмана (1-я пол. XV в.) из старинного польского рода Дуниных герба Лебедь. Степан Есманович († ок. 1490) был большим боярином у последнего удельного кн. мстиславского Ивана Юрьевича, а его сын, Иван Степанович Р., в июле 1526 вместе с кн. Федором Михайловичем Мстиславским выехал из Литвы к Вел. кн. Василию III».
«Некоторые Раевские происходят от Петра Дунина (сына Вильгельма Швено, датского дворянина, при дворе Эрика Темного, женатого на датской принцессе). Петр Дунин приехал в Галицкую Русь служить Перемышльскому князю Володарю в 1124 г., позже служил польскому королю Болеславу Кривоустому (Источник - "История" Татищева). Швено - вариант слова Лебедь по-датски. Все потомки Дуниных имеют родовой герб Лебедя. Имя Дунин происходит от польского слова Дунский, что значит – датчанин».
Общий Гербовник дворянских родов Всероссийской Империи дает следующее описание герба рода Раевских:
«Въ щитѣ имѣющемъ красное поле изображен серебряный Лебедь, стоящїй на травѣ и обращенный въ лѣвую сторону. Щитъ увѣнчанъ обыкновеннымъ Дворянскимъ Шлемомъ съ Дворянскою на немъ Короною, на поверьхности которой виденъ Лебедь. Наметъ на щитѣ красной подложенный серебромъ.
Фамилїи Раевскихъ, многїе Россїйскому Престолу служили Стольниками и въ иныхъ чинахъ, и жалованы были отъ Государей въ 7122/1614 и другихъ годахъ помѣстьями. Все сїе доказывается выписью съ отказныхъ книгъ, родословною Раевскихъ и свидѣтельством Калужскаго Дворянскаго собранїя, въ котором показано, что родъ Раевскихъ внесенъ въ родословную дворянскую книгу, въ 6ю ея часть, древняго дворянства» (Общїй Гербовникъ дворянскихъ родовъ Всероссїйскїя Имперїи, часть III, 1-е отделение.– Санктпетербургъ, 1797-1801, с. 55.).
В известной книге Александра Лакиера также находим описание этого герба: «Лабэндзь (польск. Łabęndź) в красном поле белый лебедь, у которого клюв и ноги означены золотом. В нашлемнике повторяется та же фигура. Эмблема эта, полагают, перешла в Польшу из Дании в правление короля Болеслава Кривоустого в 1124 г.» (А.Б. Лакиер. Русская геральдика. Книга II. Часть 4-я: Исторїя дворянскихъ гербовъ.– Санктпетербургъ, 1855, с. 440).
Параграф 91 того же издания содержит интересные исторические заметки о гербах польского происхождения:
«Нам кажется, что встречающиеся на них фигуры в своих многообразных сочетаниях могут быть по всей справедливости названы иероглифами идей, верований и преданий разных славянских народов: это-то качество и составляет коренное, существенное отличие их от эмблем рыцарских Западной Европы, от эмблем личных, не народных".http://www.shumkov.ru/favorite/raevskie/
http://www.vgd.ru/R/raevsky.htm
http://www.evgeniyraevskiy.ru/files/arms.htmlО гербе "Лебедь"
Лебедь - величавая птица, на гербе изображена с приподнятыми крыльями, выглядит уверенно, вызывает доверие, уважение и умиление. Лебедь твердо стоит на короне, готов взлететь с нее в поднебесье. Почтенная птица - в основе герба, на красном поле, и сверху - на самой короне. Это знак того, что род, принадлежащий к гербу, древний, чистый и знаменитый. История, как пишет В. Липский в своей книге "Праудзiвы аповяд пра мой i твой радавод", это подтверждает: герб "Лебедь" был утвержден еще в средневековье, с 1257 года, на земле краковской. Актом Городельской унии, примерно в середине XV столетия, герб был перенесен на территорию современной Беларуси и Литвы. Им пользовались 219 дворянских родов. Среди них и Матусевичи.
Цитата из статьи Натальи Чистяковой-Ярославовой «Баварские Лебеди Гогенцоллернов и Белые Орлы Цесаревича Георгия» (Спб, 2010):
«Два события подвигают меня к тому, чтобы обратиться к теме Геральдики и лебедей.
Во-первых, есть желание перед днем рождения «покормить» своих лебедей, т.е. вновь обратиться к лебединым мотивам. К тому же, накопился материал с гербами, включающими образ Лебедя, который презентуется мною в настоящей статье.
Лебедь присутствует на гербах Булони, Баварии, Великобритании, Дании. Это все география мест, связанных с легендами о Лоэнгрине - Лебеде, о Булонской Богоматери, о Деве Марии с её «армией» лебединых дев и со штандартом Девы Марии, совпадающим со знаменем крестоносцев, а также о «лебедином гнезде».
При этом герб Булони объединяет воедино Лебедя и знамя мира Рериха. Рерих же, как известно, был поглощен лебедиными мотивами Махатм.
Лебедь присутствует в гербах тех городов и исторических мест, которые связаны с легендами о покровительстве Богородицы. Также он включен в гербы владений тех родов, которые числят себя потомками Лоэнгрина, Меровингов …
Лебедем отмечены города, имеющие таинственные мифы. Например Цвиккау, объединяющий на одном гербе лебедей и святого Мориса (Маврикия) - Черного Волхва. Второй пример - Бельфалас, город и залив в Средиземном море, известный по фильму «Властелин колец». Стяг и герб - золотистые с изображением Корабля и Серебряного Лебедя.
Символ «Лебедь с тремя цветками» имел также святой Хуго Линкольнский. Гуго, святой архиепископ Линкольнский, который отпевал убитого Ричарда Львиное Сердце. Это один из самых почитаемых святых древней Англии. Необычно, что изначально он православным с Востока! Он почитается православными христианами Англии и США. Т.е. существует ещё такое большое поле исследований как «Лебеди и Святые».
Думаю тема Лебедь и Святые имеет свои истоки в том, что Архангела Михаила также как и других архангелов изображали в лебедином образе.
Лебеди на гербах и эмблемах, вне всякого сомнения, связаны с крестоносцами и тамплиерами, с Год-фридом Булонским и, похоже, все-таки с Анной Ярославной Русской - королевой Франции, сын которой Гуго Вермандуа возглавил Первый поход Крестоносцев.
Со временем Лебеди исчезали на гербах. К примеру, изначально щитодержателем на гербе Великобритании и на эмблеме династии Плантагенетов был лебедь. Затем лебедя заменили леопарды, львы, единороги…
Дольше всего Лебедь продержался на гербе Дании. И он включался в гербы датских королев. Лебедь включен в герб Дании и сейчас.
Считается, что из Дании «Лебедь на гербе» прибыл в Польшу (Краков), Украину (Харьков и Лебедин), в Белоруссию и Литву. Хотя, быть может, просто обошел круг.
Лебедь в России закрепился на гербе Раевских.
В настоящее время Лебеди включены в герб, так называемых «Пушкинских мест». Официально это герб Пушкиногорского района. Пушкин, Лебеди и Святая гора объединены этим гербом. И это вполне укладывается в ту логику, которая представлена выше.
Укоренился лебедь в местных малых гербах тех земель, куда видимо, уходили люди - лебеди. Это современная Вятка и Удмуртия.
На Большом государственном гербе Российской Империи 1882 года, в его четвёртой части, «в лице» герба Стормарнского присутствует также серебряный лебедь с чёрными лапами и золотою на шее короне.
О том, что Лебедь есть в гербе современной России, я однажды писала в статье «Лебедия: «Киевский» Лебедь и лебединый герб Москвы. Ведь на шее двуглавого орла - знак Георгия Победоносца. А на шлеме Георгия Победоносца из Каппадокии - часто изображается Лебедь. Близ Каппадокии погиб и Сын Анны Ярославны - Гуго Вермандуа, на что нельзя не обратить внимание. Он один из вдохновителей первого крестового похода, «окрыленного этой лебединой тематикой. Второй после Баварии Орден Лебедя, замечу, был тоже в Киеве, который связывает Ярослава Мудрого, Льва VI Мудрого и Каппадокию.
Однако этот Лебедь на гербе России настолько малозаметен, что о нем практически никто не знает.
И получается вот так. С Одной стороны, все говорят что «Россия -это Дом Пресвятой Богородицы». А с другой стороны - Лебедя, как символа Матери Божией, практически нигде в России нет…»И она же (см. Н.Чистякова-Ярославова «Белая Русь: «Орден Лебедя» города «Между Богов» и место паломничества хасидов всей планеты»):
«А.С.Пушкин, что интересно, заметно тяготел к родам этого «Герба Лебедя». Поэтому видится и своя закономерность в том, что Лебеди, Пушкин и Святая гора воссоединились, в 21 веке, на лебедином гербе Пушкиногорского района (Псковской области)».
После прочтения указанных статей целиком кажется, что уже нет живого места на земле, куда бы т(о)варищи не приложили загребущих рук и алчных взоров: им ведь в одном флаконе нужны Золотая рыбка с Царевной Лебедью плюс Цветик-семицветик.
Но руки прочь! Да и ледок хрупок по весне в северных землях: от ЛЕБЕДЬ-ЛЫБЕДЬ-ЛАБЭНДЗЬ до ЛЮБОВЬ-ЛЮБА-ЛЮДА-ЛЕДА-ЛАДА рукой подать…И, хотя нас опять т(о)варищи начнут стращать ненаучной "народной" этимологией, мы всё же положимся на собственное, природное чутьё в определении СВОЕ-ЧУЖОЕ…
|
Метки: раевские тайные организации |
Сергей Есенин - императрице Александре Федоровне: Стихи мои грустные? Но такова вся Россия! |
Сергей Есенин - императрице Александре Федоровне: Стихи мои грустные? Но такова вся Россия!
 Мать Татьяна Федоровна вспоминала: «Напишет и просит: «Мама, послушай, как получилось». (На снимке - 1924 год.)Фото: РИА Новости
Мать Татьяна Федоровна вспоминала: «Напишет и просит: «Мама, послушай, как получилось». (На снимке - 1924 год.)Фото: РИА Новости
Изменить размер текста:
Большинство людей, знающих Есенина поверхностно, воспринимают его в лирико-ботаническом контексте: "клен-березка-василек-белых яблонь дым". Еще у него есть собаки – причем речь не о потрясающей "Песни о собаке", не так уж широко известной, а о тех московских собаках, которые знают озорного гуляку (плюс, конечно, Джим, с которым можно полаять на луну). Дмитрий Быков сокрушался, что Есенина полюбила криминальная Россия, "которая увидела в нем выражение своей заветной сути" – и, надо сказать, песни в жанре шансон очень многим ему обязаны. Сегодня его стоит перечитывать, и внимательно вчитываться в него, чтобы обнаружить в нем подлинно великого поэта.
Вот несколько историй о том, каким он был человеком.
Есенин и бумажный василек
Стихи Есенин начал писать в 13 лет. Когда ему было около 20, он сошелся с деревенским поэтом Николаем Клюевым, уже довольно известным в Москве и Петербурге. Клюев (ходивший в косоворотке, мазавший волосы растительным маслом и говоривший о себе "Я не поэт, я мужик") буквально в него влюбился - и начал раскручивать.
Это было очень похоже на раскрутку современного эстрадного певца. Есенин появлялся всюду в типично русской одежде. "Кудрявенький и светлый, в голубой рубашке, в поддевке и сапогах с набором, он очень напомнил слащавенькие открытки" – писал Горький; голос у него был такой, "каким заговорило бы, должно быть, ожившее лампадное масло" – вспоминал Маяковский. Кому-то запомнился бумажный василек в петлице. В дарственных надписях Есенин представлялся: "бояшник соломенных суемов славомолитвенный рязанец"...
На самом деле у юноши было довольно приличное образование (его готовили к карьере сельского учителя). "Деревенский мальчик" еле держался на лошади, и однажды, выступая в поэтической программе в цирке, едва не убился, упав с коня (после этого он сказал своему другу Мариенгофу: «Толя, пусть лучше убьют на фронтах Гражданской войны, чем в манеже!»)
Все это было шоу – и прозорливый Маяковский, увидев Есенина, сразу не поверил его игре: знал, "с каким удовольствием настоящий, а не декоративный мужик меняет свое одеяние на штиблеты и пиджак". Он с ним даже поспорил – сказал, что через год Есенин сменит театральный наряд на нормальную городскую одежду. Через год, увидев Есенина в пиджаке и галстуке, Маяковский потребовал отдавать долг – в итоге два поэта чуть не подрались. А еще через какое-то время Есенина невозможно было представить без цилиндра.
Впрочем, Есенин всегда любил переодеваться, играть, менять имиджи, создавая все новые мифы о себе самом. Носил в петлице цветы, заботливо их оглаживая. Из письма: "Лакированные ботинки, трость, перчатки — это все у меня есть. Я купил уже. Я буду болтать тросточкой и говорить, закатывая глаза: «Какая прекрасная погода!» Я обязательно научусь этому перед зеркалом. Мне интересно, как это выглядит".
Есенин и императрица
В 1916 году Есенина призвали на военную службу. Он мог бы отправиться на фронт и погибнуть, но помогло вмешательство Григория Распутина. Тот (как рассказывает в своей статье Б. Стырикович) написал записку полковнику Ломану, близкому к царской семье: «Милой, дорогой, присылаю тебе двух парашков. Будь отцом родным, обогрей. Ребята славные, особливо этот белобрысый. Ей богу, он далеко пойдет». (Вторым "парашком" был Николай Клюев).
Во многом благодаря записке Есенин оказался не пехотинцем, а санитаром в лазарет Великих княжон Марии и Анастасии. Есенин вскоре сблизился с царской семьей – встречался и с сестрой императрицы Елизаветой Федоровной, и с матерью императора Марией Федоровной. И с самой императрицей Александрой Федоровной тоже. В автобиографии Есенин вспоминал: "Она после прочтения моих стихов сказала, что стихи мои красивые, но очень грустные. Я ответил ей, что такова вся Россия".
Многим "прогрессивным" интеллигентам, однако, не понравилось, что Есенин вдруг оказался близок к царю: одна дама кричала на приеме: "Отогрели змею!" и демонстративно рвала письма и рукописи Есенина.
В 1916 году Есенин написал стихотворение "Царевнам", посвященное дочерям Николая II и солдатам, за которыми те ухаживали. Оно неожиданно заканчивалось пророческими словами:
"Все ближе тянет их рукой неодолимой
Туда, где скорбь кладет печать на лбу.
О, помолись, святая Магдалина,
За их судьбу".
Потом Есенин еще рассказывал подруге историю, как целовался с великой княжной Анастасией Романовой (той самой Анастасией) на лестнице дворца. А она кормила его сметаной. Выдумка, конечно – но чего еще ждать от склонного к актерству выдумщика Есенина?
Есенин и Айседора
Знаменитая танцовщица Айседора Дункан приехала в Россию в поисках "нового мира", где можно создать "новое искусство", не пошлое, не буржуазное, не коммерциализированное. (С собой в нищую страну она предусмотрительно привезла три огромные корзины диетических хлебцев и деликатесов). Успех был колоссальный: на выступлениях зрители чуть ли не разносили залы, ей кричал "Браво!" Ленин, с ней мечтали познакомиться очень многие. Вот и Есенин, узнав о том, что Дункан будет присутствовать на вечере в студии театрального художника Георгия Якулова, метнулся туда как сумасшедший.

Прекрасная Айседора Дункан воспевала красоту человеческого тела, позируя и танцуя обнаженной. Ей было 44 года, когда ее увидел и полюбил 26-летний Есенин.Фото: wikimedia.org
По воспоминаниям Ильи Шнейдера, близкого друга Дункан и Есенина, вскоре "она полулежала на софе. Есенин стоял возле нее на коленях, она гладила его по волосам, скандируя по-русски: "За-ла-тая га-ла-ва…" Трудно было поверить, что это первая их встреча, — казалось, они знают друг друга давным-давно, так непосредственно вели они себя в тот вечер". Хотя Есенин не говорил на других языках, а Дункан практически не знала русского, они умудрились проговорить целый вечер.
Потом Шнейдер, Дункан и Есенин уехали с вечера. Задремавший извозчик случайно трижды обвез их около церкви по кругу. "Ты что, венчаешь нас, что ли? – спросил Шнейдер. – "Вокруг церкви, как вокруг аналоя, третий раз..." И Есенина, и Дункан это привело в полный восторг.
Их отношения, как всем прекрасно известно, были крайне сложными. Нервный Есенин запросто мог закатить Айседоре скандал (вспышки гнева с ним случались часто). Однажды она подарила ему красивые золотые часы со своей фотографией внутри. Есенин был счастлив, как ребенок. Но спустя несколько дней он их с силой шваркнул об пол у нее на глазах. Шнейдер, вошедший в комнату как раз в тот момент, когда часы разлетались вдребезги, потащил Есенина в ванную и держал его голову под холодной водой, после чего поэт пришел в себя, улыбнулся и сказал "Вот какая чертовщина..." Он вернулся к Айседоре – та прежде всего испугалась, что Есенин простудится.
Но вряд ли роман и брак между очень эмоциональными и очень разными людьми мог продлиться долго. Он и продлился считанные месяцы.
Айседора пережила Есенина меньше чем на два года. Через всю ее жизнь (как выразился бы Набоков) проходила тема несчастий, связанных с автомобилями. В 1913 году двое ее детей погибли, когда машина в результате столкновения упала в Сену (дети и их няня утонули). Сама она бесконечно попадала в большие и маленькие автокатастрофы (только Шнейдер в своих воспоминаниях перечисляет их шесть). И наконец, в сентябре 1927-го слишком длинный шарф, конец которого намотался на колесо автомобиля, сломал ей шею.
Есенин и самоубийство
Главная легенда о Есенине – что его якобы убили. Мнений на этот счет существует множество. Так, Станислав Куняев, автор биографии из серии ЖЗЛ, утверждает, что поэт неосторожно похвастался кому-то: мол, у него хранится телеграмма, компрометирующая Льва Каменева (тогдашнего председателя Моссовета). Вот за этой телеграммой и пришли, в стычке убили Есенина, а потом неловко сымитировали самоубийство путем повешения.
Но стоит почитать воспоминания о Есенине, чтобы понять: поэту буквально ничто не мешало, как позже выражался Высоцкий, "слазить в петлю". Его описывают как человека чрезвычайно нервного, легко возбудимого, впадающего в уныние. Меланхолия им владела необыкновенная. Фразу "Увяданья золотом охваченный, я не буду больше молодым" он написал в 26 лет, а в 29 говорил о себе: "Я отцветший, я ворон осенний"... (Кстати, благодаря песне Высоцкого о поэтах, которые ходят пятками по лезвию ножа, многие уверены, что Есенин покончил с собой в 27 лет. На самом деле ему на момент смерти было 30).
Однажды Дзержинский спросил поэта:
– Как вы можете так жить?
– Как? – удивился Есенин.
– Незащищенным...
Маяковский писал о последней встрече с Есениным:
"Я встретил у кассы Госиздата ринувшегося ко мне человека с опухшим лицом, со свороченным галстуком, с шапкой, случайно держащейся, уцепившись за русую прядь. От него и двух его темных (для меня, во всяком случае) спутников несло спиртным перегаром. Я буквально с трудом узнал Есенина. (...) Конец показался совершенно естественным и логичным".
А еще один знакомый поэта приводит его слова, сказанные незадолго до трагедии в гостинице "Англетер":
– У меня ничего не осталось. Мне страшно. Нет ни друзей, ни близких. Я никого и ничего не люблю. Остались одни лишь стихи. Я все отдал им, понимаешь, все. Вон церковь, село, даль, поля, лес. И это отступилось от меня.
Кстати говоря, Есенин покончил с собой в том самом номере "Англетера", где за несколько лет до того жил с Айседорой Дункан. Илья Шнейдер вспоминает, что тогда в номере не топили. Есенин все проверял трубу отопления – она была еле теплой. В 1925 году топили уже хорошо – та самая труба обожгла лицо поэта, который на ней повесился.
Номера 5, в котором повесился Есенин, больше не существует. Гостиница "Англетер" была снесена в 1987 году вопреки многочисленным протестам ленинградцев. То, что сейчас стоит на ее месте и под ее именем – новодел начала 90-х.
Есенин и Курехин
Благодаря легенде об убийстве Есенина много лет спустя появился знаменитый скетч Сергея Курехина и Сергея Шолохова "Ленин - гриб". Как вспоминала в интервью "КП" вдова Курехина Анастасия, "идея программы родилась так: однажды Сергей увидел передачу о смерти Сергея Есенина. Автор программы выстраивал доказательство того, что поэта убили на совершенно абсурдных вещах. Показывали фотографии похорон Есенина, и за кадром говорили: «Посмотрите, куда смотрит этот человек, а вот этот смотрит в другую сторону, и это означает, что Есенина убили...» Сергей посмотрел программу и сказал мне: «Так можно доказать все что угодно». В результате родился разыгранный на полном серьезе диалог, в котором Курехин приводил множество доказательств того, что Ленин на самом деле был галлюциногенным грибом.
ОДНО ИЗ СОТЕН СТИХОТВОРЕНИЙ
Спит ковыль. Равнина дорогая,
И свинцовой свежести полынь.
Никакая родина другая
Не вольет мне в грудь мою
теплынь.
Знать, у всех у нас такая участь.
И, пожалуй, всякого спроси -
Радуясь, свирепствуя и мучась,
Хорошо живется на Руси.
1925.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
120-летие Сергея Есенина рязанцы отметили вместе с ветром-хулиганом и знаменитым тезкой поэта
Начинали праздник народные забавы, а завершал спектакль Сергея Безрукова
«Плюйся, ветер, охапками листьев, - я такой же, как ты, хулиган». И плевался он порывами, и срывал золото с деревьев, и гнул гибкие березы, но все же как-то бережно, не зло, добавляя лишь характера и новых красок этому дню. А день шел особенный - 3 октября, когда ровно 120 лет назад появился на свет в рязанском селе Константиново будущий великий поэт Сергей Есенин. (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Русский поэт Сергей Есенин»
ttps://www.crimea.kp.ru/daily/26441.7/3311665/
|
Метки: романовы литераторы |
Дворец Кропоткиных |
[]

В XVII веке на территории Сигулдского замка стала образовываться помещичья усадьба. До наших дней здесь сохранилось несколько зданий, возведённых в XVIII и XIX веках во времена хозяев фон дер Борхов и Кропоткиных – Летний замок, Новый замок, Белый замок, дом бурмистра, дома служащих усадьбы, амбар, прачечная, погреба для хранения корнеплодов и овощей.
Новый дворец (дворец Кропоткиных) в Сигулде был построен княгиней Ольгой Кропоткиной, урождённой графиней фон дер Борх, в 1878 – 1882 годах на месте предзамка орденского замка. Дворец Кропоткиных был построен в стиле тюдовской неоготики из крупных, обработанных, валунов. Руководил работами цесисский мастер-каменщик Янис Менгелис.
В гостях у Кропоткиных, проводивших в этом дворце летние месяцы, бывали многие высокопоставленные гости из столицы.
Во время Первой мировой войны здание было разрушено.
В 1921 году восстановленный дворец Кропоткиных перешёл во владение государства. В 1923 году во дворце разместилось Общество журналистов. В 1930 году в окнах дворца были установлены витражи М. Струнке „Четыре времени года”. В здании были установлены живописные работу К.Скуиня.
В 1936-1937 года во дворце – Дом творчества или Дворец прессы – проводилась перестройка. По проекту архитектора А.Бирканса была увеличена высота башни. Авторы интерьера известные латышские художники Латвии: Вилис Васариньщ, Никлавс Струнке, Петерис Озолиньш, Карлис Суниньш.
Во время Второй мировой войны дворец Кропоткиных использовался для нужд штаба Nord немецкой армии. После войны Совет министров СССР разместил во дворце Дом отдыха для чиновников высшего ранга.
В 1953 году во дворце разместился кардиологический и климатический санаторий „Сигулда”.
После восстановления Независимости Латвии в 1991 году дворец Кропоткиных отошёл государству и с 2003 года здесь находится Сигулдская Дума, ресторан.
Рядом с Новым замком находится так называемый Жёлтый дом (он же Летний замок). Построен он в стиле классицизма на смене XVIII-XIX веков. Деревянное продольное здание возводилось под руководством мастера из Цесиса, называемого последним ливом Видземе, Марциса Сарумса. Здесь Кропоткины жили до завершения строительства Нового дворца. Здесь же находится небольшая церковь, где проводились службы для хозяев имения.


2015-07-16
http://meros.org/uz/wonder/view?id=101
Tags: Князья Кропоткины, НОВЫЙ ЗАМОК
|
Метки: кропоткины дворянское образование |
" Картинная галерея ". И.Я. Вишняков " Портрет Сарры Элеоноры Фермор". |
" Картинная галерея ". И.Я. Вишняков " Портрет Сарры Элеоноры Фермор".


( И.Я. Вишняков " Портрет Сарры Элеоноры Фермор" 1750 г).
Десятилетняя девочка из благородного семейства, с чистыми невинными глазами и ангельским личиком - такой увидел свою будущую модель художник Иван Яковлевич Вишняков, ученик великого Луи Каравакка, некогда приехавшего в Россию по указанию Петра I, и рисовавшего членов императорской фамилии.

( Луи Каравакк " Портреты царевен Анны Петровны и Елизаветы Петровны" 1717 г).
По канону, даже маленькая девочка, позируя художнику, должна была быть наряжена во " взрослый" наряд, сильно напудрена и нарумянена, досадно скрывая всю прелесть ранней юности, завита и надушена, и несмотря на тяжеловесность и громоздкость наряда, вести себя как взрослая светская дама.
Иван Яковлевич, портретист и религиозный живописец, родился в Москве, в 1699 году, и был сторонником петровских реформ, несмотря на свой консерватизм.
Впрочем, Вишняков мог совмещать допетровские вкусы и приемы в живописи с новыми, пришедшими из западного искусства.
В 1739 году Вишняков занял место почившего А.М. Матвеева, и отныне занимал прибыльную должность в " Живописной команде " в Канцелярии от строений, расписывающей дворцы и церкви Петербурга.
Елизавета Петровна обожала искусство, несмотря на свою беспечность и легкомыслие, и Вишняков был замечен ею благодаря своим картинам на религиозные сюжеты. К тому же императрица знала, что Вишняков учился живописи у Каравакка, однажды нарисовавшего ее вместе с любимой сестрой Анной, и потому Иван Яковлевич пользовался доверием государыни.
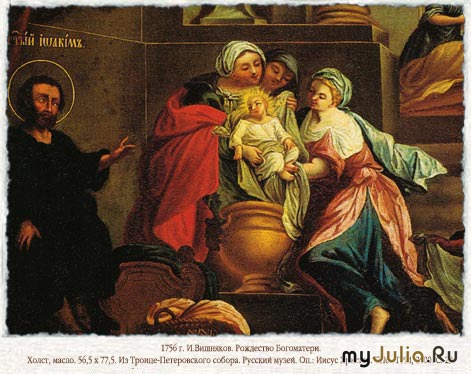
( И.Я. Вишняков " Рождество Богоматери" 1756 г).
Сарра Элеонора, и ее брат Вильгельм Георг происходили из всеми уважаемой семьи, и были детьми видного государственного и военного деятеля Виллима Виллимовича Фермора, англичанина по происхождению - его отец снискал себе славу в России.
Карьера Виллима Виллимовича началась при императрице Анне Иоанновне, когда он служил под началом самого Миниха.
Отличился во время крымского похода 1736 года, в 1739 году - в битве при Ставучанах.
Во время Семилетней войны получил чин генерал - аншефа, участвовал во взятии Мемеля, Кёнигсберга и Восточной Прусии, получил из рук императрицы Марии - Терезии графский титул, командовал войсками при Цорндорфе....
Под его началом служит будущий великий полководец А.В. Суворов.
Виллим Виллимович заведовал Канцелярией по строениям, и потому ответственное дело - нарисовать своих любимых детей - поручил именно Вишнякову, чьи работы и старания очень ценил, и художник был другом семьи Фермора, и пользовался уважением как супругов, так и их детей, которых обессмертил своими полотнами.

( А.П. Антропов " Портрет В.В. Фермора" 1765 г).

( И.Я. Вишняков " Портрет Вильгельма Георга Фермора" вторая половина 1750 - х. гг).
Сарра Элеонора, словно настоящая дама, предстает перед нами.
Но несмотря на солидность образа, ее невинный взгляд, и детская непосредственность, доверчивость во взгляде, не скрыты художником, более того - на первом плане.
Ребенок, " играющий во взрослых " , не скрывающий своей хрупкости.....
Правила живописи диктовали условие, при котором на первом плане должны быть руки, сложенные особым образом, дабы демонстрировать ухоженность и красоту.
Исследователи считают, что руки девочки Вишняков изобразил несколько длиннее, нежели они есть на самом деле, а узоры на наряде как бы поверх складок, и в этом мастерство и привычка Вишнякова - стремиться к большей декоративности, подчас нарушая правила и анатомии, и т.н. " перспективы ".
Он предпочитает темный фон, ведь только так можно еще больше раскрасить моделей, акцентируя внимание не только на лице, отображающем внутренний мир, но и на красоте платья, которое художник стремится сделать ярче.....
У девочки выразительнейшие, глубокие глаза, и они контрастируют и с напудренным лицом, и модным белым париком с " косицей " - ребенок остается ребенком в любом наряде, и любой позе.
Если приглядеться и сравнить портреты сестры и брата, можно увидеть, что они выполнены почти в одинаковой манере, и глаза детей очень похожи.
Семья Фермор была несказанно довольна работой, а художник сохранил до своей смерти в 1761 году самые дружеские отношения и с маленькими натурщиками, и их родителями.

( И.Я Вишняков " Благовещение" 1756 г).
В 1762 году Виллим Виллимович был уволен, а в 1763 году получил должность генерал - губернатора Смоленска, стал сенатором, но в 70 - х. гг. вышел в отставку, и скончался в 1771 году.
В 1765 году Сарра Виллимовна вышла замуж. Ей было 25 лет. Ее жениху - 21 год.
Избранником стал граф, бригадир, советник от дворянства, эстляндец Яков Понтус Стенбок, человек интересный и уважаемый, чья фамилия происходила от государственного шведского советника Ионса, жившего в XIII веке.
В 1765 году у них родился сын Иоганн Магнус, которому в 1825 году было разрешено присоединить к своей фамилии Стенбок, герб и фамилию Фермор. Но его старший сын Яков Иванович, женатый на графине Эссен, стал именоваться Эссен - Стенбок - Фермор.
Такую фамилию носят и поныне потомки рода.
Семейная жизнь героини вишняковского портрета породила разного рода слухи.
Например, что муж растратил все приданое жены, и она скончалась от постоянных скандалов.
Сарра умерла после 1805 года, как свидетельствуют архивные источники, и место ее захоронения достоверно неизвестно. Возможно, Александро - Невская лавра в Петербурге, где похоронены многие представители знатных фамилий.
Брат Вильгельм Георг, записанный по обычаю в полк при рождении, получил чин бригадира, женился на некой фон Альбрехт.
Сведений о нем, и его потомстве мало.
Портреты детей Фермор были переданы в Русский музей из фамильного собрания семейства.
Работы Канцелярии по строениям, которой заведовал Виллим Фермор, и где работал Вишняков, не сохранились.

( И.Я Вишняков " Богоявление" 1755 г).
Статьи на эту тему:
" Картинная галерея". " Ж.Б. Грёз. " Портрет Софи Арну"
Путешествие в пятницу. Золотые женщины Климта
" Картинная галерея" Н. Ланкре "Танцовщица Камарго".
" Картинная галерея" И.П. Аргунов " Екатерина Александровна Лобанова - Ростовская" 1754 г.
" Картинная галерея ". Паулюс Поттер " Ферма ".
|
Метки: стенбок-фермор живопись |
Стенбок |
Стенбок
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
У этого термина существуют и другие значения, см. Стенбок (значения).
| Стенбок | |
|---|---|
| швед. Stenbock | |
 |
|
 |
|
| Описание герба
см. текст >>> |
|
| Том и лист Общего гербовника | XI, 34 |
| Титул | графы |
| Часть родословной книги | V |
| Ветви рода | Стенбок-Фермор, Эссен-Стенбок-Фермор |
| Подданство | |
 Королевство Швеция Королевство Швеция |
|
 Российская империя Российская империя |
|
| Имения | Кольк, Лахта, Ольгино |
| Дворцы и особняки | Дом Стенбока |
 Стенбок на Викискладе Стенбок на Викискладе |
|
Стенбок и Стенбок-Фермор — графский род, происходящий от Ионса, шведского государственного советника (1205 г.). Его потомок в 11-м колене Олоф Арфведсон, который находился рейхсратом в первых годах шестнадцатого века, первый принял фамилию Стенбок.
Его сын, Густав Стенбок (ум. 1571) был пять раз послом в Дании. Его дочь Екатерина (1535—1621) была с 1552 г. третьей женой шведского короля Густава Вазы. Его внук барон Густав (ум. 1629) заключил мир с Данией в 1612 г. В 1651 г. род Стенбок возведён был в графское достоинство. Граф Эрик Стенбок, генерал-фельдцейхмейстер, убит при штурме Копенгагена (1659). Брат его Густав-Отто (ум.1685) был генерал-адмиралом. О графе Магнусе — см.
Потомки его поселились в Эстляндии. В 1825 г. графу Иоанну-Магнусу Стенбок, мать которого была единственной дочерью графа В. В. Фермора, разрешено именоваться, с потомством, графом Стенбок-Фермор, а старшему сыну его Якову (1807—1866), основателю универмага «Пассаж»[1], женатому на единственной дочери графа П. К. Эссена, дозволено именоваться графом Эссен-Стенбок-Фермор.
Род графов Стенбок внесен в дворянские матрикулы Эстляндской губернии, а графы Стенбок-Ферморы — в V ч. родословных книг С.-Петербургской и Херсонской губ.
Содержание
Описание герба
Герб рода графов Стенбок-Фермор
Герб графов Стенбок (по Долгорукову)
Щит расчетверён на лазурь и золото. В лазури золотое стропило и под ним серебряная шестиугольная звезда. В золоте рука, стреляющая из карабина. Посреди герба малый щиток, разделенный горизонтально на два поля. В верхнем, золотом поле, выходит голова чёрного козла; нижнее поле шахматное, чёрное и золотое.
На гербе три шлема со шведскими графскими коронами; на правом шлеме обращенный вправо всадник на белой, на вставшей на дыбы лошади, стреляет из карабина; на среднем шлеме два буйволовых рога, полу-черные, полу-золотые, и между ними вставший на дыбы чёрный козел, вправо; на левом шлеме семь знамен, трое золотых и четверо голубых, поочередно. Герб покрыт голубой княжеской мантией (в память брака Екатерины Стенбок со шведским королём Густавом Вазой).
Соединённый герб рода Стенбок-Фермор (описание герба Ферморов — см. статью), имеющих титул Шведского королевства графов внесен в Часть 11 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 34.
Известные представители рода
- Катарина Стенбок (швед. Katarina Gustavsdotter (Stenbock); 1535—1621) — третья и последняя супруга короля Густава I;
- Стенбок, Густав Отто (1614—1685) — шведский полководец и риксадмирал.
- Стенбок, Магнус (1664—1717) — шведский фельдмаршал, один из полководцев Карла XII;
- Граф Стенбок, Яков Фёдорович (1744—1824) — российский военнослужащий (бригадир).
- Граф Стенбок, Пётр Михайлович (1869—1931) — генерал-майор Императорской армии
- Граф Стенбок, Юлий Иванович (1812—1875) — обер-гофмейстер Двора Его Императорского Величества (1874). Вице-президент (1864—1865) и почётный член (1871) Императорской Академии художеств.
- Граф Стенбок-Фермор, Алексей Александрович (1835—1916) — русский генерал-лейтенант, шталмейстер императорского двора.
- Стенбок-Фермор, Иван Васильевич (1859—1916) — государственный деятель, депутат III Государственной Думы от Херсонской губ. (фракция правых).
- Стенбок-Фермор, Владимир Васильевич (1866—1950) — агроном, депутат II и III Государственной Думы от Херсонской губ. (фракция правых), брат предыдущего.
- Стенбок-Фермор, Мария Александровна, её сын — Александр Владимирович; помещики Варшавской, Пермской и С.-Петербургской губерний, владельцы заводов и приисков в Верх-Исетском горном округе.
- Эрик Станислаус Стенбок (англ. Eric Stanislaus Stenbock, 1858—1895) — английский писатель, автор фантасмагорических и готических рассказов
|
Метки: стенбок-фермор |
Музей истории кирпичного производства |
Музей истории кирпичного производства в СПбГАСУhttp://www.citywalls.ru/photo108970.html
В музее истории кирпичного производства представлено более 400 образцов стеновой керамики, извлеченных из старых зданий Санкт-Петербурга, Новгорода, Пскова, Выборга и др. российских городов. Самым древним экспонатом музея являются керамические материалы из окрестностей Помпеи – им около 2000 лет. Наиболее широко в музее представлены кирпичи, изготовленные на заводах Санкт-Петербурга и его окрестностей в 18-19 вв., на которых имеются клейма с фамилиями и инициалами керамистов-заводчиков.
Музей создан на основе коллекции образцов строительной керамики доктора технических наук, профессора кафедры химии СПбГАСУ Всеволода Владимировича Инчика. Первый кирпич будущий коллекционер подобрал в 12 лет в своей квартире, разрушенной фашистским снарядом. В настоящее время коллекция насчитывает более 400 экземпляров. (информация со стенда в музее)
Наибольшая часть кирпичных производств находилось в Санкт-Петербургском уезде в районе с. Усть-Ижора на Неве в устье р. Славянки, на правом берегу Невы в Ново-саратовской колонии (позднее называемой Уткина заводь) и в Шлиссельбургском уезде в устье р. Тосно
Памятная книга Санкт-Петербургской губернии 1898 г. указывает следующие кирпичные фирмы, арендаторов и промышленные заведения:
В Санкт-Петербургском уезде:
В Усть-Ижорской волости в с. Усть-Ижора - производства крестьянина А. Н. Захарова с сыновьями, крестьянина Михаила Михайловича Кононова, крестьянина Михаила Алексеевича Кононова, СПб купца Макара Тимофеевича Стрелина, временного СПб купца К. А. Балашова, генерал-майора А. А. Витовского, крестьянина Михаила Васильевича Захарова; в с. Усть-Славянка – СПб купца Николая Михайловича Слепушкина и наследников В. В. Лядова, в Новосаратовской колонии – фирма «Голубинский В. Ф. кол. рег. И Ко», по р. Ижоре – временного СПб купца 2-й гильдии Александра Васильевича Захарова, близ посада Колпино – купца В. П. Бахвалова.
Близ Ново-Знаменской деревни на Шлиссельбургском шоссе в собственном доме располагалось производство братьев Лабовкиных и И. М. Постникова.
В Осинорощинской волости в деревне Дыбун находился завод генерала от артиллерии, графа Владимира Васильевича Левашова.
В Шлиссельбургском уезде:
в Рябовской волости, близ села Ириновки – Ириновско-Шлиссельбургское промышленное общество, в с. Щеглово – кирпичный завод барона, сенатора, тайного советника М. Н. Медема.
в Ивановской волости в с. Ивановское производства СПб купца Абрама Михайловича Ушакова и французского гражданина Александра Ивановича Фукса, в д. Новая – крестьянина С. С. Сазонова, в д. деревне Покровское – СПб купца Льва Израилевича Вейса, в д. Корчмино – генерал-майора А. А. Витовского, купца 2-й гильдии Ивана Павловича Поршнева, фирмы «Петрова А. И. и Ко» (Анны Ивановны Петровой) и купца 2-й гильдии Дмитрия Ивановича Тырлова. Второе производство Тырлова находилось в Колтушской волости в колонии Овцино, там же располагалось акционерное общество «Звезда» - кирпичное и цементное производство. Также в Колтушкой волости в селе Щербинка находились кирпичные заводы купца 2-ой гильдии Готфрида петровича Муркина и потомственного почетного гражданина Григория Сергеевича Растеряева, в имении Саморка – производство действительного статского советника Владимира Андреевича Раненкамфа, в д. Пороги – потомственного почетного гражданина Ивана Ивановича Пирогова.
В Царскосельском уезде в Кошелевской волости при д. Новой работал завод царскосельского 1-й гильдии купца Якова Ивановича Папкова, в дер. Черная речка – генерал-майора А. Н. Витмера; в Ижорской волости и с. Ижора вдова царскосельского купца Мария Феофановна Белозерова арендовала производства Ф. П. Сокулина; в Старо-Скворицкой волости при д. Вайлово – производство личного почетного гражданина Н. А. Шилова.
В Петергофском уезде в Шунгоровской волости в д. Знаменка располагались заводы временного купца Александра Матвеевича Миронова и фирма прусского подданного «Мор От. Ф. и Ко», а в Ораниенбаумской волости при д. Бобыльск – купца 2-1 гильдии И. А. Баушева.
Близ г. Ямбурга находился кирпичный двор П. П. Зальцера, в Ново-ладожском уезде Иссадской вол. д. Юшкова – кирпичное производство крестьянина Михаила Амосовича Воробьева.
Некоторые заводы являлись «долгожителями», некоторые открывались на один-два года.
По данным справочников «Весь Петербург-Петроград» с 1897 по 1917 гг. работали кирпичные предприятия Беляевых, Захаровых, Стрелиных, Лядовых, Левашова, Укке. Долгожительством отличились заводы Поршнева, Евментьева, Зубинского, Тырлова, Русанова, «Стуккей», «Подкова».
Вот выборка из справочников на 1897-1917 гг.
Предприятие Анисимова Николая Андреевича в с. Усть-Ижора на р. Б. Ижоре действовало в 1913-1917 гг. Контора в 1916 г. помещалась 11-й Роте Измайловского полка, 24.
Баганин Павел Александрович работал на ст. Белоостров в 1897-1898 гг.
Балашов Константин Александрович купец 2-й гильдии в с. Усть-Ижора 1897-1899 гг.
Барбашинова Лариса Ивановна - Александровский уч. наб. р. Славянки, 71 - 1904-1908 гг. см. Колокольная ул., 2
«Наследники Петра Беляева» см. ул. Марата, 15
Богданович Ан. Евст. - р. Тосна близ с. Ивановского 1908-1917 гг. Контора в 1916 г располагалась на Дегтярной, 11.
Борисов Иван Борисович Александровский уч., правый берег Невы, 238 в1904-1906 гг.
Брокман Николай Яковлевич - Устье р. Тосны при с. Ивановском 1906-1913 гг.
Вейс Левян Израилевич на р. Тосна в 1906 г.
Кирпичные заводы Леопольда Адольфовича Витовского на ст. Колпино Николаевской ж.д. и на р. Корчминка в 1913-1917 гг.
Германовская Вера Константиновна на Московское шоссе, 62, а в 1916 на Свеаборгской 57 и в ; Усть-Ижора в 1914-1917 гг.
Гонцкевич Евгений Осипович вс. Усть-Ижора в 1916-1917 гг.
«Громов и Ко» в Усть-Тосно в 1908-1917 гг.
Евментьев Александр Фаддеевич в Ново-Саратовской колонии, 240 в 1901-1916 см. ул. Писарева, 16
Елисеев Андрей Васильевич в Колпино на р. Ижора в 1913-1917 гг.
Елисеев Яков Васильевич в Колпино на р. Ижора в 1916-1917 гг.
Захарова Анна Никитична, а позднее ее сыновья Кузьма и Федор Дмитриевичи – в Усть-Ижоре в 1897-1908 гг.
Захаров Александр Васильевич, а потом его наследники – в с.Усть-Ижора в 1898-1916 гг.
Захаров Михаил Васильевич в с. Усть-Ижора в 1904-1906 гг.
Зараковский Игнатий Иванович в с. Усть-Ижора в 1902-1908 гг.
Зарудная Анна Дмитриевна вс. Усть-Ижора в 1904 г.
Зубинский Владимир Гаврилович и его наследники в Ново-саратовской колонии Уткина заводь), 204 в 1897-1914 гг. В 1916-1917 гг. владельцем предприятия являлся Ульман Эдуард Рейнгардович, а арендовал его Гуковский Абрам Исаакович.
Игнашкин Михаил Яковлевич вУсть-Тосно близ с. Ивановского в 1913-1917 гг. В 1916 – Контора находилась на Фонатнке, 136.
Кононов Михаил Алексеевич и его наследники в с. Усть-Ижора в 1904-1917 гг.
Российское акционерное общество «Ксилолит», располагавшееся на Глиняной, 8 в 1897-1899 гг.
Завод графа В. В. Левашева работал в 1897-1914 гг. см. наб. Фонтанки, 18
Заводы Лядовых в 1997-1917 г. см. наб. Обводного канала, 66
«Мойка» на Шлиссельбургском тракте в с. Елизаветино Ромашева Виктора Ивановича в 1902-1903 гг.
Предприятие Мосс Павла Альбертовича на ст. Крюково Николаевской ж.д. в 1906-1908 гг.
Нейман Эдуард Эдуардович – Александровский уч., Ново-саратовская колония в 1913 г.
Наумов Федор Наумович - Лиговская, 200 1899 г.
«Наумов и Кувыгин» Петергофский уч. дер. Волково 1902 г.
Обуховский и Ижорский кирпичные заводы. Обуховский -ст. Обухово Николаевской ж.д. Ижорский «Скала» - с. Усть-Ижора. Контора находилась на 8-я Рождественской, 49. В 1913-1914 гг. В 1916-1917 гг. Обуховский завод продолжал действовать, а завод «Скала» принадлежал Дрягину Николаю Александровичу.
«Петрова А. И. и Ко» в Шлиссельбургском уч. с. Кормчино в 1902-1903 гг. см. Некрасова, 25
Петров Яков Петрович по НевеУсть-Ижора против пристани Лагерь и на Мойке в 1913-1917 гг.; Контора помещалась на ВО 6-я линия, 46
Механический кирпичный завод акционерного торгово-промышленного общества кирпичного производства и строительных материалов «Пелла» с основным капиталом 1 млн. на Неве близ с. Ивановского работал в 1914-1917 гг., контора помещалась на Невский, 21 в доме Мертенс.
Завод Пирогова Ивана Ивановича в с. Усть-Ижора в 1898-1908 гг. см. Тележная, 3-5
Завод «Подкова» на правом берегу Невы, против Саперного лагеря см. Декабристов, 48
Пономарев Яков Матвеевич - Шлиссельбургский уч. Нева с. Анненское в 1910-1917 гг. Контора в 1916 г. помещалась на Калашниковском, 33-32
Заводы Поршневых работали с 1902 по 1917 гг. см.
Постников Иван Михайлович - Петергофское шоссе на 17 версте в 1899 г.
Завод «Г. Растеряева» в Щербинке против Ижорского лагеря в 1897-1917 гг.
Русанов Владимир Андреевич -Шлиссельбургский уч. правый берег Невы 1902-1917 гг.
Слепушкин Николай Михайлович в. с. Усть-Славянка в 1897 -1903 гг. см. дом Слепушкина (Славянская ул., 1)
Завод гр. Стенбок-Фермор, в Лахте , ст.Раздельная в 1897-1899 гг.
Заводы Стрелиных в 1897-1917 гг. см. 5-я Рождественская, 11
Завод «Самарка» В. А. фон- Ренненкампфа в 1902-1903 гг. см. Поваврской пер.,1-15
Завод «Стуккей» в Новосаратовской колонии в 1902-1917 гг. см. Фурштадтская, 12
Тырлов-Жданков Дмитрий Иванович в с. Усть-Ижора, колония Овцына в 1902-1917 гг. с 1914 и в Усть-Тосно с. Корчмино. см. Невский пр., 119
«Л. Ю. Укке и Ко» - Шлиссельбургский тракт на 19 версте 1897-1917 гг. см. Садовая, 120
На Шлиссельбургском шоссе, Железнодорожная ул. работали в 1897 г. Хоменко Мария Михайловна, в 1899-1904 - Филиппов Иван Филиппович, в 1906 г. Торкачев Иван Григорьевич.
Кирпичный завод «Форестланд» Э. Я. Менде на ст. Рябово Николаевской ж.д в 1914 г.
«Фриц Шульц» Шлиссельбургском уезде, дер. Невские пороги в 1914-1917 гг.
Паровой механический кирпичный завод Эд. Эд. Новицкого близ СПб, дача «Резвых» указан в 1906 г. Главная контора - Садовая, 23-4. С 1914 г. там располагалось СПб (а в 1916-1917 гг. Петроградское) акционерное общество кирпичных и лесопильных заводов. Правление: Волынский пер. 4-6
Кирпичный завод «Труд» р. Тосно, близ СПб работал в 1906-1913 гг., владельцы Ф. Иванов, Н. Буев, с 1908 г. - владелец Островский Яков Семенович
В 1908-1913 гг. указывается «Юрьево» в с. Ижора кирпичный завод Воронкова и Игнатовича Завод – ст. Усть-Ижора, контора – Боровая ул. 24-28; 1910-1913 - влад. Игнатович Николай Иванович
В 1910 г. «Шестов и Липский»Товариществово в дер. Усть-Тосно Влад.: Шестов Петр Иванович, Липский Владимир Александрович. Контора: Коломенская, 22
В 1914-1917 гг. -
кирпичные заводы Л. Герчикова 7-я Рождественская, 7; Владелец. Лев Львович Герчиков; «Наследники Ивана Петровича Максимовского» на ст. Усть-Тосно близ дер. Новой Невско-Ореховского ручья. Контора - Дегтярный пер, 22
«Н. А. Прево и Ко» ТД - по р. Тосно, имение «Песчанка» Контора: Екатерининский канал, 15
«Прейс и бр. Фришенбрудер» Петроградский уезд, Ново-саратовская колония. Контора: В.О. Средний пр.,72
«Энергия» на р. Ижора. Влад. Николаев Николай Федорович. Контора Сердобольская 4-6
Ястребов Андрей Михайлович - ст. Оредеж Московско-Виндаво-Рыбинской ж.д. Контора: Петропавловская, 4
«Яшма» в Александровском уч. Уткина заводь, б. Ново-саратовская колония, 242 Совладельцы: Кержаковы. Контора: Николаевская, 56
|
Метки: предпринимательство |
Графиня Стенбок-Фермор Маргарита Алексеевна |
Графиня Стенбок-Фермор Маргарита Алексеевна
1
1
Категория:
Графиня Стенбок-Фермор Маргарита Алексеевна
Имя
Княгиня Енгалычева Маргарита Алексеевна, домашнее имя – Дэйзи, Daisy
Девичья фамилия
Графиня Стенбок-Фермор

Дата рождения
19 августа 1870 г.
Место рождения
Царское Село
Вероисповедание
Православная
Отец
Граф Алексей Александрович Стенбок-Фермор (Санкт-Петербург, 3.09.1835 – Петроград, 4.10.1916, по др. данным Уши (Ouchy), Лозанна, Швейцария, 17.10.1916), русский генерал-лейтенант, затем – тайный советник (1887), шталмейстер императорского двора.

Мать
Графиня Маргарита Сергеевна Стенбок-Фермор, урожд. княжна Долгорукова (1839 – Санкт-Петербург, 25.02.1912), фрейлина. Благотворительница, состояла попечительницей Детского приюта в Царском Селе (1862-1905).

Братья / сестры
В семье был один сын и две дочери:
- Графиня Надежда Алексеевна (Санкт-Петербург, 1.04.1864 – Лозанна, 15.06.1947), фрейлина, с 1887 г. замужем за графом Петром Александровичем Капнистом (Обуховка, Миргородский уезд, Полтавская губ., 26.08[7.09].1839 – Вена. 19.11.1904), дипломатом, действительным тайным советником, камергером, сенатором; одна дочь;
- Графиня Маргарита Алексеевна (1870 – 1950), фрейлина;
- Граф Сергей Алексеевич (Санкт-Петербург, 11.01.1873 – Буенос-Айрес, Аргентина, 31.01.1947), ротмистр; женат первым браком на Изолине-Марии-Лоренце Морено (Isolina Maria Lorenza Moreno; Буенос-Айрес, 10.08.1879 – Лозанна, Швейцария, 29.01.1931), развод; вторым браком – на Анне Лабриола (Anna Labriola; Неаполь, 31.12.1883 – Рим, 4.08.1974), от второго брака – одна дочь.

Надежда Алексеевна с мужем и дочерью
Учебное заведение
?
Дата выпуска
?
Муж
Князь Павел Николаевич Енгалычев (Бедичево (?), 25.03.1864 – Пюлли, Лозанна, 12 или 13.08.1944), генерал-лейтенант, Варшавский генерал-губернатор (1914-1917), командир лейб-гвардии Гусарского полка (1902-1905).

После окончания Гражданской войны проживал в эмиграции. Поддерживал антибольшевистские формирования в годы Второй мировой войны. Погиб в 1944 г. (?)
Дата вступления в брак
Около 1899 г. (дата последнего упоминания в списках фрейлин в Адрес-календаре).
Дети
В семье была одна дочь:
- Княжна Маргарита Павловна (Берлин, 16.04.1901 – Рим, 16.12.1976), замужем за Джованни-Гракко Лерда-Ольбергом (Giovanni Grakko Lerda Olberg; Генуя, 6.02.1897 – Рим, 24.10.1962), видимо, сыном социалистических журналистов Джованни Лерда (Giovanni Lerda) и Оды Ольберг (Oda Olberg, 1872-1955). Муж – историк, почетный гражданин Рима, капитан резерва 1-го гренадерского полка, доктор юриспруденции, начальник отдела Министерства народного образования Италии.
Дата назначения фрейлиной
9 апреля 1889 г.
Награды
?
Дата смерти
20 сентября или 3 октября 1950 г.
Место смерти
Рим
Место захоронения
Рим, кладбище Тестаччо. Похоронена вместе с зятем, ее имя на могиле не указано (?). Адрес могилы: Campo Cestio, Rome, Italy, Plot: II, 8, 7; N 3083/8 или II, 8, 7, N 2621/26.
Обстоятельства смерти
?
Комментарии
?
Ссылки
http://rosgenea.ru/?a=6&r=4&s=%C5%ED%E3%E0%EB%FB%F7%E5%E2%E0
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=2648
http://forum.svrt.ru/index.php?showtopic=4169&st=100
https://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=63226032
https://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=63226270
https://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=63069770
https://de.wikipedia.org/wiki/Oda_Olberg
http://www.belrussia.ru/page-id-1038.html
http://www.rgfond.ru/rod/177453
http://www.history-ryazan.ru/node/10477
ttps://yerdnavokrats.livejournal.com/50653.html
|
Метки: стенбок-фермор |
Мария Стенбок-Фермор |
Мария Стенбок-Фермор
Исторические отчеты и семейные деревья об Мария Стенбок-Фермор.
Отчеты могут включать фотографии, оригиналы документов, семейную историю, родственников, конкретные даты, местности и полные имена (в том числе девичьи фамилии).
Мария Александровна Стенбок-Фермор (Апраксинa), 1854 - 1916 Мария Александровна Стенбок-Фермор (Апраксинa) 18541916
Мария Александровна Стенбок-Фермор (Апраксинa) родилась день месяц 1854, в место рождения, у Александр Александрович Апраксин и Софья Васильевна Апраксина (Ладомирская).
Александр родился 10 Август 1820.
Софья родилась 26 Январь 1831.
У Мария было 3 брата или сестры / братьев или сестер: Александра Александровна Щербатова (графиня Апраксина) и еще 2 братьев или сестер.
По роду деятельности она была занятие.
Мария умерла день месяц 1916, в возрасте 62 года / лет в место смерти.
Мария Александровна Волконский (Стенбок-Фермор), 1839 - 1905 Мария Александровна Волконский (Стенбок-Фермор) 18391905
Мария Александровна Волконский (Стенбок-Фермор) родилась день месяц 1839, в место рождения, у Александр Иванович Стенбок-Фермор и Надежда Алексеевна Стенбок-Фермор (Яковлева).
Александр родился 14 Сентябрь 1809, в Hapsal, Estonia.
Надежда родилась 5 Январь 1815, в Санкт-Петербург.
У Мария было 7 брата или сестры / братьев или сестер: Надежда Александровна Барятинский (Стенбок-Фермор), Алексей Александрович Стенбок-Фермор и еще 5 братьев или сестер.
Мария вышла замуж за Виктор Васильевич Волконский в возрасте 18 года / лет.
Виктор родился 6 Ноябрь 1823.
У них было 4 ребенка / детей: Михаил Викторович Волконский и еще 3 ребенка / детей.
Мария вышла замуж за Adam Edgar Rudolf Стенбок в возрасте 50 года / лет.
Adam родился 6 Ноябрь 1851, в Zwilling.
Мария умерла день месяц 1905, в возрасте 65 года / лет в место смерти.
Мария Сергеевна Стенбок-Фермор (Сомова), 1870 - 1938 Мария Сергеевна Стенбок-Фермор (Сомова) 18701938
Мария Сергеевна Стенбок-Фермор (Сомова) родилась день месяц 1870, у Сергей Николаевич Сомов и Ольга Александровна Сомова (Тургенева).
Ольга родилась 28 Январь 1836.
У Мария было 6 брата или сестры / братьев или сестер: Александр Сергеевич Сомов, Ольга Сергеевна Сомова и еще 4 братьев или сестер.
Мария вышла замуж за Николай Васильевич Стенбок-Фермор.
По роду деятельности он был Один из руководителей проектов в области водного сообщения и строительства..
У них было 3 ребенка / детей: Андрей Стенбок-Фермор и еще 2 ребенка / детей.
Мария умерла от причина смерти день месяц 1938, в возрасте 68 года / лет в место смерти.
Мария Николаевна Кузнецов (Стенбок-Фермор), 1895 - 1970 Мария Николаевна Кузнецов (Стенбок-Фермор) 18951970
Мария Николаевна Кузнецов (Стенбок-Фермор) родилась день месяц 1895, в место рождения, у Николай Васильевич Стенбок-Фермор и Мария Сергеевна Стенбок-Фермор (Сомова).
Николай родился 13 Февраль 1869.
Мария родилась 24 Июль 1870, в Санкт-Петербург.
У Мария было 2 брата или сестры / братьев или сестер: Ольга Николаевна Богенгардт (Стенбок-Фермор) и еще один брат или сестра.
Мария вышла замуж за Николай Дмитриевич Кузнецов в 1920, в возрасте 24 года / лет в место бракосочетания.
Николай родился 21 Апрель 1888, в Санкт-Петербург.
Мария умерла день месяц 1970, в возрасте 74 года / лет в место смерти.
Мария Стенбок-Фермор (Кропоткина), 1879 - 1958 Мария Стенбок-Фермор (Кропоткина) 18791958
Мария Стенбок-Фермор (Кропоткина) родилась день месяц 1879, у Dimitri Nilkolajevich Кропоткин и Ольга Кропоткин (Борх).
Dimitri родился 10 Февраль 1836, в Urusovo, Chaplyginskiy rayon, Lipetskaya oblast', Russia.
Ольга родилась 11 Июль 1847.
У Мария было 2 брата или сестры / братьев или сестер: Александра Сарина (Кропоткина) и еще один брат или сестра.
Мария умерла день месяц 1958, в возрасте 78 года / лет.
Мария Александровна Волконская (Стенбок-Фермор), 1864 - 1905 Мария Александровна Волконская (Стенбок-Фермор) 18641905
Мария Александровна Волконская (Стенбок-Фермор) родилась день месяц 1864.
Мария вышла замуж за Пётр Алексеевич Капнист в После 1884, в возрасте 19 года / лет.
Пётр родился 27 Август 1839.
По роду деятельности он был Sénateur; ambassadeur de Russie à Vienne, etc.
У них была одна дочь: Маргарита Петровна Капнист.
Мария умерла в 1905, в возрасте 40 года / лет.
Мария Илиодоровна Стенбок-Фермор (Шидловская), 1863 - 1945 Мария Илиодоровна Стенбок-Фермор (Шидловская) 18631945
Мария Илиодоровна Стенбок-Фермор (Шидловская) родилась день месяц 1863, в место рождения, у Илиодор Иванович Шидловский и Мария Николаевна Шидловский (Абаза).
Илиодор родился 10 Июль 1827, в л. Успенская Бирюченского у. Воронежской губ..
Мария родилась 25 Сентябрь 1838, в им. Знаменовка Бахмутского у. Екатеринославской губ..
У Мария было 3 брата или сестры / братьев или сестер: Сергей Илиодорович Шидловский и еще 2 братьев или сестер.
Мария вышла замуж за Иван Васильевич Стенбок-Фермор день месяц 1882, в возрасте 18 года / лет в место бракосочетания.
Иван родился 11 Июнь 1859, в Санкт-Петербург.
У них был один сын: Иван Иванович Стенбок-Фермор.
Мария умерла день месяц 1945, в возрасте 82 года / лет в место смерти.
Мария Александровна Стенбок-Фермор (Апраксина), Примерно в 1850 - 1916 Мария Александровна Стенбок-Фермор (Апраксина) 18501916
Мария Александровна Стенбок-Фермор (Апраксина) родилась приблизительно в 1850 г., в место рождения.
Мария вышла замуж за Владимир Александрович Стенбок-Фермор.
Владимир родился 28 Июль 1847, в Hapsal, Estonia.
У них был один сын: Александр Владимирович Стенбок-Фермор.
Мария умерла день месяц 1916, в возрасте 66 года / лет в место смерти.
Мария Илиодоровна Стенбок-Фермор (Шидловская), 1862 - 1945 Мария Илиодоровна Стенбок-Фермор (Шидловская) 18621945
Мария Илиодоровна Стенбок-Фермор (Шидловская) родилась день месяц 1862.
Мария вышла замуж за Иван Стенбок-Фермор.
Иван родился 13 Январь 1859.
Мария умерла день месяц 1945, в возрасте 83 года / лет.
Мария Владимировна Стенбок-Фермор, рожден 1874 Мария Владимировна Стенбок-Фермор 1874
Мария Владимировна Стенбок-Фермор родилась в 1874, у Владимир Александрович Стенбок-Фермор и Евдокия Ивановна Стенбок-Фермор (Апраксина).
Владимир родился 28 Июль 1847, в Hapsal, Estonia.
Евдокия родилась 26 Май 1847, в Санкт-Петербург.
У Мария было 4 брата или сестры / братьев или сестер: Надежда Владимировна Безобразов (Стенбок-Фермор) и еще 3 братьев или сестер.
Мария умерла.
Мария Стенбок-Фермор Мария Стенбок-Фермор
Мария Стенбок-Фермор родилась у Николай Васильевич Стенбок-Фермор и Мария Сергеевна Стенбок-Фермор (Сомова).
Мария родилась 24 Июль 1870.
У Мария было 2 брата или сестры / братьев или сестер: Андрей Стенбок-Фермор и еще один брат или сестра.
Мария умерла.
11 из 26 людей Просмотреть всех
Ищите личную информацию совершенно по-новому
Создайте бесплатное семейное дерево для себя или для Мария Стенбок-Фермор, и мы найдем новую ценную информацию для Вас.
Мария Стенбок-Фермор 1879 1958
Мария Дмитриевна Стенбок-Фермор (Кропоткина), 1879 - 1958
Мария, Дмитриевна Стенбок-Фермор родилась день месяц 1879, в место рождения, у Dimitri Nilkolajevich, Дмитрий Николаевич Prince Kropotkin, кн. Кропоткин и Olga, Ольга Александровна Psse. Kropotkin, кн. Кропоткина.
У Мария было 2 брата или сестры / братьев или сестер: Александра Дмитриевна Александра Дмитриевна Зарина кн. Кропоткина и еще один брат или сестра.
Мария вышла замуж за Wilhelm Constantin Stenbock-Fermor день месяц 1900, в возрасте 21 года / лет в место бракосочетания.
У них было 4 ребенка / детей: Alexandre Stenbock-Fermor и еще 3 ребенка / детей.
Мария умерла день месяц 1958, в возрасте 78 года / лет.
Marie Капнист 1839 1905
Мария Александровна Капнист (Стенбок-Фермор), 1839 - 1905
Marie, Александровна, Мария, Александровна Капнист родилась день месяц 1839, в место рождения, у Alexander Magnus, Александр, Иванович, Alexander Magnus Stenbock-Fermor, Стенбок-Фермор, Graf Stenbock-Fermor и Надежда, Алексеевна, Надежда, Алексеевна Стенбок-Фермор, Стенбок-Фермор.
У Marie было 7 брата или сестры / братьев или сестер: Алексей Александрович Стенбок-Фермор, Анастасия Александровна кн. Гагарина и еще 5 братьев или сестер.
Marie вышла замуж за Victor, Vassiliévitch, Виктор, Васильевич Volkonsky, Волконский в возрасте 50 года / лет.
У них было 4 ребенка / детей: Михаил Викторович Волконский и еще 3 ребенка / детей.
Marie вышла замуж за Adam Edgar Rudolf Emil Theophile Stenbock в возрасте 50 года / лет.
Marie вышла замуж за Петр, Алексеевич Капнист в возрасте 50 года / лет.
Marie умерла день месяц 1905, в возрасте 65 года / лет в место смерти.
Мария Стенбок-Фермор 1879 1958
Мария Стенбок-Фермор (Кропоткина), 1879 - 1958
Мария Стенбок-Фермор родилась день месяц 1879, у Дмитрий Кропоткин и Ольга Кропоткин.
У Мария было 2 брата или сестры / братьев или сестер: Александра Сарина и еще один брат или сестра.
Мария умерла день месяц 1958, в возрасте 78 года / лет.
Maria
Мария Владимировна (Стенбок-Фермор)
Maria, Vladimirovna, Мария, Владимировна родилась у Vladimir, Alexandrovich, Владимир, Александрович Stenbock-Fermor, Стенбок-Фермор и Evdokya, Ivanovna, Евдокия, Ивановна Apraksina.
У Maria было 3 сестер: Nadejda Vladimirovna Надежда Владимировна Безобразова и еще 2 братьев или сестер.
|
Метки: стенбок-фермор |
Княжна Долгорукова Софья Александровна |
Княжна Долгорукова Софья Александровна
Имя
Графиня Ферзен Софья Александровна

Девичья фамилия
Княжна Долгорукова (Долгорукая)

Дата рождения
6 [18] июля 1870 г.
Место рождения
Царское Село
Вероисповедание
Православная
Отец
Князь Александр Сергеевич Долгоруков (Долгорукий; село Вишенки, Черниговская губ., 29.10[10.11].1841 – Санкт-Петербург, 7[20].06.1912), обер-гофмаршал (1899), член Государственного совета (1905), обер-церемонийместер на коронации Александра III (1883) и верховный церемониймейстер на коронации Николая II и Александры Фёдоровны.

Мать
Княгиня Ольга Петровна Долгорукова, урожд. графиня Шувалова (Санкт-Петербург, 4[17].08.1848 – Версаль, 21.09.1927) – см. 0023-DOP.

Брак с 1868 г.
Братья / сестры
В семье было два сына и пять дочерей:
- Княжна Мария Александровна (Санкт-Петербург, 1.03.1869 – Рим, 12.07.1949), с 1889 г. жена князя Юрия (Георгия) Ивановича Трубецкого (Лондон, 15.10 или 5.11.1866 – Версаль, 14[27].12.1926), командир Собственного Его Величества Конвоя (1907-1913), две дочери;
- Княжна Софья Александровна (Царское Село, 6[18].07.1870 – Рим, 17[30].11.1957), фрейлина;
- Князь Сергей Александрович (15.05.1872 – Париж, 11.11.1933), генерал-майор Свиты Е.И.В. (1915); женат на Ирине Васильевне Нарышкиной (Лозанна, 17.05.1879 – Мисхор, Крым, 26.05.1917), которая в первом браке, закончившемся разводом в 1913 г., была супругой Иллариона Илларионовича Воронцова-Дашкова, одна дочь;
- Княжна Ольга Александровна (Санкт-Петербург, 28.11.1873 – Иннсбрук, 3.01.1946), фрейлина, в 1892 г. в Баден-Бадене стала женой австрийского князя Гуго фон Дитрихштейна (Hugo Alfons von Dietrichstein zu Nikolsburg; Прага, 19.02 или 29.12.1858 – St. Joachimsthal, близ Карловых Вар, 10 или 20.08.1920), два сына и четыре дочери;
- Князь Пётр Александрович (Санкт-Петербург, 10[23].06.1883 – Нейи-сюр-Сен, 4.11.1925), титулярный советник в должности церемониймейстера Высочайшего двора, в 1903-1911 гг. женат на графине Софье Алексеевне Бобринской (Санкт-Петербург, 25.12.1887 – Париж, 8.12.1949), одной из первых российских автомобилисток и пилотов, одна дочь (?); с 1912 г. женат вторым браком на Анне Леонтьевне Михайловой (Санкт-Петербург, 24.06.1888 – Ланьи (Lagny), 7.11.1968), четыре сына и одна дочь;
- Княжна Маргарита Александровна (10.06.1883 – 13.03.1884);
- Княжна Варвара Александровна (Санкт-Петербург, 7.12.1885 – Рим, 8.04.1980), фрейлина, с 1908 г. замужем за Николаем Васильевичем Кочубеем (Санкт-Петербург, 11.01.1885 – 1947), офицером лейб-гвардии Конного полка, один сын, развод – см. 0417-DVA.

Сергей Александрович

Ольга Александровна

Варвара Александровна
Учебное заведение
?
Дата выпуска
?
Муж
Граф Николай Павлович Ферзен (Санкт-Петербург, по др. данным Олуствере, сейчас – Эстония, 7 или 14.06.1858 – Рим, 21.10[3.11].1921), адъютант великого князя Николая Николаевича-старшего (1889 – 1891), Главнокомандующего войсками Гвардии и Петербургского военного округа (1891 – 1905), и адъютант великого князя Владимира Александровича (1905 – 1908). С 1908 г. состоял при великом князе Владимире Александровиче Владимира Александровича. Генерал-майор Свиты (1909).

Дата вступления в брак
Брак с 4[16] июля 1893 г. (в списках фрейлин в Адрес-календаре последний раз упоминается в 1894 г.).
Дети
В семье было два сына и две дочери:
- Граф Павел Николаевич (Царское Село, 4.07.1894 – Рим, 10[23].11.1943), штабс-ротмистр Кавалергардского полка. В эмиграции в Италии, активный участник Русского кружка в Риме; женат на баронессе Марии Алексеевне Стааль-фон-Гольштейн (Санкт-Петербург, 23.04.1893 – 28.09[11.10].1941);
- Граф Александр Николаевич (Санкт-Петербург, 4[17].12.1895 – Мьяццина (Miazzina, Novara), по др. данным – Рим, 16[29].10.1934), штабс-ротмистр лейб-гвардии Уланского Его Величества полка. Участник Белого движения в составе Добровольческой и Северо-Западной армий, в 1918-1919 гг. состоял в охране императорской фамилии в Крыму. В эмиграции в Англии, затем во Франции; женат на княгине Александре Павловне Вяземской, урожд. графине Шуваловой (Санкт-Петербург, 7.10.1895 – Больцано, 6.02.1968), двое детей, кроме того, у жены один сын и одна дочь от первого брака;
- Графиня Елизавета Николаевна (Санкт-Петербург, 22.11[4.12].1899 – Рим, 30.11[13.12].1938), в эмиграции в Риме, активная участница Русского кружка;
- Графиня Ольга Николаевна (Царское Село, 16[29].09.1904 – 20.08.1998), в эмиграции в Риме, участница Русского кружка, проживала в Риме по адресу Via Aurelio Saffi, 24.

Александр Николаевич
Дата назначения фрейлиной
21 апреля 1891 г.
Награды
?
Дата смерти
17 [30] ноября 1957 г.
Место смерти
Рим
Место захоронения
Кладбище Тестаччо, Рим. Похоронена вместе с мужем, детьми и сестрой. Номер могилы 481.

Обстоятельства смерти
?
Комментарии
В Риме содержала пансион для русских эмигрантов.
«В моей памяти она осталась очень энергичной, жизнерадостной и никогда не унывающей женщиной. Я сама какое-то время жила в ее пансионе. Он находился в старом, слегка запущенном здании «со следами былой красоты», но там было уютно, а плата за жилье – чисто символическая. Многие беженцы из России долгие годы находили там стол и кров».
Баронесса Александра фон Арним, внучатая племянница Софии Александровны
Ссылки
http://www.russinitalia.it/dettaglio.php?id=587
http://www.russinitalia.it/dettaglio.php?id=581&lang=it
http://www.russinitalia.it/dettaglio.php?id=18
http://tei.oucs.ox.ac.uk/pc/S2291.html
http://www.cemeteryrome.it/ (поиск по Fersen)
http://regiment.ru/bio/F/20.htm
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=4079
http://www.russinitalia.it/dettaglio.php?id=363&lang=ru
http://moscowgrand.ru/war/pervaya-mirovaya-vojna/2...kiy-sergey-aleksandrovich.html
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000119/st564.shtml
http://gordonua.com/publications/baronessa-fon-arnim-112559.html
http://www.rgfond.ru/rod/191012
http://kotchoubey.com/select-biographies/a-revolut...kolai-vassilievitch-1885-1947/
|
Метки: долгоруковы |
Мария Дмитриевна Стенбок-Фермор |
Мария Дмитриевна Стенбок-Фермор


Мария Дмитриевна Стенбок-Фермор (Кропоткина) |
|
| Дата рождения: | 10 июля 1879 |
| Место рождения: | gouv. Smolensk |
| Смерть: | 24 февраля 1958 (78) |
| Ближайшие родственники: |
Дочь Дмитрия Николаевича кн. Кропоткина и Ольги Александровны кн. Кропоткиной |
|---|---|
| Менеджер: | Кропоткин |
| Последнее обновление: | 29 октября 2017 |
Ближайшие родственники
-
-
Comte Wilhelm* Constantin Stenbo...
husband
-
Comte Alexandre Stenbock-Fermor
son
-
son
-
Comte Frederic Magnus Wilhelm St...
son
-
Comtesse Olga Elisabeth Marie St...
daughter
-
mother
-
father
-
sister
-
brother
-
Хронология Марии Дмитриевны Стенбок-Фермор
| 1879 |
10 июля 1879 |
gouv. Smolensk |
|
| 1902 |
17 января 1902 Возраст 22 |
Birth of Comte Alexandre Stenbock-Fermor Nitau |
|
| 1904 |
21 августа 1904 Возраст 25 |
Birth of Comte Nils Stenbock-Fermor Nitau |
|
| 1908 |
16 июня 1908 Возраст 28 |
Birth of Comte Frederic Magnus Wilhelm Stenbock-Fermor Dubbeln |
|
| 1911 |
1911 Возраст 31 |
||
| 1958 |
24 февраля 1958 Возраст 78 |
Genealogy Directory:
|
Метки: кропоткины стенбок-фермор |
Княжна Кропоткина Александра Дмитриевна |
Княжна Кропоткина Александра Дмитриевна
Имя
Зарина (Сарина?) Александра Дмитриевна
Девичья фамилия
Княжна Кропоткина

Дата рождения
1 ноября 1869 г.
Место рождения
Возможно, Гродно или Зегеволд (Сигулда)?
Вероисповедание
Видимо, православная
Отец
Князь Дмитрий Николаевич Кропоткин (29.01[10.02].1836 – Харьков, 15[27].02.1879), русский государственный деятель, генерал-майор (1868), губернатор Гродненской (1868-1870) и Харьковской (1870-1879) губерний. Убит в Харькове террористом-народовольцем Григорием Гольденбергом.

Мать
Княгиня Ольга Александровна Кропоткина, урожд. графиня Борх (28.06.1847 – Москва, 17.03.1898).
Брак с 1868 г.
Братья / сестры
В семье был один сын и две дочери:
- Княжна Александра Дмитриевна (1.11.1869 – Гжатск, Смоленская губ., 11[24].04.1914), фрейлина;
- Князь Николай Дмитриевич (Харьков, 6.06.1872 – Берлин, 11.10.1937), вице-губернатор Курляндии (1907-1912) и Лифляндии (1912-1915), церемониймейстер (1910), действительный статский советник (1913); с 1893 г. женат первым браком на фрейлине Марии Оттоновне Рихтер (Грац, 26.06.1871 – Прильвиц (Prillwitz), Германия, 7.02.1945), дочери генерала-от-инфантерии О.Б. Рихтера, два сына и три дочери; с 1920 г. женат вторым браком на графине Марии Цецилии Холоневской (Maria Cecylia Chołoniewska; Янов (Janów), Польша(?), 8.09.1893 – Париж, 8.01.1950), развод (?);
- Княжна Мария Дмитриевна (Смоленская губ., 10.07.1879 – 24.02.1958), фрейлина, с 1900 г. замужем за графом Вильгельмом Константином Стенбок-Фермором (13.12.1863 – 1937), три сына и одна дочь – см. 0313-KMD.

Николай Дмитриевич

Мария Дмитриевна
Учебное заведение
?
Дата выпуска
?
Муж
Сергей Федорович Зарин (Сарин?)
Дата вступления в брак
Около 1912 г. (дата последнего упоминания в Адрес-календаре).
Дети
?
Дата назначения фрейлиной
9 апреля 1889 г.
Награды
?
Дата смерти
11[24] апреля 1914 г.
Место смерти
Гжатск, Смоленская губ.
Место захоронения
Похоронена на семейном кладбище князей Кропоткиных в Сигулде (Латвия).
Обстоятельства смерти
?
Комментарии
?
Ссылки
http://www.angelfire.com/realm/gotha/gotha/kropotkin.html
http://www.spb.kp.ru/daily/25690/894265/
https://pogost-tegel.info/index.php?id=1251
http://genealogia.grocholski.pl/gd/osoba.php?id=003064
http://www.sejm-wielki.pl/b/3.124.195
http://rus.tvnet.lv/showbiz/kultura/259256-knjazja...zvraschajutsja_v_siguldu
http://www.rgfond.ru/rod/10477?curr_depth_up=1
http://zegewold.livejournal.com
|
Метки: кропоткины стенбок-фермор |
Фрейлины в 1909 г. |
Фрейлины в 1909 г.
Их Императорских Величеств Государынь Императриц
Статс-Дамы:
Графиня Екатерина Николаевна Адлерберг
Баронесса Мария Петровна Будберг
Елизавета Алексеевна Нарышкина
Светлейшая княгиня Мария Михайловна Голицына
Графиня Елизавета Андреевна Воронцова-Дашкова
Графиня Елена Карловна Пален
Александра Сергеевна Альбединская
Баронесса Елизавета Константиновна Фон-Рихтер[1]
Княгиня Елена Николаевна Багратион-Мухранская
Баронесса Ядвига Алоизовна Фредерикс
Графиня Любовь Александровна Мусина-Пушкина
Гофмейстрины:
При Ея Велич. Гос. Имп. Александре Федоровне
Обер-гофмейстрина Высочайшего Двора,
Светлейшая княгиня Мария Михайловна Голицына
Их Императорских Величеств Государынь Императриц:
Камер-Фрейлины:
Екатерина Петровна Ермолова
Графиня Мария Васильевна Голенищева-Кутузова
Графиня Аглаида Васильевна Голенищева-Кутузова
Екатерина Сергеевна Озерова
Фрейлины:
Елизавета Александровна Лавинская
Графиня Елена Степановна Апраксина
Мария Александровна Тришатная
Баронесса Маргарита Павловна Криднер
Княжна Александра Сергеевна Гагарина
Княжна Прасковья Дмитриевна Хилкова
Жеоржина Владиславовна Клюпфель
Амалия Карловна Стааль
Татьяна Михайловна Лазарева
Светлейшая княжна Екатерина Григорьевна Грузинская
Княжна Татьяна Сергеевна Гагарина
Светлейшая княжна Александра Ильинична Грузинская
Александра Алексеевна Философова
Княжна Надежда Алексеевна Трубецкая
София Сергеевна Озерова
Екатерина Петровна Брок
Баронесса Екатерина Эдуардовна Шульц
Александра Александровна Кавелина
Баронесса Ольга Платоновна Рокасовская
Елизавета Николаевна Огарева
Екатерина Александровна Кавелина
Княжна Елена Александровна Ливен
Графиня Мария Павловна Толстая
Елизавета Александровна Веригина
Светлейшая княжна Ольга Ильинична Грузинская
Княжна Мария Александровна Чернышева
Юстина Дмитриевна Глинка
Мария Николаевна Ремер
Мариамна Владимировна Назимова
Евгения Евгеньевна Ган[2]
Графиня Наталья Маврикиевна Потоцкая
Графиня Вера Борисовна Перовская
Графиня Мария Петровна Зотова
Мария Федоровна Головина
Княжна Мария Алексеевна Шаховская
Прасковья Николаевна Милютина
Людовика Александровна Островская
Ольга Дмитриевна Замятнина
Княжна Екатерина Дмитриевна Долгорукова
Княжна Екатерина Алексеевна Салтыкова-Головкина
Юлия Викторовна Бутовская
Анна Алексеевна Шереметева
Мария Александровна Васильчикова
Княжна София Владимировна Оболенская
Графиня Мария Евфимиевна Путятина
Нина Ивановна Оклобжио
Графиня Мария Константиновна Пален
Княжна Александра Николаевна Голицына
Княжна Мария Сергеевна Щербатова
Графиня Мария Михайловна Лорис-Меликова
Баронесса Евгения Николаевна Криденер
Елена Павловна Кавелина
Баронесса Елизавета Дмитриевна Шеппинг
Графиня Прасковья Алексеевна Уварова
Вера Борисовна Глинка-Маврина
Графиня Елизавета Александровна Мусина-Пушкина
Графиня Мария Александровна Бреверн-де-Лагарди
Графиня Екатерина Александровна Бреверн-де-Лагарди
Мария Николаевна Ермолова
Баронесса Евгения Эдуардовна Ав-Форселес
Княжна Мария Михайловна Волконская
Евдокия Федоровна Джунковская
Графиня Мария Владимировна Мусина-Пушкина
Ольга Петровна Альбединская
Мария Викторовна Барятинская[3]
Варвара Николаевна Казнакова
Мария Михайловна Петрово-Соловово
Елизавета Николаевна Демидова
Княжна Вера Викторовна Голицына
Графиня Мария Николаевна Игнатьева
Графиня Екатерина Алексеевна Уварова
Екатерина Петровна Васильчикова
Екатерина Дмитриевна Жирова
Иулиания Николаевна Ефремова
Княжна Мария Михайловна Сумбатова
Княжна Нина Ильинична Челокаева
Княжна Александра Дмитриевна Кропоткина
Графиня Екатерина Николаевна Игнатьева
Княжна Мария Викторовна Гагарина
Вера Николаевна Гирс
Вера Михайловна Анненкова
Баронесса Эмма Владимировна Фредерикс
Княжна Анна Борисовна Щербатова
Татьяна Петровна Мятлева
Вера Николаевна Демидова
Екатерина Александровна Тучкова
Евгения Николаевна Чихачева
Агафоклия Николаевна Шишкина
Варвара Валериановна Бельгард
Баронесса Магдалина Николаевна Шиллинг
София Александровна Стахович
Луиза Михайловна Карницкая
Мария Михайловна Анненкова
Княжна Александра Алексеевна Кропоткина
Татьяна Владимировна Истомина
София Дмитриевна Самарина
Княжна Елена Левановна Гуриели
Баронесса Мария Ивановна Велио
Екатерина Александровна Зурова
Вера Васильевна Неклюдова
Прасковья Александровна Казем-Бек
Мария Александровна Гурко
София Ивановна Тютчева
Княжна София Викторовна Гагарина
Княжна Надежда Михайловна Голицына
Баронесса Мария Николаевна Притвиц
Княжна Мария Владимировна Яшвиль
Александра Михайловна Гудим-Левкович
Мария Андреевна Сабурова
Клеопатра Ивановна Шевич
Эмилия Севастьяновна Фон-Эттер
Юлия Николаевна Адельсон
Мария Сергеевна Толстая
Елизавета Александровна Тучкова
Княжна Мария Владимировна Дондукова-Корсакова
Мария Сергеевна Сперанская
Княжна Мария Борисовна Щербатова
Анфиса Ильинична Зеленая
Елизавета Александровна Лесли
Графиня Татьяна Арсеньевна Голенищева-Кутузова
Татьяна Алексеевна Горяинова
Баронесса Елизавета Львовна Фредерикс
Мария Владимировна Ершова
Графиня Елена Федоровна Соллогуб
Баронесса Елизавета Александровна Корф
Мария Николаевна Брянчанинова
Графиня Елизавета Михайловна Нирод
Княжна Ирина Леонтьевна Урусова
Баронесса Мария Павловна Корф
Княжна Нина Александровна Багратион-Мухранская
Мария Александровна Пантелеева
Екатерина Михайловна Свербеева
Марфа Сергеевна Бутурлина
Вера Дмитриевна Шевич
Княжна Лидия Яковлевна Шаховская
Княжна Надежда Эмануиловна Голицына
Княжна Анастасия Григорьевна Гагарина
София Михайловна Раевская
Светлейшая княжна Анастасия Николаевна Грузинская
Евгения Евгеньевна Арапова
Княжна Елизавета Владимировна Барятинская
Баронесса Дарья Владимировна Фредерикс
Зоя Николаевна Родзянко
Екатерина Эммануиловна Сиверс
Баронесса София Карловна Буксгевден
Ольга Владимировна фон-дер-Остен-Сакен
Баронесса Тамара Александровна Каульбарс
Графиня Евгения Георгиевна Менгден
Княжна Александра Алексеевна Щербатова
Графиня София Андреевна Бобринская[4]
Надежда Александровна Зурова
Александра Всеволодовна Остроградская
Мария Николаевна Брок
Баронесса Мария Михайловна Медем
Княжна София Александровна Шаховская
София Александровна Бильдерлинг
Графиня Александра Дмитриевна Толстая
Мария Алексеевна Абразанцева-Нечаева
Эмилия Александровна Эллис
Екатерина Ивановна Тютчева
Княжна Ольга Яковлевна Шаховская
Княжна Татьяна Александровна Голицына
Нина Владимировна Истомина
Княжна Александра Петровна Кропоткина
Наталья Алексеевна Ермолова
Баронесса София Максимилиановна фон-дер-Остен-Сакен
Графиня Елизавета Федоровна Медем
Баронесса Магдалина Павловна Корф
Ольга Ивановна Волькенау
Графиня Зинаида Георгиевна Менгден
Баронесса Мария Феофиловна Мейендорф
Графиня Наталья Андреевна Бенкендорф
Графиня Ольга Александровна Нирод
Софья Николаевна Балашева
Анна Михайловна Миркович
Надежда Дмитриевна Арсеньева
Софья Федоровна Вонлярская
Княжна Ольга Владимировна Урусова
Лидия Николаевна Розенбах
Елизавета Николаевна Иванова-Луцевина
Лидия Владимировна Никитина
Наталья Алексеевна Горяинова
Мария Яковлевна Жилинская
Мария Николаевна Ильина
Вера Ивановна Волькенау
Мария Ричардовна Фон-Мевес
Мария Сергеевна Горяинова
Княжна Роза Георгиевна Радзивилл
Надежда Петровна Дурново
Екатерина Николаевна Чихачова
Мария Владимировна Сипягина
Екатерина Валериановна Жадовская
Наталья Ивановна Звегинцова
Наталья Александровна Адлерберг
Княжна Мария Николаевна Щербатова
Анна Георгиевна Скалон
Баронесса Наталья Евгеньевна Рауш-фон-Траубенберг
Ирина Александровна Мосолова
Графиня Елена Васильевна Адлерберг
Татьяна Васильевна Олсуфьева
Княжна Екатерина Михайловна Сумбатова
Княжна Елена Георгиевна Кантакузина
Ирина Федоровна Дубасова
Мария Владимировна фон-дер-Лауниц
Елена Владимировна Хлебникова
Баронесса Мария Федоровна Пилар-фон-Пильхау
Екатерина Сергеевна Хвостова
Екатерина Сергеевна Бехтеева
Княжна Татьяна Александровна Гагарина
Светлейшая княжна Екатерина Дмитриевна Голицына
Графиня Анастасия Васильевна Гендрикова
Графиня Вера Федоровна Соллогуб
Княжна София Михайловна Трубецкая
Наталья Николаевна Хвостова
Мария Сергеевна Де-Карриер
Графиня Клеопатра Константиновна Клейнмихель
Елена Ричардовна Фон-Мевес
Княжна Антонина Александровна Урусова
Нина Николаевна Леневич
Александра Александровна Лесли
Графиня Мария Сергеевна Толстая
Наталья Петровна Столыпина
Графиня София Александровна Голенищева-Кутузова
Состоящие при Их Имп. Величествах:
При Ея Величестве Государыне Императрице Марии Федоровне:
Камер-Фрейлины:
Графиня Мария Васильевна Голенищева-Кутузова
Графиня Аглаида Васильевна Голенищева-Кутузова
Екатерина Сергеевна Озерова
Фрейлина:
Графиня Ольга Федоровна Гейден
При Ея Величестве Государыне Императрице Александре Федоровне:
Фрейлины:
Княжна Елизавета Николаевна Оболенская
Княжна София Ивановна Джамбакуриан-Орбелиани
Ольга Евгеньевна Бюцова
[1] Ранее указывалась как Рихтер и без титула
[2] Указана без титула. Возможно, баронесса
[3] Указана без титула
[4] В 1908 г. не упоминается
Метки: фрейлиныhttps://yerdnavokrats.livejournal.com/5052.html
|
Метки: фрейлины |
Калужское купечество |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
Метки: купечество калуга |
Субкультура на закате Российской Империи |
Дорогие друзья, здравствуйте! В прошлый раз мы говорили об отношении к гомосексуальности в России в годы «Золотого века» русской культуры. Как мы видели, «нетрадиционные» отношения были более чем традиционны в среде известных всем со школьных лет классиков и государственных деятелей. Более того, однополая любовь часто становилась источником вдохновения для выдающихся произведений искусства и литературы.
Давайте же продолжим наш небольшой экскурс в историю гомосексуальности в России и поговорим о том, каким было отношение к геям в эпоху, сменившую «Золотой век», и кто из великих того времени черпал свое вдохновение в однополой нежности.
Как сообщает И.С. Кон, латентный гомоэротизм был свойственен многим великим россиянам. Так, 20-летний Н.Г. Чернышевский писал в дневнике: «… Я знаю, что я легко увлекаюсь и к мужчинам, а ведь к девушкам или вообще к женщинам мне не случалось никогда увлекаться (я говорю это в хорошем смысле, потому что если от физического настроения чувствую себя неспокойно, это не от лица, а от пола, и этого я стыжусь)…». Хотя стоит признать, что такая раздвоенность нежности и чувственности типична для многих юношей и необязательно связана с их будущей сексуальной ориентацией. (И.С.Кон. Лунный свет на заре. М. АСТ-Олимп, 2003).
 Лев Толстой в юности он вел чрезвычайно интенсивную сексуальную жизнь, в чем постоянно каялся. В «Анне Карениной» и «Воскресении» гомосексуальные отношения упоминаются с отвращением и брезгливостью, Толстой видит в них признак нравственного разложения общества. В то же время в своем дневнике (запись от 29 ноября 1851 г.) 23-летний Толстой рефлексирует по поводу своих гомоэротических переживаний:
Лев Толстой в юности он вел чрезвычайно интенсивную сексуальную жизнь, в чем постоянно каялся. В «Анне Карениной» и «Воскресении» гомосексуальные отношения упоминаются с отвращением и брезгливостью, Толстой видит в них признак нравственного разложения общества. В то же время в своем дневнике (запись от 29 ноября 1851 г.) 23-летний Толстой рефлексирует по поводу своих гомоэротических переживаний:
«Я никогда не был влюблен в женщин. Одно сильное чувство, похожее на любовь, я испытал только, когда мне было 13 или 14 лет; но мне не хочется верить, чтобы это была любовь; потому что предмет была толстая горничная (правда, очень хорошенькое личико), притом же от 13 до 15 лет — время самое безалаберное для мальчика (отрочество): не знаешь, на что кинуться, и сладострастие в эту пору действует с необыкновенною силою.
В мужчин я очень часто влюблялся... Для меня главный признак любви есть страх оскорбить или просто не понравиться любимому предмету, просто страх. Я влюблялся в мужчин, прежде чем имел понятие о возможности педрастии /sic/; но и узнавши, никогда мысль о возможности соития не входила мне в голову».
Перечисляя свои детские и юношеские влюбленности в мужчин, Толстой упоминает, в частности, «необъяснимую симпатию» к Готье: «Меня кидало в жар, когда он входил в комнату… Любовь моя к Иславину испортила для меня целые 8 месяцев жизни в Петербурге. — Хотя и бессознательно, я ни о чем другом не заботился, как о том, чтобы понравиться ему…
Часто, не находя тех моральных условий, которых рассудок требовал в любимом предмете, или после какой-нибудь с ним неприятности, я чувствовал к ним неприязнь; но неприязнь эта была основана на любви. К братьям я никогда не чувствовал такого рода любви. Я ревновал очень часто к женщинам».
«Красота всегда имела много влияния в выборе; впрочем пример Дьякова; но я никогда не забуду ночи, когда мы с ним ехали из П[ирогова?] и мне хотелось, увернувшись под полостью, его целовать и плакать. Было в этом чувстве и сладострастие, но зачем оно сюда попало, решить невозможно; потому что, как я говорил, никогда воображение не рисовало мне любрические картины, напротив, я имею к ним страстное отвращение».
Во второй редакции «Детства» Толстой рассказывает о своей влюбленности в Ивиных (братья Мусины-Пушкины) — он часто мечтал о них, каждом в отдельности, и плакал. Писатель подчеркивает, что это была не дружба, а именно любовь, о которой он никому не рассказывал. Очень близка к любви и страстная дружба Николеньки Иртеньева к Дмитрию Неклюдову. С возрастом такие влюбленности стали возникать реже.
Представители интеллигентской элиты догадывались, например, о бисексуальности ультра-консервативного славянофильского писателя и публициста К.Н. Леонтьева (1831 -1891), воспевавшего в своих литературных произведениях красоту мужского тела. Герой повести Леонтьева «Исповедь мужа» (1867) не только поощряет увлечение своей молодой жены, к которой он относится, как к дочери, 20-летним красавцем-греком, но становится посредником между ними. Кажется, что он любит этого юношу даже больше, чем жену. Когда молодая пара погибает, он кончает с собой. В 1882 г. Леонтьев признал это свое сочинение безнравственным, чувственным и языческим, но написанным «с искренним чувством глубоко развращенного сердца». (И.С.Кон. Лунный свет на заре. М. АСТ-Олимп, 2003).
 Влиятельный реакционный деятель конца XIX — начала XX в. издатель газеты «Гражданин» князь В.П. Мещерский (1839-1914), которого философ В.С. Соловьев называл «Содома князь и гражданин Гоморры», не только не скрывал своих наклонностей, но и открыто раздавал свои фаворитам высокие посты. Когда в 1887 г. его застали на месте преступления с мальчиком-барабанщиком одной из гвардейских частей, против него ополчился всемогущий Обер-прокурор Священного Синода К.Н. Победоносцев, но Александр III велел скандал замять. История повторилась в 1889 г. После смерти Александра III враги Мещерского принесли Николаю II переписку князя с его очередным любовником Бурдуковым; царь письма прочитал, но оставил без внимания.
Влиятельный реакционный деятель конца XIX — начала XX в. издатель газеты «Гражданин» князь В.П. Мещерский (1839-1914), которого философ В.С. Соловьев называл «Содома князь и гражданин Гоморры», не только не скрывал своих наклонностей, но и открыто раздавал свои фаворитам высокие посты. Когда в 1887 г. его застали на месте преступления с мальчиком-барабанщиком одной из гвардейских частей, против него ополчился всемогущий Обер-прокурор Священного Синода К.Н. Победоносцев, но Александр III велел скандал замять. История повторилась в 1889 г. После смерти Александра III враги Мещерского принесли Николаю II переписку князя с его очередным любовником Бурдуковым; царь письма прочитал, но оставил без внимания.
Открыто гомосексуальный и бисексуальный образ жизни вели и некоторые члены императорской фамилии. Так, гомосексуальные чувства были свойственны великому князю К.К. Романову (1858-1915), писавший стихи под псевдонимом К.Р. Несмотря на то, что он был женат и имел 9 детей, он всю жизнь пытался изжить в себе гомосексуальность: «Мой тайный порок совершенно овладел мною. Было время, и довольно продолжительное, что я почти победил его, от конца 1893-го до 1900-го. Но с тех пор, и в особенности с апреля текущего года (перед самым рождением нашего очаровательного Георгия), опять поскользнулся и покатился и до сих пор качусь, как по наклонной плоскости, все ниже и ниже. А между тем мне, стоящему во главе воспитания множества детей и юношей, должны быть известны правила нравственности.» (Константин Романов Дневники 1903-1905 гг.: Стрельна хроника, письмо от 28 декабря 1903 г.,С.-Петербург.).
Другой член императорской фамилии, убитый Каляевым в 1905 г. дядя Николая II великий князь Сергей Александрович Романов открыто покровительствовал красивым адъютантам и даже основал в столице закрытый клуб такого рода. Он также был женат, однако, как отмечал В.Н, Балязин, «их семейная жизнь не задалась, хотя Елизавета Фёдоровна тщательно скрывала это, не признаваясь даже своим дармштадтским родственникам. Причиной этого, в частности, было пристрастие Сергея Александровича к особам другого пола» (Балязин В. Н. Московские градоначальники. М., 1997. С. 399.) А.В. Богданович в своем дневнике писала подруге в Царском Селе: «Сергей Александрович живёт со своим адъютантом Мартыновым, что жене предлагал не раз выбрать себе мужа из окружающих её людей. Она видела газету иностранную, где было напечатано, что приехал в Париж le grand duc Serge avec sa maitresse m-r un tel. («великий князь Сергей со своей любовницей господином таким-то»). Вот, подумаешь, какие скандалы!» (Богданович А. В. Три последних самодержца. — М.: «Новости», 1990. С. 80. (перепечатка текста первого издания с исправлениями допущенных опечаток и незначительными искажениями — вследствие непонимания корректорами описываемых реалий).
 Член государственной Думы первого созыва В.П. Обнинский писал о нем: «Этот сухой, неприятный человек, уже тогда влиявший на молодого племянника, носил на лице резкие знаки снедавшего его порока, который сделал семейную жизнь жены его, Елисаветы Фёдоровны, невыносимой и привел её, через ряд увлечений, естественных в её положении, к монашеству». Любопытно, что автор в этой же книге рисует картину открытого отношения к гомосексуальности в тогдашнем российском обществе: «Позорному пороку предавались и многие известные люди Петербурга, актёры, писатели, музыканты, великие князья. Имена их были у всех на устах, многие афишировали свой образ жизни. <…> Курьёзно было и то, что пороком страдали не все полки гвардии. В то время, например, когда преображенцы предавались ему, вместе со своим командиром (вел. кн. К.К.Романовым), чуть ли не поголовно, лейб-гусары отличались естественностию в своих привязанностях». ([Обнинский В. П.] Послѣдній Самодержецъ. Очеркъ жизни и царствованія императора Россіи Николая II-го — Eberhard Frowein Verlag, Berlin, [1912] (год и автор не указаны; в книге нет никаких ссылок на источники сведений и суждений; из ряда примечаний внутри текста очевидна редакторская правка), с. 37.)
Член государственной Думы первого созыва В.П. Обнинский писал о нем: «Этот сухой, неприятный человек, уже тогда влиявший на молодого племянника, носил на лице резкие знаки снедавшего его порока, который сделал семейную жизнь жены его, Елисаветы Фёдоровны, невыносимой и привел её, через ряд увлечений, естественных в её положении, к монашеству». Любопытно, что автор в этой же книге рисует картину открытого отношения к гомосексуальности в тогдашнем российском обществе: «Позорному пороку предавались и многие известные люди Петербурга, актёры, писатели, музыканты, великие князья. Имена их были у всех на устах, многие афишировали свой образ жизни. <…> Курьёзно было и то, что пороком страдали не все полки гвардии. В то время, например, когда преображенцы предавались ему, вместе со своим командиром (вел. кн. К.К.Романовым), чуть ли не поголовно, лейб-гусары отличались естественностию в своих привязанностях». ([Обнинский В. П.] Послѣдній Самодержецъ. Очеркъ жизни и царствованія императора Россіи Николая II-го — Eberhard Frowein Verlag, Berlin, [1912] (год и автор не указаны; в книге нет никаких ссылок на источники сведений и суждений; из ряда примечаний внутри текста очевидна редакторская правка), с. 37.)
Когда его назначили Московским генерал-губернатором, в городе стали острить по этому поводу : «По городу циркулируют два новых анекдота: «Москва стояла до сих пор на семи холмах, а теперь должна стоять на одном бугре» (фр. bougr’e). Это говорят, намекая на великого князя Сергея». (Ламздорф В.Н. Дневник. 1891-1892. М.: Academia, 1934. С. 106.) (русское «бугор» созвучно французскому bougre — содомит).
Зафиксировавший этот анекдот в своих мемуарах министр иностранных дел граф В.Н. Ламздорф сам был гомосексуалом. А.С.Суворин, журналист и театральный критик, пренебрежительно писал о нем в своем дневнике: «Царь называет графа Ламздорфа «мадам», его возлюбленного Савицкого повышает в придворных чинах. Ламздорф хвастается тем, что он 30 лет (!) провел в коридорах Министерства иностранных дел. Так как он педераст, и мужчины для него девки, то он 30 лет провел как бы в борделе. Полезно и приятно!» (А.С. Суворин. «Дневник». Москва: Новости, 1992. Стр. 377.)
С.Карлинский вслед за Н.Н. Берберовой утверждает, что в царской семье было по меньшей мере семь гомосексуалов.
Не подвергались гонениям за сексуальную ориентацию и представители интеллигенции. Особенного рассказа в этой связи заслуживает гомосексуальность Петра Ильича Чайковского (1840-1893), о которой написано немало статей и книг. Любопытно, что также геем был его младший брат Модест Чайковский, переводчик, драматург и либреттист.
Училище правоведения, в котором учился будущий великий композитор, было известно тем, что среди его учащихся было немало геев. (Познанский А.Н. Самоубийство Чайковского: мифы и реальность. М.: «Глагол», 1993). Даже скандальный случай, когда один старшеклассник летом поймал в Павловском парке младшего соученика, затащил его с помощью товарища в грот и изнасиловал, не нашел в Училище адекватной реакции. На добровольные сексуальные связи воспитанников тем более смотрели сквозь пальцы. Известен, например, случай, когда в начале 1840-х годов не указанная болезнь стала причиной исключения ученика в назидание другим. Повод к этому дали встревоженные родственники, заметившие порок у своего подопечного и попросившие директора принять меры. Это событие вызвало бурю негодования среди воспитанников. «Что, если бы весь свет вздумал так действовать? Ведь, пожалуй, пол-России пришлось бы выгнать отовсюду из училищ, университетов, полков, монастырей, откуда угодно. Все это в честь чистейшей доброй нравственности», — комментировал этот случай бывший правовед Д.В. Стасов. (Познанский А.Н. Чайковский. М.: Молодая гвардия, в серии ЖЗЛ, 2010. с. 25).
Первый гомосексуальный опыт Чайковский пережил еще в отроческом возрасте в Училище правоведения вместе со своим однокашником, будущим поэтом А.Н. Апухтиным (1841-1893). (см. Н.Н.Берберова. Чайковский. “Лимбус Пресс”, Санкт-Петербург, 1997). Апухтин также всю жизнь отличался этой склонностью и нисколько ее не стеснялся. В 1862 году они вместе с Чайковским оказались замешаны в гомосексуальный скандал в ресторане «Шотан» и были, по выражению Модеста Чайковского, «обесславлены на весь город под названием бугров». (И. С. Кон. Клубничка на березке: Сексуальная культура в России. М., Время, 2010, стр. 88.)
 А.В. Амфитеатров попытался разобраться в гомосексуальности Чайковского и пришел к выводам, что композитору был свойственен: «гомосексуализм духовный, идеальный, платонический эфебизм. <…> Вечно окруженный молодыми друзьями, он вечно же нежно возился с ними, привязываясь к ним и привязывая их к себе любовью, более страстною, чем дружеская или родственная. Один из таких платонических эфебов Чайковского в Тифлисе даже застрелился с горя, когда друг-композитор покинул город. Друзей-юношей и отроков мы при Чайковском можем насчитать много, любовницы — ни одной» (А. В. Амфитеатров. Встречи с П. И. Чайковским «Сегодня». 1933. № 313. 12 ноября)
А.В. Амфитеатров попытался разобраться в гомосексуальности Чайковского и пришел к выводам, что композитору был свойственен: «гомосексуализм духовный, идеальный, платонический эфебизм. <…> Вечно окруженный молодыми друзьями, он вечно же нежно возился с ними, привязываясь к ним и привязывая их к себе любовью, более страстною, чем дружеская или родственная. Один из таких платонических эфебов Чайковского в Тифлисе даже застрелился с горя, когда друг-композитор покинул город. Друзей-юношей и отроков мы при Чайковском можем насчитать много, любовницы — ни одной» (А. В. Амфитеатров. Встречи с П. И. Чайковским «Сегодня». 1933. № 313. 12 ноября)
О своих гомосексуальных чувствах Чайковский писал в письмах, прежде всего к брату. Так, в письме от 4 апреля 1877 года он признается в жгучей ревности к своему ученику, 22-летнему скрипачу Иосифу (Эдуарду-Иосифу) Котеку, из-за того что у последнего разгорелся роман с певицей Эйбоженко. При этом, в письме Модесту от 19.01. 1877 г. Чайковский, исповедуясь в своей влюбленности в Котека, вместе с тем подчеркивает, что не хочет выходить за пределы чисто платонических отношений[26].( Соколов В. С. Письма П. И. Чайковского без купюр: Неизвестные страницы эпистолярии // Петр Ильич Чайковский. Забытое и новое: Альманах. Вып. I. Сост. П. Е. Вайдман и Г. И. Белонович. (Труды ГДМЧ)— М.: ИИФ «Мир и культура», 1995. — С. 123.)
Одной из сильнейших привязанностей Чайковского в поздние годы считается его чувство к племяннику Владимиру (Бобу) Давыдову, которому он посвятил «Детский альбом» и Шестую симфонию, а также которого сделала сонаследником и передал право на получение доходов от исполнения своих произведений.
При этом композитор испытывал чувства мужской нежности не только к людям своего круга: так, весь 1877 год он состоял в связи с извозчиком по имени Иван. Также некоторые считают, что его отношения со слугами братьями Михаилом и Алексеем Софроновыми также имели гомоэротический оттенок. В дневниках Чайковского за время его пребывания в Клину можно найти многочисленные записи эротического характера о крестьянских детях, которых он, по выражению Александра Познанского «развращал подарками», однако, по мнению Познанского, эротизм Чайковского в отношении их носил платонический, «эстетически-умозрительный» характер и был далек от желания физического обладания. (см. Познанский А.Н. Чайковский. М.: Молодая гвардия, в серии ЖЗЛ, 2010. с. 277.).
Желая подавить свою «несчастную склонность» и связанные с нею слухи, Чайковский женился на бывшей студентке консерватории Антонине Милюковой, но его брак, как и предвидели друзья композитора, закончился катастрофой, после чего он уже не пытался иметь физическую близость с женщиной. Фактически брак распался через несколько недель, однако супруги не были официально разведены до конца жизни. «Я знаю теперь по опыту, что значит мне переламывать себя и идти против своей натуры, какая бы она ни была». «Только теперь, особенно после истории с женитьбой, я наконец начинаю понимать, что нет ничего нет бесплоднее, как хотеть быть не тем, чем я есть по своей природе». (Соколов В. С. Письма П. И. Чайковского без купюр: Неизвестные страницы эпистолярии // Петр Ильич Чайковский. Забытое и новое: Альманах. Вып. I. Сост. П. Е. Вайдман и Г. И. Белонович. (Труды ГДМЧ)— М.: ИИФ «Мир и культура», 1995. — С. 118—134.)
 В отличие от Апухтина, Чайковский стеснялся своей гомосексуальности и вообще о его интимной жизни известно мало (об этом позаботились родственники и цензура). Однако мнение, что он всю жизнь мучился этой проблемой, которая а в конечном итоге довела его до самоубийства, не выдерживает критической проверки. Романтический миф о самоубийстве композитора по приговору суда чести его бывших соучеников за то, что он якобы соблазнил какого-то очень знатного мальчика, чуть ни не члена императорской семьи, дядя которого пожаловался царю, несостоятельна во всех своих элементах. Во-первых, исследователи не нашли подходящего мальчика. Во-вторых, если бы даже такой скандал возник, его бы непременно замяли, Чайковский был слишком знаменит и любим при дворе. В-третьих, кто-кто, а уж бывшие правоведы никак не могли быть судьями в подобном вопросе. В-четвертых, против этой версии восстают детально известные обстоятельства последних дней жизни Чайковского. В-пятых, сама она возникла сравнительно поздно и не в среде близких композитору людей. Как ни соблазнительно считать его очередной жертвой самодержавия и «мнений света», Чайковский все-таки умер от холеры.
В отличие от Апухтина, Чайковский стеснялся своей гомосексуальности и вообще о его интимной жизни известно мало (об этом позаботились родственники и цензура). Однако мнение, что он всю жизнь мучился этой проблемой, которая а в конечном итоге довела его до самоубийства, не выдерживает критической проверки. Романтический миф о самоубийстве композитора по приговору суда чести его бывших соучеников за то, что он якобы соблазнил какого-то очень знатного мальчика, чуть ни не члена императорской семьи, дядя которого пожаловался царю, несостоятельна во всех своих элементах. Во-первых, исследователи не нашли подходящего мальчика. Во-вторых, если бы даже такой скандал возник, его бы непременно замяли, Чайковский был слишком знаменит и любим при дворе. В-третьих, кто-кто, а уж бывшие правоведы никак не могли быть судьями в подобном вопросе. В-четвертых, против этой версии восстают детально известные обстоятельства последних дней жизни Чайковского. В-пятых, сама она возникла сравнительно поздно и не в среде близких композитору людей. Как ни соблазнительно считать его очередной жертвой самодержавия и «мнений света», Чайковский все-таки умер от холеры.
По сведениям многих современников и ученых, гомосексуалом был и близкий друг Чайковского, пианист и педагог Н.С. Зверев, у которого учились мастерству С.В. Рахманинов, А.Б. Гольденвейзер, , А.Н. Скрябин, А.И. Зилоти, К.Н. Игумнов, Ф.Ф. Кенеман. Зверев открыл для своих учеников специальный закрытый и исключительно мужской пансион, где они жили вместе и занимались музыкой.
Зверев был выдающимся педагогом, продолжателем традиций московской школы, специалистом в области подготовительной стадии обучения игре на фортепиано. Помимо пианистических качеств ― певучего звучания и свободы исполнения, он развивал в своих учениках художественный вкус и широкий культурный кругозор.
 Зверев никогда не был женат и не имел известных кому бы то ни было отношений с женщинами, хотя он нередко обучал музыке девушек из знатных и известных семей, оставаясь к ним равнодушным. Однако его любовь к молодым мужчинам находила выход в его пансионе: общество Зверева и его учеников отличалось гомоэротической атмосферой (Faubion Bowers, Scriabin: A Biography. Dover Publications, 1996. p. 67-68). Есть сведения о том, что причиной временного разрыва отношений между Рахманиновым и Зверевым в пансионе стала именно гомосексуальность последнего (Max Harris. Raсhmaninoff: Life, Works, Recordings, London: Continuum, 2005., p. 22).
Зверев никогда не был женат и не имел известных кому бы то ни было отношений с женщинами, хотя он нередко обучал музыке девушек из знатных и известных семей, оставаясь к ним равнодушным. Однако его любовь к молодым мужчинам находила выход в его пансионе: общество Зверева и его учеников отличалось гомоэротической атмосферой (Faubion Bowers, Scriabin: A Biography. Dover Publications, 1996. p. 67-68). Есть сведения о том, что причиной временного разрыва отношений между Рахманиновым и Зверевым в пансионе стала именно гомосексуальность последнего (Max Harris. Raсhmaninoff: Life, Works, Recordings, London: Continuum, 2005., p. 22).
В 1879 году в Женеве вышла небольшим тиражом любопытная книга «Eros Russe. Русский Эрот не для дам» — сборник откровенной поэзии, принадлежащей перу крупных поэтов, часто сочиненной в годы учебы в Пажеском корпусе и других закрытых мужских учебных заведениях. Многие эти стихи имели явную гомоэротическую окраску (так, в антологию включены три произведения М.Ю. Лермонтова: «Гошпиталь», «Ода к нужнику» и «Тизенгаузену»). Составителем (и автором некоторых произведений) выступил уже упоминавшийся ранее А.Ф. Шенин, выпускник Павловского кадетского корпуса, впоследствии библиотекарь и инспектор классов корпуса. Позже книга выдержала несколько переизданий, в том числе в России.
Однако, еще раз повторю, что гомосексуальность была вполне приемлема не только в творческой среде, но и в светском обществе. Так, общеизвестна бисексуальность и (говоря современным языком) некоторая склонность к трансгендерности Ф.Ф. Юсупова (1887-1967), светского аристократа, участника убийства Г.Е. Распутина. Юсупов с юности был известен своей женственностью, привычкой переодеваться с женские платья, а также своими сексуальными связями с лицами обоих полов. Еще в молодости он переодевался в дамские наряды и часто появлялся в таком виде в общественных местах (Юсупов Ф. Ф. (князь) Мемуары: в двух книгах — М.: Захаров и Вагриус, 1998. — C. 63. — 426 с), а также выступал в кабаре в России и за границей (Боханов А. Н. Распутин: анатомия мифа — М.: АСТ пресс, 2000. — С. 350.). Привлекая к себе внимание своим порой скандальным для того времени поведением, Юсупов тем временем отличался высокими человеческими качествами: он был добр, чуток и готов помочь окружающим. Так, в 1915 году, во время Первой мировой войны, он отдал часть своего петербургского дворца под госпиталь для раненых солдат. ().
 Любопытно, что в 1910-х годах князь Юсупов возглавлял Первый русский автомобильный клуб, который размещался в здании Первого Российского страхового общества.
Любопытно, что в 1910-х годах князь Юсупов возглавлял Первый русский автомобильный клуб, который размещался в здании Первого Российского страхового общества.
Наиболее известной историей однополой любви Юсупова был его роман с великим князем Д.П. Романовым (1891-1942), который также впоследствии участвовал в убийстве Распутина.
В 1913 году зашел разговор о его возможной женитьбе на княжне императорской крови И.А. Романовой. Однако когда родители невесты и ее бабушка, вдовствующая императрица Мария Фёдоровна, узнали слухи о Феликсе, то даже хотели отменить свадьбу. Большинство из историй, которые они слышали, были как раз связаны с Д.П. Романовы, родственником Ирины. О Феликсе и Дмитрии говорили как о любовниках.
И все же в 1914 свадьба состоялась. У Юсуповых в 1915 году даже родилась дочь. Но даже состоя в гетеросексуальном браке и имея дочь, князь продолжал вести гомосексуальный образ жизни. (Henri Troyat, Nicolas II, La galerie des Tsars, Flammarion, 2008). Не оставил он и своей страсти к переодеваниям.
Великий князь Н.М.Романов в своем дневнике пишет о том, что Юсупов признался ему в страстной любви к Распутину. (http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/RUSyusupov.htm)
После убийства Распутина в 1916 году Юсупов был выслан в свое подмосковное имение Ракитное, а после революции он эмигрировал вместе со своей супругой и единственной дочерью….
…Как и в западноевропейских столицах, в Петербурге XIX в. существовал нелегальный, но всем известный рынок мужской проституции.
Бытописатель старого Петербурга журналист В.П. Бурнашев писал, что еще в 1830-40-х годах на Невском царил «педерастический разврат». «Все это были прехорошенькие собою форейторы…, кантонистики, певчие различных хоров, ремесленные ученики опрятных мастерств, преимущественно парикмахерского, обойного, портного, а также лавочные мальчики без мест, молоденькие писарьки военного и морского министерств, наконец даже вицмундирные канцелярские чиновники разных департаментов». Промышляли этим и молодые извозчики. Иногда на почве конкуренции между «девками» и «мальчиками» даже происходили потасовки.
Через 40 лет, в 1889 году автор анонимного полицейского доноса Министру внутренних дел описывал сходную картину, считая этот порок всесословным.
Конечно же, гомосексуальные чувства в России были знакомы не только мужчинам, но и женщинам. Но если в предыдущие эпохи они мало проявлялись и не обращали на себя внимание общества, то теперь, на волне женской эмансипации и борьбы за равноправие, однополые женские отношения становятся известны широким слоям.
 Так, лесбиянкой была А.М. Евреинова (1844-1919), яркая феминистка и первая русская женщина, получившая степень доктора права (обучалась сначала в Гейдельбергском, а потом в Лейпцигском университете). В юности родители стремились выдать ее замуж против ее воли, и она фактически сбежала за границу, не сумев получить паспорт от отца и обходя пограничные посты по болотам, как она вспоминала, «в прюнелевых туфельках». Отец срочно требовал ее возвращения в Россию и даже подал заявление в знаменитое Третье отделение жандармерии, однако девушке удалось уехать в Европе и обосноваться там. За 15 лет, проведенных на Западе, Евреинова получила высшее образование (что было недоступной ей в России в силу ее пола) и степень доктора права, а также право предавать в Лейпциге. Кроме того, она почерпнула идеи европейского феминизма и движения суфражисток. Вернувшись на родину, она стала активно заниматься феминизмом, а также юридическими вопросами. Евреинова печаталась в журналах «Вопросы гражданского и уголовного права» и феминистском издании «Друг женщин», а в 1883 году опубликовала работу «О значении и пределах обычного права при разработке отдельных институтов гражданского уложения», за которыми последовали и другие статьи. В 1885-1889 годах Евреинова издавала журнал «Северный вестник». Эта женщина сделала существенный вклад в дело эмансипации русских женщин.
Так, лесбиянкой была А.М. Евреинова (1844-1919), яркая феминистка и первая русская женщина, получившая степень доктора права (обучалась сначала в Гейдельбергском, а потом в Лейпцигском университете). В юности родители стремились выдать ее замуж против ее воли, и она фактически сбежала за границу, не сумев получить паспорт от отца и обходя пограничные посты по болотам, как она вспоминала, «в прюнелевых туфельках». Отец срочно требовал ее возвращения в Россию и даже подал заявление в знаменитое Третье отделение жандармерии, однако девушке удалось уехать в Европе и обосноваться там. За 15 лет, проведенных на Западе, Евреинова получила высшее образование (что было недоступной ей в России в силу ее пола) и степень доктора права, а также право предавать в Лейпциге. Кроме того, она почерпнула идеи европейского феминизма и движения суфражисток. Вернувшись на родину, она стала активно заниматься феминизмом, а также юридическими вопросами. Евреинова печаталась в журналах «Вопросы гражданского и уголовного права» и феминистском издании «Друг женщин», а в 1883 году опубликовала работу «О значении и пределах обычного права при разработке отдельных институтов гражданского уложения», за которыми последовали и другие статьи. В 1885-1889 годах Евреинова издавала журнал «Северный вестник». Эта женщина сделала существенный вклад в дело эмансипации русских женщин.
Любовью к женщинам жила и вдохновлялась княжна В.И. Гедройц (1870-1932) – русский врач-хирург, поэтесса и писатель, одна из первых в мире женщин-профессоров хирургии и одна из первых женщин, возглавлявших хирургическую кафедру. Будучи представительницей одного из самых знатных родов Европы, княжна всю свою жизнь посвятила медицине, спасению больных и раненых во время боевых действий, а также медицинской науке, сделав ряд передовых открытий. Она организовывала в провинции больницы и распространяла современное оборудование, во время Японской войны организовала передвижной дворянский отряд, который из состоял из врачей и медсестер, который оставили свет ради того, чтобы спасать солдат на полях сражений. По возвращении домой она опубликовала отчет о работе отряда и систематизировала его медицинский опыт. После этого ее имя стало известно всей стране.
В 1890-х активно участвовала в оппозиционной деятельности и посещала революционные кружки и демонстрации. Во время Первой русской революции княжна, будучи приближенной царской семьи, активно помогала рабочему движению, а позде вступила в партию кадетов.
5 сентября 1894 года Вера Гедройц, будучи лесбиянкой, вступила в фиктивный брак со своим петербургским другом капитаном Николаем Афанасьевичем Белозеровым. С мужем она впоследствии почти не общалась и скрывала факт замужества от окружающих. (В 1905 году брак был расторгнут). Вскоре она уехала в Швейцарию, чтобы получить высшее медицинское образование. Впоследствии она получила степень доктора медицины.
Занимаясь поэзией, Гедройц входила в различные поэтические кружки и была лично знакома практически со всеми деятелями «Серебряного века». Она также входила в «Цех поэтов», однако, будучи лесбиянкой, она отвергла ухаживания Н.И. Гумилева, который посвятил ей стихотворение «Жестокой». (Хохлов В. Г. Цвет жизни белой. — Брянск: Брянское СРП ВОГ, 2011. с. 135). Также она любила музицировать на скрипке.
 Во время Первой мировой войны княжна Гедройц работала в Царскосельском госпитале и обучала основам медицинской профессии окружающих ее женщин. Императрица и две ее старшие дочери под руководством Гедройц получили специальность медсестер и ассистировали ей во время операций
Во время Первой мировой войны княжна Гедройц работала в Царскосельском госпитале и обучала основам медицинской профессии окружающих ее женщин. Императрица и две ее старшие дочери под руководством Гедройц получили специальность медсестер и ассистировали ей во время операций
.
«Квадрат холодный и печальный
Среди раскинутых аллей,
Куда восток и север дальний
Слал с поля битв куски людей.
Где крики, стоны и проклятья
Наркоз спокойный прекращал,
И непонятные заклятья
Сестер улыбкой освещал.
Мельканье фонарей неясных,
Борьба любви и духов тьмы,
Где трёх сестёр, сестёр прекрасных
Всегда привыкли видеть мы.
Молчат таинственные своды,
Внутри, как прежде, стон и кровь,
Но выжгли огненные годы —
Любовь.
.
(29.12.1925)
После революции она продолжила работу врача на фронте. В 1920-е годы жила в Киеве и принимала активное участие в работе киевских хирургических служб, в частности, организовала челюстно-лицевую клинику. В 1929 году княжна была избрана заведующей кафедрой факультетской хирургии на место уволенного в ходе репрессий против украинской научной интеллигенции (знаменитое Дело «Союза освобождения Украины») Е. Г. Черняховского. Однако в 1930 году её также уволили из университета без права на пенсию. На сбережённые средства и гонорары от изданий Вера Игнатьевна купила дом в пригороде Киева. Она почти оставила хирургическую деятельность, но продолжала оперировать в больнице Покровского монастыря …
Вера Гедройц была, по воспоминаниям современников, во многом маскулинной, и нередко ее называло «Сафо» и «Жорж Санд Царского Села». Она обладала жестким характером, но отличалась уважением и вниманием к окружающим и искренне заботилась о больных. Первой известной нам любимой женщиной княжны была Рики Дюги, которую Гедройц встретила во время обучения в Лозанне. Они хотели вместе вернуться в Россию, но по ряду обстоятельств это было невозможно. Второй большой любовью Гедройц стала графиня Мария Нирод, с которой они вместе прожили в Киеве последние 14 лет жизни героической женщины-хирурга. В 1932 году Гедройц умерла от рака.
Если говорить о гомосексуальности и медицине, то, как и их западноевропейские коллеги, труды которых были им хорошо известны и почти все переведены на русский язык, русские медики (Вениамин Тарновский, Ипполит Тарновский, Владимир Бехтерев и другие) считали гомосексуализм «извращением полового чувства» и обсуждали «возможности его излечения». Поэтому к концу XIX столетия все громче звучат предложения отменить уголовное преследование за гомосексуальность. Аналогичной позиции придерживались и юристы. Во время разработки проекта нового уголовного уложения (1903) известный юрист и государственный деятель В.Д. Набоков, отец выдающегося писателя В.В. Набокова, призывал исключить из него уогловную ответственность за «мужеложство». В итоге ответственность за гомосексуальность в новом проекте была сохранена, но наказание стало сузщественно мягче: вместо ссылки на 4-5 лет предлагалось назначать заключение на срок от 3 месяцев. Однако новый кодекс, более либеральный по сравнению с предыдущим, не был введен в действие из-за усилившихся революционных настроений в обществе. В 1915 власти приняли решение наконец придать ему законную силу, однако усложнившаяся ситуация на фронте, а затем и революция помешали это сделать. (Dan Healey, Homosexual Desire in Revolutionary Russia: The Regulation of Sexual and Gender. Dissent. Chicago: University of Chicago Press, 2001, p. 115).
В начале двадцатого столетия, в эпоху Серебряного века русской культуры, отношение к гомосексуальности становится еще более открытым и терпимым. На волне общемировой либерализации общества, а также на фоне декриминализации гомосексуальности в большинстве ведущих европейских стран отношение к геям и лесбиянкам в России становится еще более спокойным. В эти годы появляется целая плеяда ярких деятелей культуры, которые в какие-то моменты, а кто и всю свою жизнь черпали свое вдохновение в любви «небесного цвета»: Михаил Кузмин, Константин Сомов, Сергей Есенин, Сергей Дягилев, Поликсена Соловьева, Марина Цветаева, Рюрик Ивлев, Николаев Клюев, Вячеслав Иванов, Дмитрий Философов, Зинаида Гиппиус … Этот особенный период заслуживает отдельной статьи, и она очень скоро появится на страницах этого блога.
Итак, дорогие друзья, как мы видим, «нетрадиционные» отношения и чувства были естественны и привычны для очень многих великих россиян. Нередко самые яркие люди второй половины XIX столетия жили и вдохновлялись чувством однополой любви. И эта любовь была так же возвышенна и чиста, как любая другая, потому что любовь всегда прекрасна, если она искренна, независимо от того, кто любящий, и от того, что думают окружающие.
qual-gay.com/2013/06/23/homosexualnost-na-zakate-rossiyskoy-imperi/
|
Метки: субкультура |
Слухи об императрице Александре Федоровне и массовая культура (1914-1917) |
Слухи об императрице Александре Федоровне и массовая культура (1914-1917)
Колоницкий Б.И. Слухи об императрице Александре Федоровне и массовая культура (1914-1917)
// Вестник истории, литературы, искусства. Отд-ние ист.-филол. наук РАН. М., 2005. С.362-379.
Историки все больше внимания уделяют репрезентации власти. Большое влияние на российских ученых оказали книги профессора Колумбийского университета Р.Уортмана{1}. Используемый им термин «сценарии власти» позволяет связать воедино политику, идеологию и символическую репрезентацию императорской власти. Однако такое исследование, предлагая ряд важных выводов, ставит и немало вопросов, требующих дальнейшего изучения. Среди них — вопрос о восприятии образов монархии, о распространении их на уровне массового сознания, о «переводе» этих образов в разных культурах и субкультурах. Сама историографическая ситуация требует обращения к данной теме. Изучение состояния власти в предреволюционное и революционное время невозможно без исследования образов персонифицированной власти. Между тем внимание историков революции 1917 г. продолжают привлекать государственные институты и политические партии, общественные организации и политические лидеры. Серьезные попытки изучения общественного сознания революционной эпохи были предприняты еще тридцать лет назад{2}, однако в потоке исследований, посвященных истории революции, эта тема остается периферийной.
Недостаточная изученность сюжетов становится особенно очевидной при сравнении с историографией Великой Французской революции. Труды Ф. Фюре, Р. Дарнтона, К. Бэйкер, Д. Ван Клея, Л. Хант, Р. Шартье, Дж. Меррика, А. Фарж, Л.Дж. Грэхэм, А. Дюпра, посвященные изучению монархии в контексте политической культуры, ставят вопросы, важные для историков Российской революции{3}.
Другая тема, почти не изученная исследователями революции российской, - слухи. Классическая книга Ж.Лефевра известна всем современным историкам{4}, его работа была продолжена другими учеными{5}, но, игнорируя это исследовательское направление, некоторые историки и ныне противопоставляют слухи «реальным событиям», тому, что было «на самом деле». Между тем описано немало ситуаций, когда слухи организовывали события. Немецким репрессиям в Бельгии в 1914 г. предшествовали панические слухи о бельгийских зверствах по отношению к германским солдатам. Память о «вольных стрелках» Франко-прусской войны получила новую жизнь, влияя на действия немецких военнослужащих разного ранга{6}.
[363]
Еще современники осознавали важность изучения слухов кануна революции 1917 г.; показательно, например, частое упоминание слухов в документах Министерства внутренних дел{7}. Однако историки не уделяли особого внимания данному сюжету, что объясняется установками многих исследователей, их представлениями о «важном» и «второстепенном»: они предпочитают описывать «факты», отделяя их от «вымыслов».
Настоящая статья является попыткой изучить некоторые слухи кануна революции, главным объектом которых была императрица Александра Федоровна. Царица и ранее не была популярной, злые языки именовали дочь великого герцога Гессенского и Рейнского «гессенской мухой», сравнивая ее с вредителем, уничтожающим злаки; в годы войны обвинения становятся более серьезными.

Открытка «Германская телеграфная станция». 1917.
Изображение мухи отсылает нас к кличке Александры Федоровны «гессенская муха». Ворона в короне - снижение образа германского геральдического орла. Царица изображена в платке сестры милосердия.
Современница, лично знавшая царицу, записала в дневнике: «Молва все неудачи, все перемены в назначениях приписывает государыне. Волосы дыбом встают: в чем только ее ни обвиняют, каждый слой общества со своей точки зрения, но общий, дружный порыв — нелюбовь и недоверие». «Царица-немка» была заподозрена в германофильстве. Великий князь Андрей Владимирович писал: «Удивительно, как непопулярна бедная Алике. Можно, безусловно, утверждать, что она решительно ничего не сделала, чтобы дать повод заподозрить ее в симпатиях к немцам, но все стараются именно утверждать, что она им симпатизирует. Единственно в чем ее можно упрекнуть, — это что она не сумела быть популярной».
Возник слух о «немецкой партии», сплотившейся вокруг Царицы. В такой обстановке русский генерал говорил англичанам в начале 1917 г.: «Что мы можем поделать? У нас немцы везде. Императрица — немка»{8}. Эти настроения коснулись и членов царской семьи. Великий князь Николай Михайлович в сентябре 1914 г. писал матери царя: «Сделал целую графику, где отметил влияния: гессенские, прусские, мекленбургские, ольденбургские и т.д., причем вреднее всех я признаю гессенские на Александру Федоровну, которая в душе осталась немкой, была против войны до последней Минуты и всячески старалась оттянуть момент разрыва»{9}.
Царица не могла не знать о подобных слухах: «Да я более Русская, нежели многие иные...» — писала она царю{10}. Но ничто не могло предотвратить распространение домыслов. Дворянка М.И. Барановская говорила в волостном правлении: «Наша государыня плачет, когда русские бьют немцев, и радуется,
[364]
когда немцы побеждают»{11}. Слух трансформировался в анекдот. В ноябре 1914 г. он зафиксирован в дневнике карикатуриста В. Каррика, а 3 марта 1915 г. Р.Б. Локкарт, британский консул в Москве, записал: «Ходит несколько хороших историй, касающихся германофильских тенденций императрицы. Вот одна из лучших. — Царевич плачет. — Няня говорит: "Малыш, отчего ты плачешь?" — "Ну, когда бьют наших, плачет папа, когда немцев — мама, а когда мне плакать"»{12}. Тот факт, что несколько подобных «хороших историй» рассказывались в британском консульстве, свидетельствует об их распространенности.
О германофильстве императрицы говорили и в деревнях. Тверской крестьянин сказал односельчанам: «Наша Государыня Александра Федоровна отдала бы все германскому императору Вильгельму, — она ему родня»{13}.
Первоначально царицу подозревали «лишь» в симпатиях к немцам, затем ее стали считать «бессознательным орудием германских агентов», так оценивал ситуацию британский посол лорд Дж.Бьюкенен, хорошо информированный дипломат{14}. Но императрицу обвиняли и в прямой измене: она-де выдает государственные секреты Германии и (или) готовит заключение сепаратного мира. Предательницей называли ее и некоторые крестьяне. 68-летний крестьянин Томской губернии заявил в сентябре 1915 г.: «Сама ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА является главной изменницей. Она отправила золото в Германию, из-за нее и война идет». Затем он добавил: «ГОСУДАРЫНЮ за измену уже сослали»{15}. О том же говорили и образованные люди. Современница записала в дневнике в ноябре 1916 г.: «26-го это ненужное появление с государыней и наследником на Георгиевском празднике. Настроение армии — враждебное, военной молодежи тоже: "Как смеет еще показываться — она изменница"»{16}. А.Н. Родзянко, жена председателя Государственной Думы, писала об императрице княгине З.Н. Юсуповой в феврале 1917 г.: «На Рижском фронте открыто говорят, что она поддерживает всех шпионов-немцев, которых по ее приказанию начальники частей оставляют на свободе»{17}.
Доклад военной цензуры в начале 1917 г. отмечал, что офицеры все неустройство приписывают влиянию «немецкой партии», многие относятся к царице враждебно, считая ее «активной германофилкой». Морской офицер писал в то же время в своем дневнике: «[Александра Федоровна] фактически властвует. Говорят об ее определенных немецких симпатиях. Мерзавцы! Что они делают с моей родиной!» Офицеры подчас не скрывали своих настроений от нижних чинов. Многие солдаты считали царицу «чистокровной немкой, играющей в руку Германии» (в отчетах военной цензуры утверждалось, что царя солдаты «любят», но думают, что «до него ничего не доходит, а то бы он искоренил немецкое влияние»){18}.
[365]
Утверждали, что царица намеренно вызвала продовольственные затруднения. В Шуе прислуга рассуждала: «Дороговизна оттого, что ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА отправила за границу 30 вагонов сахару»{19}. И солдаты говорили, что хлеб тайно вывозят в Германию: через Ригу еженедельно отправляются эшелоны хлеба. Царица воспринималась как покровительница, а то и руководительница контрабандистов. Впоследствии школьники в сочинениях, посвященных революции, писали, что царица «слала за границу сухари, муку, разные кушанья»{20}.
Появились и обвинения в шпионаже. В июне 1915 г. 46-летний крестьянин заявил: «Говорят, наша Государыня передает письма германцам». В том же месяце мещанин г. Шадринска рассказывал, что в комнате императрицы нашли телефон, связанный с Германией, по которому Государыня уведомляла немцев о расположении русских войск, следствием чего было занятие неприятелем Либавы. Ходили слухи, что «предательница» за это была арестована{21}.
Даже штабные генералы и гвардейские офицеры передавали невероятные слухи. В дни приезда царицы в Ставку принимались особые меры безопасности: от нее прятали секретные документы — утверждали, что после каждого такого визита русская армия терпела поражения. Генерал М.В. Алексеев заявил, что у царицы находилась секретная карта, которая должна была существовать лишь в двух экземплярах, хранящихся у него и у императора. Генерал А.А. Брусилов якобы уклонился от вопроса царицы о сроках наступления — он также опасался «утечки» информации{22}. Другие слухи сообщали о конфликте императора с генералом В.И. Гурко, исполнявшим обязанности начальника штаба Верховного главнокомандующего во время болезни М.В. Алексеева. Он якобы отказался показать царю план военных действий в присутствии императрицы. Молва утверждала, что специальные английские агенты «не могут уследить за перепиской царской семьи, т.к. отправляется в запечатанных дипломатических вализах с курьерами, но переписка с Германией существует»{23}. Говорили, что морской министр адмирал И.К.Григорович решил проверить слух о шпионаже при дворе. В ответ на настойчивые запросы из Царского Села относительно времени операции он передал ложную информацию. В назначенный час в указанном месте были сосредоточены превосходящие силы немецкого флота{24}.
Царицу называли виновницей смерти британского военного министра лорда Китченера, находившегося на крейсере, потопленном немцами: якобы информировала Германию о маршруте и графике его поездки{25}. Подозрения передавались иностранным представителям. Член английского парламента майор Д.Дэвис, посетивший Россию в начале 1917 г., отмечал в докладе: «Царица, справедливо или нет, считается агентом германского правительства». Он рекомендовал «всеми возможными способами» убедить императрицу покинуть страну и вплоть до завершения войны гостить в какой-либо
[366]
союзной стране. Дэвис писал: «...нет сомнений, что враг постоянно информируется о каждом передвижении и плане операций. В результате никакая серьезная информация не может быть сохранена в секрете, и это постоянно следует иметь в виду при переговорах с русскими властями»{26}.
Ходили слухи о планах высылки царицы, похищении, заключении в монастырь. Об этом говорили в светских салонах, армейских штабах и гвардейских полках{27}. Арест императрицы с последующим заключением в монастырь планировал даже генерал М.В. Алексеев{28}. Дама, работавшая в дворцовом лазарете вместе с императрицей, записала в январе 1916 г.: «За эти дни ходили долгие, упорные слухи о разводе, что-де Александра Федоровна сама согласилась и пожелала, но, по одной версии, узнав, что это сопряжено с уходом в монастырь, отказалась; по другой, и государь не стал настаивать. Факт, однако, что-то произошло. Государь уехал на фронт от встречи Нового Года, недоволен влиянием на дочерей, была ссора. <...> А ведь какой был бы красивый жест — уйти в монастырь. Сразу бы все обвинения в германофильстве отпали, замолкли бы все некрасивые толки о Григории, и может быть, и дети, и самый трон были бы спасены от большой опасности»{29}.
Фигуры «изменников» — царицы и Распутина появляются в фольклоре дореволюционного времени{30}. Но слухам об «измене» верили и влиятельные политики. А.Ф. Керенский ориентировал Чрезвычайную следственную комиссию, созданную Временным правительством, на поиск доказательств преступных связей Романовых с Германией. Н.К. Муравьев, председатель этой комиссии, был искренне убежден в том, что император намеревался открыть фронт немцам, а царица давала кайзеру сведения о русских войсках. Об этом же писала после Февраля и «солидная печать»: «Русская воля», например, сообщала, что царица и «немкин муж» во дворце свили «гнездо предательства и шпионажа». Интервью бывших великих князей способствовали распространению слухов: «Я не раз спрашивал себя, не сообщница ли Вильгельма II бывшая императрица, но всякий раз я силился отогнать от себя эту страшную мысль», — заявил Кирилл Владимирович{31}.
Слухи и послереволюционные публикации утверждали, что в Царском Селе находилась радиотелеграфная станция, передающая сообщения в Германию. Контрразведчики, обнаружившие станцию, якобы были остановлены, и расследование было прекращено по указанию «верхов», хотя юродивый Митя Коляба, имевший доступ во дворец, видел «аппарат»{32}. Слухам верили. Генерал В.И. Селивачев записал 7 марта 1917 г. в дневнике: «...есть слух, будто из царскосельского дворца от государыни шел кабель для разговоров с Берлином, по которому Вильгельм узнавал буквально все наши тайны. Страшно подумать о том, что это может быть правда — ведь какими жертвами платил народ за подобное предательство?!!»{33}
[368]
После революции были проведены обыски, которые не дали никаких результатов, однако рисунки «радиотелеграфной станции» продолжали публиковаться в иллюстрированных журналах и на почтовых открытках. Этот сюжет появился даже в сочинениях школьников, писавших, что царица «говорила по телефону с немцами»{34}.
В годы войны возросло вмешательство царицы в государственные дела. Это нарушало установившиеся традиции и роняло авторитет Николая II. Но слухи, конечно, преувеличивали влияние императрицы: «Император царствует, но правит императрица, инспирируемая Распутиным», — записал в июле 1916 г. в своем дневнике французский посол М.Палеолог. В донесении от 5 февраля 1917 г. и Бьюкенен отмечал, что правит страной царица{35}. В послереволюционных памфлетах она именовалась «Самодержцем Всероссийским Алисой Гессенской»36. Друзья императрицы якобы называли ее «новой Екатериной Великой», что обыгрывалось в сатирических текстах:
Ах, планов я строила ряд,
Чтоб «Екатериною» стать,
И Гессеном я Петроград
Мечтала со временем звать{37}.
Сравнение с Екатериной II могло породить и иные исторические параллели. Говорили, что императрица готовит переворот, дабы стать регентшей при малолетнем сыне: она-де «намерена и по отношению к своему мужу разыграть ту же роль, которую Екатерина разыграла по отношению к Петру III»{38}. Слухи о регентстве (иногда даже о совместном регентстве императрицы и Распутина) появляются не позже сентября 1915 г. Зимой 1917 г. ходили слухи, что царица уже присвоила себе некую формальную функцию регентши{39}. Дружественно настроенная по отношению к императрице дама, имевшая связи в бюрократических кругах, допускала возможность существования неопубликованного декрета о регентств{40}. Со слухом вынуждены были считаться власти. В сентябре 1916 г. А.А. Мосолов, начальник канцелярии Министерства императорского двора, направил письмо министру барону В.Б. Фредериксу. Он считал невозможным применить санкции в отношении прессы, печатавшей сообщения о Распутине: «При настоящей нервности как печати, так и общественного мнения, всякая репрессивная мера придаст нежелательную важность этому делу и только укрепит предположения о регентстве ГОСУДАРЫНИ-ИМПЕРАТРИЦЫ»{41}.
Наконец, царицу обвиняли в супружеской измене, она-де «насадила такой разврат, что затмила собой самых отъявленных распутников и распутниц человечества». Назывались различные имена — «кирасир Орлов», контр-адмирал Н.П.Саблин 2-й 43. Слух нашел отражение в делах по оскорблению царской семьи. Так, 31-летнему казанскому столяру в вину вменялось, что, указывая на портрет царской семьи, он произнес: «Это первая... и Дочери Его... я пойду к ним... [брань]. А этот не Сын ГОСУДАРЯ, а подменен чужой». В крестьянской и мещанской среде велись разговоры о том, что наследник — незаконнорожденный{44}. Матросы Гвардейского экипажа распространяли слухи, что на императорской яхте они видели императрицу в объятьях офицеров, которые якобы за это получали звание флигель-адъютанта. После Февраля слух появился и в генеральском дневнике{45}.
С другой стороны, еще до войны ходили слухи о «неестественной дружбе» между императрицей и фрейлиной А.А. Вырубовой. Эти домыслы передавали современники, имевшие репутацию людей информированных{46}. Но чаще всего утверждалось, что царица была любовницей Распутина, подобные слухи еще до революции фиксировала цензура. В.В. Шульгин вспоминал, что в кинематографах запретили демонстрацию хроники: в момент, когда царь возлагал на себя Георгиевский крест, неизменно раздавался голос: «Царь-батюшка с Егорием, а царица-матушка с Григорием»{47}. О демонстрациях в кинотеатрах писал в конце 1916 г. и русский информатор британского посла во Франции{48}. До Февраля распространение получила фотография «старца», окруженного дамами. Современница записала в дневнике: «В левых кругах ходит по рукам группа, снятая три года тому назад: Распутин у стола среди своих поклонниц — Головина, А.А. Вырубова и т.д. <...> Головину считали за государыню и продавали эту группу за 25 рублей. Пришлось клясться, что она так же похожа, как я на китайского императора»{49}.
В подобные слухи верили не только простолюдины. В своем «дневнике» З.Н. Гиппиус записала: «Сам же Гриша правит, пьет и фрейлин... [брань]. И Федоровну, по привычке» (запись за 24 ноября 1915 г. , при публикации фраза была опущена){50}. Об этом говорили и в традиционно лояльных слоях общества. Чиновник Министерства иностранных дел сообщал коллегам, что располагает «достоверными» сведениями, подтверждающими связь императрицы со «старцем»; возражений и даже сомнений со стороны сослуживцев не
[370]
последовало. Историк С.П. Мельгунов пытался опубликовать фрагменты рукописи скандальной книги «Святой черт» С. Труфанова (бывшего иеромонаха Иллиодора). Ему пришлось иметь дело с цензурой. Чиновники, завершив официальные расспросы, стали интересоваться содержанием книги, особенно занимал цензоров вопрос об отношениях императрицы с Распутиным{51}.
Царица обвинялась и в развращении своих детей — «старец»-де с ее ведома совратил царевен. В популярном «Акафисте на смерть Распутина» он именовался «царевен растление», «царевича развращение»{52}. Утверждали, что Распутин посещал спальни царевен. Молва приписывала императрице слова: «...ничего худого в этом нет, а если бы даже и случилось что-нибудь, то это было бы только большим счастьем». Утверждали даже, что великая княжна Татьяна забеременела от Распутина{53}. Спрос создавал рыночную конъюнктуру «самиздата». Хорошо распространялся «акафист», а в интеллигентных кругах зачитывались машинописными вариантами «Святого черта». В Москве они появились не позже февраля 1916 г.{54} Убийство Распутина вызвало появление новых стихов, передававшихся в списках:
...А на могилу же его, молва так говорит,
Приказано сажать лишь лилии
И надпись сделать: «Здесь лежит
Ч л е н ИМПЕРАТОРСКОЙ фамилии»{55}.
В фотоателье изготовлялись открытки, иллюстрирующие слухи. В начале 1917 г. в Москве рассказывали, что фронтовики ругали царицу и показывали непристойные «фотографии». Астраханский черносотенец Н.Н. Тиханович-Савицкий жаловался министру внутренних дел А.Д. Протопопову, что свободно распространяются «позорящие царственных особ картины»{56}.
[371]
На распространение слухов о непристойном поведении царицы и двух старших царевен повлияла их патриотическая инициатива. Они, окончив медицинские курсы, работали сестрами милосердия. Императрица гордилась своей деятельностью, на фотографиях она с дочерьми изображались в форме Красного Креста. Появились открытки с фотографией царицы, ассистирующей хирургу во время операции. Но, вопреки ожиданиям, подчас и это вызывало осуждение. Считалось непристойным, что девушки ухаживают за обнаженными мужчинами. В глазах же многих монархистов царица, «обмывая ноги солдатам», теряла царственность. Некоторые придворные дамы заявляли: «Императрице больше шла горностаевая мантия, чем платье сестры милосердия»{57}.

Императрица и великие княжны в форме сестер милосердия. 1914.
Костюм сестры Красного Креста входил в моду. Женские журналы призывали отказаться от роскоши, забыть про моду. Рекомендовалось носить белые и черные наряды с красным крестом{58}. Но почтительное отношение к сестре милосердия, терпеливо выполняющей патриотический и христианский долг, вытеснялось иными образами. В культурах разных стран медицинская сестра преодолевала традиционные границы распределения тендерных ролей, подрывая тендерную структуру общества{59}. Для русских солдат она стала символом разврата, «тылового свинства». В некоторых госпиталях царили вольные нравы, на глазах солдат разыгрывались оргии с участием «сестер утешения» и «кузин милосердия». Профессиональные же проститутки, подражая моде высшего света, использовали форму Красного Креста. Сплетни о царице и великих княжнах, олицетворявших образ сестер милосердия, «растлевали» сознание масс{60}. Уже в декабре 1915 г. некий приказчик заявлял: «Старая Государыня, молодая Государыня и ее дочери — ... для разврата настроили лазареты и их объезжают»{61}.
Императрица становилась объектом ненависти, ей желали смерти. В июне 1915 г. крестьянин Воронежской губернии заявил: «Если бы я был на месте НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА, я бы ей... [брань] голову срубил... [брань]»{62}. Распространялись слухи о покушениях на царицу, они не подтверждались, но появлялись вновь. В Конце 1916 г. в разных дневниках упоминается, что некий офицер cтрелял в императрицу. Она будто ехала на могилу Распутина, но у гвардейских казарм князь Гагарин (порой называлось иное аристократическое
[372]
имя — Голицын, Урусов, Оболенский) ранил ее в руку. Авторы дневников ссылались на осведомленных людей{63}. Передавали также, что пуля, предназначенная царице, ранила Вырубову{64}. Появление этих слухов неудивительно. В монархических кругах говорили об убийстве царицы. Мысль о покушении приходила в голову даже великому князю Николаю Михайловичу. Он говорил об этом в конце 1916 г. с В.В. Шульгиным и М.И. Терещенко{65}. Ненависть к «изменнице» проявилась в дни Февраля — демонстранты кричали: «Долой Сашку!». Когда забастовщиков упрекали, что они «помогают врагам», то в ответ раздавалось: «Императрица сама немецкая шпионка!»{66}.
После Февральской революции страну захлестнул поток «обличительной» «антиромановской» литературы. Персонажи слухов стали героями бульварных книг, пьес и кинематографических лент. Подпольная культура стала элементом культуры массовой. Появление подобных брошюр обеспокоило М.Горького, который признавал, что и на Невском проспекте, и на окраинах Петрограда литература такого рода хорошо продавалась{67}.
Интеллигентная публика была шокирована популярностью жанра, соединявшего актуальные политические сюжеты, детективные истории и эротические повествования о жизни верхов. Жена генерала П.П. Скоропадского писала 18 марта: «Порнография насчет царской семьи за последние дни немного успокоилась. Кажется, уже все было выговорено, что только можно. Измена и шпионство Александры Федоровны, ее отношения с Вырубовой, такие же с Распутиным, беременность дочерей, отравление сына травами, слабоумие и отравление Николая Александровича и, наконец, отравление Александрой Федоровной Николая Александровича с целью занять его место, как Екатерина II»{68}.
Власти запрещали распространение «непристойных» публикаций. Исполнительный комитет Киева постановил конфисковать «Манифест Распутина» и «Письма царских дочерей» Распутину{69}. В Тифлисе Исполком конфисковал «Акафист Распутину», оскорбляющий «общественную стыдливость и религиозные чувства верующих»{70}. Но подобная литература пользовалась большим спросом. Мемуарист писал о жизни в деревне: «Настроение народа было легкое, мало говорили о деле, больше читали об амурных похождениях царей и Акафист Гришке Распутину. Эту литературу обильно доставляли наши же молодые люди, жившие в городе»{71}.
[373]
Серьезные читатели изучали книгу Иллиодора, опубликованную наконец С.П. Мельгуновым в журнале «Голос минувшего» (номер стал библиографической редкостью). Последовали и два отдельных издания книги. Публикатор опустил «фантастические» сообщения и «скабрезные» детали, но в тексте пропуски не указывались{72}. Это создавало впечатление, что он подтверждал достоверность той части этого сомнительного источника, которая была напечатана. На недостатки издания указывали современники{73}, но это никак не повлияло на его популярность. Даже на профессиональных читателей книга производила большое впечатление. Историк С.М. Дубнов записал в дневнике: «Прочел книгу бывшего иеромонаха Иллиодора «Святой черт» (о Распутине). С ужасающей реальностью раскрыты тайны Царскосельского дворца... Запятнанный кровью монархизм мог бы еще возродиться, но запачканный грязью пропал навсегда. Россия станет демократической республикой не потому, что доросла в своей массе до этой формы правления, а потому, что царизм в ней опозорен и простолюдин потерял веру в святость царя...»{74}. Дубнов буквально цитировал заголовки бульварных изданий «Тайны Царскосельского дворца».
После Февраля слухи тиражируются, распространяются. Появляясь в печати и не встречая опровержений, они подтверждали в глазах читателей обоснованность самых невероятных обвинений в адрес бывшей императрицы. В прессе появлялись и «документальные» публикации. Некий журналист преподнес телеграфистке торт, с ее помощью сфабриковал и опубликовал «изменнические» телеграммы царицы к некоему А. Розенталю. Власти быстро выяснили истину, однако общественное мнение продолжало оставаться под воздействием сенсационных «документов»{75}. Историк С.Б. Веселовский писал в марте 1917 г.: «...последней каплей, истощившей терпение, было нахождение документов по сношению царицы с Германией о сдаче Риги»{76}. Никаких документов такого рода не было обнаружено. Но тонкий исследователь русского прошлого был убежден в их существовании.
Когда 11 марта, после перерыва, вызванного революцией, открылись частные театры столицы, в Троицком фарсе начались представления пьесы «Царскосельская благодать». В репертуар других театров вошли фарсы «Крах торгового дома Романов и К°», «Ночные оргии Распутина», «Царскосельская блудница» и др. Некоторые интеллигентные современники оценивали подобные спектакли как «порождение хама революции». Однако А.А. Блок 1 июня сделал запись в своем дневнике: «Вчера в Миниатюре — представление Распутина и Анны Вырубовой. Жестокая улица. Несмотря на бездарность и грубость — доля правды. Публика (много солдат) в восторге»{77}. Было создано не менее десяти кинолент, Посвященных разоблачению Распутина, царицы и «темных сил», Дореволюционные слухи стали основой их сюжетов{78}. Малопристойные постановки пользовались успехом. Современный поэт писал:
[374]
...Плодятся мерзости, как крысы,
И звонко хвалит детвора
«Роман развратнейшей Алисы»
И «Тайны Гришкина двора»{79}.
Персонажи революционной массовой культуры подчас отличаются от героев дореволюционных слухов, но нельзя не видеть между ними связи. Некоторые слухи отвергаются, другие получают развитие. Брошюры и открытки, кинофильмы и спектакли провоцируют появление новых слухов, частушек и анекдотов.
Слухи об «измене императрицы», измене супружеской и политической, никогда не были доказаны, но в ситуации общественного кризиса домыслы становились важнейшими фактами политической жизни, влиявшими на процесс принятия политических решений влиятельными военными и политическими деятелями, иностранными дипломатами. Не менее важно, что слухи влияли на формирование массового сознания, способствовали созданию образа врага — вездесущих «темных сил». Антидинастические настроения были направлены в первую очередь против развратной изменницы и предательницы, «царицы-немки», против «этой женщины», которая правит страной. Это представляется необычайно важным — можно ощутить патриархальную подоснову массового политического сознания, соединявшего ксенофобию и женофобию. Пожалуй, ничто другое так не подрывало авторитет власти, как эти слухи об императрице. Даже идейные монархисты под их влиянием превращались в оппозиционеров. Оппозиционные силы использовали данные слухи в своих целях и, по-видимому, способствовали их появлению, но и милитаристские, и шовинистические пропагандистские кампании, санкционированные властями, порой порождали слухи.
После революции, после появления многочисленных публикаций, пьес и кинофильмов миф о заговоре царицы воспринимался как нечто доказанное; в резолюциях она именовалась «уличенной в измене»{80}. Бывшая императрица олицетворяла моральное и политическое разложение верховной власти. В распространении и утверждении слухов немалую роль сыграли монархисты, но масштабы и характер «разоблачений» после Февраля создавали такую атмосферу, в которой необычайно сложно было ставить вопрос о сохранении в России монархического правления даже в форме конституционной монархии.
[375]
Примечания:
{1} Wortman R.S. Scenarios of Power. Myth and Ceremony in Russian Monarchy. Vol. 1. From Peter the Great to the Death of Nicholas I. Princeton; N.Y., 1995; Vol. 2. From Alexander II to the Abdication of Nicholas II. Princeton; N.Y., 2000 (переводы 1-го и 2-го тт. опубликованы в России в 2000-м и в 2005 г.).
{2} Соболев Г.Л. Революционное сознание рабочих и солдат Петрограда в 1917 г.: Период двоевластия. Л., 1973.
{3} Furet F. Penser la Penser la Revolution francaise. P., 1978 (русский перевод — 1998; Darnton R. Literary Underground of the Old Regime. Cambridge,1982; Van Kley D. The Damiens Affair and the Unraveling of the Old Regime, 1750-1770. Princeton, 1984; HuntL. Politics, Culture and Class in the French Revolution. Berkley, 1984; Chattier R Les origines culturelles de la Revolution francaise. P., 1990 (русский перевод — 2001); MerrickJ.W. The Desacralization of the French Monarchy in the Eighteenth Century. Baton Rouge, 1990.; Baker K. Inventing the French Revolution. Cambridge, 1991; FargeA. Dire et mal dire: L'opinion publique au XVHIe siecle. P., 1992 (английский перевод — 1994); Graham L.J. If the King Only Knew: Seditious Speech in the Reign of Louis XV Charlottesville, 2000; DupratA. Les rois de papier: La caricature de Henri III a Louis XVI. P., 2002.
{4} Lefebvre J. La grande Peur de 1789. P., 1932.
{5} Jacob L. La Grande Peur en Artois // Annales historiques de la Revolution francaise. 1936. P.123-148; Rude G. Introduction // Lefebvre G. The Great Fear: Rural Panic in Revolutionary France. N.Y., 1973; Revel J. La Grande Peur // Dictionnaire critique de la Revolution francaise / ed. F.Furet, M.Ozouf. P., 1988; Clay R. The Ideology of the Great Fear: The Soissonnais in 1789. Baltimore, 1992; Tackett T. La Grande Peur et le Complot Aristocratique sous la Revolution fran9aise // Annales historiques de la Revolution francaise. 2004. №335. P.1-17.
{6} Home J., Kramer A. German Atrocities, 1914: A History of Denial. New Haven; L., 2001.
{7} Крестьянское движение в России в годы Первой мировой войны (июль 1914 г. — февраль 1917 г.): Сб. документов / Ред. А.М. Анфимов. М.; Л., 1965. С.21, 44, 231, 260, 336, 343, 431.
{8} Чеботарева В. В дворцовом лазарете в Царском Селе // Новый журнал. 1990. Кн.182. С.205; Дневник бывшего великого князя Андрея Владимировича / Ред. В.П. Семенников. Л., 1925. С.84-85; Knox A.W.F. With the Russian Army. L., 1921. Vol.2. P.515.
{9} Великий князь Николай Михайлович. Записки // Гибель монархии. М., 2000. С.44.
{10} Переписка Николая и Александры Романовых (1916-1917 гг.). М.; Л., 1927. Т.5. С.44.
{11} РГИА. Ф.1405. Оп.521. Д.476. Л.97-97об., 106.
{12} Каррик В. Война и революция: Записки, 1914-1917 гг. // Голос минувшего. 1918. №4-6. С.11; House of Lords Record Office, Historical Collection-313. Этот отрывок не вошел в публикацию дневника Локкарта: Sir Robert Bruce Lockhart Diaries. The Diaries of Sir Robert Bruce Lockhart. Vol.1: 1915-1938 / ed. Kenneth Young. L., 1973.
{13} РГИА. Ф.1405. Оп.521. Д.476. Л.145об.
{14} Sir George Buchanan. My Mission to Russia and Other Diplomatic Memories. L.; N.Y; Toronto; Melbourne, 1923. Vol.2. P.56.
{15} РГИА. Ф.1405. Оп.521. Д.476. Л.216об.-217, 305об.
{16} Чеботарева В. Указ.соч. // Новый журнал. Кн.181. С.239.
{17} К истории последних дней царского режима (1916-1917 гг.) / Публ. П.Садиков // Красный архив. 1926 Т.1(14). С.242, 246.
{18} Русская армия накануне революции // Былое. 1918. №1 (29). С.152, 155-156; Октябрьская революция в Балтийском флоте (Из дневника И.И. Ренгартена) / публ. А.Дрезена // Красный архив. 1927. Т.6(25). С.34.
{19} РГИА. Ф.1405. Оп.521. Д.476. Л.146об.
{20} Балашов Е.М. Школа в российском обществе 1917-1927 гг.: Становление «Нового человека». СПб., 2003. С.59.
{21} РГИА. Ф.1405. Оп.521. Д.476. Л.310, 496, 532.
[376]
{22} Мэсси Р. Николай и Александра. М., 1992. С.301-302; Епанчин Н.А. На службе трех императоров. М., 1996. С.471.
{23} Чеботарева В. Указ.соч. // Новый журнал. Кн.182. С.205-206.
{24} Kerensky A. Russia and History's Turning Point. L., 1966. P.160.
{25} Спиридович А.И. Великая война и Февральская революция, 1914-1917 гг. Нью Йорк, 1960. Кн.2. С.92, 106, 169.
{26} Wren's Library (Trinity College, Cambridge), Layton Papers. Box 28-14. Allied Conference at Petrograd, January-February 1917. Report on Mission to Russia by Major David Davies, MP. P.1-3.
{27} Шульгин В.В. Дни. Л., 1926. С.108; Воейков В.Н. С царем и без царя: Воспоминания последнего дворцового коменданта государя-императора Николая II. М., 1995. С.166-167; Kerensky A.F. Op. cit. P.147, 150,159,160.
{28} Вырубов В.В. Воспоминания о корниловском деле // Минувшее. М.; СПб., 1992. Т.12. С.10-11.
{29} Чеботарева В. Указ.соч. // Новый журнал. Кн.181. С.212-213. В гостях у генерала П.Н.Краснова Чеботарева слышала рассказы генерала П.СДубенского, историографа Ставки: «...уверяет, что Александра Федоровна, Воейков и Григорий ведут усердную кампанию убедить государя заключить сепаратный мир с Германией и вместе с ней напасть на Англию и Францию...» (Там же).
{30} Сидельников В.Н. Народное поэтическое творчество предоктябрьского десятилетия: (1907-1917 гг.) // Русское народное поэтическое творчество. М.; Л., 1956. Т.2, Кн.2. С.440.
{31} Knox A.W.F. Op.cit. P.577; МайдельЕ. фон. Роман Романович фон Раупах // Columbia University Library. Bakhmetieff Archive. Raupakh Papers. Box №1, P.40; Мельгунов С.П. Судьба императора Николая II после отречения. Нью-Йорк, 1991. С.68, 69, 146-147; Мэсси Р. Николай и Александра. С.308-309.
{32} Труфанов И. Тайны дома Романовых. М., 1917. С.53, 128-131.
{33} Из дневника генерала В.И. Селивачева // Красный архив. 1925. Т.2(9). С.110-111.
{34} Балашов Е.М. Указ. соч. С.59.
{35} Палеолог М. Дневник посла. М., 2003. С.552; Sir George Buchanan. Op.cit. P.56.
{36} Тайны Царскосельского дворца. Пг., 1917. С.15; Труфанов И. Указ.соч. С.88.
{37} Что теперь поет Николай Романов и его К°. Киев, 1917. С.1.
{38} Каррик В. Указ. соч. // Голос минувшего. №7-9. С.55, 56, 57.
{39} Там же. №4-6. С.38, 41; №7-9. С.55.
{40} Чеботарева В. Указ. соч. // Новый журнал. Кн.181. С.242; Кн.182. С.204.
{41} РГИА. Ф.472. Оп.40. Д.47. Л.9.
{42} Буханцев Г. Беседа с князем Юсуповым // Новое время. 1917. 14 марта.
{43} Тайны дома Романовых. Вып.1: Фаворитки Николая II. Пг., 1917. С.16; Труфанов И. Указ. соч. С.83; Тайны русского двора. Вып.2: Царь без головы. Пг., 1917. С.1; Тайны дома Романовых // Альманах «Свобода». Вып.2. Пг., 1917. С.12.
{44} РГИА. Ф.1405. Оп.521. Д.476. Л.395, 473-473об.
{45} Из дневника генерала В.И. Селивачева. С.123.
{46} Богданович А.В. Три последних самодержца (Дневник А.В.Богданович). М.; Л., 1924. С.447-448; Дневник А.А. Бобринского (1910-1911 гг.) // Красный архив. 1928. Т.1(26). С.144.
{47} Шульгин В.В. Указ.соч. С.108.
{48} Лорд Берти. За кулисами Антанты: Дневник британского посла в Париже: 1914-1919. М.; Л., 1927. С.131.
{49} Чеботарева В. Указ.соч. // Новый журнал. Кн.182. С.205-206.
[377]
{50} Гиппиус З.Н. Современная запись // ОР РНБ. Ф.481. Оп.1. Д.1. Л.62об.
{51} Михайловский Т.Н. Записки: Из истории российского внешнеполитического ведомства: 1914-1920 гг. Кн.1: Август 1914 - октябрь 1917 г. М., 1993. С.149; Мельгунов С.П. Воспоминания и дневники. М., 2003. С.279.
{52} Чеботарева В. Указ.соч. // Новый журнал. Кн.181. С.203; Казнь Гришки Распутина // Альманах «Свобода». Вып.1. С.16. (Машинописные копии этого текста распространялись до февраля 1917 г.).
{53} Каррик В. Указ.соч. // Голос минувшего. №7-9. С.30; Из дневника генерала В.И.Селивачева. С.116.
{54} Буржуазия накануне Февральской революции... С.77-79.
{55} РГИА. Ф.1101. Оп.1. Д.1140. Л.20об. Тема развивалась в сатирической литературе 1917 года. Появились проекты надгробия «члену императорской фамилии». (Аякс (А.Я.Сип-съ). Сон старого бюрократа // Моряк. 1917. №8. С.188).
{56} Кускова Е. Люди Февраля и Октября // Новое русское слово. 1957. 24 марта; Правые партии: Документы и материалы. М., 1998. Т.2. 1911-1917 гг. С.645.
{57} Мосолов А.А. При дворе последнего императора: (Записки начальника канцелярии Министерства двора). СПб., 1992. С.98-99; Спиридович А.И. Великая война и Февральская революция, 1914-1917 гг. Нью-Йорк, 1962. Кн.3. С.74.
{58} Сорокина А. Первая мировая война и мода в России // Межвузовский центр сопоставительных историко-антропологических исследований. М., 2000. Вып.1. С.161-167.
{59} Smith B.G. Changing Lives: Women in European History Since 1700. Lexington, 1989. P.375.
{60} Рафальский С. Что было и чего не было. Л., 1984. С.21, 37, 48-49. Однажды группа возмущенных офицеров направилась к генералу: «Начальство на пикниках с сестрами милосердия, они же все — б...!» Генерал возразил, что его жена тоже работает в госпитале, офицеры смутились, но стояли на своем. (Родичев Ф.И. Воспоминания и очерки о русском либерализме. Newtonville, 1983. С.119).
{61} РГИА. Ф.1405. Оп.521. Д.476. Л.481-481об.
{62} РГИА. Ф.1405. Оп.521. Д.476. Л.310.
{63} Палеолог М. Указ.соч. С.685; Каррик В. Указ.соч. // Голос минувшего. №7-9. С.51, 54; Чубинский М.П Год революции (1917): (Из дневника) // 1917 год в судьбах России и мира: Февральская революция (От новых источников к новому осмыслению). М., 1997. С.233-234, 236.
{64} Октябрьская революция в Балтийском флоте: (Из дневника И.И. Ренгартена) / Публ. А. Дрезена // Красный архив. 1927. Т.6 (25). С.34; Тайны дома Романовых... Вып.2. С.6; Тайны русского двора. Вып.2: Царь без головы... С.1; Труфанов И. Указ. соч. С.92; К истории последних дней царского режима (1916-1917 гг.) / Публ. П.Садикова // Красный архив. 1926. Т.1 (14). С.246. {65} Великий князь Николай Михайлович. С.71.
{66} Knox A.W.F. Op.cit. P.558; Witnesses of the Russian Revolution / ed. H. Pitcher. L., 1994. P.24; Марков И. Как произошла русская революция // Рассвет. 1937. 27 нояб.
{67} Новая жизнь. 1917. 27 апр.
{68} «Мы пойдем по пути всевозможных социальных экспериментов»: (Февральская революция 1917 г. в семейной переписке П.П. Скоропадского) / Публ. Г.В. Папакина // Исторический архив. 2002. №5. С.140, 146.
{69} Русское слово. 1917. 7 апр.
{70} День. 1917. 27 марта.
[378]
{71} РГАЛИ. Ф.131. Оп.3. Д.483. Л.14.
{72} Бывший иеромонах Иллиодор (Сергей Труфанов). Святой черт - Записки о Распутине. 2-е изд. М., 1917. С.XI.
{73} Исторический вестник. 1917. Т.148. С.609-611.
{74} Дубнов С.М. Книга жизни: Воспоминания и размышления: (Материалы для истории моего времени). СПб., 1998. С.386.
{75} В погоне за сенсацией // Речь. 1917. 7 мая; Мельгунов С.П. Указ.соч. С.147-148; Майдель Е. фон. Указ.соч. С.41.
{76} Веселовский С.Б. Дневники // Вопросы истории. 2000. №3. С.86. Также см.: Тайны русского двора: Последние часы царствования Николая II. Харьков, 1917. С.1.
{77} Безпалов В. Театры в дни революции. Л., 1927. С.38; Русская музыкальная газета. 1917. №25-26. Стб.420; Петроградская газета. 1917. 14 июня; Блок А.А. Дневник. М., 1989. С.211.
{78} О кинофильмах см.: Росоловская В. Русская кинематография в 1917 г. Материалы к истории. М.; Л., 1937. С.57; Великий кинемо: Каталог сохранившихся игровых фильмов России, 1908-1919. М., 2002. С.364, 370, 377, 409; Аксенов В.Б. 1917 год: Социальные реалии и киносюжеты // Отечественная история. 2003. №6. С.12-13; Сине-фоно. 1917. №11-12. С.16-17 28-29 35 39 74, 119; Проектор. 1917. №7-8. С.9-10.
{79} Флит А.М. Ее величество пошлость // Русская стихотворная сатира 1908-1917-х годов / Сост. И.С. Эвентов. Л., 1974. С.582.
{80} Бурджалов В.Э. Вторая русская революция: Восстание в Петрограде. М., 1967. С.373-374; Hasegawa T. The February Revolution: Petrograd 1917 Seattle; L., 1981. P.220.
[379]
Ключевые слова: Александра Федоровна, история, Книги, Николай 2, первая мировая, пресса, революция, Россия
Опубликовал Виктор Хомутский , 22.03.2016 в 19:04https://historicaldis.ru/blog/43866159468/Sluhi-ob...Fedorovne-i-massovaya-kultura-
|
Метки: романовы красный крест |
Графиня Адлерберг Екатерина Николаевна |
[]
В стиле ЖЖ
Пишет Andrey Starkov (
2014-01-11 15:41:00
Графиня Адлерберг Екатерина Николаевна
Имя
Графиня Адлерберг Екатерина Николаевна
Девичья фамилия
Полтавцева
Дата рождения
1822 г.
Место рождения
с. Салтыково Тамбовской губернии
Вероисповедание
Православная
Отец
Полтавцев Николай Петрович. Возможно, внук Полтавцева Игнатия Кирилловича (1699 или 1700 г. - 6 ноября 1756 г.) и сын Полтавцева Петра Игнатьевича (род. ок. 1741 г.), выпускника Пажеского корпуса (1762 г.).
Мать
Полтавцева Дарья Алексеевна, урожденная Пашкова (3 апреля 1798 г. – 21 января 1841 г.). Дочь Алексея Александровича Пашкова и Натальи Федоровны, урожденной Новиковой. Похоронена в Сергиевой пустыни в Голицынской церкви.
Братья / сестры
Помимо Екатерины Николаевны в семье Полтавцевых было еще четверо дочерей:
- Елизавета (1817-1866), замужем за генералом от инфантерии графом Н.Т. Барановым (1809-1883);
- Зинаида (ум. 11 января 1854 г.), замужем не была, умерла в Риме, похоронена в в Сергиевой пустыни с Адлербергами;
- Ольга (1824 – 6 июля 1880 г.), замужем за генерал-лейтенантом Скобелевым Дмитрием Ивановичем (1821-1879), сын известный генерал Скобелев и три дочери Надежда, Ольга и Зинаида;
- Анна (1825-1904), замужем за Жеребцовым.

Ольга Николаевна
Кроме того, возможно, в семье было еще двое детей:
- Наталья (1815-1896);
- Корнелий (1823-1865), актер Малого театра
Учебное заведение
Смольный институт
Дата выпуска
1839 г.
Муж
Граф Адлерберг Александр Владимирович (1818-1888).


Представитель дворянского рода шведского происхождения.

Военный, государственный служащий. Генерал-адъютант (с 06 декабря 1855 г.). Генерал от инфантерии (30 августа 1869 г.). С 17 апреля 1870 г. по 1882 г. министр императорского двора и уделов. Член Государственного Совета. Кавалер ордена св. ап. Андрея Первозванного (1874 г.).
Cын генерала Владимира Фёдоровича Адлерберга и Марии Васильевны, урождённой Нелидовой, бывшей фрейлины, племянницы подруги императрицы Марии Фёдоровны, Екатерины Ивановны Нелидовой.
Дата вступления в брак
Дети
- Александр (06 мая 1843 г. – 25 мая 1849 г);
- Николай (12 августа 1844 г. – 14 апреля 1904 г.), генерал-майор (с 1885 г.), женат с 1873 г. на Евгении Александровне Галл (1854-1914), три дочери;
- Владимир (11 июля 1846 г. - ?), в 1885 г. камер-юнкер, в 1917 г. причислен к Министерству императорского двора, две дочери Вера и Юлия и сын Алексей. Данных о жене нет;
- Мария (29 марта 1849 г. – 1926), замужем с 1874 г. за князем Н.Д. Дадиани (1847-1903), сын и две дочери;
- Александра (1852 – 1855);
- Александр (17 июля 1852 г. – 11 февраля 1854 г.).

Дочь Мария
Дата назначения фрейлиной
Придворная статс-дама и кавалерственная дама ордена св. Екатерины 1 степени
Награды
Дата смерти
3 июня 1910 г.
Место смерти
Царское Село
Место захоронения
Похоронена в Сергиевой пустыни
Обстоятельства смерти
Комментарии
Ссылки
http://forum.svrt.ru/index.php?showtopic=1748&...threaded&start=#entry35074
http://ru.wikipedia.org/wiki/Адлерберг,_Александр_Владимирович
http://ru.wikipedia.org/wiki/Адлерберг,_Николай_Александрович_(генерал)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Скобелева,_Ольга_Николаевна
http://ru.wikipedia.org/wiki/Полтавцов,_Игнатий_Кириллович
http://kdkv.narod.ru/Pazh/Pazh.htm
http://www.r-g-d.org/P/pltvcev.htm
http://temples.ru/card.php?ID=18350
Метки: фрейлины
|
Метки: адлерберг фрейлины |
Лазарет в Царском Селе |
| http://www.textfighter.org/raznoe/History/kuzn1/of...nom_iz_zalov_ekaterininskogo_d |
|
С. Я. Офросимова вместе с Великими Княжнами работала в одном из залов Екатерининского дворца в Царском Селе, превращенном в склад, где дамы и девушки работали над упаковкой бинтов, приготовлением корпии. Почти ежедневно в складе работали и Царские Дочери. Госпоже С. Я. Офросимовой мы обязаны портретами Царских Детей. Именно ей мы обязаны и глубоким пониманием внутренней сущности Царских Детей, проживших такую короткую жизнь и не успевших ни проявить всех своих душевных качеств, ни пожить радостями молодости. «На долю их выпало совсем иное... Они выпили до дна всю чашу страдания, выпили кротко и смиренно, укрепляясь духом в своем заточении. Так же как и в дни своего величия, они разливали вокруг себя лишь свет и любовь, всем находили они ласковое слово и не забыли тех, к кому были привязаны и кто им остался верен. Даже в заточении находили они свои радости и облегчали муки безграничной любовью друг к другу. Вера в Бога и в торжество добра, любовь к родине, всепрощение и любовь ко всему миру Божьему не меркли, но росли в их сердцах в ужасные дни испытаний. * * * Дети, как называла Великих Княжон А. А. Танеева и Ю. А. (Лили) Ден (самые близкие подруги Государыни и Царских Детей) целиком разделяли взгляды Августейших родителей, которые не любили ничего показного, кричащего, стремились держаться подальше от «ликующих, праздно болтающих». Они наслаждались самыми простыми радостями — общением с природой, друг с другом, с простонародьем, которое по своему укладу жизни ближе всего к земле, к деревенскому восприятию мира. «Жили мы тогда счастливой жизнью. Великие Княжны на глазах превращались из девочек в цветущих, очаровательных девушек. Нельзя сказать, чтобы они были похожи друг на друга внешне, каждая из Их Высочеств обладала характерной для нее внешностью. Но все они были наделены милым нравом. Не могу себе даже представить, что нашлись нелюди, которые, говорят, стреляли и наносили удары штыком этим беспомощным созданиям в Екатеринбургском доме смерти. Не только их красота, но и их приветливость должны были бы послужить им защитой. Однако, если правда, что они погибли, то лучшей эпитафией им будут эти бессмертные слова: «Милы и прекрасны они были при жизни, и смерть не смогла разлучить их». * * * «Забыв присягу в верности и звание флигель-адъютанта, которое он [Великий Князь Кирилл Владимирович] получил от Императора, он пошел сегодня в четыре часа преклониться пред властью народа... И все, офицеры и солдаты, заявляли о своей преданности новой власти, которой они даже названия не знают... Во время сообщения об этом позорном эпизоде я думаю о честных швейцарцах, которые были перебиты на ступенях Тюильрийского дворца 10 августа 1792 года. Между тем, Людовик XVI не был их национальным государем и, приветствуя его, они не называли его «Царь-Батюшка», — писал Морис Палеолог, французский посол, о начале февральского переворота. «Государю тогда было 50 лет. Чрезвычайно честный, жизнелюбивый, добрый и сострадательный по натуре, горячий патриот. Он превосходно говорил и писал по-английски и по-немецки, обладал исключительной памятью. Императрице Александре Феодоровне исполнилось 45 лет. Она сохранила следы былой красоты и изящества. У нее были чудные добрые серые глаза... Не будучи высокомерной в обычном смысле этого слова, Государыня никогда не забывала своего положения. Вид у нее был царственный, но в ее присутствии я чувствовал себя просто, без стеснения... Ее религиозность, присущая православным верующим, была совершенно искренней и не носила каких бы то ни было следов истеричности. (Слова Гиббса опровергают клеветническое утверждение Великого князя Александра Михайловича — «Сандро»: «Ее религиозность получила истерический характер».) Более напористая и энергичная по натуре, чем Царь, Императрица никогда не перечила Супругу. Я ни разу не видел, чтобы они ссорились. Великой Княжне Ольге Александровне в Тобольске исполнилось 22 года. Белолицая, с золотисто-русыми волосами и прекрасными голубыми глазами. После болезни она сильно похудела. Неиспорченная по природе, скромная, добрая, открытая, подчас она могла вспылить, быть резкой... Своими моральными принципами напоминала Отца, которого боготворила. Ее отличала особая религиозность». По словам Гиббса, Великая Княжна Ольга Николаевна унаследовала от Государя лучшие стороны его души: простоту, доброту, скромность, непоколебимую честность, неистребимую любовь к Родине, а от Императрицы — горячее религиозное чувство, самообладание и крепость духа. Она и слышать не хотела, чтобы выйти замуж за иностранного принца: «Я не хочу покидать Россию. Я русская и хочу остаться русской». Третья дочь Августейшей четы, Мария Николаевна, как показалось Гиббсу, была крепкой, веселой и — чуточку — с ленцой. * * * 1 |
|
Метки: лазареты |
Дом А. Танеевой (МОН.МАРИИ) в Царском Селе — одно из самых старых сохранившихся зданий |
- Дом А. Танеевой (МОН.МАРИИ) в Царском Селе — одно из самых старых сохранившихся зданий
Дом А. Танеевой (МОН.МАРИИ) в Царском Селе — одно из самых старых сохранившихся зданий

27 апреля , 2016
Одно из самых старых зданий Царского Села находится на пересечении Средней и Церковной улиц. Не так давно в нем располагался районный ЗАГС, а сейчас — концертный зал «Петербургские серенады». История этого здания уходит далеко в прошлое – постройка значилась еще на картах XVIII века.
«Дом Теппера/Вырубовой» — единственный особняк, сохранившийся до наших дней от застройки Средней улицы последнего периода существования дворцовой слободы. Архитектором является П.В. Неелов.
В здании жил учитель музыки и пения лицеистов Л.В. Теппер де Фергюссон, талантливый музыкант и композитор. Он был капельмейстером при русском Дворе, учителем музыки великих Княжон, сестер Императора Александра I. В его доме бывал молодой А.С. Пушкин и его друзья-лицеисты.
От Теппера де Фергюссона дом перешел в собственность историка Н.П. Липранди, затем во владение графини Э.И. Игельстром. Впоследствии принадлежал вдове литератора Б.М. Маркевича.
 В 1900-е годы в нем жил русский композитор и пианист С.И. Танеев. С 1907 года по 1917 здесь жила Анна Александровна Танеева (в замужестве Вырубова) — фрейлина, ближайшая и преданнейшая подруга императрицы Александры Федоровны, праправнучка фельдмаршала Кутузова.
В 1900-е годы в нем жил русский композитор и пианист С.И. Танеев. С 1907 года по 1917 здесь жила Анна Александровна Танеева (в замужестве Вырубова) — фрейлина, ближайшая и преданнейшая подруга императрицы Александры Федоровны, праправнучка фельдмаршала Кутузова.
Она много лет находилась рядом с императорской семьей, сопровождала их во многих путешествиях и поездках, присутствовала на закрытых семейных мероприятиях.
Из воспоминаний А.А. Танеевой (Вырубовой), 1907: «После нашего возвращения в Петроград мужу стало хуже, и доктора отправили его в Швейцарию. Но пребывание там ему не помогло, а я все больше и больше его боялась… Весной он получил службу на корабле. После года тяжелых переживаний и унижений несчастный брак наш был расторгнут. Я осталась жить в крошечном доме в Царском Селе, который мы наняли с мужем; помещение было очень холодное, так как не было фундамента и зимой дуло с пола. Государыня подарила мне к свадьбе 6 стульев, с ее собственной вышивкой, акварели и прелестный чайный стол. У меня было очень уютно. Когда Их Величества приезжали вечером к чаю, Государыня привозила в кармане фрукты и конфеты, Государь «шери-бренди». Мы тогда сидели с ногами на стульях, чтобы не мерзли ноги. Их Величеств забавляла простая обстановка. Сидя у камина, пили с сушками чай, который приносил мой верный слуга Берчик, камердинер покойного дедушки Толстого, прослуживший 45 лет в семье. Помню, как Государь, смеясь, сказал потом, что после чая у меня в домике он согрелся только у себя в ванной».
«Домик А. Вырубовой», писал управляющий министерством внутренних дел А.Д. Протопопов, стал своеобразной «папертью власти». Здесь бывали Император Николай II, его супруга, Великие княжны, Г.Е. Распутин. Таким образом, здание сыграло заметную роль в истории последних дней монархии.
 2 (15) января 1915 года, выезжая из Царского Села в Петроград, Анна Вырубова попала в железнодорожную катастрофу, чудом выжив, осталась калекой на всю жизнь. Передвигаться после этого могла лишь в инвалидном кресле-каталке или на костылях; в более поздние годы — с палочкой. На денежную компенсацию за полученную травму Вырубова организовала в Царском Селе военный госпиталь.
2 (15) января 1915 года, выезжая из Царского Села в Петроград, Анна Вырубова попала в железнодорожную катастрофу, чудом выжив, осталась калекой на всю жизнь. Передвигаться после этого могла лишь в инвалидном кресле-каталке или на костылях; в более поздние годы — с палочкой. На денежную компенсацию за полученную травму Вырубова организовала в Царском Селе военный госпиталь.
С начала Первой мировой войны Вырубова работала в госпитале сестрой милосердия наряду с императрицей и ее дочерьми.
После Февральской революции 1917 года Вырубова была арестована Временным правительством и, несмотря на инвалидность, несколько месяцев в тяжелых условиях содержалась в Петропавловской крепости по подозрению в шпионаже и предательстве, после чего «за отсутствием состава преступления» была выпущена на свободу. Потом неоднократно подвергалась арестам и допросам, содержалась в тюрьмах.
После того, как во время революции ее выпустили из тюрьмы, она, желая избежать повторного ареста, находила приют в подвалах и каморках бедняков, когда-то вырученных ею из нищеты.
В декабре 1920 года Вырубовой удалось вместе с матерью нелегально перебраться в Финляндию, где она и прожила оставшиеся 40 лет своей жизни (под девичьей фамилией Танеева), приняв постриг с именем Мария в Смоленском скиту Валаамского монастыря. Умерла в июле 1964 года в возрасте 80-и лет.
Мемуары Анны Александровны Танеевой-Вырубовой являются бесценным историческим источником и достаточно точно характеризуют обстановку при российском императорском дворе накануне революции.
Теги:
- Анна Танеева
- ,
- Дом Анны Танеевой Вырубовой в Царском Селе
- ,
- Дом Теппера в Царском Селе
- ,
- История и современность
- ,
- История Царского Села
- ,
- Пушкин
http://mygid.info/dom-a-taneevoj-mon-marii-v-tsars...tary-h-sohranivshihsya-zdanij/
|
Метки: дворянские владения танеевы вырубовы |
Непризнанная дочь Екатерины Великой |
Непризнанная дочь Екатерины Великой
Есть люди, над загадкой происхождения которых историки ломают голову до сих пор. Одной их таких является Елизавета Григорьевна Тёмкина.
У Екатерины Великой было много фаворитов, однако, Григорий Александрович Потемкин особенный. Ему удалось стать не только любовником императрицы, но и её близким другом, правой рукой, помощником во всех делах и начинаниях.
Сменив в качестве фаворита Григория Орлова, его тёзка оказался мудрее, дальновиднее, деятельнее. Отношения Потёмкина и Екатерины II в определённый период времени были настолько близкими, что возникла даже версия об их тайном венчании.
Екатерина Великая и Григорий Потемкин
Как известно, от Григория Орлова Екатерина родила сына Алексея. Учитывая привязанность императрицы к Потёмкину, вполне возможно, что Екатерина решилась родить ребенка и от него. 13 июля 1775 года в Москве тайно была рождена девочка, наречённая Елизаветой. Грудной ребёнок был отвезён Потёмкиным к его сестре Марии Александровне Самойловой, а опекуном девочки был назначен его племянник Александр Николаевич Самойлов.
Когда девочка подросла, в 1780-х годах ей подобрали другого опекуна — им стал лейб-медик Иван Филиппович Бек, врачевавший внуков императрицы. В дальнейшем девочка была отдана для обучения и воспитания в пансион.
Елизавета Григорьевна Темкина (В.Л.Боровиковский)
По тогдашней традиции, фамилия незаконнорожденному отпрыску высокородного отца образовывалась за счёт убирания первого слога из фамилии родителя. Так на Руси появлялись Бецкие, Пнины и Лицыны — незаконнорожденные потомки князей Трубецких, Репниных и Голицыных. Так что никаких сомнений в том, что Лиза Тёмкина была дочерью Григория Потёмкина, нет.
Но вот была ли её матерью императрица? В течение некоторого времени до и после дня рождения девочки, императрица не появлялась на публике. По официальной версии, Екатерина получила расстройство желудка из-за немытых фруктов. В этот период она действительно находилась в Москве, где проходило празднование Кючук-Кайнарджийского мирного договора, завершившего русско-турецкую войну. То есть все условия для того, чтобы тайно произвести на свет ребёнка, у Екатерины были.
Екатерина Великая //Статьи выходят ежедневно после 14:00 по Мск
Более всего вызывал сомнения возраст самой Екатерины: к моменту предполагаемых родов ей было уже 46 лет, что немало с точки зрения деторождения и сегодня, а по меркам XVIII века и вовсе казалось возрастом запредельным.
Вторая причина для сомнений — отношение Екатерины к Елизавете Тёмкиной. Вернее, отсутствие, какого бы то ни было отношения. На фоне сначала заботы, а потом и гнева по отношению к сыну от Орлова Алексею Бобринскому такое равнодушие императрицы выглядит странным.
Нельзя сказать, что и отец баловал девочку вниманием, хотя всё необходимое у Елизаветы, конечно, было.
Григорий Потемкин - Таврический
Есть предположение, что матерью Елизаветы могла быть одна из фавориток самого Потёмкина, которые, разумеется, не могли конкурировать с императрицей, и о которых мало что известно. Однако убедительных доказательств нет и у этой версии.
По свидетельству современников, сама Елизавета Тёмкина знала еще с детства, что является дочерью Григория Потёмкина и Екатерины Великой. После смерти отца Елизавете Тёмкиной были пожалованы крупные поместья в Херсонской области — крае, развитию и обустройству которого много сил отдал светлейший князь.
В 1794 году 19-летнюю богатую невесту выдали за 28-летнего секунд-майора Ивана Христофоровича Калагеорги. Сын греческого дворянина, гвардеец-кирасир Иван Калагеорги был человеком заметным. С детства он воспитывался вместе с великим князем Константином Павловичем и поэтому входил в число приближённых императорской семьи.
Портрет Елизаветы Григорьевны Тёмкиной в образе Дианы. 1798 год / Public Domain
Этот брак получился счастливым — у Ивана и Елизаветы родились десять детей, 4 сына и 6 дочерей. Сам Иван Калагеорги дослужился до чина губернатора Екатеринославской губернии.Одни современники называли Елизавету избалованной, самоуверенной и неуправляемой, другие — скромной женщиной и хорошей матерью.
После того, как Елизавета вышла замуж, один из её прежних опекунов Александр Самойлов заказал известному художнику Владимиру Боровиковскому её портрет. Портрет был готов через год. Боровиковский также выполнил его миниатюрное повторение на цинке.
На нём Елизавета была изображена в образе древнегреческой богини Дианы, с обнажённой грудью, с украшением в виде полумесяца в прическе (по заказу Самойлова). Потрет и миниатюра были подарены семье Калагеорги. Елизавета Григорьевна Тёмкина-Калагеорги прожила жизнь, далёкую от политических бурь, и умерла в мае 1854 года, в возрасте 78 лет.
Фото взяты из открытого доступа в интернете.
Литература: Д.Н.Овсянико-Куликовский "Потемкин. История в лицах".
ttps://zen.yandex.ru/media/id/5b9cf2c3b76d9000aa06fdac/nepriznannaia-doch-ekateriny-velikoi-5c5731cf62f8ac00acb94301
|
Метки: романовы потёмкины |
Гедройц Вера |
Гедройц Вера
Новое о Сергее Гедройц (Вере Гедройц). Предисловие, публикация и комментарии А.Г.Меца.
Оригинал материала находится по адресу:
kfinkelshteyn.narod.ru/Tzarskoye_Selo/Gedroitz2d.htm
Опубликовано: "Лица". Биографический альманах. 1. М.; СПб., 1992.
Из воспоминаний И.Д.Авдиевой
<...> Думаю, что смерти полной нет — пока есть преемственность. Существо мое духовное состоит из множества частиц, заимствованных у людей любимых. Даже и внешне иногда немножко подражаешь понравившемуся жесту, интонации, делаешься незаметно для себя слегка похож на близкого друга. < ... > Я сама знаю, что, любя Веру Игнатьевну Гедройц, научилась у нее любить все то, что поднимает жизнь над уровнем обывательщины, что красит будни в праздники. Вся ее жизнь была увлекательнейшим романом, и долгая дружба с ней во многом изменила меня. Она жила в том же доме, что и мы с мужем [1], и была старшим хирургом города. Большая, немного грузная, она одевалась по-мужски. Носила пиджак и галстук, мужские шляпы, шубу с бобровым воротником. Стриглась коротко. Для ее роста руки и ноги у нее были малы, но удивительно красивы. Черты лица — суховатые и слишком тонкие для грузной фигуры — при улыбке молодели.
Было ей тогда лет пятьдесят пять. Она пришла к нам и сказала, что хочет познакомиться с художниками, что она не только хирург, но и писатель. На стол она положила стихи, изданные в Ленинграде до войны под псевдонимом Сергей Гедройц. Стихи были неважные. Жила она в большой квартире с Марией Дмитриевной Нирод и ее детьми, Федором и Мариной. Вера Игнатьевна была княжна, Марья Дмитриевна графиня. Отношения у них были супружеские. Обе очень близки были к царской фамилии и бежали из Царского Села в Киев, где скрывались долго в Киево-Печерской Лавре у монахов. Потом поселились в нашем доме, много раз арестовывались [2], но каждый раз выпускались по просьбе власть имущего чекиста-ленинградца, которому во время войны четырнадцатого года Вера Игнатьевна сделала в царскосельском госпитале сложнейшую операцию.
В этом госпитале у Веры Игнатьевны работала императрица Александра Федоровна с дочерьми — работали медицинскими сестрами. Общение с царской семьей было довольно частым и близким. Для Веры Игнатьевны царственная Александра прежде всего была хорошей, исполнительной медицинской сестрой.
Мне запомнился рассказ о семье последнего русского царя, Распутине и Вырубовой [3]. Николай Второй был глуп, нерешителен, податлив влияниям чужой сильной воли. Детей своих любил очень, а Александру боялся. Царица могла бы быть царицей, если бы не мрачная мистичность ее духа и странное предчувствие обреченности, захлестнувшее темным потоком разум, честолюбие, волю. Внешне холодная и выдержанная, царица жила в состоянии ожидания ужаса грядущего. < ... >
«Визион»
Приходила к нам в 1928 году Зоя Николаевна Родзянко. Давала мне, мужу и Аленушке [4] уроки французского языка. Бесплотной худобы. Тень, привидение — по-французски «визион».
Жила одна-одинешенька в коммунальной квартире возле кухни, вернее, в кладовке. Старый фокстерьер Дик понимал, что лаять нельзя, привередничать в еде нельзя.
Неподалеку от Родзянко в такой же жалкой комнатенке жила Мария Николаевна Игнатьева, графиня. Из тех Игнатьевых, состояние которых было одним из крупнейших в дореволюционной России. Писатель Игнатьев [5] приходился Марии Николаевне двоюродным братом и принадлежал к ветви бедных Игнатьевых. Свое огромное состояние, поместье, ценности всех видов — единственная наследница Мария Николаевна не сохранила. Больницы, приюты, церкви, учрежденные ею, поглотили весь капитал.
Она приняла «белое монашество» — дала обет безбрачия и посвятила жизнь свою Богу и людям. Творить добро — значило для Марии Николаевны то же, что молиться. К 1917 году от состояния ничего не осталось, кроме двух драгоценностей: драгоценной белой кружевной косынки «мамы», которую Мария Николаевна надевала на Пасху, и черной кружевной косынки, которую она носила ежедневно в зной и холод. С Марией Николаевной жила горбунья Любочка, бывшая ее горничная — существо необыкновенной кротости и молчаливости.
Никакого подобия кровати в комнате не было. Стояло деревянное кресло, в котором бывшая графиня спала сидя. Дома ее застать было трудно, т.к. она всегда находилась там, где кто-то тяжело хворал, умирал. Уход за больными был ее схимой в миру. Если могли — платили за бессменное дежурство, и на эти деньги существовала Любочка, которая спала на полу и стегала одеяла.
Во всем облике Родзянко и Игнатьевой было что-то такое, что определялось лучше всего словом «визион».
Они были нереальны. Неправдоподобны. Их походка, движения, манера говорить — как отзвук, как нечто потустороннее. И такой же был Шредер. Осколок. Жил в такой же щели. Один. Старый. В прошлом занимал видный пост в Сенате. Часто бывал на придворных приемах. Чудом уцелел. Бежал из Ленинграда вместе с Родзянко, княжной Гедройц, графиней Нирод и Игнатьевой, когда начали уничтожать оставшихся в России аристократов. Бежали они потому, что отцы церкви настаивали на том, чтобы «белые монахини», графини Нирод и Игнатьева[6], переправлены были под покровительство Лавры и были от смерти спасены. Шредеру поручили их сопровождать из Ленинграда в Киев, а Гедройц семью Нирод считала своей и поехала с ними. Самое опасное время они пересидели у лаврских монахов, тогда еще существовавших. Когда же с аристократами было покончено, в Киеве появились просто Гедройц, Нирод, Игнатьева, Родзянко, Шредер. Гедройц Вера Игнатьевна — первая женщина-хирург, окончившая в Женеве. Любимая ученица профессора Ру. Человек сложный и одаренный. Это она на фотографиях в «Ниве» вместе с царской семьей в 1906 году[7]. В те времена по России гремели подвиги генерала Гурко[8], его ранение и смелость хирургической операции, которую сделала Гурко В.И.Гедройц и спасла ему жизнь. Война с Японией выдвинула Гедройц как блестящего организатора прифронтовых госпиталей и умного дипломата. Среди пленных японцев оказался раненый японский принц — попал в госпиталь к Гедройц, и по окончании войны Вере Игнатьевне воздавали благодарственные почести. В киевской квартире у нее висели шелковые, ручной вышивки, панно, на письменном столе стояли божки благополучия из слоновой кости. Принц японский прислал дары русским монархам и написал высокопарные слова о «дарительнице жизни, обладательнице рук исцеляющих, Гедройц». Царица Александра Федоровна вызвала Веру Игнатьевну в Царское Село, и с тех пор Вера Игнатьевна стала близким человеком в семье последних Романовых. То, что она рассказывала о царской семье, общеизвестно. Николай был глуп, робок, косноязычен. Александра была умна достаточно образованна и вместе с тем одержима мистическими страхами. К дочерям была равнодушна, зато к наследнику питала любовь неистовую, по словам Веры Игнатьевны, патологическую. Наследника держали буквально под стеклянным колпаком. Малейшая царапина кровоточила у него месяцами. Есть такая болезнь, когда кровь не сворачивается. Императрице все время представлялось, что болезнь символична, что династия Романовых обречена, обрушится удар и последний Романов истечет кровью. Этим ее страхом умело пользовался Распутин.. «Мама, — говорил он царице, — пока я с Вами, ничего не случится — живы будете, не бойся».
Вера Игнатьевна решительно опровергала слухи о том, что Александра в войне с немцами четырнадцатого года участвовала в изменническом заговоре на стороне Вильгельма против России. Немка по происхождению, она по суеверию своему к войне относилась как к чему-то предопределенному и не желала вмешиваться в судьбы свершения. Ум ее был занят анализом снов, предчувствий, прорицаниями старца. Все действия были мелки, все крупное проходило мимо, и царапина Алексея-царевича была для нее значимее войны, поражения, бедствия всенародного.
Гедройц стала в 1914 году лейб-медиком царскосельского госпиталя. Царица и великие княжны работали в этом госпитале сестрами милосердия. Вера Игнатьевна во время сложных хирургических операций покрикивала на императрицу российскую, и та сносила; могла бы быть, по словам Веры Игнатьевны, хорошей хирургической сестрой — хладнокровной и точной. Великих княжон Гедройц расценивала как девушек недалеких, для которых флирт с выздоравливающими офицерами был смыслом жизни. Несчастный царевич Алексей был стеклянным мальчиком — тихий и послушный, осторожный, молчаливый.
У Гедройц годы, проведенные в Женеве, вытравили монархические убеждения[9]. Она считала революцию неизбежной и необходимой.
Под псевдонимом брата Сергея Гедройц она писала новеллы, которые изредка печатались в журналах, редактируемых символистами. Гумилев, Гиппиус, Ремизов были для Гедройц той средой, где свободомыслие Женевы находило сочувствие, где шли споры о будущем России.
Когда это будущее наступило, стало настоящим, взбугрилось, вздыбилось революцией — вся беспочвенность и наивность предвидений была опрокинута кровью террора, местью восставших, ненасытным разгулом вырвавшегося народного гнева.
Свершилось то, что предчувствовала царица, — последние Романовы вместе с ранее убитым Распутиным, престолом и коронами канули в вечность. Революция выкосила аристократов. Точно взмахивала косой — сначала скосила венценосные созвездия на длинных стеблях, потом подрезала высокие травы, снова размахнулась и косила у самой земли, и только ползучая травка, цепкая, не цветущая, однообразная, не смочила соком своим безжалостное лезвие. Те, кто уцелел, были «визион» — тени. Сознавали, что жить не должны, а живут. Шредер приходил обедать к Вере Игнатьевне раз в неделю. Он был настолько неимущ и беспомощен, что немногие его друзья были вынуждены по очереди кормить Шредера той скудностью, которую потребляли сами. В понедельник он обедал у Гудим-Левкович, во вторник у Гедройц, в среду у Родзянко. Дня два в неделю не у кого было обедать, и он ничего не ел. Приходил к Гедройц за час до обеда. С палочкой. Белоснежный воротничок, жестко накрахмаленные манжеты. Безукоризненные ногти. Прямой, изысканно-вежливый. Входил, склонялся к руке Марии Дмитриевны Нирод, называл ее «princesse», Веру Игнатьевну «la comtesse Vera». Нелепо выглядел красиво сервированный стол с хрусталем и серебром. Подавался пшенный суп с тюлькой, пшенная каша, слегка политая постным маслом, а на третье странное пойло из бу-ряков, которое разливали в японские пиалы. Все это ели особым образом, на разных тарелках. Выглядело так, будто едят суп из черепахи, гурьевскую кашу, ананасы в вине.
Шредер вел разговор светский, легкий. О революции не говорили. Однажды только Шредер сказал, что он вечерами раздваивается. «Я прихожу в свою, свою... — и он затруднился назвать щель, в которой он жил, комнатой, — excuse moi, конуру и делаюсь Жаном — это был у меня в Петербурге лакей, и стараюсь делать все так, как делал Жан: стелю постель, приготавливаю шлафрок, мою стакан и наливаю в него чистой воды. Потом ухожу, гуляю, и когда вхожу в свою, excuse, конуру — я уже не Жан, я воображаю, что это мне приготовил для сна мой лакей».
Вскоре Шредер умер, и Вера Игнатьевна подозревала, что ему удалось достать сильнодействующее снотворное и умертвить себя и Жана в себе.
Родзянко, Шредер, Игнатьева были «визион», они жили только воспоминаниями или отрешенностью подвига. Вера Игнатьевна прошлым не жила, ее активная натура требовала деятельности. Она стала главным хирургом города, оперировала, читала лекции.
Она жила в том же доме, что и мы с мужем. Однажды она пришла к нам и сказала, что скучает без общения с художниками. Мы быстро сблизились и очень полюбили ее.
Грузная, с лицом — похожа на французского аббата, с маленькими руками и ногами, она одевалась по-мужски и о себе говорила в мужском роде: «Я пошел, я оперировал, я сказал». Фактически Мария Дмитриевна Нирод была не подругой Гедройц, а женой. Дети Нирод Марина и Федор чувствовали к ней неприязнь, и не зря, ибо мать их сильно пренебрегала своими материнскими обязанностями, отдавая все свои помыслы и время Гедройц, медицинской работе (она была у Веры Игнатьевны хирургической сестрой) и делам церковным. Мы очень часто с мужем поднимались наверх к Гедройц и, к восторгу Веры Игнатьевны, создавали обстановку литературной богемы. Читали стихи, писали буримэ, Гедройц играла на скрипке, я ей аккомпанировала на фортепиано. Порой мы расходились на три-четыре такта, но это не смущало нас. Мы играли, не замечая, что слушатели забились в самую дальнюю комнату, чтобы не слышать какофонии. Вместе с Верой Игнатьевной мы написали сценарий: «Профилактика рака». Его приняли к постановке, даже аванс нам выдали, но почему-то сценарий так и не пошел в производство. Гедройц много писала научных статей о раке и отвергала теорию вирусного происхождения рака. Она считала, что это патологический рост остаточных зародышевых клеток.
Рак, с которым она боролась хирургическим ножом, жестоко отомстил ей. В 19<32>-ом году она погибла от рака брюшины с метастазами в печень, через год после перенесенной операции (удаление матки). До своей болезни ей удалось написать трилогию мемуарного характера: «Кафтанчик», «Лях», «Отрыв». Книги были изданы. Я помогала ей править корректуры, и она заставила меня заняться литературой.
На гонорары за книги она купила дом в пригороде Киева, оставила хирургическую деятельность и решила заниматься только писательской. Купила себе корову, которая упорно не давала молока, старалась оградить себя от нашествия служителей церкви, монахов, богоискателей, странников.
В доме всегда находился кто-нибудь в черной рясе, поучающий и указующий путь совершенствования. Церковники шли к Нирод, писатели, художники, садоводы и просто пьяницы группировались вокруг Веры Игнатьевны.
Из Ленинграда пришло письмо. Союз писателей просил Веру Игнатьевну помочь Федину, который заболел туберкулезом, и содействовать его помещению в лечебницу Дюсеранвиля в Давосе. Дюсеранвиль, как и Вера Игнатьевна, был учеником Ру и на ее просьбу ответил немедленно и утвердительно. Федин поехал в Давос[10].
У Гедройц начался рецидив раковый, и она сказала мне: «Давай напьемся в последний раз и кстати поставим эксперимент. Замечала ли ты, что собаки, кошки едят всегда одну и ту же травку — вот эту остренькую. Нарежь этой травки, неси сулею с широким горлом — заливай траву спиртом, пусть постоит недельку». Сидели мы с ней под грушей, пили через неделю ядовито-зеленую жидкость отвратительного вкуса, выпили много, и когда нас вывернуло наизнанку и мы поплыли в обморочное беспамятство — Вера Игнатьевна слабым голосом сказала: «Для собак годится, для людей плохо, думала — рак в себе убью, резать уже бесполезно — везде он». Умирала долго, мучительно. Писала стихи. Соборовали ее. За день до смерти, ночью, вынула из-под подушки сафьяновую папку, достала письмо. «Леня, — зашептала, обращаясь к мужу, — возьми, сохрани. Это Ру мне пишет, что кафедру женевскую хирургическую мне завещает. Это для русской хирургии честь, понимаешь? Надо, чтобы это в истории осталось. Время придет — отдашь кому следует. Обещай. Это след мой, в этом жива буду. И еще знайте, когда оперируют рак, надо избегать иглы, нельзя прокалывать больную клетку, не понимают. У моих потому и метастазов не было, что я это знала».
В 1937-м, когда арестовывали мужа, при обыске нашли это письмо Ру на французском языке. При допросах размахивали письмом, как доказательством шпионской деятельности. Переводом не интересовались. «Шифром написано, признавайся, сволочь, мы и Верку найдем. Вы заговорите, гады...»
Не осталось следа.
Дом продали. Нирод поселилась у монахинь Введенского монастыря. В войну пропал сундучок с дневниками и архивом интереснейшим Веры Игнатьевны. < ... >
Родзянко во время войны перебралась за границу. Любочка и фокстерьер Дик во время немецкой оккупации скончались. Мария Николаевна Игнатьева до последнего вздоха несла свою схиму — когда кончилась война, она сидела в своем кресле, бестелесная, все та же черная кружевная косынка на голубовато-серебряной голове. От слабости не могла встать. Голодала. Молчала. Я написала ее двоюродному брату писателю Игнатьеву, что Мария Николаевна умирает от дистрофии — он прислал 25 рублей — по теперешним деньгам 2 р. 50 коп. Хватило на два стакана пшена и литр молока. Так, сидя в кресле, и умерла. Похоронили ее в белой кружевной косынке мамы.
1. Киевский адрес Гедройц: Круглоуниверситетская, д. 7а, кв. 25.
2. Эти сведения неточны. По свидетельству Ф.Ф.Нирода, сына М.Д.Нирод, его мать стала медсестрой после смерти мужа, полковника Ф.Ф.Нирода, в 1913 г. В Киеве они жили при госпитале, развернутом в помещениях Киево-Печерской лавры. Сведениями об арестах Гедройц мы не располагаем.
3. Анна Александровна Вырубова (урожд. Танеева, 1884-1964), фрейлина императрицы Александры Федоровны и посредница в ее отношениях с Г.Распутиным, также была медсестрой Царскосельского госпиталя во время войны, о чем писала в своих воспоминаниях (Новый журнал, 1978, кн. 131, с. 153). По сообщению Ф.Ф.Нирода, у Гедройц был с нею какой-то конфликт.
4. Аленушка — дочь Авдиевой и Поволоцкого.
5. Граф Алексей Алексеевич Игнатьев (1877-1954) — военный дипломат и писатель, автор мемуаров «50 лет в строю»
6. Эта часть воспоминаний И.Д.Авдиевой основана, по-видимому, на сведениях легендарного характера. Гедройц была военным врачом и в то время в Петрограде не находилась; вряд ли М.Нирод могла быть «белой монахиней» и т.д
7. Здесь неточность: на фотографии, помещенной в журнале, В.И.Гедройц снята в группе медиков Дворянского передового госпиталя (из Москвы) в Тавагоузе (близ Мукдена) — Нива, 1905, № 6, с. 110.
8. Вероятно, речь идет о Василии Иосифовиче Гурко (Ромейко-Гурко; 1864-1937), в то время имевшем чин капитана.
9. Это не так: к революционному движению Гедройц приобщилась еще до Лозанны (см. вступительную заметку).
10. Уже находясь в Швейцарии, Федин писал Е.Замятину 21 июня 1932 г.: «Был и в Лозанне, заходил к Цезарю Ру — учителю В.Гедройц. Кстати, знаете ли Вы, что Гедройц умерла в марте? Она в свое время дала мне письмо к Ру, и он помог моему въезду в Швейцарию» (Новый журнал, 1968, кн. 92, с. 189-190).
* Мария Дмитриевна Нирод (урожд. Муханова) родилась 24 мая 1879 года в Царском селе С.-Петербургской губернии. Фрейлина. Замужем со 2 февраля 1903 года за флигель
http://www.laidinen.ru/women.php?part=4320&letter=%C3&code=4324
|
Метки: гедройц нироды |
Сергей Александрович: трагическая жизнь пятого сына Александра II |
Сергей Александрович: трагическая жизнь пятого сына Александра II
Сергей Александрович был первым порфирородным ребенком в семье императора, то есть родившемся, когда отец уже носил этот титул. По закону престолонаследования его перспективы на престол были весьма туманны. Но традиционное участие в управлении государством, как представитель династии Романовых, он принимал. Насколько достоверно отражена его деятельность на этом поприще в историографии?
После коронации в 1856 году император с женой поехал в Троице-Сергиеву лавру и дал обет, что если родиться мальчик назовут его Сергеем. Принято считать, что такое дитя должно приносить счастье и радость.
Воспитание ребенка доверили фрейлине А.Ф.Тютчевой. Великий князь до самой ее смерти сохранял к ней привязанность. После исполнения 7 лет наставником мальчика стал капитан-лейтенант Д.С. Арсеньев, с которым у подопечного сложились прекрасные отношения.
В период обучения большую склонность Сергей проявлял к истории живописи, особенно итальянской. Кроме традиционных английского, французского, немецкого он самостоятельно изучил итальянский язык.
Вступив в права распоряжения своими средствами, Великий князь отправился на археологические раскопки в Иерусалиме. При его участие были найдены развалины ворот и стены времен земной жизни Христа и подтверждено существование Голгофы.
Особые отношения сложились у Сергея с матерью Марией Александровной. Он ее боготворил. Может быть именно это чувство стало причиной всех дальнейших бед. Когда отец перестал скрывать свою связь с княжной Долгорукой и весь двор фактически отвернулся от императрицы, Сергей пережил катастрофу, крушение мира, в котором он жил.
Публичное унижение матери, он воспринял как свое собственное. Презрение к светской черни стало единственным, чем он смог ответить на оскорбления. Сначала это было просто маской, защитной реакцией. Позднее стало его сущностью. Современники называли его снобом, отталкивающим своей скукой.
Смерть матери, скоропалительная свадьба отца потрясли молодого человека до глубины души. По его мнению это было ничто иное как влияние западного образа жизни. Князь искренне верил в это. Трагическая гибель отца через 10 месяцев после смерти матери, убедила его в том, что либеральная политика России зашла в тупик.
Каждый нигилист или революционер был для него врагом. Он верил, что только православие и самодержавие способны сохранить государство. Поэтому отрицательное отношение к князю либеральной части общества вполне объяснимо.
Тем не менее, имея столь реакционные политические взгляды, именно Сергей Александрович передал новому императору просьбу Л.Н. Толстого помиловать убийц отца. Его православные чувства всегда брали вверх.
Как считал Александр III, генерал-губернатор Москвы должен обладать именно такими качествами. Сказать, что Великий князь принял это назначение с радостью нельзя. Скорее он воспринял его, как обязанность слушаться своего государя.
Студенческие волнения, сборы нигилистов и разных либеральных обществ, забастовки все это сопровождало жизнь Москвы того времени. Решительные действия нового генерал-губернатора подверглись критике со стороны прогрессивной общественности. Он не умел и не хотел быть гибким, за его холодностью скрывалась болезненная застенчивость. Презрение к заискивающим перед ним людьми, нежелание подстраиваться под модные тенденции времени вредило репутации князя, добавляя количество его врагов.
Личная жизнь князя
Необоснованное, ничем не подкрепленное обвинения в личных извращениях скорее всего были просто слухами, пущенными недоброжелателями. Нет ни одного факта или имени подтверждающего эти обвинения. Сплетникам важно, чтобы слух был погрязнее. Публика любит это. Сергей Александрович не обращал на них внимания. Он считал, если совесть чиста, то плевать на людские пересуды.
Клевета и злословие портили жизнь не только ему, но и его жене Елизавете Федоровне. Князь не заводил романов на стороне, что еще больше давало поводов о его близких связях. Вполне возможно, что какие-то проблемы в личной жизни были. Так как в одном из писем император высказывает сочувствие брату, что тот не может иметь детей. И, однозначно, это не имело никакого отношения к изощрениям. Александр III был человеком слишком патриархальных взглядов.
Главной проблемой среди супругов скорее всего было нежелание Елизаветы принять православие. Только спустя 7 лет она сделала это по велению своего сердца.
Трагедия
Ходынская трагедия оказала грандиозное влияние на будущее Сергея Александровича. Ему ставили в вину плохую организацию коронации Николая II. Напряжение между местной администрацией и разнородными московскими партиями постоянно росло. Революционная ситуация витала в воздухе. Губернатор говорил об этом много раз. Новые правители страны не прислушивались к его доводам. Покинув свой пост, он сохранил должность командующего округом.
Для боевой оппозиции он оставался опасен. Зная о готовившихся на него покушениях, князь перестал возить своего адъютанта, полицейским приказал держаться на приличном расстоянии. 4 февраля по старому стилю на выезде из Кремля у Никольских ворот, в его карету попала бомба. Елизавета Федоровна позднее просила помиловать убийцу мужа, простив его от себя и от имени мужа.
Воспитанный в православии, Великий князь всегда оставался патриотом своего отечества. Его напускная холодность к окружающим - защитная реакция. Истинная вера в бога и самодержавие - два столпа, на которые опиралось мировоззрение этого человека. Императорское Православное Палестинское Общество обязано ему своим существованием. Став неповторимым по своему масштабу для Русской Церкви, оно стало островком русской культуры на Святой земле.
https://zen.yandex.ru/media/history_world/sergei-a...ra-ii-5c5684076fffe100ad8eb166
|
Метки: романовы |
Блеск и нищета: женщины-бабочки. |
Блеск и нищета: женщины-бабочки.
- Когда я была очень юной - мне было что-то такое лет шесть - по нашему советскому TV демонстрировали французский мини-сериал 'Splendeurs et misères des courtisanes', то есть «Блеск и нищета куртизанок». Тогда, в 1970-х, было такое время - все смотрели всё, поэтому когда советскому человеку несколько вечеров подряд показывали куртизанок, он их тоже потреблял. Кстати, дети тогда спокойно заглатывали все эти унылые (с точки зрения сегодняшних планшетно-айпадовых тинейджеров) сериалы по Бальзаку, а также теле-саги про Верди, Паганини и Вольтера (в ходе последнего, я даже воспламенилась Фридрихом Великим, но, как говорил персонаж одного культового фильма про баню 31 декабря: «Щас не об этом».). Ну, так вот. Куртизанки. Врослые - смотрели обличительную драму, снятую по бессмертному произведению Оноре нашего де Бальзака, а дети - крутились рядом. Мне что? Я умудрилась даже не спросить, кто такие куртизанки, ибо там было главное, ради чего нужно смотреть кино - шляпки, кружева и локоны. Я тут даже «Основной инстинкт» посмотрела - ради широкоплечих пиджаков Шерон Стоун, которые она носит вместе с мини-юбками, ради её свитеров и прочих нарядов. Но - щас тоже не об этом. Я вообще тогда решила, что куртизанка - это актриса, которая выступает только перед одним-единственным богатым мужчиной, который ей, к тому же, оплачивает все капризы.

- Танцовщица, фотомодель и куртизанка Каролина Отеро.
Ну, а другим людям это не нравится - как остальным актрисам (ибо, а как же коллектив?!), так и зрителю, ибо на советских плакатах всегда было написано, что искусство принадледжит народу. Поэтому сначала у куртизанок - блеск, а потом - нищета, так как единственному зрителю она быстро надоест, а общество её уже не примет. В общем, такие вот сложные построения были у простого и незамученного пианином советского ребёнка. Потом, когда в классе втором-третьем мы все стали повально читать Александра Дюма и увлеклись Людовиками, в разговоре стали мелькать фразы про фавориток и любовниц. Любовница - это понятно, это любовь, М + Ж. Это как вон те длинноволосые парни в джинсах и с гитарами обнимаются по вечерам с девицами в джинсах, в босоножках на платформе. У них - любовь. А вот фаворитка короля? Луиза де Лавальер - это, собственно, что? В тексте мелькала фраза: «провести ночь с королём». Рисовалась романтическая картина в духе ночных прогулок из кинофильма «Вратарь», например, где юноши и девушки гуляют в каких-то садах Армиды (они же - ЦПКиО имени Горького), а у меня всегда сталинская эстетика была где-то рядом со стилем Louis Quatorze и прочими Большими и родными стилями. Или, как в фильмах 1950-х - они идут по набережным, он поёт под гитару, а она - стесняется. А ещё у неё на плечах его пиджак. Вот всё то же самое, только с королём.
К тому же, в романе есть место, где Людовик закрывает Луизу от дождя: «Король еще ближе придвинулся к Лавальер и поднял над ней свою шляпу, так как дождь всё больше протекал сквозь листву». И потом, как в песне из фильма «Дом, в котором я живу»: «Как люблю твои светлые волосы, как любуюсь улыбкой твоей, ты сама догадайся по голосу семиструнной гитары моей». Красиво, чистенько, стерильно. Когда я потом узнала, что это за «провести ночь с королём», я сказала: «И всё?! Фи, как скучно. А погулять?!!!». Хотя, конечно же, королевские фаворитки были персонажами замечательными - не то, что унылые хорошие женщины из предместий, которым просто...не повезло, если честно. Просто Людовик выбрал не их. Что интересно, когда я начала собирать винтажные открытки Серебряного Века, я тоже не задумывалась, кого там изображали - просто очень красивые или очень пикантные дамы в умопомрачительных нарядах. И подписи - Отеро, Кавальери, Клео де Мерод, Роза Сахарет. Кто такие - пока было не очень интересно, волновали, как обычно, шляпки и талии. Таких шляпок, не говоря уже про талии, теперь не делают. Женщины-цветы, эталон Серебряного Века - времени, называемом у историков моды не иначе, как Belle époque - Прекрасная эпоха.

- Певица, фотомодель и куртизанка Лина Кавальери.
Потом я узнала, что все эти женщины с открыток - всё те же куртизанки, дорогостоящие предметы, товары престижного потребления. Отеро говорила, что прогулка с нею под руку увеличивает вес мужчины в обществе. У этих дам всегда было интересное положение - ими восхищались, они купались в роскоши, они просыпались рядом с королями, но общество (в целом) их презирало. Точно так же, Помпадур царила в Версале, а в Париже в её карету кидались тухлой капустой (а ещё говорят - есть у них там было нечего, а невостребованная капуста успевала протухать). Действительно, demimond, полусвет. Светская жизнь, но без прав на так называемое честное имя. Что интересно, эти дамы могли быть вульгарными и распутными, как Отеро и довольно-таки тихими, как Клео де Мерод, вообще не считавшая себя куртизанкой, скорее - фавориткой короля Леопольда II. Но в глазах общества, всё тех же хороших женщин из предместий, все они были ужасными, падшими, неисправимыми. А в глазах богатых и пресыщенных богачей - престижными, брендовыми товарами. Некоторые бездельники, вроде всё того же Леопольда II или Эдуарда VII (сынка святоши Виктории) и вовсе соревновались за право обладать всеми и сразу. В то же время, и сами дамы любили приврать о себе. Так, Отеро, уверяла, что через её постель просли все государи Европы, и Николай II тоже, хотя это было неправдой.
Коко Шанель как-то сказала, что ей нравились куртизанки - они были...чистыми. Да-да. Куртизанки высшего класса постоянно мылись, драились, благоухали. Они скупали новиники парфюмерии и косметики, они заказывали себе роскошные ванные комнаты... А что же хорошие и скромные дамы, иной раз - светские? Шанель вспоминала, как в юности она внимательно разглядела платье и всю фигуру такой светской львицы местного значения - потёки пота в районе подмышек, несвежий запах, который не могли перебить сладкие духи. Но аккуратненькая чистюля Шанель и сама потом сделалась содержанкой богатого мужчины, Этьена Бальсана - она даже делила его со знаменитой дамой демимонда - Эмильеной Д`Алансон, не имевшей, впрочем, к герцогам Алансонским ровно никого отношения. Но такая уж была у них судьба - выдумывать себе интересные биографии. Не можешь называться дочерью магараджи, будь хотя бы падшей герцогиней. Лина Кавальери, прекрасный цветок оперных подмосток и героиня скандальных хроник, впоследствии писала, что была не просто любовницей князя Барятинского, но и его законной супругой. Правда, это заявление уже прозвучало в тоталитарно-солнечных 1930-х, когда Кавальери была пожилой красавицей, живущей в непонятной ей мусолиниевской Италии. Тогда никому не было дела до каких-то Барятинских, изгнанных из своих родовых гнёзд, а в их ложах сидели комиссары с работницами Уралмаша, которые уже научились дворянским манерам и строили свою Империю, ничуть не хуже предыдущей.

- Балерина, фотомодель и куртизанка Клео де Мерод.
...Что интересно, все эти женщины прожили долгую жизнь, разве что Кавальери погибла во время Второй Мировой войны - в её домик угодила бомба, а так бы жила до ста лет, как и Отеро. А Клео де Мерод, которую жёлтая пресса похоронила уже в эпоху джаза, вдруг выплыла из небытия в 1950-х, чтобы судиться с писательницей Симоной Бовуар. Та обозвала её дамочкой полусвета вместе с этими ужасными простолюдинками, вроде Отеро и Сахарет. А какая же она куртизанка, если спала с одним только Леопольдом II? А может и не спала, а просто принимала от него жемчужные нити и бриллиантовых бабочек работы Жоржа Фуке... Но дорогостоящие куртизанки, как и фаворитки уже в 1920-х годах сделались немодными - вожди скрывали своих пассий. Ева Браун не блистала, подобно Монтеспан или Помпадур. Даже лавры скромницы Лавальер были ей неведомы. Впрочем, и времена куртизанок прошли - никто не собирался тратить миллион долларов на прихоти актрисы, танцующей для одного заказчика. Безумные траты Прекрасной Эпохи казались бессмысленными. Сама эпоха поражала - издали - своим непотребным роскошеством. Марсель Пруст догонял утраченное время, смакуя наряды госпожи Сван, списанную с высокопоставленной шлюхи Лиан де Пужи.
«Ей нужно быть не менее элегантной в капоте, в ночной сорочке, чем в выходном платье. Другие женщины выставляют свои драгоценности напоказ. Такой образ жизни обязывает, воспитывает вкус к тайной роскоши, вкус почти бескорыстный. И, конечно, смелая простота покроя очень шла к её фигуре…». Они были законодательницами мод - сначала фаворитки королей, потом куртизанки Прекрасной Эпохи. Дамы Галантного Века хотели платье, как у Помпадур, а дамы века Серебряного подражали нарядам Кавальери. Дамы двора делали себе куафюру а-ля Фонтанж, а потом их пра...праправнучки - причёску в стиле Клео де Мерод. Получается, что моду чаще всего диктуют те, кого покупают за большие деньги? Впрочем, основной инстинкт человека - это воля к власти, а она выражается всеми доступными способами, - от покупки самой дорогой женщины до предоставления возможностей этим дамочкам диктовать моду. А хорошие женщины из предместий только шипят, да потихонечку накручивают себе волны чёрных (крашеных) волос, как у Кавальери. Эти дамы - куртизанки, фаворитки, не дурны и не хороши - они часть природы, как бабочки. И смотреть на них следует только с точки зрения красоты их крыльев. А что уж творилось в их постелях - это гораздо скучнее, чем их шляпки, кружева и локоны.
- Танцовщица, фотомодель и куртизанка Каролина Отеро.
|
|
Метки: их нравы |
Дворяне Ресины. |

Дворяне Ресины. Ч. 3
Алексей Алексеевич Ресин (31.01.1866 – 1917 (?)), генерал-майор Свиты Его Высочества.
Родился в имении Рыбинское Бежецкого уезда Тверской губернии. Отец – отставной капитан-лейтенант А.П. Ресин, мать Александра Николаевна Инсарская.
Образование получил в Нижегородском гр. Аракчеева кадетском корпусе.
В службу вступил 30.08.1884 года.
Окончил 1-е военное Павловское училище (1886).
Выпущен Подпоручиком (пр. 11.08.1886; ст. 07.08.1885) в 65-й пехотный Московский полк.
Переведен в л-гв. Финляндский полк чином Подпоручика гв. (ст. 11.08.1886).
Поручик (ст. 11.08.1890).
Награжден орденом Св. Станислава 3-й ст. (1895). Награжден орденом Св. Анны 3-й ст. (1897), иностранными орденами: Бухарский Восходящей Звезды 3-й ст. (золот.) (1896); Австрийский Франца-Иосифа кав. кр. (1897); Румынский Зв. 4-й ст. (1898); Болгарский Св. Александра 4-й ст. (1899).
Штабс-капитан (ст. 06.05.1898).
Капитан (ст. 06.05.1900).
Флигель-адъютант (1904). Награжден иностранным орденом Сиамского Слона 3-й ст. (1904), орденом Св. Станислава 2-й ст. (1905).
Полковник (ст. 13.04.1908).
Награжден Св. Анны 2-й ст. (1910).
Командир 90-го пех. Онежского полка (18.07. – 14.08.1914).
Командующий Собственным Его Величества Сводным пех. полком (14.08.1914 – 28.05.1917).
Генерал-майор (пр. 06.12.1914; ст. 06.12.1914; за отличие) с утверждением в должности и зачислением в Свиту Его Величества. На 10.07.1916 г. в том же чине и должности.
Следует подробнее рассказать о последнем командире одной из самых элитных воинских частей, приближенных к императору Николаю II. Собственный Его Императорского Величества сводный пехотный полк – гвардейская пехотная часть российской императорской армии, созданная для «ближайшей охраны Священной Особы Государя Императора» (16 (3) сентября 1881 г.). Для службы подбирались чины из всех полков 1-й и 2-й гвардейских пехотных дивизий, гвардейских стрелковых батальонов, кадрового батальона лейб-гвардии Резервного пехотного полка, лейб-гвардии Сапёрного батальона и Гвардейского экипажа. Министр внутренних дел П.А. Столыпин требовал, чтобы полк «был укомплектован исключительно лицами, благонадежность которых и, особенно, в политическом от-ношении не подлежала бы никакому сомнению». В последний, самый трудный период царствования Николая II этот полк возглавил полковник А.А. Ресин.
Е. Малевский в статье «Много смышлёных и дельных...» пишет:
«Первая мировая война круто изменила течение жизни и всей Российской империи, членов царской семьи. Уже 20 сентября 1914 года Николай II впервые выехал на фронт, затем он регулярно выезжал в Барановичи, в Ставку. Сводный пехотный полк подчинялся начальнику Собственной Его Императорского Величества охраны, в дальнейшем – дворцовому коменданту.
От личного состава полка требовались постоянное напряжение, сметливость, память, образцовое знание службы и умение быстро и толково отвечать на вопросы. Чины Сводного полка, находившиеся в карауле и на постах, снабжались особой инструкцией, основным положением которой было не пропускать через линию постов неизвестных часовым лиц, помимо установленных на то пунктов и правил. Из состава части выделялись особая группа солдат – присмотрщики и дневальные, обязанность которых заключалась в обходе и осмотре дворцовых помещений и территорий.
Вообще охрана воинскими чинами, связанными суровой дисциплиной, а Сводного пехотного полка в особенности, считалась более действенной, чем всякая другая. Об этом говорят и документы управления дворцового коменданта. Отбывая по служебным надобностям, комендант оставлял за себя только командира Сводного пехотного полка.
"Приказ №57 по Управлению дворцового коменданта
10 июня 1915 г. Царское Село.
Отбывая на некоторое время, объявляю по вверенному мне управлению, для выполнения и руководства по принадлежности, что с Высочайшего разрешения общее исполнение по названному управлению во время моего отсутствия из Царского Села, я сохраняю за собою. По срочным же делам исполнение обязанностей Дворцового Коменданта возложено на Командира Собственного Е.И.В. Сводного пехотного полка, Свиты Е.В. генерал-майора Ресина, впредь до моего возвращения.
Подлинный подписал: Дворцовый Комендант Свиты Е.И.В.
генерал-майор Воейков"
Как известно, в августе 1915-го Николай II сам встал во главе вооружённых сил империи. Новый Верховный Главнокомандующий перенёс Ставку из Барановичей в Могилёв.
Охрана Ставки осуществлялась следующим образом. В то время как конвойцы несли внутреннюю охрану могилёвской резиденции, военнослужащие Сводного пехотного полка и дворцовая полиция осуществляли её внешнюю охрану. Ежедневно на различные посты по охране Ставки заступали свыше 1500 человек. В 20 верстах от Могилёва проходила ещё одна линия охраны.
Сводный пехотный полк и в суровое военное время вполне успешно справлялся с возложенными на него обязанностями. Генерал Д.Н. Дубенский, историограф императора, с удовлетворением отмечал: «Люди этой части отличались превосходной выправкой и очень внимательной дворцовой службой. Командир полка с.е.в. генерал-майор Ресин находился постоянно в Царском Селе, а в Ставку поочерёдно командировался один из старших полковых штаб-офицеров и офицеры дежурной роты».
В последний раз Николай II выехал из Царского Села в Ставку 22 февраля 1917 года. Пришедшее к власти Временное правительство очень быстро приняло решение отстранить от государственной охраны воинские части, многие годы верой и правдой служившие свергнутому императору. До последнего дня сохраняли верность присяге и военнослужащие Сводного пехотного полка и их командир Ресин. Во многом благодаря их выдержке и смелости, кровопролития в Царском Селе 28 февраля 1917 года удалось избежать.
4 марта приказом №344 начальника штаба Верховного Главнокомандующего Собственный Его Императорского Величества Сводный пехотный полк был переименован в Сводно-пехотный полк.
6 марта Временное правительство приняло решение об аресте Николая II и императрицы Александры Фёдоровны. На следующий день в городскую ратушу Царского Села были вызваны командиры Сводно-пехотного полка и конвоя. Им было объявлено, что 8 марта они должны сдать посты в Александровском дворце частям Царскосельского гарнизона.
В тот же день в Могилёве Николай II простился с чинами Ставки. Рано утром 8 марта в Царское Село прибыл командующий войсками Петроградского военного округа генерал-лейтенант Л.Г. Корнилов. Он приказал построить офицеров Сводно-пехотного полка и конвоя. Корнилов огласил приказ Временного правительства об аресте Николая II и его супруги. Один из свидетелей этого события вспоминал, что «перед сдачей постов Сводный пехотный полк и конвой построились. Вынесли полковое знамя и сменили часовых. Наша служба во дворце завершилась». В тот же день в 16 часов со всех постов сняли солдат Сводно-пехотного полка и конвойцев, заменив их часовыми запасных батальонов».
Генерал-майор А.А. Ресин за время командования полком был награжден орденами Св. Владимира 3-й ст. (06.05.1915) и Св. Станислава 1-й ст. (доп. к ВП 30.07.1916).
Уволен от службы за болезнью 28 мая 1917 года. Больше сведений о нем не сохранилось.
P.S. После Октябрьской революции советская власть начала создавать свою спецслужбу – ВЧК. По мере возрождения государственности возник интерес к опыту работы спецслужб дореволюционной России. У последнего командира Собственного Его Императорского Величества Сводного пехотного полка А.А. Ресина, отвечавшего за безопасность царской семьи, в советские годы были свое преемники, названия которых менялись. Сейчас службой, обеспечивающей безопасность лиц, подлежащих государственной охране, является Федеральная служба охраны РФ.
Фото: Собственный Его Императорского Величества Сводный пехотный полк в Царском Селе, 1914 год.
© Copyright: Леонид Константинов, 2017
Свидетельство о публикации №217060801398
|
Метки: ресины |
Представители субкультуры в России |
Архив:Википедия:Список известных лесбиянок, геев и бисексуалов России
 |
Руками не трогать! Сей экспонатъ был невозбранно зохвачен экспедиционным корпусом Викиреальности. В настоящий момент находится на бессрочном хранении в архиве, в назиданіе малымъ дѣтямъ и фольклорным персонажам. Остальным — just for lulz. |
Список известных лесбиянок, геев и бисексуалов России — удалённая Дмитрием Рожковым 7 января 2013 года статья в русской Википедии из общих ЛГБТ-списков. Но анонимус не забывает ничего.
[править] Статья
Эта статья содержит список известных лесбиянок, геев и бисексуалов из России.
Хотя гомосексуальность существовала во всех человеческих обществах[1], применение термина «бисексуал», а тем более «гей» и «лесбиянка» к персоналиям разных исторических периодов является в значительной степени условным, хотя и распространенным явлением. В список следует включать значимых персоналий, внёсших заметный вклад в искусство, культуру, спорт, науку и историю, при этом факт сексуальной ориентации персоналии должен подтверждаться авторитетными источниками. На основании множества специальных исследований[2] издан ряд обобщающих справочников, посвященных известным персоналиям негетеросексуальной ориентации.
В случае, если отнесение персоналии к негетеросексуальной ориентации является лишь гипотетичным и не поддерживается большинством исследователей, в список она не включается.
Персоналии расположены в хронологическом порядке, в соответствии с годами рождения.
| Год рождения | Год смерти | Портрет | Имя | Библиографическая выдержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1530 | 1584 | Иоанн IV Васильевич (прозвание Ива́н Гро́зный) | Великий князь Московский и всея Руси в возрасте 7 лет (с 1533), первый царь всея Руси (с 1547). Бисексуал[3][4][5][6][7][8]. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1754 | 1826 | Николай Петрович Румянцев | Российский государственный деятель, министр иностранных дел, меценат, коллекционер, основатель Румянцевского музея, покровитель первого русского кругосветного плавания. Почётный член Императорской Российской академии (1819). Гомосексуал[9]. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1760 | 1837 | Иван Иванович Дмитриев | Русский поэт, баснописец, государственный деятель; представитель сентиментализма. Член Российской академии. Гомосексуал[10]. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1773 | 1844 | Александр Николаевич Голицын | Российский государственный деятель, министр народного просвещения Российской империи, член Российской академии. Гомосексуал[9][11][12]. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1786 | 1855 | Сергей Семёнович Уваров | Российский государственный деятель, член Российской академии, почётный член и президент Петербургской академии наук. Известен как автор триады «Православие, Самодержавие, Народность». Гомосексуал[9]. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1786 | 1856 | Филипп Филиппович Вигель | Русский мемуарист, друг Александра Пушкина, член Арзамасского кружка, автор широко известных и популярных в XIX веке «Записок». Гомосексуал[9][10]. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1794 | 1869 | Михаил Александрович Дондуков-Корсаков | Чиновник Министерства народного просвещения, вице-президент Петербургской академии наук, тайный советник, цензор. Знаменит как адресат эпиграммы Александра Пушкина «В Академии наук // Заседает князь Дундук…» Гомосексуал[9]. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1832 | 1893 | Николай Сергеевич Зверев | Русский пианист и педагог. Гомосексуал[13][14]. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1839 | 1914 | Владимир Петрович Мещерский | Князь, русский писатель и публицист, издатель-редактор журанала «Гражданин», камергер Александра II.[15] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1840 (1841?) |
1893 | Алексей Николаевич Апухтин | Русский поэт, близкий друг П. И. Чайковкого. Гомосексуал[9][16]. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1840 | 1893 | Пётр Ильич Чайковский | Русский композитор, один из лучших мелодистов, дирижёр, педагог, музыкально-общественный деятель, музыкальный журналист. Гомосексуал[9][17]. Валерий Соколов проделал уникальную работу, опубликовав все то, что было вычеркнуто цензорами из писем и дневников Чайковского. Оказалось, например, что редактированию и купированию в общей сложности подверглись 248 писем композитора, в основном адресованных братьям Модесту и Анатолию. И во всех этих посланиях кипели любовные страсти. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1844 | 1919 | Анна Михайловна Евреинова | Одна из первых русских феминисток, основательница литературного журнала «Северный Вестник», первая из русских женщин, получившая степень доктора права (в Лейпцигском университете). Гомосексуал, много лет прожила совместно со своей подругой жизни Марией Федоровой[15]. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1844 | 1907 | Владимир Николаевич Ламсдорф | Русский государственный деятель, министр иностранных дел России. Гомосексуал[15] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1850 | 1916 | Модест Ильич Чайковский | Русский драматург, оперный либреттист, переводчик, театральный критик; младший брат Петра Ильича Чайковского. Гомосексуал[15] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1857 | 1905 | Сергей Александрович Романов | Великий князь, генерал-губернатор Москвы. Гомосексуал[18]. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1858 | 1915 | Константин Константинович Романов | Член Российского Императорского дома, великий князь, генерал-адъютант, генерал от инфантерии, генерал-инспектор Военно-учебных заведений, президент Императорской Санкт-Петербургской академии наук, поэт, переводчик и драматург. Бисексуал[19]. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1866 | 1949 | Вячеслав Иванович Иванов | Русский поэт-символист, философ, переводчик, драматург, литературный критик, доктор филологических наук, один из идейных вдохновителей «Серебряного века». Бисексуал[15]. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1867 | 1924 | Поликсена Сергеевна Соловьёва | Русская поэтесса и художница. Гомосексуал, в 1904 году познакомилась с писательницей Наталией Манасеиной, с которой была неразлучна до самой смерти[15]. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1869 | 1945 | Зинаида Николаевна Гиппиус | Русская поэтесса и писательница, драматург и литературный критик, одна из видных представителей Серебряного века русской культуры, идеолог русского символизма. Бисексуал[15][20]. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1869 | 1939 | Константин Андреевич Сомов | Русский живописец и график, мастер портрета и пейзажа, иллюстратор, участник объединения Мир искусства, один из основателей одноименного журнала. Гомосексуал[15]. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1870 | 1932 | Вера Игнатьевна Гедройц | Одна из первых в России женщин-хирургов, поэтесса и писательница. Последние годы прожила в Киеве с графиней Марией Дмитриевной Нирод (1879—1965), с которой состояла в фактическом супружестве[21]. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1871 | 1949 | Вальтер Фёдорович Нувель | Деятель художественного общества «Мир искусства», организатор музыкальных вечеров и других предприятий объединения. Гомосексуал[15]. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1872 | 1929 | Сергей Павлович Дягилев | Русский театральный и художественный деятель, антрепренёр, один из основоположников группы «Мир Искусства», организатор «Русских сезонов» в Париже и труппы «Русский балет Дягилева». Гомосексуал[15]. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1872 | 1936 | Михаил Алексеевич Кузмин | Русский поэт Серебряного века, переводчик, прозаик, композитор. Гомосексуал[15], впервые в русской литературе нейтрально описал гомосексуальные чувства и отношения в романе «Крылья». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1872 | 1940 | Дмитрий Владимирович Философов | Русский публицист, художественный и литературный критик, религиозно-общественный и политический деятель. Гомосексуал[15]. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1872 | 1936 | Георгий Васильевич Чичерин | Советский дипломат, нарком иностранных дел РСФСР и СССР. Музыковед, автор книги о Моцарте. Член ЦИК СССР 1—5 созывов, член ЦК ВКП(б). Гомосексуал[15]. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1874 | 1940 | Всеволод Эмильевич Мейерхольд | Театральный режиссёр, актёр и педагог. Теоретик и практик театрального гротеска, автор программы «Театральный Октябрь» и создатель знаменитой актёрской системы, получившей название «биомеханика». Народный артист Республики (1923). Бисексуал[22][23]. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1884 | 1937 | Николай Алексеевич Клюев | Русский поэт Серебряного века. Гомосексуал[24]. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1885 | 1933 | София Яковлевна Парнок | Русская поэтесса, переводчица, литературный критик. Два года прожила с Мариной Цветаевой[25]. В творчестве отразился и ряд других ее романов с женщинами[26]. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1887 | 1967 | Феликс Феликсович Юсупов | Один из организаторов заговора с целью убийства Григория Распутина. Бисексуал[27][28]. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1889 | 1955 | Вацлав Фомич Нижинский | Российский танцовщик и хореограф, один из ведущих участников Русского балета Дягилева. Гомосексуал[15]. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1892 | 1941 |
Мальцов, Сергей ИвановичМатериал из Википедии — свободной энциклопедии Перейти к навигации Перейти к поиску В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Мальцов; Мальцов, Сергей.
Сергей Иванович Мальцо́в (искаж. Мальцев; 1810 — декабрь 1893) — русский промышленник из рода Мальцовых. Генерал-майор, почетный член Общества содействия русской торговле и промышленности. СодержаниеБиографияСергей Иванович Мальцов родился в 1810 году в семье орловского помещика, крупного землевладельца и владельца фабрик Ивана Акимовича Мальцова и Капитолины Михайловны Вышеславцевой (1778—1861), разводной жены поэта В. Л. Пушкина. У Мальцовых был ещё сын Василий (1807—1832) и дочь Мария (1808—1897), в замужестве за П. Н. Игнатьевым. О детских и юношеских годах С. И. Мальцова сведений сохранилось не много. Известно, что начальное образование получил дома, после поступил в школу, где помимо гуманитарных наук усердно изучал механику, химию, физику и иностранные языки. Он прекрасно знал французский, английский, немецкий языки. Военная службаКак дворянин, Сергей Иванович, достигнув определенного возраста, в силу обычая должен был служить. Он поступил в гвардию, выбрав местом службы Кавалергардский полк. 1 июля 1830 года был произведён в корнеты, 10 апреля 1832 года — в поручики. В 1833 году по состоянию здоровья С. И. Мальцов был уволен с военной службы. Однако отставка была недолгой и продлилась всего полтора года. Во время этого перерыва С. И. Мальцов успел побывать за границей, где познакомился с современным состоянием зарубежной механической промышленности. 15 июня 1834 года С. И. Мальцов вторично поступил на военную службу и был определён на должность адъютанта принца Петра Георгиевича Ольденбургского. Военная карьера Сергея Ивановича складывалась удачно, чему способствовало расположение непосредственного начальника. В мае 1836 г. он был произведён в штабс-ротмистры, в декабре 1840 г. — в ротмистры и в апреле 1847 г. — в полковники. Мальцов принимал активное, деятельное участие в создании Императорского училища правоведения, инициатором создания которого был принц Ольденбургский: по его поручению Мальцову было поручено составление Устава и первоначальная организация училища. Некоторое время он исполнял обязанности директора училища. В 1849 году Сергей Иванович окончательно оставил военную службу и вышел в отставку в чине генерал-майора, после чего посвятил себя управлению семейными промышленными предприятиями. ПредпринимательПосле смерти отца Ивана Акимовича в мае 1853 г. от холеры, Сергей Иванович Мальцов стал крупнейшим землевладельцем, полновластным хозяином огромного промышленного района в центральной части Европейской России. В 1854 году Мальцов вступил в купеческое сословие, в первую гильдию. В наследство ему достались хрустальная фабрика, несколько стекольных, свеклосахарных и маломощных железоделательных заводов. За время его предпринимательства были приобретены новые фабрики и заводы, организованы новые производства; изделия не только прочно завоевали российские рынки, но с большой охотой приобретались за границей. Для содержания и развития своих владений Мальцов в 1875 году учредил Мальцовское промышленно-торговое товарищество с правлением в Дятькове. В мальцовском заводском округе на землях Калужской, Орловской и Смоленской губерний трудились 100 тысяч человек, производя машины всех видов, стройматериалы, мебель, сельхозпродукты и т. д. Там даже ходили свои деньги, была своя полиция, своя железная дорога в 202 версты и своя система судоходства. Соцпакет работников опережал все и российские, и западные нормы. На «горячих» участках рабочий день был восьмичасовой. Рабочие получали квартиры на 3—4 комнаты в добротных деревянных или каменных домах; за хорошую работу «жилой» долг порядка 500 рублей по тем деньгам с них списывался. Топливо и медобслуживание для всех были бесплатными. В школах для мальчиков и девочек кроме всего преподавались пение и рисование, а желавшие учиться дальше шли в пятилетнее техническое училище — «мальцовский университет». Его выпускники обычно становились директорами и управляющими на мальцовских предприятиях. Отъезд Мальцова за границу. В 1874—1875 годах Мальцов по заказу Департамента железных дорог заключил договор на изготовление в течение шести лет 150 паровозов и 3 тысяч вагонов, платформ и угольных вагонов из отечественных материалов. В новое дело С. И. Мальцов вложил более двух миллионов рублей, были построены мастерские, выписаны из Европы машины, построены печи Сименса для выплавки рессорной стали (ранее в России не производившейся), приглашены мастера во главе с французскими инженерами Фюжером и Басоном. И в этот момент чиновники из Департамента железных дорог разместили заказы за границей, ничем этого решения не мотивируя. Таким образом, на складах Мальцова к 1880 году оказалось готовой продукции на сумму 1,5 миллиона рублей. Для того чтобы как-то поддержать дело, Мальцов заложил свои крымские имения. Жена Мальцова, оставшаяся с детьми в Петербурге, получавшая самое приличное содержание и не пропускавшая ни одного придворного бала, стала распускать слух, что её муж сошел с ума. «Поёт в мужицком хоре, тратит на этих мужиков все деньги». В 1882 году Мальцова объявили сумасшедшим. В начале 1883 года по дороге из Людинова в Дятьково Мальцов разбился и с тяжелой черепно-мозговой травмой полгода лечился. Тем временем его семья добилась через суд признания его недееспособным и лишила прав собственности на промышленные предприятия[1][неавторитетный источник?]. Последние годыСергей Иванович Мальцов навсегда отошёл от дел в 1884 году. Он переехал в своё крымское имение Симеиз (в центре которого сегодня находится парк им. Мальцова), где занялся садоводством, выпустил второе издание писем Либиха, напечатал свои проекты 40-х годов об обеспечении народа на случай голодовок, а во время голода 1891 года написал несколько статей по этому вопросу. 21 декабря 1893 года во время поездки в Санкт-Петербург Сергей Иванович Мальцов умер от «удара». Тело его было перевезено в село Дятьково, где и погребено в фамильной усыпальнице. СемьяАнастасия Мальцова с детьми (Париж, 1858) Дети С. И. Мальцова на акварели В. Гау (1852) Был женат на княжне Анастасии Николаевне Урусовой (1820—1894), фрейлине двора, дочери князя Николая Юрьевича Урусова (1764—1821) от брака с Ириной Никитичной Хитрово (1784—1854). В 1838 году Тургенев писал, что «Мальцова всем кружит головы и все от неё в восхищении. Напоминает Пушкину, вдову поэта, но свежее, очень приветлива и любезна и хорошо себя держит в салоне»[2]. «Умная, милая и ловкая» Анастасия Николаевна была близкой подругой императрицы Марии Александровны и состояла её камер-фрейлиной. Она преданно и ревностно служила своей государыне и неустанно несла свою вахту на её смертном одре. В браке имела детей:
Примечания
Литература
Ссылки
Гедройц, Вера ИгнатьевнаМатериал из Википедии — свободной энциклопедии Перейти к навигации Перейти к поиску В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Гедройц.
Ве́ра Игна́тьевна Гедро́йц[прим. 1] (7 [19] апреля 1870, село Слободище, Орловская губерния — март 1932, Киев) — одна из первых в России женщин-хирургов[прим. 2], одна из первых женщин в мире, получившая звание профессора хирургии и возглавившая хирургическую кафедру[2][3], участница Русско-японской войны, прозаик и поэтесса Серебряного века. Будучи выпускницей хирургической школы профессора Цезаря Ру (Университет Лозанны), Вера Гедройц стала автором ряда оригинальных научных работ в области военно-полевой, общей и детской хирургии. Считая революцию неизбежной и необходимой, Вера Гедройц, однако, была одним из самых близких людей царской семьи. Она лично обучала сестринскому делу императрицу Александру Фёдоровну с великими княжнами Ольгой и Татьяной, после чего они работали в лазарете под её руководством. Содержание
БиографияСемья и ранние годыГерб Гедройцев «Гипоцентавр» Вера Игнатьевна принадлежала к древнему и знатному литовскому княжескому роду Гедройцев, который активно участвовал в освободительном движении против российского владычества. Дедушка Веры Игнатьевны в ходе подавления восстания был казнён, а отец Игнатий (Игнас) Игнатьевич Гедройц и его брат, лишённые дворянского звания, были вынуждены бежать в Самарскую губернию, к друзьям деда. Там Игнатий получил образование и работал в органах местного самоуправления, затем женился на дочери обрусевшего немца-помещика Дарье Константиновне Михау, воспитаннице Смольного института благородных девиц. Сразу после свадьбы Игнатий Игнатьевич по долгу службы переехал в Брянский уезд Орловской губернии, где обзавёлся имением в селе Слободище, занимался сельским хозяйством и работал в Совете мировых судей[4]. Вера Гедройц родилась 7 (19) апреля 1870 года[прим. 3][5]. В семье, кроме неё, было ещё три сестры и два брата. Мать, хлопоча по домашнему хозяйству, детьми заниматься не успевала, и первой воспитательницей маленькой Веры стала её бабушка Наталья Тихоновна Михау, которая в своём импровизированном пансионате обучала местных детей грамоте, французскому языку, музыке, пению и танцам. Уже в детстве Вера носила мальчишескую одежду, отличалась бойким поведением и была заводилой всей местной ребятни[6]. Желание стать врачом появилось у Веры Гедройц после череды болезней и смертей близких людей, в том числе гибели её любимого брата Сергея, чьим именем в дальнейшем она стала подписывать все свои литературные сочинения[7]. В 1877 году в пожаре сгорело всё имущество семьи, которая после этого начала жить крайне бедно. Однако из Петербурга пришло определение Сената, по которому Игнатию Гедройцу со всеми его потомками был возвращён княжеский титул[8]. В 1883 году Вера познакомилась с учительницей из соседнего села Любохна народницей Л. К. Любохной, которая впечатлила её своей независимостью и целеустремлённостью. Гедройц впервые прочитала роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?». В этом же году Веру отдали учиться в Брянскую женскую прогимназию, где её взяли сразу во второй класс. Среди её преподавателей был позднее ставший известным В. В. Розанов, который оказал на неё большое влияние. Но вскоре Веру Игнатьевну исключили из прогимназии за сочинение эпиграмм, выпуск рукописного сатирического листка и конфликт с учительницей. После этого отец, по согласованию со своим другом промышленником С. И. Мальцевым, отослал её в Любохну к заводскому фельдшеру для обучения лекарскому делу. Позднее, по протекции Мальцева же, Вера возвратилась в прогимназию, которую окончила с отличием в 1885 году[9]. Обучение в Петербурге и ЛозаннеПосле окончания прогимназии отец отправил Веру Игнатьевну учиться в Санкт-Петербург. Она не без труда поступила на медицинские курсы профессора П. Ф. Лесгафта, которые тот организовал у себя на квартире на Фонтанке, дом 18. После успешной сдачи экзаменов Лесгафт посоветовал Вере Игнатьевне ехать за границу и поступать в университет, поскольку в то время в России женщина не имела права получить высшее образование[прим. 4][10]. Во время пребывания в Петербурге Вера Гедройц начала сочинять свои первые стихотворения[11]. На курсах она познакомилась с петербургскими студентами и начала посещать революционные кружки, где вместе со всеми читала труды социал-демократа Лассаля, составляла прокламации и ходила на демонстрации. В 1891 году умер популярный демократический идеолог Н. В. Шелгунов, его похороны переросли в митинг с призывами к революции. Собравшихся разогнала жандармерия, а на следующий день были проведены массовые аресты. Среди задержанных оказалась и Вера Гедройц. После обыска и допросов, не найдя серьёзных улик, её выслали в поместье отца под надзор полиции[12]. В 1894 году Вера Игнатьевна смогла получить при Орловской гимназии звание домашней учительницы. Будучи лесбиянкой[13][14], 5 сентября 1894 года Вера Гедройц вступила в фиктивный брак со своим петербургским другом капитаном Николаем Афанасьевичем Белозеровым[прим. 5]. С мужем в дальнейшем она, практически, не виделась, а сам факт замужества тщательно скрывала. С помощью друзей, произведя манипуляции с подложными паспортами, Вера Гедройц ускользнула из-под надзора полиции и уехала за границу в Швейцарию, где намеревалась получить высшее медицинское образование[3][15][16][17].
По приезде в Лозанну она познакомилась с девушкой Рики Гюди, в дальнейшем они полюбили друг друга и решили вместе уехать в Россию, однако судьба распорядилась иначе. Вере Гедройц с её подложным паспортом сначала отказали в поступлении в университет. Однако она познакомилась через народовольца С. М. Жеманова (сподвижника Г. В. Плеханова) с профессором-физиологом А. А. Герценом (сыном А. И. Герцена), и по его ходатайству её приняли на медицинский факультет Лозаннского университета[18]. Поскольку семья Веры Гедройц с трудом сводила концы с концами и не могла помочь, чтобы заработать на проживание, ей приходилось давать уроки и работать помощницей у профессора А. И. Скребицкого[19]. На факультете обучалось всего три женщины. На младших курсах Вера Гедройц особенно увлеклась анатомией. На старших курсах она с интересом занималась хирургией, преподаваемой знаменитым профессором Цезарем Ру, учеником Э. Кохера. Привлекла внимание Веры Гедройц также психиатрия, курс по которой вел профессор Зигфрид Рабов. Она активно работала на обеих кафедрах, писала доклады, дежурила в клиниках[20]. 14 декабря 1898 года Вера Гедройц с отличием окончила университет. Зимой из России приходили тревожные письма от матери, в которых она просила дочь вернуться, однако по совету профессора Цезаря Ру Вера Гедройц подала на конкурс и поступила в ассистентуру на кафедре хирургических болезней. Она ежедневно присутствовала в клинике на обходах, перевязках, в день принимала участие в шести — десяти операциях, дежурила ночами. Одновременно занималась изучением научной литературы. Под руководством профессора Ру она написала и защитила диссертацию на звание доктора медицины. После этого она получила приглашение стать приват-доцентом кафедры. Но вскоре из России пришло письмо от отца, в котором он сообщал о смерти сестры и болезни матери, умолял вернуться. Одновременно умерла мать Рики, оставив дочери на попечение несовершеннолетних брата и сестру. Весной 1899 года Вера Игнатьевна вынуждена вернуться в Россию одна[21]. Возвращение в Россию«В. И. Гедройц, первая женщина-хирург, выступавшая на съезде и с таким серьёзным и интересным докладом, сопровождаемым демонстрацией. Женщина поставила на ноги мужчину, который до её операции ползал на чреве, как червь. Помнится мне и шумная овация, устроенная ей русскими хирургами. В истории хирургии, мне кажется, такие моменты должны отмечаться». В. И. Разумовский, III-й Всероссийский съезд хирургов[22] Вернувшись в Россию, Вера Гедройц устроилась заводским врачом на Мальцовские заводы портландцемента в Калужской губернии. В мае 1900 года в Фокино открылась заводская больница на пятнадцать коек, но для лечения она была непригодна, и Вера Игнатьевна, бывшая единственным врачом, организовала полное переоборудование вверенного учреждения. Помимо обслуживания рабочих завода и их семей, ей вскоре пришлось также врачевать и жителей всего уезда. Вера Гедройц вела амбулаторный приём, выезжала на дом к тяжелобольным, много оперировала, организовала санитарно-гигиенический режим заводов, обучала врачей из соседних лечебниц. Параллельно она готовила научный материал и готовилась к сдаче экзаменов, чтобы получить российский диплом врача. Много сил уходило на постоянные конфликты в заводской комиссии по определению тяжести увечий, где Вера Игнатьевна защищала права рабочих на пенсию[23]. 27 февраля 1903 года Вера Гедройц, успешно сдав гимназические и университетские экзамены в Московском университете, получила диплом с записью о присвоении звания «женщина-врач». В этом же году Вера Гедройц выступила с докладом на III-м Всероссийском съезде хирургов, опубликовала в журнале «Хирургия» отчёт о работе заводской медицинской службы[22][24]. Тяжёлые условия труда, грязь и нищета, безысходное положение рабочих завода, тяжёлая работа в больнице и деревнях, сложности в семье, письмо из Швейцарии от Рики, в котором та сообщила, что не сможет приехать в Россию, ввергли Веру Гедройц в тяжёлую депрессию и довели до попытки самоубийства. Однако оказавшиеся рядом врачи, приехавшие на заводскую комиссию, спасли ей жизнь[25]. Русско-японская войнаДворянский передовой госпиталь в Тавангоузе. На переднем плане справа хирург В. И. Гедройц Весной 1904 года Вера Гедройц отправилась добровольцем на фронт русско-японской войны хирургом санитарного поезда Российского общества Красного Креста. В конце сентября отряд медицинской службы во главе с Верой Игнатьевной основал госпиталь у деревни Сяочиньтидзы в Маньчжурии, и начался приём раненых. Вскоре она была избрана председателем общества врачей Передовых Дворянских отрядов. На войне Вера Игнатьевна не только разработала новые методы лечения в новых условиях войны, но также организовала лечебную работу в меняющихся условиях боевой обстановки. 11 января 1905 года лагерь был передислоцирован к деревне Гудзяодзы. Позже в распоряжение отряда поступил специально сконструированный операционный вагон, и Вера Гедройц перешла руководить им. 16 февраля в ходе Мукденского сражения вагон был передислоцирован в район Фушинских копей. Вскоре стали поступать первые больные, госпиталь работал круглосуточно, лично Верой Гедройц проведено более ста операций. 22 февраля на исходе Мукденского сражения возникла угроза окружения лазаретов, врачебный совет принял решение не оставлять раненых и попытаться их эвакуировать. Отступление прошло успешно, последним под вражеским обстрелом ушёл поезд под руководством Веры Игнатьевны[26]. В марте 1905 года Вере Гедройц было поручено лечить полковника В. И. Гурко. Весной её поезд ушёл в тыл, с войны она увезла две награды: золотую медаль «За усердие» на Анненской ленте, полученную 18 января 1905 года за деятельность во время боёв при Шахе, и серебряную медаль «За храбрость» на Георгиевской ленте, врученную лично генералом Н. П. Линевичем 11 марта 1905 года за героические действия по спасению раненых в ходе Мукденского сражения. 16 мая 1905 года ей также присуждена серебряная медаль Красного Креста[27]. После войныВ мае 1905 года Вера Гедройц возвратилась в родные края на своё прежнее место работы. 27 июля она представила результаты своей работы Брянскому обществу врачей, обобщив полученный опыт и сделав ряд важных выводов по военной медицине[28]. Её имя как женщины-хирурга, как героя войны стало известным на всю страну. В 1905 году, как и по всей России, на заводах возникли волнения и беспорядки из-за тяжёлых условий труда и низкой зарплаты. Вера Гедройц помогала рабочим лидерам[29]. Она познакомилась с местными конституционными демократами, а затем вошла в руководство местного отделения партии[30]. 22 декабря 1905 года скрываемый ею от окружающих брак с Н. А. Белозеровым по желанию Гедройц был расторгнут (в 1907 году ей будет возвращён титул княжны и разрешено вернуть девичью фамилию)[31]. В 1906 году полиция составила список кадетов, первую строчку в котором заняла Вера Игнатьевна. Однако её, в отличие от других фигурантов списка, не подвергли репрессии, а нагрузили работой и перевели на заведование Людиновской больницей, которую было решено сделать центральной в Мальцовском округе. Она приняла решение достичь европейского уровня оказания медицинской помощи: было закуплено новое оборудование, инструментарий, рентгеновский аппарат, в практику введён эфирный наркоз, бактериологическая диагностика, открылось отдельное акушерское отделение, создан патологоанатомический музей. Вскоре Веру Игнатьевну назначили главным хирургом Жиздринского уезда, а затем и главным хирургом заводов Мальцовского акционерного общества. Помимо практической хирургии и организаторской деятельности, она не оставила занятий наукой, собирала материал для диссертации, задумывалась над написанием учебника. Гедройц разрабатывала вопросы производственного травматизма, грыж брюшной стенки, хирургии щитовидной железы, опухолей различных органов, туберкулёза костей, акушерства. Вера Игнатьевна печатала статьи в медицинских журналах, проводила с земскими врачами обсуждения диагностики и лечения различных заболеваний[32]. Вскоре Вера Гедройц познакомилась с семьёй профессора петербургской Императорской Академии художеств Ю. Ю. Клевера. Общение с творческими людьми возродило в ней тягу к литературной деятельности, она начала писать стихи, баллады, пьесы, рассказы, сказки[33]. Зимой 1909 года Вера Гедройц получила приглашение в Петербург на открытие детской клиники. Приехав в столицу, она встретилась с фронтовым другом Е. С. Боткиным, который к тому времени был приват-доцентом Военно-медицинской академии и личным врачом царской семьи. Он пригласил Веру Игнатьевну к себе в помощницы, поскольку в императорской семье из семи человек пять были женщины, а он знал её как первоклассного специалиста, в том числе по женским болезням[34]. Царскосельский периодИмператрица Александра Фёдоровна (слева) и княжна Вера Гедройц в перевязочной Царскосельского госпиталя В 1909 году, благодаря рекомендации Е. С. Боткина, а также военной славе Гедройц, императрица Александра Фёдоровна пригласила её занять должность старшего ординатора Царскосельского дворцового госпиталя. Вера Игнатьевна вместе с матерью приехала в Царское Село, где получила приглашение остановиться у семьи Ю. Ю. Клевера[35]. Назначение на столь высокую должность (VII ранг) женщины было крайне негативно воспринято старшим врачом госпиталя Н. М. Шрейдером, но он был вынужден подчиниться воле императрицы. Вера Игнатьевна начала руководить хирургическим и акушерско-гинекологическим отделениями, являясь вторым лицом больницы. Она также лечила царских детей и имела частную практику в городе. Однако конфликт со старшим врачом вызвал напряжённые отношения с коллегами и множество трений с начальством. Н. М. Шрейдером был даже составлен запрос в полицию о благонадёжности Гедройц, однако проверка почему-то не выявила её связей с революционными кругами[36]. Чтобы поддержать Веру Игнатьевну, дочь Ю. Ю. Клевера Мария предложила ей издать свои литературные сочинения и взялась сама оформить издание. Подготовкой книги целиком занималась Мария, поэтому, когда Гедройц увидела уже напечатанное издание «Стихи и сказки», то была расстроена из-за неудачного подбора материала. Но в процессе подготовки книги к изданию Вера Игнатьевна познакомилась с Р. В. Ивановым-Разумником, который стал в дальнейшем её близким другом[37]. Также она возобновила знакомство с В. В. Розановым, она первая поставила его жене диагноз рассеянного склероза и занялась её дальнейшим лечением[38]. Вера Игнатьевна также близко узнала Н. С. Гумилёва, поскольку лечила его от малярии, которой он заразился во время первой поездки в Абиссинию. Впоследствии она оказывала ему финансовую поддержку при выпуске журнала «Гиперборей»[39]. Благодаря этим связям Вера Игнатьевна принимала участие в различных поэтических кружках и творческих салонах, где познакомилась практически со всеми известными деятелями Серебряного века. Вскоре Гедройц вошла в состав провозглашённого Гумилёвым «Цеха поэтов», куда также входили Ахматова, Городецкий, Мандельштам, Зенкевич, Нарбут, Кузьмина-Караваева, Лозинский, Кузмин, Пяст, Алексей Толстой, Виктор Третьяков и другие. Через Р. В. Иванова-Разумника Вера Игнатьевна познакомилась с Н. А. Клюевым и С. А Есениным. В 1913 году под эгидой Цеха вышла её вторая книга стихов «Вег». Вера Игнатьевна также печаталась в журналах «Гиперборей», «Заветы», «Новый журнал для всех», «Вестник теософии» (в ряде стихов Гедройц ориентировалась на эзотерические откровения Е. Блаватской), «Северные записки», «Современник» и других[40]. Одновременно Вера Гедройц также занималась научными исследованиями. Выступала с докладами на X и XI Всероссийских съездах хирургов. В 1912 году она защитила в
1 февраля < 100 просмотров
Какие ароматы источали русские дамы
Для многих парфюмерия может быть только французской. В середине XIX века несколько парфюмеров смогли доказать обратное и организовали в Российской Империи выпуск духов и мыла, которые были совсем не хуже парижских. Русская парфюмерия. НачалоГлавная особенность русской парфюмерии - тесная связь с врачебным делом. Издавна на Руси всевозможные косметические средства (румяна, сурьма, белила и благовония) находились на одном прилавке с лекарствами и травами. Поэтому большинство парфюмеров российской Империи вышли из среды фармацевтов и аптекарей. Органическая косметика - это по-нашемуПервые русские духи часто имели простенькие, незамысловатые названия: “Васильки”, “Сирень”, ”Дивный ландыш”, “Нильская лилия”. И дело тут не в отсутствии фантазии: для изготовления таких композиций использовались натуральные компоненты, преимущественно цветы. Первое синтетическое сырье для изготовления парфюмерии в России появилось только в двадцатых годах XX века. Знаменитые запахи и “носы”В 1843 году, в Москве французом Альфонсом Ралле была основана парфюмерная фабрика “А. Ралле и Ко”, которая производила 160 наименований парфюмерных товаров. Компания имела 60 высших наград на выставках. Многие современные парфюмерные фирмы могут только позавидовать подобному успеху. Альфонс Ралле очаровал святейших особ своими ароматами и был удостоен права ставить на своих изделиях четыре герба Российской империи. Знак наивысшего качества продукции. Ралле первым придумал так называемые “зимние духи”. На московском морозном воздухе они приобретали особый шарм – легкую хрустальную ноту. Первые красавицы того времени называли их «Парфюм де фурор» («Духи для меха»), потому тогда душить ими меха, перчатки и шляпки было очень модно. Потомственный парфюмер Генрих Брокар начал свою карьеру в 1861 году на одном из московских парфюмерных заводов. Начинал он с мыла: “Детского” с выдавленным на нём русским алфавитом, “Янтарного” и “Медового”. А уже через 3 года основал собственное дело – фирму «Брокар и Ко», которая через 10 лет заслужила звания официального поставщика Великой Княгини Марии Александровны. В Санкт-Петербурге «тон задавали» два крупных предприятия. Провизор и купец первой гильдии Федор Иванович Каль в 1860 году основал «Петербургскую химическую лабораторию», на которой производили замечательные духи и одеколоны. Уже в 1890 года предприятие именовалось Акционерное общество «Санкт-Петербургская химическая лаборатория», а отдел продаж фабрики возгравлял отец поэта Саши Черного. Вторым парфюмерным "гигантом" города было товарищество cо сходным названием «Санкт-Петербургская техно-химическая лаборатория». В нее входило подразделение «Василий Аурих», названное по имени талантливого изготовителя парфюмерии, главного лаборанта, или, как его называли в то время, главного «носа» фабрики Василия Ауриха. Александр Остроумов был первым российским парфюмером-косметологом, которого прославило создание средств от перхоти. Все вырученные от продажи средств деньги, он вложил в свое производство духов. И не прогадал! Духами от Остроумова стал пользовался весь «высший свет». Среди поклонниц парфюмерной продукции Остроумова были балерина Тамара Карсавина, певица Надежда Плевицкая, балерина Мария Петипа, актриса Малого театра Вера Пашенная, примы Большого театра, певицы Антонина Нежданова, Елена Степанова и многие другие. Август Мишель, мифическая личность на парфюмерном рынке России, создатель знаменитых духов под названием «Любимый букет императрицы», созданных к 300-летию Дома Романовых. Работник фабрики Брокара, ставший главным парфюмером “Новой Зари”, переименовал свои знаменитые духи в «Красную Москву». https://zen.yandex.ru/media/cyrillitsa.ru/kakie-ar...-damy-5c53eda1c7f75d00adc637e8
(Мальчики-наложники – бачи – в Самарканде, 1890-е годы) «По данным за 1911-13 годы из общего числа случаев мужеложества в Российской империи почти половина приходилась на Тифлисскую губернию (включая города Тифлис, Баку, Екатеринослав, Ереван и прочие населенные пункты). Несмотря на распространенность половой психопатии среди населения данного региона, этот феномен был прежде всего порождением местных культур. Обычаи и нравы коренного населения Грузии и Армении, регионов вокруг Баку, Ташкента и Самарканда отнюдь не исключали однополых отношений, причем часто принудительных. (Вера Гедройц сидит, в центре)
(Мария Бочкарёва и лидер английских феминисток миссис Панкхерст, лето 1917 года)
Женская тема: исторические личности Вера Гедройц княжна, гений-хирург, лесбиянкаОпубликовано 11 марта 2015
Вера Гедройц, литовского княжеского рода, родилась в 1876 году в Киеве, росла в селе Слободище Брянского уезда Орловской губернии, училась в Брянской женской прогимназии (где учительствовал В.В. Розанов), позже на курсах П.Ф. Лесгафта в Петербурге (ей было 15 лет). Там же сошлась с революционным кружком В.А.Вейнштока, и в 1892 году (ей 16 лет) была выслана в поместье отца под надзор полиции.
Гиппоцентавр: княжна-хирург Вера Гедройц139 Просмотров 23 Июль, 2016 Княжна Вера Игнатьевна Гедройц, пожалуй, самый неожиданный персонаж этой славной киевской галереи, буквально — «беззаконная комета» среди расчисленных светил киевской медицины.
Гедройцы – старинный литовский княжеский род, по легенде они происходят от легендарного князя Гедруса, на гербе Гедройцев Гиппоцентавр, в их роду были святые целители и просветители, из этого рода и Ежи Гедройц, создатель польской «Культуры». Дед княжны Веры был казнен после подавления польского восстания в 1863-м, отец был лишен дворянского звания (княжеский титул был возвращен в 1877-м решением Сената), бежал, и Вера Гедройц появилась на свет в 1870-м в селе Слободище под Брянском. Потом она предпочитала указывать в анкетах, что родилась в Киеве, — трудно сказать почему, однако в Киеве она провела вторую половину жизни и в Киеве она умерла. Она училась в Брянской гимназии и учителем ее был Василий Розанов, что, вероятно, сыграло свою роль. Вообще, она, кажется, была из тех решительных девиц, которые прочитав однажды «Что делать» Чернышевского, открывали для себя новое небо и новую землю. Княжна Вера поступила на медицинские курсы Лесгафта в Петербурге, тогда же она с головой уходит в так называемые «революционные кружки», на похоронах Николая Шелгунова, которые превратились в митинг, она была задержана и выслана в брянское поместье под надзор полиции.
Затем следует ее тайный брак с капитаном Белозеровым (фиктивный, — она была открытой лесбиянкой, что тоже для своего времени было невероятным шагом) и побег за границу. Она попадает в Швейцарию по подложному паспорту и по ходатайству А.А.Герцена (сына писателя) поступает на медицинский факультет университета в Лозанне. Она занимается на кафедрах психиатрии и хирургии, ее учителем был великий хирург Цезарь Ру. Она стала доктором медицины и первой в России (в ее случае, наверное, первым – она говорила о себе в мужском роде) женщиной-хирургом. Она возвращается в Россию, работает в заводской и деревенской больницах, был момент, когда она пыталась покончить с собой. Потом она уходит добровольцем на войну (русско-японскую), оперирует в санитарном поезде, выводит его из окружения, получает медаль «За храбрость» на Георгиевской ленте. Она впервые в истории медицины стала делать полостные операции в полевых условиях. После войны она становится старшим ординатором Царскосельского дворцового госпиталя и тогда же начинается биография поэта Сергея Гедройца (она пишет стихи под именем рано умершего брата). С писательством у нее складывается не так блестяще как с хирургией, говорят, что в Цех поэтов Сергея Гедройца приняли лишь потому, что княжна Вера лечила Гумилева от малярии и спонсировала «Гиперборей». Во время Первой мировой войны Вера Гедройц возглавляет Царскосельский госпиталь, к этому времени относится знаменитая история, когда она вытолкала из вырубовской палаты «святого старца» Григория Распутина. Она находится на фронте вплоть до 1918-го и в Киев попадает, предположительно, по ранению, по одной версии, — в больницу Покровского монастыря, по другой – в Печерский военный госпиталь. Здесь она остается, и с 1919-го работает в госпитале, потом – в детской поликлинике, создает клинику челюстно-лицевой хирургии, а в 1922-м во вновь созданном Киевском медицинском институте читает курс детской хирургии. Она становится директором хирургических клиник института, затем возглавляет кафедру хирургии. Киевские адреса Все свои 14 киевских лет Вера Гедройц прожила с графиней Марией Нирод и ее детьми в доме №7 по Круглоуниверситетской улице. Она чрезвычайно подружилась с соседями – художницей и актрисой театра Леся Курбаса Ириной Авдиевой и ее мужем Леонидом Поволоцким.
Она работала до 1929-го, до так называемого «процесса СВУ», по которому были арестованы ведущие киевские врачи, Веру Гедройц тогда попросту «вычистили» — без объяснений и … без пенсии. Она жила литературными гонорарами, купила домик под Киевом. До самой смерти она продолжала оперировать в больнице Покровского монастыря. Умерла она от рака в 1932-м и похоронена на Спасо-Преображенском кладбище в Корчеватом. В той же ограде могила архиепископа Ермогена, завещавшего похоронить себя рядом с Гедройц.
Сергей Гедройц Любжа
Пил я водку из настоя, https://inkyiv.com.ua/2016/07/gippocentavr-knyazhna-khirurg-v
Оригинал взят у Кузница кадров. Та еще!5 мая 1764 г. 249 лет назад в Петербурге по указу императрицы Екатерины II основан Смольный институт благородных девиц
Леонид Девятых Люди, биографии Легко ли быть начальницей Института Благородных девиц?
Легко ли быть начальницей Института Благородных девиц? В В начальницы Казанского Родионовского института Благородных девиц выбирали самых достойнейших.
Первая его директриса – Екатерина Дмитриевна Загоскина, почти двадцать пять лет прослужившая во благо Института и его воспитанниц, «довела Родионовский институт, - как писала газета «Казанские губернские ведомости», - даже выше той степени совершенства, какая могла быть доступна средствам».
Вторая институтская начальница, тоже из рода Мертваго (девичья фамилия Загоскиной – Мертваго), была не столь строга, посему Институт немного в чем-то потерял, в чем-то приобрел, но в руки следующей начальнице его, Софье Васильевне Ланской, попал все же не в лучшем состоянии…
Софья Васильневна была из старого дворянского рода Энгельгардтов, корни которого уходили в рыцарство Тевтонского Ордена.
Родилась она в мае 1845 года в Царском селе в семье правнука знаменитого светлейшего Князя Тавричесского Григория Александровича Потемкина генерал-майора Василия Васильевича Энгельгардта и урожденной графини Елены Львовны Соллогуб, родной племянницы еще одного Светлейшего Князя – канцлера Александра Михайловича Горчакова.
Воспитывалась дома, вместе с двумя братьями и сестрами и, конечно, не могла и предполагать, что ей предстоит педагогическая карьера. Но – случилось. После смерти безалаберного мужа П.П. Ланского, от которого у нее осталось долги и четыре дочери, Софья Васильевна вынуждена была работать, для чего и избирает педагогическое поприще.
В 1879 году она назначается начальницей Рыбинской женской гимназии. В мае 1880-го переводится начальницей Могилевской женской гимназии, а в марте 1882 года получает место начальницы Казанского Родионовского института Благородных девиц и вместе с дочерьми переезжает в Казань. «В Казанском институте, - вспоминал один из ее современников, - Софье Васильевне предстояла нелегкая работа: многое нужно было исправить, изменить, иное нужно было совсем уничтожить». И Ланская взялась за дело.
Она была остра умом, проста и приятна в человеческом общении. В городе ее любили, и в ее гостиной собиралось все высшее общество Казани. Она была очень деятельным человеком, забывала ради дела себя и прекрасно понимала задачи женского воспитания. «В короткий срок, всего-то в полтора года, - как писали казанские газеты, - новая начальница победоносно вышла из всех затруднений: дело было налажено, и в близком будущем С.В. Ланской оставалось лишь пожинать то добро, которое она посеяла, но…»
Еще 11 декабря 1883 года она принимала у себя в институте казанское общество, устроив литературно-музыкальный вечер.
Еще 13 декабря она давала обед для друзей.
А ночью 16 декабря ее не стало: скарлатина, осложненная дифтеритом унесла ее в мир иной.
После похорон, которые возглавили сам казанский владыка архиепископ Палладий, на ее имя пришло письмо, в котором сообщалось, что августейшая руководительница женского образования в России Мария Федоровна готовит специально для нее «весьма выдающийся и серьезный педагогический пост»…
http://www.topauthor.ru/legko_li_bit_nachalnitsey_...a_blagorodnih_devits_ddab.html
Институт благородных девиц Когда веселой чередою
© Copyright: Наталья Ромодина, 2014
О проекте
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||














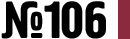

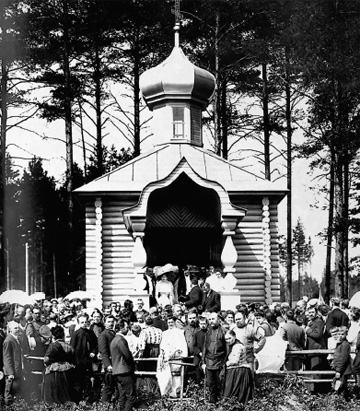















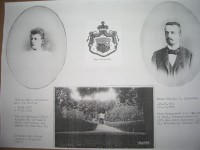

















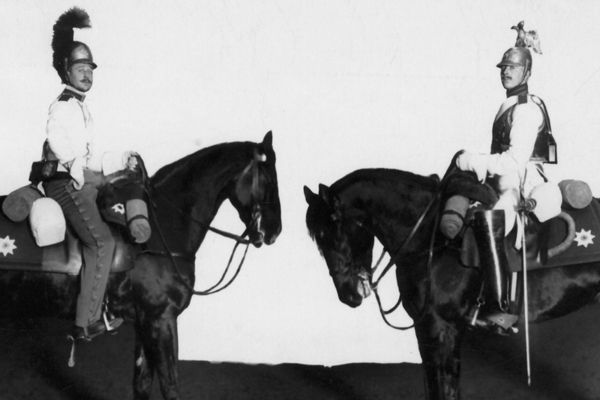


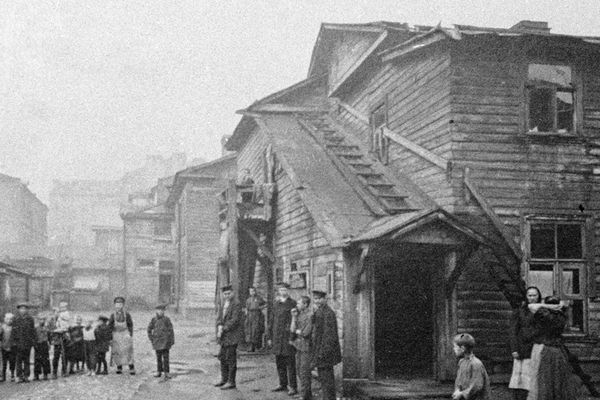
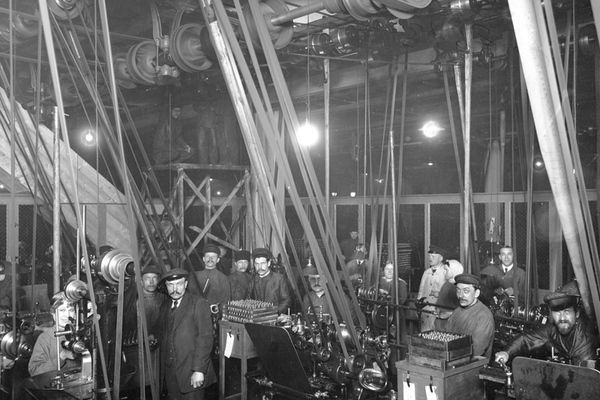
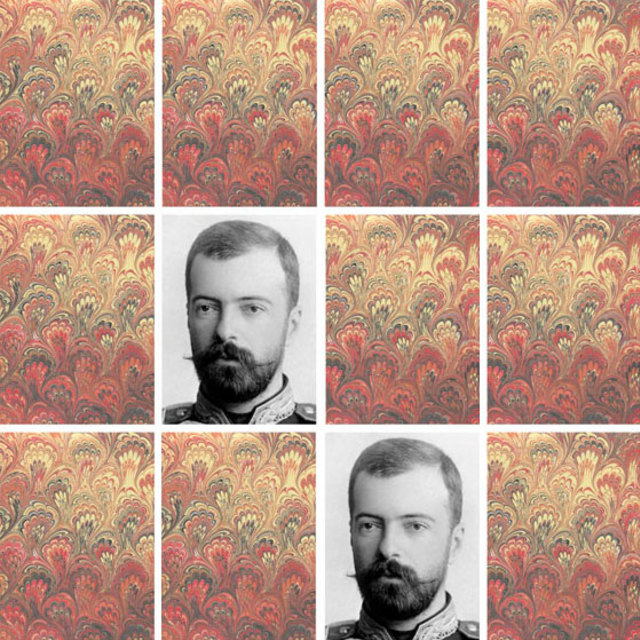









 Регистрация нового пользователя
Регистрация нового пользователя







































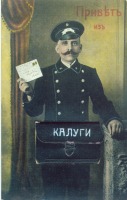

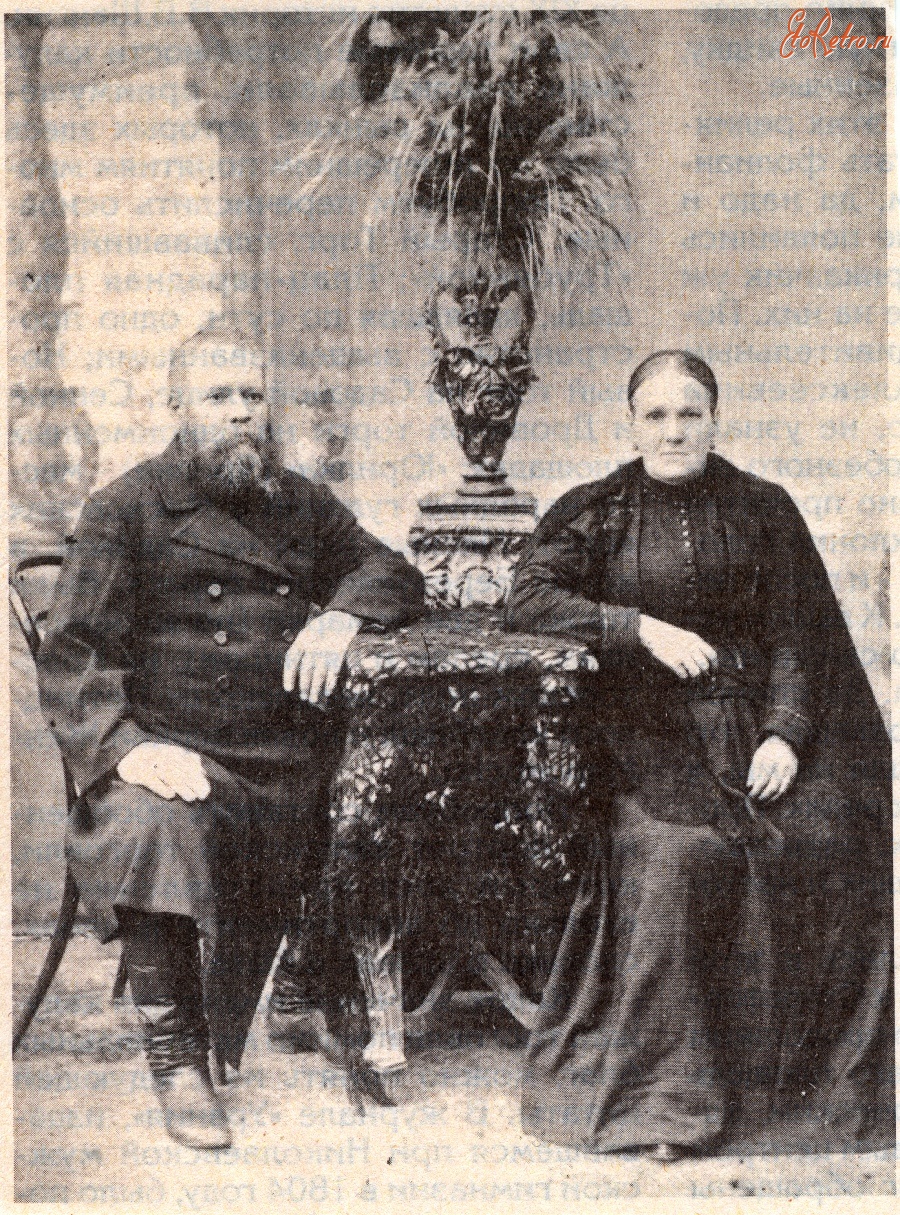
 Размер: Текущий 900*1342 (804.45 KB) | Оригинал 2098*3130 (2167.8 KB)
Размер: Текущий 900*1342 (804.45 KB) | Оригинал 2098*3130 (2167.8 KB) Размер: Текущий 899*1172 (609.98 KB) | Оригинал 2932*3820 (2434.53 KB)
Размер: Текущий 899*1172 (609.98 KB) | Оригинал 2932*3820 (2434.53 KB) Размер: Текущий 900*1080 (513.42 KB) | Оригинал 3612*4336 (3153.11 KB)
Размер: Текущий 900*1080 (513.42 KB) | Оригинал 3612*4336 (3153.11 KB) Размер: Текущий 900*1075 (532.83 KB) | Оригинал 3236*3868 (2577.82 KB)
Размер: Текущий 900*1075 (532.83 KB) | Оригинал 3236*3868 (2577.82 KB) Размер: Текущий 900*639 (323.23 KB) | Оригинал 3072*2184 (2081.52 KB)
Размер: Текущий 900*639 (323.23 KB) | Оригинал 3072*2184 (2081.52 KB) Размер: Текущий 899*564 (228.5 KB) | Оригинал 6612*4148 (3651.91 KB)
Размер: Текущий 899*564 (228.5 KB) | Оригинал 6612*4148 (3651.91 KB)
 Размер: Текущий 900*1386 (858.13 KB) | Оригинал 1828*2816 (2096.79 KB)
Размер: Текущий 900*1386 (858.13 KB) | Оригинал 1828*2816 (2096.79 KB) Размер: Текущий 900*284 (123.23 KB) | Оригинал 11256*3564 (5275.04 KB)
Размер: Текущий 900*284 (123.23 KB) | Оригинал 11256*3564 (5275.04 KB) Размер: Текущий 900*1203 (791.15 KB) | Оригинал 2088*2792 (906.77 KB)
Размер: Текущий 900*1203 (791.15 KB) | Оригинал 2088*2792 (906.77 KB) Размер: Текущий 900*1357 (866.51 KB) | Оригинал 1944*2932 (1262.81 KB)
Размер: Текущий 900*1357 (866.51 KB) | Оригинал 1944*2932 (1262.81 KB) Размер: Текущий 900*1049 (577.29 KB) | Оригинал 2956*3448 (1330.08 KB)
Размер: Текущий 900*1049 (577.29 KB) | Оригинал 2956*3448 (1330.08 KB) Размер: Текущий 900*1182 (639.55 KB) | Оригинал 3284*4316 (1836.28 KB)
Размер: Текущий 900*1182 (639.55 KB) | Оригинал 3284*4316 (1836.28 KB) Размер: Текущий 900*1067 (560.23 KB) | Оригинал 3400*4032 (1814.94 KB)
Размер: Текущий 900*1067 (560.23 KB) | Оригинал 3400*4032 (1814.94 KB) Размер: Текущий 900*1013 (295.59 KB) | Оригинал 1973*2221 (711.03 KB)
Размер: Текущий 900*1013 (295.59 KB) | Оригинал 1973*2221 (711.03 KB) Размер: Текущий 575*826 (365.02 KB) | Оригинал 575*826 (365.02 KB)
Размер: Текущий 575*826 (365.02 KB) | Оригинал 575*826 (365.02 KB)
 zina_korzina
zina_korzina





















































