Адмирал Колчак |
Адмирал Колчак
Вице-адмирал Российского Императорского Флота Александр Васильевич Колчак, расстрелянный без суда 7 февраля 1920 года, стал символом Белого движения. По вопросу его роли в истории России до сих пор идут жёсткие идейные споры.
В Арктике
Первым потомственным дворянином в роду Колчака был его дед, украинский казак, дослужившийся до высокого чина. Василий Колчак стал морским офицером, и его сын пошёл по той же стезе.
В 1900 году лейтенант флота Колчак принял предложение Императорской Академии наук возглавить гидрологические работы в Русской Полярной экспедиции по поиску Земли Санникова под руководством Эдуарда Толля. Экспедиция длилась два с половиной года, с двумя зимовками в Арктике. Именем Колчака был назван небольшой открытый остров в Карском море. В 1903 году Колчак сам стал начальником полярной экспедиции, отправленной на поиски (к сожалению, безуспешные) пропавшей в районе Новосибирских островов экспедиции Толля. Группа Колчака вернулась из опасной миссии без потерь
Итогом работ Колчака в Арктике стало уточнение ледового режима и течений Северного Ледовитого океана. Колчак был избран членом Русского Географического общества и получил его высшую награду – Константиновскую медаль.
Командующий флотом
В начале 1904 года Колчак был по собственной просьбе переведён в Порт-Артур, где состоялось его боевое крещение. За участие в полярных экспедициях и в русско-японской войне он был награждён первыми орденами. В 1909-1910 гг. Колчак снова был в руководстве отряда Гидрографической экспедиции Морского министерства в Северный Ледовитый океан на ледоколах «Вайгач» и «Таймыр».
Начало Первой мировой войны капитан 1-ранга Колчак встретил на должности начальника оперативного отдела штаба Балтийского флота. Осенью 1915 года он был назначен командиром миноносной дивизии на Балтфлоте, а в сентябре 1916 года стал командующим Черноморским флотом. Звание вице-адмирала было ему присвоено всего через три месяца после произведения в контр-адмиралы.
На Колчака возлагалась важная задача подготовки и проведения операции по захвату Босфора и Дарданелл, запланированной Главным Морским штабом на весну 1917 года. Но грянула Февральская революция, а за ней – развал российских вооружённых сил. Колчак был не в силах противостоять ему: Временное Правительство лишило офицеров дисциплинарной власти. Черноморские матросы бунтовали и разлагались подобно балтийским и угрожали Колчаку бессудным расстрелом. В июне 1917 года Колчак подал в отставку и уехал за границу.
«Верховный правитель России»
Здесь начинается самый тёмный период в биографии Колчака. Сейчас любят говорить о том, что уже тогда западные державы проталкивали Колчака в диктаторы России. Что-то предосудительное в этом можно найти только с большевицких позиций. США, Англия и Франция, конечно, были заинтересованы в том, чтобы Россия не выходила из войны с Германией, а после того, как большевики заключили сепаратный Брестский мир, искали энергичного вождя для антисоветских сил.
Осенью 1918 года Колчак появился в Омске, где был назначен военным министром Сибирского правительства. Через две недели произошёл военный переворот, поддержанный английской миссией. Титул «Верховного правителя России», которым наградили Колчака, был претенциозен, но Колчак был признан в этом качестве всеми центрами Белого движения.
На Колчака возлагают ответственность за то, что он «не так, как надо» руководил Белым движением. Но мог ли кто-то в то время сделать это лучше? Все Белые армии пережили крах примерно по одному сценарию. Колчак находился в худшей ситуации, чем Деникин. Сибирь в ту пору была бедной окраиной России и имела только одну связь с внешним миром, откуда к ней могла поступать западная помощь – Транссибирскую магистраль.
Предательство и подлоги
Осенью 1919 года «Колчакия» стала разваливаться. Чешский корпус, на который белые вначале опирались, стремился покинуть Россию. Он пообещал защиту адмирала при эвакуации. Однако тыл Колчака уже не подчинялся ему. Под Иркутском эсеро-меньшевистский Политцентр потребовал выдачи ему «Верховного правителя», чтобы иметь козырь в переговорах с большевиками. Чехи предали Колчака. Затем Политцентр выдал Колчака большевикам, которые расстреляли его по прямому указанию Ленина.
Почти 70 лет публиковались подложные «протоколы допросов Колчака». В них вождь Белого движения оправдывает жестокости, совершавшиеся в белой Сибири карательными отрядами от его имени. Только в 1994 году подлинные стенограммы бесед следователей Политцентра с бывшим «Верховным правителем» увидели свет.
Колчаку приписываются многие «громкие» высказывания. Управляющий делами его правительства Александр Гинс в книге, выпущенной в Пекине в 1921 году, утверждал, что Колчак заявлял: «Я приказываю своим офицерам расстреливать всех взятых в плен коммунистов. Либо они нас перестреляют, либо мы их» и (о золотом запасе России) «лучше я отдам золото большевикам, чем передам союзникам».
Фраза, которой он ответил Маннергейму в ответ на его предложение двинуть финские войска на красный Петроград взамен признания независимости Финляндии – «я Россией не торгую» – вряд ли соответствует действительности. Точнее, вряд ли Маннергейм мог обратиться к Колчаку с этим предложением: в 1919 году он уже не правил Финляндией.
Есть сведения, что Колчак был расстрелян не на льду Ангары, а в Иркутской тюрьме. Также имеются данные о том, что труп адмирала был весной 1920 года выловлен в Ангаре местными жителями и тайно от большевиков захоронен.https://zen.yandex.ru/media/history_russian/admiral-kolchak-5c4eba35bb5e7100ad967d04
|
Метки: российская императорская армия колчак |
Дворянский род Мухановых |
Фамильная ветвь
|
Скачать 3.96 Mb.
|
1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 31
|
Дмитрий Иванович в службу вступил в Московский пехотный полк рядовым - 16.II.1823; подпрапорщик - 22.VI.1823; портупей-прапорщик - 22.IV.1828; прапорщик - 31.VII.1828; подпоручик - 9.VI.1834 со старшинством со 2 апреля того же года; поручик - 12.XI.1834; в 1830 был в походе в Северном Дагестане и в Кумышском владении, в 1831 и 1832 в экспедициях в Чечню, за которые награжден орденом Св. Анны 4 степени с надписью "За храбрость"; уволен по прошению от службы по домашним обстоятельствам штабс-капитаном - 29.III.1837 (указ об отставке, выданный 15.IV.1837, за №1375, командиром 6 пехотного корпуса генерал-адъютантом Нейдгартом). Дмитрий Иванович был женат на Юлии Всеволодовне Арбузовой. 79. Григорий Иванович........................................................................................................................62 О том, как служил Григорий Иванович и о его потомстве, нам ничего неизвестно. 80. Иван Иванович................................................................................................................................62 Иван Иванович родился 1 мая 1808 года в дер. Рог Колузенский. О службе Иван Ивановича ничего не известно. 81. Сергей Иванович.............................................................................................................................62 Сергей Иванович родился 24 сентября 1811 года в дер. Рог Колузенский. В службу вступил в Белевский пехотный полк подпрапорщиком - 15.XI.1829; портупей-прапорщик - 1.X.1831; участвовал в походе против польских мятежников и за отличие в сражении (при местечке Эриголы) произведен в прапорщики - 3.X.1831; за кампанию получил польский знак за военные достоинства 5 степени; подпоручик - 12.XI.1834; переведен в Московский пехотный полк - 19.XII.1834; по прошению уволен поручиком - 22.XII.1836; определен в г. Лихвин винным приставом - 9.VIII.1837; переименован в провинциальные секретари - 9.XI.1837 (формулярный список, сообщенный Калужской казенной палатой в Калужское дворянское депутатское собрание в мае 1845). Сергей Иванович был женат на Марии Даниловне Акуловой, дочери калужского купца Данила Андреевича Акулова. Скончался он 25 февраля 1844 года. 82. Федор Иванович.............................................................................................................................62 Федор Иванович родился 3 июня 1818г. в дер. Рог Колузенский. Определен на военную службу в 1839г. 83. Гавриил Иванович..........................................................................................................................62 Гавриил Иванович родился 12 февраля 1821 года в дер. Рог Колузенский. Определен на военную службу в 1840 году. По ходатайству матери, журнальным постановлением Рязанского дворянского депутатского собрания от 23.XII.1840, Гавриил Иванович Муханов, вместе с братом Степаном, сопричислен к роду и занесен в 6 книгу Рязанского дворянства; утвержден в дворянстве указом Герольдии от 23.XII.1840, №13074. 84. Степан Иванович............................................................................................................................62 Степан Иванович родился в марте 1823 года в дер. Рог Колузенский. Определен на военную службу в 3 учебный карабинерный полк (отношение в Герольдию инспекторского департамента военного министерства от 11.VIII.1844, №7131). X. 23. Мария Дмитриевна...................................................................................................................64 Мария Дмитриевна родилась 24 мая 1879 года в Царском селе С.-Петербургской губернии. Фрейлина. Замужем со 2 февраля 1903 года за флигель-адъютантом поручиком лейб-гвардии Конного полка графом Федором Михайловичем Ниродом (Лобанов-Ростовский, II, стр. 31). В 1915-1919 гг. Мария Дмитриевна - сестра милосердия, хирургическая сестра Царскосельского госпиталя. Скончалась 11 октября 1965 года в Киеве, похоронена на Байковом кладбище. Граф Федор Михайлович Нирод родился 17 июня 1878 года в С-Петербурге. Флигель-адъютант Его Императорского Величества - 1905; командир эскадрона лейб-гвардии Конного полка - 1908; полковник - 25.III.1912. Кавалер ордена Св. Анны 3 степени (1908), ордена Станислава 2 степени (1912). Скончался 6 августа 1913 года в Красном Селе Царскосельского уезда С.-Петербургской губернии, похоронен на Казанском кладбище. 85. Илья Дмитриевич...........................................................................................................................64 Илья Дмитриевич родился 23 декабря 1881 года. В 1903 году окончил Императорский Александровский лицей (LIX курс) и с тех пор находился на службе в Министерстве иностранных дел чиновником особых поручений. В 1911 году Илья Дмитриевич поставил новые машины на стекольном заводе в с. Успенское. В 1913 году Илья Дмитриевич - коллежский асессор. В 1917 году - надворный советник в звании камер-юнкера. Илья Дмитриевич был женат с 26 мая 1906 года на баронессе Анастасии Феофиловне (Богдановне) Мейендорф, дочери генерал-адъютанта генерала от кавалерии барона Ф.(Б).Е. Мейендорфа (р. 4.VIII.1838 в имении Кумна близ Кегеля Эстляндской губернии), женатого на графине Елене Павловне Шуваловой (р. 8.VI.1857 в С-Петербурге). В 1919 году он был арестован большевиками и скончался в тюрьме в том же году. 86. Сергей Алексеевич.........................................................................................................................67 Умер младенцем. 87. Алексей Алексеевич.......................................................................................................................67 Алексей Алексеевич родился 31 июля 1860 года в Константинополе. По окончании юридического факультета Императорского С.-Петербургского университета поступил на службу в Министерство внутренних дел по ведомству иностранных исповеданий, а затем состоял чиновником особых поручений при министре графе Д.А. Толстом; оставив вскоре службу и переселившись в деревню, занялся сельским хозяйством; в 1896 году был избран Новозыбковским уездным предводителем дворянства, а в 1889 году - Черниговским губернским предводителем. За посланную им Государю в 1904 году, в качестве председателя губернского земского собрания, адрес-телеграмму о необходимости созыва народных представителей исключен из придворного звания (состоял в звании Камер-юнкера), а вслед за тем не утвержден в должности губернского предводителя. В 1905 году А.А. Муханов присоединился к "Союзу освобождения", а после образования партии народной свободы был председателем ее Черниговского комитета. Будучи избран депутатом 1-й Государственной Думы от Черниговской губернии, был в ней председателем аграрной комиссии. Речи: по вопросу о депертаменте полиции, аграрному сообщению. После роспуска 1-й Государственной Думы Алексей Алексеевич был среди подписавших Выборгское воззвание и принял затем деятельное участие в делах партии народной свободы в качестве члена Центрального комитета партии и председателя аграрной комиссии. Интересно также такое событие из жизни Алексея Алексеевича. 25 августа 1906 года около трех часов дня произошло покушение на председателя Совета министров П.А.Столыпина на его служебной даче на Аптекарском острове в С.-Петербурге. Три переодетых боевика эсеровской партии вошли в помещение, пользуясь своей маскировкой (двое были одеты как ротмистры жандармерии), но здесь были разоблачены одним из охранников. Увидев опасность, боевики взорвали бомбы, находившиеся в портфелях. Сами покушавшиеся были разорваны взрывом на куски, погибли еще 29 человек, большая часть дачи была разрушена, но Столыпин остался цел. В одном из дореволюционных изданий картина покушения на Столыпина была дополнена следующими строками: "Случайно спасшийся депутат Муханов рассказывал, что не слышал звука взрыва, произведшего такое страшное опустошение в доме и убившего столько людей. В полной тишине Муханов был сброшен со стула, не потерял сознания и, встав на ноги, больше всего поразился наступившей темнотой: это штукатурка обратилась в мельчайшую пыль, в которой дышать становилось невозможно. И лишь после этого он заметил в двух шагах от себя неподвижную фигуру церемониймейстера Воронина, спокойно остававшегося на своем месте, недоставало только головы..." Установленная на месте покушения гранитная стела и сегодня напоминает о взрыве. Скончался Алексей Алексеевич в Лозанне, в тяжелых страданиях, от рака пищевода. Похороны состоялись 13 июля 1907 года в семейном склепе подмосковного имения князя Н.С. Голицына Кагул. 88. Сергей Сергеевич............................................................................................................................68 Сергей Сергеевич родился 10 сентября 1879 года в Варшаве. После окончания юридического факультета Императорского Варшавского университета он состоял кандидатом на судебные должности при С.-Петербургском окружном суде и перешел затем в помощники присяжного поверенного по округу С.-Петербургской судебной палаты. В 1913 году Сергей Сергеевич - присяжный поверенный. В 1917 году - мировой судья, коллежский асессор, служил в Канцелярии Высочайше учрежденной чрезвычайной комиссии для расследования нарушений законов и обычаев войны австро-венгерскими и германскими войсками. Сергей Сергеевич был женат с 6 июля 1903 года на Софии Федоровне Лешерн фон Герцфельдт (р. 9.IX1880). http://www.com2com.ru/deko/literature.htm 89. Владимир Сергеевич......................................................................................................................68 Владимир Сергеевич родился в Варшаве в 1880 году. Окончил юридический факультет Императорского Варшавского университета и с 1908 года в чине коллежского секретаря состоял секретарем Варшавской судебной палаты. 90. Мануил Сергеевич..........................................................................................................................68 Мануил Сергеевич родился в Варшаве в 1888 году. В 1907 году он был вольнослушателем в Электротехническом институте в С.-Петербурге. 91. Константин Сергеевич...................................................................................................................68 Константин Сергеевич родился в Варшаве в 1889 году. По окончании в 1907 году гимназии он поступил на юридический факультет Императорского С.-Петербургского университета. В августе 1917 года Константин Сергеевич - поручик лейб-гвардии Уланского Его Величества полка, участник неудавшегося Корниловского выступления (28 августа 1917г.). Затем в Добровольческой армии; в августе 1918 года в Запасном кавалерийском полку, в марте 1919 года - адъютант того же полка. Затем в эскадроне своего полка во 2-м Сводно-гвардейском кавалерийском полку. Подполковник. В эмиграции в Югославии. Полковник, на 1938 год представитель полкового объединения в Югославии. 92. Александр Александрович............................................................................................................69 Александр Александрович скончался в 1893 году. О том, как служил Александр Александрович и о его потомстве, нам ничего неизвестно. 93. Георгий Александрович.................................................................................................................69 Георгий Александрович родился 22 декабря 1870 года. В службе из кадетов Николаевского кадетского корпуса - 30.VIII.1891; по окончании Николаевского кавалерийского училища, Высочайшим приказом 7.VIII.1893 произведен в корнеты в 10-й драгунский Новотроицкий-Екатеринославский князя Потемкина-Таврического полк, со старшинством с 4.VIII.1892; переведен в 3-й драгунский Сумский полк - 8.III.1894, состоял исправляющим должность полкового адъютанта с 12.XI.1895 по 17.IV.1896; вышел в запас по армейской кавалерии - 13.XI.1896; определен на службу в Министерство внутренних дел, с причислением к министерству и с откомандированием в распоряжение С.-Петербургского губернатора - 23.XII.1896; переименован в коллежские секретари - 3.I.1898; переведен на службу в Министерство иностранных дел, с причислением к 1-му департаменту - 26.X.1898; исключен из списков Министерства иностранных дел по случаю зачисления вновь на военную службу - 17.V.1899 (формулярный список); штабс-ротмистр в Николаевской академии Генерального штаба - 1906. В 1913 году Георгий Александрович - капитан Генерального штаба. Георгий Александрович был женат на дочери гофмейстера фрейлине Елизавете Михайловне Хитрово. 24. Евгения Александровна...........................................................................................................69 Евгения Александровна - фрейлина (1898), замужем с 1907 года за камер-юнкером Борисом Анатольевичем Каншиным. 94. Михаил Иванович...........................................................................................................................76 Михаил Иванович родился 5 июля 1822 года в дер. Городецкой села Тарасова Пронского уезда. 95. Николай Иванович..........................................................................................................................76 Николай Иванович родился 6 декабря 1831 в дер. Городецкой села Тарасова Пронского уезда. 96. Алексей Иосифович........................................................................................................................77 Алексей Иосифович родился 7 марта 1841 года в дер. Рог Колузенский. 97. Алексей Дмитриевич......................................................................................................................78 Алексей Дмитриевич родился 13 марта 1841 года в г. Алексин. 98. Евгений Сергеевич..........................................................................................................................81 Евгений Сергеевич родился 28 декабря 1836 года. Определен на службу в 3 запасный батальон Тульского егерского полка (отношение Инспекторск. департ. военного министерства от 28 июня 1854, № 12196). 25. Александра Сергеевна..............................................................................................................81 Александра Сергеевна родилась 21 сентября 1838 года в г. Лихвин. 99. Владимир Сергеевич.......................................................................................................................81 Владимир Сергеевич родился 14 июля 1841 года в г. Калуга. 26. Анна Степановна.....................................................................................................................84 Анна Степановна была медсестрой. Скончалась в 1957 году. 100. Григорий Степанович...................................................................................................................84 Григорий Степанович родился в 1892 году. Когда после смерти отца семья осталась без средств существования в старом Баку, поступил на работу в деревообделочную мастерскую Шишкина на 3 года в ученики - 1903; устроился в токарный цех завода, принадлежащий обществу "Кавказ и Меркурий" - 1909; стал токарем - 1912; вернулся из Красной армии на тот же завод, называвшийся теперь Бакинским заводом имени Парижской Коммуны - 1922; вскоре обратил на себя внимание руководителей завода и тогда же был переведен на работу в тарифно-нормировочное бюро; старший техник по организации труда и нормирования в механической группе цехов завода имени Парижской Коммуны; беспартийный; первым из инженерно-технических работников завода получил звание "Стахановца". Григорий Степанович был нападающим первой футбольной команды Азербайджана "Сокол", о чем свидетельствует серебряная медаль, которая впоследствие была утеряна. В конце 1941 года после ареста брата Александра записался добровольцем на фронт. Краснофлотец Дунайской флотилии. Был трижды ранен. Награжден медалями: "За боевые заслуги" №736896, "За оборону Кавказа", "За оборону Сталинграда", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." После окончания войны работал старшим нормировщиком. Григорий Степанович был женат на Анне Федоровне Селезневой. Скончался в Баку в 1959 году. 101. Александр Степанович.................................................................................................................84 Александр Степанович родился в 1897 году. Получил среднее образование. С июля 1919 года работал счетоводом на заводе А. Нобеля. С 25.IV.1928 года принят на работу на Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Андреева бухгалтером; старший бухгалтер - 1.VII.1930; главный бухгалтер - 10.VI.1933. С 3 апреля по 11 июня 1939 года с отличием окончил курсы повышения квалификации в группе главных и старших бухгалтеров в Ленинградском Химико-Технологическом институте повышения квалификации инженерно-технических работников (на основании приказа института №38 от 11.VI.1939 года выдано свидетельство №358/1283); беспартийный. Александр Степанович был центральным защитником первой футбольной команды Азербайджана "Сокол", о чем свидетельствует серебряная медаль, которая впоследствие была утеряна. 5 августа 1941 года в 2 часа ночи был арестован и постановлением Особого Совещания при НКВД СССР от 21 февраля 1942 года без указания ст. УК, за проведение антисоветской агитации, заключен в ИТЛ сроком на 10 лет и на 6 лет ссылки. 1,5 года Александр Степанович провел под следствием в подвалах КГБ г. Баку, затем был переведен в лагерь в г. Потьма под Москвой на лесопильные работы, потом - на строительные работы в г. Чирчик под Ташкентом. После 10 лет в лагерях, он еще 6 лет находился в ссылке в с. Иркутское, Красноярского края. Характерно еще и то, что Александр Степанович не подписал ни одного допроса, не говоря уже о предъявляемых обвинениях. Из-за этого к нему применяли различные пытки и били. Он вернулся совершенно искалеченным. Определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Азербайджанской ССР от 4 августа 1956 года названное постановление Особого Совещания при НКВД СССР в отношении Муханова Александра Степановича отменено и производство по делу, за отсутствием в его действиях состава преступления, прекращено. Муханов Александр Степанович по настоящему делу реабилитирован (справка о реабилитации №7-0/755 от 9 августа 1956 года Верховного Суда Азербайджанской ССР, справка о реабилитации №0-162/127 от 3 мая 1993 года Верховного Суда Азербайджанской ССР). Александр Степанович был дважды женат. Первой его супругой была Эрика Иоганновна Фабрициус, второй - Лариса Алексеевна Баньковска. Эрика Иоганновна Муханова-Фабрициус родилась в 1895 году в с. Эйгенфельд, Таврической губернии. Постановлением Особого Совещания при НКВД СССР от 14 февраля 1942 года без указания ст. УК, за антисоветские высказывания и как специально опасный элемент была заключена в ИТЛ сроком на 10 лет и на 6 лет ссылки. Эрику Иоганновну необоснованно обвиняли в шпионаже в пользу Германии и она была вынуждена все подписывать, только чтобы не били. Однако, ее все равно продолжали бить и в результате после 10 лет лагерей и ссылки в Казахстане она вернулась инвалидом на двух костылях. Определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Азербайджанской ССР от 10 октября 1957 года названное постановление Особого Совещания при НКВД СССР в отношении Мухановой-Фабрициус Эрики Иоганновны отменено и производство по делу, за недоказанностью ее вины, прекращено. Муханова-Фабрициус Эрика Иоганновна по настоящему делу реабилитирована (справка о реабилитации №0-163/127 от 3 мая 1993 года Верховного Суда Азербайджанской ССР). Скончался Александр Степанович в Баку в 1970 году. 102. Иван Степанович...........................................................................................................................84 Об Иване Степановиче известно очень мало. Он был полузащитником первой футбольной команды Азербайджана "Сокол", о чем свидетельствует серебряная медаль, которая впоследствие была утеряна. Участвовал в Великой Отечественной войне. Скончался через несколько лет после ее окончания. 103. Павел Степанович.........................................................................................................................84 Умер младенцем. XI. 27. Ирина Ильинична....................................................................................................................85 Ирина Ильинична родилась 1 мая 1907 года в С.-Петербурге. Замужем за Павлом Оттоновичем фон Бреверн. Скончалась 20 ноября 1956 года в Буэнос-Айресе. 28. Анастасия Ильинична.............................................................................................................85 Анастасия Ильинична родилась 31 марта 1908 года в С.-Петербурге. Скончалась 11 мая 1934 года в Ревеле, Эстония. 104. Сергей Ильич..................................................................................................................................85 Сергей Ильич родился в 1915 году в Царском Селе. Уехал из России вместе с матерью и сестрами 24 января 1924 и жил в имении Кумна близ Кегеля бывшей Эстляндской губернии. Окончил в 1934 Ritter-und Domfchulesn Reval. Продолжил образование в Париже в Ecole Nationale des Langues Orientales Vivantes, который окончил в 1938. Вместе с графом Александром Георгиевичем Шереметевым был в охране при Великом Князе Владимире Кирилловиче в St. Briac по назначению от Кавалергардской Семьи. С октября 1939 по июль 1943 проживал в Риме, а затем в Вене и Зальцбурге. В 1948 переселился с семьей в Аргентину. В октябре 1999 года нами установлено, что в данный момент Сергей Ильич проживает в Буэнос-Айресе и является государственным присяжным переводчиком. Сергей Ильич женат с 30 июля 1944 года на Ирине Александровне Гершельман (von Hoerschelmann), род. 20 ноября 1917г. в С.-Петербурге, дочери полковника лейб-гвардии конной артиллерии Александра Сергеевича Гершельмана, женатого на Марии Александровне Мосоловой. Бракосочетание состоялось в Николаевской церкви в Вене, поручителями были Николай Алексеевич Лопухин и князь Александр Андреевич Ливен. 105. Михаил Георгиевич......................................................................................................................93 Михаил Георгиевич родился в С.-Петербурге 15 апреля 1897 года. Поступил в Императорский Александровский лицей в 1914 и прошел ускоренные курсы Пажеского корпуса в 1916. Произведен в прапорщики лейб-гвардии Преображенского полка - 1.II.1917. Михаил Геогиевич женат 1) с 27 августа 1918 на Елене Федоровне Смирновой (ум. в декабре 1963) и 2) на Fern Woodring. 29. Алла Григорьевна..................................................................................................................100 Скончалась Алла Григорьевна в возрасте 12 лет в 1941 году. 30. Светлана Александровна.....................................................................................................101 Светлана Александровна родилась 23 ноября 1927 года в Баку. После ареста отца, Александра Степановича, ее сначала приютили соседи - молокане, а затем была определена в приют. Светлана Александровна считалась дочерью врага народа. Из-за ареста родителей она была фактически лишена детства и вся ее жизнь прошла под этим гнетом, вплоть до реабилитации родителей. В 1943 году после возвращения с фронта, Григорий Степанович взял ее к себе в семью. В 1945 году поступила на биологический факультет Азербайджанского Государственного университета им. Кирова. Закончила его в 1950 году. После этого начала преподавать и продолжает до сих пор. Общий стаж - 47 лет. Имеет звание старшего преподавателя - дефектолога. В 1978 году окончила Московский заочный педагогичный институт по специальности дефектолог-логопед (сейчас это Государственный Открытый Педагогический университет). 15 августа 1995 года была признана пострадавшей от политических репрессий (справка о признании пострадавшим от политических репрессий №13/3-5234-94 от 15 августа 1995 года Генеральной Прокуратуры Российской Федерации). В виду того, что была единственным ребенком в семье, она приняла решение оставить фамилию Муханова даже после замужества с тем, чтобы передать ее своему сыну. Но ее сын Борис скончался в возрасте 3 лет и носителем фамилии Муханова стала ее дочь Наталья, которая также сохранила фамилию после замужества. XII. 106. Александр Сергеевич..................................................................................................................104 Александр Сергеевич родился 6 сентября 1945 года в Зальцбурге. С 1948 с семьей в Аргентине. По окончании среднего образования поступил в университет, который окончил со званием гражданского инженера. Александр Сергеевич женат на Сузанне Осиповне Дюпрат. Бракосочетание состоялось 25 ноября 1979 в Троицкой церкви в Буэнос-Айресе. 31. Ирина Сергеевна....................................................................................................................104 Ирина Сергеевна родилась 9 июня 1951 года в Буэнос-Айресе. Замужем за Генрихом Михайловичем Маршовым. Бракосочетание состоялось 25 декабря 1975 в Троицкой церкви в Буэнос-Айресе. Их дети: Мария (род. 14 января 1977), Павел (род. 17 июня 1978), Петр (род. 11 января 1981). 1. Борис Гаврилович.........................................................................................................................33 Умер младенцем. 2. Наталья Гавриловна....................................................................................................................33 Наталья Гавриловна родилась 22 сентября 1956 года в Баку. Окончила Азербайджанскую Государственную консерваторию в 1982 году. Работает преподавателем музыки и теоритических дисциплин в детской музыкальной школе №109 (г. Москва). XIII. 107. Гавриил Александрович............................................................................................................106 Гавриил Александрович родился 7 октября 1980 года в Буэнос-Айресе. 32. Ксения Александровна.........................................................................................................106 Ксения Александровна родилась 7 апреля 1982 года в Буэнос-Айресе. 3. Денис Николаевич...........................................................................................................................2 Денис Николаевич родился 16 августа 1979 года в Баку. Выпускник Государственного Университета Управления, квалификация - менеджер высшей квалификации (г. Москва), с ноября 2001г - аспирант очного отделения кафедры "Финансы, денежное обращение и кредит" Государственного Университета Управления. Генеральный директор проекта "Русское экономическое общество". Столь полное повествование почненного рода Мухановых позволяет сделать много выводов:
Вернемся к архивным документам и убедимся как проходило становление, формирование жизненной позиции благородного дворянского рода Юрасовых, первоначально необходимо сделать сноску, кто же первым подал прошение о включении в родословную книгу губернии, как проходила процедура сбора документов о прошении составлении герба дворянского рода. Из множества представленных достоверных архивных документов и доказательст первоначально остановлюсь на родословной линии представления Пензенского дворянского депутатского собрания о внесении, согласно определению собрания от 1 марта 1828 года, рода Юрасовых включенных в шестую часть дворянской родословной книги по Пензенской губернии. В Герольдии к этому времени уже был зарегистрирован Герб фамилии Юрасовых, а следовательно были первые документы доказывающие знатность рода и его благородство, согласно данным Гербовника, части VI. Под № 63. читаем: «…Фамилии Юрасовых многие служили Российскому престолу дворянской службы в разных чинах и жалованы были от Государей в 7134 (1626) и других годах поместьями. Все доказывается справкою Вотчинного Департамента….» Вот как выглядит документальная запись: «Общий Гербовникъ Дворянскихъ Родовъ Всероссийския Империи, начатый въ 1797мъ году». Герольдией и составляемый ныне департаментом Герольдии Правительственного Сената. Высочайшее утверждение герба в Части шестой, 1-е отделение, под № 63, последовало 23 июня 1801г. императором Александром I (*12.12.1777г. - † 19.11.1825г.) царъ ″Благословенный″ с 11.3.1801г. Официальное геральдическое описание дворянянского Герба Юрасовых: «Въ щите, имеющемъ серебреное поле видна выходящая съ вершины щита изъ облакъ рука съ мечемъ и подъ онымъ изображено красное сердце, пронзенное крестообразно двумя стрелами. Щить увенчанъ дворянскимъ шлемомъ короною съ строусовыми перьями.  Наметъ на щите серебреный, подложенный краснымъ». При прошении, поданном 23 ноября 1817 года, коллежский асессор Петр Иванович Юрасов представил в Пензенское дворянское депутатское собрате в доказательство благородного своего достоинства различные документы вместе с поколенною рода своего росписью за его рукоприкладством и за свидетельством 8 дворян Городищенскаго уезда и ходатайствовал о внесении его с семейством в дворянскую родословную книгу по Пензенской губернии. Затем вдова упомянутого Петра Ивановича Юрасова Наталья Ивановна представила (по-видимому в 1827 году) дополнительные доказательства, по рассмотрению коих 1 марта 1828 года состоялось определение депутатского собрания о внесении Натальи Ивановны Юрасовой вместе с детьми её в 6 часть дворянской родословной книги по Пензенской губернии. На основании упомянутых документов составлена нижеследующая поколенная роспись. |
1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 31
|
Метки: мухановы |
Последние из Мещерских: судьба представителей княжеского рода в СССР |
Последние из Мещерских: судьба представителей княжеского рода в СССР
Князь Александр Васильевич Мещерский принадлежал к древнему российскому аристократическому роду. Он являлся последним имевшим потомство кровным представителем этого семейства по мужской линии в дореволюционной России.
Сведения о других отпрысках этого княжеского рода – туманны, скудны либо сомнительны. О судьбе тех, кто остался после Октябрьской революции на территории России, практически ничего не известно.
Частично восполнить этот пробел российской истории относительно рода Мещерских поможет уникальная рукопись (датирована 1980 г.), обнаруженная в Белоруссии в одном из семейных архивов. Рукопись — мемуары москвича Петра Федоровича Борисова, бывшего военнослужащего Советской Армии.
Фрагмент мемуаров П.Ф.Борисова
Родная сестра П.Борисова — Александра Федоровна Борисова, была когда-то служанкой, и, как ранее, без грязных намеков, принято было говорить — «интимной подругой» последней представительницы князей Мещерских на территории бывшего СССР, какой была княжна Екатерина Александровна Мещерская.
Князь Александр Васильевич Мещерский женится
Одной из шокирующих новостей в аристократических салонах Петербурга и Москвы около 100 лет назад было, прямо скажем, неординарное событие: 73-летний князь Александр Васильевич Мещерский женится!
Князь и княгиня Мещерские
Всё бы ничего, да вот только жених, овдовевший в 1895 году, оказался старше своей невесты на целых 48 лет! Невестой, которой еще не исполнилось и двадцати пяти, была воспитанница князя Екатерина Прокофьевна, дочь его друга и личного врача Прокофия Семеновича Подборского.
Родные и близкие князя Александра Васильевича Мещерского крайне негативно отнеслись к его поступку, и пытались объявить князя сумасшедшим.
Масла в огонь подлило то обстоятельство, что молодая невеста была на сносях. Однако слух о том, что ребенок, мол, «не голубых кровей», опровергло рождение сына Вячеслава. Он столь разительно был похож на князя Александра Васильевича, что сомнения относительно отцовства развеялись.
Тем не менее, общение А.Мещерского со многими из знакомых прервалось. «Доброжелатели» не преминули доложить о скандале императору Николаю II: мол, князь Александр Васильевич Мещерский женился на старости лет на какой-то аферистке. Но искушенный в придворных интригах князь, испросив аудиенции царя, явился к нему со своей женой. Молодожены настолько очаровали Николая II, что он не только не имел впоследствии ничего против этого брака, но и одарил княжескую чету подарками.
После царского одобрения к князю Александру Васильевичу Мещерскому с поздравлениями хлынули его давние знакомые, восклицая, что, мол, есть еще порох в пороховницах!
Но счастливая жизнь семейной четы Мещерских оказалась недолгой. В 1903 году здоровье престарелого князя резко ухудшилось. К этому времени княгиня Екатерина Прокофьевна Мещерская вновь была беременна. Князь Александр Васильевич Мещерский наказал своей супруге: «Родится дочь — назови ее своим именем».
В 1904, после смерти Александра Васильевича Мещерского, родилась его дочь, которую назвали Екатериной.
Китти Мещерская
Китти – такое имя, в соответствии с духом времени, когда в России бытовало англоманство, получила маленькая княжна Екатерина Александровна Мещерская.
Пока подрастали дочь и сын (который был отдан на воспитание в Пажеский корпус), княжеской вдове Екатерине Прокофьевне Мещерской не раз поступали выгодные предложения о повторном замужестве. Все они были отвергнуты. В разговорах с Александрой Федоровной Борисовой княгиня заявляла: прожитые семь лет с князем были для нее как прекрасный сон.
Напряженность во внешнеполитической обстановка, в конце концов, разрешилась первой мировой войной, а впоследствии — февральской революцией.
Помимо особняка в Москве, княжескому роду Мещерских принадлежало Петровское имение возле станции Алабино, что в 40 верстах от Москвы. Это был настоящий дворец. Помимо прочего, в подвалах имения хранились сотни метров ковров, которые расстилались от станции до имения по случаю приезда именитых гостей. В начале февральской революции они были отданы крестьянам, поставлявшим продовольствие.
… Княжне Китти шел тринадцатый год. Летом 1916 года в Петровском произошел случай, впоследствии заметно повлиявший на судьбу Мещерских. Однажды утром княгиня Екатерина Прокофьевна Мещерская узнала от управляющего, что в их конюшнях прячутся трое беглых арестантов. Поняв, что беглецы – не уголовники, а «политические», княгиня не стала вызывать урядника, а приказала привести арестантов к себе. После беседы с ними она снабдила «политических» деньгами и провизией, после чего их отпустили.
Грянула Октябрьская революция. Возмужавший князь Вячеслав Александрович Мещерский воевал в белой армии, затем иммигрировал за границу. О его судьбе практически ничего не известно. А княгиня Екатерина Прокофьевна Мещерская по обвинению в антисоветской переписке с Западом (с сыном Вячеславом) оказалась в Бутырской тюрьме. Большевики также ставили в вину бывшей княгине продажу за границу художественных ценностей, ранее принадлежавших роду князей Мещерских.
Китти часто навещала мать в тюрьме. Особенно интересовала следователей судьба картины Ботичелли «Мадонна». Однажды она вместе с княгиней попала на допрос к начальнику Бутырской тюрьмы. И тот узнал в малолетней княжне ту самую 12-летнюю девочку, что стояла рядом с княгиней Екатериной Прокофьевной в тот памятный для него день, когда летом 1916 года он с двумя товарищами бежал из тюремного вагона на станции Алабино…
Княгиня Екатерина Прокофьевна Мещерская была освобождена из-под стражи. Нашлась и «Мадонна» Ботичелли. Она была спрятана в доме Мещерских, зашитая в портьеру.
Княжна Екатерина Александровна Мещерская в СССР
Княжна Екатерина Александровна Мещерская всю жизнь прожила в СССР. Ей удалось уцелеть во времена сталинских репрессий. Этим она обязана дружбе с бывшим кавалергардом, графом, а при СССР – дипломатом, генерал-лейтенантом Алексеем Алексеевичем Игнатьевым, и его другом по Пажескому корпусу Сергеем Владимировичем Симанским, позже известным как Патриарх Всея Руси Алексий I.
Бывший кавалергард граф А.А.Игнатьев
Согласно рукописи Петра Борисова, в советское время бывшая княжна Екатерина Мещерская занималась воспитанием детей-сирот. Благодаря помощи тенора Ивана Козловского, композитора Тихона Хренникова и других друзей, в сентябре 1980 года Екатерине Александровне стали выплачивать персональную пенсию в размере 70 рублей. Также ей назначили льготы по квартплате и по оплате коммунальных услуг с 50% скидкой…
Последние годы жизни княжны Е.А.Мещерской в СССР
Много чего пережила бывшая княжна Екатерина Александровна Мещерская, последняя представительница древнего русского рода. По иронии судьбы, во времена СССР она проживала по тому же адресу, что и ее предки: ул. Поварская,22 (при Советском Союзе – улица Воровского). Но уже не в княжеских апартаментах, а в здании бывшей прачечной.
Автор мемуаров о судьбе княжеской четы Мещерских
О Петре Федоровиче Борисове, человеке, благодаря которому эти воспоминания сохранились, мало что известно. Участник Великой Отечественной войны, войну начал рядовым минометной роты 3-го батальона 60-й отдельной стрелковой бригады. В 1942 году воевал на Северо-Кавказском фронте. Службу в Вооруженных Силах СССР он закончил в звании майора.
Фото:
1. Князь Александр Васильевич Мещерский и его молодая жена княгиня Екатерина Прокофьевна Мещерская. Князю – 73 года (род. в 1822 г.), княгине – 25 лет (род. в 1870 г.).
2,4. Фрагменты мемуаров П.Ф.Борисова.
3. Граф Алексей Алексеевич Игнатьев (род. в 1877 г.). Доводился князю А.В.Мещерскому двоюродным внуком, был сыном дочери брата А.В.Мещерского. А.А.Игнатьев вернулся из-за границы в Советский Союз в 1937 г. и дослужился до звания генерал-лейтенанта.
Автор: Игорь Бухаров
.......
https://wellwet.wordpress.com/2010/12/06/%D0%BF%D0...D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82/
|
Метки: мещерские |
Сергей Николаевич Муханов |
share
Сергей Николаевич Муханов
public profile
Ваша фамилия Муханов?
Исследование фамилии Муханов
Начните строить Ваше Генеалогическое Древо прямо сейчас
Geni профиль Сергея Николаевича Муханова
Поделитесь своим генеалогическим древом и фотографиями с людьми, которых вы знаете и любите


Сергей Николаевич Муханов |
|
| Дата рождения: | 1796 |
| Смерть: | 1858 (62) |
| Ближайшие родственники: |
Сын Николая Ильича Муханова и Анны Сергеевны Кологривовой |
|---|---|
| Менеджер: | Петр Анатольевич ... |
| Последнее обновление: | 4 марта 2015 |
Matching family tree profiles for Сергей Николаевич Муханов


Сергей Николаевич Муханов в генеалогическом древе MyHeritage (iLifeLines)


Sergei Nikolaevich Mukhanov в генеалогическом древе MyHeritage (Lady Poltoratskaya)


Сергей Николаевич Муханов в генеалогическом древе MyHeritage (Семейное древо Полуэктовых)
Ближайшие родственники
-
-
wife
-
son
-
son
-
son
-
son
-
son
-
son
-
daughter
-
son
-
mother
-
father
-
sister
-
О Сергее Николаевич Муханов (русский)
Появление фамилии Мухановых относится к периоду массового перехода на русскую службу знати Казанского и Астраханского ханств после их поражения при Иване Васильевиче Грозном (1533-1584). Некоторые из татарских родов приобретали новые русские фамилии, а некоторые сохраняли фамилии своих предков. Татарские фамилии в большинстве случаев, как, впрочем, и русские, восходили к собственному имени отца и деда. К таким фамилиям типа Мансуров, Сабуров, Юсупов, Даудов и пр. относится и фамилия Муханов - по собственному имени Мухан~Мукан <араб. muhhan - 'слуга, работник' от глагола mahana - 'служить'; либо <араб. muhhan - 'испытывающий, пробующий' от глагола mahana - 'испытывать, пробовать, дегустировать'. (2)
Мухановы — дворянский род, происходящий от Ивана Муханова, убитого на государевой службе в 1597 г. Его внук Алферий Степанович убит под Чигирином в 1678 г. Внук последнего Ипат Калиныч Муханов (1677—1729) учился морскому искусству в Голландии, а потом безотлучно находился при Петре Великом и был в числе шаферов при венчании государя с Екатериной I. Из внуков последнего Алексей Ильич был сенатором и почетным опекуном, Сергей Ильич († 1842) — обер-шталмейстером, его дочь Александра Сергеевна — фрейлиной. Род Мухановых внесен в VI ч. род. кн. Московской, Калужской, Курской, Рязанской и Саратовской губерний. [править]
Хронология Сергея Николаевич Муханов
|
Метки: мухановы |
Муханов Евграф Николаевич — Биография |
Муханов Евграф Николаевич — Биография
Евграф Николаевич Муханов (04.11.1830 — 20.08.1892) — уездный предводитель дворянства Белгородского уезда, белгородский землевладелец, штабс-капитан Драгунского Е. И. В. Великого Князя Николая Николаевича полка, основоположник Масловопристанской ветки Тверской линии дворянского рода Мухановых, прадед А. Д. Сахарова.
Родился в имении матери Екатерины Николаевны Мухановой (Пущиной) в селе Ржавец (ныне Шебекинского района).
9 (21) сентября 1845 года поступил воспитанником в Дворянский полк (впоследствии - Константиновский кадетский корпус) в Петербурге. С апреля по сентябрь 1849 года находился в Галиции в походе русского экспедиционного корпуса Ивана Паскевича, участвуя в войне против венгров (совместные действия России и Австрии, направленные на подавление венгерского восстания). 26 мая (7 июня) 1849 года по экзамену произведён в прапорщики с определением в Финляндский драгунский полк, 23 декабря 1851 (4 января 1852) года переведён в Драгунский Е. И. В. Великого Князя Николая Николаевича полк. 4 (16) июня 1852 года произведён в поручики на вакансию.
В возрасте 23 лет, 21 июля (2 августа) 1854 года в чине штабс-капитана уволен от службы «за болезнью» и вернулся на родину. Окончательно вышел в отставку в феврале 1856 года.
12 (24) января 1858 года женился на Анне Петровне Булгаковой (р. 3 (15) февраля 1837 — ум. после 1906).
Евграф Николаевич играл видную роль в общественной жизни Белгорода и уезда: выбирался предводителем Белгородского уездного дворянства, являлся председателем уездного съезда, дворянской опеки, училищного совета и других уездных организаций, мировым судьёй, выбирался гласным Белгородского земского собрания, был членом Российского акцизного общества. С должности предводителя дворянства ушёл по болезни за несколько месяцев до смерти.
omnipro.ru/memorypage75736/biography
|
Метки: мухановы |
Усадьба «Мухановых» (с. Весёлая Лопань) |
Усадьба «Мухановых» (с. Весёлая Лопань)
Усадьба Веселая Лопань (Белгородская область, Белгородский район) принадлежала представителям рода Мухановых. Сегодня до наших дней дошел великолепный особняк, сочетающий в себе черты неоготики и модерна. Внутри сохранились остатки интерьера, такие как старинные печи и остатки декора на потолках. Рядом с усадьбой Мухановых находятся незначительные фрагменты парка.
Усадьба семьи помещика Муханова – одна из главных достопримечательностей Белгородского района.
Находится усадьба в 15 км от Белгорода в селе Веселая Лопань.
Дворянский род Мухановых известен более пяти столетий, первое упоминание о нем датируется серединой XVI века.
Из современников, имеющих отношение к этому старинному роду, можно вспомнить академика Сахарова его мать состояла в родстве с Мухановыми.
Поместье в Веселой Лопани было заложено в 1902 году одним из представителей дворянского рода Евграфом Мухановым. Кроме дома, в поместье были возведены мукомольня с винокурней, где кустарным способом производились спирт и водка, заложен парк с прудом.
Винокурня существует до сегодняшнего дня – теперь это спиртзавод.
Сам особняк был построен в духе неоготики и модерна.
В советское время он использовался как общежитие.
Сейчас в особняке Муханова ведутся реставрационные работы.




 http://belrn.ru/otdykh-i-turizm/kulturno-poznavatelnyjj-turizm/usadba-mukh
http://belrn.ru/otdykh-i-turizm/kulturno-poznavatelnyjj-turizm/usadba-mukh
|
Метки: мухановы дворянские владения |
Мухановы |
Мухановы
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 20 мая 2018; проверки требуют 7 правок.
Перейти к навигации Перейти к поиску
| Мухановы | |
|---|---|
 Побог изм. |
|
| Описание герба
см. текст >>> |
|
| Том и лист Общего гербовника | II, 88 |
| Часть родословной книги | VI |
| Родоначальник | Иван Муханов |
| Подданство | |
 Царство Русское Царство Русское |
|
 Российская империя Российская империя |
|
| Имения | Муханово |
 Мухановы на Викискладе Мухановы на Викискладе |
|
Эта статья — о дворянском роде. О носителях фамилии см. Муханов.
Появление фамилии Мухановых относится к периоду массового перехода на русскую службу знати Казанского и Астраханского ханств после их поражения при Иване IV Грозном (1533—1584). Некоторые из татарских родов приобретали новые русские фамилии, а некоторые сохраняли фамилии своих предков. Татарские фамилии в большинстве случаев, как, впрочем, и русские, восходили к собственному имени отца и деда. К таким фамилиям типа Мансуров, Сабуров, Юсупов, Даудов и пр. относится и фамилия Муханов — по собственному имени Мухан~Мукан <араб. muhhan — 'слуга, работник' от глагола mahana — 'служить'; либо <араб. muhhan — 'испытывающий, пробующий' от глагола mahana — 'испытывать, пробовать, дегустировать'. (2)
Мухановы — дворянский род, происходящий от Ивана Гавриловича Муханова, убитого на государевой службе в 1597 г.
Его внук Алферий Степанович убит под Чигирином в 1678 г. Внук последнего Ипат Калинович Муханов (1677—1729) был в детстве товарищем Петра I, учился морскому искусству в Голландии, а потом безотлучно находился при Петре Великом и был в числе шаферов при венчании государя с Екатериной I, имел чин контр-адмирала, в качестве морского офицера участвовал во многих морских сражениях во время Северной войны. Из внуков последнего Алексей Ильич был сенатором и почётным опекуном, Сергей Ильич (1762-1842) — действительный тайный советник, обер-шталмейстер, входил в ближний круг Павла I, его дочь Александра Сергеевна — фрейлина. Из правнуков - Павел Александрович (1797-1871) - историк, собиратель и издатель материалов по отечественной истории, известный археограф, издатель одноименного сборника, открывший летопись Филарета, председатель Императорской археографической комиссии и проч. Брат последнего Петр Александрович (1798-1854) - декабрист IV категории, друг Кондратия Федоровича Рылеева, посвятившего Петру Александровичу свою думу "Смерть Ермака", штабс-капитан лейб-гвардии Измайловского полка, литератор, писатель и историк, адъютант героя Отечественной войны генерала Николая Николаевича Раевского, член Союза Благоденствия с 1819 года и Южного общества с 1824 года.
Род Мухановых внесён в VI ч. родословных книг Московской, Калужской, Курской, Рязанской и Саратовской губерний.
Описание герба
Щит, разделённый на две части. В верхней, в красном поле, золотой крест. В нижней, в серебряном поле, подкова натурального цвета. Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом с короною. В нашлемнике возникающая собака с золотой лентою вместо ошейника.
Намёт красный с подложкою серебром. Герб рода Мухановых внесён в Часть 2 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 88.
Литература
- Мухановы // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
- Дворянский род Мухановых
- История Рязанского края: Мухановы. Проверено 25 июня 2013. Архивировано 25 октября 2012 года.
|
Метки: мухановы |
ИМПЕРАТОРСКОЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ (СМОЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ) |
ИМПЕРАТОРСКОЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ (СМОЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ)
Рубрикатор / Благотворительность в Петербурге/История/Попечение о народном образовании
Первое в России закрытое женское учебное заведение для дворянского сословия, положившее начало женскому образованию. Основано по инициативе И.И. Бецкого в соответствии с указом Екатерины II от 5 мая 1764. Располагалось в кельях Воскресенского Смольного монастыря (архитектор Ф. Растрелли), с 1809 – в специальном новом здании, построенном по проекту архитектора Дж. Кваренги (Смольном институте). Через год после основания Воспитательного общества Екатерина II повелела открыть в его составе училище для девочек мещанского звания (с 1840 – Александровское женское училище, с 1865 – Александровский женский институт).
Устав общества, написанный И.И. Бецким, устанавливал полный регламент его деятельности: правила о воспитании, учении и молитвах; пище и форме, праздничных собраниях, должности начальницы и правительницы, положение о попечителях, каковыми должны быть четыре сенатора. В основе системы воспитания и учебной программы лежали педагогические воззрениями И.И. Бецкого, сформированные им под влиянием западноевропейской просветительной философии. Этим воззрениям сочувствовала и Екатерина II.
Воспитательное общество было рассчитано на содержание 200 девиц «благородного звания». Обучение продолжалось 12 лет и делилось на 4 «возраста» по 3 года каждый. Первый прием девочек в возрасте от 4 до 6 лет состоялся в августе 1764.
Жизнь в заведении отличалась простотой и сообразовывалась с требованиями гигиены. Девочек учили Закону Божьему, русскому и иностранным языкам, арифметике, рисованию, танцам, музыке и рукоделию. Во 2-м возрасте прибавлялись история и география, в 3-м – словесные науки, скульптура, архитектура, геральдика, физика, токарное дело. Воспитанницы последнего возраста по очереди назначались в младший класс для практического ознакомления с приемами воспитания и обучения. Уроки шли с 7 до 11 и с 12 до 14 часов, занятия чередовались с физическими упражнениями, ежедневными прогулками, играми на свежем воздухе или в залах. Воспитанницы учились круглый год, каникулы не предусматривались. Раз в три года проводились экзамены. Стол был простой и здоровый, состоял, главным образом, из мяса и овощей; пили только молоко и воду. Ученицы были обязаны носить особые форменные платья определённого цвета: в младшем возрасте – кофейного, во 2-м – голубого, в 3-м – серого и в старшем возрасте – белого (по преданию фасон платья нарисовала Екатерина II). Классные дамы обязаны были поступать с воспитанницами с благоразумием и кротостью. Наказаний предписывалось избегать, допускались только «увещания» провинившихся. По первому уставу родители посещали дочерей только в назначенные дни с позволения начальницы – заведение должно было полностью заменить семью.
Обычной платой за содержание воспитанниц было 300 рублей в год, но за отдельных воспитанниц платили значительно больше, и эти средства шли на воспитание бедных. Более половины девочек обучались на счет благотворителей. Пансионерки императрицы носили зеленые платья, а пансионерки частных лиц – ленточку на шее, цвета, выбранного благотворителем.
На торжественные собрания и любительские театральные представления приглашали представителей Императорского Двора, дипломатов, высших военных и гражданских чинов; число приглашенных иногда доходило до тысячи. Смолянки первых выпусков вспоминали о годах пребывания в заведении, как о счастливейшем времени в своей жизни.
Воспитательное общество находилось в ведении самой императрицы, которая уделяла учреждению много внимания, давала указания начальницам, входила в подробности жизни. Она дозволяла воспитанницам писать ей письма, при посещениях знакомилась с постановкой учебного и воспитательного процесса, рассматривала рукоделия, обходила помещения, бывала на концертах и спектаклях, приезжала на богослужения в институтскую церковь.
Выпускные экзамены 1-го набора состоялись в апреле 1776. 12 лучших учениц по высочайшему указу были награждены Золотыми медалями, получили императорские «шифры» (золотой вензель в виде инициала императрицы, который носили на белом банте с золотыми полосками), пожизненную пенсию и были определены ко Двору. Тогда же из казны была выделена сумма в 100 000 рублей, выделяемая на приданое бедным выпускницам.
В 1797, вскоре после смерти Екатерины II, Павел I поручил управление Воспитательным обществом своей супруге – императрице Марии Федоровне. В 1797–1802 начальницей заведения была Е. А. Пальменбах (урожд. бар. Черкасская).
Императрица Мария Федоровна в значительной мере реформировала режим и учебную программу заведения. Высокие гуманно-общественные задачи, поставленные Екатериной II, были заменены узко-практическими, чисто женскими. Воспитанницы благородного звания, которые теперь принимались с 8–9 лет и обучались 9 лет, были строго отделены от учениц Мещанского училища, ибо было сочтено, что «обязанности и назначение мещанок во многих отношениях различествуют от обязанностей и назначения благородных девиц». В учебной программе особое место занял Закон Божий.
В 1802 начальницей заведения назначили вдову полковника Ю. Ф. Адлерберг, по инициативе которой в следующем году открылся пепиньерский класс для подготовки классных дам младших и средних классов из числа лучших и беднейших воспитанниц.
В 1802, в связи со значительным увеличением числа воспитанниц, был построен большой корпус с двумя столовыми залами и с дортуарами в верхнем этаже (архитектор А. Порто), а в 1809 заведение переехало в здание, возведенное к югу от монастыря Дж. Кваренги, с огромными дортуарами и классными комнатами. Старшие и младшие девочки жили и учились в разных концах огромного здания, не общались, имели разные рекреации, в разное время ходили в столовую, церковь и спальни. В 1812 тут же было создано бесплатное отделение для «военных сирот» на 100 вакансий с урезанным курсом обучения, затем в нем призревали жертв наводнения 1824 года.
В 1848 при заведении был открыт педагогический класс, выпускницы которого становились уже не классными дамами, а учительницами. Многие пансионерки поступали по спискам и обеспечению военных и гражданских ведомств. На штатные вакансии принимали дочерей лиц, имеющих чины не ниже полковника и статского советника, пансионерками – только дворянок, вписанных в V и VI части дворянской книги. Плата за обучение в это время составляла 350 рублей в год, но за многих пансионерок платили министерства и ведомства, где служили их отцы.
Ежегодно летом больных воспитанниц бесплатно отправляли на лечение в Старую Руссу, в санаторий доктора Вельса. Зимой, воспитанницы посещали Эрмитаж, Публичную библиотеку, выставки в Академии художеств, Ботанический сад, Таврический дворец, промышленные выставки. Десять лучших выпускниц, награждаемых шифрами, ездили с начальницей и классными дамами на специальную церемонию в Зимний дворец, где их представляли императору.
С воцарением Александра II и Марии Александровны в Смольном начались изменения. В 1859 по указанию императрицы инспектором обоих учебных заведений был назначен выдающийся педагог К. Д. Ушинский, с которым пришли его единомышленники – В. И. Лядов, Н. В. Белоконов, В. И. Водовозов и др. Он изменил учебные планы, ввел преподавание отечественной литературы и расширил курс естественных наук. Были уравнены курсы обучения на «благородной половине» и в Александровском училище. Для обоих учебных заведений был устроен общий педагогический класс. Прием и выпуск с этих пор производили каждый год, учредили каникулы В 1862 Ушинский был вынужден покинуть заведение из-за интриг и доносов. С 1839 начальницей заведения была М. П. Леонтьева (вдова ген.-майора, выпускница 1809 года), которая поддерживала нововведения Ушинского в системе преподавания, а также организовала в Смольном первый в России специализированный детский лазарет. В 1864 за заслуги в воспитании она была пожалована в статс-дамы. В 1865 Александровское училище отделили и объявили самостоятельным Александровским институтом благородных девиц 2-й категории.
После Леонтьевой должность начальницы заведения исполняли фрейлина О. А. Томилова (урожд. Энгельгардт), которая ввела курс истории изобразительного искусства и класс арфы, и А. Новосильцева, много сил отдавшая постановке врачебной помощи детям.
В 1895–1917 начальницей была светл. кнж. фрейлина Е. А. Ливен. При ней большое внимание стало уделяться профессиональной подготовке девушек. Кроме общеобразовательных предметов, в старших классах они изучали педагогику, законоведение, гигиену, которые были необходимы многим из них как будущим учителям. В 1898 по инициативе начальницы было учреждено Общество вспомоществования бывшим воспитанницам Императорского Воспитательного общества благородных девиц, составившееся исключительно из бывших воспитанниц. В 1908–1913 на выделенном из Адлербергского сквера участке (Лафонская ул., ныне ул. Пролетарской диктатуры, 1а) был построен собственный трехэтажный каменный дом, в котором расположилось Общежитие бывших смолянок имени императрицы Марии Федоровны. В эти годы в Смольном царил образцовый порядок. 600 воспитанниц обслуживали 190 человек прислуги. Женскую прислугу набирали из сирот Воспитательного дома. Распорядок дня и питания строился по новейшим гигиеническим правилам.
20 марта 1914, в год 150-летия Воспитательного общества члены императорской фамилии посетили юбилейный бал, носивший «вид торжества парадного и одновременно семейного, свойственный когда-то приемам времен Екатерины II». К юбилею издали труд Н. П. Черепнина «Императорское Воспитательное Общество», оставшийся после утраты многих архивных материалов наиболее полным источником сведений о жизни заведения.
В октябре 1917 Смольный институт под руководством кнг. В. В. Голицыной выехал в Новочеркасск, где в феврале 1919 состоялся последний выпуск. Летом того же года преподаватели и оставшиеся воспитанницы покинули Россию вместе с Белой армией, и институт был возобновлен в Сербии.
Е. И. Жерихина
Авторы
Персоны
Адлерберг Юлия Федоровна (урожд. Багговут Анна Шарлотта Юлиана)
Александр II, император
Белоконов Н.В.
Бецкой (Бецкий) Иван Иванович
Водовозов Василий Иванович
Голицына В.В., кнг.
Екатерина II, императрица
Кваренги (Гваренги) Джакомо
Леонтьева М.П.
Ливен Елена Александровна, светл. кнж., фрейлина
Лядов Василий Иванович
Мария Александровна, императрица
Мария Федоровна, императрица, супруга Павла I
Новосильцева А.
Павел I, император
Пальменбах Елизавета Александровна, урожд. бар. Черкасова
Порто Антонио
Растрелли Франческо де
Томилова (урожд. Энгельгардт) О.А., фрейлина
Ушинский Константин Дмитриевич
Черепнин Н.П.
Адреса
Пролетарской Диктатуры ул./Санкт-Петербург, д. 1а
Предметный указатель
Смольный монастырь
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ЖЕНСКИЙ ИНСТИТУТ
Эрмитаж государственный
Российская национальная библиотека
Академия художеств
Таврический дворец
Общество вспомоществования бывшим воспитанницам Воспитательного общества благородных девиц
Общежитие бывших смолянокhttp://www.encspb.ru/object/2855740
|
Метки: дворянское образование |
Павловский институт благородных девиц в Санкт-Петербурге |
Павловский институт благородных девиц в Санкт-Петербурге
С разрешения автора размещаю этот замечательный пост в нашей рубрике "По литературным местам". Ведь интерьеры Павловского института - место действия известнейших книг Лидии Чарской и Надежды Лухмановой (о которой мы говорили совсем недавно: http://kid-book-museum.livejournal.com/816424.html).
Оригинал взят у 
Вид алтаря в домовой церкви института

Вид бокового фасада здания Павловского института

Вид на сад института с верхнего этажа здания

Вид части актового зала в здании института

Вид части вестибюля и лестницы в здании института

Вид части коридора в здании института

Вид части кухни института

Воспитанницы в саду института во время отдыха

Воспитанницы в саду института во время отдыха

Воспитанницы и учитель в кабинете физики во время подготовки к урокам

Воспитанницы института во время дежурства в столовой накрывают на столы

Группа воспитанниц во дворе института во время игр

Группа воспитанниц института в саду института

Группа воспитанниц института в саду института

Группа воспитанниц института на террасе, выходящей в сад

Группа воспитанниц института на террасе, выходящей в сад

Метки: *Лухманова, *Чарская, по литературным местам
|
Метки: дворянское образование |
Вера Гедройц - великолепная и забытая |
Вера Гедройц - великолепная и забытая
Листала я Пикабу, и увидела этот пост
#comment_89032496
А там - знакомая фотография.
(не она, но из той же серии и даже, видимо, того же дня)
Собственно, о женщине, которая находится посередине данного снимка, я и хочу рассказать.
И да, это действительно женщина. Хоть и не скажешь так на первый взгляд. Да и не все современники признавали в ней женщину, потому что вела она себя как мужчина.
Но обо всем по порядку.
Для начала, я просто скажу, чем меня изначально зацепила Вера Игнатьевна Гедройц.
В моем небольшом городке Шибенец, что в Брянской области, есть больница, названная в ее честь. Все детство я бегала мимо памятной таблички на стене больницы к своим родителям на работу, и даже не задумывалась, кто эта тетя со смешной фамилией. И только пару лет назад один мамин коллега-врач рассказал мне ее историю. Ну и я потом дополнила его рассказ другими источниками.
Когда я узнала ее невероятную историю, подумала: "Мне бы так жить".
Очень много в ее судьбе интересных деталей, но я постараюсь рассказать наиболее важные.
Итак. Вера Игнатьевна Гедройц родилась родилась и умерла в Киеве, но росла там же, где и росла я. Я все время ищу каких-нибудь знаменитых и выдающихся людей моей малой родины, и она стала для меня открытием.
В селе Слободище Брянской области у ее родителей, тогда еще имевших княжеский титул литовского рода, было имение, где и росла будущая первая женщина-хирург царской России. У нее был старший брат, который трагически погибает, когда Вера была еще ребенком. Она была очень привязана к брату, и впоследствии писала стихи под его именем - Сергей Гедройц.
Полночная мечта меж зорьных берегов,
Невидимой струи эфира трепетанье,
Мелодия несказанных стихов,
Теней предсветных лунное сиянье.
Недвижный бег закатных облаков,
Трехцветных рос кристальное блистанье,
Паренье душ свободных от оков,
Земных страстей уснувшее желанье.
Вибраций голубых беззвучная волна,
Огонь любви безтрепетных горений,
Мгла предрассветная, ты вся полна
Мучительных и ярких откровений.
В юношеские годы учится в Брянской гимназии, где ее учителем был сам Розанов. Насколько я помню, она позже поступает в Орел на врача, потом в Петербург, где фиктивно выходит замуж за своего друга. Да-да, уже с молодости она отрицает принятые нормы общества. И это в царской-то России! До революции еще почти 10 лет. Уже тогда вступает в ряды революционеров, но ее возвращают домой под надзором полиции.
Помимо революционных кружков она увлекается поэтическими. И в Петрограде вхожа в круг знаменитых поэтов того времени. Я даже смогла вычитать где-то, что к ней подкатывал Гумилев, но она его отшила. По понятным причинам.
После Петербурга Вера отправляется учиться в Лозанну к знаменитому хирургу Цезарю Ру. Она была едва ли не одной из трех учившихся тогда там женщин, но смогла доказать всем, что пол для врача - не проблема. Настолько, что сам He завещал ей свою кафедру хирургии. Но Вера отказалась.
В имении умирает сестра. и Вера вынуждена вернуться домой, в Россию. В Швейцарии остается ее возлюбленная. Они долго переписываются, договариваются о переезде любимой в Россию. А сама Гедройц в ожидании своей первой любви успевает открыть и обустроить первую больницу при Мальцовских заводах. Но однажды ей приходит письмо, где ее пассия разрывает с ней отношения. Вера стреляет себе в сердце из револьвера. Это происходит прямо в больнице. И к счастью, ее успевают спасти.
Жизнь продолжается. Гедройц оперирует и является в свои 29 лет уже обладательницей статуса главного врача. Спасает жизни, проводит такие сложные операции, которые расценивались в то время как чудо.
И вот, случается Русско-Японская война.
Она отправляется на фронт, где впервые в мире проводит полостные операции, спасая тем самым сотни жизней. После войны не без протекции самого Боткина она попадает в Царское село, где знакомится с Николаем II и его семьей.
И вот один из самых странных фактов в ее биографии - она становится едва ли не самым близким другом царской семье. Она - женщина, отвергающая мужчин, ярая атеистка, революционерка, люто ненавидящая другого любимца семьи - Распутина. Как это вообще стало возможным, для меня загадка.
Но факт остается фактом. Гедройц учит великую княгиню и ее дочерей сестринскому делу.
Царские особы даже ассистировали ей на операциях. В Первую мировую благодаря ей были организованы эвакогоспитали в Царском селе, где она и императрица с дочерьми оперировали раненых солдат.
Однажды она просто пинками выгоняет Распутина, пожелавшего присутствовать при осмотре травмированной после железнодорожной аварии фрейлины А.Вырубовой. Ее называли: "Жорж Санд Царского Села". Она курит трубки и ругается матом, носит брюки и мужские костюмы. О себе говорит только в мужском роде.
жаль, что фотографий немного
Затем приходит революция, царский режим сменяется советским. Каким-то чудом Гедройц избегает участи царской семьи и всех ее приближенных. Она отправляется на фронт вновь, где получает ранение, и уже оттуда ее эвакуируют в Киев, где она и проживет до конца своих дней.
Там она продолжает практику, пишет диссертации. Одна из первых в стране изучает онкозаболевания.
Там она встречает вторую и последнюю любовь своей жизни, с которой проживет до конца. Это графиня Мария Нирод, вдова и мать двоих детей. Сказать, что дети не приняли их союз - значит, ничего не сказать.
Ирония, но убивает ее онкология, так ей пристально изучаемая. А через несколько лет рядом с ее могилой похоронят архиепископа Ермогена. Однажды она спасла ему жизнь, и он завещал покоиться рядом с ней. С атеисткой, не признающей Церковь.
Я все думала, откуда столько противоречий в ее судьбе, когда к ней тянулись люди, которые ну просто не могли этого делать. Поэты, цари, священники... И она, такая "неправильная" для своего времени и своей страны.
Вот такая вот история. Мечтаю когда-нибудь снять достойный мини-сериал о ее жизни. Мечтаю напомнить людям об ее имени. Потому что что-то меня задевает во всей ее жизни. Нет, я не революционерка, не атеистка и, тем более, не лесбиянка. Но все во мне отзывается к ней. Такие люди должны быть увековечены в веках. Ведь я даже не рассказала толком обо всех ее медицинских заслугах, а их действительно немало. Просто я не стала вдаваться в формализм. И просто захотелось рассказать о ней.
И благодаря ее истории я еще больше горжусь своими корнями)
Гедройц Врачи Хирургия Царь Революция Брянск Биография Длиннопост
https://pikabu.ru/story/vera_gedroyts__velikolepnaya_i_zabyitaya_5109138
|
Метки: гедройц красный крест |
Сестры милосердия |
Сестры милосердия
Первая мировая война (28 июля 1914 - 11 ноября 1918 гг.) - первый военный конфликт мирового масштаба, в который было вовлечено 38 из существовавших в то время 59 независимых государств. Около 73,5 млн. человек были мобилизованы; из них убиты и умерли от ран 9,5 млн., более 20 млн. ранены, 3,5 млн. остались калеками. Причинами этого кровопролитного конфликта стали обострение глобального противостояния великих держав, прежде всего, Англии и Германии, начавшаяся борьба за передел мира.
июля 1914 г. император Николай II объявил о всеобщей мобилизации, связанной с началом Первой мировой войны. 1 августа 1914 г. Германия объявила войну России. На следующий день в Петербурге толпы демонстрантов, люди разных чинов, званий и состояний, двинулись к Зимнему дворцу, чтобы получить монаршее благословение на священную войну. Столичные рабочие, прекратившие забастовки, вышли на улицы с царскими портретами в руках. На Дворцовой площади коленопреклоненная толпа пела "Боже, царя храни". Свидетель происходившего в тот день, великий князь и адмирал российского флота Михаил Николаевич Романов записал в своем дневнике: "Наверное, за все двадцать лет своего царствования он [Николай II] не слыхал столько искренних криков "ура", как в эти дни".
Желание постоять за честь родины было едва ли не всеобщим. Женщины и девушки в массовом порядке записывались на курсы сестер милосердия. Многие женщины уже к тому моменту работали в лазаретах и госпиталях.
Первые частные госпитали разместились в доме князя Феликса Юсупова на Литейном проспекте и в доме на Каменноостровском проспекте, который арендовала под госпиталь знаменитая балерина Матильда Кшесинская. В своих воспоминаниях она пишет: " В Петербурге, как только опасность десанта миновала, стали открываться лазареты из-за все возрастающего количества раненых, не только военные, но и частные. Тогда и я тоже задумала устроить свой лазарет, нашла чудную квартиру недалеко от меня, на Каменноостровском проспекте, для небольшого лазарета, всего на тридцать кроватей, для солдат. Я не жалела средств на его устройство, в нем были две операционные комнаты и три палаты для раненых по десять кроватей в каждой. Я привлекла лучших врачей, которые каждый день посещали лазарет. Ни при операциях, ни при перевязках я никогда не присутствовала, так как помочь я ничем не могла. Но там, где я могла быть действительно полезной, я делала все, что было в моих силах, стараясь баловать, как могла, раненых, чтобы хоть немного скрасить им жизнь вдали от своих, утешить их и подбодрить. Их семьям я посылала подарки, опрашивала их, кому могу помочь и в чем семья больше всего нуждается. Чтобы их развлечь, я устроила им однажды большой праздник и танцевала перед ними… Летом этого, 1915 г., чтобы немного развлечь своих раненых и дать им возможность подышать свежим воздухом после замкнутой лазаретной жизни, я привозила их к ceбе на дачу в Стрельну партиями в десять человек, для этого мне давали казенные грузовики… Я была очень счастлива, что могла украсить их жизнь". Эти слова являются примером душевности, доброты и огромного сердца представительницы аристократии, заботы о простых солдатах, которые самоотверженно боролись за родную землю.
Действующей армии требовались не только вооружение и боеприпасы, но и огромное количество обмундирования, сапог, портянок, нижнего белья. Решению этой проблемы немало способствовали усилия добровольцев. Так, например, артистка театра Незлобина госпожа Васильева уговорила своих коллег по несколько часов в день работать в швальне, которой заведовала артистка О.С. Островская. Артисты занимались шитьем белья для солдат.
Вскоре в московских лазаретах и госпиталях стала ощущаться нехватка перевязочного материала. Женщины всех сословий, от простых горожанок до аристократок, с небывалым энтузиазмом занялись изготовлением бинтов. Одна лишь мастерская у Ильинских ворот производила в день до 10 тыс. перевязочных пакетов - столько же, сколько производила хорошо оснащенная германская фабрика.
О деятельности сестер милосердия в Первую мировую войну известно довольно мало, так как большинство событий предшествующих войн описывается спустя какое-то время после их окончания. Для воспоминаний и подробных отчетов о сестрах милосердия в эту войну времени отпущено не было из-за начавшейся революции. Дошедшие же до нас сведения неполны и мало информативны. Известно, что к 1915 г. в России существовало 115 общин, находившихся в ведении Общества Красного Креста. Кроме того, сестры состояли при трех местных управлениях и двух Комитетах РОКК, Евангелическом госпитале и четырех иностранных больницах Петрограда. Самой крупной организацией, насчитывавшей 1603 человека, являлась община святого Георгия. Следующими по численности были петроградские сестричества имени генерал-лейтенанта М.П. фон Кауфмана (952 человека) и святой Евгении (465 человек). Свято-Троицкая община в это время насчитывала 129 сестер, а Крестовоздвиженская - 228. В Иверской и Александровской ("Утоли моя печали") сестрических организациях Москвы состояло, соответственно, 365 и 183 сестры. Всего в Москве к началу войны действовало семь общин.
В 1916 г. по официальным спискам на фронт было отправлено 17436 сестер, которые обслуживали более двух тысяч полевых и тыловых учреждений Красного Креста - 71 госпиталь, рассчитанный на 44600 человек, этапные и подвижные лазареты, 11 санитарных поездов, передовые отряды, санитарные транспорты, питательные и перевязочные пункты, дезинфекционные камеры, рентгеновские и летучие хирургические отряды, два плавучих госпиталя на Черном море, три бактериологические лаборатории, шесть полевых складов. Средствами передвижения для нестационарных учреждений служило около 10 тысяч лошадей и 800 автомобилей.
Госпиталям приходилось спешно подыскивать помещения, часто не приспособленные для подобных целей, так как большею частью единственно пригодными являлись здания, занимаемые правительственными и учебными заведениями. Нередко происходили задержки с их разворачиванием из-за неполучения ответов от надлежащих ведомств, поэтому многие госпитали подолгу простаивали в вагонах до окончательного размещения на конечном пункте. Эвакуация представляла огромные трудности из-за нехватки транспортных средств, в связи с этим раненые размещались в госпиталях неравномерно. Например, из города Лодзи в Варшаву в одно время в сутки прибывало по восемь с половиной тысяч раненых, и каждый из лазаретов города работал на пределе, принимая вместо положенных 200 человек тысячу, то есть в пять раз больше своих реальных возможностей. Поэтому во многих случаях функции стационарных госпиталей брали на себя передвижные и этапные лазареты, редко работавшие со штатным числом раненых. На первое ноября 1915 г. во всех названных заведениях лечилось около 780 тысяч человек. К этому времени 28 сестер скончалось, заразившись инфекционными заболеваниями, четверо погибло в результате несчастных случаев, пятеро было убито, а двенадцать покончили жизнь самоубийством, не выдержав существования в условиях военного времени и крайнего отчаяния. После войны предполагалось издать "Золотую книгу" с биографиями всех умерших сестер. Этот проект так и не был осуществлен. в Москве была предпринята попытка создать своего рода мемориал на месте сада села Всесвятского в виде всероссийского Братского кладбища, где с августа 1915 г. были особо выделены участки для сестер милосердия, скончавшихся в Первую мировую войну. Здесь планировалось возведение грандиозного храма, архитектурных памятников и военно-исторического музея. Кладбище после революции было застроено, и только часть его территории осталась свободной - район Серебряного бора на берегу Москвы-реки.
Три сестры милосердия в 1915 г. были назначены в особые комиссии Красного Креста, которыми был проведен осмотр германских концентрационных лагерей для русских военнопленных. Аналогичная комиссия с тремя немецкими сестрами была послана для осмотра российских лагерей, где содержались пленные немцы. Русские сестры получили опросные карточки-анкеты. В них указывались общие данные каждого пленного, в том числе его вероисповедание, условия, при которых он попал в плен, общее состояние здоровья. На помощь этим несчастным Красный Крест выделил 60 тысяч рублей. Всего русскими сестрами было осмотрено 115 лагерей. Одна из них, Е.А. Самсонова, оставила весьма тенденциозные записки, в которых мрачными красками изображалось бедственное положение русских в Германии. Даже если она писала правду, публикация ее дневника в момент, когда война еще не кончилась, очевидно, играла пропагандистскую роль. С аналогичной целью публиковались и другие воспоминания, например, сестры Б. Радонич, попавшей в немецкий плен.
Одним из немногих дошедших, а потому весьма ценных для нас свидетельств о последней войне, в которой участвовали русские сестры милосердия являются воспоминания Александры Львовны Толстой, дочери Л.Н. Толстого. Ее судьба в какой-то мере типична для многих женщин из интеллигентских семей начала века. Александра не состояла в общине и в медицинском институте не училась. Получив хорошее домашнее образование, она стала секретарем отца, делая записи под его диктовку. К 1914 г. достигнув своего тридцатилетия, она и не помышляла о профессии сестры милосердия, хотя увлекалась медициной и под руководством домашнего врача Л.Н. Толстого изучала анатомию и физиологию. При ее содействии в Ясной Поляне даже была устроена амбулатория для крестьян, стекавшихся сюда со всей округи.
После объявления Германией войны России, страну захлестнула волна так называемого "агрессивного патриотизма", желания во чтобы то ни стало обуздать врага, грудью стать на защиту Родины. Многие устремились на фронт, в том числе и женщины, мечтавшие попасть на передовую и ради этого вступавшие в ряды сестер. "Мне хотелось забыться, хотелось подвигов, геройских поступков…" - писала спустя много лет Толстая. Александра решила стать сестрой вопреки воле матери и друзей скончавшегося отца. Поскольку ранее в своей амбулатории она уже научилась приготовлять мази, делать перевязки и уколы, ей было довольно легко сдать экзамен на звание сестры милосердия военного времени. Тем не менее, работа в тылу ее не удовлетворяла, и для того чтобы попасть на фронт, она, используя свое положение дочери знаменитого писателя, обратилась к князю Львову, председателю Всероссийского Земского Союза, организовывавшего помощь раненым. Он не согласился взять ее на ответственную работу, сославшись на неумение Александры практично вести дела, в частности, когда она однажды сдавала в аренду яблоневый сад, а арендатор ее обманул. Спустя несколько месяцев Александре, в конце концов, удалось попасть на санитарный поезд Северо-Западного фронта в качестве уполномоченной Всероссийского Земского Союза. Этот поезд перевозил раненых с поля боя на передвижной пункт в Белосток, где их перевязывали, а затем эвакуировали дальше. В октябре 1914 г. Толстую перевели на Турецкий фронт и опять по протекции, потому что передовые отряды Земского союза комплектовались только из кадровых сестер Красного Креста. Добровольно она пошла по направлению Эривань - Игдырь и далее, вглубь Турции. Игдырь оказался маленьким местечком у подножия Арарата, на берегу бурной реки Евфрат. "Библейские, но унылые, болотистые места с невероятным количеством комаров, носителей одной из самых тяжелых форм тропической малярии". Здесь-то, в бывшей школе, и был организован первый перевязочный пункт Всероссийского Земского Союза. Вскоре Толстую перевели в операционную на помощь опытной фельдшерице-хирургу. "Ранения были тяжелые, турки употребляли разрывные пули "дум-дум". Трудно было привыкнуть к ампутациям. Держишь ногу или руку и вдруг ощущаешь мертвую тяжесть. Часть человека остается у тебя в руке". Затем отряд переместился в деревню Каракалису Алашкертскую, где в небольших убогих домах и были размещены раненые. Их было мало, но большинство из них зараженные тифом всех трех видов: брюшным, сыпным и возвратным. Не хватало питания в тех случаях, когда задерживался караван верблюдов, являвшихся основным грузовым транспортом в этих краях. "Ночью сестры дежурили по очереди. Четыре палаты по 40-50 больных в каждой. На каждую палату один дежурный санитар, а на все палаты одна сестра. Почти все больные - тифозные. Всю ночь бегаешь из одной палаты в другую. Стонут, мечутся, бредят. Чувствуешь свое полное бессилие как-то облегчить, помочь. Минутами делается страшно. Особенно, когда стоны превращаются в хрип... Подбегаешь, дыхания почти нет, больной затих, пульса нет. Только успеешь перекрестить, закрыть глаза - помер". Затем Толстая получила назначение в город Ван, где в то время находилось много тифозных больных и где надо было открыть питательный пункт для пленных турок, в основном женщин, стариков и детей. И вновь сестре приходится совершать длительные переходы через горы. "За последние месяцы я совсем отвыкла от цивилизации и не обращала никакого внимания на свою внешность. Да это было и невозможно во время походов. Вероятно, жуткий был у меня вид. Облупившееся от солнца и горного воздуха лицо, грубая, пропитанная лошадиным потом засаленная серая поддевка из кавказского сукна, шаровары, сапоги, на голове черная барашковая папаха с белым верхом. Их носят здесь для предохранения от солнечного удара. Когда мы приехали в Ван, часть пленных уже умерла. Осталось около 800 человек. Организовали питание, согревали воду для мытья людей и стирки белья. Продукты доставали из военного ведомства. Но многого не было. Мыла нельзя было достать. Употребляли содово-соленый песок из озера, им можно было стирать белье. Устроили примитивную прачечную". Позднее Толстой удалось добиться перевода пленных из этого зараженного района в другой, с более благоприятными условиями.
После описанных событий Александра получила новое назначение на Западный фронт в качестве уполномоченной Земского Союза для устройства школ-столовых и организации работы с детьми из семей, оставшихся в прифронтовой полосе. Из 200 учительниц, пожелавших отправиться для устройства школ, Толстая отобрала лишь шестьдесят, предварительно побеседовав с каждой в отдельности. Затем Толстой было приказано организовать подвижной санитарный отряд, в который вошло восемь врачей, тридцать сестер, а также санитары, хозяйственный и административный персонал - всего около 250 человек. Отряд Толстой был разделен на три "летучих" подразделения, то есть группы по оказанию оперативной помощи раненым на поле боя. В каждом вводилась довольно жесткая дисциплина, устраивались учебные тревоги, так что персонал был в состоянии собраться и выступить в поход в течение двадцати минут. "Я заслужила полное доверие команды после того, как я откомандировала фельдфебеля, ударившего по щеке одного из солдат. Дисциплина была необходима…". Благодаря неиссякаемой энергии Толстой, в три дня под Сморгонью был развернут госпиталь на четыреста коек. В этом районе он периодически подвергался бомбардировкам со стороны немецких аэропланов, и Александре приходилось останавливать обезумевших от страха и бежавших от больных санитаров. "Я никогда не поверю, что люди не боятся обстрелов, бомб, ружейных атак. Все боятся. Весь вопрос в выдержке, в умении владеть собой и не показывать свой страх". Александра чудом избежала смерти, задержавшись у уполномоченного в Минске, когда часть ее дома была разбомблена немецким снарядом, семь санитаров убито, а трое врачей тяжело ранено. Под Сморгонью немцы стали применять отравляющие газы: сестрам и врачам приходилось работать в противогазах. "...Деревья и трава от Сморгони до Молодечно, около 35 верст, пожелтели, как от пожара... Поля ржи. Смотришь, местами рожь примята. Подъезжаешь. Лежит человек. Лицо буро-красное, дышит тяжело. Поднимаем, кладем в повозку. Он еще разговаривает. Привезли в лагерь - мертвый. Привезли первую партию, едем снова... Отряд работает день и ночь. Госпиталь переполнен. Отравленные лежат на полу, на дворе... 1200 человек похоронили в братской могиле. Многих эвакуировали... Я ничего не испытала более страшного, бесчеловечного в своей жизни, как отравление этим смертельным ядом сотен, тысяч людей. Бежать некуда. Он проникает всюду, убивает не только все живое, но и каждую травинку. Зачем?.. Какой смысл во всех этих конференциях, бесконечных рассуждениях о мире, если не принять учения Христа и заповеди "не убий" как основной закон... И пока люди не поймут греха убийства одним другого - войны будут продолжаться. А результаты войны? Падение нравов, революции". "Все говорили речи. Везде, как грибы, вырастали трибуны. Куда ни приедешь, везде собрания. Стали появляться странные люди. Они говорили больше всех, призывали бросить фронт, не подчиняться офицерам. Говорили офицеры, сестры - все". Сама Толстая в патриотическом порыве выступала перед солдатами. Тем не менее, очень быстро стала проявляться истинная сущность происходившего. После февральских событий 1917 г. на фронте резко упала дисциплина. Врачей не слушались, солдаты им хамили, обсуждали приказы начальства и часто им не подчинялись. В отряде Толстой был создан свой солдатский комитет, с почетом проводивший в тыл свою руководительницу, решившую покинуть фронт. "...Позднее я узнала, что после моего отъезда тот же самый комитет постановил меня арестовать как буржуйку и контрреволюционерку, но я уже была в Москве".
Столь же ответственно относилась к своим обязанностям медсестра лазарета Евгеньевской общины города Ровно великая княгиня Ольга Александровна. "Всегда одетая, как простая сестра милосердия, разделяя с другой сестрой скромную комнату, она начинала свой рабочий день в 7 утра и часто не ложилась всю ночь подряд, когда надо было перевязывать раненых. Иногда солдаты отказывались верить, что сестра, которая так терпеливо за ними ухаживала, была родной сестрой государя и дочерью императора Александра III". Как-то во время утреннего обхода Ольга Александровна увидела плачущего солдата. На вопрос княгини раненый ответил, что "дохтура операцию делать не хотят, говорят, всё равно помру". Ольга Александровна сумела уговорить врачей, и операция закончилась успешно. Корреспонденту "Биржевых ведомостей" раненый с гордостью заявил, что "с такими ранами, как у него, один на тысячу выживает. А всё великая княгиня".
- 8 февраля 1915 г. в Восточной Пруссии русская армия потерпела тяжелейшее поражение. Наши войска отступали, подавленные превосходством врага в тяжелой артиллерии. 2 марта при прорыве из окружения только один 20-й русский корпус потерял убитыми 7000 человек. Поток раненых резко возрос. 22 августа 1915 г. императрица Александра Федоровна решила организовать в залах Зимнего дворца лазарет имени наследника цесаревича Алексея. Под лазарет отвели Аванзал, Николаевский, Большой фельдмаршальский, Петровский, Гербовый, Пикетный и Александровский залы, а также часть второй запасной половины дворца от Александровского зала в сторону Эрмитажа. На Иорданской и Церковной лестницах были устроены специальные пандусы для удобства переноски тяжелораненых. Фрейлина двора Анна Вырубова вспоминала: "Их привозили издалека, всегда ужасно грязных и окровавленных, страдающих. Мы обрабатывали руки антисептиком и принимались мыть, чистить, перевязывать эти искалеченные тела, обезображенные лица, ослепшие глаза все неописуемые увечья, которые на цивилизованном языке называются война".
Среди раненых, поступавших в лазареты и госпитали Юго-Западного фронта, попадались и немцы. Некоторые из них вели себя крайне враждебно по отношению к русским врачам и сестрам. В Варшавском госпитале раненый немец плюнул в лицо медсестре, другой пнул медсестру ногой, третий ткнул ножницами в живот врачу, который делал перевязку.
С самого начала войны в печать всё чаще стали проникать сведения о зверствах германских и австрийских солдат и офицеров в Бельгии, Франции и западных областях Польши. Массовые грабежи, расстрелы заложников и насилия над женщинами стали нормой поведения завоевателей. "Мир еще не знал фашизма, Освенцима, Дахау, геноцида гитлеровцев, - писал известный советский историк Н.Н. Яковлев, - но уже тогда, в августе 1914 г., хорошо знали, что враг систематически нарушает законы и обычаи войны. Пытки и убийства пленных в руках немцев и австрийцев были не исключением, а правилом". Агрессия Германии побудила женщин к активному участию в борьбе с врагом. Сёстры милосердия сыграли огромную роль в годы первой мировой войны. Для них работа в госпиталях и лазаретах была не только долгом, но и велением сердца, внутренней потребностью служения ближнему, любовью и милосердием к страждущим.https://studexpo.ru/18241/istoriya/zhenschiny_rossii_pervuyu_mirovuyu_voynu
|
Метки: первая мировая война красный крест сёстры милосердия |
Монахиня Мария: Анна Танеева-Вырубова, оклеветанная «други ради» |

|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
 |
 |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Метки: фрейлины вырубовы танеевы |
КРАСИВЫЙ УГОЛОК РОССИИ |
КРАСИВЫЙ УГОЛОК РОССИИ
НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗНАТЬ И УВАЖАТЬ ИСТОРИЮ СВОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ!!!
Слободище – старинное село, первое упоминание о нём по архивным данным относятся к 1623-24 годам. В них было сказано, что село Слободище, на речке Любохонка принадлежала Олексию Ермолаеву сыну Исупову....
ВОСПОМИНАНИЯ - БЕСЦЕННЫ!
ДЕРЕВНИ КОТОРЫХ БОЛЬШЕ НЕТ
Деревеньки родные, малые, Сколько вас разбрелось по Руси? Вы от снега стоите кружавые И дымок из русской печи. Где-то там, за широкими плёсами, В сердце звуки гармони лихой, Там стоит под большими берёзами, Старый домик, отцовский, родной. Ранним утром в деревню родимую, Я вернусь, в васильковый свой мир, Вновь увижу берёзу любимую, Отчий домик, что сердцу так мил.
НАШИ ЗЕМЛЯКИ
ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ!
Гордимся своими земляками — участниками многих исторических событий, героями Великой Отечественной войны и труда, деятелями искусства и культуры.Жизнь неудержимо движется вперёд. И каждый новый день - это продолжение истории, новые страницы летописи
Гедройц, Вера Игнатьевна
 Вера Игнатьевна Гедройц (7 [19] апреля 1870, село Слободище, Орловская губерния — март 1932, Киев, СССР) — одна из первых в России женщин-хирургов, одна из первых женщин в мире, получившая звание профессора хирургии и возглавившая хирургическую кафедру, участница Русско-японской войны, прозаик и поэтесса Серебряного века.
Вера Игнатьевна Гедройц (7 [19] апреля 1870, село Слободище, Орловская губерния — март 1932, Киев, СССР) — одна из первых в России женщин-хирургов, одна из первых женщин в мире, получившая звание профессора хирургии и возглавившая хирургическую кафедру, участница Русско-японской войны, прозаик и поэтесса Серебряного века.
Будучи выпускницей хирургической школы профессора Цезаря Ру (Университет Лозанны), Вера Гедройц стала автором ряда оригинальных научных работ в области военно-полевой, общей и детской хирургии. Она также внесла вклад в становление киевской хирургической школы.
Считая революцию неизбежной и необходимой, Вера Гедройц, однако, была одним из самых близких людей царской семьи. Она лично обучала сестринскому делу императрицу Александру Фёдоровну с великими княжнами Ольгой и Татьяной, после чего они работали в лазарете под её руководством.
Семья и ранние годы
Герб Гедройцев «Гипоцентавр»
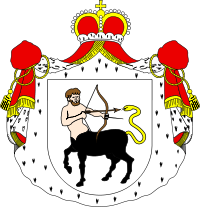
Вера Игнатьевна принадлежала к древнему и знатному литовскому княжескому роду Гедройц, который активно участвовал в освободительном движении против российского владычества. Дедушка Веры Игнатьевны в ходе подавления восстания был казнён, а отец Игнатий (Игнас) Игнатьевич Гедройц и его брат, лишённые дворянского звания, были вынуждены бежать в Самарскую губернию, к друзьям деда. Там Игнатий получил образование и работал в органах местного самоуправления, затем женился на дочери обрусевшего немца-помещика Дарье Константиновне Михау, воспитаннице Смольного института благородных девиц. Сразу после свадьбы Игнатий Игнатьевич по долгу службы переехал в Брянский уезд Орловской губернии, где обзавёлся имением в селе Слободище, занимался сельским хозяйством и работал в Совете мировых судей.
Вера Гедройц родилась 7 (19) апреля 1870 года. В семье, кроме неё, было ещё три сестры и два брата. Мать, хлопоча по домашнему хозяйству, детьми заниматься не успевала, и первой воспитательницей маленькой Веры
стала её бабушка Наталья Тихоновна Михау, которая в своём импровизированном пансионате обучала местных детей грамоте, французскому языку, музыке, пению и танцам. Уже в детстве Вера носила мальчишескую одежду, отличалась бойким поведением и была заводилой всей местной ребятни.
Желание стать врачом появилось у Веры Гедройц после череды болезней и смертей близких людей, в том числе гибели её любимого брата Сергея, чьим именем в дальнейшем она стала подписывать все свои литературные сочинения.
В 1877 году в пожаре сгорело всё имущество семьи, которая после этого начала жить крайне бедно. Однако из Петербурга пришло определение Сената, по которому Игнатию Гедройцу со всеми его потомками был возвращён княжеский титул.
В 1883 году Вера познакомилась с учительницей из соседнего села Любохна народницей Л. К. Любохной, которая впечатлила её своей независимостью и целеустремлённостью. Гедройц впервые прочитала роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?». В этом же году Веру отдали учиться в Брянскую женскую прогимназию, где её взяли сразу во второй класс. Среди её преподавателей был позднее ставший известным В. В. Розанов, который оказал на неё большое влияние. Но вскоре Веру Игнатьевну исключили из прогимназии за сочинение эпиграмм, выпуск рукописного сатирического листка и конфликт с учительницей. После этого отец, по согласованию со своим другом промышленником С. И. Мальцевым, отослал её в Любохну к заводскому фельдшеру для обучения лекарскому делу. Позднее, по протекции Мальцева же, Вера возвратилась в прогимназию, которую закончила с отличием в 1885 году.
Обучение в Петербурге и Лозанне
После окончания прогимназии отец отправил Веру Игнатьевну учиться в Санкт-Петербург. Она не без труда поступила на медицинские курсы профессора П. Ф. Лесгафта, которые тот организовал у себя на квартире на Фонтанке, дом 18. После успешной сдачи экзаменов Лесгафт посоветовал Вере Игнатьевне ехать за границу и поступать в университет, поскольку в то время в России женщина не имела права получить высшее образование.
Во время пребывания в Петербурге Вера Гедройц начала сочинять свои первые стихотворения. На курсах она познакомилась с петербургскими студентами и начала посещать революционные кружки, где вместе со всеми читала труды социал-демократа Лассаля, составляла прокламации и ходила на демонстрации. В 1891 году умер популярный демократический идеолог Н. В. Шелгунов, его похороны переросли в митинг с призывами к революции. Собравшихся разогнала жандармерия, а на следующий день были проведены массовые аресты. Среди задержанных оказалась и Вера Гедройц. После обыска и допросов, не найдя серьёзных улик, её выслали в поместье отца под надзор полиции.
В 1894 году Вера Игнатьевна смогла получить при Орловской гимназии звание домашней учительницы. Будучи лесбиянкой[12][13], 5 сентября 1894 года Вера Гедройц вступила в фиктивный брак со своим петербургским другом капитаном Николаем Афанасьевичем Белозеровым[прим. 4]. С мужем в дальнейшем она, практически, не виделась, а сам факт замужества тщательно скрывала. С помощью друзей, произведя манипуляции с подложными паспортами, Вера Гедройц ускользнула из-под надзора полиции и уехала за границу в Швейцарию, где намеревалась получить высшее медицинское образование

Вид на старое здание Лозаннского университета
По приезде в Лозанну она познакомилась с девушкой Рики Гюди, в дальнейшем они полюбили друг друга и решили вместе уехать в Россию, однако судьба распорядилась иначе. Вере Гедройц с её подложным паспортом сначала отказали в поступлении в университет. Однако она познакомилась через народовольца С. М. Жеманова (сподвижника Г. В. Плеханова) с профессором-физиологом А. А. Герценом (сыном А. И. Герцена), и по его ходатайству её приняли на медицинский факультет Лозаннского университета. Поскольку семья Веры Гедройц с трудом сводила концы с концами и не могла помочь, чтобы заработать на проживание, ей приходилось давать уроки и работать помощницей у профессора А. И. Скребицкого.
На факультете обучалось всего три женщины. На младших курсах Вера Гедройц особенно увлеклась анатомией. На старших курсах она с интересом занималась хирургией, преподаваемой знаменитым профессором Цезарем Ру, учеником Э. Кохера. Привлекла внимание Веры Гедройц также психиатрия, курс по которой вел профессор Зигфрид Рабов. Она активно работала на обеих кафедрах, писала доклады, дежурила в клиниках.
14 декабря 1898 года Вера Гедройц с отличием закончила университет. Зимой из России приходили тревожные письма от матери, в которых она просила дочь вернуться, однако по совету профессора Цезаря Ру Вера Гедройц подала на конкурс и поступила в ассистентуру на кафедре хирургических болезней. Она ежедневно присутствовала в клинике на обходах, перевязках, в день принимала участие в шести — десяти операциях, дежурила ночами. Одновременно занималась изучением научной литературы. Под руководством профессора Ру она написала и защитила диссертацию на звание доктора медицины. После этого она получила приглашение стать приват-доцентом кафедры. Но вскоре из России пришло письмо от отца, в котором он сообщал о смерти сестры и болезни матери, умолял вернуться. Одновременно умерла мать Рики, оставив дочери на попечение несовершеннолетних брата и сестру. Весной 1899 года Вера Игнатьевна вынуждена вернуться в Россию одна.
Возвращение в Россию
«В. И. Гедройц, первая женщина-хирург, выступавшая на съезде и с таким серьёзным и интересным докладом, сопровождаемым демонстрацией. Женщина поставила на ноги мужчину, который до её операции ползал на чреве, как червь. Помнится мне и шумная овация, устроенная ей русскими хирургами. В истории хирургии, мне кажется, такие моменты должны отмечаться».
В. И. Разумовский, III-й Всероссийский съезд хирургов.
Вернувшись в Россию, Вера Гедройц устроилась заводским врачом на Мальцовские заводы портландцемента в Калужской губернии. В мае 1900 года в Фокино открылась заводская больница на пятнадцать коек, но для лечения она была непригодна, и Вера Игнатьевна, бывшая единственным врачом, организовала полное переоборудование вверенного учреждения. Помимо обслуживания рабочих завода и их семей, ей вскоре пришлось также врачевать и жителей всего уезда. Вера Гедройц вела амбулаторный приём, выезжала на дом к тяжелобольным, много оперировала, организовала санитарно-гигиенический режим заводов, обучала врачей из соседних лечебниц. Параллельно она готовила научный материал и готовилась к сдаче экзаменов, чтобы получить российский диплом врача. Много сил уходило на постоянные конфликты в заводской комиссии по определению тяжести увечий, где Вера Игнатьевна защищала права рабочих на пенсию.
27 февраля 1903 года Вера Гедройц, успешно сдав гимназические и университетские экзамены в Московском университете, получила диплом с записью о присвоении звания «женщина-врач». В этом же году Вера Гедройц выступила с докладом на III-м Всероссийском съезде хирургов, опубликовала в журнале «Хирургия» отчёт о работе заводской медицинской службы.
Тяжелые условия труда, грязь и нищета, безысходное положение рабочих завода, тяжёлая работа в больнице и деревнях, сложности в семье, письмо из Швейцарии от Рики, в котором та сообщила, что не сможет приехать в Россию, ввергли Веру Гедройц в тяжелую депрессию и довели до попытки самоубийства. Однако оказавшиеся рядом врачи, приехавшие на заводскую комиссию, спасли ей жизнь.
Русско-японская война
 Дворянский передовой госпиталь в Тавангоузе. На переднем плане справа хирург В. И. Гедройц
Дворянский передовой госпиталь в Тавангоузе. На переднем плане справа хирург В. И. Гедройц
Весной 1904 года Вера Гедройц отправилась добровольцем на фронт русско-японской войны хирургом санитарного поезда Российского общества Красного Креста. В конце сентября отряд медицинской службы во главе с Верой Игнатьевной основал госпиталь у деревни Сяочиньтидзы в Маньчжурии, и начался приём раненых.
Вскоре она была избрана председателем общества врачей Передовых Дворянских отрядов. На войне Вера Игнатьевна не только разработала новые методы лечения в новых условиях войны, но также организовала лечебную работу в меняющихся условиях боевой обстановки. 11 января 1905 года лагерь был передислоцирован к деревне Гудзяодзы. Позже в распоряжение отряда поступил специально сконструированный операционный вагон, и Вера Гедройц перешла руководить им. 16 февраля в ходе Мукденского сражения вагон был передислоцирован в район Фушинских копей. Вскоре стали поступать первые больные, госпиталь работал круглосуточно, лично Верой Гедройц проведено более ста операций.
22 февраля на исходе Мукденского сражения возникла угроза окружения лазаретов, врачебный совет принял решение не оставлять раненых и попытаться их эвакуировать. Отступление прошло успешно, последним под вражеским обстрелом ушёл поезд под руководством Веры Игнатьевны.
В марте 1905 года Вере Гедройц было поручено лечить полковника В. И. Гурко. Весной её поезд ушёл в тыл, с войны она увезла две награды: золотую медаль «За усердие» на Анненской ленте, полученную 18 января 1905 года за деятельность во время боёв при Шахе, и серебряную медаль «За храбрость» на Георгиевской ленте, врученную лично генералом Н. П. Линевичем 11 марта 1905 года за героические действия по спасению раненых в ходе Мукденского сражения. 16 мая 1905 года ей также присуждена серебряная медаль Красного Креста.
После войны
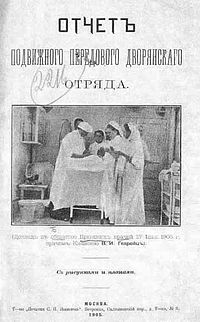
В мае 1905 года Вера Гедройц возвратилась в родные края на своё прежнее место работы. 27 июля она представила результаты своей работы Брянскому обществу врачей, обобщив полученный опыт и сделав ряд важных выводов по военной медицине. Её имя как женщины-хирурга, как героя войны стало известным на всю страну.
В 1905 году, как и по всей России, на заводах возникли волнения и беспорядки из-за тяжёлых условий труда и низкой зарплаты. Вера Гедройц помогала рабочим лидерам. Она познакомилась с местными конституционными демократами, а затем вошла в руководство местного отделения партии.
22 декабря 1905 года скрываемый ею от окружающих брак с Н. А. Белозеровым по желанию Гедройц был расторгнут (в 1907 году ей будет возвращен титул княжны и разрешено вернуть девичью фамилию).
В 1906 году полиция составила список кадетов, первую строчку в котором заняла Вера Игнатьевна. Однако её, в отличие от других фигурантов списка, не подвергли репрессии, а нагрузили работой и перевели на заведование Людиновской больницей, которую было решено сделать центральной в Мальцовском округе. Она приняла решение достичь европейского уровня оказания медицинской помощи: было закуплено новое оборудование, инструментарий, рентгеновский аппарат, в практику введён эфирный наркоз, бактериологическая диагностика, открылось отдельное акушерское отделение, создан патологоанатомический музей.
Вскоре Веру Игнатьевну назначили главным хирургом Жиздринского уезда, а затем и главным хирургом заводов Мальцовского акционерного общества. Помимо практической хирургии и организаторской деятельности, она не оставила занятий наукой, собирала материал для диссертации, задумывалась над написанием учебника. Гедройц разрабатывала вопросы производственного травматизма, грыж брюшной стенки, хирургии щитовидной железы, опухолей различных органов, туберкулёза костей, акушерства. Вера Игнатьевна печатала статьи в медицинских журналах, проводила с земскими врачами обсуждения диагностики и лечения различных заболеваний.
Вскоре Вера Гедройц познакомилась с семьёй профессора петербургской Императорской Академии Художеств Ю. Ю. Клевера. Общение с творческими людьми возродило в ней тягу к литературной деятельности, она начала писать стихи, баллады, пьесы, рассказы, сказки.
Зимой 1909 года Вера Гедройц получила приглашение в Петербург на открытие детской клиники. Приехав в столицу, она встретилась с фронтовым другом Е. С. Боткиным, который к тому времени был приват-доцентом Военно-медицинской академии и личным врачом царской семьи. Он пригласил Веру Игнатьевну к себе в помощницы, поскольку в императорской семье из семи человек пять были женщины, а он знал её как первоклассного специалиста, в том числе по женским болезням.
Царскосельский период
 Императрица Александра Фёдоровна (слева) и княжна Вера Гедройц в перевязочной Царскосельского госпиталя
Императрица Александра Фёдоровна (слева) и княжна Вера Гедройц в перевязочной Царскосельского госпиталя
В 1909 году, благодаря рекомендации Е. С. Боткина, а также военной славе Гедройц, императрица Александра Фёдоровна пригласила её занять должность старшего ординатора Царскосельского дворцового госпиталя. Вера Игнатьевна вместе с матерью приехала в Царское Село, где получила приглашение остановиться у семьи Ю. Ю. Клевера.
Назначение на столь высокую должность (VII ранг) женщины было крайне негативно воспринято старшим врачом госпиталя Н. М. Шрейдером, но он был вынужден подчиниться воле императрицы. Вера Игнатьевна начала руководить хирургическим и акушерско-гинекологическим отделениями, являясь вторым лицом больницы. Она также лечила царских детей и имела частную практику в городе. Однако конфликт со старшим врачом вызвал напряжённые отношения с коллегами и множество трений с начальством. Н. М. Шрейдером был даже составлен запрос в полицию о благонадёжности Гедройц, однако проверка почему-то не выявила её связей с революционными кругами.
Чтобы поддержать Веру Игнатьевну, дочь Ю. Ю. Клевера Мария предложила ей издать свои литературные сочинения и взялась сама оформить издание. Подготовкой книги целиком занималась Мария, поэтому, когда Гедройц увидела уже напечатанное издание «Стихи и сказки», то была расстроена из-за неудачного подбора материала. Но в процессе подготовки книги к изданию Вера Игнатьевна познакомилась с Р. В. Ивановым-Разумником, который стал в дальнейшем её близким другом.
Также она возобновила знакомство с В. В. Розановым, она первая поставила его жене диагноз рассеянного склероза и занялась её дальнейшим лечением. Вера Игнатьевна также близко узнала Н. С. Гумилева, поскольку лечила его от малярии, которой он заразился во время первой поездки в Абиссинию. Впоследствии она оказывала ему финансовую поддержку при выпуске журнала «Гиперборей». Благодаря этим связям Вера Игнатьевна принимала участие в различных поэтических кружках и творческих салонах, где познакомилась практически со всеми известными деятелями Серебряного века.
Вскоре Гедройц вошла в состав провозглашённого Гумилёвым «Цеха поэтов», куда также входили Ахматова, Городецкий, Мандельштам, Зенкевич, Нарбут, Кузьмина-Караваева, Лозинский, Кузмин, Пяст, Алексей Толстой, Виктор Третьяков и другие. Через Р. В. Иванова-Разумника Вера Игнатьевна познакомилась с Н. А. Клюевым и С. А Есениным. В 1913 году под эгидой Цеха вышла её вторая книга стихов «Вег». Вера Игнатьевна также печаталась в журналах «Гиперборей», «Заветы», «Новый журнал для всех», «Вестник теософии» (в ряде стихов Гедройц ориентировалась на эзотерические откровения Е. Блаватской), «Северные записки», «Современник» и других.
Одновременно Вера Гедройц также занималась научными исследованиями. Выступала с докладами на X и XI Всероссийских съездах хирургов. В 1912 году она защитила в Московском университете вторую в своей жизни докторскую диссертацию «Отдалённые результаты операций паховых грыж по способу Ру на основании 268 операций», написанную под руководством профессора П. И. Дьяконова. Профессор Н. И. Спижарский приветствовал её после защиты как первую женщину в России, получившую учёную степень доктора медицины в хирургии.
Летом 1914 года началась Первая мировая война. Вера Игнатьевна, являясь помощником Уполномоченного Российского общества Красного Креста, предложила организовать в Царском Селе эвакуационный пункт для раненых. Эта идея получила поддержку императрицы Александры Фёдоровны. Началось разворачивание нескольких десятков лазаретов. Веру Игнатьевну назначили старшим врачом и ведущим хирургом только что организованного в здании Дворцового госпиталя лазарета, который получил порядковый номер три. Таким образом, она перестала быть подчинённой Н. М. Шрейдера. Общая вместимость лазарета составила 30 офицеров и 200 солдат. Императорская чета лично контролировала подготовку госпиталя, который оборудовали в соответствии с передовыми достижениями медицины. Вера Игнатьевна много оперировала, занималась организацией лечебного процесса, собирала научный материал.
Вера Гедройц, помимо прочей работы, создала курсы подготовки сестёр милосердия. Для них она написала учебное пособие «Беседы о хирургии для сестёр и врачей», где обобщила свой опыт, полученный во время Русско-японской войны. Императрица Александра Фёдоровна с великими княжнами Ольгой и Татьяной попросила Веру Игнатьевну преподать им тот же курс. После окончания обучения они начали работать в госпитале, возглавляемом княжной Гедройц. Императрица с дочерьми, как рядовые сёстры милосердия, лично ухаживали за больными, делали перевязки, ассистировали при операциях.
Вера Гедройц стала близким человеком в царской семье и подругой Александры Фёдоровны. По свидетельству В. И. Чеботарёвой, император Николай II, помещая супругу работать в лазарет, надеялся уменьшить влияние на неё Распутина.
2 января 1915 года поезд, ехавший из Петербурга в Царское Село, потерпел крушение. Среди пострадавших оказалась близкая подруга императрицы Анна Вырубова. Её в крайне тяжелом состоянии доставили в лазарет, Вера Игнатьевна поставила неблагоприятный диагноз. Узнав о случившемся, Григорий Распутин, страстной поклонницей которого была Вырубова, срочно приехал к ней в лазарет, ворвался в чистую палату прямо с улицы в грязных сапогах и шубе. Увидев это, Вера Гедройц вышла из себя, схватила «старца» за воротник и вышвырнула его из госпиталя. Царская чета, присутствовавшая при конфликте, не проронила ни слова. Вопреки прогнозу, больная выздоровела, но между Верой Игнатьевной и императорскими фаворитами Распутиным и Вырубовой сложились ещё более напряжённые отношения. Несмотря на это, Александра Фёдоровна сохранила своё благоволение к Гедройц и даже наградила её золотыми часами с государственным гербом.
В 1917 году произошла Февральская революция. Хотя княжна сочувствовала революции, считая её неизбежной и необходимой, но весть об отречении императора встретила слезами. Вскоре царскую семью арестовали, Красный Крест реорганизовали, лазарет № 3, который возглавляла Вера Игнатьевна, упразднили. Старший врач Дворцового госпиталя Н. М. Шрейдер, воспользовавшись моментом, прекратил выплачивать княжне Гедройц зарплату, мотивируя это тем, что она формально ушла работать из госпиталя, а в возвращении он ей отказал. Оставаться в Петрограде Вере Игнатьевне, как приближённой императорской семьи, стало опасно. Княжна Гедройц решила вновь отправиться добровольцем на фронт.
На Юго-Западном фронте
В апреле 1917 года Вера Игнатьевна прибыла на Юго-Западный фронт. Её определили младшим врачом в перевязочный отряд 6-ой Сибирской стрелковой дивизии. Однако, благодаря высокой квалификации, большой трудоспособности и своей известности в медицинских кругах, она быстро пошла на повышение. Через месяц Гедройц стала старшим врачом и начальником дезинфекционной службы дивизии, а вскоре её избрали в Санитарный совет и назначили корпусным хирургом, что было для женщины крайне высоким постом (уровня подполковника). В январе 1918 года Вера Игнатьевна получила ранение и была эвакуирована в Киев. На впечатлениях этого периода основаны «Галицийские рассказы», опубликованные весной 1918 года в газете «Знамя Труда» в Петербурге.
Киевский период
Некоторые биографы предполагают, что 1918 год княжна Гедройц, будучи раненой, пережила в одной из монастырских больниц (возможно при Покровском монастыре), где близко сошлась с медсестрой Марией Дмитриевной Нирод (1879—1965), вдовой графа Ф. М. Нирода, с которой была знакома ещё в Царском Селе. Вместе с ней и её двумя детьми она поселилась в квартиру доходного дома № 7 по Круглоуниверситетской улице, живя одной семьёй и состоя в «фактическом супружестве». На новом месте Вера Игнатьевна завязала дружбу с проживающими этажом ниже художниками И. Д. Авдиевой и Л. С. Поволоцким, с которыми они создали импровизированный «творческий салон». На этой квартире собирались на скромные обеды осколки петербургской аристократии и интеллигенции.
После выздоровления Гедройц работала в детской поликлинике. С 1919 года она активно принимала участие в деятельности киевских хирургических служб, организуя, в частности, клинику челюстно-лицевой хирургии. В 1921 году по приглашению профессора Е. Г. Черняховского Вера Игнатьевна начала работать в факультетской хирургической клинике Киевского медицинского института, где, в качестве приват-доцента кафедры, она впервые читала курс детской хирургии.
Также Гедройц печатала статьи в медицинских журналах по вопросам общей и детской хирургии, кардиохирургии, онкологии, эндокринологии, принимала участие в работе хирургических съездов, написала учебник по детской хирургии, разработала методики обучения студентов, читала лекции. В 1923 году она была избрана профессором медицины. Профессор В. А. Оппель отозвался о ней как о «настоящем хирурге, хорошо владеющем ножом».
В киевский период Вера Игнатьевна работала над циклом основанных на автобиографическом материале повестей под общим условным названием «Жизнь». Известны пять повестей: «Кафтанчик», «Лях», «Отрыв», «Шамань» и «Смерч»; три из них в 1930—1931 годах были опубликованы.
В 1929 году Вера Гедройц была избрана заведующей кафедрой факультетской хирургии на место уволенного в ходе репрессий против украинской научной интеллигенции (знаменитое Дело «Союза освобождения Украины») Е. Г. Черняховского. Однако в 1930 году её также уволили из университета без права на пенсию. На сбережённые средства и гонорары от изданий Вера Игнатьевна купила дом в пригороде Киева. Она почти оставила хирургическую деятельность, но продолжала оперировать в больнице Покровского монастыря.
В 1931 году Вера Игнатьевна заболела раком, её оперировали, удалили матку. В 1932 году возник рецидив опухоли, и в марте она умерла. Незадолго до смерти Гедройц отдала И. Д. Авдиевой и Л. С. Поволоцкому свои архивы. Среди них было письмо профессора Цезаря Ру, в котором тот завещал ей свою кафедру хирургии. В 1930-е годы Л. С. Поволоцкий был арестован по обвинению в шпионаже, а само письмо, изъятое в качестве «доказательства», было утеряно. После смерти Гедройц М. Д. Нирод переселилась жить в монастырь. Похоронена Вера Игнатьевна в Киеве на Спасо-Преображенском (ныне Корчеватском кладбище). В одной ограде со скромной могилой Гедройц — могилы архиепископа Ермогена и его родственницы: спасённый Верой Игнатьевной, он ухаживал за её могилой и завещал похоронить себя рядом с ней.
Научная деятельность
Работая на Мальцовских заводах, Вера Игнатьевна столкнулась с «профессиональной эпидемией»: многие рабочие имели грыжи. Это дало возможность собрать обширный материал не только для практической, но и для научной деятельности, тем более, что проблема грыж активно разрабатывалась её учителем профессором Цезарем Ру. Она написала несколько научных работ и статей, а затем защитила в Московском университете докторскую диссертацию по теме отделённых результатов пластики паховых грыж. Положительные рецензии на диссертацию дали В. А. Оппель, П. И. Тихов, Цезарь Ру, Н. Н. Петров, она была переведена на несколько языков.
Во время Русско-японской войны Вера Игнатьевна разработала технику ряда полостных операций, впервые в мире применив подобные методы лечения на театре боевых действий, она также высказала мнение, что любое проникающее ранение должно подлежать оперативному лечению. Данные идеи явилось серьёзным новаторством не только в отечественной, но и мировой науке. Это способствовало изменению в дальнейшем взглядов на стандарты оказания медицинской помощи при ранении в живот. Вера Игнатьевна также развила учение Н. П. Пирогова о «эвакуации по этапам» и разделении потоков раненых, дополнив его положением о том, что чем ближе госпиталь находится к месту боя, тем продуктивнее его деятельность.
Во время работы на кафедре факультетской хирургии Киевского медицинского института Вера Игнатьевна занималась детской хирургией, впервые в Киеве преподавая соответствующий курс лекций, на основании которого написала учебник.
Также Вера Гедройц занималась проблемой хирургического лечения рака. Она отрицала вирусную теорию его происхождения, склоняясь к эмбриональной, и декларировала абластический подход к операциям. Вера Игнатьевна также занималась вопросами военно-полевой хирургии, травматологии, ортопедии, хирургии внелёгочного туберкулёза, кардиохирургии, хирургии эндокринных органов (щитовидной и поджелудочной желёз), челюстно-лицевой хирургии и так далее. Всего Верой Гедройц было написано более 60 научных работ.
http://slobodische.ucoz.ru/index/vera_ignatevna_gedrojc/0-71
|
Метки: гедройц |
Урожденные литвинки Гедройц: первая женщина-хирург России и автор самой известной детской песенки |
Урожденные литвинки Гедройц: первая женщина-хирург России и автор самой известной детской песенки
Вера и Раиса Гедройц никогда не бывали на родине своих предков. Но о принадлежности к славному и древнему роду они, конечно же, знали
Поделиться:
 Вера Гедройц предпочитала мужской стиль.Фото: Личный архив
Вера Гедройц предпочитала мужской стиль.Фото: Личный архив
Изменить размер текста:
- Вера благодаря отцу росла, слушая рассказы о могущественной Литве, - рассказывает старший научный сотрудник Института истории Академии наук, кандидат исторических наук Олег Дернович. - Гедройцы - действительно очень древний княжеский род. Был период, в XIII-XIV столетиях они даже считались конкурентами Гедиминовичей. Родственниками Гедройцев, очень-очень далекими, были и Гольшанские.
К XVI веку род стал очень разветвленным, некоторые ветви утратили княжеский титул. Но самый страшный удар Гедройцы получили в XIX столетии, когда многие представители этого известного рода принимали участие во всех восстаниях, в итоге были поражены во всех правах, высланы в Сибирь и лишены возможности вернуться на родину.
Вера — бунтарка с левацкими взглядами
Игнат Гедройц, отец Веры, принял участие в восстании 1863-64 годов еще подростком и был вынужден покинуть родину. Ветвь, к которой он принадлежал, сохранила княжеские привилегии, Игнат женился на дочке обрусевшего немца и жил в Орловской губернии в своем поместье. Вера родилась там в 1870 году вместе со своим братом-близнецом Сергеем.

Вера руководила Царскосельским госпиталем до революции. На фото - с пациентами, 1914 год.Фото: Личный архив
- Отец для Веры был очень важным человеком, если судить по ее воспоминаниям, которые есть в нашей национальной библиотеке и были опубликованы до революции, - рассказывает историк. - Сюжет про историческую Литву, как утерянный рай, звучал в семье постоянно, она была настоящей литвинкой. Возможно, это, а может быть, то, что в Российской империи тогда уже остро стояли социальные вопросы, привело ее к левым идеям.
За участие в студенческом революционном кружке она была выслана из Санкт-Петербурга в поместье отца и смогла оттуда сбежать, только фиктивно выйдя замуж за офицера Николая Белозерова. С новым паспортом Вера добралась до Лозанны и поступила на медицинский факультет университета. С тех пор медицина, хирургия стали ее призванием и принесли славу и признание. Несмотря на успешную карьеру в Европе, через несколько лет, в 1900-м году, она была вынуждена из-за семейных проблем вернуться в Россию. Через два года она подтвердила диплом в Московском университете.

Старший врач Дворцового лазарета княжна Гедройц.Фото: Личный архив
Первая в России женщина-хирург о себе заявила во время русско-японской войны, когда Вера Гедройц (княжескую фамилию и титул она официально вернет себе в 1907 году) стала проводить полосные операции в полевых условиях, чем спасла жизни многим солдатам и на что не решались хирурги-мужчины.
Домашний врач царских детей и доктор медицины
- О Вере много писала тогдашняя пресса, она, как сказали бы сегодня, стала медийной персоной, - говорит Олег Дернович. - И в 1909 году княжна Гедройц получила приглашение от императрицы Александры Федоровны стать домашним врачом царских детей и возглавить Царскосельский госпиталь.
В госпитале она, приверженец левых взглядов, проводит реформу, благодаря которой он стал открытым - лечиться в нем могли не только приближенные ко двору. В1912 году Вера Гедройц защитила в Московском университете докторскую диссертацию по хирургии.

Княжна Гедройц была домашним доктором детей Николая II .Фото: Личный архив
- Эту диссертацию можно прочесть в нашей Национальной библиотеке. Она, конечно, сугубо медицинская, но меня впечатлила ее первая часть, посвященная истории хирургии, - признается Олег. - Она писала о достижениях античной хирургической медицины, об упадке, который настал во время господства арабской школы, о том, как хирургия попала в руки церковников.
Во время первой мировой войны Вера Гедройц переоборудовала Царскосельский госпиталь под военный, который принимал раненных. Медицинскими сестрами у нее работали сама императрица Александра Федоровна и ее старшие дочери. Об этой практике Александра Федоровна много писала в письмах мужу Николаю II: «21 октября 1914 года я подавила свои слезы, поспешила уехать в лазарет и усердно проработала там в течение двух часов. Были тяжелораненые. В первый раз побрила солдату ногу возле и кругом раны - я сегодня все время работала одна, без сестры или врача, - одна только княжна (Гедройц. - Ред.) подходила к каждому солдату, смотрела, что с ним. Я у нее справлялась, правильно ли то, что я намеревалась делать...»
Мужчина в женском теле
О личной жизни Веры Гедройц судить довольно сложно - замужество фиктивное, отсутствие детей… Это только факты.
- Могу лишь делать какие-то предположения, основываясь на ее мемуарах, фактах, воспоминаниях современников, - говорит историк. - У нее была необыкновенная духовная связь с братом Сергеем, который умер еще подростком. Для Веры это стало настоящей трагедией и травмой. И в литературу - кстати, ее первую книгу критиковал сам Николай Гумилев - она вошла под псевдонимом Сергей Гедройц. Но еще в детстве, играя с братом в детей, Вера всегда была мальчиком, а Сергей девочкой…

В литературе Вера подписывалась именем брата Сергея. В медицине - только своим. Ее докторская диссертация есть в Национальной библиотеке Беларуси.Фото: Личный архив
Потом были конфликты с Григорием Распутиным при царском дворе, и не только по идейным вопросам. Ее мужская одежда - но как еще одеваться женщине, которая занимается совершенно мужским по тем временам делом - хирургией на войне?
После Февральской революции Гедройц едет на фронт, снова работает в полевом госпитале. После ранения Вера эвакуируется в Киев, где проживет до конца жизни - ей оставалось меньше 15 лет. Она преподает, публикуется в медицинских журналах, изучает рак, опровергая теорию его вирусного происхождения. По странному стечению обстоятельств, именно эта болезнь ее и погубила в 1932 году.
Художница Ирина Авдиева, которая дружила с Верой Игнатьевной в тот период, так вспоминала о ней: «Большая, немного грузная, она одевалась по-мужски. Носила пиджак и галстук, мужские шляпы, шубу с бобровым воротником. Стриглась коротко. (…) О себе говорила в мужском роде: «Я пошел, я оперировал, я сказал». Фактически Мария Дмитриевна Нирод была не подругой Гедройц, а женой. Дети Нирод Марина и Федор чувствовали к ней неприязнь, и не зря, ибо мать их сильно пренебрегала своими материнскими обязанностями, отдавая все свои помыслы и время Гедройц, медицинской работе (она была у Веры Игнатьевны хирургической сестрой) и делам церковным».

Леонид Бекман написал мелодию на стишок про елочку для своих дочек.Фото: Личный архив
Похоронена Вера Гедройц в Киеве, говорят, цветы на ее могиле можно было видеть даже после войны - она спасла немало жизней.
- Кто знает, если бы княжна дожила до 1937-го, наверняка попала бы под каток репрессий,- предполагает Олег Дернович. - Припомнили бы ей и царских детей, и титул.
Раиса Гедройц — автор самого главного детского шлягера
Вера и Раиса были, конечно, родственницами, но принадлежали к разным ветвям - проследить их родство довольно сложно. Раиса была из той ветви рода, которая утратила княжеский титул. Ее отец служил почтовым чиновником в Москве, где в 1878 году родилась Раиса. Ни о каком богатстве или даже состоянии в семье речь уже не шла, поэтому Раиса после окончания гимназии стала работать гувернанткой у князя Кудашева.
- Наши героини - Вера и Раиса - были почти ровесницами, но какими же разными! - поражается историк. Если Вера — это бурлеск, то Раиса — конечно, пастораль.
Стишок «Елка» - та самая «В лесу родилась елочка» - Раиса написала для своего подопечного, сына Кудашева, и опубликовала в 1903 году в журнале «Малютка» под псевдонимом «А.Э.», как и многие другие свои стихотворения. Через какое-то время князь овдовел, и Раиса вышла за него замуж. Все признавали, что Раиса Кудашева обладала явными педагогическими талантами.

«В лесу родилась елочка» дети поют уже больше 100 лет.Фото: Личный архив
То, что ее стишок положили на музыку, и песенка стала популярной, Раиса узнала через полтора десятка лет совершенно случайно: в поезде услышала, как «В лесу родилась елочка» поет девочка.
История написания мелодии тоже весьма любопытна. В 1905 году, когда Москва была охвачена революцией, композитор-любитель, агроном по образованию Леонид Бекман, чтобы отвлечь и успокоить маленьких дочек, написал для них песенку. Из довольно длинного стихотворения Раисы Гедройц он взял только середину, а мелодию — из немецкой колядной песенки. Бекмен не владел нотной грамотой, поэтому записала песню его супруга, профессиональная пианистка.
Очень быстро «В лесу родилась елочка» стала популярной. Не помешали песенке даже борьба советской власти с буржуазными пережитками, религиозными праздниками, к которым была причислена и традиция наряжать рождественскую елочку. Реабилитирована эта традиция была, и песенка вместе с ней, только в конце 1935 года. И с тех пор «В лесу родилась елочка» - самый популярный детский шлягер.
Член Союза писателей только за один стишок
А что же наша Раиса? О том, что знаменитые строчки про трусишку зайку серенького, написала именно она, не было известно почти 30 лет.
- В литературных кругах до сих пор живут две легенды того, как было раскрыто авторство Раисы Кудашевой, - рассказывает историк.
В 1934 году по решению Сталина был создан Союз писателей - творческая организация, с помощью которой власть собиралась контролировать литераторов. Взамен писатели обретали возможность публиковаться, получать гонорары, льготы. Словом, жить членам союза было попроще. Однажды на прием к его руководителю и создателю Максиму Горькому пришла женщина (Раисе тогда было уже под 60) и призналась, что хотела был вступить в союз. На вопрос, что же она написала, Раиса Кудашева ответила: «Только тоненькие детские книжки» и услышала в ответ, что в Союз принимают авторов солидных произведений. «Нет, так нет», - женщина развернулась и направилась к выходу. У двери она обернулась: «Но может быть, вы слышали хотя бы одно мое стихотворение?» и прочла строчки «Елочки». Горький был сражен и в ту же минуту принял Кудашеву в творческий союз.
- Надо отдать ей должное - как тонко она разыграла эту сцену! - признается Олег Дернович. - Я думаю, это не простота душевная, а тонкая игра. По второй версии, похожая сцена произошла с заместителем Горького Фадеевым, который, услышав, что Раиса - автор знаменитого стихотворения, признался, что в детстве рыдал над ним, жалея елочку.

Слава к Раисе Кудашевой (Гедройц) пришла в зрелом возрасте.Фото: Личный архив
Какая из этих версий верна, не так принципиально. Главное, что благодаря членству в Союзе писателей Раиса смогла выжить. Во время Великой Отечественной войны она получала дополнительные пайки.
А слава пришла к ней только в 1958 году, когда к 80-летию у Раисы Кудашевой взяли интервью ведущие советские издания. Все эти годы Раиса Адамовна, урожденная Гедройц, работала библиотекарем. Наверняка в наши дни она стала бы миллионершей, ведь без «В лесу родилась елочка» и сегодня не обходится ни один детский новогодний праздник. Но жизнь сложилась так, как сложилась.
- Вера и Раиса Гедройц - какие разные темпераменты, разные судьбы… - говорит историк. - Но обе эти женщины, связанные с нашими краями своим происхождением, смогли делать в страшное переломное время то, что считали полезным и нужным. И обе остались в истории. Одна – медицины, другая – литературы.
Еще больше материалов по теме: «Женщины в истории Беларуси»
Поделиться:
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее, и нажмите CTRL+ENTER
Читайте также
СЕГОДНЯ 10:53
Неизвестные фото из архива Кремля: Юнкера против большевиков, детский сад и бомба в книге
|
Метки: гедройц |
ВОЗНИКНОВЕНИЕ КРАСНОГО КРЕСТА В РОССИИ |
|
ВОЗНИКНОВЕНИЕ КРАСНОГО КРЕСТА В РОССИИ
В момент подписания первой Женевской конвенции 1864 г. обстановка в России представлялась весьма подходящей для создания Российского общества Красного Креста. Как пишут российские авторы, идеи, аналогичные тем, что легли в основу Красного Креста, возникали в Российском государстве уже очень давно. В работах по истории Российского Красного Креста авторы уделяют повышенное внимание гуманитарным традициям, особенно в том, что касается помощи жертвам войны и, в частности, гражданскому населению. В этих источниках приводятся такие факты, как помощь русских женщин при осаде крепости Азов в 1641 г., благотворительные акции российского государственного деятеля Ф. М. Ртищева (1625-1673), который стремился организовать помощь раненым не только во время войны, но также и после нее, помогая, например, инвалидам. Во время русско-польской войны 1654 г. он силами добровольцев организовал вынос раненых с поля боя и оказания им помощи. Развитие такой помощи продолжалось в начале XVIII века при Петре I. Оставляя монастырям земельные угодья, он предписывал им заводить у себя лазареты, содержать отставных солдат, престарелых и увечных. Можно также упомянуть патриотическую помощь жертвам войны во время вторжения Наполеона в 1812 г. и создание Александром I в начале века Комитета помощи раненым. В книге В.М.Корнеева и Л.В.Михайлова "Медицинская служба в Отечественную войну 1812 года" рассказывается, что "для переноски раненых с поля боя на перевязочный пункт ("место перевязки") в каждом полку должны были иметься 20 и более нестроевых солдат. "Место перевязки" назначалось "дневными приказами армии" и обозначалось "флагом" или другими какими-нибудь знаками, чтобы раненые, не блуждая, могли оное сыскать". Помощь общественности раненым и больным воинам во время Крымской войны (1853-56 гг.) была связана с организацией работы отрядов сестер милосердия в госпиталях.
В 1854 г. в Петербурге высочайшим указом Николая I было утверждено Общество сестер милосердия "Во имя Воздвижения Честного Креста" («Крестовоздвиженская община сестер попечения о раненых и больных воинах»), ставшее прообразом Российского общества Красного Креста. В этой общине были представительницы всех российских сословий. В одном списке стояли имена вдовы подпоручика Марии Аксеновой и дочери сенатора Екатерины Бакуниной, баронессы Брудберг и вдовы цехового портного Александры Степановой. Здесь были дочери мещан, учителей, священников, помещиков из разных городов России.
Группа сестер милосердия Крестовоздвиженской общины участвовавших в обороне Севастополя
В обучении сестёр Крестовоздвиженской общины принял участие Н.И.Пирогов, под руководством которого они позднее стали работать во время Крымской войны 1853-1856 гг. В одном из своих трудов - «Начала общей военно-полевой хирургии» - Н. И. Пирогов писал, что «неоценимую услугу в лазаретах, на перевязочных пунктах и в транспортах доставляли под Севастополем сестры Крестовоздвиженской общины...». Деятельность сестер милосердия на театре военных действий стала убедительным примером того, какую важную роль может сыграть женский медицинский персонал в деле облегчения участи раненых на войне. В 1854-1856 гг. эта община насчитывала 202 человека, почти все они участвовали в Крымской войне, 17 из них погибли. Многие авторы считают великую княгиню Елену Павловну и Пирогова, основателя службы медсестер (а также Флоренс Найтингейл, которая в 1854 г. возглавила отряд сестер милосердия, работавший в английском госпитале во время Крымской кампании), предшественниками Анри Дюнана. Начиная с 1897 г. императрица Александра ежегодно направляла 4 тысячи франков золотом Анри Дюнану, «зачинателю великой идеи Красного Креста, благодаря которому она восторжествовала». В своем благодарственном письме за полученную им в июне 1896 г. материальную поддержку Анри Дюнан писал: «Я не могу не отметить, что сегодня Красный Крест существует во многих странах мира и что в определенной степени выводы, сделанные мною в книге «Воспоминание о битве при Сольферино», были подсказаны благородным примером, который во время Крымской войны показала Ее императорское высочество госпожа великая княгиня Елена Павловна». Россия ратифицировала первую Женевскую конвенцию 10 мая 1867 г., 15 мая император Александр II утвердил Устав Общества попечения о раненых и больных воинах (позже переименованного в Российское общество Красного Креста). 18 мая состоялось первое заседание созданного общества, которое избрало центральный руководящий орган - Главное управление. С годами Российское общество Красного Креста стало одним из самых мощных, не только по своему общественному влиянию, обусловленному тем, что в нем были широко представлены члены императорской фамилии, но и, в равной степени, по своим финансовым средствам. Его деятельность была особенно интенсивной в период вооруженных конфликтов, в которых принимала участие Россия (военная экспедиция российского правительства в Туркменистан в 1868 г., русско-турецкая война 1877-1878 гг., русско-японская война 1904-1905 гг. и первая мировая война). Общество также предоставляло помощь другим национальным обществам, когда их страны оказывались в состоянии войны, как, например, Франция и Пруссия в 1870-1871 гг. Российский Красный Крест использовал свои средства в том числе для социальной поддержки и оказания помощи жертвам стихийных бедствий. По мнению советских авторов, это Общество, носившее отпечаток политической и социальной системы той эпохи, целиком находилось под влиянием российской аристократии, приближенной к царской семье, и полностью соответствовало типу традиционных благотворительных обществ, ни в малейшей степени не затронутых демократическими и революционными движениями, происходившими в Европе в XIX веке. Помимо этого существовала еще проблема бюрократизации, финансовой зависимости от правительства и российской аристократии (только она и могла вдохнуть жизнь в эту громадную организацию с месячным бюджетом в 18 миллионов рублей, при том что имели место колоссальные ненужные расходы, неизбежные потери и разнообразные злоупотребления). Эти факты не прибавляли популярности Обществу Красного Креста.
Освящение крупнейшего в России лазарета имени Его Императорского Высочества Наследника цесаревича Алексея Николаевича, разместившегоcя в залах Зимнего дворца, состоялось 10 октября 1914 года, спустя несколько месяцев после начала войны. Сам лазарет, рассчитанный на тысячу раненых и больных воинов, обслуживали сто восемьдесят санитаров, шестьдесят сестер милосердия и десять квалифицированных врачей. Работы по переоборудованию царских зал под лазарет проводились за счет дворцового ведомства. РОКК взяло на себя расходы, связанные с поставкой мебели, белья и медикаментов. Все картины и ценности, находившиеся в залах в мирное время, продолжали оставаться на своих местах. Скульптуры и наиболее ценные полотна прикрыли деревянными щитами и покрывалами. Это был первый и последний пример в истории России 20 века, когда для лечения раненных в боях защитников отечества верховная власть предоставила свои апартаменты. Большое внимание уделяла вдовствующая императрица земским и городским союзам, которые с начала войны под знаком Красного Креста возглавили помощь больным и раненым воинам. Земский союз, энергично подключившись к благому делу помощи жертвам войны, внес щедрое ассигнование в государственную казну. Возглавил Всероссийский земский союз помощи раненым и больным воинам, созданный 30 июня 1914 года, князь Георгий Евгеньевич Львов. В короткие сроки, благодаря энергичным действиям князя Львова, были сформированы и направлены на Западный и Кавказский фронты санитарно-транспортные отряды, в тылу действовали лазареты на 20 тысяч коек, которые обслуживались созданными крупными складами медикаментов в Ростове-на-Дону и Тифлисе. На Кавказском театре военных действий работали три санитарно-транспортных отряда, обслуживание которых всецело принял на себя земский союз. Во время первой мировой войны лазареты и кареты «скорой помощи» Красного Креста выполняли свою традиционную роль на пяти фронтах. В Петрограде работало Справочное бюро по делам военнопленных, которое возглавлял генерал Овчинников. В начале 1915 года Мария Федоровна со своей младшей дочерью переехала в Киев, где занялась созданием сети городских госпитальных учреждений. Несмотря на чрезмерную занятость, она всегда находила время навестить больных и раненых солдат и ласковым словом подбодрить их. Часто во время сложных операций Мария Федоровна была рядом с больным, стараясь облегчить его страдания и боль. В одном из киевских госпиталей сестрой милосердия стала работать Великая княгиня Ольга Александровна, снискавшая своей скромностью и трудолюбием любовь и персонала, и раненых воинов. Она не только ежедневно ухаживала за ранеными, но и выполняла их поручения: писала и отсылала письма, покупала табак, хранила и распоряжалась деньгами, которые выдавались солдатам в качестве компенсации за полученное увечью. Непригодным к дальнейшей службе она старалась найти работу, изыскивала для них возможность безбедного существования. За свой самоотверженный труд Великая княгиня Ольга Александровна была удостоена двух Георгиевских медалей.
Деятельность Российского Красного Креста не ограничивалась предоставлением гуманитарной помощи солдатам и военнопленным. Общество также оказывало серьезную поддержку гражданскому населению, пострадавшему в результате военных действий. Под покровительством императрицы находились приюты для обездоленных и бездомных детей, ее именем назывались крупные госпитали. Мария Федоровна учредила госпитали в Минске, Киеве и Тифлисе, 2 военно-санитарных поезда, 5 лазаретов, перевязочно-питательный отряд, санаторий в Крыму для выздоравливающих офицеров, убежище для увечных воинов при Максимилиановской лечебнице. С 1915 г. Красный Крест по согласованию с министерством путей сообщения начал создавать на железнодорожных станциях пункты питания, где перемещенные лица могли получить горячую пищу, медикаменты, одежду и денежные пособия. Этой деятельностью руководили представители МПС, которые одновременно становились уполномоченными Красного Креста. С середины 1915 г. по конец ноября 1917 г. Красный Крест затратил на оказание помощи 311 тысяч рублей. До начала революционных потрясений в распоряжении Красного Креста находилось 118 медицинских учреждений, полностью укомплектованных и готовых принять от 13 до 26 тысяч раненых. В 2255 прифронтовых лечебных учреждениях, в том числе в 149 госпиталях, работало 2450 врачей, 17 тысяч медсестер, 275 помощников медсестер, 100 фармацевтов и 50 тысяч санитаров. С самого начала у Российского общества Красного Креста установились хорошие отношения с МККК. При появлении первых признаков кризиса в Российском обществе Красного Креста МККК сумел сохранить свою нейтральность и беспристрастность, полностью оставаясь вне политики. Такой подход рекомендовался положениями общих инструкций 1916 г. для делегатов МККК, работавших в лагерях для российских военнопленных в Германии. Положение 200 тысяч российских пленных, находившихся в Германии, было очень сложным и «усугублялось... всякого рода политическими влияниями...». В соответствии с пунктом 16 Инструкций, «делегаты должны воздерживаться от всех видов политической и иной пропаганды. Они обязаны, по мере возможности, противодействовать всякой пропаганде в лагерях. Задача делегата состоит в том, чтобы:
Февральская революция 1917 г. ознаменовала собой начало реорганизации Красного Креста. Реформа, предложенная Временным правительством, не была направлена против гуманитарной идеи. Но новые силы, появившиеся на арене общественной жизни в результате падения прежнего режима, не желали довольствоваться ограниченной реформой. Национальная конференция работников Красного Креста стала выразителем новых тенденций. Между делегатами этой конференции, которой было поручено провести подготовку к очередному съезду, и бывшим руководством Общества, пользовавшимся поддержкой Временного правительства, разгорелся конфликт. Конференция представила декларацию принципов, в которой критиковала Российское общество Красного Креста, «развращенное и униженное самодержавием и чиновниками». «Русскому народу, - говорилось в ней, - не было известно это общество, входившее в Международный Красный Крест, которое объединяло фаворитов царизма под высоким покровительством коронованных особ и оказывало благотворительную помощь народу и русской армии за счет средств, полученных от прямых и косвенных налогов, взятых у народа же». В I декларации от 3/16 июля 1917 г. уже звучал голос революции: «Мы не прекратим борьбу, пока не будут полностью уничтожены пережитки прежнего Красного Креста, служившего самодержавию и чиновникам. пока не будет создан подлинный храм международной филантропии, каким станет новый российский национальный Красный Крест». События и потрясения 1917-1918 гг. имели разрушительные последствия для положения на фронтах: возникла паника, массовое дезертирство санитарного персонала, «митинговая лихорадка». «Политическая раздробленность страны приведет к тому, что власти потеряют управление значительным количеством учреждений в провинции. ведомствами и ресурсами, на которые они могли опираться до сих пор. … В настоящий момент перед Российским Красным Крестом стоит более трудная задача, чем это можно себе представить. Не финансовое положение, каким бы трудным оно ни было, может представлять угрозу для существования Российского общества Красного Креста. Усилия тех, кто стоит во главе его, должны быть направлены на восстановление порядка в службах и дисциплины работников всех уровней. Велика ответственность руководителей, история оценит результаты их деятельности, а не теории». Прекращение военных действий не повлекло за собой прекращения деятельности Красного Креста, которому пришлось не только заниматься ранеными, больными или инвалидами - жертвами первой мировой войны, но и столкнуться с первыми последствиями войны гражданской.
По материалам музея Российского Общества Красного Креста, по И. Томану и Ю.Хечинову.
|
http://edu.tomsk.ru/teacher_help/mir/dop_mat/History%20of%20RCC%20r1.htm
|
Метки: красный крест |
Российский Красный крест от Крымской войны до Великой |
Российский Красный крест от Крымской войны до Великой
10.02.2015
Автор: А. В. Громова, Председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество», кандидат исторических наук
Исторический Интернет-портал "Русская История"
К 150-летию основания Международного Красного Креста
К 150-летию со дня рождения преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны
В 1864 году представители 12 европейских правительств подписали Женевскую конвенцию – международное соглашение об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях. Впервые в истории было провозглашено обязательным оказание помощи раненым независимо от того, к какой воюющей стороне они относятся, неприкосновенность госпиталей, лазаретов и санитарного персонала. Была принята эмблема Красного Креста – красный крест на белом фоне: герб Женевы как центра единения стран-участниц.
Заслуги основателя Красного Креста Анри Дюнана были признаны в 1901 году – ему была присуждена первая Нобелевская премия мира. Однако сам он с благодарностью признавал, что «существованию Красного Креста мы обязаны благородному примеру России в деле оказания помощи раненым воинам во время Крымской войны». Профессор Н. А. Вельяминов подтверждал, что «мысль о посещении полей брани и об организации международной, частной добровольной помощи пострадавшим на войне, без различия их звания и национальности, явилась у Дюнана отчасти под влиянием поразившей его деятельности во время Крымской войны […] Пирогова и руководимых им сестёр милосердия Крестовоздвиженской общины».
Начало традиции было положено задолго до этих событий. Женский уход за больными в российских государственных лечебных учреждениях был официально разрешён Петром I, который в 1722 году издал «Указ о назначении монахинь в госпитали».
В XIX веке сестринское дело в России развивалось в двух направлениях: первое – специализированная подготовка акушерок, фельдшериц и фельдшеров; второе – преимущественно благотворительное движение «сердобольных вдов» и, позднее, сестёр милосердия. Благотворительная служба «сердобольных вдов» была организована в 1814 году сначала в Санкт-Петербурге, а через четыре года и в Москве. Эти женщины, чьи мужья пали на полях сражений, по большей части проживали во «вдовьих домах» и осуществляли надзор за порядком в больничных палатах, сопровождали врачей во время обхода, учились у них оказывать первую медицинскую помощь.
Первая в России православная община сестёр милосердия была основана по линии частной благотворительности в марте 1844 года в Санкт-Петербурге, с 1873 года она стала называться Свято-Троицкой. Деятельность её продолжалась до 1917 года. В 1848 году при Полицейской больнице для бедных и беспризорных, созданной благодаря стараниям доктора Ф. П. Гааза, была организована первая в Москве Никольская община. Сёстры снискали известность благодаря самоотверженной помощи холерным больным во время очередной эпидемии.
Большую поддержку новому делу оказала Великая княгиня Елена Павловна, основавшая в 1854 году Крестовоздвиженскую общину сестёр милосердия в Санкт-Петербурге. Несмотря на очевидную пользу, её начинание столкнулось с резким осуждением в свете: бытовало мнение, что порядочные женщины не должны находиться в окружении чужих мужчин и помогать раненым и больным. Сопротивление удалось преодолеть, прежде всего, благодаря активной позиции выдающегося русского хирурга Николая Ивановича Пирогова. По мнению С. П. Боткина, «Пирогов был значительно выше того времени, в котором ему приходилось действовать. Опередив свой век в науке, он опередил его и в общественной деятельности».
В ноябре 1854 года вместе с «сердобольными вдовами» из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым отправились десять сестёр милосердия Никольской общины. Императрица Александра Фёдоровна вручила им отличительные знаки – нагрудные кресты на зелёной ленте. К тому времени сомнений уже не оставалось: раненым солдатам такой уход необходим. Именно опыт русских сестёр милосердия и английских медицинских сестёр в Крымской войне инициировал одно из самых масштабных явлений в области медицины – движение Красного Креста.
Русский Красный Крест был образован в 1867 году как Российское общество попечения о раненых и больных воинах, а с 1879 года – Российское общество Красного Креста (РОКК). Общество занялось подготовкой санитарного персонала для нужд военного времени, организацией госпиталей на фронте, сбором пожертвований и оказанием материальной помощи раненым и больным. В его деятельности участвовали многие выдающиеся медики XIX века: Н. И. Пирогов, Н. В. Склифосовский, С. П. Боткин. Перед русско-турецкой войной в России уже существовало около двух десятков общин сестёр милосердия. Российское общество Красного Креста внесло огромный вклад в деятельность международной организации и гуманизацию конвенций о защите жертв войны. На Брюссельской международной конференции в 1877 году русская делегация представила проект международной конвенции, предусматривавшей запрещение применения оружия, снарядов и веществ, причиняющих физические страдания. России же принадлежит заслуга распространения Женевской конвенции 1864 года на ведение войны на море. В 1899 году по инициативе России в Гааге была созвана первая Конференция Мира.
Первая община Красного Креста была учреждена в 1868 году в Москве. Через два года в Санкт-Петербурге Главным управлением РОКК при участии принцессы Евгении Максимилиановны и Сергея Петровича Боткина организуется Георгиевская община. Впоследствии её возглавил сын выдающегося врача-клинициста С. П. Боткина – Евгений Сергеевич. Он достойно продолжил дело отца не только в качестве талантливого доктора и придворного лейб-медика, но и как попечитель и наставник общин сестёр милосердия. До конца верный врачебному долгу, он не смог оставить своих подопечных и был расстрелян вместе с семьёй последнего российского Императора Николая II в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге.
В 1875 году было издано положение о сёстрах Красного Креста, назначаемых для ухода за больными и ранеными во время войны. Помимо основной деятельности, РОКК оказывало помощь населению во время массовых бедствий, содействие армиям и населению других стран. В русско-турецкую войну 1877–1878 годов было подготовлено более трёх тысяч сестёр милосердия, которые наравне с военными докторами спасали жизни воинов. На фронт было направлено 1288 сестёр, 55 из них погибли.
Главное военно-медицинское управление сочло необходимым организовать подготовку сестёр милосердия для создания резерва, так как, по примерным подсчётам, для мобилизации в случае войны их могло потребоваться около трёх тысяч. В 1893 году прогноз увеличился уже вдвое, тогда как РОКК мог предоставить в распоряжение военного ведомства лишь 1300 сестёр. Нужно было создавать новые общины.
В 1879 году в ведении РОКК, кроме вышеназванных, существовали: община сестёр княгини Барятинской, Александровский отдел сестёр Красного Креста в Санкт-Петербурге, общины в Гельсингфорсе, Тамбове, Вильне, Варшаве, Киеве – всего менее тридцати. К 1900 году их число увеличилось до 84. Географически они раскинулись от Архангельска на севере до Тифлиса на юге, от Варшавы на западе до Хабаровска на востоке.
Значительный вклад в становление благотворительных организаций в этот период внесли русские Императрицы Мария Александровна (супруга Александра II) и Александра Фёдоровна (супруга Николая II). Огромная роль в развитии Красного Креста принадлежала Великой княгине Елизавете Фёдоровне – старшей сестре последней русской Императрицы и супруге московского генерал-губернатора Великого князя Сергия Александровича.
Удивительно: все эти женщины, оказавшие столь значительное влияние на общественную жизнь России второй половины XIX – начала XX века, принадлежали к Гессен-Дармштадской династии, родоначальницей которой была католическая святая XIII века Елисавета Тюрингенская. На протяжении столетий её жизненный подвиг, жертвенное служение являлись для семьи образцом и примером для подражания.
Приняв православие, супруга Императора Александра II Мария Александровна покровительствовала русскому присутствию в Святой земле, развитию отечественной науки и искусств. Как попечитель многих православных обществ, особое внимание она уделяла учреждению общин сестёр милосердия, соединению подвига иночества и благотворительности. В некрологе по поводу её безвременной кончины газета «Неделя» [1880, № 21] отмечала: «Самое важное – самое незабвенное наследство, оставленное усопшей русскому Государству и народу, есть «Красный крест» […] Этим учреждением имя покойной Императрицы будет переходить из рода в род». Спустя несколько лет её сын Великий князь Сергий сочетается браком с гессенской принцессой Эллой, внучкой королевы Виктории, будущей преподобномученицей Елисаветой, прославленной в лике святых Русской Православной Церковью.
Перед Русско-японской войной, в 1896 году, в Москве под эгидой местного отделения Общества Красного Креста, председателем которого был Великий князь Сергий Александрович, и по инициативе московского Дамского комитета возникает Иверская община сестёр. С момента образования община находилась под высоким покровительством Великой княгини Елизаветы Федоровны и её супруга Великого князя Сергия Александровича. На всём протяжении своего существования Иверская община сохраняла тесные отношения с Елизаветой Фёдоровной, которая постоянно её поддерживала. В 1916 году это особо подчеркнул в приветственном слове Великой княгине духовник общины протоиерей Сергий Махаев.
В 1897 году в общине была открыта хирургическая клиника с операционной и шестью палатами на 16 коек. Стационарное лечение было платным. К началу XX века здесь уже трудилось 47 сестёр и 24 испытуемых – к этому времени помощь была оказана более чем 40 тысячам больных, половина которых была прооперирована.
Все общины сестёр милосердия в начале XX века находились в ведении Общества Красного Креста под покровительством овдовевшей Императрицы Марии Фёдоровны, супруги Александра III и матери Николая II. Их деятельность регламентировалась Общим уставом общин Красного Креста, утверждённым в 1903 году. Большую работу Мария Федоровна провела как глава «Ведомства учреждений Императрицы Марии» и Российского общества Красного Креста, которыми она руководила начиная с первых лет своего пребывания в России. По её инициативе в нескольких городах России (Санкт-Петербурге, Владивостоке, Хабаровске и Астрахани) была организована сеть складов для бесперебойного снабжения подразделений РОКК всем необходимым в случае войны или общественных бедствий.
С объявлением Русско-японской войны Великая княгиня сразу же взялась за создание учреждения, которое могло бы максимально эффективно организовать помощь фронту. Четвёртого февраля 1904 года вышел высочайший рескрипт на имя Великой княгини Елизаветы Фёдоровны от Императрицы Марии Фёдоровны, где говорилось: «…дабы объединить широкую благотворительную деятельность Москвы по притоку денежных и материальных пожертвований с дальнейшим направлением таковых лишь по указаниям Исполнительной комиссии Главного управления Красного Креста, Я признала за благо просить Ваше Императорское Высочество стать во главе организации по сбору в Москве пожертвований на нужды Красного Креста». Елизавета Фёдоровна незамедлительно ответила согласием.
Особый комитет Её Императорского Высочества для объединения в Москве благотворительной деятельности, вызванной войной на Дальнем Востоке, был основан 12 февраля 1904 года. Поскольку почётным председателем Московского местного управления РОКК и после смерти считался Великий князь Сергий Александрович, Елизавета Фёдоровна приняла звание товарища Его Императорского Высочества. Для оказания медицинской помощи и эвакуации раненых с Дальнего Востока была создана Исполнительная комиссия.
Согласно утверждённому ещё в 1890 году «Положению об эвакуации больных и раненых», средства на перемещение больных и раненых с места боевых действий, их размещение и призрение выдавала казна. Общество Красного Креста отказалось от их бесплатного размещения, и эту заботу взяла на себя Великая княгиня. Она предложила организовать эвакуацию больных и раненых, а также их размещение и содержание: снабжение бельём, одеждой, обувью и медицинскими средствами, призрение и контроль за выздоровлением. Военное ведомство охотно согласилось передать всё дело Комитету Её Высочества.
Ещё одной замечательной идеей Великой княгини Елизаветы Фёдоровны было устройство мастерских для помощи солдатам. Под них были заняты все залы Кремлёвского дворца, кроме Тронного. Склад, открывшийся в Кремле молебном 30 января 1904 года, стал принимать денежные и вещевые пожертвования, отправлять госпитальные грузы. Началось шитьё белья и теплых вещей, тысячи женщин трудились за швейными машинами и рабочими столами. Раздавалась и работа на дом.
На свои средства Елизавета Фёдоровна сформировала несколько санитарных поездов и отправила на фронт походные церкви. В Москве она устроила госпиталь для раненых, который сама постоянно посещала, создала специальные комитеты по обеспечению вдов и сирот погибших на фронте солдат и офицеров.
Самым крупным делом по денежным и организационным затратам было снаряжение летучих санитарных отрядов. В создании их участвовали Красный Крест Императрицы Марии Фёдоровны, благотворительные учреждения Императрицы Александры Фёдоровны и Особый комитет Великой княгини Елизаветы Фёдоровны. Обе столицы сформировали по десять летучих отрядов.
По поручению РОКК Особый комитет снарядил две баржи плавучего лазарета на 400 человек для эвакуации больных и раненых по рекам Сунгари и Амуру, начиная от Харбина. В сентябре 1904 года Елизавета Фёдоровна учредила «Елизаветинскую санаторию» для выздоравливающих воинов.
Седьмого февраля 1906 года Великая княгиня Елизавета Фёдоровна основала в Москве «Трудовое убежище увечных Русско-японской войны», рассчитанное на 50 человек. Расположилось оно около Тверской заставы в частном доме. Первоначально оно служило лазаретом, затем здесь стали обучать относительно работоспособных. Мастерские во главе с опытными мастерами-руководителями были оборудованы для обучения сапожному, портновскому и переплётному делу. Вырученные от продаж деньги шли на приобретение материалов и зарплаты.
Позже Комитет приобрёл для убежища здание во Всехсвятской роще, после чего его переименовали в «Сергиевско-Елизаветинское трудовое убежище увечных Русско-японской войны». При нём была устроена церковь во имя св. преподобного Сергия Радонежского Чудотворца и св. праведной Елисаветы.
Совместными усилиями учреждений РОКК в период Русско-японской войны (1904–1905 годы) получили помощь около 600 тысяч человек. Для предотвращения инфекционных заболеваний и эпидемий впервые было создано два бактериологических и восемь дезинфекционных отрядов, 22 санитарных поезда совершили 179 рейсов и перевезли более 87 тысяч раненых и больных.
После окончания Русско-японской войны Елизавета Фёдоровна решила продолжить деятельность. Новый Комитет, по её мысли, должен был оказывать разностороннюю помощь всем жертвам минувшей войны. Он был учреждён 20 сентября 1905 года, и Великая княгиня стала его почётным попечителем. Комитет делился на несколько комиссий. Первым его делом было устройство приюта для увечных, где проходило обучение ремеслу. Другой задачей было расширение приюта и создание новых, в том числе с мастерскими. Комитет занимался также «приисканием собственных занятий для пострадавших на войне офицеров и нижних чинов», содействовал офицерам и нижним чинам в получении пенсий и пособий и, наконец, помогал вдовам и сиротам с помещением в богадельни и приюты, с ходатайствами на пособия.
Все общины сестёр милосердия входили в Общество Красного Креста, которое основывалось в первую очередь на светских началах. Уход за больными становится особой профессией. Религиозная основа, служившая поначалу стержнем, уходила на второй план. В этих условиях совершенно особым явлением стала Марфо-Мариинская обитель. Этот плод эпохи христианского милосердия созрел в период, когда само оно клонилось к упадку. Елизавете Фёдоровне задачи новой обители представлялись более широкими, нежели традиционный уход за больными: «если Организация Красного Креста есть организация всемирная, то понятно, что благотворительность через Общины сестёр милосердия нисколько не обязывается быть выражением духа Православной Церкви. В связи с этим понятно, что в этих организациях вся сила полагается в практических занятиях по уходу за больными и прочих видах благотворения, мало сознавая истину учения Христа Спасителя о недугах греховных как причинах недугов телесных и всякого страдания и зла. По этой же причине забыт и путь истинных врачей в подвигах святых целителей и истинных сестёр милосердия, явленный в диаконисском служении».
Из этих строк отчёта за 1910 год ясно, что Елизавета Фёдоровна видела деятельность сестёр обители как восстановление церковного служения женщин-диаконисс в Православной Церкви. Таким образом, миссия обители явно выходила за рамки, установленные Красным Крестом.
С началом Первой мировой войны огромный труд по организации помощи раненым оказался бесценным. Военно-медицинская служба русской армии не справлялась с огромным потоком раненых. Не хватало кадров, имущества, лечебных учреждений. И Российское общество Красного Креста фактически организовало параллельное медицинское обслуживание раненых и больных на фронте и в тылу. Как и в годы Русско-японской войны, началась массовая подготовка сестёр милосердия на краткосрочных двухмесячных курсах. Если к 1912 году в общинах было 3442 сестры милосердия, то в 1914 году под эгидой Красного Креста уже активно действовало 150 школ, в которых было подготовлено 10 тысяч сестёр милосердия. За годы войны они спасли сотни тысяч жизней, а многие сами стали её жертвами.
Литература и источники
1. Августейшие сестры милосердия. М., 2008.
2. Волошун А. Блаженны милостивые. Благотворительная деятельность святой Великой княгини Елизаветы Федоровны. М, 2010.
3. Козловцева Е. Н. Московские общины сестёр милосердия в XIX – начале XX века. М., 2010.
4. Кучмаева И. К. Когда жизнь истинствует… Культура благотворения Великой княгини Елисаветы Феодоровны. М., 2008.
5. Ольденбург С. Царствование Николая II. М., 2003.
6. Отчёт состоявшей при Особом комитете Её Императорского Высочества Великой княгини Елизаветы Фёдоровны исполнительной комиссии по бесплатному размещению больных и раненых воинов, эвакуированных с Дальнего Востока в Русско-японскую войну. 14 июня 1904 года – 1 апреля 1906 года. М., 1907.
7. Письма преподобномученицы Великой княгини Елизаветы Феодоровны. М., 2011.
8. Подвижники Марфо-Мариинской обители милосердия. М., 2007.
9. Российский Красный Крест – листая страницы истории. М., 2012.
10. Российское общество Красного Креста. Исторический обзор деятельности. СПб., 1902.
11. Священномученик Сергий Махаев. Подвижницы милосердия: о подвиге русских сестёр милосердия. М., 2007.
http://www.espo-fond.ru/index.php/zhizn-obshchestv...t-ot-krymskoj-vojny-do-velikoj
|
Метки: красный крест |
Вера Гедройц Доктор медицины, профессор, первая в России женщина-хирург |

Место рождения:
с. Слободище, Орловская губерния, Украина
Место смерти:
Киев, Украина
Гражданство:
Биография
Доктор медицины, профессор, первая в России женщина-хирург, одна из первых женщин-профессоров хирургии в мире, поэтесса и прозаик.
В. И. Гедройц родилась в 1870 году в селе Слободище Брянского уезда Орловской губернии. Принадлежала к известному литовскому княжескому роду Гедройц. Училась сначала в Брянской прогимназии, где одним из её преподавателей был позднее ставший известным В. В. Розанов, а затем поступила в гимназию в Орле, откуда исключена за сатирическое стихотворение. После в Санкт-Петербурге В. И. Гедройц слушала лекции на медицинских курсах П. Ф. Лесгафта. Посещала революционный студенческий кружок, попала в поле зрения полиции и в 1892 году была выслана в поместье отца под надзор полиции.
В 1894 году вступила в фиктивный брак с Николаем Афанасьевичем Белозеровым и с новым паспортом бежала за границу в Швейцарию, где поступила на медицинский факультет Лозаннского университета. В 1898 году с отличием закончила университет со степенью доктора медицины и хирургии. Училась у известного хирурга Цезаря Ру, после в течение нескольких лет работала его ассистентом, затем в качестве приват-доцента читала специальный курс..
Болезнь родителей и смерть сестры вынудили В. И. Гедройц в 1900 году возвратиться в Россию. В 1902 году она подтверждает свой диплом, выдержав экзамен в Московском университете, и получает место хирурга в больнице Мальцовских заводов портландцемента в Калужской губернии, а уже через три года занимает должность главного врача районной Людиновской больницы[2]. В. И. Гедройц активно оперирует, принимает участие в работе медицинских обществ, помещает работы в российских и зарубежных научных журналах. Она сумела расширить и переоборудовать небольшую больницу, оснастить ее новым хирургическим инструментарием и оборудованием, впервые в провинциальной России превратив её в многопрофильный хирургический центр.
В 1905 году скрываемый ею от окружающих брак с Н. А. Белозеровым по желанию Гедройц был расторгнут (в 1907 году ей будет возвращен титул княжны и разрешено вернуться к девичьей фамилии).
В 1905 году во время русско-японской войны добровольно отправилась на фронт хирургом санитарного поезда Красного Креста. В. И. Гедройц одна из первых в истории медицины начала делать самостоятельно разработанные полостные операции в полевых условиях, прооперировав сотни пациентов. До того момента солдат, раненых в живот, оставляли умирать, так как такие раны считались безнадежными. За труды и мужество ее награждают золотой медалью «За усердие» на Анненской ленте, а после боев у Мукдена за героические действия по спасению раненых командующий армией генерал от инфантерии Н. П. Линевич лично вручает женщине-врачу серебряную медаль «За храбрость» на Георгиевской ленте. Императрица Александра Фёдоровна, занимаясь попечительством по отношению к раненым в Маньчжурии, отмечает ее тремя знаками отличия Красного Креста «за содействие в деле облегчения участи больных и раненых воинских чинов и за труды, понесенные по Российскому обществу Красного Креста».
27 июля 1905 года В. И. Гедройц представила результаты своей работы обществу военных докторов, сделав важные для военной медицины выводы.[3] Имя В. И. Гедройц как женщины-хирурга, как героя войны становится известным на всю страну. После войны она возвращается на Брянщину.
В 1909 году по приглашению императрицы Александры Фёдоровны занимает должность старшего ординатора Царскосельского дворцового госпиталя. Это назначение воспринимается директором госпиталя в штыки, но он был вынужден подчиниться монаршей воле. В. И. Гедройц становится близким человеком в императорской семье и домашним врачом детей царя. При этом отношения с Г. Распутиным и А. А. Вырубовой у неё были напряжённые.
Оказавшись в Царском Селе, она знакомится с Н. С. Гумилевым, Р. В. Ивановым-Разумником, А. М. Ремизовым, возобновляет знакомство с В. В. Розановым, позднее знакомится с С. А. Есениным. С 1910 года В. И. Гедройц выступает как писательница под аллонимом (именем покойного брата) Сергей Гедройц. Но первая её книга — сборник «Стихи и сказки» — вызвала отрицательные отзывы Н. С. Гумилёва и С. М. Городецкого. Однако вскоре В. И. Гедройц приняла участие в деятельности возглавлявшегося Гумилёвым «Цеха поэтов», под эгидой которого вышла её книга стихов «Вег» (1913; название — по-немецки «путь» и одновременно инициалы В. Г.). Печаталась в журналах «Гиперборее», «Заветах», «Новом журнале для всех», «Вестнике теософии» (в ряде стихов Гедройц ориентировалась на эзотерические откровения Е. Блаватской), «Современнике» и других.
В 1912 году защитила в Московском университете докторскую диссертацию «Отдаленные результаты операций паховых грыж по способу Ру на основании 268 операций» под руководством Цезаря Ру и П. И. Дьяконова. В 1914 году она издает книгу «Беседы о хирургии для сестер и врачей», где обобщает свой опыт, полученный во время русско-японской войны.
Начало Первой мировой войны в 1914 году В. И. Гедройц застала в должности главного врача. Она переоборудует Царскосельский госпиталь для приёма раненых. Масштабы работы хирургов многократно увеличились. В. И. Гедройц обучала работе сестер милосердия императрицу Александру Фёдоровну и ее дочерей Ольгу и Татьяну, которые затем ассистировали ей при операциях в качестве рядовых хирургических сестер.
В 1915 году ей было поручено лечение А. А. Вырубовой, получившей тяжелые травмы в железнодорожной катастрофе. По воспоминаниям А. И. Спиридовича: «Гедройц пользовалась большою симпатией Императрицы, но репутация ее, как врача, была далеко не важная. И позже, когда Вырубова осталась калекой на всю жизнь, — она хромала, — она сама, да и многие другие говорили, что тому виною исключительно госпожа Гедройц.»
После Февральской революции на неё как на приближённую царской семьи начинается давление и ей приходится покинуть Царское Село. В мае 1917 года В. И. Гедройц едет на фронт, где становится главным врачом перевязочного отряда в 6-й Сибирской стрелковой дивизии, а затем корпусным хирургом. В январе 1918 года она была ранена и эвакуирована в Киев, где после выздоровления работает в детской поликлинике. С 1919 года она активно работает в киевских хирургических службах, организуя, в частности, клинику челюстно-лицевой хирургии.
С 1921 года по приглашению профессора Е.Г. Черняховского работала в факультетской хирургической клинике Киевского медицинского института, где в качестве приват-доцента кафедры она впервые читает в Киеве курс детской хирургии. В. И. Гедройц печатает статьи в медицинских журналах по вопросам общей и детской хирургии, кардиохирургии, онкологии, эндокринологии, принимает участие в работе хирургических съездов, пишет учебник. В 1923 году избрана профессором медицины. В. А. Оппель отзывается о ней как о «настоящем хирурге, хорошо владеющем ножом», она пишет учебник по детской хирургии. В 1929 году В. И. Гедройц была избрана заведующей кафедрой факультетской хирургии.
В 1930 году, во время арестов и чисток против научной интеллигенции знаменитого «процесса СВУ» её увольняют из университета без права на пенсию.
Вера Игнатьевна купила дом в пригороде Киева, почти оставила хирургическую деятельность и стала заниматься писательской, задумав издание цикла полуавтобиографических повестей под общим названием «Жизнь». Издательство выпустило три из них: «Кафтанчик» (Л., 1930), «Лях» (Л., 1931), «Отрыв» (Л., б.г.).
Последние годы прожила в Киеве с графиней Марией Дмитриевной Нирод (1879—1965), остоя с ней в фактическом супружестве. Мария Дмитриевна была знакома с Верой Игнатьевной ещё по Царскосельскому госпиталю, где она работала медсестрой.
В. И. Гедройц умерла от рака в 1932 году. Похоронена в Киеве на Спасо-Преображенском (ныне Корчеватском) кладбище. В одной ограде со скромной могилой Гедройц — могилы архиепископа Ермогена и его родственницы — спасённый Верой Игнатьевной, он ухаживал за её могилой и завещал похоронить себя рядом с ней.
Незадолго до смерти Гедройц отдаёт друзьям - художнице И. Д. Авдиевой и ее мужу Л. С. Поволоцкому - свои архивы. Среди них было письмо на профессора Цезаря Ру, в котором тот завещал ей, российскому хирургу, кафедру хирургии Женевского университета. В 30-е годы Л. С. Половецкий будет арестован по обвинению в шпионаже и убит, а само письмо утеряно.
Колоритная фигура Веры Гедройц — хирурга и лирика, сохранявшей подчёркнуто «мужские» привычки в одежде и быту, «Жорж Санд Царского Села» — запечатлена во многих воспоминаниях, в том числе в беллетризованных воспоминаниях «Петербургские зимы» Георгия Иванова.
В честь Веры Гедройц названа больница города Фокино Брянской области, в которой она начинала свой врачебный путь.
 http://facecollection.ru/people/vera-gedroyc
http://facecollection.ru/people/vera-gedroyc
Украина
|
Метки: гедройц |
Дачное и Княжево |
Говорят, когда Пётр I пришёл на берега Невы и построил на них город Санкт-Петербург, он то ли проложил новую дорогу в свой Петергоф, то ли использовал уже существовавшую тропу, ведущую в резиденцию, и назвал её Петергофской Першпективой. По замыслу императора, эта дорога должна была подчеркнуть роскошь Петродворца, и он начал раздавать одинаково нарезанные участки вдоль неё своим сановникам для застройки. Их размеры были следующие: ширина и длина от дороги до залива - 100 сажен (213,4 м), длина от дороги до гор - 900 сажен (1920,24 м). Придворные сначала неохотно селились там, но уже совсем скоро на участки вдоль Петергофской дороги, так сказать, распространилась мода. Приближённые к императорскому двору только там и старались селиться и строить свои роскошные усадьбы.
Один из участков с 1770 года принадлежал Якову Александровичу Брюсу, двоюродному внуку знаменитого сподвижника Петра и последнему представителю этого рода. По свидетельству Пыляева господский дом был деревянный, с бельведером, к нему примыкал большой английский сад с беседками, каналами, с прудом, островками и на пруду стояла роскошнейшая помпейская баня. От усадебного дома и двух стоявших по сторонам флигелей тремя лучами шли спуски к Петергофской дороге. А вглубь территории через лес была проложена прямая аллея - главная ось усадьбы. Умер Яков Александрович в ноябре 1791 года в своей усадьбе, о чём писал секретарь Екатерины II, Безбородко: "Брюс скончался после десятидневной болезни, ко всеобщему прискорбию всего города. Он был дежурный, когда занемог и прислал ко мне трость, а пред тем за три дня обедал у Стрекалова, откуда садясь в карету, пришиб ногу, к сему пристала рожа и подагра. Сменясь от дворца, поехал домой и начал бредить; доктора были призваны, нашли, что ниже ушибленного места уже антонов огонь, а подагра в желудке"
Затем имение переходило из рук в руки, было в собственности и князя Фёдора Щербатова. А после отмены крепостного права в 1861 году и строительства Балтийской железной дороги, пролёгшей через эти места, в 1870-х гг. здесь уже были одиночные деревянные дома, сдававшиеся под дачи.
В начале XX века участок выкупил дворянин Максимович Сергей Константинович (сын небезызвестного Константина Клавдиевича). Он решил здесь устроить целый дачный посёлок, участки которого можно было бы выгодно сдавать в наём. И план посёлка Дачное был утверждён строительным отделением Санкт-Петербургского губернского правления 20 июля 1904 года. Центральной улицей посёлка стала та "аллея Брюса", названная Екатерининским проспектом.
А по соседству с ним появилось и поселение Княжево, увидевшее свет 24 мая 1906 года благодаря усилиям князя Куткина Николая Евгеньевича. Его центральной улицей стал Трамвайный проспект. До него здесь в XVIII-XIX веках также находились дачи вельмож, в частности, имение Льва Нарышкина «Левендаль». Со временем часть земель перешла во владение немецких колонистов Шеферов и Берчей.
Вот как вспоминал Леонид Германович Питкянен (опубликовано Гольцовым в "Невском архиве"):
Скопив на необходимую для взноса сумму, отец в 1907 приобрёл в Дачном участок в 15 соток на Екатерининском проспекте...
Участок на три четверти был покрыт густым лесом и подлеском и поэтому имел прелестный вид. Имение Дачное было хорошо распланировано, имело леса, копаные пруды с купальней и лодками, дубовые и липовые аллеи. Наискосок его пересекал Попов ручей {река Дачная, что течёт между Лёни Голикова и Хрустицкого} с живописными берегами. По Петергофскому шоссе имение простиралось только на 213,4 метра. Эта ширина была установлена ещё со времен Петра Первого...
Листва и хвоя были столь густыми, что в полутора метрах не было видно друг друга...
Через дорогу от нашего дома осталась старая глиняная дорога, по сторонам затемненная громадными елями и соснами...
На Екатерининском проспекте в доме № 8 (барский усадебный дом) бывали танцы для молодежи, действовала "летучая почта". Играл духовой оркестр. Потом танцы перенесли в большой зал, в дом путейского инженера Антипова по Екатерининскому проспекту, 35...
В Дачном, начиная от Петергофского шоссе, застройка была только по левую сторону Екатерининского проспекта вплоть до дома-усадьбы № 8 и далее. Этот ряд из восьми домов носил название "казённые". Одноэтажные деревянные дома с мезонинами, дома-коттеджи, летом закрытые деревьями, были очень старой постройки, лет по 125...
Только дом № 1, смотревший фасадом на Петергофское шоссе, был каменный, одноэтажный, усадебного старинного типа, с колоннами на боковой стене. Белый цвет дома, красная черепичная крыша, колонны подсказывали, что его строитель - а возможно, и хозяин - происходил, скорее всего, с Украины, с Полтавщины. Улицы в Дачном тоже имели украинские названия - Полтавская, Харьковская, Лешко-Поппель - и южные - Крымский переулок, Байдарский переулок...
Зима 1921/1922 была... очень тяжелая, голодная. В эту зиму вырубили Полежаевский лес по обеим сторонам Балтийской железной дороги. На топливо уничтожили весь лес и в Дачном, которое было навсегда изуродовано
Дачное и Княжево в 1917-1918 гг. вместе входили в состав Московской волости Петроградского уезда Петроградской губернии, а затем так же вместе меняли административную принадлежность.
Перед войной в посёлках уже были индивидуальные дома и участки, где жили и отдыхали летом, а некоторые и зимой, петербуржцы. Особенно селились здесь рабочие Путиловского {Кировского} завода с семьями.
В годы Великой Отечественной уже через Урицк и Лигово проходила линия фронта, и деревянные пригородные посёлки одними из первых приняли на себя удар. Они были частично уничтожены обстрелами. А часть домов разобрали на оборонительные сооружения.
В 1961 году южнее реки Красненькой началась активная застройка пригородной территории хрущёвскими пятиэтажками, а в 1963 году сначала Княжево, а потом и Дачное вошли в городскую черту Ленинграда. Новый планировочный район получил название Дачное, перешедшее с посёлка на новые кварталы. В 1966-1977 годах работала станция метро «Дачное».
http://www.forum.aroundspb.ru/index.php?t=msg&th=16171&rid=0
|
Метки: санкт-петербург дворянские владения максимовичи |
Белый платочек и крест на груди… |
Белый платочек и крест на груди…
Военная медицина России в 1914-1917 гг. была одной из лучших в мире
Владимир Филиппов
03.02.2014

Осенью 1915-го войска Западного фронта Русской армии вели ожесточённые бои Первой мировой на белорусской земле. Рядом с деревней Мокрая Дуброва Пинского уезда располагался 105-й Оренбургский полк. Его славное боевое прошлое было отражено на полковом Георгиевском знамени с вышитыми словами «3а Севастополь в 1854 и 1855 гг.» и «1811—1911» (с Александровской юбилейной лентой). Полк уже несколько дней выдерживал непрерывные атаки неприятеля и мощные обстрелы немецкой артиллерии. Лазарет был переполнен ранеными. Врачи, сестры милосердия и санитары были измучены непрекращающимися перевязками, операциями и бессонными ночами.
Утром 9 сентября командир полка принял решение контратаковать немецкие позиции. И, когда после завершения артиллерийской перестрелки началась очередная атака немцев, 10-я рота 105-го Оренбургского полка первая, по приказу командования, бросилась на врага. В штыковом бою враг был разбит и оставил свои передовые позиции. В популярном иллюстрированном журнале «Искры» появилось сообщение: «…во время боя на одном из участков фронта наша сестра милосердия Римма Михайловна Иванова, невзирая на уговоры офицеров и брата, полкового врача, всё время перевязывала раненых под сильным ружейным и пулемётным огнём противника.
Видя, что командир и офицеры десятой роты родного полка оказались убитыми, и, сознавая важность наступившей решительной минуты боя, Римма Иванова, собрав вокруг себя нижних чинов роты, бросилась во главе их, опрокинула части противника и захватила неприятельский окоп.
К сожалению, вражеская пуля сразила женщину-героиню. Тяжело раненная, Иванова быстро скончалась на месте боя…».
Всех особенно потрясло то, что сестра милосердия была убита немецкой разрывной пулей, запрещенной Гаагской конвенцией, как недопустимо жестокое орудие убийства. Этот запрет еще до войны был введён в действие по инициативе России. Ее военный министр Дмитрий Алексеевич Милютин считал это оружие «чисто варварским средством, не оправдываемым никакими боевыми требованиями…». В докладе, написанном для выступления на довоенной европейской мирной конференции, он, в частности, отмечал: «В случае разрыва такой пули внутри человеческого тела рана будет смертельна и весьма мучительна, так как эти пули разлетаются на десять и более осколков. Сверх того, продукты сгорания порохового заряда, весьма вредно воздействуя на человеческий организм, делают страдания ещё более мучительными…».
Сообщение о подвиге храброй девушки облетело всю Россию… В столичных газетах опубликовали выписку из журнала боевых действий полка: «В бою 9 сентября Римме Ивановой пришлось заменить офицера и увлечь за собой храбростью солдат. Все это произошло так просто, как умирают наши герои». На родине героини в ставропольских газетах были опубликованы ее письма к родителям. Вот одно из них: «Господи, как хотелось бы, чтобы вы поуспокоились. Да пора бы уже. Вы должны радоваться, если любите меня, что мне удалось устроиться и работать там, где я хотела… Но ведь не для шутки я это сделала и не для собственного удовольствия, а для того, чтобы помочь. Да дайте же мне быть истинной сестрой милосердия. Дайте мне делать то, что хорошо и что нужно делать. Думайте, как хотите, но даю вам честное слово, что многое-многое отдала бы для того, чтобы облегчить страдания тех, которые проливают кровь. Но вы не беспокойтесь: наш перевязочный пункт не подвергается обстрелу…».
Георгиевская Дума Западного фронта получила ходатайство командира 31-го армейского корпуса генерала от артиллерии П.И. Мищенко: «Покойной доблестной сестре Римме Ивановой при отправлении тела воздайте воинские почести. Почту долгом ходатайствовать о награждении памяти ее орденом Св. Георгия 4-й степени и зачислении в список 10 роты 105-го полка».Это прошение было беспрецедентным, из всех удостоенных боевыми наградами женщин России этим орденом была награждена только Екатерина Великая, как основатель награды. Российские женщины награждались за боевые подвиги только солдатским Георгиевским крестом. Тем не менее, император Николай II согласился с предложением фронтовой Георгиевской Думы и утвердил 17 сентября 1915 г. указ о посмертном награждении фронтовой сестры милосердия, кавалера солдатского Георгиевского креста 4-й степени и двух Георгиевских медалей Риммы Михайловны Ивановой офицерским орденом Святого Георгия 4-й степени.
В прощальном слове на погребении героини протоиерей Семен Никольский сказал: «Франция имела Орлеанскую деву — Жанну д’Арк. Россия имеет Ставропольскую деву — Римму Иванову. И имя ее отныне будет вечно жить в царствах мира».
Этот подвиг был ярок, но не исключителен – десятки тысяч российских женщин на фронте или в тылу выполняли свой духовный и патриотический долг, спасая и опекая раненых воинов Русской армии. Причем это происходило вне зависимости от национальности, вероисповедания и сословной принадлежности. Любовь Константинова, 19-летняя сестра милосердия из города Острогожска, дочь уездного воинского начальника умерла от тифа на Румынском фронте, заразившись от спасаемых ею больных воинов. Не стала исключением и царская семья, все женщины которой, начиная с императрицы Александры Федоровны, стали или хирургическими сестрами милосердия или сиделками в военных лазаретах.
Прекрасно проявили себя жены российских офицеров, с первых дней войны ставшие сестрами милосердия и выполнявшие свой долг перед Отечеством так же достойно, как и их мужья. Как мы уже подчёркивали, это движение не знало национальных и религиозных различий. Поэтому неудивительно, что первой в России женщиной, призвавшей 1 августа 1914 г. в газете «Русский инвалид» жен офицеров идти в военные сестры милосердия, была супруга полковника артиллерии Али-Ага Шихлинского – Нигяр Гусейн Эфенди гызы Шихлинская, первая азербайджанская сестра милосердия.
Российские сестры милосердия направлялись на фронт или тыловые лазареты из 115 общин Общества Красного Креста. Самой крупной общиной, насчитывавшей 1603 человека, являлась община Святого Георгия, а петербургская Крестовоздвиженская община сестер милосердия, с которой начало свою деятельность Российское Общество Красного Креста (РОКК) насчитывала 228 сестер.
…Первую в истории общину сестер милосердия создал во Франции католический святой Викентий де Поль (Винсент де Поль) в 1633 г. Но святой христианский подвиг женщин – будущих сестер милосердия – начался еще раньше, со времен служения раненым, больным и обездоленным людям византийских православных диаконис. В подтверждение этому приведем слова о милосердной служительнице Фиве апостола Павла в его послании к Римлянам (около 58 г.): "Представляю вам Фиву, сестру вашу, диаконису церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницею многим и мне самому".
В 1863 г., в Швейцарии был организован Международный комитет помощи раненым, переименованный в 1867 г. в Международный Комитет Красного Креста (МККК). В этом комитете, членом которого стала Российская империя, был утверждён особый отличительный знак – красный крест, обеспечивающий медицинскому персоналу правовую защиту на поле боя.
Первую мировую войну Российское Общество Красного Креста встретило под патронажем супруги императора Александра III и матери Николая II, императрицы Марии Федоровны, до замужества датской принцессы. Императрица Мария Федоровна, ставшая любимицей русских воинов, главной своей благотворительной целью считала заботу о раненых и увечных солдатах, офицерах, вдовах и сиротах военнослужащих. Великая война застала ее во время визита в Данию и, смертельно ненавидя германскую захватническую политику, она срочно вернулась в Россию и возглавила организацию военных госпиталей, санитарных поездов и морских судов для начавшейся войны. В этой работе ей и Красному Кресту оказали помощь на местном и региональном уровне земские и городские союзы. Всероссийский земский союз помощи раненым и больным воинам, созданный 30 июня 1914 г., возглавил, кстати, князь Георгий Евгеньевич Львов, будущий глава Временного правительства.
Учитывая количество тяжелораненых среди командного состава Русской армии, РОКК создал специальный санаторий в Крыму для выздоравливающих офицеров и убежище для увечных воинов при Максимилиановской лечебнице. Под эгидой Красного Креста при общинах было срочно создано 150 школ для подготовки военных сестер милосердия.
Уже к концу 1914 г. на фронте действовало 318 учреждений РОКК, на фронтах и в тылу было развернуто 436 эвакуационных лазаретов на 1 миллион 167 тысяч коек. Было создано 36 санитарно-эпидемиологических и 53 дезинфекционных отряда, а также 11 бактериологических лабораторий. Перевозку раненых осуществляли санитарные поезда и госпитальные суда. И основными служащими и работниками там были женщины – сиделки и сестры милосердия.
Одной из важнейших задач деятельности сестер милосердия было взаимодействие с МККК в помощи военнопленным Русской армии, находившимся в лагерях стран Тройственного союза и Турции. По инициативе императрицы Марии Федоровны и МККК, а также Красного Креста Дании, в 1915 г. государства-противники на Восточном фронте договорились об обмене делегациями для осмотра лагерей военнопленных.
Русские солдаты и офицеры голодали, болели и умирали в этих лагерях, подвергаясь в плену изощренным пыткам и издевательствам. Широко применялись расстрелы за малейшее нарушение дисциплины или по прихоти охраны.
Отказ от незаконного требования работать на военных объектах рассматривался как бунт и приводил к массовым расстрелам. Свидетельства об этом были настолько красноречивы, что уже в следующую мировую войну, в 1942 г., руководство СССР сочло необходимым предать их гласности, очевидно, чтобы не возникало желания сдаваться в плен. Управлением государственными архивами НКВД СССР был издан специальный сборник Документов о немецких зверствах в 1914–1918 гг. (М.: ОГИЗ, Госполитиздат, 1942). Кто мог тогда предположить, что фашистская военная машина Второй мировой во много раз превзойдет по бесчеловечности отношение к пленным Первой мировой войны! Вот всего несколько примеров из материалов сборника 1942 г.
«…Когда в лагере Шнейдемюлле разнеслась весть о поражении германских войск под Варшавой, среди русских пленных царило радостное оживление. Обозленные неудачей германцы заставили пленных раздеться догола и продержали их на морозе в течение нескольких часов, издеваясь над ними и мстя таким образом за неудачу на боевом фронте…». Петр Шимчак, бежавший из германского плена под присягой показал следующее: «Однажды в лагерь были приведены четыре пленных казака, которых я узнал по нашитым на брюках лампасам желтого цвета….Привели первого казака, положили его левую руку на небольшой деревянный столбик, и один из германских солдат штыком-ножом последовательно отрубил половину большого и среднего пальцев и мизинца… Был приведен второй казак, и немцы прокололи ему дырки в раковинах обоих ушей, причем вращали конец штыка-ножа в разрезах с очевидной целью увеличить размер дырок…Третьему приведенному затем на место пытки казаку германский солдат ударом штыка, нанесенным сверху вниз, отрубил кончик носа…Наконец, привели четвертого. Что именно хотели сделать с ним немцы, неизвестно, так как казак быстрым движением вырвал у близстоявшего немца штык и ударил им одного из германских солдат. Тогда все немцы, их было человек 15, бросились на казака и штыками закололи насмерть...».
И это были не самые страшные пытки, которым подвергались русские военнопленные. О большинстве пыток и убийств просто тяжело писать из-за их чудовищности и изощренности…
Русские сестры милосердия самоотверженно, невзирая на всевозможные запреты, а зачастую и угрозы вражеской стороны, проникали в составе международных комиссий в эти лагеря и делали все возможное для разоблачения военных преступлений и облегчения жизни своим соотечественникам. МККК был вынужден официально обязать эти комиссии иметь в составе русских представителей военных сестер милосердия. Военнопленные боготворили этих женщин и называли их «белыми голубками».
Этим «голубкам» посвящены проникновенные строки, написанные в 1915 г. Николаем Николаевым:
Добрые, кроткие русские лица…
Белый платочек и крест на груди…
Встретишь тебя, дорогая сестрица,
Легче на сердце, светлей впереди.
Молодость, силы и душу живую,
Светлый источник любви и добра, -
Все отдала ты в годину лихую, -
Неутомимая наша сестра!
Тихая, нежная… Скорбные тени
В кротких очах глубоко залегли…
Хочется встать пред тобой на колени
И поклониться тебе до земли.
Уже неоднократно говорилось о том, что война, начавшаяся в 1914 г., была для своего времени беспрецедентной по численности жертв и масштабах жестокости. Об этом говорят и военные преступления по отношению к беззащитным санитарным отрядам и подразделениям Красного Креста, несмотря на их официальную защищенность всевозможными международными законами, конвенциями и соглашениями.
Санитарные поезда и госпитали с перевязочными пунктами обстреливались артиллерией и авиацией, несмотря на то, что установленные на них флаги и опознавательные знаки с красными крестами были видны со всех сторон.
Особенно лицемерно и недостойно со стороны противника было организованное германской стороной в 1915 г. широко разрекламированное судебное дело против вышеупомянутой сестры милосердия Риммы Ивановой, совершившей героический поступок. В германских газетах был опубликован официальный протест председателя Кайзеровского Красного Креста генерала Пфюля против ее действий в бою. Ссылаясь на Конвенцию о нейтралитете медицинского персонала, он заявлял, что «сёстрам милосердия не подобает на поле боя совершать подвиги». Забыв о том, что германские солдаты расстреляли девушку из оружия, заряженного запрещенными Гаагской конвенцией для применения в бою разрывными пулями, он имел наглость направить протест в Международный Комитет Красного Креста в Женеве. А в это время немецкие войска совершали газовые атаки и применяли разрывные пули по всему фронту Русской армии. В связи с этим русское командование предприняло самые решительные меры для защиты своих воинов и медицинского персонала. Вот, в частности, телеграмма главнокомандующего Северным фронтом генерала Эверта, отправленная в октябре 1915 г. начальнику штаба Верховного Главнокомандующего генералу Алексееву: «Минск 12 октября 11 ч. 30 м. вечера. В течение последнего времени замечается на всем фронте употребление немцами разрывных пуль. Полагал бы необходимым дипломатическим путем довести до сведения немецкого правительства, что если они будут продолжать употреблять разрывные пули, то и мы начнем стрелять тоже разрывными пулями, воспользовавшись для этого австрийскими ружьями и австрийскими разрывными патронами, которых у нас найдется достаточное количество. 7598/14559 Эверт».
Несмотря на все тяготы войны, к началу Февральской революции в распоряжении Русского Красного Креста находились одни из лучших военно-медицинских сил среди воюющих государств. В наличии имелось 118 медицинских учреждений, полностью укомплектованных и готовых принять от 13 до 26 тысяч раненых. В 2255 прифронтовых лечебных учреждениях, в том числе в 149 госпиталях, работало 2450 врачей, 17436 сестер милосердия, 275 помощников сестер, 100 фармацевтов и 50 тысяч санитаров.
Но всю эту слаженную систему стало разрушать своими «либерально-демократическими» действиями Временное правительство, которое начало свою губительную деятельность в области военной медицины с реорганизации Русского Красного Креста.
Созданная при его участии Национальная конференция работников Красного Креста в своей I декларации от 3/16 июля 1917 г. постановила: «Мы не прекратим борьбу, пока не будут полностью уничтожены пережитки прежнего Красного Креста, служившего самодержавию и чиновникам, пока не будет создан подлинный храм международной филантропии, каким станет новый российский национальный Красный Крест». Революционеры забыли, что филантропия — забота об улучшении участи всего человечества прекрасна в мирное время, а для того, чтобы победить врага, милосердию нужна строгая организация и военная дисциплина.
Российские сестры милосердия Великой войны… Какие испытания пришлось им пережить в этом мировом военном конфликте, поразившем все цивилизованные страны, а в дальнейшем, через две кровавых революции, пройти еще более страшные и беспощадные к России годы Гражданской войны. Но всегда и везде они были рядом со страждущими воинами на поле битвы.
Специально для Столетия
Фотографии
http://www.stoletie.ru/voyna_1914/belyj_platochek_i_krest_na_grudi_481.htm
|
Метки: первая мировая война красный крест |
Максимович, Константин Клавдиевич |
Максимович, Константин Клавдиевич
Поделись знанием:
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Максимович.
| Константин Клавдиевич Максимович | |||||||||
 |
|||||||||
| Дата рождения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место рождения |
неизвестно |
||||||||
| Дата смерти |
после 1917 |
||||||||
| Место смерти |
неизвестно |
||||||||
| Принадлежность | |||||||||
| Годы службы | |||||||||
| Звание |
прапорщик (1865) |
||||||||
| Командовал |
Уральское казачье войско и все войска Уральской области |
||||||||
| Сражения/войны | |||||||||
| Награды и премии |
|
||||||||
Константи́н Кла́вдиевич Максимо́вич (14 мая 1849 — после 1917) — российский военный и государственный деятель, генерал-адъютант (1904), генерал от кавалерии (6 декабря 1906).
Содержание
Биография
Образование получил в Пажеском Его Величества корпусе, по окончании которого в 1867 году выпущен в чине корнета в Лейб-гвардии Конный Его Величества полк. Проходил службу в полку (произведён в чин поручика - 28.03.1871, штаб-ротмистра - 30.08.1873. В 1974 году окончил Николаевскую академию Генерального штаба ( по 1-му разряду). 04.04.1876 года произведён в чин ротмистра, в чине полковника с 06.01.1879. В 1879 года зачислен в Свиту Его Величества в звании флигель-адъютанта). Участник русско-турецкой войны 1877-78. С 03.09.1884 года в должности командира 28-го драгунского Новгородского короля Вюртембергского Вильгельма II полка (г. Сумы, Харьковская губерния), с 16.03.1886 командующий, а с производством 09.04.1889 в чин генерал-майора - командир Лейб-гвардии Конно-Гренадерского полка (Старый Петергоф). С 28.11.1892 командир 1-й бригады (полки: лейб-гвардии Конно-Гренадерский и лейб-гвардии Уланский Ея Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны) 2-й гвардейской кавалерийской дивизии (Санкт-Петербург). С 24.02.1893 года назначен на должность военного губернатора Уральской области,наказного атамана Уральского казачьего войска и командующего всеми войсками, размещёнными в Уральской области. С 23.02.1899 года - войсковой наказной атаман Донского казачьего войска. 19.02.1905 назначен Варшавским генерал-губернатором и командующим войсками Варшавского военного округа. 15.08.1905 заменён генералом Г.А.Скалоном. С 21.12.1908 - вице-председатель состоящего под председательством Ея императорского Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны Комитета по приисканию мест воинским чинам, пострадавшим в войне с Японией, с 18.12.1915 - помощник командующего Императорской Главной квартиры.
После революции эмигрировал (по другим данным — расстрелян большевиками).
Награды
- Орден св. Станислава II степени с мечами (1878)
- Орден св. Владимира IV степени с мечами и бантом (1878)
- Золотое оружие (1878)
- Орден св. Станислава I степени (1892)
- Орден св. Анны I степени (1895)
- Орден св. Владимира II степени (1901)
- Орден Белого Орла (1904)
- Орден св. Александра Невского (1910)
- бриллиантовые знаки к Ордену св. Александра Невского (1913)
Источники
- САС-1.01.1913
- СГС-1.07.1908
- СГС-15.04.1914
- СГС-10.07.1916
Напишите отзыв о статье "Максимович, Константин Клавдиевич"
Ссылки
- [www.grwar.ru/persons/persons.html?id=1840 Максимович, Константин Клавдиевич] на сайте «[www.grwar.ru/ Русская армия в Великой войне]»
|
|||
|
Метки: максимовичи |
Отчего умер флигель-адъютант граф Нирод |
Беседы
Была ли операция неудачной?
Отчего умер флигель-адъютант граф Нирод
(Беседа с хирургом А.Е.Кожиным)
После операции умер флигель-адъютант граф Ф.М.Нирод.
Операцию графу делали хирурги А.Е.Кожин, Г.А.Свияженинов и другие.
Хирург А.Е.Кожин сообщил нам:
- У графа в почках камней не было и почечной операции ему производить не было необходимости. Граф страдал почечными болями и гнойным воспалением желчи в пузыре и мочевых путей. Кроме того, у покойного было воспаление легких. Сердце стало, не выдержало и больной скончался.
Гной проник к легкое, и спасти графа было трудно.
Сердце было утомлено. Умер больной на десятый день после операции.
Печенью покойный болел уже шесть-восемь лет.
С мая месяца его лихорадило и таким образом, гнойный процесс у графа уже начался с того времени.
Кто бы ни лечил графа, спасти его было невозможно.
Операция была сделана экстренно, как кажущееся единственное средство к спасению больного.
Операцию производил я вместе с другими врачами, в том числе и с помощником директора Мариинской больницы Г.А. Свияжениновым.
Вообще, всякая операция по своему характеру индивидуальна и исход ее зависит от многих и многих обстоятельств, включающих часто волю и знание врача-оператора.
А. Н-ский
Безвременная кончина на тридцать шестом году полного жизни, молодости и энергии флигель-адъютанта графа Федора Михайловича Нирода явилась полной неожиданностью для его окружающих.
Два года тому назад Ф.М. почувствовал приступы непонятного для него недомогания, на которые он мало, впрочем, обратил внимания и не принимал никакого систематического лечения. Доктора, к которым он обращался, очевидно, не поставили правильного диагноза. Лечили его от всевозможных болезней, но только не от той, которая явилась для него фатальной. В мае месяце нынешнего года покойный почувствовал себя худо и решил обратиться к серьезной медицинской помощи.
Медицинские авторитеты опять не сумели определить характера недуга и стали лечить его от болотной лихорадки.
Лечение, самое методичное, конечно, не могло принести ни малейшей пользы, ввиду совершенно неправильно произведенной аускультации и неверного определения болезни.
Только в самое последнее время, когда больной уже стал падать в обморок от боли, то в лазарете Великой Княгини Марии Павловны врачи определили, что их пациент уже давно страдает болезненными явлениями в области желчного пузыря и печени.
Лучшие военные врачи были приглашены из Петербурга к больному.
Составился консилиум из восьми врачей, которые сочли необходимым сделать больному операцию извлечения камней из печени.
Внешний вид больного был очень страдальческим. Ввиду потери аппетита, он чувствовал большую слабость и вид его был изнуренный. На правой стороне, в месте, где находится печень, образовалась большая опухоль, которая была вскрыта. Из печени было извлечено шесть камней. После операции, больной почувствовал улучшение и к нему стали даже допускать ближайших родственников.
В понедельник самочувствие больного стало ухудшаться и всю ночь с понедельника на вторник он испытывал тяжкие страдания.
Несмотря на все усилия врачей, во вторник в 8 часов утра Ф.М. скончался от «внутреннего кровоизлияния», как объяснили врачи.
Пользовал покойного в продолжении пребывания его в лазарете, консультант Николаевского военного госпиталя А.Е.Кожин, под наблюдением почетного лейб-хирурга А.А. Двукраева и других светил военного медицинского мира.
При больном неотлучно находились сестра милосердия госпожа Янсон, а также супруга покойного, графиня Мария Дмитриевна Нирод, рожденная Муханова.
Петербургская газета. № 212. Понедельник. 5 августа 1913 г.
Антисанитарное состояние жилищ – главная причина высокой смертности
Беседа с управляющим статистическим отделением приват-доцентом В.В.Степановым.
Проектируемое в Петербурге сооружение канализации вызвало крупные статистические работы.
Они уже выполнены в известной части городским статистическим отделением.
Канализационная комиссия пожелал знать распределение жителей города по кварталам, чтобы определить плотность населения.
Этот труд уже выполнен под руководством В.В.Степанова.
В беседе с нами управляющий статистическим отделом высказал следующее мнение, основанное на цифровых данных.
- Густота и плотность населения, по-видимому, не играют большой роли для Петербурга. Статистические данные показывают, что густо заселенные кварталы в центральных частях столицы дают весьма слабую смертность, и наоборот, кварталы с довольно редким населением на окраинах отличаются довольно высокой смертностью.
Смертность по кварталам колеблется в Петербурге от 14 до 50 на 1000 жителей.
Есть кварталы с чрезвычайно высокой смертностью на Выборгской стороне. В этом квартале находится тюрьма, и она влияет на число заболеваний и смертей.
Остановил мое внимание один из кварталов Спасской части. И опять для меня причина стала ясна – там находится приют для недоношенных детей.
Статистика этого рода наводит на след, указывая на некоторое санитарное неблагополучие в том или другом квартале.
Антисанитарное состояние жилищ – вот что способствует росту инфекционных заболеваний.
Петербургская газета. № 225. Воскресенье. 18 августа. 1913 г.
Для чего нужны ревизии аптек
(Беседа с врачебным инспектором господином Сулима)
Предсоит ли ревизия петербургских аптек?
Спрошенный нами по поводу слухов о предстоящей ревизии столичный врачебный инспектор С.С.Сулима
Любезно сообщил следующее:
- Ни о какой особой ревизии аптек нет и речи. На моей обязанности, как на ответственном лице столичного врачебного управления, лежит вообще регулярная ревизия всех петербургских 115 аллопатических и 5 гомеопатических аптек. И так как у меня и помимо этого масса обязанностей, то эта ревизия удается лишь в свободное время, и в течение года едва ли приходится обревизовать больше 2 десятков аптек.
- А чем вызываются вообще, эти ревизии?
- Обыкновенно я это делаю по собственной инициативе, иногда же приходится откликаться на ж
|
Метки: нироды |
Лето на даче (Ольга) |
- Рубрика: История рукоделия
- Виды творчества: Разные виды творчества
11 и 13 февраля 1903 г. состоялся последний в истории Российской империи придворный бал в Зимнем дворце, подготовка к которому длилась несколько месяцев. Его устроили к ознаменованию очередной годовщины дома Романовых. Для маскарада приглашенные на бал заказывали себе русские национальные костюмы в стиле XVII в.: бояр и боярынь, воевод, стольников, пушкарей, сокольничих, посадских людей и др.
Николай II был в костюме царя Алексея Михайловича, императрица Александра Федоровна – в наряде царицы Марии Ильиничны.
«Впечатление получилось сказочное, – писал очевидец события, – от массы старинных национальных костюмов, богато украшенных редкими мехами, великолепными бриллиантами, жемчугами и самоцветными камнями, по большей части в старинных оправах…».
До четырехсот человек танцевали на балу. Особенно понравился присутствовавшим русский танец в исполнении 20 пар, в котором солировали великая княгиня Елизавета Федоровна и княгиня З.Н.Юсупова графиня Сумарокова-Эльстон.
После окончания по пожеланию императрицы участники были запечатлены лучшими фотографами Санкт-Петербурга («Боассонн и Эгглер», «Рейссерт и Фличе», «Левицкий и сын», «К. Е. фон Ганн и Ко», Д.Асикритов, А.Ясвоин, Л.Городецкий и Е.Мразовская, Д.Здобнов, Ив. Войно-Оранский, Ренц и Ф.Шрадер и др.).

Императорская чета, Николай (в выходном платье царя Алексея Михайловича) и Александра Федоровна (в параодном костюме русской царицы)
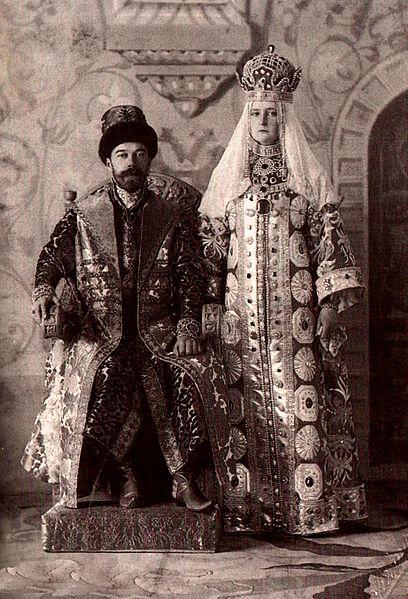

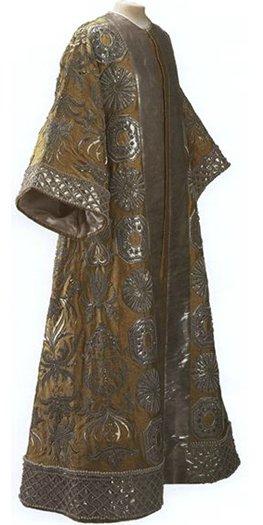
Великий князь Сергей Александрович, сын Александра II. Московский градоначальник.

Мария Николаевна Воейкова, фрейлина императрицы Александры Федоровны.

Константин Александрович Горчаков, светлейший князь из старинного рода, идущего от Рюриков.

Мария Павловна Мекленбург-Шверинская, жена Великого Князя Владимира Александровича, третьего сына Александра II. Придворный чиновник генерал А. А. Мосолов писал о ней в своих эмигрантских мемуарах: «Не существовало в Петербурге двора популярнее и влиятельнее, чем двор великой княгини Марии Павловны, супруги Владимира Александровича».
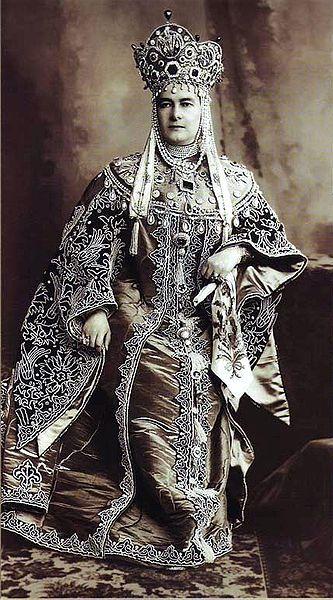


Его Императорское Высочество Андрей Владимирович, сын Марии Павловны. Был женат на Матильде Кшесинской.

Барон Феофил Егорович Мейендорф, русский генерал, участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг. и русско-японской войны.

Баронесса Эмма Фредерикс. Титул был пожалован ее предку Иоганну Фредириксу, придворному банкиру, в 1773 году "за прилагаемые старания к улучшению распространения коммерции".

Великая княгиня Мария Георгиевна в костюме крестьянки города Торжка. Дочь короля Греции Георга I и его жены Ольги Константиновны. Жена Великого Князя Георгия Михайловича.


Группа офицеров Лейб-гвардии Преображенского полка в нарядах Начальных людей из жильцов времён Царя Алексея Михайловича

Елизавета Федоровна, внучка английской королевы Виктории, сестра русской императрицы Александры Федоровны. Всю жизнь занималась благотворительностью. После гибели мужа, великого князя Сергея Александровича, продала свои драгоценности (отдав в казну ту их часть, которая принадлежала династии Романовых) и основала Марфо-Мариинскую обитель.
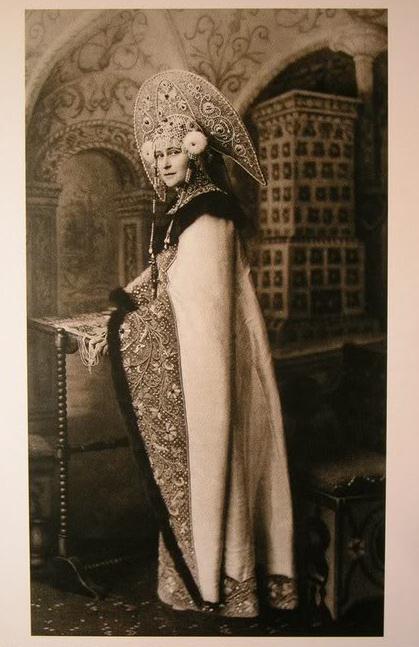
Великий князь Михаил Николаевич, сын Николая I, в костюме атамана запорожских казаков.

Княгиня Зинаида Николаевна Юсупова, в замужестве графиня Сумарокова-Эльстон в костюме боярыни XVII века. Одна из первых красавиц своего времени и любительница балов. Рассказывали, что, однажды протанцевав "до упада" в Зимнем, она по приезде домой почувствовала предродовые схватки, и скоро на свет появился князь Феликс-младший.


Великая княгиня Ксения Александровна, дочь Александра III, сестра Николая II.


Адъютант великого князя Владимира Александровича штабс-ротмистр А.А.Беляев в одежде жильца XVII века с женой М.Ф.Беляевой в костюме боярыни XVII века.

Адъютант великого князя Сергея Александровича князь Ф.Ф.Юсупов в костюме боярина XVII века.

Анна Александровна Танеева, в замужестве Вырубова. Прапраправнучка фельдмаршала Кутузова. Ближайшая и преданнейшая подруга Императрицы Александры Федоровны.

Гофмейстер (управляющий двором) А.С.Танеев в костюме боярина XVII века. Также был достаточно популярным композитором.

Александра Петровна Скоропадская (урожденная Дурново) в княжеском женском одеянии времен Дмитрия Донского.

Барон генерал-майор, начальник придворного оркестра Константин Карлович (Константин Николай) фон Штакельберг в костюме боярина XVII века.

Баронесса Я.А.(Ядвига Иоганна Александра) Фредерикс в костюме боярыни XVII века.

Гвардии полковник, командир 22-го Астраханского драгунского полка Е.И.Бернов в домашнем наряде боярина XVI века.

Графиня Вера Сергеевна Витте, приемная дочь С.Ю.Витте, в костюме боярышни XVII века.

Гвардии ротмистр, князь Н.П.Кропоткин в наряде стрельца Стремянного приказа времен царя Алексея Михайловича.

Графиня А.К.Зарнекау в костюме боярыни XVII века.

Граф, флигель-адъютант А.Д.Шереметев в костюме петровской эпохи

Графиня В.Д.Воронцова-Дашкова в костюме казачки XVII века.

Графиня С.А.Ферзен (урожденная княжна Долгорукова) в костюме боярышни XVII века.

Действительный статский советник, в должности шталмейстера высочайшего Двора Н.Н.Гартунг в костюме боярина XVII века.

Екатерина Ильинична Татищева (урожденная Бибикова) в костюме боярыни XVII века.

Княгиня А.В.Щербатова, урожденная княжна Барятинская, в костюме боярыни XVII века.

Княгиня В.М. Кудашева (урожденная Нирод) в костюме боярыни XVII века.

Княжна, фрейлина императриц Александры Федоровны и Марии Федоровны Н.М.Голицына в боярском летнике второй половины XVII века.

Мария Николаевна Лопухина, урожденная графиня Клейнмихель в костюме боярыни XVII века.

Мичман В.В.Солдатеков в одежде воеводы XVII века в боевом облачении, при приеме во внутренних покоях царя.

Н.В.Безобразова в костюме сенной барыни времен царя Алексея Михайловича.

Одна из участниц костюмированного бала - [Оболенская?] - в наряде боярышни XVII века.

Полковник А.А.Галл в одежде сокольничего XVII века.

Фрейлина великой княгини Марии Павловны, придворная дама великой княгини Елены Владимировны М.Ф.Мансурова в костюме мещанки Московской слободы XVII век.

Фрейлина высочайшего двора, княжна Л.Н.Лобанова-Ростовская в костюме боярышни XVII века.

Фрейлина императриц Марии Федоровны и Александры Федоровны графиня А.Д.Толстая в костюме боярышни XVII века.

Гофмейстер двора Граф Алексей Александрович Бобринский.

И его наряд

Фрейлина Мария Павловна Родзянко (урожденная княжна Голицына) в костюме боярыни XVII века.

Княгиня Наталья Федоровна Карлова, в девичестве Вонлярлярская.


Наши материалы о русском костюме и кокошниках.
https://www.livemaster.ru/topic/190511-poslednij-k...annyj-bal-imperatorskoj-rossii
|
Метки: дворянские развлечения |
С короля - на бал! |
Текст: Семен Экштут (доктор философских наук)
С короля - на бал!
Прототипы знаменитой карточной колоды "Русский стиль" танцевали на костюмированном балу 1903 года

Общее фото участников костюмированного бала в Зимнем дворце. Фото: В. Петров
Ход императрицы
Костюмированный бал, состоявшийся во время Масленицы 1903 года в Зимнем дворце, был грандиозен. А его изюминкой стала идея императрицы Александры Федоровны - запечатлеть для потомков участников, облаченных в исторические костюмы XVII века. Причем силами лучших фотографов Санкт-Петербурга. На основе дворцовой съемки Экспедиция заготовления государственных бумаг издала роскошный "Альбом костюмированного бала в Зимнем дворце", состоявший из десяти увражей (папок) большого формата. 21 гелиогравюра и 174 фототипии!
Как игральные карты стали "оружием" советской пропаганды
Но этим дело не ограничилось.
В 1913 году, накануне празднования 300-летия Дома Романовых, появится колода игральных карт "Русский стиль". А на них - участники того самого бала. Эта карточная колода переживет всех участников костюмированного праздника в Зимнем, вынесет смену политических режимов и благополучно доживет до наших дней. Однако и сегодня любители острых ощущений, играя в "дурачка" или преферанс, вряд ли догадываются, какая захватывающая история идет к ним в руки.
Расследование "Родины" привело к неожиданным результатам.
Эмоции царя
Вспоминает баронесса София Карловна Буксгевден, фрейлина императрицы Александры Федоровны:
"Императрица проявила особенный интерес ко всем приготовлениям к этому балу; она сама, с помощью директора музея Эрмитажа Ивана Александровича Всеволожского, представившего ей необходимую историческую информацию, оформила свой костюм и костюм императора. ... Мужчины и женщины из высшего общества соперничали друг с другом на этом балу. Из частных коллекций специально для этого случая извлекли великолепные посохи, драгоценности и меха. Офицеры нарядились в мундиры того времени, а придворные оделись в платья, принятые при дворе царя Алексея. Великие княгини были одеты подобно своим прародительницам, а их наряды создавались лучшими современными мастерами. Очаровательнее всех смотрелась на этом балу великая княгиня Елизавета Федоровна. Все танцевали старинные русские танцы, заранее тщательно разученные, - зрелище было поистине завораживающим"1.
Автопортрет художника-фронтовика нашелся на его знаменитой картине
Усилим зрелище зарисовками из недавно изданного дневника последнего русского царя. Не склонный к сантиментам император
Николай II не скрывал радостных эмоций по поводу бала, растянувшегося на три (!) вечера.
"11-го февраля. Очень красиво выглядела зала, наполненная древними русскими людьми. После ужина был небольшой котильон, во время которого 12 пар танцовали русскую пляску. Все вышло весьма удачно и кончилось в 2
13-го февраля. Четверг. В 9вдовствующая императрица Мария Федоровна. - С.Э.). Миша (великий князь Михаил Александрович, младший брат царя. - С.Э.) тоже приехал. Бал прошел весело, красиво и дружно. Русская пляска была очень удачна. Ужинали в Николаевской зале.
14-го февраля. Пятница. В 102 поехали на бал к графу А.Д. Шереметеву (Александр Дмитриевич, шталмейстер Двора Е.И.В., меценат и музыкант-любитель, начальник Придворной певческой капеллы. - С.Э.). Половина общества была "наша" - в исторических костюмах. Было повторение вчерашней русской пляски"3.
Конечно, спустя годы многое стало восприниматься иначе. Великий князь Александр Михайлович, удачно избежав гибели в Смуту и оказавшись в эмиграции, через десятилетия представит веселье в Зимнем роковым знамением: "Новая, враждебная Россия смотрела чрез громадные окна дворца. Я грустно улыбнулся, когда прочел приписку в тексте приглашения, согласно которому все гости должны были быть в русских костюмах XVII века. Хоть на одну ночь Никки (Николай II. - С.Э.) хотел вернуться к славному прошлому своего рода. ... Пока мы танцевали, в Петербурге шли забастовки рабочих, и тучи все более и более сгущались на Дальнем Востоке"4.
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Но в 1903 году двор веселится, не задумываясь о будущем.
Судьбы дам, валетов, королей
В колоде "Русский стиль" у некоторых карточных фигур были реальные и вполне узнаваемые прототипы. Создатель русской военной авиации великий князь Александр Михайлович был женат на сестре царя Ксении Александровне - ее фотография в костюме боярыни XVII века послужила основой для создания червовой дамы.
Великая княгиня Елизавета Федоровна, старшая сестра императрицы и супруга великого князя Сергея Александровича, облачившаяся в княжеский наряд XVII века, - это не кто иная, как дама треф.
Дневник разведчика, бравшего Берлин и верившего в вечную любовь
В пиковой даме проявилось сходство с княгиней Зинаидой Николаевной Юсуповой графиней Сумароковой-Эльстон, представшей на балу в костюме боярыни.
Бубновый валет - великий князь Андрей Владимирович (сокольничий в праздничном одеянии).
Трефовый валет - великий князь Михаил Александрович, младший брат царя, в полевом наряде царевича XVII века.
Прототипом бубновой дамы стала графиня Александра Дмитриевна Толстая, фрейлина Их Императорских Величеств Государынь Императриц Марии Федоровны и Александры Федоровны, в костюме боярышни. Впрочем, на эту карту могут претендовать и княгиня Вера Максимилиановна Кудашева, урожденная графиня Нирод, и София Петровна Дурново, урожденная светлейшая княжна Волконская. Очевидно, что в данном случае неизвестный автор эскиза не стремился добиться портретного сходства, а создавал выразительный обобщенный образ. И ему это удалось.
Неординарна ситуация и с червовым королем. Его костюм - это маскарадное одеяние Николая II. "На императоре была одежда, в точности воспроизводившая ту, которую носил в свое время царь Алексей, - "малиновая и белая с золотой вышивкой", писала императрица"5. Однако король лишь отдаленно напоминает царя Николая: придать большее портретное сходство с императором было бы непозволительной дерзостью и оскорблением верховной власти.
Зато пиковый король вне всякого сомнения похож на царя Ивана Грозного - достаточно взглянуть на известную картину художника Александра Дмитриевича Литовченко "Иван Грозный показывает сокровища английскому послу Горсею". Кстати, на этой исторической картине можно обнаружить щиты, окруженные древнерусским оружием и доспехами, - точь в точь, как на тузах в нашей колоде.
Прообразом трефового короля стал адъютант великого князя, главнокомандующего войсками гвардии и Петербургского военного округа Владимира Александровича есаул граф Михаил Николаевич Граббе6 в одежде жильца 1647 года. Оттолкнувшись от образа действительного статского советника, в должности шталмейстера высочайшего Двора Николая Николаевича Гартунга (фон Гартонга) и его костюма боярина XVII века, неизвестный художник нарисовал бубнового короля.
Картина Герасимова "Гимн Октябрю" посвящена событию, которого не было
А пиковый валет - это штабс-ротмистр, командир эскадрона Кавалергардского полка, адъютант великого князя Николая Михайловича Александр Николаевич Безак в костюме боярина XVII века.
Одним из прототипов червового валета послужил адъютант великого князя генерал-адмирала Алексея Александровича, лейтенант Николай Александрович Волков7 в костюме боярина XVII века. А еще - подпоручик лейб-гвардии Преображенского полка Николай Петрович Штер в наряде начального человека из жильцов времен царя Алексея Михайловича и корнет лейб-гвардии Конного полка Алексей Романович Тиздель в наряде сокольничего...
Костюмированный бал на масленицу 1903 года стал последним радостным событием времен царствования императора Николая II. Следом непрерывной чередой пошли лишь горести и печали: неудачная война с Японией, Кровавое воскресенье, Смута...
Чем потчевали гостей на этом костюмированном балу - читайте в разделе "Кухня Родины".
А карты "Русский стиль" остались в нашей жизни красивым напоминанием о самом зрелищном бале Российской империи.
Ах, какие это были дамы!..
Эскизы для карт "Русский стиль" были разработаны на немецкой фабрике карточных игр фирмы Дондорф (Франкфурт-на-Майне) в 1911 году.
Почему Дейнека не получил Сталинскую премию за "Оборону Севастополя"
В 1913 году карты были отпечатаны на Императорской Карточной фабрике (до 1860 года - Александровская мануфактура).
Фабрика с 1819 года осуществляла монопольный выпуск игральных карт в Российской империи: ввоз карт из-за границы был запрещен, чем устранялась всякая конкуренция.
Самовольная выделка карт частными лицами преследовалась по закону и влекла за собою конфискацию орудий производства и выделанных карт и денежный штраф от 100 до 500 рублей (ст. 1351 Уложения о наказаниях).
Если в 1901 году фабрика выпустила 5460 тысяч колод, то в 1912м - свыше 12 миллионов. Дюжина колод обходилась фабрике примерно в 98 копеек, а продавалась, в зависимости от сорта, по цене от 5 рублей 50 копеек до 12 рублей.
После революции карточная фабрика была закрыта на несколько лет. В 1923 году фабрика снова стала выпускать карты по дореволюционным эскизам.
КРАПЛЕНАЯ КАРТА
Бедные,бедные дети...
 На картах колоды "Русский стиль" первого выпуска было изображение пеликана, кормящего детей мясом своего сердца. Этот аллегорический знак сопровождался надписью: "Себя не жалея питает птенцов". Подразумевалось, что правительство вовсе не думает о собственной выгоде, а печется исключительно о благе детей-сирот.
На картах колоды "Русский стиль" первого выпуска было изображение пеликана, кормящего детей мясом своего сердца. Этот аллегорический знак сопровождался надписью: "Себя не жалея питает птенцов". Подразумевалось, что правительство вовсе не думает о собственной выгоде, а печется исключительно о благе детей-сирот.
Кухня Родины: Чем потчевали гостей на балу в Зимнем дворце в 1903 году
Считалось, что доход, получаемый от продажи карт, правительство обращает в доход Воспитательного дома и его несовершеннолетних питомцев - сирот и подкидышей.
Азартные карточные игроки были убеждены в том, что они своей пагубной страстью помогают детям. В рассказе Николая Семеновича Лескова "Интересные мужчины" один из героев так говорит: "... а сами - чтобы не заскучать - сели под вечерний звон "резаться", или, как тогда говорилось, "трудиться для польз Императорского Воспитательного дома".
Примечания
1. Цит. по: Дневники императора Николая II (1894-1918). Т. I (1894-1904). М.: РОССПЭН, 2011. С. 776.
2. Дневники императора Николая II (1894-1918). Т. I (1894-1904). М.: РОССПЭН, 2011. С. 711, 712, 713.
3. Александр Михайлович, великий князь. Книга воспоминаний. Глава XIII. Гроза надвигается // http://militera.lib.ru/memo/russian/a-m/13.html.
4. Цит. по: Дневники императора Николая II (1894-1918). Т. I (1894-1904). М.: РОССПЭН, 2011. С. 776.
5. С 1911 г. - командир лейб-гвардии Сводно-казачьего полка, с которым вступил в Первую мировую войну. Был награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. Позднее командовал 3-й бригадой 1-й гвардейской кавалерийской дивизии (1915), 4-й Донской казачьей дивизией (1915-1917). В мае 1916 года был назначен наказным атаманом области Войска Донского. Донской атаман в эмиграции. Председатель Союза Георгиевских кавалеров.
6. Командиром императорской яхты "Нева" (1909-1910) и канонерской лодки "Хивинец" (1910-1911). В 1912-1913 гг. - флаг-капитан штаба начальника бригады линейных кораблей эскадры Балтийского моря. В июле 1913 г. назначен военно-морским агентом в Англии и одновременно - членом русского правительственного комитета в Лондоне. В 1916 г. получил чин контр-адмирала и одновременно зачислен в Свиту Его Императорского Величества. После революции оставался в Лондоне морским агентом белых русских правительств.
7. Гарин Л.Ф. Художник и карты // Панорама искусств. Вып. 11: [Сб. статей и публикаций]. М.: Советский художник, 1988. С. 252-265 // http://www.den-za-dnem.ru/page.php?article=986.
|
Метки: дворянские развлечения |
Процитировано 1 раз
Вера Гедройц: княжна, гений-хирург |
|
|||||||
  |
|
||||||
|
Метки: гедройц |
Вера Гедройц: княжна, гений-хирург |
|
|||
  |
|
||
|
Метки: гедройц красный крест |
Дворцовый лазарет |
Дворцовый лазарет
- May. 10th, 2010 at 4:10 PM
Фотографии из фондов библиотеки Йельского университета (США)
Валентина Чеботарева. В Дворцовом лазарете в Царском Селе.
Дневник: 14 июля 1915 - 5 января 1918.
Новый журнал. Кн. 181, 182. Нью-Йорк, 1990
1915 год
...> 21-го операция Заливского прошла отлично. Шелк подавала Татьяна Николаевна, Ольга Николаевна инструменты, я — матерьял. Вечером опять приехали чистить инструменты, сидели все в страшной тесноте.
Открыли сами окна, сами притащили шелк. О[льга] Николаевна опять сказала: "Мама кланяется вам, Валентина Ивановна, особенно. А хорошо здесь, не было бы войны, мы и вас бы не знали, как странно, правда?" Скребли усердно мыльцем, спиртом, готовые инструменты сами клали в шкап. Офицеры удивлялись: "Ведь есть денщики, отчего вы себе руки портите!"
Императрица Александра Федоровна и старший врач лазарета княжна В.И.Гедройц в перевязочной
26 июля
...> Начали работать императрица и великие княжны в августе 1914. Сначала как они были далеки! Целовали руку, здороваясь с княжнами, и этим дело кончалось.
Вера Игнатьевна читала лекции в их комнате с полчаса, там всегда была Анна Александровна, затем шли на перевязки, княжны – солдат, государыня и Анна Александровна – офицеров.
Великие княжны Ольга Николаевна, Татьяна Николаевна и рядовой Безденежных 110 пех. Камского полка
Семь фотоальбомов, в которых, в основном, запечатлены члены семьи последнего русского царя были приобретены Робертом Брюстером у Анны Вырубовой и переданы в дар Йельскому университету.
Приведенные здесь фотографии заимствованы из альбома 3, стр. 37-71. Большинство из них выполнены в августе - декабре 1914 года
Во дворе госпиталя. Слева А.Вырубова, справа кн. В.И.Гедройц
27 июля.
...> 2-го января я вечер была дома, дежурила графиня. В одиннадцатом часу позвонил М.Л. Слышал о страшной катастрофе - Вырубова тоже пострадала, кажется, ноги отрезаны, "повезли к вам в лазарет".
Как стало жутко и первая мысль: "Господи, избавь государыню от этого нового горя потерять близкого, любящего человека!" Кинулась в лазарет. Направо, в конце коридора, на носилках стонал пострадавший художник Стреблов, подле возились Эберт, Мухин; Вера Игнатьевна была налево, в императорской комнате. Оказывается, как только дали знать императрице о несчастьи, она собрала все свои силы и поехала. Присутствие духа поразительное. Помогала выносить всех, сама всем распоряжалась, устроила ей кровать в своей комнате, нашла силы приласкать расплакавшуюся Грекову. По телефону сказали, что ноги уже обе отрезаны. Императрица погладила Грекову по голове, поцеловала и сказала: "До последней минуты я всегда надеюсь и еще не верю, Бог милостив".
Около 10-ти часов привезли. Каким-то чудом Вера Игнатьевна оказалась во встречном поезде, наткнулась на Сабурова, кричавшего: "Аня Вырубова искалечена, не могут вытащить из-под вагона!"
Два часа стояла подле нее на снегу и помогала отвезти - к нам. Страдания невероятные. Осмотреть ее не удается — кажется, сломан крестец — при малейшей попытке дотронуться — нечеловеческий стон, вой. Коридоры полны народа, тут и Воейков, флигель-адъютант, Комаров, масса придворных, старики Танеевы бродят растерянные, не отказались все же закусить.
Татьяна Николаевна, нежно взяв под руку старуху Танееву, прошла с ней по коридору, заплаканная.
Послали за Григорием. Жутко мне стало, но осудить никого не могла. Женщина умирает; она верит в Григория, в его - святость, в молитвы. Приехал перепуганный, трепаная бороденка трясется, мышиные глазки так и бегают.
Схватил Веру Игнатьевну за руку: "Будет жить, будет жить..." Как она сама мне потом говорила, "решила разыграть и я пророка, задумалась и изрекла: "Будет, я ее спасу".
Несмотря на трагизм минуты, государь не мог не улыбнуться, сказав; "Всякий по-своему лечит".
Государь приехал в первом часу ночи, грустный, но, главное, видно, озабоченный за императрицу,
С какой лаской он за ней следил и с некоторым беспокойством всматривался в лица офицеров: как-то будет встречено появление наряду с ними этого пресловутого старца.
Государь долго говорил с Верой Игнатьевной, подробностей не знаю, но он, безусловно, ни в какую святость и силу Григория не верит, но терпит, как ту соломину, за которую хватается больная исстрадавшаяся душа.
Сюда поместил Анну Александровну нарочно, "чтобы и она, и остальные были в здоровой обстановке, если возможно, удаленные от кликушества".
Старший врач Дворцового лазарета княжна Вера Игнатьевна Гедройц
Вера Игнатьевна поставила условием, чтобы Григорий ходил через боковой подъезд, никогда среди офицеров не показывался, чтобы его Акулина-богородица не смела переступать порога, отделяющего коридор, где императорская комната и перевязочные, от остального помещения.
Стеклянные двери были закрыты и на следующее утро завешены полотняными портьерами. Но все это были меры страуса, прячущего голову.
Все знали о каждом его появлении и большинство мирилось, верно понимая, что нельзя отказать умирающей женщине в ее просьбе. Но невольно какая-то тень бросалась на светлый, обожаемый облик, и что-то было надломлено... Анна Александровна ветретила Григория словами: "Где же ты был, я так тебя звала. Вот тебе и ясновидение, не почуял на расстоянии, что с его Аннушкой беда приключилась!" Остался дежурить на всю ночь. Царская семья уехала около часу. У государыни нашлись силы всем нам пожать руки, улыбнуться. Вот несчастная!
Императрица Александра Федоровна обрабатывает рану. Слева Великая княжна Татьяна, справа княжна В.И.Гедройц
30 июля
...> Среди операции перенесли ужасную минуту. Вера Игнатьевна говорит: "дренаж", а о нем никто и не подумал. Счастье, что я, по своей мании все стерилизовать, прокипятила жгут и спрятала его в стеклянную банку. Мигом выхватила и подала, но час еще после все внутри прыгало и дрожало.
Княжны мне шепнули:: "После отъезда мамá мы останемся, поможем вам чистить инструменты". И милые детки работали до 8-го часу. Татьяна Николаевна скальпелем обрезала палец, кровь текла довольно сильно и лучше, пожалуй, хотя нож был чист, но мог попасть грязный порошок в ранку.
Подле сидели Мел. Адам, и Шах Багов. Сколько поэтической ласки вносит Татьяна Николаевна! Как она горячо отзывалась, когда вызывала по телефону и прочла телеграмму о его ранении.
Какая она хорошая, чистая и глубокая девочка! Молодость тянет к молодости, и как светятся ее глазки! Ужасно хорошая!
...> Вспомнилась сценка из безмятежных дней, когда с фронта шли радостные вести, и в лазарете царил тихий, счастливый покой. В конце апреля или в начале, не помню точно, государыня бывала каждый день, бодрая, чудная, ласковая.
После перевязок часами сидела у постели Варвары Афанасьевны, туда приходили и раненые. Государыня и княжны работали, шутили, смеялись.
Императрица Александра Федоровна подает инструменты во время операции. Позади стоят Вел. княжны Ольга и Татьяна. Оперирует кн. В.И.Гедройц. 4-я слева А.Вырубова
1 августа
...> Как тяжела была смерть Корвин-Пиотровского! Я была ночной дежурной и всю ночь сидела подле бедняги, и ему грозила ежесекундная смерть. С правой стороны вздулась опухоль в кулак. Каждые пять минут он менял положение. Гладила его по руке... Казалось, немного забывался и спал с перерывами. Наутро бодро поехал на операцию.
Начало было недурно, но как-то щемящим предчувствием сжималось сердце, как увидела Деревенько, этот злой дух наш, а porte malheur. Артерии Вера Игнатьевна перевязала, дала держать Эберману и вдруг артерия перервалась, кровь хлынула рекой, и тут Вера Игнатьевна проявила чудеса ловкости, мигом отшвырнула Эбермана и одним движением зажала бьющий фонтан.
Но легкие уже насытились кровью и всем слышен был роковой свист. Наркоз прекратили, но пульс стал падать, лицо посинело, остановившиеся стеклянные глаза не реагировали ни на свет, ни на прикосновение.
Все попытки вызвать искусственное дыхание, опрокидывание головы вниз — ничто не помогало. В жизни не забуду этой первой смерти, что пришлось видеть. Два-три каких-то беспомощных всплескивания губами — и все кончено.
Человека не стало, Какая мертвая тишина наступила... Сестры, и Ольга, и Татьяна, плакали. Государыня, как скорбный ангел, закрыла ему глаза, постояла несколько секунд и тихо вышла. Бедная Вера Игнатьевна моментально ушла к себе. До чего ей было тяжело; у всех врачей был сконфуженный, но виноватый вид.
Драматично еще то, что жена его не получила телеграммы, ехала, уверенная, что он легко ранен и первым делом наткнулась на денщика: "Где барин, проведи меня скорей", а тот по простоте душевной брякнул: "Вот здесь, в часовне".
Императрица Александра Федоровна обрабатывает рану головы. 1-я и 3-я слева Великие княжны Ольга и Татьяна, 2-я слева А.Вырубова, 4-я слева кн. В.И.Гедройц
21 октября.
...> Занятно, чем кончится история Б.Д. Офицеры-преображенцы переоделись извозчиками и повезли кататься сестер – скандал и шум. Шаховская, конечно, не преминула обратиться к Вырубовой. Государыня взглянула очень строго, офицеров перевели в другой лазарет, а сестер, возможно, вышибут.
Шаховская свою кузину на их место. Но, говорят, без крупной истории не обойдется, расскажут все эскапады Шаховской, но захотят ли их выслушать!
24-го октября.
Все эти дни государыня приезжает, мила, ласкова и трогательна, говорила и со мной ласково и приветливо. Оказывается, мяса и рыбы не ест по убеждению: "Лет десять-одиннадцать тому назад была в Сарове и решила не есть больше ничего животного, а потом и доктора нашли, что это необходимо по состоянию моего здоровья". Сидела долго с работой в столовой.
Одна из княжон играла в пинг-понг, другая в шашки, кто читал, кто болтал, все просто и уютно. Государыня сказала Варваре Афанасьевне:
"Посмотрите, как малышки забавляются, как эта простая жизнь позволяет отдохнуть... большие сборища, высшее общество — брр! Я возвращаюсь к себе совершенно разбитой.
Я должна себе заставлять говорить, видеться с людьми, которые, я отлично знаю, против меня, работают против меня... Двор, эти интриги, зта злоба, как это мучительно и утомительно.
Недавно я, наконец, была избавлена кое от кого, и то лишь когда появились доказательства. Когда я удаляюсь из этого общества, я устраиваю свою жизнь как мне нравится; тогда-говорят: "она — экзальтированная особа"; осуждают тех, кого я люблю, а ведь для того, чтобы судить, надо все знать до деталей. Часто я знаю, что за человек, передо мной; достаточно на него раз взглянуть, чтобы понять: можно ему доверять или нет" (пер. с франц.)
Бедная, несчастная... Такой она мне и рисовалась всегда — сама чистая и хорошая, цельная и простая, она томится условностью и мишурой большого света, а в грязь Григория она не может поверить. В результате — враги в верхних слоях и недоверие нижних.
...> Сегодня Татьяна Николаевна сначала приехала одна: "Ведь я еду сюда, как в свой второй дом", и, действительно, такая милая и уютная была. Побежала со мной в кухню, где мы готовили бинты.
Государыня посмеялась и сказала, что Татьяна, как хорошая домашняя собачка, привыкла. Бедная Ольга Николаевна совсем больна — развилось сильнейшее малокровие, уложили на неделю в постель, но с разрешением приезжать в лазарет на полчаса для вспрыскивания мышьяка.
Во дворе госпиталя. Стоят слева направо: кн. В.И.Гедройц, корнет Карангозов, Вел. княжна Татьяна, Императрица Александра Федоровна, А.Вырубова. Сидит справа Вел. княжна Ольга
4 декабря.
...> И почем знать, что за драму пережила Ольга Николаевна. Почему она так тает, похудела, побледнела: влюблена в Шах Багова? Есть немножко, но не всерьез. Вообще атмосфера сейчас царит тоже не внушающая спокойствия.
Как только конец перевязок, Татьяна Николаевна идет делать вспрыскивание, а затем усаживается вдвоем с К. Последний неотступно пришит, то садится за рояль и, наигрывая одним пальцем что-то, много и горячо болтает с милой деткой. Варвара Афанасьевна в ужасе, что если бы на эту сценку вошла Нарышкина, мадам Зизи, то умерла бы.
У Шах Багова жар, лежит. Ольга Николаевна просиживает все время у его постели. Другая парочка туда же перебралась, вчера сидели рядом на кровати и рассматривали альбом. К. так и жмется. Милое детское личико Татьяны Николаевны ничего ведь не скроет, розовое, возбужденное. А не вред ли вся эта близость, прикосновения. Мне жутко становится.
Ведь остальные-то завидуют, злятся и, воображаю, что плетут и разносят по городу, а после и дальше. К. Вера Игнатьевна посылает в Евпаторию — и слава Богу. От греха подальше. Вера Игнатьевна говорила мне, будто Шах Багов, нетрезвый, кому-то показывал письма Ольги Николаевны. Только этого еще недоставало! Бедные детки!
Татьяна Николаевна — чудная сестра. 27-го, в день возвращения Веры Игнатьевны, взяли Смирнова в перевязочную. Температура все держалась, пульс скверный, решен был прокол после пробного укола. Игла забилась сгустками гноя, ничего не удавалось высосать, новый укол, и Вера Игнатьевна попадает прямо на гнойник; потек густой, необычайно вонючий гной. Решают немедленно прорез. Забегали мы, я кинулась фильтровать новокаин и кипятить, Татьяна Николаевна самостоятельно собрала и вскипятила все инструменты, перетаскивала столы, готовила белье.
Через 25 минут все было готово. Операция прошла благополучно. После разреза сперва с трудом, а потом рекой полился невероятно вонючий гной. Первый раз в жизни у меня был позыв к тошноте, а Татьяна Николаевна ничего, только при жалобе, стонах личико подергивалось, да вся стала пунцовая. К вечеру у Смирнова пульс стал падать, в 9 часов приехали Ольга Николаевна и Татьяна Николаевна чистить инструменты.
К. опять на лесенке рядом с Татьяной Николаевной. Детки были веселые, оживленные. В 10 часов пошли к Смирнову перед отъездом, и жизнерадостность разом пропала. Глаза закатились, в груди клокотанье, каждый час вспрыскивали то спермит, то камфору. Мы с Варварой Афанасьевной решили остаться, послали за родными, за священником.
Исповедался, причастился, глаза оживились, внимательно на всех глядел, совсем ясно говорил, трогательно простился с батюшкой: "Спокойной ночи, батюшка", — но клокотанье не прекращалось, к утру уже никакие вспрыскивания не помогали, пульс пропал, вздохнул два раза и кончился.
На панихиду и отпевание приехала и государыня, ужасно худенькая и грустная. К. приказала оставить санитаром.
7 декабря.
...> Вчера великие княжны в 6 часов вечера вызвали к себе Варвару Афанасьевну, как всегда мило ее ласкали. Между прочим, Татьяна Николаевна спросила: "Как вы думаете, когда сегодня легла мать? В 8 утра! — Очевидно, всю ночь провела подле постели Алексея Николаевича. — Через полчаса встала и поехала в церковь". Княжны при Варваре Афанасьевне переоделись, выбирали драгоценности. Ольга сказала: "Жаль только, что некому мною наслаждаться, один папá!". Полное отсутствие кокетства. Раз, два — прическа готова (прически нет), в зеркало и не взглянула.
Но строгости все же большие. Анастасию не взяли обедать, рано должна ложиться спать, потому обедала вдвоем с няней на своем громадном одиноком "верху". Перед тем, когда Варвара Афанасьевна была у них — Ольга была - больна, — Нюта принесла граммофонную пластинку "Прощай Lou-Lou". Отголоски, очевидно, лазаретных впечатлений.
Грустно бедным деткам живется в блестящей клетке.
Великие княжны Мария и Анастасия в палате Дворцового лазарета
Персонал Дворцового лазарета
Врачи:
Княжна Гедройц Вера Игнатьевна, старший врач, доктор медицины.
Вельский Г. И. и Реймерс Е. К. - младшие врачи.
Исаев Н. П., Петрикин С. И., Митюк П. Н. (до 1 янв. 1915) - заурядные врачи.
Карпов Евгений Петрович и Неделин Н. В. (с 1 янв. 1915).
Деревенко Владимир Николаевич (1879-1936), доктор медицины, почетный лейб-хирург.
Последовал за царской семьей в Тобольск, затем в Екатеринбург. В качестве врача Отряда особого назначения находился при Романовых в тобольской ссылке и лечил наследника Алексея Екатеринбурге. После расстрела царской семьи работал в госпиталях Красной Армии. Позднее неоднократно подвергался арестам ГПУ. Приговорен к пяти годам лишения свободы.
Помимо Дворцового лазарета работал также в лазарете Большого дворца".
Эберман Александр Александрович, доктор медицины .
Аудер А.И. (до 1 янв. 1915), Рыбаков А.А. (с 1 янв. 1915) - студенты .
Эберт, Мухин, (ординаторы?) .
Персонал Дворцового лазарета
Медицинские сестры:
Императрица Александра Федоровна (1872-1918),
Великие княжны Ольга Николаевна (1895-1918) и Татьяна Николаевна (1897-1918).
Чеботарева Валентина Ивановна (ок.1879-1918) - старшая сестра, жена генерал-майора П.Г.Чеботарева,
Вильчковская Варвара Афанасьевна - сестра милосердия, жена полковника С.Н.Вильчковского, председателья Царскосельского эвакуационного комитета, автора путеводителя по Ц.Селу.
Хитрово Маргарита Сергеевна (1895-1952), фрейлина, сестра милосердия, последовала за царской семьей в Тобольск. По личному приказу Керенского арестована (22.8.1917) и доставлена под конвоем в Москву.
Состояла в переписке с царской семьей во время их заключения. В эмиграции вышла замуж за В. Г. Эрдели. Скончалась в Нью-Йорке.
Грекова Ольга Порфирьевна , дочь донского казачьего генерала, после революции вышла замуж за барона Д. Ф. Таубе .
Вырубова (ур. Танеева) Анна Александровна (1884-1964), фрейлина Двора, близкий друг царской семьи.
Нирод Мария Дмитриевна (урожд. Муханова) (1879 - 1965), хирургическая сестра с 1915 года, жена флигель-адъютанта поручика лейб-гвардии Конного полка графа Федора Михайловича Нирод.
После революции жила вместе В.И.Гедройц в Киеве.
Рейшах-Рит Н.А., супруга графа Бориса Леонидовича Рейшах-Рит, ротмистра, офицера Придворной конюшенной части, сотрудника Царскосельского Красного Креста.
Добровольская, Любушина, Масленникова, Анненкова.
Колзакова Ольга Яковлевна, подруга великой княжны Ольги Николаевны.
Боткин Евгений Сергеевич (1865 -1918), лейб-медик, расстрелян в Екатеринбурге вместе с царской семьей.
Упоминается его участие в работе Дворцового лазарета
Оригинал записи и комментарии на LiveInternet.ru
|
Метки: первая мировая война красный крест лазареты гедройц романовы нироды царское село |
Процитировано 1 раз
Понравилось: 1 пользователю
Дом Ф. Ф. Гернгросса - Дом М. Д. Нирод |
Дом Ф. Ф. Гернгросса - Дом М. Д. Нирод
Литейный пр., 28
Артиллерийский пер., 1
| Архитекторы: | Стасов В. П. Козлов С. С. |
| Год постройки: | 1811-1813, 1902-1903 |
| Стиль: | Модерн |
Дом Ф. Ф. Гернгросса -
Дом М. Д. Нирод (кустарный склад и магазин) Модерн (Кириков)
1770-1780-е - автор не установлен
1811-1813 - арх. Стасов Василий Петрович
1817 - автор не установлен - частичное изменение фасадов
1838 - Кавос Альберт Катаринович [71] (?)
1902-1903 - гражд. инж. Козлов Сергей Сергеевич - перестройка
По [71]) дом построен в середине XIX в. - арх. А. К. Кавос.
Современный вид здание получило после перестройки 1902-1903 гг. - гражд.инж. С. С. Козлов.
Домовый храм в доме бригадира Василия Алексеевича Васильчикова на Невском пр., 57, освящен 9 апреля 1799 о. Гавриилом Петровым из Знаменской церкви, которой храм подчинялся. Иконостас и утварь перешли от гр. Г. И. Чернышева (см. Исаакиевская пл., 6) После смерти бригадира храмом пользовались его вдова - Екатерина Илларионовна.
Затем церковь была переведена в угловой дом на Литейном, где 1 октября 1835 ее освятили для генерал-адъютанта кн. Иллариона Васильевича Васильчикова (1775–1847), участника войны с Наполеоном и председателя Государственного совета. Вначале она находилась в бельэтаже, но вскоре была перенесена на третий этаж с новым освящением 13 октября 1839, после того как дом был перестроен А. К. Кавосом. Церковь имела посвящение во имя Спаса Нерукотворного Образа.
После смерти князя дом принадлежал его второй жене – Татьяне Васильевне (урожд. Пашковой), и церковь продолжала действовать. В 1836–1844 в ней служил о. Иоанн Кудрявцев. Закрыт храм в 1879, через четыре года после кончины княгини, когда особняк принадлежал уже другому хозяину.
В 1903–1904 дом был перестроен в стиле модерн по проекту гражд. инж. С. С. Козлова под склад и магазин кустарных изделий. ([95]. 2010 г.и. 470; добавил: Наталия)
-
Фото - Blackadder, 2009.
-
Фото - Елена, 04.2016.
В 1923 г. это издательство на ул. Некрасова (б. Бассейная), 39, кв. 6.
1924: Книгоиздательство «Атеней», пр. Володарского (б. Литейный), 28. («Весь Ленинград - 1924". С. 285).
1925: Издательство «Атеней», пр. Володарского (б. Литейный), 28. Весь Ленинград - 1925". С. 158).
В справочнике 1926 г. это издательство отсутствует.
1965: Ателье машинописных работ комбината «Трудпром» № 3, Литейный пр., 28. ([108], C. 90).
1973: Куйбышевский р-н. Машинописные работы, Литейный пр., 28. ([211], С. 161).
В справочнике ошибка: Литейный пр., 28 - Дзержинский р-н.
1978, 1982: Ателье машинописных работ, Литейный пр., 28.
(«Список абонентов ЛГТС-1978", C. 13), («Список абонентов ЛГТС-1982", C. 17),
1988: Цех машинописных работ объединения «Невские зори», Литейный пр., 28. ([125], C. 72).
В 2001 г. дом включён КГИОПом в "Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность" (1811)
|
Метки: нироды дворянские владения |
Мария Дмитриевна гр. Нирод |
Мария Дмитриевна гр. Нирод


Мария Дмитриевна гр. Нирод (Муханова) |
|
| Дата рождения: | 1879 |
| Смерть: | 1965 (86) |
| Ближайшие родственники: |
Дочь Дмитрия Ильича Муханова и Марии Александровны Мухановой |
|---|---|
| Менеджер: | Петр Анатольевич ... |
| Последнее обновление: | 26 февраля 2015 |
Matching family tree profiles for Мария Дмитриевна гр. Нирод


Мария Дмитриевна Нирод (Муханова) в генеалогическом древе MyHeritage (Быстров Web Site)


Мария Дмитриевна Нирод (Муханова) в генеалогическом древе MyHeritage (Tarnavsky Web Site)


Мария Дмитриевна Нирод (Муханова) в генеалогическом древе MyHeritage (Мальцев Web Site)


Mariya Nirod (Mukhanova) в генеалогическом древе MyHeritage (Andrushkov Web Site)


Мария Дмитриевна Нирод (Муханова) в генеалогическом древе MyHeritage (Емельянцев Web Site)
Ближайшие родственники
-
-
husband
-
son
-
daughter
-
son
-
father
-
mother
-
brother
-
Хронология Марии Дмитриевны гр. Нирод
| 1879 |
1879 |
||
| 1903 |
7 ноября 1903 Возраст 24 |
Birth of Дмитрий Федорович гр. Нирод Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia ЦГИА СПб. Ф.19. О.128. Д.702 |
|
| 1904 |
ноябрь 1904 Возраст 25 |
St. Petersburg |
|
| 1907 |
31 марта 1907 Возраст 28 |
Birth of Федор Федорович Нирод Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia ЦГИА СПб. Ф.19. О.128. Д.979 |
|
| 1965 |
1965 Возраст 86 |
|
Метки: нироды мухановы |
ЖЕНСКИЕ СУДЬБЫ БРЕСТА. Колоритные имена в летописи города и мира |

ЖЕНСКИЕ СУДЬБЫ БРЕСТА. Колоритные имена в летописи города и мира
Впрочем, не только в этот весенний праздник мы обращали наши взоры к обладательницам ума, таланта, обаяния, чьи судьбы когда-то начинались в Бресте, а далее обретали «размах крыла» вдали от родного гнездовья. Напомним о некоторых из них, ставших героинями наших публикаций.
cms-image-000010267.jpg
ЛИНЕВА Евгения Эдуардовна (1853 – 1919) – собирательница народных песен, певица (контральто), хоровой дирижёр.
ВИРОВСКАЯ Анна Александровна, урожденная Потто (1865 — 1903) — игумения, основательница Вировского во имя Всемилостивого Спаса монастыря.
ЭССЕН Мария Моисеевна (1872 —1956) – видная участница социал-демократического движения в России.
ШВЕБЕР Сара, урожденная Песл Кателянская (1875 – 1966) – один из лидеров Бунда, профсоюзная деятельница в царской России, Второй польской республике (Речи Посполитой) и позже в США.
ГОЛАНТ Раиса Яковлевна (1885 – 1953) – российский и советский невропатолог и психиатр, доктор медицины, Заслуженный деятель науки РСФСР.
ВАЛЬСКА Ганна, урождённая Анна Пугач (1887 – 1984) — оперная певица польского происхождения, жила во Франции, затем в США. Создала в Санта-Барбаре ландшафтный заповедник-усадьбу «Земля Лотосов» (Lotusland).
МАРГОЛИН Анна, урожд. Роза Лебенсбаум (1887 –1952) – один из лучших поэтов начала ХХ века, писавших на идиш. Жила в США.
НИКАНОРОВА (АРТЕМОВА) Лидия Андреевна (1895 – 1938) – художница, близкая к объединению «Мир искусства», затем творившая в эмиграции во Франции, где близко общалась с Мариной Цветаевой.
ЯНЧЕВЕЦКАЯ Ольга Петровна, урожденная Виноградова (1890 – 1978) – исполнительница русских песен и романсов, жившая в эмиграции в Югославии.
ПЛАКСИНА Надежда Дамиановна, урожденная Снитко (1899 –1949) — сестра милосердия, участница Первой мировой и Гражданской войн, полный Георгиевский кавалер. Жила в эмиграции во Франции, похоронена на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.
АФАНАСЬЕВА Елена Александровна (1900 – 1998) – художница, автор иллюстраций во многих детских журналах и диафильмов.
cms-image-000010265.jpg
А далее расскажем о новых интересных персоналиях истории города Бреста, приближающегося к своему 1000-летию.
София Винклер, она же графиня Нирод
История этой женщины полна загадок и странностей. Нам она стала известна из генеалогической росписи графов Нирод, династии аристократов, живших в Царском Селе и близких к императорскому двору. Генералы и фрейлины из этого обширного семейства блистали на дворцовых балах, а два представителя рода стали героями русско-японской войны: мичман Алексей Нирод погиб на крейсере «Варяг», его брат Георгий упокоился в бурных волнах моря вместе с крейсером «Светлана».
Но в семье не без изъяна. В 1885 году Царское Село было фраппировано известием, что офицер лейб-гвардии Кирасирского Его Императорского Величества полка, двадцатисемилетний граф Александр Александрович Нирод женится на «безродной» особе, ранее связанной брачными узами с князем Николаем Николаевичем Козловским и имевшей от него дитя – двухлетнюю девочку Наталию. Отец нашего лейб-гвардейца, боевой генерал от кавалерии Александр Евстафьевич Нирод, помер четырьмя годами ранее этого мезальянса, молва предполагала, что «уж он-то не допустил бы…».
Нам неведомо, была ли эта особа авантюрной искательницей титула и наследственного имущества или сей брак стал результатом взаимного влечения сердец, но, как бы там ни было, законною супругою молодого графа Александра Александровича стала София Ивановна Винклер – «дочь еврея из Брест-Литовска, евангелическо-лютеранского вероисповедания», так обозначено в генеалогической росписи графов Ниродов.
Правда, тут возникает вопрос: как дочь еврея могла исповедовать лютеранство, свойственное более лицам немецкого происхождения, о чем говорит и фамилия Винклер? Да и отчество-то ее далековато от еврейского именования. Возможно, составители росписи внесли в нее некоторые моменты домыслов и слухов для вящего уничижения этой «беззаконной кометы», ворвавшейся в расчисленное созвездие Ниродов.
Через пару лет Александр Александрович оставил военную службу в звании ротмистра, затем обосновался с супругою в Варшавской губернии. Думается, София Ивановна стала поистине возмутителем спокойствия в обширном графском клане. Против нее затеялись ходатайства и прошения ко двору, в итоге которых ее супруг был обозначен как душевнобольной и «Высочайшим повелением Варшавскому ген.-губернатору над его личностью и имуществом была установлена опека родственников с устранением полным жены». Как знать, Александр Александрович, может быть, и имел некоторые проблемы с душевным здоровьем, но тут всё оказалось завязанным, видимо, не столь на личности, сколь на имуществе.
В общем, длилось это взаимонеприятие Софии Ивановны с матерью и сестрами ее мужа годами, усугубляясь новыми поворотами сюжета. В 1895 году определением Варшавского Окружного Суда ее дочь от первого брака с князем Козловским княжну Наталию удочерил Александр Александрович. Но прошение на Высочайшее Имя о предоставлении ей фамилии графа Нирода, отчества его имени и всех прав наследования родового имения было Высочайше отклонено.
А в 1896 году, спустя более десятка лет после этого замужества, София Ивановна родила сына Сергея. Наталия в ту пору вошла в гимназический возраст. По косвенным данным выходит, что проживали они уже в Петербурге или в Царском Селе. Нужно было думать о будушем детей – и, как гласит история графов Нирод, в 1898 году София Ивановна возбудила судебный процесс о передаче ей опеки над мужем (душевнобольным), а мать и сестры гр. А.А.Нирода подали встречный иск о ложном объявлении ребенка неизвестного происхождения сыном Александра Александровича и Софии Ивановны. В январе 1900 года Уголовное отделение С.-Петербургского Окружного Суда рассматривало «дело о мнимой беременности гр. Нирод и рождении младенца Сергея, отцовство которого молва приписала Прокудину-Горскому». Решением суда все обвинения, предъявленные графине, были отклонены.
Вот тут сделаем остановку в ходе этой истории. Очень даже похоже, что вышеупомянутый персонаж есть не кто иной как Сергей Михайлович Прокудин-Горский, родоначальник русской цветной фотографии, химик, изобретатель. В 1896 году он уже был широко известен как фотограф. Был ли тот Прокудин-Горский действительно отцом младенца Сергея – остается загадкой. Адвокаты работали грамотно, генетической экспертизы тогда еще не существовало.
Что известно далее о персонажах этой истории? Граф А.А.Нирод умер в 1902 году на руках безутешной благоверной и был похоронен на Казанском кладбище Царского Села. О его супруге известно лишь, что в 1909 она учредила «Товарищество графини Софии Ивановны Нирод» для строительства гидроэлектростанции на р. Куре под Тифлисом и скончалась 8 марта 1912 года в Санкт-Петербурге, обретя последний приют на кладбище Новодевичьего монастыря. О ее дочери Наталье сведений найти не удалось. А вот судьба сына Софии Ивановны – Сергея Александровича Нирода завершилась трагично, о чем нам поведала Книга памяти Астраханской области. В 1919 году, будучи студентом Петроградского технического института, он оказался в Астрахани, где был арестован в июле месяце по подозрению в причастности к белогвардейскому заговору. Обвинение не предъявлялось, на арестном листе кратко помечено: «Расстрелян». Приговора и даты его исполнения в деле нет.
cms-image-000010263.jpg
(Неизвестная брестчанка, межвоенный период, из коллекции А.Пащука)
Елизавета Демидович, врач и просветитель
Медицинская история Брест-Литовска богата многими славными именами служителей ведомства Гиппократа. Но имя Елизаветы Борисовны Демидович сияет среди них особо, творчески продолжившись в послереволюционную эпоху.
Она обучалась профессии на медико-хирургическом факультете Московского университета, а по окончании его работала с 1899 года в городе над Бугом врачом железнодорожной больницы, занималась также частной акушерской практикой, ведя прием по ул. Пушкинской, дом Шубского, и была штатным врачом женской гимназии, любимицей местных лолит. Возможно, ее отцом был Б.С.Демидович – секретарь, он же казначей Медицинского общества в Бресте. Эти сведения содержатся в Памятных книжках Гродненской губернии включительно до 1915 года.
А далее – угроза приближающейся немецко-австрийской оккупации вынесла население Брест-Литовска далеко за пределы Прибужья. С этою волною эвакуированных Елизавета Борисовна Демидович прибыла в Москву, где обосновалась надолго и всерьез по адресу: Всеволожский пер., д. 3, кв. 11.
Здесь проявились и новые ее таланты, не только медицинские. Миновали Первая мировая война, революционная заваруха, бури гражданского противоборства. Новая жизнь налаживалась, через НЭП пробивались свежие творческие веяния, в стороне от которых не осталась и врач по женским делам Е.Б.Демидович. Та вольница, которая через ресторан-базар-вокзал входила в половой обиход, требовала грамотного противодействия. И Елизавета Борисовна стала выпускать написанные ею брошюры популярного медицинского направления: «Суд над гр. Киселевым по обвинению его в заражении жены его гонорреей, последствием чего было ее самоубийство» (Гос. изд-во, 1922), «Суд над половой распущенностью» (Издатель: Долой неграмотность, 1927) и другие.
А параллельно с этим шло ее вхождение в молодой советский кинематограф, притом в сотрудничестве с какими именами! В 1926 году она стала соавтором Ноя Галкина и Виктора Шкловского в создании сценария полнометражного игрового фильма «Проститутка» (режиссер Олег Фрелих). Также она была автором сценариев к фильмам «Расплата» (реж. В.Инкижинов, 1926), «Правда жизни» (в соавторстве с Ноем Галкиным), агитфильма о своевременном лечении венерических заболеваний (реж. В.Карин-Якубовский, 1925).
И, между прочим, в те же лихие двадцатые годы Елизавета Борисовна Демидович предложила свой вариант женского презерватива-колпачка.
Последнее нам известное свидетельство ее пребывания на земле – написанная и изданная в 1940 году Московским областным отделом здравоохранения 4-страничная памятка «Личная гигиена девушки и женщины». Надеемся, что историкам брестской медицины еще предстоит отыскать более полные сведения о жизни этой необычной женщины – врача и просветителя.
cms-image-000010264.jpg
(Неизвестная брестчанка, межвоенный период, из коллекции А.Пащука)
Юдифь Райтлер, поэтесса Серебряного века
Она родилась в Брест-Литовске в 1894 году в семье присяжного поверенного (по-нынешнему, адвоката) Наума Яковлевича Райтлера. Здесь, на берегах Мухавца, прошли годы ее детства и юности. Семья проживала на ул. Медовой (ныне К.Маркса), в доме Кагана, а в 1915 году, перед австро-германской оккупацией, выехала из Бреста.
Далее сведения о судьбе Юдифь Райтлер довольно-таки разрозненны и скудны. Известно лишь, что в послереволюционной России вектором ее жизни стала литературная деятельность – поэзия, переводы, произведения для поколения младого.
В период до начала 20-х годов она проживала в Харькове, где в ту пору обитало немало именитых и талантливых литераторов. Среди них был и Александр Лейтес, также уроженец Бреста, критик и литературовед. Юлии Райтлер посвящено стихотворение весьма одаренного, лишь сейчас выходящего из забвения харьковского поэта Владимира Щировского «Горсовет, ларек, а дальше – \\ Возле церкви клуб…».
В мае 1922 года в Харькове был издан коллективный сборник поэзии «Тропа», куда вошли стихи и Юдифь Райтлер, соседствуя с произведениями Владимира Нарбута, Ильи Эренбурга и других авторов. Любопытно предваряющее книгу посвящение: «Памяти незабвенного гуманиста д-ра Гааза посвящен этот сборник». Чуть ниже сообщение: «Весь сбор поступает в фонд санитарного благоустройства мест заключения». Внизу страницы обозначено: «Издатель — Комиссия по проведению “Недели санитарного благоустройства мест заключения в память д-ра Гааза (1—8 мая 1922 г.)”. г. Харьков». На всё это стоит обратить внимание в связи с тем, что новая власть уже активно начала избавляться от прежней научно-творческой, инженерной и военной элиты, высылая их в лучшем случае за рубеж на «философском пароходе», а в худшем – на Соловки. И этот сборник был своего рода непосредственным вкладом харьковской литературной интеллигенции в поддержку своих заключенных собратьев.
В том же 1922 году в харьковском издательстве «Истоки» вышла отдельная книга стихов Юдифь Райтлер «Вериги» — единственная в ее поэтическом наследии.
А далее судьба нашей землячки продолжилась в городе над Невой, где она также занималась литературным творчеством, но уже в жанрах прозы. Между прочим, она была первым переводчиком на русский язык произведений польского писателя и педагога Януша Корчака. В 1924 году в ленинградском издательстве «Прибой» вышла его повесть «Приключения короля Матюша», переведенная Ю. Н. Райтлер, а в 1929-м в Москве напечатали рассказ «Джек кооператор» также в ее переводе.
Кроме того, в этот период 20-х-30-х г.г. она стала автором книжек и брошюр для детей и юношества: «Школа и школьники в пятом году» (Л., 1926), «Уроков не будет» (М.-Л., 1931), «Далеко на Восток» (М.-Л., 1931), «К стране без классов» (Л., 1934). Далее ее публикаций нам не удалось обнаружить. Вполне вероятно, что при той сгущавшейся атмосфере для писательницы оказался закрытым путь в издательства и журналы.
Увы, в этом движении «к стране без классов» поджидал Юдифь Райтлер и многих ее коллег по литераторскому цеху сталинский молох репрессий. Как сообщается в Книге памяти «Ленинградский мартиролог», Райтлер Юдифь Наумовна на момент ареста работала экономистом завода «Ильич», проживала: г. Ленинград, ул. Рентгена, д. 2а, кв. 10. Арестована 21 сентября 1937. Особой тройкой УНКВД ЛО 10 декабря 1937 приговорена по ст. 58-10 к высшей мере наказания. Расстреляна в г. Ленинграде 14 декабря 1937.
Вот такая судьба.
А теперь – завершим наш рассказ о Юдифь Райтлер ее стихами из книги «Вериги», в которых отчетливо слышится ахматовская интонация.
cms-image-000010268.jpg
***
I
Не покину тебя, несуразная, вздорная,
В дни твоей темноты.
Не променяю траву твою сорную
Ни на какие цветы.
Ходить босиком по горячим асфальтовым плитам.
Непокрытую голову знойному ветру отдать.
Но остаться в тебе, безнадежно и тупо забитой,
Но суровые ночи безмолвно в тебе коротать.
Не покину тебя, не уеду в сытые страны
У чужого огня прикорнуть в неизбывной тоске.
Одичалая ширь, вся проросшая пыльным бурьяном –
Как мне жить без тебя в голубом далеке?
II
Нет, я приеду. В ногах твоих пыльных
Буду валяться до самой ночи.
Вот я вернулась в покорном бессилии,
Делай теперь со мной, что хочешь.
Хочешь, я стану, как ты, побирушкой,
Будем бродить по голым полям?
Спаси, Господь, наши грешные души,
Не из-за нас ли погибла земля?
Как же мне оставаться под небом Польши,
Если тело твое истязают и рвут?
Нет, я тебя не оставлю больше,
Разве только умру.
***
Я тебя не увижу больше –
Тебя увозят на север страны.
Я не помню ничего горше
Этой последней весны.
О, этот страшный сон беспристрастный,
Победитель в неравной борьбе.
Что ты сделал им, этим властным,
Этим сильным, мстящим – тебе?
Что ты сделал им, ты, нежный,
Так любивший весну и любовь?
Ах, прощай! Но на севере снежном
Все же к радостям сердце готовь!
Подготовил Николай АЛЕКСАНДРОВ
|
Метки: нироды |
Вера Гедройц: княжна, гений-хирург |



- < >
vorontsova_nvuJune 9th, 2005 Вера Гедройц, литовского княжеского рода, родилась в 1876 году в Киеве, росла в селе Слободище Брянского уезда Орловской губернии, училась в Брянской женской прогимназии (где учительствовал В.В. Розанов), позже на курсах П.Ф. Лесгафта в Петербурге (ей было 15 лет). Там же сошлась с революционным кружком В.А.Вейнштока, и в 1892 году (ей 16 лет) была выслана в поместье отца под надзор полиции.
В 1894 году (княгине 18 лет) вступает в фиктивный брак с неким Н. А. Белозеровым и с новым паспортом, сменив фамилию, бежит за границу.
Спустя какое-то время Гедройц приезжает в Лозанну и поступает в университет на медицинский факультет, который окончила в 1898 году (ей 22 года) со степенью доктора медицины и хирургии. Первые операции проделаны ею под руководством Цезаря Ру, широко известного в Европе врача и ученого. Цезарь Ру берет ее в свою клинику, где спустя некоторое время она становится старшим ассистентом и в качестве приват-доцента читает спецкурс. Здесь же, в Лозанне, она встречает женщину, в которую влюбляется со всей мощью своей души. Любовь оказывается взаимной.
В Европе ее ждет блестящая карьера, однако семейные обстоятельства прерывают ее. Она получает письмо от отца, в котором он сообщает, что ее сестра умерла от воспаления легких, а ее мать находится в крайнем нервном состоянии; отец умоляет ее вернуться домой как можно скорей («…приезжай! Я никогда не звал тебя, но это необходимо <…> Не могу писать – тяжело!»).
Оставив любимую, Вера возвращается в Россию, где в 1902 году (ей 26 лет) сдает экзамен в Московский университет – ей необходимо подтвердить иностранный диплом.
Несколько ранее она получает место хирурга в больнице Мальцевских заводов портландцемента Калужской губернии. Талант Веры Игнатьевны находит здесь глубочайшее практическое применение и разворачивается в полную силу. Гедройц буквально вгрызается в работу, она буквально вкалывает не покладая рук, а кроме того, публикует серьезнейшие статьи в научных журналах. Слава о первой и единственной в России женщине-хирурге из провинции мгновенно достигает императорского дворца.
Ее приглашают 3-й съезд хирургов, состоявшийся в 1902 году. Вот что писал о ней В.И.Разумовский, выдающийся профессор медицины:
«...В.И. Гедройц, первая женщина-хирург, выступавшая на съезде и с таким серьезным и интересным докладом, сопровождаемым демонстрацией. Женщина поставила на ноги мужчину, который до ее операции ползал на чреве как червь. Помнится мне и шумная овация, устроенная ей русскими хирургами. В истории хирургии, мне кажется, такие моменты должны отмечаться».
Речь идет о сыне мастерового Антоне, 26 лет, который в течение 12 лет тяжко страдал заболеванием тазобедренных суставов, не мог ни стоять, ни лежать. Вера Гедройц 10 октября 1901 г. провела сложнейшую операцию, в результате которой уже через три месяца Антон забыл про костыли. Этот случай и рассматривался в докладе Гедройц, принеся ей длительные аплодисменты светил отечественной хирургии.
Все это время она много напряженно работает – и мучительно ждет, когда любимая приедет к ней из Лозанны в Россию. Но вместо любимой из Лозанны приходит письмо (в период, когда Гедройц было примерно 26-28 лет):
«Не жди, я рвусь к тебе, но не могу оставить детей и дело. Разбивая свою, а быть может, и твою жизнь, я исполняю долг, легший бременем на наши плечи. Вера, я так страдаю!».
Удар слишком силен. Усталые нервы не выдерживают. Придя на дежурство в больницу, Гедройц достает из рабочего стола браунинг и не раздумывая стреляет себе в сердце. И только случай спасает ее – ненароком задержавшиеся в больнице коллеги прибегают на выстрел и срочно оперируют Гедройц.
В 1905 году ее назначают главным хирургом больниц Мальцевских заводов и главным врачом Людиновской больницы – Вере Игнатьевне исполнилось всего лишь 29 лет (!), и в этих должностях она пребудет до 1909 года. В том же 1905 году ее тайный и фиктивный брак с Н.А. Белозеровым по желанию Гедройц расторгнут (в 1907 году ей будет возвращен княжеский титул и разрешено вернуться к девичьей фамилии).
«В начале 1904 г. известие о войне с Японией докатилось до всех уголков России. В.И.Гедройц подает рапорт о зачислении в состав передового отряда, сформированного из медиков-добровольцев Российским Красным Крестом, и отправляется в действующую армию. Она оказывает медицинскую помощь в самых горячих местах сражений. За труды и мужество ее награждают золотой медалью «За усердие» на Анненской ленте, а после боев у Мукдена за героические действия по спасению раненых командующий армией генерал от инфантерии Н.П. Линевич лично вручает женщине-врачу княжне Гедройц Георгиевскую серебряную медаль «За храбрость». Императрица Александра Федоровна, занимаясь попечительством по отношению к раненым в Манчжурии, также отмечает заслуги Веры Игнатьевны, и «за содействие в деле облегчения участи больных и раненых воинских чинов и за труды, понесенные по Российскому обществу в Красного Креста» отмечает ее тремя знаками отличия, в том числе – серебряной шейной медалью на Владимирской ленте, а объединенное Всероссийское дворянство – именным жетоном. Через год Вера Игнатьевна возвращается в родные места к любимой работе» (В. Г. Хохлов. «Вера Игнатьевна Гедройц – главный хирург мальцовских заводов»).
«Княжна Вера оперировала в специально оборудованном железнодорожном вагоне и в палатках, обложенных глиной для защиты от холода. Только за первые 6 дней работы санитарного поезда она сделала 56 сложных операций. Выдающийся хирург-практик, она успешно оперировала легендарного генерала Гурко и пленного японского наследного принца, который впоследствии прислал дары русским монархам и назвал ее "княжной милосердия с руками, дарящими жизнь".
Газеты писали о необычайной смелости операций, которые княжна делала буквально под огнем противника, но речь в этих репортажах шла не о научной смелости, а о человеческой доблести хирурга — действительно незаурядной. А ведь именно во время русско-японской войны она первой в истории медицины стала делать полостные операции, которые разработала самостоятельно, без посторонней подсказки — и не в тиши больничных операционных, а прямо на театре военных действий. В ту пору в Европе людей, раненных в живот попросту оставляли без всякой помощи» (Джонатан Молдаванов. «Княжна Вера Гедройц: скальпель и перо»).
В 1909 году ее приглашают на должность ординатора Царскосельского дворцового госпиталя. Вера Игнатьевна становится домашним врачом августейшей семьи.
«Назначение «выскочки» из провинции, тем более женщины, на должность старшего ординатора было встречено старшим врачом госпиталя М. Н. Шрейдером в штыки. В ход пошли ссылки на разные инструкции и положения, посыпались письма в придворную канцелярию. В них отмечалось, во-первых, что эта должность была предназначена для другого врача, во-вторых, что женщина-врач, ставшая заместителем старшего врача, на время его отсутствия будет начальником над всем персоналом, а это первый такой случай в Министерстве Императорского Двора, в третьих, что назначение на должность старшего ординатора приравнивается к VII классу и требует разрешения министра, а чтобы его получить, требуется прослужить в Царскосельском госпитале несколько лет и т. д. Но воля Александры Федоровны была непреклонна, и уже 31 июля 1909 года инспектор придворной части получает письмо следующего содержания: «Министр Императорского двора, согласно преподанным Ея Величеством Государынею Императрицею Александрой Федоровной Указаниям, приказал назначить Княжну Гедройц Старшим Ординатором при Царскосельском госпитале Дворцового ведомства». (В.Г. Хохлов. Гедройц В. И. – старший ординатор царскосельского дворцового госпиталя.).
Вера Гедройц была не чужда и литературных опытов, писала стихи, прозу, печаталась под псевдонимом Сергей Гедройц. Литературного признания в поэтической среде не получила категорически. В 1910 году Николай Гумилев в журнале «Аполлон» назвал Гедройц «не поэтом». Литературные занятия, откровенно неудачные, были слабостью гениального хирурга. Вере Игнатьевне, как ребенку, очень хотелось хоть какого-то художественного признания. И чуть позже она все-таки была принята в «Цех поэтов». Возможно, этому помог тот факт, что Вера Игнатьевна обещала оплатить половину той немалой суммы, которая была необходима для создания журнала «Гиперборей», в котором стали периодически публиковаться ее стихи.
В 1912 года Вера Игнатьевна становится доктором медицины, в 1914 году публикует книгу "Беседы о хирургии для сестер и врачей", лично обучает императрицу и ее дочерей навыкам медицинской сестры.
Фрейлина Анна Вырубова вспоминает:
«Чтобы лучше руководить деятельностью лазаретов, императрица лично решила пройти курс сестер милосердия военного времени с двумя старшими Великими Княжнами и со мной. Преподавательницей Государыня выбрала Княжну Гедройц, женщину-хирурга, заведующую дворцовым госпиталем. Два часа в день занимались с ней и для практики поступали рядовыми хирургическими сестрами в лазарет при Дворцовом госпитале, тотчас приступили к работе — перевязкам, часто тяжело раненых. Стоя с хирургом, государыня, как каждая операционная сестра, подавала стерилизованные инструменты, вату и бинты, уносила ампутированные руки и ноги, перевязывала гангренозные рапы, не гнушаясь ничем и стойко вынося запах и ужасные картины военного госпиталя во время войны».
Вера Гедройц обладала крутым характером. Была чрезвычайно заметной – высокого роста, грузной, к тому же одевалась исключительно по-мужски: шляпа, пиджак, галстук. Никаких женских причесок – стрижка также была на мужской манер. Голос имела низкий. Была заядлой курильщицей.
В 1915 году Анна Вырубова в результате железнодорожной аварии (поговаривали о теракте) получила тяжелую травму и в бессознательном состоянии была госпитализирована. К ней была вызвана Гедройц. Войдя в палату, она увидела находящегося там с визитом Григория Распутина. Судя по его виду, он явно не собирался уходить. Вера Игнатьевна без разговоров взяла его за плечи и выставила в коридор.
Февральскую революцию княжна Вера, некогда активный участник революционного кружка, приняла с большим сочувствием. В 1917 году в качестве корпусного хирурга 6-й Сибирской стрелковой дивизии она уходит на фронт, в 1918 году получает ранение, и ее эвакуируют в Киев. Там она и остается, получив место сначала в детской клинике, а потом в факультетской хирургической клинике Киевского мединститута. В 1930 году, уже будучи профессором, уходит со службы. Много печатается в научных журналах, принимает участие в хирургических съездах. Ею выпущено три повести, основанные на автобиографическом материале.
Она живет с графиней Марией Дмитриевной Нирод и ее детьми (Федором и Мариной) – живет как муж и жена. Кроме любви, их объединяет работа: Мария Дмитриевна служит у Гедройц медицинской сестрой. Возможно, это ей посвящены стихи княжны Веры, написанные ею 23 июля 1925 года:
Не надо – нет – не разжимай объятий
Не выпускай меня — не надо слов.
Твой поцелуй так жгуче ароматен,
И, как шатер, беззвезден наш альков.
Еще — опять — века изжить в мгновенье,
Дай умереть — сама умри со мной.
Ночь молчаливая льет чары исступленья,
Росою звонкою на землю сводит зной.
Вот распахнулись звездные палаты,
В лобзаньи слившись жизнию одной,
Не надо — нет — не разжимай объятий,
Дай умереть! Сама умри со мной!Дети Марии Дмитриевны едва ли не открыто недолюбливают княжну Веру Игнатьевну – большая, одетая в мужской костюм и говорящая о себе в мужском роде женщина («я пошел», «я оперировал») вызывала у них отторжение, а нескрываемая любовь к ней их матери только усиливала негатив.
В 1931 году (Гедройц исполнилось 55 лет) она знакомится с художницей Ириной Дмитриевной Авдиевой и ее мужем Леонидом Семеновичем Поволоцкиим. Между ними завязывается дружба. Из воспоминаний И.Д. Авдиевой:
«Я сама знаю, что, любя Веру Игнатьевну Гедройц, научилась у нее любить все то, что поднимает жизнь над уровнем обывательщины, что красит будни в праздники. Вся ее жизнь была увлекательнейшим романом, и долгая дружба с ней во многом изменила меня. Она жила в том же доме, что и мы с мужем, и была старшим хирургом города. <…> Жила она в большой квартире с Марией Дмитриевной Нирод и ее детьми <…> Отношения у них были супружеские. Обе очень близки были к царской фамилии и бежали из Царского Села в Киев, где скрывались долго в Киево-Печерской Лавре у монахов. Потом поселились в нашем доме, много раз арестовывались, но каждый раз выпускались по просьбе власть имущего чекиста-ленинградца, которому во время войны четырнадцатого года Вера Игнатьевна сделала в царскосельском госпитале сложнейшую операцию. <…> Мы очень часто с мужем поднимались наверх к Гедройц и, к восторгу Веры Игнатьевны, создавали обстановку литературной богемы. Читали стихи, писали буримэ, Гедройц играла на скрипке, я ей аккомпанировала на фортепиано. Порой мы расходились на три-четыре такта, но это не смущало нас. Мы играли, не замечая, что слушатели забились в самую дальнюю комнату, чтобы не слышать какофонии. Вместе с Верой Игнатьевной мы написали сценарий: «Профилактика рака». Его приняли к постановке, даже аванс нам выдали, но почему-то сценарий так и не пошел в производство. Гедройц много писала научных статей о раке и отвергала теорию вирусного происхождения рака. Она считала, что это патологический рост остаточных зародышевых клеток.
Рак, с которым она боролась хирургическим ножом, жестоко отомстил ей. В 1932 году она погибла от рака брюшины с метастазами в печень, через год после перенесенной операции (удаление матки)».
Вера Гедройц похоронена на Корчеватском кладбище в Киеве. На ее могиле – простой железный крест, на который прибита простая железная табличка. Внутри ограды находится еще одна могила – архиепископа Ермогена. Некогда, будучи молодым священником, он смертельно заболел, вторая жизнь была дарована ему руками чудесной женщины-хирурга Веры Игнатьевны Гедройц. После ее кончины он преданно ухаживал за ее могилой и завещал похоронить себя рядом с ней.
9 июня 2005 г.
Вера Гедройц: http://kfinkelshteyn.narod.ru/Tzarskoye_Selo/Gedr_stoya.jpg
Могила Веры Гедройц: http://kfinkelshteyn.narod.ru/Tzarskoye_Selo/Mogila1.jpg
|
Метки: гедройц нироды |
НОВОЕ О СЕРГЕЕ ГЕДРОЙЦ |
НОВОЕ О СЕРГЕЕ ГЕДРОЙЦ
Предисловие, публикация и комментарии А.Г.Меца.
Лица. Биографический альманах. 1. М.; СПб., 1992.
3. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ И.Д. АВДИЕВОЙ
<...> Думаю, что смерти полной нет — пока есть преемственность. Существо мое духовное состоит из множества частиц, заимствованных у людей любимых. Даже и внешне иногда немножко подражаешь понравившемуся жесту, интонации, делаешься незаметно для себя слегка похож на близкого друга. < ... > Я сама знаю, что, любя Веру Игнатьевну Гедройц, научилась у нее любить все то, что поднимает жизнь над уровнем обывательщины, что красит будни в праздники. Вся ее жизнь была увлекательнейшим романом, и долгая дружба с ней во многом изменила меня. Она жила в том же доме, что и мы с мужем [1], и была старшим хирургом города. Большая, немного грузная, она одевалась по-мужски. Носила пиджак и галстук, мужские шляпы, шубу с бобровым воротником. Стриглась коротко. Для ее роста руки и ноги у нее были малы, но удивительно красивы. Черты лица — суховатые и слишком тонкие для грузной фигуры — при улыбке молодели.
Было ей тогда лет пятьдесят пять. Она пришла к нам и сказала, что хочет познакомиться с художниками, что она не только хирург, но и писатель. На стол она положила стихи, изданные в Ленинграде до войны под псевдонимом Сергей Гедройц. Стихи были неважные. Жила она в большой квартире с Марией Дмитриевной Нирод и ее детьми, Федором и Мариной. Вера Игнатьевна была княжна, Марья Дмитриевна графиня. Отношения у них были супружеские. Обе очень близки были к царской фамилии и бежали из Царского Села в Киев, где скрывались долго в Киево-Печерской Лавре у монахов. Потом поселились в нашем доме, много раз арестовывались [2], но каждый раз выпускались по просьбе власть имущего чекиста-ленинградца, которому во время войны четырнадцатого года Вера Игнатьевна сделала в царскосельском госпитале сложнейшую операцию.
В этом госпитале у Веры Игнатьевны работала императрица Александра Федоровна с дочерьми — работали медицинскими сестрами. Общение с царской семьей было довольно частым и близким. Для Веры Игнатьевны царственная Александра прежде всего была хорошей, исполнительной медицинской сестрой.
Мне запомнился рассказ о семье последнего русского царя, Распутине и Вырубовой [3]. Николай Второй был глуп, нерешителен, податлив влияниям чужой сильной воли. Детей своих любил очень, а Александру боялся. Царица могла бы быть царицей, если бы не мрачная мистичность ее духа и странное предчувствие обреченности, захлестнувшее темным потоком разум, честолюбие, волю. Внешне холодная и выдержанная, царица жила в состоянии ожидания ужаса грядущего. < ... >
«Визион»
Приходила к нам в 1928 году Зоя Николаевна Родзянко. Давала мне, мужу и Аленушке [4] уроки французского языка. Бесплотной худобы. Тень, привидение — по-французски «визион».
Жила одна-одинешенька в коммунальной квартире возле кухни, вернее, в кладовке. Старый фокстерьер Дик понимал, что лаять нельзя, привередничать в еде нельзя.
Неподалеку от Родзянко в такой же жалкой комнатенке жила Мария Николаевна Игнатьева, графиня. Из тех Игнатьевых, состояние которых было одним из крупнейших в дореволюционной России. Писатель Игнатьев [5] приходился Марии Николаевне двоюродным братом и принадлежал к ветви бедных Игнатьевых. Свое огромное состояние, поместье, ценности всех видов — единственная наследница Мария Николаевна не сохранила. Больницы, приюты, церкви, учрежденные ею, поглотили весь капитал.
Она приняла «белое монашество» — дала обет безбрачия и посвятила жизнь свою Богу и людям. Творить добро — значило для Марии Николаевны то же, что молиться. К 1917 году от состояния ничего не осталось, кроме двух драгоценностей: драгоценной белой кружевной косынки «мамы», которую Мария Николаевна надевала на Пасху, и черной кружевной косынки, которую она носила ежедневно в зной и холод. С Марией Николаевной жила горбунья Любочка, бывшая ее горничная — существо необыкновенной кротости и молчаливости.
Никакого подобия кровати в комнате не было. Стояло деревянное кресло, в котором бывшая графиня спала сидя. Дома ее застать было трудно, т.к. она всегда находилась там, где кто-то тяжело хворал, умирал. Уход за больными был ее схимой в миру. Если могли — платили за бессменное дежурство, и на эти деньги существовала Любочка, которая спала на полу и стегала одеяла.
Во всем облике Родзянко и Игнатьевой было что-то такое, что определялось лучше всего словом «визион».
Они были нереальны. Неправдоподобны. Их походка, движения, манера говорить — как отзвук, как нечто потустороннее. И такой же был Шредер. Осколок. Жил в такой же щели. Один. Старый. В прошлом занимал видный пост в Сенате. Часто бывал на придворных приемах. Чудом уцелел. Бежал из Ленинграда вместе с Родзянко, княжной Гедройц, графиней Нирод и Игнатьевой, когда начали уничтожать оставшихся в России аристократов. Бежали они потому, что отцы церкви настаивали на том, чтобы «белые монахини», графини Нирод и Игнатьева[6], переправлены были под покровительство Лавры и были от смерти спасены. Шредеру поручили их сопровождать из Ленинграда в Киев, а Гедройц семью Нирод считала своей и поехала с ними. Самое опасное время они пересидели у лаврских монахов, тогда еще существовавших. Когда же с аристократами было покончено, в Киеве появились просто Гедройц, Нирод, Игнатьева, Родзянко, Шредер. Гедройц Вера Игнатьевна — первая женщина-хирург, окончившая в Женеве. Любимая ученица профессора Ру. Человек сложный и одаренный. Это она на фотографиях в «Ниве» вместе с царской семьей в 1906 году[7]. В те времена по России гремели подвиги генерала Гурко[8], его ранение и смелость хирургической операции, которую сделала Гурко В.И.Гедройц и спасла ему жизнь. Война с Японией выдвинула Гедройц как блестящего организатора прифронтовых госпиталей и умного дипломата. Среди пленных японцев оказался раненый японский принц — попал в госпиталь к Гедройц, и по окончании войны Вере Игнатьевне воздавали благодарственные почести. В киевской квартире у нее висели шелковые, ручной вышивки, панно, на письменном столе стояли божки благополучия из слоновой кости. Принц японский прислал дары русским монархам и написал высокопарные слова о «дарительнице жизни, обладательнице рук исцеляющих, Гедройц». Царица Александра Федоровна вызвала Веру Игнатьевну в Царское Село, и с тех пор Вера Игнатьевна стала близким человеком в семье последних Романовых. То, что она рассказывала о царской семье, общеизвестно. Николай был глуп, робок, косноязычен. Александра была умна достаточно образованна и вместе с тем одержима мистическими страхами. К дочерям была равнодушна, зато к наследнику питала любовь неистовую, по словам Веры Игнатьевны, патологическую. Наследника держали буквально под стеклянным колпаком. Малейшая царапина кровоточила у него месяцами. Есть такая болезнь, когда кровь не сворачивается. Императрице все время представлялось, что болезнь символична, что династия Романовых обречена, обрушится удар и последний Романов истечет кровью. Этим ее страхом умело пользовался Распутин.. «Мама, — говорил он царице, — пока я с Вами, ничего не случится — живы будете, не бойся».
Вера Игнатьевна решительно опровергала слухи о том, что Александра в войне с немцами четырнадцатого года участвовала в изменническом заговоре на стороне Вильгельма против России. Немка по происхождению, она по суеверию своему к войне относилась как к чему-то предопределенному и не желала вмешиваться в судьбы свершения. Ум ее был занят анализом снов, предчувствий, прорицаниями старца. Все действия были мелки, все крупное проходило мимо, и царапина Алексея-царевича была для нее значимее войны, поражения, бедствия всенародного.
Гедройц стала в 1914 году лейб-медиком царскосельского госпиталя. Царица и великие княжны работали в этом госпитале сестрами милосердия. Вера Игнатьевна во время сложных хирургических операций покрикивала на императрицу российскую, и та сносила; могла бы быть, по словам Веры Игнатьевны, хорошей хирургической сестрой — хладнокровной и точной. Великих княжон Гедройц расценивала как девушек недалеких, для которых флирт с выздоравливающими офицерами был смыслом жизни. Несчастный царевич Алексей был стеклянным мальчиком — тихий и послушный, осторожный, молчаливый.
У Гедройц годы, проведенные в Женеве, вытравили монархические убеждения[9]. Она считала революцию неизбежной и необходимой.
Под псевдонимом брата Сергея Гедройц она писала новеллы, которые изредка печатались в журналах, редактируемых символистами. Гумилев, Гиппиус, Ремизов были для Гедройц той средой, где свободомыслие Женевы находило сочувствие, где шли споры о будущем России.
Когда это будущее наступило, стало настоящим, взбугрилось, вздыбилось революцией — вся беспочвенность и наивность предвидений была опрокинута кровью террора, местью восставших, ненасытным разгулом вырвавшегося народного гнева.
Свершилось то, что предчувствовала царица, — последние Романовы вместе с ранее убитым Распутиным, престолом и коронами канули в вечность. Революция выкосила аристократов. Точно взмахивала косой — сначала скосила венценосные созвездия на длинных стеблях, потом подрезала высокие травы, снова размахнулась и косила у самой земли, и только ползучая травка, цепкая, не цветущая, однообразная, не смочила соком своим безжалостное лезвие. Те, кто уцелел, были «визион» — тени. Сознавали, что жить не должны, а живут. Шредер приходил обедать к Вере Игнатьевне раз в неделю. Он был настолько неимущ и беспомощен, что немногие его друзья были вынуждены по очереди кормить Шредера той скудностью, которую потребляли сами. В понедельник он обедал у Гудим-Левкович, во вторник у Гедройц, в среду у Родзянко. Дня два в неделю не у кого было обедать, и он ничего не ел. Приходил к Гедройц за час до обеда. С палочкой. Белоснежный воротничок, жестко накрахмаленные манжеты. Безукоризненные ногти. Прямой, изысканно-вежливый. Входил, склонялся к руке Марии Дмитриевны Нирод, называл ее «princesse», Веру Игнатьевну «la comtesse Vera». Нелепо выглядел красиво сервированный стол с хрусталем и серебром. Подавался пшенный суп с тюлькой, пшенная каша, слегка политая постным маслом, а на третье странное пойло из бу-ряков, которое разливали в японские пиалы. Все это ели особым образом, на разных тарелках. Выглядело так, будто едят суп из черепахи, гурьевскую кашу, ананасы в вине.
Шредер вел разговор светский, легкий. О революции не говорили. Однажды только Шредер сказал, что он вечерами раздваивается. «Я прихожу в свою, свою... — и он затруднился назвать щель, в которой он жил, комнатой, — excuse moi, конуру и делаюсь Жаном — это был у меня в Петербурге лакей, и стараюсь делать все так, как делал Жан: стелю постель, приготавливаю шлафрок, мою стакан и наливаю в него чистой воды. Потом ухожу, гуляю, и когда вхожу в свою, excuse, конуру — я уже не Жан, я воображаю, что это мне приготовил для сна мой лакей».
Вскоре Шредер умер, и Вера Игнатьевна подозревала, что ему удалось достать сильнодействующее снотворное и умертвить себя и Жана в себе.
Родзянко, Шредер, Игнатьева были «визион», они жили только воспоминаниями или отрешенностью подвига. Вера Игнатьевна прошлым не жила, ее активная натура требовала деятельности. Она стала главным хирургом города, оперировала, читала лекции.
Она жила в том же доме, что и мы с мужем. Однажды она пришла к нам и сказала, что скучает без общения с художниками. Мы быстро сблизились и очень полюбили ее.
Грузная, с лицом — похожа на французского аббата, с маленькими руками и ногами, она одевалась по-мужски и о себе говорила в мужском роде: «Я пошел, я оперировал, я сказал». Фактически Мария Дмитриевна Нирод была не подругой Гедройц, а женой. Дети Нирод Марина и Федор чувствовали к ней неприязнь, и не зря, ибо мать их сильно пренебрегала своими материнскими обязанностями, отдавая все свои помыслы и время Гедройц, медицинской работе (она была у Веры Игнатьевны хирургической сестрой) и делам церковным. Мы очень часто с мужем поднимались наверх к Гедройц и, к восторгу Веры Игнатьевны, создавали обстановку литературной богемы. Читали стихи, писали буримэ, Гедройц играла на скрипке, я ей аккомпанировала на фортепиано. Порой мы расходились на три-четыре такта, но это не смущало нас. Мы играли, не замечая, что слушатели забились в самую дальнюю комнату, чтобы не слышать какофонии. Вместе с Верой Игнатьевной мы написали сценарий: «Профилактика рака». Его приняли к постановке, даже аванс нам выдали, но почему-то сценарий так и не пошел в производство. Гедройц много писала научных статей о раке и отвергала теорию вирусного происхождения рака. Она считала, что это патологический рост остаточных зародышевых клеток.
Рак, с которым она боролась хирургическим ножом, жестоко отомстил ей. В 19<32>-ом году она погибла от рака брюшины с метастазами в печень, через год после перенесенной операции (удаление матки). До своей болезни ей удалось написать трилогию мемуарного характера: «Кафтанчик», «Лях», «Отрыв». Книги были изданы. Я помогала ей править корректуры, и она заставила меня заняться литературой.
На гонорары за книги она купила дом в пригороде Киева, оставила хирургическую деятельность и решила заниматься только писательской. Купила себе корову, которая упорно не давала молока, старалась оградить себя от нашествия служителей церкви, монахов, богоискателей, странников.
В доме всегда находился кто-нибудь в черной рясе, поучающий и указующий путь совершенствования. Церковники шли к Нирод, писатели, художники, садоводы и просто пьяницы группировались вокруг Веры Игнатьевны.
Из Ленинграда пришло письмо. Союз писателей просил Веру Игнатьевну помочь Федину, который заболел туберкулезом, и содействовать его помещению в лечебницу Дюсеранвиля в Давосе. Дюсеранвиль, как и Вера Игнатьевна, был учеником Ру и на ее просьбу ответил немедленно и утвердительно. Федин поехал в Давос[10].
У Гедройц начался рецидив раковый, и она сказала мне: «Давай напьемся в последний раз и кстати поставим эксперимент. Замечала ли ты, что собаки, кошки едят всегда одну и ту же травку — вот эту остренькую. Нарежь этой травки, неси сулею с широким горлом — заливай траву спиртом, пусть постоит недельку». Сидели мы с ней под грушей, пили через неделю ядовито-зеленую жидкость отвратительного вкуса, выпили много, и когда нас вывернуло наизнанку и мы поплыли в обморочное беспамятство — Вера Игнатьевна слабым голосом сказала: «Для собак годится, для людей плохо, думала — рак в себе убью, резать уже бесполезно — везде он». Умирала долго, мучительно. Писала стихи. Соборовали ее. За день до смерти, ночью, вынула из-под подушки сафьяновую папку, достала письмо. «Леня, — зашептала, обращаясь к мужу, — возьми, сохрани. Это Ру мне пишет, что кафедру женевскую хирургическую мне завещает. Это для русской хирургии честь, понимаешь? Надо, чтобы это в истории осталось. Время придет — отдашь кому следует. Обещай. Это след мой, в этом жива буду. И еще знайте, когда оперируют рак, надо избегать иглы, нельзя прокалывать больную клетку, не понимают. У моих потому и метастазов не было, что я это знала».
В 1937-м, когда арестовывали мужа, при обыске нашли это письмо Ру на французском языке. При допросах размахивали письмом, как доказательством шпионской деятельности. Переводом не интересовались. «Шифром написано, признавайся, сволочь, мы и Верку найдем. Вы заговорите, гады...»
Не осталось следа.
Дом продали. Нирод поселилась у монахинь Введенского монастыря. В войну пропал сундучок с дневниками и архивом интереснейшим Веры Игнатьевны. < ... >
Родзянко во время войны перебралась за границу. Любочка и фокстерьер Дик во время немецкой оккупации скончались. Мария Николаевна Игнатьева до последнего вздоха несла свою схиму — когда кончилась война, она сидела в своем кресле, бестелесная, все та же черная кружевная косынка на голубовато-серебряной голове. От слабости не могла встать. Голодала. Молчала. Я написала ее двоюродному брату писателю Игнатьеву, что Мария Николаевна умирает от дистрофии — он прислал 25 рублей — по теперешним деньгам 2 р. 50 коп. Хватило на два стакана пшена и литр молока. Так, сидя в кресле, и умерла. Похоронили ее в белой кружевной косынке мамы.
1. Киевский адрес Гедройц: Круглоуниверситетская, д. 7а, кв. 25.
2. Эти сведения неточны. По свидетельству Ф.Ф.Нирода, сына М.Д.Нирод, его мать стала медсестрой после смерти мужа, полковника Ф.Ф.Нирода, в 1913 г. В Киеве они жили при госпитале, развернутом в помещениях Киево-Печерской лавры. Сведениями об арестах Гедройц мы не располагаем.
3. Анна Александровна Вырубова (урожд. Танеева, 1884-1964), фрейлина императрицы Александры Федоровны и посредница в ее отношениях с Г.Распутиным, также была медсестрой Царскосельского госпиталя во время войны, о чем писала в своих воспоминаниях (Новый журнал, 1978, кн. 131, с. 153). По сообщению Ф.Ф.Нирода, у Гедройц был с нею какой-то конфликт.
4. Аленушка — дочь Авдиевой и Поволоцкого.
5. Граф Алексей Алексеевич Игнатьев (1877-1954) — военный дипломат и писатель, автор мемуаров «50 лет в строю»
6. Эта часть воспоминаний И.Д.Авдиевой основана, по-видимому, на сведениях легендарного характера. Гедройц была военным врачом и в то время в Петрограде не находилась; вряд ли М.Нирод могла быть «белой монахиней» и т.д
7. Здесь неточность: на фотографии, помещенной в журнале, В.И.Гедройц снята в группе медиков Дворянского передового госпиталя (из Москвы) в Тавагоузе (близ Мукдена) — Нива, 1905, № 6, с. 110.
8. Вероятно, речь идет о Василии Иосифовиче Гурко (Ромейко-Гурко; 1864-1937), в то время имевшем чин капитана.
9. Это не так: к революционному движению Гедройц приобщилась еще до Лозанны (см. вступительную заметку).
10. Уже находясь в Швейцарии, Федин писал Е.Замятину 21 июня 1932 г.: «Был и в Лозанне, заходил к Цезарю Ру — учителю В.Гедройц. Кстати, знаете ли Вы, что Гедройц умерла в марте? Она в свое время дала мне письмо к Ру, и он помог моему въезду в Швейцарию» (Новый журнал, 1968, кн. 92, с. 189-190).
* Мария Дмитриевна Нирод (урожд. Муханова) родилась 24 мая 1879 года в Царском селе С.-Петербургской губернии. Фрейлина. Замужем со 2 февраля 1903 года за флигель-адъютантом поручиком лейб-гвардии Конного полка графом Федором Михайловичем Ниродом. В 1915-1919 гг. Мария Дмитриевна - сестра милосердия, хирургическая сестра Царскосельского госпиталя. Скончалась 11 октября 1965 года в Киеве, похоронена на Байковом кладбище.
|
Метки: нироды гедройц |
Понравилось: 1 пользователю
Нироды |
Нироды
Графы Нироды — династия аристократов, живших в Царском Селе и Павловске и близких к императорскому двору. Генералы и фрейлины из этого обширного семейства блистали на дворцовых балах, а два представителя рода стали героями русско-японской войны: мичман Алексей Нирод погиб на крейсере «Варяг», его брат Георгий упокоился в бурных волнах моря вместе с крейсером «Светлана».
Но в семье не без изъяна.
В 1885 году Царское Село было фраппировано известием, что офицер Лейб-Гвардии Кирасирского ЕИВ полка, двадцатисемилетний граф Александр Александрович Нирод женится на «безродной» особе, ранее связанной брачными узами с князем Николаем Николаевичем Козловским и имевшей от него дитя – двухлетнюю девочку Наталию.
Отец нашего лейб-гвардейца, боевой генерал от кавалерии, граф Александр Евстафьевич Нирод:
Был женат на Софие Фёдоровне Штенгер, графине (1818 — 1905), похоронена на Казанском иноверческом кладбище.
Их дети:
- Юлия Александровна (ок. 1837 — после 1900) Замуж вышла в Павловске в 1856 за Константина Ермолаевича фон Баумгартена
- Наталия Александровна (Паулина Эрминия). (1839, Царское Село -1902, Царское Село).Казанское иноверческое кладбище Замужем за Константином Антоновичем Богушевским. Их дочь Юлия жила на Магазейной в доме Белозерова
- Софья Александровна (1843-1884)
- Александра Александровна (1846 -1895)
- Аделаида Александровна (1853-1926)
- Александр Александрович (1858, Царское Село — 1902).Казанское иноверческое кладбище ЦС. Офицер л.-гв. Кирасирского ЕИВ полка, ротмистр запаса гв. кав. (1888). Женат на Софье Ивановне Винклер.
Александр Евстафьевич умер четырьмя годами ранее мезальянса своего сына, молва предполагала, что «уж он-то не допустил бы…».
Нам неведомо, была ли эта особа авантюрной искательницей титула и наследственного имущества или сей брак стал результатом взаимного влечения сердец, но, как бы там ни было, законною супругою молодого графа Александра Александровича стала София Ивановна Винклер – «дочь еврея из Брест-Литовска, евангелическо-лютеранского вероисповедания», так обозначено в генеалогической росписи графов Ниродов.
Правда, тут возникает вопрос: как дочь еврея могла исповедовать лютеранство, свойственное более лицам немецкого происхождения, о чем говорит и фамилия Винклер? Да и отчество-то ее далековато от еврейского именования. Возможно, составители росписи внесли в нее некоторые моменты домыслов и слухов для вящего уничижения этой «беззаконной кометы», ворвавшейся в расчисленное созвездие Ниродов.
Через пару лет Александр Александрович оставил военную службу в звании ротмистра, затем обосновался с супругою в Варшавской губернии. Думается, София Ивановна стала поистине возмутителем спокойствия в обширном графском клане. Против нее затеялись ходатайства и прошения ко двору, в итоге которых ее супруг был обозначен как душевнобольной и «Высочайшим повелением Варшавскому ген.-губернатору над его личностью и имуществом была установлена опека родственников с устранением полным жены». Как знать, Александр Александрович, может быть, и имел некоторые проблемы с душевным здоровьем, но тут всё оказалось завязанным, видимо, не столь на личности, сколь на имуществе.
В общем, длилось это взаимонеприятие Софии Ивановны с матерью и сестрами ее мужа годами, усугубляясь новыми поворотами сюжета. В 1895 году определением Варшавского Окружного Суда ее дочь от первого брака с князем Козловским княжну Наталию удочерил Александр Александрович. Но прошение на Высочайшее Имя о предоставлении ей фамилии графа Нирода, отчества его имени и всех прав наследования родового имения было Высочайше отклонено.
А в 1896 году, спустя более десятка лет после этого замужества, София Ивановна родила сына Сергея. Наталия в ту пору вошла в гимназический возраст. По косвенным данным выходит, что проживали они уже в Петербурге или в Царском Селе. Нужно было думать о будушем детей – и, как гласит история графов Нирод, в 1898 году София Ивановна возбудила судебный процесс о передаче ей опеки над мужем (душевнобольным), а мать и сестры гр. А.А.Нирода подали встречный иск о ложном объявлении ребенка неизвестного происхождения сыном Александра Александровича и Софии Ивановны. В январе 1900 года Уголовное отделение С.-Петербургского Окружного Суда рассматривало «дело о мнимой беременности гр. Нирод и рождении младенца Сергея, отцовство которого молва приписала Прокудину-Горскому». Решением суда все обвинения, предъявленные графине, были отклонены.
Вот тут сделаем остановку в ходе этой истории. Очень даже похоже, что вышеупомянутый персонаж есть не кто иной как Сергей Михайлович Прокудин-Горский, родоначальник русской цветной фотографии, химик, изобретатель.
В 1896 году он уже был широко известен как фотограф. Был ли тот Прокудин-Горский действительно отцом младенца Сергея – остается загадкой. Адвокаты работали грамотно, генетической экспертизы тогда еще не существовало.
Что известно далее о персонажах этой истории? Граф А.А.Нирод умер в 1902 году на руках безутешной благоверной и был похоронен на Казанском кладбище Царского Села.
О его супруге известно лишь, что в 1909 она учредила «Товарищество графини Софии Ивановны Нирод» для строительства гидроэлектростанции на р. Куре под Тифлисом и скончалась 8 марта 1912 года в Санкт-Петербурге, обретя последний приют на кладбище Новодевичьего монастыря.
О ее дочери Наталье сведений найти не удалось. А вот судьба сына Софии Ивановны – Сергея Александровича Нирода завершилась трагично, о чем нам поведала Книга памяти Астраханской области. В 1919 году, будучи студентом Петроградского технического института, он оказался в Астрахани, где был арестован в июле месяце по подозрению в причастности к белогвардейскому заговору. Обвинение не предъявлялось, на арестном листе кратко помечено: "Расстрелян". Приговора и даты его исполнения в деле нет.
Царскосельские и павловские Нироды:
____________________________________________________
Нирод Николай Евстафьевич (Николай Фердинанд, Николай Астафьевич). (1806 — 1864).
Женился в 1837 на Эрминии Юлиане Анне (Эрминия Ермолаевна, Термина Ермолаевна) фон Фридерици — дочери директора Павловска, ген.-от-инф. Германа фон Фридерици.
Их дети:
- Нирод Герина Николаевна (Эрминия Вильгельмина Анна). (1839, Царское Село — 1896)
- Нирод Полина Николаевна (Гертруда Иоганна Паулина). (1839, Царское Село — 1905). Замуж вышла в Павловске в 1855 за Константина Генриховича (Константин Николаевич) Бодиско (1810 – 1882). Дочь Нирода Н.Е. и Фридерици Г.Е.
- Нирод Мария Николаевна (1844, Царское Село — 1935) замужем за фон Мензенкампфом
- Нирод Александр Николаевич (Александр Густав Мориц) (1847, Царское Село — 1913), крестник ЕИВ Имп. Николая I, вице-президент Имп. ЦС скакового общества (1901-1907), член Совета ГУ Гос. коннозаводства, шталмейстер ВД, тс. Вторым браком женат на Марие Васильевне Юнге
- Нирод Эмма Эрминия (1850, Царское Село — ?). Дочь Нирода Н.Е.
_________________________________________________
Нирод Михаил Евстафьевич (Отто Мориц, Мориц Густавович, Маврикий Евстафьевич), граф (1815 — 1871), генерал, герой Кавказской войны. ЦС инспектор, состоящий при инспекторе стрелковых бат. (1863-1866), пом. инспектора стрелковых бат. (1866-1871). ген.-лейт. Казанское иноверческое кладбище.
- Нирод Екатерина Михайловна (Екатерина Мария) (1850-1874, Царское Село). Казанское иноверческое кладбище
_________________________________________________
Нирод Евстафий Евстафьевич (Густав Иоганн Себастьян, Астафий Астафьевич. Густав Густавович). (1799 — 1881), Казанское иноверческое кладбище в ЦС. Командир ЛГ Уланского полка, генерал-лейтенант.
Женат на Штенгер Полине Федоровне (1817 — 1880), графиня, похоронена на Казанском иноверческом кладбище4
Их дети:
- Николай Евстафьевич (Густав Фридрих Николай) (1836, Царское Село — 1888, Франция). Свиты ЕВ генерал-майор, граф, с 1877 по 1883 годы состоял командиром ЛГ Кирасирского полка
- Александр Евстафьевич (Александр Вильгельм Юлиус) (см.ниже). (1839, Павловск — там же 1882). Казанское иноверческое кладбище ЦС.
- Елизавета Евстафьевна (Элоиза Августа Иоганна). (1842, Царское Село — 1919). Владелица дачи в Павловске
- Максимилиан Евстафьевич (Максимилиан Карл Бенедикт). (1846 -1914, Царское Село), крестник ЕИВ герцога Максимилиана Лейхтенбергского, Чиновник особых поручений при МВД, член СовМина ВД, егермейстер Высоч. Двора. Сын Нирода Е.Е, женат на Треповой А.Ф. — фрейлине ВД
- Михаил (Маврикий) Евстафьевич (Мориц-Николай-Понтус) (1852 — 1930)
- Его сын полковник Нирод Федор Михаилович (1878 — 1913, Красное Село). Казанское кладбище. Командир эскадрона ЛГ Конного полка, флигель-адъютант ЕИВ. полковник, Женат в 1903 на Марие Дмитриевне Мухановой (1879, Царское Село — 1965), фрейлина. В 1915-1919 гг. — сестра милосердия, хирургическая сестра Царскосельского госпиталя.
- Его сын мичман Нирод Алексей Михайлович (1882 — 1904). Погиб на крейсере "Варяг"
- Его сын мичман Нирод Георгий (Юрий) Михайлович (1884, Павловск — 1905). погиб во время Цусимского сражения, мичман, вахтенный офицер крейсера «Светлана». Внук Нирода М.Е., похоронен на Казанском иноверческом кладбище4
Сын Евстафия Евстафьевича — Александр, обосновался в Павловске:
Нирод Александр Евстафьевич (Александр Вильгельм Юлиус), граф (1839, Павловск - там же 1882). полковник, чиновник особых поручений при СПб градоначальнике (1875-1877), состоящий прикоманд. при Глав. штабе. Казанское иноверческое кладбище ЦС
Женат на Марии Карловне фон дер Шуленбург (1851 — 1908)
Их дети:
- Нирод Александр Александрович, граф (1874 — 1904).Казанское иноверное кладбище в ЦС. Офицер ЛГ 4 Стрелкового бат., капитан Генерального штаба, убит в бою под Гайчжоу, похоронен на Казанском иноверческом кладбище4
- Нирод Николай Александрович, граф (1875 — 1897). Казанское иноверное кладбище в ЦС. Офицер ЛГ 4 Стрелкового бат., подпор.
- Нирод Ольга Александровна (1876, Павловск -?) Фрейлина Высоч. Двора, с 1912 монахиня.
_____________________________________________
Еще несколько представителей рода Ниродов, похороненых на кладбищах Царского Села и Павловска:
- Нирод (урожд. фон Вартман) Иоганна-Шарлотта, графиня (1780-1868), Казанское иноверческое кладбище4
- Нирод Густав-Рейнгольд, граф (1799-1871), Казанское иноверческое кладбище4
- Нирод Александр Густавович, граф (1805-1881) — генерал-от-кавалерии, Казанское иноверческое кладбище4
- Нирод Густав, граф (1845-1884) — капитан-лейтенант, Казанское иноверческое кладбище4
- Нирод Наталия Александровна.(1872 — 1881). Казанское иноверческое кладбище ЦС, дочь Нирода А.Е.
- Нирод Надежда Апександровна (1880, Павловск — 1891).Казанское иноверное кладбище ЦС. Дочь Нирода А.Е.
- Нирод Георгий (1882-1882), младенец, умерший в день смерти, Казанское иноверческое кладбище ЦС
Источники:
- Брестский курьер
- Rodovid.org
- Материалы tsarselo.ru
- Царскосельский некрополь / Под редакцией Давыдовой Н.А., Груздевой Г.Ф. СПб.: Серебряный век, 2014 – 280 с., ил. С. 134https://tsarselo.ru/yenciklopedija-carskogo-sela/i...rskogo-sela-v-licah/nirody.htm
|
Метки: нироды |
ИЗ СОКРОВИЩ АЛУПКИНСКОГО ДВОРЦА-МУЗЕЯ.. |
ИЗ СОКРОВИЩ АЛУПКИНСКОГО ДВОРЦА-МУЗЕЯ..
ИЗ СОКРОВИЩ АЛУПКИНСКОГО ДВОРЦА-МУЗЕЯ
<Ссылки на фотографии из текста «Примечаний»>

(Немножко по ходу мои комментарии в скобках и курсивом )
В апреле 1919 г. хозяйка алупкинского имения графиня Елизавета Андреевна Воронцова-Дашкова с семейством младшей дочери графини И. И. Шереметевой покинула Крым на одном из английских кораблей, взявших курс на Мальту. (Речь идет о пресловутом рейсе линкора "Марльборо" из Ялты 21 апреля 1919 года, эвакуировавшего многочисленную родню Юсуповых-Эльстонов-Сумароковых) . Многочисленные беженцы были уверены, что свой дом и Родину они покидают временно. Оказалось, навсегда… В 1921 г. в знаменитом южнобережном дворце был открыт музей, в залах которого экспонировались художественные ценности, собранные несколькими поколениями Воронцовых. Семейные фотографии к их числу не относились, и в 1930-е гг. большая часть таковых вместе с письменными документами была передана в архивы Москвы и Крыма. Оставшиеся снимки полстолетия пролежали невостребованными в библиотеке музея. Лица, запечатленные на них, забылись, и научным сотрудникам пришлось немало потрудиться, чтобы заново определить «кто есть кто». В настоящее время многие старинные фотографии атрибутированы, изучены и заняли свое место в экспозициях музея-заповедника.
Самой старой в данном собрании является фоторепродукция с картины неизвестного художника «Обеденный стол в Кисловодске», сделанная в Тифлисе в 1859 г. Множество известных военных, служивших в 1850-е годы на Кавказе, собрались за большим столом, во главе которого наследник престола Великий князь Александр Николаевич и наместник Кавказа, светлейший князь М. С. Воронцов. Статичность фигур, застывшее выражение лиц указывают на то, что художник писал присутствующих на обеде не с натуры, а используя литографические портреты.( То есть? Фото картины, написанной с литографических портретов разных людей, собранных "до кучи"? )
Большой интерес представляет фотография Елизаветы Ксаверьевны Воронцовой. Жена М. С. Воронцова умерла в 1880 году. Ей было 88 лет. Возможно, что портрет согбенной старушки в темном платье и белой кружевной накидке на голове — одно из последних изображений женщины, некогда воспетой А. С. Пушкиным.
Среди немногочисленных семейных фотографий Воронцовых 1860—1870-х гг. выделяется портрет их сына — Семена Михайловича в генеральском мундире с адъютантскими аксельбантами, орденом св. Александра Невского. В петлице знаки орденов, на груди медали и массивная цепь городского головы. 23 декабря 1863 г., по введению в Одессе нового общественного управления (утвержденного 30 апреля 1863 г.) светлейший князь Семен Михайлович Воронцов большинством голосов (122 против 12) был избран городским головой. На получение им по телеграфу уведомления об этом графа Толстого, 25 декабря телеграммой на имя последнего ответил: «Глубоко тронутый доверием граждан города Одессы, принимаю столь лестное для меня назначение и употреблю все усилия и старания, чтобы оказаться достойным их выбора». Первый городской голова пореформенной Думы св. кн. С. М. Воронцов много потрудился для Одессы, но, закончив срок своей службы, отказался от дальнейшего служения. С 1851 г. С. М. Воронцов был женат на вдове Марье Васильевне Столыпиной, урожденной княжне Трубецкой. Фотография этой знатной светской красавицы в белом платье с кружевами, ожерельем из крупного жемчуга и портрет С. М. Воронцова выполнены очень профессионально неизвестным мастером. Им мог быть знаменитый петербургский фотограф Г. А. Деньер (1820—1892), автор лаконичного и выразительного изображения графа П. А. Шувалова. Его матушка — графиня Софья Михайловна (дочь М. С. и Е. К. Воронцовой), запечатлена в интерьере столичного фотоателье С. Л. Левицкого (1819—1898) в пятидесятилетне возрасте. В отличие от М. В. Воронцовой она не блистает нарядами и красивой внешностью, однако полна внутреннего достоинства.
Свидетельством близких отношений Воронцовых с английскими родственниками может служить любительская фотография с дарственной надписью: «Семену Воронцову от Эммы де Вессей». На ней изображен пожилой джентльмен, сидящий в кресле, рядом с ним стоит молодая дама. Надпись на обороте, сделанная той же рукой поясняет, что это — Виконт де Вессей с дочерью Фанни. Эмма, жена виконта, по материнской линии приходилась двоюродной сестрой Семену Воронцову, а Фанни, судя по фотографии, была удивительно похожа на свою русскую бабушку леди Екатерину Пемброк, урожденную графиню Воронцову.
Очаровательные малыши: Иван в тирольском костюмчике и его сестра Сандра в платьице с открытыми плечиками и крупными бусами на шейке — представители следующего поколения Воронцовых, носивших уже двойную фамилию Воронцовых-Дашковых. Это дети графа И. И. Воронцова-Дашкова и Елизаветы Андреевны, урожденной графини Шуваловой. Фотографии сделаны в 1871 году в Меране (Австрия). Остальные семейные фотографии датируются 1905—1915 гг., т. е. периодом кавказского наместничества И. И. Воронцова-Дашкова. В основном это портреты самого Иллариона Ивановича, его многочисленных внуков и внучек, заснятых в разном возрасте в модном фотоателье Фредерика Генриховича Боассона и Фрица Осиповича Эгглера в Санкт-Петербурге. Молодое поколение Воронцовых-Дашковых часто навещало главу семейства на Кавказе. Об этом напоминают фотоснимки, сделанные в Тифлисе Е. Кларом, а так же придворными фотографами Б. Мищенко и Б. Козаком. При отце служил младший сын графа Александр Илларионович (Сашка) — поручик лейб-гвардии Гусарского полка и флигель-адъютант Е. И. В.
Одна из интереснейших частей коллекции — событийные фотографии. Это любительские снимки 1905—1908 гг., где Илларион Иванович запечатлен на военных смотрах и учениях в Душете, встречах с местными властями и народом в отдаленных селениях. В его присутствии в 1912 году произошло зафиксированное в отдельном альбоме событие — «Освящение вагона-церкви на станции Тифлис Экзархом Грузии, архиепископом Иннокентием» (фотограф В. К. Гриневич). Этим священнослужителем графине Елизавете Андреевне были подарены две фотографии с посвятительными надписями. В 1906 году Наместник с женой посетили Эчмиадзин, где и встретились с католикосом всех армян Х. Мкртичем и архиепископом Кеворгом Суренянцем, будущим католикосом Армении. По воспоминаниям командира конвоя Н. А. Бигаева, Наместник не покидал Кавказ в течение трех лет, и только с 1908 г. стал летом вновь выезжать на время отпуска в свое имение Новотомниково Тамбовской губернии. Неторопливые прогулки в лесу с женой и внуками, сбор грибов, пикники на природе, размеренная деревенская жизнь прибавляли сил и энергии 70-летнему Воронцову-Дашкову, в остальное время всецело поглощенному заботой о мирном процветании Кавказа. Он не покинул вверенный ему край и в годы Первой мировой войны, хотя здоровье его резко ухудшилось.
23 августа 1915 г., сдав дела вновь назначенному Наместником Кавказа Великому князю Николаю Николаевичу (младшему), И. И. Воронцов-Дашков уехал в Алупку. Его сопровождала жена Елизавета Андреевна, сын Александр и группа военных, с которыми он заснялся на память на ступенях Львиной террасы. 15 января 1916 г. граф мирно скончался во дворце, построенном в Крыму в 1828—1848 гг. для наместника Кавказа, фельдмаршала, светлейшего князя М. С. Воронцова, которому Елизавета Андреевна Воронцова-Дашкова приходилась родной внучкой. (Боюсь, что последнее утверждение просто ложь. Данный дворец, как и прочее имущество, было захвачено в период Французской революции и последующих военных действий. Только признаваться в грабежах и воровстве "великим князьям и графьям" не пристало. Посему были писаны сказки о наследственности и великих заслугах. Хотя против "заслуг" возразить и сложно. Вопрос только, у кого выслужили? )
ПРИМЕЧАНИЯ К ФОТОГРАФИЯМ ВОРОНЦОВЫХ, ВОРОНЦОВЫХ-ДАШКОВЫХ
01.

Фотография с картины неизвестного художника. Имеется пояснительный текст: «№ 6746. Обеденный стол в Кисловодске Государя Наследника, ныне благополучно царствующего ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА, 21 сентября 1850 года, в доме статскаго советника А. Ф. Реброва. При оном присутствовали: с правой стороны Государя: князь М. С. Воронцов, Нач. Штаба П. А. Коцебу, князь А. И. Барятинский, Ф. А. Круковский, Л. М. (лейб-медик — прим. публ.) Двора Е. И. В. Енохин, Кап. Д. П. Золотарев, Полков. И. Д. Орбельян, Флигель-адютант граф П. А. Ламберг, князь Голицин, против Государя хозяин дома А. Ф. Ребров; с левой же стороны Государя: Генерал Ад. Заводовский, Ген.-Маиор Герасимов, Действ. Стат. Совет. Эрас. Андриевский, Г.-Маиор Д. А. Всеволожский, Ген.-Маиор И. И. Лещенко, Архитектор С. И. Уптон и Флигель-Адютант Е. И. ВЕЛИЧЕСТВА Гвардии-Полковник Г. Адлерберг. 1859 г. Гор. Тифлис.»
( Как прикажете понимать это высокое художество? Если принять на веру заявленную дату обеда, то перед нами не что иное, как сходка эльстонской братвы в процессе подготовки заговора и восстания 1853 года? Или же даты привычным образом сдвинуты назад и это что-то из событий времен охватившей Планету революции? В любом случае, имена стоит взять на заметку.)
02.

Воронцова Елизавета Ксаверьевна, урожденная графиня Браницкая (1792—1880), с 1819 г. жена гр. М. С. Воронцова (1782—1856). С 1823 года кавалерственная дама меньшого креста. В 1838 году пожалована в статс-дамы, с 1852 г. светлейшая княгиня. Неизвестный фотограф середины 1870-х гг.
(Старушка тоже из вояк? Или это фрейлинские титулы и награда? )
03.

Виконт де Вессей с дочерью Фанни. На лицевой стороне паспорту надпись на английском языке:“For Simon Woronzow From Ema de Vesse”, (Семену Воронцову от Эммы де Вессей), на оборотной стороне — “Viconot de Vesei & his daughter Fanni Marehionep of Bath. Photographed by his daughter Lady Richard Grosvenov”. (Виконт де Весей и его дочь Фанни. Фотография сделана его дочерью леди Ричард Гросвеноу)
Эмма де Вессей, урожденная Герберт (1819—?), пятая дочь Георга-Августа, 11 графа Пемброка и 8 графа Монтгомери (1759—1827) от графини Екатерины Семеновны Воронцовой (1783—1856). В 1839 г. вышла замуж за виконта де Вессей из аббатства Лейкс в Ирландии. От этого брака родились два сына и три дочери. Одна из них — Фанни — запечатлена с отцом на фотографии, сделанной в Англии в начале 1870-х гг.
04.

Воронцов Семен Михайлович (1823—1882) — светлейший князь, генерал-лейтенант, участник Крымской и Русско-турецких войн. Сын наместника Кавказа М. С. Воронцова и жены его Елизаветы Ксаверьевны. С 1851 года женат на М. В. Столыпиной, урожденной княжне Трубецкой. Неизвестный фотограф середины 1860-х гг.
(Только мне кажется странным упоминание первым делом фамилии бывшего мужа своей жены?)
05.

Воронцова Марья Васильевна, урожденная княжна Трубецкая (1819—1895) — светлейшая княгиня, в первом браке за флигель-адютантом Алексеем Григорьевичем Столыпиным (?—1847 г.). Неизвестный фотограф середины 1860-х гг.
(Лично у меня это мнимое родство со Столыпиными под большим вопросом.)
06.

Шувалова Софья Михайловна, урожденная графиня Воронцова (1825—1879), дочь М. С. и Е. К. Воронцовых, с 1844 г. жена графа А. П. Шувалова (1816—1876). Фотография С. Л. Левицкого (Фотоателье на Мойке, 30, Санкт-Петербург), 1870-е годы
07.

Шувалов Андрей Павлович (1816—1876) — граф, полковник, действительный статский советник, флигель-адютант. В 1838—1840 гг. член кружка «16-ти», сослуживец М. Ю. Лермонтова по Нижегородскому драгунскому полку. Активный участник Петербургского губернского земского собрания 1865—1867 гг., оппозиционер. Дважды в 1872 и 1875 гг. избирался предводителем дворянства Санкт-Петербургской губернии. С 1844 года женат на графине Софье Михайловне Воронцовой. Фотография 1870-х гг. с портрета А. П. Шувалова, написанного Ф. Винтерхальтером в Париже в 1857 г.
08.

Шувалов Петр Павлович (1819—1900) — граф, родной брат А. П. Шувалова. В 1838 г. закончил юридический факультет Императорского Санкт-Петербургского университета. Камер-юнкер. С 1856 г.— внештатный помощник секретаря Государственного Совета. С 1860 г. действительный статский советник, камергер, Санкт-Петербургский Предводитель дворянства с 1854 по 1863 гг. и председатель Петербургского дворянского собрания по разработке проектов земских учреждений. В отставке с 1863 г. Женат с 1846 г. на Софье Львовне Нарышкиной (1829—1894), троюродной сестре гр. Софьи Михайловны Шуваловой. Неизвестный фотограф, 1870-е гг.
09.

Шувалов Павел Андреевич (1846—1885) — граф. Старший сын А. П. и С. М. Шуваловых. В 1882 году по высочайшему повелению ему, как наследнику майоратного имения в роде князей Воронцовых, разрешено присоединить к своей фамилии титул, герб и фамилию М. С. Воронцова. Женат с на баронессе Е. К. Пиллар фон Пильхау (1861—1939) ( в первом браке Столыпиной). Фотография Деньера (H. Denier). Санкт-Петербург, на Невском проспекте у Полицейского моста, 23. 1870-е годы
(По-моему, это уже тенденция - жениться на разведенках Столыпиных.. Ну или огромное желание хоть как примазаться к фамилии)
10.

11.

12.

13.

10—13 <11, 12> Воронцов-Дашков Илларион Иванович (1837—1916) — граф, генерал от инфантерии, командир лейб-гвардии Гусарского полка (1867). Участник Кавказской войны (1859—1862), Туркестанского похода (1865—1866) и Русско-турецкой войны, свитский генерал, генерал-аютант, министр Императорского двора, канцлер Капитула российских орденов, председатель Главного управления Российского общества Красного Креста. Наместник Кавказа с 1905 по 1915 гг. Член Государственного Совета. Кавалер ордена св. Андрея, св. Владимира (3, 4 ст.), св. Георгия 4-ой степени, св. Станислава 1 ст., св. Анны 1 ст., Белого Орла, Красного Орла (Пруссия), Денеброг — Дания, Такова — Сербия, св. Александра Невского и Большого Креста Почетного Легиона. С 29. 01. 1867 г. ( Охотно верю в заслуженность ордена Красного Орла и очень сомневаюсь в получении Орла Белого )женат на графине Елизавете Андреевне Шуваловой (1845—1924). Портреты. Фотоателье Боассона и Эгглера. Санкт-Петербург, Невский, 24. 1905 г.
На оборотной стороне паспорту пометка карандашом: ЕВД (Елизавета Воронцова-Дашкова — Прим. публ.), 1905.
14.

Воронцова-Дашкова Елизавета Андреевна (1845—1924) — графиня, жена И. И. Воронцова-Дашкова. Статс-дама русских императриц, дама ордена св. Екатерины. Дочь графа Андрея Павловича Шувалова и его супруги Софьи Михайловны, урожденной графини Воронцовой. Фотография Б. Мищенко. Тифлис. 1905 г.
(Вот здесь я не очень поняла.. мать была Воронцовой и дочь вышла замуж за Воронцова..
Надо связь отследить..)
15.

Воронцов-Дашков Иван Илларионович (1868—1897) — граф. Старший сын Иллариона Ивановича и Елизаветы Андреевны Воронцовых-Дашковых, полковник, старший офицер лейб-гвардии Гусарского полка, флигель-адютант Е. И. В. Великого князя Михаила Александровича. Наследник майоратного имения Воронцовых. С 1891 года женат на Варваре Давыдовне Орловой (1870—1915). Фотография F. Largajoli. Меран (Тироль). 1871 г. На оборотной стороне надпись: Ваня. Meran, Dicember 1871».
16.

Воронцова-Дашкова Александра Илларионовна (1869—1959) — графиня. Старшая дочь Иллариона Ивановича и Елизаветы Андреевны Воронцовых-Дашковых, с 1890 г. замужем за графом Павлом Павловичем Шуваловым (1858—1905), убитым террористами в Москве в 1905 г. Фотография F. Largajoli. Меран. (Тироль). 1871 г.
( а здесь уже Воронцова, но замужем за Шуваловым, мать при этом получается тоже Шувалова? )
17.

Воронцов-Дашков Александр Илларионович (1881—1938) — граф. Сын Иллариона Ивановича и Елизаветы Андреевны Воронцовых-Дашковых. Закончил Пажеский корпус, флигель-адютант Е. И. В., поручик лейб-гвардии Гусарского полка. Женат с 1919 г. на Анне Ильиничне Чавчавадзе. Фотоателье Боассона и Эгглера. Санкт-Петербург, Невский, 24. 1911 г. Справа под портретом подпись: «Сашка. 1911»
18.

Воронцова-Дашкова Варвара Давыдовна (1870—1915), урожденная Орлова, с 1890 г. жена графа Ивана Илларионовича Воронцова-Дашкова. Фотоателье Е. Клара. Тифлис. 1910 г. Под портретом внизу подпись:
«Sin. 1910». Синь — домашнее имя В. Д. Воронцовой-Дашковой
19.

Воронцова-Дашкова Варвара Давыдовна с младшим сыном Иваном (1898—1966). Фотоателье Е. Клара. Тифлис. 1908 г.
20.

Воронцов-Дашков Илларион Иванович (1893—1920) — граф, сын Ивана Илларионовича и Варвары Давыдовны Воронцовых-Дашковых. Умер от тифа 22 января 1920 года в Новороссийске. Неизвестный фотограф. Санкт-Петербург. 1910-е годы
(Сомнительная информация. В 1919 году Воронцовы покинули "Родину" на "Марльборо". Как мог он снова оказаться в 1920 году в Новороссийске? Разве что был военным.)
21.

22.

21—22 Воронцова-Дашкова Софья Ивановна (1892—1958) — графиня, дочь Ивана Илларионовича и Варвары Давыдовны Воронцовых-Дашковых. С 1912 г. жена князя Владимира Леонидовича Вяземского (1889—1960). Фотоателье Боассона и Эгглера. Санкт-Петербург, Невский, 24. 1910-е гг.
23.

Шувалова Александра Павловна (1893—1968) — графиня, дочь Павла Павловича и Александры Илларионовны Шуваловых. С 1912 г. жена князя Дмитрия Леонидовича Вяземского (1884—1917). Во втором браке за Александром Николаевичем Ферзеном (1895—1934). Воронцова-Дашкова Софья Ивановна — двоюродная сестра А. П. Шуваловой. Фотоателье Боассона и Эгглера. Санкт-Петербург, Невский, 24. 1910-е гг.
24.

Вяземская (урожд. Воронцова-Дашкова) Софья Ивановна, княгиня. Фотоателье П. Жукова. Петроград, Морская 12. 1917 г. Под портретом внизу подпись: «Софи 1917.»
25.

26.

25-26 Шувалова Мария Павловна (1894—1973) — графиня, дочь Павла Павловича и Александры Илларионовны Шуваловых. С 1917 г. жена князя Дмитрия Александровича Оболенского (1882—1964). В разводе. В 1921 г. вышла замуж за графа Андрея Дмитриевича Толстого (1892—1963). Фотоателье Боассона и Эгглера. Санкт-Петербург, Невский, 24. 1914 г. Под портретом внизу подпись: «Мая 1914.» Мая — домашнее имя М. П. Шуваловой
27.

Воронцова-Дашкова Мария Илларионовна (1903—1997) — графиня. Дочь графа Иллариона Илларионовича Воронцова-Дашкова (1877—1932) от брака с Ириной Васильевной Нарышкиной (1879—1917). С 1922 г. замужем за князем Никитой Александровичем Романовым (1900—1974), сыном вел. князя Александра Михайловича и его супруги вел. княгини Ксении Александровны. Фотоателье Боассона и Эгглера. Санкт-Петербург, Невский, 24. 1910-е гг.
28.

Воронцов-Дашков Михаил Илларионович (1904—1983) — граф. Сын графа Иллариона Илларионовича Воронцова-Дашкова и Ирины Васильевны Нарышкиной. Женат с 1934 на княжне М. П. Мещерской (р. 1912), разведены с 1941 г. Фотоателье A. Gecele. Санкт-Петербург, 1910 г.
29.

Воронцов-Дашков Роман Илларионович (1901—1993) — граф. Сын графа Иллариона Илларионовича Воронцова-Дашкова и Ирины Васильевны Нарышкиной. Женат с 1927 г. на Жульетте Хадум. Разведены в 1928 г. Во втором браке (с 1975) жена — Е-К. Садтлер (1914—?). Фотоателье Боассона и Эгглера. Санкт-Петербург, Невский, 24. 1910-е гг.
30.

Воронцов-Дашков Александр Илларионович (1905—2003) — граф. Сын графа Иллариона Илларионовича Воронцова-Дашкова и Ирины Васильевны Нарышкиной. Женат с 1951 г. на А. Д. Мироновой (Никиш) (1911—1991). Фотоателье Боассона и Эгглера. Санкт-Петербург, Невский, 24. 1910-е гг.
31.

32.

31—32 Вяземский Борис Леонидович (1883—1917) — князь, с женой Елизаветой Дмитриевной, урожденной графиней Шереметевой (1893—1974), (вторым браком с 1921 г. за графом С. А. Чернышевым-Безобразовым (1894—1972). Фотоателье придворного фотографа Б. Мищенко. Тифлис. 1912—1915 гг.
33.

Кочубей Николай Васильевич (1885—1947) — офицер конногвардеец с женой Варварой Александровной, урожденной княжной Долгорукой (1885—1980), фрейлиной императриц. Фотоателье Боассона и Эгглера. Санкт-Петербург, Невский, 24. 1910-е гг.
34.

Кочубей Варвара Александровна. Фотоателье Боассона и Эгглера. Санкт-Петербург, Невский, 24. 1910-е гг.
35.

Долгорукая Софья Петровна (1907—1994) — княжна. Дочь князя П. А. Долгорукого (1883—1925) и Софьи Алексеевны (1887—1949), урожденной графини Бобринской. Фотоателье Боассона и Эгглера. Санкт-Петербург, Невский, 24. 1910-е гг.
36.

Строганов Павел Сергеевич (1823—1911) — граф, с женой Анной Дмитриевной, урожденной графиней Бутурлиной (?—1906). Неизвестный фотограф. Тамбовская Губ. 1906 г.
Под изображением надпись: «С. Знаменское-Кариян. 6 июля. 1906»
37 -38.(38-го фото нет)

Граф Воронцов-Дашков Илларион Иванович — наместник Кавказа
Почтовая открытка Тифлис. 1905 г.
39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

<39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,46> Граф И. И. Воронцов-Дашков на военных учениях. Неизвестный фотограф. Кавказ. 1905 г.
(Хороши "учения", надо заметить.. кого-то даже похоронили и крест поставили.. Бывает.)
47.

48.

49.

50.

<47-50> Граф И. И. Воронцов-Дашков в Душете. Неизвестный фотограф Кавказ. 1908 г.
51.

Воронцов-Дашков Александр Илларионович Фотограф Б. Козак (Придворная фотография Б. Мищенко. Преемник Б. Козак). Тифлис. 1915 г. Внизу под портретом подпись: «Сашка. Тифлис 1915»
52.

На оборотной стороне паспорту белая бумажная наклейка с машинописным текстом: «Судьи на джигитовке 1 мая 1915 г. 1. Граф Александр Илларионович Воронцов-Дашков. 2. Князь Гурамов. 3. Полковник Тускаев. 4. Командир конвоя Бигаев. 4. Адютант конвоя Перекотий». Неизвестный фотограф. Грузия. 1915 г.
53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

<53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62> Альбом в зеленом картонном переплете с надписью «10 сентября 12| Освящение вагона церкви на ст. Тифлис Экзархом Грузии, Архиепископом Иннокентием в присутствии Наместника Его Императорского Величества графа И. И. Воронцова-Дашкова и супруги его статс дамы Графини Елизаветы Андреевны». Фотографии В. К. Гриневича. Тифлис. 1912 г.
(Очень интересно. "Опиум для народа" набирает обороты?)
63.

Архиепископ Иннокентий (1862—1913), (в миру Иван Васильевич Беляев) постоянный член Святейшего Синода (1909—1913). В 1909 году стал Экзархом Грузии. Придворная фотография Б. Мищенко. Тифлис. 1910-е гг.
64.

Архиепископ Иннокентий. На лицевой стороне паспорту надпись: «Ея Сиятельству
досточтимой графине Елизавете Андреевне Воронцовой-Дашковой. Экзарх Грузии Архиепископ Иннокентий». Придворная фотография Б. Мищенко. Тифлис. 1910-е гг.
65.

Мкртич (Хримян Хайрик) (1820—1907) — католикос всех армян. Автор богословских, поэтических и педагогических сочинений. Наместник Кавказа гр. И. И. Воронцов с женой Елизаветой Андреевной посетили больного католикоса в Эчмиадзине в декабре 1906 год. Фотосалон придворного фотографа Г. В. Трунова. Москва. 1900-е гг.
Надписи на армянском языке: под фотографией «на память от отца всех армян», на оборотной стороне: «графине Елизавете Андреевне Воронцовой-Дашковой. 20 декабря 1906 г.»
(А чего? До него ни Армении, ни армян не было что ли?)
66.

Кеворг (Геворг V) Суренянц (1846—1930) — католикос всех армян (1912—1930). Происходил из потомственных дворян. В 1868 г. окончил первую классическую гимназию в Тифлисе. Уехал в Эчмиадзин, где в 1871 г. рукоположен в дьяконы, затем в иеромонахи, а в 1872 г. — в архимандриты. В сентябре 1874 г. он был назначен преподавателем новооткрывшейся духовной академии Геворгян, через год — инспектором армянской духовной семинарии в Шуши и одновременно заместителем главы Карабахской епархии; в 1877 г. — настоятелем монастыря св. Товмы в Верхнем Агулисе и инспектором местных училищ; в октябре 1878 г. — викарием предводителя Александропольской епархии, где основал школу и церковь Сурб Аствацацин; в 1881 г. — заместителем главы Ереванской епархии; 9 мая 1882 г. Католикосом Геворгом IV рукоположен в епископы. В 1886 г. Суренянц был назначен главой Астраханской епархии, а в 1894—1904 гг. вел должность предводителя Тифлисской епархии. В январе 1895 г. получил титул архиепископа. В 1906 г. стал членом Синода св. Эчмиадзина. После смерти католикосов Мкртича I Хримяна и Маттеоса II Измирляна Г. Суренянц исполнял обязанности заместителя католикоса. 13 декабря 1911 г. он был избран Католикосом Всех Армян, а 1 июля 1912 г. — помазан. В период Балканских войн 1912—13 гг. и Армянских реформ 1912—14 гг., когда вновь был возбужден Армянский вопрос, Геворг V 2 октября 1912 г. обратился к правительству России с просьбой о вмешательстве и содействии возобновлению вопроса о реформах в Западной Армении. Специальным кондаком он образовал армянскую Национальную делегацию под руководством Погоса Нубара-паши и уполномочил ее отстаивать интересы армянского народа в европейских государствах. Католикос Всех Армян Геворг V Суренянц скончался 8 мая 1930 г. Фотоателье К. А. Шапиро. Санкт-Петербург. Невский пр., 18—12. 1894 г.
На оборотной стороне дарственная надпись: «Благословляю благочестивую графиню Елизавету Андреевну, Воронцовой — Дашковой 21 ноября 1907 г. м. Эчмиадзин. Смиренный богомолец Архиепископ Кеворг Суренян| В 1894 г. был представителем Патриарха при похоронах в Бозе почившего императора Александра III и при бракосочетании императора Николая II 14 ноября| Фотографическая карточка снята 1894 году».
67.

Кеворг (Геворг V) Суренянц. Фотоателье «Cabinet. Portrait». Россия, нач. ХХ века
На оборотной стороне надпись: «Благочестивая графиня, удостойте принять это приношение с свойственною Вам благосклонностью, как слабую дань признательности за Ваши милости и благодеяния. 21 ноября 1907 г. м. Эчмиадзин. Смиренный богомолец Архиепископ Кеворг Суренянц. Ея Сиятельству Графине Елизавете Андреевне Воронцовой-Дашковой. Фот. карточка снята в 1906 году»
(У кого-нибудь еще есть вопросы о том, кто основатель религий и с какой целью? Полюбуйтесь наградами смиренных богомольцев! Благо, что в отличие от нынешних, еще в одежках скромны и золотом не увешены. Наверное, еще не дотумкали, что это и доходный бизнес тоже )
68.

69.

70.

71.

72.

<68, 69, 70, 71,72> Ново-Томниково — родовое имение графа Иллариона Ивановича Воронцова-Дашкова. В Тамбовской губернии. Неизвестный фотограф. Россия. 1908—1913 гг.
73.

74.

Граф Воронцов-Дашков Илларион Иванович. Фотография Б. Козака. Тифлис. 1913 г.
75.

Граф Воронцов-Дашков Илларион Иванович с группой офицеров на Львиной террасе Воронцовского дворца. Фотография А. Э. Циммермана. Алупка. 1915 г
Публикация Г. Г. ФИЛАТОВОЙ
Метки: Загадочное, Кривое Зазеркалье, Линия Власти
|
Метки: крым воронцовы-дашковы алупка дворянские владения |
Процитировано 2 раз
Понравилось: 1 пользователю
Сражения Первой мировой войны в Беларуси. 1915-1917 |
International Art Project
Сражения Первой мировой войны в Беларуси. 1915-1917Вячеслав Васильевич БОНДАРЕНКО, На территорию современной Беларуси Первая мировая война пришла поздним летом 1915 года. Причиной тому было масштабное отступление русского Юго-Западного фронта, стоявшего на Украине. Его отход повлек за собой отход и Северо-Западного фронта, действовавшего в Польше. Постепенно сдвигаясь по карте восточнее, русские армии отошли из Польши в Беларусь. 3 августа на совещании Ставки Верховного Главнокомандующего в Волковыске было решено разделить Северо-Западный фронт на два – Северный со штабом в Пскове и Западный со штабом в Минске. Западный фронт возглавил опытный военачальник генерал от инфантерии М.В. Алексеев. Западный фронт получил следующие задачи: «1) Прочно удерживать в своих руках Гродно-Белостокский район и фронт от верхнего Нарева до Бреста включительно; 2) Прикрывать пути по правому берегу верхнего Буга к фронту Брест – Кобрин – Пинск – Лунинец». Кроме того, предписывалось «прочно удерживать крепость Брест и ее район». Разграничительная линия между Северным и Западным фронтами прошла по линии Августов, Августовский канал до селения Горчица и далее на селение Копциово, Лейпуны, Дубокланцы, Марцинканцы, Вороново, Сурвелишки, Лоск, Молодечно, Сенно и станцию Заболотники. Раздел фронтов должен был осуществиться 17 августа. Получив от Верховного Главнокомандующего эти распоряжения, генерал от инфантерии М.В.Алексеев отдал 4 августа директиву «для предварительных распоряжений». Согласно ей, в район Вильно перебрасывались Гвардейский, 2-й Сибирский и 2-й Кавказский корпуса и объявлялся состав фронта. В него входили 1-я, 2-я, 3-я и 4-я армии. Позицию для Западного фронта М.В. Алексеев предложил следующую: от Липска на Белосток, Бельск, Брест-Литовск; далее – западнее Немана: Гродно, Крынки, Гайновка, Каменец-Литовский, р. Лесна, Брест-Литовск, Ратно; Ораны, Гродно, р. Неман и Свислочь, Шергаево, Жабинка, Дивин, Пинск; Олькеники, Мосты, Ружаны, Ясельда. Эти распоряжения Алексеева были одобрены Верховным Главнокомандующим. Он отметил, что «не желает стеснять никакими указаниями» генерала и подчеркнул, что руководство всеми операциями обоих фронтов «должно всецело лежать на Вас». Непосредственные боевые действия на территории нынешней Республики Беларусь начались 12 августа 1915 г., когда германские и австро-венгерские войска предприняли попытку захвата Брест-Литовской крепости. Германцы подошли к крепости с северо-запада, австро-венгры – с юго-запада. Орудия западных фортов начали обстрел неприятеля, немцы начали отвечать. Вскоре началась бомбежка крепости с самолетов; кроме бомб, они сбрасывали также листовки, в которых заранее сообщалась дата падения Бреста – 14 августа. Между тем команда подрывников под командованием штабс-капитана Еремеева под вражеским огнем готовила к взрыву капониры фортов первой линии Тереспольского отдела. Утром 12 августа австрийцы пошли в атаку, решив эффектно ворваться в крепость на глазах у союзников. Сохранилось следующее свидетельство очевидца: «Австрийцами, которых посылали вперед, чтобы атаковать передовые оборонительные сооружения укрепления, защищавшего вход в Брест-Литовск, номинально командовали их собственные офицеры, в действительности это были немцы… Ранним утром… они начали отчаянный штурм фортов, которые простирались от деревни Высоко-Литовск, где стоял роскошный замок графини Потоцкой, до самого города Бреста. В течение целого дня они сражались без перерыва, и тысячи человек погибли в траншеях, которые приходилось брать штыковой атакой. Русские отошли к Бугу, защищая свои позиции сантиметр за сантиметром». Это описание неточно – так, никаких фортов у деревни Высоко-Литовск не существовало, да и порыв австрийских пехотинцев достаточно быстро был укрощен внезапными взрывами фугасов, заложенных русскими минерами у форта «К». Последовавшая затем контратака полков 81-й пехотной дивизии не оставила австрийцам ни шанса на удачу. Однако расквартированные в крепости части оказали ожесточенное сопротивление, в результате чего бои за крепость растянулись на весь день. В ночь с 12 на 13 августа гарнизон крепости по приказу командования взорвал укрепления и покинул крепость. Чуть раньше был на 80 процентов уничтожен сам город Брест-Литовск. В ночь на 13 августа М.В. Алексеев распорядился начать общий отход на линию Неман, Гродно, Кузница, Городок, Рудня, Шерешево, Кобрин. Отход должен быть исполнен в два или три перехода по ближайшему распоряжению командующих армиями. К 22-му предполагалось левый фланг сдвинуть еще на линию Гродно, Мосты, Ружаны, р. Ясельда; пока этот район предписывалось удерживать, так как там были в разгаре окопные работы. Но уже 16 августа германцы огромными силами обрушились на все корпуса 3-й армии, кроме левофлангового. В результате был оставлен город Пинск. Некоторые части были сбиты с позиций, и командующий армией Леш попросил разрешения в ночь на 17 августа отойти на линию Пружаны, Муховлок, Большие Болота. Изменили положение также 2-я и 4-я армии – они оставили линию Немана и отошли на линию Мстибово, Новый Двор, Пружаны. 1-й армии предписывалось три дня удерживать линию Гродно, Индура: нужно было закончить инженерные работы в Гродно. На основании вышеперечисленных сведений может возникнуть мысль, что весь этот бесконечный отход совершался русскими армиями в спешке, чуть ли не в панике. К таким же выводам, как мы помним, пришел и управляющий военным министерством А.А. Поливанов. Однако еще раз повторимся – все перемещения наших вооруженных сил были санкционированы вышестоящим начальством. «Мы отступали на заранее подготовленные инженерным ведомством позиции, иногда даже укрепленные колючей проволокой, – вспоминал генерал-майор Д.И. Ромейко-Гурко, летом-осенью 1915 г. начальник штаба 14-го армейского корпуса 3-й армии. – Когда немцы подходили к такой позиции, они разворачивались и производили усиленную разведку, обыкновенно на другой день. На следующий день они обычно открывали по нам артиллерийский огонь, а на третий энергично атаковали. Мы же отступали на следующую, заранее укрепленную позицию. Рядом с нами шел 3-й Сибирский корпус. Он действовал более энергично, задерживая немцев иногда более суток. Так продолжалось около 10 суток. Стреляли мы мало, так как в снарядах и патронах был большой недостаток». 20 августа 1915 г. главкома Западного фронта М.В. Алексеева сменил в должности генерал от инфантерии А.Е. Эверт (М.В. Алексеев занял при этом пост начальника штаба Верховного Главнокомандующего). В то же время германские военачальники строили планы относительно дальнейшего развития кампании 1915-го в Беларуси. Единодушия по поводу того, как именно нужно воевать дальше, у верхушки германской армии в то время не было. Начальник Генерального штаба, генерал пехоты Эрих фон Фалькенхайн, к примеру, считал, что после вытеснения русских из Польши крупных операций предпринимать не стоит. Он писал: «Еще 9 августа имелась, казалось, прочная надежда, что удастся помешать прорваться к востоку большим русским силам, стесненным в пространстве Нарев, Висла, Вепрж, Влодава, и уничтожить их... Но скоро, однако, выяснилось, что от этого придется отказаться... Противнику, очевидно, удалось своевременно извлечь свои главные силы из опасного для него района. В этом ему помогла сохранившаяся у него оперативная свобода в пространстве к северо-западу и северу от Брест-Литовска». Тем самым Фалькенхайн фактически признавал, что битву за Польшу германская армия не выиграла – русские выровняли фронт и, следовательно, развивать наступление смысла нет. Генералы Пауль фон Гинденбург и Эрих Людендорф были категорически не согласны с такой точкой зрения. Они считали, что нужно немедленно развивать наступления вглубь российской территории, ибо спасение Германии – только в скорейшем выведении из войны России. Окончательное решение оставалось за Верховным Главнокомандующим – императором Вильгельмом II. Он занял сторону Гинденбурга и Людендорфа и приказал им провести в Беларуси наступательную операцию. Основной удар предполагалось нанести от Вильно на Минск, а вспомогательный – от Ковно на Двинск и от верхнего течения Немана – на Лиду и Барановичи. 24 августа в войсках германской 10-й армии был зачитан приказ по германскому Восточному фронту: «10-я армия переходит в наступление своим левым крылом с 27 августа. Генерал Гарнье с 1-й и 9-й кавалерийскими дивизиями, а также с 3-й, что переводится из Неманской армии, энергично действует с того же числа от района Вилькомира в полосе Кукуцишки – Уцяны. Армии стараться возможно все усиливать свое наступающее левое крыло» Так началась Виленская операция 1915 года – попытка германских войск прорвать русский фронт и, сея панику в тылах, захватить город Молодечно. В то время Молодечно был важнейшим железнодорожным узлом, кроме того, именно на этом городе были замкнуты линии секретной военной и правительственной связи. Захвати немцы Молодечно – и в управлении русскими фронтами начался бы хаос, который привел бы к катастрофе. Задача захвата Молодечно была поставлена мобильной кавалерийской группе генерала О. фон Гарнье в составе четырех дивизий. Однако главком Западного фронта А.Е. Эверт вовремя разгадал замысел противника и бросил наперерез ему только что созданную 2-ю армию под командованием генерала В.В. Смирнова. Созданная «с миру по нитке», сильно потрепанная в арьергардных боях, 2-я армия сумела, тем не менее, не только задержать продвижение врага вглубь Беларуси, но и отбросить его. В середине сентября 1915 г. русские войска освободили захваченные противником города Сморгонь и Вилейка. К октябрю 1915 г. наступательный порыв немецких войск окончательно выдохся – линия фронта начала застывать на рубеже Поставы – Сморгонь – Крево – Барановичи – Пинск. Обе стороны начали зарываться в землю, возводить мощные линии обороны. Таким образом, Виленское сражение 1915 г. было фактически проиграно Германией, которая не выполнила ни одну из поставленных перед собой целей – не вывела Россию из войны и не разгромила ее вооруженные силы. 11 февраля 1916 г. в могилевской Ставке состоялось совещание, посвященное дальнейшим действиям Западного фронта. В связи с тяжелым положением, сложившимся на французском фронте, у стен крепости Верден, было решено оказать союзникам помощь и начать наступление в районе озера Нарочь. Главком Западного фронта А.Е. Эверт указал на невыгодность погодных условий, на неготовность его войск к операции, но его доводы не были услышаны. В итоге Нарочскую операцию было поручено провести генералу от инфантерии А.Ф. Рагозе, уроженцу Витебска, выпускнику Полоцкого кадетского корпуса. Он был временно назначен командующим 2-й армией. Директива Ставки, переданная в войска 3 марта, ставила следующие задачи: «Государь Император повелел: 1. Армиям перейти в наступление для нанесения энергичного удара германским войскам, действующим против Северного и правофланговых армий Западного фронтов. 2. Общая цель действий при настоящей операции – достижение линии Митава – Бауск – Вилькомир – Вильна – Делятичи. 3. Ближайшая цель действий – овладеть и прочно утвердиться на линии река Лауце – озеро Саукен – Окнисты – Ново-Александровск – Дукшты – Давгелишки – Свенцяны – Михалишки – Гервяты. 4. Главные удары направить: Северному фронту из Якобштадтского района в общем направлении на Поневеж; Западному фронту войсками 2-й армии – в общем направлении на Свенцяны – Вилькомир. 5. Независимо от сего, Северный фронт атакует частями 12-й армии от Пулькарна и м. Икскюля в общем направлении Бауск – Шенберг; Западный фронт, сообразуясь с развитием операции на главном направлении, наносит удар в направлении Вильны. 6. В интересах нанесения удара решительного и сильного, Северному фронту оставить в районе Валка – Вольмара лишь строго необходимые силы для охраны побережья севернее Риги, если оставление там войск признается нужным. 7. Удар должен быть решительным и произведен с полной энергией и напряжением, оказывая взаимное содействие во фронтах и армиях. 8. Левофланговые армии Западного фронта и Юго-западный фронт удерживают перед собой силы противника, а в случае его ослабления – решительно атакуют. 9. Начало наступления назначается на пятое марта, Северному фронту предоставляется начать шестого числа. 10. Необходимо широко использовать конницу для внесения возможно большего расстройства в организацию тыла противника после прорыва, хотя бы в течение первых двух-трех дней. Особенно желателен набег в направлении Муравьево – Шавли. 11. Гвардейскому отряду продолжать сосредоточение в указанном ему районе, откуда он будет направлен для развития операции сообразно обстановке. 12. Штабам фронтов озаботиться приближением укомплектований для пополнения потерь в период операции». Таким образом, в ходе операции Русская Императорская армия должна была решительным ударом вышибить противника с белорусских земель и развить наступление в Литве и Латвии с выходом к Митаве (ныне – латвийский город Елгава), Бауску (ныне Бауска), Вилькомиру (ныне литовский город Укмерге) и Вильно (Вильнюсу). Однако стратегическая цель у операции, которая впоследствии получит названия Нарочской, была другой: помешать германцам обрушиться всеми силами на Францию. Русский Западный фронт должен был спасти Верден и Париж… Задача, стоявшая перед Западным фронтом, была весьма нелегкой. С октября 1915-го линия фронта, разделившая Белоруссию надвое, успела затвердеть. Германцы подходили к укреплению своих позиций весьма основательно. Как правило, они отрывали несколько линий окопов, составлявших укрепленную полосу до полутора километров в глубину. Через 15-20 шагов – закрытые траверсы, щелеобразные, треугольные и прямоугольные бойницы. Во многих окопах устраивались трапециевидные бойницы для минометов и пулеметов. В 30 шагах позади окопов делались землянки, каждая на 9 человек, далее в 100-150 шагах возводилась вторая линия окопов. Первая линия прикрывалась проволочными заграждениями в одну, а местами – в две полосы, прикрытые спереди и сзади рогатками. Первая полоса была выдвинута на 50-60 шагов от окопов, вторая обычно проходила близ самого бруствера. Первая линия обыкновенно в две рогатки, высотой 2 аршина, шириной 5-6 шагов. Вторая – колья в 5-6 рядов, местами 10-11. Лощины и рвы, как правило, были завалены срубленными деревьями. Южнее, в районе Сморгонь – Крево, германцы возвели множество бетонных ДОТов (они отлично сохранились по сей день), но в полосе наступления 2-й армии их не было. На всем протяжении фронта русским войскам противостояла 10-я германская армия генерала пехоты Германа фон Эйхгорна – та самая 10-я армия, которая осенью 1915-го рвалась вглубь России. Словно сама судьба сводила русскую 2-ю и германскую 10-ю армии. Правда, силы их в марте 1916-го были несопоставимыми. Немецкие 31-я, 42-я, 115-я пехотные, 75-я резервная, 10-я ландверная дивизии, 9-я ландверная бригада, 3-я, 9-я и Баварская кавалерийские дивизии вместе взятые составляли 282 214 штыков (против 355 989 русских) и 8200 сабель (против 16 943 русских). Более-менее сравнимым было лишь количество артиллерии – 576 легких германских орудий против 605 русских и 144 тяжелых германских орудия против 282 русских. На протяжении двух недель 2-я армия героически «ломала» германскую оборону на Нарочи. Офицеры и солдаты, проваливаясь по колено в талую воду, шли в убийственные лобовые атаки на колючую проволоку и германские пулеметы… Но прорвать немецкий фронт так и не удалось. В результате Нарочской операции Западного фронта, продолжавшейся с 5 по 17 (а фактически – по 18) марта 1916 г., русскими войсками было захвачено 1200 пленных, 15 пулеметов, несколько сотен винтовок и 10 квадратных километров территории противника. Но эти трофеи никоим образом не были сопоставимы с потерями. Той же территории на правом фланге потеряли 70 квадратных километров. А потери в живой силе просто ужасали. В группе Плешкова было убито и ранено 582 офицера и 47 896 нижних чинов, в группе Балуева – соответственно 423 и 28 672, в группе Сирелиуса – 13 и 859. Всего 1018 офицеров и 77 427 нижних чинов убитыми и ранеными!.. Из этого колоссального числа 12 тысяч человек было обморожено и замерзло и 5 тысяч погибло на германских проволочных заграждениях. Автор «Истории Русской армии» А.А. Керсновский оценивает потери при Нарочи в 20 тысяч убитых, 65 тысяч раненых и 5 тысяч пропавших без вести. Немцы оценили потери русских в 110 тысяч человек. Однако эту цифру стоит подвергнуть сомнению, так как свои потери германцы занизили и определили в 20 тысяч. Вероятнее всего, что германская сторона в Нарочской операции потеряла около 30-40 тысяч убитыми и ранеными. Долгие годы Нарочская операция 1916 г., «Нарочская Голгофа», как ее назвал А.А. Керсновский, оставалась одним из самых «неупоминаемых» сражений Великой войны. Причины этого лежат на поверхности. Никто не любит вспоминать действия, которые не привели ни к каким результатам. А кроме того, уже через два года мученики Нарочи из героев превратились в военных преступников, защищавших «прогнивший царский режим», и славить их мужество отныне никому и в голову не приходило… Но терновый венец Нарочи, который снискали русские полки в марте 1916 г., заслуживает, по меньшей мере, почтения и памяти. Доблесть наших воинов, которые, проваливаясь по колено в талую воду, шли на германскую колючую проволоку, достойна восхищения, и это в голос отмечали все немецкие военачальники, начиная с Гинденбурга и Фалькенхайна. Кроме того, заслуживает уважения сама попытка Западного фронта прорвать укрепленную полосу противника, тем самым показав германцам, что они расположились в Белоруссии отнюдь не навечно. Нарочское сражение стало первой наступательной операцией Русской Императорской армии после Великого отступления 1915 г. Ее опыт использовал А.А. Брусилов при разработке планов Луцкого сражения – знаменитого Брусиловского прорыва. Советские военные историки любили приводить Нарочскую операцию в качестве примера того, как «бездарное и преступное военное руководство царской России» напрасно загубило 78 тысяч жизней за 10 квадратных километров. Да, потери, понесенные под Нарочью, были огромными. Но прорыв глубоко эшелонированной обороны противника во все времена стоил любой армии больших жертв. К примеру, за четыре месяца битвы на Сомме, начавшейся 1 июля 1916 г., британские и французские войска продвинулись на 13 километров, потеряв при этом 794 тысячи человек убитыми и ранеными. И заметьте, что-то не видно книг и статей, посвященных бездарным и преступным английским и французским военачальникам. Кроме того, согласно военной теории начала XX cтолетия, при таких наступательных операциях «нормой» были потери 1:4. Потери же сторон под Нарочью составляют пропорцию 1:2. Т.е. в теории немцы должны были понести куда меньшие утраты в живой силе. А главное – стратегическая цель Нарочской операции была достигнута. Оценив ситуацию в районе Нарочи как критическую, немцы были вынуждены спешно перебросить в район боевых действий четыре свежих дивизии (две из Восточной Пруссии и две из Бельгии), которые должны были действовать против Вердена. Ни одна германская часть не была снята с русского фронта. Более того, с 9 по 16 марта натиск немцев на крепость Верден существенно ослаб. Эхо Нарочи долетело до Франции… После неудачи на Нарочи главком Западного фронта А.Е. Эверт совсем пал духом. И страшно расстроился, когда 1 апреля 1916 г. на совещании в Ставке услышал, что его фронту снова предстоит играть роль «тарана». На этот раз удар предстояло наносить из района Молодечно на Ошмяны и Вильно. Северному фронту поручался вспомогательный удар от Двинска на Свенцяны. Сил у Эверта было более чем достаточно. На июнь 1916 года в состав Западного фронта входили: 2-я армия (генерал от инфантерии В.В. Смирнов) в составе 27-го (генерал от инфантерии Д.В. Баланин), 34-го (генерал от инфантерии В.П. Шатилов), 15-го (генерал от инфантерии Ф.И. фон Торклус), 37-го (генерал от инфантерии Н.А. Третьяков) и 1-го Сибирского (генерал от кавалерии М.М. Плешков) армейских корпусов. В резерве был 5-й армейский корпус (генерал от инфантерии П.С. Балуев). Армия базировалась в районе Нарочи. 4-я армия (генерал от инфантерии А.Ф. Рагоза) в составе 20-го (генерал от инфантерии А.И. Иевреинов), 24-го (генерал от инфантерии А.А. Цуриков), 35-го (генерал-лейтенант П.А. Парчевский), 3-го Сибирского (генерал-лейтенант В.О. Трофимов) и 2-го Кавказского (генерал от артиллерии С.Б. Мехмандаров) армейских корпусов. Армия базировалась под Сморгонью. 10-я армия (генерал от инфантерии Е.А. Радкевич) в составе 38-го (генерал-лейтенант В.В. Артемьев), 44-го (генерал-лейтенант Н.А. Бржозовский), 3-го Кавказского (генерал от артиллерии В.А. Ирманов), 1-го Туркестанского (генерал от кавалерии С.М. Шейдеман) армейских корпусов и 7-го кавалерийского корпуса (генерал от кавалерии князь Г.А. Туманов). Армия базировалась в районе Крево. 3-я армия (генерал от инфантерии Л.В. Леш) в составе 9-го (генерал от инфантерии А.М. Драгомиров), 25-го (генерал от инфантерии Ю.Н. Данилов), 31-го (генерал от артиллерии П.И. Мищенко) армейских корпусов, Гренадерского корпуса (генерал-лейтенант Д.П. Парский) и 6-го кавалерийского корпуса (генерал-лейтенант А.А. Павлов). Армия базировалась в районе Барановичи; 10 июня ее управление и 31-й корпус были переданы в состав Юго-Западного фронта. В резерве фронта стоял 23-й армейский корпус (генерал от инфантерии А.В. Сычевский). Кроме того, в Белоруссии размещались резервы Ставки Верховного Главнокомандования – 1-й и 2-й Гвардейские, 4-й Сибирский армейский и 1-й Гвардейский кавалерийский корпуса. Однако главнокомандующий Западным фронтом все еще не мог преодолеть развившуюся в нем после Нарочи боязнь решительного наступления. Незадолго до 18 мая он неожиданно связался со Ставкой и попросил отсрочки, мотивируя это неготовностью фронта в инженерном отношении. 27 мая Ставка разрешила отложить наступление до 4 июня, однако поставила условие – левый фланг фронта должен был освободить Пинск и накопить силы для дальнейшего удара на Кобрин. Трудно сказать, какими соображениями А.Е. Эверт руководствовался, когда выделял для наступления один единственный корпус – Гренадерский под командованием генерал-лейтенанта Д.П. Парского. Возможно, заведомой неудачей он хотел показать Ставке, что наступательные задачи нужно решать южнее. Так или иначе, ни командарм Л.В. Леш, ни комкор не рискнули опротестовать приказ главкозапа. Общее направление удара гренадеры должны были направить на Столовичи – деревню, расположенную в четырех километрах восточнее Барановичей (сейчас этот участок находится близ автомобильной трассы Москва – Брест). Русским 1-й и 2-й гренадерским дивизиям (26 тысяч штыков, 125 орудий) противостояли 11-й, 19-й и 51-й ландверный полки 22-й пехотной бригады 4-й ландверной дивизии (9 тысяч штыков, 60 орудий). Обе стороны занимали укрепленные позиции по холмистым берегам реки Щары. Передовые окопы противника находились в 2 километрах друг от друга. Но Столовичский бой закончился полной неудачей. Цвет русских гренадерских полков лег в белорусскую землю, не сумев прорвать сильно укрепленную полосу обороны германцев. А самое главное, Столовичский бой встревожил противника и фактически раскрыл ему карты русских. Если до 31 мая немцы ожидали наступления Западного фронта на Ошмяны и Вильно (об этом гласили сообщения разведки), то теперь стало понятно, что главный удар Эверт нанесет на Барановичи. Это было куда более опасно для немцев: если атака Ошмян и Вильно неизбежно вылилась бы в локальную операцию, то решение А.Е. Эверта бить на Барановичи в случае успеха открыло бы русским дорогу на Брест-Литовск, а с юга Западному фронту в таком случае помогли бы победоносные войска Брусилова. Впрочем, решение окончательно отказаться от Виленского направления Эверт принял только 2 июня. Он сообщил в Ставку, что погода на фронте резко изменилась – из-за дождей и тумана артподготовка и подвоз боеприпасов затруднены, а район Полесья стал практически непроходимым. Поэтому Эверт отверг идею удара на Пинск (а заодно и на Вильно), и предложил сосредоточить усилия на Барановичском направлении. Для этого из-под Молодечно предполагалось перебросить под Барановичи 2-3 корпуса. М.В.Алексеев ответил согласием, и 3 июня появилась директива Ставки, гласившая: «Хотя войска Запфронта и готовы к удару, но ввиду крайне тяжелой работы войск при чрезвычайно сильно укрепленном фронте неприятельских позиций и лобовых ударах, обещающих лишь медленное и с большим трудом развитие операции, – Запфронту атаковать не на Виленском, а на Барановичском направлении. Атака откладывается на 18 дней с соблюдением полнейшей скрытноси подготовки». В тот же день А.Е. Эверт издал следующий приказ: «Атаку 4-й и 10-й армий на Виленском направлении отменить. Атаки Гренадерского корпуса под Барановичами и 31-го армейского корпуса под Пинском отложить до распоряжения. Всем корпусам 4-й армии, ныне занимающим фронт, перейти в состав 10-й армии. Управление 4-й армии перебросить в Несвиж. С 24.00. 21.6. – образовать новую 4-ю армию в составе: 25-го армейского, Гренадерского, 35-го армейского, 9-го армейского корпусов, 11-й Сибирской стрелковой дивизии, 2-й Туркестанской казачьей дивизии и Уральской казачьей дивизии на фронте Делятичи – оз. Выгоновское. Армии спешно готовить исходные плацдармы для атаки. Расположенной правее ее 10-й армии в новом составе продолжать пристрелку батарей и работы для привлечения внимания противника. Левее, 3-й армии основательно подготовить к 19.6. удар под Пинском, дабы взять его во что бы то ни стало, согласуя действия с Юго-Западным фронтом». В десятых числах июня на Западном фронте согласно приказу А.Е. Эверта от 3 июня началось формирование новой 4-й армии – фактически ударной наступательной группы наподобие той, в которую была превращена 2-я армия накануне Нарочи. Невеселое сравнение напрашивалось еще и потому, что руководить операцией снова был назначен уже знакомый нам генерал от инфантерии А.Ф. Рагоза, имя которого прочно связывалось в армии с нарочской неудачей. Но Эверт по-прежнему доверял Рагозе, более того, высоко его ценил еще с июньских боев 1914 г. под Таневом – иначе бы доверил вести решительное наступление другому военачальнику. А.Ф. Рагоза не был согласен с главкомом фронта. Проявляя тем самым полную полководческую близорукость, он считал, что после трехмесячной подготовки к броску на Ошмяны и Вильно резко менять планы и наступать на Барановичи не стоит. Учитывая хорошее отношение к нему главкозапа, А.Ф.Рагоза мог бы и возразить А.Е. Эверту, однако принципиальности не проявил и перечить начальству не стал, а действовал по принципу «Поручили – выполним, хоть и без особого желания». Если в марте Рагоза возглавлял «чужую» армию, то сейчас – «свою», но при этом «чужой» для генерала стала задача, которую перед ним поставили. Барановичская операция 1916 г. продолжалась с 20 по 27 июня. За неделю непрерывных боев Русская Императорская армия потеряла до 46 тысяч человек убитыми, 60 тысяч человек ранеными и 5 тысяч пленными (по данным А.А. Керсновского). Автор книги «Барановичи. 1916 г.» В.И. Оберюхтин приводит несколько иные цифры: 30 тысяч убитых, 47 тысяч раненых, 2 тысячи пленных. Немцы, как обычно, оценили свои потери весьма скромно – 56 офицеров и 1100 солдат убитыми, 124 офицера и 5150 солдат ранеными, 1020 человек без вести пропавшими. Точное количество потерь у австро-венгров неизвестно, но, по данным А.А. Керсновского, оно составило не менее 7500 человек. По данным В.И. Оберюхтина, потери противника – 8 тысяч убитых, 13 тысяч раненых, 4 тысячи пленных. Дальнейшие бои фактически были навязаны русской армии противником и формально не могут считаться частью Барановичской операции, однако неразрывно связаны с ней. Только 17 июля 1916 г. на фронте окончательно наступило затишье. Согласно оценке В.И. Оберюхтина, общие потери русской стороны под Барановичами составили 120 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными, из них 50 тысяч убитыми; потери австро-венгров и германцев – 40 тысяч человек, из них 20 тысяч убитыми. 30 июля в состав Западного фронта были переданы Особая и 3-я армия. 3 августа А.Е. Эверт назначил их наступление на 15 августа, однако затем перенес его дату на 22 и 24 августа. Утром 22 августа 1916 г. на фронте началась артподготовка, однако начавшийся сильный дождь спутал все планы командования – Эверт отменил наступление, т.к. распутица сделала его заведомо неудачным. Только 27 августа 3-й и 26-й армейский корпуса 3-й армии провели локальное наступление на Черевищенском плацдарме, окончившееся неудачей. В начале сентября 1916 г. на Западном фронте наступила оперативная пауза… …Германские военные историки склонны писать о Барановичской (вариант: Скробово-Городищенской) операции июня-июля 1916 г. как о блестящем, принципиально важном для хода всей Великой войны оборонительном сражении, которое с минимальными затратами для своей стороны провел Р. фон Войрш. Русские военные историки ничего о Барановичах написать не успели – на носу был 1917-й, после которого серьезный вдумчивый анализ в военной теории надолго был сменен «классовым подходом». В целом Барановичи заслужили дурную славу «продолжения Нарочи», своего рода летнего варианта мартовской неудачи, самого кровавого и бессмысленного сражения Первой мировой. Чтобы преуменьшить значение этой операции, ее задним числом записали в «отвлекающие», второстепенные – дескать, брусиловский Юго-Западный фронт оказался молодцом, все лавры – ему, а про позор Западного фронта попросту нет повода вспоминать. Еще и еще раз убеждаешься в печальной истине: не любят у нас проигранные сражения, память о которых к тому же не сулит никаких политических дивидендов в современном мире. Стараются делать вид, что их попросту не было. Но в том-то и дело, что сражение под Барановичами проиграно не было. Да и вообще, какая операция может считаться проигранной?.. Та, в которой одна из сторон потерпела сокрушительное поражение, отдала противнику стратегически важную территорию, потеряла большую часть живой силы и техники, позорно сдалась в плен без сопротивления. В этом плане ни Барановичи, ни более ранняя Нарочь не могут считаться проигранными сражениями. По их результатам Русская Императорская армия пусть и понесла крупные потери, но отнюдь не была разгромлена. Это были достойные попытки прорвать сильно укрепленную полосу противника, изгнать врага с родной земли и, главное, выполнить союзнический долг – помочь пришедшим в беду Франции и Италии. И там, и здесь русские войска имели тактический успех – под Нарочью были освобождены Поставы, под Барановичами – Фердинандов Нос и Скробово. И там, и здесь были взяты пленные и трофеи, а некоторые части противника полностью уничтожены. Как и Нарочь, Барановичи стали одним из примеров несгибаемого духа и мужества русской армии. Это был вынужден признать даже противник, отмечавший, что все атаки русских отличались поразительной храбростью и презрением к смерти. Неслучайно по итогам операции множество офицеров стали кавалерами ордена Святого Георгия и Георгиевского оружия, а нижние чины – Георгиевских крестов. И не имеет значения, в какой операции – успешной или неуспешной – они участвовали. Храбрость, самоотверженность и мужество всегда вызывают восхищение, где бы они ни были проявлены. Последняя крупная операция Западного фронта – Кревская – была предпринята в июне 1917 г., уже в совершенно других политических обстоятельствах – после февральского переворота и падения монархии власть в стране перешла к Временному правительству, армия была «демократизирована» (в каждой части создавался комитет, который мог отменить приказ командира). План этой операции был точной калькой неосуществленного наступления лета 1916-го в направлении Ошмяны, Вильно. Основной удар при этом должна была наносить 10-я армия. Однако по мере политизации армии становилось понятно, что наступление может потерпеть неудачу уже не по причине несокрушимой оборонительной линии противника или нехватки тяжелых снарядов, а из-за состояния собственных войск. О том, что творилось в армии, красноречиво вспоминал А.И. Деникин: «Смотрел войска в строю. Видел части, правда, как исключение, сохранившие почти нормальный, дореволюционный вид как по внешним формам, так и по внутреннему строю — в корпусе сурового и непреклонно отстаивавшего старую дисциплину Довбор-Мусницкого; видел большинство частей, — хотя и сохранивших подобие строя и некоторое послушание, но во внутренней жизни своей подобных разворошенному муравейнику: после смотра, обходя ряды и беседуя с солдатами, я был буквально подавлен новым для меня настроением, охватившим их: бесконечными жалобами, подозрительностью, недоверием, обидами на всех и на все: на отдельного начальника и корпусного командира, на чечевицу и на долгое стояние на фронте, на соседний полк, и на Временное правительство, за его непримиримое отношение к немцам. Видел, наконец, и такие сцены, которые не забуду до конца своих дней... В одном из корпусов приказал показать мне худшую часть. Повезли в 703 Сурамский полк. Мы подъехали к огромной толпе безоружных людей, стоявших, сидевших, бродивших на поляне, за деревней. Одетые в рваное тряпье (одежда была продана и пропита), босые, обросшие, нечесанные, немытые, — они, казалось, дошли до последней степени физического огрубения. Встретил меня начальник дивизии (генерал-майор Э.Г. Катлубай. – Авт.) с трясущейся нижней губой и командир полка с лицом приговоренного к смерти. Никто не скомандовал "смирно", никто из солдат не встал; ближайшие ряды пододвинулись к автомобилям. Первым движением моим было выругать полк и повернуть назад. Но это могли счесть за трусость. И я вошел в толпу. Пробыл в толпе около часу. Боже мой, что сделалось с людьми, с разумной Божьей тварью, с русским пахарем... Одержимые или бесноватые, с помутневшим разумом, с упрямой, лишенной всякой логики и здравого смысла речью, с истерическими криками, изрыгающие хулу и тяжелые, гнусные ругательства. Мы все говорили, нам отвечали — со злобой и тупым упорством. Помню, что во мне, мало-помалу, возмущенное чувство старого солдата уходило куда-то на задний план, и становилось только бесконечно жаль этих грязных, темных русских людей, которым слишком мало было дано и мало поэтому с них взыщется… Из Сурамского полка я поехал, по настойчивому приглашению особой делегации, на корпусный съезд того же 2-го Кавказского корпуса. Там собрались выборные люди, и поэтому разговоры их были рассудительнее, стремления реальнее: в разных группах делегатов, среди которых замешалась свита, шла беседа о том, что здесь вот главнокомандующий, командующий, корпусный, штабы и все начальство; хорошо бы прикончить их тут же всех разом, вот и конец наступлению...» Понятно, что вести подобных «воинов» в наступление было смерти подобно. Поэтому наступление Западного фронта постоянно откладывалось – на конец апреля, затем на 15 июня, 22 июня, 3 июля и, наконец, 9 июля 1917 г. Состав сил Западного фронта к началу наступления сильно переменился. Теперь в него входили следующие соединения: 2-я армия (командующий с 8 апреля 1917 г. – генерал-лейтенант А.А. Веселовский): 9-й (генерал-лейтенант П.Д. Шрейдер), 50-й (генерал-лейтенант Б.А. Дзичканец), 3-й Сибирский (генерал-лейтенант А.Е. Редько, затем В.Ф. Джунковский), Гренадерский (генерал-лейтенант Д.П. Парский) корпуса. 3-я армия (командующий с 3 апреля 1917 г. – генерал-лейтенант М.Ф.Квецинский): 10-й (генерал от инфантерии Н.А. Данилов), 15-й (генерал-лейтенант И.З. Одишелидзе), 20-й (генерал-лейтенант А.Я. Ельшин), 25-й (генерал-лейтенант В.В. Болотов) армейские корпуса. 10-я армия (командующий с 9 апреля 1917 г. – генерал-лейтенант Н.М.Киселевский): 3-й (генерал-лейтенант Д.Н. Надежный), 38-й (генерал-лейтенант И.Р. Довбор-Мусницкий), 1-й Сибирский (генерал-лейтенант Е.А.Искрицкий), 2-й Кавказский (генерал-лейтенант Г.И. Чоглоков) армейские корпуса. 9 июня главком фронта провел совещание с командующими армий и сделал по его итогам следующие выводы: «3-я армия. Армейский комитет по составу удовлетворительный… Дивизионные комитеты настроены хорошо и являются помощниками начальников дивизий… По настроению впереди других стоит артиллерия; наступление ею приветствуется. В пехоте настроение более пестрое. Лучше других 20-й корпус… Несколько слабее пехота 15-го корпуса. Еще слабее 35-й корпус… 10-я армия… Лучше других настроена артиллерия. Наиболее крепким следует считать 1-й Сибирский корпус… 2-й Кавказский корпус особенно болезненно переживает переход от старого режима к новому и, по оценке командующего армией, 2-я Кавказская гренадерская, 51-я и 134-я дивизии по своему настроению небоеспособны… 38-й армейский корпус настроен спокойнее… Численность армии продолжает заметно уменьшаться. Общее отношение солдат 10-й армии к наступлению скорее отрицательное… 2-я армия. Армейский комитет малоинтеллигентный, несамостоятельный, слепо идет за фронтовым комитетом, даже и в его крайних проявлениях… Настроение вполне хорошее в артиллерии, в пехоте пестрое, но вообще гораздо худшее, чем в других армиях… Дезертирство с фронта почти прекратилось. Братание наблюдается редко, одиночными людьми. Укомплектования поступают на фронт так скверно, что некомплект угрожающе прогрессирует». Верховный Главнокомандующий А.А. Брусилов наложил на доклад красноречивую резолюцию: «При таком настроении стоит ли подготовлять тут удар?» И, тем не менее, «подготовляли». Чтобы понять, в какой обстановке готовилось наступление, достаточно упомянуть, что 8 июня съезд фронтовых комитетов высказался против проведения операции, 18 июня – за и 20 июня – снова против. Попутно свое мнение высказывали также другие комитеты, например, Минский совет рабочих и солдатских депутатов (постановил не наступать), дивизионные (в 169-й дивизии – постановил считать наступление изменой революции) и т. п. Работа по подготовке операции фактически легла на плечи офицеров, которые должны были одновременно заниматься своими прямыми служебными обязанностями и буквально упрашивать солдат идти в наступление… Сейчас это воспринимается как бредовый сон, но, увы, это были будни русской революционной армии – «армии свободной России», как любили ее тогда называть. 1 июля 1917 г. в Молодечно был издан приказ по 10-й армии. Он гласил: «1. Части 10-й и 12-й армий противника занимают укрепленную позицию по линии оз. Нароч, д. Ново-Спасское, местечек Крево, Геверишки, Делятичи, Барановичи. 2. На армии Западного фронта возложена задача нанести противнику удар в общем направлении на Вильно. 10-й армии приказано нанести главный удар, атакуя противника на фронте Гавеновичи, Геверишки, имея первоначальной целью овладение линией Солы, Жуйраны, Ошмяны, Граужишки. 2-й и 3-й армиям приказано всеми средствами содействовать наступлению 10-й армии и по мере развития успеха перейти в наступление в общем направлении на Вильно и Слоним. 3. Во исполнение поставленной задачи командующий 10-й армией решил нанести противнику главный удар на участке Сутковского и Новоспасского лесов с дальнейшим развитием главного удара в направлении на лес, что между деревнями Глинная и Базары. 4. Ближайшей задачей командарм поставил выйти тремя ударными корпусами (2-му Кавказскому, 1-му Сибирскому и 38-му) на линию р. Оксна, деревни Глинная, Асаны, западная опушка Богушднского леса, Попелевичи, Чухны. Для дальнейшего наступления с целью овладения линией Солы, Жуйраны, Граужишки указания предполагалось дать дополнительно. 5. Корпусам — задачи: а) Кавказскому — атаковать участок Гавеновичи, Новоспасское с целью овладеть массивом с Сутковским лесом и развития в дальнейшем действий для закрепления на линии р. Оксна до Глинная; б) 1-му Сибирскому — атаковать участок от Новоспасское до северной окраины Крево с целью овладения Новоспасским и Богушинским лесами и группой лесов к западу от первого и к северу от второго и закрепления на линии Глинная, Асаны (включительно); в) 38-му — атаковать участок Крево, Чухны (включительно) с целью захвата Кревского массива и леса к западу от него и закрепления на линии Асаны (исключительно), Попелевичи (включительно); г) 3-му — оборонять участок от Геверишки включительно до высоты в 1 1/2 верстах юго-восточнее деревни Бор включительно, содействуя наступлению 38-го корпуса, сосредоточив артиллерийский огонь по батареям противника, группирующимся в районах деревень Вишневка, Ордаши, Куты, и имея корпусный резерв (три полка 73-й пехотной дивизии) на правом берегу р.Березины. В дальнейшем корпус должен принять участие в общем наступлении на линию Солы, Ошмяны, Граужишки». Для прорыва мощной линии обороны противника на участке главного удара было сосредоточено огромное количество артиллерии: 788 орудий, из которых 356 крупнокалиберных. Наиболее насыщен артиллерией был 38-й армейский корпус. Все орудия, за исключением 12-дюймовых гаубиц, имели полные боекомплекты. Корректировку стрельбы должны были осуществлять 15-й, 35-й корпусные и 11-й армейский воздухоплавательные, Гренадерский, 1-й Сибирский и 34-й корпусной авиационные отряды. Стоит упомянуть, что специальные части русской армии – артиллерия, авиация, бронеотрядники, инженерные войска – были значительно меньше затронуты революционным разложением, чем пехота, и потому на них вполне можно было положиться. Операция началась мощной артподготовкой, которая длилась с 6 по 9 июля 1917 г. Ее результаты, без сомнения, были самыми блестящими за всю историю Западного фронта. Проволочные заграждения противника местами были уничтожены полностью, окопы 1-й, а частью 2-й и 3-й линий просто перестали существовать. Блиндажи и пулеметные гнезда были разрушены; железобетонные бункеры почти не пострадали, но входы в них были плотно завалены обломками бревен и землей. Но сама Кревская операция, уложившаяся в один день – 9 июля, окончилась полным провалом. Из 14 русских дивизий, готовившихся к атаке, пошли в наступление 7, из них полностью боеспособными оказались 4. Солдаты попросту не желали выполнять приказы офицеров, массово уходили в тыл, шли на «самострелы» – что угодно, лишь бы не воевать. И все-таки эта операция была во многом блестящей. Некоторые русские части проявили 9 июля подлинный героизм и самоотверженность. Ярче всех показала себя 51-я пехотная дивизия, чьи 202-й Горийский, 204-й Ардагано-Михайловский и три роты 203-го Сухумского полков продемонстрировали, чего стоит штыковой удар русских войск. С редким мужеством и презрением к смерти сражались русские офицеры. Подвиги многих из них уже граничили с мученичеством и были возможны только в угарной атмосфере 1917-го. Например, в 38-м корпусе описан такой случай: «Тщетно офицеры, следовавшие впереди, пытались поднять людей. Тогда 15 офицеров с небольшой кучкой солдат двинулись одни вперед. Судьба их неизвестна – они не вернулись». Блестящий подвиг совершил подполковник Сергей Иванович Янчин, собравший отряд из 44 офицеров и 200 верных долгу солдат и пошедший с этим отрядом в атаку. Никто из храбрецов из нее не вернулся. Ну а самое главное – нельзя не отметить тот факт, что одна из целей Кревской операции была достигнута. Мы имеем в виду то, что войскам 10-й армии впервые за всю историю позиционной войны на Западном фронте удалось частично уничтожить и прорвать сильно укрепленную полосу обороны противника в районе Крево. Из горьких уроков Нарочи и Барановичей наконец-то были извлечены правильные выводы… Осенью 1917 г. боевые действия на фронте стали замирать (последние крупные бои были отмечены 26 и 31 октября) и после большевистского переворота окончательно стихли. В середине ноября войска сами начали заключать с противником перемирия на местном уровне. Первым, 10 ноября, предложил перемирие противнику штаб Гренадерского корпуса 2-й армии. Но заключили перемирие первыми 55-я и 69-я пехотные дивизии – в 22.00. 13 ноября стрельба прекратилась в районе деревни Новоселки. На другой день, в полдень 14 ноября, начали переговоры с немцами Гренадерский корпус и 67-я пехотная дивизия. В тот же день, 14 ноября, последовал приказ большевистского главнокомандующего Западным фронтом В.В. Каменщикова – заключать перемирия на местах самим. Так что переговоры Гренадерского корпуса и 67-й пехотной дивизии неожиданно получили официальную основу. 67-я дивизия перестала вести боевые действия в тот же день, Гренадерский корпус – в полдень 16 ноября (на 30-верстном участке Барановичи, Горбачи, Полонечко). 15 ноября начал переговоры с немцами, а 19-го «воткнул штыки в землю» на участке северный берег озера Нарочь – местечко Петруши 15-й армейский корпус. Вечером 17 ноября 1917 г. комитеты 2-й и 10-й армий остановили боевые действия на своих армейских участках и обратились к германскому командованию с официальным предложением начать переговоры о перемирии. Тем не менее, еще несколько дней на фронте заключались «частные» перемирия корпусного, дивизионного и полкового уровней. 18 ноября прекратились боевые действия на участке 7-й Туркестанской стрелковой дивизии, 19 ноября – 3-го армейского корпуса. «Частные» перемирия заключались как долгосрочные, на три месяца, так и на две недели (с 15 по 30 ноября – на участке 515-го пехотного Пинежского полка, от Телехан до деревни Валище). Многие части обязывались содействовать заключению перемирий на боевых участках соседних подразделений. Иногда инициатива перемирий исходила от немцев. Ну а 23 ноября последовало уже «общее», фронтовое перемирие. Оно было заключено фронтовым ВРК в местечке Солы. Оно вступало в силу с полудня 23 ноября 1917-го и действовало по полдень 24 января 1918 г. или «до заключения общего перемирия на всем русско-германском фронте, если таковое последует ранее означенного срока» (что и случилось). На всем Западном фронте от Видз до Припяти немедленно прекращались все боевые действия всеми видами оружия и средств массового поражения, минные и саперные работы, воздушные полеты над расположением противника и в 10-верстной полосе от передовой линии своих окопов, действия разведчиков. Стороны обязались не производить подготовительных работ к наступлению и не перебрасывать крупные силы с одного фронта на другой. Особенно «хорош» был пункт о проволочных заграждениях: переход солдат за свою проволоку не разрешался, но к тем, кто это делал, никаких штрафных санкций не применялось. Формально перемирие, подписанное в Солах, действовало недолго – около двух недель, с 23 ноября до 14.00 4 декабря 1917 г., когда вступило в силу подписанное 2 декабря в Скоках под Брест-Литовском 28-дневное перемирие по всему русско-германскому фронту от Балтики до Дуная. Ну а последние боевые столкновения с противником на территории Беларуси были отмечены уже в феврале-марте 1918 г. Тогда германская армия, нарушив перемирие, перешла в наступление по всему фронту. 20 февраля немцы вступили в Полоцк, 21-го – в Минск, Режицу и Двинск, 24-го – в Калинковичи, 25-го – в Борисов, 27-го – в Жлобин, 28-го – в Рогачёв и Речицу, 1 марта – в Гомель, 3 марта – в Оршу, 5 марта – в Могилёв. Из крупных белорусских центров неоккупированным остался только Витебск. В ходе февральско-мартовского наступления 1918 г. германская армия практически без потерь, малыми силами захватила 23 белорусских уезда из 35, за две недели осуществив то, к чему противники России безуспешно стремились больше двух лет… Разрозненные и потерявшие боеспособность остатки старой русской армии и крохотные отряды новорожденной Красной Армии смогли оказать лишь символическое сопротивление захватчикам. Тем не менее, бои с германцами произошли на подступах к Минску, Толочину, Калинковичам, Жлобину, Речице, Витебску, Гомелю, Ветке. Бои за Оршу продолжались несколько дней, причем, по свидетельству коменданта Орши И.Ф. Скуратовича, немцам так и не удалось полностью захватить железнодорожный узел: они контролировали товарную станцию, а Орша-Пассажирская оставалась в руках красных. Последние бои произошли 6-7 марта 1918 г., когда 2-й Гомельский красногвардейский отряд очистил от германцев только что занятый ими Добруш и отбил потерянный 3 марта бронепоезд. Формально война для большевистской России закончилась 3 марта 1918 г. с заключением позорного Брестского мира. 5 марта была ликвидирована должность Верховного Главнокомандующего, а 16 марта – и сама Ставка. Штаб Западного фронта был захвачен германцами в Минске 21 февраля, только небольшая его часть во главе с главкозапом А.Ф. Мясниковым за два дня до этого успела эвакуироваться в Смоленск. 24 марта из Смоленска штаб переместился в Тамбов, где 12 апреля его управление было расформировано.
|

http://www.children-art.org/en/contest-in-rybnic/2...rovo-vony-v-belarusi-1915-1917
|
Метки: первая мировая война российская императорская армия |
Марк Касвинов о Первой мировой войне |
Марк Касвинов о Первой мировой войне
Из книги Марка Касвинова "Двадцать три ступени вниз".
К началу 1917 года, по сведениям Шульгина, общее число убитых, раненых и попавших в плен составило восемь миллионов человек; "этой ценой мы вывели из строя четыре миллиона противников". К счастью, замечал автор, "страна не знает этого ужасного баланса смерти: два русских за одного немца". Одно это сопоставление, говорит он, звучит как приговор. "Приговор в настоящем и прошлом. Приговор нам всем. Всему правящему и неправящему классу, всей интеллигенции, которая жила беспечно, не обращая внимания на то, как безнадежно в смысле материальной культуры Россия отстает от соседей".
Сказано сильно. И все же: зря пытался Шульгин вынести приговор и "неправящему" классу. Как раз русский рабочий класс, завоевавший в октябре 1917 года государственную власть, и явился в союзе с трудовым крестьянством той исторической силой, которая спасла от катастрофы Россию. Спасла в длительной и тяжкой борьбе с классом, к которому принадлежал Шульгин; спасла - самоотверженным, героическим трудом преодолев отсталость, которую Шульгин в канун революции называл "безнадежной"; спасла - породив и воспитав новую, народную интеллигенцию, которой и в голову не придет "жить беспечно", не обращая внимания на потребности и жизненные интересы Родины.
"Баланс смерти", ужасавший Шульгина, далеко не полон. Его можно было бы внушительно дополнить. Именно:
Каждая германская дивизия, выступившая 1 августа 1914 года к русским границам, имела на своем артиллерийском вооружении восемьдесят орудий; русская дивизия - пятьдесят восемь. На каждые двадцать четыре батальона, составлявшие германский корпус, приходилось сто восемь полевых пушек и пятьдесят две гаубицы (в числе последних - шестнадцать тяжелых и тридцать шесть легких); каждые же пятьдесят два батальона, составлявшие русский армейский корпус, имели на своем вооружении девяносто шесть полевых пушек и восемь гаубиц.
В ходе войны соотношение показателей боевой оснащенности русских и германских вооруженных сил не только не улучшилось в пользу русской армии, но продолжало ухудшаться. Так, с 1914 по 1917 год количество пулеметов в германской армии возросло с трех тысяч до семидесяти тысяч (почти в двадцать четыре раза), а артиллерийских орудий - с девяти тысяч трехсот до двадцати тысяч (более чем в два раза). Русская же армия, вступив в войну с четырьмя тысячами сто пятьюдесятью двумя пулеметами, к 1917 году имела их всего двадцать три тысячи восемьсот (в пять раз больше); а орудийный свой парк за тот же период смогла увеличить лишь с семи тысяч девятисот девяти до девяти тысяч восьмисот пятнадцати (всего на двадцать пять процентов).
Из отечественных источников хорошо известно, что не хватало тогда на фронте не только орудий и пулеметов, но и винтовок. В составе маршевых рот десятки тысяч русских солдат прибывали на фронт безоружными и в таком виде под огнем противника рассредоточивались по окопам, выжидая, когда можно будет получить винтовку убитого или раненого тут же, рядом. Неравенство в вооружении усугублялось неравенством в снабжении боеприпасами.
В то время как кайзеровская армия, вступив в войну, располагала запасом в тысячу сто снарядов на каждое орудие, в русской запас составлял шестьсот снарядов, да и тот быстро растаял в первых крупных боях, так как почти не пополнялся. В результате к весне-лету 1915 года, когда на фронте сложилась особенно тяжелая обстановка, русская артиллерия в массе своей фактически вышла из строя: лишенная боеприпасов, она молчала под массированным огнем противника. Хотя казалось, что военным ведомством принимаются срочные меры, а под давлением общественного возмущения поспешили на помощь военному ведомству земские, частнопредпринимательские и прочие организации, снабжение армии снарядами улучшалось медленно и неровно. Даже когда поток боеприпасов на фронт заметно усилился, выяснилось, что большую его часть составляет шрапнель, в то время как "войска отчаянно требовали от тыла поставки гранат" (Шульгин). Все, что царское военное ведомство смогло дать армии в грозные для нее месяцы, были двадцать гранат на одно орудие. Слабость интендантско-снабженческой организации, впрочем, отражала и состояние военного производства в стране. Таков был общий уровень русского военно-промышленного потенциала, задолго до войны взятого под контроль международным капиталом и в годы войны в значительной своей части находившегося в иностранных руках.
К моменту, когда Николай II в Зимнем дворце зачитал манифест о вступлении в войну, русская промышленность по объему выпускаемой продукции пребывала примерно на том же уровне, на каком находилась американская промышленность до гражданской войны 1860-1863 гг., то есть в период, когда в США еще применялся рабский труд. Разрыв в показателях выпуска промышленной продукции в России и Германии был огромным. Производство в последнем предвоенном году такого важнейшего в ту эпоху стратегического материала, как свинец, составляло в России одну и четыре десятых тысячи тонн, в Германии сто восемьдесят семь и девять десятых; цинка было произведено в обеих странах соответственно десять и одна тысячная и сто одиннадцать тысяч тонн; алюминия - ноль и двенадцать тысяч тонн. Германия в 1913 году выплавляла в три раза больше чугуна и стали, нежели Россия.
В ходе войны высшее руководство не сделало серьезной попытки наверстать упущенное путем координированной и планомерной мобилизации экономических ресурсов. Поэтому с 1914 по 1917 год работа тыла на нужды фронта существенно не улучшилась, а под конец помещичье-буржуазной власти даже стала сокращаться: в мае 1917 года, например, закрыли свои заводы сто восемь предпринимателей, ссылаясь на нехватку рабочей силы и дефицит сырья. К августу того же года производство металла в России, а соответственно и изготовление для армии тяжелых видов вооружения (прежде всего артиллерии крупных калибров и снарядов к ним) сократилось по отношению к начальному периоду войны на сорок процентов.
"Баланс смерти", о котором говорил Шульгин, и был следствием в первую очередь слабости боевого оснащения, на которую обрекли русскую армию царь и его министры, а также коллеги и единомышленники шумливого волынского депутата. Не обеспеченная достаточными техническими средствами, лишенная нужного запаса снарядов и патронов, армия не только не в состоянии была нанести противнику решающий удар, но и несла под его огнем неслыханные потери; она залегла вдоль трехтысячеверстной линии проволочных и минных заграждений и истекала кровью в бесплодных попытках сокрушить австро-германский фронт.
В среднем русская армия теряла каждый месяц сто семьдесят пять тысяч человек убитыми и ранеными. В отдельные периоды эта статистика выглядела, еще мрачней. Свои рекорды эта мельница смерти ставит как раз в те месяцы, когда противник переходит в крупные атаки, поддерживаемые тяжелой артиллерией, а русские корпуса, за недостатком техники и боеприпасов, вынуждены "отмалчиваться", отвечая преимущественно штыковыми контратаками. Одним из таких месяцев и был август 1915 года, когда на жерновах неравной борьбы были перемолоты почти шестьсот тысяч жизней русских солдат и офицеров.
Общий итог:
С начала войны до крушения царизма мобилизованы были в русскую армию четырнадцать с половиной миллионов человек. Призывы охватили почти половину мужского населения (на каждую тысячу человек четыреста семьдесят четыре мобилизованных). По отдельным районам этот показатель был еще выше (например, по Пензенской губернии из тысячи человек призваны были пятьсот три, по Тульской - пятьсот тридцать шесть, и т. д.). К концу войны общая численность мобилизованных - свыше пятнадцати миллионов, общее число потерь - до восьми миллионов. Таким образом, потери составили более половины мобилизованных мужчин лучших возрастов - цвет населения России.
...
Неудачи лета пятнадцатого года особенно наглядно показали народам России, что царизм неспособен обеспечить эффективную оборону страны, отдает армию в жертву интересам антантовского империализма, ведет дело к катастрофе. Остались безнаказанными виновники провалов, организаторы снарядного голода, тайные и явные пособники врага в штабах и министерствах. Только Сухомлинов был устранен (11 июня 1915 года).
Но вскоре после того, в самые горькие для армии дни неудач, Николай II назначает на высшие военные посты других известных германофилов, в их числе Эверта - командующим Западным фронтом и фон Плеве - командующим Северо-Западным фронтом.
В этот период тяжелых для русской армии испытаний западные союзники ничего не сделали, чтобы облегчить ее положение. Снова выявилось, что союзники заняты только собой, трудностями русской армии не озабочены.
Летом 1915 года, когда русская артиллерия за недостатком снарядов почти умолкла, склады англичан ломились от боеприпасов. Как вспоминал после войны Ллойд-Джордж, англичане "копили снаряды, самодовольно показывая на гигантские нагромождения", в то же время на каждую просьбу России о помощи материалами отвечали, что дать нечего. Так же обстояло дело и с прочим оснащением. В то время как у союзников авиация применялась уже довольно широко и для разведки, и для бомбежек, в русской армии самолетов было очень мало. Союзники перебрасывали автотранспортом целые дивизии и корпуса; Россия же располагала всего двумя тысячами грузовиков, из коих лишь малая часть обслуживала фронт.
...
"Сколько раз, - писал позднее А. А. Брусилов, - спрашивал я в окопах, из-за чего мы воюем, и всегда неизбежно получал ответ, что какой-то там эрц-герц-перц с женой были кем-то убиты... Выходило, что людей вели на убой неизвестно из-за чего, то есть по капризу царя... Войска наши были обучены, дисциплинированны и послушно пошли в бой, но подъема духа не было никакого, и понятие о том, что представляла из себя эта война, отсутствовало полностью".
...
С летней битвы 1916 года начинается перелом в противоборстве двух коалиций. Обозначаются признаки изнурения центральных держав и перевеса Антанты. Становится все более очевидным, что германский блок переходит к стратегической обороне.
Бои показали, что ударная сила русский армии жива и сломить ее невозможно. Русская армия вынесла на своих плечах бремя потребительских заявок антантовских штабов, которые, не довольствуясь помощью, оказанной им на расстоянии, дошли до заявок на переброску русских воинских частей на западные плацдармы.
На фоне финансовой зависимости России от западных союзников (общая сумма полученных в годы войны займов - 8 миллиардов рублей) эти заявки весьма походили на шантаж или, во всяком случае, на сделку купли-продажи. Николай II, однако, лично принял эти требования к исполнению. Для начала был сформирован экспедиционный корпус в составе четырех стрелковых бригад. Доставленные кружным морским путем частью в Шампань, на позиции французской 4-й армии, а частью на Салоникский фронт и в Македонию, они были тотчас же брошены в атаки на самых убийственных направлениях и истекли кровью.
На межсоюзнических конференциях в Шантийи (декабрь 1915 года) и Петрограде (январь 1917 года) западные уполномоченные ставили на обсуждение квоты дальнейших поставок такого рода, но революционные события в России положили конец этим сделкам.
Сражаясь на Востоке и Западе, на земле родной и чужой, оплачивая тысячами жизней векселя царизма на ближних и дальних равнинах континента, русские вооруженные силы еще до 1917 года дали союзникам возможность подтянуть из глубины материальные и людские резервы, а с включением в борьбу США - получить подавляющий перевес над противником.
Позднее, когда Советская Россия революционным путем выйдет из войны, заключив Брестский договор, антантовские и белогвардейские генералы будут вопить, что это измена долгу, что русские бросили своих союзников на произвол судьбы. При этом западные политики опустят тот факт, что русская армия своими жертвами на полях сражений еще до 1917 года заложила основу разгрома кайзеровской Германии, предрешив переход стратегической инициативы к западным державам.
Посланный царским приказом на ближние и дальние поля сражений, русский солдат повсюду, в самых трудных положениях, сражался со свойственными ему доблестью и стойкостью. Но в массе своей он тогда не мог еще знать (разве лишь отчасти догадывался), что в то время как власть имущие взимают с него дань кровью во имя своего контракта с Антантой, некоторые из них в дворцовых закоулках ткут паутину прогерманского сговора, готовясь продать кайзеру и своих союзников, и русскую армию.
Руководящим ядром германофильской группы были царица Александра Федоровна и Г. Е. Распутин.
Движущей пружиной этих происков был страх Николая II и его приближенных перед революцией.

Метки: Первая мировая, Россия, Россия которую мы потерялиhttps://kibalchish75.livejournal.com/375903.html
|
Метки: первая мировая война российская императорская армия |
Карпатские и Галицкие русины в Первую мировую войну |


Карпатские и Галицкие русины в Первую мировую войну
Опубликовано: 23 января 2014
Автор: Кирилл Шевченко

«…исключительным объектом австро-мадьярских жестокостей было русское народное движение…»
Доклад Кирилла Шевченко к предстоящей 25 января 2015 года научно-практической онлайн-конференции «Первая мировая война: карпаторусизм и политическое украинство», приуроченной к столетию начала Первой мировой войны в 1914 году.
Важной особенностью Первой мировой войны, принципиальным образом отличавшей ее от войн предшествующей эпохи, было активное применение новейших в то время технологий массового уничтожения противника, включая химическое оружие, авиацию, танки и тяжелую артиллерию, что было проявлением индустриальной эпохи и массового производства в военной области. Использование «конвейерных» технологий в ведении военных действий и вызванная этим общая дегуманизация были сразу замечены современниками, воспринимавшими Первую мировую войну как четкий водораздел между эпохами и констатировавшими окончательное угасание былого «рыцарского духа», свойственного предыдущим войнам на европейском континенте. Еще одной особенностью Первой мировой войны стало постепенное стирание некогда четкой границы между воюющими армиями и гражданским населением, которое в значительно большей степени, чем в предшествовавшую эпоху, стало страдать от действий вражеских армий и военных властей противоборствующих государств. Именно в ходе Первой мировой войны военные власти враждующих государств для достижения поставленных целей стали широко прибегать к репрессиям против нелояльно настроенного гражданского населения, включая целые этнические группы. Это нашло свое выражение в бомбардировках гражданского населения германской авиацией, в подводной охоте германского флота за гражданскими судами стран-противников, а также в практике создания концентрационных лагерей для нелояльных групп населения военными властями Австро-Венгрии.
Но если новость о гибели в мае 1915 г. пассажирского парохода «Лузитания», потопленного немецким флотом и унесшего жизни более тысячи мирных граждан, сразу облетела весь мир, став общеизвестным символом жестокости по отношению к мирному населению, то трагическая судьба карпатских и галицких русинов Австро-Венгрии, подвергшихся массовым репрессиям со стороны австро-венгерских властей только за свою культурно-национальную ориентацию, остается малоизвестным сюжетом Первой мировой войны.
* * *
Карпатские русины - крайняя юго-западная часть обширной восточнославянской этноязыковой общности, с раннего средневековья населявшая южные и северные склоны Карпат, которые получили историческое название «Карпатская Русь». К началу ХХ века русины проживали на территории тогдашней Австро-Венгрии; при этом русины, населявшие южные склоны Карпат, входили в состав Венгрии (историческая Угорская Русь), а русины Восточной и Западной Галиции - в состав австрийской части монархии Габсбургов.
Национальная идентичность карпатских русинов, сформировавшаяся в XIX веке под воздействием русинских национальных будителей – убежденных русофилов, основывалась на идее о принадлежности карпатороссов к единому русскому племени от Карпат до Тихого океана и апеллировала к русскому литературному языку и русскому культурному наследию. Данное обстоятельство было предметом постоянной озабоченности Вены, с недоверием относившейся к коренному восточнославянскому населению Галиции, прорусские симпатии которого в условиях общей границы с Российской империи вызывали у австрийских властей опасения сепаратизма.
Вместе с тем, со второй половины XIX века традиционному русофильскому направлению среди русинов начинает противостоять украинофильское движение, отстаивавшее идею существования независимого украинского народа, частью которого, по мнению украинофилов, являлись русины. Наибольших успехов украинофилы достигли в Восточной Галиции, которая в начале ХХ в. стала центром украинского национального движения. Среди русинов Угорской Руси и русинов-лемков, проживавших на северных склонах Карпат в Западной Галиции (Лемковина), полностью доминировали русофилы, а украинская идентичность была практически неизвестна.
Начало ХХ века было отмечено растущим противостоянием между русофильской интеллигенцией и украинофилами Восточной Галиции, которые пользовались существенными преференциями со стороны австрийских властей, старавшихся подорвать общерусскую идентичность населения Восточной Галиции, выразителями которой были местные русофилы, и сформировать у русинов альтернативную, противостоящую общерусской украинскую идентичность. Важными инструментами подрыва общерусской и формирования украинской идентичности среди галицких русинов, к которым прибегали австрийские власти и польская администрация Восточной Галиции, являлись сфера образования, средства массовой информации, общественные организации, историческая наука, а также греко-католическая церковь. Усилия, направленные на борьбу с москвофилами и на поддержку украинофилов, активизировались в конце XIX – начале XX вв., когда в школах Восточной Галиции вопреки протестам населения было официально введено украинское фонетическое правописание (так наз. «кулишивка»); для преподавания и научной деятельности во Львовский университет был приглашен М.С. Грушевский, призванный создать альтернативную «украинскую версию» истории Юго-Западной Руси, а во главе греко-католической церкви Восточной Галиции был поставлен А. Шептицкий, превративший униатское духовенство в один из мощных инструментов украинизации местного населения. Примечательно, что для усиления украинского влияния на греко-католическое духовенство Галиции и для подрыва позиций русофилов в среде духовенства по инициативе австрийских властей был затруднен прием в духовные семинарии Галиции лиц русофильской ориентации, значительная часть которых была уроженцами Лемковины – области проживания русинов-лемков на северных склонах Карпат Западной Галиции. Так, в 1911 г. из сорока русинов-лемков – кандидатов на поступление в духовную семинарию в г. Перемышле был принят лишь один [1, c. 119]. Воспитанники Львовской духовной семинарии русофильской ориентации подвергались травле и издевательствам со стороны господствовавших там украинских национальных радикалов. По словам очевидца, в 1912 г. русские воспитанники Львовской духовной семинарии «дважды были вынуждены ночью бежать из семинарии, чтобы спасти свою жизнь перед одичавшими товарищами-украинцами» [1, c. 119-120].
Начало Первой мировой войны повлекло широкомасштабные репрессии австрийских властей против русинов-лемков, что стало одной из самых трагических страниц истории лемковского народа. «Вся Лемковина была покрыта виселицами, на которых гибли ее лучшие сыны… Острый плуг войны точно перепахал Лемковину. Название каждого села было тут синонимом как минимум одного боя…» [1, c. 139, 149], - писал лемковский историк. С сентября 1914 по весну 1915 гг. русские войска занимали большую часть территории австрийской Галиции, включая территорию Лемковины, где русская армия встретила доброжелательное отношение местного населения. После отступления русской армии австрийские военные власти арестовали несколько тысяч русинов-лемков, подозреваемых в шпионаже в пользу России, в основном представителей духовенства и интеллигенции, большинство которых были брошены в австрийский концлагерь Талергоф неподалеку от Граца. Значительная часть узников Талергофа погибла, не выдержав постоянных издевательств лагерной администрации и нечеловеческих условий содержания. По сути, в Талергофе был ликвидирован цвет русофильской интеллигенции русинов-лемков, а сам концлагерь вошел в историческую память русинов как символ мученичества за народность и веру [2].
Другим символом мученичества русинов-лемков стал уроженец западной Лемковины молодой православный священник Максим Сандович, призывавший лемков униатского вероисповедания к возвращению в лоно православия. М. Сандович и вся его семья, включая отца, мать, брата и беременную жену, были арестованы австрийскими властями сразу после начала войны по доносу. 6 сентября 1914 г. М. Сандович без суда и следствия на глазах престарелого отца и жены был расстрелян венгерским ротмистром во дворе тюрьмы в г. Горлице. Его беременная жена была интернирована в концлагерь Талергоф, где она родила сына. Впоследствии Максим Сандович был канонизирован православной церковью как Святой Максим [3, p. 67].
После трагических событий 1914-1915 гг. среди лемков широко распространилось мнение о том, что в трагедии Талергофа виновны местные украинофилы, доносившие австрийским властям на своих идеологических врагов-русофилов. «По лемковским селам под видом торговцев иконами... ходили украинские провокаторы и вели с селянами разговоры на политические темы, выдавая себя за друзей русского народа, - писал И.Ф. Лемкин. – У селян выясняли политические взгляды, все записывали, а потом отсылали властям. Таким образом был составлен список «moskalofilow»... На основе этого списка в начале войны была арестована вся лемковская интеллигенция и сотни селян...» [1, с. 119].
В наибольшей степени от австрийских репрессий пострадали русины-лемки, однако преследования со стороны австро-венгерских властей коснулись всех областей, населенных карпатскими и галицкими русинами. Маховик репрессий против русофильской интеллигенции Галиции и Угорской Руси стал раскручиваться уже с начала августа 1914 г. С началом военных действий во Львове и других городах Восточной Галиции были закрыты все русские общества. Уже к 28 августа 1914 г. только во Львове было арестовано и брошено в тюрьмы около 2 тысяч узников – в основном «опасных для государства москвофилов» [17, с. 106]. Поскольку мест для содержания арестованных не хватало, в начале сентября в Штирии был создан большой концентрационный лагерь Талергоф, куда уже 4 сентября прибыл первый транспорт заключенных из Львова численностью около 2 тысяч человек. По словам современников, за малейшее нарушение лагерного режима узников Талергофа ждала пуля; обычным явлением были пытки и издевательства, включающие самые изощренные; постоянным явлением была переполненность бараков и вопиющая антисанитария, в результате которой часто вспыхивали эпидемии. Так, по свидетельству узника Талергофа И. Васюты, во время эпидемии тифа, начавшейся в ноябре 1914 г. и продолжавшейся более двух месяцев, в Талергофе умерло до трех тысяч человек [17, с. 107-108].
«Как только Австро-Венгрия объявила войну России, - сообщали в июле 1917 г. представители русинской диаспоры в США – авторы «Меморандума Русского Конгресса в Америке», - более 30.000 русских людей в Галичине, Буковине и Угорской Руси были арестованы, избиты австрийскими жандармами, полицией и войском, подвергнуты неописуемым мучениям и заключены в концентрационные лагеря...: Талергоф, Терезиенштадт, Куфштейн, Шпильберг... и др. В одном лишь Талергофе... их умерло 1.500 человек от побоев, болезней и голода... Над мирным населением в Прикарпатской Руси немцы и мадьяры издевались таким нечеловеческим образом и сделали над ним столько насилий и зверств, что они ни в чем не уступают зверствам турок в Армении... Лишь за первые девять месяцев войны немцы и мадьяры расстреляли и повесили в Галичине, Буковине и Угорской Руси 20.000 людей. Сколько русского народа перевешали они во время своего наступления в 1915 и вообще в продолжение 1915, 1916 и 1917 годов, не поддается никакому исчислению» [4, с. 515-516].
Дочь известного русского ученого-карпатоведа Ф.Ф. Аристова Т.Ф. Аристова, ссылаясь на показания очевидцев, вспоминала, что «только в одном селении Камен-Броды в Галичине палачи через единственную петлю повесили 70 крестьян на глазах их матерей, жен, детей, а затем убитых докалывали штыками» [5, с. 10]. По словам русского журналиста, посетившего Львов сразу после его взятия русскими войсками, «быть арестованным и отведенным в военно-полевой суд, заседавший в каждом местечке, считалось счастьем, ибо в большинстве случаев палачи казнили на месте. Казнили врачей, юристов, писателей, художников, не разбирая ни положения, ни возраста» [6].
Волна репрессий обрушилась и на угорских русинов - коренное восточнославянское население Угорской Руси, которое венгерские власти подозревали в панславизме и прорусских настроениях. Массовые репрессии против угорских русинов со стороны венгерской военной администрации сочетались с установлением жесткого контроля над русинской интеллигенцией и духовенством; при этом уже в самом начале войны более 100 представителей русинского духовенства Угорской Руси было арестовано и интернировано в различных городах внутренней Венгрии. «Полмиллиона угорских русинов ждала неминуемая национальная гибель… Земли угорских русинов стали полем боя и на длительное время тылом действующей армии; села были сожжены дотла, имущество уничтожено и много русинов казнено…, - отмечал чешский современник описываемых событий. – Только итоги мировой войны спасли угорских русинов…» [18, s. 55].
* * *
Осмысливая трагедию русинского народа во время Первой мировой войны и роль в ней местных представителей украинского движения, галицкие общественные деятели-русофилы писали впоследствии, что «в то время как... террор в Бельгии или других странах всецело объясним одним фактором – войной..., в отношении Прикарпатской Руси этого недостаточно. Война тут была лишь удобным предлогом, а подлинные причины этой позорной казни зрели у кого-то в уме самостоятельно... Исключительным объектом... австро-мадьярских жестокостей... было русское народное движение, т.е. сознательные исповедники национального и культурного единства малороссов со всем остальным русским народом... Прикарпатские «украинцы» были одним из главных виновников нашей народной мартирологии во время войны. В их низкой и подлой работе необходимо искать причины того, - отмечали галицкие русофилы, - что карпато-русский народ вообще, а наше русское национальное движение в частности с первым моментом войны очутились в пределах Австро-Венгрии... на положении казнимого преступника» [7, с. 9]. Впрочем, некоторые польские историки, столь трепетные и чуткие к страданиям собственного народа, ставят под сомнение страдания карпатских русинов во время Первой мировой войны, по меньшей мере бестактно рассуждая о «мифе мартирологии» и о «легенде Талергофа» [8, s. 66].
К началу Первой мировой войны проавстрийская украинская ориентация в Восточной Галиции уже пустила достаточно глубокие корни. Мощная волна верноподданических манифестаций, прокатившаяся в Австро-Венгрии в поддержку правящей династии в конце июля 1914 г., затронула не только собственно австрийские и венгерские земли, но и славянские народы дунайской монархии, включая галицких русинов. Вечером 30 июля 1914 г. во Львове толпа местных русинов «двинулась к городской площади, распевая патриотические песни. Оркестр исполнял гимн австрийских народов и марш Радецкого; народ пел гимн с обнаженной головой... Вышедший на балкон наместник поблагодарил манифестантов за их лояльность, на что народ ответил громогласным: «Да здравствует Австрия! Да здравствует наш император!» [9]. Переполненные пламенным австрийским патриотизмом львовяне вряд ли предполагали в то время, что уже через несколько месяцев Галиция будет занята русской армией. Однако связанные с этим мрачные ожидания галичан не оправдались. Чешские газеты со ссылкой на жителей западной Галиции сообщали о в целом корректном поведении русской армии. Так, заняв город Санок, «...русские не жгли и не грабили...; не было проявлений какого-либо явного насилия... Впрочем, не обошлось без некоторых связанных с казаками инцидентов, за что их виновники были отстеганы нагайками... В деревнях русские реквизировали скот и зерно, но в большинстве случаев за это платили...» [10].
Разница между карпатскими русинами и представителями украинского движения в Восточной Галиции проявилась в их отношении к русской армии, которая с осени 1914 до весны 1915 г. занимала австро-венгерские территории, населенные русинами. Если австрийские воинские части, сформированные из украинских «сичевых стрельцов» Галиции, оказывали русским войскам ожесточенное сопротивление [11, c. 217], то после преодоления Карпат части русской армии встретили доброжелательное отношение карпатских русинов, которые не только помогали русским продовольствием, но и добровольно вступали в русскую армию. Русины часто предоставляли русскому командованию информацию о перемещениях австро-венгерских подразделений. В г. Бардейов местные русины раздавали листовки, призывавшие население помогать русским войскам. В ходе отступления русской армии в ее состав влилось много добровольцев из числа карпатских русинов. Только в Воловецком округе вместе с русскими войсками ушло 238 человек [12, c. 33]. Весьма сочувственное отношение русская армия встретила и со стороны русинов-лемков Западной Галиции, населявших территории к западу от реки Сан.
Однако и в Восточной Галиции, несмотря на успехи поддерживаемого здесь Веной украинского национального движения, русофилы продолжали оставаться влиятельной общественной силой, что проявилось после занятия Восточной Галиции русской армией. Так, 9 (22) сентября 1914 г. назначенный генерал-губернатором Галиции граф Г.А. Бобринский принял в своей резиденции во Львове делегацию представителей 19 галицко-русских культурно-просветительных и экономических обществ во главе с доктором В.Ф. Дудыкевичем, бывшим депутатом галицкого сейма и одним из лидеров Русской народной партии Галиции, выступавшей с позиций общерусского единства. Представители галицких русинов во главе с Дудыкевичем выразили радость в связи с освобождением Галиции от «австрийского ига», заявив о своих верноподданнических чувствах по отношению к императору Всероссийскому. В свою очередь, 15 (28) сентября 1914 г. император Николай II в телеграмме генерал-губернатору передал Высочайшую благодарность депутациям русинских организаций [13]. По свидетельству известного русского писателя М.М. Пришвина, посетившего Восточную Галицию осенью 1914 г., в тылу русской армии было абсолютно безопасно даже в самых «мазепинских местах». Пришвин отмечал, что «…почти нигде не было войск, даже разъездов, патрулей, и везде было так, как будто едешь по родной земле, способной нести крест татарского и всякого ига» [14].
Кратковременное пребывание Галиции и Прикарпатья под контролем русской армии осенью 1914 – весной 1915 гг. вызвало надежды на присоединение Галиции к России в широких слоях русинского населения и побудило галицких политиков-русофилов развернуть энергичную деятельность по созданию «карпато-русской добровольческой дивизии - в противоположность поддерживаемому Австрией украинскому движению» [15]. Предполагалось, что данная дивизия как автономная войсковая единица будет полностью укомплектована добровольцами из числа карпатских и галицких русинов, желающих воевать на стороне России. Активное участие в организации дивизии приняли ранее приговоренные австрийским судом к смерти депутаты австрийского парламента - известные галицкие русофилы Курилович и Марков, помилованные австрийцами только благодаря заступничеству испанского короля. Однако, по воспоминаниям русинских общественных деятелей, «когда эта задача уже была близка к выполнению, русская армия отступила из Галиции; затем последовала революция в России. Эти два события не позволили создать отдельную карпато-русскую добровольческую дивизию…» [15].
Репрессии против русинов со стороны властей Австро-Венгрии не ограничивались только военно-полицейскими мерами, нередко приобретая разнообразные культурно-языковые формы. В наибольшей степени это было характерно для Угорской Руси. Так, летом 1915 г. венгерское правительство создало специальную комиссию греко-католического духовенства, которая была призвана внести изменения в церковную литературу, ввести григорианский календарь вместо юлианского календаря и заменить традиционный кириллический алфавит русинов латиницей. Хотя эти попытки в целом потерпели неудачу, некоторые провенгерски настроенные иерархи греко-католической церкви, включая главу Прешовской епархии епископа И. Новака и главу Мукачевской епархии епископа А. Паппа, по собственной инициативе стали заменять кириллицу венгерской латиницей в русинских школах и в церковной прессе [16, p. 72]. В издаваемой венгерским правительством для угорских русинов популярной газете «Недиля» была упразднена кириллица и стала употребляться венгерская латиница. Запреты на использование кириллицы со стороны венгерских властей были призваны «ликвидировать все признаки родства с русскими» [18, s. 55].
Массовые и крайне жестокие репрессии против русинского населения позволяют говорить о том, что антирусинская политика австро-венгерских властей во время Первой мировой войны начала приобретать явственные формы геноцида. Главной жертвой австро-венгерского террора стала русофильская часть русинского общества, которая в результате широкомасштабных репрессий была сильно ослаблена, а в Восточной Галиции даже перестала существовать как культурный слой, что облегчило окончательную победу поддерживаемых Веной украинофилов.
Трагический опыт массового преследования русинского населения австро-венгерскими властями в ходе Первой мировой войны вызвал рост антиавстрийских и антивенгерских настроений среди карпатских русинов. Значительная часть русинской общественности и политиков все чаще связывала политическое будущее Карпатской Руси и русинского народа с выходом из состава Австро-Венгрии и с присоединением к России, рассматривая это как наиболее естественный и оптимальный вариант решения русинской проблемы. Неблагоприятный для Центральных держав ход Первой мировой войны создавал питательную почву для подобного рода настроений. Инициативу радикального решения русинского вопроса взяли на себя влиятельные политические организации американских русинов, которые, в отличие от своих соотечественников в Австро-Венгрии, имели возможности для активной политической деятельности. В полной мере русинское национальное движение развернулось после распада Австро-Венгрии осенью 1918 г. и окончания Первой мировой войны.
ШЕВЧЕНКО Кирилл Владимирович,
доктор исторических наук,
заведующий Центром Евразийских исследований
Российского государственного социального университета
(филиал в г. Минске)
Список цитированных источников:
1. Лемкин, И. История Лемковины / И. Лемкин. – Нью-Йорк: Юнкерс, 1969. – 287 с.
2. Талергофский альманах. – Львов, 1930. – 398 с.
3. Magocsi, P.R. The People from Nowhere. An Illustrated History of Carpatho-Rusyns / P.R. Magocsi. – Uzzhorod: Padyak Publisher, 2006. – 117 p.
4. Bratislava. Časopis učené společnosti Šafaříkovy. – 1931. – Číslo 3. – 543 s.
5. Аристов, Ф. Литературное развитие Подкарпатской (Угорской) Руси / Ф. Аристов. – Москва, 1995. – 157 с.
6. Голос Москвы. – 8 (21) октября 1914 г. – № 231.
7. Военные преступления Габсбургской монархии 1914-1917 гг. Галицкая Голгофа. Книга I. – Trumbull, Conn., 1964. – 358 с.
8. Moklak, J. Republiki łemkowskie 1918-1919 / J. Moklak // Wierchy. – Kraków, 1994. – S. 133–145.
9. Čas. – 1.08.1914. – Číslo 213.
10. Lidové noviny. – 26.10.1914. – Číslo 296.
11. Тарнович, Ю. Iлюстрована iсторiя Лемкiвщини / Ю. Тарнович. – Львiв, 1998. – 290 с.
12. Ванат, І. Нариси новітньої історії українців Східної Словаччини I. 1918-1938 / I. Ванат. – Словацьке педагогічне видавництво в Братиславі. Відділ української літератури в Пряшеві, 1990. – 288 с.
13. Утро России. – 16 (29) сентября 1914 г. – № 222.
14. Речь. – 2 (15) ноября 1914 г. – № 296.
15. Archiv Ústavu T.G. Masaryka (AÚTGM). Fond T.G. Masaryk. Podkarpatská Rus 1918, krabice 400. Report of members of Russian National Council of Carpatho-Russia.
16. Magocsi, P.R. The Shaping of а National Identity. Subcarpathian Rus’ 1848-1948 // P.R. Magocsi. – Harvard University Press, 1978. – 640 p.
17. Пашаева, Н.М. Очерки истории русского движения в Галичине XIX-XX в. / Н.М. Пашаева. – Москва: Имперская традиция. 2007. - 135 с.
18. Hartl, A. Podkarpatští Rusíni za války a za převratu / A. Hartl // Slovanský přehled. 1925. Číslo 1. S. 55-57.
https://zapadrus.su/2012-04-11-14-59-43/2014-g/per...-v-pervuyu-mirovuyu-vojnu.html
|
Метки: первая мировая война российская императорская армия |
Забытая война. Первая мировая и ее след в истории Беларуси |
Забытая война. Первая мировая и ее след в истории Беларуси
2 февраля 2015 в 18:41
Руслан Горбачев, Салідарнасць
100 лет назад Первая мировая война пришла в Беларусь. Исследователь ее истории Владимир Богданов рассказал "Салідарнасці", какие отношения были между оккупантами и местным населением, как большевики сдавали страну немцам и о том, как надо относиться к кладбищам той войны.
 |
|
Фото с сайта gazetaby.com |
– В наступившем году исполняется 100 лет с тех пор, как Первая мировая война пришла на территорию Беларуси. Когда и где это случилось?
– По-настоящему масштабные боевые действия на белорусской земле начались летом 1915 года. Но еще раньше был эпизод войны, на пороге 100-летия которого мы как раз сейчас находимся. Я имею в виду бои у Гродненской крепости зимой 1915 года.
В феврале в результате немецкого наступления в Польше в Августовских лесах недалеко от Гродно в окружение попал XX корпус генерала Булгакова. Русские попытались прорваться к фортам Гродненской крепости, но немцы бросили войска вперед, чтобы отрезать отход. 15 февраля немецкие разъезды были впервые замечены возле Сопоцкина (деревня примерно в 30 км к северу от Гродно). 17 февраля город бомбила немецкая авиация, а в районе Сопоцкина, а также деревень Ратичи, Каплановцы развернулись ожесточенные бои. На протяжении нескольких дней немцы пытались прорваться к Неману и обойти крепость. Но сил у них не хватило, и к 6 марта они были вынуждены отойти назад в Польшу. А из окружения к своим прорвались только два русских полка ХХ корпуса, остальные погибли или попали в плен. Тысячи погибших с обеих сторон остались на многочисленных кладбищах и в братских могилах к северу от Гродно.
Потом несколько месяцев боевых действий на нашей территории не было, а уже летом война пришла всерьез и надолго. Российская императорская армия под натиском немцев оставила Брест, Гродно, Барановичи, но осенью 1915 года прекратила отступление и закрепилась на линии фронта, которая на два с половиной года разделила нынешнюю Беларусь с севера на юг от Браславских озер до полесских болот. С того времени почти все основные события на Восточном фронте происходили на нашей территории.
– Почему белорусы, если и знают о Первой мировой войне на территории Беларуси, то совсем немного. Почему она оказалась забытой?
– Потому что в Советском Союзе по идеологическим причинам о ней старались не вспоминать. Гордиться было нечем, эта война была проиграна. В том числе потому, что большевики развалили армию. Чтобы лишний раз не подчеркивать их отрицательную роль, на Первую мировую наклеили штампы "империалистическая", "несправедливая" и забыли о ней. Хотя Вторая мировая – это ведь продолжение Первой, так сказать, вторая серия.
– Согласно данным, распространенным в СМИ, в течение 1914-18 годов 800-900 тысяч белорусов встали под ружье. 70 тысяч погибли в рядах армии, потери мирных жителей составили 60 тысяч, еще 50 тысяч человек насильно угнали в Германию и Австро-Венгрию. Как оцените эти потери?
– Я бы не слишком доверял цифрам, которые озвучивают в СМИ. Они по большей части предположительны – о какой серьезной статистике можно было говорить сразу после Октябрьской революции? Во Вторую мировую солдат, конечно, вообще не считали, но и в Первую случались настоящие бойни. Тогда тоже часто пытались брать числом, такая была тактика, причем не только в Российской армии. Взять ту же Нарочскую наступательную операцию весной 1916 года, когда командование изо дня в день гнало русских по снегу, грязи, болоту на укрепленную линию обороны. Неслучайно некоторые историки называли ее "десятидневным побоищем" – российские войска потеряли около 100 тысяч человек, из них более 20 тысяч убитыми, 5 тысяч пропавшими без вести. У немцев, по их оценкам, – порядка 20 тысяч убитыми и ранеными.
 |
|
Немцы хоронят российских солдат, погибших в Нарочской операции у деревни Интока (апрель 1916 г, Поставский район). Фото с сайта gazetaby.com |
Барановичская операция летом того же года – за неделю наступления российские потери – около 40 тысяч убитых, 60 тысяч раненых; немецкие и австро-венгерские – около 8 тысяч убитых, 13 тысяч раненых. У меня есть немецкие полковые истории, в которых солдаты отмечают, что в такие дни стрельба из пулеметов превращалась в рутинный труд, как на скотобойне, они переставали понимать, что делают – стреляешь и стреляешь, а "коричневая волна" все накатывает и накатывает.
– Весной 1918 года в России находилось около 2 млн 300 тыс. беженцев из белорусских губерний – родного крова лишился каждый третий белорус. 400 тысяч человек назад так и не вернулись. Почему белорусы так массово подались в беженцы?
– Российским командованием применялась тактика выжженной земли. Старались не оставлять врагу ничего, за что он мог зацепиться. Вывозили оборудование, скот, имущество, разрушали заводы, фабрики, взрывали мосты. Власти писали расписки и обещали людям все возместить после окончания войны. Но наступили революционные времена и об этих обещаниях никто, конечно, не вспомнил.
 |
|
Белорусские беженцы осенью 1915 г. Барановичский район. Фото с сайта gazetaby.com |
Беженство белорусов было организовано властями. Люди делились воспоминаниями: когда в сентябре 1915 года немцы подходили к Сморгони, казаки дали местным жителям три часа на сборы и уход из города. Представляете, что это такое? Люди поколениями жили на одном месте, а тут им дают несколько часов, чтобы сорваться с нажитого места и уехать неизвестно куда, вглубь России.
Немцы выпустили серию фотооткрыток с изображением разрушенного Бреста: мол, посмотрите, каким мы застали город после ухода русских.
 |
|
Брест. Разрушенная фабрика. Немецкая открытка 1915 года. Фото с сайта gazetaby.com |
Авторское отступление
У дома моей бабушки в деревни Волоки Кореличского района есть склеп, в который я все детство ходил за вареньем. Откуда он взялся, я никогда не задумывался. Склеп как склеп. Каково же было мое удивление, когда недавно я узнал, что построен он немцами в Первую мировую. Линия фронта как раз проходила недалеко от деревни. Семья моей прабабушки в это время была в беженцах. Вернулась она домой через несколько лет после окончания войны с территории Донской области. И вся большая семья первое время жила в этом бетонном склепе, потому что хаты во время войны сгорели. В склепе этом и сегодня стоят наши закатки.
– Почти два с половиной года фронт стабильно стоял на линии Пинск - Барановичи - Кореличи - Сморгонь - Мядель - Поставы - Браслав. Как жила часть страны под немецкой оккупацией?
– Зверств, которые были во время Второй мировой, не происходило. Конечно, жизнь белорусов под немцами не была как сахар, все-таки те были оккупантами. Выгоняли население на работы, заставляли строить дороги, укрепления и т.д. Если кто остался из молодежи, могли и в Германию отправить. Но в целом отношения были достаточно цивилизованными.
В этом году я был на Витебщине в деревне Норковичи под Поставами. У меня оказался фотоальбом немецкого солдата, который квартировал в этой деревне. На снимках, сделанных во время Первой мировой, девушки пляшут в клубе с немцами под электрической лампочкой, бабушки читают газеты (непонятно, на каком языке), хозяева хат фотографируются с солдатами-постояльцами. Я показал местному жителю эти фотографии, он посмотрел: "Нет, это точно не наша деревня". Почему? "Смотри – столбы электрические стоят. А я помню, как при моей жизни к нам свет тянули"...
"Лампочки Ильича", о которых так много раньше говорили, пришли в наши деревни задолго до Ленина. И при установлении советской власти они надолго погасли.

 |
|
Деревня Норковичи, Поставский район, 1916 г. Фото с сайта gazetaby.com |
У меня даже есть снимки кинотеатров, которые были в деревнях. Разговаривал на Полесье с пожилым мужчиной. Он вспомнил рассказ своей бабушки: их, детей, собрали немцы, натянули перед ними простынь, а потом на них оттуда как рванет поезд! Дети испугались и разбежались – совсем как на классической премьере "Прибытие поезда" братьев Люмьер.
Однажды мне мужик в деревне рассказал, что у него есть немецкий плуг. Спрашиваю: почему думаете, что он немецкий? "Потому что немецкий больше и шире, рассчитан на две лошади". И действительно, у меня есть немало снимков, где немецкие солдаты пашут в Беларуси с двумя лошадьми.
 |
|
Немецкие солдаты на сельхозработах в деревне Гурнофель Ошмянского района, 1916 год. Фото с сайта gazetaby.com |
Еще у нас остались разваленные немецкие электростанции, например, в Островецком районе. Железные дороги во время войны получили развитие с двух сторон. Такую сеть построили, что мы до сих пор ее используем.
Поскольку фронт стабильно стоял два с половиной года, то жизнь продолжалась как на немецкой стороне, так и на российской. Я видел документы, где батюшка обращается к командиру полка с просьбой разрешить брак между солдатом и местной крестьянкой, потому как иначе нельзя: ей 16 лет, а она уже ждет ребенка. Есть фотографии времен Первой мировой со свадеб российских солдат и белорусок.
 |
|
Свадьба российского солдата-сибиряка и белоруски. Ляховичский район. 1917 год. Фото с сайта gazetaby.com |
Кстати, никто так не сфотографировал Беларусь начала XX века, как немцы. С точки зрения краеведения это очень большое наследие. Многие немцы путешествовали с фотоаппаратами, им были интересны чужие края, поэтому остались десятки тысяч фотографий. Недавно удалось приобрести хорошую серию, созданную немецким строителем мостов, который плавал по Западному Бугу и Припяти и фотографировал все: деревни, церкви, костелы, промыслы, людей.
Многих зданий, храмов, которые мы видим на снимках того времени, уже нет.
– Линия фронта долгое время была стабильной, как немцы в итоге пришли к победе?
– То, что Германия смогла зацепиться на Восточном фронте за победу, – исключительно "заслуга" большевиков. В результате "демократизации" российская армия ими была полностью развалена, деморализована. Пехота выбирала себе командиров и голосовала: идти в атаку или не идти. Летом 1917-го генералы и офицеры буквально уговаривали солдат пойти в решающее наступление, с уговорами приезжал на фронт сам Керенский. А в итоге после самой мощной артподготовки солдаты доходили до немецких окопов, набирали там вещей и разворачивались назад. Чтобы поддержать боевой дух, вдохновить своим примером, в атаку под Сморгонью пошел женский батальон Бочкаревой, занял позиции в Новоспасском лесу. Но никто их не поддержал.
К концу 1917 года ресурсы Германии были практически полностью истощены, она стояла на грани поражения, войскам не хватало самого необходимого. Но после перемирия, заключенного в декабре в Солах под Сморгонью, немцы приобретали все, что им нужно, у русских солдат. Сооружались специальные площадки для так называемой меновой торговли. Процитирую фрагмент одной из немецких полковых книг:
"Это было весёлое зрелище, торговля с её махинациями. Наш командир 1-й пулемётной роты выманивал у русских, главным образом с помощью водки, всё, что могло пригодиться нашей бедствующей родине: чай, металлы, резину, мыло… "Люди чести русской революции" продавали военное имущество своей родины".
18 февраля 1918-го, когда закончился срок двухмесячного перемирия, пунктуальные немцы сделали пару предупредительных выстрелов из пушек "в знак возобновления боевых действий", поднялись из окопов и вышли на русские позиции. И обнаружили их "брошенными и частично запущенными".
– 21 февраля 1918 года немцы заняли Минск. Был какой-то бой по его защите?
– Не было. Некому было воевать – сказалась так называемая "самодемобилизация", а попросту говоря – повальное дезертирство. Немцы заняли Минск и пошли дальше. Подойдя к Пскову, они разогнали разрозненные отряды красноармейцев и 23 февраля отправили телеграмму Ленину с ультиматумом, дали день на размышление. Ленин поспешно отправил телеграмму, что принимает все немецкие условия. В итоге последовавших переговоров 3 марта 1918 года был подписан Брестский мир. По договору советское правительство отдавало немцам Беларусь, а также другие территории, соглашалось на выплату громадной контрибуции.
А сегодня мы празднуем 23 февраля как День защитника Отечества. Но если для России его хоть как-то можно оправдать, то для современной Беларуси это праздник "с особым цинизмом".
 |
|
Немцы в Минске. 1918 год. Фото с сайта gazetaby.com |
Окончательно немцы ушли из Беларуси только в 1919 году (из Минска – в декабре 1918-го), после того, как Германия признала свою капитуляцию в Первой мировой перед западными странами-союзниками России.
– Какие следы остались в Беларуси от Первой мировой?
– Я считаю, что ни одна война не оставила на нашей территории столько следов, как Первая мировая. Это и линии фортификации, и железные дороги, и кладбища, историю которых я изучаю.
Оборонительные сооружения остались в основном немецкие, поскольку они бетонные.
 |
|
Немецкий блиндаж в лесу в Сморгонском районе. Фото с сайта gazetaby.com |
Русские строили из земли и дерева, и в условиях войны для этих целей приходилось разбирать и дома, и храмы. Но это были достаточно мощные укрепления, следы которых сохраняются до сих пор.
 |
|
Российский блиндаж. 1916 г. Фото с сайта gazetaby.com |
 |
|
Следы российских укреплений Первой мировой у озера Нарочь. Фото с сайта gazetaby.com |
Что касается могил, то особенностью Первой мировой войны являлось то, что и немцев, и солдат российской армии часто хоронили на одних кладбищах. В Беларуси с той войны сохранилось более 300 кладбищ. Из них около 90 российских, около 130 немецко-австрийских, и около 60 смешанных.
Сегодня мы имеем очень много разрушенных и заброшенных кладбищ. После Второй мировой с немецкими могилами часто буквально воевали. В деревне пьяный тракторист брал кувалду и шел, как он считал, бороться за правое дело. Кроме того, суровый XX век нанес сильный удар по человеческой морали. Многие кладбища были разрыты, причем часто не черными копателями, а местным населением. Люди сегодня вспоминают: да, мы сами в детстве здесь рылись. Это было в порядке вещей.
 |
|
1917 год. Памятник немецкого 249-го пехотного полка на кладбище в деревне Карабаны (Мядельский район). Фото с сайта gazetaby.com |
 |
|
Современный вид. Фото с сайта gazetaby.com |
Иногда меня спрашивают, почему я занялся темой кладбищ. Я нашел для себя ответ: чтобы не было стыдно. Если мы стремимся к европейским ценностям, то надо как-то пытаться соответствовать.
Реальная работа по восстановлению кладбищ сегодня проводится в основном руками энтузиастов, в том числе фондом памяти Первой мировой войны "Кроки", в котором я состою. Так, в минувшем году поставили крест на месте обнаруженной братской могилы, где похоронены жертвы самой мощной немецкой газовой атаки под Сморгонью, которая состоялась 20 июля 1916 года.
Найти эту братскую могилу, кстати, смог не сразу. Знал, что она находится около станции Залесье на кладбище возле церкви. Но церкви не было. Оказалось, во времена Союза ее сжег на Пасху председатель колхоза. Определить место братской могилы удалось только по сохранившимся каменным памятникам.

 |
|
Увеличив старое фото, удалось прочитать надпись на кресте – "Здесь покоятся гренадеры 14 Грузинского, 15 Тифлисского и 16 Мингрельского и Ниж. Чины 6 пех. Либавского полка, отравленные удушливыми газами 20 июля 1916 г". Теперь этот текст будет на новом памятнике. Фото с сайта gazetaby.com |
Меня поражает отношение российской стороны к кладбищам Первой мировой. Если вы говорите о патриотизме, считаете, что корни современной России идут из Российской империи, то следует помнить, что люди, лежащие в многочисленных кладбищах на территории Беларуси, защищали вашу родину. Неужели они не заслуживают достойной памяти и немного денег из такого мощного бюджета?
Но ничего, кроме заклинаний "никто не забыт, ничто не забыто", я не наблюдаю. Разговоры о необходимости восстановления и ухода за кладбищами чаще всего остаются только разговорами.
Почему-то Беларусь разбирается с самым печальным наследием Первой мировой без поддержки восточного соседа – силами энтузиастов, отдельных администраций, спецбатальона Минобороны. Да, замечательно, что кладбище на Старожевке в Минске удалось спасти от застройки и теперь оно имеет цивилизованный вид. Но Союзное государство уже лет семь строит мемориал под Сморгонью, и все никак достроить не может. Развернули гигантскую стройку с совершенно несуразными, нелепыми монументами, но даже к 100-летию начала войны не успели завершить. Не факт, что к 100-летию окончания успеют. И это в мирное время! Остается только удивляться, как немцы смогли в условиях войны построить многие мемориалы, которые напоминают о Первой мировой до сих пор, – в деревне Десятники Воложинского района и других местах.
И в большинстве случаев на этих кладбищах лежат не только немецкие, но и российские солдаты.

|
Метки: первая мировая война российская императорская армия |
Владимир Владимирович Трубецкой |
Владимир Владимирович Трубецкой
Владимир Владимирович Трубецкой
Военный деятель
| Дата рождения | 18 ноября 1868 года |
| Место рождения | Ялта, Российская империя |
| Дата смерти | 30 июня 1931 года |
| Место смерти | Париж, Франция |
| Принадлежность |  Российская империя Российская империя |
| Звание | Контр-адмирал |
| Сражения/войны | Русско-японская война, Первая мировая война |
| Награды и премии |    |
Владимир Владимирович Трубецкой — российский военный деятель, контр-адмирал, князь[1].
Военная карьера
Владимир Трубецкой родился 18 ноября 1868 года в Ялте. Его дедом был богатый еврей Моисей Кон (Маврикий Кониар)[2][3], который был женат на русской женщине Елизавете Александровне, у них была, среди прочих детей, дочь Елизавета Маврикиевна[4] — вышедшая замуж за князя Владимира Васильевича Трубецкого, сыном последних и был Владимир Владимирович Трубецкой[5].
В сентябре 1891 года окончил Морской Корпус в звании мичмана.
В 1892 году был переведён в Сибирскую флотилию, служил во Владивостоке вахтенным офицером на шхуне «Ермак», затем служил на аналогичной должности на канонерской лодке «Сивуч», крейсере «Забияка».
В 1894 году — флаг-офицер командующего Владивостокского порта.
С 1895 года— вахтенный офицер а крейсере «Адмирал Нахимов» в ходе его вояжа по дальневосточным портам, затем — на крейсере «Джигит», во время похода в Карибское море в 1898−1899 годах, позже был переведён на Балтийское море вахтенным офицером на императорскую яхту «Штандарт».
В 1903−1904 годах учился в Военно-морской академии, после окончания которой служил на миноносце № 115, вахтенным начальником на крейсере «Изумруд».
В 1904 году был назначен командиром подлодкой «Сом», которая была принята в строй на Балтике, после чего перевезена во Владивосток по железной дороге специальным эшелоном вместе с подводной лодкой «Дельфин». По прибытии во Владивосток 29 декабря 1904 года субмарина «Сом» была включена в состав Отдельного отряда миноносцев. «Сом» под командованием В.В. Трубецкого участвовал в войне с Японией.
С 9 августа по 19 августа 1906 года совершил свой последний поход в качестве командира «Сома».
Затем был снова переведён на Балтийский флот.
В 1906 году окончил офицерский класс подводного плавания в Либаве.
В 1907 году служил на минном крейсере «Всадник», затем служил на крейсере первого ранга «Память Азова».
В 1908−1909 годах — командир эсминца «Сильный» минной дивизии Балтийского флота.
В 1909−1912 годах — командир эсминца «Донской казак» Балтийского флота.
С 1912 года — командир 3-го дивизиона миноносцев Черноморской минной дивизии Черноморского флота.
В 1913 году — капитан 1-го ранга.
С января 1914 года — командир первого дивизиона эсминцев.
С началом Мировой войны командовал дивизионом миноносцев.
В 1915−1916 годах — командир линкора «Императрица Мария».
В 1916 году — контр-адмирал.
С августа 1916 года — командир Минной бригады Черноморского флота, в этом качестве участвовал в нескольких минных операциях и боях.
В 1917 году, с началом матросских бунтов, Трубецкой был отправлен для командования Балтийской морской дивизией, находившейся на Дунае.
Позднее вместе с семьей (жена и трое детей) эмигрировал перебрался во Францию, и жил в Париже.
Умер 30 июня 1931 года в Мулене — пригороде Парижа.
Примечания
|
Метки: трубецкие |
История села Прохорово |
| История села Прохорово |
|
Местность, на которой расположилось современное село Прохорово, впервые упоминается в 1627–1628 годах. В писцовых книгах 1627 года на месте села Прохорово упоминалась: «пустошь Захаркова, на речке Рожае, усть речки Бобровки, Московского уезда, Замыцкой волости, в обводных землях». Из этой записи можно понять, что до этого времени, в месте впадения речки Бобровки в Рожаю, было селение с названием Захарково. Видимо во времена Смутного времени начала XVII века отряды польско-литовских разбойников добрались и до этих мест. Захарково было разграблено, население перебито или уведено в плен, а на месте селения образовалась пустошь. Такие пустующие земли старались отдать в аренду или продать в вотчину. В 1635 году эта пустошь была продана Поместным приказом, который распоряжался такими землями, Прохору Федоровичу Данилову. В его владение также отошли, кроме того, «16 четвертей, пустошь Зуевка, Аверлова тож, а в ней пашни 10 четвертей, пустошь Кузнечиха на суходоле». Вотчинник построил на этих землях свой двор, заселил их своими крестьянами. Пустошь опять стала именоваться сельцом под старым названием «Захаровское, Захарково тож». В 1646 году, в этом сельце находились: дворы вотчинника, приказчика, и три двора крестьянских. О первом известном владельце сельца Захарково, давшем ему название своим именем, известно немного. В 1639 году Прохор Федорович Данилов был занесен в боярскую книгу, куда кроме бояр, заносили имена большинства служилых людей. Чин у него был небольшой, и более упоминаний о нем в документах того времени не обнаружено. История владения сельцом Прохорово-Захарково, а затем и селом Спасское-Прохорово, в 1650 – 1680 годах, точно не установлено, но не из-за отсутствия документов, а из-за разногласия в них. По бумагам, разысканным известными собирателями сведений о церквях и селах Подмосковья братьями Холмогоровыми, в 1654 году, после смерти Прохора Федоровича, его вотчина перешла по наследству в собственность его сына Ивана Данилова, а с 1678 года отошла к боярину Ивану Богдановичу Милославскому, женатому на сестре Ивана – Дарье Прохоровне. Однако в документах Поместного приказа указано, что в декабре 1683 года, вотчина Ивана Данилова в Замыцкой волости справлена за сестрой его Дарьей Прохоровной Даниловой, вдовой боярина Ивана Богдановича Милославского. В отказной книге записано: «Отказано боярыне вдове Дарье Прохоровне боярыне Ивановой жене Милославского брата ее родного Ивана вотчина Данилова в Московском уезде в Замыцкой волости село Спасское, что была пустошь Захаровка с пустошьми». Можно лишь предположить, что в 1654 году, после смерти отца Прохора Федоровича, сельцо Захарково, Прохорово тож, перешло к его сыну - Ивану Прохоровичу Данилову. Затем, эта вотчина, очевидно, после его смерти в 1678 году, неофициально перешла к его сестре Дарье Прохоровне, но управлялась она от имени ее мужа. И лишь в 1683 году, после смерти Ивана Богдановича Милославского, уже село Спасское, что было пустошью Захарково, было официально «отказано», то есть, передано в собственность боярыне Дарье Прохоровне Милославской. Скорее всего, детей у Ивана Прохоровича Данилова не было, иначе бы, после его смерти, его недвижимое имение не отошло бы к сестре. А вот Иван Богданович, хотя и родился в семье незнатных дворян Милославских, но благодаря женитьбе царя Алексея Михайловича на двоюродной сестре Марии Ильиничне Милославской, достиг высоких чинов и богатства. В 1648 году Иван Богданович находился среди «поезжан» на этой свадьбе. Позже он находился в царской свите, и в 1649-1652 годах сопровождал царя в его загородных поездках. Пришлось ему и повоевать. Иван Милославский участвовал в русско-польской войне 1654-1667 годов за Украину и русско-шведской войне 1656-1658 годов. Сопровождая царя в походе на Смоленск в 1654 году, он, во время осады Смоленска возглавлял отряд, штурмовавший Пятницкие ворота. Затем Иван Богданович вел переговоры о сдаче города поляками. В походе 1655 года он был головой стряпчих в государевом полку. В 1656 году Милославский командовал успешным ночным штурмом Динабурга, руководил строительством Борисоглебской крепости, участвовал в осаде Риги. В 1656-1657 годах И.Б. Милославский попал в опалу. Он, по указу царя, был разжалован в московские дворяне, но затем прощен и пожалован в стольники. Началось его второе восхождение к царскому двору. В 1659-1663 годах Милославский был послан воеводой в Холмогоры. С 1665 года он уже окольничий. В 1668-1669 и 1673-1675 годах он возглавлял Челобитный приказ. А в 1678 году, находясь на воеводстве в Симбирске, Иван Богданович Милославский совершил свое самое успешное деяние. Он успешно руководил обороной города от отрядов Степана Разина. За это, в 1671 году, Милославский был пожалован в бояре. После снятия осады Симбирска, соединившись с армией кн. Ю. Н. Барятинского, он нанес повстанцам решительное поражение, а в 1671 году освободил от мятежных казаков Астрахань. В 1676-1677 годах Иван Милославский был воеводой в Казани. В 1679 г. он был направлен со своим полком в товарищи к П.В. Шереметеву для обороны Киева, от турок. Последним местом его службы царю, был Курск, где он в 1678-1680 годах был воеводой. Умер боярин Иван Богданович Милославский в 1681 году. Постоянно находясь на службе, имея и другие, более удобные и большие вотчины, Иван Богданович вряд ли бывал в вотчине своей жены. Но, учитывая, что, скорее всего, именно во времена его владения, в сельце была построена церковь, и поселение приобрело статус села, история села Прохорово должна включать в страницы своей истории и упоминание об этом человеке, внесшем в историю государства Российского свою скромную лепту. В 1687 году село Спасское, Прохорово тож, стало принадлежать сыну Б.И. Милославского стольнику Сергею Ивановичу Милославскому. В 1704 году, при проведении переписи, в селе Прохорово находились: двор вотчинника, двор конюшенный с деловыми людьми и 22 двора крестьянских. Сергей Иванович Милославский, несмотря на то, что его отец был в больших чинах, успеха в службе не добился. Еще при жизни отца, он был назначен комнатным стольником, но подняться выше в придворной иерархии ему не удалось. В 1707 – 1709 годах Сергей Милославский служил в адъютантах. Помимо села Прохорово, у Сергея Ивановича имелись и другие владения, доставшиеся ему в наследство от родителей. Родовая его вотчина – село Шеметово, находилась близ Сергиева посада, на Угличской дороге, другая – село Заянье, находилась в Новгородском уезде. И везде Сергей Милославский строил новые и ремонтировал старые храмы. В декабре 1720 года, на его средства, в селе Прохорово была построена новая деревянная церковь. Наверняка на ее освящении присутствовал и сам помещик. Сергей Иванович, в браке с женой Аграфеной, нажил двух сыновей: Александра и Федора и дочерей. В 1734 году, после смерти Сергея Ивановича Милославского, между ними и было поделено все его недвижимое имение. Село «Спасское, Прохорово тож», отошло во владение Александра Сергеевича Милославского. В отказной книге было записано: «…на ево жеребей отца ево недвижимое имение и в том числе Замыцкой волости село Спасское, Захарово, Прохорово тож, да деревня Сидориха». Ему же досталось и село Шеметово. Федору отошло село Заянье. Александр Сергеевич по желанию родителей пошел в военную службу, но, получив чин прапорщика I-го Московского пехотного полка, вышел в отставку. Более известен его брат Федор Сергеевич Милославский (1709-1783), который мог в детские годы продолжительное время жить в селе Прохорово, а позже гостить там. Отдав сына Александра в армию, второго сына Федора, Сергей Иванович определил во флот. Окончив Академию Морской Гвардии, в 1745 году Федор Милославский уже был в чине лейтенанта морского флота. Завершил службу он в чине вице-адмирала (1763г.). Выйдя в отставку, в 1765 году, Федор Сергеевич, по указу Екатерины II, был назначен сенатором. Александр Милославский не долго владел селом Прохорово, в феврале 1737 года он продал свое имение с пустошьми и людьми майору Ивану Петровичу Раговскому за 4000 рублей. Во время ревизии 1744-1745 годов, подполковнику И.П. Раговскому принадлежало 143 души мужского пола. В 1749 году, он в том же чине служил «Московской губернии губернаторским товарищем». Но и Иван Петрович Раговской также не задержался в Прохорово. В 1752 году он заложил свое владение княжне Екатерине Ивановне Трубецкой. С этого года, на протяжении более полутора веков, село Прохорово принадлежало старейшему русскому княжескому роду Трубецких. Среди князей Трубецких, в середине XVIII века, жило два Ивана Юрьевича: дядя и племянник. Дядю Ивана Юрьевича (1667-1750) прозвали Большим, племянника (1703-1744) Меньшим. Оба имели по несколько детей, среди которых были и две Екатерины. Екатерина - дочь Ивана Юрьевича Большого, была замужем за Антонием Дуниным-Скржинским, а Екатерина – дочь Ивана Юрьевича Меньшого, осталась в девицах. И.П. Раговской заложил свое имение Прохорово княжне-девице Е.И. Трубецкой. Следовательно, владелицей Прохорова стала дочь Ивана Юрьевича Меньшого. Это же подтверждают и обстоятельства биографии Трубецкого Ивана Юрьевича Большого. Он был дважды женат, но от первой супруги детей не имел. В 1691 году Трубецкой вступил во второй брак с Ириной Григорьевной Нарышкиной (1671-1749). От нее он имел двух дочерей: Екатерину и Анастасию. Дата рождения первой неизвестна, а вторая дочь родилась в 1700 году. В сражении при Нарве в 1700 году, Трубецкой Иван Юрьевич Большой был взят в плен и находился в Швеции до 1718 года. Там у него родился побочный сын – известный в Российской истории под именем Ивана Ивановича Бецкого (1703-1795). Вероятность того, что Екатерина родилась после возвращения отца из плена значительно меньше, чем вероятность ее появления на свет в молодые годы родителей. Князь Иван Юрьевич Трубецкой Меньшой, во времена царствования Елизаветы Петровны был президентом Юстиц-коллегии. После его смерти, имущество перешло к его детям: четырем дочерям: княгине Аграфене Ивановне Волконской, княгине Варваре Ивановне Друцкой-Соколинской, девицам Прасковье и Екатерине, и единственному сыну Николаю. Судьба его жены Марии Яковлевны Глебовой, неизвестна. Так что к середине XVIII века, его дочь Екатерина Ивановна Трубецкая могла самостоятельно вести свои дела и взять в залог под отданные И.П. Раговскому деньги, его имение с селом Прохорово. Известно, что в 1750 году, княжна Екатерина Трубецкая приобрела другое подмосковное имение Знаменское-Садки. В 1754-56 годах, она построила в этом имении, вместо старой деревянной, новую каменную церковь. Княжна Трубецкая умерла в девицах. Из всех родственников, она была наиболее близка к семье своего дяди князя Дмитрия Юрьевича Трубецкого. После ее смерти, имение отошло именно ему. Точная дата смерти княжны Екатерины Ивановны Трубецкой неизвестна, но в 1766 году, при межевании владений помещиков Московской губернии, село Знаменское-Садки было уже записано за новым владельцем – Дмитрием Трубецким. Значит, и село Спасское, Прохорово тож, в 1766 году принадлежало ему же. Межевание в Подольском уезде проходило позже на два года. В мае 1768 года, межевавший помещичьи имения чиновник Повалишин записал: «Спасское, Прохорово тож, село Московского уезда. Замыцкого стана, владение лейб-гвардии капитана-поручика, князя Дмитрия Юрьевича Трубецкого. Пашня 470д2350с, перелог и лесная мелкая поросль 61д328с, лес 47д332с, сенной покос 52д1550с, селение 8д244с, дороги 5д1419с, реч.5д2186с, всего 622д437с, душ 167». Новый помещик князь Дмитрий Юрьевич Трубецкой (1720-1792) был достаточно богат. В конце 1760 годов гвардии капитан в отставке владел несколькими имениями по всей Российской империи (только в Подольском уезде у него было три имения) и несколькими домами в Москве, в том числе в Кремле. Основным подмосковным имением семьи Дмитрия Юрьевича стало Знаменское-Садки. Именно там, в летнее время проводили время он, его жена Варвара Ивановна, урожденная Одоевская, умершая в 1788 году, и дети: сын Иван и дочери Екатерина, Анастасия и Прасковья. Зимой же семья Трубецких жила в Москве, в доме на Покровке. Этот дом напоминал по форме комод. Из-за него княжеская ветвь Трубецких, пошедшая от Юрия Дмитриевича, получила прозвище «Трубецкие-комод». Следует также обратить внимание, что он приходился прадедом знаменитому русскому писателю Льву Николаевичу Толстому, который через 100 лет, бывал в окрестностях села Спасское, Прохорово тож и посетил деревню Ивино. Что же касается села Прохорово, то из экономических примечаний к Генеральному Плану межевания известно, что в усадьбе помещика находился деревянный господский дом. На самом же плане Генерального межевания села Спасского, Прохорово тож, выполненном в 1770 году, изображена центральная часть усадьбы с главным домом и хозяйственными постройками. Рядом с домом располагалась Спасская церковь. На карте изображены и дороги, идущие из деревни Ивино в деревню Валищево, а также из села Спасского в деревню Сидориху, и в сельцо Мещерское. Церковная земля разделялась на три участка по обе стороны реки Рожай: на участке дороги из Ивина в Валищево, по обе стороны дороги из села Спасского в деревню Сидориху. В 1786 году Дмитрий Юрьевич приобрел расположенное к северо-западу от Прохорово имение, с частью села Матвеевское. К новому имению, но с другой, северной стороны примыкало еще одно купленное в тот же год имение, в которое входили части села Сынково и деревни Харитоново Подольского уезда. Протяженность соединенных вместе трех имений, с севера-запада (от деревни Харитоново) на юго-восток (до деревни Сидорихи), составляла около 13 километров. Наличие в те года господского дома в Прохоровском имении позволяет предполагать, что и сам Дмитрий Трубецкой, а также члены его семьи, все-таки могли на несколько дней заглянуть и в этот уголок Подмосковья. Например, его дочери со своими семьями. Так, Екатерина Дмитриевна вышла замуж за князя Николая Сергеевича Волконского; Анастасия Дмитриевна, в первом браке за Константином Ивановичем Повало-Швейковским, во втором за Левашовым; Прасковья Дмитриевна (ум. 1801г), в первом браке за князем Василием Сергеевичем Голицыным, во втором за польским камергером бароном Може. После смерти в 1792 году князя Дмитрия Юрьевича Трубецкого, владельцем имения Спасское-Прохорово стал его сын Иван Дмитриевич Трубецкой(ум.1827г). Его молодые и зрелые годы прошли во времена царствования Екатерины II и Павла I, он был Действительным Камергером Двора Его Императорского Величества. О его семейной жизни известно больше. Его женой стала Екатерина Александровна, урожденная Мансурова. Хотя она и была из семьи небогатых дворян, но своей красотой, твердым характером и благочестием, будущая жена князя Трубецкого завоевала уважение двора и светского общества. По свидетельству современников, именно она стала хозяйкой в семье Трубецких. Князь И.М. Долгорукий вспоминал: «Бедная дворянка, прославившаяся своей красотой, которая доставила ей блистательнейшую фортуну, ибо она, не имея никакого состояния, попала замуж за богатого князя Трубецкого и весь век свой доныне проводит в изобилии и всяком довольстве». Иван Дмитриевич же, выйдя в отставку, жил крайне замкнутой жизнью, мало общаясь не только со своими знакомыми, но и с женой и детьми. Он предпочитал держаться особняком. Возможно, следствием такого поведения могло явиться душевное заболевание, а может быть какая-нибудь личная тайна. Иногда, находясь в болезненном состоянии, князь звал к себе учителя детей – будущего знаменитого историка Михаила Погодина, и диктовал ему свои высказывания. Молодой учитель никогда не говорил, что ему диктовал Иван Трубецкой. В своем дневнике, Погодин только один раз признался: «писал у старого князя, от 8 до 2 ночи, притом такие вещи, которых не желал бы слышать. Отказаться невозможно, он мог написать это и без меня, притом то, что я писал для него, не может иметь никаких дурных следствий ни для кого». Странное поведение главы семейства не приносило вреда, вот только его «проказы» вызывали слезы жалости у жены и дочерей. У Ивана Дмитриевича Трубецкого было двое сыновей: Юрий и Николай (1807-1874г); и трое дочерей: Аграфена (1795-1861), Софья (1800-1852) и Александра (1802-1873г). После выхода в отставку главы семейства, вся семья в зимнее время года постоянно жила в Московском «доме-комоде» на Покровке, выезжая в летние месяцы в подмосковную усадьбу Знаменское-Садки. Несмотря на нелюдимый характер Ивана Дмитриевича, его дом, благодаря его жене Екатерине Александровне, был всегда открыт для родственников и близких знакомых. Иван Трубецкой приходился троюродным братом Сергею Львовичу Пушкину – отцу поэта Александра Пушкина. Сестра поэта Ольга Павлищева вспоминала, что в детские годы, ее вместе с братом Александром, привозили на уроки танцев к Трубецким на Покровку. В начале 1820-х годов, в семье Трубецких жила их племянница Мария Николаевна Волконская, позднее вышедшая замуж за графа Николая Толстого и родившая знаменитого на весь мир сына - Льва. Она бывала и в усадьбе Знаменское-Садки. Иван Дмитриевич был в свойстве с историком Николаем Карамзиным. Возможно в селе Прохорово, бывал уже упомянутый историк Михаил Погодин. С лета 1819 года и до 1827 года, он был домашним учителем младших детей князя Ивана Дмитриевича Трубецкого – Николая и Александры. Вместе с семьей Трубецких, Погодин на все лето уезжал в их подмосковное имение Знаменское-Садки. В течение нескольких лет, он был не только учителем детей, но и другом семьи Трубецких. Некоторое время он исполнял обязанности личного секретаря старого князя. Как знать, может быть по его поручению, Михаил Погодин и приезжал по делам в дальнее подмосковное имение князей Трубецких Прохорово. По роду службы, в имении Прохорово, бывал Василий Дмитриевич Корнильев (1793-1851). Он слыл в Москве хлебосольным хозяином, покровителем и другом многих литераторов и художников. На его квартире, пообщаться по душам, выпить и закусить, поиграть в карты, собирались не только любители искусства, но и известные поэты и писатели. Василий Корнильев был знаком с А.С. Пушкиным, Е.А. Баратынским, А.А. Дельвигом и М.П. Погодиным. Его племянником был знаменитый химик Д.И. Менделеев. В 1825 году он вышел в отставку и принял предложенную ему должность управляющего делами и имениями князя и княгини Трубецких. В число его служебных обязанностей входили и проверки дел во всех хозяйских владениях. В конце своей жизни князь Иван Дмитриевич при своем богатстве, умудрился влезть в долги к тайному советнику Г.А. Дурасову. Чтобы расплатиться с ним, Трубецкой заложил имение Прохорово с деревнями Ивино и Сидориха в Опекунский Совет. До полного расчета с Советом, имение находилось «под запретом», то есть владелец не мог его ни продать, ни подарить. 1 марта 1827 года князь Иван Дмитриевич Трубецкой умер, так и не рассчитавшись с Опекунским Советом. В результате, с его долгом пришлось разбираться его вдове княгине Екатерине Александровне Трубецкой. После ее смерти в 1831 году, недвижимое имение Трубецких долгое время оставалось не разделенным между наследниками: сыновьями Юрием и Николаем и дочерьми: Аграфеной Мансуровой, Софьей Всеволожской и княгиней Александрой Мещерской. Умершие супруги Трубецкие владели землями в нескольких губерниях Российской империи. В перечне их владений находилось и: «недвижимое имение при селе Спасском с деревнями Ивино и Сидорихой и в принадлежащих к ним пустошах Сапроновой и Угоди: пашни 152 д. 279 саж., сенокоса 89 д. 1681 саж., строевого и дровяного леса 769 д. 99 саж., перелога и кустарника 118 д. 903 саж., под домом, садом, огородами и вообще господской оседлостью 22 д. 2288 саж., а всего 1159 д. 450 квад. саж.». Лишь в 1838 году раздел наследства был произведен. Из подмосковных владений их родителей, село Прохорово отошло к старшему сыну: камергеру и кавалеру, князю Юрию Ивановичу Трубецкому (1792-1850). Отставному корнету лейб-гвардии Конного полка, князю Николаю Ивановичу Трубецкому досталось имение Знаменское-Садки. С этого времени помещичья усадьба Прохорово стала регулярно посещаться ее владельцем и членами его семьи. В апреле 1825 года князь Юрий Иванович женился на княжне Анне Ивановне Прозоровской (1803-1828). В приданое от родителей, невеста получила богатые имения и пять тысяч душ крепостных крестьян. Их брак продлился всего три года. Родив дочь Варвару, молодая жена Трубецкого умерла сразу же после родов. Более семи лет Юрий Трубецкой хранил верность первой жене, но в 1837 году все же женился вторым браком на француженке Джулии Терезе Морин (1803-1882). В 1841 году она родила ему наследника – сына Ивана (1841-1915). От второго брака были еще две дочери: Анастасия и Софья. Старшая дочь Варвара Юрьевна (1828-1901) вышла замуж за дальнего родственника - князя Николая Николаевича Трубецкого (1822-1892), отца знаменитого скульптора Паоло (Павла) Трубецкого. В 1838 году была составлена карта с подробным изображением всего усадебно-паркового комплекса имения Прохорово. Усадьба делилась дорогой на село Мещерское на две части. Между дорогой и рекой Рожаей располагались: главный дом помещичьей усадьбы и два жилых флигеля. Там же находилось несколько хозяйственных построек. К северу от главного дома находилась каменная Спасская церковь с кладбищем. От Мещерской дороги на восток, с другой стороны от главного дома, находились постройки скотного двора. Князь Юрий Иванович Трубецкой служил по гражданскому ведомству и в чине действительного статского советника вышел в отставку. С 1838 года Московский дом-комод на Покровке, был сдан в аренду купцу I гильдии С.Д. Воронину. Когда семья князя Юрия Трубецкого не была за границей, имение Прохорово было любимым местом их проживания. В летние месяцы семья Трубецких выезжала в свою подмосковную усадьбу, вместе с прислугой, учителями, гувернером и няньками детей. Известны некоторые их имена: француженки Августина Гиллиш и Каролина Мишель, а также англичанин Иван Васильевич Белль. С конца 1840-х годов семья Трубецких собиралась жить постоянно в своей подмосковной усадьбе, так как именно в это время, в имении Прохорово начали проводиться крупные строительные работы. Для их производства, Юрий Иванович, под залог своего Московского дома, взял денежный заем в сумме 13420 рублей серебром. Из проведенных в усадьбе работ, известно о ремонте фундамента третьего флигеля, ремонте ворот у людского флигеля, поправка ограды на господском дворе, и исполнение других мелких работ в служебных помещениях. Но большая часть заемной суммы пошла на возведение нового каменного Спасского храма. Его строительству Юрий Трубецкой придавал особое значение. В своем духовном завещании, составленном 26 октября 1848 года, он просил похоронить себя, в возведенной на его средства Спасской церкви: «Прошу друга моего жену и любезного брата похоронить в селе Спасском в сооружающемся по нынешний год там храм, в склепе под нижнею церковью. Заклинаю и прошу убедительно похороны совершить без всякой роскоши и пышности, без балдахина и блестящих обыкновенных церемоний. При погребении назначаю быть почтенному моему духовному Василию Ивановичу Богданову, приходскому священнику Семену Ивановичу и приходскому священнику села Спасского Ивану Ивановичу. Выдать им назначаю 150 рублей серебром каждому. В гроб прошу убедительно положить без суконной одежды, просто в полотняном саване, подпоясанном белою лентою, в белом галстуке, в нитяных чулках…». 16 августа 1850 года, Юрий Иванович Трубецкой находясь в Италии, умер от чахотки в возрасте 59 лет. Во исполнение его завещания и по Высочайшему повелению, тело покойного было перевезено в Россию. 26 ноября 1850 года, в Спасском храме произошло отпевание. Проехав через половину Европы и находясь в дороге более трех месяцев, тело Юрия Ивановича Трубецкого получило, наконец, упокоение в склепе придела Великомученика Георгия, Спасского храма села Прохорово. После смерти князя Ю.И. Трубецкого все его движимое и недвижимое имение наследовали его жена и малолетние дети. Однако дети: сын Иван и дочери Софья и Анастасия, еще не достигли совершеннолетия. Дочь от первого брака Варвара, выйдя замуж, в 1848 году отказалась от доли в наследстве после смерти отца. В своем завещании князь Юрий Трубецкой просил быть опекунами свою жену Терезу Фердинандовну и родного брата Николая Трубецкого. Однако, Николай Иванович, отговариваясь тем, что постоянно живет за границей, от опекунства просил себя освободить и предлагал назначить опекуном дядю опекаемых - Петра Петровича Новосильцева. С декабря 1850 года все имения наследников князя Юрия Ивановича Трубецкого стали находиться под опекой его вдовы и действительного статского советника Петра Петровича Новосильцева. Еще в октябре 1850 года, находящаяся в римско-католическом вероисповедании Тереза Фердинандовна Трубецкая приняла православную веру и получила русские имя и отчество – Ольга Федоровна. В наследство от умершего отца, его наследники получили несколько богатых имений, расположенных в нескольких губерниях Российской империи. В Московской губернии Подольского уезда им принадлежали: село Прохорово, части сел Матвеевское и Сынково, деревни Ивино и Сидориха, пустоши Сапроново и Угодье, а также часть деревни Харитоново. В Тульской губернии Белевского уезда село Зайцово с деревнями Башкино и Слобода, с проживавшими там 1623 душами. В Курской губернии владения находились в четырех уездах: 1) в Новооскольском уезде слободы Екатериновка, Дмитревка, Петропавловка, село Русская Халань, деревни Ивановка; Георгиевка, хутор Пчелиная поляна. 2) в Рыльском уезде село Званное. 3) в Путивльском уезде сельцо Грушково. 4) в Карачанском уезде слободы Зимовенька, Белая, хутор Савки, деревни Заводская, Ольховая и сельцо Горское. Всего же во всех имениях покойного князя Юрия Ивановича Трубецкого проживало 9977 крепостных душ мужского пола. Кроме этого в Калужской губернии в Козельском уезде ему принадлежал участок леса площадью около 2000 десятин, с растущим на нем строевым лесом. Кроме имений, Трубецкому принадлежали еще два дома, один каменный, в Москве, на Покровке, другой деревянный в городе Карачев. Казалось бы, Юрий Трубецкой оставил после себя богатейшее имение, позволяющее считать его наследников очень состоятельными людьми. Однако в деле об опеке малолетних наследников князя Трубецкого имеется и другой документ, в котором упоминаются его долги. Все его имения были заложены в Московский Опекунский Совет, то есть он брал в нем взаймы деньги, под залог своих имений. Его долг Опекунскому совету составлял 592728 рублей, а с другими долгами общая сумма составляла 684343 рубля. Было заложено и Прохоровское имение. 16 июля 1845 года Юрий Иванович взял заем сроком на 37 лет под имение и крепостных людей в нем живущих: в Прохорове 112 душ, Матвеевском 23 души, Сынкове 60 душ, Сидорихе 52 души, Ивино 54 души, и Харитонове 42 души, всего 343 души. Крепостной крестьянин был оценен в 40 рублей серебром. Всего же князь Трубецкой получил за это имение 24010 рублей. В течение указанного срока заемщик должен был погасить, то есть вернуть взятую сумму. К 1 январю 1851 года долг, который должны были выплатить наследники князя Трубецкого по Прохоровскому имению, составлял 14218 рублей. В деле по опекунству малолетних князей Трубецких содержались сведения и о перешедших к ним по наследству имениях. В нем имеется описание и помещичьего имения в селе Прохорово. Из него можно подробно узнать о постройках, находившихся в 1851 году в дворянской усадьбе при селе Прохорово. Для господ в имении было отстроено четыре флигеля: «Господский флигель, что к роще. Мерою в длину 6 сажень 2 с половиной аршина, в ширину тоже; на каменном фундаменте, деревянный, одноэтажный, обшит тесом, крыт железом, внутри стены оштукатурены, полы простые крашенные. Два крыльца, одно из коих с двух сторон со стеклянными рамами, комнат 4, чулан один, сени, дверей 11, с медными и железными приборами, печей 3 , камин 1, из белых изразцов, окон 15, с зимними рамами и с медными приборами». В комнатах стояла мебель. В зале: столы, диваны на пружинах, кресла и стулья, шкафы и шкафчики. В девичьей: комод, кровать, стол, диванчик и стулья. В спальной: туалет, кровать, кресла и стулья, угольный шкафчик и столик. В детской: комод, столик, стулья, угольный шкаф. Все комнаты украшали зеркала и картины. Для богослужений в комнатах находились киот и образа с иконами. Вся мебель была из разного дерева. Наряду со столами и креслами из красного и дубового дерева, в комнатах стояла и мебель из ольхи и березы. Второй флигель, точно такой - же, за исключением небольшой разницы в размере, также обставленный мебелью, составлял с первым флигелем как – бы архитектурную композицию. Дополняла ее: «При оных двух флигелях с наружи, около подъездов стоят два большие мраморные льва, на диких камнях. Будка для караула деревянная тесовая, мерою в длину 1 сажень 2 аршина, в ширину 1 сажень, с дверью и окном». Рядом с этими господскими флигелями стояла кухня деревянная с соломенной крышей. Внутри нее находилась русская печь и чугунная плита на 5 конфорок, с двумя духовыми шкафами. При кухне был ледник, деревянный сруб, крытый соломой. Недалеко располагалась баня, деревянная, на каменном фундаменте, обшита и покрыта тесом. Крыльцо было каменным, а навес стоял на четырех деревянных колоннах. Внутри бани была печка с каменкой, печка голландка с лежанкой из белых изразцов, три полки и «медная ванная в 8 ушатов, в которую проведены две трубы». Третий господский флигель был покрашен в желтый цвет. Он также был деревянным, одноэтажным, стоящим на каменном фундаменте, а стены обшиты тесом. Но вот крыша у него была покрыта не железом, а тесом, и выглядел он «ветхим». Тем не менее, и в его четырех комнатах была расставлена мебель. Из 13 окон в 8 были зимние рамы, а внутри дом обогревали две печи, русская и голландская. Четвертый флигель был отстроен в 1849 году. По желанию князя Юрия Ивановича Трубецкого, флигель был деревянный, на каменном фундаменте, одноэтажный, его стены и крыша были обшиты тесом. Был он небольшим, всего на три комнаты: гостиная, спальная и передняя. Внутри комнаты были оклеены разными обоями, а вот пол был не покрашен. Так как мебель была уже установлена, то некрашеный пол, очевидно, был прихотью помещика. Из жилых помещений для прислуги, на 1851 год имелись два деревянных флигеля, стоящих около оранжереи. Оба дома для дворовых людей были деревянными, на каменном фундаменте, одноэтажными, покрытые тесом. В одном доме были четыре, в другом три комнаты. В некоторых комнатах были перегородки. Стены комнат были оклеены обоями. К этому времени оба служебных флигеля были в ветхом состоянии. Из хозяйственных построек недалеко от господских флигелей находилась конюшня. К ее середине – каменному одноэтажному строению, по бокам были пристроены деревянные одноэтажные сараи. Общая длина конюшни составляла 21 сажень, то есть около 45 метров Каменная часть конюшни была отстроена с архитектурной претензией, с фронтонами и балконом на 4 каменных колоннах. Эта часть строения была покрыта железом. В каменной части конюшни находилось 14 стойл и 2 денника. В боковых деревянных сараях хранились экипажи и конская сбруя. В 1851 году в конюшне содержалось 5 жеребцов и 2 кобылы. Из экипажей были: карета английская двухместная, тарантас, дрожки рессорные, дорожный фургон и телега. Все повозки были в ветхом состоянии. Видимо с новым каменным храмом, в усадьбе был отстроен и новый скотный двор. Он представлял собой огороженную территорию, внутри которой находился новый каменный флигель. Часть территории была огорожена каменным забором, остальную часть замкнутого пространства огораживали стены двух деревянных сараев. Каменный флигель состоял из двух комнат с перегородками. Отапливался он русскими печами. К нему был пристроен ледник с молочной комнатой. В одном из сараев находилось 18 стойл и 2 денника для крупного скота. В другом сарае содержалась птица, так как к нему была пристроена каменный курятник и водогрейная комнаты. Посреди скотного двора находился колодец с насосом, глубиной 13 сажень. При скотном дворе, на 1851 год находилось: голландской породы коров 6, один бык, телок и бычков 12; русской породы коров 19, один бык, телок и бычков 23; волов – 11. Птицы: гусей 5, индеек 5, кур 11, корольков 15, уток 3. Из других хозяйственных построек еще упоминается деревянный амбар, место которого не указано. В нем хранились: мука ржаная, рожь, овес, ячмень и клевер. Отдельно указан флигель для управляющего имением. Был он деревянный, на каменном фундаменте, одноэтажный, крыша покрыта тесом. На взгляд составляющих эту опись чиновников, был он в ветхом состоянии. Дом этот был разделен на 5 комнат с каменным полом. После оформления опекунских дел, вдова вместе с детьми уехала за границу. По крайней мере, в начале 1852 года Московский обер-полицмейстер, отвечая на запрос Министерства иностранных дел, сообщал, что вдова Юрия Трубецкого живет во Флоренции (дача маркиза Лукезини в герцогстве Тосканском близ Флоренции), а имение состоит в ведении Московской Дворянской Опеки. Кстати в 1882 году вилла маркиза Лукезини во Флоренции, была окончательно выкуплена и стала собственностью Трубецких. Управление всеми имениями Юрия Ивановича Трубецкого, осуществлялось главной конторой по управлению имениями, располагавшейся в Москве. Правителем этой конторы был Подольский мещанин Павел Иванович Кондаков, кассиром И. Волков, а писарем С. Токарев. В подчинении главной конторы находились: Халанское, Корочанское и Зайцовское вотчинные правления, которые управляли имениями на местах. Все доходы и расходы по имениям, записывались в специальную книгу, которую по окончании года отвозили на проверку в дворянскую опеку. Благодаря этим книгам, стали известны некоторые подробности из жизни Спасского имения. В 1853–1855 гг. имением Трубецких в селе Прохорово управлял приказчик Александр Иванович Морозов, живший в нем со своей семьей. Его годовое жалование составляло 485 рублей, плюс каждый месяц ему выплачивалось 6 рублей «харчевых». Спасские крестьяне возили в Московский дом Трубецких осиновые и березовые дрова для его отопления. Заболевшие крестьяне из подмосковного имения Трубецких лечились в Московских больницах за счет помещика. Так, детской больнице, за лечение мальчика из имения Никифора Носкова, находившегося в ней три с половиной месяца, из главной конторы было выплачено 14 рублей. В Московском доме на Покровке, принадлежащим Трубецким, сдавались квартиры чиновникам Московского почтамта. Весь 1853 год княгиня Ольга Федоровна Трубецкая, со своими детьми, прожила за границей. Туда, из главной конторы, на проживание семьи помещицы, ежемесячно высылалась денежная сумма, около 1500 рублей. При дочерях Трубецких находились две учительницы французская поданная Каролина Ивановна Мишель и русская поданная Софья Ивановна Симон и гувернер Иван Васильевич Белль. Имение в Прохорово было убыточным. На 1853 год приход составил 989 рублей 71 копейку, а расход 1723 рубля 73 копейки. Приход состоял из денег полученных с крестьян, в качестве оброка и за неотработанную барщину. Другой частью дохода была: продажа хлеба, муки, крупы, овса, ячменя, картофеля, скота, птицы, масла, творога, молока, шкур, дров, дубового дерева на доски, фруктов и растений из оранжерей. В оранжереях выращивались и экзотические фрукты, в том числе ананасы. Деньги расходовались на жалование служащим и дворовым, на покупку им одежды, «харчей», лекарств, а также на хозяйственные нужды. Например, на скотном дворе в колодце находился насос, качавший из него воду. Ежегодно, насосных дел мастеру, Московскому цеховому Михаилу Андреевичу Адуевскому выплачивалась денежная сумма за обслуживание этого насоса. Из Тульского имения Трубецких, села Зайцево Белевского уезда, на летний сезон, в Прохорово приезжали крестьяне, для выполнения работ в саду. В имении жил садовник Александр Кузнецов, но он один не справлялся с усадебным садом и парком. Видимо среди Прохоровских дворовых не было годных для работы в саду и приходилось брать садовых работников из другого имения. Им выплачивалось жалование за работу и проездные. Также была потрачена приличная сумма на ремонт в усадьбе обветшавших флигелей. Если же взять суммы всего прихода и расхода по имениям Трубецких, то становится ясно, что имение в селе Спасском – Прохорове было очень небольшой частью их владений. Весь расход по имениям наследников князя Юрия Ивановича Трубецких, за 1853 год составил 83 тысячи 933 рубля. Помещики могли позволить себе содержать нерентабельные подмосковные усадьбы, используя их для своего отдыха, покрывая издержки за счет имений в южных губерниях, приносящих прибыль. А княгиня Трубецкая со своими детьми продолжала жить в солнечной Италии, ежемесячно получая из главной конторы деньги на свое содержание. Дети росли, росли и расходы. В 1855 году на содержание своих господ, из Москвы во Флоренцию высылалось уже около 2000 рублей ежемесячно. Лишь летом 1855 года, княгиня Трубецкая приехала в Москву, для решения дел по своим имениям. Летом 1860 года имения, доставшиеся в наследство от князя Юрия Ивановича Трубецкого, наконец-то были разделены между его наследниками. Правда по каким-то причинам раздельная запись была утверждена Подольским уездным судом только в 1863 году. После утверждения раздельной записи, единственный сын Юрия Ивановича Трубецкого – Иван получил земли около села Прохорово, и деревень Ивино и Сидориха. При селе Прохорово ему во владение отошло 652 десятины 437 сажень, в том числе и земли, которыми пользовались священно и церковнослужители Спасской церкви, в количестве 33 десятины 2001 сажень. Всего же в этом имении ему принадлежало 1885 десятин 1307 саженей земли разного назначения. Видимо после посещения своего подмосковного имения, новый владелец остался недоволен его состоянием. Обновление усадьбы началось в 1865 году. В книге регистрации условий и договоров Подольского городского магистрата, найдено зарегистрированное 4 января условие, которое Спасская контора заключила с государственным крестьянином Козьмою Яковлевичем Лаптевым. Несмотря на то, что текст в этой записи немного запутан, все же из нее можно понять, какие постройки и в каком состоянии находились на то время в помещичьей усадьбе в селе Прохорово. «Я, Лаптев подрядился в имении князя Ивана Юрьевича Трубецкого произвести следующие постройки на таких основаниях: а) флигель весь разобрать (и собрать) с употреблением на оный годный материал, пристроить к оному флигелю три квартиры, в каждой по две комнаты, в одной на каждую по перегородке, тут же в другой половине устроить комнату. …Устройство этого флигеля для помещения людей рабочего класса, ценою за 600 рублей серебром; б) другой флигель разобрать с употреблением на оный нового материала, прирубить к оному кухню и контору, ценою за 700 рублей серебром в) третий и четвертый флигеля разобрать до основания кроме фундамента и на них воздвигнуть новые с употреблением старого годного материала, прирубить у каждого флигеля по две кухни с оставлением места для фундамента под оными; каждый флигель разбить на две квартиры, и каждая квартира должна быть о пять комнат и чуланы особо, ценою за 700 рублей; г) пятый флигель перебрать, годный старый материал употребить в дело; одну половину этого флигеля устроить в три комнаты, для могущей быть прислуги, другую половину также в три комнаты, две из них устроить в виде кабинета, а третью в виды, ценою за 350 рублей серебром; д) скотный двор зимний весь разобрать и воздвигнуть вновь из хорошего материала, и все принадлежащее к оному или возобновить или исправить, ценою за 400 рублей серебром; е) два гумновые сарая и ригу восстановить, поставить хороший материал в постройку, негодный заменить, ценою за 250 рублей серебром; ж) конюшню всю разобрать, употребив материал годный старый, где необходимо новый, при постройке устроить комнату для помещения людей находящихся за присмотром конюшни, и в самой конюшне устроить чулан для збруи, ценою за 350 рублей серебром; за туже сумму исправить находящиеся при конюшне два каретных сарая, все гнилое заменить новым; з) оранжерею цветочную всю переделать, устроить вверху рамы и опустить шпалы, исправить стоевые рамы, ценою за 350 рублей; и) персиковую оранжерею исправить и отделать в лучшем виде, ценою за 20 рублей серебром; к) теплицу устроить вновь со всеми принадлежностями, ценою за 200 рублей серебром; л) флигель для священника весь проконопатить, обшить новым тесом и недостатки исправить, ценою за 300 рублей серебром; м) господскую баню исправить за 40 рублей серебром; н) людскую баню исправить за 20 рублей серебром; о) от скотного двора до аллеи устроить забор, чтобы скотина не могла проходить чрез посев, за 5 рублей серебром; п) кухню господскую всю разобрать и воздвигнуть на новом указанном месте, за 50 рублей серебром; в том числе и господский погреб, также из нового материала исправить; р) построить две сторожки на манер городских будок, за 35 рублей; с) два амбара исправить, за 40 рублей серебром; т) устроить кузницу вновь, за 30 рублей серебром; у) на огороде погреб и решетчатый забор исправить, за 30 рублей». Лаптев вел ремонт усадебных построек силами 20 рабочих, начиная с 15 января 1865 года. Работа должна была производиться по мере поступления материала, обеспечивать которым должна была Спасская контора. Условие это от имени Спасской конторы подписал ее управляющий коллежский регистратор Иван Иванович Савин. Деньги же за ремонт усадьбы были получены за счет продажи леса. 15 марта 1865 года Спасская контора продала временному Серпуховскому купцу Петру Александровичу Прокину 100 десятин леса без земли, около деревни Сидориха, за 6000 рублей серебром. Видимо этих денег не хватило, и 30 июня ему же было продано еще 100 десятин леса без земли, но уже за 10000 рублей серебром. Это была так называемая Сапровая роща близ Прохорово. Князь Иван Юрьевич Трубецкой (1841-1915) выбрал для себя военную карьеру. Летом 1862 года он был в чине корнета лейб-гвардии Конного полка. Через 22 года, то есть в 1884 году князь Трубецкой имел звание полковника гвардии. Какое-то время полковник князь Иван Трубецкой состоял при Российском посольстве в Париже. Будучи в этом высоком гвардейском чине, он продолжал владеть усадьбой Спасское-Прохорово. Большинство подмосковных усадеб были убыточными. Многие дворяне, состояние которых зависело от служебной карьеры, стали продавать свои подмосковные имения или сдавать их в аренду, под дачи. Начиная с 1870 годов, владелец усадьбы Прохорово также приказал своему управляющему сдавать ее дачникам из Москвы. В соответствии с изменением назначения усадьбы, несколько поменялась и ее планировка. К 1880-м годам, на территории помещичьей усадьбы, появились несколько деревянных домов-дач на каменном фундаменте. Они располагались к югу от Спасской церкви, между дорогой на село Мещерское и рекой Рожаей. За ними, еще южнее, находился парк, состоящий из липовых и березовых аллей. Там же была и роща. Дачи появились на месте господских флигелей, причем вполне возможно, что эти флигеля не были снесены, а просто переделаны. Дома эти сдавались на летнее время не имеющим собственного имения или дома московским жителям. С целью получения дохода использовались пашенные земли, сады и огороды. На пашнях выращивалось зерновые культуры. На скотном дворе находилось несколько коров, изготовленное из их молока масло продавалось в Москве. В оранжереях, нанятым садовником и его помощником, выращивались персики, сливы и цветы. Сада, как такового, в имении не было, но зато был огород, на котором выращивались овощи и ягоды для дачников. В1904 году управляющим имения Прохорово Николаем Алексеевичем Сидоровым (управлял имением с 1899 года), была затеяна постройка объездной дороги. 11 декабря 1903 года, он подал прошение на имя Подольского исправника об изменении трассы существующей дороги, в районе села Прохорова. Чем же была вызвана такая необходимость? Оказывается, дорога из города Подольска в село Мещерское проходила через Прохорово и по краю усадьбы Трубецких. И сейчас по этой дороге можно добраться из Прохорово в Мещерское. Во время проезда по дороге экипажей производился шум, который мешал проживающим в усадьбе Трубецкого дачникам. К тому же поднимаемая лошадьми и каретами пыль, долетала до самих дач, расположенных рядом с дорогой. Из-за этих неудобств, дачники просто отказывались снимать дачи, и этим лишали прибыли владельца усадьбы князя Трубецкого. Что бы решить возникшую проблему, владельцем и управляющим имения и было решено построить объездную дорогу за свой счет. По предложенному Сидоровым плану, дорога поднимаясь от моста через Рожаю к храму, должна была не поворачивать сразу за храмом, а продолжаться прямо с плавным поворотом направо, в сторону села Мещерского. Далее дорога, оставляя с правой стороны скотный двор, обходила его, и уже за ним, в месте, где кончался усадебный парк, соединялась со старой дорогой на село Мещерское. Таким образом, дорога увеличивала свою длину примерно на 100 саженей, и по-прежнему пролегала по владениям князя Трубецкого. Подольский исправник, лично побывавший на месте предполагаемого переноса дороги, ходатайствовал перед строительной комиссией при Московской губернской управе, о разрешении перенести участок дороги на село Мещерское по предложенному плану Сидорова. Чиновники строительной комиссии предложили внести изменения в план, а именно увеличить ширину дороги до 3-х саженей и выкопать по обеим сторонам дороги канавы. 5 мая 1904 года Н.А. Сидоров дал подписку о выполнении указанных дополнений, обязался во все время использования нового участка дороги, содержать его в хорошем состоянии. После открытия движения по этому участку, участок старой дороги от Спасской церкви до окончания парка был перекрыт. Скорее всего, после Октябрьской революции 1917 года, старая дорога на село Мещерское была восстановлена, так как она была все же короче новой, да и дачники после 1918 года уже не приезжали в усадьбу Трубецких, так как она была национализирована. Личная жизнь князя Ивана Юрьевича Трубецкого, также как и карьера, сложилась удачно. От брака с баронессой Ольгой Егоровной Мейендорф (1841-1902), он имел дочь Ольгу (1863-1940) и сына Юрия (1866-1926). Дочь Ольга в 1885 году вышла замуж за графа Георгия Александровича Бобринского (1863-1928). В 1915 году в Париже князь Иван Юрьевич Трубецкой скончался. Имение Спасское-Прохорово перешло к его сыну - князю Юрию Ивановичу Трубецкому. О его службе ничего неизвестно, а от брака с княжной Марией Александровной Долгоруковой (1869-1949), у него родились две дочери Мария (1894-1990) и Ольга (1890-1966). На нем пресеклась эта ветвь князей Трубецких по мужской линии. Очевидно в 1918-1920 годах, он с семьей покинул Россию, а его имение Прохорово было национализировано большевиками. Податное население Прохорово
В 1860 году в селе Прохорово было открыто частное училище. Оно размещалось в частном помещичьем однокомнатном здании. Школа обслуживала 17 селений. В 1884 году, в ней обучалось 43 человека, в этом году окончил школу один юноша. В 1890 году при Спасской церкви была открыта церковно-приходская школа. Дети окрестных селений учились в ней до Октябрьской революции 1917 года. Основным занятием местных крестьян было хлебопашество. В сборнике «Московская губерния в сельскохозяйственном отношении за 1884 год» имеется сведения предоставленные священником Спасской церкви в селе Прохорово Петром Горяиновым, по селениям своего прихода. Из него становится понятно, в каких условиях, и с каким трудом, местные хлебопашцы зарабатывали хлеб насущный. 1. «В течение лета погода стояла большею частью ненастная, вследствие чего поля пострадали от излишней влаги, а потому хлеба поспели гораздо позже прежних лет. Первый почин уборки ржи сделан был со 2 числа августа, а овса с 20 августа. Градобитий не было; но за то поля пострадали от сорных трав: метлы, костеря и др. Вероятно, вследствие ненастной погоды в продолжение весны и лета, в хлебах всех селений данной местности оказалось много метлы и костеря, отчего урожай вышел посредственный, но есть селения (напр., д. Сидориха, с. Мещерское), где костер и метла особенно преобладают во ржи, так что умолот ржи был ниже посредственного. Были примеры, что с копны ржи (4 крестца) намолачивали одну меру; поэтому, некоторые из крестьян уже теперь начинают покупать муку. Яровой хлеб родился тоже травянистый, - поздний же, по случаю ранних морозов, не вызрел хорошо. 2. Покос у землевладельцев начался от 20-тых чисел июня, - это время до Петрова поста было самое благоприятное для уборки. У крестьян же – с первых чисел июля (с 3-го), и погода стояла большею частью ненастная, так что приходилось убирать урывками и со спешкою, отчего сено убрано было недосушенное или почерневшее. Урожай же трав был хороший, но определит точно количество пудов накашиваемого сена с десятины весьма затруднительно, потому что это никем не измерялось. 3. Наймом косьбы сена редко производится, но употребляется такой способ: или собирают помочь, или выговаривают утра у целого общества при сдаче им покосов или выгона. Когда собирают помочь, то делают только угощение косцам, а это, если перевести на деньги, стоит от 30 до 50 к. на человека. Когда же общество обкашивает свое утро по выговору, то ему тоже бывает угощение водкою, но не больше, примерно, падет на человека копеек 15. Но бывают случаи и найма. За утро с 3-х до 11-ти часов или с 4 до 12-ти, на своих харчах, платится 50к., на хозяйских – 30 к. Десятина клевера косилась за 2р.50к. на своих харчах. Мужчин для уборки сена не нанимают; для сушки и уборки нанимают женщин за плату 25к. в день на своих харчах. По случаю ненастной погоды, недостаток был в сушильщицах. 4. На десятину казенной меры: Высевается на землях Собрано с десятины Своего хозяйства Соседних владельцев крестьянских Своего хозяйства Соседних владельцев крестьянских Ржи 10 мер 12 мер 12 мер 40 мер 48 мер 36 мер Овса 2 четверти 2 четверти 2 четверти 5 четвертей 4-6 четверти 4-6 четвертей гречи - 12 мер 12 мер - 36 мер 24 меры Крестьяне высеивают по мере или по две гороху, возвратили только семена. Целыми десятинами картофель никто не высеивает, а высеивает 5-10 мер, уродился он не более чем сам 3, и очень мелок. 5. Урожай нынешнего года, в сравнении с прежними годами, плох. 6. Рожь сыромолотная весит пуд два фунта, сухая – пуд пять и 7 ф., овес русский весит от 23 до 25 ф., аглицкий – 29 и 32 ф. 7. Уборка хлебов, особенно ржи, совершалась при самых неблагоприятных условиях: стояла большею частью ненастная погода, а потому с хлебом много было хлопот, чтобы он не пророс или не попрел. Сырость много вредила и при молотьбе хлеба. В нашей местности, за неимением овинов, молотьба производится сыромолотом; поэтому, когда пришлось молотить рожь, то сыроубранная не чисто вымолачивалась, да еще много ржи теряется при уборке, - ее косят, а чрез это много ее обивается и остается на поле. Наверное, половина семян с молотьбой и уборкой потеряна. Кроме того, яровой хлеб поздний пострадал от ранних морозов. Первый мороз был 28 июля, а в августе их было несколько. 8. Мужчина с лошадью день работал за рубль на своих харчах. За уборку десятины ржи платили 4р.50к. на своих харчах (уборка посредством косьбы дешевле), а овса – от 3р.50к. до 4р. Обработка десятины под рожь, с вывозкой навоза, обходится не меньше 13 или даже 15 р. Крестьяне возку навоза считают самой трудной работой, поэтому особенно затруднительно найти работников для возки навоза, так что мне пришлось вывозить его уже осенью в поле – за неимением охотников возить в свое время за какую бы то ни было цену. 9. По снятии урожая продавались: рожь за четверть 7-8 р. (сыромолотная), ржаная мука за пуд от 90к. до 1р., овес за четверть 4-4р.50к., картофель за меру 30-40к., льняное семя 1р.-1р.50к. 10. Весной и летом при покупке стоили: ржаная мука 1р.15к. – 1р.25к.; овес 5р.-5р.50к., крупа – 1р.60к.-1р.80к., картофель (весной) – 25к. за меру. Рожь не покупалась. 11. Плата годовому рабочему на хозяйских харчах – 90 и 100 р., работнице 36 и 55 р., летнему рабочему – 50-55 р., работнице – 20-25 р. 12. Продукты полеводства сбываются или на месте своим торговцам и обывателям, или, по преимуществу, в г. Подольск и Москве. 13. Сено продается с первой косы и до поздней осени или на месте, или в г. Подольске, а иногда и в Москве; на месте – от 15 до 20 к., в Подольске – от 20 до 30к. за пуд. 14. Всходы озимых хлебов не завидны, едва только закрыли пашню, а иные только еще выбились из-под земли, по случаю позднего посева. Повреждений не произошло. 15. Озимые поля не засеяны все; запущенных полос под траву в большом количестве нет, а если и встречаются пустующие полосы в крестьянских полях, то их не увеличилось и не уменьшилось против прежнего, остается несколько полос незасеянных, так называемых запольных – дальних. Ни изменения системы запашки, ни улучшенных способов обработки земли у крестьян не вводится. 16. Десятина под озимый посев сдавалась от 4 до 5 руб. Количество розданных земель, хотя и в незначительной степени, но все-таки увеличилось в сравнении с прежними годами. 17. Цены на живой скот особенно меняются в течение двух годичных периодов: весеннего и осеннего. Весной повышаются, а осенью понижаются. Лошадь без годов, как говорится, осенью продается за 5 или 10 руб., весной же платится за такую же лошадь 20 и 25 руб. и больше, особенно после дорогого зимнего корма. Хорошая крестьянская лошадь молодая, от 5 и до 9 лет, весной стоит от 50 до 70 руб., даже и до 100 руб., осенью же цена за таковые лошади понижается рублей на 10 или 20-ть. Корова с молоком весной стоит от 35 до 50р., осенью же продавали таковых от 20 до 30р. Овцы продаются от 4 до 5 р. Мясо русское в течение года колеблется между 10 и 15-тью коп., баранина между 10 и 12 коп., свинина 15 и 17 к., сало 18 и 20 к., масло русское от 30 до 35 к., овчины от 1р.25к. до 2р.». Кто же зарабатывал себе и своей семье на жизнь, горбатясь на полях с ранней весны до поздней осени? В 1889 году в селе Прохорово, в 29 дворах находилось 147 деревянных строений. В них жили, держали скот, хранили хлебные и другие запасы местные крестьяне: Новиковы, Мотасовы, Расторгуевы, Еремины, Жаховы, Шураевы, Вертякины, Гормины, Моталины, Васильковы, Базаровы, Горшковы, Точилины, Королевы, Пивоваровы, Шепиловы, Талановы, Дыркины, Рожковы, Епифановы, Байковы, Корягины, Васильевы. Через 5 лет в селе по-прежнему было 29 дворов, но вот количество деревянных строений увеличилось до 161. В конце 1914–начале 1915-х годов, в селе было создано Прохоровское общество потребителей. Состояло оно из жителей деревни, заплативших вступительный и паевой взносы. Обычно такие общества, на собранные деньги и полученную ссуду, открывали торговые заведения: чайные и торговые лавки. Иногда, чаще в арендованных, реже во вновь построенных избах, открывали пекарни или другие небольшие производства. Сведений о деятельности общества потребителей в Прохорово, пока не найдено.
Живя на пенсии, он предпочитал проводить летние месяцы в тишине и спокойствии на даче в Прохорове. Забавный случай произошел с ним на даче в июне 1873 года. Придя на службу в местную Спасскую церковь, Никита Иванович был немало удивлен пением дьячка Василия Никольского. А дело было в том, что дьячок пришел на службу, находясь под воздействием крепких напитков, и поэтому сильно фальшивил. Крылов спросил у него: «где учился петь?». Дьячок не смутился и с вызовом ответил: «в хоре Его Высокопреосвященства». Все это происходило в присутствии священника Спасского храма Михаила Лебедева. Впоследствии, он упомянул этот случай в своем донесении в Московскую духовную консисторию, о проступках дьячка Василия Никольского. Летом 1887 года в Прохоровском имении жил сын помещицы соседнего села Меньшово князь Сергей Николаевич Трубецкой со своей женой. Каждое лето в Прохоровской усадьбе жило несколько семей. Их сословный состав был неоднороден, дворяне среднего и малого достатка дружески проводили время с купцами и мещанами. К этому времени границы между сословиями немного стерлись, а степень уважения определялась по материальному положению. Хозяева имения князья Трубецкие уже давно сами не управляли своими усадьбами. Хозяйством занимались специально нанятые для этого управляющие. В 1910 годах помещичьим имением в Прохорове управлял Иван Константинович Булышкин. Ранее он жил в Харькове и служил агрономом. В Прохорово он жил со своей женой Надеждой Григорьевной. Забегая вперед, отметим, что Булышкин, своим отношением к хозяйству, заработал среди местного населения уважение и авторитет. Именно он, в первые годы Советской власти, был назначен заведующим совхозом «Прохорово». Скончался он в январе 1920 года от сыпного тифа. Жена его работала медсестрой в Мещерской психиатрической больнице. Она продолжала там жить и работать, и после смерти мужа. Большинство фамилий дачников, проводивших на протяжении 30 лет лето в Прохорове, неизвестно. Лишь подписанная групповая фотография участников дачного сезона 1917 года дает нам возможность чуть ближе познакомиться с Прохоровскими дачниками. В этот год лето в имении Трубецких Прохорово проводили семьи Андриановых, Гланцовых, Савари и Ушаковых. Глава последней семьи является одним из основных создателей труда, принесшего ему если не мировую, то уж точно всероссийскую славу.
Другим его увлечением, была литература и этнография. Под псевдонимом Дмитрий Турский, он издал несколько книг своей прозы и стихов. Дмитрий Ушаков был главным консультантом главных режиссеров и знаменитых актеров столичных театров, был с ними в дружеских отношениях. Еще в царское время Ушаков был известен своими работами в области языкознания, диалектологии, орфографии, лексикографии и истории русского языка. Он преподавал в Московском университете и занимался общественной деятельностью. Являясь видной фигурой в Московском ученом, театральном и литературном мире, Дмитрий Николаевич привлекал к себе внимание других известных ученых. После 1917 года, Ушаков остался в Советской России. С первых лет Советской власти он активно сотрудни¬чал с Наркомпросом, участвовал в составлении новых программ и учебников на живом русском языке. Важнейшим делом в научной жизни Дмитрия Ни¬колаевича стало составление классического словаря со¬временного русского языка, которое он начал осуществ¬лять в начале 1920-х годов. Четыре тома этого словаря, главным редактором и одним из авторов которого является Ушаков, вышли в свет в 1935 – 1940 годах. До сих пор словарь Ушакова является одним из основных справочных изданий по русскому языку. После начала Великой Отечественной войны, Дмитрий Николаевич был эвакуирован в Ташкент, где и скончался в 1942 году. Неустанным пропаганди¬стом его творчества стала его дочь Наталья Дмитриевна Ушакова-Архангельская (1907-2002), также проводившая с родителями летние месяцы в Прохорово. Вместе с московскими деятелями литературы и искус¬ства она была участником многих чеховских юбилейных торжеств, встречалась на вечерах, посвященных Д.Н. Ушакову, с сотрудниками больницы имени Яковенко, студентами Мещерского медицинского училища, культработни¬ками, врачами Чеховской ЦРБ. В дар музею при больнице имени Яковенко, она передала личные вещи своего отца, несколько его акварельных рисунков с видами села Прохорово и его окрестностей. Она была женой известного советского авиаконструктора Александра Александровича Архангельского.
В Царском Cеле открыли памятник Георгиевскому кавалеру, князю Олегу Константиновичу Романову Правнук Государя Николая I стал единственным представителем Дома Романовых, геройски погибшим в годы Первой мировой войны…
Выбор места под памятник оказалось не случайным. Софиийский собор был полковым храмом лейб-гвардии Гусарского полка, в составе которого воевал князь, ставший единственным представителем Дома Романовых, погибшим в годы Великой войн. Скульптура, отлитая по дореволюционной модели скульптора Всеволода Лишева, была установлена на средства Фонда Людвига Нобеля. Церемония началась с панихиды в Софийском соборе, которую возглавил благочинный Царскосельского округа протоиерей Геннадий Зверев, после чего на соборной площади города был торжественно открыт памятник, сообщает Интерфакс. В мероприятии приняли участие князь Александр Трубецкой, граф Петр Шереметьев, праправнук Императора Александра III Павел Куликовский-Романов, княжна Вера Оболенская, князь Дмитрий Шаховский, князь Георгий Юрьевский и другие представители старейших дворянских родов России, а также лауреаты Российской премии Людвига Нобеля. На церемонии открытия памятника присутствовал председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин. «Сегодня поистине исторический день. Это день, когда мы вспоминаем удивительного и достойного представителя Дома Романовых, которые погиб в 21 год на фронтах Первой мировой войны. Он отдал свою жизнь за честь, славу и свободу Отечества. Он был корнетом, пушкинистом, достойным представителем Дома Романовых», — сказал С. Степашин на церемонии. Он подчеркнул, что появление памятника князю Олегу Константиновичу — это также и дань памяти всем героям, которые погибли на фронтах Первой мировой войны. «Для меня, как председателя Императорского православного палестинского общества, это имеет особое значение, потому что князь Олег Константинович был пожизненным почетным членом Общества, а его отец был почетным членом Общества. Благодарю Фонд Людвига Нобеля за то, что они воскресили память об этом человеке», — добавил он. Князь императорской крови Олег Константинович родился 15 ноября 1892 года в Петербурге, приходился Николаю I правнуком. Отец Олега Константиновича — великий князь Константин Константинович, известный также как поэт под псевдонимом «К.Р.» Князь Олег занимался литературным творчеством, писал стихи и прозаические произведения, увлекался музыкой и живописью. С начала Первой мировой войны в составе своего полка принимал участие в боевых действиях на Северо-Западном фронте. 27 сентября 1914 года князь повёл взвод гусар в бой и уничтожил разъезд немцев. Первым вступил в бой именно корнет Олег Константинович. Один из раненных немцев всё же успел выстрелить в князя, и тот был отправлен в госпиталь в Вильно. За успешный бой князь был награждён орденом Святого Георгия. Умирающий от боевых ран Олег Константинович изрёк бессмертные слова, свидетельствующие о его аристократической доблести: «Я так счастлив, так счастлив. Это нужно было. Это поднимет дух. В войсках произведёт хорошее впечатление, когда узнают, что продита кровь Царского Дома». Он скончался через три дня после получения раны 29 сентября в госпитале.
Трубецкой, Георгий ИвановичПерейти к навигации Перейти к поиску В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Трубецкой. Георгий Иванович Трубецкой Князь Георгий (Юрий) Иванович Трубецкой (5 ноября 1866, Лондон — 27 декабря 1926, Версаль) — военачальник Русской императорской армии, генерал-лейтенант Свиты Е. И. В., командир Собственного Е. И. В. Конвоя. Дворянин. Биография
Эмигрировал во Францию. Умер в Версале. Погребен 30 декабря 1926 года на кладбище Батиньоль в Париже. НаградыПочетный казак станиц Кокчетавская и Пресновская Сибирского казачьего войска. Ссылки
[]
Прогулка по старой Алупке с краеведом Александром Вертинским
[]
Крым, Алупка, Воронцовский дворецАлупкинский дворцово-парковый музей-заповедник, также известный как Воронцовский дворец, был построен в период 1828-1848 гг. по проекту английского архитектора Эдварда Блора как крымская резиденция графа Михаила Семеновича Воронцова. При его создании использовался местный ландшафт, а главная черта дворца - это смесь нескольких диаметрально противоположных архитектурных стилей.
Сестры милосердия Первой мировой войныИстория Первой мировой войны хранит множество героических страниц, вписанных женщинами, и прежде всего сестрами милосердия Российского общества Красного Креста. Читать
В 1916 году по официальным спискам на фронт было отправлено 17436 сестер, которые обслуживали более двух тысяч полевых и тыловых учреждений Красного Креста: 71 госпиталь, рассчитанный на 44600 человек, этапные и подвижные лазареты, 11 санитарных поездов, передовые отряды, санитарные транспорты, питательные и перевязочные пункты, дезинфекционные камеры, рентгеновские и летучие хирургические отряды, два плавучих госпиталя на Черном море, три бактериологические лаборатории, шесть полевых складов.
История минского лазарета времен Первой мировой войныТолько в школьных учебниках историю каждой войны можно втиснуть в десяток страниц, дать пунктирной линией, ради четкой хронологии пожертвовав, казалось бы, второстепенным, несущественным. А для вдумчивого исследователя интересна сама по себе микроистория — пусть даже камешек в восстанавливаемой по крупицам гигантской батальной мозаике. Лазарет Серафима Саровского, открывшийся в Минске по улице Александровской сто лет назад, — тоже один из многих. Но какие удивительные люди в нем служили, какие неординарные судьбы пересеклись — хоть фильм снимай! Сценарий фактически готов. Священник Гордей Щеглов, основываясь на документах из архивов Москвы и Петербурга и собираемых им не один год фотографиях, посвятил Первому Серафимовскому лазарету целую книгу. Получился настоящий памятник «малому делу». Из таких дел, между прочим, и ткалась канва Первой мировой, которую до самого последнего времени называли «забытой войной» и историю которой мы все еще знаем много хуже, чем события Великой Отечественной.
Решение о создании лазарета родилось на волне патриотического подъема. А на имя Серафима Саровского выбор пал, потому что объявление Германией войны России совпало с днем его прославления. Содержать лазарет постановили на отчисления корпораций православных духовно–учебных заведений Российской империи, а разместить — в Минске, в здании духовной семинарии. На обустройство Святейший Синод отпустил немалую по тем временам сумму — 6.000 рублей. С перевязочным материалом и бельем очень помогли наряду со специально нанятыми работницами жены и дочери профессоров и других сотрудников Петроградской духовной академии. Первоначальный расчет был такой: в штате — 2 врача, 6 сестер милосердия, 10 братьев милосердия из числа студентов–добровольцев. 9 сентября лазарет имени преподобного Серафима Саровского отбыл из Петрограда с особым поездом в Минск. Его отряд провожали, как героев на фронт...
Сам Минск, надо сказать, с первых же дней войны сделался крупнейшим перевалочным пунктом для снабжения Северо–Западного фронта. Хоть в городе было уже немало лечебных заведений, еще один лазарет пришелся очень кстати. Развернули его сразу на 75 коек, причем при необходимости можно было расшириться вдвое. 17 сентября Серафимовский лазарет был торжественно открыт и освящен. А первую партию раненых он принял 2 октября...
Лазаретная жизнь потекла своим чередом: ежедневно два врачебных обхода, осмотры, операции, перевязки, для желающих помолиться — Божественная литургия. О питании надо сказать особо. Только представьте: помимо обеда из трех блюд и ужина из двух, в солдатском распорядке дня дважды значилась неприметная строчка «чай», который мало того что предлагался в неограниченном количестве, так еще с «довеском» — по 6 кусков сахара и французской булке каждому. Что уж говорить о рационе офицерском... А ведь поначалу кулинарить поставили простых кашеваров без всякого опыта. Помог случай. К лазарету приписали рядового Степана Жигадло, служившего до войны поваром у Холмского епископа. Когда с Жигадло знакомилось руководство — сначала онемело, потом смеялось до слез. Речь Степана лилась бурным потоком: он без остановки лучше всякой кулинарной книги описывал во всех тонкостях диковинные рецепты, которые так нравились владыке: сиг холодный, палтус в соусе по–польски, окунь по–голландски, по–французски, белуга... Таланты нового повара потом не раз помогали лазарету пройти строгие инспекции — никто не мог устоять перед его шипящими на сковородке пожарскими котлетами. Советская Белоруссия №155 (24536). Суббота, 16 Августа 2014.
Героизм сестер милосердия в Первой мировой войне
Главная » Войны » Первая мировая 1914-1918 гг. » Героизм » Новости » Героизм сестер милосердия в Первой мировой войне История Первой мировой войны хранит множество героических страниц, вписанных женщинами, и прежде всего сестрами милосердия Российского общества Красного Креста (РОКК). Уже к концу 1914 года РОКК содержал семьдесят один госпиталь, 118 подвижных и этапных лазаретов, 58 передовых отрядов, и санитарных поездов, обслуживавших театры военных действий Северо-Западного, Западного и Юго-Западного фронтов, 34 санитарных транспорта, 185 питательных пунктов, 22 дезинфекционных отряда, 5 хирургических отрядов и другие полевые медико-санитарные учреждения. На содержание постоянных коек Красного Креста из казенного пособия выделялось не более 3 млн. рублей, остальная же часть покрывалась из собственных капиталов Общества Красного Креста (13,5 млн. рублей) и многочисленных пожертвований. На фронтах Первой мировой войны трудилось более 17 000 сестер милосердия. Многие члены семей высокопоставленных особ работали не только в тылу, но и на фронтах. Сестра милосердия Римма Иванова Так, например, дочь председателя Совета министров Горемыкина И.Л. Александра Ивановна Охочинская сразу после объявления войны поступила на курсы сестер милосердия и по окончании их отправилась на Западный фронт. Там же в одном из головных отрядов служила сестра милосердия Елизаветинской общины Ступина Н.Г. — дочь героя русско-японской войны, Георгиевского кавалера генерал-майора Ступина Г.В. Рядом работала супруга генерал-майора. Она и похоронила свою дочь, скончавшуюся на передовых позициях от простуды. В лазарете Георгиевской общины умерла сестра милосердия баронесса Штемпель Е.Н. На служебном посту в санитарном поезде окончила свои дни сестра милосердия графиня Екатерина Николаевна Игнатьева, родная сестра министра народного просвещения, участница русско-японской войны, неоднократно награжденная за усердную службу. В военно-санитарном поезде № 1 трудились сестры Татьяна и Надежда Черняевы, дочери известного в России генерала, героя Крымской войны Черняева М.Г. Сестры Черняевы были награждены золотыми медалями на Аннинской ленте. Спустя десять месяцев, они удостоились Георгиевских медалей III степени, как следует из приказа, «за самоотверженность, проявленную под огнем противника при оказании помощи раненым». Татьяна и Надежда получили эту награду за успешную эвакуацию 6 июля 1915 года раненых с железнодорожной станции Остроленка, которая в тот момент подвергалась обстрелу из тяжелых орудий. Сестра милосердия Елена Хечинова Среди награжденных значится сестра милосердия военно-санитарного поезда при 8-м головном эвакуационном пункте О. Плахова, отмеченная Георгиевской медалью «За боевые отличия». В приказе командующего 10-й армией от 10 ноября 1915 года отмечалось, что «17 августа 1915 года, следуя в военно-санитарном поезде на перегоне между станциями Рудишки и Ландворово, с полным самоотречением, несмотря на сильный артиллерийский огонь противника и с явной опасностью для жизни, Ольга Плахова дважды подобрала раненых в поезд и сделала им перевязки». Четырех наград была удостоена сестра милосердия, доброволец 7-го эвакуационного пункта Юлия Пучковская, причем одну из своих боевых наград, Георгиевскую медаль IV степени, она получила за перевязку раненых во время боев у реки Сан близ железнодорожной станции Сурахов. Находясь во временном санитарном поезде № 228, Юлия Пучковская беспрестанно принимала на передовых позициях воинов под сильным огнем австрийской артиллерии, за что и была удостоена награды. Георгиевской медали III степени она удостоилась за то, что, как следует из приказа о награждении, «находясь 22 апреля 1915 года под действительным огнем и разрывами неприятельских снарядов и будучи оглушена сама, оказывала первую помощь раненым нижним чинам с явной опасностью для собственной жизни». Сестра милосердия Генриетта Сорокина Не меньшие подвиги, граничащие с самопожертвованием, совершали сестры милосердия, добровольно выражавшие желание работать с инфекционными больными, нередко сами становясь жертвами этих болезней. Сестра милосердия санитарно-эпидемического поезда Матрена Макарьевна Лютикова до войны работала сельской учительницей в селе Николаевка Самарской губернии и, несмотря на просьбы родителей не рисковать жизнью, поступила в сестры милосердия, до последних дней пребывая в бараках для инфекционных больных, где и скончалась от сыпного тифа. На Кавказском фронте Мария Николаевна Агапова, врач-ординатор 2-го самарского лазарета Всероссийского Земского Союза, в возрасте двадцати пяти лет пала жертвой тифа — заразилась им, ухаживая за больными пленными турками. Здесь же от сыпного тифа скончалась сестра милосердия Нина Ивановна Окунева, дочь известного москворецкого судовладельца Окунева И.П. С начала войны она работала в санитарном отделе Всероссийского Земского Союза. Затем по собственному желанию уехала на Кавказский фронт, в отряд, обслуживавший инфекционных больных. Потом работала в Персии, далее была переведена в походный лазарет действующей армии под Эрзерумом. Двадцатидвухлетняя сестра милосердия скончалась от сыпного тифа и была похоронена на Братском кладбище в Москве. Таких примеров, когда гражданский долг для сестер милосердия ставился выше собственной жизни, было немало. Первой из сестер милосердия удостоившейся в Первую мировую войну 1914-1918 годов Георгиевского креста IV степени стала Елена Хечинова. Елена Константиновна Хечинова родилась 22 сентября 1890 г. в приморском городе Батуме в семье капитана дальнего плавания торгового флота. После окончания женской батумской гимназии Елена выходит замуж за молодого врача Владислава Цебржинского и вместе с мужем с 1909 года живет в Санкт-Петербурге, где заканчивает акушерские курсы в родовспомогательном заведении на Надеждинской улице. В первые дни войны, расставшись с семьей, Владислав ушел на фронт в составе 141-го Можайского полка и в боях 26-30 августа 1914 г. под Сольдау (Восточная Пруссия) попал сначала в окружение, потом в плен. Узнав об этом, Елена Константиновна, к тому времени уже мать двоих детей, принимает единственно приемлемое для себя решение — отправиться на фронт. Она отвозит сыновей в Батум и оставляет на попечение родителей, а сама добровольно уходит на фронт, переодевшись в мужскую одежду. Ей удалось присоединиться к маршевой роте в качестве фельдшера под именем Глеба Цетнерского. Прибыв на фронт, новоявленный фельдшер в звании прапорщика был зачислен в 186-й пехотный имени Императора Петра I Асландузский полк, который входил в состав 4-й армии под командованием генерала от инфантерии Эверта А.Е. и составлял авангард 47-й пехотной дивизии. 2 ноября 1914 г. при наступлении полка на деревню Журав, когда артиллерия противника начала обстреливать боевой порядок полка, фельдшер-доброволец, вызвавшись охотником, под сильным шрапнельным огнем противника влез на дерево, стоявшее впереди цепи, и, высмотрев расположение цепей, пулеметов и артиллерии противника, доставил важные и весьма точные сведения о его силах и расположении, что и способствовало быстрой атаке и занятию деревни. Во время боёв фельдшер Цетнерский оказывал помощь раненым. Во время перевязки своего раненого ротного командира фельдшер был ранен осколком тяжелого снаряда, но, несмотря на это, продолжал начатую перевязку, и только по окончании таковой сам перевязал себя, после чего под сильным огнем артиллерии противника, забыв собственную рану, вынес своего ротного командира из боевой линии огня. В госпитале, при перевязке плеча, выяснилось, что фельдшер – женщина. Елена Цетнерская была награждена Георгиевским Крестом IV-й степени. Оправившись от ран, она вновь добровольно возвратилась в полк в форме санитара-добровольца и заявила о своем желании послужить Родине в боевой линии, но, как женщине, ей в этом было отказано. Елена Константиновна уже в мае 1915 г. командируется фельдшером в 3-й Кавказский передовой отряд, а точнее, в Агудзерский военный госпиталь под Сухумом. Можно предположить, что плечевое ранение давало о себе знать, и поэтому 31 декабря 1915 г. ее отчислили со службы. Но не проходит и трех месяцев, как Елена Константиновна уже служит сестрой милосердия при Тифлисской Надеждинской общине, а в конце апреля того же года переводится ближе к фронту, в Батумский госпиталь… С начала 1917 г. Елена Хечинова вновь на тяжелом участке войны. Известен случай, когда в Галиции передовые цепи из-за продолжительного и сильного огня противника оказались отрезанными от основных частей. Около суток солдаты оставались без пищи, никто не решался пробиться к ним. Тогда Елена Константиновна вскочила на повозку с походной кухней, запряженную лошадьми, и погнала их через все поле к окопам, чтобы накормить солдат. Чудом спаслась! В первые дни войны ушла добровольно на фронт сестрой милосердия Римма Михайловна Иванова, она служила в 105-м пехотном Оренбургском полку, который в составе 3-го армейского корпуса принимал участие в сражениях на Северо-Западном фронте. Во время нашей атаки 10-я рота потеряла убитыми командира роты и младшего офицера. Сестра Иванова, увидев роту без офицеров, выхватила саблю и бросилась с ней в атаку. Собрав роту около себя, и захватила одну из линий окопов противника, где, будучи тяжело ранена, она скончалась славной смертью храбрых на передовой линии… Николай II за беспримерный подвиг наградил посмертно сестру милосердия Иванову Р.М. орденом Святого Великомученика и Победоносца Георгия IV степени. Полным кавалером Георгиевских наград стала сестра милосердия Генриетта Викторовна Сорокина, спасшая знамя 6-го Либавского полка. Во время боя под Сольдау, при работе на перевязочном пункте, Генриетта была легко ранена в ногу. Знаменщик Либавского полка, тяжело раненный в живот, сорвал с древка знамя, свернул его и тихо сказал: «Сестра, спаси знамя!» и с этими словами умер на ее руках. Вскоре сестра милосердия была вновь ранена, её подобрали немецкие санитары и положили в госпиталь, где ей вынули пулю из ступни. Там Генриетта и пролежала, пока ее не признали подлежащей эвакуации в Россию, сохранив знамя. Государь наградил сестру Сорокину Георгиевскими медалями I и II степени. После описанных событий сестра милосердия вновь отправилась на фронт и ревностным трудом заслужила остальные награды. Прекрасный пример героизма явила собой баронесса Евгения Петровна Толль, кавалер Георгиевского креста IV степени, трижды раненная в бою и представленная за свои ратные подвиги к Георгиевским крестам III и II степени! В армии баронесса была более известна под именем Коркиной Е.П., а ее мужа, чью фамилию она носила, убили под Люблиным в первые же дни войны. В звании ротного фельдшера баронесса находилась на Западном фронте в армии генерала Самсонова. Вот как сама героиня описывает пережитое: «Я водила роту в атаку, и рота взяла неприятельский окоп. Батальонный командир был ранен, ротный тоже, а прапорщик контужен. Я здесь же под огнем перевязывала солдат. Вдруг рота начала отступать, и я, забыв про все, своим командованием остановила роту. С криком «Ура!» бросилась вперед, вся рота кинулась за мной и взяла окоп. Когда же наша рота вступила в рукопашный бой, я вновь пошла перевязывать раненых, а роту сдала подоспевшему в это время вновь назначенному ротному командиру». Георгиевский крест III степени Толль Е.П. заслужила за спасение раненого батальонного командира, которого вытащила с линии огня, обвязав веревкой. Поднять его было очень трудно, и баронесса буквально впряглась, перекинув концы веревки через плечо, и тянула командира по траве, упираясь ногами в землю, пока не дотащила до безопасной зоны. Дождавшись сумерек, пришедшего в сознание офицера баронесса осторожно спустила в овраг, оставила его там, а сама вызвала санитаров, которые и донесли командира до своих. Во время отступления наших войск на одном из участков фронта под непрерывным огнем неприятельских орудий пришлось отступить и летучему санитарному отряду, в котором работала Коркина Е.П. Санитарный отряд попал под страшный шрапнельный огонь. Чтобы остановить обстрел, санитары высоко подняли белое знамя с Красным Крестом, но огонь не только не прекратился, но, напротив, начал буквально косить раненых. И тогда сестра Коркина с помощью немногих санитаров принялась спасать их, выволакивая из санитарных повозок и перенося в безопасное место. Коркина Е.П. лично спасла девять офицеров, на собственных плечах вынося их из-под обстрела. А затем, воспользовавшись паузой, угнала две повозки с ранеными из зоны обстрела неприятельских снарядов и устроила раненых в больнице немецкого села, накануне занятого русскими. Через несколько дней ей пришлось повторить то же самое, срочно эвакуируя раненых уже из больницы, которая попала под обстрел наступающих неприятельских сил. На повозках, с помощью двух санитаров, она перевозила их к железной дороге, где стоял санитарный поезд, который благополучно доставил раненых в царскосельский лазарет. Баронесса Евгения Петровна Коркина (Толль) за время боев была ранена в ногу, в живот и в грудь, во всех случаях — навылет. Дальнейшая судьба баронессы неизвестна, как неизвестны подробности совершенных героических поступков и другой женщины — баронессы Софии де Боде, участницы Первой мировой войны на стороне российских войск. Известно лишь, что сразу после октябрьских событий 1917 года баронесса де Боде примкнула к белому движению и участвовала в кубанском походе. Она обращала на себя внимание красотой, храбростью и решительностью. Служила баронесса в кавалерии и погибла под Екатеринодаром во время лихой, но безуспешной атаки. С началом войны волна патриотизма прокатилась по широким просторам Российской империи, захватив различные слои общества, включая и молодежь, традиционно воспитанную в духе преданности Отечеству. В родословной каждый российской семьи всегда можно найти защитников Родины — от солдат до генералов. Так что примеров для подражания достаточно. Война застала Ольгу Шидловскую в Витебске, откуда она с родителями вскоре переехала в Могилев, так как отец Ольги был назначен губернатором Могилевской губернии. Молодая девушка из дворянской семьи, едва дождавшись окончания дополнительного восьмого класса местной гимназии, отправилась на фронт. Отец противился этому, поскольку слишком свежа была рана, нанесенная гибелью старшего сына, офицера 102-го пехотного Вятского полка Павла Шидловского, в боях под Сольдау. Но Ольга оставалась непреклонной. Добившись одобрения отца, она обратилась с посланием к Верховному главнокомандующему с просьбой разрешить ей вступление в ряды действующей армии. 11 июля 1915 года она поступает на службу в 4-й гусарский Мариупольский полк добровольцем рядового звания под именем Олега Сергеевича Шидловского. Выбор места службы был не случаен. Более ста лет тому назад, в Отечественную войну 1812 года, в этом прославленном полку с весны 1811 года служила известная всей России знаменитая женщина — корнет и Георгиевский кавалер Надежда Андреевна Дурова. Позже она перешла в Литовский уланский полк, в котором пробыла в течение всей войны. Гимназистка Ольга Шидловская зачитывалась бесхитростными записками кавалерист-девицы, восхищалась ее подвигами и, конечно же, желала подражать ей. За короткий срок ревностной службы в знаменитом 4-м гусарском полку рядовой гусар Олег Шидловский был произведен в ефрейторское звание, а за доблестное участие в вылазках удостоился Георгиевской медали IV степени. В начале 1916 года Ольга Шидловская производится в младшие унтер-офицеры, а в мае того же года снова получает повышение. Послужной список, подписанный генерал-майором Чесноковым, откуда взяты перечисленные сведения, свидетельствует, что спустя два месяца после присвоения очередного звания восемнадцатилетний гусар награждается Георгиевским крестом IV степени. Старший унтер-офицер Олег Шидловский участвовал во всех боях, счастливо избежав каких-либо ранений, вплоть до 30 ноября 1917 года, когда вследствие большевистского переворота полк был расформирован. После демобилизации бывшая дворянка Ольга Сергеевна Шидловская возвращается сначала в Киев, затем в Харьков и после непродолжительных странствий поселяется в Ялте, где работает ночным сторожем на виноградниках. В Гражданской войне она не участвует. Из Крыма вместе с родителями эмигрирует в Чехословакию, а в 1930 году переезжает на постоянное жительство в Югославию. Во время Второй мировой войны Ольга Сергеевна с больными престарелыми родителями и старшим братом, инвалидом Первой мировой войны, остается в Белграде вплоть до освобождения его советскими войсками и югославскими партизанами. Через три дня брата, офицера Добровольческой армии, расстреливают, а вскоре умирают родители. Оставшись одна, Ольга Шидловская пытается покинуть страну и в 1959 году с помощью соотечественников переезжает в Аргентину. Здесь особенно нелегко найти приемлемую для немолодой женщины постоянную работу. Ольга Сергеевна живет поденщиной, шьет на дому, убирает чужие квартиры и т.п. В 1959 году Ольга Шидловская скончалась от сердечного приступа, ее похоронили на кладбище Сан-Мартин в предместье Буэнос-Айреса. В 1967 году ее прах перенесли в усыпальницу церкви Русского Очага в Итусаинго. Так вдали от Родины оборвалась жизнь прославленного офицера российской армии, Георгиевского кавалера, лихого гусара Ольги Сергеевны Шидловской, за могилой которой по сей день ухаживают ее соотечественники и православная церковь. По материалам книги Ю. Хечинов «Война и милосердие. Страницы истории Отечества», М., «Открытое Решение», 2009, с. 114-150.
Советую прочитать:
фотохроника работы сестер милосердия 1 августа 1914 года Германия объявила войну России. Страна подошла к рубежу двух эпох. Но пока делалась история, кто-то перевязывал раны, раздавал лекарства и утешал больных «Приезжайте немедленно»
Фото 1. Раненые солдаты лежат в госпитале Всероссийского Земского союза. Петроград, 1914 «Только через три дня после объявления мобилизации мы узнали, что это война. Я сейчас же решила работать сестрой, но очень боялась, что меня не возьмут, так как я была без диплома. Все же написала письмо старшей сестре общины Филипповой, спрашивая, что мне делать, и могу ли я работать. Она сразу же мне ответила: «Приезжайте немедленно». Я быстро собралась и уехала», – вспоминает Татьяна Варнек, окончившая курсы после гимназии. «Императрица держала вату с эфиром» Одной из руководительниц РОКК была императрица Александра Федоровна. При ее участии Царское Село превратилось в крупнейший в мире военно-медицинский госпитальный и реабилитационный центр. Вместе с великими княжнами Татьяной и Ольгой императрица сама прошла подготовку как сестра милосердия и лично участвовала в лечении раненых солдат и офицеров.
Чайный пункт и подвижная парикмахерская Красного Креста вблизи населенного пункта Чистилово. 1915-1916 СПРАВКА В 1867 году был утвержден устав Российского общества попечения о раненых и больных воинах, а в 1879 году организацию переименовали в Российское общество Красного Креста. Почетными членами РОКК стали император, великие князья и княгини, высокопоставленные светские лица и представители высшего духовенства. В деятельности общества участвовали многие выдающиеся медики XIX века: Н.И. Пирогов, Н.В. Склифосовский, С.П. Боткин. В годы Первой мировой войны сестры милосердия РОКК работали не только в медицинских учреждениях организации, но и в госпиталях военного ведомства, лазаретах Земского союза и т.д. «К вечеру сделались все до одного пьяными»
Фото 3. Сестра милосердия и солдаты у полевой кухни 267-го Духовщинского полка 67-й пехотной дивизии 35-го армейского корпуса. Северо-Западный фронт Сестрам раненые солдаты доверяли больше, чем врачам. Возможно, в женщинах они не видели «начальство», и поэтому могли откровенно делиться своими мыслями и воспоминаниями об увиденном на войне. Иногда сестры милосердия записывали эти рассказы. «Медицинскому персоналу трудно переносить такие ужасы»
Фото 4. Раненые в вагоне военно-санитарного поезда. 1915-1917 В каких условиях приходилось работать сотрудникам Красного Креста, видно из отчетов и выступлений депутатов того времени. «Количество транспортов для перевозки раненых было совершенно недостаточным<…> В Москву приходили поезда с некормлеными несколько суток, голодными людьми, с ранами не перевязанными, а если перевязанными – однажды, в течение нескольких дней не перевязанными вновь. Иногда с таким количеством личинок, что трудно было даже медицинскому персоналу выносить такие ужасы, которые обнаруживались при осмотре больных», – говорил член Госдумы А. И. Шингарев. «Вы должны радоваться, если любите меня»
Фото 5. Первая помощь на поле боя в годы Первой мировой войны В годы Первой мировой войны впервые начали вручать боевые награды за оказание медицинской помощи раненым под огнем противника. Многие сестры милосердия получили Георгиевские медали с надписью «За храбрость». «Все госпитали переполнены, поездов не хватает»
Фото 6. Медицинские сестры у постелей больных в лазарете в Императорском Зимнем дворце. Петроград, 1915 В госпиталях и лазаретах сестры милосердия распределялись по обязанностям: палатные, операционные сестры, аптечная сестра, заведующая хозяйством. Палатные сестры заботились о пациентах, выполняя предписания врачей и личные просьбы больных. Операционные – стерилизовали инструменты и перевязочный материал, помогали хирургам. Аптечная сестра следила за своевременным поступлением лекарств, вела документацию. «Часть человека остается у тебя в руке…»
Фото 7. Врачи и сестры милосердия в операционной 68-го санитарного поезда им. М. С. Морозовой. Западный фронт «Трудно было привыкнуть к ампутациям, – писала Александра Толстая, дочь писателя Льва Толстого, которая тоже служила сестрой милосердия. – Держишь ногу или руку и вдруг ощущаешь мертвую тяжесть. Часть человека остается у тебя в руке. «Деревья и трава пожелтели, как от пожара»
Фото 8. Сестры милосердия готовят постели к приему раненых в лазарете им. Наследника цесаревича Алексея Николаевича. Петроград, 1914 На Западном фронте медикам приходилось иметь дело с последствиями применения немцами отравляющих газов. Александра Толстая описывала это так: «Деревья и трава от Сморгони до Молодечно, около 35 верст, пожелтели, как от пожара. Поля ржи. Смотришь, местами рожь примята. Подъезжаешь. Лежит человек. Лицо буро-красное, дышит тяжело. Поднимаем, кладем в повозку. Он еще разговаривает. Привезли в лагерь – мертвый. «Каждый из нас видел в сестре Петровой родную мать»
Фото 9. Раненые и медицинский персонал в палате лазарета Металлического завода. Петроград. 1915 Пациенты относились к сестрам милосердия с огромной благодарностью. «Все выписавшиеся больные нам писали письма, – рассказывала Татьяна Варнек. – На конверте было обыкновенно написано: "Двум сестрицам петроградским". Бывали письма очень трогательные, особенно от уссурийских и амурских казаков, которые писали так: "Лети, мой листок, на Дальный Восток и никому в руки не давайся, как только моей сестрице милосердной!" Часто бывали наклеены картинки, голуби, незабудки». ~ © Православный портал о благотворительности «Милосердие.ru». 2017 год.
Главная → Энциклопедия Царского Села → I Мировая война и Царское Село → Лазареты и попечительства I Мировой войны в Царском Селе
Лазареты и попечительства I Мировой войны в Царском Селе
Текст защищен авторским правом ©. Любая перепечатка, даже частичная, возможна только с письменного согласия редакции сайта
С началом Первой мировой войны на территории Царского Села и его окрестностей был организован Особый эвакуационный пункт. Было открыто 85 лазаретов во дворцах, госпиталях, частных домах и дачах, начинал с Большого Екатерининского дворца и заканчивая зданием акционерного общества холодильников. Раненых привозили 20 санитарных поездов. Расходы по содержанию больных в частных домах оплачивались Дворцовым управлением. Запись из дневника В.И.Гедройц, главврача госпиталя: «Эти дни точно в аду. Работы всегда много, а теперь, когда в короткий срок нужно открыть большое количество госпиталей, хотелось бы чтобы день был вдвое… т.к. это единственная лечебница Царского Села, то она вечно переполнена… и вести дело при таком количестве рук трудно… Коллегия постановила для нужд военного времени занять хирургическое отделение госпиталя, устроив в нем солдатское отделение. Подъем охватил все слои населения. …Какие-то незнакомые купцы с жирными животами приходили и привозили мед для раненых, жертвовали муку, папиросы, конфеты, белье; раненых еще не было, но пожертвования сыпались как из рога изобилия. Более 30 дачевладельцев предложили свои особняки и полное оборудование для лазарета. Другие жертвовали деньгами… при энергии Евгения Сергеевича Боткина, Сергея Николаевича Вильчковского и моей скромной помощи 30 лазаретов в Царском Селе были готовы… Все придворные автомобили и экипажи были отданы для перевозки раненых… Цветы из оранжерей, сладкое придворное мороженое — все поступало в лазареты… Казалось, чугунная решетка Александровского дворца раскрылась и дыхание народной жизни обожгло душу ее обитателей».
18 июля Грянул гром. И Русь перекрестилась. Но перекрестилась не опасливо, не с мыслью – помилуй, Господи, от беды, а с готовностью бороться с бедой. С высоты престола раздался зов к оружию. Объявлена мобилизация. Манифестации последних дней показывают, что несомненно все сочувствуют войне. Но пока только словами… Но для того, чтобы все знали, кому предложить свой труд, куда послать свои деньги, нужно чтобы немедленно повсюду были созданы соответствующие организации. И думается что прежде всего именно Царское Село должно подумать о создании таких организаций. Царскому Селу на долю выпала высокая честь, а кому много дано, с того много взыщется.1 ? При Дворцовом госпитале императрица Александра Федоровна устроила Собственный лазарет № 3 (один из числа тех восьмидесяти лазаретов, организованных в Царском Селе и Павловске для раненых, которых доставляли с фронта двадцать санитарных поездов Царскосельского эвакуационного пункта). Начальником лазарета при Дворцовом госпитале состоял генерал-майор С.Н. Вильчковский, одной из сестер милосердия была его супруга В.А. Вильчковская. Медицинский персонал возглавляла старший врач доктор медицины В.И. Гедройц, совмещавшая одновременно текущие обязанности в Дворцовом госпитале. Отделению нижних чинов лазарета, рассчитанному на двести человек, отвели весь верхний этаж главного здания госпиталя. Офицерское отделение на тридцать человек вначале разместили в одном из одноэтажных флигелей Дворцового госпиталя (предположительно, это был наскоро отремонтированный и переоборудованный острозаразный павильон Дворцового госпиталя). В 1914 г. по проекту архитектора С.А. Данини в госпитальном саду со стороны Софийского бульвара соорудили отдельный корпус для раненых офицеров. 25 июля Царскосельская ЕИВ Гос. Императрицы Александры Федоровны община на усиление своих средств столь нужных в военное врем, организовала лотерею. Цена билета 25 коп., выигрыши из серебряных вещей. Билеты можно приобрести в Царскосельском Дворцовом управлении (угол Леонтьевской и Малой улиц) у дежурного чиновника во всякое время дня, не исключая праздников, а также в помещении общины.2 Собрание ЦС Общины сестер милосердия Красного Креста.. Собрание в помещении общины. Годовое собрание членов. Председатель княгиня Софья Сергеевна Путятина. Из отчета – новое каменное здание закончено, в верхнем этаже здания устроено общежитие сестер милосердия, а в нижнем – мед.кабинеты. Прежнее помещение приспособлено под санаторию. Лазарет на 50 офицеров был открыт и в здании Общины сестер милосердия Красного Креста. Врачом там служил друг Евгения Данини, Леонид Николаевич Деревенко. Он пользовал семью Данини вместо уехавшего на фронт В. А. Бритнева. Брат Леонида, Владимир Деревенко (1870-1936), был почетным лейб-хирургом Наследника Цесаревича. При общине Царскосельской Общины сестер милосердия Красного Креста в конце 1914 г. были организованы курсы по подготовке сестер милосердия, которыми заведовала баронесса Е.А. Врангель. Августейшая покровительница общины Александра Федоровна проходила на этих курсах подготовку и держала экзамен на звание сестры милосердия, которые успешно сдала вместе со старшими великими княжнами Ольгой и Татьяной. За 1915 г. на этих курсах подготовили сто шесть медсестер. 1) изолятор на 2 комнаты со службами; Изоляционное покмещение отделено капитальной стеной и отдельным входом от других помещений дома, оборудовано чугунной эмалированной противокислотной ванной, фаянсовымъ клозетомъ и умывальникомъ, самостоятельной канализацией и небольшимъ кухоннымъ очагомъ съ приспособлеными для получения кипяченой воды. Каждая изоляционная комната расчитана на 2 кровати и обеспечивала 2,5 куб. саж. воздуха на 1 больного. Согласно предварительной смете стоимость сооружены дома исчислена в сумме 15.882 руб. К 1915 г. бесплатных приемов в Общине сестер милосердия Красного Креста уже производилось три тысячи в год. При приемном покое имелась операционная, размещавшаяся во втором этаже в центре здания и дополнительно освещавшаяся стеклянным фонарем над крышей. Врачам помогали пятнадцать штатных, девять испытуемых сестер милосердия и две запасных. 28 июля Открытие Приходского Попечительского совета 28 июля в здании Екатерининской церковно-приходской школы. Совет объединяет духовенство всех епархиальных церквей Деятельность:
Выбраны:
1 августа Объявление. Царскосельское городское попечительство о призрении нижних воинских чинов и их семейств в военное время сим извещает, что попечительство открыто с 3-5 дня в ратуше для выдачи пособий беднейшим семействам, для приема пожертвований деньгами и вещами, а также для выдачи разного рода справок по делам благотворительности.3 ЕИВ вл кн Мария Паловна взяла под свое покровительство, акнягиня Мария Николаевна Васильчикова дала помещение в Доме трудолюбия, где и открыто временноеубежище для жен и детей, лишенных крова и возможности добывания пропитания себе собственным трудом.3 Пожертвования принимаются, продуктами и деньгами и вещами у кн. М.Н.Васильчиковой (Широкая 3), М.Ф Ратьковой-Рожновой (Волконская 5), в канцелярии Уездного предводителя дворянства (Широкая 12) и в убежище – Оранжерейная 42.
3 августа В воскресение 3 августа в Земской Управе состоялось второе в этом году чрезвычайное Земское собрание в связи с последними событиями.
5 августа Первое заседание хозяйственной комиссии ЦС Городского попечительства назначено на 5 августа. Присутствовали среди прочих: графиня Бреверн-де-Лагарди, Е. Шварценбергер, баронесса Корф. Инженер Александр Николаевич Фролов выработал инструкции, по ним обсудили вопросы:
С 8 до 1 ночи заседали, всестронне обсудили. Инженеру Фролову за разработанные им инструкции была единогласно вынесена благодарность.4 6 августа В местной лютеранско-евангелической церкви прошло молебствие о даровании победы русскому оружию. Нашими местными лютранами Царского Села и Павловска уже пожертвовано в пользу евангелического полевого лазарета 245 р., в пользу семей ополченцев 78 р., кроме того передано около 400 шт разного белья. 8 августа Всем желающим присоединиться и предложить экипажи с кучерами и автомобили с шоферами на вокзалы ко времени прибытия санитарных поездов просьба сообщить о своем желании с первой же почтой с указанием адреса, телефона, имени владельца, имени шофера или кучера, и число мест в экипаже. Заявление следует направлять А.А. Дерингеру, Конюшенная сбств дом. В Павловске — Загуляеву П.М., Объездная сбств дом. Просьба сообщить всем знакомым. Список лиц, присоединившихся будет публиковаться в газете.4 Крупное пожертвование, сделанное Василием Петровичем Кочубеем в размере 1000 р. в распоряжение ЦС Городского попечительства. В зале Ратуши шитье 3 раза в неделю намечены цены за шитье всевозможных принадлежностей для раненых.4 Для этого фирмою Зингер поставлено 20 машинок на все время войны – бедные женщины шьют белье и зарабатывают себе на пропитание. Всем заведует Бревер-де-ла-Гарди при 2-х помошницах.6 9 августа Дневник вл кн Татьяны Николаевны: "9 августа — Суббота. Царское Село.… Днем Мама Ольга Аня и я поехали к Знамению. Оттуда в Дворцовый госпиталь, там Отдельный дом для раненых, потом пошли в госпиталь, где лежал бедный Молоховец.." 10 августа Дневник вл кн Татьяны Николаевны: Воскресенье. В 2 ч. мы две с Мама поехали в ее общину Красного Креста на напутственный молебен сестрам которые идут на войну.… После работали..." Воззвание опубликовала немецкая группа Союза 17 октября. Домовладельцы на собрании 10 августа определили размер общего сбора с них в пользу Попечительства Исторический день в Царском Селе 12 августа Дневник вл кн Татьяны Николаевны: "12 августа — Вторник. В 10 часов Ольга, Аня и я поехали в дворцовый госпитальный отдельный барак. Мы там каждая по очереди перевязывали по одному больному. У меня был ратник 44 лет, звали его Феодор Богданов. У него воспаление ногтевого ложа, на ноге. Когда мы все перевязали, пошли к кирасиру раненому офицеру. Совсем молоденький, бедный. Потом пошли назад к ним, измерили температуру, пульс, смотрели и дыхание. В 12 часов вернулись пешком домой. Днем с Мама и Аней поехали смотреть Инвалидный дом, "который готовится раненым, потом заехали в Собор." 13 августа Дневник вл кн Татьяны Николаевны: "13 августа — Среда. Утром две поехали с Мама и Аней в госпиталь. Перевязывала того же больного. Помогала другим. Заходили к кирасиру Карангозову.… В 6 часов была княжна Гедройц читала лекцию." 17 августа В воскресение 17 августа к Императорскому павильону подошел первый санитарный поезд имени Наследника Цесаревича и вл кн Алексея Николаевича По обследованию в ЦС нуждаются в призрении до 1000 человек. Казенный паек 2,80 р. на взрослого и 1,40 до 5-лет ребенка, полагают надо прибавить до 5 р в месяц, чтобы можно было на эти средства существовать полгода (предполагемый срок войны)6 Лазарет при казармах Лейб-гвардии Гусарского полка на Павловском шоссе. Построен в 1913 г. при командире полка В.Н. Воейкове, по проекту архитектора М.И. Китнера. Оборудован был по последнему слову техники. Рассчитан на 36 кроватей. С начала войны лазарет N5 обслуживался Дамским комитетом, состоящим из жен офицеров того же полка. При лазарете имелись мастерские ручного труда: корзиночная, столярная, портновская. 18 августа При Царскосельском Доме для призрения увечных воинов был открыт солдатский лазарет, в котором к 1915 году проходили лечение 171 человек. Старых инвалидов переселили в одну из мастерских. Были оборудованы рентгеновский кабинет (обслуживающий все царскосельские лазареты), операционные, в которых сделаны большие окна. 7 сентября 1914 г., в воскресенье, Николай II записал: «… Около 2 ч. поехали в Дом призрения увечных воинов, где теперь помещаются 150 раненых, половину которых мы навестили». 22 августа На помощь детям запасных воинов.Царскосельский склад ЕИВ вл кн Ольги Николаевны в Большом Екатерининском дворце. Открыты работы по кройке и шитью детского белья и одежды ежедневно с1 до 5 час кроме праздников6 Освящение лазарета М.Л. Варшавской в собст доме по Безыммянному переулку, лазарет на 30 воинов6
29 августа 29 августа- день Праздника трезвости. Во всех храмах Царского Села – торжественный молебен Министерская гимназия- начальница перебралсь из своей квартиры в учительскую, а квартиру и весь этаж отдала под лазарет, ученицы шьют белье для раненых в свободное от заняий время. 4 сентября было привезены раненые, из них 120 человек гостеприимно принял лазарет гимназии Председательница общества "Единение" обратилась к модисткам, портным и продавцам тканей, не выбрасывать остатки шелковых тканей, а отдавать тем, кто шьет белье и одежду для воинов и членов их семей. Раненные гуляют в парках и садах домов Царского Села где лечатся, их обступют жители и распрашивают о войне, раненные охотьно отвечат о войне, они в хорошем настоении. 11 сентября 11 Сентября 1914 г. в здании Реального училища, в Высочайшем присутствии был освящён лазарет для раненых воинов в нижнем этаже, оборудованный на средства дворян Петроградской губернии и рассчитанный на 60 кроватей. В ожидании прибытия высокопоставленных особ напротив училища на тротуаре столпилась толпа народа. В 18.30 изволила прибыть ЕИВ Государыня Императрицы Александра Федоровна с Великими княжнами Татьяной и Ольгой. По отбытии Александра Федоровна прислала в лазарет икону святого великомученика и целителя Пантейлемона. Лазарет занимает весь нижний этаж здания училища. Он состоит из 4-х просторных, светлых, оборудованных по последнему слову гигиены палат, столовой, ванной комнаты и перевязочной. Оборудован лазарет на средства Петроградской губернии и имеет 60 кроватей. Назначен Особый комитет для общего руководства лазаретом, начальник — директор реального училища г.Цытович, ст. врач К.А. Янкович, мл. врач М.И. Гружевская, врач-консультант –А.А.Эберман. 11 сентября в Царское Село прибыл санитарный тыловой поезд ЕИВ Великой княгини Ксении Александровны в составе более 25 вагонов. Из офицеров в Царскео Село было доставлено 7 человек и нескоклько нижних чинов. Их встречали родственники и знакомые и представители тех лазаретов, куда направлялись раненные. При выходе офицерам вручили цветы и букеты, а нижним чинам подарили лакомства и сигареты. Все офицеры с родственниками были приглашены Вильчковским в парадные залы вокзала, где родственники могли переговорить с офицерами, Вильчковский путем расспросов выяснил кто из раненных планирует продолжить лечение в лазарете, а кто поедет домой. Пятеро офицеров были направлены в роскошный лазарет Кокорева на Московской улице. Его помещения поражают своей красотой и удобством. Главрач лазарета- В. Гедройц, а врачи- доктор Беляев и женщина –врач Жученко. На верхнем этаже устроены были раненые офицеры, в нижнем — с большими комнатами — нижние чины. Вера Антоновна Данини заведовала нижними палатами. Сын архитектора, Евгений Сильвиевич, временно оставив университет, работал здесь же в операционной, делал несложные операции вроде ампутации пальцев. Виргиния, которой было только 12 лет, после гимназии приходила к матери помогать ухаживать за ранеными, кормила беспомощных и читала им книги.Главным врачом лазарета был профессор Б. H. Беляев. 12 сентября После начала Первой Мировой войны, в 1914 году, в зданиях Офицерской Артиллерийской школы, как и во многих других зданиях Царского Села, был открыт лазарет для раненных. В части помещений был оборудован лазарет на 145 кроватей. За ранеными ухаживали жены офицеров постоянного состава. 12 сентября было освящено 1-е отделение. 10 ноября было полное открытие. Освящениелазарета В.А. Риттиха 3 сентября. Лазарет небольшой, всего на 4 койки. 13 сентября Приказом по Управлению дворцового коменданта Царского Села от 13 (26) сентября 1914 года, с высочайшего соизволения, на время войныпри Фёдоровском соборе был открыт Лазарет для раненых солдат № 17, а в 1916 году — для офицеров. Освящение лазарета Дерингера. Молебен отслужил протоиерей Червяковский и хор певчих под управлением Н.Моисеева. Лазарет прекрасно оборудован и занимает 2 этажа. В 1- большая плата на 8 кроватей, здесь же- читальня. Во втором- три палаты на 8 кроватей. Рядом комната для заведующего лазаретом и кухня. У каждой кровати — цветы и папиросы. 21 сентября13 Начало деятельности лазарета Офицерской школы 21 сентября. 300 кроватей, самый большой в Царском Селе 26 сентября11 Дневное убежище для детей запасных и ратников ополчения – в здании дворцового ведомства на Церковной, на 40 детей, несколько просторных помещений.
Дом на Широкой, принадлежащий гр. Урусовой. В нем советом жильцов дома поставлено организовать общественный лазарет для раненных офицеров на 6 человек. Для этой цели Урусова предоставила квартиру из 4-х комнат со всеми удобствами. В октябре его открыли, во дворе в большом каменном флигеле, на 6 кроватей исключительно для офицеров. 28 сентября12 Освящение лазарета Свято-Троицкой Общины 28 сентября на 15 воинов. Лазарет оборудован на средства государственного инкассаторского банка. 3 октября12 Лазарет в Училище девиц духовного звания. В одном из зданий училища организован временный эвакуационный лазарет для 12 раненных нижних чинов. Ему присвоено имя- Эвакуационный лазарет имени ЕИВ Государыни Императрицы Марии Федоровны, августейшей покровительницы Царскосельского женского училища духовного звания. Заведование взял на себя врач училища доктор Воскресесенский. Уход за раненными берут на себя воспитаницы и некоторве из преподавателей. При общем надзоре начальницы училища г Курнатовской. Шить белье для раненных будут воспитанницы всех классов. Деньги на лазарет пожертвовали ктитор училищной церкви Кочнев, и купцы Густерин, Шалберов, Попков. Содержание лазарета за свет средств училища. Небольшой двор лазарета Дерингера окружен высоким забором, выкрашенный белой краской. По углам двора стоят большие кадки с деревьями и подле них – скамьи для отдыха больных. Уход за больными не оставляет желать лучшего. 10 октября13 Освящение санитарного поезда М-В-Р ж/д 1 октября. На станции Петроград отчисление от жалования администрации и служащих. В составе поезда 8 вагонов. 2 –цейхгауза с бельем, 2 вагона с 42 койками для тяжелораненных, в одном операционная и аптека, ванна и купе для фельдшера. Далее вагон для врача, персонала и сестер милосердия. Вагон для санитаров и кухня. Вместимость может быть увеличена до 400 чел путем прицепки вагонов для легкораненых. Персонал- в основном из добровольцев, преимущественно служащие дороги во главе с врачем Чиркиным. Освящение лазарета М.Г. Раевскойна углу Колпинской и Оранжерейной, в доме госпожи Раевской. Лазарет расчитан на 20 офицеров. Поразительная чистота, заботливость учредителей. Устроители — вдова генерала-майора М.Г. Раевская, сестра Георгиевской общины И.М. Раевская и жена генерал-маора М.М. Плаутина. Состав докторов – Е.Боткин, доктор В.П. Соколов и военврач И.К. Рукавич. Временное убежище в помещении учебной команды ЛГ Гусарского полка – 2-х эт. Дом, 77 детей и 20 матерей 17 октября14 Корреспонденты газеты бывают в лазаретах Царского Села и расспрашивают раненных, а потом печатают их рассказы о войне в газете. Из числа многочисленных лазаретов Царского Села самый большой лазарет в казармах 2 Стрелкового полка – на излечении находятся 170 человек. Освящение лазарета Е.Ф.Лианозовой на Павловском шоссе в ее доме на 15 раненых – отвела под лазарет весь барский особняк Начинают печатать именной список офицеров, раненных и контуженных в боях, и находящихся на излечении в царскосельских госпиталаях. 20 октября15 20 октября — на санитарном поезде Цесаревича Алексея, прибыло 200 раненных воинов 23 октября16 23 октября Императрица Александра Федоровна с дочерьми и врачем В.Гейдройц посетила лазарет Левицкой 24 октября15 Начат сбор теплой одежды для раненных 24 октября заседание земской школьной комиссии. Первый вопрос- овведении всеобщего школьного обучения в Царском Селе. Учреждается земско-городская школа 1703 ученика, из которых 276 детей- служащих дворцового ведомства. В связи с чем встал вопрос о необходимости взять на себя часть расходов Дворцового управления. Бургомистр Харченко заявил об участии города в расходах по сооружению каменного здания для школы. Решение вопроса отложили.16 26 октября16 26 октябряОсвящение церкви при Дворцовом лазарете. Церковь освятили во имя святых равноапостольных царей Константина и Елены. Акт курсов сестер милосердия 26 октября в Реальном училище состоялся акт курсов сестер милосердия военного времени… Десятинедельные занятия и практика в лазаретах. 54 слушательницы свидетельства об окончании 27 октября16 Освящение лазарета при Коммерческом училище 27 октября, для нижнх чинов, организован на средства директора, на 20 кроватей, помещение лазарета в доме Фишера по Новодеревенской улице дом 11, 6 светлых комнат с электричечским освещением, со всеми удобствами 29 октября17 Выпуск сестер милосердия Общины Красного Креста 29 октября 1914 года, 45 слушательниц. 30 октября17 Прибыл санитарный поезд 30 октября из под Варшавы. 7 ноября17 Городское попечительство доставляет матерям заработу и для этого поставило их в такие условия, что им не приходится уходя на работу подвергать своих малышей всем опасностям их безпомощного возраста. С этой целью открыт приют-мастерская на углу Церковной и Малой улиц, дом электрической станции. Там получают работу 107 женщин и получают призрение 55 детей. В Царском Селе к настоящему времени открыто около 60 лазаретов на 2500 раненных. Освящение лазарета при Собственном ЕИВ Сводном пехотном полке. Лазарет общества «Козликъ» в доме Эбермана на Московском шоссе, которым рководит г-жа Э.А. Эберман. Владелец местных кинематографов Н.В. Бурков предоставил право бесплатного посещения кинематографов раненными воинами. По очереди, целыми лазаретами, раненные воины посещают кинотеатры. 9 ноября17 Вдоме Тиран открывается Общежитие царскосельского городского попечительства. Там же бюро труда и склад вещей для детей и семей запасных. 14 ноября18 Лазарет служащих Сибирского торгового банка в доме Мятлевой д.24 на Павловском шоссе. 19 ноября20 Прибыл санитарный поезд наследника Цесаревича Алексея 21 ноября19 При детском санатории на Павловском шоссе освящен лазарет Русско-голландского комитета. На 25 кроватей для нижних чинов. 22 ноября20 Открытие лазарета Н.Н.Комстадиус 22 ноября на 20 кроватей, прекрасно оборудованное. На освящении присутствовал сам генерал-майор Н.Н.Комстадиус с семейством. 23 ноября20 Открытие лазарета при Ремесленном приюте 23 ноября на 10 кроватей 23 ноября прибыл санитарный поезд, привез раненных с последних боев у реки Варты. В виду большого наплыва раненных в Царское Село и необходимого за ними ухода организованыкурсы сестер милосердия при Реальном училище. 28 ноября20 Группа детей приготовительной школы г-жи Шнакенбург доставила вприходское попечительство 47 кисетов с чаем, сахаром, табаком и конфетами. 12 декабря21 Разыграна лотерея Красного Креста. Серебрянные вещи из магазина "Николай Линденъ". Билеты вынимали воспитаницы Ремесленного приюта. Процедура длилась около часу. Приводим список выигравших. Всех выигрывших просят пожаловать к председательнице. Княгине С.С.Путятиной. Письмо от выздоровившего раненного пришло в министерскую гимназию, в лазарет сестре милосердия. Бывший раненный Семен Осипович Енин благодарит за заботу и передает привет всем сестрам и товарищам, которые еще в госпитале.
Отчет о розыгрыше лотерии с музыкальном отделением в зале Офицерского собрания Сводно-казачьего полка 9 ноября. Концерт проводился на усиления Павловского комитета для призрения семейств запасных и помомщи раненным. Чистая прибвль 2122 р. Благодарность магазинам-жертвователям вещей для лотереи 25 декабря23 25 декабряконцерт в лазарете в Феодоровском городке (под покровительством Великих княжен). 26 декабря22 26 декабря в министерской гимназии славили Христа. Торжество закончилось шествием по палатам. Во главе его шла ученица со звездой, за ней священник Смирнов с крестом, за ним ученицы попарно с кисетами, наполненными рождестенскими подарками для раненных. 28 декабря23 28 декабря в лазарете Большого дворца состоялся концерт для раненнных офицеров.
1915 На площади, ограниченной Саперной, Огородной и Гогелевской улицами, находился большой дом мещанина С.П. Шуванова — одного из родоначальников маршрутных такси в Царском Селе. В 1915 г. хозяин отдал свой дом под лазарет Обществу Красного Креста и уехал добровольцем на поля сражений Великой войны.23
2 января23 О железнодорожной катастрофе. 2 января 1915 года недалеко от платформы «Воздухоплавательный Парк» Царскосельской железной дороги пассажирский поезд, в котором находилась подруга Императрицы Анна Александровна Вырубова, потерпел крушение, однако жизнь её в этот день, совпавший с днём памяти св. преподобного Серафима Саровского, была чудесным образом спасена, хотя сама она получила сильные увечья. В память об этом событии в Царском Селе по инициативе Вырубовой в январе 1916 года был открыт лазарет, официально именовавшийся Серафимовский лазарет-убежище № 79, рассчитанный на 50 человек. Располагался он в одноэтажном доме № 3 по Малой улице. 2 января в 11.час 10 минут ночи во Дворцовый госпиталь доставили после крушения поезда фрейлину ЕИВ Анну Александровну Вырубову с переломанными ногами и окровавленным лицом. Туда же доставлен художник Иван Богданович Стреблов с переломанными ногами.23 3 января22 3 января в зале Ратуши большой вечер, сбор которого пойдет в пользу отправки сапог воинам на передовые позиции. Хозяйки вечера Н.Ф.Скарская –Гайдебурова, Л.Ю.Рахманова, О.Н.Барри. Стоимость входных билетов - от 1р.10 до 5 р.10 к. отв. Устроитель П.П. Гайдебуров. Письмо раненных сестре милосердия. Сестра милосердия – ангел–хранитель страждущих на войне. Много светлых сестер милосердия выдвинула эта война, настоящих сподвижниц. Воин благодарит в письме сестру милосердия за ее заботы, адресуя в ее адрес много теплых слов. С новым годом с прежней энергией продолжается работа городского попечительства — Церковная 13 и в доме Н.К.Тиран. Рождественский вечер в церковной школе. В нынешнем году вместо традиционной елки были устроены рождественские вечеринки. В госпитальной – хор учениц исполнил несколько концертных номеров, детям были розданы подарки и сласти от И.Г. Кучумова и Ф.И. Густерина. Для учащихся Екатерининской церковно-приходской школы подарки были присланы попечителем А.И… Шалбервым. В течении первых дней во всех местных лазаретах прошли елки для раненных. Раненные и персонал удостоились получить от ЕИВ Александры Федоровны ценые подарки с изображением государственного герба. Кроме того раненным были розданы сласти и билеты благотворительной лотереи. В некоторых лазаретах демонстрировались картины волшебного фонаря и устроены были концертные вечеринки. 14-летний герой-доброволец. В лазарет школы Левицкой доставлен воспитанник, раненный в бою в обе ноги. Юный герой, царскосел Сергей Якубенко, бывший воспитанник школы солдатских детей Кирасирского ЕИВ полка. Мысль о побеге в действую армию у него появилась еще в начале войны. В конце октября он тайно бежал на театр войны. При некоторых затруднениях все-таки прибыл и был зачислен в кавалерийский полк. Участвуя в большой разведке, он открыл большой немецкий отряд и своерененно должожил о нем в свой полк. За эту разведку он был представлен к ордену Св. Георгия 4 степен. На следующий день он принял участие в бою, в котором и был ранен. Чувствует юный герой себя хорошо и даже ходит на прогулки. Новый лазарет для раненных и больных воинов. 3 января осветили лазарт, устроенный по инициативе бургомистра Харченко И.К. и на средства царскосельских общественников на Артиллерийской улице, вблизи Огородной, в 2-х этажном доме казарм пулеметной команды ЛГ Кирасирского ЕИВ полка на 120 коек для нижних чинов. На освящении лазарета присуствовал Вильчковский (уполномоченный Красного Креста и военной инженерной дистанции царскосельский инженер полковник Сахаров Всеволод Васильевич, в ведении которого находятся все казармы и военные здания в Царском Селе.23 4 января23 Елка для детей запасных. 4 января в воскресение Городское попечительство в Дневном убежище (угол Церковной и Средней улиц), устроило елку детям запасных, проживающих на окраинах города. Большое помещение было переполнено детворой. В трех комнатах стояли ёлки кругом на столах лежали игрушки и сласти. Во время елки были устроены забавные игры и забавы, а затем были розданы игрушки и сласти. Елки были зажжены в 3.30 дня. Для детец был приглашен рассказчик Яша Брок, развлекавших детей своими рассказами и сценками. 6 января23 Во вторник 6 января была устроена елка для детей, проживающих в городской черте. Их явилось около 150 человек. Благодарность. Одна из жен запасного обратилась к нам с просьбой выразить благодарность от имени жен запасных гимназистам Николаевской гимназии. Дело в том, что 6 января от 1 до 6 часа гимназисты устроили в помещении гимназии елку для детей запасных. Во время елки разыгрывалась лотерея между детьми, которых гимназисты одаривали и другими подарками, например, книгами. Сердечное отношение учеников гимназии к детям запасных очень тронуло их матерей и они искренне благодарят их. С удовольстивме отдаем место в газете этим строкам. 6 января концерт возобновившего свою деятельность Царскосельского общества любителей музыки. Переполненный зал. Все доходы от концерта направлены в распорядение склада ЕИВ Государыни Императрицы Александры Федоровны. 7 января23 7 января- заседание педсовета Дневного убежища. Члены совета обсуждали вопросы школы которая начнет функционировать с 8 янврая с 1 до 5 дня. 9 января23 В новый лазарет на Артиллерийской улице доставлен санитарным поездом из Варшавы раненный в грудь крестьянн Курляндской губернии электро-техник лютеранин Яков Оттович Швальбе, он высказал пожелание перейти в правовславие. Бургомистр Харченко просит известить, что Царскосельское городское управление ( в Ратуше) и Попечительство о призрении семейств малоимущих, которое продолжает именоваться Городским ничего общего с ними не имеет. 10 января25 10 января лазарет при Дворцовом госпитале соизволил посетить Государь Император с вл кн Марией и Анастасией. Высоких гостей встречал весь персонал во главе с В.Гедройц. Государь с Вильчковским ходил по палатам разговаривал с выздоравливающими, справлялся у них о здоровье и награждал их Георгиевскими медалями. После чего соизволил пройти в церковь госпиталя и приложился к кресту. 11 января24 В здании Царскосельского высшего начального мужского училища (угол Бульварной и Оранжерейной улиц) состоится литературно-музыкальный вечер учениц высшего начального женского училища, при участии артистов Малого театра и др. Пожертвования в пользу Петроградского лазарета МНП принимаются с благодарностию. 16 января24 Городское общежитие вдоме г-жи Тиран на углу Средней и Оранжерейной установило дежурство для приема вещей и пожертвований. Всех сочувствующих просят не стесняться ни качеством ни количеством жертвований- все примут с благодарностью. В Дневном убежище ежедневные занятия с детьми. Педагогический состав из 17 учителей с будущей недели по предложению В.Ф. Мольденгауера будет преподаваться и ручной труд. Приходской попечительский совет за отосланные на театр военных действий вещи получил благодарственное письмо от командира конной батареи Офицерской артиллерийской школы – благодарят Совет и детишек за внимание и заботу. Список пожертвований поступивших в пользу временного убежища для оказания помощи ЕИВ Мария Павловна и комитет приносят глубокую благодарность всем. 18 января25 Прибыл новый транспорт раненных 18 января из Варшавы. 68 больных раненных воинов исключительно нжиних чинов поместили в лазарет № 52 по Артиллерийской улице в здании пулемётной роты. Часть тяжело раненных есть с обмороженными руками и ногами. 23 января25 25-летний юбилей Лейб-медика Е.С.Боткина. Во вторник 20 января 1915 года юбилей общественной и научно-медицинской деятельности Л-м Е.С. Боткина. Юбиляром получена масса поздравительных телеграмм. Юбиляр состоит членом военно-санитарного учебного комитета, лейб-медик двора ЕИВ и принимает участие по эвакуации раненных. Несколько лет тому назад почтенный юбиляр состоял председателем родительского комитета Николаевской гимназии и пользовался редкой любовью со стороны педагогического персонала и учеников. Недавно юбиляра постигло большое горе- он потерял на поле сражения своего сына, награжденного Святым Георгием. Фролов о ненастоящем городском попечительстве бургомистра Харченко. Просит снять вывеску, вводящую в заблуждение с Городовой ратуши «Царскосельское городское попечительство» (на самом деле — частное попечительство) и дальше подробно перечислены ошибки бургомистра Харченко. 24 января26 Письмо редактору. Через газету царскосельское землячество студентов благодарит студентов Петроградского университета и артистов, принявших участие в концерте 24 января в пользу лазарета царскосельского земства. За пожертвования приносят благодарность В.Г. Голлербаха, А.А. Дерингера и Л.К.Ремпена. Чистая прибыль с концерта 701 р. 96 к. 29 яннваря26 Ученический концерт в Реальном училище. 29 января в актовом зале состоялся концерт, доход с которого в размере 25 % поступил в пользу раненных, а 75 % – в пользу нуждающихся учеников. Концерт начался в 8 вечера. 3 отделения состояли из номеров, которые исполнялись исключительно учениками училища. Разнообразная программа: марш, дуэт учеников 5 класса Петровского и Тургенева под аккомпанемент Пантелеймона Константиновича Яшумова. 3 февраля26 Заседание совета Городского попечительства во вторник 3 февраля, заслушан отчет о его деятельности. 4 февраля26 4 февраля там же заседание хоз.комиссии Городского попечительства– список желающих приобрести дрова, отчет о работе Дневного убежища, снова обсуждался вопрос о введении ручного труда в дневном убежище. В обследовательной комиссии городского попечительства – заседали два раза и заканчивали работу далеко за полночь, рассматривали все заявки и документы. Выдача городского пособия — было выдано 3045 р., около 400 семейств получили пособия.Рассматривалась деятельность Городского попечительства за прошедший 1914 год. 6 февраля26 О неаккуратности петербургской Казенной палаты- пенсионеры Царского Села не получили новых пенсионных книжек (ранее они их получали в январе и 1 февраля всегда получали первую пенсию). В этот раз пенсионеры остаются без пенсий. Еженедельный санитарный бюллетень. Население Царского Села — 28 355 человек 13 февраля27 От Романовского комитета – сбор в церквях в пользу сирот в течение 3-ей недели Великого поста. Если кто-то по болезни ни разу не сходил во время 3-ей недели поста в храм, те могут отнести пожертвование в Романовский комитет по адресу: СПб, ул. Жуковского 59, с пометкой на дело воспитания детей воинов, павших на поле брани. Отчет общества охраны материнства и грудных детей в Царском Селе — с 29 апреля 1913 по 1 сентября 1914 года. Отчет составлен проф. Н.В. Ястребовым. В отчете говорится о деятельности Первого в Империи общества. Мысль о его создании принадлежит ЕИВ Александре Федоровне. Основная ее мысль при создании общества была в том, что бедные женщины в определенные моменты ее жизни не должны страдаль более богатых только потому, что они бедные. Специально учрежден Приют им М.А. Дрожжиной, реорганизованный Ястребовым для охраны материнства и детства. При приюте устроены консультации для беременных, где их консультируют о том, как держать себя в тот или иной период беременности, как питаться, как работать без вреда для ребенка, как ухаживать за младенцем, когда явиться на роды. С 22 февраля по 1 марта (4-я неделя Великого поста) в Царском Селе будет производится сбор пожертвований бельем, разными вещами и деньгами для отправки пасхальных подарков воинам на передовые позиции. Организатор сбора- княгиня Святополк-Мирская Е.А. Не оскудеет рука нашего обывателя, есть еще отзывчивые люди. Позаботились и о развлечении для находящихся на излечении воинах – появляются артисты-любители и даже профессионалы в лазаретах, которые своим искусством вносят свежую струю в монотонный быт лазаретов. На прошлой неделе, к примеру, в лазарете 20 (Артиллерийские казармы) г-жа Сметанникова, обладатель чудного сопрано спела несколько романсов, ее учница г-жа Мономахова выступила и как певица, и как исполнитльница характерных танцев. Рассказчик г-н Леонидов долго смешил своими рассказами. Приятно было видеть улыбки на лицах солдат и слышать изъявления их горячей благодарности. Хорошо бы чтобы и другие жители Царского Села последовали примеру и помогли развлечь лазартеных страдальцев. Отчет Временного убежища для оказания помощи семействам нижнихх чинов призванных на военную службу по царскосельскому уезду. первый год существования:
20 февраля28 Афиша – 20 февраля концерт в царскосельской Ратуше в пользу городского попечительства 22 февраля состоится чрезвычайное собрание Царскосельского общества взаимного от огня страхования — о сборе теплых вещей для войск нашего гарнизона. На прошлом собрании обсуждали о распределении 15 000 р. Общество постановило употребить: 12000р. на теплые вещи, 2000р. – раззоренной Польше, 1000 – раззоренной Бельгии.
О проекте
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








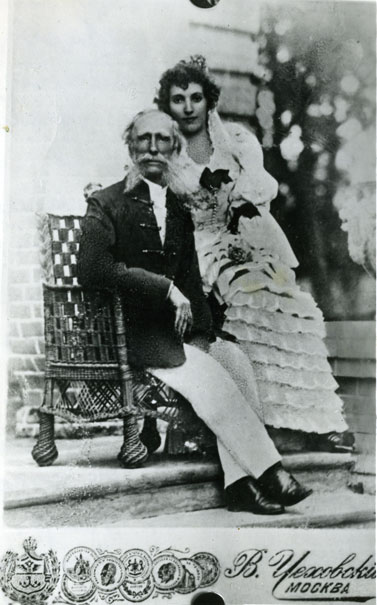
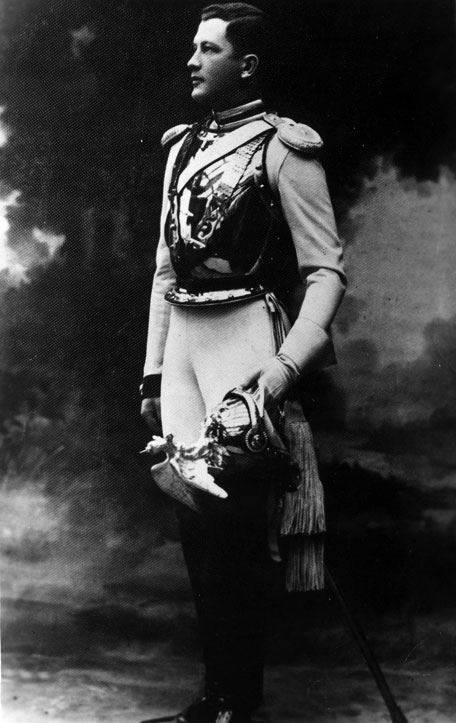






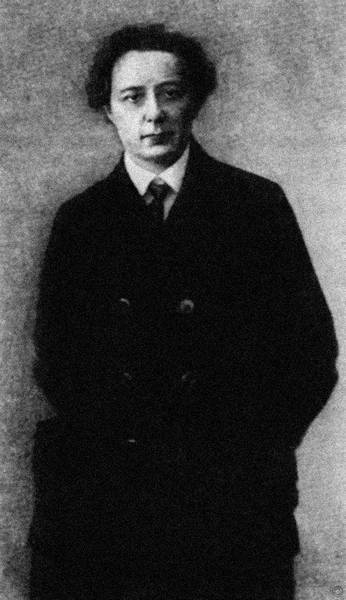

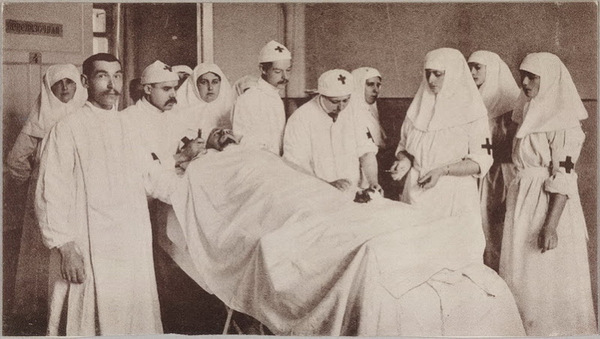













































































 Вчера, в Царском Селе у стен Софийского собора состоялось торжественное открытие памятника сыну Великого князя Константина Константиновича Романова князю Олегу Константиновичу, который был участником Первой мировой войны и, получив в ходе одного из сражений смертельное ранение, отдал свою жизнь за Веру, Царя и Отечество.
Вчера, в Царском Селе у стен Софийского собора состоялось торжественное открытие памятника сыну Великого князя Константина Константиновича Романова князю Олегу Константиновичу, который был участником Первой мировой войны и, получив в ходе одного из сражений смертельное ранение, отдал свою жизнь за Веру, Царя и Отечество.















































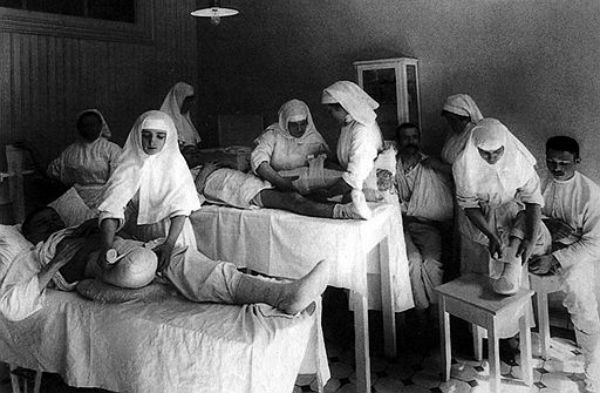



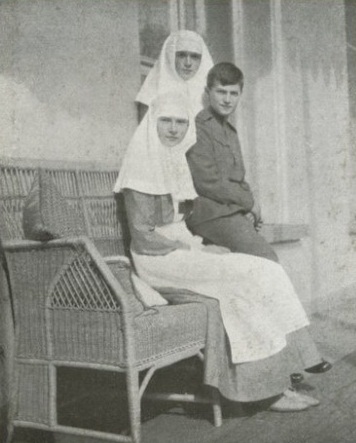







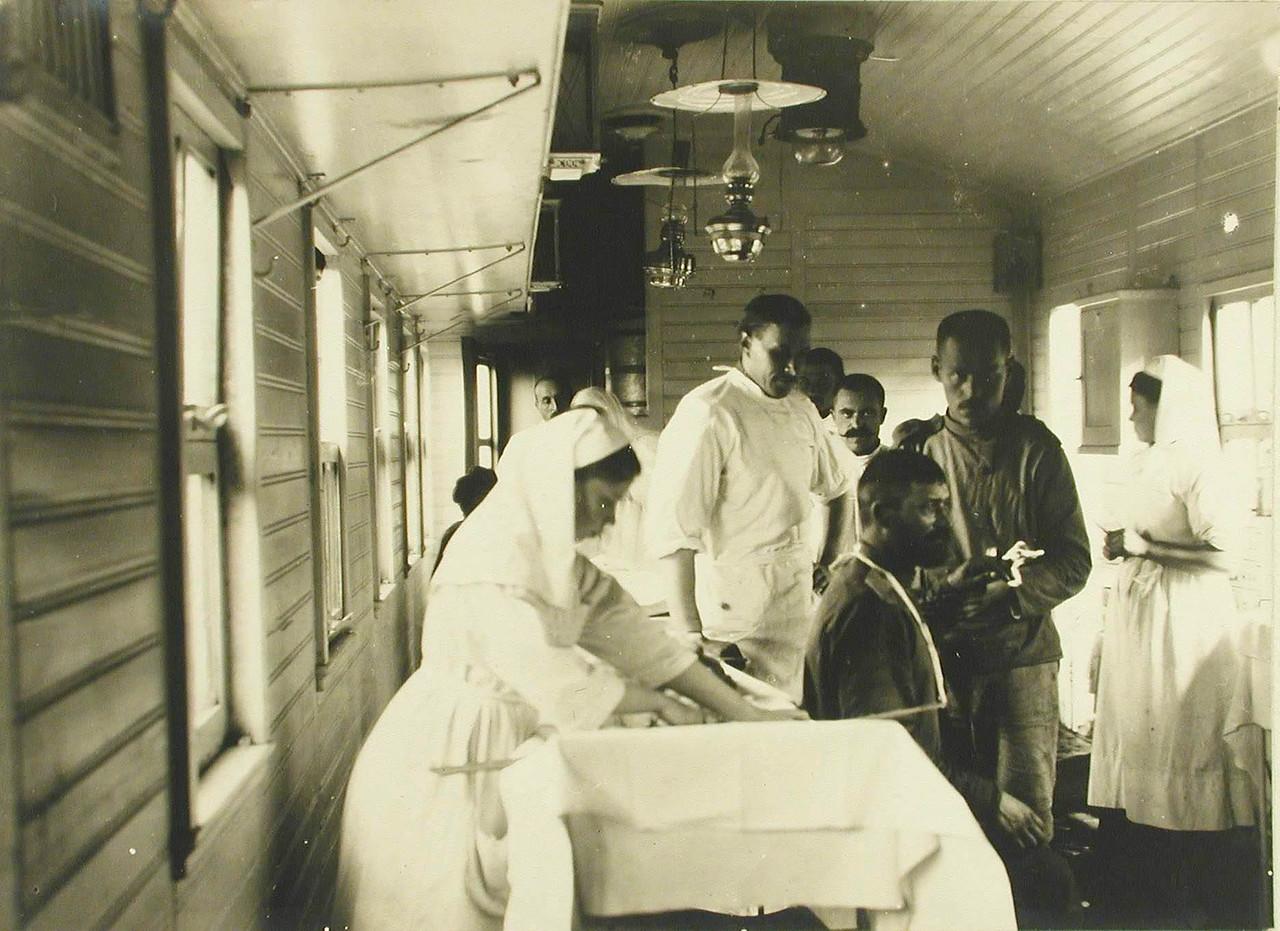
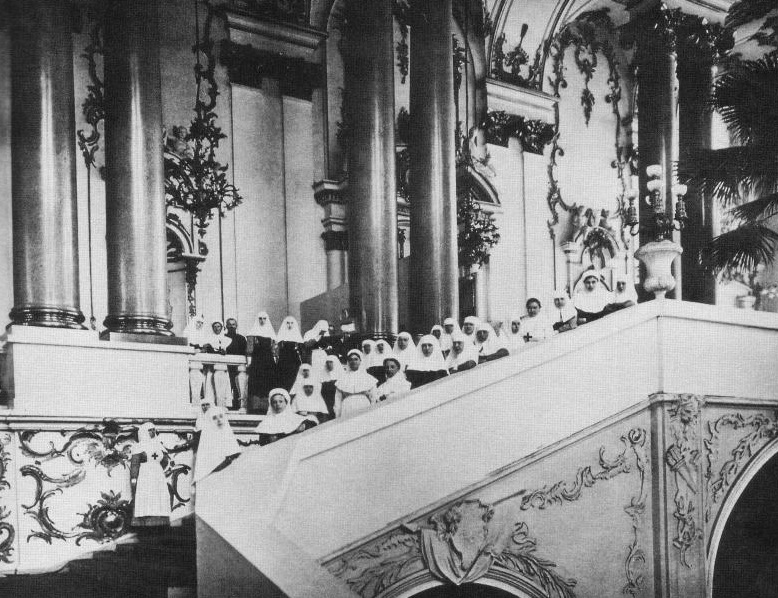



 Начальником лазарета в его славные годы был иеромонах Николай, в то время единственный в России монах–врач. За его плечами были и Военно–медицинская, и духовная академии, опыт работы доктором на Николаевской железной дороге, ассистентом на акушерско–гинекологической кафедре. Как духовное лицо он, конечно, идеально подходил на новую должность. Большей частью отец Николай занимался административной работой, за собой оставил лишь две небольшие, но прекрасно оборудованные палаты как почетное отделение, куда попадали лишь те раненые, кого он сам выбирал.
Начальником лазарета в его славные годы был иеромонах Николай, в то время единственный в России монах–врач. За его плечами были и Военно–медицинская, и духовная академии, опыт работы доктором на Николаевской железной дороге, ассистентом на акушерско–гинекологической кафедре. Как духовное лицо он, конечно, идеально подходил на новую должность. Большей частью отец Николай занимался административной работой, за собой оставил лишь две небольшие, но прекрасно оборудованные палаты как почетное отделение, куда попадали лишь те раненые, кого он сам выбирал. «Ведь почему я люблю простого солдата? — рассуждал Саул Гитманович. — Он просто больной и позволяет мне быть просто врачом. Я делаю то, что обязан согласно долгу и медицинским знаниям. Являюсь над ним властью. И прекрасно то, что поступающий сюда понимает: прежде всего он солдат и только потом раненый. Больной вообще — подлец и делает из врача мошенника: будь кудесником, знатоком, шарлатаном — лишь бы я поправился... Поэтому я люблю военный лазарет: здесь у меня нет нужды в каком–либо притворстве». С какими только людьми не сталкивала его судьба в Минске — с простодушными солдатами, заносчивыми офицерами, с хитрецами, всеми силами пытавшимися увильнуть от передовой... Одна встреча особенно глубоко запала в память. Как–то в лазарет поступили трое солдат и офицер. Все — с ранениями глаз. Причем самая трагическая ситуация была у офицера — пуля прошла оба глаза, он навсегда потерял зрение. Подвернулась оказия — и Черниховский отправил всех четверых в специальный глазной госпиталь. Придет время — и Саул Гитманович еще раз столкнется с этим слепым офицером, совершенно случайно. Тот подойдет к нему в больших черных очках, опираясь на руку солдата. И будет смотреть на жизнь философски: «Если бы ранили в голову, было бы еще хуже» А потом признается, что... заново научился читать. С помощью азбуки для слепых. «Во второй раз прочел «Муму» и только сейчас получил удовольствие от произведения», — при этих словах сердце доктора–поэта сжалось...
«Ведь почему я люблю простого солдата? — рассуждал Саул Гитманович. — Он просто больной и позволяет мне быть просто врачом. Я делаю то, что обязан согласно долгу и медицинским знаниям. Являюсь над ним властью. И прекрасно то, что поступающий сюда понимает: прежде всего он солдат и только потом раненый. Больной вообще — подлец и делает из врача мошенника: будь кудесником, знатоком, шарлатаном — лишь бы я поправился... Поэтому я люблю военный лазарет: здесь у меня нет нужды в каком–либо притворстве». С какими только людьми не сталкивала его судьба в Минске — с простодушными солдатами, заносчивыми офицерами, с хитрецами, всеми силами пытавшимися увильнуть от передовой... Одна встреча особенно глубоко запала в память. Как–то в лазарет поступили трое солдат и офицер. Все — с ранениями глаз. Причем самая трагическая ситуация была у офицера — пуля прошла оба глаза, он навсегда потерял зрение. Подвернулась оказия — и Черниховский отправил всех четверых в специальный глазной госпиталь. Придет время — и Саул Гитманович еще раз столкнется с этим слепым офицером, совершенно случайно. Тот подойдет к нему в больших черных очках, опираясь на руку солдата. И будет смотреть на жизнь философски: «Если бы ранили в голову, было бы еще хуже» А потом признается, что... заново научился читать. С помощью азбуки для слепых. «Во второй раз прочел «Муму» и только сейчас получил удовольствие от произведения», — при этих словах сердце доктора–поэта сжалось...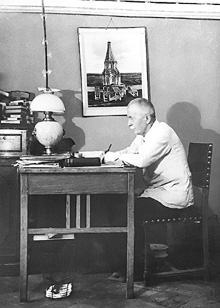 Морозов — самая незаурядная личность среди братьев милосердия Первого Серафимовского. Ему непросто было пробиться в жизни. Сын простой крестьянки, он рано осиротел и одиночество привело его в Александро–Невскую лавру послушником. Там было непросто — «всюду насмешки», писал Федор, пока смышленого юношу не приметил петербургский митрополит Антоний, сделав иподиаконом. В итоге Морозов смог получить археологическое образование, побывать за границей, познакомиться со многими выдающимися деятелями науки и искусства. Когда началась война, послушник Федор увидел свое призвание в деятельной помощи истекающему кровью ближнему своему и сменил подрясник на гимнастерку и халат санитара.
Морозов — самая незаурядная личность среди братьев милосердия Первого Серафимовского. Ему непросто было пробиться в жизни. Сын простой крестьянки, он рано осиротел и одиночество привело его в Александро–Невскую лавру послушником. Там было непросто — «всюду насмешки», писал Федор, пока смышленого юношу не приметил петербургский митрополит Антоний, сделав иподиаконом. В итоге Морозов смог получить археологическое образование, побывать за границей, познакомиться со многими выдающимися деятелями науки и искусства. Когда началась война, послушник Федор увидел свое призвание в деятельной помощи истекающему кровью ближнему своему и сменил подрясник на гимнастерку и халат санитара.














