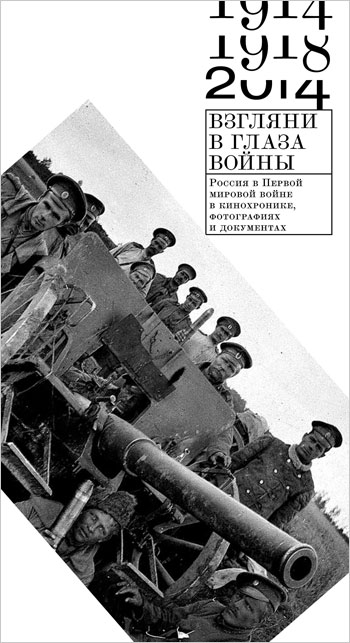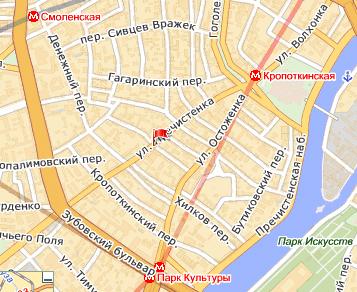Общественная благотворительность иркутян в годы Первой мировой войны |
Первая мировая война 1914–1918 гг. является важной вехой в истории всего человечества. Она завершила собою целую историческую эпоху, привела к крушению Российской империи, Германской империи, Австро-Венгерской монархии, Османской империи. На карте мира появились новые государства: Польша, Чехословакия, Югославия и др. произошел радикальный передел мира. Возник новый мировой порядок. Война отличалась невиданным прежде размахом, носила тотальный характер и привела к огромным человеческим жертвам и разрушениям. Особое значение война имела для Российского государства. Она стала тяжелым испытанием для страны, потерявшей на фронтах около двух миллионов человек. Ее трагическими последствиями были революция, разруха, гражданская война и гибель императорской России. К сожалению, именно в России в силу целого ряда объективных и субъективных причин Первая мировая война во многом оказалась войной малоизвестной, ее история полна искажений и умолчаний, ее герои остались незаслуженно забыты. Именно поэтому проблема исследования общественной благотворительности жителей г. Иркутска в годы Первой мировой войны так актуальна на сегодняшний день. С самого начала война вызвала подъем патриотических чувств не только среди сибиряков, но и всего населения Российской империи. Однако вследствие ряда неудач, произошедших на фронтах, и возникновения в стране экономических трудностей, отношение к ней постепенно менялось. Зарождались и нарастали антивоенные, нередко смешанные с антиправительственными, настроения. И в то же время основная часть общества продолжала прилагать усилия к тому, чтобы страна вышла из войны победительницей. Влияние, оказанное войной на население областей, находившихся в глубоком тылу, безусловно, отличалось от воздействия ее на жителей районов, оказавшихся в зоне военных событий. Но и живущие за тысячи километров от фронта люди не могли оставаться лишь безучастными наблюдателями того, что происходило на «театре военных действий». В годы войны была очень развита общественная благотворительность. Еще в мирное время это было одной из форм общественной деятельности. В тяжелое для России время увеличилось количество людей, которые нуждались в общественном благодеянии. Так в Иркутске уже с первых дней войны проводился сбор средств на благотворительность. Впоследствии в городе начали проводиться различные мероприятия, на которых собирались средства как для помощи фронту, так и для беженцев и семей военнослужащих. Так, уже в июле 1914 г. товарищество «Второва» пожертвовало 100 тыс. руб. в Московский биржевой комитет в пользу больных и раненых воинов. 1 августа Н. Т. Зверев пожертвовал на нужды, вызванные войной, 10000 руб. 9 августа братья Замятины пожертвовали так же 10000 руб. комитету по обеспечению семей призванных на войну из запаса и ополчения [1, с. 194]. 20 сентября 1914 г. В Иркутске прошел «День флажков союзных армий» — сбор в пользу семей запасных и ополченцев, а также больных и раненых воинов. Было собрано 12107 руб. 78 коп. [1, с. 195–196]. В Иркутске также открывались различные заведения для семей воинов. 24 августа Знаменское попечительство о бедных на Якутской улице открыло бесплатную столовую для детей семей запасных. 29 августа на углу улиц 2-й Солдатской и Кутайсова состоялось открытие приюта-яслей для детей запасных, призванных в ряды армии. 25 сентября по Ямской улице И. Ф. Люблинской открыт приют-ясли для детей запасных. Тут же предоставлено помещение под бесплатные квартиры для жен запасных и ополченцев. 15 февраля 1915 г. по Спасо-Лютеранской улице в доме Корзакова состоялось открытие убежища для раненых воинов, устроенное Иркутским комитетом союза городов. С 15 февраля по 1 сентября 1915 г. во временном приюте Иркутского комитета Всероссийского союза городов для воинов, возвращающихся с войны, перебывало 562 человека, пробывших 3415 дней, и 8 беженцев, живших 140 дней. Отпущено 3555 обедов. Расход по содержанию приюта — 2392 руб. 81 коп. [1, с. 201–202]. 20 февраля прошел «День Солдатского погона». Сбор в пользу раненых воинов, начавшийся на улицах Иркутска после молебствия в городской управе, принес более 8000 руб. [1, с. 202]. В марте Комиссия по оказанию трудовой помощи семьям запасных и ополченцев организовала бюро для подбора возможности заработка для семей воинов. Уже с первых дней войны иркутяне приняли участие в организации медицинской помощи воинам. 1 августа 1914 г. в Мариинской общине сестер милосердия открылись бесплатные курсы ухода за больными и ранеными. А на следующий день (2 августа) в Москву выехали 30 сестер милосердия. Часть их принадлежала общине, а остальные являлись слушательницами курсов прошлого года. 11 сентября в общественном собрании состоялось заседание местного комитета Красного Креста, на котором обсуждался вопрос об устройстве на театре военных действий Иркутского лазарета для раненых и больных воинов. Предполагалось оборудовать лазарет на 50 коек, что обойдется 14000 руб., а стоимость содержания одной койки в месяц должна была составить 100 руб. «Пока обеспечено содержание 17 коек лазарета, — писал вскоре иркутский «летописец» Н. С. Романов. — С. Н. Родионов пожертвовал 4500 руб. на содержание пяти коек в течение 6 месяцев и т. д». [1, с. 195]. 26 сентября Иркутский лазарет благодаря щедрому притоку пожертвований (по 24 сентября поступило 18969 руб. 85 коп.) получил возможность на оборудование 100 коек для солдат и 10 — для офицеров. К 30 сентября в лазарет поступило 41339 руб. 47 коп. [1, с. 196]. 22 января 1915 г. в общественном собрании состоялось общее собрание членов Иркутского отделения комитета Красного Креста. На собрании было постановлено ассигновать 5000 руб. на открытие при Мариинской общине лазарета в 14 коек. Согласно данным Н. С. Романова, с 1 сентября 1914 г. по 21 января 1915 г. в Иркутское отделение комитета поступило 115623 руб. 4 коп., расход составил 49750 руб. 95 коп., остаток — 65872 руб. 9 коп. [1, с. 200]. Поступали пожертвования и от различных объединений, и от групп лиц, связанных определенным видом деятельности: профессионально, сферой увлечений и т. п. Так, например, 6 ноября 1914 г. иркутские извозчики пожертвовали на Иркутский госпиталь Красного Креста дневную выручку (было собрано 1583 руб.) [1, с. 197] 9 декабря парикмахеры Иркутска пожертвовали дневной заработок в пользу лазарета Красного Креста и населения, разоренного войной. Сбор составил 360 руб. [1, с. 198]. 3 января 1915 г. на собрании членов учительского общества было постановлено ходатайствовать об учреждении филиального отделения комитета помощи жертвам войны, функционирующего при газете «Школа и жизнь». Было решено оказывать поддержку семействам учителей-воинов, не состоявших членами общества, и ассигновать на это 100 руб. из расходного капитала. 18 января в городской управе состоялось собрание домашней прислуги Иркутска для рассмотрения вопроса о помощи раненым и больным воинам армии. Собирались средства и для поддержки национальных групп. 16 января 1915 г. в городской управе прошло собрание армян для организации помощи армянскому населению, пострадавшему от военных действий на турецком театре войны. 10 октября 1915 г. колонией латышей был образован Иркутский отдел общества вспомоществования «Родина», цель которого — оказание помощи беженцам-латышам. Проводились сборы для жителей пострадавших от войны территорий и даже для союзников. В ноябре 1914 г. производился сбор теплых вещей и других предметов для населения Польши. В этом же месяце бельгийскому консулу М. Стравинскому было передано 3609 руб. в помощь разоренной Бельгии [1, с. 197]. Тогда же в Иркутске был организован Комитет по сбору пожертвований для населения, пострадавшего от неприятельского вторжения. 2 декабря в пяти вагонах были отправлены теплые и другие вещи для воинов и населения Польши. Они были упакованы в 557 ящиков, общий вес которых составил 1707 пудов. Для сопровождения этого груза был назначен С. П. Курбатов. 24 ноября в городской управе состоялось заседание Иркутского комитета союза городов при участии члена Государственной думы С. В. Востротина, который призвал организовать в Иркутске филиальное отделение созданного в Петрограде Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам. В отделение записалось 30 человек. А правление товарищества Второва пожертвовало в Сибирское общество для подачи помощи раненым воинам 10000 рублей. Н. А. Второв лично передал 5000 руб. Еще 2500 руб. правление товарищества Второва перечислило на нужды населения [1, с. 197–198]. 16 ноября 1915 г. общее собрание членов 1-го общественного собрания Иркутска постановило пожертвовать на постройку двух бараков для беженцев 10 тыс. рублей, населению Сербии и Черногории 400 рублей, на противогазы 500 руб. [1, с. 211]. Патриотические чувства в первые месяцы войны поддерживались проведением различных манифестаций. Например, 22 октября 1914 г. состоялась манифестация для встречи на вокзале японского отряда Красного Креста. А 28 октября, после молебствия в кафедральном соборе, состоялась патриотическая манифестация учащихся всех училищ. Проводились и мероприятия иного характера. Так, 19 октября в зале музея Иркутского географического общества прошла лекция И. И. Серебренникова «Война 1914 г. и ее размеры» [1, с. 196]. С 25 января по 9 февраля 1915 г. в музее Географического общества прошла выставка «Война и печать», организованная И. И. Серебренниковым. Выставку посетило 2500 человек, валовой сбор составил 340 руб. [1, с. 201]. 25 января 1915 г. Иркутский комитет союза городов в пользу больных и раненых воинов, возвращающихся с театра военных действий, устроил вечер-монстр, при проведении которого было получено 2814 руб. 85 коп. дохода (расход составил 677 руб. 75 коп.) [1, с. 201]. 1 февраля в общественном собрании состоялся патриотический концерт М. Д. Агреневой-Славянской. 10 февраля там же иркутской присяжной адвокатурой был устроен вечер в пользу семей запасных и ополченцев Иркутской губернии. 22 августа в пассаже братьев Б. и М. Юцисов военно-промышленным комитетом открыта выставка предметов снаряжения и вооружения войск. 3 сентября Иркутским отделением помощи пострадавшим на войне солдатам и их семействам в общественном собрании устроен симфонический концерт на усиление средств приюта для сирот воинов. В концерте, организованном В. Н. Булатовым, выступал оркестр из 80 человек. Он был сформирован И. П. Райским, который привлек к участию в нем музыкантов двух военных духовых оркестров [2, с. 147]. В первые месяцы войны в Иркутске появляются беженцы из западных районов России. Они пополняют состав горожан. Вот одна из записей Н. С. Романова за 1915 г.: «24 августа прибыла вторая партия беженцев 80 человек — латыши, евреи» [1, с. 207]. 22 октября 1915 г. состоялось открытие приюта-убежища для беженцев по Троицкой улице, № 30, оборудованного на средства Троицкого приходского попечительства. 28 октября — 5 ноября прошел фургонный сбор теплых вещей, белья и других предметов для беженцев. Многие училища, иллюзионы Дон Отелло и Ягджоглу были отведены под постой беженцев. 12 декабря Детская столовая архиепископа Тихона открыла приют для девочек-беженок (на 17 человек). Только в 1915 г. в Иркутске осело до 6,5 тыс. беженцев, в большинстве своем женщин, детей, стариков. Еще 3,8 тыс. беженцев пополнили город в следующем году. Всех их надо было устроить на жительство, накормить, одеть. Среди них были русские, поляки, латыши [3, с. 144]. Иркутский комитет союза городов с августа по декабрь 1915 г. израсходовал на расквартирование беженцев 29669 руб. 57 коп. [1, с. 207]. Кроме того, достигают Иркутска и первые военнопленные. С течением времени их поток заметно усиливается. В районе военного городка были созданы лагеря для военнопленных немцев, венгров, чехов, австрийцев. 2 января 1915 г. Н. С. Романов записал, что «в больнице переселенческого пункта находятся несколько военнопленных турок, германцев и австрийцев» [1, с. 199]. 29 декабря 1915 г. в Иркутск прибыл член Государственной думы А. Н. Русанов, делегированный комитетом по оказанию помощи военнопленным для организации в Сибири и на Дальнем Востоке отделов этого комитета. 30 декабря, в зале городской думы, А. Н. Русанов устроил совещание, на котором рассматривался вопрос об оказании помощи военнопленным-соотечественникам. В апреле 1915 г. в Иркутске началось строительство Кадетского корпуса. Подряд на строительство взяли Жигалов и Михалев. Из-за военного времени строительные работы шли очень тяжело. В связи с мобилизацией, рабочих рук не хватало, и подрядчики использовали на строительстве китайских рабочих. Их было около 200 человек. Кроме них работали около 100 немецких военнопленных. Строили до февраля 1917 г., когда, вследствие революционных событий, стало не до строительства [4, с. 15]. Не забывали в Иркутске и о русских солдатах, попавших в плен. Так, например, 16 ноября 1915 г. общее собрание членов 1-го общественного собрания Иркутска постановило пожертвовать на пособие русским военнопленным 2000 руб. [1, с. 211]. Первая мировая война оказала определенное влияние на развитие иркутской промышленности. В связи с подорожанием сырья и нехваткой рабочих рук закрылся ряд мелких и средних предприятий, сократилось производство на многих крупных предприятиях. В 1910 г. в Иркутске было создано объединение мукомолов «Торговый дом С. И. Белицкова и К°», преобразованное в 1915 г. в «Иркутское мукомольное товарищество на паях» с первоначальным капиталом в 300 тыс. руб. Основателями его были владельцы крупных иркутских паровых мельниц С. И. Белицкий, В. М. Посохин, З. И. Помус и Я. Д. Фризер. Товарищество сосредоточило в своих руках почти 90 % помола зерна в Иркутской губернии. В 1915 г. возникло еще два крупных акционерных общества. Иркутский купец Голубев, крестьянин Борисов и можайский купец Трещетников учредили «Акционерное общество Иркутского кирпичного завода» с капиталом в 500 тыс. рублей. Общество ставило целью развивать кирпичное производство, строить дома и брать строительные подряды. Еще в 1912 г. было основано «Сибирско-Монгольское торгово-промышленное акционерное общество», учредителями которого стали иркутские купцы Кринкевич, Патушинский, Посохин и управляющий местной конторой Государственного банка Шостакович. Общество занималось закупками в Монголии скота и сырья для кожевенной промышленности. В 1915 г. оно было преобразовано в «Сибирмонгол» и открыло в Иркутске кожевенный завод, оборудованный по последнему слову техники. Завод был рассчитан на обработку 100 тыс. кож в год [3, с. 195]. Летом 1915 г. в Иркутске образован военно-промышленный комитет. 3 июля в городской управе состоялось первое заседание открываемого в городе комитета. Мастерская Г. М. Хейфеца в кооперации с мастерскими Александровкой центральной и Иркутской губернской тюрьмами (также шили нательное белье и платки) изготовили 82 500 ручных гранат, мастерские Байкальской переправы Забайкальской железной дороги — 15 000 снарядов к 90-мм бомбомету, литейно-механический завод П. К. Щелкунова в с. Черемхово — 8000 таких же снарядов, Тельминская суконная фабрика братьев М. М. и В. А. Белоголовых — 45000 конских попон, две мастерские училищ: Иркутского промышленного и ремесленного имени Н. П. Трапезникова — 28 токарных станков, а завод Щелкунова — еще столько же, все станки отправлены в Петроград для общества Франко-русских заводов, позднее училища изготовили 50 токарно-винторезных станков для Воронежского завода взрывателей. В округе изготовлено и сдано интендантству 190 000 солдатских полушубков, 1 700 000 шинельных ремней, 14 600 валенок, 570 000 подков и т. д. Бурный рост с техническим переоснащением пережила кожевенная промышленность, выпустив 218 079 пар сапог и 1605 пар полусапог. В целом же, например, в Иркутске к 1917 г. по сравнению с 1910 г. в 8 раз увеличивается число промышленных предприятий, в 5 раз — число работающих [5]. Война не могла не оказать влияния на экономическое положение иркутян. В городе стали расти цены на различные товары. 4 июля 1915 г. секретарь городской думы И. И. Серебренников выехал в Москву представителем Иркутской городской думы на съезд по борьбе с дороговизной. 14 июля 1915 г. в Иркутск прибыл полковник П. К. Козлов, командированный в Монголию для организации там закупа скота для военных нужд. На следующий день состоялось совещание с иркутскими мясоторговцами. «Вместе с тем увеличение военных заказов стимулировало развитие ряда производств, укрепило их материально-техническую базу и привело в отдельных отраслях к появлению монополистических объединений. Во многом это объяснялось тем, что Иркутску в эти годы была отведена роль одного из центров организации военной экономики на территории Сибири. С учреждением в 1915 г. Заводского Совещания Сибирского района именно в Иркутске решались вопросы мобилизации сибирской промышленности, выполнения и размещения военных заказов» [3, с. 194]. Таким образом, в 1914–1915 гг. жители Иркутской губернии, каждый на своем месте, приняли активное участие в помощи государству в противостоянии мировых держав начала XX века. Несмотря на связанные с войной экономические трудности, заметно повлиявшие на благосостояние большей части жителей Иркутска (как и всего населения Российской империи), благотворительная деятельность в городе не прекращалась. В ней по-прежнему принимали участие самые разные представители иркутского общества. 2 января 1916 г. воспитанницами младших классов второй женской гимназии И. С. Хаминова был устроен спектакль «Спящая царевна». Половина собранных средств была передана на подарки воинам [1, с. 213]. 5 и 6 марта 1916 г. стали «днями Ермака Тимофеевича». Сбор на пасхальные подарки воинам и семьям ратного ополчения и запасных составил 4425 рублей [1, с. 217]. 21–23 апреля состоялся сбор на нужды войны служащими иркутской почты, телеграфа и телефона. В общественном собрании прошел вечер-спектакль, организованный любительским драматическим кружком чинов почтово-телеграфного округа. В мае 1916 г. при канцелярии 11-го Сибирского стрелкового запасного полка производился прием жертвуемых металлов для нужд артиллерийского ведомства. В августе 1916 г. был открыт приют для безногих воинов, состоявший в ведении комитета великой княгини Марии Павловны. Продолжается проведение различных общегородских мероприятий, связанных со сбором средств на военные нужды. Так, 26 июня 1916 г. в Александровском сквере прошло гулянье в пользу комитета по оказанию помощи семьям запасных. Сбор от гулянья составил 5613 руб. 14 коп. и 2764 руб. 50 коп. составили отдельные пожертвования; всего, за вычетом расходов, было собрано 7700 руб. [1, с. 222]. Ряд концертов провел Иркутский симфонический оркестр. «Идея создания симфонического оркестра на основе военных духовых после отъезда И. П. Райского нашла еще более последовательное воплощение в деятельности Я. М. Гершковича. Иркутянин, происходивший из музыкальной семьи, он, завершив свое образование в Петербургской консерватории, вернулся в Иркутск и быстро приобрел репутацию энергичного пропагандиста музыкального искусства. Благодаря своему незаурядному дирижерскому дарованию, ему удалось в короткий срок организовать большой, слаженный военно-симфонический оркестр (состоящий из 50 человек), в котором объединились музыканты оркестров 9-го, 10-го, 11-го и 12-го Сибирских стрелковых запасных полков и струнники из числа любителей и воспитанников музыкальных школ, призванных в армию. Начав выступать с этим оркестром с 1 января 1916 г., Я. М. Гершкович до июня 1917 г. устроил в Общественном собрании 9 симфонических концертов, преимущественно с благотворительными сборами в пользу пострадавших на войне солдат и их семей. С 6 июня по 18 июля 1917 г. состоялось еще 13 концертов симфонического оркестра в Александровском сквере. За один год и 8 месяцев валовой сбор с этих концертов составил солидную сумму — 78 тыс. руб». [2, с. 148–149]. 9 февраля 1917 г. чинами интендантского ведомства Иркутского военного округа был устроен вечер в пользу общества повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям. К январю 1916 г. для детей беженцев были открыты школы: в поселке Иннокентьевском при Знаменском женском монастыре, при Князе-Владимирском монастыре, при отделении общества общедоступных курсов и при самом обществе курсов, при духовной семинарии и на детской площадке. Кроме этого, решено было открыть двухкомплектные школы в Знаменском предместье, Рабочей слободе, Глазково и на Троицкой улице, в общей сложности на 500 детей. Иркутский комитет союза городов для обеспечения беженцев открыл вещевой склад. Он представлял собой магазин собранного готового платья. Но решить вопрос об обеспечении беженцев одеждой комитет союза городов не смог, и в дальнейшем его решало попечительство о беженцах. По сведениям Н. С. Романова, к 15 января 1916 г. в Иркутске было беженцев: 2905 мужчин, 3482 женщины, всего 6387 человек [1, с. 215]. «10 февраля открыт второй очаг для детей-сирот беженцев, помещение на 2-й Иерусалимской, № 29 (1-й на Кругобайкальской, № 19). В обоих очагах помещается до 40 детей круглых сирот или полусирот» [1, с. 216]. К июню 1916 г. в Иркутске было открыто 10 школ для беженцев, количество учащихся в которых составило 397 человек [1, с. 221]. «8 сентября. Приюты для сирот беженцев, бывшие в Глазково и по 2-й Иерусалимской улице, соединены в один и переведены на Якутскую ул., № 8. Призреваемые 55 детей от 3 до 14 лет обучаются делать игрушки из прессованной бумаги и почтовые конверты. Приют основан и существует благодаря инициативе полковника Н. А. Шестоперова» [1, с. 224]. Трудовой отдел (бюро труда) Иркутского комитета союза городов занимался трудоустройством безработных, семей лиц, призванных на войну, беженцев, имел мастерские (столярную, бондарную). Кроме того, в городе проводятся кружечные сборы. Например, 26 и 27 сентября 1916 г. прошел кружечный сбор, организованный Иркутским комитетом по оказанию помощи семьям запасных нижних чинов и ратников ополчения, призванных в действующую армию. Первая мировая война оказала серьезное влияние на состояние иркутского общества. Резкое повышение цен на все необходимые товары привело к значительному росту торговцев, выезжавших за товарами в Северный Китай. В 1915–1916 гг. «масса любителей легкой наживы, совершенно не занимавшихся раньше торговлей и не знакомых с таможенными формальностями, бросилась в Маньчжурию, откуда везла всевозможные товары… от пуговиц и гребенок до вязаных изделий, мануфактуры и прочее». А с 1917 г. через таможню пошли в основном обувь и продукты питания [3, с. 185]. Промышленное развитие Иркутска в годы Первой мировой войны приобретает более динамичный характер. «По сравнению с 1910 г. к 1917 г. почти в 8 раз увеличивается количество предприятий и в 5 раз число занятых на них рабочих. С работниками сферы услуг и ремесленниками численность рабочего класса в Иркутске составляла в 1917 г. 7780 человек, объединенных в 22 отраслевых профсоюза. Еще около 4 тыс. было занято на железной дороге. Большие военные заказы получила кожевенная промышленность. К их выполнению были подключены иркутские кожевенные заводы «Фукс и К°», «И. И. Гутман и сын», «Товарищество Бр. Макеевских», предприятия Сибирско-Монгольского акционерного общества, десятки более мелких предприятий и мастерских. Завод Фукса значительно модернизировал производство, введя в действие несколько паровых машин и электродвигателей, и поднял производительность в два раза, доведя ее до 15 тыс. кож в год. Многочисленные заказы на металлические изделия, сыромятные ремни, пиломатериалы получили Металлический завод Мокржицкого, мастерские «Товарищество Байкальского пароходства и торговли», шорная мастерская Бурштейна, металлоторговая фирма братьев Бревновых, лесопильный завод Курбатова и др. Для выполнения военных заказов были приспособлены мастерские при иркутских промышленном и ремесленном училищах, военно-обозные мастерские окружного интендантства. Всего к работам по обеспечению действующей армии и местных воинских частей были привлечены около 40 иркутских крупных и средних предприятий города и десятки ремесленных мастерских» [3, с. 194]. Несмотря на то, что количество фабрично-заводских предприятий в Иркутске к 1917 г. увеличилось, абсолютное большинство из них носило ярко выраженный кустарный характер, имело незначительный денежный оборот и малую численность рабочих (в среднем по 5–10 чел.). Большая часть населения города не была связана с промышленностью, а занималась торговлей, огородничеством и ремеслом. Тем не менее, к 1917 г. Иркутск значительно увеличивает свой промышленный потенциал. Таким образом, в годы Первой мировой войны деятельность иркутян, связанная с войной, ее нуждами, не затихает. Экономические трудности, испытываемые страной, безусловно, наложили отпечаток на эту деятельность, но активность иркутян в помощи фронту не прекращается и в сложный для страны революционный период. Литература: Романов Н. С. Летопись города Иркутска за 1902–1924 гг. / Сост. Н. В. Куликаускене. — Иркутск: Вост.-Сиб. книжное изд-во, 1994. — 560 с. Харкеевич И. Ю. Музыкальная культура Иркутска. / Науч. ред. Я. М. Гришман. — Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1987. — 280 с. Иркутск в панораме веков: Очерки истории города / Отв. ред. Л. М. Дамешек. — Иркутск, 2002. — 512 с. Кинщак В. Кадеты и юнкера / В. Кинщак // Земля Иркутская. — № 4. — Иркутск, 1995. — С. 11–16. Новиков П. А. Сибирские стрелки в первой мировой войне / П. А. Новиков // Известия АлтГУ. — 4–3 (60). — Барнаул, 2008. — С. 187–192. Основные термины (генерируются автоматически): иркутск, мировая война, Иркутский комитет союза городов, Общественное собрание, война, Красный Крест, беженец, городская управа, оказание помощи, воин. Ключевые слова Первая мировая война, благотворительность, беженцы, И
Пожалуйста, не забудьте правильно оформить цитату:
Федорова Т. В., Степанов А. В. Общественная благотворительность иркутян в годы Первой мировой войны [Текст] // История и археология: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, февраль 2018 г.). — Краснодар: Новация, 2018. — С. 34-40. — URL https://moluch.ru/conf/hist/archive/290/13743/ (дата обращения: 28.01.2019).ttps://moluch.ru/conf/hist/archive/290/13743/
|
Метки: первая мировая война красный крест |
Женская благотворительность в годы Первой мировой войны |
Есть в русском языке одно очень теплое слово — милосердие. Образ женщины, православной христианки, в сознании многих русских людей неразрывно связан с этим понятием. Белые голубки... Так называли женщин, которые посвящали себя очень тяжелому, но прекрасному делу: служению людям в те минуты, когда к человеку приходит беда — болезнь. Сестры милосердия всегда воспринимали помощь ближнему как свой долг, принимали чужую боль как свою, были способны вынести тяжкие испытания и не потерять человечности и доброты. Ярким примером подвижничества, самопожертвования, мужества в тяжелейших условиях войны являлись русские сестры милосердия. 1 августа 2014 года будет отмечаться столетие дня начала Первой мировой войны. Знакомясь с историей, исследуя различные источники информации, Интернет-ресурсы, мы пришли к выводу, что милосердие в те годы проявляла Царская семья. [1] Первая мировая война обнажила множество социальных проблем, в том числе связанных с обеспечением обмундированием, организацией своевременной медицинской и финансовой помощи раненным и поддержкой их семей. Женщины из семьи императора Николая II активно взялись за их решение. Началось учреждение ряда комитетов: 14 сентября 1914 года заработал Комитет ее императорского высочества великой княжны Татьяны Николаевны для оказания помощи пострадавшим от военных действий; 10 января 1915 года — Особо уполномоченный комитет великой княгини Марии Павловны по снабжению больных и раненых воинов теплой одеждой; 10 мая 1915 года — Всероссийское общество здравия в память войны 1914–1915 годов под покровительством ее императорского величества государыни императрицы Александры Федоровны. Вдовствующая императрица Мария Федоровна открыла собственный склад для пожертвований в пользу больных и раненных воинов, куда поступали теплые вещи, которые затем переправлялась на фронт, великая княгиня Ксения Александровна была уполномочена Марией Федоровной от имени Всероссийского Красного Креста на сбор пожертвований для раненых. Благотворительностью занималась великая княгиня Елизавета Федоровна. [4] Консолидирующие функции выполнял Верховный Совет по призрению семей лиц, призванных на войну, а также семей раненых и павших воинов. Он осуществлял координационную деятельность по объединению усилий благотворительных организаций по всей стране и оказывал им финансовую помощь. Возглавила его императрица Александра Федоровна, которая по воспоминаниям П. Жильяра «не рассуждая, тратила свои силы, с тем пылом и страстью, которые вносила во все свои начинания». Она занималась созданием Царскосельского эвакуационного пункта, в который входило 85 лазаретов. Около 20 санитарных поездов, названных именами царственных особ, обслуживало эти лазареты, осуществляли подвоз раненных с полей сражений. Беспрецедентным поступком в русской истории стало решение императрицы Александры Федоровны работать вместе со старшими дочерьми Ольгой и Татьяной сестрами милосердия, ассистируя хирургам при операциях. Из «Очерка деятельности Царскосельского лазарета за первые три месяца войны» и из воспоминаний современников известно, что царица с дочерьми прошли для этого специальный курс у выдающегося доктора медицины княгини В. И. Гедройц, занимаясь по два часа в день и ежедневно практикуясь в лазарете. Учились они «как все», не подчеркивая своего особого положения в обществе, не требуя исключительных прав, сдавали общие для всех экзамены и многие отмечали вдумчивость и старательность, с которыми они отнеслись к выбранному делу. После окончания обучения они стали «знающими хирургическими сестрами, а Россия обогатилась тремя сердцами, неразрывно связанными с нею цепью пережитых, страданий, цепью, которая не может быть ни разорвана, ни забыта». В лазарете августейшие особы без каких-либо привилегий выполняли функции согласно полученной квалификации. Императрица распорядилась, чтобы Ольга Николаевна и Татьяна Николаевна поступили в отделение для низших чинов, приучая их к мысли о служении своему народу, а сама вместе с фрейлиной А. Вырубовой работала в отделении для офицеров. По воспоминаниям старшей сестры Дворцового лазарета В. И. Чеботаревой княжны занимались чисткой и стерилизацией медицинских инструментов, перевязками, готовили белье, бинты, убирали в палатах. Императрица часто ассистировала при операциях, подавая инструменты, «уносила ампутированные ноги и руки, перевязывала гангренозные раны, не гнушаясь ничем». При этом окружающие отмечали у сестер милосердия Романовых отсутствие высокомерия и доброжелательное отношение, как к солдатам, так и к персоналу лазарета. Во время войны Александра Федоровна отказалась от пошива новых платьев и носила в основном форму сестры милосердия, упростилось меню царского стола, все личные деньги четы Романовых пошли на благотворительность. Придворные автомобили и экипажи были отданы для перевозки раненых. Цветы из оранжерей, сладкое придворных кондитеров — все это направлялось в лазареты. [3] Императрица и ее дочери личным примером продемонстрировали всему обществу необходимость оказания помощи стране в трудные военные годы. Благодаря этому шагу аристократия активизировалась в делах благотворительности: под госпитали стали отдаваться особняки знати, многие представительницы высшего света пробовали себя в качестве сестер милосердия, оказывалась финансовая поддержка пострадавшим от войны со стороны всех слоев населения. Огромную роль работа царственных особ в лазаретах сыграла для поддержания патриотического духа солдат. Александра Федоровна и княжны в годы Первой мировой войны доказали верность России и своему народу. В 1914 году Великая княгиня Ольга Александровна, сестра Николая II, также ушла на фронт служить сестрой милосердия. Вскоре, на свои собственные средства, она построила госпиталь в Киеве. Ольга Александровна была шефом Ахтырского полка. Все раненые ахтырцы попадали к ней в госпиталь, и она собственноручно обмывала больных, перевязывала раны. http://novostivl.ru/files/files/90/33990.jpg Рис. 1 Ольга Александровна Романова Для женщины ее положения Ольга Александровна была очень скромна. Как-то она посетила свой полк, и, обходя окопы, оказалась под австрийским артобстрелом. В те времена от сестер милосердия не требовалось находиться на передовых рубежах. За проявленную храбрость Великую княгиню наградили Георгиевской медалью, которую ей вручил начальник 12-й кавалерийской дивизии, генерал барон Карл Густав Маннергейм (впоследствии ставший президентом Финляндии). Ольга Александровна считала, что ничего героического в ее поступке нет, и, смутившись, прямо на вручении, положила медаль в карман своей куртки. Лишь по просьбе офицеров Ахтырского полка, уверивших ее, что, награждая шефа полка, награждается весь полк, она надела медаль на грудь. Во время первой мировой войны Императрица Александра Федоровна организовала особый эвакуационный пункт, куда входило 85 лазаретов для раненых воинов в Царском Селе, Павловске, Петергофе, Саблине и других местах. Многие из лазаретов были сооружены на собственные средства Императрицы. Ее старшие дочери, Ольга и Татьяна, возглавили комитет помощи солдатским семьям и беженский комитет. Для духовного утешения тяжелораненых была организована передвижная “походная” церковь, а выздоравливающим представлена пещерная церковь Дворцового госпиталя. Императрица повелела обратить новую церковь в храм-памятник, для чего разместить на ее стенах доски с именами всех прошедших через лазареты Царскосельского района воинов, награжденных за боевые отличия, и всех, в пределах района скончавшихся. 30 октября 1914 года в Екатерининском дворце был оборудован и освещен лазарет, куда также приходили августейшие сестры милосердия и ухаживали за ранеными. [2] Они постоянно посещали многочисленные лазареты Царского Села, Петербурга и окрестностей, императрица лично обходила раненых, благословляла иконами, осматривала операционные, беседовала с медицинским персоналом [6]. Освящение первого в Царском Селе Дворцового лазарета состоялось 10 августа 1914 года (церковь освятили в октябре). Первым его пациентом был корнет лейтенант гвардии Кирасирского Его Величества полка Н. К. Карангозов. Первым, но, увы — не последним. Германия объявила России войну 19 июля, а уже вечером 17 августа к Императорскому павильону Царского Села прибыл первый военно-санитарный поезд. Через 10 дней — еще один... Полевой Царскосельский военно-санитарный поезд № 143 Императорского величества Государыни императрицы Александры Федоровны предназначался для доставки раненых с фронта. Его канцелярия находилась в Федоровском городке Царского Села. Покровительствовала военно-санитарному поезду сама Императрица. Своим уполномоченным по поезду она назначила полковника, Дмитрия Николаевича Ломана. Он занимался формированием поезда и отвечал за всю его работу. Военно-санитарный поезд состоял из двадцати одного пульмановского вагона. Он был необычайно комфортабелен: синие вагоны с белыми крышами выглядели очень нарядно. Правда, после налета австрийской авиации крыши были перекрашены в защитный цвет. Поезд был оборудован по последнему слову науки и техники и содержался в безукоризненной чистоте и образцовом порядке. В конце апреля 1916 года, вскоре после призыва на военную службу, поэт Сергей Есенин был назначен санитаром в шестой вагон данного поезда. В его обязанности входило: поддержание чистоты и порядка в поезде, переноска на носилках тяжелораненых и больных и размещение их в вагонах, погрузка и выгрузка имущества, получение продуктов, раздача пищи и многое другое. После июньского отпуска в родное Константиново, Сергей Есенин вернулся в Царское Село и продолжил военную службу в канцелярии Феодоровского собора, исполняя одновременно обязанности санитара лазарета № 17 имени Великих Княжен Марии и Анастасии. Во время первой мировой войны немцы впервые применили удушливые газы, принесшие много страданий солдатам. Общество оперативно организовало в Москве и Петрограде мастерские по изготовлению средств защиты и вскоре направило на фронт около 10 миллионов противогазов-повязок и около 6 миллионов фильтровальных противогазов. Для борьбы с эпидемиями Российское Общество Красного Креста (РОКК) создало 36 санитарно-эпидемиологических и 53 дезинфекционных отряда, 11 бактериологических лабораторий. Для организации хирургической помощи сформированы летучие хирургические отряды. Для эвакуации раненых были также приспособлены госпитальные суда «Португаль», «Экватор», «Вперед» («Португаль» и «Вперед» были потоплены немцами), баржи. [5] Рис. 2 Сестры милосердия Российского Общества Красного Креста. 1916 г. Об объемах работы Красного Креста говорят цифры. Во время русско-турецкой войны в госпиталях Общества работало 430 врачей и 1 514 сестер милосердия и санитаров, во время Первой мировой войны в учреждениях РОКК трудилось 1 885 врачей, 15 325 сестер милосердия, 250 фельдшеров, 950 студентов и 35 852 санитара. Красный Крест России успешно претворял в жизнь девиз «Милосердие на поле брани». Литература: 1. «Августейшие сестры милосердия». М.: Издательство «Вече», 2006. 2. Мельник Т. Е. «Воспоминания о царской семье и ее жизни до и после революции». М.: Издательство «Анкор», 1993. 3. Бадя Л.В. Благотворительность в России. – М., 1993. 4. Паменцева С. Дамское попечительство, 1997. 5. Пастернак А. В. История общин сестёр милосердия //Благотворительность в России. Спб., 2002г 6. Шумигорский Е. С. Императорское женское патриотическое общество (1812–1912).Исторический очерк. СПб.,1912. Основные термины (генерируются автоматически): сестра милосердия, Ольга, мировая война, Великая княгиня, лазарет, Красный Крест, военно-санитарный поезд, Дворцовый лазарет, Российское Общество, Ахтырский полок. Узнать стоимость написания работы Оставьте заявку, и в течение 5 минут на почту вам станут поступать предложения! Select...
Пожалуйста, не забудьте правильно оформить цитату:
Тотаркулова Д. К. Женская благотворительность в годы Первой мировой войны // Молодой ученый. — 2014. — №11. — С. 288-291. — URL https://moluch.ru/archive/70/12094/ (дата обращения: 28.01.2019).https://moluch.ru/archive/70/12094/
|
Метки: первая мировая война красный крест |
Сестры милосердия Первой мировой войны |
Сестры милосердия Первой мировой войны
История Первой мировой войны хранит множество героических страниц, вписанных женщинами, и прежде всего сестрами милосердия Российского общества Красного Креста.
Читать

Госпиталь Красного креста при Минском благотворительном обществе Доброчинность, 1915
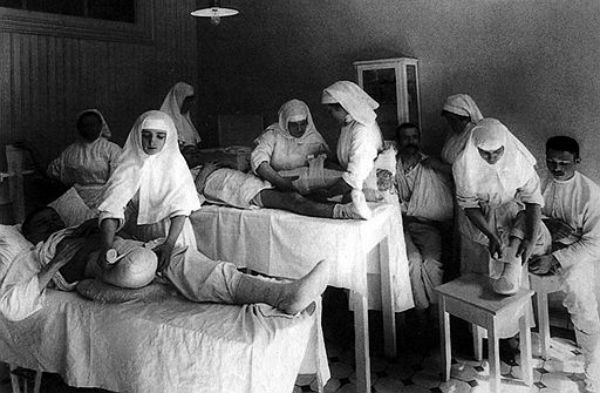

Военно-санитарный поезд великой княжны Анастасии Николаевны, 1916


Военно-санитарный поезд имени императрицы Марии Федоровны на перроне Николаевского вокзала. Санкт-Петербург, 1904 год
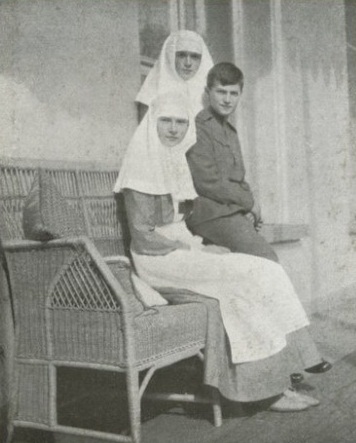
Великие Княжны Ольга Николаевна и Татьяна Николаевна сестры милосердия

«Белые голубки» России сестры милосердия в Первой Мировой Войне

Прием первых раненых в лазарет принца А. П. Ольденбургского. Петроград, 1915 год

Сестры милосердия, Первая мировая война

Николаев, 1915 год

Похороны погибшей сестры милосердия О. И. Шишмаревой

Царь и Царственные СестрыМилосердия

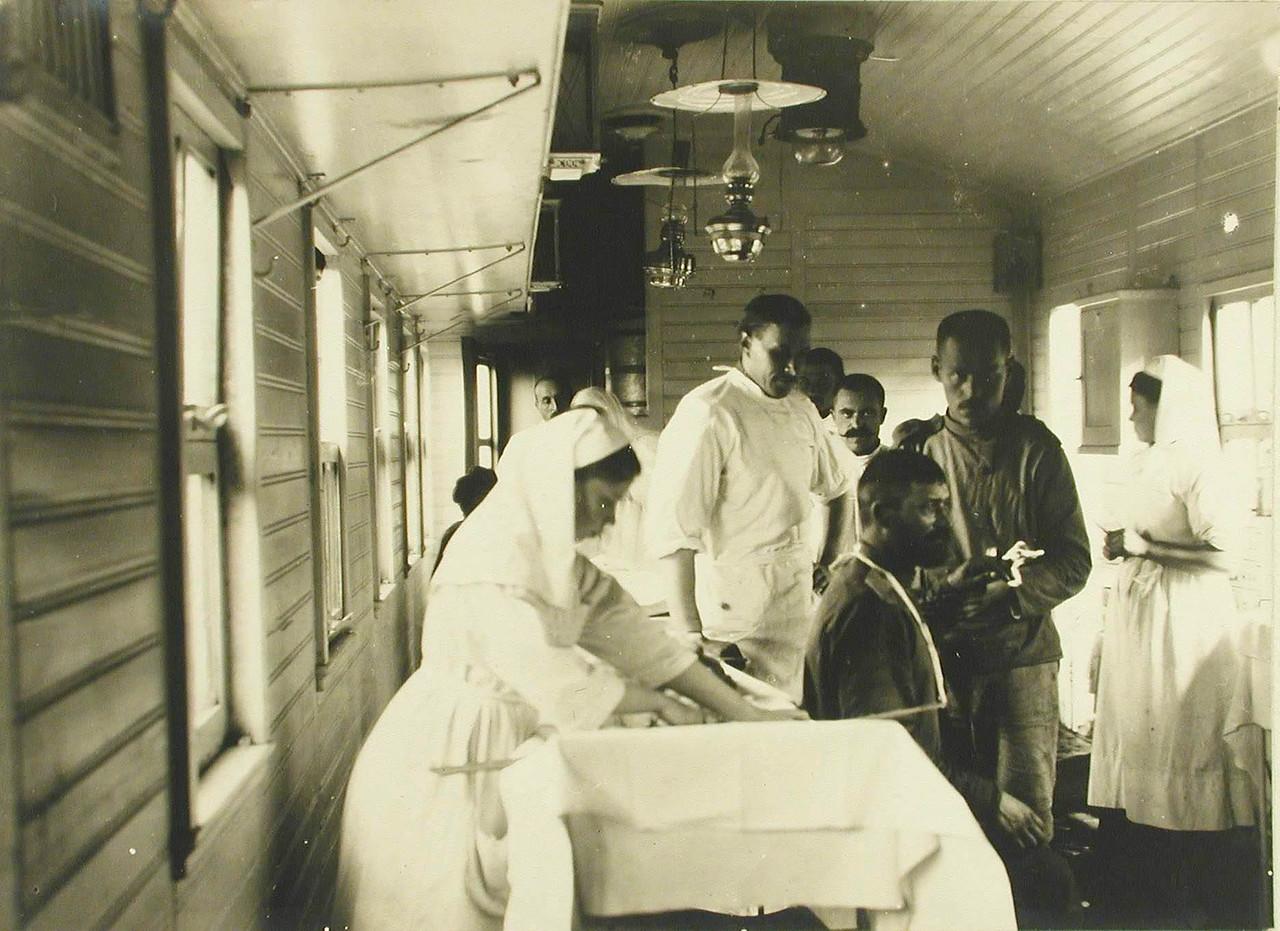
Перевозка рентгеновской станции на санитарном транспорте
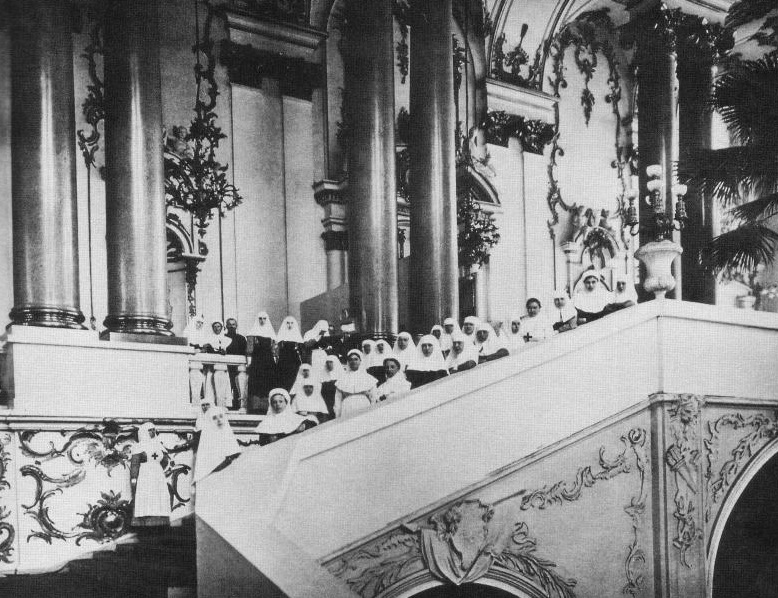
Сестры милосердия в Зимнем дворце
В 1916 году по официальным спискам на фронт было отправлено 17436 сестер, которые обслуживали более двух тысяч полевых и тыловых учреждений Красного Креста: 71 госпиталь, рассчитанный на 44600 человек, этапные и подвижные лазареты, 11 санитарных поездов, передовые отряды, санитарные транспорты, питательные и перевязочные пункты, дезинфекционные камеры, рентгеновские и летучие хирургические отряды, два плавучих госпиталя на Черном море, три бактериологические лаборатории, шесть полевых складов.
Поделиться
|
Метки: первая мировая война красный крест романовы лазареты |
Первая мировая в Беларуси: Под Сморгонью воевали писатели, а под Крево - женский батальон |
https://www.kp.by/daily/26263.3/3140972/
Первая мировая в Беларуси: Под Сморгонью воевали писатели, а под Крево - женский батальон
О том, что происходило на наших землях сто лет назад, какие следы в Беларуси оставила та война, рассказал фотограф и исследователь Владимир Богданов, который много лет изучает Первую мировую [карта знаковых мест]
Поделиться:
 Фотограф и исследователь Владимир Богданов, который много лет изучает Первую мировую. С его помощью мы составили карту, на которой отмечены знаковые места военной истории Беларуси.
Фотограф и исследователь Владимир Богданов, который много лет изучает Первую мировую. С его помощью мы составили карту, на которой отмечены знаковые места военной истории Беларуси.
Изменить размер текста:
Многие историки считают Первую мировую войну главной катастрофой ХХ века, которая изменила развитие всего мира, а спустя два десятилетия стала причиной еще более кровопролитной Второй мировой войны.
О том, что происходило на наших землях сто лет назад, какие следы в Беларуси оставила та война, рассказал фотограф и исследователь Владимир Богданов, который много лет изучает Первую мировую. С его помощью мы составили карту, на которой отмечены знаковые места военной истории Беларуси

Знаковые места военной истории Беларуси.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Впервые с начала Первой мировой войны немцы появились на территории нынешней Беларуси в феврале 1915 года под Гродно (тогда - территория Российской империи). Русские наступление отбили, но в августе-сентябре 1915 года немцы взяли Брест, Гродно, Вильно, Барановичи, а линия фронта разделила территорию нынешней Беларуси с севера на юг и застыла практически неподвижно на два с половиной года.
1. Свенцянский прорыв
Островец - Глубокое - Докшицы - Логойск - по этой траектории в сентябре 1915-го года наступали немцы . 10-дневную военную операцию назвали Свенцянский прорыв. Немцы двигались со стороны захваченного Вильнюса, их передовые кавалерийские отряды едва не дошли до Борисова, угрожая окружить Минск (по другим данным, их остановили под Смолевичами). Русские войска (Беларусь в то время входила в состав Российской империи) прорыв отбили, оттеснив противника.
2. Линия фронта
Пинск - Барановичи - Кореличи - Сморгонь - Мядель - Поставы - Браслав - здесь пролегла линия фронта (на карте выделена пунктиром) и держалась почти 2,5 года, с осени 1915 года до начала 1918-го. Здесь немцы строили бетонные оборонительные сооружения, дороги, узкоколейки. Русские считали, что выгнать противника - лишь вопрос времени. Поэтому строили оборонительные сооружения лишь из земли и дерева (бетонные, как исключение, обнаружены лишь в Вилейском районе). После ликвидации немецкого Свенцянского прорыва все последующие крупные операции на территории нынешней Беларуси (Нарочская, Барановичская и Крево-Сморгонская) - скорее, безуспешные инициативы России прорвать фронт.

После смещения линии фронта Царская ставка переместилась в Могилев, а в Барановичи прибыл германский император Вильгельм II. Ему устроили торжественную встречу с солдатами и офицерами.
3. Нарочь
Нарочанские болота весной 1916 года стали братской могилой для многих тысяч русских и белорусских солдат после самой кровопролитной Нарочской операции, которую еще называют 10-дневным побоищем.

Нарочь, 1917 год.
Наступление на немецкие позиции началось в марте, по просьбе союзников, чтобы не дать немцам перебросить войска во Францию, где решалась судьба Парижа. В это время началась ранняя оттепель и земля размокла. Солдаты тонули в болотах, в размытых дорогах, из-за ночных заморозков было много обморожений. По разным данным, только со стороны русских пришлось до 100 тысяч жертв. Ресурсов не жалели, до пяти тысяч солдат погибли в первые сутки операции на проволочных заграждениях в Мядельском районе (кое-где из земли проволока торчит до сих пор). У немцев была укрепленная линия обороны, пулеметы, русские же по снегу и воде пытались прорвать оборону противника. Наступление прекратили быстро, сообразив, что ни к чему, кроме бессмысленного кровопролития, оно не ведет. В Мядельском и Поставском районах - сохранилось много кладбищ, на которых похоронены жертвы Первой мировой войны.
4. Деревни Скробово и Городище
В Деревнях Скробово и Городище колючая проволока до сих пор напоминает о немецко-австрийских заграждениях, по которым в те годы пускали ток. Операцию лета 1916 года назвали Скробово-Городищенской, или Барановичской. Она прошла в два этапа: 13 июня в наступление бросили гренадеров, 2 июля начали с обстрела немецких позиций, затем пошли на штурм основные войска. Несмотря на значительное превосходство в живой силе, Российская императорская армия так и не смогла сломить немецко-австрийскую оборону, при этом общие потери российской стороны составили порядка 80 тысяч человек, в то время как у противника - около 13 тысяч.

Поржавевшая проволока времен Первой мировой сохранилась до наших дней.
5. Крево
Стены знаменитого Кревского замка обрушили во время Крево-Сморгонской операции лета 1917 года. Русские тщательно подготовились, собрали самое большое количество артиллерии - порядка 900 орудий. По немецким данным, русские лишь за три дня выпустили по ним 1,5 миллиона (!) снарядов. С немецкой стороны были серьезные потери. Но дали о себе знать революционные настроения русских солдат. Офицеров и командиров теперь выбирали, а по каждому наступлению голосовали: быть или не быть? Армия отказывалась идти на штурм, уговаривать приезжал сам Керенский. Здесь же под Крево, чтобы показать солдатам пример патриотизма, в бой вступает женский батальон Марии Бочкаревой, но армия не поддерживает слабый пол.
6. Сморгонь
Сморгонь после длительной 810-дневной обороны называли мертвым городом. Здесь сражались писатели Валентин Катаев и Михаил Зощенко, после они опишут жуткие события тех дней в своих воспоминаниях. Побывали на той войне Якуб Колас, Кондрат Крапива, Алексей Толстой, Александр Блок, Константин Паустовский, Михаил Булгаков.

Сморгонь.
7. Несвиж
Несвижский замок на время войны князья Радзивиллы превратили в госпиталь (подобные госпитали, где спасали русских солдат, располагались во многих белорусских усадьбах).
8. Усадьба Огинского
Залесье, бывшую усадьбу знаменитого композитора и дипломата Михаила Огинского переоборудовали под госпиталь. Именно там служила сестрой милосердия и выхаживала раненых младшая дочь Льва Толстого Татьяна, вернувшаяся в Ясную Поляну с тремя орденами.

Перевязочная. Март 1916 года.
9. Могилев
Могилев на два года (1915 - 1917 годы) стал неофициальной столицей Российской империи. В здании на Губернской площади Могилева, где до того находилось городское правление, расположился кабинет Николая II. Осенью 1915 года в Могилев пожаловала царская семья. В отличие от императора, который занял губернаторские покои, семья предпочла оставаться в собственном вагоне, для которого отвели на станции специальную ветку. С железнодорожной станцией связана еще одна, но уже трагическая история. Революционно настроенные солдаты в ноябре 1917 года выволокли из вагона и прямо на станции растерзали последнего главнокомандующего русской армии генерал-лейтенанта Николая Духонина.

Николай II с дочерью в садах Могилева, шутя, позирует перед фотографом, предлагая наследнице покурить.
10. Блиндажи по линии фронта
От Пинского района на юге и до Браславского района на севере Беларуси - примерно на 400 км вдоль линии фронта были построены тысячи пронумерованных блиндажей, многие из которых сохранились и по сей день.
11. Невель
Невель - местечко у южной границы нынешней Беларуси, где покончил с собой немецкий генерал. Во время Первой мировой войны про партизан не слышали, но ими тогда нарекали части регулярной армии, которые действовали на территории противника. Бойцы такого отряда под Невелем ночью напали на штаб немецкой дивизии и впервые за ту войну взяли в плен немецкого генерала. Он не снес позора, попросился побриться и покончил жизнь самоубийством.
12. Деревня Солы
В деревне Солы под Сморгонью 4 декабря 1917 года представители немецкого командования и российская делегация во главе с рядовым (большевиком) Щукиным подписывают перемирие на два месяца, но после революции 1917 года русская армия развалена, солдаты разбегаются, происходит самодемобилизация (а попросту - дезертирство) русской армии.
13. Брест
В Брест-Литовске 3 марта 1918 года подписан Брестский мир, который фактически означал поражение России в войне, а Беларусь оказалась поделенной на Западную и Восточную.
|
Метки: первая мировая война романовы российская императорская армия |
За несколько лет до катастрофы |
Меню
За несколько лет до катастрофы
Тютчева Софья Ивановна
Вступление
В Мурановском музее хранится роспись рода Тютчевых, составленная Н. И. Тютчевым и К. В. Пигаревым, внуком и правнуком поэта Ф. И. Тютчева. Об авторе предлагаемых ниже воспоминаний в ней сказано: «Софья Ивановна, фрейлина Высочайшего Двора, воспитательница дочерей Николая II (1907-1912), р. в г. Смоленске 3 марта ст. ст. 1870 г. † 31 августа (н. ст.) 1957 в Муранове, погребена в с. Рахманове, Моск. обл.».
Большая часть жизни Софьи Ивановны прошла в имении Тютчевых Мураново. Её мать Ольга Николаевна была дочерью литератора Н. В. Путяты и племянницей жены поэта Е. А. Боратынского. Отец Иван Федорович был младшим сыном поэта Ф. И. Тютчева. В большой и дружной семье Тютчевых царила атмосфера любви и внимания друг к другу: у детей – Софьи, Федора, Николая, Екатерины – было поистине счастливое детство.
Несомненно, что, кроме родителей, на них оказали влияние бабушка Эрнестина Федоровна, вдова поэта, и тетка Анна Федоровна, жена И. С. Аксакова. До замужества Анна Федоровна 13 лет провела при дворе, будучи фрейлиной императрицы Марии Александровны и воспитательницей вел. кн. Марии Александровны и вел. кн. Сергея Александровича. Она соединяла в себе большой ум, независимость суждений, преданность делу и любовь к детям. Эти качества проявила и Софья Ивановна, назначенная в 1907 году воспитательницей дочерей Николая II. Невозможность следовать своим педагогическим принципам, которые не разделялись императрицей Александрой Федоровной, послужила одной из причин её отставки в 1912 году. Вот как сказано о ней в дневнике одной из её современниц: «Она не подчинялась требованиям старших, вела с детьми царскими свою линию. Возможно, что её воспитательное направление и было более рациональным, но оно было не по вкусу, а она упорствовала, как все Тютчевы, была упряма и стойка… как все её однофамильцы… Она говорила, что не все разговоры можно вести при детях. В этом с ней не соглашались, и вот развязка – пришлось ей покинуть свой пост… из этого видно, что при дворе правду не любят и не хотят слушать» (А. Богданович. Три последних самодержца. М., 1990, с. 511). Современники помнили, как её другая тетка, камер-фрейлина Высочайшего двора, Дарья Федоровна Тютчева, «после катастрофы на Ходынском поле при встрече с вел. кн. Сергеем Александровичем не подала ему руки, обвиняя его в случившемся. Такова и С. И. Тютчева» (там же, с.511).
К сожалению, Софья Ивановна не оставила подробных записок об этой поре жизни, в отличие от А. Ф. Тютчевой, дневники и воспоминания которой были впоследствии изданы под названием «При дворе двух императоров» (М., 1928-1929 и М., 1990).
До 1907 года С. И. Тютчева была фрейлиной императрицы Александры Федоровны и, отличаясь деятельным и трудолюбивым характером, в свободное от дежурств время работала в различных благотворительных учреждениях, находящихся под покровительством вел. кн. Елизаветы Федоровны. Известно, что во время русско-японской войны она заведовала счетоводством на складе при Особом комитете помощи воинам в Большом Кремлевском дворце, где хранились пожертвования в пользу воинов. Работала она и в Обществе попечения детей неимущих родителей.
После отставки Софья Ивановна вернулась в Мураново. Тютчевы постоянно помогали мурановским крестьянам, знали их нужды и заботы. Софья Ивановна лечила крестьян, была крестной матерью многих их детей, материально поддерживала семьи, попавшие в беду. До сих пор мурановские старожилы вспоминают, как она выходила к ним с подарками на Пасху и Троицу.
Когда в 1920 году стараниями Н. П. Тютчева в мурановском усадебном доме был открыт музей, Софья Ивановна принимала участие в разборе обширного семейного архива, в составлении научных картотек. Она ухаживала за парком и садом, будучи уже в преклонных годах, почти потеряв зрение, пропалывала садовые дорожки, стоя на коленях.
В 1928 году М. В. Нестеров, гостивший подолгу в Муранове в разные годы, написал портрет Софьи Ивановны. Она изображена сидящей на балконе флигеля, где после революции жили Тютчевы.
О своём прошлом Софья Ивановна рассказывала друзьям и близким. Она рано начала терять зрение, и её сестра, Екатерина Ивановна Пигарева, помогала ей записывать эти воспоминания. Но работа ограничилась только публикуемым текстом. Рукопись, по которой печатаются воспоминания, хранится теперь в семье племянника С. П. Тютчевой – Николая Васильевича Пигарева, доктора сельскохозяйственных наук, профессора Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева.
Имена некоторых упомянутых С. И. Тютчевой героев воспоминаний, да и она сама, могут быть уже знакомы читателю по нашей публикации «Мураново в письмах Э. Ф. Тютчевой («Наше наследие», 1995, № 34). Подробные сведения о них можно найти в «Тютчевском альбоме» (М., «Дом», 1994), а также в журнале «Москва» (1993, № 11 и 1995, № 1).
К сожалению, богатейший фотоархив, связанный с пребыванием Софьи Ивановны при дворе, не сохранился: он – в числе многих писем и документов – был уничтожен семьей в начале 1930-х годов в ожидании грозившего обыска.
Текст приведен в соответствие с нормами современной орфографии.
Воспоминания
На 75-м году моей жизни захотелось мне восстановить в памяти некоторые эпизоды моего пребывания при дворе императора Николая II, где с января 1907 по июнь 1912 года я занимала должность воспитательницы его четырех дочерей, Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии.
В бытность мою во дворце я не вела ни дневников, ни каких-либо других записей. Поэтому сейчас я могу воспроизвести лишь немногие события, которым мне довелось быть свидетельницей.
Будучи фрейлиной императрицы Александры Федоровны, я получила уведомление, что назначаюсь на дежурство в Петергоф. Сюда я прибыла в субботу 28 июля 1906 года. Мне и моей горничной отвели две комнаты во Фрейлинском доме. В это время фрейлинами при императрице были княжна Елизавета Николаевна Оболенская, княжна София Ивановна Орбелиани и Александра Александровна Оленина, а обер-гофмейстериной светлейшая княжна Мария Михайловна Голицына. Но фактически при императрице были две фрейлины, Оболенская и Оленина, так как Орбелиани страдала болезнью спинного мозга и её возили в кресле.
На другой день, в воскресенье, я была приглашена к обедне в маленькую церковь в Александрии. После обедни на площадке Фермерского дворца был сервирован завтрак. В первые дни моего пребывания в Петергофе меня настолько редко вызывали к императрице, что я даже недоумевала, какова цель моего приезда. Но недели через полторы я стала сопровождать императрицу в автомобиле в Царское Село, где находились открытые ею лазареты и инвалидные дома. Вообще же это первое пребывание при дворе сохранилось в моей памяти очень туманно. Самым выдающимся событием этого времени было заключение Портсмутского договора, по случаю чего в церкви Петергофского дворца был отслужен торжественный молебен, который, однако, на всех присутствующих произвел очень тяжелое впечатление .
Заняты мы были также прибытием малолетнего персидского шаха с его свитой. Помню, что перед обедом, данным в его честь, гофмейстер граф Бенкендорф обратился к нам, фрейлинам, с просьбой быть очень любезными с нашими кавалерами – персами. Я изо всех сил старалась добросовестно исполнять возложенное на меня поручение и была крайне озадачена, когда мой угрюмый сосед заявил мне: «Quand je mange, n'aime pas parler»" .
В конце августа моё дежурство окончилось. При прощании императрица подарила мне хорошенькую брошку – гиацинт с бриллиантиками. После этого меня всегда приглашали ко двору всякий раз, что я бывала в Петербурге.
Осенью 1906 года мои родители поехали за границу. Я тоже провела с ними недели три и вернулась в Москву. На Рождестве я была в Муранове и тут получила письмо от княгини Голицыной, сообщавшей, что я назначаюсь на дежурство. Я поехала в Царское Село во второй половине января 1907 года и была тотчас же приставлена к старшим детям . Я присутствовала на их – уроках, гуляла с ними и наблюдала за тем, как они готовят уроки. В середине февраля мои родители вернулись в Москву и, отпуская меня повидаться с ними, императрица сказала, что просит меня остаться при детях. Я ответила, что сперва мне необходимо устроить мои дела в Москве, где я состояла во главе нескольких благотворительных учреждений, на что императрица выразила согласие.
Я приехала в Москву 2 марта и 3-го, в день моего рождения, получила от императрицы очень милую поздравительную телеграмму. Тогда же я получила своё официальное назначение, и с этого времени на моих визитных карточках к званию «фрейлина их И. В. Государынь Императриц» прибавилось «состоящая при августейших детях их Императорских Величеств».
Мой отпуск окончился 25 марта. В этот день я, мой отец и младшая сестра (моя мать не выходила после болезни) были приглашены великой княгиней Елизаветой Федоровной в церковь-усыпальницу при Николаевском дворце к обедне. Вечером я выехала в Петербург, а оттуда в Царское Село. С этого дня началась моя пятилетняя служба при дворе.
Так называемая «детская половина» помещалась на втором этаже Александровского дворца и занимала ряд смежных комнат. Здесь были две спальни, ванная, игральная, две классных и столовая. При детях были старшая няня Мария Ивановна Вишнякова, более известная под именем Мэри, особа лет тридцати с лишним, и её помощница Александра Александровна Теглова – Шура, лет 23-24-х, а также две молоденькие комнатные девушки Нюта Уткина и Лиза Эльсберг. При наследнике, кроме няни, находился матрос Деревенко.
Две старшие девочки спали в комнате с Шурой, а две младшие и наследник с Марией Ивановной.
Когда я поступила, моим воспитанницам было: Ольге Николаевне 11 лет, Татьяне – 9, Марии – 7 и Анастасии – 5. Распорядок дня был следующий. Дети вставали в 7 1/2 утра и в 8 часов получали утренний завтрак. Я приходила к ним около 9 часов, и мы отправлялись гулять, невзирая на погоду. Уже одетые для прогулки девочки заходили поздороваться с родителями. Возвращались мы к 10 часам, и две старшие садились учиться. Занимались они с небольшими перерывами до без четверти час, затем переодевались, и все четыре девочки шли завтракать к родителям. В это время я отправлялась к себе и снова была в детской в два часа. До четырех мы или катались, или гуляли пешком. В четыре пили чай, затем старшие готовили уроки, после чего, если не было занятий музыкой, они могли делать, что хотели. Часто в это время я им читала, а они или рисовали, или работали. Рукоделие у них очень процветало, занималась им даже маленькая Анастасия. В 7 часов старшие девочки готовились к обеду с родителями, а я была свободна и если и заходила в детскую вечером, то лишь по своему желанию.
Конечно, такой распорядок дня был в первый год моего пребывания при дворе. По мере того как дети подрастали, занятия стали носить более серьезный характер и занимали значительно больше времени.
Заведующим учебной частью был действительный статский советник Пётр Васильевич Петров. О нём я вспоминаю с самым хорошим чувством. Это был человек весьма добросовестный, преданный своему делу. Дети его любили и уважали. Законоучителем в первые годы был настоятель церкви Государственного Совета протоиерей Александр Рождественский. Он был профессором, читал лекции в университете, но, по-видимому, не эта ученая степень требовалась для занятий с маленькими девочками. Его ученицы, особенно живая и умненькая Ольга, постоянно вступали с ним в прения, а он терялся и не находил достаточно убедительных ответов. Впоследствии он был заменен протоиереем Александром Васильевым, и тогда дело пошло совсем иначе. На место скучного преподавателя математики Соболева, которого я застала, по рекомендации Петра Васильевича был назначен директор Царскосельского реального училища Эраст Платонович Цистович. Он сумел заинтересовать своих учениц, и они полюбили его уроки. Позже, когда они стали заниматься физикой, я ездила с ними в физический кабинет при реальном училище, чтобы присутствовать при опытах. Историю преподавал директор Петербургской XII гимназии Константин Алексеевич Иванов. Его уроки проходили живо и увлекательно, я с удовольствием их слушала. Вообще он был приятный и незаурядный человек, только, к сожалению, мнил себя поэтом и засыпал меня своими весьма слабыми стихами. Уроки английского языка давал детям англичанин мистер Гиббс. Дети превосходно владели этим языком, так как всегда говорили с матерью по-английски. Немецкий язык преподавал малосимпатичный немец Клейнберг, которого девочки не любили, что и отразилось на их знании этого языка. Впрочем, немецкий язык вообще не был в чести при дворе. Преподавателем французского языка был премилый швейцарец из Женевы господин Жильяр, который впоследствии был гувернером наследника.
Как я уже писала, после завтрака мы или ездили кататься, или гуляли в парке. Ездили мы обыкновенно в Павловск, где встречались с сыновьями великого князя Константина Константиновича, Олегом и Игорем. В Царском Селе девочки любили кататься на коньках и спускаться с ледяной горы, которая была устроена для них в Александровском парке. В это время на прогулку обыкновенно выходил и государь, который очень любил расчищать дорожки от снега. Как-то раз, проходя неподалеку от катка, я увидела государя за этой работой. Но он был так ею увлечен, что не заметил меня и высморкался по-русски – в пальцы. Увидев меня, он смутился и сказал: «Как вы думаете, Софья Ивановна, хорошим бы я мог быть дворником?» Вообще государь очень любил всяческие физические упражнения. Он говорил, что это для него лучший отдых после занятий государственным и делами.
Весной, как только вскрывался лед на каналах в Александровском парке, государь и дети вооружались баграми и шли вылавливать льдины. В этом занятии принимал участие и весь персонал детской половины с дядькой наследника, матросом Деревенко во главе. Не отставала от них, конечно, и я, причём неоднократно получала одобрение государя. Он говорил: «Видно, что вы много жили в деревне». Наследник бегал по берегу и громко выражал свою радость при каждом всплеске воды. Вообще, сколько здесь было шума и веселья! До сих пор вспоминаю с удовольствием об этом времени. Забрызганные водой, раскрасневшиеся, веселые возвращались дети домой. Когда же каналы окончательно освобождались ото льда, представлялось новое удовольствие: на воду спускались байдарки, и государь с детьми, чаще всего с наследником, катались по каналам, причём государь всегда греб сам. Иногда за ним следовала целая «флотилия»: в одной байдарке две старшие девочки со мной (гребли мы по очереди), в другой две младшие с матросом Деревенко.
Пасха в 1907 году была поздняя – 22 апреля. О ней у меня сохранилось довольно смутное воспоминание, кроме того что меня, привыкшую к торжественным московским богослужениям Страстной недели, не могли удовлетворить сокращенные службы в придворной церкви.
Как-то на Святой неделе мы катались на байдарке. Погода была очень сырая. Татьяна Николаевна гребла и разгорячилась, и я укутала её своей накидкой. 27 апреля был день свадьбы моих родителей. К моей большой радости, императрица предложила мне съездить на этот день в Москву. По приезде туда у меня появились все признаки малярии, которая время от времени у меня бывала. По-видимому, я простудилась на байдарке. Я была очень обеспокоена тем, что не смогу вернуться к сроку в Царское, и послала телеграмму императрице. Ответ пришёл очень быстро, весьма милый и участливый. Болезнь моя продолжалась до половины мая, и я выехала из Москвы только 17-го. Двор уже находился в Петергофе. Здесь мне отвели во Фрейлинском доме две комнаты, но такие сырые, что посетившая меня княжна Оболенская возмутилась и заявила об этом помощнику гофмаршала князю Путятину. Слова её возымели действие, и мне выделили очень хорошенькую квартиру в том же доме с окнами на площадь.
Образ жизни в Петергофе был почти такой же, как и в Царском. Только уроков у детей было меньше, а с июля все занятия вообще прекращались. Иногда приезжала императрица Мария Федоровна и жила в своём небольшом дворце, называвшемся «Коттедж». К 10 часам дети ходили к ней здороваться. В Петергофском парке было очень много грибов, и дети постоянно их собирали. Но во время пребывания Марии Федоровны, очень любившей это развлечение, детям не разрешалось предварять бабушку, и они ходили за грибами вместе с ней.
Вскоре после моего возвращения из Москвы, когда я, как обычно, приехала утром в Александрию (от моей квартиры до Александрии было минут десять езды), няня Мария Ивановна сказала мне, что у Анастасии Николаевны сильный жар и болит горло и что она уложила её в комнате Ольги Николаевны. Это меня крайне удивило. В Петергофе Ольга занимала отдельную маленькую комнатку, а остальные четверо детей помещались с Марией Ивановной в соседней большой комнате. На мой вопрос, извещена ли о случившемся императрица, Мария Ивановна ответила, что до приезда врача незачем беспокоить её величество. Я посмотрела горло девочки: оно было покрыто белым налетом. К 12 часам приехал лейб-педиатр Иван Павлович Коровин, старик, у которого уже был один удар. Он снял пленки для анализа, и когда я спросила, не может ли это быть дифтерит, ответил: «Зачем предполагать такие ужасы!» Императрице сообщили о заболевании Анастасии Николаевны, и она приказала перевести её в изоляционную комнату. Когда же после этого я вернулась в комнату Ольги Николаевны, то нашла на столе тарелочку с оставшимися пленками! Целый день мы прождали ответа Коровина относительно анализа, но так и легли спать в полном неведении. Я подумала, что случись такое заболевание у нас, в частном семействе, то давно уж были бы приняты все меры. На другой день появился Коровин с результатом анализа: у Анастасии Николаевны был дифтерит. «Когда же вы получили анализ?» – спросила я. «В 12 часов ночи», – ответил врач. «И сообщили только сейчас?» – «Я не хотел беспокоить её величество». – «А ребёнок тем временем мог умереть! – воскликнула я. – Необходимо немедленно сделать прививку». – «Для этого мне нужно разрешение её величества», – сказал Коровин. «Ее величество сегодня на параде, надо подождать её возвращения», – заявила Мария Ивановна. Но тут уж я не выдержала и настояла на том, чтобы императрицу известили тотчас же. Она сейчас же уехала с парада, распорядилась перевести здоровых детей в Фермерский дворец, а сама осталась с больной дочерью. Помогала ей Шура Теглова. Лечил девочку доктор Симановский, который приезжал каждое утро. Вскоре лейб-педиатр Коровин был отстранен, и его место занял Сергей Алексеевич Острогорский. Три великие княжны и наследник дифтеритом не заразились.
В начале июля в Петергоф приехали мои родители, так как мой отец должен был представляться государю. С ними были отменно любезны, даже предоставили им отдельное помещение во Фрейлинском доме, что было верхом внимания. Мой отец произвёл, по-видимому, весьма положительное впечатление на государя, так как в декабре этого же года он был назначен членом Государственного Совета. Это назначение, считавшееся очень высоким, явилось для отца полной неожиданностью. Он никогда не добивался повышения по службе и всегда держался в стороне, что составило ему репутацию гордого. Девочки были от него в восторге, и он много рассказывал им про моё детство. Сам же он пленился трёхлетним наследником, который был действительно очаровательным ребенком.
В конце июля происходили маневры в окрестностях Красного Села и Ропши, и на это время двор переселился в Ропшу. Дворец здесь был небольшой и довольно примитивно устроенный, но детям это нравилось. Парк примыкал к полю, куда мы ходили гулять. Недалеко было село, в церкви был деревенский хор из школьников, что приятно напоминало мне Мураново. Кроме того, здесь не было «ботаников» – так назывались на придворном языке чины охраны, одетые в штатское платье и изводившие нас своим присутствием в Петергофе. При приближении кого-нибудь из нас, они делали вид, что интересуются чем-то в траве, вследствие чего и получили это прозвище. Девочки говорили: «Здесь никто за нами не следит».
Как-то за завтраком я сидела рядом с великим князем Николаем Николаевичем, будущим Верховным главнокомандующим на германской войне. Он знал мою тетку, камер-фрейлину Дарью Федоровну Тютчеву, много лет находившуюся при дворе, поэтому я не была для него вполне чужим человеком. Он обратился ко мне с вопросом, каковы мои планы относительно воспитания детей. Когда я изложила ему свои мысли и намерения, он заметил: «Хорошо, если вам удастся осуществить хоть одну десятую часть из того, что вы наметили. Я знаю императрицу».
Николай Николаевич был женат на черногорской княжне Стане (Анастасии Николаевне), у которой от первого её брака с герцогом Юрием Лейхтенбергским были дочь Елена и сын Сергей, гувернером которого был упоминавшийся мною Жильяр. При ближайшем знакомстве со мной он предупреждал меня быть осторожной с черногорскими княгинями (особенно с Милицей, женой великого князя Петра Николаевича) и не доверять им, так как он считал их фальшивыми и интриганками.
По окончании маневров царская семья отправилась на яхте «Штандарт» в финляндские шхеры. Это было любимым местопребыванием государя и императрицы. Они плавали там месяца полтора или два, но меня с собой не брали и на это время всегда отпускали домой. Как-то в конце августа, приехав в Москву, я узнала из газет, что «Штандарт» наскочил на камень, получил повреждение и царская семья была принуждена перейти на сопровождавшую их яхту «Полярная звезда». Об этом говорили с негодованием, возмущаясь нерадивостью капитана «Штандарта» Чагина и особенно флаг-капитана Нилова, который часто бывал в нетрезвом виде.
Во второй половине сентября я ездила с великой княгиней Елизаветой Федоровной в Саров, а в начале октября вернулась в Царское. Дети встретили меня вопросами, как отнеслись в Москве к происшествию с «Штандартом». Я ответила, что все беспокоились за царскую семью. «И бранили моряков?» – спросили они. «Конечно», – ответила я. «А мама говорит, – возразила одна из девочек, – что на это была Божья воля». Я не выдержала: «Вы, наверное, не поняли, мама не могла этого сказать. Божья воля, что во время этой катастрофы никто из вас не пострадал, а «Штандарт» наткнулся на камень из-за небрежности моряков». Думаю, что мои слова были тут же переданы императрице.
В середине ноября императрица, гуляя с государем в царскосельском парке, почувствовала себя настолько дурно (у неё был невроз сердца), что государь почти принёс её во дворец. К этому нездоровью прибавилась ещё простуда. Незадолго перед этим лейб-медик, всегда лечивший императрицу, умер и на его место никого ещё не назначили. К императрице пригласили какого-то доктора Фишера из царскосельской городской больницы. Однажды вечером я сидела у себя, когда ко мне пришла очень взволнованная Анна Александровна Вырубова, впоследствии стяжавшая такую печальную известность в связи с Распутиным. Но в то время я была ещё с ней в хороших отношениях. Она сказала мне, что императрица чувствует себя плохо, что к ней необходимо пригласить опытного врача и что она рекомендует Евгения Сергеевича Боткина (сына знаменитого клинициста), лечившего её за год перед тем от брюшного тифа. «Вызовем его к императрице телеграммой за нашими подписями», – предложила она. Я ответила, что без ведома и разрешения государя мы не имеем на это права, но что есть другой выход. Пусть Вырубова вызовет его к себе (она жила в Царском Селе), а когда он приедет, то спросим императрицу, не желает ли она его принять. Так и было сделано. С тех нор Боткин стал лечить императрицу, а через некоторое время был назначен лейб-медиком. Евгений Сергеевич был безусловно хороший врач, опытный и знающий, но ему недоставало твердости и решительности. Когда императрица не хотела исполнять его предписания, он не настаивал, а говорил как многие придворные: «Как будет угодно вашему величеству».
Как я уже упоминала, в декабре мой отец был назначен членом Государственного Совета. В это же время мой младший брат Николай был произведен в камер-юнкеры. При дворе говорили, что Тютчевы в фаворе. По этому случаю двенадцатилетняя Ольга Николаевна считала, что моего отца следовало бы назначить воспитателем наследника, мою мать статс-дамой, а мою младшую сестру моей помощницей!
Зима 1908 года прошла примерно так же, как и предыдущая. Я освоилась с новым для себя делом, узнала характеры детей и привыкла к ним. Надо сказать, что когда я к ним поступила, они были очень мало воспитаны. Мария Ивановна была хорошей, преданной няней, но о воспитании имела самое поверхностное представление. Но она считала себя полновластной хозяйкой на детской половине и к моему появлению отнеслась несочувственно, опасаясь, очевидно, за своё влияние. К счастью, мне приходилось сталкиваться с разного рода людьми, когда я была попечительницей нескольких благотворительных учреждений, поэтому я старалась не обращать внимания на мелочи и не слишком вторгаться в сферу действий Марии Ивановны. Вскоре у нас создались вполне нормальные и хорошие отношения.
С детьми в начале моего пребывания мне было довольно трудно. Они не слушались и всячески пытались вывести меня из терпения. Я же старалась быть очень спокойной и сдержанной, особенно, когда услышала, как одна из девочек говорила другой: «Саванну (так сократили они моё имя и отчество) никак не выведем из себя». Однажды я им сказала, что, остановив их раза два, я не буду больше делать им замечания. «А потом что?» – спросили они. «А потом уеду от вас домой». Это заставило их призадуматься. Убедившись в том, что главным их коноводом была Ольга Николаевна, я решила с ней поговорить. «Вы могли бы во многом мне помогать», – сказала я ей. «Как помогать?» – спросила она. «Вы имеете влияние на ваших сестёр, вы старше их и можете уговорить их слушаться меня и поменьше шалить». – «Ах, нет, – воскликнула она, – ведь тогда мне придётся всегда хорошо себя вести, а это невозможно!» В душе я не могла не согласиться с тем, что она права, что живой двенадцатилетней девочке очень трудно быть постоянным примером и образцом для других детей. Впрочем, впоследствии она останавливала расшалившуюся Анастасию Николаевну: «Перестань, а то Саванна от нас уйдет, и нам же будет хуже».
Зимой, когда мы ездили кататься в Павловск, девочки имели обыкновение брать с собой белые хлебцы, в то время известные под названием «жулики». Мы проезжали через две деревни, и девочки бросали эти хлебцы встречавшимся крестьянским ребятишкам. Я посоветовала им раздавать детям что-нибудь сладкое. С этой целью я выписала из Москвы из знакомой мне лавки Леонова на Большой Молчановке (где я всегда покупала гостинцы для мурановских школьников) целый ящик длинных леденцов в пестрых бумажках. С тех пор они всегда брали с собой запас таких леденцов, причём и сами с удовольствием угощались этим незатейливым лакомством.
В 20-х числах апреля состоялось бракосочетание великой княжны Марии Павловны, дочери великого князя Павла Александровича и королевны греческой Александры Георгиевны, с принцем шведским Вильгельмом. К этому событию в Петербург прибыло много высокопоставленных гостей, в том числе великая княгиня Елена Владимировна, двоюродная сестра государя, бывшая в замужестве с королевичем греческим Николаем. Она привезла с собой двух своих очаровательных девочек – Ольгу и Елизавету. Как-то раз они были у наших детей, и во время чая пятилетняя Елизавета сидела рядом с наследником. Он глаз с неё не спускал и все время что-то ей рассказывал, но она ничего не понимала, так как говорила по-гречески и по английски. Наследник же тогда знал ещё только русский. Он старался кричать ей в ухо, думая, что так она его лучше поймет, и очень обиделся, когда на его слова «Елизавета, я тебя люблю», она ничего не ответила. Тогда я перевела его фразу на английский. Девочка мило улыбнулась и сказала: «I also love little Alexis»" .
В эти дни со мной произошел инцидент, о котором стоит упомянуть, так как он даёт представление о том, как обстояло дело с охраной государя. Был какой-то праздник, и я должна была сопровождать великих княжон в церковь. Я выехала из Фрейлинского дома, но у ворот Александрии была остановлена караульным, который отказался пропустить мой экипаж. Я убеждала его, что и он, и все остальные караульные меня знают, что я каждый день проезжаю через эти ворота – все напрасно! Наконец он пояснил, что «государь император ещё не проследовал на парад»! Тут я рассердилась: «Да чем же я могу помешать государю-императору? А вы меня задерживаете, и я опаздываю на свою службу. Меня ждут великие княжны». И велела кучеру ехать. Скоро действительно показалась царская коляска. Я поклонилась, и мы разъехались каждый в свою сторону. Днем, гуляя в парке с детьми, мы встретили государя. «Отчего у вас был такой сердитый вид сегодня утром?» – спросил он меня. Я рассказала ему о столкновении с караульным. «Вот всегда так! – заметил он. – А случись что-нибудь, и никого не окажется на месте».
В конце июля или начале августа мы поехали на маневры в Ропшу. На этот раз наше пребывание там омрачилось трагическим событием. В Ропше находился питомник фазанов, который обслуживали специальные фазанщики. Однажды поздно вечером, или ночью, один из них проходил мимо дворца и на оклик часового ничего не ответил. Часовой окликнул его вторично, и опять не получил ответа. Тогда часовой предупредил, что будет стрелять, и когда за этим последовало то же молчание, он выстрелил и убил фазанщика наповал. Можно себе представить, как все мы были взволнованы, узнав об этом происшествии. Особенно возмущались дети. В этот день, как и год тому назад, мне довелось сидеть за завтраком рядом с великим князем Николаем Николаевичем. Он спросил у меня, что говорят о случившемся. Я ему рассказала. «Часовой был совершенно прав, он не мог поступить иначе», – возразил он. Я не могла не согласиться с ним, но, тем не менее, это печальное событие наложило тень на все наше пребывание в Ропше.
Хочу записать ещё один случай, прекрасно характеризующий мою любимую воспитанницу Ольгу Николаевну. В торжественные дни обедню служили в церкви Большого Екатерининского дворца в Царском Селе. Дети стояли со мной на хорах. В день рождения государя, 6 мая, я приехала с девочками во дворец. Государя ещё не было, и до его прихода служба не начиналась. Внизу, в церкви, собрались высокопоставленные лица, генералитет и придворные. Посмотрев на Ольгу Николаевну, я заметила, что она хмурится и выражает признаки неудовольствия. «Что с вами, Ольга?» – спросила я. «Я возмущаюсь, что все эти господа громко разговаривают в церкви, один только Пётр Аркадьевич Столыпин да вот этот батюшка стоят как должно», – ответила она. Я взглянула вниз. «Этот батюшка епископ Арсений Новгородский», – сказала я. «Так отчего же он их не остановит?» – «Он не считает себя хозяином этой церкви, это дело настоятеля, протопресвитера Благовещенского», – пояснила я. Ольгу Николаевну это не удовлетворило: «Батюшка Благовещенский сейчас в алтаре совершает проскомидию, к тому же он старенький и глухой. Это не потому, Саванна, он просто боится. А когда придет папа, все сразу замолчат. А кто выше? Бог или папа? Ведь митрополит Филипп не боялся говорить правду самому Иоанну Грозному». Эти слова девочки и удивили меня, и порадовали. После обедни я отвезла девочек домой, а сама вернулась в Екатерининский дворец, чтобы присутствовать на парадном завтраке. На лестнице я встретила епископа Арсения. «Вы не подозреваете, владыка, какой о вас был сегодня утром разговор», – смеясь, сказала я ему. Он вопросительно на меня посмотрел. Тогда я передала ему слова Ольги Николаевны. Епископ задумался и промолвил: «Великая княжна права».
В первой половине июля 1909 года мы отправились в Англию. Это был ответный визит королю Эдуарду VII, посетившему государя в прошлом году в Ревеле. Мы вышли на яхте «Александрия» в Кронштадт, где пересели на «Штандарт». По случаю субботы вечером на палубе «Штандарта» служили всенощную. На следующий день мы пустились в дальнейший путь. Нас сопровождали яхта «Полярная звезда» и два миноносца. Плавание по Балтийскому морю не представляет никакого интереса, поэтому я его не описываю. Любопытное началось после вступления «Штандарта» в незадолго перед тем открытый Кильский канал. Во все время следования по каналу нас конвоировала по левому берегу немецкая конница. По-видимому, Вильгельм хотел показать свою военную мощь. Приблизительно на середине канала он сам встретил нас на своей яхте «Гогенцоллерн». Помню его появление с огромным букетом цветов, который он поднес императрице. Здороваясь с командой «Штандарта», выстроенной на палубе, он протягивал руку всем матросам, стоявшим в первом ряду. Это доставило им большое удовольствие, некоторые матросы даже целовали ему руку. За обедом он сидел, конечно, по правую сторону от императрицы, причём она с ним почти не разговаривала, все время обращаясь к своему кавалеру слева. Нам, свите, такое поведение императрицы показалось крайне странным и неловким. Как сейчас помню изумленные взгляды, которыми обменивалась со мною княжна Оболенская, сидевшая против меня. На меня Вильгельм произвел довольно отрицательное впечатление: в его манерах была какая-то доля шутовства.
Все плавание по каналу с несколькими остановками заняло часов двенадцать. На следующее утро я проснулась от сильнейшей качки. Мы были в Северном море. Императрица не выходила из своей каюты; дети, многие из свиты, горничные – все страдали морской болезнью. Я была очень удивлена тем, что качка на меня совсем не действовала. Я все время оставалась с детьми и, чтобы развлечь их, читала им вслух книгу «Яша Полянов», произведение Льва Толстого-младшего. Я даже ходила завтракать. Столовая была пуста.
Государь тоже стойко выдерживал качку. К вечеру волнение утихло.
Но пути мы зашли в Шербург, где государя встретил президент Фальер, также приезжавший в Россию в 1908 году. В Шербурге мы провели несколько часов. Когда мы подходили к острову Уайту, нас поразило количество военных судов, выстроившихся для встречи государя. Наши моряки негодовали: «Подвели нас с Цусимой, а теперь хвастаются своей силой!»
Король Эдуард VII и королева Александра выехали на встречу государя на яхте «Victoria-Albert». Государь и императрица перешли к ним, а «Штандарт» следовал за ними под флагом наследника, что доставило большое удовольствие маленькому Алексею Николаевичу. На острове Уайт мы пробыли несколько дней. Помню, что мы были приглашены на five-o'clock tea (пятичасовой чай) к принцу Уэльскому, будущему королю Георгу V, в его имение Бартон. Государь и принц Уэльский были необыкновенно похожи друг на друга – их матери были родные сестры. Как-то государь сказал мне, показывая фотографии: «Если вы узнаете на этой карточке, где я, то вы её получите». Конечно, я сразу же указала на него, и он вручил мне карточку. Ездили мы и в Осборн, прекрасное дворцовое здание, принадлежавшее королеве Виктории. Императрица нам рассказывала, что она там жила у бабушки с тремя своими сёстрами после смерти своей матери, великой герцогини Гессенской Алисы. В то время, когда мы там были, Осборн был уже превращен в дом для инвалидов. Во время нашего пребывания на острове Уайт нас познакомили с двумя младшими дочерьми королевы Виктории – принцессами Луизой и Беатрисой. Они были уже пожилые женщины, очень приветливые и простые в обращении. Узнав, что я незадолго перед тем лишилась отца, они высказали мне много неподдельного участия и внимания, что особенно трогает на чужой стороне.
Но бесспорно самым интересным эпизодом моего кратковременного пребывания в Англии была встреча с писателем сэром Дональдом Мэккензи Уоллесом. В 1870 году он приехал в Россию, где пробыл шесть лет, изучая социальный и политический строй страны, её учреждения, язык и литературу. Результатом его исследований и наблюдений явилось двухтомное сочинение «Russia», выдержавшее несколько изданий. Для иностранцев эта книга была как бы откровением, так как в то время Россию на Западе было принято считать полуазиатской страной. Между прочим, Мэккензи Уоллес называл нашу родину «страной чудовищных контрастов», в чём с ним можно было согласиться. В Москве он часто посещал моих теток, особенно Екатерину Федоровну Тютчеву, жившую с Дарьей Ивановной Сушковой, сестрой моего деда – поэта Тютчева. Я очень уютно провела с ним вечер на палубе «Штандарта», расспрашивая его о том, что для меня было родной и интересной стариной. Мною овладело какое-то странное чувство. Слушая рассказы сэра Дональда, я как бы перенеслась в прежнюю Москву и передо мной, как живые, вставали образы близких мне людей, давно скончавшихся.
На обратном пути из Англии мы попали в Северном море в густой туман. Он начался в 8 часов вечера и рассеялся лишь к 4 часам утра. Должна признаться, что из всех моих морских ощущений это было самое жуткое. Мы двигались как бы ощупью, окруженные непроницаемой завесой молочно-белого цвета. Даже дышать становилось трудно. Государь находился все время на мостике с командиром «Штандарта» И. И. Чагиным и флаг-капитаном К. Д. Ниловым. Думаю, что мало кто из нас спал в эту ночь. В германских водах к нам должны были подойти немецкие конвоиры. Несмотря на принятые меры, у нас опасались этого момента. Помню, что я спустилась в свою каюту и через открытый иллюминатор переговаривалась с теми, кто находился на палубе. Вдруг я услышала какой-то шум, как будто что-то скользнуло совсем около борта яхты. «Что это?» – воскликнула я невольно, и тут услышала немецкий говор. Оказалось, что конвоиры нашли нас в тумане и заняли свои места. Эта точность очень поразила наших моряков, тем более, что французские конвоиры уже давно от нас отстали. Этим случаем я заканчиваю описание моего первого заграничного путешествия с царской семьей.
Императрица страдала сердечными припадками, и летом 1910 года врачи предписали ей провести курс лечения в Наухейме. Мы выехали из России в начале августа и, минуя Берлин, чтобы не встречаться с императором Вильгельмом, прибыли в замок Фридберг, находящийся вблизи от Наухейма. Замок принадлежал брату Александры Федоровны великому герцогу Гессенскому Эрнсту-Людвигу.
О нашем пребывании там я сохранила наилучшие воспоминания. Великий герцог и его вторая жена герцогиня Элеонора были чрезвычайно приветливы и гостеприимны. Мы вели приятную, почти семейную жизнь без стеснительного этикета больших дворов. К девяти часам свита собиралась в столовую к утреннему кофе. Во главе длинного стола, уставленного всевозможными кушаньями и фруктами, сидела гофмейстерина госпожа Бранси. Она разливала чай и кофе и вообще исполняла обязанности хозяйки. С ней и с фрейлиной герцогини Жоржиной Ротсман я вскоре очень сблизилась. После кофе я ходила гулять с моими воспитанницами, большей частью в Наухейм. Им очень нравилось заходить в магазины и покупать всякую мелочь. Анастасию Николаевну особенно прельщали магазины игрушек, где продавали кукольную обувь разных размеров и даже калоши. Татьяна Николаевна не всегда нас сопровождала, так как врачи нашли у неё слабое сердце и она ездила с императрицей брать ванны. В час был завтрак, после которого мы направлялись на автомобилях на экскурсии в окрестности Фридберга, необыкновенно живописные. Иногда мы останавливались в каком-нибудь ресторанчике и пили там чай. Как-то раз мы вышли из автомобиля и пошли по дороге, с обеих сторон обсаженной фруктовыми деревьями. На ветвях висели прекрасные груши и яблоки. Государь осведомился, чьи это деревья, и, узнав, что они принадлежат казне, удивился. «Неужели их не обрывают? Как вы этого достигаете?» – спросил он с изумлением герцога. Герцог ответил, что у каждого поселянина есть свои деревья. «Ну, a у меня не только ничего не осталось бы, но и деревья бы поломали», – сказал государь. Затем, улыбаясь, он сорвал яблоко (видимо, в нём заговорила русская природа) и спросил: «Что мне за это будет?» Герцог рассмеялся.
Однажды мы возвращались с экскурсии раньше обыкновенного. Императрица никогда с нами не ездила, а в этот раз и Татьяна Николаевна оставалась дома. Когда я пришла к обеду, ко мне подошёл герцог. «Ваша Татьяна лгунья», – сказал он мне раздраженным тоном. Я удивленно на него взглянула. «Когда мы вернулись, – пояснил герцог, – я пошёл к сестре и заметил, что кто-то прошмыгнул из её комнаты. Мне показалось, что это Аня. Вслед за ней вышла Татьяна. Я спросил её, кто здесь был, она ответила, что не знает». Что могла я сказать герцогу? Мне было понятно, что в этой лжи нельзя было винить Татьяну. Оказалось, что Анна Вырубова в Гамбурге и навещает императрицу в наше отсутствие. На другой день герцог отозвал меня и фрейлину Бюцову и сказал нам, что он считает недопустимым, чтобы в его доме императрица тайком принимала своих знакомых. Это неудобно даже по отношению к прислуге. Поэтому он решил на несколько дней пригласить госпожу Вырубову. Аня переехала в Фридберг, но с нами не ездила на экскурсии.
Обедали в замке в 7 часов, после чего все общество расходилось по своим помещениям. Однажды государь спросил меня, не скучно ли мне без чая. На мой утвердительный ответ, он сказал, что он без этого не может обойтись и будет присылать чай и мне в мою комнату. Действительно, с этого дня камердинер государя каждый вечер приносил мне чай и русские газеты, преимущественно московские, так как государь знал мою привязанность к родным местам. Такое внимание мне было очень приятно и ценно.
Вспоминаю один эпизод, в своё время поставивший меня в чрезвычайно неловкое положение, но о котором сейчас я вспоминаю со смехом. Ко мне в Наухейм заехал повидаться мой брат Федор Иванович, который в это время путешествовал по Германии. Мои воспитанницы тотчас же разгласили по всему замку это интересное, по их мнению, известие, а герцог, со свойственной ему любезностью, передал приглашение моему брату к завтраку. Зная необщительный характер Феди, а главное, что он терпеть не мог бывать в так называемых «сферах», я всячески старалась отклонить приглашение. Я ссылалась на то, что мой брат в дороге и не имеет с собой соответствующего костюма, – все было напрасно. Герцог сказал, что в Фридберге мы ведем деревенский образ жизни, что это не официальный прием, а приглашение запросто, следовательно, мои брат может явиться в том, что у него есть, хотя бы в пиджаке. Он добавил, что предоставляет Феде выбрать удобный для него день. Это уж было верхом предупредительности! Мне оставалось только поблагодарить и отправиться в Наухейм, где, я чувствовала, меня ожидает буря. Так оно и вышло. Федя наотрез отказался от завтрака, и мне стоило неимоверных трудов убедить его, что это не только невежливо, но и неприлично. Наконец он сдался и назначил субботу. Когда настал этот злополучный день, я поехала в Наухейм, чтобы лично доставить Федю в замок. Можно себе представить, каков был мой ужас, когда он совершенно спокойно сказал мне, что никуда не поедет. Все моё красноречие разбилось об эту холодную решимость. Наконец я в отчаянии воскликнула: «Да ведь ты сам назначил этот день!» – «Скажи, что я болен, что я умер, все, что хочешь», – последовал ответ. Так и пришлось мне ехать обратно и сочинить малоправдоподобную историю о его внезапном заболевании. Услышав об этом, императрица отпустила меня на целый день ухаживать за больным, которого я, конечно, не застала дома. В результате я лишилась интересной экскурсии и до вечера проскучала одна. Перед обедом государь осведомился о здоровье моего брата. «Болезнь не смертельная?» – спросил он. «Нет, ваше величество», – ответила я. едва сдерживая улыбку. Он также улыбнулся и сказал: «Я сделал бы то же самое на его месте».
Когда окончился курс лечения императрицы, мы переселились в имение герцога Вольфсгартен. Предварительно высочайшие особы с прибывшими сестрами Эрнста-Людвига великой княгиней Елизаветой Федоровной и принцессами Викторией Баттенбергской и Иреной Прусской отправились в Дармштадт, где состоялось перенесение останков их родителей из одной усыпальницы в другую. Я же с детьми поехала прямо в Вольфсгартен. Здесь не было дворца, и мы помещались в нескольких домах, расположенных в парке. Мне отвели комнату в доме, предназначенном для царской семьи, так как герцог считал, что я должна быть вблизи от своих воспитанниц.
Устраиваясь на новом месте, я встретила в коридоре главного камердинера государя Николая Александровича Радциха. Это был пожилой, очень почтенный человек, имевший много орденов и медалей. Он предложил мне показать комнаты их императорских величеств. Когда мы остались вдвоем, он обратился ко мне со следующими словами: «Софья Ивановна, мы все вас очень уважаем, избавьте нас от Анны Александровны. Она, ведь, может и государю повредить, а я при нём с восьмимесячного его возраста и очень ему предан». Я поблагодарила Николая Александровича за его отношение ко мне, но сказала, что он ошибается, думая, что я пользуюсь каким-нибудь влиянием и вообще занимаюсь исключительно тем делом, на которое приглашена. Но его слова ещё более утвердили меня во мнении, какое я уже давно составила об Ане.
Когда все собрались в Вольфсгартене, я обратилась к императрице с просьбой отпустить меня дней на десять в Париж. Мне хотелось повидать моего дядю барона Гюбера Пфеффеля, двоюродного брата моего отца. Кроме того, я считала более благоразумным уехать из Вольфсгартена на время пребывания там великой княгини Елизаветы Федоровны. Императрица знала об её расположении ко мне и относилась к этому как-то подозрительно. Возможно, что она воображала, что я восстанавливаю против неё великую княгиню и жалуюсь на неё. Итак, я отправилась в Париж, а когда вернулась, великая княгиня была уже на пути в Россию.
Вскоре после моего возвращения нас посетил император Вильгельм. Он пробыл в Вольфсгартене всего один день, и я видела его очень мало. Но впечатление о нём осталось такое же, что и год назад на «Штандарте». Он трепал по плечу госпожу Бранен, дурачился с фрейлиной Марией Александровной Васильчиковой и вёл себя несоответственно своему сану. Помню, что когда он уехал, государь и герцог хлопали в ладоши от удовольствия.
Великий герцог Эрнст-Людвиг очень мне понравился. Он был приятен в обращении, обладал большой долей здравого смысла и имел вполне правильный взгляд на воспитание детей. Незадолго до нашего отъезда он мне сказал, что заметил, как редко я вижу императрицу, тогда как, по своему положению воспитательницы, должна бы находиться с ней в постоянном общении, и что, с его точки зрения, это совсем ненормально. «Все это я высказал моей сестре и надеюсь, что теперь все пойдет у вас иначе», – заключил он. «Боюсь, ваше высочество, что вы мне только повредили», – ответила я. Действительно, мои опасения подтвердились, так как впоследствии императрица обвиняла меня в том, что я поссорила её с братом.
В ноябре мы выехали из Вольфегартена. Когда переехали русскую границу, императрица зашла в моё купе и сказала: «Какое счастье быть снова в России и слышать колокольный звон!»
29 августа 1911 года мы приехали в Киев на открытие памятника императору Александру II. Чудесная погода, живописный город, радостная встреча многочисленного народа – всё это произвело на меня самое светлое впечатление, о чём я и сообщила своим спутникам-сослуживцам во время завтрака во дворце. Среди них были дворцовый комендант Владимир Александрович Дедюлин и командир сводного полка Владимир Александрович Комаров. «Ну, а у нас совсем другое настроение», – ответил мне кто-то из них. «Сегодня утром схвачено несколько революционеров-террористов, но другие ещё гуляют на свободе. Когда вы будете выезжать с великими княжнами, смотрите в оба!» – «Я могу смотреть в четыре, – сказала я, рассмеявшись, намекая на пенсне, которое носила по причине сильной близорукости, – но это ни к чему не послужит. Вы должны нас оберегать, в вагоне вы говорили мне, что из Петербурга нас сопровождает охрана две тысячи человек!»
Открытие памятника состоялось на другой день, 30 августа. Мы присутствовали на литургии в Михайловском Златоверхом монастыре, а затем процессия двинулась дальним путем, мимо памятника святому Владимиру, так как по дороге были выстроены шпалерами киевские учебные заведения. Императрица и наследник приехали прямо на площадь. Я была с великими княжнами и во время шествия оказалась рядом со Столыпиным. «Подберите немного ваше платье, мне жалко ваше кружево», – обратился он ко мне. На мне было нарядное белое платье, вышитое бисером, с красивым кружевом на подоле.
Открытие памятника представляло очень торжественное зрелище, особенно было эффектно прохождение войск.
Вернувшись во дворец, я легла, по совету доктора Боткина, так как плохо себя чувствовала, и по этой же причине не была вечером на празднике в Купеческом саду.
1 сентября был назначен парадный спектакль. В театре давали оперу Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». Помню, что в этот день Дедюлин очень волновался и почему-то торопил меня, чтобы я не опоздала. Императрица в театр не ездила. Государь, великие княжны Ольга и Татьяна и царевич Болгарский Борис занимали ложу налево от сцены. Статс-дама Елизавета Алексеевна Нарышкина, фрейлина Бюцова и я находились в ложе рядом с царской. В антракте перед последним действием партер опустел, вся публика, очень нарядная, вышла в фойе. В проходе, перед первым рядом, спиной к рампе, оставались только Столыпин, барон Владимир Борисович Фредерике (министр двора) и польский магнат граф Потоцкий. Вдруг я увидела, что в проходе между рядами кресел появился какой-то человек, посмотрел на царскую ложу (позднее я узнала, что великая княжна Ольга убедила государя выпить чаю и они перешли в аванложу) и спешно подошёл к группе у рампы. Раздался какой-то треск (как мне показалось) и крик в оркестре. Я вскочила и бросилась в царскую ложу. «Что случилось?» – взволнованно говорили великие княжны. «Какая-то ложа обрушилась», – предположила Ольга Николаевна. «Сверху упал бинокль», – сказал вошедший флигель-адъютант Александр Александрович Дрентельн. Но на это возразила Татьяна Николаевна: «А почему же Пётр Аркадьевич в крови?» В зале поднялся шум, крики, требования гимна. Государь вышел из аванложи, девочки старались его удержать, я тоже сказала: «Подождите, ваше величество». Он мне ответил: «Софья Ивановна, я знаю, что я делаю». Он подошёл к барьеру ложи. Его появление было встречено криками «ура» и пением гимна. В это время вошёл Фредерике и сказал по-французски государю: «Государь, Пётр Аркадьевич просил вам передать, что счастлив умереть за ваше величество». – «Я надеюсь, что нельзя говорить о смерти», – воскликнул государь. «Боюсь, что да, – ответил Фредерике, – так как пуля прошла через печень». Не могу последовательно описать, что было дальше. Государь и великие княжны уехали. Проводив их, я вернулась в ложу, где застала Нарышкину и Бюцову в истерике. Кое-как успокоив их, я поспешила поехать во дворец, что было не легко сделать, так как в царившей суматохе лакей с трудом разыскал мой экипаж. Во дворце также была полная растерянность. Дедюлин глотал валерьяновые капли, приходившие сообщали всякие слухи, между прочим о том, что назревает еврейский погром, так как преступник был еврей, и что киевские евреи бросились на вокзал, чтобы успеть уехать из города. «Да чего же вы боитесь? – сказала я Дедюлину. – Во-первых, здесь евреев нет, а во-вторых, вы же сами говорили, что у вас 2000 человек охраны». – «Да они все разосланы под Киев на маневры», – с отчаянием воскликнул он. «А мои конвоиры все на месте», – сказал командир конвоя князь Юрий Иванович Трубецкой и, обращаясь ко мне, добавил: «Помните, что я вам говорил в вагоне?» Дело в том, что по дороге в Киев, когда Дедюлин рассказывал нам о многочисленной охране, которую везут с собой, Трубецкой заметил: «А в нужный момент ни одного из них не окажется на месте!». Слова его вполне оправдались.
В коридоре дворца я встретила очень взволнованную императрицу. Она повторяла: «Как дадут знать бедной Ольге Борисовне» (жене Столыпина, рожденной Нейгардт). Ночь прошла тревожно. Конечно, я провела её без сна. Когда утром я пришла к детям, меня удивило то, что они были гораздо спокойнее, чем я ожидала, как будто ужасные впечатления предшествующего дня успели уже несколько сгладиться. Заметив моё недоумение, няня Марья Ивановна незаметно указала мне на галерейку – нечто вроде зимнего сада в нижнем этаже – и шепнула: «Он уже там» (она имела в виду г. Распутина). Тогда все стало мне ясно.
Не могу хотя бы приблизительно описать то, что происходило в Киеве в последующие дни. Государь ездил в Овруч, а затем на маневры в Чернигов. Императрица его не сопровождала. Перед больницей, где лежал раненый министр, стояли толпы народа, ожидая сообщений о его состоянии. Княжна Оболенская и я также ездили в больницу и беседовали с его родственницей Ольгой Михайловной Веселкиной, начальницей Александровского института в Москве. Её вызвали телеграммой, и она находилась при Столыпине в качестве сёстры милосердия. Она сказала нам, что надежды на выздоровление нет, и 5 сентября вечером Пётр Аркадьевич скончался.
Мы, свита, были в полном неведении, что делать. Отъезд из Киева намечался 6-го после возвращения государя из Чернигова. Но подобный отъезд казался нам каким-то бегством! Объясняли его тем, что при создавшемся положении охрана государя, если бы он присутствовал на похоронах Столыпина, была бы слишком сложна и ненадежна. Вполне допускаю, что это было правильно, но тем не менее мы все ощущали какую-то неловкость. Киевские дамы справлялись у статс-дамы Нарышкиной, в каких туалетах надо быть на проводах, о чём она доложила императрице, которая сказала ей, что траура нет. Однако на вокзале я не видела ни одной дамы в цветном платье: все были в сером или белом. Государь вернулся из Чернигова и, не заезжая во дворец, проследовал в больницу, где у тела Столыпина была отслужена панихида. В тот же день мы уехали из Киева.
На другое утро я пошла в вагон-столовую пить кофе и встретила там государя. Больше никого не было. Он спросил, как я спала. Я ответила, что в эту ночь более или менее спала первый раз после 1 сентября. «Да, ужасно, ужасно», – воскликнул он и рассказал мне, что дважды заезжал в больницу в надежде видеть Столыпина, с которым хотел лично поговорить, но его не пустили к нему. «Я думал, что это распоряжение врачей и потому не настаивал, а позже узнал, что это был каприз Ольги Борисовны». Он сказал ещё, что когда после панихиды он подошёл к ней, чтобы выразить своё сочувствие и поцеловать её руку, она приняла какую-то театральную позу и, указав на тело своего мужа, сказала: «Ваше величество – Сусанины не перевелись на Руси». – «Это было неестественно и деланно», – заключил государь и пожалел, что не имел свидания с Петром Аркадьевичем, который, по словам Ольги Михайловны, желал этого.
Мы приехали в Севастополь с тяжелым чувством, так как все воспринимали смерть Столыпина как катастрофу, постигшую нашу родину. Но здесь все происходило как обычно, по раз навсегда установленному порядку: торжественная встреча, вечером иллюминация, музыка. Княжна Оболенская и я были слишком мрачно настроены, чтобы оставаться на палубе, и спустились в свои каюты, но более пылкая Бюцова не выдержала и подошла к императрице: «Ваше величество, что же это такое?» – сказала она. «Это иллюминация», - ответила императрица. «Но его ещё не похоронили!» – воскликнула Бюцова. «Он был только министр, а здесь русский император», – пояснила императрица (весь этот разговор происходил на английском языке). Вне себя от негодования, Бюцова прибежала к нам и передала нам эти слова. Как это объяснить? Ведь я сама видела, как взволнована была императрица при известии о покушении на Столыпина и как сочувственно отнеслась к его жене. Эту внезапную перемену я могу приписать исключительно тому бедственному влиянию, которое в конце концов погубило и несчастную Александру Федоровну и все её семейство.
Не могу вспомнить, сколько дней мы провели в Севастополе. Хочу упомянуть о том, что государь с великими княжнами, которых сопровождала я, отправились как-то к обедне на Братское кладбище. Перед поездкой я спросила министра двора, барона Фредерикса, предполагают ли отслужить панихиду. Он ответил, что никаких распоряжений по этому поводу не получал. После обедни, когда священник уже вышел на амвон с крестом, государь подошёл к нему и спросил: «А что же панихида?» Произошло некоторое замешательство, священник ничего не знал, побежали предупредить регента хора, и панихида по убиенному Петру была отслужена как бы келейным образом.
От публикатора
Я полагаю, что мемуары эти начаты в январе 1945 года и закончены в этом же году. Писались они сначала непосредственно моей тетушкой, а затем под диктовку её сестрой, а моей матерью, Екатериной Ивановной Пигаревой.
В дневнике Е. И. Пигаревой имеется запись: «30-го мая 1912 года. Соня получила письмо от статс-дамы Нарышкиной с извещением о том, что императрица находит, что при взаимном непонимании воспитание детей невозможно и что им лучше расстаться. Долго описывать все причины, видно было уже давно, что Соне придётся уйти, но жаль, что она не сделала этого сама. Императрице следовало бы самой сообщить своё намерение Соне, и тогда все было бы более или менее правильно. Мы столько об этом говорили между собой, что писать положительно не хочется».
Как я помню из рассказов Софьи Ивановны, сама она считала настоящей причиной своей отставки её отрицательное отношение к Распутину и А. А. Вырубовой, о чём последняя всегда сообщала императрице. Но тетушка была сдержанным человеком, и в её воспоминаниях всего лишь раз явно упоминается имя Распутина – в эпизоде с няней великих княжон после убийства Столыпина. И ещё один раз уже в конце воспоминаний, не называя имен, Софья Ивановна прозрачно говорит «о бедственном влиянии», которое погубило и императрицу, и всю царскую семью. И если о своих воспитанницах – великих княжнах – тетушка любила рассказывать, показывая многочисленные имевшиеся у неё фотографии, то о Вырубовой и Распутине она говорила редко. Думаю, что это зависело не только от её отрицательного к ним отношения, но и от нежелания вспоминать о том, что бросало тень на Николая II и, особенно, на Александру Федоровну. К ним же тетушка, несмотря ни на что, относилась с большим уважением и тяжело переживала их трагическую гибель.
Ссылки
[1] Портсмутский мир завершил русско-японскую войну 1904- 1905 годов. Заключен 5 сентября в Портсмуте (США).
[2] Когда я ем, не люблю говорить (фр).
[3] Старшие дочери Николая II Ольга и Татьяна.
[4] Я тоже люблю маленького Алексея (анл.).
|
Метки: тютчевы фрейлины |
История Алупки |
История Алупки
Царская Россия
После присоединения Крыма к России (1783 г.) край, пришедший за три века господства турок и татар в упадок, стал возрождаться. Здесь строились дороги, росли города, осваивались земли. Екатерина II щедро раздавала представителям высшего дворянства и царским чиновникам земли в Крыму. Всего с 1774-го по 1794 г. было роздано до 290 тысяч десятин. Алупку вместе с 13 тысячами десятин земли на побережье и в Байдарской долине царица подарила князю Г. А. Потемкину (1784 г.), своему фавориту.
Со временем она стала собственностью командира греческого батальона Ф. Д. Ревелиоти. До 20-х годов XIX ст. это была небольшая деревушка. Такой она выглядит в описаниях ученого-ботаника К. И. Габлица и члена Российской академии наук П. И. Сумарокова. В 1798 году здесь проживало 211 человек, в основном государственных крестьян, получивших наделы.
В первой половине XIX ст. имение перешло во владение генерал-губернатора Новороссийского края князя М. С. Воронцова, который в 1828 году начал строить себе дворец. На строительстве дворца широко использовался труд крепостных. Здесь работали талантливые владимирские каменотесы Г. Петров, И. Гаврилов и другие, которые высекали из каменных глыб тонкие и сложные по рисунку украшения. В отделке комнат проявилось мастерство лепщика Р. Фортунова из местечка Мошны Киевской губернии. Вокруг дворца на площади около 40 десятин был разбит парк, в котором были устроены поляны, искусственные водоемы, гроты, насажены экзотические растения. Как бы естественным продолжением его явился маслинный сад в западной части Алупки и обширные прибрежные плантации виноградников.
Работая как вольнонаемные, крепостные получали от 8 руб. 50 коп. до 22 руб. 85 коп. в месяц, в зависимости от специальности. Половина заработка, а иногда и его большая часть, шла на выплату оброка помещикам. Многие крепостные, чтобы не погибнуть от голода, соглашались работать на любых условиях. Так, в декабре 1833 года управляющий имениями Воронцова на Южном берегу Крыма писал управляющему одесской конторой, что к нему идут толпы людей, целыми семьями, которые согласны работать за 6 руб. в месяц. На строительстве часто вспыхивали эпидемии, уносившие в могилу сотни людей. Особенно тяжело было в голодные 1833 и 1837 годы, когда умерло много строителей.
Крепостные, возводившие дворец, не имели права никуда отлучаться. За невыход на работу их штрафовали. Убегавших ловили и отправляли на поселение в Сибирь. В 1828 году в имениях Воронцова, Голицыной и других помещиков на Южном берегу Крыма арестовано и сослано в Сибирь за бродяжничество около 300 человек.
Благодаря огромному труду нескольких тысяч крепостных Алупка за 20 лет неузнаваемо изменилась.
Дворцово-парковый ансамбль дополняли сооружения, построенные для Воронцова архитектором Южного берега Крыма Филиппом Эльсоном: старый дом Воронцовых «Азиатский павильон» с ярко выраженными элементами восточной архитектуры, расположенный на берегу моря «Чайный домик» строгих классических форм и православная церковь в виде древнегреческого по образцу храма Тезея в Афинах. Роскошное имение Воронцова с многочисленными хозяйственными постройками и большим винным подвалом резко выделялось на фоне маленькой соседней деревушки. Правда, и она в это время начинает расти.
Строительство дворца было закончено в 1848 году. Все, кто побывал здесь, отмечали исключительную красоту дворца и парка. В 1820 году Алупку посетили А. С. Пушкин и будущий декабрист И. М. Муравьев-Апостол, а в 1825 году — А. С. Грибоедов.
В селении построили также несколько общественных и частных домов. В 20-х годах, чтобы привлечь на свою сторону татарское население, Воронцов воздвиг мечеть. Здесь начали сооружать для себя дачи крупные российские помещики. Воронцов, которому только в Алупке принадлежало до 400 десятин земли, развернул активную предпринимательскую деятельность. В его имении выращивался высокосортный виноград, из которого приготовлялись отличные вина, получившие известность не только в России, но и за границей.
В начале 40-х годов Алупка уже стала сравнительно крупным селением Южного берега Крыма — в ней было 40 дворов. Возможность приобрести землю и устроить в Крыму доходные имения привлекала сюда многих помещиков и дворян. Особенно усилился их приток после строительства дороги, соединившей Южный берег Крыма с Симферополем и Севастополем. Дорога в районе Алупки была закончена в 1833–1834 гг. В эти же годы была построена пристань. Местное морское сообщение связало Алупку с Ялтой.
В 1865 г. в Алупке насчитывалось 53 двора с количеством жителей 230 человек, которые занимались в основном виноградарством, разведением фруктовых и маслинных садов. Для большинства путешественников по Крыму в первой половине XIX вплоть до 70-х годов Южный берег Крыма ассоциировался отнюдь не с Ялтой, которая в 1838 году уже получила статус города, а с Алупкой. Именно Алупку называют главной жемчужиной Крыма путешественники накануне Крымской войны и в течение двадцати лет по ее окончании, в то время как Ялта для них лишь маленькая пристань, перевалочный пункт для разъезжающейся по Южному берегу Крыма аристократии.
Своей славой Алупка была обязана неутомимой деятельности графа Воронцова, который сделал ее центром своих крымских владений в первой половине XIX века. В течение двух десятков довоенных лет именно в Алупке концентрировалась вся светская, культурная и курортная жизнь Южного берега Крыма.
Светлейший князь умер в 1856 году, после чего его имение на правах майората перешло сыну князя С. М. Воронцову. Со смертью последнего в 1882 году имение переживает период упадка, который длился, до1904 года, когда оно перешло во владение другой ветви Воронцовых — Воронцовым-Дашковым. Испытывая нужду в средствах, все это время владельцы Алупки сдавали земли имения в долгосрочную аренду под дачную застройку.
Первое время после смерти основателя имения М.С. Воронцова Алупка как курортная местность также переживала упадок. Вскоре после Крымской войны почтовая станция была перенесена в Мисхор, а гостиница, построенная в деревне, прекратила существование. Но, несмотря на то, что потомки светлейшего князя не занимались более развитием Алупки память о ее славе, воплощенная в прекрасном дворце и парке, продолжала привлекать к ней светскую публику.
Начиная с 70-х годов XIX века Алупка эксплуатирует прежний образ своего курортного величия, будучи едва ли не самым дорогим и первое время, в общем-то, неблагоустроенным местечком Южного берега Крыма. Автор путеводителя по лечебным местам Южного берега Крыма В. Чугин характеризует обстановку местной «гостиницы»: «Номера все настолько малы, что едва только вмещают две железные кровати, небольшой деревянный грубой работы стол, небольшой комод; пару стульев… вся мебель так проста и ветха, как в любом провинциально постоялом дворе».
В 70-е годы на землях, прилегающих к Воронцовскому имению и деревне Алупка, стали строиться частновладельческие дачи, которые вплоть до начала ХX века и предоставляли приезжающей публике места для жизни. К концу 80-х годов дачами была застроена обширная территория близ деревни, в которой в 1889 году проживало около 700 татар и 200 русских.
Вышедший на рубеже 80-х и 90-х годов путеводитель по Алупке, рекомендовал для жизни несколько дач, среди которых выделял виллу А.П. Погодиной — лучшее здание Алупки с двенадцатью меблированными комнатами, на которые были установлены определенные цены, не повышавшиеся по мере наступления сезона (55–100 рублей в месяц летом и две трети летней платы в зимний сезон). Вилла была снабжена канализацией, имела отдельную прачечную и кухню. К услугам квартирующих были общий зал, столовая, пианино и «кабинетная музыкальная машина».
Люди, ограниченные в средствах, могли снять в деревне комнату в татарском доме. Этот способ размещения довольно нелестно описывался: «К сожалению, сакли лишены некоторых необходимых удобств и содержатся не особенно опрятно: нечистоты выливаются тут же у балкона, по земляным крышам ночью бегают и визжат крысы». Интересно, что М. Сосногорова в своем путеводителе в 1871 году говорит, что эти комнаты напротив, «хорошенькие и очень чистые», вот насколько менее чем за 20 лет изменились представления о необходимом уровне комфорта.
В конце XIX века к услугам алупкинских «дачников» был ресторан Долгова, помещение которого служило также и гостиницей. Постепенно уровень комфорта повышается.
В 1889 году в Алупке вновь появляется почта, а вскоре и телеграф. Современники отмечают в качестве особенности алупкинского подхода к организации приема приезжающих его подчеркнуто «европейский характер. „Здешние «деревенские» торговцы, — пишет автор путеводителя, — стараются всячески угодить и задобрить покупателя, отпуская ему товар в «городских» бумажных мешочках с надписью фирмы и с полной прописью своей личности (например «Бакалейная», колониальная, посудная, и карамельная торговля Аджи Абибуллы Касим Эфенди в Алупке), печатают прейскуранты, раздают свои визитные карточки, и, конечно, все это делается не в убыток себе”.
В 1899 году местные «интеллигентные домохозяева» основали «Общество благоустройства Алупки как курорта», которое развернуло энергичную деятельность (ею ведал комитет общества под начальством местного дачевладельца генерал-майора А. Н. Лемпицкого) и немало сделало для развития местечка. Газета «Крымский курьер» констатировала: «Алупка за последние 15–20 лет стала неузнаваемой. Из прежней татарской деревни, в которой трудно было найти порядочное помещение, она преобразилась в благоустроенное местечко. Здесь есть прекрасные магазины, почти не уступающие ялтинским, множество красивых дач, построенных большею частью на землях владельцев Алупки, взятой в долгосрочную аренду, причем красотою многие из этих дач могут поспорить с итальянскими виллами».
В 1904 г. в Алупке — тогда еще деревне — была устроена сплавная канализация — случай невиданный в России, где канализацию имели редкие города. Улицы Алупки замощались и поливались водой. Был организован вывоз мусора. В 1911 году центральная Воронцовская улица была освещена керосиново-кадильными фонарями (другие улицы освещались просто керосиновыми). В 1911–12 годах инженер Ф. И. Платсонн построил новый водовод, а в 1914 году заработала электростанция, которая подавала электроэнергию в Воронцовский дворец и крупные имения. Центром курортной жизни стало «Общественное собрание» с театральным залом и садом, где к услугам публики были теннис, крикет, кегли, бильярд и читальня. Со временем Алупка обзавелась новомодным видом «увеселения» публики — двумя «электротеатрами», или синематографами. Некоторые виллы становятся пансионами и гостиницами.
Путеводители рекомендовали приезжающим в Алупку два отеля — «Россия (50 номеров) и «Франция» (25 номеров) с комнатами от 2 рублей в сутки. Они же советовали останавливаться в пансионах, которых было свыше двадцати, где приезжающие обеспечивались не только жильем, но и столом. Алупка предлагала также традиционные «меблированные комнаты». Кроме того, в Алупке накануне Первой мировой войны сдавались помещения в полусотне дач (всего в Алупке было более 150 дач). Цены на размещение и питание были несколько выше, чем в среднем по Южному берегу Крыма, в силу чего Алупка считалась дорогим аристократическим курортом.
Недостатками Алупки как курорта путеводители отмечали слишком маленький пляж, на котором к тому же находилась пристань, из-за чего вода часто бывала грязной, и небольшой выбор развлечений.
Накануне войны ялтинская газета «Русская Ривьера» не без ехидства отмечала: «В Алупке по-прежнему единственное развлечение для приезжей публики — иллюзионы, щеголяющие друг перед другом различными «сенсациями». Несмотря на то, что Алупка считается одним из больших курортов на Южном берегу Крыма там, за исключением гостиницы «России» нет музыки».
Однако основной проблемой курортного развития Алупки было то, что ее никак не признавали городом. Несмотря на свою всероссийскую славу, это одно из старейших курортных мест продолжало оставаться деревней, что лишало ее «всякой возможности предпринять и осуществить многие благие начинания», в частности, ее обитатели были освобождены от уплаты сезонного сбора, который играл столь большую роль в развитии Ялты, дачевладельцы не имели права голоса в сельском собрании Алупки и т. д. Местные общественные деятели неоднократно ставили вопрос о наделении Алупки статусом города. В 1899 году Общество благоустройства подало ходатайство о преобразовании административного статуса Алупки, но дело было отложено. Вновь алупкинцы возбудили этот вопрос в 1910 году, но и на этот раз положительного решения принято не было.
Основным камнем преткновения была судьба Воронцовского майората (12% всего пространства алупкинской земли и 20% общей ценности всех недвижимых имуществ). Энтузиасты изменения статуса Алупки требовали включить его в городские границы, без чего новообразованный город просто не смог бы полноценно существовать, но его владельцы не желали идти на это.
Характерно, что вторые после Воронцовых алупкинские землевладельцы — хозяева имения Алупка-Сара князья Трубецкие не только готовы были включить свои земли в состав будущего города, но безвозмездно предоставляли Алупке 200 саженей своей земли под устройство базара.
Само имение Трубецких площадью 80.000 кв. саженей было разбито на участки, которые предлагались к продаже под дачную застройку. Дав рождение Алупке как курортной местности, знаменитое имение Воронцовых стало, таким образом, главным препятствием в ее дальнейшем развитии (хотя, возможно, именно благодаря этому обстоятельству сегодня мы имеем возможность любоваться знаменитым Воронцовским парком).
В отличие от значительно менее развитой в курортном отношении Алушты, этот первенец курортного развития Южнобережья так и не смог обрести административную самостоятельность (для сравнения: с 1896 по 1899 г. в Алупке было возведено 111 новых построек, а в Алуште только 63; в сезон 1899 г. в Алупке было 5000 приезжих, в Алуште только 1800).
|
Метки: первая мировая война алупка трубецкие алупка-сара |
Валентина Чеботарева. В Дворцовом лазарете в Царском Селе. |
Валентина Чеботарева. В Дворцовом лазарете в Царском Селе.
Дневник: 14 июля 1915 - 5 января 1918.
Новый журнал. Кн. 181, 182. Нью-Йорк, 1990.
(Отрывки из дневника, посвященные жизни Дворцового лазарета).
21 июля.
<...> 21-го операция Заливского прошла отлично. Шелк подавала Татьяна Николаевна1, Ольга Николаевна2 инструменты, я3 — матерьял. Вечером опять приехали чистить инструменты, сидели все в страшной тесноте. Открыли сами окна, сами притащили шелк. О[льга] Николаевна опять сказала: "Мамá4 кланяется вам, Валентина Ивановна, особенно. А хорошо здесь, не было бы войны, мы и вас бы не знали, как странно, правда?" Скребли усердно мыльцем, спиртом, готовые инструменты сами клали в шкап. Офицеры удивлялись: "Ведь есть денщики, отчего вы себе руки портите!"
26 июля
<...> Начали работать императрица и великие княжны в августе [1914 - КФ]. Сначала как они были далеки! Целовали руку, здороваясь с княжнами, и этим дело кончалось. Вера Игнатьевна5 читала лекции в их комнате с полчаса, там всегда была Анна Александровна, затем шли на перевязки, княжны – солдат, государыня и Анна Александровна6 – офицеров.
27 июля.
<...> 2-го января (1915 г - КФ) я вечер была дома, дежурила графиня. В одиннадцатом часу позвонил М.Л. Слышал о страшной катастрофе - Вырубова6 тоже пострадала, кажется, ноги отрезаны, "повезли к вам в лазарет". Как стало жутко и первая мысль: "Господи, избавь государыню от этого нового горя потерять близкого, любящего человека!" Кинулась в лазарет. Направо, в конце коридора, на носилках стонал пострадавший художник Стреблов, подле возились Эберт, Мухин; Вера Игнатьевна была налево, в императорской комнате. Оказывается, как только дали знать императрице о несчастьи, она собрала все свои силы и поехала. Присутствие духа поразительное. Помогала выносить всех, сама всем распоряжалась, устроила ей кровать в своей комнате, нашла силы приласкать расплакавшуюся Грекову7. По телефону сказали, что ноги уже обе отрезаны. Императрица погладила Грекову по голове, поцеловала и сказала: "До последней минуты я всегда надеюсь и еще не верю, Бог милостив". Около 10-ти часов привезли. Каким-то чудом Вера Игнатьевна оказалась во встречном поезде, наткнулась на Сабурова, кричавшего: "Аня Вырубова искалечена, не могут вытащить из-под вагона!" Два часа стояла подле нее на снегу и помогала отвезти - к нам. Страдания невероятные. Осмотреть ее не удается — кажется, сломан крестец — при малейшей попытке дотронуться — нечеловеческий стон, вой. Коридоры полны народа, тут и Воейков8, флигель-адъютант, Комаров9, масса придворных, старики Танеевы10 бродят растерянные, не отказались все же закусить. Татьяна Николаевна, нежно взяв под руку старуху Танееву, прошла с ней по коридору, заплаканная.
Послали за Григорием11. Жутко мне стало, но осудить никого не могла. Женщина умирает; она верит в Григория, в его - святость, в молитвы. Приехал перепуганный, трепаная бороденка трясется, мышиные глазки так и бегают. Схватил Веру Игнатьевну за руку: "Будет жить, будет жить..." Как она сама мне потом говорила, "решила разыграть и я пророка, задумалась и изрекла: "Будет, я ее спасу". Несмотря на трагизм минуты, государь не мог не улыбнуться, сказав; "Всякий по-своему лечит".
Государь приехал в первом часу ночи, грустный, но, главное, видно, озабоченный за императрицу, С какой лаской он за ней следил и с некоторым беспокойством всматривался в лица офицеров: как-то будет встречено появление наряду с ними этого пресловутого старца. Государь долго говорил с Верой Игнатьевной, подробностей не знаю, но он, безусловно, ни в какую святость и силу Григория не верит, но терпит, как ту соломину, за которую хватается больная исстрадавшаяся душа. Сюда поместил Анну Александровну нарочно, "чтобы и она, и остальные были в здоровой обстановке, если возможно, удаленные от кликушества".
Вера Игнатьевна поставила условием, чтобы Григорий ходил через боковой подъезд, никогда среди офицеров не показывался, чтобы его Акулина-богородица не смела переступать порога, отделяющего коридор, где императорская комната и перевязочные, от остального помещения. Стеклянные двери были закрыты и на следующее утро завешены полотняными портьерами. Но все это были меры страуса, прячущего голову. Все знали о каждом его появлении и большинство мирилось, верно понимая, что нельзя отказать умирающей женщине в ее просьбе. Но невольно какая-то тень бросалась на светлый, обожаемый облик, и что-то было надломлено... Анна Александровна ветретила Григория словами: "Где же ты был, я так тебя звала. Вот тебе и ясновидение, не почуял на расстоянии, что с его Аннушкой беда приключилась!" Остался дежурить на всю ночь. Царская семья уехала около часу. У государыни нашлись силы всем нам пожать руки, улыбнуться. Вот несчастная!
30 июля
<...> Среди операции перенесли ужасную минуту. Вера Игнатьевна говорит: "дренаж", а о нем никто и не подумал. Счастье, что я, по своей мании все стерилизовать, прокипятила жгут и спрятала его в стеклянную банку. Мигом выхватила и подала, но час еще после все внутри прыгало и дрожало. Княжны мне шепнули:: "После отъезда мамá мы останемся, поможем вам чистить инструменты". И милые детки работали до 8-го часу. Татьяна Николаевна скальпелем обрезала палец, кровь текла довольно сильно и лучше, пожалуй, хотя нож был чист, но мог попасть грязный порошок в ранку. Подле сидели Мел. Адам, и Шах Багов. Сколько поэтической ласки вносит Татьяна Николаевна! Как она горячо отзывалась, когда вызывала по телефону и прочла телеграмму о его ранении. Какая она хорошая, чистая и глубокая девочка! Молодость тянет к молодости, и как светятся ее глазки! Ужасно хорошая!
<...> Вспомнилась сценка из безмятежных дней, когда с фронта шли радостные вести, и в лазарете царил тихий, счастливый покой. В конце апреля или в начале, не помню точно, государыня бывала каждый день, бодрая, чудная, ласковая. После перевязок часами сидела у постели Варвары Афанасьевны12, туда приходили и раненые. Государыня и княжны работали, шутили, смеялись.
1 августа
<...> Как тяжела была смерть Корвин-Пиотровского! Я была ночной дежурной и всю ночь сидела подле бедняги, и ему грозила ежесекундная смерть. С правой стороны вздулась опухоль в кулак. Каждые пять минут он менял положение. Гладила его по руке... Казалось, немного забывался и спал с перерывами. Наутро бодро поехал на операцию. Начало было недурно, но как-то щемящим предчувствием сжималось сердце, как увидела Деревенько18, этот злой дух наш, а porte malheur13 . Артерии Вера Игнатьевна перевязала, дала держать Эберману14 и вдруг артерия перервалась, кровь хлынула рекой, и тут Вера Игнатьевна проявила чудеса ловкости, мигом отшвырнула Эбермана и одним движением зажала бьющий фонтан. Но легкие уже насытились кровью и всем слышен был роковой свист. Наркоз прекратили, но пульс стал падать, лицо посинело, остановившиеся стеклянные глаза не реагировали ни на свет, ни на прикосновение. Все попытки вызвать искусственное дыхание, опрокидывание головы вниз — ничто не помогало. В жизни не забуду этой первой смерти, что пришлось видеть. Два-три каких-то беспомощных всплескивания губами — и все кончено. Человека не стало, Какая мертвая тишина наступила... Сестры, и Ольга, и Татьяна, плакали. Государыня, как скорбный ангел, закрыла ему глаза, постояла несколько секунд и тихо вышла. Бедная Вера Игнатьевна моментально ушла к себе. До чего ей было тяжело; у всех врачей был сконфуженный, но виноватый вид. Драматично еще то, что жена его не получила телеграммы, ехала, уверенная, что он легко ранен и первым делом наткнулась на денщика: "Где барин, проведи меня скорей", а тот по простоте душевной брякнул: "Вот здесь, в часовне".
21 октября.
<...> Занятно, чем кончится история Б.Д. Офицеры-преображенцы переоделись извозчиками и повезли кататься сестер – скандал и шум. Шаховская15, конечно, не преминула обратиться к Вырубовой. Государыня взглянула очень строго, офицеров перевели в другой лазарет, а сестер, возможно, вышибут. Шаховская свою кузину на их место. Но, говорят, без крупной истории не обойдется, расскажут все эскапады Шаховской, но захотят ли их выслушать!
24-го октября.
Все эти дни государыня приезжает, мила, ласкова и трогательна, говорила и со мной ласково и приветливо. Оказывается, мяса и рыбы не ест по убеждению: "Лет десять-одиннадцать тому назад была в Сарове и решила не есть больше ничего животного, а потом и доктора нашли, что это необходимо по состоянию моего здоровья". Сидела долго с работой в столовой. Одна из княжон играла в пинг-понг, другая в шашки, кто читал, кто болтал, все просто и уютно. Государыня сказала Варваре Афанасьевне:
"Посмотрите, как малышки забавляются, как эта простая жизнь позволяет отдохнуть... большие сборища, высшее общество — брр! Я возвращаюсь к себе совершенно разбитой. Я должна себе заставлять говорить, видеться с людьми, которые, я отлично знаю, против меня, работают против меня... Двор, эти интриги, зта злоба, как это мучительно и утомительно. Недавно я, наконец, была избавлена кое от кого, и то лишь когда появились доказательства. Когда я удаляюсь из этого общества, я устраиваю свою жизнь как мне нравится; тогда-говорят: "она — экзальтированная особа"; осуждают тех, кого я люблю, а ведь для того, чтобы судить, надо все знать до деталей. Часто я знаю, что за человек, передо мной; достаточно на него раз взглянуть, чтобы понять: можно ему доверять или нет" (пер. с франц.).
Бедная, несчастная... Такой она мне и рисовалась всегда — сама чистая и хорошая, цельная и простая, она томится условностью и мишурой большого света, а в грязь Григория она не может поверить. В результате — враги в верхних слоях и недоверие нижних.
<...> Сегодня Татьяна Николаевна сначала приехала одна: "Ведь я еду сюда, как в свой второй дом", и, действительно, такая милая и уютная была. Побежала со мной в кухню, где мы готовили бинты. Государыня посмеялась и сказала, что Татьяна, как хорошая домашняя собачка, привыкла. Бедная Ольга Николаевна совсем больна — развилось сильнейшее малокровие, уложили на неделю в постель, но с разрешением приезжать в лазарет на полчаса для вспрыскивания мышьяка.
4 декабря.
<...> И почем знать, что за драму пережила Ольга Николаевна. Почему она так тает, похудела, побледнела: влюблена в Шах Багова? Есть немножко, но не всерьез. Вообще атмосфера сейчас царит тоже не внушающая спокойствия. Как только конец перевязок, Татьяна Николаевна идет делать вспрыскивание, а затем усаживается вдвоем с К. Последний неотступно пришит, то садится за рояль и, наигрывая одним пальцем что-то, много и горячо болтает с милой деткой. Варвара Афанасьевна в ужасе, что если бы на эту сценку вошла Нарышкина16, мадам Зизи, то умерла бы. У Шах Багова жар, лежит. Ольга Николаевна просиживает все время у его постели. Другая парочка туда же перебралась, вчера сидели рядом на кровати и рассматривали альбом. К. так и жмется. Милое детское личико Татьяны Николаевны ничего ведь не скроет, розовое, возбужденное. А не вред ли вся эта близость, прикосновения. Мне жутко становится. Ведь остальные-то завидуют, злятся и, воображаю, что плетут и разносят по городу, а после и дальше. К. Вера Игнатьевна посылает в Евпаторию17 — и слава Богу. От греха подальше. Вера Игнатьевна говорила мне, будто Шах Багов, нетрезвый, кому-то показывал письма Ольги Николаевны. Только этого еще недоставало! Бедные детки!
Татьяна Николаевна — чудная сестра. 27-го, в день возвращения Веры Игнатьевны, взяли Смирнова в перевязочную. Температура все держалась, пульс скверный, решен был прокол после пробного укола. Игла забилась сгустками гноя, ничего не удавалось высосать, новый укол, и Вера Игнатьевна попадает прямо на гнойник; потек густой, необычайно вонючий гной. Решают немедленно прорез. Забегали мы, я кинулась фильтровать новокаин и кипятить, Татьяна Николаевна самостоятельно собрала и вскипятила все инструменты, перетаскивала столы, готовила белье. Через 25 минут все было готово. Операция прошла благополучно. После разреза сперва с трудом, а потом рекой полился невероятно вонючий гной. Первый раз в жизни у меня был позыв к тошноте, а Татьяна Николаевна ничего, только при жалобе, стонах личико подергивалось, да вся стала пунцовая. К вечеру у Смирнова пульс стал падать, в 9 часов приехали Ольга Николаевна и Татьяна Николаевна чистить инструменты. К. опять на лесенке рядом с Татьяной Николаевной. Детки были веселые, оживленные. В 10 часов пошли к Смирнову перед отъездом, и жизнерадостность разом пропала. Глаза закатились, в груди клокотанье, каждый час вспрыскивали то спермит, то камфору. Мы с Варварой Афанасьевной решили остаться, послали за родными, за священником. Исповедался, причастился, глаза оживились, внимательно на всех глядел, совсем ясно говорил, трогательно простился с батюшкой: "Спокойной ночи, батюшка", — но клокотанье не прекращалось, к утру уже никакие вспрыскивания не помогали, пульс пропал, вздохнул два раза и кончился.
На панихиду и отпевание приехала и государыня, ужасно худенькая и грустная. К. приказала оставить санитаром.
7 декабря.
<...> Вчера великие княжны в 6 часов вечера вызвали к себе Варвару Афанасьевну, как всегда мило ее ласкали. Между прочим, Татьяна Николаевна спросила: "Как вы думаете, когда сегодня легла мать? В 8 утра! — Очевидно, всю ночь провела подле постели Алексея Николаевича. — Через полчаса встала и поехала в церковь". Княжны при Варваре Афанасьевне переоделись, выбирали драгоценности. Ольга сказала: "Жаль только, что некому мною наслаждаться, один папá!". Полное отсутствие кокетства. Раз, два — прическа готова (прически нет), в зеркало и не взглянула. Но строгости все же большие. Анастасию19 не взяли обедать, рано должна ложиться спать, потому обедала вдвоем с няней на своем громадном одиноком "верху". Перед тем, когда Варвара Афанасьевна была у них — Ольга была - больна, — Нюта принесла граммофонную пластинку "Прощай Lou-Lou". Отголоски, очевидно, лазаретных впечатлений. Грустно бедным деткам живется в блестящей клетке.
ПРОДОЛЖЕНИЕ: ДНЕВНИК 1916 ГОДА
|
1. Великая княжна Татьяна Николаевна (1897-1918). 2. Великая княжна Ольга Николаевна (1895-1918). 3. Чеботарева Валентина Ивановна (ок.1879-1919) - старшая сестра Дворцового лазарета, жена генерал-майора П.Г.Чеботарева, автор воспоминаний. После отъезда из Царского Села (1918) возобновила работу в лазарете г. Новочеркасска, где после освобождения из немецкого плена ее муж служил директором Донского Кадетского корпуса. Скончалась от тифа. 4. Императрица Александра Федоровна (1872-1918). 5. Старший врач Дворцового лазарета, доктор медицины, княжна Вера Игнатьевна Гедройц (1870-1932). 6. Вырубова (ур. Танеева) Анна Александровна (1884-1964), фрейлина Двора, близкий друг императрицы. 7. Грекова Ольга Порфирьевна , сестра милосердия, дочь донского казачьего генерала, после революции вышла замуж за барона Д. Ф. Таубе 8. Владимир Николаевич Воейков, генерал-майор Свиты, последний дворцовый комендант, автор воспоминаний. 9. Заведующий Зимним Дворцом. 10. Родители А.А.Вырубовой, Александр Сергеевич Танеев, обер-гофмаршал(ум. в 1918г.) и Надежда Илларионовна, ур. Толстая. 11. Распутиным. 12. Вильчковская Варвара Афанасьевна - сестра милосердия, жена полковника С.Н.Вильчковского, председателя Царскосельского эвакуационного комитета автора путеводителя по Царскому Селу. 13. Принес несчастье (франц.). 14. Эберман Александр Александрович, доктор медицины. 15. Княжна Шаховская, фрейлина Великой Княгини Елизаветы Федоровны, подруга А.А.Вырубовой. 16. Обер-гофмейстерина Елизавета Андреевна Нарышкина ("мадам Зизи"), ур. кн. Куракина, статс-дама. 17. для дальнейшего лечения, раненые из Дворцового лазарета посылались в евпаторийский госпиталь им. императрицы 18. Дядька наследника Алексея. 19. Великая княжна Анастасия Николаевна (1901-1918).
ЖИЗНЬ ДВОРЦОВОГО ЛАЗАРЕТА: ФОТОГРАФИИ ВОСПОМИНАНИЯ О ЦАРСКОСЕЛЬСКИХ ЛАЗАРЕТАХ |
http://kfinkelshteyn.narod.ru/Tzarskoye_Selo/Vosp_Chebotarevoy1.htm
|
|
Метки: первая мировая война лазареты царское село |
Маргарита Александровна Трубецкая р. 1857 |
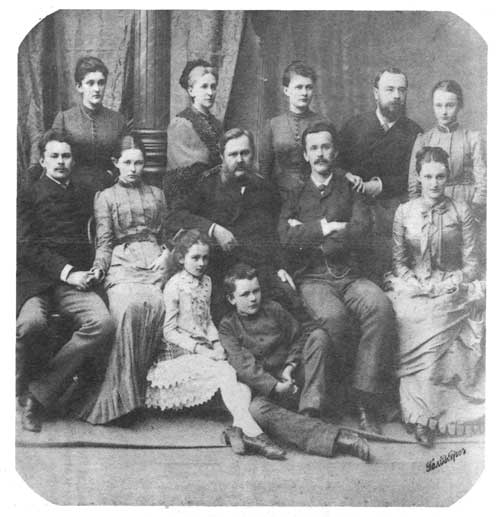
Маргарита Александровна Трубецкая р. 1857
Маргaритa Николаевна кн. Трубецкая (1868 - 1868)РОДСТВЕННИК СОБАКИНА А Г
АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВИЧА'СОБАКИН
s first cousin five times removed Elle Kiiker Дочь Николая Петровича кн. Трубецкоя и Софьи Алексеевны кн. Трубецкой
Сестра Сергея Николаевича кн. Трубецкоя; Евгения Николаевича кн. Трубецкоя; Антонины Николаевны кн.Самарины; Елизаветы Николаевны Осоргины и ещё 5
Полукровная сестра Софьи Николаевны Глебовой; Петра Николаевича кн. Трубецкоя; Георгия Николаевича кн. Трубецкоя; Марии Николаевны Кристи и ещё 1
Маргарита Александровна Трубецкая р. 1857
Запись:609771
Полное дерево
Поколенная роспись
Род Трубецкие
Пол женщина
Полное имя
от рождения Маргарита Александровна Трубецкая
Родители
; Александр Васильевич Трубецкой [Трубецкие] р. 1813 ум. 1889
; Мария-Евгения Жильбер де Вуазен (Трубецкая) [Вуазен] р. 1835 ум. 1901
События
1857 рождение:
1881 брак: ; Marie Christian Labrousse de Beauregard [Labrousse] ум. 1911
3.2.1.2.4.9. княжна Мария Николаевна Трубецкая (1868—1868). ... 3.2.1.2.4.13. княжна Марина Николаевна Трубецкая (1877—1924), первая председательница общества Скрябина, вышла замуж за кн. Николая Викторовича Гагарина.
Трубецкие.
Николай Петрович и его многочисленное потомство
3.2.1.2.4. Князь Николай Петрович Трубецкой (1828—1900) — четвёртый сын генерала П. И. Трубецкого, фактический глава Московского отделения Русского музыкального общества, соучредитель Московской консерватории.
Представитель княжеского рода Трубецких, внук фельдмаршала П. Х. Витгенштейна, брат камергера А. П. Трубецкого, дядя скульптора П. П. Трубецкого. Родился в знаменитом подмосковном имении Ахтырка, которое и унаследовал после смерти отца, но в 1879 г. продал, чтобы выручить из долговой тюрьмы беспутного брата Ивана.
Воспитывался в Пажеском корпусе, откуда был выпущен в Преображенский полк. Про себя он рассказывал, что часто в Корпусе бывал наказан «за саркастический взгляд и насмешливую улыбку». Когда жизнь в гвардейском полку стала внушать опасения его матери, она вызвала его к себе в Москву, а затем вскорости женила на колоссально богатой графине Орловой-Денисовой;
4000579_Nikolai_Trubetskoi (175x291, 33Kb)
Prince Nicholas Troubetzkoy 1828-1900
Много лет был ближайшим товарищем композитора Н. Г. Рубинштейна. Они в равной степени могут считаться создателями Московской консерватории (1866 г.).
В 1876 году Н. П. Трубецкой выбыл из состава дирекции вследствие назначения его калужским вице-губернатором. Он был избран почётным членом Московского отделения РМО и в этом звании был утвержден Председателем ИРМО великим князем Константином Николаевичем. По чинам — тайный советник, гофмейстер императорского двора. Могила в Донском монастыре.
4000579_uzkoe24 (200x280, 11Kb)
Князь Николай Петрович Трубецкой с детьми - Петром и Марией. Фото нач. 1860-х гг. Частное собрание
Благодаря музыкальным пристрастиям хозяина его усальба в Ахтырке была словно напоена музыкой. Здесь на домашних концертах блистал знаменитый Николай Рубинштейн, бывал в гостях у главы славного семейства сам Петр Ильич Чайковский.
Некогда старая Ахтырка до краев была наполнена духовной жизнью. Не оттого ли и в семействе князя Николая Петровича все дети росли в согласии с православной верой, несмотря на нарождавшийся век нигилизма.Трое сыновей стали известными общественными деятелями:
Старший, Сергей – православный философ, публицист, профессор и первый выборный ректор Московского университета. Евгений, – общественный деятель и религиозный мыслитель, увлекшийся идеей нравственного обновления мира. Самый младший из братьев – Григорий. Дипломат, один из идейных создателей Белого движения. Судьба была милостива к нему – ему удалось эмигрировать из революционной России. Разбросала судьба по свету и семерых сестер-княжон Трубецких: Марину, Варвару, Антонину, Елизавету, Ольгу, Марию и Александру.
Первая жена - графиня Любовь Васильевна Орлова-Денисова (1828—1860) от этого брака у князя родилось трое детей: дочь Софья, сын Петр и дочь Мария; после рождения последней дочери первая его жена скончалась и, умирая, просила свою сестру графиню С.В.Толстую взять ее детей на воспитание, и мужа уговаривала вторично жениться, видя, как ему необходима семейная обстановка.
4000579_uzkoe23 (250x385, 21Kb)
Графиня Софья Васильевна Толстая. Фото сер. XIXв. Частное собрание (Франция)
Хотя по рассказам они были очень счастливы, князь никогда про свою первую жену не рассказывал, и в доме его даже не было ни одного ее портрета. Вскоре он познакомился с семьей Лопухиных, безумно влюбился в старшую дочь Софью Алексеевну, неотступно стал за ней ухаживать и добился ее согласия.
3.2.1.2.4.1. Княжна Софья Николаевна Трубецкая (1854—1936) вышла замуж за Владимира Петровича Глебова, калужского предводителя дворянства
За Софьей ухаживал чиновник канцелярии Московского генерал-губернатора губернский секретарь Владимир Петрович Глебов (1848—1926). Местом для свадебного торжества было выбрано Узкое, куда съехались многочисленные друзья и родственники с обеих сторон. 2 июля 1878 года В. П. Глебов и С. Н. Трубецкая были обвенчаны священником местной церкви Капитаном Ивановичем Горским. «Поручителями по невесте» были её отец — князь Николай Петрович Трубецкой и полковник Светлейший князь Николай Ильич Грузинский. За жениха «поручителем» был его младший брат, кавалергардский поручик Фёдор Петрович Глебов (1853—1884).
Семейная жизнь В. П. и С. Н. Глебовых сложилась счастливо. Глава семьи несколько раз избирался предводителем дворянства, то в Епифанском уезде Тульской губернии, где находилось имение Глебовых Тарасково, то в Каширском уезде Калужской губернии. Позже он стал членом Государственного Совета. Его супруга, как и многие другие богатые дамы, занималась благотворительностью, попечительствовала приюту и школе для неимущих, возглавляла совет Московского дамского попечительства о бедных. С. Н. Глебовой принадлежат интересные мемуары о Л. Н. Толстом, за одного из многочисленных сыновей которого, Михаила Львовича (1879 - 1944), вышла замуж ее старшая дочь Александра Владимировна (1880 - 1967). Эта свадьба состоялась 31 января 1901 года.
http://testan.rusgor.ru/moscow/book/uzkoe/uzkoe14.htm
Соня была уже замужем за Владимиром Петровичем Глебовым, старшим братом моего товарища, и имела уже несколько детей; она была и есть очень веселая, предприимчивая, энергичная; муж ее был на редкость красивый, с большой хозяйственной сметкой, благодаря коей устроил сам громадное состояние, удесятерив свои и женины средства; жили они по зимам в своем собственном доме на Молчановке, а лето и осень проводили в одном из многочисленных имений, где оканчивали свое пребывание всегда грандиозной охотой с борзыми.
Дом на Молчановке с увеличением семьи постоянно увеличивали пристройками, и кончилось тем, что обстроенная кругом новыми комнатами столовая оказалась без окон и пришлось осветить ее, устроив над ней стеклянный фонарь в крыше. Все их дети в настоящее время, кроме двух младших, Сережи и Саши, уже давно женаты и замужем и имеют детей. Старшая, Лина, замужем за сыном Льва Николаевича Толстого Михаилом; второй, Петр, женат был на Треповой, развелся с ней и женился на разведенной жене своего двоюродного брата Кристи, урожденной Михалковой; третья дочь, Люба, замужем за Сашей Голицыным, внуком Елены Абрамовны Деляновой; четвертая, Соня, — за графом Олсуфьевым, пятая, Мария, — за Писаревым, и сын Владимир женат на Михалковой, единокровной сестре жены старшего брата.
М.Осоргин Воспоминания...
4000579____11 (150x214, 6Kb)
Княжна Софья Николаевна Трубецкая. Фото кон. I860 - нач. 1870 гг. Частное собрание (Франция).
В 1902 году их дочь Софья Владимировна Глебова (3 июня 1884 - 15 февраля 1943) стала женою искусствоведа графа Юрия Алексеевича Олсуфьева (1878 — 1938). Художник и реставратор, Софья Владимировна Олсуфьева сопровождала мужа во всех скитаниях и помогала ему в работе. После начала войны она была арестована в Дмитрове «за распространение антисоветских слухов» и, не выдержав тягот заключения, скончалась 15 марта 1943 года в концлагере, находившемся в бывшем Свияжском монастыре.
4000579_Sofia_Olsufjeva_by_Serow (332x480, 32Kb)
В.А.Серов. Софья Владимировна, урожденная Глебова (1884-1943), внучка князя Николая Петровича Трубецкого. Была замужем за Юрием Александровичем Олсуфьевым (1878-1938). (1911)
Единственный сын Олсуфьевых, в котором они души не чаяли, в 1923 году с благословения родителей бежал в Харбин и добрался до Бессарабии, где у Олсуфьевых было имение. Изредка Михаил писал родителям, подписываясь женским именем Катенька. Родители его при арестах говорили, что детей у них нет. Когда советские войска вошли в Бессарабию, М. Олсуфьев бежал, бросив свой двухэтажный особняк в Бухаресте. Впоследствии он жил в Париже, где и умер в 1984 году.
Один из сыновей С.Н. и В.П. Глебовых - Пётр Владимирович Глебов (25 января 1879 - 16 декабря 1922), Московский уездный предводитель дворянства, входил в состав городского Центрального комитета партии «октябристов». В 1901 — 1907 годах он был женат на дочери печально известного Московского обер-полицмейстера Софье Дмитриевне Треповой (1882 — 1954). Мария Михалкова стала его второй женой в 1913 году. (Мария Александровна, урождённая Михалкова (август 1883 — февраль 1966). Дочь Александра Владимировича Михалкова (13 мая 1856—1915), родная сестра отца Сергея Михалкова Владимира. Её первый супруг — Владимир Григорьевич Кристи (1882—1946) (сын Московского губернатора Г. И. Кристи (1856—1911) и Марии Николаевны Трубецкой (12 февраля 1864 — 29 марта 1926), дочери Николая Петровича Трубецкого и Любови Васильевны, урождённой Орловой-Денисовой. В 1911 году В. Г. Кристи, ревнуя свою жену к своему дяде (брату матери) князю Пётру Николаевичу Трубецкому, убил последнего выстрелом из револьвера. Вскоре Мария Александровна Михалкова развелась с В. Г. Кристи и вышла замуж за его двоюродного брата Петра Владимировича Глебова)
их сын - П. П. Глебов (14 апреля 1915 - 17 апреля 2000), народный артист СССР
4000579_180PX12 (180x272, 10Kb)
Петр Петрович Глебов
3.2.1.2.4.2. князь Пётр Николаевич Трубецкой (1858—1911) женился 1 октября 1884 г. на кн. Александре Владимировне Оболенской (27 октября 1861 - 14 декабря 1939) Князь Петр Николаевич Трубецкой (1858-1911) был вторым ребенком в семье Князя Николая Петровича Трубецкого и Любовь Васильевны, урожденной графини Орловой-Денисовой. После смерти матери в 1860 году Петр Николаевич Трубецкой воспитывался своей теткой Софьей Толстой. Именно от нее и ее мужа, Владимира Толстого, он получил любовь к земле и сельскому хозяйству.
4000579_375PX1 (375x599, 42Kb)
Князь Петр Николаевич Трубецкой был типичным русским барином, любившим хорошо поесть и весело пожить, ценителем породистых лошадей и шикарных женщин, что, в конце концов, его и погубило. Князь «… всегда был поглощен каким-либо одним делом, вокруг которого он развивал кипучую энергию, и для этого дела шагал не только через препятствия, но и через людей, когда они попадались по дороге и мешали»,- писал его сводный брат философ Евгений Николаевич Трубецкой (1863 — 1920).
Окончив юридический факультет Московского университета, П. Н. Трубецкой начал службу по ведомству Министерства внутренних дел. В 1883 году он впервые «исполнял должность» Московского уездного предводителя дворянства , заменив графа А. В. Бобринского, тогда же к нему от С. В. Толстой перешла подмосковная усадьба Узкое (формально была продана за достаточно небольшую для такого владения сумму). В 1884 году он заменял уже губернского предводителя дворянства. Впоследствии посты уездного и губернского предводителей П. Н. Трубецкой получил путем выборов.
После венчания 1 октября 1884 года с княжной Александрой Владимировной Оболенской они уехали в путешествие по Европе
4000579_u121 (200x278, 16Kb)
П.Н. и А.В. Трубецкие во время свадебного путешествия. Флоренция. 1884 г
У него в доме и в его присутствии все смягчалось и обсуждение всякого жгучего вопроса лишено было страстности; эта особенность сказалась, когда он был московским губернским предводителем дворянства; положил он в то время начало объединению всего дворянства в России, организовав вначале частные, а потом и официальные съезды всех губернских предводителей; когда же он был избран в Государственный Совет, он продолжал свою деятельность и там в том же роде, и в его доме много было сглажено трений и принято общих решений членами Государственного Совета, причем сам, далеко не обладая государственным умом, он редко способствовал тому или иному решению вопроса, а лишь смягчал столкновения, мирил слишком ярых противников и всегда старался подыскать ту равнодействующую, которая могла бы удовлетворить всех. Недаром его в шутку, на ушко, прозывали «губернский предводитель дворянства Государственного Совета». Умер он в расцвете сил, многое еще мог бы сделать, но жизнь его пресеклась при самых драматических обстоятельствах.... Женат он был на княжне Александре Владимировне Оболенской, одной из детских подруг моей жены, о которой писал выше; она, хотя страдавшая заиканием, умела быть верной помощницей мужа в его общественной деятельности, всегда любезно и с большим достоинством принимая всех его сослуживцев и гостей; и она и он были очень богаты, что дало ей возможность поставить свой дом на широкую ногу, но с большим вкусом и благородством; ее светская жизнь не мешала ей заниматься воспитанием своих детей, на которых она положила много забот, глубоко продуманных, и для которых она до сих пор, несмотря на то, что почти все они замужем и женаты, непреложный авторитет.
М.Осоргин. Воспоминания...
Московским губернским предводителем дворянства П. Н. Трубецкой был в 1892—1906 годах. Параллельно он получал придворные и гражданские звания, пройдя путь от камер-юнкера до егермейстера и став в 1896 году действительным статским советником.
Весной 1905 года П. Н. Трубецкой вместе с князем А. Г. Щербатовым, графами Павлом и Петром Дмитриевичами Шереметевыми, публицистами Н. А. Павловым и С. Ф. Шараповым и другими стал учредителем и главным деятелем монархического Союза русских людей в Москве (после поражения на выборах в 1-ю Государственную думу, активность Союза резко сократилась; многие его члены стали участниками других черносотенно-монархических организаций).
В 1906 году он был избран от дворянских обществ в Государственный совет
П. Н. Трубецкому и петербургскому губернскому предводителю дворянства графу В. В. Гудовичу, поддержанных министром внутренних дел П. Н. Дурново, принадлежала идея отдельного представительства от дворянства в Государственном совете. В Госсовете П. Н. Трубецкой впоследствии возглавил земельную комиссию. Одно время он был председателем партии центра, в чем усматривался известный либерализм, так как председателями групп и партий становились, как правило, лишь лица, попавшие в верхнюю палату российского парламента не по выборам, а по назначению Николая II.
4000579_u142 (350x203, 29Kb)
Трубецкие в Узком.На скамейке слева направо: Александра Владимировна с дочерью Любовью, Петр Николаевич с сыном Николаем, Прасковья Владимировна и старший сын П.Н. и А.В. Трубецких Владимир. (1895)
Переход Узкого в руки Петра Трубецкого в 1883 году почти совпал с продажей родовой подмосковной вотчины Трубецких — Ахтырки (Дмитровский уезд), принадлежавшей его отцу Николаю Петровичу
31 июля 1900 года в Узком, где тогда жил Сергей Николаевич Трубецкой, в кабинете П. Н. Трубецкого скончался известный философ Владимир Сергеевич Соловьев. П. Н. Трубецкой присутствовал на его похоронах, состоявшихся в Новодевичьем монастыре.
4000579_uzkoe_09 (300x364, 17Kb)
А. В. и П.Н. Трубецкие в Узком.(1890).
Во времена, когда имения приходили в запустение, Князь П.Н. Трубецкой был абсолютно уверен, что если дворянству и суждено уцелеть как классу, то оно должно получить пример ответственного и рачительного отношения к земле. Вскоре он получил через своего деда Орлова-Денисова имение «Казацкое», расположенное в 70 км на северо-восток от Херсона, и которое было расширено до площади 67 000 акров, где построил замок и разводил виноград по совету друга винодела Льва Голицына.
П. Н. Трубецкому принадлежал ряд имений в южных регионах страны: в с. Козацком Херсонской губернии, Долматово Таврической губернии, Сочи (Ардуч) Черноморской губернии. Как крупный винодел он был одним из учредителей (в 1901 году) комитета виноградарства и виноделия Императорского Московского общества сельского хозяйства.
В летние месяцы в Узкое съезжались многочисленные отдыхающие — друзья и родственники Трубецких. В конце лета — начале осени они обычно отправлялись в одно из южных имений П.Н.Трубецкого — Казацкое (Херсонской губернии и уезда), где был большой конный завод и многочисленные виноградники, урожай с которых служил сырьем для великолепных вин, изготавливаемых по рецептам князя. Виноградники были заложены в 1896 году, а уже через несколько лет вина из Казацкого и расположенного по соседству другого имения П.Н.Трубецкого — Долматово (Днепровский уезд Таврической губернии) получили ряд отечественных и международных призов. Как крупный винодел он был одним из учредителей (в 1901 году) комитета виноградарства и виноделия Императорского Московского общества сельского хозяйства. В Козацком, кроме многочисленных виноградников существовало тонкорунное овцеводство — одно из лучших в России и большой конный завод. Из Казацкого в Узкое специально доставляли диких необъезженных лошадей, которыми владелец любил сам управлять, катаясь в экипаже.
4000579_Stamp_2010_Cabernet_Sauvignon (500x495, 70Kb)
Марка України «Виноробство в Україні. Каберне Совіньйон»
Он был убит одним из собственных племянников Владимиром Григорьевичем Кристи. Трагедия произошла в Новочеркасске, куда съехались семьи Трубецких и Кристи. В тот день происходила торжественная церемония перенесения праха донских военных деятелей, среди которых был их предок граф В.В.Орлов-Денисов, в усыпальницу только что завершенного войскового собора. (Благодаря такому родству эта ветвь Трубецких традиционно состояла в казачестве. Самому П.Н.Трубецкому принадлежал казачий пай в Пятиизбянской станице 2-го Донского округа, а в 1883 году очередное дворянское собрание Войска Донского избрало его почетным попечителем Нижнечирской мужской прогимназии). К казачеству предполагалось приписать и младшего брата Владимира Кристи — Виктора — студента Петербургского университета, и восемнадцатилетнюю сестру Софью (впоследствии Чоколову). ...
Выстояв скучную траурную церемонию, П.Н.Трубецкой решил развлечься. Вместе с женой своего племянника красавицей-блондинкой Марией Александровной Кристи, урожденной Михалковой (1883 — 1966), он отправился кататься на автомобиле. Пара прибыла на вокзал и удобно устроилась в личном вагоне князя. Проводник был отослан за кофе и коньяком. Перед самым его возвращением в вагон ворвался разъяренный муж, долгое время безуспешно разыскивавший свою половину, не говоря ни слова вынул браунинг, и ряд прекрасных имений, в том числе и Узкое, в один миг лишились своего хозяина. Дама попыталась помочь упавшему, но было уже поздно. П.Н.Трубецкой скончался у нее на руках через несколько секунд после выстрела, не дожив до своего пятидесятитрехлетнего юбилея, шумное празднование которого планировалось на следующий день. «Сумасшедший муж мой убил князя!» — сказала блондинка вбежавшему в вагон проводнику.
Трагедия в Новочеркасске вызвала широчайший общественный резонанс, фигуры такого ранга и положения, как П.Н.Трубецкой, как правило, не часто гибнут из-за романов с чужими женами. А учитывая родственные связи, эта история выглядела особенно неприглядно. Чтобы не допустить обнародования нежелательных подробностей, вдова ходатайствовала перед императором о прекращении начавшегося было следствия. Николай II внял ее просьбе, воспользовавшись своим старинным самодержавным правом высылки провинившихся дворян в свои усадьбы с запрещением права выезда. В.Г.Кристи, первоначально арестованному, но вскоре выпущенному на свободу под денежный залог, внесенный его матерью, было предписано не покидать имения Замчежье, находившегося в Кишиневском уезде Бессарабской губернии. По официальной версии, убийство было им совершено в состоянии «умоизступления».
Дети П.Н. и А.В. Трубецких:
4000579_trub_all (250x358, 8Kb)
Княгиня Александра Владимировна Трубецкая с детьми, слева направо: Любовь, Александра, Николай, Софья и Владимир. Фото 1895 г. Рукой княгини сделана надпись "На память лета в Узком. А. Трубецкая. 1895 г." Собрание Е.В.Власовой (Москва)
3.2.1.2.4.2.1. Владимир Петрович Трубецкой (18 июля 1885 - 8 апреля 1954, Нью-Йорк). Окончив юридический факультет Петербургского университета и пройдя службу в гвардии, работал в московском и херсонском земствах. Последний владелец имений "Узкое" и "Казацкое". После 1920 года в эмиграции. Один из основателей и первый предводитель Русского дворянского собрания в Париже. Принимал активное участие в создании Музея русского казачества и Русской консерватории в Париже. Умер в Нью-Йорке.
Жена с 31 марта 1907 г. - Мария Сергеевна Лопухина (25 августа 1886- 27 июня 1976).
4000579_uz069 (300x273, 16Kb)
Князь Владимир Петрович Трубецкой с женой Марией Сергеевной, и новорожденным сыном Петром. Фото 1907 г. Частное собрание (Франция).
Их дети:
3.2.1.2.4.2.1.1. Пётр Владимирович Трубецкой ( октябрь 1907 - 1986)
4000579_uzkoe29 (200x275, 6Kb)
Князь Петр Владимирович Трубецкой с женою Софьей Александровной и сыновьями, слева направо: Владимир, Михаил (на руках) и Александр. Фото 1950-х гг. Частное собрание (Франция).
3.2.1.2.4.2.1.2. Анна Владимировна Трубецкая (1908 - 1909)
3.2.1.2.4.2.1.3. Александра Владимировна Трубецкая (1910 - 1994)
3.2.1.2.4.2.1.4. Аграфена Владимировна Трубецкая (Татищева) (1911 - 1992)
3.2.1.2.4.2.1.5. Софья Владимировна Трубецкая (1913 - 1920)
Софья известна как модель художницы З.Е.Серебряковой написавшей в 1942 г. ее великолепный портрет. В 1995 г. он экспонировался в Париже на персональной выставке З.Е.Серебряковой, состоявшейся в здании Российского посольства на бульваре Лани.
4000579_134581846 (541x700, 79Kb)
З.Серебрякова. Графиня Санкт-Ипполит, урожденная кн. Трубецкая. 1942
3.2.1.2.4.2.1.6. Прасковья Владимировна Трубецкая (Brun de Saint Hippolyte) (р. 1915)
3.2.1.2.4.2.1.7. Мария Владимировна Трубецкая (30 марта 1919 - 3 апреля 1999)
3.2.1.2.4.2.2. княжна София Петровна Трубецкая (14 марта 1887 - 24 августа 1971, Нью-Йорк, США).
была невестой Писарева (женившегося потом на Глебовой), но после нескольких месяцев жениховства ему отказала и вышла замуж за графа Ламздорфа: отказ ее первому жениху был для ее отца, особенно его любившего, большим горем; он, как только дали согласие Писареву, решил отпраздновать это казавшееся ему счастливое событие по-старинному; было устроено в их имении Узком в присутствии приглашенных родных и знакомых, которых набралось несколько сот человек, торжественное обручение в церкви; обратное шествие обрученных со всеми гостями из церкви по аллеям парка в дом на жениховский пир снято было кинематографом; много стоило потом труда семье, когда свадьба расстроилась, скупить и прекратить демонстрирование этой ленты
М.Осоргин. Воспоминания...
Софья Петровна Трубецкая в 1912 г. вышла замуж за выпускника пажеского корпуса графа Николая Константиновича Ламздорфа-Галагана (11 августа 1881 -. 9 мая 1951).
Их дети:
Александра Николаевна Ламздорф-Галаган (Швецова) (17 февраля 1913 - 3 июня 2001)
Елизавета Николаевна Ламздорф-Галаган (Ширинская-Шихматова) (5 июня 1914 - 24 июля 1971)
Мария Николаевна Ламздорф-Галаган (Шидловская) (22 ноября 1915 - 1 июня 1975)
Екатерина Николаевна Ламздорф-Галаган (Врангель) (21 октября 1919, Ялта - 16 сентября 1979)
3.2.1.2.4.2.3. Любовь Петровна Трубецкая (Оболенская) (5 ноября 1888 - 5 август 1980, Нью-Йорк, США). Муж с 1909 г. - Алексей Александрович Оболенский (29 сентября 1883 - 16 августа 1942)
4000579_180PX2 (180x273, 6Kb)
Сорин С.А. Портрет княгини Любови Петровны Оболенской (фрагмент). 1917 г. Б., карандаш. Частное собрание (США)..
Люба, самая красивая и талантливая из них, замужем за князем Оболенским, сыном князя Александра Дмитриевича Оболенского, ... и он и она хорошие музыканты, она пианистка, он скрипач, и приятно видеть их музицирующих вместе.
М.Осоргин.Воспоминания..
Зимой мы жили в Москве, на Знаменской улице (недалеко от Кремля). Это была громадная квартира в 2 этажа, в которой я прожила 18 лет — с 1891 по 1909 г., когда мы переехали в Петербург. Это произошло оттого, что моего отца, который годами был губернским предводителем дворянства в Москве, Государь назначил членом Государственного Совета в Петербурге. Началась новая жизнь! Мой старший брат Володя, которому было в это время 22 года, очень подружился с однолетками: Сашей Новосильцевым, Владимиром Писаревым и Алешей Оболенским (за которого я вышла замуж).
Так как мне было тогда 18 лет, а Соне (моей сестре) было 19, то моя мать решила, что нам пора «выезжать в свет». Начинается это с того, что девиц «представляют» Императрице, а потом приглашают на балы (к знакомым). Соня была представлена Императрице за 3 месца до меня, т. к. была старше, и сразу после этого получила от государыни «шифр» — большой бриллиантовый знак вроде большой броши (около 5 дюймов высотой) в виде инициалов государыни на большом голубом банте. Эту ленту Соня, как фрейлина Императрицы, должна была надевать на каждый бал.
В ту эпоху всех девушек нашего круга учили играть на фортепьяно, петь и рисовать. Однако моя мать находила, что это плохая система, что большинство девиц, которые учились «всему», делали все не очень хорошо и даже плохо и что лучше искать в человеке способности и тогда концентрироваться на одном.
У меня были способности к музыке (фортепьяно) и к рисованию. Моя мать сказала, чтобы я выбрала, что я хочу, и тогда она мне достанет первоклассного учителя, но потребует, чтобы я отнеслась к «этому делу всерьез», т. е. упражнялась на фортепьяно не один час в день, но 3–4 часа.
Через год или два после того, как я стала играть, оказалось, что один из товарищей моего брата Володи — Алеша Оболенский — тоже очень музыкален и разучивает много серьезных вещей на скрипке. Его отец — князь Александр Дмитриевич — подарил ему чудную скрипку Страдивари при условии, что он никогда не будет подписывать долги. Алеша обещал, что было очень трудно, т. к. он служил в Кавалергардском полку, где все офицеры делали долги. После своего обещания, даже после нашей свадьбы (около 3 лет с того дня, как мы с ним познакомились), он никогда не подписывал долгов, а когда очень нужно было достать денег, то просил меня подписывать. Алеша, зная, что я увлекаюсь игрой на фортепьяно, предложил мне играть с ним. Мы стали с ним играть раз в неделю по вечерам, причем так как нам, девицам, тогда не позволялось видеться с молодыми людьми без шапрона (без свидетелей), то одна из наших гувернанток .. должна была сидеть в той же комнате, где мы играли. Мы оба стали увлекаться друг другом все больше и больше. В Петербурге в это время была масса балов и маленьких вечеринок. Очень веселая была зима. У моей сестры Сони шел роман то с Сашей Новосильцевым, то с Владимиром Писаревым. Мой брат Володя влюбился и женился на Маше (Марии Сергеевне) Лопухиной, так что настроение влюбленности и романов царствовало в нашем доме.
....Когда мы осенью переехали в Казацкое, в это время Алеша Оболенский, который весь год отбывал воинскую повинность в Кавалергардском полку, был переведен в офицеры. Он телеграфировал нам в Казацкое, спрашивая, может ли он приехать к нам погостить. Через несколько дней, после нашего согласия и приглашения, Алеша прикатил, веселый и довольный, в кавалергардском мундире. Когда я увидала его в нашем доме, у меня дух захватило, сердце забилось, и как-то я почувствовала, что он — мой, что приехал для меня, без сомнения.
Первые дни после его приезда мы много ездили верхом, ездили на виноградник — пробовать виноград и новое вино, которое выделывали в наших винных подвалах. Время летело с замечательной скоростью. Однажды под вечер Алеша вдруг мне предложил поехать с ним покататься на маленькой лодочке по Казаку. Я согласилась. ...Во время этой прогулки Алеша вдруг меня спросил, хочу ли я сделаться его женой и что он не хотел это говорить, пока его не произвели в офицеры. Я, конечно, тут же согласилась, и мы решили, что, как только вернемся домой, он пойдет к моей матери и официально попросит моей руки. Он пошел к ней в спальню и пробыл там минут 15. Вышел оттуда сияющий и позвал меня туда же. Мой отец был в отъезде, мы его ждали только на следующий день. Из-за этого моя мать просила нас подождать говорить моим братьям и сестрам, что мы стали женихами (это было очень трудно). После того, что Алеша объявил моему отцу о помолвке, пришлось еще немножко стараться скрывать ее, т. к. мои родители послали телеграмму родителям Алеши и ждали их ответа. Ответ был получен очень скоро, и очень радостный, и счастье началось!
Началось счастие такое, как я себе не представляла, что бывает. Все в Алеше было мне близко, дорого. Мы, видимо, оба были так влюблены друг в друга, что ничего другого для нас не существовало. После 2–3 недель такой жизни в Казацком нам всем надо было ехать в Петроград. Алеша должен был вернуться в полк, а нам всем надо было уже на зиму ехать в город. Не помню почему, но нам всем, кроме Володи (В. П. Трубецкой), который должен был ехать в университет в Петроград, пришлось на целый месяц остановиться в Москве (кажется, нашу петроградскую квартиру обновляли, красили, что-то переделывали). Это расставание с Алешей мне было очень тяжело. Он придумал 2 раза в неделю посылать мне колоссальные букеты самых разнообразных чудных цветов, пока мы не переедем в Петроград.
Наконец мы переехали, и Алеша повез меня знакомиться с его родителями и братьями: Сашей, Петриком, Дмитрием и его женой Еленой (урожденной Бобринской). Мы хотели устроить свадьбу очень скоро после приезда, но вдруг был получен приказ от Алешиного дедушки Половцева — ждать его возвращения из Парижа. Он сообщил, что занимается собиранием бриллиантов для большого колье, которое он хочет подарить мне, как невесте любимого внука. Пришлось ждать. ...
В эту эпоху, до свадьбы, мы очень много играли — я на фортепьяно, Алеша на своем Страдивари. Наконец приехал из-за границы дедушка Половцев с подарком, и мы смогли назначить день свадьбы. Бриллиантовое колье было поразительным: около 30 громадных бриллиантов без единого недостатка. Это была такая роскошь, что, вспоминаю сейчас, у меня был шанс надеть это колье всего 14–15 раз до революции. Я, боясь такую ценность держать просто в доме, положила бриллианты в сейф, откуда их украли большевики!
Так как дедушка приехал, можно было решить день свадьбы. День свадьбы был назначен на 31 января 1909 г. Церковь для венчания была выбрана полковая кавалергардская, т. к. Алеша только что был произведен в офицеры Кавалергардского полка. Старшим шафером у Алеши был его брат Саша. Старший шафер идет в дом к невесте, которая в это время должна уже быть одета в венчальное платье и с большой белой вуалью на голове (вуаль была на свадьбу из кисеи и прикреплялась шпильками к волосам). Венчальное платье должно было быть сшито из толстого белого сатина с длинным шлейфом. Кисейная вуаль должна быть такой же длины, как и шлейф платья.
...Когда кончилась служба, мы все поехали на квартиру моих родителей (Сергиевская, 38), где был устроен большой прием с шампанским и массой закусок. ...В 9 часов я должна была идти переодеваться — снять мой венчальный наряд и надеть шерстяной костюм для поезда, т. к. уже в 10.30 надо было садиться на поезд, чтобы ехать в Вену (Вена должна была быть нашей первой остановкой нашего свадебного путешествия). Там мы должны были оставаться 2 недели, а потом ехать в Италию (Рим, Венеция) и Париж.
....Во время свадебного путешествия мы, правда, совсем не сознавали, как летело время, — все было наслаждение: рестораны, театры, все достопримечательности городов, где мы останавливались (Вена, Рим, Париж). И мы становились ближе и ближе друг другу! Мы все оттягивали ехать домой в Петроград до момента в Париже, когда я вдруг поняла, что я беременна, начинаю ждать ребенка.
Наступил момент, что захотелось домой. Тут же Алеша взял билеты на поезд, и мы покатили в Петроград.
Для нас сняли маленькую квартиру на Сергиевской улице....
Я очень просила Алешу, чтобы он ушел из полка. Почему-то жизнь с полковыми обязательствами совсем меня не притягивала. Он тоже в душе не был типичным военным, его гораздо больше привлекала деревенская жизнь: охота, хозяйство, музыка. Так что он ушел из полка без особой драмы!
Дни шли очень быстро: концерты, театры, выставки картин, поездки к друзьям. После 5 часов к нам всегда кто-нибудь приходил, чтобы повидать или меня, или Алешу. К тому же из-за моей беременности я часто уставала и хотела сидеть дома, никуда не ходить, а просто много читать, играть на фортепьяно, отдыхать. Эту первую зиму в Петрограде мы очень часто обедали то у Алешиных родителей, то у моих. Подходило лето. В июне мы поехали в Узкое к Трубецким, на июль мы отправились в деревню к Оболенским в Пензенскую губернию. Там нам на 2 месяца дали целый маленький дом, так что было чувство, что мы живем сами по себе, не в гостях. Это чувство нам дало страстное желание жить в деревне у себя, а не в гостях у родителей. Эта мысль-желание становилась с каждым днем все сильнее и сильнее, и сами родители стали понимать, что для того, чтобы сделать нас еще счастливее, — нам надо подарить самостоятельное собственное имение!
Когда лето кончилось и мы переехали назад в Петербург, я стала усиленно устраивать будущую детскую, т. к. роды ожидались в начале декабря. Последний месяц до родов был очень тяжелый. Наконец начались роды, и 25 декабря 1909 года родилась наша девочка — Сандра! Девочка родилась большая, аккуратная! Роды были очень длительные (около 20 часов), и в госпиталь меня для этого не возили. Время шло быстро, зима проходила, дело шло к весне. Наступил апрель, и тут произошло событие, изменившее всю нашу жизнь. Одно утро я почему-то до завтрака пошла на квартиру моих родителей. Когда я вошла в кабинет моего отца — я увидала его, сидящего в задумчивой позе у своего письменного стола. Увидав меня, он сказал, что они решили с моей матерью сделать нам подарок: имение и деревню, т. к. они почувствовали, что и Алеша, и я ценим все, что касается жизни в деревне: и хозяйство, и цветы, и охоту, и верховую езду, и покой вечеров...
4000579_trubetskaya_7 (246x164, 5Kb)
Алексей Оболенский с дочерью Александрой
Было известно, что 3–4 имения среднего размера с домами, около 1000–1500 десятин каждое, продавались в средней России. Около недели я не имела известий от Алеши и моего отца, пока они разъезжали и смотрели все эти поместья, и вдруг я получаю телеграмму, что нашли и купили бывшее имение Самариных в Тульской губернии, место около 2000 десятин с меблированным домом, большим фруктовым садом в 20 верстах от станции. Имя этому месту было «Молоденки».
...Спустя приблизительно шесть недель после покупки Молоденок мы отправились туда: Алеша, я, маленькая наша девочка Сандра с няней, повар, лакей и 2 горничные. До нашего переезда мой отец послал нам в подарок тройку вороных лошадей с большой коляской и кучером Иваном. Наш повар и лакей были посланы в дом за несколько дней до нашего приезда, чтобы расставить мебель, кровати и столы, более или менее как мы хотим.
...Жизнь в Молоденках была замечательная — интересы наши были очень разнообразные. Меня интересовали цветы, огород, яблочный сад, устройство дома. Алеша вникал в жизнь соседних крестьян, дружил с местным доктором, усиленно занимался продуктами земли (чудные луга, обширные посевы овса, кукурузы, картофеля), и кроме этого всего — музыка, т. к. мы продолжали много играть вместе и этим наслаждались.
Время шло незаметно. Каждый год весной я начинала ждать ребенка, и осенью мы ехали рожать в Москву к моей матери. Всех наших детей — Анну (Натьку), Любу, Алешу я рожала в госпитале, оставалась там около 8–10 дней, а потом переезжала или к моим родителям, или в нашу крошечную квартиру, которую наняли, когда переехали в Молоденки. Одну только девочку — Dolly — я родила в Узком, т. к. это было еще летнее время и мне не хотелось переселяться в госпиталь. За 2 недели до родов в Узкое переехал к нам наш чудный акушер Драницын и сестра милосердия.
воспоминания княгини Любови Петровны Оболенской (Трубецкой).
Дети:
Александра Алексеевна Оболенская (Трубецкая) (1909 - 1997)
Анна Алексеевна Оболенская (1911 - 1931)
Любовь Алексеевна Оболенская (Трубецкая) (1913 - 1991)
Алексей Алексеевич Оболенский (1914 - 1986)
Дарья Алексеевна Оболенская (Morgan) (1915 - 1996)
3.2.1.2.4.2.4. Николай Петрович Трубецкой (1890 - 5 июня 1961, Нью-Йорк, США). Жена с 1919 г. - Елена Константиновна Клейнмихель (1893 - 1982). Вторая жена с 1937 г. - Нина Алексеевна Обольянинова (р. 1910), в 1946 г. - развод:
Подъесаул л.-гв. Казачьего полка. В Донской армии 1918 в своем полку, затем в других частях. Есаул. Эвакуирован в марте 1920 г. из Новороссийска в Салоники и затем во Вранья-Банью на пароходе «Габсбург». В эмиграции с 1938 г. во Франции, затем в США
3.2.1.2.4.2.5. Елизавета Петровна Трубецкая (1892 - 1892)
3.2.1.2.4.2.6. княжна Александра Петровна Трубецкая (Тимашева) (1894 - 1953, Франция). Муж - Сергей Александрович Тимашев (1887 - 1933).
Александра, которую так же, как и ее мать, зовут по уменьшительному «Татей», недавно к огорчению всей семьи вышла замуж за Тимашева, сына моего товарища и друга, но, к сожалению, совсем другого уклада, проведшего всю свою молодость бурно, женившегося до того на цыганке, с которой развелся потом, и мало подававшего надежды на прочное семейное счастье.
М.Осоргин.Воспоминания...
Тимашев Сергей Александрович был первым мужем Александры Петровны Трубецкой. Их свадьба состоялась в Петрограде 3 февраля 1917 г.
Их дети:
Александра Сергеевна Тимашева (Лопухина) (р.1919, Батум, Грузия)
Надежда Сергеевна Тимашева (Бобринская) (1921, Константинополь, Турция - 1986)
Николай Сергеевич Тимашев (1926, Франция - 1996)
Любовь Сергеевна Тимашева (Hennes) (р. 1927, Париж, Франция)
3.2.1.2.4.3.княжна Мария Николаевна Трубецкая (1860—1926) вышла замуж за Григория Ивановича Кристи - егермейстер, сенатор, дмитровский уездный предводитель дворянства.
К ужасу родственников и друзей через десять лет он сделал вещь, абсолютно не подобающую дворянину; записался в купцы 2-й гильдии и активно занялся виноторговлей. В 1902 - 1905 годах Г.И.Кристи с успехом исправлял должность Московского губернатора
Вторая дочь моего тестя, Маня, вышла замуж за Григория Ивановича Кристи; брак этот долго встречал препятствие со стороны ее тетушки графини Толстой и моего тестя: он, Кристи, был совершенно неизвестен, семья его, бессарабского происхождения, никаких связей и отношений к московскому обществу не имела, [и], по-видимому, принадлежала к совершенно другой среде, почему и опасались такого неизвестного нового члена семьи; но настойчивость Мани все превозмогла, и брак был совершен; действительно, муж ее стоял как-то особняком, во многом не походил на окружающую среду, но оказался очень добрым малым, вполне порядочным, и были они очень счастливы. Детей у них было четверо: старший, Владимир, развелся с женой, которая вышла замуж за Петю Глебова, и вновь женился, на ком — не знаю;..; второй, Григорий, женат на Стахович; третья, дочь Соня, вышла замуж недавно за Чоколова, а младший сын, по прозвищу Тося, до сих пор не женат. Жили Кристи прежде всегда в Москве, где он был дмитровским предводителем дворянства, а после кратковременного губернаторства в Орле — московским губернатором, затем по получении назначения сенатором переехал в Петербург, где скоро и умер.
М.Осоргин. Воспоминания
Их дети:
Владимир (1882—1946), воспитанник Катковского лицея. Был женат на Марии Александровне Михалковой (1883—1966). Известен тем, что 1911 году из ревности застрелил своего дядю князя П. Н. Трубецкого.
Неминуемым следствием трагедии стал развод между супругами, замешанными в эту неприглядную историю. Мария Михалкова, вернувшая свою девичью фамилию, вступила в брак во второй раз уже в 1913 году. Ее новым избранником оказался другой племянник П.Н.Трубецкого — Московский уездный предводитель дворянства Петр Владимирович Глебов (1879 — 1922). Владимир Кристи в 1917 году как лицо, сильно натерпевшееся от царского режима, был назначен комиссаром Временного правительства в Бессарабии, а после образования там своего парламента занимал в местном правительстве должность «директора внутренних дел».
Григорий (1885—1931), был в эмиграции в Румынии.
Виктор (1889—?)
София (1892—?)
Вторая жена князя Николая Петровича Трубецкого - Софья Алексеевна Лопухина (1841—1901) (3 сыновей, 7 дочерей). Тетка ее (Софья Алексеевна (ур. Лопухина) — знаменитая Варенька Лопухина (М.Ю.Лермонтов), а дед — Алексей Александрович Лопухин (1813-1872) — друг М.Ю. Лермонтова
она была высокого роста, очень красива, с чудными вьющимися волосами и с таким достоинством в лице, что всякий подходящий к ней чувствовал какое-то стеснение. Стеснение это имело основанием не боязнь к ней, а сознание ее превосходства; насколько ее муж был чужд анализа, настолько в ней были интенсивная внутренняя работа и постоянное самоуглубление: умение ее наслаждаться красотой природы было своего рода служением Богу и исканием во всем его присутствия. Проведя веселую молодость в вечно наполненном молодежью доме родителей, с момента своей свадьбы и рождения первого сына она вся отдалась семье, готовясь к своему материнству и к воспитанию детей как к некоему служению; в этом деле для нее не было мелочей, все было важно; малейший недостаток, поступок детей вырастал в ее глазах в серьезное событие. Но глубоко поучительно было одновременно и ее смирение; она неоднократно высказывала мысль, что мы не должны ослабевать в своих трудах, не должны прекращать своих исканий, но результаты предоставлять на волю Божью, зная, что он один совершит и управит все на благо. Ее вдумчивость благотворно соединялась с большой природной веселостью; она никогда не унывала и даже в самые тяжелые минуты забот и беспокойств умела внести нужное веселье и скрасить окружающим жизнь. В ней, несомненно, была экзальтированность, но не приторная, обыденная, напускная, а лишь такая, которая подтверждала чуткость ее натуры, воспринимающей сильнее других внешние явления; в ней не было никакой мелочности и потому что бы она ни делала, казалось именно таким, как следует; она не была экспансивна и даже не особенно ласкова, но и не осуждала и лишь близким своим высказывала всегда правду, считая своей обязанностью оберегать своих детей, родных и вхожих, от зла или от увлечения; зато малейшее с ее стороны одобрение, высказанное иногда даже не словом, а лишь взглядом, было действительно наградой
дети его первого брака не жили с ним, но к своей мачехе питали самое нежное чувство и звали ее «Мама;»; воспитывала их тетка графиня Толстая, но для всех важных решений их судьбы призывался графиней арбитром их отец. Говорят, что моя belle-m;re после свадьбы своей, состоявшейся 30-го апреля 1861 года, очень жалела, что не может отдать себя их воспитанию, но воля первой жены ее мужа была ясно выражена, преступать ее нельзя было
М.Осоргин. Воспоминания...
4000579_uzkoe26 (500x517, 32Kb)
Князь Николай Петрович Трубецкой с женою Софьей Алексеевной и детьми. Слева направо, стоят: Елизавета, С.А.Трубецкая, Ольга и муж дочери Антонины - Федор Дмитриевич Самарин; сидят: Сергей, Варвара, Н.П.Трубецкой, Евгений и Антонина. Внизу: Марина и Григорий. Фото Гольдберга, ок.1886 г. ГЛМ.
3.2.1.2.4.4. князь Сергей Николаевич Трубецкой (1862—1905) женился на кн. Параскеве Владимировне Оболенской, у них сыновья Николай и Владимир
3.2.1.2.4.5. князь Евгений Николаевич Трубецкой (1863—1920) женился на кн. Вере Александровне Щербатовой, у них сын Сергей
3.2.1.2.4.6. княжна Антонина Николаевна Трубецкая (1 сентября 1864, Ахтырка—1901) вышла замуж за Федора Дмитриевича Самарина
Она была прелестна, в полном смысле слова красавица, веселая, с большим юмором и задором, но и с серьезным фоном характера; к сожалению, после рождения первого же ребенка, дочери Сони, она стала болеть, и я не помню ее иначе как особенно оберегаемой, а часто и серьезно недомогающей в постели, но все это она переносила с истинным христианским смирением, и веселость ее не покидала. Ее муж Федя был совершенно выдающийся человек, он всю жизнь с молодых лет казался каким-то патриархом с каким-то проникновенным духовным взглядом, обращенным как бы во внутрь души, на нем воочию сказалась правда, что высокие душевные качества делают человека благообразным; он был таковым в самом широком значении слова — и по виду, и по действиям, и по мыслям;
М.Осоргин. Воспоминания...
4000579_180pxAntNikTrubeckaia (180x224, 5Kb)
Антонина Николаевна Трубецкая (Самарина)
4000579_FedDmitrSamarin (199x252, 21Kb)
Ф.Д.Самарин.
Общественный, государственный и церковный деятель, славянофил. Предводитель дворянства Богородского уезда (1884-1891). Надворный советник, гласный Московской губернской земской управы (до 1903), выборный член Государственного совета (1907 – 1908). Публицист, составитель замечательного доклада о начальном обучении, направленного в защиту земской школы. Член «Московского кружка ищущих духовного просвещения». Племянник Ю.Ф.Самарина, занимался изданием его сочинений. Похоронен в Москве, на кладбище Донского монастыря.
Из дети:
Софья Федоровна (20 июль1885, М. 14.2.1922). Умерла в 30 лет в голодные годы.
Варвара Фёдоровна (22 декабрь 1886, М. — 11 январь 1942, Дмитров, МО). Муж - граф КОМАРОВСКИЙ Владимир Алексеевич (8.10.1883-5.11.1937, Бутово, М.). Художник — иконописец, реставратор, специалист по древнерусскому искусству. Неоднократно арестовывался по обвинению в антисоветской и контрреволюционной деятельности. 3 ноября 1937 года «тройкой» НКВД приговорен к расстрелу. 5 ноября 1937 года расстрелян на полигоне Бутово. У них было 2 сына и 2 дочери.
Дмитрий Федорович (21.1.1890, М. — 29.8.1921).
Мария Федоровна (24.10.1893, М. — 16.11.1976, Верея, М.О.). Муж - МАНСУРОВ Сергей Павлович (14.1.1890-2.3.1929).
3.2.1.2.4.7. княжна Елизавета Николаевна Трубецкая (1865—1935) вышла замуж за Михаила Михайловича Осоргина. М.М.Осоргин - протоиерей. В молодости служил в Кавалергардском полку, с 1887 г. занимался земской деятельностью, с 1905 г. в отставке. До революции - калужский губернский предводитель дворянства, в 1898-1902 гг. - харьковский вице-губернатор, гродненский и тульский губернатор. В 1931 г. эмигрировал с семьей во Францию. Принял сан священника.
4000579_mmo841 (700x545, 247Kb)
Осоргины в Измалкове: Михаил Михайлович, Мария, Ульяна, Елизавета Николаевна, Антонина и Георгий. 1918—1923. Частное собрание, Москва
У них было семеро детей. Одним из них был Георгий Михайлович, был расстрелян на Соловках в 1929 году. Жена Георгия Осоргина – Александра Михайловна Голицына. У Георгия и Александры Осоргиных родилось двое детей: Марина (1924 год) и Михаил (1929 год).
3.2.1.2.4.8. княжна Ольга Николаевна Трубецкая (1867—1947) Составила "Семейную хронику" князей Трубецких
Ольга, в молодости перенесла болезнь, которая оставила на ней след как в походке, так и в движениях, в ней было меньше талантливости остальных сестер и братьев, но зато двойная против остальных настойчивость; ум ее был пытливым; дразнения сестер и братьев заставили ее больше уйти в себя, и она в своем добровольном одиночестве углубилась в книги, почему и стала самой образованной среди своих сестер; она одна в семье осталась незамужней, устроила себе интересную жизнь, посвятив свой досуг обработке всех семейных писем, составляющих теперь ценный архив; кроме того, настойчивым трудом достигла таких результатов в живописи, что это сделалось не только занятием, но и заработком.
М.Осоргин. Воспоминания...
3.2.1.2.4.9. княжна Мария Николаевна Трубецкая (1868—1868)
3.2.1.2.4.10. княжна Варвара Николаевна Трубецкая (1870—1933) вышла замуж за Геннадия Геннадьевича Лермонтова. Фрейлина, московская собирательница. Собирала западную живопись. На выставке 1915 года были представлены четыре картины из ее собрания. После революции - в эмиграции.
3.2.1.2.4.11. княжна Александра Николаевна Трубецкая (1872—1925), вышла замуж за Михаила Федоровича Черткова
3.2.1.2.4.12. князь Григорий Николаевич Трубецкой (17 сентября 1874 — 6 января 1930 Париж, Франция) — брат философов, русский общественный и политический деятель, дипломат, публицист, после революции – видный деятель белого движения, один из идейных его создателей, женился на Марии Константиновне Бутеневой
4000579_250PX1 (250x321, 24Kb)
Г.Н. Трубецкой.
Окончил Московский университет. Занимал дипломатические посты в Вене, Берлине и Константинополе (1896-1906).
Выйдя в отставку в 1906 году, занимался публицистической работой в Москве, вместе с Е. Н. Трубецким редактировал общественно-политический журнал «Московский еженедельник» (1906—1910).
Был приглашен С.Д. Сазоновым встать во главе ближневосточного отдела МИДа.
Его новая роль не вызвала ни малейшего удивления, настолько этот москвич, «либерал» и конституционалист, в котором не было никаких следов петербургского чиновника, казался призванным, по праву и справедливости, взять в свои руки важный рычаг русской государственной машины. Трубецкой знал, что машина эта сложна, что в ней нет места импровизации, что она сильнее индивидуального усилия, что в ней есть традиции и что без этих традиций она существовать не может. И в то же время он сознательно принес в работу на государственном станке свои собственные, свободно выросшие мысли, свое собственное понимание русских государственных задач, мысли и понимание, которыми он никогда не поступился бы и которые ни при каких условиях он не принес бы в жертву никаким выгодам и никакой «карьере»
В начале Первой мировой войны кн. Г.Н. Трубецкой был определен посланником Императорского Двора в Сербию. Ему пришлось посетить эту страну в пору самых горестных испытаний. После австрийского наступления на Белград сербское правительство вместе с дипломатическими представительствами переместилось на остров Корфу. Кн. Трубецкой был отозван в Петербург, где ему предложили возглавить ближневосточный отдел министерства. Февральский переворот, вспышки насилия, а затем большевистский террор вынудили Григория Николаевича перейти к активному сопротивлению: в конце декабря 1917 г. он отправляется в Новочеркасск, входит в первый Совет Добровольческой армии, собирает русские силы для отпора большевизации России. С уходом армии в Первый Кубанский поход, в котором гражданские лица были бесполезны, вернулся в феврале 1918 в Москву, здесь он вошел в самое тесное общение с иерархами, собранными со всей страны на Священный Собор Русской Православной Церкви. Сам Григорий Николаевич, выбранный на Собор от Действующей армии, участвовал в его работе со дня открытия, и даже выступал на одном из первых заседаний, 17 августа 1917 г. с приветственной речью, в которой заявил: "Мы верим, что дух христолюбивого воинства не вовсе отлетел из рядов Армии, и что с помощью доблестных сынов ее воскреснет свободная Русь. Позвольте же просить Поместный Собор своими молитвами поддержать Армию, возжечь тот пламень веры, который нужен нам".. Затем последовал отъезд на Дон для организации вооруженного сопротивления большевикам, и участвовать в заседаниях далее не привелось. Возобновилось соборное общение лишь Великим постом 1918 г.
В марте 1918 — один из организаторов Правого центра в Москве. Летом 1918 выехал на занятую немцами Украину, оттуда в добровольческий Екатеринодар.
Возглавив летом 1919 г.в правительстве генерала Деникина Управление по делам исповеданий, он оказался для многих православных на передовой и в тылу живой совестью — так умел создавать атмосферу доброжелательства и ласки к людям. От его духовного жара и тихого сияния действительно согревалась душа. Один из современников князя так после скажет о нем: "Он был совестью и в общественных делах; он был чрезвычайно терпелив, добр и снисходителен с людьми — не из слабости, а из любви; он с широкой любовью относился к людям — но всегда был определенен и ясен в своих суждениях, особенно во всем, что касается совести. Такие люди являются живым свидетельством о Боге, в них исполняются слова молитвы: "да святится имя Твое". (Газета "Россия и Славянство", Париж, 1930, 18 янв.). Только к гонителям Церкви, а впоследствии еще и к обновленцам относился он с непримиримой строгостью. В противобольшевицкой борьбе кн. Трубецкой потерял сына Константина (1903–1921), погиб на Перекопе, и многих близких ему людей.
В 1920 г. Григорий Николаевич вошел в состав правительства генерала П. Н. Врангеля замещал П. Б. Струве, отвечавшего за внешние сношения, в его отсутствие. Началось героическое крымское стояние, отмеченное как удачами, так и предательством союзников, завершившееся крушением Армии. После эвакуации из Крыма кн. Г.Н. Трубецкой поначалу поселился с семьей около Вены, а в конце 1923 г. переехал во Францию, в Кламар. Здесь он на своей усадьбе переоборудовал капитальную садовую беседку в домовую церковь, в которой и началась служба к радости всех верующих русской колонии. В церкви в нем умер дипломат. А.В. Карташев потом на поминках по князю скажет: "Тихий, миролюбивый, благостный и добрый — он был как бы старцем между нами, а не мирским человеком."
За годы эмиграции им создано обстоятельное исследование "Пропаганда безбожия и защита веры в советской России". К опыту его государственного разумения часто обращался великий князь Николай Николаевич, олицетворявший собой остатки Императорской России. Ни в какие партии русского Зарубежья кн. Трубецкой не входил, но некоторым идеологическим исканиям сочувствовал: не чужд был евразийству и интерконфессиональному сближению. В исторической перспективе все эти искания оказались вредными для русского дела.
Поддерживал Русское студенческое христианское движение (РСХД), принимал активное участие в организации Свято-Сергиевского православного богословского института в Париже. Участвовал в евразийском движении, публиковался в зарубежной русской печати, — в частности, в издаваемых при участии или под редакцией П. Б. Струве «Россия и славянство», «Россия», «Возрождение» (1925—1927).Троице-Сергиево подворье в Париже – его детище.
3.2.1.2.4.13. княжна Марина Николаевна Трубецкая (1877—1924), первая председательница общества Скрябина, вышла замуж за кн. Николая Викторовича Гагарина
Ссылки:
http://testan.narod.ru/knigi_moskow/uzkoe/uzkoe15.htm
http://feb-web.ru/feb/rosarc/mmo/mmo-011-.htm
http://www.bogorodsk-noginsk.ru/rodoslovie/samariny.html
© Copyright: Людмила Коншина, 2016
Свидетельство о публикации №216101101543
|
Метки: трубецкие |
«Из рода Трубецких» |
|
Фото из личного архива киевлянина О.И.Штильмана. |
«Из рода Трубецких»
«Рабочая газета», 23 ноября 1975 г. Б.Пергаменщик Ю.Сафонов
«Удостоверение
«Дано сие княжне Марии Владимировне Трубецкой, дочери доктора медицины, родившейся в 1897 г., окончившей общий курс 7 классов Петроградского училища св.Екатерины и прослушавшей двухлетний дополнительный класс при сем училище»…
О том, что в Киеве живет правнучка декабриста, мы узнали случайно. И, признаться до самого порога ее квартиры сомневались: а вдруг кто-то что-то напутал и новость не подтвердится?
- «Да, я действительно из рода Трубецких, - поспешила успокоить нас хозяйка. - Мой прадед Александр Петрович был родным братом декабриста Сергея Трубецкого. От старших мне не раз приходилось слышать, как Сергей Петрович после амнистии возвратился в Киев и жил в доме на улице Владимирской. Кстати, там родилась и я…»
Дом № 3 по улице Владимирской
В комнате, где происходит наш разговор, многое напоминает о прошлом. Старинная мебель, фамильные портреты в массивных золоченых рамах. Из альбома Мария Владимировна достает целую кипу литографий, фотоснимков, журнальных вырезок…
- «Это моя родословная, - говорит она. – Правда, сохранилось не все. А ведь были письма, дневники. Помню, во время 1-й мировой войны наша семья собиралась выезжать в глубь России. Отправили целый вагон вещей. Так и пропали. Вот бы сейчас их историкам…
- Из семейных преданий о декабристе Трубецком, к сожалению, почти ничего не помню. Видно, разговор на эту тему даже в своем кругу считался нежелательным. Ведь в свое время некоторые из родственников, узнав об участии князя Сергея в заговоре против царя, отреклись от смутьяна и поспешили заверить «его величество» в своей непричастности к событиям 25 декабря. А вот прадед Александр поступил иначе. Перед отправкой Сергея на каторгу он молча опустился перед ссыльным на колени. Да и не удивительно. Ведь и сам Александр привлекался по обвинению в участии в «Союзе благоденствия», слыл вольнодумцем»…
Видно в деда пошел и Владимир – отец Марии Трубецкой. Он наотрез отказался от военной карьеры, предпочтя роскошной гвардейской форме скромную тужурку студента университета. Когда в доме на Владимирской устраивались балы, молодой красавец-князь не появлялся здесь до тех пор, пока не отбывал последний экипаж с гостями. Вершиной чудачества считалось в семье его решение поселиться в глуши и заняться врачебной практикой. В селе Гавронщина, в своем имении, он оборудовал поликлинику и ежедневно по несколько часов бесплатно принимал крестьян, сходившихся сюда со всей округи. Уже в советское время, когда В.П.Трубецкой работал врачом киевской клиники Красного Креста, к нему постоянно приезжали его бывшие пациенты. В регистратуре так и говорили: «Запишите к князю…»
По настоянию матери Мушку – так в детстве называли Марию Владимировну – увезли в Петербург и отдали на попечение бабушки – Елизаветы Ивановны. Возможно, это была попытка как-то оградить ее от влияния отца. Зимой – занятия в Екатерининском институте – закрытом учебном заведении, поставлявшем фрейлин для двора.
|
|
|
|
Княжна Мария Трубецкая – воспитанница училища св.Екатерины (1908-1916) Фото сделано в Киеве в фотоателье на Крещатике,36 |
|
Жизнь размеренная, однообразная. Девицы с наставницами изъясняются только на иностранном. Их учат многим светским премудростям, правилам хорошего тона. Но вот убирать за собой постель не позволяют. Для этого есть горничные. Мушке хочется стремглав промчаться по глянцевому паркету, а ей за это снижают баллы за поведение. Любимое время дня у княжны – полдник. Когда подают ржаной «солдатский» хлеб и соль. Ее лучший приятель – отставной солдат, подносивший свечи в институтской церкви.
Летом - неизменные поездки за границу. Бабушка не спускает с Мушки глаз: «Что ты визжишь, как деревенская девка?» Прислуге: «Она тебе не Машенька, а ваша светлость!» В Баден-Бадене ведет на поклон к своей кузине – светлейшей княгине Юрьевской, бывшей морганатической жене Александра ІІ, которая доживала свой век в Ницце. Мушке скучно слушать светский разговор и она откровенно зевает. А дома выговор: «Ты не умеешь вести себя в обществе».
- «Настоящим праздником были встречи с отцом, - вспоминает Мария Владимировна. – Как-то он протянул мне книжечку: «А ну-ка, прочти…» Это был томик стихов Некрасова – его знаменитые «Русские женщины»:
…Покинув родину, друзей,
Любимого отца,
Приняв обет в душе моей
Исполнить до конца
Мой долг, - я слез не принесу
В проклятую тюрьму.
Я гордость, гордость в нем спасу,
Я силы дам ему…
Эти строчки я запомнила на всю жизнь. И не только потому, что они посвящены прабабушке Екатерине Ивановне Трубецкой.
Ведь эта женщина первая из жен ссыльных декабристов добровольно обрекла себя на лишения, последовав за мужем в Сибирь. Боже, как я хотела хоть чем-то быть на нее похожей, разделить ее участь!
Отец требовал одного: «Занимайся чем хочешь, только не сиди сложа руки». Сам он любил и умел работать: столярничал, был превосходным шорником, знал слесарное дело, с удовольствием возился у кухонной плиты, в саду, лечил по просьбе крестьян домашний скот.
К неописуемому ужасу тетушек и Мушка в совершенстве овладела сапожным ремеслом. Близких и друзей одаривала туфельками собственного производства, ловко тачала сапоги. Первую пару преподнесла своему учителю-сапожнику.
Октябрьскую революцию семья Трубецких встретила в Киеве. В то время в их доме часто раздавались телефонные звонки: «Вы разве еще не уехали? Уж не собираетесь ли оставаться с большевиками?»
-«Нет, не уехали. И бежать нам не от кого» - обычно отвечал отец и вешал трубку. Они остались. Владимир Петрович как и прежде, работал врачом. А Мария Владимировна была зачислена в Киевский художественный институт. Еще в детстве у нее обнаружились способности к живописи.
- «Холодное, голодное, но какое замечательное было время! – оживляется Мария Владимировна. – Прибежишь после лекций домой, проглотишь тарелку фасолевого супа и скорее куда-нибудь в клуб – на собрание, диспут или литературный вечер. До хрипоты спорили о том, каким должно быть новое искусство, мечтали о будущем, с упоением слушали революционных поэтов. Дважды удалось побывать на выступлениях Маяковского. Незабываемое впечатление…
Хотелось и нам, молодым, скорее по-настоящему приобщиться к творчеству. Начинали с оформления революционных праздников. Вот уж было где развернуться фантазии! Площади, улицы, колонны демонстрантов получались красочными, яркими, выразительными. Потом пошли и более ответственные заказы. Нашей творческой бригаде поручили украсить здание театра, где должен был состояться VI Всеукраинский съезд Советов. До Харькова добирались более 20 дней. Мешали страшные снежные заносы. В теплушках по стенкам – иней. На станциях ничего не купишь. Но мы не унывали: пели песни и готовили эскизы будущих панно и плакатов. Надо было торопиться: ведь до открытия съезда оставалось не так уж много. В Харькове прямо с вокзала поехали в театр. И сразу же за работу. Заказ выполнили вовремя и, судя по всему, неплохо. Ибо уже в 1923 году именно нашу группу художников-монументалистов пригласили в Москву для оформления павильона УССР на первой Всероссийской сельскохозяйственной выставке.
Сюжеты для своих работ брали из жизни. Выезжали на фабрики и заводы, часами простаивали с этюдниками у доменных печей и станков, старались уловить наиболее типичные черты рабочего человека».
Еще студенткой Мария Владимировна возглавила институтский музей. Здесь однажды встретила любознательного парня. Думала, студент. Но ошиблась. Оказывается, Макс Гельман, выпускник Ленинградской академии художеств, направлен в их институт преподавателем.
Вскоре они поженились. Друзья, пришедшие поздравить молодоженов, шутили: «Думала ли княжна, что ее избранником будет сын одесского грузчика?»
- «Видели бы вы, как эта «княжна» орудовала вчера на субботнике пилой!» - улыбался супруг.
В каталогах художественных выставок довоенных лет часто встречается имя М.В.Трубецкой. Она автор многих плакатов, картин, иллюстраций к произведениям литературы. С ее творчеством знакомились трудящиеся Харькова, Киева, Москвы.
В годы Великой Отечественной войны группу киевских художников приютили в далеком Самарканде. Здесь, несмотря на начинающийся тяжелый недуг, Мария Владимировна работает в изоагитмастерской. Вместе с товарищами создает целую галерею портретов советских военачальников, прославленных героев, рисует плакаты. Часто на дверях глинобитного домика, где разместилась мастерская, появляется написанное чьей-то торопливой рукой объявление: «Ушли на уборку хлопка».
За окном быстро догорает короткий осенний день. У здания киевского оперного театра уже зажглись фонари. Их отсветы мягко ложатся на книжные полки, отражаются в тусклой позолоте фамильных портретов.
Дом № 27 по ул.Ленина (совр.Б.Хмельницкого), в котором жили М.Трубецкая и М.Гельман
Мария Владимировна достает папку с карандашными и акварельными набросками. Мать купает дитя, оба смеются. Счастливы. Портрет рабочего. Снова тема материнства…
Это последние работы. Чувствуется, нашей собеседнице очень хочется услышать мнение о них. Ведь все то – и наброски, и целый парад скульптур на старинном столике - выполнены по памяти. Из-за болезни Мария Владимировна уже почти четверть века не покидает своей комнаты.
- «Только знаете, к вам огромная просьба, - говорит она на прощание. – Будете писать, - не выставляйте меня, ради бога, этаким осколком истории. Ведь вся моя сознательная жизнь прошла в советское время. И я горжусь этим».
***
Tags: Верхний город, Киев, киевляне
|
Метки: трубецкие |
Происхождение названия розы Звегинцова - Rosa sweginzowii |
Происхождение названия розы Звегинцова - Rosa sweginzowii
Yu. Arbatsky, K.Vikhlyaev
С именем Александра Ивановича Звегинцова связано название дикорастущей розы Rosa sweginzowii. Европейским специалистам по истории роз практически не известно это имя, хотя в классификаторе дикорастущих видов существуют несколько вариаций этого шиповника: Rosa sweginzowii var. Grandulosa, Rosa sweginzowii var. inermis, Rosa sweginzowii var. stevensii, Rosa sweginzowii var. Sweginzowii, Rosa sweginzowii ‘Macrocarpa’. Достаточно сказать, что в известной книге Джанфранко Финеши, в главе об этимологии видовых таксонов в культуре розы, напротив Sweginzowii значится следующее объяснение: «название этой розы, интродуцированной из Китая в 1909 году и используемой работниками питомников, вероятно, имеет отношение к имени ботаника (польского?); такое трудно произносимое название, вероятно, связано с орфографической ошибкой в написании слова» [1].
Если бы наш виртуальный розарий можно было воплотить в реальность, то роза Звегинцова сильно выделялась бы из общего ряда на «генеральской аллее». Дело в том, что все сорта, описываемые нами прежде, являются садовыми гибридами, выведенными селекционным путем, а роза Звегинцова – дикорастущий дальневосточный шиповник, который назван в честь его первооткрывателя. Об этом неизвестном «польском ботанике» и пойдет речь далее.
Считается, что род Звегинцовых ведет свое начало от Степана Семеновича Звегинцова, жившего в 1650 году на территории будущей Курской губернии. Многочисленные потомки основателя династии были военными, участвовали в сражениях во времена правления Петра I, Елизаветы, Екатерины Великой и далее. Расселившись по внутренним губерниям России – Воронежской, Курской и Тамбовской, они имели вотчинные земли и усадьбы, а на родовом гербе Звегинцовых были изображены подкова и полумесяц с девизом: «Слову своему господин и раб». Этот девиз ни один из потомков рода не посрамил ни разу, и можно с уверенностью сказать, что все Звегинцовы верой и правдой служили Отечеству, с честью исполняя свой долг.
Александр Иванович родился 25 февраля 1869 года. Его бабушка, Мария Павловна Черепанова (1817-1849), была дочерью первого адъютанта Кавалергардского полка, а дед, Александр Ильич Звегинцов (1801-1849), выйдя в отставку в чине полковника, долго служил на статских должностях, в частности казанским вице-губернатором и волынским губернатором. Дед был состоятельным человеком: он владел золотыми приисками в Сибири, у него были имения в Тамбовской, Курской и Воронежской губерниях, и даже в Крыму.
В начале 1840-х годов дед приобрел имение Масловка в Бобровском уезде Воронежской губернии, которое на многие годы стало родным гнездом для целой династии Звегинцовых. Обустраивая свое имение, Александр Ильич насадил леса, защищая дом от частых ветров на берегах Дона. Часть его сосновых посадок уцелела до 1917 года и тогда представляла собой могучий мачтовый бор. Рачительный хозяин, знаток и любитель садоводства, Александр Ильич завел плодовый сад, конный завод, овцеферму, построил оранжереи, где на зависть соседям-помещикам выращивались диковинные ананасы [2].
Все трое сыновей Александра Ильича были отчаянными кавалеристами, служили в привилегированном Кавалергардском Ее Величества императрицы Марии Федоровны полку. Старший, Владимир (1838-1926), влюбившись в знаменитую красавицу Варвару Дмитриевну Римскую-Корсакову, бросил карьеру военного и, не дождавшись ее развода с мужем, тайно перебрался с любимой в Париж, а затем в Ниццу. Портрет Варвары Дмитриевны кисти Винтерхальтера сегодня можно увидеть в Лувре.

Портрет В.Д. Римской-Корсаковой. Ф.К.Винтерхальтер. 1864 г.
Николай, младший сын (1848-1920), прослужив недолго в Кавалергардском полку, вышел по болезни в отставку и статскую службу, пройдя ряд назначений, закончил в должности губернатора Лифляндии (1905-1914).
Средний сын, Иван (1840-1913), отец героя нашего рассказа, так же, как и братья, начал службу кавалергардом. Затем был назначен адъютантом к московскому генерал-губернатору князю Долгорукому. Вскоре он женился и сразу ушел в отставку полковником (1868). Вот краткий перечень его должностей: почетный мировой судья Бобровского уезда Воронежской губернии, уездный предводитель дворянства в Звенигороде под Москвой, воронежский вице-губернатор, бобровский уездный предводитель, курский губернатор, член Совета Министерства внутренних дел. В 1892 году Иван Александрович – тайный советник. Именно он ходатайствовал о причислении Звегинцовых к воронежскому дворянству и затем о внесении их в шестую часть родословной книги. Приведем цитату из статьи воронежского историка А.Н.Акиньшина, который любезно согласился поделиться своими находками:
«Не забывал И.А. Звегинцов и о своих воронежских усадьбах. В бобровской Масловке им был построен многоэтажный каменный дом с парком вокруг, усовершенствован конный завод, поставлена винокурня. На старых посадках вдоль песчаных донских берегов помещик организовал лесное хозяйство по последнему слову науки. Венцом агрономических новаций землевладельца явилось разведение виноградника на площади в несколько десятин. Особого дохода он не давал: просто было приятно доказать себе и природе возможность выращивания южных ягод так далеко на севере.
Настоящей помощницей мужу по управлению имениями стала Мария Александровна, урожденная Казакова (1845–1908). Она занималась развитием животноводства и птицеводства, построила маслобойню и сыроварню, заложила саженцевые питомники, оборудовала для опытов оранжерею. <…> К тому же Мария Александровна вполне достойно выполнила свой супружеский долг: произвела на свет восьмерых чад…» [3].

Барский дом в Масловке. Фото 1900-х гг.

Имение Масловка. Общий вид. Фото начала XX в.
Одним из «восьмерых чад» был Александр Иванович Звегинцов. В 1888 году Александр поступил в Морское училище, закончил его с премией имени адмирала Нахимова и был произведен в мичманы, однако в 1890-м был переведен в Кавалергардский полк. Через два года Александр поступает в Академию Генерального Штаба, а в 1894-м вновь откомандирован в свой полк.
О следующих четырех годах службы Александра Ивановича ничего сказать не можем. Имя вновь появляется в исторических хрониках в связи с назначением его руководителем экспедиции в Северную Корею. Собственно говоря, с этого момента и начинается самое интересное.
Экспедиция была инициирована Генеральным Штабом России с целью сбора разведывательных сведений о характере местности и составления военно-топографических карт территории. В преддверии русско-японской войны 1904-1905 годов это, вероятно, диктовалось необходимостью, так как сама Корея была довольно закрытым государством. Чтобы придать экспедиции видимость научно-экономической, была запущена информация, что целью исследования является выяснение вопроса о лесной концессии владивостокского купца Бринера, вокруг приобретения которой в русском правительстве на рубеже столетий возникло много споров и дискуссий [4]. В записке, поданной на имя императора Николая II в начале 1898 года, организаторами предлагалось приобрести концессию Бринера, так как «эта концессия давала право проводить дороги, держать лесную стражу и т. п., словом, хозяйничать в северной Корее. Для осмотра этих лесов могла быть отправлена экспедиция, которая, не возбудив толков и дипломатических запросов, исследовала бы всесторонне северную Корею» [5].
Итак, в мае 1898 года экспедиция под командованием штаб-ротмистра Кавалергардского полка Звегинцова вышла из Петербурга, а 12 июня отправилась из Одессы на пароходе «Воронеж» через Атлантический и Индийский океаны к берегам Кореи. Одновременно из Петербурга сухим путем через Сибирь двинулась вторая группа участников под командованием капитана барона Н.А.Корфа. Основных участников экспедиции было 38, а также 8 переводчиков и значительное число погонщиков из местных жителей. Общее руководство лежало на Александре Ивановиче Звегинцове. Экспедиция находилась в Корее 94 дня и успела проделать колоссальный объем работ. Для того чтобы исследовать большую территорию, всю экспедицию поделили на группы (партии): две железнодорожные партии (одной из них руководил инженер Н.Г.Гарин-Михайловский, который впоследствии напишет воспоминания «По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову»), горная партия и лесная. По возвращении в Петербург были сделаны подробные карты местности и составлены многочисленные отчеты об экспедиции. Сохранился альбом с 96 фотоснимками, иллюстрирующими поездку. Он хранится в Кунсткамере, в Санкт-Петербурге. На фотографиях запечатлена корейская природа, виды корейских городов и деревень конца XIX века и их жителей.
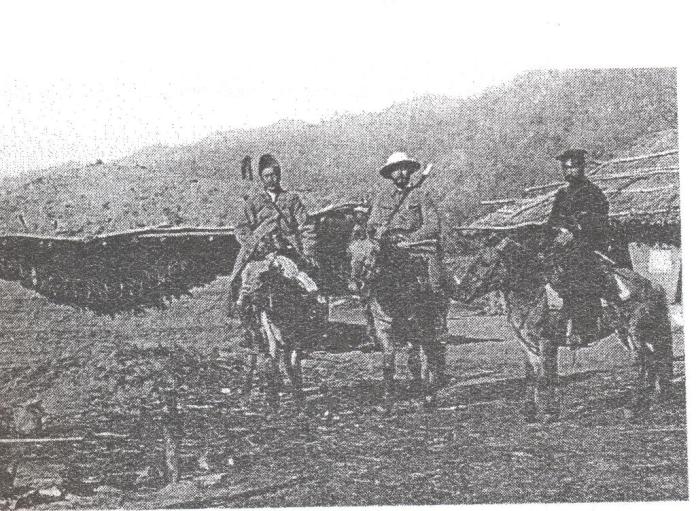
Участники экспедиции. В центре А.И.Звегинцов. Фото 1898 г.
Гарин-Михайловский в своих дневниках пишет о начальнике Звегинцове:
«Он одет в красивый тирольский костюм, носит белую пробковую шляпу с низким дном и широкими полями. Костюм идет ко всей его стройной, высокой и красивой фигуре. Волосы коротко острижены, черная вьющаяся борода, большие красивые черные глаза. Лицо доброе открытое, умное, манеры предупредительные и сильное желание стушеваться. Раньше он был моряком, изучал астрономию и теперь в предстоящих работах взял на себя все астрономические наблюдения» [6].
А вот другая цитата, уже из отчета В.М.Вонлярлярского:
«…Вопреки почти обычного явления, что из экспедиции все участники возвращаются врагами, настоящая экспедиция вернулась сплоченною, дружною, с отсутствием зависти к успехам товарищей и полная энергии продолжать работу, чтобы оправдать доверие посылавших. Дух экспедиции был таков, что, например, капитан барон Корф не только считался помощником поручика Звегинцова, но и был им в действительности. Поручик Звегинцов имел настолько такта, что остальные члены экспедиции, старше его летами и чином, несмотря на некоторую шероховатость в начале путешествия, добровольно признали за ним главенство в конце. Обстоятельства создали дисциплину отношений, столь необходимую при ответственной дальней экспедиции. Только благодаря этому духу, экспедиция могла сделать то, что сделала, и благополучно вернуться домой» [7].

Местные жители. Фото из альбома 1898 г.
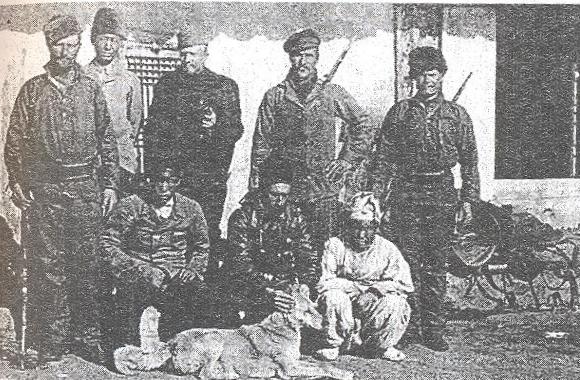
Участники экспедиции. В центре, во втором ряду, барон Корф
По итогам экспедиции все участники были представлены к наградам, начальник Звегинцов награжден орденом Св. Владимира 4-й степени.
В 1900 году Александр Иванович выступил с сообщением о поедке в Корею перед членами Русского Географического Общества, а позднее, совместно с Н.А.Корфом, опубликовал несколько книг об этих исследованиях.
16 мая 1900 года Александр Иванович вышел в отставку и вернулся в имение своего отца Масловку в Воронежской губернии. Здесь он увлекся садоводством, занялся разведением сирени и роз, опубликовал несколько заметок на сельскохозяйственные темы в местных периодических изданиях.
Спустя три года Звегинцов женился на фрейлине Екатерине Михайловне Свербеевой (1879-1948). Жена происходила из старинной московской семьи, дружившей со «столпами» православия: Хомяковыми, Самариными, Трубецкими и Аксаковыми. Венчание состоялось в Ильинской церкви города Воронежа. Через год родился первенец, Михаил (1904-1978), а четыре года спустя – дочь Мария (1908-1978). В этом же году умерла мать Звегинцова, и дочь назвали в память о Марии Александровне.

Свербеева (Звегинцова) Екатерина Михайловна. Фото начала XX в.

Звегинцов Александр Иванович. Фото 1900-х гг.
Будучи избранным в 1907 году депутатом Государственной Думы третьего созыва от Воронежской губернии, Александр Иванович состоял сначала членом Комиссии по старообрядческим вопросам, затем ее председателем (с 7 февраля 1911 г.). Им был разработан проект о гражданско-правовом положении старообрядцев, о котором он лично докладывал на заседании Думы 10 мая 1911 года.
В 1912 году Звегинцов был переизбран в Государственную Думу четвертого созыва, где вступил во фракцию «Союза 17 октября», так называемую партию «октябристов». Одновременно в Воронеже Звегинцов совместно с дворянином В.И.Раевским организовал типографию «Печатник».
За год до начала Первой мировой войны умер отец Александра Ивановича. Его похоронили на территории имения Масловка, рядом с матерью и сестрой Еленой, которая умерла от тифа в 1905 году, заразившись в лазарете в Харбине, где служила сестрой милосердия.
Началась война, и Звегинцов уходит добровольцем на фронт. Его определили начальником разведывательного отделения в штаб 3-й армии, сначала в чине капитана, а затем подполковника. 5 ноября 1915 года Звегинцов вылетел в боевой полет на аэроплане «Илья Муромец-3». Над станцией Барановичи аэроплан получил повреждения от зенитного огня неприятеля и при отходе (под Прилуками) разбился, все погибли [8]. Похоронен подполковник А.И.Звегинцов 13 ноября 1915 года на Всесвятском (Новостроящемся) кладбище в Воронеже. Могила его не сохранилась.
В том же году по случайности сгорел барский дом в Масловке, пропало немало драгоценных реликвий, в частности портреты Екатерины II и Александра I (подарок А.А.Орловой, дочери Орлова-Чесменского), разнообразные эпистолы и записи XVIII века.
После смерти мужа и гибели усадьбы Екатерина Михайловна, оказавшаяся в затруднительном положении, обратилась за помощью к генералу Алексееву. Так как Звегинцов был причислен к Генеральному Штабу, то она ходатайствовала о производстве мужа на день смерти в полковники, что весьма повышало полагающуюся ей пенсию. Генерал Алексеев пошел навстречу и удовлетворил просьбу вдовы. Таким образом, Александр Иванович Звегинцов закончил свою жизнь в должности полковника Генерального Штаба.
Дальнейшая судьба Масловки и потомков Звегинцова вкратце такова. С началом революции Екатерина Михайловна с детьми эмигрировала из России, поселившись в Лондоне. Остаток жизни она посвятила детям и служению Богу. В 1948 году ею была написана книга «Our Mother Church», а в 1930-м она перевела на английский воспоминания генерала Деникина, изданные в Англии под названием «Белая Армия». Сын Михаил окончил курс химического факультета Оксфордского университета, женился на Диане-Александре Лукас. Он был видным знатоком в вопросах экономики, сотрудничал с различными исследовательскими центрами. Дочь Мария, тоже воспитанница Оксфорда, специализировалась в изучении восточноевропейских стран. Была замужем за Рихардом Хольдсвордом, канадским летчиком, погибшим во время Второй мировой войны. Осталась дочь Диана.
В бывшей звегинцовской усадьбе расположился санаторий имени революционера Цюрупы. В 1929 году построено несколько деревянных летних корпусов. Только за тринадцать довоенных лет в доме отдыха побывало около 32 тысяч человек. Во время войны здесь был развернут военный госпиталь, а в октябре 1945-го открыт санаторий, который действует и поныне.
Что касается розы Звегинцова, то детали ее происхождения и появления в Европе не ясны. Разные источники сообщают нам о событиях, косвенно имеющих отношение к розе ‘Sweginzowii’, но о самой розе никаких сведений нет. Правда, в справочниках есть упоминание о гибриде Rosa Sweginzowii ‘Macrocarpa’.
В одних источниках говорится, что махровая сирень, тоже имеющая название ‘Sweginzowii’, получила Большую золотую медаль на Парижской выставке. На какой именно выставке и в каком году, не известно. В другом месте мы нашли упоминание, что мать Звегинцова, Мария Александровна, занималась садоводством и даже вывела два новых сорта роз (!) и новый сорт жасмина, названный Звегинцовским. Кроме того, в ботанических классификаторах существуют такие виды, как слива Звегинцова и миндаль Звегинцова. Какая-то загадочная связь, которая явно существует между всеми этими названиями, пока остается неразгаданной.
Тщательно изучив видовую розу ‘Sweginzowii’, мы пришли к выводу, что она не могла быть результатом гибридизации и никакого отношения к садовым сортам не имеет.

Rosa Sweginzowii ‘Macrocarpa’
В общем, тайн на сегодняшний день больше, чем хотелось бы. Нет сомнений в одном: Александр Иванович Звегинцов, а также его экспедиция в Северную Корею, имеет прямое отношение ко всем ботаническим видам с названием Sweginzowii, поскольку и роза, и сирень, и слива, и миндаль происходят из региона Китая и Кореи. http://www.kajuta.net/node/3773
|
Метки: звегинцовы розы-цветы |
Спасо-Хаус: резиденция американского посла Auto Date |
![]() Среда, января 18, 2012
Среда, января 18, 2012
 http://moscowwalks.ru/2012/01/18/spaso-house
http://moscowwalks.ru/2012/01/18/spaso-house
Проходя по Арбату неподалеку от памятника Окуджаве, стоит немного свернуть в Спасопесковский переулок, и вы попадете на Спасопесковскую площадку (не площадь, а именно площадку) — одно из удивительных мест Москвы, которое несмотря на массовую реконструкцию района до сих пор хранит дух старой Москвы и Арбата.
Неслучайно именно здесь решил поселиться самый богатый российский промышленник, после революции этот особняк отдали под резиденцию посла США в Москве.
Прогуляться по особняку, посмотреть интерьеры и почитать занимательную историю дома —>

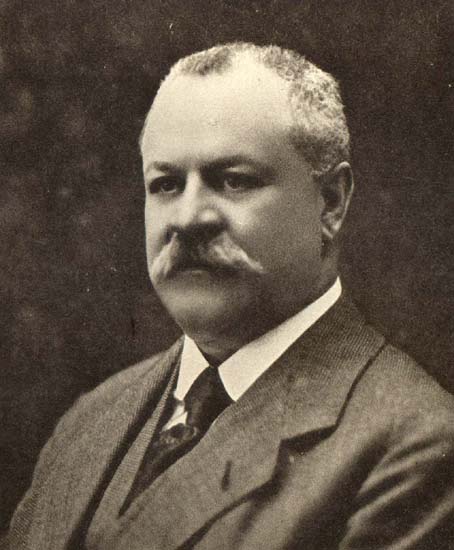
В начале 20 века в Москву из Сибири переехал Николай Второв, к тому времени уже преуспевающий предприниматель, владелец множества промышленных предприятий и банков.
В 2005 году используя архивные материалы журнал Forbes составил список самых богатых россиян в 1914 г., в последний год экономического подъема перед Первой Мировой войной. Так вот возглавил этот список как раз Николай Второв, обладавший состоянием более 60 млн золотых рублей. Для сравнения: Морозовы — 40 млн руб, Рябушинские — 25-35 млн руб.
За предприимчивость и умение делать деньги из всего Николая Второва прозвали русским Морганом.
Второв был застрелен в мае 1918 года в своем кабинете (по другой версии в особняке). При этом инцидент никак не был связан с революцией, а с личной историей. Опять же толком ничего не известно, но версии две: либо сумасшедший студент, либо обиженный внебрачный сын. Так или иначе достоверно известно лишь то, что потомки Второва уехали за границу и потом проживали в Париже.

В 1913-1915 гг.с самом сердце арбатских переулков Второв строит для себя огромный, нарочито стилизованный под классику, особняк.
Особняк был оборудован по последнему слову техники и, кроме того, в нем и поныне висит самая большая люстра в Москве (кроме театральных).

Пройдя строгий досмотр мы входим в гости к американскому послу.

При входе нас встречают флаги и камин
Что приятно, американцы очень бережно относятся к истории особняка и даже привнесенные детали не разрушают общей гармонии интерьера.
Интересная деталь: слева на камине стоит бюст президента Кеннеди, который в ходе визита президента Никсона в Москву, на всякий случай, убрали с глаз долой.

Библиотечная комната резиденции американского посла
После революции особняк был национализирован в пользу Наркомата иностранных дел, и здесь поселились высокопоставленные чиновники, включая самого комиссара по иностранным делам Георгия Чичерина, сменившего на этом посту Троцкого.
Дипломатические отношения с США Советский Союз установил только в 1933 году. Здание на Спасопесковской площадке было выделено Наркоматом иностранных дел для временного размещения посольства. Американская дипломатическая миссия должна была поселиться на Воробьевых горах, было даже выбрано место под строительство нового здания, но за три года, на которые был арендован у Наркомата бывший особняк Второва, строительство на Воробьевых так и не началось. Временная резиденция превратилась в постоянную.
Говорят, что очень близко к сердцу выселение из особняка принял Георгий Чичерин. Первое время в особняке периодически несколько раз раздавался телефонный звонок, но в трубке слышалось только молчание. По предположениям американцев, таким образом Чичерин вызывал к себе истопника, продолжавшего работать в особняке. Было известно, что изрядно оставшийся не у дел и впавший в немилость Чичерин развил нешуточную мнительность и доверял уборку своей квартиры только этому истопнику.

Особняк на Спасопесковской площадке у американцев был ласково сокращен до Spaso House. Название прижилось, и сейчас даже в официальных бумагах пишут: Спасо-Хаус.

Вход в парадный зал


Лестница на второй этаж в жилые помещения.

Парадный зал особняка постоянно используется для проведения приемов.
Два приема, проведенных в начале дипломатической истории Спасо-хауса, считаются поистине легендарными.
Первый из них — рождественский прием в канун 1934 года, когда первый посол США в СССР Уильям Буллит (William Christian Bullit) дал указание своему переводчику Чарльзу Тейеру (Charles Thayer) устроить, как он сам потом вспоминал, «что-нибудь сногсшибательное» для всех американцев, проживающих в Москве. Ирена Уайли (Irena Wiley), жена советника посольства, предложила устроить вечеринку с участием зверей. Но когда Тейер пришел в Московскии зоопарк, перестраховавшийся директор отказался дать животных для проведения каких-либо мероприятий в иностранном посольстве. Тейер в отчаянии обратился в Московский цирк, где ему дали трех тюленей — Мишу, Шуру и Любудля выступления в Спасо-Хаусе с цирковыми трюками. Вечером гости посла собрались в зале приемов, свет был потушен, и лишь прожекторы освещали тюленей, которые по очереди внесли в зал на своих мордочках новогоднюю елку, поднос с бокалами и бутылку шампанского. После этого впечатляющего шествия тюлени продемонстрировали публике еще несколько трюков, но под конец представления случился конфуз: дрессировщик не рассчитал своих сил и напился до беспамятсва. Неуправляемые тюлени разбрелись по Спасо-Хаусу, а Тейер и другие сотрудники посольства долго не могли загнать их в клетку. К счастью, посол Буллит был срочно вызван в Вашингтон и на этом приеме не присутствовал, что и спасло дипломатическую карьеру Тейера.

Следующий большой прием состоялся 24 апреля 1935 г.
И опять же по настоянию жены посла все было обставлено самым дорогим образом. Назвали мероприятие «Весенний фестиваль». На этот раз Тейеру все же удалось договориться с зоопарком.
В результате, в Спасо-Хаус специально для приема привезли несколько горных коз, десяток белых петухов и медвежонка, которого предполагалось держать на протяжении всего вечера на специально сооруженной небольшой платформе. Для полноты ощущений рабочие соорудили в зале приемов искусственный лес из 10 березок — их выкопали заранее и временно поместили в одну из ванных комнат Спасо-Хауса. И, наконец, был сооружен вольер для фазанов, маленьких попугайчиков и сотни зябликов, также позаимствованных у зоопарка. В довершение всего обеденный стол был украшен финскими тюльпанами и листьями цикория, зеленеющими на влажном войлоке, что, по замыслу авторов композиции, должно было имитировать лужайку.
На приеме присутствовали все ведущие общественные и политические фигуры Советского Союза: нарком иностранных дел Литвинов, нарком обороны Ворошилов, председатель ЦК партии Каганович, писатель и член редколлегии «Известий» Радек, маршалы Егоров, Тухачевский и Буденный.
Среди приглашенных представителей интеллигенции на приеме присутствовал Михаил Булгаков, который, по уверениям его третьей жены, после приема кардинально переписал сцену «весеннего бала полнолуния» в романе «Мастер и Маргарита». Фонтаны вина и шампанского, лучший оркестр, услаждающие слух птицы — все это было и у американского посла, и у Воланда.
На приеме, правда, произошел небольшой конфуз. Радек, шутки ради, налил в бутылочку медвежонку шампанского, после чего последнего обильно вырвало на форму одного высокопоставленного военного. Но скандала не случилось и все благополучно гуляли до самого утра. Елена Булгакова вспоминала, что потом их с мужем к тому же отвезли на машине посла до дома и подарили шикарный букет цветов.

Самая большая люстра Москвы

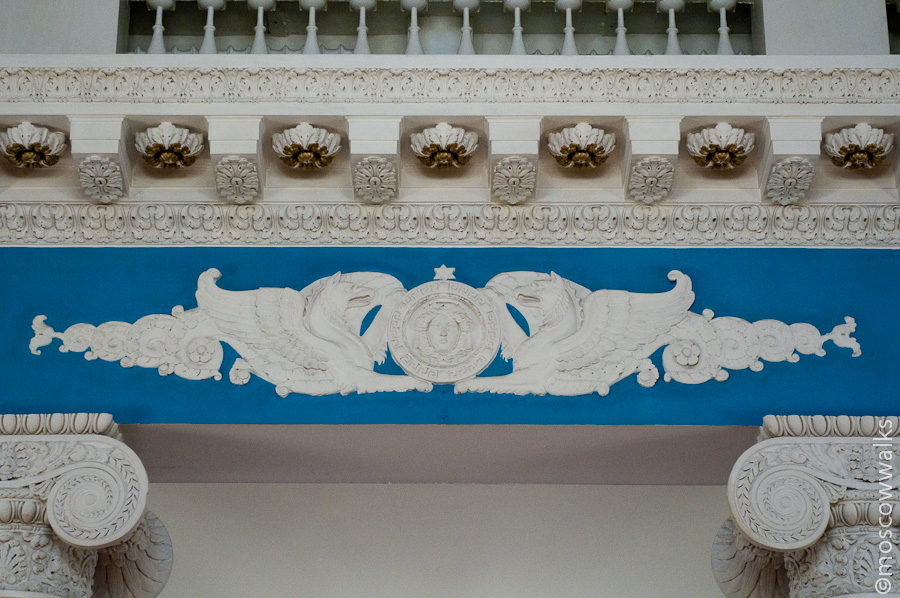
Интерьер украшен морскими грифонами — популярными символами богатства и могущества. Очень распространенный символ в Москве. На дореволюционной Ильинке, сплошь некогда занятой банками грифоны на каждом шагу (см. Детали: Ильинка)

В обычном античном оранменте-меандре любители конспирологии часто видят свастику

Изначально лепнина особняка была белой, как здесь, в углу. Синие и золотые акценты появились в ней при американцах

Парадная столовая

Камин



Интересна история нескольких человек из обслуживающего персонала.
Работники посольства и послы постоянно меняются, поэтому истинными постоянным обитателем особняка всегда был обслуживающий персонал.
Известна история двух дворецких китайского происхождения Чина и Танга, которых невесть откуда привез еще в начале 1950-х посол Джордж Кеннан (George Kennan). Один из этих дворецких даже успел жениться в Москве и даже в конце 1970-х неизменно продолжал работать при американском после.

Еще одним долгожителем особняка является нынешний шеф-повар, итальянец Пьетро Валот (Pietro Valot), готовящий для семьи посла и организовывавший приемы в резиденции еще в 1980-х. Причем, в то время дефицита в магазинах, конечно, ничего невозможно было купить для организации приема на высшем уровне, но, по воспоминаниям работников посольства, Пьетро Валот умудрялся с утра выйти с бутылкой водки и пачкой сигарет, а к обеду накрыть пышный стол.

Люстра в столовой

Большой бальный зал был пристроен к особняку специально для организации балов еще в 1935 г.


Фотосъемка делалась в 20-х числах декабря, поэтому у нас также была уникальная возможность посмотреть на него во всей рождественской красе.

И, напоследок, два вида

Фото из окон второго этажа, снято в 1930-х, но вид с тех пор не изменился. Церковь Спаса на Песках (отсюда название площадки)

Этот же вид на картине «Московский дворик» кисти Василия Поленова
Удивительный особняк. Такой новый и такой старый, безумно богатый, но и без излишних украшательств одновременно. Не зря именно его отдали сначала наркомату иностранных дел, а затем в качестве дружественного шага — посольству США. Николай Второв не только умел зарабатывать деньги, но и обладал вкусом.
P.S. также рекомендуем ознакомиться с публикацией про американские места в Москве, их, как ни странно, довольно много.
|
Метки: второвы купеческие особняки |
Роза 'Княгиня Мария Долгорукова'. Мария Сергеевна Бенкендорф |
Роза 'Княгиня Мария Долгорукова'. Мария Сергеевна Бенкендорф. Rose ‘Princesse Marie Dolgorouky’
Мария Сергеевна Бенкендорф (Долгорукая)
Ю.Арбатская, К.Вихляев
Мы уже писали о розе, посвященной Долгоруким, в частности князю Василию Андреевичу Долгорукому (1804-1868). Роза так и называется - 'Prince Bazile Dolgorouky'. Та роза не сохранилась, хотя изображение ее есть. Зато сохранилась роза ‘Princesse Marie Dolgorouky’. Мы ее отыскали в розарии «Европа» в Зангерхаузене (Германия).

‘Princesse Marie Dolgorouky’ (HP, Gonod, 1878)
Роза ‘Princesse Marie Dolgorouky’ (HP, Gonod, 1878) относится к ремонтантным сортам, имеет крупные, махровые бледно-розовые цветы (17-25 лепестков) чашевидной формы. Высота куста до 1,5 м. Цветет несколько раз в сезон. Один из родительских сортов - ‘Anna de Diesbach’ (Lacharme, 1858).
Автор сорта, Жан-Мари Гоно (Jean-Marie Gonod), родился в 1827 году, с 16 лет обучался в разных питомниках садоводческому делу и в 1857-м основал питомник по разведению роз в Лионе, в районе Монплезир. Одновременно он работал в парке Тет-д’Ор на должности бригадира зеленых насаждений. Первые розы, выведенные Гоно, были выпущены на рынок в 1863 году. Это были ремонтантный сорт ‘Vicomtesse Douglas’ (1862) и бурбонская роза ‘Céline Gonod’ (1861). С этого времени он создал немало сортов роз, два из них посвящены нашим соотечественницам: ‘Anna de Besobrasoff’ (1878) и ‘Princesse Marie Dolgorouky’ (1878). Жан-Мари Гоно скончался в 1888 году, оставив после себя наследие из более чем 70 сортов роз.
Мария Сергеевна Долгорукова родилась 14 декабря 1846 года. Отец, князь Долгоруков Сергей Алексеевич (1809-1891) был статс-секретарем, одно время губернатором Витебской губернии. Мать – Апраксина Мария Александровна (1816-1892). В семье кроме Марии было еще семеро детей. Мария Сергеевна пережила их почти на 30 лет.

Княжна Мария Сергеевна Долгорукова. Фото 1860-х гг.
В 17 лет (1863) Мария вышла замуж за князя Александра Васильевича Долгорукова, сына героя нашего предыдущего рассказа, Василия Андреевича. В 1865 году у нее родилась дочь Ольга, в 1866-м – сын Александр, а в 1868-м – последний сын Василий.
Муж Марии был всего на семь лет старше ее, ему в год свадьбы исполнилось лишь 24, что по тем временам считалось очень ранним браком. Вместе они прожили 13 лет. В 1876 году в возрасте 37 лет муж Марии внезапно умер, оставив Марию с тремя детьми.

Сын Марии Сергеевны, Василий Долгоруков. Фото 1900-х гг.
Проходят годы, и Мария Сергеевна становится фрейлиной императрицы Александры Федоровны, жены Николая II, как в свое время и ее мать, графиня Апраксина, была фрейлиной у императрицы Марии Александровны. С благословения царской четы Мария Сергеевна в 1897 году выходит второй раз замуж, за графа Павла Константиновича Бенкендорфа.
Павел Константинович Бенкендорф - генерал от кавалерии, генерал-адъютант, гофмаршал, обер-гофмаршал Высочайшего двора, член Государственного Совета с 1916 года. Вот как характеризует графа в своих воспоминаниях начальник канцелярии Двора А.А.Мосолов:
«Его управление длилось в течение двух царствований. Человек умный, всесторонне образованный, весьма хладнокровный, он исполнял свое нелегкое дело незаметно для посторонних, но всегда с ровной добросовестностью. Граф держался определенных принципов и имел большой и заслуженный вес в министерстве двора. Политикой не занимался и о ней никогда не говорил». Он был «...арбитром всех вопросов, касавшихся русского двора. Государь и императрица относились к нему с большим доверием и дружбой. Все бывшие в России высочайшие особы и главы государств хорошо знали и ценили нашего гофмаршала».

Мария Сергеевна Бенкендорф в костюме русской
боярыни XVII в. на костюмированном балу при Дворе в 1903 г.
С наступлением событий 1917 года Павел Константинович и Мария Сергеевна неотлучно находились при арестованном императоре и его супруге в Царском Селе. Сын от первого брака, генерал-майор Василий Долгоруков, будучи командиром полка охраны, также находился в свите Его Императорского Величества. Сохранился снимок из воспоминаний П.К.Бенкендорфа 1919 года «Last Days at Tsarskoe Selo», где все трое сфотографированы в Царскосельском парке.

Слева В.А.Долгоруков, второй справа П.К.Бенкендорф,
сидит М.С. Бенкендорф. 31 июля 1917 г.
14 августа 1917 года Василий Долгоруков добровольно последовал за императором и императрицей в качестве сопровождающего к месту ссылки царской семьи. Был расстрелян 10 июля 1918 года.
Павел Константинович, сославшись на плохое здоровье, отказался ехать в Тобольск. Вместе с Марией Сергеевной они провели три года в Петрограде, ожидая разрешения на выезд за границу. Все это время граф Бенкендорф писал мемуары о последних днях службы при Николае II, которые были переведены на английский язык и изданы уже после его смерти.
Второй сын Марии Сергеевны, Александр, был убит в Москве в 1919 году. В феврале 1921-го супруги Бенкендорф, наконец, получают разрешение на выезд, но едва они пересекли эстонскую границу, как Павел Константинович заболел и тут же в карантинной больнице за три дня скончался. Похоронили его на семейном кладбище Бенкендорфов в родовом имении Фалль (Эстония).
Мария Сергеевна, потеряв мужа и обоих сыновей, в одиночестве добралась до Ниццы, где и прожила вплоть до самой смерти в 1936 году.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
Статьи.
- Аспирин, футбол и Красный рыцарь
- Розы ‘Madame Anna de Besobrasoff’ (Nabonnand, 1877), ‘Anna de Besobrasoff’ (Gonod, 1878), ‘Mariette de Besobrasoff’ (Nabonnand, 1878)
- Семейное предприятие Кокеров в Абердине (Шотландия). Cocker’s Roses in Aberdeen (Scotland)
- 17 Золушек и Мальчик-с-пальчик
- Аврора Понятовская. Rose 'Belle Aurore' (Alba, Descemet, 1815)
- Арбатская Ю., Вихляев К. Камелии. Романовы и русское дворянство в названиях камелий. Camelias and Russian names
- Арбатская Ю., Вихляев К. Роза Новичкова. История происхождения. History of Rose Novitchkova
- Арбатская Ю.Я. «Русские» розы Андре Шварца (розы 'Princesse Marie Mestchersky' и 'Princesse Vera Orbelioni')
- Арбатская Ю.Я. Николай Михайлович Карамзин и французские розы. N.M.Karamzine et les roses françaises
- Арбатская Ю.Я. Роза как музейный экспонат. Роза 'Vltava'
- Арбатская Ю.Я. Роза ‘Алупка’. Детектив на ботаническую тему
- Арбатская Ю.Я. Франко-Русский Союз (розы 'Alliance Franco-Russe' и 'France et Russie')
- Великая княжна Ольга Николаевна: немецкий трон и французская роза
- Дарья Ливен и Софья Бенкендорф: розы и деяния. Судьбы русских княгинь из рода Бенкендорф
- Дом Meilland. Часть 1. Роза столетия. ('Gloria Dei')
- История России в названиях шиповников
- Крымская война в названиях французских роз
- Ольга Кантакузен-Альтьери. Rose ‘Princesse Olga Altieri’
- Первая мировая война в названиях роз. The War and the roses
- Роза 'Александра Бахметева'. Rose 'Alexandrine Batchmeteff'
- Роза 'Анна Алексеева'. Rose 'Anna Alexieff'
- Роза 'Анна Чарторыйская'. Rose ‘Anna Czartoriska’
- Роза 'Баронесса Крюденер'. Rose ‘Julie de Krudner’
- Роза 'Василий Хлудов'. Rose ‘Wassili Chludoff’ (N, Nabonnand, 1886/1896)
- Роза 'Генерал Анненков' (‘Général Annenkoff’)
- Роза 'Генерал Д. Мерчанский'. Rose ‘Général D. Mertchansky’ (T, Nabonnand, 1890)
- Роза 'Генерал Захаржевский'. Rose ‘Général Zachargevski’ (HP, Ducher, 1860)
- Роза 'Генерал Корольков'. Rose ‘Général Korolkov’ (HP, Soupert & Notting, 1875)
- Роза 'Генерал Милорадович'. Rose ‘Général Miloradowitsch’ (Louis Lévêque, 1869)
- Роза 'Генерал Ф.Пешков'. Rose ‘General Th. Peschkoff’ (HT, Ketten Frères, 1909)
- Роза 'Генерал Шаблыкин'. Rose ‘Général Schablikine’ (T, Nabonnand, 1878)
- Роза 'Генеральша Мария Раевская'. ‘Générale Marie Raievsky’ (HP, Ketten Frères, 1911)
- Роза 'Граф Бобринский'. Rose 'Comte de Bobrinsky'
- Роза 'Графиня де Сегюр'. Rose ‘Comtesse de Ségur’
- Роза 'Графиня Орлова'. Rose ‘Comtesse Orloff’ (N, Vibert, 1824)
- Роза 'Графиня Уварова'. Rose 'Comtesse Ouwaroff'
- Роза 'Княгиня Амедей де Бройля'. Rose 'Princesse Amédée de Broglie'
- Роза 'Княгиня Лиза Трубецкая'. Rose ‘Princesse Lise Troubetskoi’
- Роза 'Княгиня Мария Долгорукова'. Мария Сергеевна Бенкендорф. Rose ‘Princesse Marie Dolgorouky’
- Роза 'Княгиня Мария Щербатова'. Rose ‘Princesse Marie Scherbatoff’ (HT, 1913)
- Роза 'Княгиня Татьяна Васильчикова'. Rose 'Prinzessin Tatiana Wassiltchikoff'
- Роза 'Князь Василий Долгорукий'. Rose 'Prince Bazile Dolgorouky'
- Роза 'Князь Лев Кочубей'. Rose 'Prince Léon Kotschoubey'
- Роза 'Князь Павел Демидов'. Rose 'Prince Paul Demidoff'
- Роза 'Князь Федор Голицын'. Rose ‘Prince Theodore Galitzine’ (T, Ketten, 1898)
- Роза 'Константин Третьяков'. Rose ‘Constantin Tretiakoff’ / ‘Constantin Petriakoff' (HP, Hippolyte Jamain, 1877/1878)
- Роза 'Мадам генеральша Гурко'. Rose ‘Madame la Générale Gourko’
- Роза 'Мадемуазель Зонтаг'. Rose 'Mademoiselle Sontag’
- Роза 'Олимпиада Терещенко' (‘Madame Olympe Terestchenko’)
- Роза Звегинцова. Rosa Zweginzowii. History & People
- Роза ‘Воспоминание о Княгине Александре Святополк-Четвертинской’. Rose ‘Souvenir de la Princesse Alexandra Swiatopolk-Czetwertinsky’ (T, Ketten Frères, Luxembourg, 1901)
- Роза ‘Княгиня Радзивилл’. Rose ‘Princesse Radziwill’
- Розы 'Князь Васильчиков' и 'Мария Исакова'. Les roses 'Prince Wasiltchikoff' et 'Marie Isakoff'
- Розы дворянского рода Мещерских. Roses ‘Lily Mestschersky’, ‘Natascha Mestchersky’, 'Princesse Marie Mestchersky', ‘Souvenir de Katia Metschersky’, ‘Princesse Vera Orbelioni’
- Розы династии садоводов Перне-Дюше (Pernet-Ducher)
- Розы и розарий принцессы Грейс в Монако. Les roses et la roseraie de la Princesse Grace au Monaco
- Розы и русский балет
- Розы Шотландии: ‘Галина Вишневская’, ‘Раиса Горбачева’, ‘Гейдар Алиев’
- Русские розы из Люксембурга. Les roses russes du Luxembourg
- Сценарий праздника королевы цветов в Массандровском дворце Александра III в июне 2016 г.
- Указатель сортов роз селекции Н.А.Гартвиса. The index of grades of roses of selection of N. de Hartwiss
- Фрейндлих. Розы. Судьбы. Dynasty of gardeners Freundlich and their roses
- Четыре "русские" розы XX века: 'Анна Павлова', 'Вера Зорина', 'Ольга Чехова' и 'Людмила Белоусова'
Ономастика роз.
- Аспирин, футбол и Красный рыцарь
- Розы ‘Madame Anna de Besobrasoff’ (Nabonnand, 1877), ‘Anna de Besobrasoff’ (Gonod, 1878), ‘Mariette de Besobrasoff’ (Nabonnand, 1878)
- Семейное предприятие Кокеров в Абердине (Шотландия). Cocker’s Roses in Aberdeen (Scotland)
- 17 Золушек и Мальчик-с-пальчик
- Аврора Понятовская. Rose 'Belle Aurore' (Alba, Descemet, 1815)
- Арбатская Ю., Вихляев К. Камелии. Романовы и русское дворянство в названиях камелий. Camelias and Russian names
- Арбатская Ю., Вихляев К. Роза Новичкова. История происхождения. History of Rose Novitchkova
- Арбатская Ю.Я. «Русские» розы Андре Шварца (розы 'Princesse Marie Mestchersky' и 'Princesse Vera Orbelioni')
- Арбатская Ю.Я. Николай Михайлович Карамзин и французские розы. N.M.Karamzine et les roses françaises
- Арбатская Ю.Я. Роза как музейный экспонат. Роза 'Vltava'
- Арбатская Ю.Я. Роза ‘Алупка’. Детектив на ботаническую тему
- Арбатская Ю.Я. Франко-Русский Союз (розы 'Alliance Franco-Russe' и 'France et Russie')
- Великая княжна Ольга Николаевна: немецкий трон и французская роза
- Дарья Ливен и Софья Бенкендорф: розы и деяния. Судьбы русских княгинь из рода Бенкендорф
- Дом Meilland. Часть 1. Роза столетия. ('Gloria Dei')
- История России в названиях шиповников
- Крымская война в названиях французских роз
- Ольга Кантакузен-Альтьери. Rose ‘Princesse Olga Altieri’
- Первая мировая война в названиях роз. The War and the roses
- Роза 'Александра Бахметева'. Rose 'Alexandrine Batchmeteff'
- Роза 'Анна Алексеева'. Rose 'Anna Alexieff'
- Роза 'Анна Чарторыйская'. Rose ‘Anna Czartoriska’
- Роза 'Баронесса Крюденер'. Rose ‘Julie de Krudner’
- Роза 'Василий Хлудов'. Rose ‘Wassili Chludoff’ (N, Nabonnand, 1886/1896)
- Роза 'Генерал Анненков' (‘Général Annenkoff’)
- Роза 'Генерал Д. Мерчанский'. Rose ‘Général D. Mertchansky’ (T, Nabonnand, 1890)
- Роза 'Генерал Захаржевский'. Rose ‘Général Zachargevski’ (HP, Ducher, 1860)
- Роза 'Генерал Корольков'. Rose ‘Général Korolkov’ (HP, Soupert & Notting, 1875)
- Роза 'Генерал Милорадович'. Rose ‘Général Miloradowitsch’ (Louis Lévêque, 1869)
- Роза 'Генерал Ф.Пешков'. Rose ‘General Th. Peschkoff’ (HT, Ketten Frères, 1909)
- Роза 'Генерал Шаблыкин'. Rose ‘Général Schablikine’ (T, Nabonnand, 1878)
- Роза 'Генеральша Мария Раевская'. ‘Générale Marie Raievsky’ (HP, Ketten Frères, 1911)
- Роза 'Граф Бобринский'. Rose 'Comte de Bobrinsky'
- Роза 'Графиня де Сегюр'. Rose ‘Comtesse de Ségur’
- Роза 'Графиня Орлова'. Rose ‘Comtesse Orloff’ (N, Vibert, 1824)
- Роза 'Графиня Уварова'. Rose 'Comtesse Ouwaroff'
- Роза 'Княгиня Амедей де Бройля'. Rose 'Princesse Amédée de Broglie'
- Роза 'Княгиня Лиза Трубецкая'. Rose ‘Princesse Lise Troubetskoi’
- Роза 'Княгиня Мария Долгорукова'. Мария Сергеевна Бенкендорф. Rose ‘Princesse Marie Dolgorouky’
- Роза 'Княгиня Мария Щербатова'. Rose ‘Princesse Marie Scherbatoff’ (HT, 1913)
- Роза 'Княгиня Татьяна Васильчикова'. Rose 'Prinzessin Tatiana Wassiltchikoff'
- Роза 'Князь Василий Долгорукий'. Rose 'Prince Bazile Dolgorouky'
- Роза 'Князь Лев Кочубей'. Rose 'Prince Léon Kotschoubey'
- Роза 'Князь Павел Демидов'. Rose 'Prince Paul Demidoff'
- Роза 'Князь Федор Голицын'. Rose ‘Prince Theodore Galitzine’ (T, Ketten, 1898)
- Роза 'Константин Третьяков'. Rose ‘Constantin Tretiakoff’ / ‘Constantin Petriakoff' (HP, Hippolyte Jamain, 1877/1878)
- Роза 'Мадам генеральша Гурко'. Rose ‘Madame la Générale Gourko’
- Роза 'Мадемуазель Зонтаг'. Rose 'Mademoiselle Sontag’
- Роза 'Олимпиада Терещенко' (‘Madame Olympe Terestchenko’)
- Роза Звегинцова. Rosa Zweginzowii. History & People
- Роза ‘Воспоминание о Княгине Александре Святополк-Четвертинской’. Rose ‘Souvenir de la Princesse Alexandra Swiatopolk-Czetwertinsky’ (T, Ketten Frères, Luxembourg, 1901)
- Роза ‘Княгиня Радзивилл’. Rose ‘Princesse Radziwill’
- Розы 'Князь Васильчиков' и 'Мария Исакова'. Les roses 'Prince Wasiltchikoff' et 'Marie Isakoff'
- Розы дворянского рода Мещерских. Roses ‘Lily Mestschersky’, ‘Natascha Mestchersky’, 'Princesse Marie Mestchersky', ‘Souvenir de Katia Metschersky’, ‘Princesse Vera Orbelioni’
- Розы династии садоводов Перне-Дюше (Pernet-Ducher)
- Розы и розарий принцессы Грейс в Монако. Les roses et la roseraie de la Princesse Grace au Monaco
- Розы и русский балет
- Розы Шотландии: ‘Галина Вишневская’, ‘Раиса Горбачева’, ‘Гейдар Алиев’
- Русские розы из Люксембурга. Les roses russes du Luxembourg
- Сценарий праздника королевы цветов в Массандровском дворце Александра III в июне 2016 г.
- Указатель сортов роз селекции Н.А.Гартвиса. The index of grades of roses of selection of N. de Hartwiss
- Фрейндлих. Розы. Судьбы. Dynasty of gardeners Freundlich and their roses
- Четыре "русские" розы XX века: 'Анна Павлова', 'Вера Зорина', 'Ольга Чехова' и 'Людмила Белоусова'
http://www.kajuta.net/node/3446
Copyright © 2019 Константин Вихляев и Юта Арбатская представляют
|
Метки: долгоруковы бенкендорф розы-цветы |
Особняк Замятина-Третьякова-Рябушинского: история и интерьеры |
Особняк Замятина-Третьякова-Рябушинского: история и интерьеры
![]() Среда, декабря 6, 2017
Среда, декабря 6, 2017

Неподалеку от метро Кропоткинская на Гоголевском бульваре стоит прекрасный особняк неорусского стиля. Долгое время он был закрыт, да и сейчас доступ туда ограничен, здесь располагается Российский фонд культуры. Это Главный дом бывшей городской усадьбы А. Е. Замятина, позже С. М. Третьякова, а ещё позже П.П. Рябушинского.
Как же особняк выглядит внутри, что сохранилось и что было отреставрировано —>
Далее передаём слово Василию П. Все фото в этой публикации также его авторства.
История особняка
Главный дом усадьбы был построен здесь еще во второй половине XVIII века при князе Петре Александровиче Меншикове и представлял собой каменные палаты. К стене Белого города он стоял, как и положено, задом, а красивым фасадом и въездом с пилонами ворот он выходил к Большому Знаменскому переулку.
В 1806 году у усадьбы появился новый владелец, полковник Андрей Егорович Замятин. После пожара 1812 года Замятин перестроил дом, развернув его на 180 градусов. Парадная анфилада с красивым шестиколонным портиком под треугольным фронтоном смотрела теперь на новый Пречистенский бульвар, появившийся на месте снесённой стены Белого города.
Далее усадьбой владели статский советники камергер Дмитрий Михайлович Львов и почётная гражданка купчиха Ольга Андреевна Мазурина. После смерти Мазуриной в 1871 году усадьба была продана купцу Сергею Михайловичу Третьякову (1834 — 1892).
Сергей Михайлович – младший брат Павла Михайловича Третьякова. Братья продолжали дело своего отца, Михаила Захарьевича Третьякова, они были «льнянщики». Лен в России всегда считался коренным русским товаром. Поставщиком отечественного льняного полотна, пряжи и ниток была Кострома. Здесь Третьяковы вместе со своим зятем Коншиным учредили в 1866 году большую льняную мануфактуру (прядильную и ткацкую фабрики) — Большую Костромскую Мануфактуру.
Сергей Михайлович женился рано, в 1856 году, на дочери купца Мазурина Елизавете Сергеевне (1837—1860). Красивые и молодые, они любили веселые балы, которые во время жениховства постоянно проходили в Толмачах, где жили Третьяковы. Съезжались известные артисты, художники, музыканты. С последними особенно был дружен Сергей Михайлович, среди которых выделял Рубинштейна и Булахова. «Танцевали до упаду, до зари», – пишет В.П. Зилоти. «Молодая его жена во время бала раза три переодевалась: то вишневое платье с бриллиантами, то белое атласное с золотыми колосьями на фижмах, то палевое «тюль-иллюзион». И весь вечер личный парикмахер укладывал ее прическу после каждого переодевания. Всех пленяла юная красота жениха и невесты».
6 декабря 1857 года у них родился сын Николай. Но счастье длилось недолго. В 1860 году при родах Елизавета Сергеевна умерла. Рано оставшись вдовцом, Сергей Михайлович возглавил парижское отделение фирмы и много времени проводил в Париже.
В 1868 году он вновь женится. Избранницей его становится Елена Андреевна Матвеева. Дочь дворянина, вышедшего из купеческой среды. Своим дворянством Елена Андреевна очень гордилась и все время его подчеркивала. Характер имела вздорный и тяжелый. В результате семьи братьев не дружили. Для блестящей светской жизни, к которой стремилась жена, и был куплен новый дом.
Для коренной перестройки особняка приглашен был архитектор Александр Степанович Каминский (муж сестры Третьяковых). Именно тогда главный дом получил декор фасадов, выполненный в неорусском стиле. Декор арок, консолей придает зданию сходный с постройками древнерусского зодчества облик.

Главный вход в здание смещен вправо и выделен металлическим козырьком красивого узора на тонких чугунных колоннах — любимой и часто используемой Каминским в своих проектах деталью.

Красивая ограда особняка.

Перестройка главного дома проводилась в 1871-1873 годах. В это же время для размещения художественной коллекции владельца усадьбы Каминский возвёл двухэтажный флигель с большими окнами. Здание стоит справа с небольшим отступом от главного дома и соединено с ним двумя переходами — галереями.

Если войти в дом через парадное крыльцо, то мы оказываемся в вестибюле первого этажа.

Надо сказать, что нижний этаж, где размещались людские комнаты, кладовые, кухня и прислуга, был оформлен весьма просто. Первоначальные каменные своды в ходе перестройки Каминским были заменены железобетонными сводами «монье». Это было одно из первых применений этой конструкции в Москве, да еще в таком масштабе.
Из вестибюля посетители попадают на парадную лестницу, оформленную в классическом стиле.

Люстра над лестницей.

Во втором этаже во всю длину особняка была оформлена парадная анфилада залов. Особняк сразу был рассчитан на парадную, шумную толпу гостей, многочисленные приемы, банкеты и так далее. C площадки второго этажа дверь прямо ведет в аванзал, дверь справа — в бальный зал, с которого начинается анфилада залов, идущих вдоль фасада, дверь слева ведет в переход, соединяющий основное здание с галереей.
Вид лестницы с площадки второго этажа.

С верхней площадки лестницы гости попадали в бальный зал. Он пышно отделан лепниной с большим количеством амуров, поэтому его теперь называют амурным.


Сергей Михайлович с детства дружил с Николаем Григорьевичем Рубинштейном. Его очень любила даже Елена Андреевна. Именно на ее руках он скончался в Париже в 1881 году. В этом зале великий пианист и композитор играл очень часто. Здесь выступали и другие выдающиеся музыканты того времени.


Необыкновенно хорош в этом зале потолок – изящная лепнина и в центре панно с колесницей Аполлона и амурами.

Двери в зале отделаны шпоном карельской березы и обильной позолотой. Однако это вовсе не значит, что столько позолоты было при Сергее Михайловиче.

Еще один амур находится в углублении у амурного зала.

За арками в зале находится аванзал с камином. Это не единственный камин в доме, архитектор любил их, недаром он носил фамилию Каминский. Свою любовь к каминам он передал своему ученику, знаменитому впоследствии архитектору Шехтелю.

Хочу заметить, что это один из первых особняков, где помещения выполнены в разных стилях. В 1871 году это еще было в диковинку. Но потом это вошло в моду и каждый уважающий себя дом стал иметь готические, романские, рокайльные, барочные комнаты. Достаточно назвать известные московские особняки Смирнова и Стахеева.
Из бального зала дверь ведет в столовую. Это одна из первых столовых, выполненных в готическом стиле. Каминский мастерски использовал детали старых готических построек в декоре и убранстве. Главным в этом зале становится огромный средневековый камин. В стенах спрятались шкафы и двери в буфетную.



В ходе реконструкции Каминский пристраивает к основному зданию здание галереи в два больших этажа. В эту галерею мы проходим через переход. Последние годы в особняке шла реставрация, которая убрала все перестройки, сделанные Министерством обороны в советское время. В ходе этой реставрации было перекрыто пространство между основным зданием и галереей и образовался внутренний дворик, который мы видим, выйдя на сохранившимся чугунный балкон.

Пол на балконе.

Снизу основание балкона выглядит вот так.

Здание галереи внутри.

В окнах есть небольшие витражи.

Украшения на потолке галереи.


Сергей Михайлович начал собирать картины чуть позже брата. Как и старший брат, он мог часами ходить по выставкам, безошибочно угадывать в картинах их настоящую ценность, открывать новые таланты. Бывая часто за границей по торговым делам, он собрал хорошую коллекцию западноевропейской живописи. Собирал он в основном художников французской школы. Несколько известных полотен из собрания, таких как «Купание Дианы» Камиля Коро, теперь находятся в Пушкинском музее.
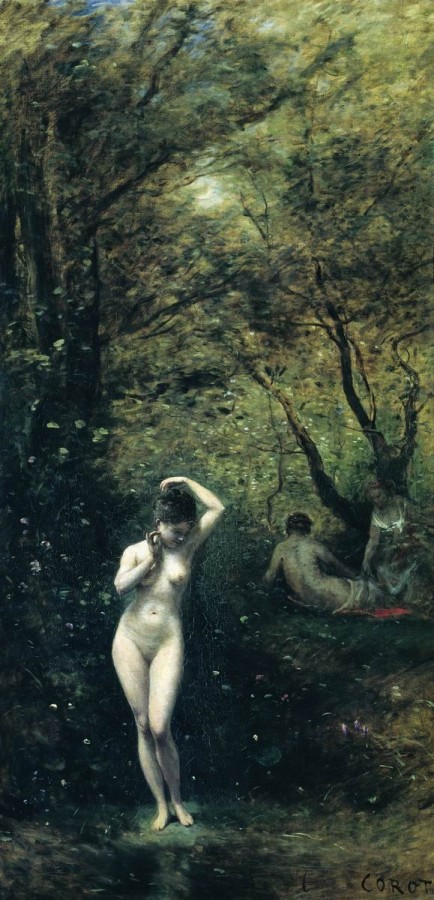
Но нельзя сказать, что С.М. Третьяков собирал только заграничных художников. У него была собрана неплохая галерея русских художников, однако они чаще всего висели в галерее брата. А в этом особняке всегда были «Бабушкин сад» Поленова и «Лунная ночь» Крамского (портрет хозяйки особняка).


В 1880-е годы сбылась мечта Елены Андреевны – муж получил дворянство и звание статского советника. В 1889 году она всё-таки уговорила мужа больше жить в Петербурге, поближе к высшему обществу и царю. Там на даче в Петергофе в августе 1892 года он неожиданно скончался. Похоронен он в Москве на Даниловском кладбище.
В 1893 году Елена Андреевна продает особняк Павлу Павловичу Рябушинскому (1871-1924). Старший из девяти сыновей Павла Михайловича Рябушинского, он в это время стал заместителем отца во всех делах. Павел Павлович на свои средства издавал журнал «Слово церкви» и еженедельник «Голос старообрядчества». Один из известнейших политиков начала XX века, П. П. Рябушинский оказывал финансовую поддержку «Совету съездов представителей промышленности и торговли», издавал газету «Утро России». В его доме на Пречистенском бульваре собирались виднейшие российские экономисты, намечались планы предотвращения в империи разного рода революций и экономического переустройства России. Но этим планам не суждено было воплотиться в жизнь: помешали сначала война, потом революция. В 1918 году все братья уехали в эмиграцию. Умер П.П.Рябушинский в совершенной нищете в 1924 году в Париже.
История – каверзная вещь. После прихода к власти большевиков в 1917 году именно в этом доме разместился Революционный трибунал, который стал карать врагов советского государства, в том числе сподвижников и коллег Рябушинского.
Вот эти гостиные были переделаны в 1902 году по заказу Рябушинского. Их старых фотографий не сохранилось. По мнению известного знатока дворянской Москвы Ирины Левиной, материалы которой легли в основу данного рассказа, и обои и львы на камине — это современные фантазии, так же как итальянские двери в этих помещениях. Здесь в последние двадцать лет вообще много всего сделано заново.



В советское время особняк находился в ведении Народного комиссариата по военным и морским делам, продолжительное время его занимали службы Министерства обороны СССР. В 1986 году усадьба была передана Советскому Фонду Культуры, во главе которого находился академик Дмитрий Сергеевич Лихачев. Но главное – в руководстве Фонда была супруга генсека, Раиса Максимовна Горбачева, благодаря которой и удалось отобрать особняк у Министерства обороны. В 1989 году здесь произошел пожар, и здание пострадало.
В 1993 году Фонд Культуры, ставший теперь российским, возглавил Никита Сергеевич Михалков. В феврале 1994 года в здании Фонда опять произошел сильный пожар, нанесший уникальному зданию огромный ущерб. Только благодаря авторитету и настойчивости Михалкова Правительством Российской Федерации были выделены средства на реконструкцию и реставрацию здания. Здание Российского Фонда Культуры было удостоено диплома как лучший объект реставрации за 1997 год по Москве.
Уже в нашем веке была осуществлена новая реставрация особняка, которая длилась восемь лет. В 2006 году началась программа реставрации усадьбы силами фонда. Позже подключили государство. Ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия проводились Минкультуры России с 2011 по 2014 год в рамках федеральной целевой программы «Культура России». Эта реставрация убрала все перестройки Минобороны. Например, залы галереи были разбиты на этажи, а теперь они воссозданы.
Отреставрированный особняк был торжественно открыт 1 октября 2014 года. В церемонии открытия принял участие министр культуры РФ Владимир Мединский.
Публикация подготовлена: Василий П. Фото автора.
| http://moscowwalks.ru/2017/12/06/gogolevsky-mansion/ | |||
|
Метки: купечество рябушинские третьяковы |
Мария Александровна Долгорукова |
РРФ кн. Мария Александровна Долгорукова
Нет портрета
| Муж
9.07.1889 |
|---|
| кн. Юрий Иванович Трубецкой * 15.10.1866 † 27.12.1926 |
| Дочь |
| кн. Ольга Юрьевна Трубецкая * 16.04.1890 † 11.09.1966 |
| Отец |
|---|
| кн. Александр Сергеевич * 29.10.1841 † 7.06.1912 |
| Мать |
| гр. Ольга Петровна Шувалова * 17.08.1848 † 21.09.1927 |
| Древо рода |
| Предки |
| Цепь родства |
* рубеж 1870-х
|
Метки: долгоруковы шуваловы трубецкие |
Все еще русская Ницца |
Все еще русская Ницца
Когда-то русской аристократии и российскому государству принадлежала чуть ли не половина усадеб, дворцов и замков на средиземноморском побережье Франции в районе Ниццы. Они по-прежнему стоят на улицах с русскими названиями — но у них другие хозяева. Репортажем ВЛАДЛЕНА Ъ-СИРОТКИНА, только что вернувшегося из Ниццы, "Коммерсантъ" продолжает цикл публикаций, посвященных проблеме возвращения российских материальных и культурных ценностей, оказавшихся за рубежом.
Владлен Сироткин, профессор Дипломатической академии МИД, председатель Международного экспертного совета Российского фонда культуры по российским материальным и культурным ценностям за рубежом. Проблемой возвращения российской зарубежной собственности занимается с 1991 года.
Почти все знают, что в Париже есть собор Александра Невского, а где-то в предместьях французской столицы — русское кладбище. Но еще больше русских названий встречается на Лазурном берегу Средиземного моря, главным образом в Ницце. Есть здесь авеню Николая II. Рядом виллы и дворцы, некогда принадлежавшие русской аристократии и российской казне. Вот дворец "Вальроз", в 70-х годах прошлого века построенный бывшим управляющим царскими железными дорогами фон Дервизом, а рядом — настоящая русская изба, привезенная им из Сибири. Сегодня во дворце располагается один из факультетов местного университета. Чуть в стороне — дворец "Бельведер", некогда одна из резиденций российской императорской фамилии. Сейчас тут разместился лицей.
Начиналось же все так. В 1837 году Ниццу посетил великий князь Михаил, младший брат Николая I. За ним в город буквально хлынул поток русских туристов. В 1842-м по пути в Иерусалим Лазурный берег посетил Гоголь. А с 1856-го, сразу после войны с турками, когда был разрушен весь Крым, и по 70-е годы уже весь двор, включая императорскую фамилию, выезжал на воды в Ниццу и ее окрестности. В конце XIX — начале XX века здесь побывали Немирович-Данченко, Чехов. Да что перечислять, почти вся русская богема.
Многие обосновались в Ницце капитально: покупали на Лазурном берегу участки и строили роскошные виллы. В результате русской оказалось чуть ли не половина Ниццы. Пример подала императорская фамилия: в конце 50-х годов прошлого века императрица-мать Александра Федоровна, вдова Николая I, на свои деньги построила в Ницце первую русскую церковь во имя Святителя Николая Чудотворца. Она была освящена в 1859 году и действует поныне. При ней, кстати, работает русская библиотека. Чуть позже Александра Федоровна отстроила в городе виллу "Пейон".
Именно здесь 22 апреля 1865 года скончался от туберкулеза 20-летний наследник престола Николай Александрович. Позже на месте виллы ему был поставлен памятник в виде часовни, а сама улица названа бульваром царевича Николая. В 1912 году рядом с часовней вырос роскошный Свято-Николаевский собор, чем-то напоминающий храм Василия Блаженного. Сегодня он принадлежит Зарубежной русской православной церкви и является самым большим храмом на Лазурном берегу.
Имущественный спор
Обстоятельства юридического оформления прав новых владельцев на виллы и дворцы, некогда принадлежавшие русской аристократии и российской казне, не вполне ясны. Во Франции есть закон о 30-летней выморочности: если в течение этого срока никто не предъявляет права на бесхозное имущество, его продают в частные руки. Обосновавшийся в Ницце князь Никита Лобанов-Ростовский не успел этого сделать, и теперь во дворце его прадеда, крупного царского сановника прошлого века, роскошная гостиница, принадлежащая Роберу Монтану, кстати владельцу еще и крупной коллекции русской живописи и исторических документов.
Но если имущество не продано, им распоряжается мэрия. И вряд ли случайно, что в большинстве случаев новыми хозяевами русских дворцов являются не частные лица, а муниципалитет. На месте российской казенной дачи в квартале Симье, предоставленной Николаем II министру финансов Сергею Витте в "прижизненное пользование", построен муниципальный музей Шагала. На месте другой русской казенной дачи — музей Матисса.
Увы, сегодня имена многих бывших владельцев русской Ниццы можно прочитать лишь на могильных плитах маленького православного кладбища, расположенного на горе Кокад, бывшем предместье Ниццы. Там похоронена морганатическая супруга Александра II княгиня Юрьевская, известная меценатка Софья Тенишева, царский министр иностранных дел Сергей Сазонов, один из вождей белого движения генерал Николай Юденич. На кладбище я обнаружил несколько могил представителей княжеского рода Оболенских.
Захотелось узнать: а не осталось ли в Ницце представителей некогда обширной русской колонии? Ответ подсказал кладбищенский сторож, любитель-экскурсовод Евгений Вервевкин: один из князей Оболенских, Алексей Львович, живет в Ницце, преподает в местном университете русский язык и литературу. А еще он художник, скульптор и хорист — поет вместе с сыном старинные православные песнопения. Я решил с ним познакомиться, отправившись на филологический факультет университета.
Поначалу беседа не клеилась: князь был явно напряжен. Как-никак красные конфисковали у его предков два обширных поместья — в районе Выборга и в Крыму. Но постепенно ледок отчуждения растаял, и первая беседа закончилась на том, что я получил приглашение полюбоваться чудесным видом на Ниццу из "поместья" князя на горе Кокад, чуть выше русского кладбища.
— Прямо наши шесть соток,— заметил я, оглядывая "поместье".
— Девять,— уточнил князь.
Посреди участка — небольшой одноэтажный домик, рядом — могучая пальма.
— Это вместо березы,— пояснил Алексей Оболенский.
Сам домик буквально увешан картинами князя и его изделиями из керамики. Особенно впечатляли глиняные обожженные скульптуры "Распятие Христа". Алексей Оболенский постоянно выставляет свои работы на выставках-продажах в Ницце и по всему Лазурному берегу, а в 1995 году состоялась его персональная выставка картин, терракоты и изделий по дереву в Русском музее Петербурга. Он действительно поет с сыном в хорале и уже успел выпустить более 15 пластинок с записью старинных церковных песнопений.
Культурный обмен
В свое время Чехия, чьи легионеры в годы гражданской войны в России вывезли из нашей страны огромное количество золота, стала одной из немногих стран, которые помогли русским эмигрантам обосноваться на новом месте. Другой страной, куда хлынули русские эмигранты, стала Франция. И сегодня популяризацией русской культуры на Лазурном берегу занимаются не только князь Оболенский и другие русские, по разным причинам осевшие в Ницце, но и французы, и даже местные муниципальные власти.
В Ницце много "диких" художников из России. Всеми правдами и неправдами они добираются на юг Франции, порой весьма бедствуют, ночуя на улице, а днем рисуя за гроши портреты туристов. Но некоторым повезло. Как, например, молодому московскому художнику Вадиму Мещанинову. Еще в 1995 году он случайно принес на выставку по случаю 700-летия городка Вилльфранш (это в трех километрах от Ниццы) одну из своих картин. Работа была замечена, и художника пригласили в мэрию. Обласкали, и вот уже в январе этого года муниципалитет устроил в своих стенах персональную выставку Вадима. На ее открытии растроганный художник, вмиг превратившийся из пляжного бомжа в мэтра, в знак благодарности подарил городу несколько своих работ.
Мелания Мальперп, ребенком покинувшая с родителями Ленинград, окончила американский колледж и Школу восточных языков в Париже. Лет десять тому назад она поселилась на Лазурном берегу. Поработала переводчицей на Каннском кинофестивале, затем создала Академию русской культуры и сейчас занимается организацией выставок российских художников и небольших фестивалей фильмов из России. Другая энергичная женщина, преподаватель русского языка в лицее под Тулоном Елена Матлова, собрала вокруг себя энтузиастов русского хорового пения (в капелле поют и немало французов). Ко мне она обратилась с такой просьбой: нельзя ли через посольство России во Франции привезти в Ниццу маленький фольклорный хор откуда-то из-под Костромы — Елена Матлова случайно познакомились в Москве с руководительницей хора.
Обилие русских культурных ассоциаций на Лазурном берегу вызвало тенденцию к их объединению. Я присутствовал на собрании 12 русских обществ и групп, обсуждающих конфедеративный устав объединения "Лазурный берег — страны Восточной Европы". Инициатором его создания стал профессор факультета права и экономики Ниццкого университета Жан-Поль Гишар, возглавляющий университетский Центр по сотрудничеству со странами Черного и Каспийского морей. Этот центр уже провел в Ницце два международных семинара — "Русская культура во Франции и на Лазурном берегу" и "Переходная экономика стран Восточной Европы и перспективы единой валюты ЕС". В планах нового объединения "Лазурный берег — страны Восточной Европы" обширные проекты, в частности участие в изучении проблем Байкала совместно с учеными Иркутска.
Словом, Франция уже возвращает свои долги.
|
Метки: русское зарубежье оболенские романовы тенишевы |
Морганатическая супруга императора Александра II княжна Екатерина Долгорукова-Юрьевская и Крым |
Морганатическая супруга императора Александра II княжна Екатерина Долгорукова-Юрьевская и Крым
30Окт2010 Раздел: для реферата, презентации, доклада, Фамильный туризм, генеалогия, геральдика Публикация: zverozub
 Одной из причин катастрофы Российской империи в 1917 году, как я думаю, было немецкое происхождение русских царей. «Худородность» Романовых весь 300-летний период их правления наполнила заговорами. А когда в 1914 началась война с Германией, пропаганда врагов империи вбила в нас накрепко и навечно идею, что немцы нам извечные враги.
Одной из причин катастрофы Российской империи в 1917 году, как я думаю, было немецкое происхождение русских царей. «Худородность» Романовых весь 300-летний период их правления наполнила заговорами. А когда в 1914 началась война с Германией, пропаганда врагов империи вбила в нас накрепко и навечно идею, что немцы нам извечные враги.
На самом деле извечным, а точнее многовековым было недоверие Романовых к родовитым отпрыскам Рюрика и основателя Москвы князя Юрия Долгорукого.
Княжна Екатерина Долгорукова, к тому же, по материнской линии происходила из славнейшего рода князей русских Корибут Вишневецких, отпрыски которого избирались (!) королями Польши и Чехии, гетманами Украины. Если бы вместо Николая II на русском престоле правил славянин, общественные настроения могли быть другими…
Впрочем, основной повод для этой подборки — Крым как место тайных любовных встреч императора Александра II с юной княжной Долгоруковой в Ливадии. И специально для нее построенный двухэтажный особняк в имению Биюк-Сарай рядом с Ливадийским императорским дворцом.
… Для императора Александра 1880 г. был тяжелым: угасала неизлечимо больная императрица Мария Александровна; усиливалась неприязнь со стороны наследника престола великого князя Александра и его «славянофильской партии»; разворачивались последние главы единственного настоящего романа императора с Екатериной Долгоруковой.
Катя выросла в богатом дворянском имении Тепловка, под Полтавой. Когда ей было 13 лет, в Тепловку с маневров заехал император Александр — статный красивый мужчина в походном генеральском гвардейском мундире.
Император пообещал устроить детей Долгоруковых учиться в Петербурге. И вот Катя в Смольном институте. В Вербное воскресенье, за неделю до Пасхи 1865 г., император Александр посетил Смольный институт и на торжественном обеде с «заморскими фруктами» (ананасами, бананами, персиками) ему представили сестер Долгоруковых. 18-летняя Катя была очень красива. Александру уже исполнилось сорок семь, он только что пережил смерть старшего сына, ощущал себя усталым и одиноким. Он почувствовал, что в молодой девушке с каштановыми волосами и добрыми светлыми глазами найдет светлое утешение и сострадание. Начались и больше года длились ухаживания, тайные встречи в Летнем саду, на живописных островах в окрестностях столицы. 13 июля 1866 г. в русском Версале, Петергофе, в императорском замке для гостей, называемом Бельведер, Александр признался Кате: «Сегодня, увы, я не свободен, но при первой возможности я женюсь на тебе, отселе я считаю тебя моей женой перед Богом, и я никогда тебя не покину«.
Тайна, окружавшая роман императора, только усиливала взаимную любовь. Уже в 1867 г. по Зимнему дворцу поползли слухи о тайном браке императора при живой, хотя и очень больной жене. Мария Александровна узнала обо всём от мужа — он не смог скрывать, что в 1872 г. Катя родила ему сына, еще через год — дочь. В 1878 г. княжна Долгорукова с детьми переселилась в Зимний дворец — она заняла небольшие покои прямо над комнатами императрицы Марии. «Только со мной, — говорила Катя, — государь будет счастлив и спокоен».
Мария Александровна уже не могла выезжать из дворца, поэтому Екатерина Долгорукова сопровождала Александра летом при переезде двора в Царское Село и во время путешествий в Крым. Александр ревниво оберегал положение Кати при дворе. Попытки вести интриги против Долгоруковой стоили карьеры, например, всесильному Шувалову, отправленному посланником в Лондон. Императрица Мария Александровна умерла 10 мая 1880 г. В ее бумагах осталось письмо, в котором она благодарила Александра за счастливо прожитую рядом с ним жизнь. Обычай требовал от императора провести год в трауре и лишь по истечении этого срока решать свою личную судьбу.
Обещание, данное Екатерине Долгоруковой, призывало немедленно вступить с ней в брак. Даже в петербургских трактирах шептались: «Только бы старик не вздумал жениться!». Но любовь сказалась сильнее внешних приличий. 6 июля 1880 г. дворцовый священник отец Ксенофонт подписал брачное свидетельство: «В лето Господне 1880-е, месяца июля, 6-го дня в три часа пополудни в Военной часовне Царского Села Его Императорское Величество Государь Император Александр Николаевич Всея Руси благосклонно благоволил заключить второй законный брак с придворной дамой княжной Екатериной Михайловной Долгорукой«. Этот брак был морганатическим, т. е. таким, при котором ни жена императора, ни дети от нее не имели никаких прав на престол. Княжна Долгорукова получила только титул светлейшей княгини Юрьевской. Тем не менее новые слухи переполняли Петербург: император собирается короновать свою «Екатерину III«.
В печати начали публиковать статьи о судьбе Екатерины I, прачке, возведенной на престол по желанию Петра Великого. Наследник престола Александр (он был старше своей «мачехи» на два года) и его жена возненавидели княгиню Юрьевскую. При дворе ее открыто называли скрягой, нахалкой, аферисткой. Не Александр ничего не замечал. Он объяснял спешку ее вторым бракосочетанием предчувствием своей скорой гибели и желанием обеспечить будущее женщины, 14 лет жертвовавшей для него всем и бывшей матерью его детей. Тяжелые предчувствия императора были не напрасны, хотя он и не знал, что 5 сентября 1880 г., когда по его повелению министр двора Адлерберг положил в банк на имя княгини Юрьевской более 3 млн. золотых рублей, на окраине Петербурга, у грязного Обводного канала, народовольцы приступили к изготовлению бомб и мин для «исполнения приговора» над Александром II.
К новогоднему празднику 1881 г. террористы уже располагали необходимым количеством динамита. …
Источник: сайт об императорской династии Романовы sch714-romanov.narod.ru/index16_1.html
Александр II и Екатерина Михайловна Долгорукова
Первая встреча будущих любовников — русского императора и красавицы-княжны Екатерины Михайловны Долгоруковой (1847— 1922) — произошла летом 1857 года, когда Александр II (1818—1881) после военных смотров проездом посетил имение Тепловка под Полтавой, владение князя Михаила Долгорукова. Отдыхая на террасе, Александр обратил внимание на пробегавшую мимо хорошо одетую девочку и, подозвав ее, спросил, кто она такая и кого ищет. Смущенная девочка, опустив огромные черные глаза, проговорила: «Меня зовут Екатерина Долгорукова, и я хочу видеть императора». Любезно, как галантный кавалер, Александр Николаевич попросил девочку показать ему сад. После прогулки они поднялись в дом, и за ужином император искренне и восторженно хвалил отцу его сообразительную и умную дочь.
Через год отец Екатерины внезапно скончался, а вскоре грянула крестьянская реформа 1861 года, и семья Долгоруковых разорилась. Мать семейства, урожденная Вера Вишневская (она происходила из очень уважаемого в России польско-украинского аристократического рода), обратилась к императору с прошением о помощи. Александр II распорядился выделить для опеки над детьми князя Долгорукова крупную сумму, а юных княжон (у Екатерины была младшая сестра Мария) направить на обучение в женский Смольный институт, где воспитывались девицы из самых знатных семей России. Там девочки Долгоруковы получили великолепное образование: научились держать себя в светском обществе, постигли науку ведения домашнего хозяйства, выучили несколько иностранных языков.
С Александром II Екатерина Михайловна не виделась с тех пор, когда тот приезжал в их украинское поместье. Тем временем в семье императора произошли важные события. В 1860 году императрица Мария Александровна родила восьмого ребенка — сына Павла. После родов врачи строго-настрого запретили ей вести половую жизнь. Чтобы царь мог удовлетворять свои мужские потребности, Мария Александровна вынуждена была согласиться на его супружескую неверность. Долгое время постоянной любовницы у Александра Николаевича не было. Согласно ходившим при дворе слухам, дворцовая сводня Варвара Шебеко по просьбе императора эпизодически поставляла ему хорошеньких девушек — воспитанниц Смольного института. Это весьма смущало Александра Николаевича. Воспитан он был по канонам православной семьи и стыдился таких отношений с юными девицами. Шебеко предложила ему завести постоянную даму сердца. Император соглашался, но тянул, не желая создавать лишнее напряжение в семье.
Решение было принято им вскоре после неожиданной трагедии, постигшей императорскую семью. В 1864 году наследник престола Николай Александрович, будучи в Дании, упал во время верховой прогулки с лошади и повредил позвоночник. Помощь ему оказали слишком поздно, и у молодого человека начался скоротечный туберкулез костей. 13 апреля 1865 года он умер.
Смерть старшего сына оказалась тяжелейшим ударом для императорской семьи. Мария Александровна заболела на нервной почве и уже никогда не оправилась, хотя и прожила еще пятнадцать лет. Император долгое время находился в полушоковом состоянии.
Именно в эти дни Шебеко и вознамерилась предложить Александру Николаевичу девицу для постоянных отношений.
Дальнейшие события скрыты во тьме истории. Известно только, что Вера Вишневская была приятельницей Шебеко и давно упрашивала подругу пристроить дочек поближе к императору. Шебеко была не против и соглашалась предложить Екатерину Михайловну императору в любовницы, но девушка отчаянно сопротивлялась давлению семьи. Что послужило изменению ее настроения — не известно.
В Вербное воскресенье 1865 года Александр II посетил Смольный институт, где среди прочих внимательно рассматривал сестер Долгоруковых.
А немного позже, прогуливаясь по аллеям Летнего сада, княжна негаданно (так пишут мемуаристы) встретилась с императором. Не обращая внимания на любопытных прохожих, Александр Николаевич подал девушке руку и повел ее вглубь аллеи, по дороге осыпая комплиментами ее красоту и очарование. Все произошло быстро, и уже под вечер царь почти признался Долгоруковой в любви.
С этого времени события приняли непредвиденный для всех организаторов этой встречи оборот — император по-настоящему влюбился в Екатерину Михайловну. Девица была осторожна и первое время не отвечала на чувства царствующего поклонника. Прошел год, пока она согласилась на взаимность. А с середины июля 1866 года, когда княжна впервые покорилась царю, встречаться влюбленные стали тайно. Несколько раз в неделю, покрыв лицо темной вуалью, Долгорукова входила через потайной ход Зимнего дворца и пробиралась в маленькую комнатку, где ее ждал Александр Николаевич. Оттуда любовники поднимались на второй этаж и оказывались в царской спальне. Однажды, обнимая юную княжну, император сказал: «Отныне я считаю тебя женой перед Богом и обязательно женюсь на тебе, когда придет время».
Императрица была потрясена такой изменой, ее в этом поддержали все великие князья и весь двор. В 1867 году по совету Шебеко Долгоруковы поспешили отправить Екатерину Михайловну в Италию — от греха подальше. Но было поздно, княжна успела горячо полюбить императора, и в разлуке чувства ее только разгорались с еще большей силой. А влюбленный монарх чуть ли не каждый день слал ей письма, полные восхищения и любви. «Мой дорогой ангел, — писал Александр И, — ты же знаешь, я не возражал. Мы обладали друг другом так, как ты хотела. Но должен тебе признаться: я не успокоюсь до тех пор, пока вновь не увижу твоих прелестей». Чтобы император угомонился, Шебеко подсунула ему в любовницы младшую Долгорукову — Марию. Александр Николаевич отверг ее. Отныне во всем мире ему нужна была только Екатерина.
В том же, 1867 году Александр II посетил с официальным визитом Париж. Туда же из Неаполя тайно приехала Долгорукова. Встреча влюбленных состоялась в Елисейском дворце… В Россию они вернулись вместе.
Для императрицы Марии Александровны это оказалась катастрофой. Очень быстро эгоизм влюбленных, даже не понимавших, что творят, превратился в орудие ежедневной пытки для несчастной безответной женщины. При взгляде со стороны и понимании социального статуса образовавшегося треугольника можно только потрясаться подлости Александра II, гнусности Екатерины Долгоруковой и покорности императрицы, но изнутри все происходившее виделось совершенно естественным и справедливым.
Прежде всего не следует забывать, что пожертвовавшая по настоянию родственников своим девическим достоинством (а в XIX веке это многого стоило) и из любви к Александру Николаевичу, княжна хотела придать своему положению законный статус и остаться честной женщиной. Император страстно любил и страдал от комплекса огромной вины перед невинной, которая, как он считал, только ради его эгоистических желаний потеряла девичью честь, и которую надо было во что бы то ни стало очистить от грязных наветов придворных сплетников. И только Мария Александровна оказывалась в этом случае ни при чем.
Злоключения Марии Александровны начались с того, что забеременевшая от императора Екатерина Михайловна решила рожать непременно в Зимнем дворце. Почувствовав приближение долгожданного события, княгиня Долгорукова вместе с доверенной горничной побрели пешком вдоль набережной и открыто вошли в царскую резиденцию. В присутствии Александра II на голубом репсовом диване Николая I (император разместил любовницу в отцовских апартаментах) Екатерина Михайловна родила первенца Георгия. Александр сразу же распорядился дать мальчику свое отчество и дворянский титул.
Отныне у императора публично объявились две семьи! Причем старший сын наследника престола Николай Александрович (будущий Николай II) оказался на четыре года старше родного дяди Георгия. В православном государстве, главой которого являлся Александр II, о подобном и помыслить было невозможно. Можно с уверенностью говорить о том, что именно в эти годы произошло окончательное нравственное падение дома Романовых. В период с 1872 по 1875 год Долгорукова родила Александру Николаевичу еще троих детей: второй мальчик скоро умер, девочки Ольга и Екатерина впоследствии эмигрировали из России.
Марии Александровне была дана полная отставка. Даже имя ее нельзя было упоминать в присутствии императора. Александр II сразу же восклицал: «Не говорите мне об императрице! Мне больно слушать о ней!» На балы и торжественные дворцовые приемы император стал являться в обществе Екатерины Долгоруковой. Члены императорской фамилии обязаны были быть особенно внимательными с этой женщиной и ее детьми.
Поселилась Екатерина Михайловна в Зимнем, причем ее апартаменты находились над комнатами Марии Александровны. Чтобы не делать явным присутствие любовницы в Зимнем, Александр Николаевич назначил ее фрейлиной законной супруги, что еще больше шокировало обитателей царского дворца. Долгорукова часто посещала императрицу и любила советоваться с ней по вопросам воспитания детей… И Мария Александровна понимала, что Долгорукова намерена отнять престол у законных наследников и не очень-то скрывает это.
Шли годы, а страсть царя к «милой Катеньке» не проходила. «Мысли мои ни на минуту не покидали мою восхитительную фею, — писал однажды влюбленный император, — и первое, что я сделал, освободившись, — страстно набросился на твою вкусную открытку, которую получил прошлой ночью. Я не уставал прижимать ее к груди и целовать».
Приближенные царя все чаще говорили, что он ждет кончины Марии Александровны, чтобы обвенчаться с княжной. Чувствуя приближение смерти, императрица призвала к себе супругу наследника престола Марию Федоровну и умоляла ее сделать все возможное, чтобы не отдать престол детям Долгоруковой. Мими — так звали Марию Федоровну при дворе — и без того была уже настороже.
Мария Александровна умерла в мае 1880 года. И почти сразу же император поднял вопрос о венчании с Долгоруковой. И придворные, и старшие дети были потрясены и возмущены: ведь траур по императрице должен был продлиться шесть месяцев. Александр II так объяснил свое решение: «Я никогда не женился бы прежде окончания траура, но мы живем в опасное время, когда внезапные покушения, которым я подвергаю себя каждый день, могут окончить мою жизнь. Поэтому мой долг обеспечить положение женщины, вот уже четырнадцать лет живущей ради меня, а также обеспечить будущее троих наших детей…» Екатерина Михайловна на уговоры придворных не срамить императора перед народом отвечала: «Государь будет счастлив и спокоен, только когда обвенчается со мной».
18 июля 1880 года, через полтора месяца после кончины законной супруги, 64-летний Александр II был обвенчан с княжной Долгоруковой в походной часовне царскосельского дворца. Наследник престола и его супруга на церемонии не присутствовали.
После свадьбы император издал указ о присвоении Екатерине Михайловне имя княгини Юрьевской (это указывало на ее происхождение от самого великого князя Юрия Долгорукого) с титулом Светлейшая. Дети их тоже стали Светлейшими князьями.
Все великие княгини из дома Романовых подвергли Екатерину Михайловну обструкции. Дело дошло до того, что, невзирая на гнев Александра II, Мими запретила своим детям играть со сводными братом и сестрами. По косвенным данным, пытаясь защитить Екатерину Михайловну и их детей от озлобленных родственников, Александр Николаевич задумал короновать Долгорукову! Осуществить это он предполагал в конце августа 1881 года во время празднований 25-летия со дня коронования Александра II.
В это время народные настроения в России были беспокойными, а в Зимнем дворце уже знали о готовящихся покушениях на императора. Несколько раз ему советовали отправиться на время за границу, но царь отклонил все предложения, желая остаться на родине.
1 марта 1881 года Александр II проснулся как обычно, долго гулял с женой и детьми по дворцовому парку, а потом стал собираться на парад войск, который готовился задолго до мартовского воскресенья. Екатерина Михайловна, памятуя о многочисленных угрозах и возможных покушениях, умоляла мужа отказаться от присутствия на параде. Но Александр Николаевич не пожелал менять свои планы. Парад прошел как обычно. На обратной дороге царь заехал к своей тетке — навестить ее и справиться о ее здоровье. Там, как обычно, он выпил чашку чая и, снова сев в экипаж, направился домой. В 15 часов под ноги лошадям царской бронированной кареты бросили бомбу. Двое гвардейцев и случайно пробегавший мимо мальчик были убиты. Выбравшись из-под перевернувшейся кареты, Александр Николаевич не сел в сразу поданные сани, а подошел к пострадавшим при взрыве слугам.
—Слава Богу, вы спасены! — воскликнул кто-то из офицеров охраны.
— Рано Бога благодарить, —нежданно воскликнул объявившийся рядом молодой человек.
Раздался оглушающий взрыв. Когда дым рассеялся, толпа увидела лежавшего на мостовой русского императора: правая нога у него была оторвана, вторая почти отделилась от туловища, Александр Николаевич истекая кровью, но, будучи еще в сознании, просил: «Во дворец меня. Там умереть…»
Раненого императора перевезли в Зимний. Выбежавшая навстречу экипажу полуодетая и растерянная княгиня опустилась у изуродованного тела мужа и разрыдалась. Помочь монарху уже никто не мог. Через несколько часов он умер. Коронация Долгоруковой не состоялась.
Когда тело покойного царя перемещали в Петропавловский собор, княгиня остригла себе волосы и вложила их в руки любимого. Александр III с трудом согласился на участие Долгоруковой в официальной панихиде.
Через несколько месяцев Светлейшая княгиня навсегда покинула родину, поселившись по давней просьбе императора на юге Франции . До конца жизни Долгорукова оставалась верна своей любви, так и не вышла больше замуж, тридцать лет жила в окружении фотографий и писем своего единственного возлюбленного. В 75-летнем возрасте Екатерина Михайловна скончалась на своей вилле Жорж под Ниццей.
За четырнадцать лет пылкий император и его возлюбленная написали друг другу около четырех с половиной тысяч писем. В 1999 году переписка знаменитых влюбленных была продана на аукционе «Кристи» за 250 тыс. долларов. Ее владельцем стало богатое семейство банкиров Ротшильдов. Но зачем столь богатым и влиятельным людям понадобились письма русского царя и его возлюбленной — так и осталось неизвестно.
http://kraevedenie.net/2010/10/30/dolgorukava-jurievska/
|
Метки: долгоруковы юрьевские романовы крым |
Угощение для нищих |
Угощение для нищих
Село Ястребино бывшего Ямбургского уезда (ныне оно в Волосовском районе) известно многим благодаря тому, что там находится Музей Бориса Вильде - русского поэта, ученого, героя французского Сопротивления в годы Второй мировой войны. Впрочем, экспозиция музея посвящена не только ему, но и другим «звучным» фамилиям из истории здешнего края. Одна из них - Оболенские. И первым представителем этого рода, обосновавшимся на этой земле, был князь Владимир Владимирович Оболенский.

Князья Оболенские. В верхнем ряду (слева направо): Владимир Владимирович, его сын Михаил Владимирович и гувернантка. В нижнем ряду (слева направо) - дочь княжна Софья Владимировна (в замужестве Безобразова) и супруга княгиня Лидия Александровна
- Ямбургская ветвь этого княжеского рода снискала уважение в разных кругах уездного общества - от помещиков и земских деятелей до прислуги и крестьян. Оболенские оказывали значительную помощь крестьянским семьям, способствовали развитию народного просвещения. Были просты в общении, скромны в быту, не кичились знатным происхождением. Подобное поведение было удивительно и непостижимо для многих других землевладельцев Ямбургского уезда, - отметил краевед Андрей Белобородов.
По родословному древу удалось выяснить, что Владимир Владимирович Оболенский, родившийся в Москве, был прямым потомком святого благоверного князя Михаила Черниговского, а также, в двадцать шестом колене, - потомком Рюрика. Князь окончил Николаевское училище гвардейских юнкеров в Петербурге, однако связал свою жизнь с гражданской службой. Трудился в статистическом комитете МВД, затем - в Сенате, потом - в канцелярии кредитного отдела Министерства финансов.
В Ямбургском уезде Оболенский оказался после женитьбы на дочери сенатора А. Ф. Веймарна Лидии. После смерти тестя он стал владельцем здешних усадеб Ястребино и Пустомержа.
- Владимир Оболенский более тридцати лет прослужил в ямбургском земстве и оставил яркий след в истории нашего края, - говорит Белобородов. - Он с энтузиазмом занялся благотворительной деятельностью, удивляя окружающих бесхитростным человеколюбием. Когда однажды в церковной сторожке князь собрал четырнадцать нищих и устроил для них обед, многие в уезде сочли его душевный порыв дикой выходкой.
В Ястребине князь основал благотворительное общество, при котором существовали приют, школа и библиотека, способствовал открытию в деревне Пустомержа народного училища Императорского воспитательного дома. Много потрудился и в уездном попечительстве о народной трезвости, являлся председателем земской строительной комиссии. Его личными заботами были возведены городское училище, пожарное депо, земская больница в Ямбурге, православная церковь в селе Котлы.
В январе 1872 года Оболенский организовал в столице собственную типографию и основал первую в Петербургской губернии уездную газету - «Гдовско-Ямбургский листок», - которая просуществовала под разными названиями четыре года. Кроме того, он занимался и другими издательскими делами. В его петербургской типографии несколько лет печатался журнал князя Мещерского «Гражданин» и «Дневник писателя» Ф. М. Достоевского...
Князь ушел из жизни в 1903 году, его похоронили в Ястребине на фамильной площадке у алтаря церкви Св. Николая Чудотворца. Храм был построен в середине XIX века епархиальным архитектором К. И. Брандтом и академиком архитектуры О. В. Бремером. Владимир Оболенский много лет был прихожанином этой церкви...
Продолжателем дел отца стал его сын Михаил. Пять лет, с 1906-го по 1911 год, он был председателем земской управы Ямбургского уезда. Современники отмечали, что он особенно заботился о народном образовании. В годы Первой мировой войны Михаил Оболенский стоял во главе уездного комитета Всероссийского земского союза помощи больным и раненым. Благодаря его деятельности в Ямбургском уезде было открыто 14 госпиталей.
Судьба Михаила Оболенского сложилась трагически: он был убит в конце февраля 1918 года революционными матросами, которые в порыве «классовой ненависти» разыскивали местных помещиков и творили расправу. Спустя несколько дней тело убитого князя было тайно захоронено на фамильной площадке Веймарнов-Оболенских в ограде церковного погоста...
Пожилая мать Михаила Оболенского осталась жива только благодаря заступничеству местных крестьян. Она пережила сына на два года и была погребена на кладбище Воскресенского Новодевичьего женского монастыря в Петрограде.
- Надгробие не сохранилось, но при помощи подробного плана захоронений удалось установить точное место погребения княгини и двух ее братьев, - говорит Белобородов.
Краевед выяснил также и то, что после революции сестра Михаила Оболенского Софья Безобразова перебралась в Петроград, проживала в коммунальной квартире и умерла во время блокады в 1942 году. Спустя год в осажденном городе погибла ее дочь - Екатерина Борисовна Козловская (Безобразова)...
Что же касается вдовы убитого Михаила Оболенского и их сына Всеволода, то им в 1926 году удалось выехать из Ленинграда в Финляндию, затем - во Францию, а позже - в Бельгию. В эмиграции Всеволод Михайлович стал известным инженером-геологом. Ныне потомки Оболенских живут в Москве. Они регулярно посещают Ямбургский край и могилы предков у церкви Св. Николая Чудотворца в селе Ястребино. Удивительно, но, несмотря на все лихолетья, княжеские могилы сохранились. И как раз здесь, у могилы князя В. В. Оболенского, состоялась памятная акция в декабре прошлого года, посвященная 175-летию со дня его рождения.
Уцелело и здание церкви. Храм был закрыт в 1939 году, затем открыт во время фашистской оккупации, однако в 1962 году, во время хрущевских гонений на религию, службы снова прекратили. Здание использовали под школьные мастерские, под спортзал, затем - зернохранилище. В 1980 году случился пожар, потом постройка долгие годы пустовала. Лишенная окон и крыши, становилась руинами.
Местные жители с начала 1990-х годов предпринимали усилия, чтобы возродить церковь. Собирали пожертвования, но работы начались только спустя двадцать лет. Сейчас восстановлены колокольня, кровля над алтарем и центральным залом. В возрожденном храме уже идут службы... Предстоит также вернуть первоначальный облик памятникам на фамильной площадке Оболенских: на всех утрачены исторические кресты.
- Увы, неоспоримые заслуги князей Оболенских перед Ямбургским уездом до сих пор не оценены по достоинству, - сетует Андрей Белобородов. - В позапрошлом году в комиссию по наименованию внутрипоселенченских объектов при городской администрации города Кингисеппа поступило предложение историков и краеведов назвать одну из новых улиц в память князей Оболенских. Мало того что поддержки оно не получило, так еще и некоторые члены комиссии встретили его насмешками: «Вы бы еще поручиками голицыными улицы называли»... Хочется надеяться, что справедливость все-таки восторжествует.
Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 005 (5867) от 13.01.2017.
https://spbvedomosti.ru/news/nasledie/ugoshchenie_dlya_nbsp_nishchikh/
|
Метки: оболенские благотворительность |
Второв Пётр Петрович |
Второв Пётр Петрович

В наше время становится все больше ученых, углубленно исследующих отдельные аспекты конкретных направлений науки, и успех сопутствует обычно тем, кто находит такой частный аспект и тщательно разрабатывает его. Общепризнанно, что время ученых-энциклопедистов прошло. Поэтому особой смелостью должен обладать ученый, постоянно стремящийся к расширению тем и объектов своих исследований, ищущий и находящий новые комплексные методы и подходы к целому спектру проблем и явлений.
Именно таким был Петр Петрович Второв, которому удалось за два десятилетия сформулировать, обосновать и внедрить в конкретные программы полевых исследований новое научное направление — синтетическую биогеографию. Аишь преждевременная кончина не позволила Петру Петровичу формально защитить уже готовую докторскую диссертацию и тем самым закрепить свое авторское право и фундамент нового научного направления. Однако всем присутствовавшим, как и автору этой статьи, памятна блестящая предзащита этой диссертации на кафедре биогеографии, которую провел в октябре 1978 г. уже тяжело больной Петр Петрович всего за три месяца до трагического конца своей короткой, но яркой земной жизни.
Петр Петрович Второв родился 1 августа 1938 г. в г. Москве, в семье потомственных русских интеллигентов. После войны, вызвавшей эвакуацию семьи в Казань, и разрушения дома он с родителями поселился в подмосковном поселке Малаховка, где посещал местную школу. В формальном учении мальчик не проявлял особого рвения, зато все свободное от уроков время посвящал экскурсиям в природу, наблюдениям за жизнью различных животных, в первую очередь — птиц.
Увлечению биологией способствовала доброжелательная обстановка в семье — его мать, Елизавета Федоровна, всемерно поощряла «причуды» сына, целыми днями пропадавшего в лесу или на речке, приносившего в дом всевозможных животных и загромождавшего тесное жилище клетками и террариумами.
Еще в седьмом классе П.П. Второв разузнал о существовании кружка юных натуралистов при Дарвиновском музее и стал постоянным и активным его участником. Кружок этот носил название — юношеская секция Всероссийского общества охраны природы (ВООП), сокращенно все называли этот кружок ВООП в отличие от не менее популярного КЮБЗа — кружка юных биологов зоопарка. И тот, и другой кружки оказались своеобразными биологическими лицеями, и теперь многие известные ученые-биологи, встречаясь, вспоминают, кем они были в детстве — кюбзов-цами или вооповцами.
Кружком ВООП руководил уникальный педагог, воспитатель от Бога, человек энциклопедических знаний — Петр Петрович Смолин, которого обожавшие его «детишки» любовно звали «наш ППС». В его кружке в отличие от строго регламентированного КЮБЗа с его конкурсным отбором и жесткой дисциплиной не было практически никаких правил и ограничений ни в посещении, ни даже в поведении. Все, по мнению Петра Петровича, должны были регулировать и решать сами ребята, и они вполне оправдывали доверие педагога, сами наводили порядок, сами тянулись за лучшими, сами ставили на место непонятливых или бесцеремонных.
В этом кружке П.П. Второв был поистине как у себя дома и быстро стал лидером — его увлеченность, его достаточно обширные знания в области природы привлекали к нему сверстников. Вскоре вооповцы избрали его председателем кружка, и до поступления в вуз П.П. Второв успешно испытал на себе тяготы «управленческой» работы. Может быть, благодаря этому первому опыту он впоследствии всегда тщательно избегал руководящих постов даже в чисто научных структурах. С детства он убедился, что его стихия — это непосредственные научные исследования, которые можно проводить самому или в содружестве с коллегами, но без административных пут.
Замечательной особенностью кружка ВООП была строгая приверженность его руководителя к обучению в полевых условиях. Вне зависимости от погоды, в любое время года ребята знали — в субботу с утра все едут с Петром Петровичем за город. И там на каждом шагу Учитель раскрывал нам тайны природы. Он знал, казалось, все: и отчего такие почки на кустах, и кто просвистел в дальних зарослях, и чей след на снегу или на песке, и что за травка пробивается под лучами весеннего солнца — у Петра Петровича не было незнакомых страниц в книге природы. И пока некоторые из ребят забавлялись в сторонке, Петя не пропускал ни одного слова любимого педагога, и вскоре мог уже обсуждать с ним многие проблемы, спорить и даже возражать, опираясь на собственный опыт наблюдений в природе. Петр Петрович отвечал Пете взаимностью — он всегда как-то по-особому улыбался, и глаза его искрились радостью, когда он видел Петю и беседовал с ним.
Живя в Малаховке, Петя мог ежедневно вести наблюдения за птицами, и по рекомендации ППС он провел целую серию экспериментов с разными методами подкормки птиц зимой. Результатом этих полевых исследований явилась первая рукописная работа П.П. Второва — «Подкормка зимующих птиц в дачной местности» объемом 25 машинописных страниц. Он завершил написание работы в десятом классе. В работе были описаны экология и поведение птиц-синантропов Подмосковья, приведены данные о разных типах кормушек, посещаемости их в зависимости от вида корма, времени года, погоды и т. п. Известный орнитолог и деятель охраны природы К.Н. Благосклонов высоко оценил эту работу юного натуралиста и цитировал ее в своей книге «Охрана и привлечение полезных птиц».
По окончании средней школы в 1955 г. П.П. Второв попытался сдать экзамены на биолого-почвенный факультет Московского университета, однако не прошел по конкурсу (прекрасный пример безнадежного несовершенства конкурсной системы отбора в вузы). Но это не помешало, а может быть, и помогло Петру Петровичу попасть в замечательную экспедицию, ставшую еще одной ступенью в его научном росте.
Это была Кустанайская экспедиция кафедры биогеографии географического факультета Московского университета. Возглавлял полевой отряд биогеографов замечательный
исследователь и талантливый педагог Александр Михайлович Чельцов-Бебутов. Александр Михайлович был страстным охотником, кинологом и исключительно тонким полевым орнитологом. Он сразу отметил незаурядные способности и уже обширные знания юного Петра Второва, и они вели учеты и наблюдения за птицами как старший и младший коллеги, спорили, обсуждали увиденное, вместе посвящали все время на стоянках пополнению коллекции кафедры — оба были блестящими таксидермистами.
В следующем, 1956 г. П.П. Второв, будучи уже опытным натуралистом, поступил на первый курс факультета естествознания Московского городского педагогического института им. В.П. Потемкина. Здесь он помимо общей учебной нагрузки сразу включился в работу кружка научного студенческого общества при кафедре зоологии. Его учителями здесь была целая когорта великолепных зоологов — Сергей Сергеевич Туров, Андрей Григорьевич Банников, Тамара Августиновна Адольф, Иосиф Иосифович Малевич, Владимир Трофимович Бутьев. Все они не ограничивались занятиями в институте, а по выходным дням или на каникулы выезжали со студентами за город — на экскурсии или даже в дальние экспедиции.
Уже в январе 1957 г. П.П. Второв вместе с группой студентов во главе с Т.А. Адольф отправился в зимнюю экспедицию в Кызыл-Агачский заповедник, где ребята вместе с преподавателем провели оригинальные наблюдения за позвоночными животными в условиях суровой зимы. В результате в этом же году была сдана в печать и в 1958 г. опубликована первая печатная работа П.П. Второва по материалам этой экспедиции (в соавторстве с другими ее участниками).
П.П. Второв проучился три года в педагогическом институте, и каждый раз во время зимних или летних каникул отправлялся в дальние странствия под руководством Т.А. Адольф или других преподавателей. Вместе с Тамарой Ав-густиновной он провел два летних сезона в Вологодской области, причем экспедиция прошла по самым заброшенным уголкам, диким местам этой и без того малонаселенной местности.
Во время зимних каникул он путешествовал по горам Центрального Кавказа, побывал в Черноморском заповеднике, а во время учебных семестров не пропускал ни одного выходного дня, чтобы принять участие в экскурсиях по Подмосковью — здесь его учителями были П.П. Смолин, А.Г. Банников и И.И. Малевич. Они вовлекали студентов и школьников в постоянную работу по изучению природы Подмосковья как эталона природного комплекса, видоизмененного разнообразными формами человеческой деятельности.
После третьего курса А.Г. Банников, убедившись в незаурядных способностях студента Петра Второва, счел необходимым рекомендовать его для обучения в Московском университете. А.Г. Банников написал рекомендательное письмо заведующему кафедрой биогеографии МГУ профессору Анатолию Георгиевичу Воронову, в котором выразил уверенность, что студент П. Второв будет одним из самых достойных учеников кафедры.
Нужно заметить, что выбор именно этой кафедры был не случаен: здесь сложился коллектив опытных исследователей и педагогов, увлеченных полевыми работами, экспедициями — всем тем, что так нравилось студенту П. Второву. И здесь он снова встретил своего учителя и спутника по Кустанайской экспедиции — A.M. Чельцова-Бебутова.
Так Петр Второв с четвертого курса педагогического института был принят на второй курс университета. Поскольку факультет географический, разница в учебных планах оказалась значительной, и пришлось пойти на потерю двух лет. Даже при этом П.П. Второву пришлось в первом же семестре второго курса доедать шесть экзаменов и девять зачетов — такова была разница за первый курс. С этой задачей Петр справился легко, и зимние каникулы уже, как и раньше, провел в составе зимней студенческой экспедиции в Закавказье, выполнил учеты птиц в Мильской и Муганской степях и в горах Закатальского заповедника.
На кафедре биогеографии географического факультета МГУ Петр Второв в полной мере развернулся как молодой исследователь. Его курсовые и дипломная работы были основаны на собственных полевых материалах и послужили основой для научных статей. Серия статей П.П. Второва появилась в сборнике «Орнитология», который вел в то время его главный редактор и основатель профессор Вячеслав Федорович Ларионов.
Учебная работа на кафедре удачно сочеталась у студента Петра Второва с постоянной работой по формированию эталонной коллекции птиц кафедры биогеографии, летними и зимними экспедициями и подготовкой научных публикаций.
За время учения на кафедре биогеографии П.П. Второв снова побывал в Закавказье, посетил Репетекский заповедник, но больше всего его привлекли высокогорья Тянь- Шаня. Два летних сезона провел он на Тянь-Шанской высокогорной физико-географической станции Академии наук Киргизии, и дипломная работа по результатам этих исследований была оценена Государственной экзаменационной комиссией как фундамент диссертации.
После окончания университета П.П. отказался от нескольких предложений обучения в аспирантуре и стажировки в Москве, а предпочел отправиться туда, где его привлекали труднодоступные и малоизученные ландшафты, — в горы Тянь-Шаня. Основы диссертации были уже заложены в виде курсовой и дипломной работ, и нужно было продолжить исследования на постоянной базе, методом круглогодичных наблюдений. Вместе с ним отправилась в эти дальние края и далеко не комфортные условия его жена — Вера Николаевна Второва, которую также привлекла экзотика гор Прииссык-кулья. Супруги помогали друг другу и дополняли друг друга в своих исследованиях — он как зоолог, она как ботаник вместе, с разных углов зрения, познавали горные системы как единое географическое целое.
За восемь лет стационарных полевых исследований на Тянь-Шане П.П. Второв подготовил и опубликовал десятки научных статей, несколько книг по материалам своих изысканий. Интересы Петра Петровича все более расширялись — начав с орнитологических исследований, он вскоре увлекся другими группами позвоночных, а затем неожиданно быстро освоил методику исследований как наземных, так и почвенных беспозвоночных.
Уже на второй-третий год П.П. Второв состоял в переписке и в обмене сборами с энтомологами всех направлений, гельминтологами, педологами и т.п. По сборам Петра Петровича, а в ряде случаев и с его личным участием был описан ряд новых видов коллембол, типулид и других беспозвоночных. Некоторые из них получили имя П.Второ-ва, в описаниях других его фамилия -**• в числе авторов описания нового вида.
Неоценимую помощь в полевых и камеральных исследованиях оказала Петру Второву его жена Вера. Их совместную работу можно смело назвать ныне популярным термином «семейный подряд» в науке. Их трудная, но счастливая семейная жизнь была отмечена и рождением в 1964 г. сына Ивана, который пошел впоследствии по стопам отца и ныне работает в Институте географии Академии наук, и стал великолепным специалистом по коллемболам, а также географом и путешественником.
По результатам научных исследований на Тянь-Шане Петр Петрович блестяще защитил в 1967 г. кандидатскую диссертацию. Руководителем у него был профессор Александр Петрович Кузякин, с которым Петра Второва связывала многолетняя дружба. Профессор Кузякин был одним из наиболее активных преподавателей еще в школьном кружке ВООП у Петра Петровича Смолина, а затем много лет вел кружок для школьников и студентов в Московском областном педагогическом институте, где он заведовал кафедрой зоологии. П.П. Второв был своим человеком и в доме профессора А.П. Кузякина. Этот дом был одновременно и великолепным музеем — в нем была собрана руками ученого уникальная коллекция зверей, птиц, птичьих кладок, бабочек.
После защиты кандидатской диссертации Петра Петровича приглашали на работу в Москву и в педагогический институт, и в научно-исследовательские институты Академии наук, благо московская прописка у него и его семьи сохранилась. Однако П.П. Второв считал, что его научные планы еще далеки от завершения, что комплексное изучение горных биоценозов Тянь-Шаня требует еще нескольких полевых лет (не сезонов наездами, а полных годовых циклов!). Поэтому они с женой решили на семейном совете, что, несмотря на наличие трехлетнего ребенка, они останутся жить в селе Покровка на берегу речки Ч он- Кызыл- Су, впадающей в оз. Иссык-Куль. Эти места вдохновляли молодых исследователей — здесь поистине витал дух великого Пржевальского! В зарослях облепихи в пойме этой речки Пржевальский охотился на фазанов, а совсем неподалеку, в тогдашнем поселке Каракол, в 1888 г. этот выдающийся естествоиспытатель и путешественник обрел вечный покой.
Таким образом, после защиты диссертации семья Второвых провела еще четыре счастливых года на берегу Иссык-Куля, у подножия хр. Терскей-Алатоо. И самым счастливым, наверное, чувствовал себя их сын Иван, которому с самого рождения и до семи лет посчастливилось жить в этом поистине экзотическом месте.
После защиты диссертации наступил самый продуктивный период в творческой и исследовательской деятельности Петра Петровича. В отличие от многих исследователей, которые после защиты диссертации считают возможным или даже необходимым несколько снизить темпы работы, отдохнуть после диссертационного «рывка» (таков, увы, и автор этих строк), Петр Петрович, напротив, как бы приобрел «второе дыхание» в своей работе. Его полевые исследования приобрели еще большую масштабность и перспективность, а публикации, полные оригинального фактического материала и новых, нестандартных мыслей и подходов к анализу и обобщению данных, стали появляться как из рога изобилия. Мне лично составляло немало труда даже просто прочитывать все статьи и целые книги, выходившие почти ежемесячно то в издательстве «Илим» во Фрунзе, то в центральных журналах. Все эти книги и оттиски статей автор с неизменной пунктуальностью высылал мне, как и всем заинтересованным коллегам, из своего заоблачного «далека» — с. Покровки.
Чтение работ Петра Петровича всегда было и трудом, и удовольствием. Теоретические разработки в области биоге-оценологии, биогеографии, экологии, методические подходы автора всегда были настолько оригинальными и подчас необычными, что чтение и изучение этих работ требовало каждый раз полной сосредоточенности и знания всех предыдущих произведений. Шаг за шагом Петр Петрович подходил в своих работах к формулированию нового направления в науке — направления, названного им синтетической биогеографией.
Петр Петрович создал на Тянь-Шанской физико-географической станции Киргизии самостоятельный отдел биогеографии и возглавил его. За четыре года после защиты кандидатской диссертации ему удалось собрать уникальный полевой материал — прочный фундамент для написания докторской диссертации.
В 1971 г. П.П. Второв вместе с семьей вернулся в Москву и поступил на работу старшим научным сотрудником в Институт охраны природы и заповедного дела Министерства сельского хозяйства СССР. Он быстро завоевал признание как один из ведущих ученых этого института.
Интенсивно работая над докторской диссертацией, он продолжал систематические полевые исследования по собственным методикам уже по всему среднеазиатскому региону.
Московский период научной деятельности Петра Петровича ознаменовался новым подъемом его творческой активности. Параллельно с завершением докторской диссертации он отдает много времени научно-методической и педагогической работе, приступает к написанию серии учебных пособий по биогеографии для разных уровней образования.
В 1976 г. П.П. Второв выпускает пособие для учителей «Биогеография материков» и книгу для чтения для учащихся старших классов «Рассказы о биосфере», а в 1978 г. — учебное пособие для студентов педагогических институтов «Биогеография». В каждой из этих книг читатель получает систематизированные сведения о сложной, комплексной и пограничной науке — биогеографии, причем изложение по своему характеру строго ориентировано на определенный уровень знаний и специфику восприятия читателя, будь то школьник, студент или школьный учитель.
Параллельно с этим циклом книг по биогеографии Петр Петрович пишет (совместно с автором этих строк) еще одно пособие для учителей, в котором он проявляет свое самое давнее, с раннего детства, увлечение прекрасным миром птиц. Он успевает закончить эту книгу, но она выходит в свет лишь в 1980 г. — «Определитель птиц фауны СССР». Иллюстрировал эту книгу замечательный орнитолог и художник Ю.В. Костин.
Уже в начале 70-х гг. Петра Петровича стала одолевать
коварная и неизлечимая болезнь — рак крови. Трудно представить себе, как, стоически перенося нарастающие приступы болезни, он продолжал внешне жить активной, бодрой, энергичной творческой жизнью. Он ежедневно писал хотя бы несколько страниц очередной книги или статьи, участвовал во многих научных конференциях и совещаниях, где выступал с интересными докладами, продолжал ездить в экспедиции.
В 1975 г. Петр Петрович принял участие в работе XII Генеральной ассамблеи Международного союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП) в г. Киншасе (Заир). Он активно работал на этой Ассамблее, и был избран членом одной из комиссий МСОП. Апофеозом работы Ассамблеи была недельная экскурсия на восток Заира, в национальные парки Вирунга и Кахузи-Бьега. Знакомство с удивительной природой саванн и горных влажнотропических лесов было поистине вдохновляющим для П.П. Второва и его коллег, а кульминационным моментом в этой экзотической экскурсии был поход в дебри горного леса в Кахузи-Бьега в поисках горилл. Впервые нашим зоологам удалось увидеть в природе эти удивительные создания, наблюдать за их поведением в естественной обстановке. В этой группе, состоявшей из пяти человек, посчастливилось быть и автору этих строк.
По возвращении в Москву П.П. Второв вместе с коллегами написал две статьи в журнале «Природа» — о животном мире саванн Вирунги и о встрече с гориллами в Кахузи - Б ьега.
В 1978 г. Петр Петрович принимает активное участие в подготовке и проведении XIV Генеральной ассамблеи МСОП в Ашхабаде. Эта юбилейная Ассамблея, приуроченная к тридцатилетию МСОП, собрала ведущих ученых и деятелей охраны природы со всего мира. П.П. Второв установил здесь дружеские деловые научные контакты с такими учеными, как сэр Питер Скотт, профессор Кентон Миллер, профессор Мохаммед эль-Кассас. Вместе с ними он совершает экскурсию в Бадхызский заповедник, делится с зарубежными гостями своими обширными знаниями природы Средней Азии.
По возвращении в Москву Петр Петрович заканчивает работу над рукописью докторской диссертации и представляет ее к защите на кафедру биогеографии географического факультета МГУ. Предзащита убедила всех в уникальности проведенной автором многолетней исследовательской работы. В заключении кафедры, подписанном ее заведующим профессором А.Г.Вороновым, сказано: «Разносторонний комплексный подход автора к проблемам биогеографии, решаемым на уровне сообществ, с применением новых для биогеографии концепций, в том числе представлений о стабильности, сбалансированности, регуляции и разнообразии, позволяет считать, что в диссертации развивается новое научное направление — синтетическая биогеография».
Работа была принята к защите на ученом совете географического факультета, но жестокая болезнь распорядилась иначе — 5 января 1979 г. в возрасте всего сорока одного года Петр Петрович Второв ушел в мир иной.
И все-таки материалы докторской диссертации нашли свой путь к читателю. Вера Николаевна Второва, много лет принимавшая непосредственное участие в их сборе, тщательно обработала полученные данные, использовала материалы своей диссертации по этому же региону, подобрала многочисленные иллюстрации и выпустила в 1983 г. в издательстве «Мысль» в соавторстве с Петром Петровичем великолепную книгу «Эталоны биосферы (проблемы выбора и охраны)». Эта книга сочетала достоинства научной монографии и ярко иллюстрированной популярной книги. Она разошлась и исчезла с прилавков книжных магазинов в течение нескольких недель, несмотря на массовый тираж.
Так трагически и преждевременно завершилась творческая деятельность замечательного ученого, педагога, увлеченного орнитолога, обаятельного человека, оставившего свой неповторимый след в науке и в памяти людей, — Петра Петровича Второва.
Н.Н. Дроздовhttp://www.rbcu.ru/information/272/14628/
|
Метки: второвы |
Пётр Нилович Второв |
Понедельник, 02 Апреля 2018 г. 10:39 редактировать + в цитатник
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ГЛАЗАМИ ФОТОГРАФА
Васильев Максим Викторович
Дата публикации: 16.04.2015
Опубликовано пользователем: Васильев Максим Викторович
Рубрика ГРНТИ: 03.00.00 История. Исторические науки
Библиографическая ссылка:
Васильев М.В. Первая мировая глазами фотографа // Портал научно-практических публикаций [Электронный ресурс]. URL: http://portalnp.ru/2015/04/2540 (дата обращения: 26.10.2017)
Афиша выставки Цикл научных и культурных мероприятий, проводимых в нашей стране в рамках празднования 100-летия с начала Первой мировой войны, представил общественному вниманию большое количество фотоматериала, хранившегося в фондах музеев, государственных и личных архивах граждан. Большинство из этих фотографий «вышли в свет» впервые. Одной из таких подборок, стали фотографии П.Н. Второва, представленные на выставке «Взгляни в глаза войны», которая открылась в Москве 28-го августа 2014 года [1]. На этих фотография представлена повседневная жизнь войны, какой ее увидел через объектив фотоаппарата автор. Солдаты и офицеры русской армии запечатлены в самых разных ракурсах и моментах жизни: в окопах и на торжественном построении, в магазине и на привале. Задумчивые и веселые, усталые и любопытно-заинтересованные, с лукавым прищуром, простые лица свидетелей грозной эпохи войны. Отдельной темой для фотографа стали военные лазареты, и их быт, раненые солдаты, врачи и сестры милосердия. Автомобили, авиация, артиллерия и традиционное русское бездорожье – все стало предметом пристального и достаточно профессионального внимания фотографа. О самом же авторе уникальных снимков нам практически ни чего не известно. Краткую информацию о П.Н. Второве предоставил его потомок А.Г. Римский-Кормаков у которого и сохранились фотографии в стерео-негативах на стеклянных пластинках.
Петр Нилович Второв
Петр Нилович Второв родился в 1880 году в городке Хатунь Московской губернии, в старообрядческой семье. Его отец доводился братом известному русскому предпринимателю и банкиру второй половины XIX века Н.А. Воторву. Последнего, современники часто называли «русским Морганом» за его деловую хватку, а по версии Форбс, Н.А. Второв был обладателем самого большого состояния В Российской империи, размер которого исчислялся 60 млн. золотых рублей[2]. Как и свой брат, отец Петра Второва имел свое «дело» в области производства химической продукции и по всей видимости имел долю в крупном Торговом доме «Н.А. Второв и сыновья»[3]. Закончив Санкт-Петербургский Политехнический институт Петр Второв стал продолжателем дела отца. Известно, что в 1903 году он отправился в поездку по недавно отстроенной Транссибирской магистрали на Дальний Восток для налаживания торговых связей, успешно добрался до Владивостока и Харбина, который только-только стал осваиваться русскими предпринимателями. В 1906 году он вторично посетил Харбин. Будучи обеспеченным человеком, П.Н. Второв мог себе позволить приобретать новомодную в те времена фототехнику, которой много снимал и в семье, и в своих поездках на Дальний Восток, Кавказ и в другие районы России[4].
Аппарат стереоскопический Глифоскоп
В годы Первой мировой войны Петр Нилович был мобилизован в ополчение весной 1915 года и проходил службу при различных полковых санитарных отрядах и лазаретах. На протяжении всей войны, продвигаясь с фронтам Волыни, Галиции, Черниговщины, П.Н. Второв не расставался со своим стереоскопическим фотоаппаратом «Глифоскоп», на который и было сделано множество разнообразных фотоснимков. После революционных событий 1917 года, опасаясь репрессий со стороны новой власти, П.Н. Второв спрятал все коробки с фотографиями в Москве в доме своего младшего брата, профессора-химика М.Н. Второва, потомки которого и сохранили уникальные фотографии.
Примечания
[1] Выставка «Взгляни в глаза войны. Россия в Первой мировой войне в кинохронике, фотографиях, документах». [Электронный ресурс] // Департамент Культуры города Москвы. Режим доступа: http://kultura.mos.ru/legislation/year-of-culture-in-russian-federation/1217294/ (дата обращения: 10.04.2015 г.).
[2] Всемирный биографический энциклопедический словарь. М., 1998. С. 159.
[3] Особняк Н.А. Второва в Москве сохранился до наших дней и известен под названием «Спасо-Хауз» – резиденция американского посла.
[4] Народный архив документов Первой мировой войны. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pomnimvseh.histrf.ru/stories-about-the-war/...p?ID=19128&sphrase_id=3142 (дата обращения: 10.04.2015 г.).
Фото Первой мировой войны Петра Второва. 1915 – 1917 годы
 http://portalnp.ru/2015/04/2540
http://portalnp.ru/2015/04/2540
|
|
|
Метки: второвы |
«Записки русского крестьянина» И.Я. Столярова как источник по традиционной культуре Воронежской деревни последней трети 19 века |
asdf
|
Рассылка |
|
|
Строго научное описание не позволяет передать того впечатления, которое возникает ранней весной или поздней осенью, когда лес становится "прозрачным" ...
Вы находитесь здесь:Народная культура и проблемы ее изучения - Вып 4 ->«Записки русского крестьянина» И.Я. Столярова как источник по традиционной культуре Воронежской деревни последней трети 19 века Воронеж
|
|
-->
http://vantit.ru/narodnaja-kultura-4/561-zapiski-russkogo.html
|
Метки: столяровы литераторы |
Шебеко, Варвара Игнатьевна |
Шебеко, Варвара Игнатьевна
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 18 июня 2018; проверки требуют 2 правки.
Перейти к навигации Перейти к поиску
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Шебеко.
Варвара Игнатьевна Шебеко (20 октября (1 ноября) 1840[1] — 30 марта 1931) — бонна, компаньонка и подруга Екатерины Долгоруковой, многолетней фаворитки, а затем второй жены[2] российского императора Александра II, носившей титул княгини Юрьевской. Выполняла роль посредника и конфидентки в отношениях императора и Долгоруковой. В числе очень немногих присутствовала на церемонии их венчания 6 июля 1880 года в часовне Царскосельского дворца. Современниками и частью потомков обвинялась в интригах и тёмных финансовых делах[3].
Содержание
Биография
Происходила из Смоленской губернии. Младшая дочь директора могилёвского губернского попечительства о тюрьмах комитета, камергера Игнатия Францевича Шебеко (ум. 1869) от брака с Елизаветой Сергеевной Сукачевой (ум. 1910). Воспитывалась в Смольном институте (1854-1857 гг.). Её старший брат Николай (1834—1905), генерал от кавалерии и сенатор; а сестра Софья (1838—1899), была замужем за князем Василием Михайловичем Долгоруковым, родным братом княгини Юрьевской. Благодаря этому браку Варвара Шебеко приходилась ей невесткой.
На правах незамужней особы свободной от личных семейных обязательств, м-ль Шебеко жила у Екатерины Михайловны. Она везде её сопровождала и была посредником в её встречах с императором Александром, в том числе, исполняя его тайные и деликатные поручения. Организовывала свидания влюблённых в нескольких домах и квартирах, снабжала переданными императором деньгами испытывавшую серьёзные материальные затруднения княгиню В. Долгорукову.
Во многих исторических исследованиях утверждается, что в июле 1866 Шебеко устроила в павильоне «Бабигон» несколько встреч, во время первой из которых император, по некоторым сведениям ради конспирации пришедший из Петергофа пешком и без охраны, и Екатерина провели вместе первую ночь[4]. В действительности первое свидание Александра II и Екатерины состоялось не в "Бабигоне", а в "Березовом домике", небольшом павильоне в деревенском стиле (не сохранился) - 1 июля 1866 года. Об этой встрече влюбленные многократно вспоминают в своей переписке, хранящейся в ГАРФе. В этот день они признались друг другу в любви, но никакой "ночи страсти" Александр (который был на 30 лет старше Екатерины) себе тогда не позволил, проявив уважение и деликатность по отношению к своей юной возлюбленной, и впервые Катя отдалась царю только накануне своего отъезда заграницу - 26 ноября 1866 года (об этом факте также неоднократно упоминается в их письмах).
Из переписки императора и Екатерины также можно сделать вывод, что - по крайне мере - до 1870 года Варвара Шебеко в их жизни никакого участия не принимала. Ее имя упоминается в письмах впервые только в 1870 году. Вероятно, это связано с тем, что невестка Екатерины Долгорукой - Луиза - не могла или не пожелала более сопровождать свою родственницу заграницу, в то время когда туда выезжал император, а посему Екатерине понадобилась другая родственница, согласная выполнять роль компаньонки. Варвара подходила идеально. В апреле 1870 года сестра Екатерины - Мария Долгорукая - вышла замуж за князя Эммануила Мещерского, и, вероятно, на свадьбе состоялось более близкое знакомство двух будущих подруг. Об этом событии также есть упоминание в переписке Александра II и его будущей жены. Так что версия о "своднической роли" Варвары Шебеко в романе императора не подтверждается документальными свидетельствами участников[5].
После заключения второго брака царя с Долгорукой, ставшего возможным из-за смерти императрицы, Варвара Шебеко поселилась в Зимнем дворце. Она играла роль компаньонки княгини Юрьевской и ближайшей помощницы в уходе за её детьми. Также она являлась крестной матерью трех старших детей Александра II и Екатерины (Георгия, Ольги и Бориса). По воспоминаниям современников, Варвара Шебеко использовала Екатерину Долгорукову и её влияние на царя для лоббистской деятельности в процессе распределения железнодорожных концессий среди подрядчиков, за что с сообщниками получала от последних крупные суммы денег[6]. Также её обвиняли в оказании влияния на императора и членстве в «могущественном трио» (вместе с Екатериной и её сестрой Марией), которое управляло Александром II и настраивало его против законной семьи. Говорили, что интеллектуальным центром этого триумвирата являлась м-ль Шебеко. При этом она держалась в тени, но все нити тянулись к ней. В своём узком кругу она также играла ведущую роль. Император её считал их общим другом и в таком качестве представлял её всем, кто бывал в его гостиной[7]. В семье Долгоруковых её называли домашним именем Вава, недруги же иногда — девицей Шебеко.
Варвару Шебеко считают представительницей либеральной политической партии, сложившейся вокруг Александра II в последний год его правления. Она вела серьезную переписку в М.Т. Лорис-Меликовым, поддерживала его "конституционный" проект. Также мадам Шебеко, возможно, является одним из соавторов так называемых мемуаров Виктора Лаферте, которые в русском переводе издаются под видом мемуаров самой княгини Юрьевской, хотя ее авторство не доказано. Подлинные собственноручные мемуары княгини хранятся в ГАРФе и до сих пор не опубликованы[8].
После убийства императора народовольцами 1 марта 1881 и особенно двух революций 1917 года известно мало. Она выехала из России в Ниццу вместе с Екатериной и долгое время жила у нею. Скончалась 30 марта 1931 года в Париже.
В литературе
- Исторический роман В. З. Азерникова «Долгорукова»
В кинематографе
- «Роман императора», исторический сериал, 1993
- «Любовь императора», исторический сериал, 2003
Примечания
- Точную дату рождения Варвары Игнатьевны удалось установить по "Личному делу Варвары Игнатьевны Шебеко" из фонда Смольного института благородных девиц. Дело хранится в ЦГИА.
- По законам Российской Империи морганатической супруги. Вопрос о том, изменили ли это положение акты Александра II относительно Екатерины и её детей, наделявшие их правами, и имел ли он право такие акты издавать, юридически и исторически дискуссионен, а также весьма сложен и выходит далеко за рамки данной статьи
- Шебеко Варвара Игнатьевна
- Жена на один год. Как овдовевший Александр II обвенчался с фавориткой
- Архив княгини Юрьевской хранится в Государственном Архиве Российской Федерации. В него входят: переписка императора Александра II и Екатерины Долгорукой (более 5 000 писем на русском и французском языках за период с 1866 по 1880 год), а также воспоминания княгини, печатная копия дневника Александра II на французском языке за 1870-1881 гг. (подлинность данного документа на настоящий момент не установлена), а также завещание княгини, фотографии и другие личные документы.
- Е. М. Феоктистов. За кулисами политики и литературы. 1848—1896. — М., 1991.
- А. А. Толстая. Записки фрейлины. Печальный эпизод из моей жизни при дворе. — М.: Энциклопедия российских деревень, 1996. — 240 с.
- Архив светлейшей княгини Юрьевской в ГАРФ. Чиркова Е. А. - ПРАВЛЕНИЕ АЛЕКСАНДРА II (1855-1881) - Монархия и монархи - История России - Россия в красках. ricolor.org. Проверено 12 октября 2018.
Ссылки
- Александр II, или История трех одиночеств. Леонид Ляшенко
- Фаворитки у российского престола. Ирина Васильевна Воскресенская
|
Метки: шебеко |
Шебеко (дворянский род) |
Эта статья — о дворянском роде. О носителях фамилии см. Шебеко.
Шебеко (польск. Szebeko) — дворянский род.
Определением Герольдии 25 Августа 1832 г. утверждено постановление Могилёвского Дворянского Депутатского Собрания 9 Августа 1805 г., о внесении рода Шебеко, а в числе лиц оного и Игнатия Францева Шебеко, в шестую часть дворянской родословной книги[1].
- Франц Иванович Шебеко (1785/1788—1845) — генерал-майор, помощник директора Пажеского корпуса
- Игнатий Францевич Шебеко (?—1869) — кавалергард, затем — камергер (1834) и статский советник (1848)
- Николай Игнатьевич (1834—1904) — генерал от кавалерии, губернатор Бессарабии, жена: Мария Ивановна Гончарова (1839—1905), племянница Натальи Гончаровой
- Вадим Николаевич (1864—1943) — военный и государственный деятель, военный агент в Германии, московский градоначальник
- Владимир (1896—1920) — поручик Кавалергардского полка, участник Белого движения, адъютант генерала Слащова
- Фёдор (1898—1983) — выпускник Пажеского корпуса (1917), кавалергард, участник Белого движения, эмигрант, вторая жена: Наталия Петровна Орлова (1905—1967)
- Мария (?—после 1946)
- Вера (1919—?), в 1951 году в Леоне вышла замуж за Жана Леона Бише
- Николай Николаевич (1863—1953) — 1-й секретарь посольства в Дании, в 1912—13 посланник в Румынии, жена: Анна Анатольевна Куракина (1871—1958), дочь А. А. Куракина
- Александр (1892—1927) — выпускник Александровского лицея, кавалергард, участник Первой мировой войны и Белого движения
- Георгий (1895—после 1938) — кавалергард, участник Киевской офицерской добровольческой дружины
- Елизавета Николаевна (1861—1932)
OO Леонтий Николаевич Баумгартен (1853—1931), генерал от кавалерии[2]
- Вадим Николаевич (1864—1943) — военный и государственный деятель, военный агент в Германии, московский градоначальник
- Ольга Игнатьевна (1836—1904)
OO граф Степан Александрович Гендриков (1832—1901) - Софья Игнатьевна (1838—1899), муж: князь Василий Михайлович Долгоруков (1840—1910) — тайный советник, витебский губернатор (1884—1894)
- Варвара Игнатьевна
- Александр Игнатьевич (1844—1929)
- Николай Игнатьевич (1834—1904) — генерал от кавалерии, губернатор Бессарабии, жена: Мария Ивановна Гончарова (1839—1905), племянница Натальи Гончаровой
- Игнатий Францевич Шебеко (?—1869) — кавалергард, затем — камергер (1834) и статский советник (1848)
Описание герба
В червлёном щите три лазуревых волнообразных пояса, второй короче первого, а третий короче второго; над ними золотой лапчатый крест, сопровождаемый сверху и снизу двумя серебряными полумесяцами, рогами обращенными к последнему.
На щите дворянский коронованный шлем. Нашлемник: пять страусовых перьев, среднее лазуревое, второе золотое, третье серебряное, а крайние червлёные. Намёт на щите справа — червлёный с серебром, слева — лазуревый с золотом. Щитодержатели: два золотых льва с червлёными глазами и языками. Девиз: «Предками», золотыми буквами на червлёной ленте.
Примечания
- Алфавитный список дворянских родов, внесенных в родословные дворянские книги Могилевской губернии: составлен в 1908 году. — Могилев: Типо-лит. Я.Н. Подземского, 1908. — С. 25. — 25 с.
Литература
- Герб рода дворян Шебеко внесен в Часть 15 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 22
- Биографический словарь «Российское зарубежье во Франции»
- Род:Шебеко на Родоводе
|
Метки: шебеко |
«РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОГО КРЕСТА (1867-1918 гг.) ...» |
-- [ Страница 8 ] --
В 1914 г. возглавлял РОКК гофмейстер императорского двора Алексей Алексеевич Ильин (с 1905 г. по 1917 г.), заместителями председателя были генерал-адъютант, генерал от кавалерии барон Феофил Егорович Мейендорф и тайный советник, сенатор Дмитрий Рудольфович Вилькен. Среди 24 членов ВФ 18627. Из фондов Военно-медицинского музея.
578 Перечень пожертвований, поступивших в кассу Главного управления // Вестн. Красного Креста. 1913. № 2. С.
446; № 9. С. 1822.
РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 501. Л. 40.
Главного управления значились люди, обладавшие значительным медицинским, военным и административным опытом580.
Формирование лечебных подразделений требовало от РОКК значительных затрат. Поэтому кредиты на развертывание подразделений Красного Креста также были заранее согласованы с Военным министерством.
Таблица 24 - Кредиты на развертывание подразделений Красного Креста 1 очередь 2 очередь 3 очередь Госпиталь 15.300 руб. 36.300 руб. 47.300 руб.
Этапный лазарет 5.900 14.900 руб. 16.900 руб.
Подвижный лазарет 6.300 руб. 11.300 руб. 16.300 руб.
Передового отряда 5.200 руб.
Такая разница в ценах, при формировании первой и последующих очередей была связана с тем, что подразделения первой очереди получали оборудование из запасов Главного склада (к началу войны там было сосредоточено материальных ценностей на 2.645.878 руб.), для второй и третьей очереди оборудование закупалось по рыночным ценам582.
Формирующиеся подразделения необходимо было укомплектовать персоналом, согласно штатам военного времени. Например, каждая из многочисленных общин сестер милосердия имела свое мобилизационное расписание, в котором указывались место и сроки прибытия. Сестрам милосердия выплачивались подъемные – 150 руб. на сестру и суточные 2 руб. на время пути до места назначения583.
После того, как в течение 42 дней решалась проблема плановой мобилизации учреждений Красного Креста, параллельно началась организационная подготовка к формированию дополнительных госпиталей.
Согласно планам, необходимо было подготовить еще 10 госпиталей, 20 этапных и 20 подвижных лазаретов на 8.000 кроватей и 16 передовых отрядов. Это решение было связанно с тем, что уже первые месяцы войны показали ее Краткий обзор деятельности … Пг., 1916. С. 8.
581 Таблица 24. Использованы материалы из: Краткий обзор деятельности … Пг., 1916. С. 9.
Краткий обзор деятельности … Пг., 1916. С. 10.
– – –
масштабный характер. В первые полгода войны, было принято решение о спешном формировании 24 конных передовых санитарных отрядов для вывоза раненых584.
Конечно, не все было гладко, практическая работа подразделений Красного Креста, сопровождалась большими трудностями. Например, при развертывании госпиталей Красного Креста в прифронтовых районах приходилось использовать приспособленные помещения: гимназии, кинотеатры, вокзалы и пр. Все это требовало многочисленных согласований между гражданской и военной администрацией. И, тем не менее, вся мобилизационная программа была выполнена на три дня раньше срока. В результате к октябрю 1914 г., на четвертом месяце войны, на фронте работало 404 лечебно-питательных учреждений Красного Креста585.
Ведомство путей сообщения оборудовало особый поезд-баню для обслуживания передовых позиций действующей армии. «В состав поезда входит 21 вагон со специальным оборудованием. В течение суток в поезде могли вымыться до 2.000 человек… На снаряжение поезда и снабжение его бельем отпущено до 50.000 руб. из сумм, поступивших от железнодорожных служащих и правлений железных дорог»586.
Императрица Александра Федоровна «курировала» деятельность специализированных поездов-бань, которые работали в ближайшем тылу действующей армии. 1 декабря 1914 г. по предложению инженера Клягина поезд-баня был разделен на две части, то есть на два самостоятельных поезда.
При поездах-банях существовали сапожные и портные мастерские, на которые ассигновалось 400 руб. каждый месяц587.
Работу РОКК в условиях масштабных военных действий, можно проиллюстрировать на примере боев на территории Варшавской губернии, начавшихся в октябре 1914 г., когда в госпитали одновременно поступало огромное количество раненых.
Краткий обзор деятельности … Пг., 1916. С. 10-11.
Симбирский Н. Красный Крест на войне. Пг., 1917. С. 88.
ВФ 23706. Л. 5. Из фондов Военно-медицинского музея.
– – –
Польское население оказывало РОКК всестороннюю поддержку. В первые недели войны в Варшаве был сформирован «Польский комитет Санитарной помощи», который тесно сотрудничал с РОКК, оказывая помощь персоналом для ухода и переноски раненых. В основном это была польская молодежь, откликнувшаяся на призыв о помощи. По этому случаю был выпущен жетон с надписью: «Polski Kom. Sanit.»588. Очень существенной была помощь студентовдобровольцев медицинского факультета Варшавского университета, дежуривших на вокзалах и переносивших раненых. В литературе подчеркивается, что поляки не только лояльно относились к русским, но и спасали их. Так, польский доброволец Блинд вынес на своих плечах тяжело раненого офицера одного из сибирских полков, когда полк отходил с позиций589.
Можно спорить по поводу массовости таких эпизодов, но важно, что они были.
В условиях маневренной войны 1914 г. несколько лазаретов Красного
Креста попало в плен к немцам:
В конце сентября 1914 г. Белостокский подвижный лазарет с ранеными • и персоналом попал в плен. Здание лазарета обстреливалось артиллерией, несмотря на флаг Красного Креста на крыше лазарета. Подошедшие немцы забрали все оружие и разграбили лазаретное имущество.
Тогда же при отступлении в плен вместе с ранеными попал • уполномоченный «Польского комитета санитарной помощи» И. Велевейский, который руководил работой питательно-перевязочного пункта в м. Гройцы590.
7 ноября 1914 г. при отступлении из под Лодзи попали в плен вместе с • ранеными Первый и Второй подвижные лазареты Иверской общины сестер милосердия. 9 ноября оба лазарета были освобождены русскими войсками.
лазарет Высших учебных заведений Петрограда был оставлен при • отступлении в г. Лодзи со всеми ранеными и персоналом.
Грибанов Э.Д. Жетоны Российской империи: медицина, Красный Крест, благотворительность. М.: Медицина,
1998. С. 83.
Бертенсон С.Л. Год на войне. 1914-1915 … Пг., 1915. С. 30.
590 Там же. С. 27.
29 января 1915 г. пограничная станция Вержболово была захвачена • немцами. Там в вагонах с ранеными находился персонал Французского этапного лазарета и Самарский этапный лазарет в полном составе. Так же в плен попала часть питательного отряда, в котором находилась баронесса Корф.
Следует заметить, что после этих эпизодов дипломатическим путем была достигнута договоренность о соблюдении установленных норм, по которым персонал Общества Красного Креста не считался военнопленными и должен быть возвращен на родину591. И примеры тому были. Так, 31 августа 1915 г.
были освобождены 47 сестер милосердия, которые попали в плен при сдаче крепости в Новогеоргиевске592.
После начала военных действий Лодзинский комитет Красного Креста открыл лазарет на 2.000 кроватей (по оценкам военных врачей могло понадобиться 24.000 кроватей). Очевидцы вспоминали, что «при осмотре оборудованных уже лечебных мест выяснилось, что местные организации преследовали цель устраивать первоклассные госпиталя с применением последних усовершенствований. При массовом наплыве раненых, когда госпиталя превращаются в перевязочные пункты, это не имело практического смысла. Тогда РОКК стало руководствоваться принципом: «гнаться не за качеством, а за количеством»»593.
В Лодзинском кинотеатре «Корсо» был оборудован перевязочный пункт с операционной. Там оперировал профессор-консультант Общества Красного Креста Н.Н. Бурденко. Когда было принято решение оставить Лодзь, вывезти раненых было уже невозможно, поэтому уход за ними был поручен персоналу лазарета Высших учебных заведений Петрограда. В оставленном в плену лазарете находилось 756 тяжело раненых и больных нижних чинов и 11 офицеров при персонале в 160 чел. «Никаких серьезных притеснений от местной германской администрации» не было, более того, персонал лазарета, будучи в германском плену, в «свободное время катался на коньках и роликах» и встречал Доклад Особоуполномоченного А.И. Гучкова … // Вестн. Красного Креста. 1915. № 1. С. 326-327.
592 Возвращение из плена сестер милосердия // Вестн. Красного Креста. 1915. № 8. С. 3587.
Бертенсон С.Л. Год на войне. 1914-1915 … Пг., 1915. С. 32.
Новый год у рождественской елки594. В середине 1915 г. Главное управление Красного Креста приняло решение перевести центральному комитету германского общества Красного Креста 150.000 руб. на нужды Лодзинского лазарета, поскольку германский Красный Крест истратил на его содержание порядка 234.000 руб. Оставшиеся деньги планировалось перевести в Германию позже.
В поместье императорской семьи в Скерневицах, в Царском павильоне был развернут Крестовоздвиженский лазарет в виде перевязочного пункта, который работал там совместно с польским питательным пунктом княжества Ловического до 2 декабря 1914 г. В результате отступления наших войск Скерневицы были эвакуированы596.
Во время отступления из Польши было потеряно много имущества Общества Красного Креста. Это неизбежный итог любого отступления.
Например, госпиталь Елизаветинской общины сестер милосердия был вынужден бросить часть своего имущества на ст. Ярослава, т.к. вместо необходимых 10-11 вагонов госпиталю выделили только 4 вагона597.
После напряженных первых месяцев войны у РОКК появилась возможность для плановой работы.
Была пополнена материальная база госпиталей и лазаретов. Для этого в армейских тылах было создано 6 полевых складов с запасом имущества не менее чем на 5.000 кроватей каждый. К фронту были выдвинуты 17 отделений складов, из них 8 подвижных в железнодорожных вагонах598.
Для характеристики деятельности отдельных складов с начала войны по 1 апреля 1915 г. может служить таблица:
594 Вести о лазарете высших учебных заведений // Вестн. Красного Креста. 1915. № 5. С. 1848-1849.
595 Переписка с германским Красным Крестом о Лодзинском лазарете // Вестн. Красного Креста. 1915. № 8.
С. 3518.
Бертенсон С.Л. Год на войне. 1914-1915 … Пг., 1915. С. 38.
Краткий обзор деятельности … Пг., 1916. С. 14.
598 Там же. С. 11.
– – –
599 Таблица 25. Использованы материалы из: РГИА. Ф. 525. Оп. 2 (225/2747). Д. 73. Л. 32 об.
600 APK. Zarzd Miejscowy Towarzystwa Rosyjskiego Czerwonego Krzya w Kaliszu (1880-1917). Sygn 2. K. 2.
Замена сапог лаптями // Вестн. Красного Креста. 1916. № 5. С. 1620.
В 1915 г. на складах Красного Креста закончились довоенные запасы лекарств. Были срочно налажены закупки лекарств и медицинских инструментов в Англии, США и Японии (общественность крайне возмущало, что гигроскопическую вату Россия закупала в Японии, хотя именно в России были огромные плантации хлопчатника). Составлением номенклатуры закупаемых лекарств и инструментов занималась «Межведомственная по приобретению медикаментов за границей комиссия». По смете, на первое полугодие 1916 г.
только на закупку лекарств и медицинских принадлежностей было отпущено 6.884.938 руб. при этом, предполагалось еще истратить на те же цели с 1 июля 1916 г. по 1 июля 1917 г. – 8.138.133 руб.602 В апреле 1916 г. начались работы по производству лекарств в России. Главному управлению Красного Креста было разрешено открыть завод («Фармацевтическая лаборатория Главного склада») для производства медикаментов, на что РОКК планировало потратить 300.000 руб. Завод предполагалось оборудовать в здании Московского винного склада. В этой Фармацевтической лаборатории изготовлялось порядка 50-ти препаратов высокого качества603.
Нижегородские кустари в селах Павлово и Ворсма сумели наладить производство отличного медицинского инструментария, а русские ювелиры делали тончайшие медицинские шприцы. Например, медицинские шприцы и иголки выпускала ювелирная фирма Карла Фаберже. Императрица Александра Федоровна сама пользовалась хирургическими инструментами, «изготовленными кустарями села Павлово Нижегородской губернии»604.
Во второй половине 1914 – начале 1915 гг. начался массовый ввод в строй санитарных поездов. К концу 1914 г. было сформировано 11 военно-санитарных поездов. Из них 6 предназначались для Юго-Западного фронта и 5 - для СевероЗападного фронта. Каждый военно-санитарный поезд комплектовался из 35 Краткий обзор продолжающейся деятельности … Пг., 1916. С. 11.
– – –
РГИА. Ф. 525. Оп. 2 (217/2715). Д. 263. Л. 1-1об.
вагонов-теплушек. В каждой теплушке размещалось 16 съемных брезентовых носилок и необходимое медицинское оборудование605.
Об объемах проделанной работы говорит то, что только транспорт №1, состоявший при 8 армии, с 4 декабря 1914 г. по 10 февраля 1915 г. перевез 5.122 раненых. К концу 1915 г. на фронтах работало 76 санитарных транспортов Красного Креста606.
Были сформированы именные санитарные поезда. Царь в дневнике в сентябре 1914 г. записал: «с утра (18 сентября) мы осмотрели новый санитарный поезд им. Анастасии»607. Всего на фронты к 1915 г. регулярно выезжало 10 «именных» санитарных поездов. Кроме них были организованы вагонылазареты, которые могли быть подцеплены к любому из составов идущих в сторону фронта. Всего за годы Первой мировой войны РОКК сформировало 360 санитарных поездов608.
Также РОКК активно работало на флоте. Начало этой работе было положено еще в 1911 г., когда морское министерство рекомендовало Обществу Красного Креста развернуть лазареты в Ревельском и Свеаборгском портах на 50 кроватей каждый609.
В сентябре 1911 г. Владивостокским портом был передан Главному управлению Красного Креста пароход «Ангара» для переоборудования под госпитальное судно610.
В 1916 г. на Черном море были введены в строй два плавучих госпиталя «Португал» и «Экватор», переданные в распоряжение РОКК. «Плавучий госпиталь «Португал» ехал за ранеными, у побережья Лазистана на пути из Ризе в Офь 17 марта 1916 г. он был торпедирован немецкой подводной лодкой.
Выпущенная в левый бок корабля мина утопила его»611. Несмотря на всеобщее Краткий обзор деятельности … Пг., 1916. С. 17-18.
Там же. С. 22, 23.
607 Николай II. Дневники императора Николая II. М., 1991. С. 486.
Сестры милосердия России. СПб., С. 59.
РГИА. Ф. 565. Оп. 7. Д. 28140. Л. 2об.
РГАВМФ. Ф. 967. Оп. 1. Д. 418. Л. 22.
РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 3094. Л. 43 об.
осуждение такой тактики подводной войны, немцы продолжали охотиться на санитарные суда.
16 июня 1916 г. были зачислены в разряд госпитальных судов пароходы «Вперед» и «Атенэ»612. 25 июня 1916 г. госпитальное судно «Вперед» ехало за ранеными из Батуми в Трапезунд. В 9 часов утра корабль был взорван миной с неприятельской подлодки 613. Судно тонуло медленно, поэтому из 67 чел.
персонала и экипажа было спасено 60 чел. Распоряжением Николая II весь спасшийся экипаж, включая персонал Красного Креста, был представлен к боевым наградам614.
В начале 1916 г. для плавания по Днепру был оборудован за счет средств частных лиц плавучий госпиталь «Черноморец» на 450 мест. После вступления в войну Румынии и образовании Румынского фронта, для плавания по Дунаю были оборудованы еще две баржи: хирургическая баржа-госпиталь Красного Креста «Сестра милосердия» на 120 мест и санитарно-транспортная баржа Красного Креста на 500 чел. 615 Всего в годы Первой мировой войны РОКК оборудовало более 20 санитарных судов616.
Следует также отметить, что буквально с начала войны РОКК постоянно увеличивало число автомобилей, на которых перевозили раненых.
Преимущество автомобилей было очевидным, т.к. санитарная двуколка перевозила 5 чел., а санитарный автомобиль – 30 чел. Главное управление Красного Креста 15 февраля 1916 г. утвердило стандартное штатное расписание «передового автомобильного отряда Красного Креста» (7 шоферов, 1 легковой и 5 санитарных автомобилей)617.
Для ремонта автомобилей в 1915 г. была создана Центральная автомобильная кладовая, которая размещалась в Петербурге в здании цветочного павильона Таврического сада618.
612 РГАВМФ. Ф. 249. Оп. 1. Д. 98. Л. 157.
РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 3094. Л. 43 об.
614 Потопление госпитального судна «Вперед» // Вестн. Красного Креста. 1916. № 7. С. 2400.
Сборник штатов учреждений … Пг., 1917. С. 122-124.
Сестры милосердия России. СПб., 2005. С. 59.
Сборник штатов учреждений … Пг., 1917. С. 62.
618 Доклад Автомобильного отделения. Б.м., 1916. С. 1.
В конце 1915 г. было принято решение о крупных закупках автомобилей на нужды Общества Красного Креста619. Всего необходимо было 1.080 машин, из них 576 имелись в наличии, таким образом необходимо было приобрести еще 500 автомобилей. Считая стоимость автомобиля с запасными частями и доставкой в Россию, по 5.000 долл. за автомобиль, стоимость выражалась в сумме 2.500.000 долл. или 8.250.000 руб. (по курсу 3 руб. 30 коп. за 1 долл.). В начале 1916 г. были проплачены 134 автомобиля на сумму в 1.300.000 руб.
Следует заметить, что за годы войны для нужд армии, за счет бюджетных средств было закуплено 2.173 санитарные машины621.
К концу 1914 г., кроме Общества Красного Креста, на фронт начали посылать санитарные отряды и другие общественные организации: «Земский союз» и «Союз городов». Поэтому, как сообщал председатель РОКК А.А. Ильин председателю Совета министров И.Л. Горемыкину в феврале 1915 г., «создалась полная пестрота и в некоторых местах чувствовался избыток частной помощи»622. В результате было принято принципиальное решение о сохранении монополии «на частную помощь фронту» только за структурами Красного Креста. Поэтому с начала 1915 г., все негосударственные медицинские подразделения поступали «под флаг Красного Креста».
На 1 ноября 1915 г. на фронтах работали 185 подразделений Красного
Креста:
Всего госпиталей 71: на Юго-Западном фронте – 35, на Северо-Западном •
– 29, на Северном фронте – 7.
Этапных лазаретов 61: на Юго-Западном фронте – 19, на СевероЗападном – 21, на Северном фронте – 20 и на Кавказском - 1.
Подвижных лазаретов 53: на Юго-Западном фронте – 21, на СевероЗападном – 25, на Кавказском фронте – 6.
ВФ 18464. Л. 19. Из фондов Военно-медицинского музея.
620 Краткий обзор продолжающейся деятельности … Пг., 1916. С.15.
Бескровный Л.Г. Армия и флот России в начале XX в. … М., 1986. С. 133.
– – –
В этих лечебных заведениях Красного Креста было пролечено (по 1 ноября 1915 г.): офицеров 21.754 чел., нижних чинов – 737.908 чел., военнопленных
20.170 чел.
Продолжали разворачиваться специализированные лечебные заведения
Красного Креста:
На 1 января 1916 г. во фронтовых тылах работали 36 санитарноэпидемических отрядов (к лету 1916 г. - 43); 53 дезинфекционных отряда (к лету 1916 г. - 73); 23 дезинфекционные камеры; 3 бактериологические лаборатории и 3 поезда-бани.
Было сформировано пять летучих хирургических отрядов Красного • Креста, в состав которых входили профессора-консультанты Вельяминов, Миротворцев, Бурденко, Сапежко, Волкович, Никитин, Рубашкин. Как утверждают очевидцы, в один из месяцев 1915 г. проф. Бурденко сделал 120 трепанаций624.
При госпиталях Красного Креста было создано 18 зубоврачебных • кабинетов, размещенных на автомобилях625. Стоимость оборудования одного такого специального автомобиля составляла 2.000 руб.626В ходе Первой мировой войны на Восточном фронте, на территории России работал Американский госпиталь Красного Креста в составе которого было челюстное отделение на 40 кроватей и одонтологическая лаборатория при нем627.
В 1914-1915 гг. для оказания специализированной офтальмологической • помощи было сформировано три «глазных отряда» Красного Креста628.
К концу 1 сентября 1914 г. РОКК на фронт было отправлено 6 • рентгеновских аппаратов, размещенных на автомобилях, а к концу 1916 г. их было 33629. До 1914 г. рентгеновские аппараты приобретались в Германии. После начала Первой мировой войны их производство было налажено в Москве. По 623 Краткий обзор деятельности … Пг., 1916. С. 14, 17.
– – –
Зубоврачебные кабинеты для армии // Вестн. Красного Креста. 1916. № 3. С. 1004.
Одонтологические отряды // Вестн. Красного Креста. 1916. № 4. С. 1258.
Сборник штатов учреждений … Пг., 1917. С. 113.
– – –
Краткий обзор продолжающейся деятельности … Пг., 1916. С. 45.
свидетельству тех, кто работал на этих аппаратах, «вентильные и рентгеновские трубки», приобретенные у фирмы Федорийский, «оказались очень доброкачественными»630.
Была продолжена практика оказания психиатрической помощи.
• Обществу Красного Креста было передано 25 вагонов, специально приспособленных для перевозки душевнобольных. В 1 выгоне перевозилось от 6 до 11 человек. Персонал одного вагона состоял из 12 человек 631. Доставку психически больных на сборные пункты Красного Креста военные брали на себя. В тылу РОКК занималось распределением больных по психиатрическим лечебницам страны. Для этого в 1915 г. было образовано «Управление уполномоченного Московского района РОКК по рассеиванию душевнобольных воинов». К середине 1915 г. выяснилось, что специализированных коек не хватает, поэтому Общество Красного Креста создало на свои средства особые психиатрические госпитали (10 госпиталей под Москвой и 4 госпиталя на Кавказе) на 25.000 коек. Кроме этого, РОКК оборудовало на Кавказе колонию для хронических душевнобольных на 400 чел. с возможностью ее расширения до
1.000 чел. В результате на 1 мая 1916 г. через специализированные психиатрические структуры Красного Креста прошло 24.057 чел.
душевнобольных632.
РОКК приняло участие в решении проблемы отравляющих веществ.
• Впервые на Восточном фронте немцы применили химическое оружие в январе 1915 г. в виде бомб начиненных формалином и другими газами, разъедающими глаза. Второй случай был отмечен 8 мая 1915 г., когда отравляющие газы были выпущены на фронте в 10 верст. Угроза была весьма значительной, поскольку в лазаретах погибло до 40% отравившихся. Поскольку изготовление противогазов только налаживалось, то сначала проблему решали использованием специально изготовленных ватно-марлевых повязок. Этим занималось РОКК. Уже к июню Отчет о деятельности рентгеновского кабинета при Евангелическом полевом госпитале РОКК за период с 25 августа 1914 г. по 17 января 1916 г. // Медицинский вестн. Упр. Главноуполномоченного Красного Креста Зап.
фронта. 1916. № 1. С. 31.
Сборник штатов учреждений … Пг., 1917. С. 129.
Краткий обзор продолжающейся деятельности … Пг., 1916. С. 27-28.
1915 г. в Москве было изготовлено 2.000.000 повязок (стоимость одной повязки
– 10-11 коп.) к каждой из которых прилагались очки-наглазники633.
Общество Красного Креста традиционно оказывало не только первую медицинскую помощь, но и кормило раненых и больных на фронтах. Для этого к концу 1915 г. работало 185 питательно-перевязочных учреждений, из них 17 подвижных в железнодорожных вагонах. 107 питательных пунктов были размещены на передовых позициях и 61 питательный пункт в тылу для обслуживания эвакуированных раненых и больных. Тыловых лазаретов эвакуационного типа насчитывалось 1.379 на 62.379 кроватей634.
В начале Первой мировой войны лечебные подразделения Красного Креста работали в тылу и, тем не менее, к 1 ноября 1915 г. потери среди персонала Красного Креста составили 93 чел.: 15 чел. покончили жизнь самоубийством (из них 12 сестер милосердия), 52 чел. умерло от заразных болезней (из них 28 сестер милосердия), 15 чел. умерли от различных несчастных случаев635.
Однако в конце 1915 – начале 1916 гг. появились и боевые потери среди персонала Красного Креста. Так, в Северном районе ответственности РОКК 6 сестер милосердия погибли от осколков бомб, сброшенных с аэроплана. В Южном районе в марте 1916 г. немецкой подводной лодкой было потоплено госпитальное судно «Португал». Среди погибших было 11 сестер милосердия и 19 санитаров Красного Креста. В Западном районе сестра милосердия Р.М.
Иванова 9 сентября 1915 г. была убита во время атаки636.
Говоря о потерях среди персонала Общества, следует остановиться на еще одном аспекте работы РОКК. Начиная с 1915 г. в периодической печати появляются публикации, описывающие «немецкие зверства», в том числе и по отношению к персоналу Красного Креста. Например, в одном из номеров «Вестника Красного Креста» описывается зверская расправа немцев с отрядом Красного Креста в районе Митавы 16 июля 1915 г., где была найдена сестра милосердия одного из летучих отрядов «Союза Городов», работавшего под Краткий обзор деятельности … Пг., 1916. С. 51.
Краткий обзор продолжающейся деятельности … Пг., 1916. С. 5-6.
635 Краткий обзор деятельности … Пг., 1916. С. 38.
Краткий обзор продолжающейся деятельности … Пг., 1916. С. 61.
флагом Красного Креста. Она находилась без сознания, истерзана и у нее была отрезана часть языка. Летучий отряд состоял из двух врачей и 7 сестер милосердия. Врачи и 6 сестер милосердия были зарублены немецким разъездом637. В прессе также приводятся многочисленные факты артобстрелов и авиационных бомбардировок лазаретов Красного Креста. Очевидно, что эти публикации были частью официальной патриотической компании, ставящей своей целью возродить патриотический подъем первых месяцев войны и затормозить распространение антивоенных настроений. Конечно, эксцессы были, но в целом, Германское общество Красного Креста и кайзеровское правительство соблюдало международные нормы, прописанные в международных конвенциях.
На 1 января 1915 г. в Москве с прилегающими уездами работало 1.935 лазаретов и госпиталей, подведомственных Обществу Красного Креста и другим учреждениям и ведомствам. Среди них можно упомянуть: госпиталь Красного Креста на 50 коек «Ея Величества Императрицы Александры Федоровны», который располагался в Кремле в Потешном дворце; госпиталь Красного Креста при Марфо-Мариинской обители милосердия на 65 кроватей (Б. Ордынка, д. 34);
госпиталь Красного Креста «Императорской фамилии» в Петровском дворце на территории Петровского парка на 300 кроватей; госпиталь на 12 кроватей акционерного общества «Эрманс»; лазарет Императорских театров на 56 коек и т.д.
В Петербурге одним из самых резонансных событий стало открытие огромного госпиталя Красного Креста на 1000 кроватей в Зимнем дворце. Под этот госпиталь были отданы огромные парадные залы дворца, в которых были расставлены кровати639. Госпиталь был оборудован за 1,5 месяца и проработал до ноября 1917 г. Рассматривался вариант оборудования лазарета в помещениях Эрмитажа, но от этого проекта отказались, «ввиду отсутствия водопровода и Зверская расправа немцев с отрядом Красного Креста // Вестн. Красного Креста. 1915. № 8. С. 3601.
638 Список лечебных заведений Внутреннего района империи, находящихся в ведении Главноуполномоченного Российского общества Красного Креста и других учреждений и ведомств: к 1 янв. 1915 г. СПб., 1915. С. 99, 155.
ОФ 86429. Из фондов Военно-медицинского музея.
освещения» 640. 10 августа 1914 г. в Царском Селе развернули «Дворцовый лазарет». К 18 августа в Царском Селе насчитывалось 9 лазаретов. Поскольку раненых в эти лазареты доставляли через Петроград, то императрица настояла на том, чтобы в декабре 1914 г. был учрежден особый Царскосельский эвакуационный пункт.
А.А. Вырубова писала, что «государыня организовала особый эвакуационный пункт, в который входило около 85 лазаретов в Царском Селе, Павловске, Петергофе, Луге, Саблине и других местах». Наиболее крупным из них был Дворцовый лазарет, переименованный позднее в «Собственный Ея Величества лазарет, где работали в качестве сестер милосердия императрица Александра Федоровна, великие княжны Ольга Николаевна и Татьяна Николаевна, присутствуя и помогая при самых тяжелых операциях. 30 октября 1914 г. в Большом Екатерининском дворце был открыт «Лазарет их Императорских Высочеств княжен Марии Николаевны и Анастасии Николаевны»641. Младшие княгини Мария и Анастасия называли этот лазарет в своих записях «дорогой лазарет»642.
Еще до начала мировой войны царские дочери, больше в целях экскурсионных, посещали Царскосельскую общину сестер милосердия, которую младшие девочки назвали «медицинской школой». Великая княжна Анастасия писала отцу 8 мая 1913 г.: «Мы идем в школу сестер, я так рада»643.
После начала Первой мировой войны 9 августа 1914 г. императрица попросила хирурга В.И. Гедройц прочесть курс лекций, который читали для сестер милосердия военного времени. Подруга Александры Федоровны Лили Ден вспоминала: «Преподавала им княжна Гедройц, профессор-хирург, и большую часть своего времени императорская семья посвящала лекциям и практическим занятиям. После того как они сдали необходимые экзамены, государыня и «четыре сестры Романовы» стали работать в качестве хирургических сестер, часами ухаживая за ранеными и почти всегда присутствуя Приспособление Зимнего дворца под лазарет // Вестн. Красного Креста. 1915. № 8. С. 3539-3540.
Письма святых царственных мучеников из заточения. СПб., 1996. С. 30.
Августейшие сестры милосердия. М., 2006. С. 242.
Мейлунас А., Мироненко С. Николай и Александра. Любовь и жизнь. М., 1998. С. 371.
на операциях»644. Об этом же писала и А.А. Вырубова: «Стоя за хирургом, Государыня как настоящая операционная сестра, подавала стерилизованные инструменты, вату и бинты…»645.
Контакты императрицы Александры Федоровны с Царскосельской общиной сестер милосердия Красного Креста относятся к 1908 г. Именно в этой общине сестер милосердия проходил экзамен, который в начале ноября 1914 г. сдавала императрица Александра Федоровна со своими старшими дочерьми на звание сестер милосердия военного времени. Экзамены принимала начальница Царскосельской общины сестер милосердия княгиня Путятина. Императрица сдавала экзамен первой, а затем она сама приняла участие в экзаменовке своих дочерей, задавая им самые трудные вопросы. После сдачи экзамена они все получили красные кресты и аттестаты на звание сестер милосердия военного времени646.
В переписке царя и царицы тема работы в лазарете являлась одной из главных, особенно за 1914-1915 гг. Начиная с сентября, Александра Федоровна постоянно упоминает в письмах о своей работе в качестве операционной медсестры. В конце сентября 1914 г. она написала: «Раненые прибыли. Мы работали с четырех до обеда»647. Затем эти упоминания стали носить постоянный характер.
Несмотря на тяжелое военное время, императрица уделяла внимание и развитию педиатрической службы в России. В сентябре 1915 г. она упоминала, что у нее на приеме «был старый Раухфус – за эти три месяца устроено множество яслей по все России нашим обществом материнства и младенчества.
Для меня большая радость, что все так горячо на это откликнулись и сознали важность этого вопроса, - особенно теперь нужно заботиться о каждом младенце, в виду тяжелых потерь на войне»648.
Ден, Л. Подлинная царица; Воррес Й. Последняя великая княгиня: воспоминания. М., 1998. С. 85.
Танеева (Вырубова) А. Страницы из моей жизни. Берлин, 1923. С. 51.
646 Шуленбург В.Э. Воспоминания об императрице Александре Федоровне. Париж, 1928. С. 34.
Николай II, Александра Федоровна. Переписка Николая и Александры Романовых. Т. 3. 1914-1915. Пг., 1923.
С. 9.
– – –
Высоко оценивали работу в лазарете и сестер Романовых. По свидетельству Т. Мельник - дочери лейб-медика Е.С. Боткина: «впоследствии они работали так, что доктор Деревенко, человек весьма требовательный по отношению к сестрам, говорил мне уже после революции, что ему редко приходилось встречать такую спокойную, ловкую и дельную хирургическую сестру, как Татьяна Николаевна.
Великая княжна Ольга Николаевна, более слабая и здоровьем, и нервами, недолго вынесла работу хирургической сестры, но лазарета не бросила, а продолжала работать в палатах, наравне с другими сестрами, убирая за больными»649.
В печати работа в госпиталях членов императорской семьи почти не освещалась. Воспоминания свидетельствуют, что эта работа была скорее потребностью, желанием разделить тяжесть войны со своим народом. «Один полковник, контуженный в голову, стал неспособным к службе и остался без средств с пятью детьми. Царица выхлопотала ему усиленную пенсию, дала от себя пособие и не успокоилась, пока не определила всех пятерых детей на казенный счет» 650. По свидетельству графа В.Э. Шуленбурга, который был начальником одного из санитарных поездов, Александра Федоровна «относилась с полным негодованием к рекламированию подобных трудов»651.
Вместе с тем, эта деятельность вызывала раздражение не только в аристократической среде, но и определенное непонимание в народе. По патриархальным представлениям русских крестьян царица не могла повседневно работать в лазарете. Чего не понимал простой народ - это опрощения царицы, переодевания ее в костюм сестры милосердия. Царица должна была быть всегда царицей. По утверждению А.И. Спиридовича «видя государыню в костюме сестры милосердия, говорили «То какая же это царица, нет, это сестрица»652.
Императрица обязана была выполнять и представительские функции. Она регулярно выезжала в провинциальные города, где посещала различные Мельник Т.Е. Воспоминания о царской семье и ее жизни до и после революции. М., 1993. С. 34.
Зарин А.Е. Наши царицы и царевны во Вторую Отечественную войну. Пг., 1916. С. 24-25.
Шуленбург В.Э. Воспоминания об императрице Александре Федоровне. Париж, 1928. С. 35.
Спиридович А.И. Великая война и февральская революция (1914-1917): Воспоминания. Мемуары. Минск,
2004. С. 52.
лазареты. Первая такая поездка состоялась в конце ноября 1914 г. Императрица посетила г. Ковно, и г. Вильно. В феврале 1915 г. была предпринята поездка в Псков. Все эти посещения были достаточно мимолетными и продолжались по 10-20 минут653.
С 1915 г., по инициативе императрицы, началась организация госпиталей в Крыму. Английский посол Бьюкенен присутствовал в 1916 г. на открытии одного из таких госпиталей: «В Ливадии мы присутствовали на торжестве открытия госпиталя для раненых, основанного императрицей» 654. Дворцовый комендант В.Н. Воейков писал, что «во время войны императрица передала для раненых здравницы: одну в Массандре, на Южном берегу Крыма, а другую в Железноводске». Уже в военное время было профинансировано начало строительства грязелечебницы под Евпаторией. Кроме этого в санатории, который находился в удельном имении «Кучуг-Ламбат» (Крым), в октябре 1914 г. были размещены выздоравливающие раненые. 22 октября 1915 г. В.Н.
Воейков был назначен председателем Всероссийского общества здравниц в память войны 1914-1915 гг.
Дочь Николая II Татьяна Николаевна стала квалифицированной операционной сестрой. Уже после Февральской революции она постоянно интересовалась делами лазарета. В письме к В.И. Чеботаревой, написанном в Царском Селе в апреле 1917 г., она спрашивала: «Много ли Вы бываете в лазарете… Что будет в нашем старом лазарете теперь, тоже госпиталь – хирургическое отделение или заразное?... Вспоминаем постоянно как хорошо было работать в лазарете, и как мы с Вами всеми сжились. Правда?»656.
Кроме императрицы Александры Федоровны и ее дочерей в работе подразделений Красного Креста приняли активное участие и другие члены женской половины императорской семьи. Ольга Александровна, дочь Марии Федоровны и младшая сестра Николая II, работала сестрой милосердия в РГИА. Ф. 508. Оп. 1. Д. 2599. Л. 11-12, 40-40 об.
Бьюкенен Д. Мемуары дипломата. М., 1991. С. 168.
655 Воейков В.Н. С царем и без царя: воспоминания последнего дворцового коменданта государя императора Николая II. М., 1995. С. 172.
Письма святых царственных мучеников из заточения. СПб., 1996. С. 40.
лазарете в г. Киеве, сформированном на ее средства. Вдовствующая императрица Мария Федоровна, которая оставалась высочайшей покровительницей Общества, продолжала участвовать в практической работе РОКК. Именно через ее канцелярию проходили все вопросы, связанные с международными контактами РОКК. Так, в 1914 г. именно люди императрицы обеспечили японскому отряду Красного Креста, возможность работы «под флагом» Общества в России657. Кроме японцев на русском фронте работали и отряды Американского общества Красного Креста. 26 апреля 1915 г. из НьюЙорка в Россию отошел пароход «Курск» с грузом в 396 тюков (бинты, вата, одежда, лекарства) для РОКК658.
Через Канцелярию императрицы проходило множество вопросов, связанных с формированием личного состава лазаретов и госпиталей;
пожертвованиями; решались различные административно-хозяйственные вопросы 659. В 1916 г. для структур, образованных на средства императрицы Александры Федоровны, и, работавших под флагом Красного Креста, был утвержден знак Красного Креста:
- «за заслуги, оказанные делу человеколюбия по Обществу Красного Креста в период военных действий и во время общественных бедствий;
- за продолжительную и полезную деятельность по Обществу в мирное время;
- за крупное на дело Красного Креста пожертвование, денежное или материальное, но не менее 10.000 руб.
Этот знак Красного Креста состоит из эмалевого знака Красного Креста на белом щите с Императорскою сверху короною, с надписью золотыми буквами вокруг: «Возлюбиши ближняго твоего яко сам себе».
В январе 1917 г. знаком Красного Креста были награждены младшие дочери Николая II - великие княжны Мария Николаевна и Анастасия Николаевна661.
– – –
РГИА. Ф. 544. Оп. 2. Д. 379. Л. 14.
660 РГИА. Ф. 525. Оп. 2 (217/2715). Д. 707. Л. 1, 2, 2 об.
РГИА. Ф. 525. Оп. 2 (217/2715). Д. 723. Л. 1.
Таким образом, начиная с русско-турецкой войны 1877-1878 гг., участие женской половины императорской семьи в благотворительных мероприятиях по оказанию помощи раненым и больным воинам становится почти обязательным.
Это участие, как правило, сводилось к финансированию лазаретов, складов, формированию санитарных поездов и периодических визитов в лазареты. Во время Первой мировой войны участие в заботе о раненых и больных воинах императрицы Александры Федоровны и ее старших дочерей далеко вышло за устоявшиеся рамки. Тем не менее, из имеющейся в литературе информации можно сделать вывод, что работа императрицы и ее дочерей в лазаретах Красного Креста не носила пропагандистского характера, а была велением сердца и не прекращалась вплоть до Февральской революции 1917 г.
Для каждого из лечебных подразделений Красного Креста, организуемого на средства частных лиц, Главное управление принимало особое штатное расписание. В 1916 г. Главное управление утвердило штат «Англо-русского отряда Красного Креста №88, имени королевы Великобритании и Ирландии Александры» в составе: начальника отряда, 2 помощников, старшего врача, 2 младших врачей, зубного врача, заведующего рентгеновской станцией, аптекаря, фельдшера, завхоза, 8 сестер милосердия и 100 санитаров. В состав отряда входил подвижной лазарет на 50 кроватей и транспорт (32 повозки при 85 лошадях, 6 санитарных автомобилей и рентгенавтомобиль)662.
В 1915 г. госпитали Красного Креста были открыты на территории Румынии и Франции. «Русский госпиталь в Париже для раненых воинов Франции».
Сначала госпиталь финансировался царской семьей, было выделено 150.000 франков на его развертывание и оборудование. Позже начали поступать пожертвования частных лиц (300.000 франков). В конце 1916 г. РОКК запросило у Совета Министров кредит в 90.125 руб. на содержание госпиталя (на 6 месяцев)663.
Сборник штатов учреждений … Пг., 1917. С. 64, 67.
– – –
Прием пожертвований и посылок принимался во всех учреждениях Общества Красного Креста, затем посылки отправлялись на склады для передачи в военные части.
За первые четыре месяца (на 1 декабря 1914 г.) войны сумма пожертвований, поступивших в центральную кассу Общества, составляла 3.930.719 руб., а Главное управление РОКК имело в своем распоряжении на расходы, вызываемые потребностями войны, наличных 19.722.642 руб. Расходы на оказание врачебно-санитарной помощи раненым и больным воинам за этот период составили 18.899.293 руб.
На 1 ноября 1915 г. сумма пожертвований, поступивших в центральную кассу Общества с начала военных действий, достигла 9.773.711 руб., а Главное управление РОКК имело в своем распоряжении на расходы, вызываемые потребностями войны, наличных 73.020.011 руб. Расходы на оказание врачебносанитарной помощи раненым и больным воинам за этот период составили 73.020.011 руб.
Таким образом, можно сделать вывод, что к 1 ноября 1915 г. пожертвования покрывали только часть расходов РОКК (примерно 13%).
На 1 июля 1916 г. поступления на счета РОКК составили 127.605.843 руб., а расходы составили 126.864.304 руб.666 Это были большие суммы, однако, все учреждения Красного Креста предоставляли в Главное управление отчеты, в которых отражались все статьи доходов и расходов подразделений Общества Красного Креста, вплоть до копеек.
В 1916 г. был выпущен календарь, посвященный деятельности Общества Красного Креста, который пропагандировал работу Общества, в нем были помещены иллюстрации различных лазаретов, существующих на 1 января 1916 г.667 Последние данные о численном составе РОКК были опубликованы после Всероссийской конференции в июле 1917 г. Членами РОКК являлось около 664 Русский Красный Крест в первые пять месяцев войны 1914-1915 годов // Иллюстрированный календарь Красного Креста на 1915 г. М., 1915. С. 66, 69-70.
665 Русский Красный Крест в первый год Великой Европейской войны // Иллюстрированный календарь Красного Креста на 1916 г. М., 1915. С. 64.
Краткий обзор продолжающейся деятельности … Пг., 1916. С. 51.667 РГАВМФ. Ф. 1335. Оп. 1. Д. 36. Л. 20-32.
39.000 чел. Всего под флагом Красного Креста работало 136.850 чел. На фронтах действовало 2.255 учреждений РОКК, в тылу располагалось более 1.400 учреждений668.
Таким образом, к 1917 г. подразделения Красного Креста, дополнявшие военно-медицинские структуры, вносили существенную лепту в дело оказания помощи раненым и больным воинам.
За время предшествующих войн и военных конфликтов были выработаны алгоритмы действий по взаимодействию государственных структур с РОКК.
Общество активно занималось подготовкой санитарного персонала, оборудовало санитарные поезда, которые позволяли существенно снизить смертность среди раненых. Была развернута широкая кампания по сбору пожертвований, как в пользу Общества, так и под отдельные проекты, создавались склады, на которых аккумулировались значительные материальные запасы самого разнообразного снаряжения. В тыловых районах создавались сотни больших и малых госпиталей, содержавшихся частными лицами. В районах боевых действий были развернуты летучие санитарные отряды, питательно-перевязочные пункты, этапные пункты по сортировке раненых, специальными отрядами проводилась дезинфекция местности. Конечно, все вышеперечисленное не означало, что все раненные и больные находились в идеальных условиях. Множество раненых как и прежде сутками ожидали первой помощи на соломе. И, тем не менее, деятельность подразделений Красного Креста существенно изменила стандарты оказания медицинской помощи, превратив Общество в авторитетную общественную структуру, пользующуюся доверием со стороны самых разных социальных слоев Российской империи.
Принципиально важно то, что после двух войн (русско-турецкой и русскояпонской) Военное министерство координировало свои действия с руководством Общества Красного Креста. Планы развертывания структур Красного Креста согласовывались с Мобилизационным отделом Генерального штаба, Ипполитов С.С., Голотик С.И. Российское общество Красного Креста (1917 – 30-е гг.) // Новый ист. вестн.
2001. № 4. С. 1.
вырабатывались стандарты штатных структур Общества (госпитали, этапные лазареты, подвижные лазареты, этапные питательные пункты, подвижные питательные пункты). Таким образом, военные конфликты конца XIX – начала XX вв., в которых участвовали различные структуры РОКК, подтвердили жизнеспособность идеи взаимодействия государственных структур с мощной общественной организацией в деле оказания помощи больным и раненым воинам.
3.2. Российское общество Красного Креста и проблема оказания помощи военнопленным Во второй половине XIX в. на международном уровне была урегулирована проблема военнопленных. Основные положения о военнопленных были выработаны на Брюссельской международной конференции 1874 г. На этой конференции был рассмотрен проект международных положений, предложенных «Парижским обществом улучшения участи военнопленных».
Хотя эти положения не были приняты европейскими странами, однако «дефакто» европейские страны придерживались этих норм.
В 1880-х гг. к проблеме военнопленных обратились международные структуры Красного Креста. Так, в 1892 г. в Риме состоялась очередная международная конференция Обществ Красного Креста, на которой с проектом международной конвенции «О законах и обычаях войны» выступил председатель РОКК М.П. фон Кауфман. В этом проекте содержалась глава «О военнопленных». Там подробно регламентировалось положение военнопленных, в частности в ст. 26. указывалось, что военнопленные «не могут содержаться в заключении, подобно преступникам»; в ст. 29. – «содержание военнопленных принимает на себя государство, во власти которого они находятся. Условия содержания военнопленных устанавливаются по взаимному соглашению воюющих сторон»; в ст. 30. указывалось, что военнопленные «не подлежат наказанию за побег, и только надзор за ним может быть усилен»669.
К уточнению юридического статуса и положения военнопленных представители национальных Обществ Красного Креста возвращались еще не раз. Формулировки, выработанные на международных конференциях Красного Креста, легли в основу главы о военнопленных Гаагской конвенции 1899 г. (ст.
15 и 16) «О законах и обычаях сухопутной войны». С открытия военных действий в каждом из воюющих государств, а также и в нейтральных государствах, в том случае, если они приняли на свою территорию воюющих, учреждается Справочное бюро о военнопленных». В международных документах оговаривалось, что в плен не может быть взят личный состав госпиталей и походных лазаретов с их частями (интендантской, врачебной, административной и перевязочной для раненых), a также священнослужители.
В 1902 г. в России состоялась VII Международная конференция Обществ Красного Креста. На этой конференции представители России вновь подняли вопрос о военнопленных, предложив поставить статьи о военнопленных, принятые на Гаагской конференции, в тесную и неразрывную связь с практической деятельностью национальных Обществ Красного Креста.
Этот вопрос не вызвал дискуссии среди участников конференции.
Представители Германии заявили, что для них этот «вопрос исчерпан», поскольку Справочное бюро о военнопленных существует на основании приказа Военного министерства. Представители Австрии также заявили, что для них вопрос о создании Справочного бюро о военнопленных «в принципе решен».
Представитель РОКК заявил, что «вопрос фактически был уже решен во время войны 1878 г., когда были образованы особые комитеты Красного Креста для РГИА. Ф. 954. Оп. 1. Д. 226. Л. 9.
Овчинников И.А. Доклад заведующего Центральным Справочным Бюро о военнопленных профессора И.А.
Овчинникова по вопросу об организации помощи военнопленным учреждением специального комитета // Вестн.
Красного Креста. 1915. № 1. С. 107.
помощи военнопленным», одним из видов деятельности которых стало составление справок671.
Действительно, в России положение военнопленных определялось «Временным положением о военнопленных», утвержденное 2 июля 1877 г. в ходе русско-турецкой войны. После начала русско-японской войны, был принят новый регламентирующий документ, определявший положение военнопленных
– «Временное положение о военнопленных русско-японской войны 1904 г.»
(приказ по Военному ведомству 1904 г. № 276). Было образовано «Центральносправочное бюро о военнопленных». Его работа началась 28 мая 1904 г., о чем было сообщено в газетах.
Возглавил «Центрально-справочное бюро о военнопленных» член Главного управления Красного Креста проф. Ф.Ф. Мертенс. Главной задачей Бюро стало составление списков русских военнопленных. Для этого через Министерство иностранных дел был привлечен русский посол в Париже, который через посредничество французского Министерства иностранных дел, просил французских дипломатических агентов в Японии получить сведения о русских военнопленных. В результате уже в конце мая 1904 г. были получены сведения о четырех матросах с миноносца «Стерегущий». Впоследствии, по мере развертывания деятельности Бюро, списки русских военнопленных печатались в периодической печати: «Вестник Маньчжурских армий», «Русский инвалид» и «Сельский вестник».
http://konf.x-pdf.ru/18istoriya/315746-8-rossiysko...asnogo-kresta-1867-1918-gg.php
|
Метки: первая мировая война красный крест |
Благотворительность в годы Первой мировой войны |
Благотворительность в годы Первой мировой войны
Первая мировая война 1914–1918 годов принесла много бедствий народу Российской империи. На фронт было мобилизовано 15,8 млн человек, число беженцев составило почти 7 млн человек. Семьи воинов, вдовы, сироты нуждались в помощи.

Благотворительные открытки. 1914 год. Из коллекции Игоря Ерополова
Согласно указу от 11 августа 1914 года «Об образовании Верховного совета по призрению семей лиц, призванных на войну, а также семей раненых и павших воинов» был создан высший государственный орган для помощи семьям фронтовиков. Верховный совет возглавила супруга Николая II, императрица Александра Федоровна, уполномоченной за помощь в Москве стала великая княгиня Елизавета Федоровна, в Петрограде – великая княжна Ольга Николаевна.
Было очевидно, что органы местного управления только с помощью добровольцев смогут наладить работу больниц, детских приютов, бесплатных столовых в условиях военного времени. Уже через полгода после начала войны государство стало выделять субсидии благотворительным организациям, занимавшимся обустройством госпиталей, доставкой еды и одежды на фронт.

Благотворительные открытки. 1914–1915 годы. Из коллекции Игоря Ерополова
В филантропии царской семьи в годы войны тон задавала мать-императрица Мария Федоровна, руководившая Российским обществом Красного Креста (1877–1917) и Ведомством учреждений императрицы Марии (1880–1917). Под эгидой Верховного совета действовало несколько комитетов, возглавляемых членами Дома Романовых, в том числе Елисаветинский, Ольгинский и Татианинский комитеты. Сестрами милосердия в Царскосельском лазарете Красного Креста после окончания специальных курсов стала императрица Александра Федоровна с дочерьми Ольгой и Татьяной.

Императрица Александра Федоровна с дочерьми Ольгой и Татьяной. Из журнала «Столица и усадьба». 1915 год
Комитет Елизаветы Федоровны (Елисаветинский комитет) оказывал помощь семьям воинов и получал на эти нужды большие частные пожертвования. Уже к маю 1915 года в его кассы поступило 2,8 млн руб. в помощь семьям и 1,3 млн руб. – на приюты и ясли для детей, содержание дешевого жилья, дешевые и бесплатные столовые. Комитетом был создан разборный пункт бездомных детей (чьи матери умерли, а отцы ушли на войну), открыт ряд Марфинских приютов, названных так, потому что за детьми ухаживали сестры Марфо-Мариинской обители. Располагались приюты в помещениях, предоставленных монастырями, приходами и частными лицами.

Дети воинов в приюте Елисаветинского комитета в Москве. Из журнала «Столица и усадьба». 1915 год
Первоочередной задачей Петроградского комитета Ольги Николаевны (Ольгинского комитета) стало обеспечение жен воинов работой в специально организованных швейных мастерских или на дому. Одна из мастерских была устроена в доме московского генерал-губернатора. Комитет получил заказ от интендантства (часть военного управления, в ведении которой состоит снабжение войск провиантом и обмундированием – Русфонд) на пошив 1 млн комплектов белья. Комплект включал исподнюю рубашку и кальсоны, за пошив которых платили 23,5 коп. Для исполнения заказа создали мастерские в Нарве, Ораниенбауме, Петергофе, Шлиссельбурге, Ямбурге. Российский Красный Крест и компания «Зингер» выделили 180 швейных машин. С августа 1914 по сентябрь 1915 года комитет предоставил работу 19,5 тыс. женщин, рассмотрел 30 тыс. прошений на получение одежды, обуви, дров, оказал денежную помощь 13709 семьям на сумму 2 млн руб., организовал несколько детских садов. Комитету поступали значительные пожертвования: императрица Александра Федоровна передала 133 тыс. руб. (из средств, пожертвованных финляндским Сенатом), 300 пудов чая; российское консульство в болгарском городе Рущуке прислало 540 пудов табака для отправки воинам на фронт.

Жены ушедших на фронт во дворе Аничкова дворца ждут приема сшитого белья и раздачи материалов. Из журнала «Столица и усадьба». 1915 год
Комитет Татьяны Николаевны (Татианинский комитет) координировал помощь беженцам, переселившимся внутрь страны из 16 западных губерний (где шли боевые действия). К 1916 году местными отделениями (как правило, их возглавляли губернаторы) были составлены списки беженцев. Благодаря им родственники могли найти друг друга, однако основной целью регистрации было стремление трудоустроить пострадавших, а детей, стариков и инвалидов обеспечить едой, одеждой и кровом. В ряде населенных пунктов доля беженцев составляла около десяти процентов по отношению к местному населению, а в губерниях Поволжья доходила до 50-60 процентов. Еврейские, латышские, литовские и эстонские беженцы часто не знали русского языка, что еще более осложняло ситуацию. Потерявшиеся маленькие дети знали только свои имена и то, что «отец на войне, мать умерла в дороге».

Списки беженцев в Томской губернии
С октября 1914 по март 1917 года пожертвования Татианинскому комитету составили около 11,8 млн руб., в том числе вещами на 1 млн руб. Через комитет распределялась и казенная субсидия, из которой национальным и конфессиональным организациям, занимавшимся помощью беженцам, переданы следующие суммы: полякам – 12,3 млн руб., литовцам – 3,4 млн, армянам – 3,2 млн, латышам – 2,1 млн, русским – 2,1 млн, галичанам – 1,7 млн, евреям – 1,6 млн, грузинам – 173 тыс., мусульманам – 5,2 тыс. Татианинский комитет открыл несколько сотен заведений: детских приютов, общежитий, столовых (например, приют на 80 детей в Тамбове, бесплатную столовую в Калуге, ясли на 100 детей и швейную мастерскую для 160 женщин-беженок в Твери, столовую на 100 человек и санаторий на 50 детей в Царском Селе).

Беженцы-латыши в Москве возле столовой, устроенной церковно-приходским комитетом Храма Троицы на Грязех на Чистых Прудах. Лето 1915 года
Члены императорской семьи предоставляли свои дворцы не только под госпитали и приюты, но и под склады. Так, при председательстве великой княгини Марии Павловны действовал «Комитет по снабжению одеждой нижних чинов», заготавливавший теплую одежду и обувь для выписанных из больниц после ранений, а его склад располагался в принадлежавшем Марии Павловне Владимирском дворце на Дворцовой набережной.

Великая княгиня Мария Павловна и сотрудники ее склада в Петербурге. Из журнала «Столица и усадьба». 1915 год
Под эгидой Российского общества Красного Креста трудились 109 общин сестер милосердия и лучшие доктора, в их числе выдающийся хирург Николай Бурденко. Организованы хирургические и рентгеновские отряды, изоляционно-пропускные пункты, походные дезинфекционные камеры. С 1915 года стали проводиться прививки против брюшного тифа и холеры.
К 1917 году в ведении Красного Креста состояло 65 госпиталей, 94 подвижных лазарета, 59 санитарных поездов, 17 плавучих госпиталей, 150 передовых врачебных отрядов, 7 хирургических и 11 рентгеновских отрядов, 85 пунктов питания и 29 чайных, 40 пунктов психиатрической помощи, 19 бань.

Сбор средств для Красного креста на станции Каргат Транссибирской дороги (сейчас Новосибирская обл.) Из коллекции Игоря Ерополова
Лучшие передовые врачебные отряды имели в своем составе врачей и сестер милосердия, были снабжены запасом одежды, медикаментов, имели полевые кухни и бани. Снаряжались эти отряды на деньги благотворителей, в числе самых щедрых значились владельцы гастрономов Елисеевы, графини Надежда Толстая и Елизавета Воронцова-Дашкова. Автомобильно-санитарные отряды носили имена коллективных жертвователей – Московского Румянцевского музея, Русского учительства, Балтийского клуба автомобилистов, Духовно-учебных заведений во имя преподобного Серафима Саровского, Российских мусульман, Балтийского клуба автомобилистов.

Госпиталь Красного Креста в Ковеле. Москвич доктор Михаил Астров делает солдату противотифозную прививку. 1914-1915 годы. Семейный архив Астровых-Шацилло
Всероссийский земский союз (организация деятелей местного самоуправления в сельской местности) уже к весне 1915 года развернул по всей стране систему госпиталей, насчитывавшую 174 тыс. коек (35 процентов от общего числа коек для раненых), снарядил 50 санитарных поездов, организовал 19 врачебно-питательных отрядов. В «летучих банях» солдаты, зачастую сутками сидевшие в затопленных водой окопах, могли согреться, помыться, сменить грязное и рваное белье. В феврале 1915 года Всероссийский земский союз организовал массовую акцию «Поможем солдатам встретить Пасху». Из Москвы на Галицийский фронт был отправлен поезд из 20 товарных вагонов, а в них было 16,5 тыс. пасхальных яиц, 878 куличей, наборы из куличей и пасхи, иконки, 22 тыс. кисетов с подарками, а также 34 тыс. штук рубашек, 32,4 тыс. штук кальсон, 20 тыс. портянок и носков, 5,5 тыс. полотенец, 1,1 т мыла, 417 тыс. папирос, 2 т колбасы и ветчины, 200 мешков сухофруктов, 25 гармоней, мед, сало, пряники, баранки, сухари.
С фронта приходили благодарные письма бойцов: «Кроме удовольствия и радостей, доставленных нижним чинам содержимым подарков, не меньшую радость всем нам доставляет та память и внимание, которые наше общество оказывает нашей доблестной армии в это время тяжелых испытаний».
Кроме помощи фронту, земство поддерживало семьи крестьян, ушедших на войну. Беднейшим и безлошадным помогали засеять поля, чтобы было пропитанье на следующий год. Вернувшихся из армии увечных обучали ремеслам, чтобы они могли работать, содержать семью.
В городах все эти проблемы решал Союз городов, объединявший муниципальных деятелей.

Список вещевых пожертвований Союзу городов. 1915 год
Через семь месяцев после начала войны в ведении Союза городов было 912 госпиталей с 75 тыс. коек в 242 городах страны. Койки для раненых были выделены в городских больницах, под лазареты переоборудовались школьные здания, помещения учреждений, банков, фирм. Благотворители целиком оплачивали содержание, питание, лечение раненых. Например, в Петрограде страховое общество «Россия» предоставило свое помещение для лазарета на 2000 коек, крупнейшая кожевенная фирма Брусницыных – для лазарета на 250 коек, Азовско-Донской банк содержал лазарет на 32 койки, Учетный и ссудный банк – на 50 коек, Вольное экономическое общество – на 90 коек, Технологический институт – на 140 коек. Ряд больниц содержался частными лицами. Так, в Петрограде графиня Софья Панина создала лазарет на 162 койки, прихожане церкви Иоанна Предтечи на Лиговской – на 35 коек.

Городской госпиталь на 120 человек в Рыбинске, часть его палат разместилась в бывшем здании винного склада
В Петрограде благотворительные столовые кормили 6 тыс. человек. Многодетные семьи получали бесплатные обеды, детям до года бесплатно выдавалось пастеризованное молоко. В ряде попечительств нуждавшимся еженедельно выдавали «сухие пайки». В паек для взрослого (стоимостью 6 коп.) входили 120 г свежей капусты, полтора кг картофеля, две свеклы, луковица, 120 г крупы, 450 г хлеба, а в детский – 100 г манной крупы, пол-литра молока, яйцо и булка. По инициативе Верховного совета в конце 1914 года была проведена благотворительная лотерея для оказания помощи жертвам войны. Выпущены билеты на сумму 20 млн руб.; чистый доход составил 16,8 млн руб., из них 1 млн руб. был передан Красному Кресту, 3 млн – Татианинскому комитету, 1 млн – санитарному складу императрицы Александры Федоровны, остальное раздали иным благотворительным учреждениям.

Купон лотерейного билета, почтовые марки с «благотворительной копейкой сверх цены», билет на концерт в Благородном собрании. Из коллекции Игоря Ерополова
Частные пожертвования были от скромных до гигантских. Например, от жителей Ярославля в помощь раненым поступили взносы: 1 руб. 40 коп. «от мальчика Бори Буйновского», 3 руб. «от Зины, Мари и Оли вместо елки», 17 руб. 54 коп. «от служащих ярославских водокачки и боен».
Богатые люди отдавали свои дома и капиталы для устройства благотворительных заведений. Вдова серпуховского текстильного фабриканта Александра Коншина передала в Москве дачу в Петровском парке под лазарет-санаторий для воинов, дом на Большой Якиманке и капитал 1,2 млн руб. для устройства приюта для увечных на 200 человек с больницей на 100 человек. Владелец нефтяных промыслов в Баку и директор страхового общества «Якорь» Леван Зубалов в декабре 1914 года пожертвовал 450 тыс. руб. «на оборудование в Москве земского и городского лазаретов для раненых воинов» на 300 человек. Вятский миллионер-пароходовладелец Тихон Булычёв пожертвовал роскошный особняк и 200 тыс. руб. на устройство первого в России «Дома инвалидов и сирот великой войны». Наследники купца Орлова пожертвовали Костромскому земству капитал 150 тыс. руб., дом и 286 га земли в Солигаличском уезде для создания «приюта имени Василия Орлова для сирот воинов». Красногородский волостной старшина Николаев из Псковской губернии пожертвовал хутор и 12 га земли «для устройства земледельческого приюта для детей-сирот воинов увечных и павших в бою». На свои средства устроила столовую в Самаре семья депутата Государственной думы Михаила Челышева, ежедневно там бесплатно обедали 900 человек. Супруга Михаила Челышева приняла в семью на время войны пятерых мальчиков и девочку, оставшихся без родственников после ухода отцов на фронт.

Особняк купца Тихона Булычёва в Вятке, переоборудованный в 1915 году в «Дом инвалидов и сирот великой войны»
В годы войны благотворительность сыграла важнейшую роль в поддержании физических и нравственных сил народа. Из своих скудеющих семейных бюджетов люди жертвовали тем, кому было еще хуже.
Для дальнейшего чтения:
1. Известия Верховного совета по призрению семей лиц, призванных на войну, а также семей раненых и павших воинов. 1914–1917.
2. Известия Главного комитета Всероссийского земского союза помощи больным и раненым воинам. 1914–1917.
3. Госпитали, находящиеся в ведении Всероссийского союза городов за время с 1 января по 31 марта 1915 г. М., 1915.
4. Отчет по Высочайше разрешенной благотворительной лотерее 1914 года. Пг., 1917.
5. Гогель С.К. Верховный Совет и Комитет с отделениями по призрению семей лиц, призванных на войну, а также раненых и павших воинов // Призрение и благотворительность в России. 1914. № 6–7. С. 597–609.
6. Гэтрелл П. Беженцы в России в годы Первой мировой войны // Исторические записки. М., 2001. № 4 (122). С. 46–47.
7. Постернак А.В. Очерки по истории общин сестер милосердия. М., 2001.
8. Россия в годы Первой мировой войны: экономическое положение, социальные процессы, политический кризис. М., 2014.
Галина Ульянова
7.02.2015
https://www.rusfond.ru/encyclopedia/5508
/ 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru
|
Метки: первая мировая война красный крест |
Как выглядели дочери Николая II |
Как выглядели дочери Николая II
Почти как в сказке про "4 сыночка и лапочку дочку", только наоборот. У Николая и Аликс были 4 лапочки-дочки и 1 долгожданный сыночек. Как выглядели великие княжны Николаевны: Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия?
Николай и Александра поженились в 1894 году. Спустя чуть больше года родилась первая дочь Ольга, далее императрица исправно рожала по девочке раз в два года: Татьяна, Мария, Анастасия. Цесаревич Алексей родился лишь в 1904 году и был самым младшим ребенком.
На фото слева направо: Мария, Татьяна, Анастасия, Ольга
На первый взгляд, да еще учитывая качество фотографий, девушки не кажутся красавицами. Их внешность действительно не была выдающейся. Да и их родители тоже имели вполне обыкновенные черты. Но все же было в лицах княжон что-то аристократическое: мимика, манера общения, манера держаться.
Слева направо: Ольга, Татьяна, Анастасия, Мария. В центре мать - императрица Александра Федоровна
_________________________________
Ольга Николаевна родилась в 1895 году. Она была настоящей принцессой: с сильным характером, добра и сострадательна, образована и умна, честна и прямолинейна. Родись она мужчиной, возможно, была бы любима народом и весь кризис закончился бы смещением одного царя и воцарением другого (как в случае с убийством Павла I, например).
Это фото сделано в Ливадии (Крым) в 1914 году, Ольге 19 лет. Как видно, Ольга даже красива - светлые волосы, голубые глаза, прямой нос, черты лица почти что классические. Добавьте сюда ее ум и очарование - становится понятно, почему Николай втайне думал о том, чтобы передать корону именно старшей дочери. Император советовался с дочкой по многим государственным вопросам, зная, что ее суждение будет обдуманным и актуальным.
Великая княжна Ольга Николаевна, 19 лет
_____________________
С рождением Татьяны Николаевны в 1897 году у Николая и Аликс стало как в "Евгении Онегине" - Ольга и Татьяна. Императорская чета любила это произведение и с удовольствием дали дочерям эти имена. Девчоки назывались "большая пара" и всё делали вместе: жили в одной комнате, вместе воспитывались и обучались. Прекрасно дополняли друг друга, будучи во многом противоположностями. Ольга была упряма и сильна, любила учение и не любила хозяйство и тихие домашние увлечения. Татьяна же не обладала сильным характером, она была ближе всех к матери, любила вышивание, рисование и прочие женские занятия.
Татьяну описывали как аристократично бледную девушку, с красивым классическим профилем. Глаза широко расставлены, это придавало ее образу определенный шарм. Татьяна редко смеялась и бывала в основном серьезна.
Великая княжна Татьяна Николаевна Романова
_____________________________
Мария Николаевна родилась в 1899 году. Это была веселая, улыбчивая, подвижная девочка. Она была близка с сестрой Анастасией, тоже активной и бойкой. Мария и Анастасия были "маленькой парой". Со временем Мария выросла в спокойную и даже медлительную девушку.
Мария была самой красивой среди сестер. Высокая, статная, с русыми волосами, большими синими глазами, брови вразлет, длинные ресницы. Ее называли настоящей русской красавицей, к внешности добавлялась размеренность движений.
Великая княжна Мария Николаевна Романова
Мария была проста в общении, отлично ладила с обычными людьми, всегда была внимательна. В семье ее прозвали "Машка", это было что-то вроде ласкового прозвища, отражавшего простоту нрава княжны.
_____________________
Анастасия Николаевна родилась в 1901 году. Увы, ее имя стало популярным из-за трагической гибели княжны. Несколько лет ходили слухи, что Анастасия спаслась от расстрела.
Ее рождение с одной стороны было естественной радостью родителей, увидевших здоровое дитя после 9 месяцев переживаний, с другой - разочарованием. Все ждали сына, а тут четвертая дочь.
Анастасия была активной, энергичной, миловидной девочкой. Неутомимой по части выдумок и проказ. Она не обладала сколько либо выдающейся внешностью. Была невысокого роста и приятной, но обычной наружности. Отчасти поэтому многие самозванки не боялись выдавать себя за княжну.
Особенности фигуры унаследовала от матери - умеренно плотное телосложение, тонкая талия, немаленькая грудь и широкие бедра. Анастасия не была полной, возможно могла располнеть после рождения детей. Но из-за невысокого роста казалась плотнее, чем есть.
Великая княжна Анастасия Николаевна Романова
Девушки были очень молоды, когда их жизнь трагически прервалась. Ольге 23, Татьяне 21, Марии 19, Анастасии 17. Ни одна из них не успела выйти замуж.
Если материал вам понравился, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди много интересного ;)
https://zen.yandex.ru/media/id/5aeadec6a815f19a06c...ia-ii-5c37808fea2b1100ab4600ab
|
Метки: романовы |
Милосердие и благотворительность |
Милосердие и благотворительность
Статьи/ Милосердие и благотворительность/ Благотворительность Царской семьи в годы Первой мировой войны
Благотворительность Царской семьи в годы Первой мировой войны
Лазарет во дворце
19 июля 1914 г. Германия объявила войну России. Началась Первая мировая война. Людские потери России составили более 10 млн. чел. В такое исключительно трудное, трагическое для страны время благотворительная помощь пострадавшим от войны выступила на первый план.
Неоценимый вклад в дело развития благотворительности внесли император Николай II и члены его августейшей семьи. Так, под покровительством императрицы местному отделению Красного Креста удалось уже 10 августа 1914 г. организовать два лазарета, а впоследствии их число было увеличено до семидесяти. В то же время оборудовались санитарные поезда для перевозки раненых с мест военных действий. 13 ноября 1914 г. в Царском Селе был освящен военно-санитарный поезд № 143, которому было присвоено имя императрицы. Под покровительством Александры Федоровны было создано 4 поезда-склада для снабжения армии медицинским снаряжением.

Санитарный эшелон вывозит раненых с фронта
В Екатерининском и многих других дворцах открываются склады ее императорского величества, обеспечивающие армию бельем и перевязочными средствами. Даже в здании Зимнего дворца октябре 1915 года был открыт лазарет на 1000 раненых, названный в честь наследника престола цесаревича Алексея Николаевича. В беломраморном Колонном зале была оборудована огромная современная операционная, знаменитый Петровский зал отдали для послеоперационных больных, в других залах разместили палаты для раненых. При этом почти все художественные ценности — картины, скульптуры — оставались на своих местах. Семья императора Николая II отдала под военные лазареты не только свой главный дом на Дворцовой площади, но и почти все загородные дворцы и резиденции по всей Российской империи.

Лазарет наследника цесаревича Алексея Николаевича в Зимнем дворце
Августейшие сестры милосердия
Беспрецедентным поступком в русской истории стало решение императрицы Александры Федоровны работать вместе со старшими дочерьми Ольгой и Татьяной сестрами милосердия в лазарете. Для того чтобы помощь раненым была профессиональной, царица с дочерьми прошли специальный курс
обучения у выдающегося хирурга — княгини В. И. Гедройц, — занимаясь по два часа в день и ежедневно практикуясь в лазарете. Учились они «как все», не подчеркивая своего особого положения в обществе, сдавали общие для всех экзамены и многие отмечали вдумчивость и старательность, с которыми царские особы отнеслись к выбранному делу. После окончания обучения они стали хирургическими сестрами.

Императрица Александра Федоровна подает инструменты во время операции
В Царскосельском Дворцовом лазарете августейшие особы без каких-либо привилегий выполняли сестринские функции согласно полученной квалификации. Императрица распорядилась, чтобы Ольга и Татьяна Николаевны поступили в отделение для низших чинов, приучая их к мысли о служении своему народу, а сама работала в отделении для офицеров.
«Стоя за хирургом, государыня, как каждая операционная сестра, подавала... инструменты, вату, бинты, уносила ампутированные ноги и руки, перевязывала раны, не гнушаясь ничем и стойко вынося запахи и ужасные картины военного госпиталя во время войны», — вспоминала фрейлина и лучшая подруга императрицы А. А. Вырубова.
Взгляды императрицы на благотворительную и милосердную деятельность всецело разделяли ее старшие дочери. Великая княжна Татьяна Николаевна оказалась весьма способной хирургической сестрой. Великая княжна Ольга, более слабая здоровьем и нервами, предпочла работать в палатах, убирая за ранеными. Княжны занимались также чисткой и стерилизацией медицинских инструментов, перевязками, подготавливали белье и бинты.
Участие младших дочерей
Младшие дочери Царя Великие Княжны Мария и Анастасия Николаевны тоже принимали посильное участие в милосердной и благотворительной работе. Они посещали раненых солдат, шили белье, готовили бинты для отправки в лазареты. При этом очень сокрушались, что, будучи слишком юными, не могли стать настоящими сестрами милосердия. Младшие великие княжны занимались и сбором пожертвований.
Перед началом каждого рабочего дня августейшие сестры милосердия заходили в церковь для благословения у древней иконы Божией Матери «Знамение», по воскресным дням молились в недавно построенном Федоровском соборе. Для раненых воинов, которые не могли передвигаться, государыня императрица на свои средства сооружает походную церковь, которую перевозят по госпиталям.
Хотелось бы особо отметить, что за время войны Царица ни себе, ни дочерям не сшила ни одного нового платья, кроме платья сестры милосердия.
***
Сам император Николай II, являясь Главнокомандующим русской армии, помимо руководства военными действиями успевал посещать перевязочные пункты, военные госпитали, тыловые заводы. Достаточно упомянуть, что император Николай II, ни минуты не колеблясь, пожертвовал вовремя войны личные 200 млн. рублей, хранившиеся в Лондонском банке, на нужды раненых, увечных и их семей.

Император Николай II с сестрой, великой княжной Ольгой Александровной, посещают раненных солдат. 1916 г.
Царская семья стала образцом высокой нравственности и благочестия в служении русскому народу. Дела благотворительности сыграли большую роль в причислении Николая II и его августейшей семьи Русской Православной Церковью к лику святых.
Евгений Козырев
Полный вариант статьи можно прочитать в журнале «Церковь и медицина» №1 (13) январь 2015 г.
http://dommil.com/articles/miloserdie_i_blagotvoritelnost/348/
|
Метки: первая мировая война романовы красный крест |
Настроения в госпиталях. Первая мировая. |
В записях сестры милосердия Л.Д. Духовской заметно отличие в восприятии войны солдатами, которые были призваны на службу по мобилизации, и кадровыми солдатами.
В рассказе Василия Дятлова, 114-го Новоторжского пехотного полка, есть такая ремарка о мобилизации: "солдаты танцуют, а запасные очень смутными (невеселы) сидят".
В воспоминаниях мобилизованных война рисуется как "великое путешествие" или "большой поход", предпринимаемый для того, чтобы "одержать победу над врагом", а идут солдаты "куда Бог пошлет".

В рассказе ефрейтора 3-го Донского пехотного полка Прокофия Коннова даже разъяснительная речь прибывшего в полк начальника дивизии передана достаточно туманно: "Братцы, проклятый немец объявил нам войну, и думает забрать всю нашу Россию, но братцы, постоим и будем биться до последней капли крови. Немцу не дадим ничего.
Ну, братцы, постараемся так, как и ваши братья стараются! Ну, братцы, желаю вам всем получить георгиевские кресты и быть офицерами!".
Стоит добавить, что мотив сражаться так же, как и остальные русские солдаты, был чреват обратным эффектом: судя по рассказам раненых, на фронте ходило много слухов о бегстве с поля боя, о коллективной панике или ошибочном обстреле своих, - что, естественно, дезориентировало солдат.

Между тем, судя по воспоминаниям старших унтер-офицеров, в их среде восприятие событий было более рационализированным. Так, один из них передает, что солдаты на марше активно обсуждали между собой объявление Австрией войны Сербии и необходимость пойти ей на помощь.
Один из запасных даже утверждал, что о приготовлениях к войне ему давно было известно. "Нам еще заранее, в 13-м году, было объяснено во время повторной нашей службы, что должна быть война с Германией, так что мы были приготовлены к этому. Когда нам объявили мобилизацию, мы уже не сумневались об войне", - рассказывал рядовой 9-го Ингерманландского полка Александр Елисеев.
Крестьянский прагматизм переиначивал цели войны на свой лад. По словам Алексея Семенова, рядового 63-го Гунибского полка, "мужики мало политикой занимаются, да и пользы от этого мало ожидают.
Солдат воюет и может быть героем, но до исторических задач ему дела нет, и он думает об доме и семействе, и с этим примиряется, как с неизбежностью, ждет, как бы скорее мир бы был, и ему дела нет - кому достается Македония".

Исключительно редкие политические высказывания находим только в письмах того же Алексея Семенова, отправленных Л.Д. Духовской с Кавказского фронта.
В июле 1915 года он писал после отступления из Турции: "Русский солдат вынослив и покорен и идет во всякое место, хотя и не хочет. Я заметил, который больше развит, тот смелее и ничего не удивляется Германии.
Нам еще учитель требуется, тогда и политикой можно заниматься. Прошел слух, что Варшава взята и ни малейшего сожаления. Отчего это? Я - бурлак.
Я под влиянием не нахожусь и независим и войну терплю с неудовольствием. И все-таки бы во Франции или Англии, даже в Германии, пошел добровольцем. Хотя я тоже социальным духом заражен, - надо вперед быть гражданином, а потом уж и патриотом".
Видимо, такой политический дух зародился в Семенове под влиянием условий позиционной войны на Кавказе, где у солдат, по его собственному признанию, было много свободного времени, которое они проводили в скуке, жадно читая редкие экземпляры газет, время от времени до них доходившие.
Солдаты Восточного фронта такой роскоши свободного времени имели гораздо меньше, что было обусловлено маневренной войной. Да и артиллерийским обстрелам они подвергались чаще, что усиливало общий нервозный фон.

Восприятие мобилизации как праздника довольно типично для рассказов нижних чинов. Кадровый старший унтер-офицер 105-го Оренбургского полка Николай Голубев, эмоционально описывая события мобилизации, особенно экспрессивно рассказывал о впечатлении, которое, по его словам, произвела на мобилизованных музыка нового военного марша: "новый марш музыки никем не слыханной, как будто напоминающий смертный приговор идущего человека на лоно расправы, тронул сердце русского народа, и все жители, окружающие наш лагерь, потянулись на зов нового марша".

Примечателен случай сопротивления воинскому начальнику, который описан в рассказе старшего унтер-офицера 179-го Усть-Двинского пехотного полка Матвея Горшенина, бывшего запасным Сенгилейского уезда Симбирской губернии. В этом повествовании отчетливо проявляется опасливое отношение крестьян к городскому рабочему люду: "народ все фабричный, дерзкий очень", - говорил Горшенин.
Именно фабричные, по его словам, подстрекали запасных в Сызрани требовать обеспечения своих семейств, разагитировав "малограмотных" примкнуть к этим требованиям, а затем не только дерзко разговаривали с воинским начальником, но и сорвали с него погоны. Дело, правда, закончилось быстро, когда конвойная команда начала стрельбу по "бунтовавшим" и быстро их усмирила.
Приближение войны в описании некоторых рядовых из крестьян выглядит совершенно апокалиптически: "1914 года, июля 17-го дня, после обеденного отдыха, поехал я на своей маленькой, худенькой и дыховичлевой лошадке на поле пахать; день был хороший, погода была ясная, на небе не было ни облачка. Работа моя была успешна... Так я работал и песенки распевал; но мое сердце что-то чувствовало не особенно хорошее".

Переживание войны как фабрики смерти также нередко звучит в солдатских рассказах. "Все молодцы полка становились мрачными, как будто на сердце легло тяжелое бремя ... или как будто каждый приговорен к смерти и идет на место расправы", - вспоминал Николай Голубев. "Некоторые солдатики плакали, не хотели идти на штыки", - сообщал рядовой Елисеев.
Часто в солдатских рассказах встречаются слова о том, как страшно было на фронте первое время, так что поначалу не могли "опомниться от постоянного страха и шума".
Как последнюю битву описывает сражение Прокофий Коннов: "Тут и лошади кричат, тут и солдаты, тут все равно как на Страшном суде! Солнце покрывало пылью и дымом. Земля тряслась от выстрелов".
Личное переживание страха легко перекидывалось на остальных и превращалось в коллективную фобию. Описание беспорядочного отступления встречается в рассказах довольно часто. "У нас получилась такая паника, что мы бежали без оглядки", - признавался один из рядовых.
При этом поводом для волны страха могли послужить не только собственно боевые действия, но и вид тяжелораненых солдат или их рассказы о том, как страшно на фронте.

В одном из рассказов читаем: "Когда приехали в Брест-Литовск, то увидели целый эшелон раненых, нам показалось это очень страшным, так что здорово больные. Начали они нам рассказывать, что очень страшно на войне, снаряды летают, то и дело рвутся, боязно очень".
Продолжение этой истории демонстрирует один из способов того, как офицеры пытались бороться с этими массовыми солдатскими фобиями: "Вышел раненый офицер и говорит, что очень там хорошо, весело. "Не робейте!" - говорит, - "Я бы желал еще там побыть!".

Нередко в записях упоминается и о том, что солдаты веселятся, шутят, танцуют, играют на гармони. Иногда солдатское веселье противопоставляется окопным страхам.
Показательны в этом отношении слова Федора Клементьева, служившего в 177-м Изборском пехотном полку: "Время проводили не боясь, весело, потому что с утра до вчера свистели снаряды кругом".
Эти слова больше всего походят не на преодоление страха, а на один из способов уйти от реальности, о которых хорошо известно по описаниям военного опыта солдат Западного фронта.
Описание солдатских попоек, происходивших в тех редких случаях, когда солдатам удавалось найти спиртное в оставленных местными жителями деревнях, показывает действительную напряженность эмоционального переживания фронта.
"К вечеру сделались почти все до одного пьяными; кто на гармони играет, кто пляшет, кто кричит, кто рубашки на себе рвет, одним словом - как на Страшном Суде!", - вспоминал рядовой Кузьма Кинжалов.

Очень по-разному раненые солдаты выражали свое отношение к возвращению на фронт после выздоровления. Одни откровенно признавались, что ехать обратно на войну им не хочется, и они рады оставаться в Москве, "подальше от тех ужасов", в надежде на то, чтобы "поскорее вся эта история кончилась".
Другие сожалели: "и желал бы с большой охотой опять на войну, но еще раны не дозволяют. Трудно сказать, насколько искренне высказывались суждения второго типа, так как мы не можем рассчитывать на полную откровенность солдат в разговорах с сестрами милосердия. Многие из них просто не упоминали о перспективах на будущее.
Посттравматические переживания фронта проецировались на нервозное состояние раненых. Василий Дятлов признавался: "каждую ночь снится сон, что я на войне, и воспоминания эти для меня неприятны".
Видения, легенды, магические практики, слухи о явлениях и различного рода религиозные переживания, порожденные ужасом от пребывания под постоянным артиллерийским огнем и утомительным, длительным ожиданием атак в окопах, были неотъемлемой частью солдатского военного опыта.

Отношение к противнику проявлялось неодинаково. Пропаганда выставляла врагом немца и австрияка, а курсировавшие на фронте слухи о евреях, шпионивших на противника, превращали и последних во врагов.
Рассказы раненых показывают, как реальный военный опыт солдат сталкивался с этими пропагандистскими конструкциями. Так, среди австрийцев практически сразу и солдаты, и унтер-офицеры стали выделять русин. "И по наружности - он совсем русский человек", - рассказывал рядовой 71-го Белевского пехотного полка И.И. Волков о знакомстве с русином, - "Значит, мы вообразили все, что идем брат на брата".
Заметный антисемитизм в солдатских рассказах звучит естественно, без тени сомнения. Однако особо жесткие случаи расправы над евреями солдаты приписывали казакам.
Еврейские казачьи погромы "произошли на фоне лютой враждебности по отношению к евреям со стороны командования и офицерского корпуса русской армии, усиленной военными неудачами. ... Казаки осознавали, что евреи фактически находятся вне закона, и с ними можно обходиться по собственному усмотрению".

Поляки описываются иногда как чужаки, иногда как шпионы. В рассказе рядового Елисеева есть такой бесхитростный пассаж: "Расстреляли поляка, который дал выстрелом сигнал о месторасположении войск. Их еще оказалось восемь человек, в том числе и женщины. Всех вдребезги расстреляли".
Нередко солдаты в своих рассказах передавали слухи об отравлении отступавшими австрийскими и немецкими войсками колодцев и пищи в брошенных поселениях. Некоторые охотно подтверждали эти слухи.
Однако порой крепкий солдатский прагматизм брал верх над страхами, порожденными подобными слухами. В одном из рассказов солдаты так объясняли, почему они не побоялись взять еду из оставленного дома: "Немец потому убежал, что в этот дом попал снаряд, оторвало часть крыши", а вовсе не потому, что хотел приманить отправленной пищей русских солдат.
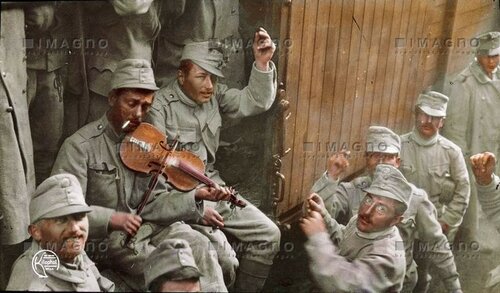
Записи Л.Д. Духовской показывают, как сильно отличался опыт русских солдат на австрийском и германском направлении, от военного опыта солдат Кавказского фронта.
По переживанию обыденности позиционной войны солдатский опыт на Кавказе больше походит на переживания классической окопной войны Западного фронта.
Довольно подробное описание этого опыта содержится в коллекции из 14 писем рядового Алексея Семенова, которые были отправлены им в Москву с декабря 1914 по январь 1916 гг. и переписаны Л.Д. Духовской в тетрадь с остальными солдатскими рассказами.
В этих письмах отчетливо видно пренебрежение, с которым относится солдат к пропаганде политических интересов России в войне. "Хорошего мало во всем этом, и народ не желает зла другим и себе тоже. Политикой хорошо заниматься за самоваром, с газетой в руках, в которой не все пишут», - весьма откровенно выразился он в одном из писем.
Недоверие к прессе проходит красной нитью в письмах 1915 года. Также откровенно и часто повторяет Семенов: "Живем надеждой на мир". Воспоминания раненых, записанные в госпитале, такого переживания не воспроизводят.
Вероятно, это было вызвано теми изменениями в восприятии войны, которые привносила в солдатскую жизнь госпитальная среда, на время микшировавшая острые ожидания мира, а также самоцензурой раненых солдат.

В рассказах раненых оказались слабо проявлены такие стороны фронтового опыта, как насилие, банализация смерти и трансформация гендерных ролей.
Очевидно, такое замалчивание было вызвано не только известной практикой табуирования подобных переживаний, но и субъективным стремлением раненых не транслировать этот опыт тем сестрам милосердия, которые выступали адресатами их воспоминаний.
Трансформация сознания неизбежно должна была последовать за изменением субъективной реальности солдат, которая происходила на фронте. "Думаю, что на свет будем смотреть уже другими глазами", - писал один из рядовых. Обилие переживаний, которые солдаты получали вместе с фронтовым опытом, стало горнилом, в котором ковался новый тип сознания, ставший впоследствии носителем иной культурной парадигмы.

Tags: Первая мировая
|
Метки: первая мировая война красный крест |
Белые халаты Первой мировой |
Белые халаты Первой мировой
История минского лазарета времен Первой мировой войны
Только в школьных учебниках историю каждой войны можно втиснуть в десяток страниц, дать пунктирной линией, ради четкой хронологии пожертвовав, казалось бы, второстепенным, несущественным. А для вдумчивого исследователя интересна сама по себе микроистория — пусть даже камешек в восстанавливаемой по крупицам гигантской батальной мозаике. Лазарет Серафима Саровского, открывшийся в Минске по улице Александровской сто лет назад, — тоже один из многих. Но какие удивительные люди в нем служили, какие неординарные судьбы пересеклись — хоть фильм снимай! Сценарий фактически готов. Священник Гордей Щеглов, основываясь на документах из архивов Москвы и Петербурга и собираемых им не один год фотографиях, посвятил Первому Серафимовскому лазарету целую книгу. Получился настоящий памятник «малому делу». Из таких дел, между прочим, и ткалась канва Первой мировой, которую до самого последнего времени называли «забытой войной» и историю которой мы все еще знаем много хуже, чем события Великой Отечественной.

Решение о создании лазарета родилось на волне патриотического подъема. А на имя Серафима Саровского выбор пал, потому что объявление Германией войны России совпало с днем его прославления. Содержать лазарет постановили на отчисления корпораций православных духовно–учебных заведений Российской империи, а разместить — в Минске, в здании духовной семинарии. На обустройство Святейший Синод отпустил немалую по тем временам сумму — 6.000 рублей. С перевязочным материалом и бельем очень помогли наряду со специально нанятыми работницами жены и дочери профессоров и других сотрудников Петроградской духовной академии. Первоначальный расчет был такой: в штате — 2 врача, 6 сестер милосердия, 10 братьев милосердия из числа студентов–добровольцев. 9 сентября лазарет имени преподобного Серафима Саровского отбыл из Петрограда с особым поездом в Минск. Его отряд провожали, как героев на фронт...

Сам Минск, надо сказать, с первых же дней войны сделался крупнейшим перевалочным пунктом для снабжения Северо–Западного фронта. Хоть в городе было уже немало лечебных заведений, еще один лазарет пришелся очень кстати. Развернули его сразу на 75 коек, причем при необходимости можно было расшириться вдвое. 17 сентября Серафимовский лазарет был торжественно открыт и освящен. А первую партию раненых он принял 2 октября...

Лазаретная жизнь потекла своим чередом: ежедневно два врачебных обхода, осмотры, операции, перевязки, для желающих помолиться — Божественная литургия. О питании надо сказать особо. Только представьте: помимо обеда из трех блюд и ужина из двух, в солдатском распорядке дня дважды значилась неприметная строчка «чай», который мало того что предлагался в неограниченном количестве, так еще с «довеском» — по 6 кусков сахара и французской булке каждому. Что уж говорить о рационе офицерском... А ведь поначалу кулинарить поставили простых кашеваров без всякого опыта. Помог случай. К лазарету приписали рядового Степана Жигадло, служившего до войны поваром у Холмского епископа. Когда с Жигадло знакомилось руководство — сначала онемело, потом смеялось до слез. Речь Степана лилась бурным потоком: он без остановки лучше всякой кулинарной книги описывал во всех тонкостях диковинные рецепты, которые так нравились владыке: сиг холодный, палтус в соусе по–польски, окунь по–голландски, по–французски, белуга... Таланты нового повара потом не раз помогали лазарету пройти строгие инспекции — никто не мог устоять перед его шипящими на сковородке пожарскими котлетами.
Официальной покровительницей лазарета стала великая княжна Татьяна, дочь Николая II. Император даже намеревался побывать в нем, когда 22 октября посещал Минск. До этого два дня в городе царила лихорадочная суета — в результате он буквально потонул в нарядном уборе из флагов, гирлянд, портретов августейшей семьи, городские власти даже успели соорудить специальные красивые арки. Усиленно готовился к встрече и Серафимовский лазарет, но, увы, — царь времени заглянуть туда не нашел, к крайнему, до слез, огорчению персонала и раненых.
Весной 1915–го фронт начал стремительно приближаться к границам тыловой Белоруссии. В начале лета хлынул поток беженцев, в августе их скопилось уже около 120 тысяч. 22–го числа Серафимовский лазарет получил приказ немедленно эвакуировать раненых, а потом сидел на чемоданах, наблюдая, как ровно в шесть утра и в шесть вечера появлялись в небе «стройные серебристые птицы» — немецкие аэропланы. Только 13 сентября был дан окончательный приказ на отбытие. С трудом пробираясь к вокзалу в броуновском движении повозок, серафимовцы с удивлением увидели одну с вывеской на борту «Серафимовский лазарет». Это была повозка Московского Серафимовского подвижного лазарета, прибывшего, наоборот, поближе к театру военных действий. Но выглядело анекдотично: один Серафимовский лазарет уступал место в городе другому... Путь лежал на станцию Бородино, в местный монастырь, в Минск персонал вернулся только 21 декабря 1915–го. Теперь лазарету пришлось потесниться — дали только верхний этаж семинарского корпуса, причем в ужасном состоянии: с оборванными электропроводами, вырванными с мясом из стен приборами, разбитыми окнами... Что ж, обустраивались заново. 1 марта начали прибывать первые больные и раненые. Казалось, лазарет обрел второе дыхание: в нем появился временно прикомандированный дантист, женщина–врач в качестве сестры милосердия, поставили, наконец, оборудование для рентгеновского кабинета. Но после Февральской революции 1917–го все как–то покатилось по наклонной. Одним из трагических аккордов стало самоубийство в офицерской палате военного чиновника Василия Гордеева, служившего в 34–м мортирном полку. Впоследствии Серафимовский лазарет переедет в Гжатск, не единожды сменит своего начальника, лишится финансирования, а потом его следы и вовсе затеряются... Чего не скажешь о трех самых ярких людях в его истории.
Бесы и ангелы отца Николая
 Начальником лазарета в его славные годы был иеромонах Николай, в то время единственный в России монах–врач. За его плечами были и Военно–медицинская, и духовная академии, опыт работы доктором на Николаевской железной дороге, ассистентом на акушерско–гинекологической кафедре. Как духовное лицо он, конечно, идеально подходил на новую должность. Большей частью отец Николай занимался административной работой, за собой оставил лишь две небольшие, но прекрасно оборудованные палаты как почетное отделение, куда попадали лишь те раненые, кого он сам выбирал.
Начальником лазарета в его славные годы был иеромонах Николай, в то время единственный в России монах–врач. За его плечами были и Военно–медицинская, и духовная академии, опыт работы доктором на Николаевской железной дороге, ассистентом на акушерско–гинекологической кафедре. Как духовное лицо он, конечно, идеально подходил на новую должность. Большей частью отец Николай занимался административной работой, за собой оставил лишь две небольшие, но прекрасно оборудованные палаты как почетное отделение, куда попадали лишь те раненые, кого он сам выбирал.
Вообще, отец Николай был натурой достаточно сложной, противоречивой, у Черниховского случился с ним не один конфликт, особенно острый, когда старший врач отказался помочь семье поэта с эвакуацией, но под нажимом все же уступил. В первый раз авторитет отца Николая дрогнул еще в октябре 1914–го, когда он отказал в исповеди умирающему солдату под тем предлогом, что хочет спать. Потом — не помог Черниховскому впрыснуть антистолбнячную сыворотку больному, сославшись на занятость, — и несчастный скончался...
Но за все свои промахи отец Николай расплатился сполна. Тернистым оказался его путь после Октябрьской революции. Поначалу он еще врачевал — при автоброневом отряде Петросовета, в Смольной больнице, в различных поликлиниках Петрограда. Известно, что он был в составе комиссии, которая вскрывала склепы императорской усыпальницы Петропавловского собора, чтобы обратить в пользу голодающих царские драгоценности... А потом — череда арестов, лагеря, где он окончательно подорвал здоровье. Но отец Николай не унывал, современникам он запомнился человеком общительным, большим оптимистом. Боролся за других — скажем, помогал заключенным перейти на более облегченный режим или вовсе сократить срок, за себя — раз за разом подавая жалобы на имя генерального прокурора и Маленкова о пересмотре своих дел. И в конце концов был реабилитирован. Скончался отец Николай в 1961 году, на похороны в Углич съехалось духовенство чуть ли не со всего Нечерноземья.
Саул Черниховский: когда музы молчали
Этот врач Серафимовского лазарета — в литературных кругах фигура легендарная: вошел в историю как талантливейший переводчик и поэт, писавший на иврите. Даже «Минская газета–копейка» отдельно сообщала, что при лазарете врачом состоит «известный поэт С.Черниховский». Саул сызмальства блистал: с пяти читал по–русски, с семи — на иврите, с десяти изучал Пятикнижие с домашним учителем. Впоследствии освоил еще английский, немецкий, французский, итальянский, греческий и латынь, потому с классикой знакомился в подлинниках. Медицинскую науку постигал в Европе, в Лозанне получил звание доктора медицины, спустя шесть лет удостоился и в Киеве «степени лекаря со всеми правами и преимуществами». Стажировался в петербургском Еленинском клиническом институте, вел частный прием... О его похвальной профессиональной въедливости свидетельствует недолгий опыт работы в медицинской комиссии на одном из петербургских мобилизационных пунктов. Призванный туда на работу Черниховский коллегам сразу объяснил, что не имеет никакого представления о «Расписании болезней и телесных недостатков» — проще говоря, кто годен для войны, кто нет, а потому взвалил на себя чисто бумажную работу. Но однажды в кабинет зашел на первый взгляд крепкий, здоровый мужчина, только слепой на левый глаз. «Годен!» — дружно решили военврачи. Черниховский сильно засомневался, по дороге зашел в магазин, купил за 10 копеек пресловутое «Расписание». Изучил и выяснил, что человек с одним глазом не должен служить. На следующий день без лишних разглагольствований показал «опытным товарищам» соответствующее место в документе. Сколь же велики были их смущение и досада! Зато Черниховский перед словом «годен» с чистой совестью вставил «не». Без пяти минут мобилизованный ушел совершенно счастливый...
 «Ведь почему я люблю простого солдата? — рассуждал Саул Гитманович. — Он просто больной и позволяет мне быть просто врачом. Я делаю то, что обязан согласно долгу и медицинским знаниям. Являюсь над ним властью. И прекрасно то, что поступающий сюда понимает: прежде всего он солдат и только потом раненый. Больной вообще — подлец и делает из врача мошенника: будь кудесником, знатоком, шарлатаном — лишь бы я поправился... Поэтому я люблю военный лазарет: здесь у меня нет нужды в каком–либо притворстве». С какими только людьми не сталкивала его судьба в Минске — с простодушными солдатами, заносчивыми офицерами, с хитрецами, всеми силами пытавшимися увильнуть от передовой... Одна встреча особенно глубоко запала в память. Как–то в лазарет поступили трое солдат и офицер. Все — с ранениями глаз. Причем самая трагическая ситуация была у офицера — пуля прошла оба глаза, он навсегда потерял зрение. Подвернулась оказия — и Черниховский отправил всех четверых в специальный глазной госпиталь. Придет время — и Саул Гитманович еще раз столкнется с этим слепым офицером, совершенно случайно. Тот подойдет к нему в больших черных очках, опираясь на руку солдата. И будет смотреть на жизнь философски: «Если бы ранили в голову, было бы еще хуже» А потом признается, что... заново научился читать. С помощью азбуки для слепых. «Во второй раз прочел «Муму» и только сейчас получил удовольствие от произведения», — при этих словах сердце доктора–поэта сжалось...
«Ведь почему я люблю простого солдата? — рассуждал Саул Гитманович. — Он просто больной и позволяет мне быть просто врачом. Я делаю то, что обязан согласно долгу и медицинским знаниям. Являюсь над ним властью. И прекрасно то, что поступающий сюда понимает: прежде всего он солдат и только потом раненый. Больной вообще — подлец и делает из врача мошенника: будь кудесником, знатоком, шарлатаном — лишь бы я поправился... Поэтому я люблю военный лазарет: здесь у меня нет нужды в каком–либо притворстве». С какими только людьми не сталкивала его судьба в Минске — с простодушными солдатами, заносчивыми офицерами, с хитрецами, всеми силами пытавшимися увильнуть от передовой... Одна встреча особенно глубоко запала в память. Как–то в лазарет поступили трое солдат и офицер. Все — с ранениями глаз. Причем самая трагическая ситуация была у офицера — пуля прошла оба глаза, он навсегда потерял зрение. Подвернулась оказия — и Черниховский отправил всех четверых в специальный глазной госпиталь. Придет время — и Саул Гитманович еще раз столкнется с этим слепым офицером, совершенно случайно. Тот подойдет к нему в больших черных очках, опираясь на руку солдата. И будет смотреть на жизнь философски: «Если бы ранили в голову, было бы еще хуже» А потом признается, что... заново научился читать. С помощью азбуки для слепых. «Во второй раз прочел «Муму» и только сейчас получил удовольствие от произведения», — при этих словах сердце доктора–поэта сжалось...
«Среди оружия музы молчат» — этот афоризм стал для Черниховского пророческим. В те годы у него не было времени ни на что — ни для творчества, ни даже для образования горячо любимой дочки. В Серафимовском лазарете на поэта пришелся основной фронт работы, и под конец, к осени 1916–го, он уже чувствовал крайнее утомление. Дальше судьба его складывалась витиевато: Петроград, Симферополь, Одесса, Стамбул, Берлин, Швеция и только потом Палестина, о которой мечтал. Бедствовал, зарабатывал на жизнь врачебной практикой среди эмигрантов. Но именно Черниховский 28 сентября 1941 года обратился по радио к евреям СССР в поддержку их борьбы против фашизма. Только на исходе жизни его творчество оценили по достоинству. В честь живого классика муниципалитет Тель–Авива учредил даже премию за переводы, Черниховский же первым ее и получил. Он не дождался победы над Гитлером — умер в 1943 году. В Израиле его имя увековечено в названиях многих улиц, а облик — на национальных денежных купюрах...
Федор Морозов и два его призвания
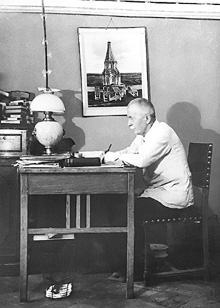 Морозов — самая незаурядная личность среди братьев милосердия Первого Серафимовского. Ему непросто было пробиться в жизни. Сын простой крестьянки, он рано осиротел и одиночество привело его в Александро–Невскую лавру послушником. Там было непросто — «всюду насмешки», писал Федор, пока смышленого юношу не приметил петербургский митрополит Антоний, сделав иподиаконом. В итоге Морозов смог получить археологическое образование, побывать за границей, познакомиться со многими выдающимися деятелями науки и искусства. Когда началась война, послушник Федор увидел свое призвание в деятельной помощи истекающему кровью ближнему своему и сменил подрясник на гимнастерку и халат санитара.
Морозов — самая незаурядная личность среди братьев милосердия Первого Серафимовского. Ему непросто было пробиться в жизни. Сын простой крестьянки, он рано осиротел и одиночество привело его в Александро–Невскую лавру послушником. Там было непросто — «всюду насмешки», писал Федор, пока смышленого юношу не приметил петербургский митрополит Антоний, сделав иподиаконом. В итоге Морозов смог получить археологическое образование, побывать за границей, познакомиться со многими выдающимися деятелями науки и искусства. Когда началась война, послушник Федор увидел свое призвание в деятельной помощи истекающему кровью ближнему своему и сменил подрясник на гимнастерку и халат санитара.
Чего не выносил Морозов — так это канцелярской работы, которой в лазарете хватало, — шагу не ступить без заполнения всяких бумаг и справок. Нет, он избрал для себя другую планиду — занялся небольшой библиотекой: выдавал книги своим подопечным, читал вслух, регулярно делал сообщения о положении в стране и на фронтах. Но еще с большим рвением работал в перевязочной, где в свободное время взялся... обрабатывать ноги пациентам. «Не было ничего более уродливого, чем эти ступни, — вспоминал Черниховский, — по виду и по запаху». С солдатских ног, натруженных, сбитых, часто давно немытых, исходивших сотни километров, грязь при поступлении, конечно, смывали, но картина была еще та: распухшие, желтовато–бледные, с болезненными натоптышами, мозолями. Вот брат Федор и занялся «педикюром» — сидел и скоблил, скоблил, скоблил. И нож нашел себе подходящий, в помощь Черниховский придумал специальную мазь...
В 1915 году Морозов покинул Минск и отправился в составе Второго Серафимовского лазарета на Кавказский фронт. Восторженный идеалист, он надеялся поработать санитаром в военных условиях, но пришлось почти все время стоять в тылу. Тогда Морозов вновь занялся археологией и за какие–нибудь полгода нафотографировал коллекцию — более 800 снимков церковных древностей. Целый музей! Время было лихое, один невероятный эпизод в его жизни сменялся другим. Дважды чуть не погиб. Первый раз — когда героически эвакуировал с территории, занятой турками, два эшелона с русскими ранеными, потом — в Тбилиси, когда националисты–меньшевики объявили его агентом большевиков и приговорили к смертной казни. Спасло только вмешательство Красного Креста. Во время гражданской войны Морозов сражался и на стороне белых, и на стороне красных. С Первой конной освобождал Киев, создавал передовые санитарные отряды. В Киеве он потом внесет исключительный вклад в спасение ценнейших памятников искусства и старины, организовав на территории Киево–Печерской лавры музей культов и быта и тем самым сохранив саму лавру. А потом были Русский музей и Эрмитаж, которому Морозов отдал почти 30 лет жизни...
Среди сотрудников Серафимовского лазарета служили и капитан Сергей Васильев, родной дядя известного писателя–мариниста Виктора Конецкого, и будущий митрополит Гурий, и десятки других самоотверженных людей, о чьей судьбе, увы, пока ничего не известно, — в смутное, тяжкое время выпало им жить. Но сто лет назад они так же, как и мы, верили в свою звезду, надеялись на лучшее...
Автор выражает искреннюю благодарность отцу Гордею Щеглову за предоставленные материалы.
Советская Белоруссия №155 (24536). Суббота, 16 Августа 2014.https://www.sb.by/articles/belye-khalaty-pervoy-mirovoy.htm
|
Метки: первая мировая война красный крест лазареты |
Царское Село в I мировую войну |

|
 |
||||||||||||
 |
|||||||||||||
|
Метки: первая мировая война романовы красный крест сёстры милосердия |
Лазареты |
Повседневная жизнь Москвы. Очерки городского быта в период Первой мировой войныРуга Владимир
Лазареты
Лазареты
Прав, кто воюет, кто ест и пьет,
Бравый, послушный, немой.
Прав, кто оправился, вышел и пал,
Под терновой проволокой сильно дыша,
А после – в госпиталь светлый попал,
В толстые руки врача.
Б. Ю. Поплавский
Русские войска еще только собирались вторгнуться в Восточную Пруссию и вступить в сражение с немцами, а Москва уже начала готовиться к приему раненых. В конце июля 1914 года в помощь существующим военным госпиталям по инициативе общественных организаций началось создание частных лазаретов. К шестому августа их насчитывалось уже несколько десятков с общим количеством 1220 мест.
Москвичка Р. М. Хин-Гольдовская в августе 1914 года записала в дневнике:
«В смысле помощи раненым общество ведет себя изумительно. Все дают без конца. Составляются маленькие группы, чтобы устроить хоть какой-нибудь лазарет. (И мы с Над[енькой] и Эвой вошли в такую группу – и в первое же заседание членские взносы определились 850 р. в месяц)».
В другом дневнике – княгини Е. Н. Сайн-Витгенштейн – в те же дни появилась запись, отражавшая настроения московской аристократии:
«Мне кажется, я скоро добьюсь своего: работать.
Все эти последние дни мы были без дела и мучились этим. Зная, что наши братья “там”, посылая их на все трудности и опасности похода, мы должны что-нибудь делать, должны работать, чтобы заглушить страхи и беспокойства. Мы не можем ничего не делать, это общий крик среди всех наших знакомых. Кажется, все наши знакомые и друзья сейчас работают целыми днями: Таня Лопухина все дни проводит в своем коннозаводстве, где она одна из главных заправительниц склада; Женя, Ольга Стаховичи, Соня и Марина Гагарины, Ольга Матвеева слушают медицинские курсы и от 7 до 3 часов работают в госпиталях; Наташа Бобринская и Соня Новосильцева уехали с санитарным поездом на австрийский театр военных действий. Все молодые люди ушли как добровольцы, кто санитаром»[16].
Миллионер Д. П. Рябушинский распорядился развернуть госпиталь на 250 коек в принадлежавшем ему аэродинамическом институте в Кучине. В доме хорвата М. И. Гаранига на Петербургском шоссе и в здании Купеческого собрания на Малой Дмитровке были готовы принять по сто раненых. Свой особняк на той же улице Н. М. Миронов передал под лазарет на пятьдесят мест.
Открылось много небольших госпиталей, на 15–20 коек. Один из них, разместившийся в Милютинском переулке, был создан вскладчину – на средства сразу нескольких польских общественных организаций: «Благотворительного общества вспомоществования бедным римско-католического вероисповедания в Москве», «Союза польских женщин», «Дома польского», общества любителей хоровой музыки и пения «Лютня», «Польского гимнастического общества».

ПРИМЕТЫ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
В пользу раненых. Благотворительная продажа флажков России и союзных государств
На Арбате священник Н. А. Ромашков устроил лазарет на две койки.
Унтер-офицер Д. П. Оськин, попавший на лечение в один из небольших госпиталей, в своих «Записках солдата» описал его так:
«Лазарет, рассчитанный на восемь человек, содержался церковно-приходской общиной Знаменского района. Занимал он всего одну квартиру из семи комнат. Три из них были заняты кроватями для раненых, в четвертой жила фельдшерица Нина Алексеевна Марьева, а остальные были отведены под перевязочную, общую столовую и аптеку. (…) Жизнь в нашем лазарете была построена по-семейному. Мы все быстро познакомились друг с другом, часто вспоминали подробности различных боевых эпизодов, не задумываясь ни над характером войны, ни над тем, что предстоит нам в будущем».
Первый санитарный транспорт Москва встретила восьмого августа. Правда, торжественность момента немного испортило то обстоятельство, что среди прибывших воинов большинство были просто больны, и только четверо среди них – трое солдат и один офицер – получили настоящие боевые ранения на полях сражений.
Однако уже на следующий день москвичи увидели реальное лицо войны: к маленькой платформе станции Окружной железной дороги, откуда обычно отправляли поезда с арестантами, прибыл целый санитарный эшелон. По словам очевидца, паровозом с флагом “Красного Креста” у трубы была подтянута к дебаркадеру «длинная, кажущаяся бесконечной, цепь товарных вагонов».
«Кажется, весь Бутырский район собрался, – описывал встречу раненых репортер газеты „Утро России“. – Преобладают рабочие, их жены и матери. Серьезные, сосредоточенные лица, у женщин на глазах слезы.
С трудом пробираясь в толпе, подъезжают автомобили членов московского автомобильного общества, взявшего на себя перевозку раненых в госпитали, стройными рядами проходят санитары и студенты с повязками Красного Креста на руках – специальный студенческий санитарный отряд.
Платформа покрывается носилками. Возле них хлопочут сестры милосердия, приспосабливая подушки на носилках, предназначенных для тяжелораненых.
Двери вагонов открываются; собравшиеся на платформе представители города, заведующие эвакуацией раненых, приветливо здороваются с солдатами».
Стоит отметить, что первые санитарные эшелоны встречали по-настоящему представительные депутации во главе с членом Государственной думы М. В. Челноковым (с сентября 1914 года московский городской голова) и князем Н. С. Щербатовым, председателем Московского автомобильного общества Красного Креста. В сопровождении главноначальствующего над Москвой генерала А. А. Адрианова на Александровский[17] вокзал приезжала великая княгиня Елизавета Федоровна.
«Один за другим отъезжают от платформы автомобили, увозя раненых, – завершал рассказ корреспондент. – Тяжелораненых относят к остановке трамвая, в санитарные трамвайные вагоны. Толпа в благоговейном молчании обнажает головы.
Выносят раненого офицера. Приподнялся на локте, улыбается публике, но – видно ясно – нелегко дается ему эта улыбка…
Легко раненные солдаты поднимаются к автомобилям сами. По пути их встречает кн[ягиня] Щербатова, оделяет папиросами. Из публики раненым раздают конфеты, фрукты, папиросы, цветы…»
По сообщениям газет, громадная толпа москвичей встречала раненых на Александровском вокзале. Журналисты наперебой стремились передать мельчайшие детали пока что нового для Москвы явления, вроде сильного резкого запаха йодоформа при приближении санитарного поезда.

Прибытие санитарного поезда к распределительному госпиталю
Или привезенные ранеными трофеи: немецкие походные сумочки с алюминиевыми стаканами и ложками, фляжки «такие же, как у русских, но несколько меньшие по размеру», офицерские каски с германским или австрийским орлом, оружие. Вид вражеского военного имущества в руках нового владельца вызывал в публике однозначную реакцию – громогласные крики «ура».
Не осталось незамеченным и некоторое нарушение служебного долга железнодорожными жандармами. Вот зарисовка с натуры, сделанная репортером «Утра России» при встрече поезда с ранеными офицерами:
«– Куда? Не приказано пускать. – И рослый, бравый жандарм с рыжими усами загораживает дорогу к заветной платформе. (…)

Разгрузка санитарного поезда у распределительного госпиталя
К жандарму подходит бледная, измученная, с черными кругами под глазами, изящно одетая дама.
– Пропустите, пожалуйста, я… мне нужно… у меня муж на границе…
– Нельзя… – начинает жандарм, но потом вдруг поворачивается спиной и смотрит в другую сторону. Дама проскальзывает на платформу. Жандарм улыбается.
И много таких, ждущих с замиранием сердца:
– А может быть, и его привезли с этим поездом?»
Кто-то находил возможность «договориться» со стражем порядка, кто-то находил обходные пути, но в результате каждый раз на платформе было тесно от встречающих. Преобладали дамы с букетами роз или лилий и военные. Те, кому не удавалось пробраться на перрон, теснились в проходе к залам первого и второго классов.
Томительное, до глубокой ночи ожидание в конце концов вознаграждалось приходом поезда.
«Легко раненные офицеры вышли сами, – описывал корреспондент. – Появление первого из них, всего обмотанного повязками, вызывает в публике движение.
Дико вскрикивает какая-то дама, падает и бьется в истерике… Тяжелораненых приносят на носилках. Несмотря на раны, на испытанные лишения, вид у всех бодрый, веселый.
Оживленно рассказывают о том, как дрались, как гнали австрийцев. Публика слушает с замиранием сердца. Слышатся вопросы:
– Где такой-то?.. Встречались? Видели?
– Видел – жив, здоров…
– Такой-то?
– Не знаю, не видал…
– Нет, нет – вы знаете, вы должны знать… Неужели убит?.. Скажите, я не мать… я чужая…
Пожилая дама несказанно волнуется. Раненый офицер убеждает ее.
– Я сказал бы вам… Я не стал бы скрывать.
В ожидании отправки офицеров размещают в зале первого класса. И здесь их окружает толпа. Вопросы сыпятся один за другим».
После таких встреч кто-то из москвичей отправлялся домой, обнадеженный добрыми вестями от близких, но для кого-то слова раненых были первыми, до получения официального извещения, сообщениями о тяжелой утрате. Об одном из таких случаев – тягостном разговоре по телефону – рассказал московский журналист М. П. Кадиш:
«Говорила мать. Сын ее на войне.
– Мой Сережа… вы знаете… Я была на вокзале, встречала раненых. Там были из его полка… Спрашивала…
И опять:
– У нас, кажется, большое горе. Боюсь думать, не хочу верить…»

Студенты помогают раненым на Александровском вокзале
В громадной толпе, заполнявшей площадь у Александровского вокзала и тротуары Тверской улицы, царило иное настроение. Раненых встречали восторженными овациями, бросали в носилки цветы. В газетах утверждалось, что не только любопытство гонит москвичей каждый вечер взглянуть на раненых – «в этой толпе бьется народное сердце великой жалостью и вместе с тем великой гордостью». А в качестве примера фигурировала старушка в платочке, которая пробивалась к санитарному трамваю, зажав в руке два калача: «– На, родимый, ешь на здоровье, – сует она калачи в вагон.
Студент-санитар берет калачи и передает раненым.
Нельзя не взять. Смертельно обидишь старушку».
Но если бы только калачами ограничивался энтузиазм москвичей. На совместном совещании Городской управы и Комиссии по мероприятиям в связи с войной было отмечено, что на носилки раненым из толпы кидали пакеты с лакомствами, яблоки и даже арбузы! Попадая по ранам, такие «подарки» приносили раненым новые страдания. Некоторые врачи утверждали, что и восторженные крики толпы на Тверской имели на тяжелораненых вредное воздействие. В итоге было решено обратиться через печать к москвичам с просьбой умерить пыл.
Кроме того, сотрудники лазаретов со страниц газет доводили до сведения публики, что раненые нуждаются в вещах более простых, чем печенье или конфеты из дорогих кондитерских. В госпиталях остро не хватало постельного и носильного белья, посуды. Из-за отсутствия ванн пациентов приходилось мыть прямо на полу возле кроватей. Табак, папиросная бумага, кисеты, чай, сахар порадовали бы солдат больше фруктов и букетов цветов.
В огромном количестве требовалась раненым форменная одежда, поскольку их гимнастерки и брюки, иссеченные осколками или разрезанные санитарами для скорейшего доступа к ранам, представляли собой никуда не годные лохмотья. Не так уж редки были случаи, когда в Москву привозили раненых русских солдат, прикрывавших наготу трофейными мундирами вражеских армий.
Снабжать раненых новой формой взял на себя обязанность кружок дам из высшего общества, организованный княгиней С. Н. Голицыной. На две тысячи рублей, пожертвованных Кредитным обществом, была закуплена материя. Фирма «Зингер» предоставила несколько машинок, а Политехнический музей – одну из аудиторий. Закройщики из модных магазинов помогли раскроить ткань. Первые партии готовой одежды отправляли в госпитали, но уже очень скоро пошел такой наплыв просителей из числа легкораненых, что всю продукцию стали распределять на месте.

Раненые в санитарном вагоне трамвая
Впрочем, довольно скоро кружку княгини Голицыной пришлось сворачивать работу.
Средства заканчивались, а мануфактурные фирмы не спешили на помощь – зачем делать бесплатно то, за что можно было получить сверхприбыль? В то время на поставках в армию предприниматели богатели сказочно и в короткие сроки.
Менялось и настроение публики – уже к концу августа прибытие санитарных эшелонов, утратив новизну, превратилось в обыденное явление. Вместо изобилующих красочными подробностями репортажей газеты стали помещать хронику в две-три строчки: «Вчера с четырьмя поездами привезены в Москву раненые и больные воины. Раненых разместили в Москве». Эти поезда, приходившие главным образом по ночам, уже не встречала разряженная толпа, размахивавшая цветами и кричавшая «ура».

Отправление раненых на автомобилях и в автомобильных фурах из распределительных госпиталей в постоянные лазареты
Вот как описывал Константин Паустовский в мемуарной «Повести о жизни» разгрузку санитарных эшелонов в начале осени 1914 года:
«Каждую ночь, часам к двум, когда жизнь в городе замирала, мы, трамвайщики, подавали к Брестскому вокзалу белые санитарные вагоны. Внутри вагонов были устроены подвесные пружинные койки.
Ждать приходилось долго. Мы курили около вагонов. Каждый раз к нам подходили женщины в теплых платках и робко спрашивали, скоро ли будут грузить раненых. Самые эти слова – «грузить раненых», то есть втаскивать в вагоны, как мертвый груз, живых, изодранных осколками людей, были одной из нелепостей, порожденных войной.
– Ждите! – отвечали мы. Женщины, вздохнув, отходили на тротуар, останавливались в тени и молча следили за тяжелой вокзальной дверью.
Женщины эти приходили к вокзалу на всякий случай – может быть, среди раненых найдется муж, брат, сын или однополчанин родного человека и расскажет об его судьбе.
Все мы, кондукторы, люди разных возрастов, характеров и взглядов, больше всего боялись, чтобы какая-нибудь из этих женщин не нашла при нас родного искалеченного человека.
Когда в вокзальных дверях появлялись санитары с носилками, женщины бросались к ним, исступленно всматривались в почернелые лица раненых и совали им в руки связки баранок, яблоки, пачки дешевых рассыпных папирос. Иные из женщин плакали от жалости. Раненые, сдерживая стоны, успокаивали женщин доходчивыми словами. Эти слова простой русский человек носит в себе про черный день и поверяет только такому же простому, своему человеку.
Раненых вносили в вагоны, и начинался томительный рейс через ночную Москву. Вожатые вели вагоны медленно и осторожно».
Раненых, в зависимости от их состояния, везли с вокзалов либо сразу в лазареты, либо на специальные пункты, где их мыли, кормили, перевязывали, а затем распределяли по частным госпиталям.

Перевозка раненых в трамвайных вагонах в постоянные лазареты
Д. П. Оськин, прошедший через распределительный пункт, вспоминал увиденное:
«После обеда в зале воцарилось оживление: приехали посетители из различных лазаретов и госпиталей, чтобы выбрать новых раненых взамен уже излеченных.
Среди прибывших в большинстве были дамы различного возраста и вида. На мой взгляд, почти все они принадлежали к крупной буржуазии или аристократии. Многие из них имели в руках лорнеты и, задерживаясь подле какой-нибудь из коек, направляли их на раненых. Разговаривали они между собой и с сопровождающими их молодыми людьми на каком-то не русском языке и лишь изредка вставляли русское слово или замечание.
Около меня остановились две дамы. Рассмотрев мою грудь, украшенную крестом, они только после этого соблаговолили обратить внимание и на физиономию.
Одна из них обратилась к другой, лопоча что-то на непонятном мне языке.
– Мы возьмем его, – сказала она в заключение по-русски, оборачиваясь к какому-то маменькиному сынку, который приятно улыбался каждому ее слову.
Посетительницы прошли дальше. Видимо, им надо было выбрать не одного человека, а нескольких».
В начале четвертой недели войны стало очевидно, что Москва не справляется с невиданно огромным потоком раненых воинов. Эшелон за эшелоном прибывали санитарные поезда. Госпитали военного ведомства были забиты под завязку. Помещения лазаретов, находившихся в ведении общественных организаций, удовлетворяли едва ли десятую часть от реальных потребностей.

Городской распределительный госпиталь в 1-м казенном винном складе
«Москва оказывается недостаточно подготовленной для быстрого и рационального размещения прибывающих в нее раненых, – сообщала в передовице газета “Утро России”. – В необъятной Москве, с ее громадными пустующими дворцами, с ее монастырями, общественными зданиями и залами, вдруг оказывается недостаток в помещениях. В наличных лазаретах не хватает кроватей, и раненых приходится размещать вповалку, на соломе и древесных стружках».
В той же статье была указана одна из главных причин возникшего кризиса – нераспорядительность чиновной бюрократии, которая не ассигновала вовремя необходимые средства, понадеявшись, видимо, на добровольные пожертвования. Газетчики выяснили и то, что до войны Красным Крестом было заготовлено всего 15 тысяч кроватей. С началом военных действий дополнительной закупкой соломы и белья собирались удвоить количество мест. Столь скромные цифры объяснялись тем, что заботу об основной массе раненых должны были взять на себя городские и земские организации ближайших к фронту тыловых местностей. Но масштаб кровавой бойни оказался неожиданно велик, прифронтовые города очень быстро исчерпали свои невеликие возможности, поэтому основной поток раненых был направлен в Москву.
Положение усугублялось еще тем обстоятельством, что из рук вон плохо было налажено разумное распределение раненых по разным губерниям. Например, газета отмечала: в Полтаве медицинские учреждения тщетно ждут пациентов, зато в срочном порядке открывают госпитали в Челябинске и Екатеринбурге.
Заканчивалась передовица «Утра России» пророческими словами, обращенными к высшей бюрократии: «Духа недовольства нельзя развивать среди болезненных, нервно настроенных людей. В тылу армии не место духу недовольства».
В Москве тем временем началось лихорадочное развертывание новых госпиталей, под которые занимали любые мало-мальски пригодные помещения. Прежде всего в лазареты превратились различные учебные заведения.

На пороге госпиталя
Так, профессора, ассистенты и слушательницы Высших женских курсов трудились до изнеможения, но к полуночи 23 августа подготовили 600 коек. Не отстали их коллеги из университета Шанявского. С помощью добровольных помощников – уличных мальчишек, рьяно взявшихся за набивку соломой тюфяков, – они за три часа подготовились к приему нескольких сот раненых.
В квартире директора и в чертежной Императорского технического училища поставили 100 кроватей, а в студенческом общежитии – 350. Через два дня их количество увеличили до 500. Петропавловское училище превратилось в лазарет на 300 коек. Госпитали были открыты в Сельскохозяйственном институте, в Строгановском училище, в Училище зодчества и ваяния на Мясницкой, в здании Консерватории.

Лазарет при городском народном университете им. А. Л. Шанявского
Во Вдовьем доме в большой зале для торжественных собраний разместили больничные кровати. Старушки, помнившие еще Крымскую войну, застелили их белоснежным бельем. Срезав с клумб почти все астры, расставили по тумбочкам букеты. А когда привезли раненых, обитательницы Вдовьего дома с неожиданной энергией бросились за ними ухаживать.
«У каждого раненого явилось по нескольку хлопотливых сиделок, – умилялся увиденным корреспондент. – Когда старушки научились так ходить за больными? Неужели это у них осталось со времен все той же знаменитой Севастопольской кампании?
Настоящим к этому делу приставленным сестрам милосердия не остается работы. Старушки бегают, суетятся. Солдаты не знают, как выказать свою благодарность. (…)
Перевязки были сделаны раньше, чем доктор успел распорядиться, – и с каким искусством! Точно эти руки никогда не знали ничего другого, как только перевязывать раненых».
Раненых помещали везде, где только было возможно, – в московских монастырях[18], в народных домах, при музее Александра III, в популярных местах развлечений: Славянском и Купеческом клубах, Литературно-художественном кружке. При ресторане «Эрмитаж» был открыт госпиталь с полным оборудованием на 35 человек. Трактир «Тулон» в Зыковом переулке послужил приютом для сотни раненых солдат.
Главноначальствующий над Москвой предложил владельцам целого ряда популярных ресторанов и клубов: театра Зона, «Альказара», «Аполло», «Победы», ресторана Скалкина, «Аркадии», «Золотого якоря», «Тиволи», «Фантазии», Потешного сада, «Новых сокольников», Богородского сада-театра и Тестовского поселка – немедленно предоставить свои помещения в распоряжение городского головы для размещения раненых.

Лазарет при городском убежище для беспризорных детей и для престарелых им. И. А. Лямина. Офицерская палата
При этом администрация предупреждала, что в случае отказа заведения будут просто закрыты.
В один день, второго сентября, были освящены два лазарета служителей Мельпомены. Артисты Художественного театра на собственные средства открыли госпиталь на двадцать мест в бывшем доме Варгина на Тверской площади. Их коллеги, артисты Императорских театров (Большого и Малого), взяли на попечение сорок раненых. Поскольку из-за мобилизации в Москве ощущалась нехватка строительных рабочих, ремонт здания театрального училища в Неглинном проезде, отведенного под лазарет, провели сами артисты.

В лазарете артистов Императорских театров. Артистки – сестры милосердия за чаем
«Оригинальную картину представляла из себя, вчерне, внутренность ремонтируемого здания, походившего на улей, – отмечалось в “Обзоре лазарета Императорских театров для больных и раненых воинов”, – где как трудолюбивые пчелы с раннего утра до позднего вечера работали над окраской кроватей, столов, скамеек, дверей и окон не только артисты и артистки Императорских театров, но и ученики Императорского Московского театрального училища. Можно было видеть рядом с оперным певцом, преобразившимся в рабочего, окрашивающего двери, одну из звезд московского балета, стоящую на подоконнике и промывающую стекла окна, а дальше в запачканных краской передниках кордебалетные танцовщицы усердно красили эмалевой белой краской железные кровати, на которых они так еще недавно сами спали, будучи в интернате Училища.
Тут же артисты балета покрывали краской стены палат, а в свободные от занятий часы с разрешения начальства прибегали им помогать маленькие ученики балетной школы, сияя радостью, что и они могут послужить общему делу».

В лазарете Императорских театров. Врачебный обход
Финансирование госпиталя также взяли на себя артисты и служащие императорских театров, постановив отчислять на благое дело из заработной платы два процента. Балерина А. М. Балашова пожертвовала в госпитальный фонд 1000 рублей. Еще полтысячи рублей, свое ежемесячное жалованье, актриса распорядилась перечислять на содержание пяти кроватей. Кроме того, она обязалась до конца войны на собственные средства обеспечивать раненых чаем и сахаром. А художник К. А. Коровин, помимо двухпроцентного вычета из жалованья, отдал часть гонорара за декорации к опере «Евгений Онегин».
В ту же горячую пору было устроено несколько национальных лазаретов. Так, московское землячество эстов открыло при своем общежитии на Долгоруковской улице госпиталь на десять мест. Столько же раненых взялись содержать, арендовав помещение в доме Пастухова в Антипьевском переулке, члены украинского музыкально-драматического кружка «Кобзарь». На Поварской был развернут лазарет «Общества грузин в Москве». Видный член еврейского общества Я. М. Демент установил в своем доме на Большой Полянке 25 больничных коек.

Лазарет в доме владельца Трехгорной мануфактуры Н. И. Прохорова
В сентябре открыла госпиталь на 12 мест московская колония православных арабов-турецкоподданных.
Княгиня П. И. Щербатова приютила десять раненых офицеров в своем доме на Новинском бульваре, где на каждого героя приходилось по две сестры милосердия. Все они были из высшего общества. Другой представитель московской аристократии граф П. С. Шереметев выделил под госпиталь на сорок коек часть знаменитого дворца в усадьбе Кусково.
Другой дворец – Петровский подъездной, по традиции служивший на время коронаций резиденцией русским царям, а в остальное время стоявший пустым, – власти стали срочно приспосабливать под госпиталь на 274 койки. Проблема заключалась в том, что построенный в екатерининские времена архитектурный шедевр не был оборудован водопроводом, канализацией, электричеством. В срочном порядке творение М. Ф. Казакова стали оснащать этими достижениями цивилизации.
Журналисты с восторгом расписывали, каким великолепием будут окружены герои войны «в чертоге блеска и роскоши». Так, большую часть дня раненые могли проводить на примыкавшей к палате номер три террасе, откуда открывался вид на великолепный цветник. В палате номер шесть, помещавшейся в среднем большом зале, воображение вчерашних рабочих и крестьян должны были поражать гипсовые канделябры и знаменитые лепные потолки работы итальянских мастеров. В интерьерах остальных помещений сохранялись громадные зеркала в золоченых рамах и лепные камины.
Владимир Гиляровский посвятил госпиталю в Петровском дворце поэтические строки:
Близ белокаменной столицы
Стоит дворец. Стена, бойницы,
Старинных башен стройный ряд
О днях далеких говорят,
Когда сиял дворец огнями
Перед Высокими Гостями.
С тех пор прошло немало лет…
(…)
Не мало времени прошло,
Уже столетье протекло,
И снова гул войны священной
Грозой пронесся над вселенной.
Под боевой немолчный гром
Русь опоясалась огнем.
И перед вражескою тучей
Поднялся весь народ могучий —
От светлых, царственных палат
До закоптелых, бедных хат.
И во Дворце стоят кровати,
На них бойцы священной рати,
Врагом изранены, лежат,
О жарком бое говорят.
В конце сентября в другом дворце – кремлевском Потешном, находившемся в ведении Министерства императорского двора, для офицеров был открыт госпиталь императрицы Александры Федоровны.
Не уступала дворцам в роскоши зимняя дача А. И. Коншиной в Петровском парке, пожертвованная московской миллионершей под госпиталь. «Даже ряд простых железных кроватей, поставленных вдоль больших, светлых комнат, не может стереть отпечаток барской культуры, взлелеянной здесь долгими годами, – описывал увиденное репортер “Утра России”. – Зеркала занавешены, все лишнее убрано. Камины пока не топятся, только букеты свежих цветов украшают столовую, где больные собрались из всех палат попить чаек.
И все же люстры льют по вечерам такой мягкий, рассеянный свет; стены, отделанные под дуб, успокаивают нервы…»
Попав в непривычную обстановку барской усадьбы, нижние чины чувствовали себя не в своей тарелке. Один из них признавался корреспонденту: «Так хорошо, что даже первое время не верилось: для нас ли?» Поэтому раненые, сохранившие способность передвигаться самостоятельно, предпочитали больше времени проводить вне дома. Благо в их распоряжении был отгороженный от внешнего мира глухим забором обширный парк с уютными аллеями и прудом.
Надо полагать, не в худшей обстановке оказались пятьдесят раненых фронтовиков, размещенных в особняке Ф. И. Шаляпина на Новинском бульваре.
Лазареты появились не только в центре города, но и на его окраинах. Побывав на одной из них, журналист поделился впечатлениями с читателями газеты «Утро России»:
«Обычно такая сонная, захолустная Красносельская улица оживилась. Сделалась неузнаваемой. Она запружена народом.
Повсюду раненые. Воспользовались они ярким и теплым днем и появились на воздухе.
Больничные халаты, туфли и бескозырки. Кое-где начинает звучать смех, пока еще нерешительный и слабый.
Знакомая идиллия! Два солдатика любезничают с кухаркой.
– Вы не смотрите, что мы такие. Мы – гусары. Поправимся – и в седло.
Только руки у обоих обвязаны бинтами. И над воротами красуется свежая, блистающая еще непросохшей краской вывеска:
“Военный лазарет номер…”
Крупный номер. Трехзначное число.

ПРИМЕТЫ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
Благотворительная продажа возле госпиталя. Раненые покупают флажки
Всюду жизнь, – и носы, приплюснутые к стеклам. Раненые на лавочках у ворот.
Каждую такую группу окружает почтительная, внимательная толпа. Раненые рассказывают о своих впечатлениях, и слушатели подбодряют:
– Так его!.. Ай да мы!.. Лихо!..»
Впрочем, эти островки благополучия только усугубляли общую неприглядную картину создавшегося положения. Главноуполномоченный Всероссийского земского союза князь Г. Е. Львов не скрывал, что общественные организации работают на пределе возможностей и готовы идти на крайние меры: «Пришлось занимать школы – заняли школы. Придется занимать частные дома – будем занимать и частные дома. Не хватает крытых помещений, и придется класть раненых на улице – нечего делать, будем класть на улице».
Все, кто напрямую занимался организацией помощи раненым, в один голос утверждали, что камнем преткновения является практическое отсутствие сортировки пострадавших в боях по тяжести полученных ран. «Москва едва ли в состоянии предоставить более 10–12 тысяч коек, – авторитетно заявлял профессор Л. С. Минор, – но эти койки “золотые”, ибо находятся при лучших в России больницах и лазаретах. Их нужно оставить только для тяжелораненых».
Положение осложнялось еще тем, что в тот период подавляющее большинство московских госпиталей были забиты пациентами с легкими ранениями. Газета «Утро России» писала 1 сентября 1914 года: «…громадное число прибывших, например, к нам, в Москву, раненых, целыми днями разгуливают по улицам города, так как не ощущают никакой потребности в лазаретном уходе и систематическом лечении».
Усугубляла и так сложную обстановку нераспорядительность военных чиновников. Переосвидетельствование выздоравливающих не было налажено должным образом, поэтому много мест занимали солдаты, уже не нуждавшиеся в медицинской помощи. «Очень туго движется эвакуация раненых из клиник, – делился наболевшим с журналистами профессор Н. Ф. Голубов. – У меня 120 мест, и все заняты ранеными; сорок человек из них совершенно выздоровели и даже годны в строй. Больные быстро поправились благодаря хорошему питанию и клиническому уходу. Но никак не можем добиться своевременной эвакуации этих выздоровевших раненых из клиник, несмотря на неоднократные обращения в разные учреждения, от которых зависит обратная эвакуация. Некоторые из выздоравливающих раненых ежедневно спрашивают: “Когда же нас к своим частям отправят?” “Скучно”, – говорят они. Ответить им никто не может, так как обратная эвакуация зависит не от клиник». Профессор Голубов предположил, что если такая же картина наблюдается в других московских госпиталях, то 25 процентов коек занимают вполне здоровые люди. Отчаявшись, некоторые заведующие лазаретами выписывали полностью излечившихся солдат.

Переноска тяжелораненого
В результате на улицах Москвы появилось множество праздношатающихся нижних чинов, которые по несколько дней обивали пороги воинских начальников, безуспешно пытаясь получить документы на проезд. Только после нелицеприятной критики со стороны общественных организаций военные власти наладили бесперебойную выписку из лазаретов годных в строй солдат.
По всей видимости, сложнее приходилось офицерам, лечившимся после ранений. Мемуарист Н. П. Розанов свидетельствует: «Родители раненых офицеров, привезенных для излечения в Москву, жаловались на то, что их сыновьям даже вылечиться как следует не дают, и плац-адъютанты разъезжают по квартирам больных офицеров, понуждая их поскорее отправляться на фронт. Так, прис<яжный> пов<еренный> Смирнов, с которым мне пришлось в эту пору быть в окружном суде присяжным заседателем, говорил мне, что его сына, капитана, уже шесть раз ранили на войне, и каждый раз, как он приезжал домой лечиться, у него “над душой стояли” архангелы из комендантства, спрашивая, скоро ли он отправится в свою часть на фронт…»
В начале декабря 1914 года командующий МВО издал приказ: офицеры, находившиеся на лечении в Москве, должны были каждые две недели являться на медицинскую комиссию. В автобиографическом произведении «Из писем прапорщика-артиллериста» писатель-философ Ф. А. Степун, попавший в госпиталь с контузией ноги и передвигавшийся только на костылях, описал, как это происходило на практике:
«Мое настроение, поскольку оно обусловлено не моим личным миром, а обстановкою войны в тылу, много хуже, чем на позиции. Госпитально-эвакуационный тыл решительно ужасен и отвратителен. Я не знаю более гнусного и подлого учреждения, чем 1-й московский эвакуационный пункт. Помещается он за городом, куда извозчик берет не менее пяти рублей в конец. Помещается на третьем этаже, на который ведет лестница без перил, обледенелая, скользкая и ничем не посыпанная. Ждать своей очереди приходится в грязном, узком коридоре, в котором стоит один рваный диван и очень ограниченное количество венских стульев. Многие раненые офицеры принуждены потому сидеть на подоконниках. При этом в спину так сверлит холодом, что, ей-богу, кажется, что у тебя в самом позвоночнике свистит ветер. Просиживать в такой обстановке доводится целые часы, пока старческая, шамкающая и, очевидно, бездельная комиссия соизволит тебя принять.
Кроме визита во врачебную комиссию приходится два раза в месяц, 1-го и 20-го, отправляться в канцелярию, в хозяйственную часть за получением жалованья. Канцелярия помещается, конечно, как нарочно не в том же громадном доме, и даже не на том же казарменном дворе, а в совершенно особо стоящем на другом конце площади офицерском собрании, и опять-таки во втором этаже. Нужно, таким образом, два раза подняться на костылях на второй этаж, два раза спуститься с него и два раза пересечь широкую, снежную площадь. Своего жалованья, однако, на эвакуационном пункте, несмотря на все эти мытарства, получить нельзя. После двухчасового ожидания, неизбежного потому, что десятки прошений толпы офицеров пишут за маленьким столом всего только в две ручки, ты снова получишь не деньги, а всего только аттестат, который надо везти в казенную палату, дабы после нового стояния в двух хвостах выручить наконец причитающиеся тебе 56 рублей. Таково обращение с офицерами, каково же с солдатами?
Скажите же на милость, что это все, как не прямое надругательство над теми людьми, которые как-никак жизнь свою отдавали за спасение родины и престиж русского государства. Ей-богу, удивляться надо и рабьей долготерпимости русского человека, и махровому хамству нашего административного аппарата…»
Непосредственный свидетель того, как военно-медицинская администрация обращалась с нижними чинами, Д. П. Оськин в своих «Записках» отразил это так:
«К концу недели нас всех вызвали на медицинский осмотр.
В одной из комнат административного корпуса заседала комиссия из нескольких врачей и офицеров. Солдаты, выстроившись в затылок друг другу, проходили через эту «комиссию», задерживаясь каждый буквально в течение нескольких секунд. Врач приказывал заранее снимать рубашки или шаровары, смотрел, кто куда ранен, взглядывал на лицо раненого, отмечал что-то в своей книге, и на этом “осмотр” заканчивался.
Это была не медицинская комиссия, а какая-то комедия, неизвестно для чего устроенная. Результат, впрочем, сказался довольно скоро – уже на следующий день в ротной канцелярии вывесили список, гласящий, что перечисленные в нем солдаты (человек сорок) признаны здоровыми и подлежат выписке на фронт».
Вернемся, однако, в лето 1914 года. Одним из способов разгрузки госпиталей в трудные августовские дни стал так называемый «патронаж». Суть его заключалась в том, что воинов с легкими ранениями размещали на частных квартирах – в семьях или в маленьких лазаретах, устроенных жильцами домов вскладчину в пустующей квартире. Пионерами в этом деле были квартиранты дома номер 14 на Чистых прудах, организовавшие «Первый кооперативный лазарет». В Фурманом переулке домовладелец Рабинович предоставил помещение, а содержание размещенных в нем десяти раненых взяли на себя жильцы дома.
Со страниц газет раздавались призывы обязать домовладельцев отдавать пустующие квартиры – их в Москве насчитывалось около 1500 – под лазареты. По приказу градоначальника полиция совершила обход и выявила все свободные жилые помещения. Однако Городская управа не стала спешить с мобилизацией жилого фонда. Хорошо зная характер московских домовладельцев, отцы города не хотели пробуждать их алчность. Арендная плата за госпиталь значительно превышала доход от жильцов, и у домовладельцев наверняка возникло бы желание избавиться от квартирантов ради отдачи помещений в казенный подряд.
В конечном итоге было решено ограничиться лишь призывом разобрать раненых по домам на добровольной основе. «Им будет хорошо в домашнем уюте», – утверждал председатель Московского комитета Красного Креста А. Д. Самарин. Еще дальше пошла в своем обращении к русской интеллигенции А. Р. Крандиевская. В лучших традициях чеховских героинь она призывала воспользоваться патронажем для единения с простым народом: «…со стороны, так сказать, выпуклости нашей душевности в делах, связанных с общим мировым горем, нет ничего более благодарного и более выгодного для нас, как то милосердие, которое должно спаять нас с нашим народом».
По мнению А. Р. Крандиевской, житье бок о бок с людьми «от сохи» должно было оставить в сердцах более сотни тысяч интеллигентов неизгладимые впечатления о том, «…как мы с ними роднились через наше добро, гостеприимство, как много это добро дало самим нам, какое нравственное удовлетворение дали нам временная теснота нашей квартиры, временное “неудобство”, как интересны, поучительны и для нас и для наших детей были у нас вечера, во время которых вели мы с гостями нашими такие душевные и такие хорошие беседы, как много узнали мы и наши дети из рассказов воинов о войне, о сражениях. Как много узнали о деревне, о народной нужде и горе, о народных чаяниях и надеждах».
Возможно, массовое превращение уютных квартирок в «коммуналки» позволило бы русской интеллигенции наконец-то познать «сермяжную правду». Однако беда была в том, что выходцы из народа без особой охоты шли на частные квартиры. Солдаты объясняли это тем, что в госпиталях есть «общество», т. е. там можно отвести душу в разговорах, особенно если встретить земляков. А главное, кроме таких тяжких испытаний, как прием пищи за «барским» столом и пользование ватерклозетом, выходцев из народа угнетала мысль о том, что они должны быть чем-то вроде приживальщиков у конкретного благодетеля. В моральном плане принимать благодеяния от общественной организации было гораздо легче.

М. Щеглов. Новый герой московских гостиных
Тем не менее, по сведениям из Всероссийского земского союза помощи раненым, к исходу первой недели сентября в патронат было оформлено 5643 легкораненых. А заявок от москвичей ежедневно поступало на 500 человек. Вот только у патроната оказалась другая сторона медали. Газеты отмечали, что «частные лица, взявшие себе на дом так называемых легкораненых, которые давно уже совершенно выздоровели, недоумевают, почему этих выздоровевших все еще не отпускают по домам или не возвращают в армию».
Кроме того, среди легкораненых оказалось довольно много специфической публики. «Когда к нам в семинарскую больницу привезли с фронта первых раненых солдат, – свидетельствовал Н. П. Розанов, – то я увидел, что у многих ранены были пальцы на руках, что, как объяснили мне опытные люди, было уловкой самих солдатиков, простреливавших себе пальцы, чтобы быть эвакуированными с фронта в тыл».
Эти «герои-фронтовики», разгуливавшие в больничных халатах поверх белья, настолько заполонили московские улицы, что в конце концов обратили на себя внимание военных властей. Не успели высохнуть чернила на воззвании госпожи Крандиевской, как шестого сентября стало известно о настоятельной просьбе командующего МВО: не отправлять легкораненых в патронаж, а если и отправлять, то партиями не менее четырех человек. А десятого сентября поступил окончательный запрет: «…ввиду того, что раненые продолжают появляться на улицах не в установленной форме, имея на себе халат и нижнее белье и не соблюдая правил воинского почитания, временно командующий войсками приказал совершенно воспретить раздачу раненых на квартиры».
В дополнительной телеграмме внимание руководителей лазаретов обращалось на то, что выписанных солдат следует направлять к воинским начальникам в чистом белье. Вскоре последовал приказ: наряжать из частей московского гарнизона «особые дозоры», которые должны были задерживать одетых не по форме солдат и препровождать их в ближайшие полицейские участки. Наконец, 14 сентября были обнародованы утвержденные штабом МВО «Правила для раненых»:
«1. Не допускать нижних чинов выходить для прогулок на улицу; тем из них, которые должны ходить на перевязку, надлежит выходить одетыми строго по форме; в халате и без сапог выход нижним чинам безусловно запрещается.
2. Выздоравливающих и не нуждающихся в коечном лечении нижних чинов не задерживать для отдыха в лечебных заведениях и патронатах, а безотлагательно направлять в управление московского воинского начальника.
3. Подтвердить нижним чинам, что согласно уставу внутренней службы им запрещается занимать места внутри вагонов трамвая и ходить по бульварам и скверам.
4. Для осмотра исторических памятников Москвы и поклонения московским святыням разрешается увольнять эвакуированных раненых и больных нижних чинов командами, при старшем и в сопровождении лица, могущего преподать им нужные сведения. В командах этих не должно быть нижних чинов, одетых не по форме».
Претворение в жизнь приказов командующего МВО облегчалось тем, что количество раненых в Москве заметно сократилось. То ли лучше заработала сортировка и распределение раненых по другим регионам, то ли удалось решить проблему с выпиской вылеченных солдат, но уже 12 сентября газета «Утро России» сообщила: «На улицах их <раненых> почти не видно». Тут же была приведена радостная статистика – в лазаретах из 35 тысяч коек уже свободны 16 тысяч, в том числе 5 тысяч в госпиталях военного ведомства.
Месяц спустя на страницах той же газеты председатель Всероссийского земского союза князь Г. Е. Львов констатировал:
«Мы можем теперь быть спокойны за наших раненых воинов. Слава Богу, чувство боли и мучительной тревоги за них сменилось теперь чувством полного спокойствия за их участь и уверенностью в том, что каждый больной и раненый, возвращающийся с поля сражения, найдет здесь дома, внутри империи, спокойную койку, братский уход, лечение. За два месяца один Всероссийский земский союз открыл 150 тысяч коек, а всех коек в России до 300 тысяч. Заготовлены громадные запасы белья, перевязочного материала, лекарств, и десятки тысяч сердобольных сестер и братьев могут принять теперь непосредственное участие в святом деле помощи раненым в стройно-организованной работе.
Дело сделано, работа пошла в широком русле могучего течения великих чувств великого русского народа. Его фарватер вместит и поднимет какие угодно грузы. Мы не боимся никакой перегрузки. Нам нечего сомневаться, русский народ поднимет и понесет легко всякое бремя, великую тяжесть судьбы. (…)
Спокойные за наших больных и раненых воинов, двинемся теперь всем миром на помощь нашей армии. Поддержим ее, нашу честь, нашу славу, нашу доблестную геройскую армию. Поддержим ее в великих страстях, трудах и подвигах. Дадим все, что надо ей на передовых позициях, в окопах, в открытом поле, в холоде и мокроте. Обвеем ее там духом любви матери, родной земли».
Итак, в октябре 1914 года в Москве заработала полностью отлаженная система приема, размещения и ухода за ранеными. Город предоставлял им благоустроенные лазареты с полными штатами персонала, полноценное питание и заботливый уход. От раненых только требовалось безоговорочно подчиняться установленному распорядку. Медицинские процедуры, прием пищи – все проходило строго по часам. Конечно, на первом для раненых месте стояли операции и перевязки.
Уровень медицины того времени превращал обработку самых простых ран в тяжелое испытание. Н. М. Гершензон-Чегодаева навсегда запомнила услышанный в детстве рассказ знакомого их семьи, раненного на фронте: «Он как-то пришел к нам (…) хромой, с палкой в руках и у нас в саду рассказывал о своей ране, о пережитых им ужасных страданиях. Никогда не забуду того потрясающего впечатления, которое осталось у меня от его слов, от рассказа о том, как ему через сквозную рану на ноге протаскивали тампон, пропитанный йодом».
Ф. А. Степун, испытавший на себе, что значит побывать в госпитале, писал о пережитом:
«Нигде война не производит такого страшного впечатления, как в лечебнице. Здесь у нас в “тяжелых” палатах царствует голое, тупое и совершенно беззащитное страдание. Мне никогда не передать вам того жуткого инквизиционного холода, который каждый раз леденит мою душу, когда я прохожу мимо светлых, чистых, теплых, белых операционных комнат. Верите ли, операционная много страшнее всякого окопа. Всякой опасности на войне вы можете оказать сопротивление своею свободною, нравственною личностью. Одним из главных элементов этой личности является ваша вера в вашу судьбу, которая, вам кажется, не хочет вашей гибели, вашего страдания. Если не хотите веры и судьбы, вопрос можно повернуть проще. В каждой опасности на войне есть элемент случайности. Всякая шрапнель, шумя на вас, может и не попасть в вас, и в этом, может, и коренится в значительной степени ваша сила противоборства и сопротивления.https://document.wikireading.ru/1412
|
Метки: первая мировая война красный крест москва лазареты |
Госпитали Первой мировой войны на северо-востоке Московского уезда |
Госпитали Первой мировой войны на северо-востоке Московского уездаhttp://trojza.blogspot.com/2012/11/blog-post_16.html
Продолжаем список госпиталей и лазаретов, развёрнутых на северо-востоке Московской области к 1 ноября 1914 года. Действительно, набрав в поисковом запросе "лазарет Первой мировой" можно получить внушительное количество неатрибутированных коллективных фотопортретов находившихся на излечении под Москвой раненых русских воинов [см. напр.]. Узнать где они были сделаны является довольно трудно-решаемой задачей. Однако, несомненно, эти фотографии не только следовало бы рассмотреть в контексте истории развития ушедшего в прошлое жанра коллективного фотопортрета, но и в контексте истории развития фотографии в России...
Основанный 30 июля 1914 года к 1 сентября того же 1914 года Всероссийский земский союз помощи больным и раненым воинам обеспечил устройство госпиталей и лазаретов на 60.000 кроватей (коек) коек, (к концу 1914 г. — на 155.000, а к концу 1915 г. — на 173.000).
Никакого устава, статута или правил действия союза не было принято, поэтому союз действовал достаточно произвольно. В частности Союз ведал поставками медицинского оборудования во вновь учреждаемые госпитали и лазареты. Набор и подготовка медицинского персонала, обеспечение лечебных учреждений медикаментами также изначально входили в сферу деятельности Земского союза, однако по большей части, "по факту" во вновь учреждённых лечебных учреждениях работали прежние земские и фабричные врачи, работа которых выросла в разы, а расходы по стирке белья, обеспечению прибывших с фронта больных и раненых больничной одеждой и регулярным питанием ложились на непосредственных владельцев тех фабрик, усадеб и дач, при которых эти лазареты были учреждены.
Прибытие санитарного поезда к распределительному госпиталю.
К августу 1914 года через Москву проходило до 6-8.000 человек больных и раненых фронтовиков в день. В Москве было оборудовано несколько распределительных пунктов (например, госпиталь Красного Креста на 1500 кроватей на месте бывшей Анненгофской рощи), где прибывавшим раненым давали возможность отдохнуть не менее суток, после чего более 75% больных распределяли по территории губерний Московского эвакуационного района.

Разгрузка санитарного поезда у распределительного госпиталя Казенный винный склад № 1 , ныне завод "Кристалл". Фотография отсюда.
Для размещения раненых выделялась часть коек в земских участковых больницах, при фабриках, в зданиях общественных учреждений, в частных домах состоятельных горожан. На усадьбах и крупных дачах Подмосковья, находящихся вне городской черты чаще всего размещались лазареты III разряда для послеоперационного восстановления раненых и больных солдат.
Отправление раненых на автомобилях и в автомобильных фурах из распределительных госпиталей в постоянные лазареты. Фотография отсюда.
Согласно общей статистике Справочника, к 1ноября 1914 года земствами Московской губернии были организованы 669 госпиталей на 21.238 кроватей. По данным одной интересной статьи, "число коек превышало план Союза и на протяжении всех военных лет оставалось практически неизменным. В целом больные составляли 65% против 35% раненых". [см.]
Городской распределительный госпиталь в 1-м казенном винном складе. См. фотографии из альбома "Лазареты Московского городского управления".
Приведём список госпиталей северо-востока Московского уезда...
Ярославская железная дорога
Платформа 7-й версты, госпиталь Северной железной дороги губернского комитета.
Заведующий врач Кривошеин.
Госпиталь Северной железной дороги, I разряда, 400 кроватей.[С. 30].
Станция Лосиноостровская, Лосиноостровский район, Московского уездного комитета.
заведующие врачи: Н.И. Панфилова, Б.И. Рейхштейн, Т.Л. Абрамсон, Архангельский.

Станция Лосиноостровская. Открытка 1914 г.
Гимназия Общества Благоустройства I разряда, 15 кроватей.
Имение Вогау I разряда, 65 кроватей.
Поместье Красковской I разряда, 27 кроватей.
http://trojza.blogspot.com/2012/11/blog-post_16.html
Дача Леве II разряда, 12 кроватей.
Дача Иванова-Шитц, II разряда, 15 кроватей.
Дача Шерупенкова (Медведкова) II разряда, 30 кроватей.
Дача Любке III разряда, 11 кроватей.
Дача Общества Благоустройства III разряда, 12 кроватей.
Дача Общества родителей учащихся III разряда, 10 кроватей.
Вспомогательный лазарет на дачах разных лиц III разряда, 119 кроватей.[С. 30].
Станция Мытищи, Мытищинского района, Московского уездного земства.
Заведующие врачи: В.А. Черкесов, М.Л. Тартаковская.
Мытищинская лечебница I разряда, 25 кроватей.
В помещении клуба вагоностроительного завода II разряда, 60 кроватей.
Завод Воронина II разряда, 5 кроватей.
Вспомогательный лазарет в помещении автомобильного завода Третьякова, Головнича и других лиц III разряда, 39 кроватей.[С. 30].
Станция Мытищи, Дом Призрения район, Московского уездного земства
Заведующие врачи М.К. Кондорский, К.К. Зегебарт
Дом призрения для требующих физических методов лечения и для туберкулёзных больных I разряда, 100 кроватей.
Фабрика Чернышова II разряда, 40 кроватей.
В усадьбе Е.Н. Чернышова III разряда, 12 кроватей.
Дом Александрова III разряда, 15 кроватей.
Дом Чиркова III разряда, 20 кроватей.
Дом Петропавловской и Ключаревой III разряда, 35 кроватей.[С. 31].
Специальные госпитали губернского комитета: при Доме Призрения (Мытищи, Ярославской железной дороги, район Дома Призрения) - для туберкулезных больных, а также для раненых и больных, требующих физических методов лечения; при доме Нирнзее - для глазных и раненых больных.
Станция Болшево (Щёлковской ветки), Болшевский район, Московского уездного комитета.
Заведующие врачи: Якобсон, А.Ф. Крафт, М.Р. Кобрина.
Имение Прове I разряда, 200 кроватей.
Фабрика Рабенек II разряда, 15 кроватей.
Фабрика Товарищества Рабенек II разряда, 350 кроватей.
Фабрика Третьякова II разряда, 6 кроватей.
Дом Ценкер III разряда, 50 кроватей. [С. 31].
Станция Мамонтовская, Мамонтовский район, Московского уездного комитета.
Заведующий врач: Ф.А. Менделеева-Высоцкая.
Дом Мицкевич I разряда, 60 кроватей.
Дом Михельсон II разряда, 10 кроватей.
Дом Оловенишникова III разряда, 7 кроватей.
Дом Ф.А. Васильева III разряда, 20 кроватей. [С. 31].
Станция Пушкино, Пушкинского района, Московского уездного комитета.
Заведующий: П.Г. Осипов, В.Ф. Буров
Пушкинская лечебница I разряда, 31 кровать.
Фабрика Арманд, помещение клуба I разряда, 40 кроватей.
Фабрика Ватреме II разряда, 70 кроватей.
Помещения Суконной мануфактуры II разряда, 15 кроватей.
Помещения Вознесенской мануфактуры II разряда, 8 кроватей.
Имение Леонтьевой III разряда, 5 кроватей.
Имение Шарикова III разряда, 10 кроватей.
Имение Дмитриева III разряда, 45 кроватей.
Фабрика Ватреме III разряда, 16 кроватей. [С. 32].
[Нижегородская железная дорога]
Станция Реутово, Реутовско-Балашихинского района, Московского уездного комитета.
Заведующие врачи: М.А. Сорокин, А.А. Пальховский.
Реутовская фабричная лечебница I разряда, 35 кроватей.
Балашихинская фабричная лечебница I разряда, 45 кроватей.
Фабрика Петрова II разряда, 5 кроватей.
Дом Севрюгова III разряда, 60 кроватей.
Завод Милованова III разряда, 10 кроватей.
Дом Рахманова III разряда, 10 кроватей.[С. 20].
Станция Кучино:
Дом Рябушинского III разряда, 12 кроватей.
Дом Титовой, III разряда, 12 кроватей.
Дом Лопатиной III разряда, 10 кроватей.[С. 20].
Ново-Сокольнический участок:
Завод Сачковой и Бычковой III разряда, 20 кроватей.
Дом Храповицкой III разряда, 8 кроватей. [С. 20].
Список госпиталей губернских и уездных комитетов в Московской губернии к 1 ноября 1914 года. М., 1914.
|
Метки: первая мировая война красный крест лазареты |
Военная зима Константина Паустовского |
Военная зима Константина Паустовского (Часть 2)
Еще один белорусский адрес Паустовского – Замирье под Несвижем. Названия Замирье, где стоял отряд Паустовского, на карте Белоруссии сейчас нет. Известный белорусский писатель Алесь Карлюкевич с помощью местного краеведа Бориса Скачко, установил, что сейчас это городской поселок и станция Городея в 19 километрах от Несвижа.
![]()
Еще один важный белорусский адрес Паустовского – Замирье под Несвижем.
«В октябре на фронте наступило затишье. Наш отряд остановился в Замирье, вблизи железной дороги из Барановичей в Минск. В Замирье отряд простоял всю зиму.
Ничего более унылого, чем это село, я не видел в жизни. Низкие обшарпанные хаты, плоские, голые поля, и ни одного дерева вокруг… …Поздняя осень пришла черная, без света. Окна в нашей хате все время стояли потные. С них просто лило, а за ними ничего не было видно».
Названия Замирье, где стоял отряд Паустовского зимой с 1915 на 1916 года, на карте Белоруссии сейчас нет. Известный белорусский писатель Алесь Карлюкевич, изучая белорусский след в творчестве Паустовского, с помощью местного краеведа Бориса Скачко, установил, что сейчас это городской поселок и станция Городея в 19 километрах от Несвижа. Именно там, по архивным данным находился большой госпиталь, лечивший солдат Западного фронта с 1914 по 1917 годы.
«Я много ездил в ту зиму по маленьким городам и местечкам. Ездил то верхом, то на поездах. Белоруссия выглядела так, как выглядел бы старинный пейзаж, повешенный в замызганном буфете прифронтовой станции. Следы прошлого были еще видны повсюду, но это была только оболочка, из которой выветрилось содержимое.
Я видел замки польских магнатов – особенно богат был замок князя Радзивилла в Несвиже, – фольварки, еврейские местечки с их живописной теснотой и запущенностью, старые синагоги, готические костелы, похожие здесь, среди чахлых болот, на заезжих иностранцев. Видел полосатые верстовые столбы, оставшиеся от николаевских времен. Но уже не было ни прежних магнатов, ни пышной и бесшабашной их жизни, ни покорных им «холопов», ни доморощенных раввинов-философов, ни грозных Судных дней в синагогах, ни истлевших польских знамен времен первого «повстания» в костельных алтарях. Правда, старые евреи в Несвиже могли еще рассказать о потехах Радзивилла, о тысячах «хлопов», стоявших с факелами вдоль дороги от самой русской границы до Несвижа, когда Радзивилл встречал свою любовницу – авантюристку Кингстон, о многошумных охотах, пирах, самодурстве и шляхетском чванстве, глуповатой спеси, считавшейся в те времена паспортом на вельможное «панство». Но рассказывали они об этом уже с чужих слов.

А сейчас во время войны, установившийся быт, так же как и эти тусклые воспоминания, стерла до основания война. Она затоптала его, загнала в последние тихие норы, заглушила хриплой руганью и ленивым громом пушек, стрелявших и зимой, только чтобы прочистить горло. … Зима стояла гнилая. Снег падал и раскисал. И так стоял раскисший, неделями. Зима была покрыта грязной снежной кашей. Сырые ветры упорно дули из Польши, вороша перепрелую солому на белорусских халупах».
Однажды произошел небывалое и страшное. Хотя на войне, все небывалое и страшное. Вот как обыденно и одновременно пронзительно-надрывно пишет об этом Константин Георгиевич:
«Как-то от нечего делать я начал просматривать старую измятую газету. В нее был завернут сыр и газета была в жирных пятнах. В отделе погибших на фронте было напечатано: «Убит на Галицийском фронте поручик саперного батальона Борис Георгиевич Паустовский». И немного ниже: «Убит в бою на Рижском направлении прапорщик Навагинского пехотного полка Вадим Георгиевич Паустовский». Это были два моих брата. Они погибли в один и тот же день. Главный врач госпиталя, несмотря на то, что я был еще слаб (Паустовский был тяжело ранен и чуть не умер от потери крови. В.К.) отпустил меня. Мне дали санитарную повозку, и она отвезла меня в Замирье. А вечером я выехал из Замирья в Москву, к маме».
Так закончилась для Константина Георгиевича Паустовского та тяжелая зима Первой мировой войны. Впереди была длинная нелегкая, но, видимо, счастливая жизнь большого русского писателя.
Владимир Казаков
Фото с сайтов www.paustovskiy.niv.ru и www.chtoby-pomnili.com
|
Метки: первая мировая война красный крест лазареты паустовские |
Царственные сестры милосердия Дома Романовых |
Царственные сестры милосердия Дома Романовых
Пока бросает ураганами 
Державный вождь свои полки,
Вы наклоняетесь над ранами
С глазами, полными тоски.
И имя Вашего Величества
Не позабудется, доколь
Смиряет смерть любви владычество
И ласка утешает боль.
Николай Гумилев
Милосердие всегда было природным призванием женщины, одной из ее несомненных добродетелей. В наш прагматичный век занятие благотворительностью считается едва ли не служебной обязанностью супруги человека, облеченного властью. Однако то, что сейчас воспринимается как «bon ton», в прежние времена было духовной и нравственной интенцией, укорененной в истинно христианских ценностях. Искренний «порыв сердца» опекать несчастных, жертвовать на это немалые средства, собственный труд и время не ограничивался лишь заботой о «теле» опекаемых. Попечение о душах было одинаково важно для высоких благотворительниц. Делу служения ближнему иногда посвящалась вся жизнь.
Незаслуженно мало мы знаем о благородных делах царственных женщин дома Романовых. А между тем практически каждое поколение женщин императорского дома подавали прекрасные примеры «служения Богу в ближнем». Их высокое общественное положение помогало жизнеспособности создаваемых ими общин милосердия, кроме того, они подавали пример социального христианского служения другим слоям общества. Общественно значимая многолетняя общественная деятельность женщин императорской фамилии по организации общин сестер милосердия до сих пор не оценена по достоинству. Многие годы по политическим причинам понятие благотворительности находилось если не под запретом, то под подозрением как мелкобуржуазное занятие. Рассказы о сестрах милосердия фактически изъяты из обращения. Только в последнее время стали появляться работы, посвященные этой теме.
Высочайшая благотворительность многообразна. Иногда здесь можно проследить очень интересные личностные связи, взаимовлияние и исторические параллели.
Общины сестер милосердия были едва ли не первыми общественными организациями в России. Они значительно расширили возможности для самореализации женщин всех сословий русского общества. Они стали важным этапом развития отечественной медицины. Покровительство царственных особ в значительной степени помогало становлению и развитию здравоохранения в империи, особенно ее среднего и низшего звена. Этот опыт по организации сестринского дела не ограничивался территорией России, а благодаря самоотверженности сестер милосердия и их царственных руководительниц распространялся, например, и в Болгарии.
В начале XVIII в. указом Петра I были созданы «воспитательные дома», госпитали и лазареты, пансионы, куда привлекались для работы женщины, «кои умеют обслуживать больных». Елизавета Петровна, «дщерь Петрова», подтверждает указы отца о богадельнях и «гошпиталях». Екатерина II старается расширить финансовую и законодательную базу благотворительности, возлагая обязанности по содержанию богаделен, больниц для неизлечимо больных, аптек и других благотворительных заведений на губернские и городские власти.
В 1803 г. в Москве и Петербурге создаются «вдовьи дома» для вдов служащих императорской армии, а также Мариинские больницы для бедных. В 1814 г. по распоряжению императрицы Марии Федоровны «сердобольные вдовицы» на добровольных началах направляются в больницы в помощь раненым. Предварительно они обучались некоторым санитарно-гигиеническим и медицинским навыкам. В течение года они находились на испытательном сроке, затем приводились к присяге, во время которой на них возлагался православный «Золотой крест» на зеленой ленте как знак сердоболия. Этот крест они имели право носить всю жизнь. Для ухода за больными «сердобольные вдовицы» командировались по очереди в больницы и частные дома. Так вдовствующая императрица положила начало сестринскому движению в России. Ее деятельность заслужила высокую оценку Карамзина, Плетнева, Жуковского, Пушкина. Она оставила после себя более 30 благотворительных учреждений, в том числе богадельни и больницы.
После кончины Марии Федоровны император Николай I создает IV Отделение собственной Его Императорского Величества канцелярии под именем императрицы Марии. Все же учреждения ведомства поступают под попечительство царствующей императрицы Александры Федоровны. Дочь императрицы Екатерина Павловна во время Отечественной войны 1812 года открывает в Твери госпитали для раненых.
В 1844 г. внучка Марии Федоровны принцесса Терезия при участии дочерей Николая I великих княгинь Марии и Александры открывает в Петербурге Никольскую женскую общину, которая готовит сестер милосердия «для хождения за больными и обращения на путь истины людей, погрязших в пороках». Содержалась община на проценты с капитала великой княгини Александры Николаевны, а также за счет пожертвований, прежде всего от императорской фамилии и других лиц. Первых сестер, принявших присягу, 8 человек. В функции сестер входили дежурства на квартирах и в больницах, их профессиональная подготовка была сугубо практической.
Между «сердобольными вдовицами» и общинами сестер милосердия была одна существенная разница: первые были монахинями, вторые — мирянками. Так, значительно расширялась социальная база и возможности сестринского движения: храмово-монастырское служение дополнялось светским, полурелигиозным, полувоенным, полугражданским. Общины считались православными. Однако в них принимались и католички, и лютеранки, независимо от социального происхождения, таким образом, община была межконфессиональной. Сестры давали клятву сострадательного служения больным и безупречного поведения в соответствии с предписаниями христианской морали, отличались «набожностью, милосердием, опрятностью, скромностью, добротой и терпением». Жена Нколая I императрица Александра Федоровна приняла общину под свое высочайшее покровительство. После двухлетнего обучения и необходимого испытательного срока слушательницы получают звание «сестра милосердия».
Великая княгиня Мария Николаевна, старшая дочь Николая I, также занималась благотворительностью: состояла действительным членом Патриотического общества, принимала личное участие в управлении женскими учебными заведениями, заведовала Патриотическим институтом.
 В память о великой княжне Александре Николаевне, скончавшейся в возрасте 19 лет, было создано несколько благотворительных учреждений, в том числе Александринская женская больница в Петербурге. В 1844 году императрица Александра Федоровна приняла ее под свое высочайшее покровительство, ежедневно посещала больницу, часами ухаживала за больными наравне с другими сестрами.
В память о великой княжне Александре Николаевне, скончавшейся в возрасте 19 лет, было создано несколько благотворительных учреждений, в том числе Александринская женская больница в Петербурге. В 1844 году императрица Александра Федоровна приняла ее под свое высочайшее покровительство, ежедневно посещала больницу, часами ухаживала за больными наравне с другими сестрами.
Великая княгиня Елена Павловна, дочь Павла I, в 1854 г. открывает в Петербурге Крестовоздвиженскую общину сестер милосердия. Первоначально Община была создана как временное формирование в связи с началом Крымской войны и необходимостью дополнительной медицинской помощи раненым. Кроме этого Елена Павловна вместе с великим хирургом Н.И.Пироговым организует сестринский уход за ранеными непосредственно на пол боя, преодолевая известное сопротивление в обществе. Вместе они перерабатывают устав общины, вводят новые новые функциональные сестринские структуры в соответствии с образованием и личными возможностями сестер. Во время тяжелейших боев бесстрашные сестры оказывают медицинскую помощь раненым в тыловых госпиталях, эвакопунктах, на поле боя. 17 из них погибают или умирают от ран и тифа. По предложению Елены Павловны и Н.И.Пирогова все медицинские сестры награждены золотыми и серебряными крестами. 158 сестер милосердия получают по императорскому указу бронзовые медали с Андреевской лентой. После войны сестры были допущены в гражданские больницы и к массовой патронажной работе.
Императрица Мария Александровна, супруга Александра II Освободителя, сделала немало для открытия епархиальных общин сестер милосердия, в которых служили монахини. Императрица пожелала «видеть в Отечестве нашем утверждение и развитие духа христианского милосердия». Ей приходилось преодолевать молчаливое сопротивление некоторых православные иерархов, которые не принимали принцип соединения деятельности на пользу другим и монашеского служения Богу. Но благодаря непреклонной воле императрицы две епархиальные общины в Пскове и в Москве были созданы по ее поручению усилиями игуменьи Митрофании.
Деятельность императрицы Марии Александровны в качестве верховной покровительницы Русского общества Красного Крест особенно интересна для нас многочисленными дарениями в пользу действующей армии во время Освободительной войны 1877-1878 гг. По ее личному распоряжению в ответ на просьбу жителей г.Пловдива благотворительному болгарскому обществу Св.Пантелеймона в 1879 г. были подарены русские военные госпитали и два склада с полным оборудованием и инвентарем.
Великая княгиня Мария Павловна, супруга великого князя Владимира Александровича, третьего сына Александра II, лютеранка по вероисповеданию, немка по происхождению, в полном соответствии с традициями женщин Дома Романовых принимала активное участие в благотворительной деятельности общин сестер милосердия и Русского общества Красного Креста. Во время Русско-японской войны 1904-1905 гг. она оборудовала и послала на фронт в Манчжурию два санитарных поезда. Управление персоналом одного из поездов великая княгиня поручила своей двоюродной сестре, немецкой принцессе Элеоноре фон Кестриц, будущей болгарской царице.
В 1904 г. в Петербурге императрица Мария Федоровна, мать Николая II, покровительница Русского общества Красного Креста дает распоряжение создать специальную Комиссию по распределению больных и раненых воинов. Руководство этой комиссией она поручает великой княгине Марии Павловне и великой княгине Ксении Александровне, сестре последнего русского императора. Княгини успешно руководят многотысячным коллективом сестер милосердия, что повышает эффективность их труда по излечению раненых.
По Нормальному Уставу, утвержденному для общин сестер милосердия Красного Креста, вних принимались лица «христианского вероисповедания» (п.35). Сестра налагала на себя «нравственную обязанность служить... с любовью и кротостью»(п.43).
В то же время, стремясь к духовному устроению общин, в состав большинства из них вводился священник, исполнявший обязанности духовника сестер милосердия и преподавателя Закона Божия. Помимо совершения богослужений и таинств, он длжен был разъяснять сестрам милосердия духовные основы их сужения. К сожалению, к началу ХХ в. идея христианского служения ближнему все более размывалась в связи с общей секуляризацией общественного сознания. Однако была и другая тенденция. И связана она с именем Святой мученицы Елизаветы.
Особое место в  истории благотворительности в России занимает личность великой княгини Елизаветы Федоровны, супруги великого князя Сергея Александровича, родной сестры последней русской императрицы. Елизавета Федоровна принимает православие и как жена генерал-губернатора Москвы начинает благотворительную деятельность: организует сбор средств в помощь армии в Маньчжурии, экипирует несколько санитарных поездов, создает специальные комитеты для вдов и сирот погибших. Она являлась одной из главных руководительниц организации женского труда в помощь фронту. Под мастерские были заняты все залы Кремлевского дворца, кроме Тронного. Сюда также поступали пожертвования со всей Москвы и из провинций, которые затем отправлялись на фронт. Помимо продовольствия, обмундирования, медикаментов и подарков для солдат были отправлены походные церкви с иконами и со всем необходимым для совершения богослужения во фронтовых условиях. Лично от себя великая княгиня отсылала солдатам иконки и молитвенники.
истории благотворительности в России занимает личность великой княгини Елизаветы Федоровны, супруги великого князя Сергея Александровича, родной сестры последней русской императрицы. Елизавета Федоровна принимает православие и как жена генерал-губернатора Москвы начинает благотворительную деятельность: организует сбор средств в помощь армии в Маньчжурии, экипирует несколько санитарных поездов, создает специальные комитеты для вдов и сирот погибших. Она являлась одной из главных руководительниц организации женского труда в помощь фронту. Под мастерские были заняты все залы Кремлевского дворца, кроме Тронного. Сюда также поступали пожертвования со всей Москвы и из провинций, которые затем отправлялись на фронт. Помимо продовольствия, обмундирования, медикаментов и подарков для солдат были отправлены походные церкви с иконами и со всем необходимым для совершения богослужения во фронтовых условиях. Лично от себя великая княгиня отсылала солдатам иконки и молитвенники.
На берегу Черного моря у Новороссийска Елизавета Федоровна построила санаторий для раненых.
Трагическая гибель супруга в феврале 1905 г. навсегда меняет ее жизнь. Великая княгиня Елизавета Федоровна покупает на средства, вырученные от продажи принадлежащих ей драгоценностей, нескольких зданий, парк на Большой Ордынке и учреждает Марфо-Мариинскую обитель. Причем и княгиня, и Синод настаивают на том, чтобы слово «Милосердие» писалось с заглавной буквы. На территории обители были созданы больница, аптека, приют для девочек, странноприимница, церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Впервые за 5 лет княгиня сняла с себя траур и облачилась в монашеские одежды. Святым Синодом «мать Елизавета» была определена настоятельницей Марфо-Мариинской обители.
 Обитель Милосердия, труда и молитвы, с одной стороны, продолжала русские традиции, с другой — была новым заведением — монастырь в сочетании с активной благотворительной и медицинской работой.
Обитель Милосердия, труда и молитвы, с одной стороны, продолжала русские традиции, с другой — была новым заведением — монастырь в сочетании с активной благотворительной и медицинской работой.
В обитель принимались «вдовы и девицы не моложе 21 года и не старше 40 лет. Требования же обители следующие:
-
прочное духовное настроение и желание в смирении и терпении нести всякое возлагаемое на сестер послушание во имя господа, Которому они приносят свои силы и труд;
-
физическое здоровье, необходимое при такой работе, которую берут на себя сестры.»
Больница обители Милосердия считалась в Москве образцовым заведением. Ее руководителем был доктор медицинских наук А.И.Никитин. Для работы в ней привлекались лучшие специалисты. В больнице постоянно дежурили врачи, все операции проводились бесплатно. Все сестры обители Милосердия проходили курс по элементарным медицинским знаниям. Сестры, предназначенные для работы в госпитале, проходили специальные медицинские курсы. Больница пользовалась такой высокой репутацией, что сюда направлялись самые тяжелые больные из других госпиталей Москвы.
Кроме медицинских забот сестры взяли на себя тяжкий труд социальной адаптации обитателей Хитровки. В самом опасном районе Москвы мать Елизавета появлялась без охраны, а лишь в сопровождении княгини Оболенской или сестры Варвары, убитой впоследствии вместе с ней. Елизавета старалась помочь детям Хитровки, собирала сирот в своем приюте, где сестры занимались их образованием и воспитанием. Действовала столовая для бедных, в которой за день бесплатно питались до 300 человек. Более трех лет существовал дом для больных туберкулезом, работала библиотека, мастерские по организации наемного труда и т.д.
Благотворительная деятельность матери Елизаветы распространялась и на Православное палестинское общество, чьим покровителем был покойный Сергей Александрович. Поселе его смерти она унаследовала его обязанности и помогала многочисленным русским паломникам на Святой Земле. В 1911 г. по поручению Елизаветы на собранные ею средства был приобретен большой участок земли в Бари (Италия), на котором к 1914 г. был возведен храм Святого Николая Мерликийского Чудотворца и странноприимный дом для паломников.
С началом Первой мировой войны мать Елизавета как пожизненная руководительница Московского отделения Русского общества Красного Креста занимается обеспечением медицинской помощи раненым. Она осуществляет инспекционную поездку в больницы Карпатского фронта, посылает телеграмму своей сестре-императрицы, чтобы обрадовать ее, так как четыре санитарных поезда и склады, которые обследовала великая княгиня, были сформированы и снабжены трудами императрицы.
Последняя русская императрица Александра Федоровна, будучи матерью пятерых детей, находила время для благотворительности во время Русско-японской войны, организовывая мастерские по изготовлению подарков для воюющих в Маньчжурии. В крымской Массандре был открыт прекрасный госпиталь для раненых.
 Особенно масштабной стала эта деятельность с началом Первой мировой войны: В Царском Селе открываются лазареты, во дворцах императрица открывает склады по снабжению армии бельем и перевязочными материалами. Организуются два комитета в помощь семьям погибших и беженцам плд руководством великих княгинь Ольги Николаевны и Татьяны Николаевны, получившие известность на территории всей России как «Татьянинский» и «Ольгинский». В ноябре 1914 г. императрица и две ее старших дочери вместе с 42 слушательницами курсов Красного Креста сдали экзамен и получили звание Сестер Милосердия. На собственные средства императрица создает эвакопункт, объединяющий 85 лазаретов и 10 санитарных поездов.
Особенно масштабной стала эта деятельность с началом Первой мировой войны: В Царском Селе открываются лазареты, во дворцах императрица открывает склады по снабжению армии бельем и перевязочными материалами. Организуются два комитета в помощь семьям погибших и беженцам плд руководством великих княгинь Ольги Николаевны и Татьяны Николаевны, получившие известность на территории всей России как «Татьянинский» и «Ольгинский». В ноябре 1914 г. императрица и две ее старших дочери вместе с 42 слушательницами курсов Красного Креста сдали экзамен и получили звание Сестер Милосердия. На собственные средства императрица создает эвакопункт, объединяющий 85 лазаретов и 10 санитарных поездов.
В собственном лазарете императрица со старшими дочерьми Ольгой и Татьяной работают ежедневно. Кроме того, Александра Федоровна жертвует средства на оборудование рентгеновского кабинета, сооружение походной церкви, которую перевозят по госпиталям,чтобы дать возможность раненым помолиться. Великие княжны Татьяна и Ольга работают и в лазарете в Екатерининском дворце. Императрица также ежедневно посещает больницу и в марте 1915 г. пишет супругу: «...сколько горя кругом! Слава Богу за то, что мы, по крайней мере, имеем возможность принести некоторое облегчение страждущим и можем им дать чувство домашнего уюта в их одиночестве. Так хочется согреть и поддержать этих храбрецов и заменить им их близких, не имеющих возможности находиться около них!» («Августейшие сестры милосердия. Сб.материалов. - М., 2008, с.86)
Кто облегчил страдания царственным великомученикам в роковом 1918 г.? Вся семья императора Николая II, великая княгиня Елизавета Федоровна были зверски убиты под Алапаевском. О их добродетелях и помощи страждущим никто и не вспомнил тогда и многие десятилетия спустя.our-vestnik.ru/tsarstvennyye-sestry-miloserdiya-doma-romanovykh
|
Метки: романовы красный крест сёстры милосердия |
Экскурсия в Усадьбу Васильчиковой — Оболенского — Фон Мекк |
Экскурсия в Усадьбу Васильчиковой — Оболенского — Фон Меккhttps://cozymoscow.me/ekskursii/ekskursiya-v-usadb...ovoj-obolenskogo-fon-mekk.html
В субботу, 09 февраля, в 15-00 приглашаем посетить необыкновенный дом, у которого не только много владельцев в названии, но и история более чем богатая! Ещё в начале 19 века участок, который сейчас занимает городская усадьба, принадлежал Екатерине Васильчиковой, построившей здесь сразу после пожара 1812 года два особняка. Свой современный вид здание приобрело уже позже, после того как в конце 1830-х гг. владение выкупила семья Зубовых-Оболенских. В 1860-х годах два дома соединяются в один и строится огромный бальный зал. В 1865 году Оболенские продают дом семье купцов Алексеевых. Но на этом история не закончилась, после смерти Александра Алексеева в 1884 году его вдова делит владение на две части, строит себе вместо сада особняк, а старый дом продаёт Владимиру Карловичу фон Мекку. После его смерти усадьбу покупает А.Э. Фальц-Фейн. Фальц-Фейны проводят водяное отопление, вентиляцию и электричество и уже через три года, в 1898 году продают Любови Зиминой, которая и владела домом до самой революции. А после продолжала проживать в национализированном особняке, где ей выделили небольшую квартирку.

Усадьба связана с именами декабристов Н. В. Васильчикова, П. Н. Свистунова, И. И. Муравьёва-Апостола. В конце XIX в. здесь часто бывали на светских приёмах композиторы С. В. Рахманинов, А. К. Глазунов, П. И. Чайковский.

После революции здание тоже сменило несколько владельцев. С 1923 года здесь находился Верховный суд РСФСР. В конце 1930-х годов – жилой дом для политических эмигрантов. После 1945 года – строительная организация. С 1956 года особняк с богатой биографией стал Центральным шахматным клубом СССР (сейчас Центральный дом шахматистов России).

В ходе реставрации 2015-2016 годов восстановлены исторические интерьеры парадного вестибюля, холла второго этажа, Большого парадного, Чигоринского и Портретного залов, кабинета руководителя. Воссоздано первоначальное колористическое решение интерьеров. Раскрыты первоначальные ниши и дверные проемы, поздние — заложены. Восстановлены элементы декора. Усадьба стала лауреатом конкурса «Московская реставрация-2016» в номинации «лучший проект реставрации».

Тем, кто не является членом Федерации Шахмат попасть сюда невозможно. Но для нас сделано исключение. Приглашаем на экскурсию. Участие 1000 руб. Группа 20 человек. Гид — художник и краевед Ирина Левина. Фотосъёмка разрешена. Запись на glavred@cozymoscow.me
Январь 15, 2019 By Julia
|
Метки: оболенские васильчиковы фон мекк |
Русские красавицы эмиграции . Утраченный генофонд. Много фото |
Русские красавицы эмиграции . Утраченный генофонд. Много фото
- May. 5th, 2016 at 8:58 PM
Русские аристократки-эмигрантки не придумали модельный бизнес. Он и до этого существовал в Англии.
Но именно они стали эталоном красоты, изящества и вкуса.
Они придали модельному бизнесу шарм и гламур.
Ими восхищалась Франция. Вот только об этом как-то особо не любят вспоминать русофобы, которым так и хочется, чтобы образ русской женщины продолжал ассоциироваться с толстыми крестьянками и совковыми безвкусно одетыми колхозницами. Одного только примера русских аристократок-топ-моделей достаточно, чтобы развеять в пух и прах этот нелепый миф.
Нина Твердая, манекенщица дома "Арданс" и одна из финалисток конкурса "Мисс Россия" в 1930 г. в Париже, в черном платье из джерси
Благодаря представительницам русской эмиграции в мире радикально изменилось представление о манекенщицах и та роль, которую они играют в мире моды и в обществе в целом. До этого момента быть манекенщицей считалось занятием сомнительным, едва ли не неприличным.
Первые школы моделей возникли в Англии и лишь потом - во Франции. При наборе в школу предпочтение отдавали девушкам-танцовщицам, умевшим красиво двигаться.
Во Франции особенно ценились русские эмигрантки-аристократки: они обладали прекрасной осанкой и умели с достоинством ходить. Ими восхищался весь Париж.
Русские манекенщицы стали эталоном изящества и вкуса.
Самой красивой женщиной Парижа и лучшей фотомоделью считалась Натали Лелонг (до замужества Палей), дочь великого князя Павла Александровича.
Ее портреты были главным украшением журнала Vogue.
Русские эмигрантки, блестящие светские красавицы и представительницы аристократических семей, которые вынуждены были зарабатывать на жизнь, стали первыми топ-моделями домов Ланвен, Шанель, Пуаре и др.
Публика была поражена их элегантностью, рафинированностью, знанием языков и аристократизмом.
Они подняли представление о манекенщицах на совершенно новую высоту и сделали роль модели очень значительной, каковой она и продолжает оставаться по сей день.
Именно с 1920-х гг. быть моделью стало престижно и модно, и именно русские подарили миру эту профессию в ее современном качестве.
Русские красавицы имели грандиозный успех в мире. Начиная с 1928-го года, в Париже был организован конкурс "Мисс Россия". В том же 1928 г. титул "Мисс Нью-Йорк" получила русская красавица Валентина Кашубо, бывшая дягилевская балерина. На конкурсах красоты, проходивших в эти годы в Берлине, Гамбурге, Лондоне и других городах, очень часто победительницами становились русские красавицы.
1920-е гг. были периодом очень большого успеха русских актрис в Голливуде - пока кино было немым, определяющими были внешние данные и актерский талант, а акцент не имел никакого значения.
Натали Палей - руская топ-модель
Юсуповы в эмиграции
Одним из самых известных в ту пору был Дом моды «Ирфе», основанный княжеской четой самых богатых людей России князем Феликсом и княгиней Ириной Юсуповыми.
Другим известным Домом моды считался «Итеб». Это название было составлено из прочитанного наоборот имени хозяйки, баронессы Бетти Гойнинген-Гюне, в первом браке баронессы Врангель.
Русские красавицы в 1920-е годы славились белизной кожи, голубизной глаз, высокими скулами и темными волосами. Особенно заметной тогда была красота княгини Мэри Эристовой, княжны Мии Оболенской, Теи Бобриковой и графини Елизаветы Граббе.
А вот мода на блондинок пришла лишь после 1929-го года, когда востребованной стала красота княжны Натали Палей, Людмилы Федосеевой, Лидии Ротванд,виконтессы Жени де Кастекс.
Топ-модель Людмила Федосеева, Париж, 1938 г.
30-е гг. Русские топ-модели успешно конкурировали с топ-моделями Третьего Рейха.
Именно тогда взошла звезда Людмилы (Люд) Федосеевой, самой высокооплачиваемой фотомодели 30-х годов. Её судьба во многом типична для моделей как той поры, так и последующих времен.
«Открыл» её известный в те годы фотограф Хорст, работы которого с Людмилой сначала очень не понравились владельцу «Вог» Конде Насту.
Через некоторое время последний, что называется, проникся и даже собрался жениться на Федосеевой. Она продолжала пользоваться большим успехом и в годы немецкой оккупации Франции. Накануне освобождения Парижа уехала в Аргентину, а вернувшись, осталась без работы и былой славы.
Не исключено, что французы не простили ей, как и Коко Шанель, «близости» с фашистами. И в 50-е гг. бывшая звезда подиума и глянцевых журналов работала сначала клерком в одной из авиакомпаний, а затем кастеляншей в эмигрантском доме для престарелых.
Вполне возможно, впрочем, что прошлое Люды Федосеевой здесь не при чём и она попросту оказалась жертвой изменчивой моды. Вообще, издержки профессии фотомодели и манекенщицы были одинаковы что тогда, что сейчас. Главная из них – век модели, как известно, очень недолог. В наши дни многие из них начинают карьеру в 13–15 лет, а к 25 годам большинство уже выходит в тираж. В 20–30-е гг. прошлого века подобной «акселерации» не наблюдалось. Тем не менее большинство манекенщиц завершали свою карьеру в 30–35 лет. И единственным выходом для них (как и для нынешних звезд подиума) становился удачный брак.
Киноактриса Ольга Бакланова, Голливуд, 1928 г.
Балерина Ксения Триполитова, Париж, 1945 г.
Манекенщица Варвара Раппонет, Париж, 1944 г.
Певиица Людмила Лопато, Париж, 1950 г.
Балерина Анна Павлова, Берлин, 1913 г.
Киноактриса Вера Холодная, Москва, 1916 г.
Балерина Валентина Кашуба, Париж, 1916 г.
Балерина Александра Балашова, Париж, 1921 г.
Киноактриса Ольга Безяева, Берлин, 1923 г.
Княгиня Ирина Юсупова, урожденная княжна Романова, Париж, 1924 г.
Манекенщица Леди Ия Абди, урожденная Ге, Париж, 1925 г.
Киноактриса Ксения Десни, урожденая Десницкая, Берлин, 1927 г.
Манекенщица Тея Бобрикова, Париж, 1928 г.
Киноактриса Нина Ванна, урожденная Языкова, Лондон, 1929 г.
Манекенщица княгиня Мери Эристова, урожденная княжна Шереашидзе, Париж, 1929 г.
Манекенщика княгиня Елизавета Белосельская-Белозерская, урожденная графиня Граббе, Париж, 1929 г.
Киноактриса Наталья Кованько, Берлин, 1930 г.
Манекенщица княжна Мин Оболенская, в замужестве Шаховская, Париж, 1930 г.
Киноактриса Вера Малиновская, Берлин, 1931 г.
Манекенщица Мария Павлова, урожденная княжна Волконская, Париж, 1932 г.
Манекенщица виконтесса Женя де Кастекс, урожденная Горленко, Париж, 1934 г.
Княжна Натали Полей, Париж, 1937 г.
Балерина Ольга Спесивцева, Париж, 1929 г.
Виконтесса Женя д'Кастэкс-Горленко, Париж, 1933 г.
Виконтесса Женя д`Кастэкс-Горленко. Париж, 1936 г.
Екатерина Николаевна Бобрикова. Париж, 1937 г.
Ирина Бородулина, мисс Россия1939 г.
Нина Поль, 1932 г.
Ариадна Гедеонова, мисс Россия1936 г.
Татьяна Маслова, мисс Европа 1933 г.
Палей Наталья Павловна - символ «красоты в изгнании»
Tags:
|
Метки: русское зарубежье эмиграция |
Оболенские-жертвы террора |
Жена Оболенского Михаила Федоровича. В мае 1934 — находилась в Сиблаге (Мариинск), работала заведующей детскими яслями в госпитале (сын Сергей находился с ней, муж — в лагере на Печоре).
ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 1262. С. 1-10, 12.
ОБОЛЕНСКАЯ (урожд. Гудович) Варвара Александровна.
Родилась в 1900. Графиня (отец, граф Гудович Александр Васильевич, губернатор в Кутаиси, в 1918 — расстрелян; мать Гудович Мария Сергеевна). Окончила Высшие женские курсы. Художник. Жена князя Оболенского Владимира Васильевича. 28 августа 1937 — арестована, 1 декабря приговорена к 10 годам ИТЛ и отправлена в Сиблаг, где 3 марта 1938 — скончалась.
ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. 72579. С. 4, 7-10. 17-18, 82.
Жертвы политического террора в СССР. Компакт-диск.
Чуйкина С. А. Дворянская память: бывшие в советском городе ... С. 19.
Родилась в 1854. Княгиня. Окончила гимназию и Высшие женские курсы, с 1904 — работала учительницей начальных классов на Выборской стороне Петербурга, обучала грамоте детей рабочих, в 1920-х — пенсионерка в Ленинграде. В марте 1935 — выслана с дочерью, Оболенской Марией Яковлевной, и племянником, Оболенским П. В., в Оренбург на 5 лет, лишена там пенсии. В ноябре 1937 — находилась с больной дочерью в селе Сок-Кармала Оренбургской области.
ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1: Д. 1366. С. 256-259; Д. 1573. С. 203-06.
Князь В. П. Мещерский. Мои воспоминания.— М.: Захаров, 2003. С. 66, 90.
Родилась в 1876. Княжна (отец князь Оболенский Леонид Николаевич, действительный статский советник; мать Шмидт-Оболенская Дарья Ивановна). В 1914 — сестра милосердия в госпитале. Зимой 1917 — выехала с матерью и сестрами из Петрограда в Рязань, с 1920 — проживала в Ленинграде. В марте 1935 — выслана с сестрой Софьей Леонидовной из Ленинграда в Оренбург. После 1937 — после гибели сестры приняла тайный монашеский постриг. В 1940 — скончалась.
Алфавитный указатель жителей Петрограда… на 1917 год. Компакт-диск.
ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 1410. С. 128.
Симонов А. Парень с Сивцева Вражка — М.: — "Новая газета", 2009. С. 210-12.
ОБОЛЕНСКАЯ (урожд. Дитерихс) Елена Константиновна.
Родилась в 1862 (отец Дитерихс Константин Александрович, действительный статский советник, в 1893 — скончался; Дитерихс Ольга Иосифовна. Первый муж Иван Григорьевич Щегловитов. Второй муж — князь Оболенский Алексей Алексеевич, предводителя дворянства Чериковского уезда. Вдова (в 1910 — муж умер). В ноябре 1918 — убита и сожжена в доме в имении Горки Могилевской губ.
Всероссийское генеалогическое древо. www.vgd.ru/D/dines.htm...
Чуйкина С. А. Дворянская память: бывшие в советском городе... С. 19.
ru.rodovid.org/wk/Запись…
ОБОЛЕНСКАЯ Елизавета Васильевна.
Родилась в 1875. Княжна. Вышла замуж за Владимира Константиновича Шиловского. Арестована и осуждена, в 1943 — погибла.
Аксакова (Сиверс) Т. А. Семейная хроника. Кн. 1. — М., Территория, 2005. С. 175.
Всероссийское генеалогическое древо. www.vgd.ru/D/dines.htm...
Чуйкина С. А. Дворянская память: бывшие в советском городе... С. 19.
ОБОЛЕНСКАЯ Ирина Владимировна.
Родилась 25 июля 1898 в Пскове. Княжна (отец, князь Оболенский Владимир Андреевич, депутат 1-й Госдумы, член ЦК партии кадетов; мать Винберг-Оболенская Ольга Владимировна). Училась на Бестужевских женских курсах. После революции жила с женой брата Екатериной Николаевной Винберг и его дочерью Ниной в имении «Саяны». Где 21 сентября 1921 — арестована вместе с ними «за попытку выехать за границу без разрешения», 9 февраля 1922 — отправлена в Москву и заключена в Лефортовскую тюрьму, позднее переведена в тюремную больницу. 12 мая освобождена под подписку о невыезде. В 1925 — эмигрировала с семьей во Францию, в 1926 — вышла замуж за археолога Зандрока Е.Ю. В 1987 — скончалась в Париже.
ГАРФ. Ф. Р-8419. Оп.1. Д. 181. С. 18-22; Ф. Р-8409. Оп.1. Д. 1475. С. 120.
Оболенский В. А. Моя жизнь. Мои современники. Париж, Имка-Пресс. 1988. С. 274.
Плешко Н.Д. Князья Оболенские. Родословие. Нью-Йорк, 1959-1975.
 Родилась в 1889 в Грубешове Седлецкой губ. Княжна (отец, князь Оболенский Иван Дмитриевич, в 1920 — скончался; мать Оболенская Елизавета Георгиевна; два брата погибли на войне). В 1904 — окончила Смольный институт благородных девиц, давала частные уроки, с 1906 — в Санкт-Петербурге, с 1910 — давала уроки французского языка в бесплатной школе для бедных (в школе на Лиговке, в школе при станции "Поповка", в городском училище на Бронницкой улице, на заводе "Треугольник"). В 1917 — окончила высшие курсы французского языка. С 1918 — преподавала немецкий язык в разных школах, затем работала библиотекарем в школе. В ночь с 13 на 14 сентября 1930 — арестована по делу "бывших" (на допросе заявила: «Карательную политику советской власти считаю неприемлемой для гуманного и цивилизованного государства»). 15 января 1931 — приговорена к 5 годам ИТЛ и 28 января отправлена в Белбалтлаг, позднее переведена в Сиблаг. В мае 1932 — мать обращалась за помощью к Елизаровой-Ульяновой А. И. и та ходатайствовала перед НКВД, но в пересмотре дела отказано. В сентябре 1934 — освобождена досрочно с ограничением проживания (-6). Поселилась в Малых Вишерах, работала медсестрой в больнице. С 1936 — преподавала немецкий язык в школе в Боровичах Новгородской области. В ночь с 20 на 21 октября 1937 — арестована как «участница контрреволюционной организации церковников». Обвинялась в том, что, «будучи врагом Советской власти и ВКП (б), была завербована в контрреволюционную организацию церковников, участвовала в нелегальных сборищах, где ставились вопросы свержения Советской власти, полностью разделяла эти контрреволюционные установки и для осуществления этого занималась контрреволюционной агитацией среди местного населения». Виновной себя не признала. 10 декабря приговорена к ВМН, 17 декабря расстреляна.
Родилась в 1889 в Грубешове Седлецкой губ. Княжна (отец, князь Оболенский Иван Дмитриевич, в 1920 — скончался; мать Оболенская Елизавета Георгиевна; два брата погибли на войне). В 1904 — окончила Смольный институт благородных девиц, давала частные уроки, с 1906 — в Санкт-Петербурге, с 1910 — давала уроки французского языка в бесплатной школе для бедных (в школе на Лиговке, в школе при станции "Поповка", в городском училище на Бронницкой улице, на заводе "Треугольник"). В 1917 — окончила высшие курсы французского языка. С 1918 — преподавала немецкий язык в разных школах, затем работала библиотекарем в школе. В ночь с 13 на 14 сентября 1930 — арестована по делу "бывших" (на допросе заявила: «Карательную политику советской власти считаю неприемлемой для гуманного и цивилизованного государства»). 15 января 1931 — приговорена к 5 годам ИТЛ и 28 января отправлена в Белбалтлаг, позднее переведена в Сиблаг. В мае 1932 — мать обращалась за помощью к Елизаровой-Ульяновой А. И. и та ходатайствовала перед НКВД, но в пересмотре дела отказано. В сентябре 1934 — освобождена досрочно с ограничением проживания (-6). Поселилась в Малых Вишерах, работала медсестрой в больнице. С 1936 — преподавала немецкий язык в школе в Боровичах Новгородской области. В ночь с 20 на 21 октября 1937 — арестована как «участница контрреволюционной организации церковников». Обвинялась в том, что, «будучи врагом Советской власти и ВКП (б), была завербована в контрреволюционную организацию церковников, участвовала в нелегальных сборищах, где ставились вопросы свержения Советской власти, полностью разделяла эти контрреволюционные установки и для осуществления этого занималась контрреволюционной агитацией среди местного населения». Виновной себя не признала. 10 декабря приговорена к ВМН, 17 декабря расстреляна.
Алфавитный указатель жителей Петрограда… на 1917 год. Компакт-диск.
ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1: Д. 652. С. 106-09; Д. 733. С. 95-97; Ф. 10035. Оп. 1. Д. 85438 и 3701.
Жертвы политического террора в СССР. Компакт-диск.
Новомученица княжна Кира Оболенская. www.pravoslavnyi.ru/obolenskaya_kira.htm
Чуйкина С. А. Дворянская память: бывшие в советском городе.... С. 19.
25 апреля 1925 — арестована в Москве и заключена в Бутырскую тюрьму. За ее освобождение ходатайствовало Московское архитектурное общество. 4 мая консульский отдел представительства СССР в Лондоне удостоверял подпись В. Хуллингера на заявлении, что Оболенская К. Ф. выходит за него замуж. В мае 1925 — освобождена из тюрьмы, получила визу для выезда за границу. 10 июня 1925 — приговорена к высылке за пределы России (приложено письмо домоуправления о том, что «она, действительно, сирота»). На письме помета ПКК: «Освобождена на 7 дней для выезда». Выехала в Латвию, затем из Риги на пароходе в Копенгаген по латвийской визе и далее в Лондон, как жена Эдвина Хуллингера, подданного Англии.
ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1: Д. 82. С. 207-11; Д. 86. С. 244-46; Д. 92. списки.
Родилась ок. 1880-х. Княжна (отец князь Оболенский Яков; мать, Оболенская Вера Дмитриевна). С 1901 — учительница начальных классов в Петербурге. В 1929 — вышла на пенсию по болезни. В марте 1935 — выслана с матерью, Оболенской Верой Дмитриевной, из Ленинграда в Оренбург, лишена там пенсии. В феврале 1936 — в пересмотре дела отказано. В ноябре 1937 — находилась с матерью в селе Сок-Кармала Оренбургской области.
ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1: Д. 1366. С. 256-59; Д. 1475. С 120; Д. 1573. С. 203-06.
ОБОЛЕНСКАЯ Надежда Александровна.
Родилась в 1898 в Москве. Княжна (?). В 1940-х — проживала в селе Покровское Орловской области, работала учительницей в школе. В 1943 — арестована, приговорена к 10 годам ИТЛ и отправлена в лагерь.
Жертвы политического террора в СССР. Компакт-диск.
ОБОЛЕНСКАЯ Надежда Эммануиловна.
Княжна. Вступила в Марфо-Мариинскую обитель милосердия. Приняла монашеский постриг (?). В 1930-х — находилась в ссылке в Козалинске (Туркестан). В 1938 — арестована, приговорена к ВМН и расстреляна.
Ардов, Михаил. Все к лучшему… Воспоминания. М.: Б.С.Г.-ПРЕСС, 2006. С. 580-81.
ОБОЛЕНСКАЯ (урожд. ) Наталья Петровна.
После 1917 — работала комендантом общежития. 10 января 1920 — вместе с сестрой, Штер Ниной Петровной, и сотрудниками, жившими в общежитии, арестована и заключена в Бутырскую тюрьму. В марте 1920 — по ходатайству Московского Политического Красного Креста освобождена с сестрой.
ГАРФ. Ф. Р-8419. Оп. 1: Д. 222. С. 34-35; Д. 227. С. 76.
ОБОЛЕНСКАЯ (урожд. Комарова) Нина Петровна.
Родилась в 1892 (по другим данным, в 1895). В 1911 — окончил Смольный институт благородных девиц. Поэтесса "Нибу", после 1917 — проживала в общежитии в Москве (где сестра Нина Петровна Оболенская была комендантом). 10 января 1920 — вместе с сестрой арестована и заключена в Бутырскую тюрьму. В марте 1920 — по ходатайству Московского Политического Красного Креста освобождена с сестрой. С 1921 — стала известна под псевдонимом "Хабиас", в поэтических кругах носила прозвище Ноки (данное Б. Садовским). Выступала в кафе "Домино", дважды печаталась в сборниках "Сопо" (1922 и 1924). В марте 1922 — вышли "Стихетты" и ответные "Серафические подвески", не прошедшие цензуры, за что два месяца провела в Бутырской тюрьме. В дальнейшем занималась переводами. В 1937 — арестована, приговорена к 10 ? годам ИТЛ и отправлена в Сиблаг. В 1942 — освобождена из лагеря и выслана на 3 года в Мерв (Туркмения). В конце 1943 ? — скончалась там.
ГАРФ. Ф. Р-8419. Оп. 1: Д. 222. С. 34-35; Д. 227. С. 76.
ОБОЛЕНСКАЯ (урожд. Винберг) Ольга Владимировна.
Родилась в 1869 (отец, Винберг Владимир Карлович, крупный землевладелец в Крыму, член Государственной Думы I созыва). Окончила Бестужевские женские курсы в Петербурге. Княгиня (в 1896 — вышла замуж за князя Оболенского Владимира Андреевича, депутата 1-й Госдумы, члена ЦК партии кадетов). Семья проживала в имении «Саяны» близ Алушты в Крыму, в семье родилось семеро детей: Александра, Ирина, Андрей, Сергей, Всеволод, Лев, Людмила, Наталья. 21 сентября 1921 — арестована «за попытку выехать за границу без разрешения», 9 февраля 1922 — отправлена в Москву и заключена в Лефортовскую тюрьму, позднее переведена в тюремную больницу. 12 мая освобождена под подписку о невыезде. В 1925 — эмигрировала с семьей во Францию. 5 июля 1938 — скончалась в Тулоне.
Алфавитный указатель жителей Петрограда… на 1917 год. Компакт-диск.
ГАРФ. Ф. Р-8419. Оп. 1. Д. 181. С. 18-22.
Оболенский В. А. Моя жизнь. Мои современники. Париж, Имка-Пресс. 1988. С. 274.
Плешко Н.Д. Князья Оболенские. Родословие. Нью-Йорк, 1959-1975.
 Родилась в 1892 в имении Ивановка под Симбирском. Окончила Смольный институт благородных девиц. Княгиня (в 1912 — вышла замуж за князя Оболенского Петра Александровича). В 1914 — сестра милосердия в Кауфманской общине, с августа 1918 — машинистка в Уфе, затем восемь месяцев провела в Бирсе, в мае 1920 — вернулась в Петроград. В июне 1924 — арестована, 1 августа приговорена к 3 годам концлагеря и отправлена в Соловецкий лагерь особого назначения. Заболела там тяжелой формой туберкулеза, по ходатайству ПКК освобождена с ограничением проживания на 3 года (-6). Проживала в Ленинградской области. В 1942 — бежала за границу, в 1948 — переехала из Германии в США, в 1984 — скончалась в Нью-Йорке.
Родилась в 1892 в имении Ивановка под Симбирском. Окончила Смольный институт благородных девиц. Княгиня (в 1912 — вышла замуж за князя Оболенского Петра Александровича). В 1914 — сестра милосердия в Кауфманской общине, с августа 1918 — машинистка в Уфе, затем восемь месяцев провела в Бирсе, в мае 1920 — вернулась в Петроград. В июне 1924 — арестована, 1 августа приговорена к 3 годам концлагеря и отправлена в Соловецкий лагерь особого назначения. Заболела там тяжелой формой туберкулеза, по ходатайству ПКК освобождена с ограничением проживания на 3 года (-6). Проживала в Ленинградской области. В 1942 — бежала за границу, в 1948 — переехала из Германии в США, в 1984 — скончалась в Нью-Йорке.
Алфавитный указатель жителей Петрограда… на 1917 год. Компакт-диск.
ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1: Д. 41. С. 275; Д. 169. С. 102-06.
ОБОЛЕНСКАЯ Софья Александровна.
Родилась в 1903 в Севастополе. Проживала в Москве. 25 декабря 1920 — арестована ВЧК Южного фронта и заключена в тюрьму. Обвинялась по политическому делу, решения по делу нет.
Жертвы политического террора в СССР. Компакт-диск.
Родилась в 1877. Княжна (отец князь Оболенский Леонид Николаевич, действительный статский советник; мать Шмидт-Оболенская Дарья Ивановна). Зимой 1917 — выехала с матерью и сестрами из Петрограда в Рязань, с 1920 — проживала в Ленинграде, работала библиотекарем, затем преподавателем. В марте 1935 — выслана с парализованной сестрой Дарьей Леонидовной из Ленинграда в Оренбург, преподавала там в школе. Осенью 1937 — арестована, 25 октября приговорена к ВМН и расстреляна.
Алфавитный указатель жителей Петрограда… на 1917 год. Компакт-диск.
ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1: Д. 1410. С. 128; Д. 1447. С. 346.
Жертвы политического террора в СССР. Компакт-диск.
Симонов А. Парень с Сивцева Вражка — М.: — "Новая газета", 2009. С. 210-12.
Чуйкина С. А. Дворянская память: бывшие в советском городе... С. 19.
ОБОЛЕНСКАЯ-ВИКТОРОВА Вера Михайловна.
Родилась в 1879 в Алатыри Симбирской губ. Княжна. Окончила гимназию. В 1920-е — служила хранителем Тургеневского музея в Орле, затем заменила директора музея. В конце 1920-х — проживала в Москве, работала библиотекарем в Наркомате земледелия. 1930-х — проживала в Москве, работала библиотекарем в Наркомземе. 7 марта 1931 — арестована как «участница контрреволюционной организации», 5 июня приговорена к 3 годам ссылки и отправлена в Казахстан.
Акиньшин А. Н. Трагедия краеведов. www.ihst.ru/projects/sohist/books/kraevedy/208...
Жертвы политического террора в СССР. Компакт-диск.
ОБОЛЕНСКИЙ Александр Дмитриевич.
Родился в 1855. Князь (отец, князь Оболенский Дмитрий Александрович, председатель гражданской палаты в Морском ведомстве). 30 августа 1918 — расстрелян в Петропавловской крепости в Петрограде.
Алфавитный указатель жителей Петрограда… на 1917 год. Компакт-диск.
Князь В. П. Мещерский. Мои воспоминания.— М.: Захаров, 2003. С. 66, 90.
Чуйкина С. А. Дворянская память: бывшие в советском городе... С. 19.
ОБОЛЕНСКИЙ Алексей Григорьевич.
Родился в 1902 в селе Шипово Волынского уезда Орловской губ. Получил высшее образование. В 1930-х — проживал в поселке Бабушкино Московской области, работал главным ветеринарным врачом Главконупра Наркомата земледелия. 23 октября 1940 — арестован как «участник контрреволюционной организации и в шпионаже». 8 июля 1941 — приговорен к ВМН и 28 июля расстрелян на полигоне Коммунарка.
Алфавитный указатель жителей Петрограда… на 1917 год. Компакт-диск.
Жертвы политического террора в СССР. Компакт-диск.
В 1937 — арестован, приговорен к 10 годам ИТЛ и в декабре отправлен в Дальлаг на станцию Завитая Амурской железной дороги. Мать, А. А. Оболенская просила ходатайства Помполита в его освобождении.
ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп.1. Д. 1656. С. 97-99.
ОБОЛЕНСКИЙ Владимир Васильевич.
Родился в 1890 в имении при деревни Коренево Ухтомского уезда Московской губ. Князь (отец, князь Оболенский Василий Васильевич, юрист, советник Московского губернского правления, в 1890 — скончался; мать княгиня Долгорукова-Оболенская Мария Алексеевна). В 1913 — окончил юридический факультет Московского университета. Служил губернским секретарем по земским и городским делам присутствия в Твери, с 1914 — в Рязани, затем делопроизводитель присутствия в Каменец-Подольске. С 1919 — инструктор земельного отделения Моссовета, с 1920 — управляющий совхозом "Петровский", с 1922 — заведующий совхозов "Измайлово" и "Качалово" с 1923 — счетовод, помощни бухгалтера и бухгалтер на кирпичном заводе, с 1929 — бухгалтер промышленного кооперативного товарищества "Квартстрой". Женат на Гудович Варваре Александровне, в семье родились дочь и двое сыновей. 18 октября 1929 — арестован, 3 января 1930 — приговорен к 3 годам ИТЛ и отправлен в Ухтпечлаг. 9 августа 1932 — освобожден, вернулся в поселке Ленино Московской области, работал главным бухгалтером в дачно-строительном кооперативе. 28 августа 1937 — арестован как «монархист по убеждениям, не скрывавший своей враждебности к существующему строю и высказывавший террористические настроения по адресу коммунистов». 17 октября 1937 — приговорен к ВМН и в тот же день расстрелян на Бутовском полигоне.
ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. 72579. С. 4, 7-10. 17-18, 82.
Жертвы политического террора в СССР. Компакт-диск.
Чуйкина С. А. Дворянская память: бывшие в советском городе... С. 19.
ОБОЛЕНСКИЙ Владимир Дмитриевич.
Князь. В начале 1918 — убит в своем имении в Рязанской губ.
Чуйкина С. А. Дворянская память: бывшие в советском городе... С. 19.
ОБОЛЕНСКИЙ Всеволод Владимирович.
Родился в 1903 в Москве. Князь (отец, князь Оболенский Владимир Анд-реевич, видный земский деятель, член ЦК партии кадетов; мать, Винберг-Оболенская Ольга Владимировна). Учился в гимназии в Петербурге, позднее — в имении "Саяны" близ Алушты в Крыму. 21 сентября 1921 — арестован «за попытку выехать за границу без разрешения», 9 февраля 1922 — отправлен в Москву и заключен в Бутырскую тюрьму. 30 мая освобожден под подписку о невыезде. В 1925 — эмигрировал с семьей во Францию. Проживал в Париже, работал скульптором. 20 сентября 1966 — скончался в Обители Покрова Пресвятой Богородицы.
ГАРФ. Ф. Р-8419. Оп.1. Д. 181. С. 18-22.
Плешко Н.Д. Князья Оболенские. Родословие. Нью-Йорк, 1959-1975.
ОБОЛЕНСКИЙ Всеволод Евгеньевич.
Родился в 1896. Поступил на юридический факультет Харьковского университета. В августе 1915 — мобилизован и направлен в Чугуевское военное училище, с января 1916 — после окончания училища направлен в запасной полк в Твери и в апреле — на фронт. С января 1917 — уволен от службы по болезни и продолжил учебу в университете, служа также в Монотопе. В июле 1919 — мобилизован в Белую армию, служил в Кабардинском полку, затем помощником адъютанта в 1-й автоброневом дивизионе в Новороссийске. Направлен в Салоники, но по дороге пароход изменил рейс и прибыл в Феодосию, затем направлен в Дроздовский полк. В августе 1920 — попал в плен, после допроса реабилитирован и направлен на службу в стрелковый полк в Харькове. Осень 1920 — арестован при регистрации бывших белых офицеров, 6 ноября отправлен в Москву и заключен в Кожуховский лагерь. В феврале 1921 — приговорен к 5 годам концлагеря и отправлен в Андроньевском концлагере.
ГАРФ. Ф. Р-8419. Оп.1: Д. 227. С. 12-13; Д. 228. С. 5-6.
ОБОЛЕНСКИЙ Дмитрий Дмитриевич.
Князь. Летом 1918 — обращался к Мирбаху с просьбой о помощи в низвержении большевиков (посылка германского корпуса). Осенью 1918 — арестован и заключен в Богородицкую тюрьму как заложник. Осужден (?).
Голицын С. М. Записки уцелевшего. — М.: Вагриус, 2006. С. 184-85.
Долгоруков П. Д. Великая разруха. Воспоминания основателя партии кадетов. 1916-1926. М.: ЗАО Центрполиграф. С. 89.
Родился в 1899. Князь. В 1932 — арестован, приговорен к 5 годам ИТЛ и отправлен в лагерь. В 1936 — освобожден, проживал в Воронеже, работал в городском театре.
Жертвы политического террора в СССР. Компакт-диск.
ОБОЛЕНСКИЙ Константин Александрович.
Родился в 1872. Князь? В 1920-х — проживал в селе Давыдово Боровичского района Новгородской области. В 1929 — лишен избирательных прав.
Жертвы политического террора в СССР. Компакт-диск.
ОБОЛЕНСКИЙ Константин Митрофанович.
Родился в 1877 в Воронеже (из дворян). Окончил высшую образцовую школу. Служил в учреждении. В 1920-х — проживал в Воронеже, работал счетоводом в Управлении Юго-Восточной железной дороги. 10 мая 1928 — арестован как «сторонник епископа Алексея БУЯ и активный участник антисоветской агитации». Женат на Оболенской Клавдии Николаевне. 9 июля 1928 — ему было предъявлено «Обвинительное заключение». 31 августа 1928 — приговорен к 3 годам ИТЛ и отправлен в Соловецкий лагерь особого назначения, позднее переведен в Белбалтлаг (на станцию Кузема Кировской железной дороги). 12 октября 1931 — выслан на 3 года в Северный край.
ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1: Д. 648. С. 445-51; Д. 807. С. 129.
Центр документации новейшей истории Воронежской области. Ф. 9353. Оп. 2. Д. 9236.
ОБОЛЕНСКИЙ Михаил Александрович.
Родился в 1922. В 1930-х — находился с отцом в ссылке в Саратовской области. Участник Великой Отечественной войны, старший сержант, в 1944 — ранен, демобилизован, инвалид 2-й группы. Работал шофером.
Портретная галерея потомков Рюрика. rurik.genealogia.ru…
ОБОЛЕНСКИЙ Михаил Владимирович.
Родился в 1870. Князь (отец, Оболенский Владимир Владимирович, князь, в 1903 — скончался). Председатель Ямбургской земской управы. Женат на Глафире Никитичне Оболенской, урожд. Пономаренко, в семье — сын Всеволод. В феврале 1918 — убит революционной толпой на станции Веймарн Ямбургского уезда.
Родовод… ru.rodovid.org›wk
Торосово. Усадьба барона Врангеля. open-terra.ru › miniexp/torosovo.html…
Чуйкина С. А. Дворянская память: бывшие в советском городе (Ленинград, 1920-30-е годы). — СПб.: изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2006. С. 19.
ОБОЛЕНСКИЙ Михаил (Анастасий) Иванович.
Родился в 1907 в Москве (дворянин). Получил высшее образование. Принял монашеский постриг с именем Анастасий. Посвящен в сан иеромонаха, позднее — архимандрита, служил во Владимирской области. 26 апреля 1936 — арестован, приговорен к 5 годам ИТЛ и отправлен в Белбалтлаг (на станцию Медвежья гора). 19 августа 1937 — арестован в лагере, 26 августа приговорен к ВМН и 1 сентября расстрелян в ущелье "Сандармох" под Медвежьегорском.
Жертвы политического террора в СССР. Компакт-диск.
 Родился в 1885 в селе Сенгилей Симбирской губ. Князь. Сначала учился на историко-филологическом, затем на юридическом факультете Московского университета. Участник Первой мировой войны, в 1916 — поручиком (награжден шестью боевыми орденами). После 1917 — служил в разных учреждениях. В 1918 — арестован как заложник, но вскоре освобожден и направлен в Красную Армию в качестве "военспеца". После демобилизации проживал с семьей на хуторе близ Переделкино, вел свое хозяйство. На его участке проводились опыты Тимирязевской академии. В 1927 — после разгрома хутора арестован и выслан. После освобождения проживал в Жаворонках Московской области. В 1934 — арестован как «руководитель контрреволюционной фашистской группы», приговорен к 3 годам ИТЛ и отправлен в Ухтпечлаг (Чибью), работал завхозом лагерного театра. В 1936 — освобожден, вернулся в Московскую область. 3 февраля 1937 — арестован как «участник контрреволюционной террористической организации». 2 июля 1937 — приговорен к ВМН, в тот же день расстрелян на Бутовском полигоне.
Родился в 1885 в селе Сенгилей Симбирской губ. Князь. Сначала учился на историко-филологическом, затем на юридическом факультете Московского университета. Участник Первой мировой войны, в 1916 — поручиком (награжден шестью боевыми орденами). После 1917 — служил в разных учреждениях. В 1918 — арестован как заложник, но вскоре освобожден и направлен в Красную Армию в качестве "военспеца". После демобилизации проживал с семьей на хуторе близ Переделкино, вел свое хозяйство. На его участке проводились опыты Тимирязевской академии. В 1927 — после разгрома хутора арестован и выслан. После освобождения проживал в Жаворонках Московской области. В 1934 — арестован как «руководитель контрреволюционной фашистской группы», приговорен к 3 годам ИТЛ и отправлен в Ухтпечлаг (Чибью), работал завхозом лагерного театра. В 1936 — освобожден, вернулся в Московскую область. 3 февраля 1937 — арестован как «участник контрреволюционной террористической организации». 2 июля 1937 — приговорен к ВМН, в тот же день расстрелян на Бутовском полигоне.
ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 1262. С. 1-2; Ф. 10035. Оп. 1. Д. 63970.
Голицын С. М. Записки уцелевшего. — М.: Вагриус, 2006. С. 581.
Жертвы политического террора в СССР. Компакт-диск.
Чуйкина С. А. Дворянская память: бывшие в советском городе ... С. 19.
ОБОЛЕНСКИЙ Николай Леонидович.
Родился в 1872. Получил высшее образование. Занимался переводами. Женат на Толстой Марии Львовне, в семье двое детей. 25 апреля 1925 — арестован в Москве и заключен в Бутырскую тюрьму. 27 мая освобожден из тюрьмы, в июле обращался в Помполит за помощью в возврате изъятых при обыске переводных работ, вида на жительство и метрики детей. В 1934 — скончался.
ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 86. С. 247.
genealogy.babr.ru/?RDE=2729
Родился в 1893 в Ливнах Орловской губ. Получил военное образование, в 1914 — на фронте в чине штабс-капитана, с 1918 — служил в 3-й Донской мортирной бригаде Белой армии. В 1928 — окончил Промышленно-экономический институт в Москве, работал старшим экономистом производственно-планового сектора Электрозавода. 11 февраля 1935 — арестован «за систематическую контрреволюционную агитацию» и заключен в Бутырскую тюрьму. 19 марта ему было предъявлено "Обвинительное заключение", в котором говорилось: «Будучи антисоветски настроенным, вел систематическую контрреволюционную агитацию и распространял провокационные слухи». В апреле 1935 — приговорен к 5 годам ИТЛ и отправлен в Ухтпечлаг.
ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 1543. С. 188; Ф. 10035. Оп. 1. Д. 23464.
Князь. В 1925 (?) — арестован и погиб в тюрьме.
ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 86. С. 244-46.
Чуйкина С. А. Дворянская память: бывшие в советском городе ... С. 19.
Князь. Корнет 13-гогусарского Нарвского полка. В июне 1918 — расстрелян большевиками, оставлен среди убитых, но чудом выжил, сумел выползти, был спасен и сумел позднее перебраться в Крым.
Чуйкина С. А. Дворянская память: бывшие в советском городе ... С. 19.
ОБОЛЕНСКИЙ Петр Александрович.
Князь (отец князь Оболенский Александр Николаевич). Окончил Императорское училище правоведения, с 1911 — вольноопределяющийся кавалергардского полка, с 1912 — помощник предводителя дворянства в Симбирске. Женился на Оболенской Ольге Ивановне. С 1914 — служил в Красном Кресте в Петрограде, с 1916 — в Английском военной миссии. В 1918 — арестован в Царском Селе и заключен в Петропавловскую крепость, затем отправлен в Москву, где был освобожден. В июне 1920 — арестован в Смоленске и отправлен в Петроград.
ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 41. С. 275.
Генерал Курлов П. Г. Гибель императорской России. М., Захаров, 2002. С. 276.
Родился в 1906 (по другим данным — в 1896). Князь (отец ? князь Оболенский Владимир Владимирович). В начале 1920-х — поступил на кораблестроительный факультет Ленинградского Политехнического Института. В апреле 1927 — арестован, 29 августа приговорен к 5 годам концлагеря и отправлен в Соловецкий лагерь особого назначения. Работал там по специальности. Осенью 1930 — освобожден из лагеря и отправлен на 3 года в ссылку в Архангельск. В 1932 — вернулся из ссылки и поселился у тети, Оболенской Марии Яковлевны, продолжил учебу в Кораблестроительном институте. 17 марта 1935 — выслан вместе с тетей и бабушкой в Оренбург на 5 лет. Работал там инженером в областном леспромхозе. Осенью 1937 — арестован, 25 октября приговорен к ВМН и расстрелян.
ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1: Д. 222. С. 36-39; Д. 379. Л. 18-23; Д. 542. С. 292-94; Д. 1366. С. 256-59.
Жертвы политического террора в СССР. Компакт-диск.
Родился в 1911. Князь (отец, князь Оболенский Михаил Федорович; мать Оболенская А.). После революции проживал с родителями на хуторе близ Переделкино, работал в своем хозяйстве, на участке проводились опыты Тимирязевской академии. В 1927 — после разгрома хутора арестован, но вскоре был освобожден. Работал в библиотеке имени Ленина. В 1933 — после увольнения из библиотеки появился в Дмитрове, пытался устроиться работать на строительство канала. В 1933 — арестован, приговорен к 3 годам ИТЛ и отправлен в Сиблаг (вместе с матерью). В декабре, благодаря вмешательству Помполита, переведен с общих работ на легкие. В июне 1934 — находился там же. В 1936 (?) — вновь арестован, приговорен к 10 годам ИТЛ и отправлен в Севвостоклаг (на Колыму). Работал там на лесозаготовках, в 1941 — погиб.
ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 1262. С. 1-2, 12.
Голицын С. М. Записки уцелевшего. — М.: Вагриус, 2006. С. 581-83.
|
Метки: оболенские репрессии |
Усадьба Голицыных-Прозоровских. Зубрилово. |
Усадьба Голицыных-Прозоровских. Зубрилово.
- Nov. 12th, 2013 at 3:02 AM

Пензенская губерния, а ныне Пензенская область - классическая провинция. От Москвы находится довольно далеко, от Санкт-Петербурга ещё дальше. Однако, исторически сложилась так, что именно на землях Сурского края обосновались и построили свои усадьбы представители многих известных русских дворянских и купеческих фамилий. В той или иной степени, у нас в области сохранились усадьбы Устинова, Куракина, Макарова, Воейкова и других . Так что, по количеству владений с историей, Пензенская область может дать фору даже более близким к обеим столицам соседям. Однако, самая известная "пензенская" фамилия - это конечно же Голицины. Соответственно и самая именитая сурская усадьба - это широко известная по Поволжью "Зубриловка" - поместье князей Голицыных-Прозоровских, расположенное в селе Зубрилово Тамалинского района Пензенской области.

"Зубриловка" знаменита даже не сколько тем, что принадлежала князю, генералу Екатерининской эпохи Сергею Фёдоровичу Голицыну, а тем, что с этим поместьем связаны имена В. Э. Борисова-Мусатова, И. А. Крылова, Г. Р. Державина, М.Ю. Лермонтова и даже (по одной из версий) самого А.С. Пушкина. Однако, они все были позже. История же "Зубриловки" началась с письма к фавориту императрицы Григорию Потёмкину:

«Яко благодетеля, всех оной награждающего пошарить по планам и побольше и получше ему отвести, коли можно с рыбными ловлями, ибо, по болезни своей, сделал обещание по постам не есть мяса, то следственно, только должен буду есть, коли своей не будет рыбы, один только хлеб» - написал в своём прошении 1786 года князь Сергей Фёдорович Голицын, которому как вельможе полагалась возможность выкупа земельного надела.

Участок земли "с рыбными ловлями" отыскался на берегу реки Хопёр, на границе трёх областей: Саратовской, Тамбовской и Пензенской, в тогдашней Зубриловской волости Балашовского уезда Саратовской губернии.

Осваивать купленные земли князь Сергей Фёдорович Голицын приехал не один - три года подряд простоял в имении 24-эскадронный Смоленский драгунский полк, подполковником которого и являлся Голицын.

За это время силами солдат, находившихся в его подчинении (как всё знакомо, не прав да ли?), был построен роскошный каменный дом с двумя флигелями и Спасо-Преображенская церковь напротив дома, разбит парк с водоёмами, цветниками и оранжереями. Архитектор, работавший над усадьбой, по документам не установлен. Но предположительно это проект И.Е. Старова.

Чуть позднее, дворец Голицына был существенно перестроен с добавлением многих декоративных элементов. Как утверждает легенда, к этому приложил руку знаменитый архитектор Джакомо Кваренги, который в ту пору трудился над созданием усадьбы для соседа Голицина - князя "бриллиантового" Александра Борисовича Куракина, чьё имение находилось неподалёку, в селе Надеждино. Поговаривают, что даже была попытка связать "Зубриловку" и Надеждино подземным ходом. Точных документов на эту тему нет, однако обширные подземелья даже до сих пор имеются как в одной, так и в другой усадьбе.

Дворец князя Голицына (а, это был был действительно дворец, для тех времён, так ещё и небоскрёб) представлял собой монументальное трёхэтажное! здание (напомню, Зубрилово - это глухая деревушка в глухой провинция), имеющее два равнозначных фасада.

Северный фасад был чуть более скромным и выходил на обширный парк и церковь.

Южный, с выступающей шестиколонной полуротондой с балюстрадой, смотрел на реку, парк. И спускался к деревьям и дорожкам парка широкой двухмаршевой лестницей, украшенной по бокам античными скульптурами.

В интерьере дворца своей декоративной отделкой выделялся круглый зал, рядом с ним портретная галерея, насчитывавшая около 150 портретов представителей рода Голицыных и их знатных современников. Кроме картин и миниатюр зубриловская художественная коллекция, собранная сыном основателя усадьбы Ф. С. Голицыным, включала предметы из фарфора, мрамора и бронзы. В общем, это был настоящий дворец без поправки на расположение и дальность от столицы. А всё почему?

А всё потому, что при новом императоре Павле I, за пренебрежение к его камердинеру, любимцу и фавориту Ивану Кутайсову князь С.Ф. Голицын навлёк на себя немилость и в 1797 году был отставлен от службы. Переехав в Зубриловку (но ни в чём себе не отказывая) с сыновьями и женой - Варварой Васильевной Энгельгардт, племянницей всемогущего Потемкина-Таврического, воспетой поэтом Державиным как "златовласая Пленира".

Вместе с Голицынами в их имение приехал в качестве секретаря, наставника и учителя детей будущий известный баснописец Иван Крылов. Именно здесь, в Зубриловке, И. А. Крыловым был написан ряд выдающихся произведений. Среди них — запрещённый к изданию «Триумф» и популярная басня "Свинья под дубом".

Кстати, место, где стоял легендарный дуб, до сих пор можно найти рядом с парадной лестницей княжеского дома. Оно обнесено каменными столбиками. В центре круга когда то рос молодой дубок, выросший из желудя того самого "дерева-вдохновителя". Сейчас там тоже что-то растёт. Однако, утверждать, что это тот самый дубок я не берусь.

До 19.10.1905 года (до дня пожара, почти уничтожившего поместье) в усадьбе даже сохранялось в неприкосновенности комната, в которой когда жил И. А. Крылов.

Ещё одним знаменитым "постояльцем" усадьбы Голицына стал художник Виктор Борисов-Мусатов, который не только прожил здесь несколько лет, но и прославил "Зубриловку" на некоторых своих картинах:

"Зубриловка".

"Призраки".

"Гобелен".

"Прогулки на закате".

Последняя представленная здесь картина Борисова-Мусатова "Водоём" по одним данным вроде как не из "зубриловской" серии. Но по другим - из неё. Мне лично место действия картины очень напоминает фонтан перед фасадом Голицынской усадьбы на фото снизу.

Правда похоже? Так что, наверное, писалось это полотно всё же здесь, в Зубрилово.
Но не только Борисову-Мусатову нравилось "Зубриловка". Сюда приезжал, уже вышеупомянутый Гаврила Державин. Был Лермонтов. Есть информация (правда, точно не подтверждённая), что один или два раза в поместье над Хопром останавливался Пушкин.

Первый и главный владелец усадьбы - князь Сергей Фёдорович Голицын скончался в 1810 году. Он умер на чужбине, в Галиции, но его прах перевезли в Зубриловку, где и похоронили в крипте Спасо-Преображенская церкви. После его кончины усадьба перешла по наследству к сыну Фёдору Сергеевичу Голицыну.

Современниками признавался необыкновенный и изящный вкус князя Фёдора Сергеевича. При нём пополнились усадебные художественные коллекции эмали, фарфора, серебра, редкой посуды. Были внесены изменения в планировку парка и дворца. Фёдор Сергеевич учредил под патронажем своей супруги Анны Александровны пансион для дворянских детей. Для него было построено два двухэтажных здания, в одном из них помещались 36 мальчиков, в другом — 46 девочек, которым руководила француженка мадам Монсард. При этом нужно отметить, что до середины 1840-х годов ни в Саратовской, ни в Тамбовской губерниях подобных учебных заведений просто не существовало.

В период классицизма регулярные парки уступали место пейзажным, приближенным к естественным формам природы. Так, в 1820-е годы Фёдор Голицын безжалостно вырубал аллеи старого регулярного парка, придавая дорожкам и опушкам живописные очертания. Однако, сейчас найти следы прошлого великолепия на месте практически невозможно.

Однако, совсем на виду находится несколько загадочных мест усадьбы Голицына. Во-первых, это часовня в виде усечённой пирамиды, сооружённой на месте, где в 1815 году умерла жена Сергея Фёдоровича Голицына Варвара Васильевна Энгельгардт. А, во-вторых, на южном фасаде дома можно видеть пока ещё местами сохранившиеся бычьи головы. И то и то, вроде как завуалированные масонские знаки.

Так что не исключено, что в данной усадьбе проводились заседания масонской ложи. Тем более, по слухам, все Голицыны не чужды были участия в делах этой тайной организации. Да и необычная роспись внутри местного храма подтверждает эту теорию.

После смерти князя Фёдора Голицына в 1826 году имение перешло в руки его жены Анны Александровны (единственной дочери фельдмаршала Александра Прозоровского), которая учредила в Зубриловке майорат, то есть неделимое имение. Она передала его старшему сыну Александру с нисходящим потомством. По законам майората имение являлось «заповедным», нераздроблявшимся между всеми равноправными наследниками и переходившим в целости своей только к одному из них, старшему в роде. Подобного рода высочайшие разрешения давались в виде исключения по просьбе матери или отца. Но многочисленные братья Александра Фёдоровича, сохраняя права на доходы с имения, уже с середины XIX века начали распродавать зубриловскую коллекцию.

От Александра и Марии Голицыных-Прозоровских имение (на то время - порядка 8300 десятин земли) перешло во владение к его старшему сыну князю Александру Александровичу Голицыну-Прозоровскому. От которого, уже после его смерти оно перешло к сестре Анне Александровне. 63-летняя княгиня, которая в 1877 году вышла замуж за Владимира Горяйнова и взяла его фамилию, не планировала заниматься усадьбой и даже не наведывалась в Зубриловку. Поэтому наследники князей Голицыных-Прозоровских — Горяйновы продали имение в казну.

Началом конца усадьбы Голицыных стал 1905 год. Осенью этого года Саратовская губерния оказалась в центре крестьянских волнений. Зубриловка стала одной из первых жертв обозлённых крестьян. Был учинён погром и пожар усадьбы, после которого она уже не восстанавливалась. Было полностью разрушено одно крыло дворца. В пожаре сгорели боковые флигели и соединявшие их с дворцом галереи, в которых находились оранжереи и зимний сад.

В огне погибли бесценные коллекции декоративно-прикладного искусства, редчайшие книги, документы и портретная галерея, насчитывавшая более 150 работ известных мастеров — Левицкого, Лампи, Молинари. Сохранилось лишь несколько портретов, которые летом того же года вывез для участия в выставке русского портрета в Таврическом дворце Санкт-Петербурга Сергей Павлович Дягилев. Собрание миниатюрных портретов было передано князем Александром Александровичем Прозоровским-Голицыным в столицу ещё до погрома.

Имение простояло более десятилетия разорённым. А после грянула революция. В 1918 году, хозяйство Зубриловского имения было передано 3-й Петроградской сельскохозяйственной коммуне рабочих, приехавших из Петрограда с семьями в связи с голодом. Третья Петроградская коммуна находилась при Зубриловской усадьбе с 1918 по 192... год. Коммуну в конце концов обвинили в кулацком направлении, в эксплуатации чужого труда, — назначили из столицы комиссию и распустили.

С 1930-х по 1970-е здесь располагались последовательно: дом отдыха партактива, военный госпиталь, туберкулёзный санаторий. Притом в 1930-х годах была предпринята попытка восстановления усадьбы, но относительно восстановлен был лишь дворец. В 1979 году, после того как в подвалы дворца прорвались грунтовые воды, последнее учреждение в стенах здания - противотуберкулёзный диспансер был закрыт.

С тех пор усадьба Голицына постепенно превращается в руины. С 90-х годов функционирует храм, который параллельно является и усыпальницей владельцев усадьбы. Но он открыт далеко не всегда и так же требует капитального ремонта. В 2005 году территория поместья вдруг хитрым образом оказалась купленной известным московским бизнесменом Виктором Батуриным. Однако, в последствии данную сделку признали незаконной.

Соответственно Батурин с усадьбой сделать ничего не смог. Хотя рабочие, присланные бизнесменом на восстановление поместья, на мой взгляд, нанесли больше вреда чем пользы - посбивав весь декоративный орнамент и расшатав строительными лесами пол и потолок подвала и первого этажа княжеского дома. После столь усердной реставрации находится внутри усадьбы сейчас просто опасно.
В общем, итог долгой истории провинциального дворца князей Голицыных очень печален - усадьба находится в руинах. И изменить ход событий вряд ли представится возможным - инвесторов нет, а государство деньги (такие деньги) на реставрацию не выделит. Поэтому, возможно, вскоре знаменитую "Зубриловку", вотчину нескольких поколений отпрысков знатного рода Голицыных мы сможем увидеть или на картинах Борисова-Мусатова, или на старых фотографиях, или... в этом посте. Так что пока есть возможность побывать в Зубрилово и прикоснутся к истории - поторопитесь, съездите туда, восхититесь памятником архитектуры 18-го века.
Все рассказы про усадьбу Голицыных-Прозоровских:
1. Усадьба Голицыных-Прозоровских. Зубрилово.
2. Усадьба Голицыных-Прозоровских. Часовня-усыпальница В.В. Голицыной.
3. Усадьба Голицыных-Прозоровских. Колокольня.
Описание проезда.
Выезжаем из Пензы со стороны Терновки. Едем по "Тамбовской трассе" до развилки с трассой "Саратов - Н. Новгород", где уходил налево, на Саратов. Через пару километров будет пост ГАИ и поворот на Сердобск. Сворачиваем в указанном направлении. Едем до Сердобска, после которого, по знакам, уходим на Беково. Проезжаем населённый пункт, двигаемся дальше по знакам в сторону Тамалы. Переезжаем железнодорожные пути. Здесь можно сразу уйти налево или направо. Рекомендую - вправо, так как слева дорого только грунтовая и не всегда можно проехать. Поэтому делаем поворот направо и оформив небольшой крюк, двигается в сторону Варварино, где на развилке сворачиваем влево, на Зубрилово. Въезжаем в село, и двигаясь всё время прямо, доезжаем до усадьбы, которая вместе с хозяйственными домами и монументальным храмом появится справа от дороги. Мы на месте. Объяснил, как мог. :) Кто сможет – напишите координаты для любителей GPS-трекинга.https://simtour.livejournal.com/254078.html
|
Метки: дворянские владения |
Графиня Т.К.Толстая |
Графиня Т.К.Толстая
 |
| Графиня Т.К.Толстая |
Графиня Т.К.Толстая (по первому браку Котляревская), рожденная Шиловская, дочь известного в музыкальном мире исполнителя и автора цыганских романсов К. Шиловского, происходит из семьи известной своим музыкальными талантами, семьи, связанной самой тесной дружбой с композитором Чаковским.
Внучка известной красавицы-певицы, исполнительницы цыганских романсов Марии Васильевны Шиловской-Вердеревской - она не могла не петь!
Дочь талантливого автора-композитора Константина Шиловского, она не могла не писать слова и музыку к прекрасным романсам, ставших сегодня классикой жанра!
Будущая графиня с детства была дружна с московскими хоровыми цыганами, ее бабушка по воспоминаниям современником была Шаляпиным в юбке, за 50 лет до Шаляпина.
Мария Васильвна Вердеревская изумительно, с чувством и благородством пела русские цыганские романсы в 50-ых годах 19-ого века.
 |
| Мария Васильвна Вердеревская |
Обладала красивым голосом мягкого тембра, большой музыкальностью, безупречной интонацией. Исполнение отличалось естественностью и благородством. М. Глинка, познакомившись с Вердеревской в 1849, также был восхишен её талантом. М. Мусоргский посвятил певице романс "Что вам слова любви" (1860) и аранжировку тосканской песни "Я в субботу затеплю свечу" (1860), М. Балакирев — романс "Исступление" (выступала с композитором в концертах). Репертуар певицы включал также балладу А. Рубинштейна "Отворите мне темницу", произв. итал. композиторов.
С 1858 жила в Москве. В её доме бывали А. Серов, Н. Рубинштейн, П. Чайковский, И. Тургенев, А. Островский, А. Чехов, П. Садовский. В имении В. ставились любительские оперные спектакли п/у дирижёра Мариинского т-ра К. Н. Лядова (отца композитора А. Лядова), устраивались лит.-муз. вечера.
Татьяна Константиновна появилась на свет в 1862 в семье русской дворянской семье К.Шиловского м св.княгини Имеретинской.
После развода родителей жила с матерью в Петербурге.
Училась в пансионе, с детства играла на гитаре и пела.
Из книги Татьяны Александровны Аксаковой-Сиверс Семейная хроника : в 2-х книгах
Тут в мое повествование входит новое лицо, заслуживающее обстоятельного описания: в кругах дворянско-цыганской богемы послереформенной Москвы большой известностью пользовался Константин Степанович Шиловский, человек очень талантливый и столь же беспутный. Под конец жизни он сделался актером и под фамилией Лашивского играл сначала у Корша, а потом (1888-1893 гг.) в Малом театре.
Женат он был на св. княжне Имеретинской и имел трех детей (Тюлю, Сашку и Вовку), но бросил семью, увлекшись некоей Марией Порфирьевной Савельской (урожд. Веретенниковой), на которой и женился, предварительно посвятив ей модный в 80-х годах романс «Тигренок». Трудно себе представить женщину более некрасивую лицом, чем Мария Порфирьевна, но она была хорошо сложена, и ей одной известные чары сделали то, что после Шиловского она вышла замуж за Дмитрия Константиновича Сементовского-Курила, а затем, после смерти последнего, в 1911 г. похитила у той же Марии Константиновны Шиловской ее второго мужа Остроградского, за которого вышла замуж четвертым браком. (О моей встрече с Марией Порфирьевной в Висбадене в 1924 г. и ее трагической смерти я буду говорить в свое время.)
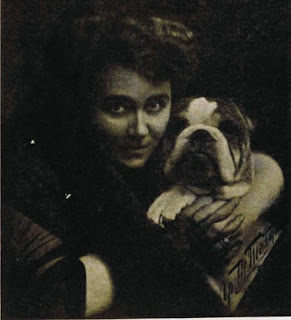
Дочь Константина Степановича Шиловского Татьяна Константиновна (Тюля), живя с матерью в Петербурге, училась в одном пансионе с маминой двоюродной сестрой Натой Штер — оттуда давнишнее ее знакомство с нашей семьей. Лет 20-ти она вышла замуж за лейб-гусара Петра Михайловича Котляревского.
Пепа Котляревский с виду напоминал игрушечного гусара. Он был невелик ростом, складен фигурой и лицом, не очень умен, очень богат и еще более тщеславен. Из-за своего «фанфаронства» он умудрился в несколько лет спустить свое состояние на приемы, устраиваемые с большой пышностью, для офицеров гусарского полка с вел. кн. Николаем Николаевичем во главе. У Котляревского все должно было быть лучше, чем у других, а это стоило больших денег. Не довольствуясь обедами и вечерами в Петербурге, он от времени до времени заказывал экстренный поезд и вез всех гостей «на пикник» в свое имение Полтавской губ. Туда же одновременно ехал и хор цыган. Но никто, по мнению знатоков, не мог соперничать в цыганском пении с хозяйкой дома, которая унаследовала от отца необычайную музыкальность, вкладывала в каждый романс что-то свое поэтическое и облагораживающее.
Особого единения между супругами Котляревскими, кажется, никогда не было, а как только, по причине нехватки денег, кончился вечный праздник, отношения дали трещину. Как раз в это время Татьяна Константиновна встретила у нас Николая Толстого, а Котляревский со своей стороны сильно увлекся венгеркой по имени Эрмина. (Я это знаю потому, что, рассматривая его портсигар, украшенный монограммами и эмблемами, я обнаружила среди них золотого горностая и с любопытством, свойственным подростку, постаралась узнать, что это значит: Ermine — горностай.)
По причине всего вышеизложенного Котляревские решили полюбовно разойтись «sans scandale, sans vacarme, sans une larme». Из остатков своего состояния Петр Михайлович купил жене небольшое именьице в Звенигородском уезде при селе Бабкино (известное по пребыванию там Чехова), и как только закончился развод, Тюля обвенчалась с Толстым и переехала на удельную дачу в Быково.
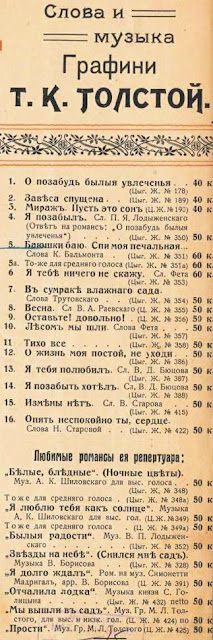 Совместная жизнь Толстых длилась только полгода и закончилась катастрофой. Новый 1907 год они встречали у себя в Быкове. В гостях у них был брат Татьяны Константиновны Владимир Шиловский, С.С. Перфильев, двоюродная сестра Толстого Алина Кодынец и его младший брат Никита. Засиделись поздно, хорошо выпили. Крепко уснули. Утром прислуга, растопляя печки, неосторожно плеснула керосин в огонь. Вспыхнул пожар. Прежде всего загорелась лестница, ведущая во второй этаж. Когда хозяева и гости проснулись и поняли, в чем дело, путь вниз был отрезан. Пришлось прыгать через окна. Пораненная разбитыми стеклами, Татьяна Константиновна оказалась на снегу и видела как ее муж и брат, спустившись таким же образом, распоряжались тушением пожара. Вдруг Толстой крикнул Шиловскому: «Вовка! У меня под кроватью сундук с казенными деньгами! Надо спасать!» Оба они бросились в горящий дом и никогда не вернулись. Крыша обрушилась, похоронив под собою шесть человек (погибли Толстой, Шиловский, Перфильев, Алина Кодынец, лакей и горничная). Живыми остались Татьяна Константиновна и Никита Толстой, спавший в нижнем этаже. Мы с мамой узнали о Быковском пожаре из газет, т.к. проводили каникулы в Петербурге. Вернувшись в Москву, мы увидели Тюлю в глубоком трауре, но сдержанной. Она никогда не выносила свои переживания на широкую публику и многие принимали ее спокойствие за бесчувственность. Я этого не думала и не думаю. После смерти Толстого Татьяна Константиновна поселилась в небольшой квартирке в Настасьинском пер. (близ Малой Дмитровки). Часть года она проводила в Бурнаке, иногда гостила у своей матери в Петербурге или у вел. кн. Николая Николаевича в Першине, но с большим удовольствием сидела у себя дома, окруженная собаками и небольшим кругом друзей, среди которых превалировал тип охотника, который свободнее чувствует себя в поддевке, чем в английском костюме. Постоянным посетителем Настасьинского пер. был ветеринарный врач Н.Н. Тоболкин, который так часто лечил Тюлиных собак, что стал другом дома. В небольшой комнате, сразу из передней, жил вместе со своим приятелем Ваней Пустоваловым Никита Толстой, ставший после окончания гимназии вечным студентом. К Татьяне Константиновне часто заходили цыгане из Стрельнинского хора вспомнить с нею какой-нибудь старинный напев или спросить совета относительно того или иного аккомпанемента; на диване в столовой постоянно ночевал приехавший из провинции приятель или родственник, словом обстановка была самая безалаберная. И среди всего этого беспорядка и порою даже убожества, восседала Татьяна Константиновна, как некая царица Семирамида, которая всегда остается сама собой и над которой внешняя обстановка не имеетникакой власти. Богемный стиль был ей приятен и даже необходим, как «питательная среда», но я не могу представить себе, чтобы Тюля могла опуститься и позволить себе жест или интонацию, которые были бы, как говорят англичане, «quise the thing» (не совсем то, что надо)
Совместная жизнь Толстых длилась только полгода и закончилась катастрофой. Новый 1907 год они встречали у себя в Быкове. В гостях у них был брат Татьяны Константиновны Владимир Шиловский, С.С. Перфильев, двоюродная сестра Толстого Алина Кодынец и его младший брат Никита. Засиделись поздно, хорошо выпили. Крепко уснули. Утром прислуга, растопляя печки, неосторожно плеснула керосин в огонь. Вспыхнул пожар. Прежде всего загорелась лестница, ведущая во второй этаж. Когда хозяева и гости проснулись и поняли, в чем дело, путь вниз был отрезан. Пришлось прыгать через окна. Пораненная разбитыми стеклами, Татьяна Константиновна оказалась на снегу и видела как ее муж и брат, спустившись таким же образом, распоряжались тушением пожара. Вдруг Толстой крикнул Шиловскому: «Вовка! У меня под кроватью сундук с казенными деньгами! Надо спасать!» Оба они бросились в горящий дом и никогда не вернулись. Крыша обрушилась, похоронив под собою шесть человек (погибли Толстой, Шиловский, Перфильев, Алина Кодынец, лакей и горничная). Живыми остались Татьяна Константиновна и Никита Толстой, спавший в нижнем этаже. Мы с мамой узнали о Быковском пожаре из газет, т.к. проводили каникулы в Петербурге. Вернувшись в Москву, мы увидели Тюлю в глубоком трауре, но сдержанной. Она никогда не выносила свои переживания на широкую публику и многие принимали ее спокойствие за бесчувственность. Я этого не думала и не думаю. После смерти Толстого Татьяна Константиновна поселилась в небольшой квартирке в Настасьинском пер. (близ Малой Дмитровки). Часть года она проводила в Бурнаке, иногда гостила у своей матери в Петербурге или у вел. кн. Николая Николаевича в Першине, но с большим удовольствием сидела у себя дома, окруженная собаками и небольшим кругом друзей, среди которых превалировал тип охотника, который свободнее чувствует себя в поддевке, чем в английском костюме. Постоянным посетителем Настасьинского пер. был ветеринарный врач Н.Н. Тоболкин, который так часто лечил Тюлиных собак, что стал другом дома. В небольшой комнате, сразу из передней, жил вместе со своим приятелем Ваней Пустоваловым Никита Толстой, ставший после окончания гимназии вечным студентом. К Татьяне Константиновне часто заходили цыгане из Стрельнинского хора вспомнить с нею какой-нибудь старинный напев или спросить совета относительно того или иного аккомпанемента; на диване в столовой постоянно ночевал приехавший из провинции приятель или родственник, словом обстановка была самая безалаберная. И среди всего этого беспорядка и порою даже убожества, восседала Татьяна Константиновна, как некая царица Семирамида, которая всегда остается сама собой и над которой внешняя обстановка не имеетникакой власти. Богемный стиль был ей приятен и даже необходим, как «питательная среда», но я не могу представить себе, чтобы Тюля могла опуститься и позволить себе жест или интонацию, которые были бы, как говорят англичане, «quise the thing» (не совсем то, что надо)
usnasledie-nastia-polyakova.blogspot.com/p/blog-page_24.htm
|
Метки: шиловские толстые |
Романсы графини Толстой |
Романсы графини Толстой
Татьяна Константиновна Шиловская (Толстая)- это имя почти не известно в нашей стране, не говоря уже об остальной части Земного Шара. Мы знаем удивительно мало об её жизни и творчестве. Сведения о ней в интернете скудны и противоречивы. Википедия не удосужилась посвятить ей биографической статьи. Вместе с тем эта «свободная» энциклопедия уделяет много внимания персонам отребья, лишь бы они фигурировали в скандальных сообщениях СМИ. Скандальность часто заменяет свидетельство серьезной значимости жизни того или иного человека. Подобно пресловутому комитету по Нобелевским премиям Википедия, спрятавшись за анонимность, игнорирует славные имена, как прошлых веков, так и современников. Мне удалось наскрести в интернете кое-какие биографические данные об этой женщине, судьба которой была творчески значима и крайне трагична. Весьма обширные сведения о жизни Т.К.Шиловской мне удалось найти в «Семейной хронике» Т.А.Аксаковой-Сиверс (Париж, 1988).
Татьяна Константиновна Шиловская (Тюля, так её называли родные) родилась в Санкт-Петербурге в 1862 году в русской дворянской семье известного исполнителя цыганских романсов Константина Шиловского и его жены княгини Имеретинской. Тюля происходила из рода, известного своими музыкальными талантами. Она унаследовала от отца необычайную музыкальность. Никто не мог соперничать с нею в исполнении цыганских романсов, за что её называли «матерью цыганского романса». Её бабушка, красавица Мария Васильевна Шиловская-Вердеревская также была известной исполнительницей цыганских романсов. Мария Васильевна изумительно, с чувством и благородством пела русские цыганские романсы в пятидесятых годах 19-го века. Обладала красивым голосом мягкого тембра, большой музыкальностью, безупречной интонацией. Исполнение отличалось естественностью и благородством. Её исполнением и голосом восхищались Михаил Глинка, Модест Мусоргский, посвятивший певице романс «Что вам слова любви», Милий Балакирев, создавший для певицы романс «Исступление». Вердеревская выступала с Балакиревым в концертах. Репертуар певицы включал балладу А.Рубинштейна «Отворите мне темницу». С 1858 года Вердеревская жила в Москве. В её доме бывали Н.Рубинштейн, П.Чайковский, И.Тургенев, А.Островский, А.Чехов. В имении Вердеревской ставились любительские оперные спектакли, устраивались литературно-музыкальные вечера.
После развода родителей Татьяна Константиновна Шиловская жила с матерью, училась в пансионе, играла на гитаре и пела. С детства была дружна с московскими хоровыми цыганами. В возрасте 20 лет Т.К. вышла замуж за лейб-гусара Петра Михайловича Котляревского. В 1906 году супруги развелись, и Котляревская во второй раз вышла замуж за графа Николая Толстого (имя этого персонажа вызывает сомнения ввиду отсутствия независимых сведений о его существовании). Супруги переехали на дачу в село Быково Московской губернии. Их совместная жизнь длилась всего полгода. В ночь на новый 1907-й год Н.Толстой погиб во время пожара в доме. После смерти мужа графиня Толстая поселилась в Москве в небольшой квартирке близ Малой Дмитровки. Здесь она принимала гостей, для которых много пела, не заставляя себя упрашивать. Присутствующие неизменно поддавались очарованию её исполнения. Иногда Толстая гостила у своей матери в Петербурге. В годы 1-й мировой войны Т.К. некоторое время была на фронте в качестве старшей медсестры санитарного поезда №68 Всероссийского союза городов, начальником которого был её родственник граф Никита Толстой. Поезд курсировал между передовой фронта и Москвой. Здесь Т.К. общалась с певцом Александром Вертинским. По воспоминаниям Вертинского Т.К. была очаровательная, уже седая, добрая и благородная барыня.
Татьяна Константиновна является автором слов и музыки нескольких русских романсов. Наиболее известны четыре романса: «О, позабудь былые увлеченья...», «Завеса спущена», «Мираж» и «Тихо всё». Из романсов, слова которых написаны другими авторами, а музыка Т.К.Толстой, известны романсы «Я тебе ничего не скажу» и «Лесом мы шли» на стихи А.Фета, «Баюшки-баю» на стихи К.Бальмонта и «Я позабыл» на стихи П.Лодыженского Она также пела романсы на стихи Ф.Тютчева, К.Романова и других русских поэтов.
Романсы Т.К.Толстой с её стихами и музыкой:
О, позабудь былые увлеченья...
О, позабудь былые увлеченья,
Уйди, не верь обману красоты!
Не разжигай заснувшие мученья,
Не воскрешай минувшие мечты!..
Не вспоминай о том, что позабыто,
Уж я не та, что некогда была!
Всему конец! Прошедшее разбито!..
Огонь потух и не даёт тепла!..
Пойми меня! Пойми, что безнадёжно
Я откажусь от милых светлых грез,
Чтоб дать изведать безмятежной,
Святой любви, отрадных чистых слёз.
Не в силах жить без бурь и без тревоги,
Идти с тобой по новому пути,
Я брошу всё, сойду с твоей дороги!
Забудь меня, пойми и всё прости!
О, жизнь моя, постой, не уходи,
Я так хочу, чтоб ты была со мною,
Чтобы я мог припасть к твоей груди
И в темноте услышать над собою:
«О, жизнь моя, постой! Не уходи!»
«О, жизнь моя, постой! Не уходи!»
Не в силах я прервать очарованья,
Пускай грозит мне гибель впереди,
В душе живет одно твое признанье:
«О, жизнь моя, постой! Не уходи!»
«О, жизнь моя, постой! Не уходи!»
Дай руку мне, смотри не отрываясь,
Но этих грез печальных не буди;
Они одно твердят сейчас, ласкаясь:
«О, жизнь моя, постой! Не уходи!»
«О, жизнь моя, постой! Не уходи!»
Завеса спущена
Завеса спущена! Не надо притворяться!
Окончен жизни путь, бесцельный и пустой!
Нет сил надеяться, нет сил сопротивляться,
Настал расплаты час с бездушною судьбой!
Зачем же с прежнею мучительной тоскою
Сомненья прошлых лет закрались в сердце вновь?
И вместо нового, желанного покоя –
Волненья старые, тревога и любовь!
Мираж
Пусть это сон, чарующий и странный,
Мираж больной, измученной души.
Пусть отлетит, как и пришел, нежданно,
Среди ночной таинственной тиши!
Да, это сон, чарующий и странный,
Да, это сон, чарующий и странный,
Мечта любви, несбыточной любви.
Пусть этот миг промчится безвозвратно,
Им буду жить в томительные дни.
Все ту же песнь поет мне сердце внятно,
Но вторят ей рыдания одни.
Да, это сон, волшебный, невозвратный,
Да, это сон, волшебный, невозвратный,
Мираж любви, несбыточной любви.
Тихо всё
Тихо всё... Ночь нависла над сонной рекой.
Аромат льют акации белой цветы.
Где же ты? Отзовись и верни мне покой.
Моя радость, о, где же ты?
Припев:
Отзовись на призыв,
Дай рассеять тоску ожиданья,
И, весь мир позабыв,
Я с тобой замерла бы в лобзанье.
Отзовись поскорей,
Эта звездная ночь так прекрасна,
И от ласки твоей мое сердце волнуется страстно.
Тихо всё... Ночь нависла над сонной рекой.
Аромат льют акации белой цветы.
Где же ты? Отзовись и верни мне покой.
Моя радость, о, где же ты?
Романсы Т.К. трогательно печальны и напоминают поэтические миниатюры. В разные годы их включали в свои концертные программы такие корифеи оперы и эстрады, как Варя Панина в начале 20-го века, Тамара Церетели в 1930-1940-е годы, Надежда Обухова в 1940-1950-е годы, Галина Карева, Людмила Зыкина и Надя Тишинова в 1960-1970-е годы. Её романсы исполняют современные певцы, включая Олега Погудина. Молодая солистка Нижегородского театра оперы и балета имени А.С.Пушкина Надежда Маслова с успехом гастролирует по стране с концертной программой «О, жизнь моя, постой, не уходи!», составленной из сочинений графини Т.К.Толстой.
В 1917-м году на Россию обрушилась сначала февральская революция, а затем октябрьский переворот. Татьяна Толстая с трудом перебралась из Москвы на Тамбовщину в именьице вблизи Бурнака. Оно находилось недалеко от уездного города Борисоглебска. Жизнь казалась страшным миражом. Бежать от неё было некуда. Графиня Толстая научилась ходить на охоту, а добытые лисьи шкуры выменивала на Бурнакском базаре или в Борисоглебске на пищу. Революционная жизнь в стране сопровождалась пьяным разгулом, грабежами и убийствами. Лозунг дня гласил: «За одну каплю революционной крови выпустим ушаты крови эксплуататоров и врагов!» В эксплуататорах и врагах числились едва ли не все друзья Татьяны Толстой, которые иногда добирались до её усадьбы из соседних имений в надежде спастись от голода и разрухи. Во время пребывания Т.К. в Тамбовской губернии в 1918 году началось известное тамбовское крестьянское восстание против большевиков и советской власти. В интернете существуют данные о смерти Татьяны Толстой в 1918 году, но скорее всего это произошло позднее. К 1921 году восстание было жестоко подавлено. При этом для уничтожения восставших применялись химические отравляющие вещества. В 1921 году вышел революционный указ о сдаче оружия под угрозой расстрела на месте за его хранение. Когда-то муж Т.К. привез ей из-за границы в подарок женский браунинг. Она забыла о его существовании и, когда к ней в усадьбу нагрянули революционные бандиты в поисках оружия, она сказала, что оружия у неё нет. Бандиты стали искать и обнаружили злополучный браунинг. Сразу её не убили, а попросили попеть. Она пела всю ночь, а утром ехавшая к ней подруга встретила телегу, где среди трупов заложников увидела руку Татьяны Толстой.
;
© Copyright: Игорь Суриков, 2015
|
Метки: шиловские толстые |
ЗВЕГИНЦОВЫ, дворянский род |
ЗВЕГИНЦОВЫ, дворянский род
Автор Воронежский Гид
ЗВЕГИНЦОВЫ, дворянский род, внесен во 2 ,3 ,6-ю части родословных книг Воронежской губернии, Курской и Тамбовской губерний. Ведет начало с середины XVII века. Первым из Звегинцовых с Воронежским краем был связан Александр Ильич (03.06.1801 - 27.08.1849, село Тростяное Шацкого уезда Тамбовской губернии), выпускник Пажеского корпуса, офицер лейб-гвардейского Преображенского полка. После выхода в отставку - казанский вице-губернатор, волынский губернатор (1837), действительный статский советник. Владел значительным состоянием: золотыми приисками в Сибири, имениями в Крыму, в Воронежской губернии (село Масловка Бобровского уезда, село Петровское-Звегинцово Новохоперского уезда), в Курской и Тамбовской губернии. Был женат на Марии Павловне Черепановой (1817 - 29.04.1849).
Сыновья: Владимир Александрович (17.11.1838, город Тамбов - 11.02.1926, город Ницца, Франция), выпускник школы гвардии подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, гвардии офицер; в отставку уволен подполковником; с 1864 года жил во Франции вместе с гражданской женой В.Д. Римской-Корсаковой (урожденная Мергасова, умерла в 1877 году);
Иван Александрович (02.07.1840, Одесса - 01.10.1913, город Санкт-Петербург, похоронен в селе Масловка Бобровского уезда), гвардии полковник (1868), предводитель дворянства Звенигородского уезда Московской губернии (1872-1875), Воронежский вице-губернатор (1876-1879), предводитель дворянства Бобровского уезда (1879-1881), Курский губернатор (1881-1885), член Совета Министерства внутренних дел. Тайный советник (1892). Женат на Марии Александровне Казаковой (1845 - 1908). Имел 4 сыновей и 3 дочерей.
Старший сын - Александр Иванович Звегинцов.
Владимир Иванович (28.12.1871, город Санкт-Петербург - 1944) выпускник Царскосельского лицея (1892). Офицер гвардейского кавалергардского полка, позже чиновник Государственной канцелярии (1894), шталмейстер, статс-секретарь, член Главного управления государственного коннозаводства. Добровольцем участвовал в русско-японской войне в составе Приморского драгунского полка. Владел конным заводом в селе Масловка Бобровского уезда.
Николай Иванович (14.05.1878 - 27.11.1932, город Ванве, Франция), генерал-майор, начальник охраны Мурманской железной дороги. Женат на графине Софии Алексеевне Игнатьевой (1880 - 20.09.1935, город Париж).
Дмитрий Иванович (18.01.1880 - 23.10.1967, Глосбери-на-Уайле, Англия), полковник-кавалергард. Женат на княгине Марии Ивановне Оболенской (1883 -1943, Франция).
Елена Ивановна (10.07.1874 - 24.05.1905, город Харбин) добровольно участвовала в русско-японской войне сестрой милосердия, умерла от тифа.
Наталья Ивановна (13.02.1883 - 1920), фрейлина императрицы двора, сестра милосердия во время 1-й мировой войны, во время Гражданской войны служила в Добровольческой армии.
Младший сын Александра Ильича - Николай Александрович (28.04.1848, город Москва - 09.12.1920), гвардии ротмистр. Владелец поместья в селе Петровское. Занимал различные должности в судебных учреждениях Воронежского и Новохоперского уездов. Новохоперский предводитель дворянства (1875-1883, 1890-1901), губернский предводитель дворянства (1883-1888). Смоленский (1901-1905), Лифляндский (1905-1914) губернатор. Кавалер многих орденов, в том числе Александра Невского, действительный статский советник (1882). Благоустроил имение, разводил лошадей, построил больницу в селе Петровское. Сенатор (с 1915). Женат 1-м браком на Анне Евгеньевне Вонлярлярской (1850 - 09.09.1937, город Ментона, Франция), 2-м браком на баронессе Ольге Николаевне Сталь-фон-Голыптейн (03.02.1869 - 17.09.1938, город Мерано, Италия).
Сын от 2-го брака Владимир Николаевич (11.2.1891, село Петровское Новохоперского уезда - 27.04.1973, город Париж), полковник-кавалергард, участник 1-й мировой и Гражданской войн, историк, автор книг «Кавалергарды в Великую войну и Гражданскую» (том 1-3; Париж, 1936-1966). Женат на Анастасии Михайловне Раевской (12.04.1890, имение Карасан Ялтинского уезда Таврической губернии - 03.02.1963, город Париж), внучке генерала Н.Н. Раевского-младшего.
Их сын - Владимир Владимирович (19.10.1914, Царское Село, близ города Санкт-Петербург - 30.01.1996, город Париж), историк, генеалог, автор специальных трудов, посвященных изучению мундиров, знамен и других атрибутов русской армии.
Многочисленные представители рода Звегинцовых живут в Англии, США и Франции. С 1995 года регулярно бывают в Воронеже и селе Масловка Лискинского района.
https://vrnguide.ru/bio-dic/z/zvegintsovy-dvoryanskij-rod.html
|
Метки: звегинцовы |
Ко дню рождения Константина Михайловича Симонова |
Ко дню рождения Константина Михайловича Симонова
- 9 ноя, 2009 в 17:52
До сегодняшнего дня считалось, что родственные связи Константина Михайловича недостаточно изучены, скажем так.
Однако удалось соединить разбросанное, и теперь мы знаем не только его прапрадеда, который является не кем-нибудь, а Иваном Михайловичем Оболенским, родоначальником этой ветви фамилии (т.е. Симонов по матери происходит от Рюрика!), но и отыскать могилу его деда, Леонида Николаевича Оболенского. И не только.


Мама - княжна Александра Леонидовна Оболенская (1890-1975)
Папа - дворянин Калужской губернии Михаил Агафангелович Симонов (29.03.1871 - ?), генерал-полковник, участник Первой Мировой войны. После Октябрьской революции 1917 года эмигрировал в Польшу.
Второй муж, отчим, воспитавший Константина Михайловича, о котором он говорил немало добрых слов, и которому посвятил поэму "Отчим", Александр Григорьевич Иванищев - военный специалист, преподаватель.
Но родословная Константина Михайловича заслуживает более пристального внимания.
Биографам ещё предстоит выяснить, почему и каким образом Константин Михайлович избежал в те годы преследований и, более того, стал, кем стал. Непонятно ещё вот что: мама Константина Михайловича прожила до 1975 года, и внуки уже были взрослыми, и Константин Михайлович пережил её всего на 4 года... да и время было другое... каков же был СТРАХ, как же он держал их всех, что никто не посмел расспросить бабушку о корнях?!
___________________
Итак, факты.
Князь Иван Михайлович Оболенский (1774-1838) - родоначальник этой ветви фамилии, ведущей от Михаила Константиновича Сухорукого Оболенского, сына Константина Семёновича Оболенского, родоначальника князей Оболенских.
Вторая супруга: с ? до 1810 Фёкла Каблукова (1789-1862)
один из детей:
Оболенский Николай Иванович (1812-1865). Супруга: Анна Шубинская (?-1891)
один из детей:
Оболенский Леонид Николаевич (01.10.1846-15.12.1910). Похоронен на Новодевичьем кладбище С-Пб.
Супруга: (с 1874) Дарья Ивановна Шмидт(1850-1923)
их дети:
* Оболенский, Николай Леонидович (1878-1960)
Окончил юридический факультет Петербургского университета (1901), земский начальник, начальник гражданской канцелярии при штабе Верховного Главнокомандующего (1914, 1915). Курский, Харьковский и затем Ярославский (1916-1917 гг.) губернатор. Статский советник. В эмиграции состоял при Великом князе Николае Николаевиче. Почётный Председатель Семейного союза князей Оболенских (с 1957). Супруга - Наталия Степановна Соллогуб (1881-1963).
* Оболенская Людмила Леонидовна (1875-1955)
. Супруг - Максимилиан Тидеманн (Maximilian Tiedemann) (убит около 1917)
* Оболенская Дарья Леонидовна (1876-1940)
* Оболенская София Леонидовна (1877-1937). Была вместе с сёстрами Людмилой и Дарьей были арестованы в Ленинграде как "социально опасные элементы", затем была расстреляна.
* Оболенская Александра Леонидовна (1890-1975)
Супруги:
1. с 1912 Михаил Агафангелович Симонов
2. Александр Григорьевич Иванищев

Вкратце:
Отец Михаил Агафангелович Симонов (29.03.1871 - ?), генерал-майор, участник Первой Мировой войны, Кавалер разных Орденов, образование получил в Орловском кадетском корпусе Бахтина.
В службу вступил 01.09.1889.
Выпускник (1897) Императорской Николаевской военной академии.
1909 - полковник Отдельного Корпуса пограничной стражи.
В марте 1915 - командир 12-го пехотного Великолуцкого полка. Награжден Георгиевским оружием. Начальник штаба 43-го армейского корпуса (08.07.1915-19.10.1917). Генерал-майор (06.12.1915).
Кавалер Ордена Святого Станислава 3-й степени (1904) и Святой Анны 3-й степени (1906).
Последние данные о нём датируются 1920-1922 годами и сообщают об его эмиграции в Польшу.
Вот, что об этом говорит Алексей Симонов, сын писателя:
"Вторая важнейшая ее тема – история фамилии Симонов. С этой темой я столкнулся в 2005 году, когда делал двухсерийный документальный фильм об отце «Ка-Эм». Дело в том, что мой дед, Александр Григорьевич Иванишев, не был родным отцом моего отца. Константин Михайлович родился у бабки в первом браке, когда она была замужем за Михаилом Симоновым, военным, выпускником Академии Генштаба, в 1915 году получившим генерал-майора. Дальнейшая его судьба долго была неизвестна, отец в автобиографиях писал, что тот пропал без вести еще в империалистическую войну, затем и вовсе перестал его поминать. В процессе работы над фильмом я нашел письма бабки начала 20-х годов ее сестрам в Париж, где она пишет, что Михаил обнаружился в Польше и зовет ее с сыном к себе туда. У нее в это время уже был роман с Иванишевым, да, видимо, было и еще что-то в этих отношениях, что не позволило их восстановить. Но фамилию Симонов бабка все же сыну сохранила, хотя сама стала Иванишевой."
В другом интервью Алексей Симонов отвечает на вопрос об отношении Сталина к отцу:
"Вы знаете, никаких доказательств того, что Сталин относился к отцу особенно хорошо, я не нахожу. Да, отец рано стал знаменитым. Но не потому, что Сталин его любил, а потому, что написал "Жди меня". Это стихотворение было молитвой для тех, кто ждал с войны своих мужей. Оно и обратило внимание Сталина на моего папу.
У отца был "прокол" в биографии: мой дед пропал без вести в канун гражданской войны. В то время этого факта было достаточно, чтобы обвинить отца в чем угодно. Сталин понимал, что если выдвинет отца, то он будет служить если не за совесть, то уж за страх обязательно. Так оно и вышло."
Его дед, отец отца, бухгалтер, коллежский ассесор Симонов Агафангел Михайлович упоминается со своими братом и сёстрами (Надворный советник Михаил Михайлович Симонов, классная дама, из дворян девица Евгения Михайловна Симонова и учительница приготовительного класса, из дворян девица Аграфена Михайловна Симонова) в Адрес-календаре Калужской губернии на 1861 год.
В 1870 - он уже надворный советник.
***
Историю рода бабушки, Дарьи Ивановны, урождённой Шмидт, пока не удалось проследить. Известно, что
Шмидты тоже были дворянами Калужской губернии. Фамилия Шмидт есть в списке жертвователей Храма Христа Спасителя. Там же, на стене Памяти, есть погибший поручик Шмидт. Есть информация, что Иван Шмидт был женат на княжне Шаховской... Найду, сообщу))
А пока так...
P.S. Большая просьба петербуржцам - если будет времечко, отснимите, пожалуйста, могилу Леонида Николаевича Оболенского получше. Интересно к тому же, похоронена ли рядом с ним Дарья Ивановна.
Метки:
|
Метки: оболенские симоновы |
Достопримечательности Пречистенки |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright © 2008     |
|
Метки: москва пречистинка |
Т.А.Сиверс-Аксакова-Штеры |
ШТЕРЫ
В первой главе своих записок я вскользь упомянула, что у моего прадеда с материнской стороны Петра Афанасьевича Чебышёва, кроме моей бабушки Александры Петровны, была вторая дочь Валентина Петровна (мужского потомства не было).
Теперь мне предстоит более подробно рассказать об этой ветви моей семьи.
- 187 -
Валентина Петровна, несколькими годами моложе сестры, была невысока ростом, но красива лицом. Точеные черты, тяжелые золотистые косы и прекрасное здоровье она сохранила до последних дней, а умерла она семидесяти лет от случайной простуды.
Воспитание, полученное сначала в Парижском пансионе, а потом в Петербурге у m-me Troubat, дало ей прекрасное знание французского языка и, может быть, способствовало развитию того упрощенного взгляда на жизнь (черты не русской), который помог ей в перенесении тягот от неудачного брака. . Муж Валентины Петровны, Петр Петрович Штер, принадлежал к бюрократическому, веселящемуся слою петербургского общества. Сын цензора С.Петербургского почтамта, он окончил Александровский лицей (XXV курс), служил по ведомству Государственных имуществ, а потом состоял предводителем дворянства по назначению в Кобринском уезде Гродненской губернии, где у него было имение. Петр Петрович претендовал на щеголя-денди. Тон его был резок и неприятен. Все немодное, нефешенебельное вызывало в нем презрение, которое он не считал нужным скрывать. Так, если радушная хозяйка за чаем угощала его печеньем, добавляя: «возьмите, пожалуйста, это домашнее», Петр Петрович холодно отвечал: «Очень жаль! Покупное наверное было бы вкуснее», — чем повергал хозяйку сначала в недоумение, а потом в смущение.
Персонажи Оскара Уайльда могли бы, пожалуй, соревноваться с Петром Петровичем в области снобизма, но в России ему конкурентов не было.
Семейными добродетелями, как и все люди этого склада, Петр Петрович не отличался, и жизнь его жены могла бы быть трагичной, если бы Валентина Петровна имела склонность к трагическому восприятию действительности. В ранней молодости она напоминала пеструю порхающую бабочку, а потом перенесла свою любовь на детей и была «матерью-тигрицей», что давало повод бабушке говорить: «Преувеличенная любовь к детям свойственна несчастным в браке женщинам».
Чтобы не возвращаться больше к Петру Петровичу, скажу, что старость его была незавидной. Лет за десять до смерти он совершенно ослеп. Я помню его высоким, чрезвычайно гибким стариком с невидящими глазами и тщательно расчесанными бакенбардами. Интересы его были сосредоточены на тонкости подаваемых к столу блюд.
- 188 -
Детей Штер было трое: Наталья, Андрей и Николай. Метод их воспитания вызывал осуждение бабушки, которая говорила: «Valentine fait de ses enfants des jouisseurs».
Андрюша, как это показало будущее, устоял против коррупции среды и материнского баловства и был безупречен. Одним из первых он окончил Морской корпус, доблестно сражался на знаменитом «Новике», раненный в голову пешком пересек Сахалин и трагически погиб 17/Х-1907 г., командуя миноносцем «Скорый». Привлекательный внешне, он оставил прекрасную память о себе. (Эпизодически выведен под своей фамилией в романе Степанова «Порт Артур» в главе о гибели «Новика».)
Ната и Котя, с точки зрения бабушки, были jouisseur'aMH. Ната в меньшей, а Котя, как любимец матери, в большей степени.
С непокорностью и свободолюбием Наты бабушка впервые столкнулась, когда тетя Лина Штер, отправившись в 1899 г. вместе со своей матерью Юлией Григорьевной Чебышёвой на Всемирную Парижскую выставку, оставила детей на попечение сестры. Перемена воспитательного режима вызвала в 12-летней Нате столь бурный протест, что в ходе какого-то скандала, она вскочила на подоконник раскрытого окна (дело было на Николаевской улице) и закричала: «Вот сейчас брошусь вниз, и Вы будете отвечать перед моей матерью!»
Впоследствии резкость характера Наты сгладилась, и годам к 16 она стала хорошенькой, веселой барышней (тысяча слов в одну минуту!), имевшей большой успех в обществе. Даже заядлый холостяк дядя Кока Муханов не устоял против ее чар: встретив Нату в нашей детской, он подумал: «не посвататься ли?» В нашей семье считалось, что «Штеры любят дешевые удовольствия», что в их вкусах и развлечениях мало «солидности». Бабушка также не одобряла того, что тетя Лина при жизни отдала свою часть бриллиантов, доставшихся от Юлии Григорьевны, Нате. Бабушка никогда не шла по пути безрассудства короля Лира, и ее вещи во славу принципа целиком погибли в недрах Волжско-Камского банка.
Нату мало тревожила та или иная оценка ее образа жизни. Подобно стрекозе из басни, она «без души» пела, танцевала, играла в спектаклях, участвовала в загородных поездках, получая цветы, конфеты, стихи, романсы и прочие знаки внимания петербургской военно-морской молодежи.
В третьей главе я говорила, что мамина двоюродная сестра Ната училась вместе с Татьяной Константиновной (Тюлей)
- 189 -
Шиловской, что Тюля Шиловская вышла замуж за гусара П.М. Котляревского, который с размахом, достойным менее меркантильной эпохи, заказывал от времени до времени экстренный поезд и вез своих знакомых «на пикник» в Полтавскую губернию.
В одной из таких поездок участвовала Ната и братья хозяйки дома: похожий на цыгана Саша Шиловский и недавно женившийся на княжне Елизавете Васильевне Оболенской его младший брат Владимир*. На правах родственника последнего приехал также и его beau-frère кн. Василий Васильевич Оболенский, один из сыновей многочисленной, но обедневшей семьи московских Оболенских (так называемых «Кореневских»).
Вася Оболенский, поручик артиллерии в запасе, был крупным, плотным, добродушным малым, с коротко остриженными волосами и розовым лицом, что придавало ему вид новорожденного ребенка, рассматриваемого в микроскоп (появившись однажды на костюмированном балу в чепчике и с соской, он имел бурный успех!).
Встреча Наточки Штер с Васей Оболенским закончилась свадьбой, состоявшейся в Москве 29/IV-1899 г. Семья Оболенских приняла новую невестку очень благожелательно. Василий Васильевич получил место земского начальника в Московской губернии, и жизнь Штеровской семьи переключилась в орбиту Москвы.
В начале 900-х годов было продано Гродненское имение и куплена усадьба Овсянниково в 80 километрах от Москвы по Николаевской дороге. В Овсянникове был поместительный двухэтажный дом, куда и переехала вся семья, за исключением Андрея, бывшего на Дальнем Востоке, и Коти, служившего в Преображенском полку.
Младший сын Валентины Петровны, Николай, не проявлявший склонности к науке, 15 лет был отдан в Пажеский корпус, но и там продвигался с трудом. Вспоминая впоследствии годы учения, он рассказывал о каком-то легендарном паже (с которым несомненно имел много общего). Будучи спрошен на экзамене о семилетней войне, этот паж мог ответить только, что она длилась семь лет и была кровопролитна. О тридцатилетней войне он знал, что она длилась тридцать лет и была еще более
* Погиб в 1907 г. во время Быковского пожара.
- 190 -
кровопролитной. Когда же преподаватель задал вопрос о войне Алой и Белой Розы, паж обиделся и сказал: «Вы можете поставить мне единицу, но я старый паж и издеваться над собой не позволю. Причем тут цветы?»
Внешне Котя был строен, ловок и даже, может быть, красив. От бабушки Юлии Григорьевны (если верить ее портретам в молодости) он унаследовал миндалевидный разрез глаз. Черты лица у него были тонкие, рот капризный и во всем облике было что-то польское. Такими я представляла себе хлыщеватых шляхтичей-конфедератов.
В августе 1902 г. он был произведен в подпоручики, вышел в Преображенский полк и прослужил там 6 лет.
В первый раз я увидела Котю Штера, когда мне было лет двенадцать. Мы с мамой, будучи на Невском, зашли под вечер в ярко освещенный магазин хозяйственных принадлежностей Цвернера. У прилавка, к нам спиной, стоял офицер в шинели с бобровым воротником и рассматривал сверкающие никелевые кастрюли особой конструкции. Его вид и осанка почему-то поразили меня, и я даже выразила предположение, что это «великий князь». Мама поспешила меня разуверить словами: «Во-первых, это не великий князь, а во-вторых...» — тут офицер обернулся, — «это — Котя!» Последовали приветственные возгласы.
Странность нахождения Преображенского офицера в посудном магазине объясняется пристрастием Коти Штера к кулинарии. Он слыл мастером в этом деле и, ужиная у Кюба, спускался, говорят, в кухню, чтобы перенять у поваров секрет приготовления того или иного блюда и потом блеснуть своим искусством в кругу знатоков.
За годы петербургской жизни, он еще обучился дирижировать танцами. Непревзойденным дирижером придворных балов много лет подряд был лейб-улан Михаил Евгеньевич Маслов. Потом его начал сменять стрелок барон Притвиц. Котя Штер, знавший толк в балете и танцах, наблюдал приемы, и, обосновавшись в 1908 г. в Москве, получил признание опытного дирижера с петербургским стажем.
Эта, если не вполне счастливая, то во всяком случае беспечная атмосфера штеровской жизни была внезапно нарушена. 17 октября 1907 г. как удар грома пришла весть о гибели Андрея. Двумя неделями позднее, на ст. Сухиничи из Владивостока прибыл цинковый гроб с его телом для погребения в Субботниках, рядом с дедом Чебышёвым. При гробе был серебряный
- 191 -
лавровый венок от команды «Новика». Первой на серебряной ленте стояла подпись командира Эссена.
Получив известие о смерти сына, тетя Лина была очень близка к помешательству, от которого ее спасло сближение со спиритическим кружком А.И. Бобровой, а также беседы с Львом Михайловичем Лопатиным, другом Владимира Соловьева. Эти влияния направили ее помыслы в некое спиритуалистическое русло и заставили поверить в то, что «надо плакать над колыбелью и радоваться над могилой».
Вера эта еще более упрочилась после того, как она обнаружила в себе способность к автоматическому писанию. Я не знаю, какими видами рефлексов объясняет наука это явление, но я была свидетельницей того, как тетя Лина в темноте, совершенно бессознательно исписывала целые тетради философскими изречениями. Был такой случай: весь день тетя Лина провела у нотариуса. Вечером она села за свои тетради. Чувствует, что ее рука выводит «Not» и с досадой думает: «ну вот, отражается то, что я была у нотариуса!» Старается удержать руку, но рука помимо ее воли выводит фразу: «Notre devoir est de vous dire: méfiez-vous des charmes trompeurs des esprits ordinaires!»
Впоследствии то ли кружок Бобровой распался, то ли тетя Лина решила «se méfier des esprits ordinaires», но она отошла от спиритизма и стала ревностной прихожанкой церкви Покрова в Левшине.
Через год после смерти брата Котя вышел из полка, перевелся на какую-то должность при Владимире Федоровиче Джунковском* и женился на единственной дочери помощника управляющего Московской конторой импер. театров Сергея Трофимовича Обухова (управляющим в то время был Николай Константинович фон-Бооль, тот самый, про которого Шаляпин во время одной из своих «молодецких» выходок кричал: «Я сотру ему весь "фон" и останется одна боль!»).
Сергей Трофимович был старшим представителем многочисленного и не раз уже мною упоминавшегося семейства Обуховых. В молодости он готовился стать оперным певцом — из этого ничего не вышло, но, будучи знатоком теории пения, он руководил музыкальным образованием своей племянницы Нади, у которой безусловно «вышло» стать украшением Большого театра.
* Московском губернаторе.
- 192 -
Бывая у Востряковых, я всегда с интересом рассматривала висевшую на стене фотографию: молодой Сергей Трофимович Обухов в обстановке итальянского возрождения и в обличий Отелло, стоя в живописной позе, повествует восемнадцатилетней красавице Дездемоне — Ел. Кир. Востряковой — о своих похождениях. Эта фотография была воспоминанием о живых картинах, поставленных в Москве в 90-х годах.
В мое время С.Т. Обухов был высоким грузным человеком мрачного вида. Он и его брат Александр Трофимович были женаты на родных сестрах Хвощинских. Надежда Николаевна и Вера Николаевна были рослыми, спокойными женщинами с приятными лицами русского склада. Такую же внешность унаследовала и дочь Надежды Николаевны, Лиля, бывшая к тому же очень молчаливой.
Увидев в первый раз новую племянницу, бабушка довольно метко сравнила ее с мраморной кариатидой (чтоб не сказать «каменной бабой»), сошедшей с фасада здания.
Николай Штер и его невеста мало подходили друг к другу и по внешности и по внутреннему складу, что позволяло думать, что брак совершается, если не по расчету, то по разуму. Венчание, на котором я присутствовала, совершалось в домовой церкви Большого Кремлевского дворца. Молодые поселились в Малом Власьевском переулке, но тесная связь Елизаветы Сергеевны с родителями не порвалась. Когда же родился ее первый и единственный сын Николенька, ставший в центре внимания, Котя оказался как бы за флагом, на что он, кстати говоря, ничуть не жаловался. Не имея склонности к «пеленкам» и прочим «тихим радостям», он вполне довольствовался ролью второстепенного члена семьи.
Крестной матерью Николеньки была приятельница обуховской семьи кн. Лобанова-Ростовская. Выходивший на Собачью Площадку дом этой оригинальной особы почти всегда стоял заколоченным, т.к. хозяйка странствовала по Европе (в последние годы по следам тенора Смирнова). Один раз мне пришлось видеть эту меценатку в ложе Большого театра — это была немолодая, сверкающая бриллиантами женщина в открытом платье и рыжем парике. И вот, по завещанию этой умершей за границей международной дамы, маленький Штер унаследовал некоторую сумму денег в швейцарских франках. Упоминаю об этом факте, так как он сыграл известную роль в дальнейшей судьбе семьи. С отъездом из Москвы Николай Петрович Джун-
- 193 -
ковский перешел на открывшуюся вакансию полицмейстера Императорских театров, на которой и пребывал до 1917 г. Должность эта была необременительна и давала постоянное место в третьем ряду партера. Став лицом так или иначе причастным к театральной жизни Москвы, Котя Штер более интересовался делами балета, чем делами «дома Щепкина», однако сумел создать дружелюбное к себе отношение. Столь нелюбимый москвичами «петербургский тон» он применял лишь в умеренном количестве, и, сравнивая его с ненавистным Нелидовым, актеры находили, что Штер «хотя и бывший гвардеец, но веселый и безобидный малый».
На этом я заканчиваю главу о Штерах, а если они и будут входить в мое повествование, то уже как знакомые лица.
|
Метки: штер |
Дамы Серебрянного века |
В 1913 – 1917 годах в России выходило удивительное издание - «Столица и усадьба» с подзаголовком : «Журнал красивой жизни». Журнал печатался на превосходной бумаге в лучшей столичной типографии и рассказывал о светской жизни Петербурга (Петрограда), о дворянских усадьбах, отчеты о культурных событиях, давал репродукции знаменитых картин. Его издатель В.П.Крымов, в эмиграции писал : «В 1913 году я решил издавать свой журнал, "Столица и Усадьба", совершенно нового типа для России. Рассчитывал я на верхний слой, на знатных и богатых, и им журнал нравился, сразу появилось много объявлений по высокой цене и уже на третий год журнал дал большую прибыль, а главное ввел меня в высшие круги России, к которым по своему происхождению я никак не принадлежал. Журнал "Столица и Усадьба" - любимое мое детище, погибшее в октябре 1917 года, и об этом больше всего жалею; журнал не был запрещен, мог все-таки продолжаться, но не было ни необходимой бумаги, ни красок, не было больше типографии, какая могла бы его печатать".» Всего вышло в свет 90 номеров журнала, сейчас представляющие собой большую редкость.
Особый интерес для меня представляло то, что в каждом номере печатались фотографии светских красавиц, представительниц знатнейших русских и иностранных родов. Волею судеб несколько номеров этого журнала попали ко мне в руки. Представляю несколько характерных фотографий:
Н. С. Брасова, А. М. де Торби, Н. М. де Торби
Брасова Наталья Сергеевна (ур. Шереметьевская в первом браке - Мамонтова, во втором - Вульферт)(1880 -1952) морганатическая жена Вел.Кн. Михаила Александровича (1878- 1918), брата Императора Николая II . Их брак в 1912 году был заключен без согласия Императора, за границей, и вызвал большой скандал.
Графиня де Торби Анастасия (Зия) Михайловна (1892 -1977) дочь Вел.Кн.Михаила Михайловича (1861 - 1929) от морганатического брака с Софьей Николаевной (1868 -1927) (ур. Меренберг), внучкой А.С.Пушкина, замужем за Гарольдом Огастусом Уэрнером (1893 – 1973), ген –майором британской армии.
Графиня де Торби Надежда Михайловна (1896 -1963), сестра предыдущей - замужем за Георгом Луисом Виктором Серджиусом, лордом Маунтбэттеном (фон Баттенберг) 2-ым маркизом Милфорд-Хейвен (1892-1938).
М.П.Шервашидзе, Т.П.Шервашидзе, А.А.Оболенская, З.Р.Мейендорф
Княжна Шервашидзе Мария Прокофьевна (1890 – 1986), наследница абхазского княжеского дома, дочь кн. Прокофия Левановича Шервашидзе (1840 -1915), фрейлина, замужем за кн. Георгием Николаевичем Эристовым
Княжна Шервашидзе Тамара Прокофьевна (1896 -1931), сестра предыдущей, замужем за графом Петром Константиновичем Зарнекау (1889 -1961)
Княгиня Оболенская Анна Александровна (1881 - 1964) супруга кн. Михаила Леонидовича Оболенского (1877 – 1941), дочь князя Александра Михайловича Урусского (1839 - 1886) и его супруги Леониллы Лазаревны Лазаревой (ум.1932).
Баронесса Мейендорф Зоя (Стелла) Романовна (ур.Whishaw ) (1884 - ) супруга бар. Павла Феофиловича Мейендорфа (1877 - ) англичанка, владевшая 6 языками, бежавшая из Советской России во времена Красного террора, и написавшая в эмиграции книгу мемуаров "Through terror to freedom"
Продолжение следует....
https://baronet65.livejournal.com/5121.htm
|
Метки: оболенские |
Казанские потомки адмирала фон Эссена |
Казанские потомки адмирала фон Эссена
- Jul. 10th, 2016 at 1:25 PM
Федеральные каналы в июне сообщили, что в Калининграде торжественно передан ВМФ России новый корабль — фрегат «Адмирал Эссен». Представитель древнего рода прибалтийских немцев Николай Оттович фон Эссен — герой Порт-Артура, командующий Балтийским флотом в Первую мировую войну. На поднятие Андреевского флага были приглашены ближайшие потомки адмирала: его внучатые племянники Майя и Николай фон Эссены, живущие и работающие в Казани.

Николай Оттович фон Эссен — герой Порт-Артура, командующий Балтийским флотом в Первую мировую войну
«Это была уже наша третья поездка в Калининград, — рассказывает корреспонденту «БИЗНЕС Online» Николай фон Эссен, руководитель пресс-центра Казанского государственного энергетического университета. — Первый раз мы ездили туда в 2011 году, когда закладывался корабль. Тогда, во время закладки, по флотской традиции мы поместили в одной из его частей памятную закладную доску, прикрепив ее к днищу изнутри четырьмя винтами. Один прикрутил командующий флотом, второй — губернатор Калининградской области, третий — директор завода, наконец, четвертый достался нам с сестрой Майей. Осенью 2014 года мы участвовали в церемонии спуска фрегата на воду».
Спуск на воду — мероприятие важное и торжественное, но это еще не начало службы корабля. Он должен пройти испытания, которые могут длиться месяцами. Пресловутую бутылку шампанского разбивают о борт судна именно тогда. Кстати, это всегда делает женщина, которая по давней морской традиции становится его крестной. Так что Майя фон Эссен, старшая медицинская сестра бывшей Казанской городской больницы скорой помощи №2 (сейчас она называется медсанчастью КФУ ), — крестная мать грозного боевого корабля, носящего имя ее двоюродного прадеда. «Майя — медработник, — Николай фон Эссен гордости за сестру не скрывает. — А они видят не просто жизнь без прикрас, видят и страдания, и смерти, так что они на все по-другому смотрят. У себя в больнице она на хорошем счету, больные к ней тянутся. Ее направление — это гемосорбция, это гемодиализ, плазмаферез, работа очень сложная, ответственная, а Майя — одна из тех, кто лучше всех знает оборудование и проводит все эти процедуры».

Майя фон Эссен и боевой корабль имени ее двоюродного прадеда
Сегодня новый сторожевой корабль «Адмирал Эссен» несет службу в составе Черноморского флота ВМФ России. Николай Оттович фон Эссен, чьим именем назван фрегат, родился 11 декабря 1860 года в Санкт-Петербурге в семье товарища (заместителя) министра юстиции, статс-секретаря Отто Вильгельма (Васильевича) фон Эссена.
Николай был прекрасно воспитан и образован. Говорил на русском, английском, французском и, конечно, немецком языках. В 1881 году с отличием окончил Морской кадетский корпус, затем — артиллерийский офицерский класс. В 1892-м началась его служба на Тихоокеанском флоте. Служил старшим артиллерийским офицером на крейсере «Адмирал Корнилов», затем командовал штабным кораблем «Славянка», крейсером «Новик», эскадренным броненосцем «Севастополь». Участвовал в сражениях в Порт-Артуре. За боевые заслуги во время Русско-японской войны фон Эссен был награжден орденом Святого Георгия IV степени и золотым оружием с надписью «За храбрость», был произведен в капитаны 1-го ранга. В 1906-м был повышен до контр-адмирала, в 1909 году его назначили командующим Балтийским флотом. Он изменил систему обучения и воспитания флота, создал из своей бывшей 1-й Минной дивизии, которой командовал два года, лучшее соединение флота, кузницу командных кадров. В 1911 году ему было присвоено звание вице-адмирала, а в 1913-м он был произведен в адмиралы. Балтийский флот встретил начало Первой мировой войны под его командованием. Адмирал блестяще провел активные минные постановки в Южной Балтике, которые прикрывали путь на Петроград. 7 мая 1915 года он умер от крупозного воспаления легких.
О личности и характере славного адмирала можно судить не только по романам Александра Степанова «Порт-Артур» и Валентина Пикуля «Моонзунд», в роду фон Эссенов есть семейное предание, как одно упоминание фамилии командующего Балтийским флотом спасло жизнь его родному брату.

Николай фон Эссен с семьей на церемонии поднятия флага, Калининград, июнь 2016
Младший брат адмирала Алексей Оттович фон Эссен (Майя и Николай — его правнуки) с начала ХХ века получил назначение в Закавказское наместничество, там пережил революцию, был в Азербайджане заместителем министра юстиции мусаватистского правительства. После прихода Красной армии начались аресты, взяли и Алексея Оттовича. Следствие по его делу поручили балтийскому матросу. И вот первый допрос: «Фамилия…» — «Эссен…» — «Ты не родственник Гололобого?» Так на флоте Николая Оттовича звали потому, что он был лысым, и Алексей Оттович — тоже, они оба были довольно похожи. Отвечает: «Да, родственник. Брат». И моряк его отпустил. А так бы — к стенке и в расход…
Уже в Тифлисе, современном Тбилиси, где в конце концов оказалась семья, Алексея Оттовича арестовывали еще три раза, но ему всякий раз чудом удавалось спастись. А в 1937 году его арестовали и объявили врагом народа. По тому времени родственникам лучше было от него отказаться, но никто из семьи этого не сделал. Они поступили похитрее — так, как им посоветовали: уволились с прежних мест работы, чтобы на новых никто не догадался потребовать с них никакого отчета, хотя фамилию, да еще такую, спрятать было сложно…

«Бабушка моя, которая знала множество языков и занималась репетиторством, боялась учить своих детей иностранным языкам, — рассказывает Николай Алексеевич. — Не дай бог во дворе кто-то услышит от них «вражескую» речь! Только вот сестра деда взяла, да и в паспорте написала: немка. А тут война началась! Пришлось выдумывать всякие оправдания, что на самом деле мы не немцы, а шведы, чтобы не сослали. Потому что Тбилиси был прифронтовым городом, а гитлеровцы уже штурмовали Эльбрус».
Вплоть до 1993 года эта ветвь рода фон Эссенов (потомки Алексея Оттовича) проживала в Тбилиси, но известные события заставили их фактически эвакуироваться в Казань.
«Отсюда родом наша мама, — объясняет причину выбора нового места жительства Николай Алексеевич. — Мне было тринадцать, я был в 8-м классе, когда мы с папой, мамой и старшей сестрой Майей переехали сюда. Хотя я и бывал здесь, у бабушки, еще в советские времена, но когда из Грузии приехал насовсем, нельзя сказать, что я такой наивный, но, может, я себе нарисовал, навыдумывал Россию по кино, по передачам центрального советского телевидения. Выяснилось, что тот русский язык, на котором я говорю, отличается от того, на котором говорят мои здешние сверстники. Я долгое время пытался вникнуть и вообще понять новый для меня русский. И у меня было даже какое-то отторжение, когда я слышал слова наподобие «прикалываешься»... Я долгое время не мог понять, что они имеют в виду. Если честно, даже уже учась в вузе, если кто-то сказал при мне выражение: «Корки мочить», я не знал, гадость он про меня какую-то говорит или наоборот. Но я же ехал сюда — в Р-о-с-с-и-ю! Хоть и было мне всего тринадцать, но небольшой культурный шок у меня был. Я столько всего узнал, здесь было так много новых слов! Я не знал этих красивых, даже закрученных выражений, когда кто-то кого-то куда-то очень далеко…
Любая эмиграция, даже возвращение на исконную родину, в Россию, сами понимаете, ряд проблем.… У меня ведь целая эпопея с паспортом случилась. Я же сюда, в Казань, приехал без гражданства. До 2000 года был гражданином Советского Союза. И такая была морока — ходить в паспортный стол! Чтобы на тебя смотрели и в коридорных очередях, и в зеленой форме внутренней службы: «Понаехали тут!» Знаете, мои предки, прибалтийские немцы, в Россию не переезжали. Это Россия пришла туда, где мы были, понимаете? Прибалтийское немецкое дворянство, в отличие от некоторых других российских немцев, вошло, в хорошем понимании этого слова, в сговор с Петром I, благодаря чему Прибалтика как раз и стала частью Российской империи. Петр смог убедить немецкое дворянство Прибалтики, дав ему определенные права, льготы, которые отобрал шведский король. На фоне этого щедрый Петр сказал: «Я вам все верну». Поэтому я считаю себя законным жителем, абсолютно естественным россиянином, потому что мои предки благосклонно отнеслись к данной идее и стали частью этой страны. Вы знаете, я читал, что в середине XVIII века в Русской армии, как у нас в футболе сейчас, иностранцам платили больше. Но прибалтийские немцы, которые уже стали россиянами исконными и в большей части своей служили в Русской армии, возмутились: «А что такое? Почему такая разница?» И с тех пор уже всем одинаково платили жалование. Кстати говоря, наши служили верой и правдой. В середине XVIII века был создан еще один — третий гвардейский после Преображенского и Семеновского — специальный полк, на который опиралась Императрица. Он как раз состоял из прибалтийских немцев.
В 1914 году, когда началась Первая мировая война, или, как у нас ее еще называли, Германская, многие потомки прибалтийских немцев, будучи даже генералами, меняли свои фамилии на русифицированные. Николай Оттович этого не сделал, то есть не отказался от своего отца, ведь по отцовской линии передается фамилия. Более того, даже когда наступил апогей войны между Россией и Германией, его фамилию во всех газетах Российской империи печатали, как и положено, с приставкой «фон», невзирая на то, что более немецкой фамилии, наверное, трудно было придумать. Одним из самых важных участков театра военных действий на Петроградском морском направлении руководил человек с такой вот фамилией. И никто на флоте не мог обвинить фон Эссена в том, что он не патриот. Его фамилию не стеснялись правильно писать в документах, приказах и распоряжениях высшие военные чины империи. Именно так она была опубликована и в соболезновании по поводу его кончины от болезни. А сейчас, к сожалению, корабль так назвать нельзя. Я ведь неоднократно писал на имя командующего ВМФ уже после закладки, чтобы фрегат именовался «Адмирал фон Эссен». Сейчас нельзя, чтобы российский фрегат именовался с приставкой «фон», а тогда погибать было можно. Это большевизм, волюнтаризм какой-то, не имеющий ничего общего с Россией…»

Копия мемориальной доски, установленной при закладке корабля
«Собирая и восстанавливая семейный архив, удалось раскопать метрику бабушки, где черным по белому было написано «фон Эссен», — продолжает Николай Алексеевич. — Приставка «фон» у немцев означает принадлежность к дворянству. Кстати, на надгробном камне самого что ни на есть русского композитора Михаила Ивановича Глинки, когда его прах покоился в Берлине, перед фамилией были высечены эти самые буквы. Это сделали, чтобы подчеркнуть уважение к его происхождению. И вообще, дворянства может лишить только тот, кто его дал. А именно — Император. Но никак не большевистская или советская — кому как нравится — власть. Другое дело, что в Советском Союзе привилегии этого класса упразднили. И даже больше.… Теперь Союза нет, и я, уже имея бабушкину и свою метрики на руках, пришел для начала в районный загс: «Моя фамилия пишется таким образом: «фон» с маленькой буквы, потом пробел, потом с большой». На меня своеобразно так посмотрели: «Зачем тебе это нужно?» Я как мог постарался объяснить: восстановление исконной фамилии, преданность предкам, их традициям… Загс не унимался: «Зачем вообще что-то менять — живете же нормально». Набираюсь терпения и объясняю про нормальность и ненормальность в моем понимании. Они посмотрели на меня еще внимательнее: «Может, вам с психологом поговорить?» Продолжаю настаивать. Они тоже: «А давайте двойную фамилию напишем: Фон-Эссен. Будет вполне законно, изменение фамилии, так часто делают». Объясняю, что у меня не изменение, а восстановление фамилии, то есть наоборот — изменение изменения. В общем, пришлось идти в районный суд, писать исковое заявление. Судья, женщина в возрасте, заявление все-таки приняла. Просто я ей начал объяснять: «Вот давайте возьмем вашу фамилию…» — «Нет! Мою брать не надо». А мою, значит, можно? Почему кто-то должен решать за меня, как будет звучать моя исконная фамилия? Извините, но это фундаментальные права человека. В Германии — хоть там и республика, но никто в фамилиях ничего не отменял! Даже во времена ГДР.
Не сразу, но суд взял-таки сторону истца, то есть мою. Судья потом мне: «Вы знаете, я и в Верховный суд ходила, и свое решение показала: «Как это — правомочно?» Оказалось — да. После суда, который я выиграл, загс отказывался выполнять его решение. Через какое-то время они сдались, махнули рукой: давайте мы вам прямо в вашем старом советском свидетельстве о рождении впишем перед фамилией эти самые буковки «фон». Вписали. И поставили уже российскую печать: «Внесено на основании постановления суда».
Когда уже переоформляли паспорт, паспортистка и говорит: «А у меня компьютерная программа не пишет так — с маленькой буквы. Все фамилии начинаются только с больших букв. У нас с этим строго — это федеральная программа. Это святое, как корова». И тому подобное. Пошел к начальнику, разъяснил ситуацию — начальник приказал одолеть федеральную программу. Одолели».
«Как продолжаем традиции нашего адмирала? — Николай фон Эссен на минуту задумался. — Мы с отцом (он, конечно, в большей степени) в рамках республиканских соревнований по судомоделизму несколько раз проводили Кубок адмирала фон Эссена. Есть призы, определенные премии, грамоты, которые вручаются победителям. Кубок переходящий, правда, в этом году провести конкурс не удалось, но я уверен, что в следующем он состоится. Он просто обязан состояться хотя бы потому, что на таком важнейшем участке наших границ появился корабль «Адмирал Эссен». В связи с этим, может быть, удастся привлечь спонсоров, может быть, организуем все на более высоком уровне. И имя адмирала фон Эссена придаст ему определенный статус. В Казани есть Адмиралтейская слобода, в Зеленодольске — крупнейший судостроительный комплекс. Словом, Казань, Татарстан были и остаются таким регионом, где закладывался и продолжает строиться российский флот.

Церемония поднятия Андреевского флага на «Адмирале Эссене»
Молодежь и роботами, и компьютерами занимается, а почему судомоделизм отстает? Разве судостроение — это не один из двигателей нашей экономики? Как раз через судомоделизм ребята постигают его азы, а самое главное — узнают историю своей страны, славные ее страницы. Ведь идет развитие не только навыков каких-то — вырезания, склеивания, окрашивания: точное копирование ведет к соприкосновению с большой историей страны. Кстати, в Кубке участвуют только модели кораблей времен адмирала фон Эссена, конца XIX - начала XX века. Это один из самых непростых периодов в нашей историографии, потому что почти на все события того времени навешивались постоянно какие-то ярлыки. И до сих пор эти ярлыки продолжают оставаться в умах людей.
Старинный балтийско-немецкий рыцарский род фон Эссенов появился в Прибалтике с крестовыми походами немецких рыцарей. За 250 лет на службе России он дал несколько десятков генералов, одного адмирала, пятерых губернаторов. Под Андреевским флагом служили 12 представителей рода фон Эссенов, многие стали георгиевскими кавалерами. Были в роду и военные, служившие на суше: Райнхольд Вильгельм фон Эссен был генерал-поручиком еще при Екатерине, Магнус Густав (Иван Николаевич) фон Эссен, военный губернатор Риги, уберег Прибалтику от захвата наполеоновскими войсками.
«Адмирал Эссен» — второй из шести фрегатов проекта 11356 так называемой «адмиральской серии». Головной корабль серии «Адмирал Григорович» был принят в боевой состав Черноморского флота 11 марта 2016 года, в третьем квартале этого года планируется передача третьего корабля — «Адмирал Макаров». Далее последуют «Адмирал Бутаков», «Адмирал Истомин», «Адмирал Корнилов».
Оригинал статьи:http://www.business-gazeta.ru/article/315861
|
Метки: эссен |
Община сестер милосердия Св. Георгия в событиях Первой мировой войны. |
Община сестер милосердия Св. Георгия в событиях Первой мировой войны.
Крайнюков П.Е., генерал-майор медицинской службы, д.м.н.
Абашин В.Г., д.м.н. профессор.
Центральный военный клинический госпиталь им. П.В. Мандрыка.
Москва. Б. Оленья д. 8а.
Резюме: В статье приводятся данные об истории возникновения организованной помощи больным и раненым воинам и сестринского движения в России, об истории Общины Св. Георгия в Петрограде, деятельности врачей и сестер милосердия Общины Св. Георгия в период Первой мировой войны. Приводятся данные о развернутых силами Общины Св. Георгия лазаретах и госпиталях в Действующей Армии и тыловых районах. Основное внимание в статье уделено именным спискам сестер милосердия Общины Св. Георгия и судьбам некоторых из них.
Ключевые слова: Первая мировая война – «Великая война», Российское Общество Красного Креста, Община Св. Георгия, Крестовоздвиженская Община Красного Креста, лазареты и госпитали Общества Красного Креста, врачи и сестры милосердия Общины Св. Георгия.
Summary: the article presents the data about the history of organized help to the sick and wounded soldiers and nursing movement in Russia, about the history of the community of St. George in Petrograd, the activities of doctors and nurses of the community of St. George during the First world war. Provides data on deployed forces of the community of St. George hospitals and infirmaries in the Army and the rear areas. The main attention is paid to the names on the list of sisters of mercy of the community of St. George and the fates of some of them.
Key words: First world war – "the Great war", the Russian Society of the Red Cross, Community of St. George, the Holy cross Community of the Red Cross, hospitals and the hospitals of red cross Society, doctors and nurses of the community of St. George.
Более 100 лет назад началась Первая Мировая война («Великая война»). Она ознаменовалась масштабными боевыми действиями, применением новых вооружений значительной поражающей силы, бронетанковой техники, массового использования автоматического оружия, первого боевого применения отравляющих веществ и др. Результатами фронтовых операций стали значительные санитарные потери личного состава в частях.
Война, «травматическая эпидемия» по выражению Н.И. Пирогова, требовала развертывания значительного числа медицинских учреждений, как в полосе Действующей Армии, так и в тыловых районах.
Параллельно медицинским подразделениям Военного Ведомства Российским Обществом Красного Креста на 1 июня 1916 г. были развернуты: 75 передовых отрядов, 71 госпиталь, 61 этапный и 59 подвижных лазаретов, 1379 тыловых лазаретов эвакуационного типа, 11 санитарных поездов, 93 санитарных транспорта, 185 питательно-перевязочных учреждений, 23 дезинфекционных камеры, 43 санитарно-эпидемических, 73 дезинфекционных, 7 рентгеновских и 5 летучих хирургических отрядов, 3 поезда-бани, 3 плавучих госпиталя в Черном море, 3 бактериологических лаборатории, 13 полевых складов и их отделений [1, 2].
Если фамилии врачей войсковых частей, военных госпиталей и госпиталей благотворительных обществ еще доступны в специальной и справочной литературе [3, 4], то имена сестер милосердия, на плечи которых добровольно легла вся основная работа по оказанию помощи и уходу за ранеными и больным воинами, в большинстве случаев забыты.
История сестринского дела в России
История организованной помощи больным и раненым воинам и сестринского движения в России началась 5 ноября 1854 г., когда по инициативе Великой Княгини Елены Павловны в Санкт-Петербурге была открыта Крестовоздвиженская община сестер милосердия.
Традиционно, уход за ранеными и больными воинами являлся видом послушания монахинь и женщин, членов различных религиозных обществ. Крестовоздвиженская община объединяла патриотически настроенных женщин из самых разных слоев общества - от весьма образованных (среди них были жены, вдовы и дочери высших чиновников, дворян, помещиков, купцов, офицеров русской армии и флота) до малограмотных крестьянок. Первые сестры милосердия участвовали в оказании помощи раненым воинам в госпиталях и лазаретах Крымской (Восточной) войны 1853-1856 гг. под руководством Н.И. Пирогова.
3 мая 1867 г. (с.с.) Император Александр II утвердил устав «Общества попечения о раненых и больных воинах», прообраза Российского Общества Красного Креста (с 1876 г.). Общество находилось под покровительством Императрицы Марии Александровны.
В 1869 г. 5-й Дамский комитет «Общества попечения о раненых и больных воинах» (Санкт-Петербург), организованный графиней Елизаветой Николаевной Гейден, на свои средства начал подготовку «военных» сестер милосердия в Крестовоздвиженской общине [1, 2, 5].
 |
 |
| ЕЕ Императорское Высочество Принцесса Ольденбургская, урождённая Княгиня Романовская, Герцогиня Лейхтенбергская, Принцесса Богарне |
Графиня Елизавета Николаевна Гейден |
Община сестер милосердия Святого Георгия
26 ноября 1870 г. в Санкт-Петербурге была открыта Община сестер милосердия Святого Георгия («Свято-Георгиевская»), первоначально состоящая из 5 сестер Крестовоздвиженской общины.
Община находилась под покровительством Императрицы Марии Федоровны. Председательницей Общины была избрана принцесса Евгения Максимилиановна Ольденбургская.
Настоятельницей Общины, по рекомендации С.П. Боткина, была назначена участница Крымской, Сербско-турецкой (1875-1877) и Русско-турецкой (1877-1878) войн Елизавета Петровна Карцова (Карцева).
На проводах в Черногорском госпитале один из раненых сказал: «Мать, ты завтра уезжаешь: когда доедешь до Катарро, сними свой портрет и пришли его нам: мы повесим его в госпитале, чтобы все видели, какой была черногорская мать».
Первоначально Община располагалась в арендованном доме Фомина на Гребецкой ул. (Петроградская сторона). Для практической подготовки сестер милосердия было развернуто 10 коек, аптека, где бедным больным предоставлялись бесплатные лекарства. Помимо стационара был организован амбулаторный прием приходящих больных.
В 1871 г. Община переехала в перестроенный дом бывшего Начальника Императорской Медико-хирургической Академии (1867-1869) Лейб-хирурга Павла Андреевича Нарановича (1801-1874) у Выборгского (совр. Сампсониевского) моста по адресу Оренбургская ул., д. 4 (архитектор перестройки дома Доримедонт Доримедонтович Соколов).

Здание Общины Святого Георгия. Оренбургская ул., д. 4
Из истории Общины и больницы:
8 октября 1874 г. начался прием слушательниц на трехгодичные фельдшерские курсы.
21 декабря 1874 г. в присутствии императорской семьи была освящена церковь в честь Св. Георгия. Долгие годы духовным руководителем Георгиевской общины был отец Алексей (Алексей Петрович Колоколов, 1836-1902).
В 1879 г. Община получила в безвозмездное пользование участок рядом с Клиническим военным госпиталем. В 1882 г. начали работать 2 новых (Александровский и Мариинский) больничных барака на 45 коек каждый, перестроено каменное здание с 3-этажным главным корпусом и боковыми 2-этажными флигелями. На Выборгской стороне стал формироваться настоящий больничный городок.
В декабре 1888 г. был открыт хирургический барак имени Е.М. Ольденбургской.
В 1892 г. завершена постройка Института для гидротерапии, электротерапии, массажа и врачебной гимнастики на средства купца В.А. Ратькова-Рожнова.
В 1894 г. в собственность общины было передано имущество Дома призрения для престарелых и увечных воинов при храме Св. Ольги в Дудергофе (район Красного Села под Санкт-Петербургом, расположенный на восточном побережье Дудергофского озера) для устройства убежища для престарелых сестер милосердия не только данной общины, но и всех сестер милосердия Красного Креста. В 1896 г. там же был открыт детский приют-колония для детей бедных родителей (на 30-40 детей) в память графини Е.П. Гейден.
В 1901 г. в Дудергофе был открыт барак для онкологических больных в память Е.П. Карцевой.

Дудергоф. Детская приют-колония на 30-40 детей и онкологический барак в память Е.П. Карцевой
Сестры милосердия и врачи Общины оказывали помощь воинам на полях сражений Сербско-турецкой войны (1875-1877); Русско-турецкой войны (1877-1878); Русско-японской войны (1904-1905); Балканских войн (1912-1913).
Медицинской частью Общины руководили профессора Императорской Медико-хирургической академии, в т.ч. терапевт Сергей Петрович Боткин и акушер-гинеколог Дмитрий Оскарович Отт.
В 1898 г. после смерти Е.П. Карцевой сестрой-настоятельницей Общины была назначена Вера Егоровна Врангель (1832-1915) - баронесса, сестра милосердия, участница русско-турецкой войны в 1878 г. После ее кончины преемницей на посту сестры-настоятельницы стала Екатерина Николаевна Чихачева (в 1914 г. - старшая сестра милосердия 1-го госпиталя Общины) [1, 2, 5].
Община сестер милосердия Св. Георгия в период Первой мировой войны
Главным врачом Георгиевской Общины Красного Креста в 1914-15 гг. был известный российский патофизиолог Действительный Статский Советник Доктор медицины профессор Николай Григорьевич Ушинский. Одновременно он руководил кафедрой общей и экспериментальной патологии Психоневрологического института и был Совещательным членом Военно-Санитарного Ученого Комитета [3, 4].
До Н.Г. Ушинского Главным врачом Общины были профессор ИВМА Николай Яковлевич Чистович (1895-1899), Лейб-медик Евгений Сергеевич Боткин (1907-?).
В начале Первой мировой войны подготовку сестер милосердия в Петроградской Георгиевской Общине Красного Креста вели:
Старший ординатор (впоследствии Главный врач больницы Георгиевской Общины Красного Креста) Статский Советник Бехтин Петр Викторович.
Старший ординатор Статский Советник Сервирог Александр Александрович (впоследствии Заведующий больницей им. К. Маркса и школой по подготовке сестер милосердия при больнице).
Врач-специалист Георгиевской Общины Красного Креста Действительный Статский Советник Розов Петр Алексеевич.
Врач Георгиевской Общины Красного Креста Доктор медицины Статский Советник Поленов Андрей Львович (в последующем известный нейрохирург, профессор, Действительный член Академии медицинских наук СССР, Заслуженный деятель науки РСФСР).
Ординатор Доктор медицины Надворный Советник Сыренский Николай Николаевич (1879?). Врач-терапевт, ученик Евгения Сергеевича Боткина. С 1907 г. был Заведующим водолечебницей при Георгиевской общине сестер милосердия.
В период Первой мировой войны Н.Н. Сыренский был начальником 4-го и 5-го госпиталей Общины Св. Георгия РОКК дислоцировавшихся в г. Полоцке.
 |
 |
| Андрей Львович Поленов. Кронштадтский Морской госпиталь. 1911 г |
Николай Николаевич Сыренский. Штабс-капитан |
Ординатор Георгиевской Общины Красного Креста Суворов Петр Федорович.
Консультант Георгиевской Общины Красного Креста известный акушер-гинеколог, Доктор медицины Статский Советник Парышев Дмитрий Андрианович: Заведующий Выборгским родильным приютом; консультант Максимилиановской лечебницы; Заведующий гинекологическим отделением Елизаветинской больницы; Председатель Петроградского акушерско-гинекологического общества в годы революции и Гражданской войны.
Консультант Георгиевской Общины Красного Креста Доктор медицины Действительный Статский Советник Подановский Владимир Иванович (1852–1916). Он работал врачом и старшим ординатором больницы с 1893 г. С 1909 г. – Почетный консультант больницы, член городской больничной комиссии [3, 4].
В первые месяцы войны (конец 1914 – начало 1915 гг.) из стен Георгиевской Общины в госпитали, лазареты и санитарные поезда Военного ведомства и Красного Креста было направлено более 1600 сестер милосердия.
В начале Первой Мировой войны Община Св. Георгия сформировала 4 полевые госпиталя. Они были созданы после объявления мобилизации в июле 1914 г. и убыли из Петрограда на Северо-Западный фронт уже в августе-сентябре 1914 г.
1-й госпиталь Общины Св. Георгия Имени ЕЕ Императорского Величества Государыни Императрицы Марии Феодоровны был развернут в г. Гродно в здании женской гимназии ведомства учреждений Императрицы Марии. Медицинский персонал по штату насчитывал 5 врачей и 16 сестер милосердия. Старшая сестра милосердия 1-го госпиталя - Чихачева Екатерина Николаевна (с 2.09.1914 г.).
Сестры милосердия 1-го госпиталя Общины Св. Георгия: Абель Иоганна Бернгардовна, Россинская Мария Геркулановна, Рузская, Самсонова Татьяна Ермолаевна, Саранчина Мария Эрастовна, Ялова Анна Ивановна, Алимова Мария Ивановна, Бахова Анисья Петровна, Гертова Анна Николаевна, Гинтылло Мария Болеславовна, Грабен Августа Петровна, Иевлева Мария Фоминична, Кукконен Анна Андреевна, Мызникова Серафима Алексеевна, Кривалева Мария Алексеевна, Черкина Мария Васильевна, Герасимова Анна Васильевна, Пескова Елена Яковлевна [1, 6, 7, 8].
В период Августовской операции, происходившей в феврале 1915 г. через госпиталь прошло 1264 раненых, доставлявшихся непосредственно с поля боя.
Общий подсчет потерь только в 20-м армейском корпусе с 31 января по 8 февраля 1915 г. во время Мазурского сражения («Августовская операция» в районе г. Августов или Восточно-прусская операция 1915 г., в немецкой литературе – «Зимнее сражение в Мазурии»):
В пехоте: офицеров состояло 513 (убыло 349), солдат состояло 35505 (убыло 27998);
В артиллерии: офицеров состояло 204 (убыло 124), солдат состояло 9311 (убыло 5701).
В Гродно госпиталь работал около года. За этот период медицинская помощь была оказана 5097 раненым.
С сентября 1915 г. по февраль 1916 г. госпиталь размещался в Ярославле. После возвращения госпиталя на фронт в марте 1916 г. он был дислоцирован в фольварке Городзилов в имении Ахматовичей. За 6 месяцев этого периода госпиталь принял до 1670 раненых [9].
2-й госпиталь Общины Св. Георгия Имени ЕЕ Императорского Высочества Принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской считался одним из лучших хирургических госпиталей на фронте. Госпиталь первоначально был развернут в Варшаве в здании 1-й мужской гимназии и университета. Медицинский персонал по штату насчитывал 5 врачей и 16 сестер милосердия. Старшая сестра милосердия 2-го госпиталя - Романова Александра Вадимовна.
Сестры милосердия 2-го госпиталя Общины Св. Георгия: Сергиева Мария Владимировна, Степанова Дарья Степановна, Суручан Наталия Ильинична, Уверская Марфа Васильевна, Уляновская Анна Семеновна, Княжна Урусова Антонина Александровна (фрейлина Александры Федоровны), Шагина Наталья Павловна, Шкультецкая Екатерина Николаевна, Шкультецкая Мария Николаевна, Фон-Энден Ольга Петровна, Яковлевская Нина Николаевна, Григорьева Антонина Александровна, Гружевская Юлия Зеноновна, Дараган Антонина Иосифовна, Кальм Анна Ивановна, Макарова Пелагея Семеновна, Матвеева Анна Дмитриевна, Мучкина Анастасия Васильевна, Новикова Мария Николаевна, Нури Юлианна Ивановна [5, 6].
С ухудшением положения на фронте госпиталь на 312 коек был передислоцирован в г. Бела Холмской губернии. В день начала работы 1 сентября 1914 г. госпиталь принял до 100 тяжелораненых.
В октябре 1914 г. госпиталь был перебазирован в Варшаву и размещен в здании 1-й мужской гимназии. Первоначально было развернуто 350 коек, а в ноябре было дополнительно развернуто 200 коек для легкораненых в здании Русского собрания. В мае 1915 г. госпиталь принял до 700 человек, пострадавших от газовых атак на р. Равке и р. Бзуре. За 7,5 месяцев работы в Варшаве было принято 6137 раненых и пораженных.
В связи с отступлением русских войск 16 июня 1915 г. госпиталь был эвакуирован в Беловеж. 16 августа 1915 г. госпиталь вернулся в столицу и был развернут на 200 коек в Повивально-Гинекологическом институте на Васильевском острове. За год через него прошло 7265 человек [5, 6, 9].
4-й и 5-й госпитали Общины Св. Георгия были направлены 29 сентября 1914 г. из Петрограда в тыл Действующей армии в Полоцк (железнодорожный разграничительный узел между дорогами Северного и Западного фронтов). Госпитали разместили в трехэтажном здании кадетского корпуса и развернули на 1200 коек для приема раненых из госпиталей фронта. Работой этих госпиталей руководил Доктор медицины Надворный Советник Николай Николаевич Сыренский (официально начальник 5-го госпиталя).
Старшая сестра милосердия 4-го госпиталя - Дюстерло Елисавета Анатолиевна.
Старшая сестра милосердия 5-го госпиталя - Рейнвальд Мария Эдуардовна (с 1.10.1914 г.), Куроптева Зинаида Наумовна (с 2.03.1915 г.).
Сестры милосердия 4-го госпиталя Общины Св. Георгия: Альгина Екатерина Васильевна, Авласенок Евдокия Антиповна, Бобкова Вера Ивановна, Богданова Наталья Михайловна, Васильева Анна Тимофеевна, Вердеревская Мария Платоновна, Веске Маргарита Ивановна, Гаврилова Лидия Федоровна, Голоуличева Мария Егоровна, Гордеева Мария Александровна, Грекова Елисавета Ивановна, Грибова Анна Георгиевна, Дедерева Марианна Мартыновна, Дубенко Елена Константиновна, Думитрашко Юлия Викторовна, Иванова Елена Александровна, Крауль Ольга Кристьяновна, Крючкова Анна Васильевна, Ланг Наталья Михайловна, Лачинова Александра Александровна, Лерхе Женни Германовна, Обухова Мария Михайловна, Пашкова Татьяна Павловна, Пичугова Матрона Васильевна, Пономарева Мария Павловна, Попова Матрона Васильевна, Пыжова Зоя Ивановна, Рехенберг Людмила Николаевна, Харитонова Анна Ивановна, Янковская Наталья Михайловна, Липская.
Сестры милосердия 5-го госпиталя Общины Св. Георгия: Артемьева Александра Константиновна, Гавришева Елена Ивановна, Гаранина Ольга Карловна, Гельд Маргарита Андреевна, Дворжицкая Елена Яковлевна, Дойникова Лидия Васильевна, Каблиц Ольга Николаевна, Колесникова Александра Николаевна, Кузнецова Анастасия Николаевна, Махоткина Регина Николаевна, Орлова Татьяна Феофиловна, Паршова Александра Евгеньевна, Писарева Зоя Петровна, Попова Мария Николаевна, Ресслер Анна Александровна, Савченко-Бельская Татьяна Николаевна, Сарапкина Елена Николаевна, Сиротина Мария Ианнуариевна, Стефановская Ольга Алексеевна, Стомилова Маргарита Ивановна, Сутоцкая Ванда Стефановна, Тимофеева Александра Николаевна, Уссаковская Анна Михайловна, Шишко Михалина Антоновна.
На усиление в 4-й и 5-й госпитали Общины Св. Георгия были направлены сестры милосердия: Андреева Елена Андреевна, Антонова Мария Антоновна, Арцышевич Елена Владимировна, Арцышевич Елена Ивановна, Вишневская Анна Михайловна, Гневышева Лидия Ивановна, Гоголева Екатерина Павловна, Долголова Лидия Николаевна, Кишковарова Наталья Семеновна, Когер Мета Карловна, Корнилова Сусанна Михайловна, Литвинова Евгения Александровна, Лихарева Лидия Константиновна, Ломаковская Мария Александровна, Матвеева Мария Александровна, Махоткина Ирина Николаевна, Рошковская Ванда Евгениевна, Самойлова Лидия Яковлевна, Терентьева Анна Ивановна, Янберг Минна Ивановна.
В начале сентября немцы подошли к железнодорожной магистрали Полоцк-Молодечно. 14 сентября 1915 г. 4-й и 5-й Святогеоргиевские госпитали покинули Полоцк и были переведены в Москву. За год их работы в Полоцке было принято более 6000 раненых [1, 5, 6, 9].
Имеется список сестер милосердия (16 сестер), направленных на работу в 3-й госпиталь Общины Св. Георгия Собственный Ея Императорского Величества Государыни Императрицы Марии Феодоровны № 1. Однако, по мнению архивиста Пятиной Ю.С. (2014), отсутствие документов о работе госпиталя в Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб) может говорить о том, что он не был сформирован [1, 6].
Кроме госпиталей Община Красного Креста Св. Георгия сформировала для Действующей Армии несколько лазаретов:
Подвижной лазарет №1 Общины Св. Георгия. 23 декабря 1915 г. на железнодорожной станции Вилейка Император Николай II провел высочайший смотр войск 2-й армии Западного фронта и посетил 1-й Георгиевский подвижной лазарет, где наградил тяжелораненых солдат. В Дневнике Императора осталась запись: «Посетил в Вилейке лазарет Георгиевской общины, где лежало 20 раненых».
Подвижной лазарет № 1а Общины Св. Георгия;
Подвижной лазарет № 2 Общины Св. Георгия;
 |
 |
| Врачи и сестры милосердия (Александра Николаевна фон Энден на левой фотографии в центре) подвижного лазарета Общины Святого Георгия. Вильно. Действующая армия |
|
Подвижной лазарет № 3 Общины Св. Георгия им. Французского Благотворительного Общества («Французский лазарет»). В 1914 г. он действовал в составе 1-й армии генерала П.К. фон Ренненкампфа. Лазарет прибыл в Вержболово 18 (31) августа во главе со старшим врачом Фортунатом Евстафьевичем Крессоном (ранее - директор французской больницы в Санкт-Петербурге) в сопровождении Уполномоченного РОКК при 1-й армии Светлейшего Князя Павла Павловича Ливена. Дальнейший путь лазарета лежал через Гумбиннен в Инстербург и в Даркемен.
29 января 1915 г., при захвате Вержболово немцами, медицинский персонал Французского этапного лазарета, не успев эвакуировать эшелон с ранеными, попал вместе с ними в плен [1, 5, 6, 9].
Этапный лазарет № 1 Общины Св. Георгия;
Этапный лазарет №2 Общины Св. Георгия им. Петроградского Кредитного Общества;
Этапный лазарет № 3 Общины Св. Георгия им. В.В. Муравьева-Апостол-Коробьина, состоящий под Высочайшим покровительством Ея Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны.
Наиболее крупными медицинскими учреждениями, в которых работали сестры милосердия Общины Св. Георгия, были:
Гельсингфорс: Военный госпиталь; Морской госпиталь; 1-й Гельсингфорский временный лазарет Императорского Финляндского Сената, состоящий под Августейшим покровительством Ея Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны; 2-й, 3-й, 4-й и 5-й Гельсингфорские временные лазареты Императорского Финляндского Сената.
Петроград: Калинкинский морской госпиталь; Петроградский Морской госпиталь № 2; Петроградский тыловой распределительный эвакопункт, Петроградские городские лазареты № 2, № 6, № 57, № 76, № 107, № 172, № 173, № 193, № 206, № 207, № 237; городской лазарет Азовско-Донского банка Имени Великого Князя Михаила Александровича.
Рига: Рижский военный госпиталь; Рижский тыловой эвакуационный пункт.
81-й санитарный поезд Имени Ея Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны. Поезд курсировал между Петроградом и Варшавой, Брест-Литовском и Ригой.

Удостоверение сестры милосердия военного времени А.Н. фон Энден,
командированной в состав ВСП № 81
82-й санитарный поезд Имени Ея Императорского Высочества Великой Княжны Татианы Николаевны;
83-й санитарный поезд Имени Ея Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны;
61-й военно-санитарный поезд Имени Ея Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны;
Санитарный поезд Ея Императорского Величества Государыни Императрицы Марии Феодоровны;
Санитарный поезд Красного Креста Имени Его Императорского Высочества Принца Александра Петровича Ольденбургского;
Петроградский городской передовой врачебно-питательный отряд Всероссийского Союза Городов;
Лазарет Славянского Благотворительного Общества (Сербия, под патронажем княгини М.К. Трубецкой; Старший врач отряда Н.И. Сычов);
Лазарет Имени Королевы Эллинов Ольги Константиновны;
Сестры милосердия Общины Св. Георгия были направлены для комплектования санитарных поездов в Галицию и еще в несколько десятков санитарных учреждений Петербурга и Действующей Армии [6].
В сентябре 1916 г. граф Алексей Алексеевич Игнатьев (военный атташе во Франции) обратился в РОКК с просьбой позаботиться о судьбе большого количества русских солдат и офицеров, поступавших на излечение во французские санитарные учреждения. Было решено командировать во Францию 30 опытных, желательно говорящих по-французски, сестер милосердия для ухода за русскими ранеными.
Уже через месяц 16 октября 1916 г. был сформирован и направлен во Францию отряд из 25 сестер. В него вошли 11 сестер Петроградской Георгиевской общины, сестры милосердия из Петроградских Елисаветинской, Свято-Троицкой и Покровской общин, Белостокской и Варшавской Елисаветинской общин, Петроградского дамского лазаретного комитета, Киевской Мариинской и Тифлисской общин, четыре сестры Московской Никольской общины (Л.В. Мосолова, Н.М. Пожарская, М.К. Палаюлион, М.А. Юрецкая) и две сестры Московской Александринской общины (О.В. Крестовская, Т.М. Савкова). Руководила отрядом старшая сестра милосердия Александра Вадимовна Романова (2-й госпиталь Общины Св. Георгия Имени Ея Императорского Высочества Принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской) [1, 10].
В ходе войны встал вопрос о содержании военнопленных в лагерях воюющих стран. Для инспекционной поездки в Германию были отобраны старшая сестра Петроградской общины Св. Георгия П.А. Казим-Бек, попечительница Житомирской общины Н.И. Оржевская и сестра милосердия военного времени Елисаветинской общины Е.А. Самсонова. За время своей командировки они посетили лагеря в Швеции, Дании и Германии и осмотрели 115 лагерей, из которых 76 предназначались для нижних чинов [1, 6].
Судьбы сестер милосердия разделил 1917 год. 9 января 1918 г. на основании декрета Совета Народных Комиссаров все здания, земля, имущество и капиталы Общины Св. Георгия перешли в собственность государства. Деятельность Общины была прекращена. В дальнейшем в зданиях общины располагалась больница им. Карла Маркса (имя присвоено 8 октября 1918 г.) и 2-е медицинское училище.
Многие сестры милосердия остались служить новой России, многие служили России за ее пределами.
Романова Александра Вадимовна (5.05.1879 - 18.11.1961). Старшая сестра милосердия Общины Св. Георгия. В период Первой мировой войны - Старшая сестра милосердия 2-го госпиталя Общины. С 16.10.1916 г. - Старшая сестра Особой бригады Красного Креста во Франции. После революции - в Добровольческой армии и Вооруженных Силах Юга России, Старшая сестра госпиталя в Екатеринодаре. В эмиграции в Париже. По линии Красного Креста участвовала в создании: бесплатной амбулатории, где принимали русские врачи; дома для престарелых в г. Шелль, около Парижа, и при нем небольшой больницы; санатория для туберкулезных больных в горах департамента Верхней Луары; дома для престарелых в Ницце; общежития для работающих и бывших русских сестер Красного Креста в особняке в Париже. Умерла в Париже. Похоронена на кладбище Сен-Женевьев де Буа [11].
Александра Николаевна фон Энден (Чичагова, 4.06.1884 -27.06.1976). Племянница Романовой Александры Вадимовны, сестра милосердия Общины Св. Георгия.
 |
 |
| Александра Николаевна фон Энден (Чичагова). В Вильно (1915 г.) и в Ленинграде |
|
Во время Первой Мировой войны служила сестрой милосердия в подвижном лазарете в Вильно, 2-м госпитале Общины Св. Георгия Имени Ея Императорского Высочества Принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской в Варшаве под началом Александры Вадимовны Романовой, в военно-санитарном поезде №81 им. Великой Княжны Ольги Николаевны. В 20-30-х гг. работала в Ленинграде: переводчик, библиотекарь ГИДУВа… Пережила блокаду… [12]. Александра Николаевна фон Энден умерла в Ленинграде 27.06.1976 г.
Литература:
1. Соколова В.А. Российское Общество Красного Креста (1867-1918 гг.) \ Дисс. канд. ист. наук. Санкт-Петербург – 2014. - 302 стр.
2. Пятина Ю.С. Деятельность госпиталей Общины св. Георгия Российского общества Красного Креста на фронтах Первой мировой войны. СПб, 2014. - 9 с.
3. Российский медицинский список, изданный Управлением Главного Врачебного Инспектора Министерства Внутренних Дел на 1914 год. Петроград. Типография Министерства Внутренних Дел. 1914.
4. Российский медицинский список, изданный Управлением Главного Врачебного Инспектора Министерства Внутренних Дел на 1916 год. Петроград. Типография Министерства Внутренних Дел. 1916. 1230 стр.
5. Кунките М.И. Петербург – «разсадникъ» сестринского дела в России. К 135-летию со дня основания Общины сестер милосердия св. Георгия // История Петербурга. 2005. № 6.
6. Список сестер милосердия Российского Общества Красного Креста, назначенных для ухода за ранеными и больными воинами в лечебные учреждения Красного Креста, военного ведомства, общественных организаций и частных лиц. Составлен по сведениям, имеющимся в Канцелярии Главного Управления Российского Общества Красного Креста к 1-му августа 1915 года. Петроград. Государственная Типография. 1915.
7. Сборник штатов учреждений Российского общества Красного креста военного времени. Пг., 1914.
8. Сборник штатов учреждений Российского общества Красного Креста военного времени. 2-е изд., доп. Пг., 1917. С. 3-12.
9. Пахалюк К.А. «Было чувство, будто мы оставлены на произвол судьбы»: учреждения российского общества красного креста при 1-й армии в августе 1914 года// Калининградские архивы. 2015. № 12. С. 117 – 132.
10. РГВИА. Ф. 12651. Оп. 2. Д. 554. Дело о командировании во Францию отрядов РОКК. Л. 48.
11. Демидова О.Р. Женщины Русской эмиграции. В кн. Благотворительность в истории России: Новые документы и исследования. СПб.: Нестор-История, 2008. С. 68-92.
12. Записки Александры Николаевны Энден. http://monarh-nnov.narod.ru/Enden.zip
|
Метки: первая мировая война красный крест сёстры милосердия |
Лазарет в Зимнем |
Лазарет в Зимнем
Николай II отдал под военные госпитали почти все императорские дворцы и резиденции
Евгения Филиппова
03.12.2013

После начала Первой мировой войны, с первых дней несущей миру многочисленные человеческие жертвы, вся Россия превратилась в военный лазарет. Для него передавали свои здания и строения не только организации и различные российские общества, но и простые россияне - свои частные жилища. Пример подавали верховные власти страны и знатные семьи, размещавшие в своих домах-дворцах медицинские учреждения для поступавших с фронтов раненых генералов, офицеров и нижних чинов Русской армии.
О многом говорит тот факт, что практически одновременно свое личное жилье отдали под военный лазарет два русских офицера: Зимний дворец – полковник император Николай Романов и дом в Гатчине – поручик, известный писатель Александр Куприн, жена которого, Мария Куприна-Иорданская, имевшая опыт работы сестрой милосердия, взяла на себя заведование лазаретом. И такие поступки никого не удивляли, потому что являлись для народов России естественным делом милосердия и заботы о раненых воинах, что особенно масштабно и повсеместно проявило себя в последующем для нашего Отечества испытании – во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
…Этот необычный для других стран, но не для России, госпиталь был создан по решению Николая II. Помощь и забота о раненых и увечных воинах Русской армии была одна из главных забот правителей России и членов их семей. Ещё Петр Великий издал специальный Указ от 3 мая 1720 г. о выделении увечных и раненых воинов в особую группу призреваемых лиц со стороны государства. И в дальнейшем его потомки, которые не разделяли по степени важности свой царский сан и принадлежность к офицерскому корпусу Русской армии, верно и милосердно исполняли свой долг перед защитниками Отечества, получившими ранения и увечья на поле брани.
Для императора Николая II эта обязанность не входила в противоречие с тем, как воспитывала Государя его мать – императрица Мария Федоровна, супруга императора Александра III. Эта датская принцесса, как и практически все иностранные жены русских царей, была подвижницей в помощи и заботе о русских воинах. Она, традиционно для России, была шефом нескольких полков Русской армии, в том числе в течение 36 лет гвардейского Кавалергардского Ее Императорского Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полка. Поэтому, непосредственно участвуя в жизни своих военнослужащих, она стала не только их покровительницей в армейской жизни, но и, вступив в должность главы Российского общества Красного Креста, стала опекать всех русских воинов, пострадавших в сражениях за Отчизну. Естественно, ее дети, бывшие с малолетства, как и их родители, шефами полков армии и флота, постоянно сопровождали мать в ее посещениях госпиталей, лазаретов и приютов увечных воинов и считали необходимым для себя заботится об этих военных героях.
Семья императора Николая II отдала под военные лазареты не только свой главный дом на Дворцовой площади, но и почти все загородные дворцы и резиденции по всей Российской империи.
Передача Зимнего дворца – главного по государственному, историческому и художественному значению здания северной столицы и сокровищницы России под помещение для страждущих воинов было знаковым событием для народов и сословий нашего Отечества в годы Первой мировой войны.
Перед открытием этого лазарета шла тщательная техническая и организационная подготовка, которая завершилась только к 1915 г., когда в роскошные залы Зимнего дворца стали поступать раненые воины со всех фронтов, где воевала Русская армия. Этот императорский госпиталь принимал только тяжелораненых солдат, нуждавшихся в сложных операциях или специальном лечении. Когда они начинали поправляться и ходить, воинов переводили в другие лечебные заведения, а их места снова занимали тяжелораненые.
Госпиталю Зимнего дворца дали официальное название «Лазарет Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича и Великого князя Алексея Николаевича в Зимнем дворце». Первоначально палаты и операционные хотели разместить в Эрмитаже, но пришлось отказаться от этого в связи с отсутствием необходимых технических условий. Директор музея Дмитрий Толстой сообщил императору об отсутствии там электричества, водопровода и канализации, поэтому решили использовать для размещения госпиталя здание Зимнего дворца. Для него были выделены восемь парадных залов с примыкающими помещениями и потрачены значительные суммы денег на создания современного по тем временам стационарного военного лечебного заведения.
Лазарет был открыт 10 октября 1915 г. без излишних торжеств, так как Государь считал это неуместным во время военных действий. Устроители госпиталя отнеслись очень серьезно не только к его оснащению специальным медицинским оборудованием, но и к созданию там необходимых удобств для больных, врачебного и обслуживающего персонала. Стены драпировались специальной тканью, а полы были застелены материалом, создающим защиту от шума, чтобы не потревожить раненых. Были созданы специальные общие столовые для больных и врачей с сестрами милосердия. Строители провели малярные работы во всех залах и усовершенствовали систему вентиляции, а также установили котлы и кипятильники самой современной конструкции. Была значительно расширена и отремонтирована водопроводная и канализационная сеть. Одной из важных строительных задач при создании перевязочных, операционных, кабинетов для врачей и для процедур было сохранение уникального убранства парадных залов Зимнего дворца. Ступени Иорданской лестницы были обшиты досками, а все декоративные изделия и произведения изобразительного искусства из парадных залов перенесли в другие помещения. Все было тщательно зафиксировано, сфотографировано и упаковано в ящики. Было создано специальное ночное освещение с фиолетовыми электронными лампами.
На первом этаже Зимнего дворца были размещены подсобные помещения лазарета: приемный покой, аптека, кухня, ванные, врачебные кабинеты, хозяйственная часть, канцелярия, кабинет главного врача. На втором этаже в Аванзале, Восточной галерее и залах: Фельдмаршальском, Гербовом, Пикетном, Александровском и Николаевском разместили палаты для раненых. Знаменитый Петровский зал отдали для послеоперационных больных.
В Военной галерее героев 1812 г. установили рентгеновскую лабораторию и хранили белье. В Колонном и частично Фельдмаршальском залах были перевязочные. В Зимнем саду и Иорданском подъезде находились ванные и душевые.
Вход в госпиталь был с Дворцовой набережной, через Главный подъезд. По Иорданской лестнице переносили наверх прибывших раненых, доставляли пищу и лекарства.
В лазарете должны были лечиться около 1000 раненых. Госпитальный персонал лазарета состоял из 34 врачей (в большинстве хирургов), 50 сестер милосердия, 120 санитаров и 26 человек хозяйственного персонала. Главным врачом лазарета император назначил А.В. Рутковского. Его заместителем стал выдающийся русский хирург профессор Н.Н. Петров, один из основателей отечественной онкологии, будущий член-корреспондент АН СССР, академик АМН СССР, Герой Социалистического Труда.
«Лазарет Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича и Великого князя Алексея Николаевича в Зимнем дворце» просуществовал всего два года, но за это время внес неоценимый вклад в общенародное дело по спасению и излечению воинов России. Несмотря на естественные для его статуса парадные посещения и осмотры представителями власти и видными иностранными гостями, врачебный коллектив лазарета и обслуживающий персонал профессионально выполняли свой долг и спасли тысячи жизней больных и раненых.
К сожалению, события октября 1917 г. не обошли стороной это медицинское учреждение. Утром 25 октября 1917 г. в северной столице Российского государства Петрограде несколько сот вооруженных людей: солдат, матросов и гражданских лиц ворвались в Зимний дворец и, обезоружив охрану Временного правительства, арестовала его министров. Это было короткое, но самое значительное по своим последствиям для России и мира событие Октябрьского переворота или революции… Историками и различными идеологами об этом написано много и по-разному, в зависимости от политической конъюнктуры. Однако более интересны воспоминания участников этого исторического события.
Американский писатель Джон Рид, находившийся в это время в Петрограде, писал со слов матроса – участника захвата Зимнего дворца: «Около 11 часов вечера мы открыли, что у входов во дворец со стороны Невы не было юнкеров. Тогда мы ворвались в двери и начали по разным лестницам подниматься наверх, поодиночке или небольшими группами. Когда мы поднялись на верхний этаж, то юнкера задержали нас и отобрали у нас оружие. Но наши товарищи все подходили и подходили до тех пор, пока мы не оказались в большинстве. Тогда мы обратились против юнкеров и отобрали оружие у них».
Вот что пишет выдающийся деятель русского искусства Александр Николаевич Бенуа: «…Около пяти часов пополудни мне дали знать по телефону из Эрмитажа, что там получено по телефону же извещение из «революционного штаба», что юнкерский караул будет вскорости сменен другим. Наскоро закусивши, я отправился внутренним ходом в Эрмитаж. На моем пути так называемая «Галерея Петербургских видов» была наполнена женщинами-солдатами Женского батальона. Сойдя к подъезду, я вызвал старшего по караулу юнкера и спросил его, что он намерен делать. На это он объяснил, что идет сейчас к начальнику караула в Зимний дворец и, получив от того указания, доложит мне обо всем. По возвращении из Дворца, он заверил меня, что своего поста юнкера не покинут, караула никому не сдадут и будут защищать до последней возможности порученное их охране учреждение…..Около 9 часов вечера раздался громкий стук во входную дверь и вошло человек 30 вооруженных преображенцев с унтер-офицером во главе. Они потребовали у юнкеров сдачи оружия и объявили, что сами их сменят. Произошло довольно оживленное препирательство, были объяснения, которых мне не удалось расслышать за общим гамом, но результатом всего оказалось, что старый караул сдался и был обезоружен. Старший юнкер пришел передо мной извиняться и доказывать, что им другого выхода не было, т. к. они не могли защищать Эрмитаж против решительно превосходящего их отряда. Я должен был признаться, что считал мирное окончание столкновения наиболее отвечающим в данном случае интересам нашего художественного хранилища — Бог знает, что могло бы произойти, сколько непоправимого вреда было бы нанесено, если бы внутри здания произошла вооруженная борьба…»
Арестовав и отправив министров Временного правительства в Петропавловскую крепость, победители рассыпались по залам и кабинетам этого дотоле неизвестного им царского жилища и великой сокровищница России.
Многих из них вело простое любопытство – посмотреть, как жили царь и царица… Других занимали царские ценности, но все они с недоумением обнаружили, что они неожиданно попали в огромный военный лазарет. Практически все парадные залы были заставлены госпитальным и медицинским оборудованием, а с кроватей на них смотрели измученные лица раненых, таких же, как они, простых русских людей. Представители новой власти проходили через Фельдмаршальский зал с тяжелым запахом крови и гноя, где шли перевязки ран… осторожно обходили Колонный зал, где несмотря на военные события вокруг дворца шли операции… раздвигали больничную одежду в Галерее Героев 1812 г., которая служила бельевой, чтобы увидеть картины на стенах и с любопытством рассматривали невиданный прибор, расположенный в рентгеновском кабинете. Особенно поразил всех огромный Николаевский зал, отданный под палату для вновь поступивших воинов. Оказалось, что Временное правительство и охрана Зимнего дворца и Эрмитажа занимали совсем небольшое место в этом царстве страдания и милосердия. И можно было сказать, что новые хозяева страны захватили не оплот правящей власти, а мирный госпиталь с такими же, как и они, ранеными матросами и солдатами.
Вот как описывает конец деятельности лазарета Зимнего дворца А.Н. Бенуа: «…При этом обходе дворца мы могли убедиться в том, что, хотя и было заявлено, будто все воинские части из внутренних покоев дворца удалены, многие солдаты с ружьями в руках все же бродили по дворцу и возможно, что еще и грабили….. Особенно печальное зрелище представляла собой первая - та сводчатая комната в нижнем этаже, что выходит окнами на Адмиралтейство и что когда-то служила строгому Государю одновременно и кабинетом, и спальней. Тут стоял его письменный стол, на котором сохранялась масса письменных принадлежностей, а также всякие безделушки и портреты любимых людей; а стены этой комнаты были сплошь (и даже в амбразурах окон) завешены картинами и миниатюрами, большей частью сувенирного порядка; тут же стояла простая солдатская кровать императора. Теперь стены оказались голыми, стол разломан, пол усеян бумагами, а вся постель разворочана. …. Такую же мерзость запустения являл и кабинет Александра II, когда-то служивший кабинетом Александру I (он был отделан для него еще его бабкой, Екатериной II, в бытность его Великим Князем; архитектура этой комнаты была восстановлена после пожара 1837 г.). Но и в этом покое пол был теперь сплошь покрыт письмами, всевозможными бумагами и поломанными вещицами. Картины и рисунки не были вынуты из рам, но стекла их разбиты, а рамы поломаны. ….. Очевидно, солдаты искали здесь золото, воображая, в своей наивности, что царь, не иначе как именно в своей комнате, должен был прятать свои баснословные драгоценности…».
Второе свидетельство появилось благодаря великому петербуржцу и ленинградцу директору Государственного Эрмитажа Борису Борисовичу Пиотровскому, который сохранил слишком откровенные для советского времени дневники бывшей медсестры этого лазарета Нины Галаниной, записи которой попали в архив Государственного Эрмитажа. Вот часть ее воспоминаний: «В ночь на 26 октября доползали самые тревожные, зловещие слухи. В числе других – о том, что в результате обстрела Зимнего дворца из Петропавловской крепости и "Авроры" были будто бы разрушены дворец и многие близлежащие здания. ... Как только наступило утро ... я, отпросившись на полдня с работы, поспешила в город. Прежде всего мне хотелось попасть в госпиталь Зимнего дворца. Пробраться туда оказалось не так легко: от Дворцового моста до Иорданского подъезда стояла тройная цепь красногвардейцев и матросов с винтовками наперевес. Они охраняли дворец и никого к нему не пропускали…. Потребовали документы. Я показала удостоверение, выданное на мое имя еще в феврале, с печатью госпиталя Зимнего дворца. Это помогло – меня пропустили. Что-то еще кричали вдогонку, но я не разобрала и шла дальше. Третья цепь уже не задерживала. Я вошла, как бывало сотни раз раньше, в Иорданский подъезд. Там не было на месте привычного швейцара. У входа стоял матрос с надписью "Заря свободы" на бескозырке. Он разрешил мне войти. Первое, что бросилось в глаза и поразило, — это огромное количество оружия. Вся галерея от вестибюля до Главной лестницы была завалена им и походила на арсенал.
По всем помещениям ходили вооруженные матросы и красногвардейцы. В госпитале, где был всегда такой образцовый порядок и тишина: где было известно, на каком месте какой стул должен стоять, все перевернуто, все вверх дном.
И всюду – вооруженные люди. Старшая сестра сидела под арестом: ее караулили два матроса. Больше никого из медперсонала я не увидела…».
28-го октября 1917 г. лазарет Зимнего дворца, созданный для помощи раненым и больным воинам Русской армии был официально закрыт новой большевистской властью…
Специально для Столетия
Фотографии
|
Метки: первая мировая война санкт-петербург красный крест лазареты |
Первая мировая в жизни полуострова |
Первая мировая в жизни полуострова
Обстрел с моря, благотворительные билеты и женщина-герой
103 года назад, 28 июля 1914 года, началась Первая мировая война – один из самых широкомасштабных вооружённых конфликтов в истории человечества. В результате войны прекратили своё существование четыре империи: Российская, Германская, Австро-Венгерская и Османская. Страны-участницы потеряли около 10 млн человек убитыми, 22 млн были ранены. А чем во время Первой мировой жил Крым, что происходило на полуострове?
.jpg)
Во время Первой мировой войны курорты Крыма были переоборудованы в лазареты. В апреле 1916-го
в Ливадии открылся лазарет императрицы Александры Фёдоровны, куда направляли самых тяжёлых
больных. К лету 1916 года на довольствии в ливадийском лазарете состояло 80 человек. ливадиец.рф
Трамвайный налог
31 июля 1914 года, в день, когда в России была объявлена всеобщая мобилизация в армию, по Пушкинской улице Симферополя проехал первый трамвай. Посмотреть на это долгожданное событие собрались толпы зевак. Да и желающих прокатиться было достаточно: накатались симферопольцы на 590 рублей. При этом билет 31 июля стоил целых 10 копеек (стоимость очень хорошего обеда) – собранные деньги решили отдать на благотворительные нужды: «в пользу семейств запасных и ратников ополчения, призванных на войну, и учащихся городской школы». Позднее отдавать часть «трамвайных» денег на благотворительность стали и в других городах страны. Так, осенью 1914-го в московскую городскую думу поступило «покрытое многочисленными подписями заявление обывателей Москвы о желательности повышения на одну копейку поездной платы на трамвае с тем, чтобы этот излишек отчислялся на оказание помощи раненым воинам и семьям запасных, призванных в ряды армии. Этот налог предлагается ввести на всё время войны».
Уведомление о бомбардировке
16 октября 1914 года из Феодосии в Москву ушла телеграмма: «Сегодня, в 7 час. 30 мин. утра, прибыл на рейд турецкий четырёхтрубный крейсер, по виду «Бреслау». Он спустил в порт паровой катер с двумя офицерами и матросами в турецких фесках. Они передали записку на английском языке на имя командира порта. В записке было краткое уведомление:
– Через два часа начнётся бомбардировка.
Населению предложено выезжать».
На самом деле к Феодосии подошел другой крейсер – «Хамидие». Но обещание своё он выполнил: выпустил по городу около 150 снарядов, после чего проследовал к Ялте. Здесь крейсер артиллерийским огнем потопил пароход «Шура» и шхуну «Св. Николай», после чего вернулся в Константинополь.
Уже на следующий день, 17 октября, газеты сообщали: «По получении телеграммы о бомбардировке Феодосии, губернатор выехал на место. Из Феодосии много жителей с детьми выехали в соседний город Старый Крым, где губернатором сделано распоряжение о размещении прибывших и о предоставлении им продовольствия. Губернатором осмотрены повреждённые здания, две церкви, железнодорожное депо и фабрика Стамболи. В городе с уходом с рейда турецкого крейсера установлен полный порядок. Настроение жителей бодрое. Возвратился Государственный банк. Учёные заведения функционируют».
.jpg)
Первый симферопольский трамвай, август 1914 г. (Бетлинговская – нынешняя ул. Калинина).
Фото из фондов Музея истории трамвая и троллейбуса предприятия «Крымтроллейбус».
Почему проснулся вулкан?
В августе 1914-го произошло солнечное затмение, и суеверные жители страны увидели в этом дурной знак – «предзнаменование каких-либо чрезвычайных событий в связи с военным временем». Однако у крымчан чуть раньше было и своё собственное, местное предзнаменование беды.
«19 марта 1914 года в 50 верстах от Феодосии в 7 часов утра началось извержение кратера сопки Джау-тепе. Извержению предшествовал глухой подземный гул. Сначала из кратера стало вылетать в виде ракет синеватое пламя, затем повалил дым и, наконец, фонтаном полилась жидкая серая грязь, которую подбрасывало на высоту до 40 сажен (более 85 метров. – Ред.). Выброшенная сероватая грязь, сначала горячая, но быстро охладевшая, залила овраги и восемь десятин посевов. Кратер, бывший диаметром в аршин, после обвала представлял зияющую дыру в 20 сажен (почти 43 метра. – Ред.) в диаметре». Отзвуки проснувшегося грязевого вулкана были слышны за десятки верст по округе. В сторону селения начал двигаться огромный поток сопочной грязи, приведший в панику его жителей. К счастью, всё окончилось в течение получаса, но в народе ещё долго ходили разговоры о том, что вулкан проснулся не к добру.
.jpg)
Так выглядели первые билеты на симферопольский
трамвай. Фото из фондов Музея истории трамвая
и троллейбуса предприятия «Крымтроллейбус».
Самолёты из Белогорска
Во время Первой мировой вой-ны в Крыму делали военные самолёты. В 1913 году в Карасубазаре (современный Белогорск) появился «Первый крымский завод аэропланов», основанный дворянином Таврической губернии Адаменко. Основатель этого предприятия обучился пилотированию во Франции и, вернувшись в Крым, оборудовал в своем имении мастерские, где построил самолет типа «фарман». С началом войны завод Адаменко стал выполнять заказы Севастопольской военной школы авиации, производя запчасти для самолетов. Вскоре здесь начали выпускать и сами самолеты. В 1915-1916-м на «Первом крымском заводе аэропланов» были сделаны 10 самолётов «Фарман-IV».
Георгиевский крест – храброй жене
Воевать на фронт Первой мировой шли не только крымские мужчины, но и женщины. В 1915 году газеты рассказывали о жительнице Симферополя, женщине-героине Евдокии Тихонюк, награждённой Георгиевским крестом: «Узнав, что муж ранен, Евдокия Тихонюк пробралась с солдатским эшелоном на позиции. В это время муж её излечился и вступил снова в строй. Встреча с мужем произошла в траншеях. Увидев свою жену в солдатском одеянии, Тихонюк рассмеялся и разрешил ей остаться. Храбрая женщина исполняла обязанности телефониста и другие поручения. При отступлении она вынесла раненого мужа из сферы огня, за что и была награждена Георгием за храбрость».
Теги №20142 28.07.2017 Военные истории
https://gazetacrimea.ru/news/pervaya-mirovaya-v-jizni-polyostrova-26529
|
Метки: первая мировая война крым красный крест |
Лазареты Первой мировой войны в частных домах, загородных усадьбах и дачах Богородского уезда |
26.11.2012
Лазареты Первой мировой войны в частных домах, загородных усадьбах и дачах Богородского уезда
Завершая серию постов о госпиталях времён Первой мировой войны на северо-востоке Московского (тут) и в Богородском уезде Московской губернии (1, 2, 3), хотелось бы подробнее остановиться на примерах размещения госпиталей и лазаретов в городских домах, загородных усадьбах и на дачах частных лиц. Напомним, что статистические данные собраны на основе публикации "Список госпиталей губернских и уездных комитетов в Московской губернии к 1 ноября 1914 года". М., 1914.
[Госпитали II разряда]. Шесть госпиталей II разряда и десять III разряда располагалось в частных городских домах, загородных поместьях и дачах состоятельных жителей Богородского уезда. Крупнейший в Богородском уезде госпиталь такого рода II разряда с 40 кроватями оборудовал в своём доме щёлковский фабрикант Александр Иванович Синицын (ок. 1850 - после 1917) - глава акционерного общества "Щёлковской мануфактуры А. Синицын с сыновьями", глава комитета по строительству Троицкого собора в Щёлкове (1912) и владелец (с ок. 1902 года) бывшей фабрики Дмитрия Ивановича Четверикова-старшего (1804- после1872) в Соболевке [см. московский дом А.Синицына].
Предположительно - бывший дом А.И. Синицына в Щёлкове. Фотография ок. 1920 г.
Считается, что дом Синицына в Щёлкове сохранился. В настоящее время в нём располагается Щёлковский историко-краеведческий музей.
Фотография ок. 60-70 г.
Современная фотография. Отсюда.
Госпиталь II разряда с 22 кроватями вместил в себя загородный дом-усадьба семьи Лубны-Герцык в селе Ивановском (ныне Ногинский район Московской области).

Барский дом. 1920 г. Шура Лубны-Герцык. (Фото из архива Т.Н. Жуковской). Отсюда.
Во время первой мировой войны домом владели Юлия Антоновна Лубны-Герцык (урожденная Вокач) и Иосиф Антонович Лубны-Герцык (1846-1928?) - крупный инженер-строитель, строивший фабрики Мануфактуры Барановых в Александровском уезде Владимирской губернии.
Иосиф Антонович Лубны-Герцык (1846-1928?).
Юлия Антоновна Лубны-Герцык с дочерью Женей. Конец XIX века? (Фото из архива Т.Н. Жуковской).
Сохранилось описание усадьбы Лубны-Герцык в Ивановском 1928 года: "Небольшой одноэтажный деревянный главный дом с большими верандами, впереди - портик с колоннами в стиле ампир. Внутреннее расположение дома интересно (владельцы дорожили стариной и оберегали ее): зал с хорами, на которых стоял орган. Перед домом по трафарету разбит большой круг, усаженный жимолостью, жасмином и т.д. В этом кругу стояла каменная статуя мужчины. По бокам дома флигели, кухня для управляющего, рабочих. Парк французский с прямыми длинными, открывающими горизонт липовыми аллеями. В конце аллеи сделана беседка, довольно изящная в дорическом стиле. Небольшая деревянная уютная церковка в ампирных формах стоит на повороте берёзовой аллеи к реке. А там весёлый шум колёс мельницы дополнял прелести деревенского уголка. Усадьба никем не поддерживается и постепенно разрушается, владельцы её выселены совсем недавно" [см.] Усадебный деревянный дом в Ивановском сгорел во второй половине 1930 года.

Семья Лубны-Герцык в Ивановском. Фотография 1912 г. Крайние слева и справа - Иосиф Антонович и Юлия Антоновна, в глубине - их дети: дочь Евгения, сыновья Николай, Константин и Лев, к нам лицом повернулась невестка, жена Льва Иосифовича, Елизавета Александровна, урождённая Шлезингер [Волкова Н.Н., Дроздов М.С. Богородская усадьба Ивановское: хозяева, родственники и гости. //Русская усадьба. Сборник Общества изучения русской усадьбы. Научный редактор-составитель М.В. Нащокина. Вып.13-14. Москва: Улей. 2008. См. подробнее].
Третий по размеру госпиталь того же, II разряда (22 кровати) расположился в доме председателя Богородской уездной земской управы И.Н. Лего на Ильинском погосте (ныне Орехово-Зуевский район Московской области).
Госпиталь II разряда с 16 кроватями вместил в себя дом фабриканта - владельца ковровой и парусиновой фабрики Василия Ивановича Брунова (ум. 1930) в Обуховской подгородной слободе (городское поселение Обухово в Ногинском районе Московской области). В.И. Брунов числился членом-жертвователем Елизаветинского Благотворительного Общества (1900) и был действительным членом Богородского общества распространения среднего образования (1912).
Ещё два госпиталя II разряда были размещены в двух домах владельцев Товарищества "Богородской фабрики Ф. Елагина сыновей" А. (Александра Ивановича?) и Ф. Елагиных в г. Богородске (Ногинске).

Г. Богородск. Река Клязьма и фабрика Елагиных. Открытка ок. 1909-1911 гг.
[Госпитали III разряда].
Крупнейший подсобный госпиталь III разряда (на 50 кроватей) разместился в доме, нанятом в Павловском Посаде Городским союзом у неустановленного лица.
Лазарет того же разряда на 25 кроватей поместился в доме Востряковой (в Павловском Посаде? Возможно, имеется в виду один из управлявшихся наследниками домов Клавдии Герасимовны Востряковой (урожд. Хлудовой;1854 - 1899) - супруги директора Егорьевской бумагопрядильной фабрики, Норской мануфактуры и Северного страхового общества, потомственного почётного гражданина Дмитрия Родионовича Вострякова (1846-1906)). Состоятельная наследница своего отца К. Г. Хлудова-Вострякова была известной московской благотворительницей. Ею были учреждены в Москве богадельня и дом бесплатных квартир имени Г. И. Хлудова, палаты для неизлечимо больных женщин и дом бесплатных квартир имени П. Д. Хлудовой.К. Г. Вострякова скончалась во Флоренции, завещав свое огромное состояние мужу и двум сыновьям.

Клавдия Герасимовна Вострякова. Фотография кон. XIX в.

Дмитрий Родионович Востряков (1846-1906).
Такое же количество коек госпиталя того же II разряда вместил дом Комцова (?). Кем был господин Комцов и где (на территории нынешнего Щёлковского района) находился его дом выяснить не удалось.
Подсобный лазарет на 20 кроватей поместился на первом этаже деревянного дома семьи Пельтцер в Литвинове (Щёлковский р-н Московской области). Лазарет не имел собственного врача и регулярно посещался земским врачом Викентием Иосифовичем Шабуня. По воспоминаниям И.Надольны Мария-Екатерина Фёдоровна переселилась в так называемый «административный домик» - «Verwalterhäuschen», или ныне сохранившийся кирпичный домик управляющего фабрикой в стиле модерн. Её дочь Екатерина-Елена Александровна Четверикова (1878-1962) приняла на себя заведование хозяйственной частью: обеспечивала питание раненых, стирку, снабжала их медикаментами и перевязочными материалами [Nadolny I. Vergangen wie ein Rauch. 1983, р.116].
Деревянный дом Пельтцерв в Литвинове. Из фотоархива А-М. Ландтблум.
16 кроватей госпиталя III разряда вместила "дача" фабриканта Владимира Петровича Брунова в Каменке.

Усадьба В.П. Брунова в Каменке. Фотография 1910 г.
14 кроватей госпиталя III разряда были размещены в поместье Кисель-Загорянского в районе платформы Соколовской (открыта к 1899 году). Здесь с 1912 года состоялось открытие железнодорожного поселка, возникшей в дачной местности, принадлежавшей коллежскому асессору Николаю Николаевичу Кисель-Загорянскому (1871-ок. 1922) и его братьям Александру, Ивану и Михаилу.

Николай Николаевич Кисель-Загорянский (1871-ок. 1922).
Вероятно, дом А.Н. Кисель-Загорянского в Загорянке.
По 10 кроватей было устроено в госпиталях того же III разряда в доме фабриканта Тюляева в Обуховской подгородной слободе; доме потомственного почётного гражданина Фёдора Михайловича Миронова (1875-?) в Бунькове, в 1894—1905 гг. руководившего фирмой «Братья М. и К. Мироновы», а также являвшегося совладельцем и директором-распорядителем Товарищества Буньковской шерстоткацкой мануфактуры, и доме священника Николая Ипполитовича Глаголевского (1876-1937) в Рудне (ныне - Орехово-Зуевский район, с. Рудня-Никитское).
8 кроватей госпиталя III разряда были размещены в доме Шишовой в имении Лукино.
А. Послыхалин, 2012. При использовании материала обязательна ссылка на trojza.blogspot.com.
http://trojza.blogspot.com/2012/11/blog-post_26.html
Ярлыки: Бруновы, Востряковы, Елагины, Кисель-Загорянский Н.Н., Лубны-Герцык, Пельтцер, Синицыны
|
Метки: первая мировая война лазареты госпитали красный крест |
Эссены |
Эссены
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Эссен.
| Эссен | |
|---|---|
| нем. von Essen | |
 |
|
 |
|
| Описание герба
Графский герб Петра Кирилловича Эссена, см. текст >>> |
|
| Девиз | Верою и верностью |
| Том и лист Общего гербовника | XI, 8 |
| Титул | графы |
| Часть родословной книги | VI |
| Ветви рода | Эссен-Стенбок-Фермор |
| Подданство | |
 Королевство Швеция Королевство Швеция |
|
 Российская империя Российская империя |
|
 Эссен на Викискладе Эссен на Викискладе |
|
Герб Эссена
Эссен — фамилия, принадлежавшая нескольким немецко-шведским дворянским родам (разного происхождения).
Существует несколько дворянских родов Эссен, происходящих от древних лифляндских дворян, и других, более позднего происхождения. К последним можно отнести русский дворянский род Эссенов (без приставки фон), родоначальником которого был Санкт-Петербургский военный генерал-губернатор, член государственного совета, генерал от инфантерии Пётр Кириллович Эссен (1772—1844), возведённый в 1833 г в графское достоинство Российской империи. В 1835 г. Высочайше повелено графу Якову Ивановичу Стенбок-Фермор, женатому на единственной дочери Петра Кирилловича, Александре, принять фамилию тестя и именоваться Эссен-Стенбок-Фермор.
Самым многочисленным является род фон Эссенов, родоначальником которого был остзейский дворянин Томас фон Эссен. К данному роду относятся такие государственные деятели многих стран, как Ханс Хенрик фон Эссен (Hans Heinrich, Шведский рейхс и фельдмаршал, генерал-губернатор Норвегии, позднее губернатор Скании, возведён в графское достоинство Шведского королевства), Отто Васильевич (Otto Wilhelm; статс-секретарь Е. И. В., тайный советник, сенатор, товарищ министра юстиции Российской Империи), Николай Оттович (русский адмирал, командующий Балтийским флотом, участник Русско-японской войны). Потомки рода сейчас живут во многих странах Европы и обеих Америк. Есть потомки и в России.
Содержание
Описания гербов[править | править код]
Герб остзейского рода фон Эссенов представляет собой щит, где в лазоревом фоне на ветке сидит серебряная сова.
Графский герб Эссена представляет щит, рассечённый горизонтально. От главы — в золотом поле возникающий государственный орёл с тремя коронами, имеющий на груди в щитке вензелевое имя императора Николая I. В нижней же половине гербового щита — в серебряном поле единорог, бегущий влево, и за ним дерево.
Щит увенчан графской короной и под ней три шлема, в нашлемниках имеющие: с боков по три страусовых пера, а в средине — возникающий единорог. Намёт: направо — красный с золотом, налево — лазуревый с серебром. Щитодержцы — воины с копьями, в шишаках. Девиз: «Верою и верностью». Герб графа Эссен внесён в Часть 11 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 8.
Известные представители рода[править | править код]
- Эссен, Александр Антонович (1829—1888) — генерал-лейтенант, начальник 6-й кавалерийской дивизии.
- Эссен, Антон:
- Эссен, Антон Антонович (1797—1863) — генерал от кавалерии, начальник гвардейской кирасирской дивизии.
- Эссен, Антон Оттович фон (1863—1919) — губернатор Петроковской губернии, помощник Варшавского генерал-губернатора, сенатор, егермейстер.
- Эссен, Александр Александрович фон (1748—1805) — генерал-лейтенант, шеф Черниговского драгунского полка
- Эссен, Иван Николаевич (1759—1813) 1-й — генерал-лейтенант, каменец-подольский военный губернатор, рижский военный губернатор.
- Эссен, Льюис (1908—1997) — английский физик-экспериментатор.
- Эссен, Николай:
- Эссен, Николай Иванович (1817—1880) — самарский городской голова.
- Эссен, Николай Карлович (1885—1945) — полковник Российской императорской армии, генеалог[1]
- Эссен, Николай Оттович фон (1860—1915) — русский адмирал, командующий Балтийским флотом.
- Эссен, Отто Васильевич фон (1761—1834) — капитан-лейтенант, эстляндский губернатор
- Эссен, Пётр Кириллович 3-й (1772—1844) — генерал-лейтенант, Оренбургский и Петербургский военный генерал-губернатор
- Эссен, Рейнгольд-Вильгельм Иванович (1722—1788) — генерал-поручик, участник Семилетней войны, Ревельский обер-комендант.
- Эссен, Ханс Хенрик (1755—1824) — шведский фельдмаршал и государственный деятель.
- Эссен, Христофор фон (1717-?) — генерал-поручик[2].
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса:
- Эссен, Ганс Генрик фон де (1755—1824) — адъютант шведского короля Густава III, губернатор Стокгольма, Померании, посол во Франции. N 2763; 18 декабря 1813
- Эссен, Генрих Иванович; майор; № 5257; 1 декабря 1835
- Эссен, Густав Иванович; майор; № 2061 (932); 17 февраля 1809
- Эссен, Максим Карлович; подпоручик; № 4657; 25 декабря 1831
Примечания[править | править код]
- ↑ Эссен Николай Карлович. // Проект «Русская армия в Великой войне».
- ↑ Эссен-фон, Христофор // Русский биографический словарь : в 25 томах. — СПб.—М., 1896—1918.
|
Метки: эссен |