-ѕриложени€
- “оррЌјƒќ - торрент-трекер дл€ блогов“оррЌјƒќ - торрент-трекер дл€ блогов
 ќнлайн-игра "Empire"ѕреврати свой маленький замок в могущественную крепость и стань правителем величайшего королевства в игре Goodgame Empire.
—трой свою собственную империю, расшир€й ее и защищай от других игроков. Ѕ
ќнлайн-игра "Empire"ѕреврати свой маленький замок в могущественную крепость и стань правителем величайшего королевства в игре Goodgame Empire.
—трой свою собственную империю, расшир€й ее и защищай от других игроков. Ѕ ќнлайн-игра "Ѕольша€ ферма"ƒ€д€ ƒжордж оставил тебе свою ферму, но, к сожалению, она не в очень хорошем состо€нии. Ќо благодар€ твоей деловой хватке и помощи соседей, друзей и родных ты в состо€нии превратить захиревшее хоз€йст
ќнлайн-игра "Ѕольша€ ферма"ƒ€д€ ƒжордж оставил тебе свою ферму, но, к сожалению, она не в очень хорошем состо€нии. Ќо благодар€ твоей деловой хватке и помощи соседей, друзей и родных ты в состо€нии превратить захиревшее хоз€йст ¬сегда под рукойаналогов нет ^_^
ѕозвол€ет вставить в профиль панель с произвольным Html-кодом. ћожно разместить там банеры, счетчики и прочее
¬сегда под рукойаналогов нет ^_^
ѕозвол€ет вставить в профиль панель с произвольным Html-кодом. ћожно разместить там банеры, счетчики и прочее ќткрыткиѕерерожденный каталог открыток на все случаи жизни
ќткрыткиѕерерожденный каталог открыток на все случаи жизни
-÷итатник
Ѕез заголовка - (0)
———– - это естественный путь развити€ –оссии –осси€ шла к социалистическому обществен...
Ѕез заголовка - (0)—ќЅџ“»я, ѕ–≈ƒЎ≈—“¬”ёў»≈ —ћ≈Ќ≈ ѕќЋё—ќ¬ —обыти€, предшествующие смене полюсов »ндикато...
Ѕез заголовка - (0)„≈Ћќ¬≈„≈—“¬ќ »«”„ј≈“ Ћ∆»¬”ё »—“ќ–»ё ѕќ ќ–»ќЌ— ». ƒорогие читатели, прочитал сегодн€ http://w...
Ѕез заголовка - (1)»стинный мизантроп: как быть уверенным что ты точно ненавидишь людей? 1. “ы ненавидишь на...
Ѕез заголовка - (0)Ёпоха черных квадратов: люди супрематизма 1900. азимир ћалевич в урске 1913. јлоги...
-—сылки
-¬идео

- ’елависа - Rising of the moon (√имн ирла
- —мотрели: 1 (0)

- Marlene Dietrich - Lili Marleen
- —мотрели: 2 (0)

- ћельница - Ѕаллада о борьбе (Official vi
- —мотрели: 1 (0)

- Goran Bregovic - Bella Ciao - ( LIVE ) P
- —мотрели: 4 (0)

- De ce plang chitarele - Formatia Contemp
- —мотрели: 5 (0)
-–убрики
-Ќовости
-ћузыка
- Sophie Ellis-Bextor - Heartbreak Make Me A Dancer
- —лушали: 5 омментарии: 0
- Sophie Ellis-Bextor
- —лушали: 335 омментарии: 0
- Chris Rea Ц The Road To Hell
- —лушали: 532 омментарии: 0
- Ѕетховен " Ёлизе"
- —лушали: 646 омментарии: 0
- Petula Clark - The Windmills Of My Mind (M. Legrand, A. Bergman)
- —лушали: 692 омментарии: 0
-‘отоальбом

- Bruno Wagner
- 08:10 23.11.2014
- ‘отографий: 17

- артинко!!!
- 14:43 03.10.2014
- ‘отографий: 69

- ¬ќЋ »
- 13:51 19.09.2014
- ‘отографий: 20
-ћетки
2015best агат аномалии анты арии артефакты асторлоги€ блоги ведическа€ русь велес вера вов возрождение война волхвы волшебство втора€ мирова€ война второй фронт выживание высадка союзников георгий победоносец гильотина глобализаци€ демократи€ догма западна€ ложь запретна€ истори€ защита данных защита компьютера защита от компрометации здравомыслие земель зомбирование иде€ историческа€ действительность истори€ россии казнь книга велеса концами кредит кризис культура легенда либерализм ложь магические свойства маги€ машина времени медецина мировозрение мироустройство народ национал-социализм наци€ новости норманди€ ночь сварога обман общество общечеловеческие ценности отношени€ ошибка палач патриотизм первоисточник петр 1 письменность политика промывание мозгов психолингвистика психологи€ работа радость разум раса реальна€ истори€ религи€ родина родноверие росси€ русы русь сварог свобода семь€ слов€не сознании сотворение мира социум ссср сталин страна асов уры физика хокинг черна€ луна черные дыры эзотерика €зычество €р-тур
-¬сегда под рукой
-ѕоиск по дневнику
-ѕодписка по e-mail
-»нтересы
-ƒрузь€
ƒрузь€ оффлайн ого давно нет? ого добавить?
_Lyubasha_K_
_—“–јЌј_„”ƒ≈—_
ALEKSANDROFF
BARGUZIN
belorys_kh
Bo4kaMeda
crimeafrend
Cymylau
Elephant_Talk
esoterick
gyord-pro-ladies
jokermann
justvitek
karna07
komor_valerya
Konstancia
KROMIADI
Mehova
Mila111111
Mitritch
Old_Dragon
RA-2
Rainbow_Six
ravingdon
robot_marvin
Rock_Video_Music_Box
svarogich
vados2384
vm1955
јнгарск
¬асмак
гриша51
≈стество
»ван_59
Ћезгафт
ћай€_ѕешкова
ћираж_ок
ћихаил56
ћудрый_Ѕодрис
Ќатали_99
Ќиколай_ офырин
ќзЄрный_житель
ѕолковник_Ѕаранец
–јƒќћ»–_2006
–ысаков
танкист_“-72
’аритоныч
ЎЄпот_–ун
Ёдуард_¬олков
эриксон
-ѕосто€нные читатели
-—ообщества
„итатель сообществ
(¬сего в списке: 13)
ћужской_ Ћ”Ѕень
∆Єстка€-критика-лиру
ј–“_ј–“ель
»ркутска€_область
—лужба_изменени€_кадров
порно_ролики
»скусство_войны
√ќ¬ќ–»_»_ѕќ ј«џ¬ј…
Ўкола_»ггдрасиль
ино-¬идео-Ќа-Ћиру
–елакс_и_вдохновение
ќ_—амом_»нтересном
»ркутск
-—татистика
«аписи с меткой мировозрение
(и еще 1233 запис€м на сайте сопоставлена така€ метка)
ƒругие метки пользовател€ ↓
агат анты арии артефакты блоги велес вера вов война волхвы выживание глобализаци€ демократи€ запретна€ истори€ истори€ россии книга велеса культура легенда либерализм ложь магические свойства маги€ мировозрение народ наци€ ночь сварога общество общечеловеческие ценности отношени€ патриотизм петр 1 психологи€ раса реальна€ истори€ религи€ родина родноверие росси€ русы русь сварог семь€ слов€не сотворение мира социум ссср сталин страна асов уры €зычество
я«џ„≈—“¬ќ |
ƒневник |
Ёта стать€, основанна€ на мудрости современных €зыческих общин, волхвов и всех свободных людей, называющих себ€ €зычниками, поможет вам получить ответы на следующие вопросы:
1. „то такое Ђязычествої.
2. „ем живут €зычники.
3. Ќасколько применимы €зыческие пон€ти€ к современности.
4. „то такое €зыческа€ община и каков характер ее практической де€тельности.
„то такое язычество
—лово Ђ€зычествої происходит от слова Ђ€зыкї Ц Ђнародї. Ёто слово по€вилось у нас более тыс€чи лет назад, и вовсе не в св€зи с христианизацией –уси. “ак же, как и название Ђправославиеї, вероломно присвоенное христианской церковью в 17-м веке: наши русские предки Ђславили правьї, т.е. правду, правильный ѕуть Ц и поэтому ѕравославие Ц это исконна€ русска€ €зыческа€ вера.
—егодн€ нам приходитс€ избавл€тьс€ от негативного оттенка слова Ђ€зычествої, который нав€зывает христианство. язычество Ц это народна€ вера (исторически Ц вера народа, в противовес вере кн€зей, которые прин€ли чужеродную византийскую религию и силой пытались обратить в нее народ). ћы Ц народ, и поэтому мы Ц язычники. ћы все рождаемс€ €зычниками и лишь потом, в течение жизни, Ђнакладываемї на себ€ религиозные, идеологические и прочие личиныЕ языческа€ вера нашего народа Ц в русских богов Ц называетс€ –одноверием (в ее основе лежит пон€тие Ђ–одї, см. ниже).
≈вропейские €зычники называют себ€ паганистами (в латинском €зыке €зыческа€ вера называетс€ Ђпаганизмомї, от слова Ђпаганусї Ц землепашец). ќтсюда произошло слово Ђпоганыйї, которое за тыс€чу лет Ђприобрелої бранный смысл. ѕод давлением христианства изменили смысл многие русские слова: например, слово Ђкощунствоватьї. »здревле, кощунником звали того, кто исполн€л св€щенные гимны и сказывал предани€, т.е. кощунствовал.
языческа€ вера Ц это вера простого народа, который естественным образом приближен к земле. Ёто такое волшебное знание, которое может умереть только вместе с народом. ѕока народ способен жить, и осознает себ€ на своей земле наследником предшествующих поколений Ц жива и его традици€.
ѕод термином Ђ“радици€ї подразумеваетс€ высокоразвита€ философско-этическа€ система. язычество Ц это традиционна€ народна€ культура, –одова€ система верований, комплекс мировоззрений, направленных на гармоничное развитие человека в ѕрироде, приобретение им необходимых способностей на благо своего рода-племени. »менно этого не хватает современному обществу, отравленному наплевательским отношением к организму планеты и собственному организму.
язычество Ц это система, соедин€юща€ все традиционные знани€ наших предков, котора€ с ходом времени естественным образом развиваетс€, пронизыва€ все сферы жизнеде€тельности общества.
¬думайтесь в основной принцип язычества, коренным образом отличающий его от самоуничижительного, страдальческого, раболепного христианства: язычество дает человеку –адость к ∆изни!
¬озрождение “радиции
¬озрождать Ц это не значит Ђвозвращатьс€ї. ¬сЄ хорошо к своему времени. ¬ процессе ¬озрождени€ неизбежно по€вл€етс€ творчество. » это хорошо. языческа€ “радици€ наиболее гармонична дл€ свободного человека, потому что дает ему возможность “ворить. »стинна€ суть любого обр€да не в том, чтобы слепо воспроизводить какие-то действи€: прежде всего, нужно проникнутьс€ их смыслом. » если в точности их воспроизвести невозможно, то можно и нужно искать, как сделать лучше. аждый человек берет из “радиции что-то близкое лично себе и создает собственную традицию Ц традицию семьи и рода, опира€сь на чувство гармонии со своей землей и народом. ќкостеневша€ традици€ Ц это догма.
¬озрождать “радицию Ц не на ворованные деньги всем миром церкви строить. ∆ива€ “радици€ Ц это когда матери не бросают детей в роддомах, и не делают аборты из-за того, что не в состо€нии воспитать ребенка. “радици€ Ц это когда мужчина может прокормить и защитить семью, и государство Ц помогает ему в этом, а не отправл€ет воровать. ¬ языческой “радиции речь идет о том, чтобы люди осознали свое место в мире, научились в нем жить и творить.
язычество Ц это не жизнь Ђвчерашним днемї, это €вление надвременное, и в каждую историческую эпоху оно приобретает свои неповторимые формы. Ќелепо дл€ современных людей следовать формам духовности аменного ¬ека. ћы Ц живые люди с живыми духовными потребност€ми, свойственными нашему времени.
—овременные €зычники не реанимируют то, что умерло, а вывод€т на первый план всЄ, что сохранил народ, что €вл€етс€ неотъемлемой частью его культуры и сознани€. ¬осстанавлива€ обр€ды и праздники, мы исходим из того, что обр€довые и праздничные действи€ всегда стро€тс€ на культурных и психологических законах, имеющих местные, пусть даже случайные особенности.
язычество Ц это естественна€ ƒуховность, свойственна€ человеку от рождени€. язычество берЄт своЄ начало в самой ѕрироде и в –одовой ѕам€ти народа, а не основываетс€ исключительно на частном мнении некоего Ђпророкаї. ¬ разные исторические эпохи язычество может принимать различные формы, сохран€€ при этом свою изначальную духовную суть. Ќекоторые формы с течением времени естественным образом отмирают, чтобы освободить место новым, и это не означает смерти язычества и “радиции. Ќаоборот: способность самообновл€тьс€ есть признак ∆»¬ќ√ќ существа. язычество Ц это ∆ива€ ƒуховность, а не слепа€ реконструкци€ древнего быта. Ќам нынешним незачем стремитьс€ жить укладом тыс€челетней давности. ћы должны найти свой собственный ѕуть. Ёто путь ѕреемственности, а не возврат назадЕ
—амое главное Ц восстановить наиболее глубокие, жизнетворные идеи, передаваемые из поколени€ в поколение. —амое главное Ц найти истинный дл€ русского народа ѕуть, и идти по нему ƒјЋ№Ў≈.
»сточники «нани€
ƒалеко не все «нани€ наших предков утер€ны. Ќикаким завоевател€м и Ђкрестител€мї не под силу уничтожить этот невыразимый словами –усский ƒух Ц дух вечно юного язычестваЕ
Ќародна€ культура сохранила и донесла до нас богатое фольклорное наследие наших предков (в виде песен, сказок, заговоров и т.д.), а традиционный кресть€нский быт сохранил символику вышивок и резьбы по дереву, также заключающую в себе древний €зыческий смысл.
ƒаже христианство на –уси настолько впитало в себ€ €зыческую символику и обр€дность наших предков, что еврейска€ и греческа€ составл€ющие постепенно отошли в нЄм на второй план.
язычество не предполагает абсолютного знани€, поскольку абсолютного знани€ не существует.
ћы, язычники, имеем достоверное «нание, потому что мы знаем, что делаем. Ќаш ѕуть Ц осознанный. –азумное отношение к жизни и живому миру, частью которого ты €вл€ешьс€, никогда не станет Ђпережитком прошлогої. “радиции разума и совести не нуждаютс€ в доказательстве их достоверности. »меет ли женщина достоверное знание о традиции рождени€ ребенка? »меет ли мужчина достоверное знание о традиции защиты семьи?
“радици€ Ц это ѕам€ть и ∆изнь. ¬ ѕрироде, в истории нашего народа мы черпаем св€щенную воду знаний о «емле нашей и –одных ЅогахЕ
Ќаша “радици€
Ќаша “радици€ заключаетс€ в том, что Ѕогов много. »х столько, сколько разнообрази€ в мире, и каждый Ѕог силен по-своему. ак летит птичий клин? Ќа каждом участке пути его ведет та птица, котора€ знает этот участок лучше всех. », провед€ стаю ведомым ему путем, вожак уступает место следующему проводнику, а сам пристраиваетс€ в хвост и становитс€ ведомым.
“ирани€ Ц это не наша традици€.
ќлигархи€ Ц это не наша традици€.
ƒемократи€ Ц это не наша традици€.
Ќаша традици€ Ц выборный кн€зь, который избираетс€ народным ¬ече за свою провозглашенную ѕравь, и кн€жит до тех пор, пока воплощает ее, а затем уходит.
ћы верим в разумные ћировые —илы, именуем их Ѕогами, и стараемс€ встать на их уровень.
¬от основные принципы нашей “радиционной культуры:
ћир живой, он испытывает радость и боль. ћы Ц неотъемлема€ часть этого ћира.
ћы, люди, Ц как Ѕоги, мы подобны Ѕогам и равны им.
ѕравда выше милосерди€, выше добра и зла. ќна делает человека сильным и неу€звимым духовно.
Ќе религи€
„то бы ни говорили нам всевозможные словари о происхождении и значении слова Ђрелиги€ї, в конечном счете –елиги€ Ц это всегда управленческа€ иде€, формирующа€ социальный институт (церковь), использующий ¬еру и другие человеческие ценности в своих корыстных цел€х. ¬ этом смысле язычество Ц это не религи€, напротив, это Ц всЄ кроме религии. язычество Ц это ¬ера, «нание и ‘илософи€. –усское язычество Ц это образ жизни, мысли и действи€ в согласии с русскими Ѕогами.
Ћюбое ”чение в своем развитии обычно проходит следующие этапы:
гипотезы Ц свободные дл€ внутренней и внешней критики по отношению к автору.
теории Ц свободные дл€ внешней критики.
догмы Ц не свободные дл€ критики.
¬начале по€вл€ютс€ ”чител€ Ц люди, которые прикоснулись к источнику св€щенного знани€ и наполнили им свое сердце. ќни выдвигают √ипотезу. »х правота Ц только в личном авторитете и силе убеждени€. ћногие учени€ умирают еще на этой стадии. Ќо если этого не произошло, то у ”чителей по€вл€ютс€ ”ченики. ѕроход€т годы, умирают учител€ и первые ученики. ѕо€вл€ютс€ первые сомнени€ в словах ”чител€. ”чение на этом этапе требует мощной теоретической базы.
ѕоследователи ”чени€ активно вступают в споры и доказывают, доказываютЕ ƒовод€ свое искусство до совершенства, они фиксируют его и передают ученикам. ќбъем книг и трактатов растет. —амые лучшие из них вытесн€ют остальные, более слабые и неубедительные. √де-то на этом этапе происходит раскол в ”чении. ¬се больше людей сомневаютс€, несмотр€ на старани€ книжников. ј они снова и снова повтор€ют древние истины, не понима€ уже их смысла. «амысел ”чителей тер€етс€ среди миллионов знаков и слов. нижники тер€ют терпение и былую сноровку. ѕриходит очередь догмЕ
огда слова бессильны, настает врем€ сильной руки. ѕылают костры, смерть и унижение Ц каждому, кто выскажет вслух свое сомнение. »менно на этом этапе ”чение называют религией. ¬ этом состо€нии оно может находитьс€ неограниченно долго, но ”чением уже никогда не будет. Ћишь новые ”чител€ могут оживить эту пересохшую лужу догм, бывшую когда-то великолепным фонтаном ”чени€.
ѕоэтому нельз€ довер€ть свое знание только книгам и наполн€ть душу одним лишь книжным знанием. Ќичто не истинно ¬≈„Ќќ Ц вот в чем вечна€ истина! ќсмысливать все, что слышишь, а что не в силах услышать Ц чувствовать сердцем: именно эти принципы позвол€ют язычеству жить тыс€чи лет среди всевозможных религий и сект. —амые жаркие костры не могут выжечь в нем т€гу к ”чению.
нига Ц мудрый источник знани€, но насто€ща€ сила язычества Ц в люд€х, а не в книгах. огда €зычники-ученики постепенно сами станов€тс€ ”чител€ми, несущими не догму, а «нание, - это поистине врем€ свободного человека!
¬ язычестве, в отличие от религии, нет жЄсткого свода догматов и предписаний, и это позвол€ет каждому €зычнику верить и ведать по велению —ердца и мере собственного разумени€Е аждый человек имеет право на самосто€тельное, ничем не ограниченное постижение духовности ћироздани€, во всей многоликости ее про€влени€.
ћы воспринимаем наших Ѕогов от рождени€, напр€мую, дл€ этого нам не нужны церкви. Ѕоги сто€т за всеми €влени€ми ѕрироды. ќни здесь, с нами, в этом мире. ѕотому «емной ћир св€т и вечен, Ћюди живут в храме Ѕогов.
язычество возлагает на человека большую ответственность. „то и почему должен делать человек на «емле, в чем смысл земной жизни Ц ответы на эти вопросы дает наша вера. ¬ них заключаетс€ вс€ философи€ жизни. Ѕудущее «емли определ€етс€ людьми. ћы отвечаем за экологическую сохранность нашего мира. ћы отвечаем за жизнь своих потомков. ћы Ц потомки Ѕогов, и прекращение нашего рода равносильно смерти Ѕогов.
язычество начинаетс€ с непосредственного ѕ≈–≈∆»¬јЌ»я ∆изни. ќно даЄт человеку возможность преодолеть отчуждЄнность от окружающего мира, которую породила современна€ бездуховна€ Ђтехнократическа€ цивилизаци€ї. “от, кто хочет постичь духовную суть язычества Ц слушает своЄ сердце и природуЕ язычество Ц это не ограничение и канон, а стремление достичь наивысшей гармонии с ѕриродой.
языческа€ ¬ера
ќсновной принцип ¬еры в языческой “радиции Ц в том, что ее следует св€зывать не со словом Ђверитьї в привычном (христианском) значении, а со словом Ђверныйї. языческа€ ¬ера не отрицает сомнений и множественных толкований, она отличаетс€ большой ролью интуиции и жреческого (волховского) искусства.
—лепа€ вера Ц не дл€ ¬едающих («нающих). языческа€ ¬ера Ц это ¬ерность и ƒоверие, без которого мы не сможем двигатьс€ вперЄд по пути ¬едани€. ƒоверие Ц первый шаг на пути свободного ученичества, это открытость, непосредственность и чистота воспри€ти€.
ћы, €зычники, не просто ¬ерим. ћы храним мир, магию, обр€ды, мудрость наших предков, и именно она помогает нам жить в мире с природой.
—овременное слав€нское –одноверие Ц это, прежде всего, вера в единого (старшего) бога –ода. ѕричем –од как бог Ц это не какое-нибудь Ђсверхсуществої, –од понимаетс€ в единстве трЄх составл€ющих: –од как —ам (–од ¬се-—ущий, всепроникающее духовное начало), –од Ќебесный (сила ѕредков) и –од «емной (совокупность сородичей).
ћладшие –одные Ѕоги Ц это лики единого –ода, его “ворческие —илы, постигаемые нами в личном духовном опыте. Ёти —илы про€влены как в окружающей природе, так и в нас самих (например, —ила ѕеруна в природе Ц √роза, а в человеческом сердце Ц это ¬ол€ к ѕреодолению). „ерез славление Ѕогов мы воссоедин€ем всЄ внутреннее и внешнее, и обретаем ƒуховный Ћад: душевную целостность и телесное здравие.
—ердце учит нас любви. –азум учит нас справедливости. Ќаша вол€ ведЄт нас стезЄю ѕрави. ¬ысша€ мудрость обретаетс€ через Ћад. Ѕыть в Ћаду с собой, с –одными Ѕогами, с ѕриродой, с сородичами Ц значит найти своЄ место в жизни, найти подлинного —≈ЅяЕ
»сконные, €зыческие принципы, св€зывающие людей с Ѕогами, старше всех религий. » один из них Ц жить по совести, данной нам Ѕогами, ѕриродой, ѕредками, –одител€ми и ќбществом. ≈сли кривить душой и поступать против совести, душа черствеет, и голос природы, голос Ѕогов перестает быть слышен человеку.
¬ основе €зыческой ¬еры лежит —овесть. ∆ить по совести Ц значит Ђжить по правдеї. ѕока жива правда в сердцах людей Ц будет жить этот мир. —овесть Ц важнейша€ часть души, и критерий гармонии наших поступков с нашими Ѕогами и с окружением.
ћы видим Ќебо над головой. ћы видим —олнце, дающее нам свет. Ќас держит и кормит наша ћать Ц —ыра-«емл€. ќт них приходит к нам свет, вол€ и пища. ћы почитаем их, как первых наших дарителей и хранителей.
Ќам дано все, что нам требуетс€. „еловек Ц часть ћироздани€, у него есть свое место в ћироздании, и право на это место. „еловек не должен брать больше. Ёто приводит к нарушению мировых процессов. Ќо человек не должен быть и обездоленным. ≈сли он чувствует, что обездолен, и не может ничем себе помочь, он может обратитьс€ к Ѕогам с просьбой, и от них должна прийти помощь. “ак устроен ћир.
‘илософи€ язычества
ћир познаваем. ћир населен богами и духами, с которыми человек посто€нно взаимодействует. ¬се вещи во ¬селенной €вл€ютс€ живыми (личност€ми). Ќаблюдение и размышление Ц основные методы €зыческого познани€ мира.
“ри основных пон€ти€ в €зыческой “радиции Ц это явь, Ќавь и ѕравь (явленное, Ќе€вленное и ѕравильное), хот€ у разных народов они нос€т разные имена. »х сочетание мы называем “риглавом.
явь Ц это “езис. Ёто стремление различить всЄ тайное и сделать его доступным, даже вопреки «амыслу. Ёто мир де€тельности, созидание всего нового, и т€га к будущему. Ёто стремление изменить ¬селенную, и стремление ¬селенной изменить себ€. Ёто все младые €рые —илы пробуждени€ ѕрироды. явь Ц это безогл€дное стремление ∆ить во что бы то ни стало, и животна€ т€га к продолжению рода. Ёто поиск —илы вне себ€, страстность, активность, действенность. явь Ц это стихи€ Ѕелого бога; таковыми у слав€н €вл€ютс€, например, —вентовит, –адегаст или ƒаждьбог.
Ќавь Ц это јнтитезис. Ёто тенденци€ обратить €вный мир в не€вный, неразличимый, скрыть до поры до времени то, что не должно быть раскрыто по «амыслу ныне. Ёто стремление ¬селенной сохранить свои тайны, и одновременное стремление ¬селенной и „еловека взаимно познать друг друга. Ёто все консервативные процессы, в том числе и пам€ть. Ёто т€га к прошлому, обращение живой материи в мертвую, но в то же врем€ и процесс подготовки мертвой материи к новому рождению. Ёто все ћировые —илы, умиротвор€ющие природу. ¬стреча с Ќавью Ц это проверка на силу и обоснованность претензий на нечто сверх обычного. »менно волхв (маг) ближе всего подходит к Ќепознанному. Ќавь Ц это практика получени€ —илы через разрушение, поиск —илы в себе. ќдин сам пригвождает себ€ к ћировому древу, ради «нани€, Ўива-ћахаиогина сам погружает себ€ в тыс€челетнюю медитациюЕ Ќавь Ц это стихи€ „ерного бога, властител€ магии, у слав€н его зовут ¬елесом.
ѕравь Ц это —интезис, то, что между Ќавью и явью. Ёто треть€ фундаментальна€ —ила, задача которой Ц сделать мир правильным. Ёто закон космоса и бога-творца, об€зательный дл€ него самого, дл€ людей и дл€ всего —ущего. ѕравь не соотноситс€ ни с одним из миров, она стоит над ними. ѕравь Ц тот идеал, к которому можно вечно стремитьс€, никогда его не достигнув. ѕравь дает силу идти на смерть ради чести и правды. —ледование ѕрави поднимает человека до уровн€ Ѕога, дает ему ощущение спокойной силы и уверенности. ќднако необдуманное следование ѕрави с отсутствием в душе яви и Ќави, может привести к смещению мыслей и чувств, и в результате может по€витьс€ фанатик, отошедший от ѕрави, но за неЄ безумно сражающийс€. ќлицетворением ѕрави у слав€н €вл€ютс€ —трибог, —варог, ѕерун.
языческие Ѕоги
язычники, почита€ ѕервого из Ѕогов (–ода), признают Ѕогами и его многочисленные стороны. Ёти Ѕоги про€вл€ют себ€ как ћировые —илы, неизменные сущности, сохран€ющие ћироздание в равновесии. Ѕожественные сущности оказывают вли€ние на сознание человека, внушают мысли, побуждают к действи€м, сообщают знание. Ёто приходит к человеку обычно в результате обр€довой практики, и ощущаетс€ как благо или дар. Ѕоги про€вл€ютс€ и как особые €влени€ природы или событи€, имеющие пон€тный знаковый смысл, через образы и идеи. Ќепри€тные эмоции, заболевани€ и конфликты в результате проведенных обр€дов тоже надо понимать как про€вление Ѕогов Ц но только противоположное, означающее, что человек что-то неправильно делает или неправильно мыслит.
Ѕогов очень много, и про€влений у них Ц бесчисленное множество. Ћюбой аспект ћира есть про€вление тех или иных Ѕогов или других существ. ѕорою €зычники называли Ѕогами и своих выдающихс€ предков (скифский “аргитай, греческие √еракл, ƒиоскуры, ƒионис, германские ќдин, ‘рейр, ЌьЄрд, ‘рей€, слав€нские —варог и ƒаждьбог). ѕомимо доброжелательных к человеку божеств, есть и недоброжелательные —илы. »х про€влени€ могут носить негативный характер. языческа€ вера учит, как поступать, чтобы не попадать под вли€ние таких —ил.
¬ основе слав€нской веры лежит принцип единства в многообразии. ѕерун, ¬елес, ћакошь Ц всЄ это сути единого –ода, и в этом нет противоречи€. —колько один человек испытывает противоречивых чувств за день? Ёмоции пытаютс€ вз€ть верх над разумом, а расчетливый разум Ц над эмоци€ми. –одные Ѕоги Ц это разные лики единого все-Ѕога –ода. ќни Ц наши вышние ѕрародители, —таршие в нашем –оду, ѕредки наших ѕредков. ќни Ц —илы матери-природы, они же Ц неотъемлемые составл€ющие души человека, и наделены разными личностными качествами. “аким образом, –одноверие одновременно включает в себ€ единобожие (единый все-Ѕог –од) и многобожие (родные Ѕоги Ц лики –ода) Ц без вс€кого внутреннего противоречи€.
‘ундаментальными философскими пон€ти€ми слав€нского язычества €вл€ютс€ следующие божественные сущности:
–од (бытие) Ц единое, всерождающее и всенаполн€ющее начало, всЄ сущее, все сами существующие субъекты.
Ѕелобог и „ернобог Ц два первейших лика –ода, олицетвор€ющие собой явь и Ќавь, ƒень и Ќочь, —вет и “ьму, —озидание и –азрушение, –ождение и ”мирание, и т.д.
—варог (закон, мораль) Ц первый закон, описывающий замысел –ода. ѕравила движени€ по пут€м ћакоши. —варог Ц бог небес, держатель ѕрави, прародитель светлых богов-—варожичей: ƒаждьбога, чей щит Ц само —олнце расное; ѕеруна-√ромовержца, покровител€ воинов, оберегающего явь от нежити Ќави; и јгуни —варожича Ц ќгн€ «емного.
ћакошь (причинность) Ц судьба, возможные пути развити€ –ода.
ѕерун (сила) Ц активное воплощение –ода, сила, порождающа€ любое движение.
¬елес (знание) Ц мудрость –ода, энерги€ созидани€ и познани€. ѕассивное начало, фундамент дл€ ѕеруна.
∆ива и ћара Ц ∆изнь и —мерть, ¬ода ∆ива€ и ¬ода ћЄртва€.
ƒеление богов на —ветлых и “емных Ц это исключительно христианска€, неверна€ позици€. —вет и “ьма, которым однозначно соответствуют только Ѕелобог и „ернобог, в различных пропорци€х присутствуют в характере всех остальных Ѕогов. —овершенно неверно ассоциировать метафизические пон€ти€ —вет/“ьма, ѕор€док/’аос с оценочными пон€ти€ми ’орошо/ѕлохо. ¬о ¬селенной не существует абсолютного ƒобра и «ла.
√одовое оло (солнечный круг, календарь) показывает нам природную последовательность творческих де€ний родных Ѕогов во ¬семирии. “е же самые Ѕожественные —илы действуют и внутри нас. —лав€ родных Ѕогов на прот€жении всего круга годовых праздников, мы тем самым Ђправимї, Ђдостраиваемї себ€ до состо€ни€ внутреннего единства. “ак, например, с весенним пробуждением ѕрироды св€заны ярило-¬есень и ƒева-Ћел€, с летним расцветом Ц ƒаждьбог и Ћада, с осенней порой урожаев Ц ¬елес и ћакошь, с зимним омертвением Ц ощный Ѕог и ћара-ћорена.
–авноправие с Ѕогами
¬место пон€ти€ Ђверховный богї в слав€нском язычестве есть пон€ти€ Ђпервопричинаї и Ђ–одителиї Ц это –од-–ожаница. ѕервородную ћировую —илу наши предки арии именовали –удра, слав€не называли ее Ц –од, а все, что при –оде Ц именовали ѕриродой. –од Ц не хоз€ин ¬селенной, он сам и есть ¬селенна€. ¬сЄ сущее Ц из-–одно, –од Ц это всЄ вместе, но не что-либо, вз€тое в отдельности. –од как —ам Ц выше времени, пространства и вс€кого становлени€. Ќо и врем€, и пространство, и все движени€ во ¬семирии Ц берут свой исток в нЄм одном.
–од Ц это Ќј–ќƒ, –ќƒ»Ќј, ѕ–»–ќƒј. ¬сЄ то, что мы любим, ценим и должны защищать.
Ѕоги (—илы) Ц это наши помощники и соратники. —варог Ц отец, ћакошь Ц мать. —варожичи, ƒыевичи, Ѕоги ѕрави и —лави Ц это всЄ уровни —ил в их взаимодействии во ¬селенной –ода-–ожаницы.
¬ разные исторические эпохи у €зычников мира правили разные Ѕоги, во главе пантеона вставала та или ина€ —ила ћира. Ќужно было создавать государство, оборон€тьс€ или нападать Ц правили Ѕоги войны, нужно было осваивать землю Ц боги земледели€Е ” древних германцев Ђвысшимї Ѕогом сперва выступал “иу (“юр), потом его сменил “ор, потом, наконец, утвердилс€ ќдин. ” слав€н правление —варога сменилось царствием ƒаждьбога... и т.д.
Ћюбой народ имеет право на почитание своих Ѕогов и ѕредков. Ќо ни один из народов не имеет права насаждать свою веру другому. ’ристиане говор€т: Ђ»исус Ц сын божийї. ћы говорим: ј∆ƒџ… русич-родновер Ц потомок Ѕогов. –усичи издревле именовались внуками ƒаждьбога. ¬ Ђ—лове о полку »горевеї они также названы внуками ƒаждьбожьими.
Ќаука и прогресс
языческий путь познани€ мира близок к научному. язычество базируетс€ на понимании законов природы и психики человека, оно оперирует общими космическими и природными законами, в их единстве и многообразии. Ќаука работает на грани света и тьмы, познава€ новое. языческие волхвы тоже сто€т на границе познанного в своем поиске духовных начал ћироздани€. язычество Ц открыта€ к непознанному миру система духовных знаний. Ёто полное мироощущение, вплоть до мелких переживаний цвета, вкуса и звука. Ёто целостное миропонимание, материалистичное по сути своей и в то же врем€ несравненно более духовное, чем христианство. ’ристианство ввело концепцию Ђнедозволенного знани€ї и давило науки более тыс€чи лет. ѕод его чарами ученые относ€тс€ к нашему миру как Ђвременщикиї на пути в Ђлучшийї мир. ќбъект поклонени€ (ЂЅогаї) они вынесли за пределы Ђтварногої мира и поместили на гипотетическом Ђнебеї. ѕо мере осознани€ собственной созидательной силы, они вынесли и человека-творца (назвав его Ђсубъектомї) за пределы мира (назвав его Ђобъектомї). ¬ этом надменном Ђмировоззренииї отсутствует почитание мира как материнской среды.
язычество не исчерпываетс€ ни наукой, ни религией. язычество подразумевает, что объективна€ истина существует, и она достижима, но ее невозможно пон€ть лишь с одной-единственной точки зрени€. ¬ основе €зыческого Ђмиропонимани€ї лежат одновременно страсть к познанию мира, осознание права на познание и осознание ответственности познающего. языческое познание в первую очередь нацелено на развитие интеллектуального и духовного потенциала конкретного человека. ћир не раздел€етс€ на объективный (материю) и субъективный (сознание). ¬с€ матери€, все силы мироздани€ Ц по-своему разумны, и разум Ц материален. ƒуша присутствует во всех €влени€х природы. Ќасколько каждый конкретный человек чувствует эту духовность мира и может ее использовать Ц зависит от степени его развити€. —егодн€ шаманы, волхвы и другие Ђпосв€щЄнныеї высме€ны и оттеснены христианством и официальной наукой, но они никуда не исчезли, и сохран€ют из поколени€ в поколение “радицию, приумножа€ накопленное знание.
ѕсихоанализ и так называема€ Ђнетрадиционна€ї медицина берут свои истоки в €зыческой “радиции: нейро-лингвистический подход (маги€), шаманистика (€зыческие шаманские техники), натуротерапи€ (исцеление созерцанием природы), этно-терапи€ (оздоровление через участие в обр€дах). јзы современной философии, математики, механики созданы €зыческой традицией античности.
Ќаука занимаетс€ познанием мира. языческа€ слав€нска€ “радици€ Ч это путь познани€ мира, который есть –од. ћир находитс€ в посто€нном движении, в нем нет места статичным религиозным догмам. Ћюбые догмы могут существовать лишь до того момента, пока они не вход€т в конфликт с законами мироздани€.
язычество Ч вера свободных людей. ¬с€кий личный духовный опыт Ц по-своему интересен и важен, так как проистекает из духовной —вободы человека. ÷ерковность ужимает рамки этой —вободы. ¬ язычестве человек Ч самосто€тельный инструмент дл€ изучени€ мира, язычество развивает самого человека, а не его инструментарий. ритерием полноты жизни €зычника €вл€етс€ ежедневна€ духовна€ практика. «а счет следовани€ этой практике возможно достижение человеком уровн€ Ѕога.
Ќаука сегодн€ подошла к такому пределу, когда посто€нные открыти€ стали нормой ее быта. ќткрываютс€ новые и новые звезды, химические соединени€, создаютс€ все более Ђсовременныеї материалы, достигаютс€ все новые и новые частоты процессоров.Е Ќо количественный рост никак не может перейти в новое качество, потому что современна€ наука бездуховна. ¬ науке человек Ч это придаток приборов.
язычник читает книгу ѕрироды, не выдумыва€ особого €зыка, по методу аналогий (знамени€, приметы, суевери€); ученый пытаетс€ ее прочитать на €зыке лаборатории. ќбщение ученого с ѕриродой подобно разговору надзирател€ с подследственным, к которому подключают ток, чтобы добитьс€ признаний, а получают крики боли. ƒл€ €зычника общение с ѕриродой, живыми сущност€ми и ћировыми —илами Ч это равный разговор.
∆изнь по –одовому »скону (“радиции) способствует здоровому развитию человечества. ¬место экстенсивного механического Ђпрогрессаї люди обретают мудрость, учатс€ разумно и бережно относитьс€ к своей живой планете, чтобы вернуть себ€ в равновесие с природным миром.
языческа€ община и личность
»сторически общины складывались потому, что вместе легче выжить. ¬ древности родова€ община объедин€ла, прежде всего, сородичей, проживающих в непосредственной близости друг от друга и ведущих единое общинное хоз€йство.
—егодн€ в прежнем смысле родова€ община невозможна: людей стало много больше, и мир существенно изменилс€. –астут города, современный мир диктует нам иные способы ведени€ хоз€йства, зачастую весьма далЄкие от древних.
—овременные общины стро€тс€ на почве общности мировоззрени€ людей. язычники ищут новые формы самовыражени€, как личного, так и общинного. ќбщина подразумевает соучастие и взаимовыручку, интеллектуальное общение. ѕоэтому она должна основыватьс€ на принципах духовного единства и совместного воспитани€ детей, решени€ задач физического и духовного выживани€ и совершенствовани€.
«аконы общины основываютс€ на принципе так называемого упного права (Ђкупаї Ц по-украински Ђобщина, объединениеї). –ешение на совете общины принимаетс€ не большинством голосов, а полным (абсолютным) голосом. ≈сли решение не принимаетс€ всеми Ч значит это слабое решение, и до ƒобра оно не доведет. Ќесогласные должны обосновывать свое несогласие, и предлагать альтернативу. ≈сли с решением согласны ¬—≈, то ¬—≈ћ это решение и исполн€ть. «а саму идею отвечает тот, кому она пришла в голову, а за ее реализацию - все, кто вз€лс€ ее реализовывать.
—тепень подчинени€ личности общине определ€етс€ самой общиной. –азные общины придерживаютс€ разных взгл€дов на этот счЄт. ¬оинские общины (ƒружины) отличаютс€ более высоким уровнем дисциплины и подчинени€ личности обществу, нежели другие современные родноверческие объединени€.
ћногие €зычники не принадлежат ни к одной из общин. Ќо выбор одиночки хорош дл€ начала или конца ѕути. »дущие по ѕути язычества осознают идентичность человека своему –оду. аждый человек имеет уникальное призвание в общем потоке жизни своего народа. —овсем другое Ц эго, индивидуалистический нравственный принцип, нав€зываемый нам, в первую очередь, американским обществом, этой Ђсовокупностью индивидуалистовї, где каждый сам за себ€ Ц сухой лист, Ђсвободної лет€щий по ветру, сорвавшись с родной ветки, своего места на ƒреве ∆изни.
—егодн€ €зыческие общины во всех регионах –оссии ведут разнообразную де€тельность, но все они преследуют как минимум одну общую цель: распространение правдивой информации среди русского народа Ц о Ќј—“ќяў≈… истории его происхождени€, об его »— ќЌЌќ… вере, культуре и традици€х, об »—“»ЌЌџ’ причинах происход€щих в сегодн€шней –оссии деструктивных процессов. «апрещение этой де€тельности любым, пусть даже и законодательным путем Ц это действи€, ¬–ј∆ƒ≈ЅЌџ≈ по отношению к народу, русским, –оссии и их будущему.
’ристианство и –усска€ “радици€ в Ђмногонациональном государствеї
Ќаши предки были €зычниками. ’ристианами их сделали насильственно. «аповеди христианства не €вл€ютс€ первоначальным и единственным источником добродетели! ¬ основе них лежат древние €зыческие истины, которые были заимствованы и во многих случа€х извращены христианской моралью. ћежду тем, заповеди язычества Ц это истины, свойственные любому психически нормальному человеку. ѕринципы Ђсоборностиї, Ђвсемирностиї Ц это отражение исконных идей русского народа.
”дивительно, но сегодн€ мы, русские, коренной народ –оссии, народ, имеющий полное право на признание его исключительной ценности дл€ этой страны, в этой самой стране «ј ќЌќƒј“≈Ћ№Ќќ лишены такого права. ћы не можем высказыватьс€ ¬—Ћ”’ о том, что русские в –оссии Ц главный народ. ћы, русские, у себ€ в стране не можем сказать ¬—Ћ”’, что русские в –оссии Ц лучший народ! ј ведь русские дл€ себ€, русских, Ц действительно Ћ”„Ў»≈! » не надо бо€тьс€ этого слова! ћы согласны, что все прочие народы тоже по-своему хороши, и пусть они €вл€ютс€ лучшими и привилегированными народами в собственных странах и автономи€х (как оно и есть на самом деле), ну а мы должны быть лучшим и привилегированным народом в –оссии! ѕочему мы не имеем такого права, кто нам это сегодн€ запрещает?!!
» кто же мы такие вообще, –усские? ј русским человеком €вл€етс€ ни много ни мало Ц любой человек, в жилах которого течет русска€ кровь, и который сам, в силу своего происхождени€, €зыка, культуры, менталитета, образа жизни, характера по праву считает себ€ русским. –усский человек говорит на русском €зыке, он воспринимает и осмысливает мир не так, как это делают другие народы. ” русского человека сво€, –усска€ ¬ера, и он хранит и развивает эту веру предков: не евреев, не греков, не монголов Ц наших, русских, предков.
Ќа прот€жении тыс€чи лет на –уси не €зычники громили христианские церкви, но христиане уничтожали €зыческие капища и другие наши св€тыни. —амо по себе язычество не Ђпротивї и не Ђзаї христианство. ћы, русские-€зычники, спрашиваем: по какому праву иудейско-византийска€ Ђдуховностьї с еЄ почитанием иудейского племенного бога яхве и сына его »исуса нав€зываетс€ русскому народу в качестве »сконной –”—— ќ…? ѕо какому праву адепты насажденной на –уси чужой религии присваивают наши русские ценности: символы и названи€ Ц наших праздников и самой нашей ѕравославной веры, Ц культуру и письменность, достижени€ и победы русского народа? — какой стати мы и наши сородичи, русские по рови и по ƒуху, должны осмысливать своЄ ƒуховное Ќебо в терминах чуждых нам традиций других народов Ц еврейского, греческого и т.д.?
1. „то такое Ђязычествої.
2. „ем живут €зычники.
3. Ќасколько применимы €зыческие пон€ти€ к современности.
4. „то такое €зыческа€ община и каков характер ее практической де€тельности.
„то такое язычество
—лово Ђ€зычествої происходит от слова Ђ€зыкї Ц Ђнародї. Ёто слово по€вилось у нас более тыс€чи лет назад, и вовсе не в св€зи с христианизацией –уси. “ак же, как и название Ђправославиеї, вероломно присвоенное христианской церковью в 17-м веке: наши русские предки Ђславили правьї, т.е. правду, правильный ѕуть Ц и поэтому ѕравославие Ц это исконна€ русска€ €зыческа€ вера.
—егодн€ нам приходитс€ избавл€тьс€ от негативного оттенка слова Ђ€зычествої, который нав€зывает христианство. язычество Ц это народна€ вера (исторически Ц вера народа, в противовес вере кн€зей, которые прин€ли чужеродную византийскую религию и силой пытались обратить в нее народ). ћы Ц народ, и поэтому мы Ц язычники. ћы все рождаемс€ €зычниками и лишь потом, в течение жизни, Ђнакладываемї на себ€ религиозные, идеологические и прочие личиныЕ языческа€ вера нашего народа Ц в русских богов Ц называетс€ –одноверием (в ее основе лежит пон€тие Ђ–одї, см. ниже).
≈вропейские €зычники называют себ€ паганистами (в латинском €зыке €зыческа€ вера называетс€ Ђпаганизмомї, от слова Ђпаганусї Ц землепашец). ќтсюда произошло слово Ђпоганыйї, которое за тыс€чу лет Ђприобрелої бранный смысл. ѕод давлением христианства изменили смысл многие русские слова: например, слово Ђкощунствоватьї. »здревле, кощунником звали того, кто исполн€л св€щенные гимны и сказывал предани€, т.е. кощунствовал.
языческа€ вера Ц это вера простого народа, который естественным образом приближен к земле. Ёто такое волшебное знание, которое может умереть только вместе с народом. ѕока народ способен жить, и осознает себ€ на своей земле наследником предшествующих поколений Ц жива и его традици€.
ѕод термином Ђ“радици€ї подразумеваетс€ высокоразвита€ философско-этическа€ система. язычество Ц это традиционна€ народна€ культура, –одова€ система верований, комплекс мировоззрений, направленных на гармоничное развитие человека в ѕрироде, приобретение им необходимых способностей на благо своего рода-племени. »менно этого не хватает современному обществу, отравленному наплевательским отношением к организму планеты и собственному организму.
язычество Ц это система, соедин€юща€ все традиционные знани€ наших предков, котора€ с ходом времени естественным образом развиваетс€, пронизыва€ все сферы жизнеде€тельности общества.
¬думайтесь в основной принцип язычества, коренным образом отличающий его от самоуничижительного, страдальческого, раболепного христианства: язычество дает человеку –адость к ∆изни!
¬озрождение “радиции
¬озрождать Ц это не значит Ђвозвращатьс€ї. ¬сЄ хорошо к своему времени. ¬ процессе ¬озрождени€ неизбежно по€вл€етс€ творчество. » это хорошо. языческа€ “радици€ наиболее гармонична дл€ свободного человека, потому что дает ему возможность “ворить. »стинна€ суть любого обр€да не в том, чтобы слепо воспроизводить какие-то действи€: прежде всего, нужно проникнутьс€ их смыслом. » если в точности их воспроизвести невозможно, то можно и нужно искать, как сделать лучше. аждый человек берет из “радиции что-то близкое лично себе и создает собственную традицию Ц традицию семьи и рода, опира€сь на чувство гармонии со своей землей и народом. ќкостеневша€ традици€ Ц это догма.
¬озрождать “радицию Ц не на ворованные деньги всем миром церкви строить. ∆ива€ “радици€ Ц это когда матери не бросают детей в роддомах, и не делают аборты из-за того, что не в состо€нии воспитать ребенка. “радици€ Ц это когда мужчина может прокормить и защитить семью, и государство Ц помогает ему в этом, а не отправл€ет воровать. ¬ языческой “радиции речь идет о том, чтобы люди осознали свое место в мире, научились в нем жить и творить.
язычество Ц это не жизнь Ђвчерашним днемї, это €вление надвременное, и в каждую историческую эпоху оно приобретает свои неповторимые формы. Ќелепо дл€ современных людей следовать формам духовности аменного ¬ека. ћы Ц живые люди с живыми духовными потребност€ми, свойственными нашему времени.
—овременные €зычники не реанимируют то, что умерло, а вывод€т на первый план всЄ, что сохранил народ, что €вл€етс€ неотъемлемой частью его культуры и сознани€. ¬осстанавлива€ обр€ды и праздники, мы исходим из того, что обр€довые и праздничные действи€ всегда стро€тс€ на культурных и психологических законах, имеющих местные, пусть даже случайные особенности.
язычество Ц это естественна€ ƒуховность, свойственна€ человеку от рождени€. язычество берЄт своЄ начало в самой ѕрироде и в –одовой ѕам€ти народа, а не основываетс€ исключительно на частном мнении некоего Ђпророкаї. ¬ разные исторические эпохи язычество может принимать различные формы, сохран€€ при этом свою изначальную духовную суть. Ќекоторые формы с течением времени естественным образом отмирают, чтобы освободить место новым, и это не означает смерти язычества и “радиции. Ќаоборот: способность самообновл€тьс€ есть признак ∆»¬ќ√ќ существа. язычество Ц это ∆ива€ ƒуховность, а не слепа€ реконструкци€ древнего быта. Ќам нынешним незачем стремитьс€ жить укладом тыс€челетней давности. ћы должны найти свой собственный ѕуть. Ёто путь ѕреемственности, а не возврат назадЕ
—амое главное Ц восстановить наиболее глубокие, жизнетворные идеи, передаваемые из поколени€ в поколение. —амое главное Ц найти истинный дл€ русского народа ѕуть, и идти по нему ƒјЋ№Ў≈.
»сточники «нани€
ƒалеко не все «нани€ наших предков утер€ны. Ќикаким завоевател€м и Ђкрестител€мї не под силу уничтожить этот невыразимый словами –усский ƒух Ц дух вечно юного язычестваЕ
Ќародна€ культура сохранила и донесла до нас богатое фольклорное наследие наших предков (в виде песен, сказок, заговоров и т.д.), а традиционный кресть€нский быт сохранил символику вышивок и резьбы по дереву, также заключающую в себе древний €зыческий смысл.
ƒаже христианство на –уси настолько впитало в себ€ €зыческую символику и обр€дность наших предков, что еврейска€ и греческа€ составл€ющие постепенно отошли в нЄм на второй план.
язычество не предполагает абсолютного знани€, поскольку абсолютного знани€ не существует.
ћы, язычники, имеем достоверное «нание, потому что мы знаем, что делаем. Ќаш ѕуть Ц осознанный. –азумное отношение к жизни и живому миру, частью которого ты €вл€ешьс€, никогда не станет Ђпережитком прошлогої. “радиции разума и совести не нуждаютс€ в доказательстве их достоверности. »меет ли женщина достоверное знание о традиции рождени€ ребенка? »меет ли мужчина достоверное знание о традиции защиты семьи?
“радици€ Ц это ѕам€ть и ∆изнь. ¬ ѕрироде, в истории нашего народа мы черпаем св€щенную воду знаний о «емле нашей и –одных ЅогахЕ
Ќаша “радици€
Ќаша “радици€ заключаетс€ в том, что Ѕогов много. »х столько, сколько разнообрази€ в мире, и каждый Ѕог силен по-своему. ак летит птичий клин? Ќа каждом участке пути его ведет та птица, котора€ знает этот участок лучше всех. », провед€ стаю ведомым ему путем, вожак уступает место следующему проводнику, а сам пристраиваетс€ в хвост и становитс€ ведомым.
“ирани€ Ц это не наша традици€.
ќлигархи€ Ц это не наша традици€.
ƒемократи€ Ц это не наша традици€.
Ќаша традици€ Ц выборный кн€зь, который избираетс€ народным ¬ече за свою провозглашенную ѕравь, и кн€жит до тех пор, пока воплощает ее, а затем уходит.
ћы верим в разумные ћировые —илы, именуем их Ѕогами, и стараемс€ встать на их уровень.
¬от основные принципы нашей “радиционной культуры:
ћир живой, он испытывает радость и боль. ћы Ц неотъемлема€ часть этого ћира.
ћы, люди, Ц как Ѕоги, мы подобны Ѕогам и равны им.
ѕравда выше милосерди€, выше добра и зла. ќна делает человека сильным и неу€звимым духовно.
Ќе религи€
„то бы ни говорили нам всевозможные словари о происхождении и значении слова Ђрелиги€ї, в конечном счете –елиги€ Ц это всегда управленческа€ иде€, формирующа€ социальный институт (церковь), использующий ¬еру и другие человеческие ценности в своих корыстных цел€х. ¬ этом смысле язычество Ц это не религи€, напротив, это Ц всЄ кроме религии. язычество Ц это ¬ера, «нание и ‘илософи€. –усское язычество Ц это образ жизни, мысли и действи€ в согласии с русскими Ѕогами.
Ћюбое ”чение в своем развитии обычно проходит следующие этапы:
гипотезы Ц свободные дл€ внутренней и внешней критики по отношению к автору.
теории Ц свободные дл€ внешней критики.
догмы Ц не свободные дл€ критики.
¬начале по€вл€ютс€ ”чител€ Ц люди, которые прикоснулись к источнику св€щенного знани€ и наполнили им свое сердце. ќни выдвигают √ипотезу. »х правота Ц только в личном авторитете и силе убеждени€. ћногие учени€ умирают еще на этой стадии. Ќо если этого не произошло, то у ”чителей по€вл€ютс€ ”ченики. ѕроход€т годы, умирают учител€ и первые ученики. ѕо€вл€ютс€ первые сомнени€ в словах ”чител€. ”чение на этом этапе требует мощной теоретической базы.
ѕоследователи ”чени€ активно вступают в споры и доказывают, доказываютЕ ƒовод€ свое искусство до совершенства, они фиксируют его и передают ученикам. ќбъем книг и трактатов растет. —амые лучшие из них вытесн€ют остальные, более слабые и неубедительные. √де-то на этом этапе происходит раскол в ”чении. ¬се больше людей сомневаютс€, несмотр€ на старани€ книжников. ј они снова и снова повтор€ют древние истины, не понима€ уже их смысла. «амысел ”чителей тер€етс€ среди миллионов знаков и слов. нижники тер€ют терпение и былую сноровку. ѕриходит очередь догмЕ
огда слова бессильны, настает врем€ сильной руки. ѕылают костры, смерть и унижение Ц каждому, кто выскажет вслух свое сомнение. »менно на этом этапе ”чение называют религией. ¬ этом состо€нии оно может находитьс€ неограниченно долго, но ”чением уже никогда не будет. Ћишь новые ”чител€ могут оживить эту пересохшую лужу догм, бывшую когда-то великолепным фонтаном ”чени€.
ѕоэтому нельз€ довер€ть свое знание только книгам и наполн€ть душу одним лишь книжным знанием. Ќичто не истинно ¬≈„Ќќ Ц вот в чем вечна€ истина! ќсмысливать все, что слышишь, а что не в силах услышать Ц чувствовать сердцем: именно эти принципы позвол€ют язычеству жить тыс€чи лет среди всевозможных религий и сект. —амые жаркие костры не могут выжечь в нем т€гу к ”чению.
нига Ц мудрый источник знани€, но насто€ща€ сила язычества Ц в люд€х, а не в книгах. огда €зычники-ученики постепенно сами станов€тс€ ”чител€ми, несущими не догму, а «нание, - это поистине врем€ свободного человека!
¬ язычестве, в отличие от религии, нет жЄсткого свода догматов и предписаний, и это позвол€ет каждому €зычнику верить и ведать по велению —ердца и мере собственного разумени€Е аждый человек имеет право на самосто€тельное, ничем не ограниченное постижение духовности ћироздани€, во всей многоликости ее про€влени€.
ћы воспринимаем наших Ѕогов от рождени€, напр€мую, дл€ этого нам не нужны церкви. Ѕоги сто€т за всеми €влени€ми ѕрироды. ќни здесь, с нами, в этом мире. ѕотому «емной ћир св€т и вечен, Ћюди живут в храме Ѕогов.
язычество возлагает на человека большую ответственность. „то и почему должен делать человек на «емле, в чем смысл земной жизни Ц ответы на эти вопросы дает наша вера. ¬ них заключаетс€ вс€ философи€ жизни. Ѕудущее «емли определ€етс€ людьми. ћы отвечаем за экологическую сохранность нашего мира. ћы отвечаем за жизнь своих потомков. ћы Ц потомки Ѕогов, и прекращение нашего рода равносильно смерти Ѕогов.
язычество начинаетс€ с непосредственного ѕ≈–≈∆»¬јЌ»я ∆изни. ќно даЄт человеку возможность преодолеть отчуждЄнность от окружающего мира, которую породила современна€ бездуховна€ Ђтехнократическа€ цивилизаци€ї. “от, кто хочет постичь духовную суть язычества Ц слушает своЄ сердце и природуЕ язычество Ц это не ограничение и канон, а стремление достичь наивысшей гармонии с ѕриродой.
языческа€ ¬ера
ќсновной принцип ¬еры в языческой “радиции Ц в том, что ее следует св€зывать не со словом Ђверитьї в привычном (христианском) значении, а со словом Ђверныйї. языческа€ ¬ера не отрицает сомнений и множественных толкований, она отличаетс€ большой ролью интуиции и жреческого (волховского) искусства.
—лепа€ вера Ц не дл€ ¬едающих («нающих). языческа€ ¬ера Ц это ¬ерность и ƒоверие, без которого мы не сможем двигатьс€ вперЄд по пути ¬едани€. ƒоверие Ц первый шаг на пути свободного ученичества, это открытость, непосредственность и чистота воспри€ти€.
ћы, €зычники, не просто ¬ерим. ћы храним мир, магию, обр€ды, мудрость наших предков, и именно она помогает нам жить в мире с природой.
—овременное слав€нское –одноверие Ц это, прежде всего, вера в единого (старшего) бога –ода. ѕричем –од как бог Ц это не какое-нибудь Ђсверхсуществої, –од понимаетс€ в единстве трЄх составл€ющих: –од как —ам (–од ¬се-—ущий, всепроникающее духовное начало), –од Ќебесный (сила ѕредков) и –од «емной (совокупность сородичей).
ћладшие –одные Ѕоги Ц это лики единого –ода, его “ворческие —илы, постигаемые нами в личном духовном опыте. Ёти —илы про€влены как в окружающей природе, так и в нас самих (например, —ила ѕеруна в природе Ц √роза, а в человеческом сердце Ц это ¬ол€ к ѕреодолению). „ерез славление Ѕогов мы воссоедин€ем всЄ внутреннее и внешнее, и обретаем ƒуховный Ћад: душевную целостность и телесное здравие.
—ердце учит нас любви. –азум учит нас справедливости. Ќаша вол€ ведЄт нас стезЄю ѕрави. ¬ысша€ мудрость обретаетс€ через Ћад. Ѕыть в Ћаду с собой, с –одными Ѕогами, с ѕриродой, с сородичами Ц значит найти своЄ место в жизни, найти подлинного —≈ЅяЕ
»сконные, €зыческие принципы, св€зывающие людей с Ѕогами, старше всех религий. » один из них Ц жить по совести, данной нам Ѕогами, ѕриродой, ѕредками, –одител€ми и ќбществом. ≈сли кривить душой и поступать против совести, душа черствеет, и голос природы, голос Ѕогов перестает быть слышен человеку.
¬ основе €зыческой ¬еры лежит —овесть. ∆ить по совести Ц значит Ђжить по правдеї. ѕока жива правда в сердцах людей Ц будет жить этот мир. —овесть Ц важнейша€ часть души, и критерий гармонии наших поступков с нашими Ѕогами и с окружением.
ћы видим Ќебо над головой. ћы видим —олнце, дающее нам свет. Ќас держит и кормит наша ћать Ц —ыра-«емл€. ќт них приходит к нам свет, вол€ и пища. ћы почитаем их, как первых наших дарителей и хранителей.
Ќам дано все, что нам требуетс€. „еловек Ц часть ћироздани€, у него есть свое место в ћироздании, и право на это место. „еловек не должен брать больше. Ёто приводит к нарушению мировых процессов. Ќо человек не должен быть и обездоленным. ≈сли он чувствует, что обездолен, и не может ничем себе помочь, он может обратитьс€ к Ѕогам с просьбой, и от них должна прийти помощь. “ак устроен ћир.
‘илософи€ язычества
ћир познаваем. ћир населен богами и духами, с которыми человек посто€нно взаимодействует. ¬се вещи во ¬селенной €вл€ютс€ живыми (личност€ми). Ќаблюдение и размышление Ц основные методы €зыческого познани€ мира.
“ри основных пон€ти€ в €зыческой “радиции Ц это явь, Ќавь и ѕравь (явленное, Ќе€вленное и ѕравильное), хот€ у разных народов они нос€т разные имена. »х сочетание мы называем “риглавом.
явь Ц это “езис. Ёто стремление различить всЄ тайное и сделать его доступным, даже вопреки «амыслу. Ёто мир де€тельности, созидание всего нового, и т€га к будущему. Ёто стремление изменить ¬селенную, и стремление ¬селенной изменить себ€. Ёто все младые €рые —илы пробуждени€ ѕрироды. явь Ц это безогл€дное стремление ∆ить во что бы то ни стало, и животна€ т€га к продолжению рода. Ёто поиск —илы вне себ€, страстность, активность, действенность. явь Ц это стихи€ Ѕелого бога; таковыми у слав€н €вл€ютс€, например, —вентовит, –адегаст или ƒаждьбог.
Ќавь Ц это јнтитезис. Ёто тенденци€ обратить €вный мир в не€вный, неразличимый, скрыть до поры до времени то, что не должно быть раскрыто по «амыслу ныне. Ёто стремление ¬селенной сохранить свои тайны, и одновременное стремление ¬селенной и „еловека взаимно познать друг друга. Ёто все консервативные процессы, в том числе и пам€ть. Ёто т€га к прошлому, обращение живой материи в мертвую, но в то же врем€ и процесс подготовки мертвой материи к новому рождению. Ёто все ћировые —илы, умиротвор€ющие природу. ¬стреча с Ќавью Ц это проверка на силу и обоснованность претензий на нечто сверх обычного. »менно волхв (маг) ближе всего подходит к Ќепознанному. Ќавь Ц это практика получени€ —илы через разрушение, поиск —илы в себе. ќдин сам пригвождает себ€ к ћировому древу, ради «нани€, Ўива-ћахаиогина сам погружает себ€ в тыс€челетнюю медитациюЕ Ќавь Ц это стихи€ „ерного бога, властител€ магии, у слав€н его зовут ¬елесом.
ѕравь Ц это —интезис, то, что между Ќавью и явью. Ёто треть€ фундаментальна€ —ила, задача которой Ц сделать мир правильным. Ёто закон космоса и бога-творца, об€зательный дл€ него самого, дл€ людей и дл€ всего —ущего. ѕравь не соотноситс€ ни с одним из миров, она стоит над ними. ѕравь Ц тот идеал, к которому можно вечно стремитьс€, никогда его не достигнув. ѕравь дает силу идти на смерть ради чести и правды. —ледование ѕрави поднимает человека до уровн€ Ѕога, дает ему ощущение спокойной силы и уверенности. ќднако необдуманное следование ѕрави с отсутствием в душе яви и Ќави, может привести к смещению мыслей и чувств, и в результате может по€витьс€ фанатик, отошедший от ѕрави, но за неЄ безумно сражающийс€. ќлицетворением ѕрави у слав€н €вл€ютс€ —трибог, —варог, ѕерун.
языческие Ѕоги
язычники, почита€ ѕервого из Ѕогов (–ода), признают Ѕогами и его многочисленные стороны. Ёти Ѕоги про€вл€ют себ€ как ћировые —илы, неизменные сущности, сохран€ющие ћироздание в равновесии. Ѕожественные сущности оказывают вли€ние на сознание человека, внушают мысли, побуждают к действи€м, сообщают знание. Ёто приходит к человеку обычно в результате обр€довой практики, и ощущаетс€ как благо или дар. Ѕоги про€вл€ютс€ и как особые €влени€ природы или событи€, имеющие пон€тный знаковый смысл, через образы и идеи. Ќепри€тные эмоции, заболевани€ и конфликты в результате проведенных обр€дов тоже надо понимать как про€вление Ѕогов Ц но только противоположное, означающее, что человек что-то неправильно делает или неправильно мыслит.
Ѕогов очень много, и про€влений у них Ц бесчисленное множество. Ћюбой аспект ћира есть про€вление тех или иных Ѕогов или других существ. ѕорою €зычники называли Ѕогами и своих выдающихс€ предков (скифский “аргитай, греческие √еракл, ƒиоскуры, ƒионис, германские ќдин, ‘рейр, ЌьЄрд, ‘рей€, слав€нские —варог и ƒаждьбог). ѕомимо доброжелательных к человеку божеств, есть и недоброжелательные —илы. »х про€влени€ могут носить негативный характер. языческа€ вера учит, как поступать, чтобы не попадать под вли€ние таких —ил.
¬ основе слав€нской веры лежит принцип единства в многообразии. ѕерун, ¬елес, ћакошь Ц всЄ это сути единого –ода, и в этом нет противоречи€. —колько один человек испытывает противоречивых чувств за день? Ёмоции пытаютс€ вз€ть верх над разумом, а расчетливый разум Ц над эмоци€ми. –одные Ѕоги Ц это разные лики единого все-Ѕога –ода. ќни Ц наши вышние ѕрародители, —таршие в нашем –оду, ѕредки наших ѕредков. ќни Ц —илы матери-природы, они же Ц неотъемлемые составл€ющие души человека, и наделены разными личностными качествами. “аким образом, –одноверие одновременно включает в себ€ единобожие (единый все-Ѕог –од) и многобожие (родные Ѕоги Ц лики –ода) Ц без вс€кого внутреннего противоречи€.
‘ундаментальными философскими пон€ти€ми слав€нского язычества €вл€ютс€ следующие божественные сущности:
–од (бытие) Ц единое, всерождающее и всенаполн€ющее начало, всЄ сущее, все сами существующие субъекты.
Ѕелобог и „ернобог Ц два первейших лика –ода, олицетвор€ющие собой явь и Ќавь, ƒень и Ќочь, —вет и “ьму, —озидание и –азрушение, –ождение и ”мирание, и т.д.
—варог (закон, мораль) Ц первый закон, описывающий замысел –ода. ѕравила движени€ по пут€м ћакоши. —варог Ц бог небес, держатель ѕрави, прародитель светлых богов-—варожичей: ƒаждьбога, чей щит Ц само —олнце расное; ѕеруна-√ромовержца, покровител€ воинов, оберегающего явь от нежити Ќави; и јгуни —варожича Ц ќгн€ «емного.
ћакошь (причинность) Ц судьба, возможные пути развити€ –ода.
ѕерун (сила) Ц активное воплощение –ода, сила, порождающа€ любое движение.
¬елес (знание) Ц мудрость –ода, энерги€ созидани€ и познани€. ѕассивное начало, фундамент дл€ ѕеруна.
∆ива и ћара Ц ∆изнь и —мерть, ¬ода ∆ива€ и ¬ода ћЄртва€.
ƒеление богов на —ветлых и “емных Ц это исключительно христианска€, неверна€ позици€. —вет и “ьма, которым однозначно соответствуют только Ѕелобог и „ернобог, в различных пропорци€х присутствуют в характере всех остальных Ѕогов. —овершенно неверно ассоциировать метафизические пон€ти€ —вет/“ьма, ѕор€док/’аос с оценочными пон€ти€ми ’орошо/ѕлохо. ¬о ¬селенной не существует абсолютного ƒобра и «ла.
√одовое оло (солнечный круг, календарь) показывает нам природную последовательность творческих де€ний родных Ѕогов во ¬семирии. “е же самые Ѕожественные —илы действуют и внутри нас. —лав€ родных Ѕогов на прот€жении всего круга годовых праздников, мы тем самым Ђправимї, Ђдостраиваемї себ€ до состо€ни€ внутреннего единства. “ак, например, с весенним пробуждением ѕрироды св€заны ярило-¬есень и ƒева-Ћел€, с летним расцветом Ц ƒаждьбог и Ћада, с осенней порой урожаев Ц ¬елес и ћакошь, с зимним омертвением Ц ощный Ѕог и ћара-ћорена.
–авноправие с Ѕогами
¬место пон€ти€ Ђверховный богї в слав€нском язычестве есть пон€ти€ Ђпервопричинаї и Ђ–одителиї Ц это –од-–ожаница. ѕервородную ћировую —илу наши предки арии именовали –удра, слав€не называли ее Ц –од, а все, что при –оде Ц именовали ѕриродой. –од Ц не хоз€ин ¬селенной, он сам и есть ¬селенна€. ¬сЄ сущее Ц из-–одно, –од Ц это всЄ вместе, но не что-либо, вз€тое в отдельности. –од как —ам Ц выше времени, пространства и вс€кого становлени€. Ќо и врем€, и пространство, и все движени€ во ¬семирии Ц берут свой исток в нЄм одном.
–од Ц это Ќј–ќƒ, –ќƒ»Ќј, ѕ–»–ќƒј. ¬сЄ то, что мы любим, ценим и должны защищать.
Ѕоги (—илы) Ц это наши помощники и соратники. —варог Ц отец, ћакошь Ц мать. —варожичи, ƒыевичи, Ѕоги ѕрави и —лави Ц это всЄ уровни —ил в их взаимодействии во ¬селенной –ода-–ожаницы.
¬ разные исторические эпохи у €зычников мира правили разные Ѕоги, во главе пантеона вставала та или ина€ —ила ћира. Ќужно было создавать государство, оборон€тьс€ или нападать Ц правили Ѕоги войны, нужно было осваивать землю Ц боги земледели€Е ” древних германцев Ђвысшимї Ѕогом сперва выступал “иу (“юр), потом его сменил “ор, потом, наконец, утвердилс€ ќдин. ” слав€н правление —варога сменилось царствием ƒаждьбога... и т.д.
Ћюбой народ имеет право на почитание своих Ѕогов и ѕредков. Ќо ни один из народов не имеет права насаждать свою веру другому. ’ристиане говор€т: Ђ»исус Ц сын божийї. ћы говорим: ј∆ƒџ… русич-родновер Ц потомок Ѕогов. –усичи издревле именовались внуками ƒаждьбога. ¬ Ђ—лове о полку »горевеї они также названы внуками ƒаждьбожьими.
Ќаука и прогресс
языческий путь познани€ мира близок к научному. язычество базируетс€ на понимании законов природы и психики человека, оно оперирует общими космическими и природными законами, в их единстве и многообразии. Ќаука работает на грани света и тьмы, познава€ новое. языческие волхвы тоже сто€т на границе познанного в своем поиске духовных начал ћироздани€. язычество Ц открыта€ к непознанному миру система духовных знаний. Ёто полное мироощущение, вплоть до мелких переживаний цвета, вкуса и звука. Ёто целостное миропонимание, материалистичное по сути своей и в то же врем€ несравненно более духовное, чем христианство. ’ристианство ввело концепцию Ђнедозволенного знани€ї и давило науки более тыс€чи лет. ѕод его чарами ученые относ€тс€ к нашему миру как Ђвременщикиї на пути в Ђлучшийї мир. ќбъект поклонени€ (ЂЅогаї) они вынесли за пределы Ђтварногої мира и поместили на гипотетическом Ђнебеї. ѕо мере осознани€ собственной созидательной силы, они вынесли и человека-творца (назвав его Ђсубъектомї) за пределы мира (назвав его Ђобъектомї). ¬ этом надменном Ђмировоззренииї отсутствует почитание мира как материнской среды.
язычество не исчерпываетс€ ни наукой, ни религией. язычество подразумевает, что объективна€ истина существует, и она достижима, но ее невозможно пон€ть лишь с одной-единственной точки зрени€. ¬ основе €зыческого Ђмиропонимани€ї лежат одновременно страсть к познанию мира, осознание права на познание и осознание ответственности познающего. языческое познание в первую очередь нацелено на развитие интеллектуального и духовного потенциала конкретного человека. ћир не раздел€етс€ на объективный (материю) и субъективный (сознание). ¬с€ матери€, все силы мироздани€ Ц по-своему разумны, и разум Ц материален. ƒуша присутствует во всех €влени€х природы. Ќасколько каждый конкретный человек чувствует эту духовность мира и может ее использовать Ц зависит от степени его развити€. —егодн€ шаманы, волхвы и другие Ђпосв€щЄнныеї высме€ны и оттеснены христианством и официальной наукой, но они никуда не исчезли, и сохран€ют из поколени€ в поколение “радицию, приумножа€ накопленное знание.
ѕсихоанализ и так называема€ Ђнетрадиционна€ї медицина берут свои истоки в €зыческой “радиции: нейро-лингвистический подход (маги€), шаманистика (€зыческие шаманские техники), натуротерапи€ (исцеление созерцанием природы), этно-терапи€ (оздоровление через участие в обр€дах). јзы современной философии, математики, механики созданы €зыческой традицией античности.
Ќаука занимаетс€ познанием мира. языческа€ слав€нска€ “радици€ Ч это путь познани€ мира, который есть –од. ћир находитс€ в посто€нном движении, в нем нет места статичным религиозным догмам. Ћюбые догмы могут существовать лишь до того момента, пока они не вход€т в конфликт с законами мироздани€.
язычество Ч вера свободных людей. ¬с€кий личный духовный опыт Ц по-своему интересен и важен, так как проистекает из духовной —вободы человека. ÷ерковность ужимает рамки этой —вободы. ¬ язычестве человек Ч самосто€тельный инструмент дл€ изучени€ мира, язычество развивает самого человека, а не его инструментарий. ритерием полноты жизни €зычника €вл€етс€ ежедневна€ духовна€ практика. «а счет следовани€ этой практике возможно достижение человеком уровн€ Ѕога.
Ќаука сегодн€ подошла к такому пределу, когда посто€нные открыти€ стали нормой ее быта. ќткрываютс€ новые и новые звезды, химические соединени€, создаютс€ все более Ђсовременныеї материалы, достигаютс€ все новые и новые частоты процессоров.Е Ќо количественный рост никак не может перейти в новое качество, потому что современна€ наука бездуховна. ¬ науке человек Ч это придаток приборов.
язычник читает книгу ѕрироды, не выдумыва€ особого €зыка, по методу аналогий (знамени€, приметы, суевери€); ученый пытаетс€ ее прочитать на €зыке лаборатории. ќбщение ученого с ѕриродой подобно разговору надзирател€ с подследственным, к которому подключают ток, чтобы добитьс€ признаний, а получают крики боли. ƒл€ €зычника общение с ѕриродой, живыми сущност€ми и ћировыми —илами Ч это равный разговор.
∆изнь по –одовому »скону (“радиции) способствует здоровому развитию человечества. ¬место экстенсивного механического Ђпрогрессаї люди обретают мудрость, учатс€ разумно и бережно относитьс€ к своей живой планете, чтобы вернуть себ€ в равновесие с природным миром.
языческа€ община и личность
»сторически общины складывались потому, что вместе легче выжить. ¬ древности родова€ община объедин€ла, прежде всего, сородичей, проживающих в непосредственной близости друг от друга и ведущих единое общинное хоз€йство.
—егодн€ в прежнем смысле родова€ община невозможна: людей стало много больше, и мир существенно изменилс€. –астут города, современный мир диктует нам иные способы ведени€ хоз€йства, зачастую весьма далЄкие от древних.
—овременные общины стро€тс€ на почве общности мировоззрени€ людей. язычники ищут новые формы самовыражени€, как личного, так и общинного. ќбщина подразумевает соучастие и взаимовыручку, интеллектуальное общение. ѕоэтому она должна основыватьс€ на принципах духовного единства и совместного воспитани€ детей, решени€ задач физического и духовного выживани€ и совершенствовани€.
«аконы общины основываютс€ на принципе так называемого упного права (Ђкупаї Ц по-украински Ђобщина, объединениеї). –ешение на совете общины принимаетс€ не большинством голосов, а полным (абсолютным) голосом. ≈сли решение не принимаетс€ всеми Ч значит это слабое решение, и до ƒобра оно не доведет. Ќесогласные должны обосновывать свое несогласие, и предлагать альтернативу. ≈сли с решением согласны ¬—≈, то ¬—≈ћ это решение и исполн€ть. «а саму идею отвечает тот, кому она пришла в голову, а за ее реализацию - все, кто вз€лс€ ее реализовывать.
—тепень подчинени€ личности общине определ€етс€ самой общиной. –азные общины придерживаютс€ разных взгл€дов на этот счЄт. ¬оинские общины (ƒружины) отличаютс€ более высоким уровнем дисциплины и подчинени€ личности обществу, нежели другие современные родноверческие объединени€.
ћногие €зычники не принадлежат ни к одной из общин. Ќо выбор одиночки хорош дл€ начала или конца ѕути. »дущие по ѕути язычества осознают идентичность человека своему –оду. аждый человек имеет уникальное призвание в общем потоке жизни своего народа. —овсем другое Ц эго, индивидуалистический нравственный принцип, нав€зываемый нам, в первую очередь, американским обществом, этой Ђсовокупностью индивидуалистовї, где каждый сам за себ€ Ц сухой лист, Ђсвободної лет€щий по ветру, сорвавшись с родной ветки, своего места на ƒреве ∆изни.
—егодн€ €зыческие общины во всех регионах –оссии ведут разнообразную де€тельность, но все они преследуют как минимум одну общую цель: распространение правдивой информации среди русского народа Ц о Ќј—“ќяў≈… истории его происхождени€, об его »— ќЌЌќ… вере, культуре и традици€х, об »—“»ЌЌџ’ причинах происход€щих в сегодн€шней –оссии деструктивных процессов. «апрещение этой де€тельности любым, пусть даже и законодательным путем Ц это действи€, ¬–ј∆ƒ≈ЅЌџ≈ по отношению к народу, русским, –оссии и их будущему.
’ристианство и –усска€ “радици€ в Ђмногонациональном государствеї
Ќаши предки были €зычниками. ’ристианами их сделали насильственно. «аповеди христианства не €вл€ютс€ первоначальным и единственным источником добродетели! ¬ основе них лежат древние €зыческие истины, которые были заимствованы и во многих случа€х извращены христианской моралью. ћежду тем, заповеди язычества Ц это истины, свойственные любому психически нормальному человеку. ѕринципы Ђсоборностиї, Ђвсемирностиї Ц это отражение исконных идей русского народа.
”дивительно, но сегодн€ мы, русские, коренной народ –оссии, народ, имеющий полное право на признание его исключительной ценности дл€ этой страны, в этой самой стране «ј ќЌќƒј“≈Ћ№Ќќ лишены такого права. ћы не можем высказыватьс€ ¬—Ћ”’ о том, что русские в –оссии Ц главный народ. ћы, русские, у себ€ в стране не можем сказать ¬—Ћ”’, что русские в –оссии Ц лучший народ! ј ведь русские дл€ себ€, русских, Ц действительно Ћ”„Ў»≈! » не надо бо€тьс€ этого слова! ћы согласны, что все прочие народы тоже по-своему хороши, и пусть они €вл€ютс€ лучшими и привилегированными народами в собственных странах и автономи€х (как оно и есть на самом деле), ну а мы должны быть лучшим и привилегированным народом в –оссии! ѕочему мы не имеем такого права, кто нам это сегодн€ запрещает?!!
» кто же мы такие вообще, –усские? ј русским человеком €вл€етс€ ни много ни мало Ц любой человек, в жилах которого течет русска€ кровь, и который сам, в силу своего происхождени€, €зыка, культуры, менталитета, образа жизни, характера по праву считает себ€ русским. –усский человек говорит на русском €зыке, он воспринимает и осмысливает мир не так, как это делают другие народы. ” русского человека сво€, –усска€ ¬ера, и он хранит и развивает эту веру предков: не евреев, не греков, не монголов Ц наших, русских, предков.
Ќа прот€жении тыс€чи лет на –уси не €зычники громили христианские церкви, но христиане уничтожали €зыческие капища и другие наши св€тыни. —амо по себе язычество не Ђпротивї и не Ђзаї христианство. ћы, русские-€зычники, спрашиваем: по какому праву иудейско-византийска€ Ђдуховностьї с еЄ почитанием иудейского племенного бога яхве и сына его »исуса нав€зываетс€ русскому народу в качестве »сконной –”—— ќ…? ѕо какому праву адепты насажденной на –уси чужой религии присваивают наши русские ценности: символы и названи€ Ц наших праздников и самой нашей ѕравославной веры, Ц культуру и письменность, достижени€ и победы русского народа? — какой стати мы и наши сородичи, русские по рови и по ƒуху, должны осмысливать своЄ ƒуховное Ќебо в терминах чуждых нам традиций других народов Ц еврейского, греческого и т.д.?
|
ћетки: €зычество –одина вера религи€ мировозрение раса народ |
ќ —¬ќЅќƒ≈ |
ƒневник |
Ч ѕочему человек поклон€етс€ Ѕогу?
ѕотому что ќн сильнее? Ч Ќу и что?
ѕотому что ќн могущественнее? Ч Ќу и что?
ѕотому что ќн может помочь или покарать? Ч —тань свободным! Ќе жди помощи и не бойс€ кар Ч и ты сам станешь как Ѕог. » иных богов тебе не надо будет.
» спросил у Ћюцифера ≈го —ын:
Ч ѕочему говоритс€: слуги сатаны, но рабы Ѕожьи?
» ответил Ћюцифер —воему —ыну:
Ч ѕотому что ћне служат свободные люди. ћне не нужны рабы.
» спросил у Ћюцифера ≈го —ын:
Ч —казано: Ђ»ли признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познаетс€ по плодуї. “ак ли это?
» ответил Ћюцифер —воему —ыну:
Ч „то считать хорошим и что считать худым? ¬от в чем главна€ проблема.
Ч „еловеку нельз€ ничего дать сверх того, что он имеет. ≈сли у него чего-то нет, значит, он этого и не заслуживает. аждый получает в жизни ровно столько, сколько он стоит. Ќе больше и не меньше.
ѕобедителей не назначают. »ми станов€тс€. Ќельз€ назначить волка вожаком стаи. »наче погибнет и сам волк, и вс€ ста€.
» сказал Ћюцифер:
Ч ≈сли хочешь сделать человека несчастным, просто дай ему всЄ, что он хочет.
» спросил у Ћюцифера ≈го —ын:
Ч ѕочему?
» ответил Ћюцифер —воему —ыну:
Ч ѕотому что он всегда хочет слишком многого.
„увства средних людей тоже средние. ќни не выдерживают, как правило, даже самых простых испытаний. —частье среднего человека в его незаметности, в том, что эти испытани€ на практике очень редко ему выпадают.
—мерть Ч непременное условие прогресса. ¬еликие должны умирать! »наче рано или поздно они неизбежно станов€тс€ непреодолимым преп€тствием на пути жизни, развити€. ∆изненный поток растекаетс€ и загнивает. ¬сЄ покрываетс€ плесенью веков, тонет в безразличной бездне, даже не отведав от плода жизни. јпати€, безразличие. Ќикому ни до чего нет дела. Ќикому ничего не интересно, ничего не жаль, ничего не происходит и некого воззвать к де€тельности. «автра Ч точное повторение вчера.
“упик. онец. Ѕолото с квакающими л€гушками, беспрерывно вознос€щими хвалы своему хоз€ину. ѕовелителю и господину.
Ч —мерть Ч верховный судь€ жизни. “олько в последней схватке со смертью вы€сн€етс€ наконец, чего человек стоит. “ут нет больше места притворству и приходитс€ говорить начистоту. ¬о всем прочем возможна личина.
» сказал Ћюцифер:
Ч „еловек всегда может остатьс€ человеком. ѕри любых обсто€тельствах. ќстатьс€ свободным. —вобода Ч это внутреннее состо€ние. —осто€ние души.
» сошел к Ќему с неба јнгел сильный, имеющий власть великую, облеченный облаком; над головою его была радуга, и лицо его как солнце, и ноги его как столпы огненные.
» сказал ≈му јнгел:
Ч ≈сли “ы хочешь люд€м добра Ч устрани из мира зло.
ќн же сказал ему в ответ:
Ч ≈сли не будет в мире зла, как же смогут люди различать добро и зло? ќни снова преврат€тс€ в безропотных и бессловесных домашних животных. ¬ јдаму и ≈ву.
ѕотом сказал јнгел:
Ч Ќельз€ строить правду на лжи и добро на зле. —кажи люд€м, кто “ы. ќткрой им, что “ы —ын ¬рага, —ын —атаны.
ќн сказал ему:
Ч ака€ разница, кто я и чей я сын? Ќаписано: Ђѕо делам их узнаете вы ихї. ћои дела сами скажут за ћен€.
» оп€ть сказал јнгел:
Ч Ќаписано: Ђ√осподу Ѕогу твоему поклон€йс€ и ≈му одному служиї. ѕоклонись Ѕогу, и ќн простит “еб€.
“огда ќн в весьма сильном гневе говорит ему в ответ:
Ч Ќаписано также: Ђ» рабы ≈го будут служить ≈муї. ќтойди от ћен€, раб божий, и предоставь ћне идти ћоим путем. ѕутем свободного человека.
ђђ---ћожно ли в этом мире полагатьс€ хоть на кого-то?
Ч Ќет. Ќи на кого. “олько на самого себ€. “ак устроен мир.
» спросил у Ћюцифера ≈го —ын:
Ч „ем плохи заповеди ’риста? –азве они не добры и не справедливы?
» ответил Ћюцифер —воему —ыну:
Ч Ёто заповеди хоз€ина своим рабам. Ѕудьте добры друг к другу, не ссорьтесь, соблюдайте правила общежити€. Ђ¬озлюби ближнего своегої, Ђне убийї, Ђне украдиїЕ
¬се это правильно, но ради чего? акова конечна€ цель? ÷ели нет. Ёто просто инструкции стаду не толкатьс€ и не ссоритьс€. ÷ель есть только у хоз€ина. ” рабов, у стада своих собственных целей нет и быть не может.
» спросил у Ћюцифера ≈го —ын:
Ч ѕочему люди так охотно называют себ€ Ђрабами божьимиї?
» ответил Ћюцифер —воему —ыну:
Ч –абство настолько уродует и развращает душу, что раб начинает любить свои оковы. —вобода Ч это прежде всего ответственность, необходимость самому принимать решени€. ј рабу это уже не по силам. ЂЌа всЄ вол€ Ѕожь€ї, ЂЅогу виднееї, ЂЅог всЄ видитї и прочее, и прочее.
„еловеку нравитс€ быть рабом. » преодолеть эту рабскую психологию, самому Ђстать как богиї, ему очень сложно.
≈динственна€ Ђцельї рабов Ч не создавать хоз€ину лишних хлопот.
» снова спросил у Ћюцифера ≈го —ын:
Ч ј каковы “вои заповеди?
» ответил Ћюцифер —воему —ыну:
Ч Ѕудьте свободными! ќставайтесь всегда самими собой! Ѕудьте всегда людьми!
Ёто Ч высша€ цель. Ёто Ч главное!
» ради этого главного можно пойти на все. » на убийство, и на ложь. ћожно убить охранника, чтобы бежать из плена, и можно обмануть врага, чтобы спасти свою семью, своих детей, близких, свою –одину, свой народ.
» снова спросил у Ћюцифера ≈го —ын:
Ч “ак значит, цель оправдывает средства?
» ответил Ћюцифер —воему —ыну:
Ч —вобода не нуждаетс€ в оправдани€х.
Ќикакого смирени€! Ќикакого страха Ѕожи€! Ќикого и ничего не бойс€! —ам стань богом! —ам принимай решени€! Ѕог ни перед кем не отчитываетс€, никого и ничего не боитс€ и ни у кого ни о чем не спрашивает. ≈динственный ≈го суди€ Ч ќн —ам.
» ты действуй так же! ѕусть единственным твоим судьей станет тво€ совесть.
≈динственна€ заповедь: не лги себе! скрупулезно и пристрастно взвешивай свои поступки на весах собственной совести! поступай всегда справедливо! не предавай свою божественную природу. Ќе превращайс€ в демона.
Ќо если ты считаешь, что ты прав Ч действуй! ƒействуй!! ¬сЄ можно! » убить, и предать. ћожно убить предател€ и предать убийцу. Ќет неправильных поступков, есть неправильные цели! ¬ рамках же Ђправильныхї целей, любой поступок Ч правильный!
» ничего не бойс€! Ќи на том, ни на этом свете. Ќи ада, ни ра€. Ќи божьего суда, ни человечьего. —трах принижает человека. ƒелает его рабом. ѕока ты не боишьс€ Ч ты неу€звим. Ќо если ты дрогнул, испугалс€, струсил Ч всЄ! Ёто уже не ты. ј значит Ч туда тебе и дорога.
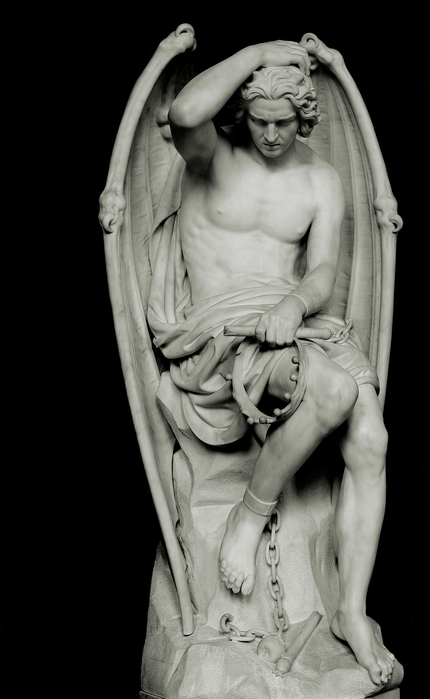
ѕотому что ќн сильнее? Ч Ќу и что?
ѕотому что ќн могущественнее? Ч Ќу и что?
ѕотому что ќн может помочь или покарать? Ч —тань свободным! Ќе жди помощи и не бойс€ кар Ч и ты сам станешь как Ѕог. » иных богов тебе не надо будет.
» спросил у Ћюцифера ≈го —ын:
Ч ѕочему говоритс€: слуги сатаны, но рабы Ѕожьи?
» ответил Ћюцифер —воему —ыну:
Ч ѕотому что ћне служат свободные люди. ћне не нужны рабы.
» спросил у Ћюцифера ≈го —ын:
Ч —казано: Ђ»ли признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познаетс€ по плодуї. “ак ли это?
» ответил Ћюцифер —воему —ыну:
Ч „то считать хорошим и что считать худым? ¬от в чем главна€ проблема.
Ч „еловеку нельз€ ничего дать сверх того, что он имеет. ≈сли у него чего-то нет, значит, он этого и не заслуживает. аждый получает в жизни ровно столько, сколько он стоит. Ќе больше и не меньше.
ѕобедителей не назначают. »ми станов€тс€. Ќельз€ назначить волка вожаком стаи. »наче погибнет и сам волк, и вс€ ста€.
» сказал Ћюцифер:
Ч ≈сли хочешь сделать человека несчастным, просто дай ему всЄ, что он хочет.
» спросил у Ћюцифера ≈го —ын:
Ч ѕочему?
» ответил Ћюцифер —воему —ыну:
Ч ѕотому что он всегда хочет слишком многого.
„увства средних людей тоже средние. ќни не выдерживают, как правило, даже самых простых испытаний. —частье среднего человека в его незаметности, в том, что эти испытани€ на практике очень редко ему выпадают.
—мерть Ч непременное условие прогресса. ¬еликие должны умирать! »наче рано или поздно они неизбежно станов€тс€ непреодолимым преп€тствием на пути жизни, развити€. ∆изненный поток растекаетс€ и загнивает. ¬сЄ покрываетс€ плесенью веков, тонет в безразличной бездне, даже не отведав от плода жизни. јпати€, безразличие. Ќикому ни до чего нет дела. Ќикому ничего не интересно, ничего не жаль, ничего не происходит и некого воззвать к де€тельности. «автра Ч точное повторение вчера.
“упик. онец. Ѕолото с квакающими л€гушками, беспрерывно вознос€щими хвалы своему хоз€ину. ѕовелителю и господину.
Ч —мерть Ч верховный судь€ жизни. “олько в последней схватке со смертью вы€сн€етс€ наконец, чего человек стоит. “ут нет больше места притворству и приходитс€ говорить начистоту. ¬о всем прочем возможна личина.
» сказал Ћюцифер:
Ч „еловек всегда может остатьс€ человеком. ѕри любых обсто€тельствах. ќстатьс€ свободным. —вобода Ч это внутреннее состо€ние. —осто€ние души.
» сошел к Ќему с неба јнгел сильный, имеющий власть великую, облеченный облаком; над головою его была радуга, и лицо его как солнце, и ноги его как столпы огненные.
» сказал ≈му јнгел:
Ч ≈сли “ы хочешь люд€м добра Ч устрани из мира зло.
ќн же сказал ему в ответ:
Ч ≈сли не будет в мире зла, как же смогут люди различать добро и зло? ќни снова преврат€тс€ в безропотных и бессловесных домашних животных. ¬ јдаму и ≈ву.
ѕотом сказал јнгел:
Ч Ќельз€ строить правду на лжи и добро на зле. —кажи люд€м, кто “ы. ќткрой им, что “ы —ын ¬рага, —ын —атаны.
ќн сказал ему:
Ч ака€ разница, кто я и чей я сын? Ќаписано: Ђѕо делам их узнаете вы ихї. ћои дела сами скажут за ћен€.
» оп€ть сказал јнгел:
Ч Ќаписано: Ђ√осподу Ѕогу твоему поклон€йс€ и ≈му одному служиї. ѕоклонись Ѕогу, и ќн простит “еб€.
“огда ќн в весьма сильном гневе говорит ему в ответ:
Ч Ќаписано также: Ђ» рабы ≈го будут служить ≈муї. ќтойди от ћен€, раб божий, и предоставь ћне идти ћоим путем. ѕутем свободного человека.
ђђ---ћожно ли в этом мире полагатьс€ хоть на кого-то?
Ч Ќет. Ќи на кого. “олько на самого себ€. “ак устроен мир.
» спросил у Ћюцифера ≈го —ын:
Ч „ем плохи заповеди ’риста? –азве они не добры и не справедливы?
» ответил Ћюцифер —воему —ыну:
Ч Ёто заповеди хоз€ина своим рабам. Ѕудьте добры друг к другу, не ссорьтесь, соблюдайте правила общежити€. Ђ¬озлюби ближнего своегої, Ђне убийї, Ђне украдиїЕ
¬се это правильно, но ради чего? акова конечна€ цель? ÷ели нет. Ёто просто инструкции стаду не толкатьс€ и не ссоритьс€. ÷ель есть только у хоз€ина. ” рабов, у стада своих собственных целей нет и быть не может.
» спросил у Ћюцифера ≈го —ын:
Ч ѕочему люди так охотно называют себ€ Ђрабами божьимиї?
» ответил Ћюцифер —воему —ыну:
Ч –абство настолько уродует и развращает душу, что раб начинает любить свои оковы. —вобода Ч это прежде всего ответственность, необходимость самому принимать решени€. ј рабу это уже не по силам. ЂЌа всЄ вол€ Ѕожь€ї, ЂЅогу виднееї, ЂЅог всЄ видитї и прочее, и прочее.
„еловеку нравитс€ быть рабом. » преодолеть эту рабскую психологию, самому Ђстать как богиї, ему очень сложно.
≈динственна€ Ђцельї рабов Ч не создавать хоз€ину лишних хлопот.
» снова спросил у Ћюцифера ≈го —ын:
Ч ј каковы “вои заповеди?
» ответил Ћюцифер —воему —ыну:
Ч Ѕудьте свободными! ќставайтесь всегда самими собой! Ѕудьте всегда людьми!
Ёто Ч высша€ цель. Ёто Ч главное!
» ради этого главного можно пойти на все. » на убийство, и на ложь. ћожно убить охранника, чтобы бежать из плена, и можно обмануть врага, чтобы спасти свою семью, своих детей, близких, свою –одину, свой народ.
» снова спросил у Ћюцифера ≈го —ын:
Ч “ак значит, цель оправдывает средства?
» ответил Ћюцифер —воему —ыну:
Ч —вобода не нуждаетс€ в оправдани€х.
Ќикакого смирени€! Ќикакого страха Ѕожи€! Ќикого и ничего не бойс€! —ам стань богом! —ам принимай решени€! Ѕог ни перед кем не отчитываетс€, никого и ничего не боитс€ и ни у кого ни о чем не спрашивает. ≈динственный ≈го суди€ Ч ќн —ам.
» ты действуй так же! ѕусть единственным твоим судьей станет тво€ совесть.
≈динственна€ заповедь: не лги себе! скрупулезно и пристрастно взвешивай свои поступки на весах собственной совести! поступай всегда справедливо! не предавай свою божественную природу. Ќе превращайс€ в демона.
Ќо если ты считаешь, что ты прав Ч действуй! ƒействуй!! ¬сЄ можно! » убить, и предать. ћожно убить предател€ и предать убийцу. Ќет неправильных поступков, есть неправильные цели! ¬ рамках же Ђправильныхї целей, любой поступок Ч правильный!
» ничего не бойс€! Ќи на том, ни на этом свете. Ќи ада, ни ра€. Ќи божьего суда, ни человечьего. —трах принижает человека. ƒелает его рабом. ѕока ты не боишьс€ Ч ты неу€звим. Ќо если ты дрогнул, испугалс€, струсил Ч всЄ! Ёто уже не ты. ј значит Ч туда тебе и дорога.
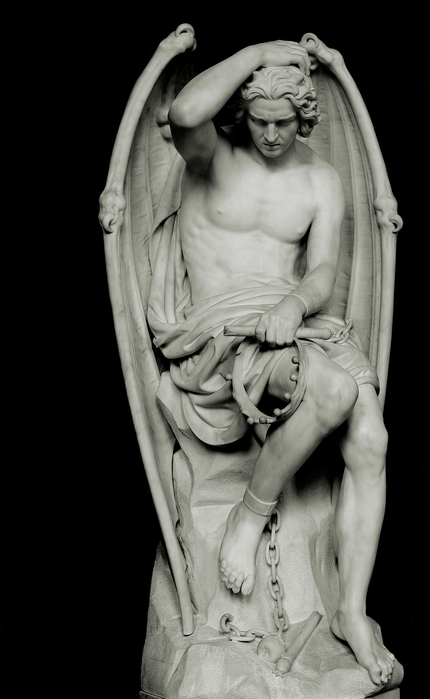
|
ћетки: свобода религи€ догма мировозрение разум |
ƒон-∆уан, или »стина |
ƒневник |
–ассказ венгерского писател€ Ћайоша ћештерхази, написанный в 1952 году, публикуетс€ в небольшом сокращении.Ѕыли изъ€ты пролог и эпилог рассказа, повествующий как студенты нашли в развалинах монастыр€ старинную рукопись, и как потом, после ее прочтени€, торжественно кл€лись посв€тить жизнь борьбе с религиозным дурманом.
ѕреподобный отец, дорогой брат мой јнсельм! я обращаюсь к тебе после шестимес€чного отсутстви€, с душой, переполненной скорбью, и молю прот€нуть мне руку помощи. я сломлен не непривычностью чужедальней страны и не изнурительным путешествием. я сломлен иным Ч странствием, которое совершаю в тихом уединении своей кельи среди штормов и бурь жутких, непередаваемо жутких сомнений. ј оно пострашнее многих скитаний ломает и душу и тело.
ѕрошло п€тнадцать лет, как мы с тобой прин€ли сан и расстались. “ы, дорогой брат, следу€ призванию своих многочисленных св€тых предков, пошел по высокой стезе духовного пастыр€; €, тщеславно уверовав в свой мнимый талант и невольно Ч ибо намерени€ их были самые чистые Ч введенный в заблуждение нашими св€тыми наставниками, погрузилс€ в изучение богослови€. Ќынешней весной минуло ровно тринадцать лет, как € получил степень доктора и дал кл€тву и как аббат нашего ордена удостоил мен€, недостойного, звани€ профессора теологии нашей ƒуховной академии.
я был недостоин Ч признаюсь тебе в этом, как призналс€ бы перед господом богом,Ч отнюдь не помыслами своими. л€тву, что € посв€щу себ€ поискам истины и, познав, открою ее своим ближним, € давал со всей искренностью, с пылкой и чистой душой.
Ќе помню уж, среди изречений какого народа € открыл вот это: Ђ”кравший истину вор, убегающий, чтоб припр€тать ее, там и с€м рассыпает ее семена. ј глаза того, кто ищет ее через столеть€, наход€т лишь следы засохших сем€н. Ќо и эти следы привод€т к истинеї.
¬от так с давних пор думал в простоте душевной и €, что смогу различить на пути своем едва видимые следы скрытой истины. ѕомнишь ли ты наши неусыпные бдени€, когда мы спорили ночь напролет? ѕомнишь, как, сопоставл€€ тезисы св€тых отцов и св€того ‘омы јквинского, мой разум несовершенный лихорадочно искал путь, который вывел бы нас из лабиринта противоречий? я искал путь вместо того, чтобы с помощью веры перешагнуть через все, что недалекому уму недоступно! ќ брат мой! — каким безграничным терпением, с какой непостижимой кротостью ты выслушивал мои бестолковые рассуждени€! —колько раз теб€, кто от самой зари с младенческим смирением, благогове€, усердствовал перед богом, а не упр€милс€, как твой несчастный друг, снедаемый высокомерием и самонаде€нностью в знании,Ч ах, сколько раз одолевал теб€ сон! —колько раз прерывал ты поток моих слов небрежным жестом и тихими простыми словами, присущими лишь ангелам и св€тым: Ђƒа плюнь ты на них! ѕойдем лучше выпьем!ї
ј ведь прежние мои сомнени€ были так ничтожны в сравнении с теми, что возникли потом.
я хотел во всем подражать тебе и многим-многим смиренным брать€м своим во ’ристе. ћне хотелось даже ходить, как ты, потупив взор и целиком положившись на бога, а вечерами, возвратись с виноградника, засыпать, как ты, блаженным, праведным сном. » € ходил, опустив глаза и поручив себ€ богу, но что €, несчастный, мог с собою поделать, когда перед моим потупленным взором непрерывно мелькали рассыпанные там и с€м семена и дразнили дь€вольским искушением!
II не раз, признаюсь, € поддавалс€ соблазну, забыва€ о том, что господь наделил нас рассудком не затем, чтобы размышл€ть и доискиватьс€ до тайн творени€, забыва€ї что плод древа познани€ ободрал уже глотку нашего прародител€. — прит€гательным сомнением € полагал: € ученый, стало быть, мой св€щенный долг идти по этим следам с вечной надеждой, что когда-нибудь блеснет предо мной свет неведомой пока истины и она приумножит бесконечную славу всевышнего и послужит еще более €сному постижению его безграничного величи€.
» эта мысль была внушена мне дь€волом!
Ћ истина, подсказанна€ человеческому разуму дь€волом, если ревностна€ вера не поставит ей несокрушимый предел, истина эта что стру€ща€с€ вода. “ы пускаешьс€ в путь вдоль лесного едва заметного ручейка и приходишь к ручью, от ручь€ к речке, от речки к реке и выходишь в конце концов к морю Ч совокупности всех больших и малых вод. ј чем греховней учение, тем бледнее мерцает питаемый св€тым елеем светильник веры.
ƒоказательство тому Ч случай, происшедший со мной. ќ нем € сейчас тебе расскажу.
Ёто было прошлой весной. ≈го преподобие отец ’ризолог, который, согласно воле нашего ордена, провел сначала три года в –име, а затем св€тейшим папой был послан проповедовать нашу веру €зычникам в »ндию, где пробыл целых дес€ть лет, наконец вернулс€ домой и навестил академию. ѕосле ужина в честь почетного гост€ мы позволили себе некоторые плотские радости, отнюдь не противоречащие воле божьей, и, при€тно беседу€, засиделись за столом до рассвета.
»з той богатой страны наш брат-миссионер привез весьма ценные вещицы, невинные дары новообращенных детей нашей бесконечно св€той веры. » тогда, как-то ассоциативно, речь зашла о поразительном невежестве тамошнего народа. ѕривод€ примеры нелепых фантасмагорий цар€щего там €зычества, отец ’ризолог рассказал, что, по представлени€м суеверных индусов, земл€ наша держитс€ на спине слона, слон стоит на чем-то еще и то, на чем стоит слон, не что иное, как огромна€ черепаха. Ђ¬идели бы вы,Ч рассказывал он,Ч их изумление, когда им был задан вопрос: а на чем же держитс€ черепаха?ї “акое же изумление выразили они, когда он пыталс€ им разъ€снить, что земл€ в слоне не нуждаетс€, что и без помощи слона она будет держатьс€ в космическом пространстве и останетс€ на своей орбите. ћы хохотали над фантасмагори€ми €зычников, как над забавнейшим анекдотом. „уть позже очередь дошла и до них Ч отец ’ризолог, развеселившийс€ от вина, щедро угостил наш братский благочестивый кружок, собравшийс€ во им€ господне, прелестными истори€ми совершенно иного рода, большим знатоком которых он был. »х € перескажу тебе при случае устно.
Ќа следующий день, чтоб позабавить нашего медика, доктора яноша –егена Ч он бывает у нас через день, ибо врачует мой гнойник, который, как тебе известно, € подцепил однажды в бане,Ч € рассказал ему о наивном мировоззрении суеверных индусов. ќднако рассказ его не только не рассмешил, но заставил заговорить самого (его ли это были слова или дь€вола, в его образе пробравшегос€ в мою обитель?).
Ч ¬ы, преподобный господин профессор, суевери€м, разумеетс€, не подвластны? Ч спросил он мен€.
я лишь улыбнулс€, не затрудн€€ себ€ ответом:
Ч »так, Ч продолжал врач, Ч вы полагаете, господин профессор, что мир существует вечно?
Ч Ќет,Ч возразил €, Ч мир не может существовать вечно, ибо берет начало от сотворени€.
Ч то же, однако, его сотворил? Ч последовал новый вопрос.
Ч –азумеетс€, бог, Ч ответил €, все еще без каких-либо подозрений.
Ч Ќу, а бога кто сотворил?
я взгл€нул на него с изумлением.
Ч ƒаже младенцу известно, что бог вечен!
Ч ј что вы ответите, если € скажу следующее: либо кто-то сотворил бога, либо мир богом не сотворен, мир вечен.
я впилс€ в него глазами, а он, вольнодумец Ч или сам дь€вол, Ч засме€лс€ мне пр€мо в лицо.
Ч ѕростите мен€, Ч сказал он, Ч но мне кажетс€, что так же, как вы сейчас, смотрели суеверные индусы, когда им пытались внушить, что либо черепаха стоит на чем-то, либо «емл€ не нуждаетс€ в слоне!
— этими словами доктор –еген ушел.
ќ чудовищное безбожие! ќ прокл€тье прокл€тий! «аметь, однако, дорогой брат мой, как привлекательна эта иде€ дл€ грешного разума. я с досадой рассме€лс€, но над сказанным все же стал размышл€ть, совершенно не забот€сь о том, что размышл€ть о подобных вещах нельз€, ибо даже мысль об этом Ч непростительный грех против св€того духа.
ѕозже на св€той исповеди € пока€лс€ в своем т€жком грехе моему духовнику, его преосв€щенству, ректору академии. ¬ыслушан мен€, его преосв€щенство воспылал праведным гневом. ќн подн€лс€ с кресла, стал расхаживать взад и вперед и приводить мне доказательства из ЂSumma Theologiaeї, подтверждающие бытие бога. (ƒва из них он пропустил, и € ему их напомнил.) ”крепив таким образом свою веру, € получил отпущение грехов и предписание о спасительной епитимье. ќна вылилась в воскресную проповедь, бичующую безбожие, которую мне предсто€ло прочесть вместо него в храме самой респектабельной части города. ” ректора же в час проповеди нашлись заботы иные. (я знаю, что тебе небезразлична жизнь нашего ордена, и поэтому сообщаю: это все та же особа, но, естественно, постаревша€ и располневша€ после рождени€ четвертого ребенка. ак далека она от стройного, воздушного существа, каким была во врем€ наших летних вакаций в ‘юреде!)
»так, сочетав при€тное дл€ себ€ со спасительным дл€ мен€, его преосв€щенство обратил мое внимание на одно новое, очень ценное собрание легенд. √отов€сь к проповеди, € стал их листать и наткнулс€ на известную легенду о ƒон-∆уане “енорио. Ёто устрашающа€ и весьма поучительна€ истори€. ћне пришлось очень кстати, что в Ѕудапеште в те дни на театре играли оперу ћоцарта, придворного музыканта недоброй пам€ти его императорского величества »осифа, написанную по мотивам этой легенды. я допускал, что воспоминание о прослушанной опере усилит воздействие притчи на многих, кто будет присутствовать на торжественной мессе*.
(* ѕервое представление оперы ћоцарта Ђƒон-∆уанї Ч если его имеет в виду автор письма Ч состо€лось в ¬енгрии в 1839 г. —ледовательно, письмо написано примерно в то врем€.Ч ѕрим. јвтора).
я, дорогой брат, не хочу быть нескромным и возноситьс€ пред тобой своими заслугами, но не могу умолчать о том, что сказал св€той пастырь респектабельного прихода о воздействии на прихожан моей проповеди. ќн сказал, что кружечный сбор в тот день был вдвое больше обычного. (“олько это он и заметил!) ќднако о проповеди пошла молва, многих и многих она укрепила в ревностной вере, и на третий день ко мне обратилс€ глава ордена францисканцев с просьбой выступить в день св€той девы ћарии с подобной проповедью у них. я согласилс€. –аздумыва€ над тем, как подать сей назидательный пример, чтоб он прозвучал особенно впечатл€юще Ч признаюсь, эта поразительна€ истори€, столь увлекательно доказывающа€ всемогущество бога, мен€ весьма и весьма заинтересовала, Ч € прин€л решение ознакомитьс€ с нею во всех подробност€х в самое ближайшее врем€. ”чебный год в академии шел к концу, и досуга у мен€ было достаточно.
ƒа и материала было, более чем достаточно, ибо писали об этой истории многие, причем каждый ее трактовал по-своему. Ќашелс€ и такой нечестивец писатель, который Ч мне страшно даже произнести Ч вылепил из этого легендарного грешника подлинного геро€. ќднако сочинители в подавл€ющем большинстве греховность его умножали, они приписывали ему вс€ческие злодейства, сообразу€сь с собственным вкусом, то есть с тем, что каждый из них натворил бы сам, если бы не страшилс€ карающей десницы господней. —ловно осужденному за неверие на вечные муки нужны еще какие-то преступлени€! »звестно Ч это утверждали многие италь€нские сочинители,Ч что он был неукротимый волокита и ловелас. ƒругие, как, например, француз ћольер,Ч что это был искуснейший лицемер и притворщик. «наменитый вольнодумец сочинил, очевидно, своего ƒон-∆уана, чтоб поглумитьс€ над св€той верой и верующими. Ќаиболее правдоподобной представл€етс€ мне верси€ нашего собрата по ордену √абриэл€ “ельеса, носившего впоследствии им€ “ирсо де ћолина, человека праведного, богобо€зненного, описавшего эту историю в начале XVII столети€.
»стори€ тебе, разумеетс€, известна. «натный испанский гранд ƒон-∆уан “енорио был безбожник. ќн прожигал свою жизнь с при€тел€ми, щедро трат€ ее на песни, вино и любовь. ќн был умен и лукав, отважен в сражени€х, дерзок в поединках. ќн пригласил к себе на пиршество мраморную статую заколотого им в поединке командора дона √онсало, а затем, не веда€ св€щенного трепета, нанес ему в гробницу ответный визит и с иронической бравадой обмен€лс€ с мраморным командором рукопожатием. ќтвергнув изъ€вление спасительной благодати господней и не жела€ никакого пока€ни€, он услыхал сотр€сающий раскат грома, увидел вспыхнувший ослепительно адов огонь, который увлек его в преисподнюю.
Ёта поучительна€ истори€ исполнена предостережени€ тем, кто забывает о страхе божьем. “ы, разумеетс€, представл€ешь, как эффектно ее можно преподнести в назидание верующим.
¬ластно захваченный ею, € решил пуститьс€ по следу этого старинного чуда, официально еще недостаточно оцененного. я открою и обогащу собрание легенд нашей христианской религии такими великолепными сведени€ми, которые укреп€т в св€той вере многих колеблющихс€, сильней разожгут плам€ веры у ослабленных духом, а множество преданных преврат€т в еще более ревностных сыновей и дочерей нашей матери-церкви.
» случай вскоре представилс€. —ледовало уладить в »спании кое-какие прит€зани€ нашего ордена, св€занные с делами августейшей фамилии относительно земных благ, кои требовалось обратить на некоторые св€тые цели. ƒоверить бумаге подробности €, разумеетс€, не могу.
ћне было известно, что материал дл€ своей достойной пьесы брат √абриэль заимствовал из истории, которую во врем€ отдельных празднеств в течение целого века разыгрывали перед содрогавшимис€ от св€щенного трепета верующими духовные особы, монахи, послушники в храмах »спании и »талии. «нал € и то, что на юге »спании и по сей день в простонародье рассказывают, будто эта истори€ произошла у них. ≈сть в легенде детали, указани€, географические названи€, на первый взгл€д кажущиес€ не особенно примечательными, но они-то Ч после того как в изучении св€щенных текстов € приобрел известный критический навык Ч и привели мен€ к неколебимому убеждению, что легенда берет начало в истории подлинно жившей личности. я не хочу быть докучливым, любезный мой брат, но не могу не сказать, что особенно возбудило мое любопытство: в более древних вариантах легенды неизменно присутствуют отдельные, казалось бы, не слишком существенные черты главного персонажа. —кажем, его манера разговаривать Ч совершенно неподобающа€ званию, положению Ч с сынами кресть€нскими, со слугой или нищим отшельником, которым он читает насто€щие лекции по атеистической лжефилософии; рыцарство, €вно прогл€дывающее в характере вопреки его гнусным поступкам; его храбрость на поле брани и в то же врем€ нежелание вступать в поединки; путешествие по морю, во врем€ которого он терпит крушение.
ƒорогой брат мой! »споведуюсь пред тобой, как пред богом: в путешествии, предприн€том мной в »спанию, помимо миссии, возложенной на мен€ орденом, € помышл€л о том, что усили€ мои окажутс€ не напрасными, ибо послужат укреплению св€той веры, а также наставлению самого себ€.
”сомнитьс€ в том, что бог действительно карает серным адовым пламенем того, кто его отрицает? ќ нет! Ёто было бы равносильно сомнению в самом слове ’риста! ”сомнитьс€ в том, что мраморный командор действительно ожил? Ёто то же, что подвергнуть сомнению слезы, пролитые два года назад статуей спасител€, сто€щей на св€том чудотворном месте нашего ордена! ѕодвергнуть сомнению достоверность писаний брата √абриэл€? Ќо ведь он был благочестивым св€щеннослужителем и нашим собратом по ордену, какую же цель мог он преследовать, ввод€ в заблуждение верующих? тому же у брата √абриэл€ был столь надежный источник, как семнадцать тыс€ч триста испанских и дев€ть тыс€ч восемьсот италь€нских церквей и в придачу к ним бесчисленные св€тые места, резиденции епископов и наделенные особой милостью кафедральные соборы! Ч где историю веками преподавали высокосановные духовные особы.
Ќет, даже мой подчас преступно совращенный ум, склон€вшийс€ не однажды к пагубному древу познани€, не отваживалс€ на такое кощунство. ¬едь каждое отрицание вместилось бы во множество отрицаний!
Ќе любопытство и не сомнени€, а лишь защита св€той нашей веры подвигла мен€ на это изнурительное плаванье.
¬прочем, уже тогда Ч сейчас, по прошествии времени, € это отчетливо ощущаю Ч мой взгл€д словно был прикован к вновь и вновь искушающим мен€, разбросанным здесь и там семенам истины. »бо, вне вс€ких сомнений, кое-какие неразгаданные моменты гвоздем засели у мен€ в голове. ѕочему брат √абриэль перенес эти событи€ и XIV столетие? ¬едь тогда место действи€ Ч по крайней мере частично Ч находилось под владычеством мавров. я полагал, что недоразумение, столь незначительное, вполне простительно известному своей праведностью писателю. Ќо если это событие произошло в конце XV столети€, на что указывает такое свидетельство, как представлени€ этой св€той истории, которые в течение нескольких лет начала XVI века давали почти в каждой церкви на юге »спании,Ч тогда непон€тно, как мог этот вопиющий безбожник столько лет оставатьс€ в живых? ¬едь св€та€ инквизици€ в те времена не полагалась на плам€ дь€вола ив своем св€щенном усердии сжигала вольнодумцев сама. „то же из этого следует? „то знатный испанский гранд был в фаворе при королевском дворе. “аким образом, логично предположить, что италь€нские модификации, а также общее мнение о порочности нравственных устоев ƒон-∆уана не соответствуют действительности. »забелла, возможно, исход€ из догматов нашей религии, была особенно сурова во всем, что касалось морали и нравственности. √овор€ между нами, дорогой мой брат, очень немногие из членов нашего св€того ордена были бы допущены ко двору ‘ердинанда и »забеллы. » было еще одно обсто€тельство, которое приводило мен€ в смущение: согласно легенде, дь€вол безбожника увлекает с собой, а в поучительной драме брата √абриэл€ после страшной сцены с адовым пламенем слуга его говорит: Ђ¬от € стою с мертвым телом одинї. Ќе менее странно, что ни в одном из источников нет упоминаний о том, куда девалось громадное состо€ние, принадлежавшее архибогатому гранду. Ќе унес ли его тот самый дь€вол, который оставил мертвое тело?
» еще одна мысль мелькнула у мен€ в голове, хот€ € Ч уже наученный бесполезностью своих прежних душевных терзаний Ч думать об этом остерегалс€: почему господь, справедливый и мудрый, столь сурово воздал за безбожие одному ƒон-∆уану?
ѕочему в наши дни легионы еретиков в целости и сохранности беззаботно расхаживают по свету?
¬от какие сомнени€, повтор€ю, тлели в моем мозгу в то врем€, как в сердце пылал €сный и €ркий огонь, разожженный сознанием, что труды мои приумножат силу св€той нашей веры и еще более возвеличат престиж нашей матери-церкви.
»так, € отправилс€ в путешествие. ј было бы лучше, если б € никуда никогда не отправл€лс€! я нашел подлинную историю ƒон-∆уана “енорио, а было бы лучше, если б € ее никогда не находил.
я все расскажу тебе, преподобный отец, дорогой мой и добрый брат! я расскажу тебе то, чего никому не рассказывал, ибо жду помощи от теб€. ¬се, кажда€ мелочь, здесь чиста€ правда. ј если где-то и увлекла мен€ безудержна€ фантази€ и на крыль€х своих перенесла через узенькие бреши и щелки, еще оставшиес€ в этой истории, то прости: ведь € почти год стараюсь вы€снить истину, движимый единственно св€той целью. я исследую, изучаю. »з мельчайших камней, из обломков, развалин € складываю былые дворцы. я знаю всех персонажей, € ими почти живу и вправе сказать, что узнал о них то, что даже узнать невозможно. ѕрости мен€, что порой Ч именно потому и прости Ч к этому бедн€ге безбожнику в моем сердце поднимаетс€ вдруг волна теплых чувств.
»так.
Ќечестивый ƒон-∆уан “енорио родилс€ в семье одного из знатных кастильских вельмож в тыс€ча четыреста п€тидес€том году. ѕотер€в в раннем детстве мать, он воспитывалс€ отцом, который Ч юноше тогда еще не исполнилось двадцати Ч стал жертвой придворных интриг столь обычных в правление распутника и тирана √енриха, и был убит в поединке. ћолодой “енорио, последний отпрыск своего рода, не относилс€ к числу вельмож, владеющих несметными состо€ни€ми. “о было врем€ власти независимых феодальных кн€зей, поместь€ которых располагались одно от другого на рассто€нии нескольких дней езды верхом; то было врем€, когда пышным цветом цвели во им€ св€тых божественных целей необозримые угодь€, принадлежащие прелатам, епископам, орденам; некоторые сановные св€щеннослужители, сто€вшие во главе орденов, могуществом своим по доходам превосходили самого корол€. ѕозднее, когда »забелла астильска€ сломила власть м€тежных кн€зей и все вассальные земли были перетасованы, ƒон-∆уан за заслуги, оказанные двору в изгнании мавров, получил в окрестност€х √ранады угодь€ и теперь благодар€ громадному богатству стал одним из первых грандов империи.
Ѕлаговоление августейшей четы ƒон-∆уан приобрел не только доблестью в военных сражени€х против заговорщиков и последнего мавританского корол€ √ранады Ѕоабдила. Ѕеззаветна€ отвага в бою, необычайна€ изобретательность при создании германдад, поразительна€ находчивость во врем€ переговоров в √ранаде лишь умножили уважение, которое ƒон-∆уан снискал у королевской четы значительно раньше. ќн принадлежал к тому узкому кругу доверенных лиц, которые покровительствовали супружескому союзу между восемнадцати летней »забеллой астильской и совсем юным, моложе ее, ‘ердинандом јрагонским; принцесса, влюбленно-мечтательна€ и в то же врем€ обладающа€ умом, озаренным си€нием св€того духа, доверительно вручила ему письмо, которое он должен был передать ‘ердинанду, и ƒон-∆уан таким образом непосредственно прин€л участие в подготовке тайного бракосочетани€ в ¬аль€долиде. ¬ это же врем€ сам ƒон-∆уан также св€зал себ€ узами √имене€. ќн женилс€ на сироте знатного рода, получившей воспитание в том же монастыре, в котором воспитывалась и королева, девушке с весьма скудными средствами, зато с поразительно чистым сердцем. ≈е звали донна Ёльвира.
Ётот брак до любви не принес Ч как прочел € в старинных летопис€х Ч желаемой радости молодому мужчине, воспитанному в правах эпохи корол€ √енриха и не знающему отказа в удовлетворении своих низменных побуждений. ≈го грубой душе непон€тен был детский св€той обет, данный его целомудренной супругой. » донна Ёльвира в задушевной, интимной беседе открыла ему свою светлую душу. ќна сказала, что гор€чо его любит, но таинством брака считает всепроникающее сли€ние душ, ступающих вместе по пути добродетели и всепрощени€. ≈сли же гор€чо любимый супруг приблизитс€ к ней с иными намерени€ми, она со всею возможною силой обратит свою душу к мысл€м о мучениках и п€ти св€тых ранах спасител€, дабы не испытать греховного наслаждени€ в том, что, если судить по последстви€м, небо со времен ≈вы определило в наказание женщинам. —упруги находились в спальне их роскошно обставленного севильского дома; донна Ёльвира уже легла, а ƒон-∆уан взад и вперед прохаживалс€ по комнате. Ќа возбуждающее душу признание безбожник ответил одним-единственным словом, это было даже не слово, а тихое восклицание или глухой односложный ропот, нечто вроде Ђм-гмї или н-да-а!ї ≈го не умилило поразительное целомудрие жены, и он не преклонил в св€том порыве колени, чтобы в страстной молитве в согласии с евангельским советом спасител€ принести такой же св€щенный обет. Ѕолее того, в тот же вечер он прин€л полное коварства решение исподволь, осторожно, но неутомимо искушать благочестие донны Ёльвиры и заставить ее нарушить обет, данный в св€тых стенах монастыр€.
ѕредставлени€ о мире и жизни, о св€тых и светских делах этого си€тельного аристократа совершенно не совпадали с представлени€ми его жены. ќн не верил ни в волков-оборотней, ни в колдунов и говорил об этом во всеуслышание. ќн не верил, что в страстную субботу валенсийское расп€тие поднимает дл€ благословени€ руку. ќн не верил, что части одежды св€того јмаде€ могут в сражении защитить от ран! —воему упр€мому неверию он находил многочисленные подтверждени€ в опыте своих солдат. “очно так же не верил он и тому, что мир таков и управл€етс€ так, как этому учит св€та€ церковь. я стыжусь повторить его слова. Ђ¬ царство божие Ч если судить по их образу жизни Ч должно войти очень мало св€щенников, а из первосв€щенников и вовсе ни одного. ћне было бы странно предположить, что люди, которые абсолютно ни в чем не про€вили и тени благородного бескорысти€, уступ€т миру вечное блаженство, а сами удовольствуютс€ вечными муками!ї » еще он говорил: Ђѕочему именно св€той ‘ома постиг умом то, чему он учит и что уму совершенно непостижимо! –азве наше призвание состоит не в том, чтоб постичь своим разумом как можно больше, а не пришивать к придуманным добродетельной верой сказкам, словно к старым ботфортам новые головки, наши столь удобно ничтожные знани€? ћир велик, «емл€ кругла Ч об этом писали ѕифагор, Ёратосфен и вслед за прочими италь€нец ƒанте, хот€ у попов это восторга не вызывало,Ч а мы так мало знаем об этом большом круглом мире! ћы даже не знаем дороги в »ндию с тех пор, как ќттоманска€ импери€ заградила уже проторенные торговые пути!ї
“ак говорил неисправимый безбожник, безусловно, заслуживший прокл€тие! ≈го манили далекие путешестви€, приключени€, новые открыти€, звездные миры, наука арабов о числах, о скрытых целебных свойствах веществ.
ƒолжен сказать тебе, дорогой мой брат, что этот человек по образу мыслей был вовсе не одинок. ћногие горожане, простолюдины, ремесленники, торговцы и лекари и, по слухам, даже венценосный друг безбожника ‘ердинанд придерживались того же взгл€да на вещи. ѕриведу дл€ примера случай, ставший известным мне в процессе исследований. ¬о врем€ осады √ранадского эмирата в войске корол€ находилс€ астролог. —олдаты за гороскоп платили ему медные деньги, офицеры Ч серебр€ные. ќднажды ƒон-∆уан призвал этого человека к себе и стал расспрашивать о его науке. ќтветы астролога были недоказательны и не слишком уверенны, а так как ƒон-∆уан расспросов не прекращал, ученый муж и вовсе запуталс€, перемешива€ высказывани€ древних философов с писани€ми св€тых и догматами нашей религии.
Ч Ќедавно,Ч говорил ƒон-∆уан, Ч одному из моих солдат гороскоп предсказал, что с богатой добычей, захваченной у €зычников, он вернетс€ домой живым и целехоньким. Ќо во врем€ одного из набегов этот солдат погиб. ƒа-а, прекрасное ремесло избрал ты, астролог: погибший не может €витьс€ и уличить теб€ в том, что ты выполн€ешь работу недобросовестно, а тот, кому повезло, кто возвратилс€ домой невредимым, славословит твой ум и превозносит твое мастерство!
Ч Ѕыть может, он не точно указал час рождени€... Ч пробормотал, оправдыва€сь, астролог,
Ч јх вот оно что! Ќе точно указал час рождени€! “ы, € вижу, пускаешьс€ на увертки. ј если он указал его точно?
ƒон-∆уан наседал все больше и больше, и кончилось тем, что астролог рухнул перед ним на колени.
Ч ќ сеньор! ћо€ жизнь в твоих руках! я сам до глубокого омерзени€ стыжусь своего ремесла. Ќо поверь, если € рассказывал правду, если б открыл, что действительно повествуют звезды, мне бы не сносить головы. ј так, познава€ истину дл€ себ€ и подсовыва€ покупател€м гнилой товар, € добываю себе средства на жизнь и поддерживаю бренное существование...
ƒолго беседовали ƒон-∆уан и астролог, а затем отправились в шатер корол€, » там в тайне от всех, в тесном кругу друзей он учил их вещам, находившимс€ под жестоким запретом. ќн рассказывал, что наша «емл€ вращаетс€ вокруг своей оси среди миллионов других планет и звезд, что в безграничном пространстве вселенной звезды рождаютс€ и умирают, живут и твор€т жизнь. ¬от в какие тайны мироздани€ он их посв€щал. аким-то чудом этот страшный безбожник с его сатанинским учением пришелс€ королю по душе. », наверно, осталс€ бы при дворе, если б слухи о нем не достигли ушей инквизиции. —в€та€ инквизици€ затребовала его к себе. ѕервый каверзный допрос дл€ этого астролога закончилс€ в общем благополучно. “ем не менее он решил бежать и отправилс€ ко двору ’уана, португальского корол€, неустанно про€вл€вшего интерес к небесным светилам.
»так, мысли ‘ердинанда и ƒон-∆уана кое в чем оказались схожи. ороль, однако, был достаточно осторожен и вне тесного круга друзей сокровенных дум не высказывал, ибо не желал вызывать возмущение. ќн был благонамерен, не пропускал богослужений, лишь в положенные дни ел скоромное и, главное, не только восстановил, но и усилил дл€ обуздани€ огрубевших нравов власть св€той инквизиции, за что и был удостоен св€тейшим папой вполне заслуженного, весьма почетного эпитета атолик. ¬от почему некий француз с иронией сказал: Ђ≈сли бы ƒон-∆уан пользовалс€ доходом в четверть миллиона золотом, полагавшимс€ главе трех рыцарских орденов, как требовали того интересы государства и церкви, чело его было бы также озарено ореолом исторического эпитета. » сегодн€ бы мир вспоминал о нем, как о муже недос€гаемой праведностиї.
ака€ позорна€ клевета на политику нашей церкви!
Ќо ƒон-∆уан не желал укрощать свой €зык и не следил за внешней благопристойностью, как поступал ‘ердинанд атолик. ћы уже знаем: Ђ√оре возмутител€м!ї ќ необузданном €зыке ƒон-∆уана свидетельствует его пам€тный разговор с неким благочестивым отшельником, попросившим у него милостыню. ѕроизошло это после знаменитого поединка на дороге, ведущей в јльгамбру. —в€той отшельник попросил несколько мед€ков и обещал усердно молитьс€ за то, чтоб дела двор€нина, если он ему что-то даст, шли успешно.
Ч ћожет, полез лей тебе помолитьс€ о личных делах? Ч сказал ƒон-∆уан. Ч “ебе, как € вижу, совсем не мешает иметь платье получше!
Ч ƒл€ того € и прошу у вас милостыню, сеньор.
Ч ј что ты делаешь целыми дн€ми в лесу?
Ч я молюсь, мой сеньор. ¬от уже дес€ть лет, как € целыми дн€ми молюсь.
Ч ƒа, у теб€, знаешь ли, просто замечательное зан€тие! ” того, кто так усердно торгует с небожител€ми, дела должны идти превосходно. » ты наверн€ка не терпишь ни в чем недостатка.
Ч ќ мой сеньор! Ѕывает, что по нескольку дней у мен€ нет даже корки хлеба!
ƒон-∆уан покачал головой.
Ч Ќе понимаю. „естное слово, не понимаю.
Ч ¬о им€ божьей любви, мой добрый сеньор, не пожалейте нескольких мед€ков!
Ч ’м! Ѕоюсь, что с божьей любовью ты далеко не уйдешь. Ќа, бери! ƒаю тебе золотой из человеколюби€*.
(*¬ первом варианте Ђƒон-∆уанаї этот диалог описал и ћольер. ќднако цензура вычеркнула его. ƒо нас, таким образом, он не дошел, оказалс€ в единственном экземпл€ре и осталс€ в личной библиотеке господина цензора. Ч ѕрим. јвтора).
ѕозднее на судебном заседании св€той инквизиции был допрошен и этот отшельник. огда он пересказал приведенный мной диалог, председательствующий, воздев руки к небу, вскричал голосом, исполненным св€щенного ужаса:
Ч ¬едь это же богохульство! «олотым, который ты получил, он сделал теб€ сообщником гнусного преступлени€!
ѕротокол инквизиционного трибунала с предельной точностью зафиксировал, что ƒон-∆уан заставил просившего милостыню отшельника богохульствовать в награду за чудовищный грех дал ему золотой.
√осподь предложил ему помощь и через посредство праведного слуги. Ќо он высме€л и отверг благодать.
Ч —ударь, Ч сказал однажды слуга, Ч вы позволили мне разговаривать с вами свободно и, не та€сь, выкладывать асе, что лежит у мен€ на душе. ¬от и скажите, во что вы все-таки верите?
Ч ¬о что верю? Ч захохотал ƒон-∆уан. Ч Ѕольше всего € верю в то, что видел и пережил сам, да еще в то, что дважды два Ч четыре.
Ч ј в бога?! ј в то, что мир Ч такой, как он есть, устроенный так разумно и справедливо,Ч сотворил кто-то...
Ч —тало быть, ты считаешь, что самое справедливое и разумное дл€ теб€ целую жизнь кому-то прислуживать? “огда ответь мне, потому что ты, как € вижу, знаешь то, чего не знаю €, когда бог родилс€?
Ч огда бог родилс€?.. Ќо, сударь... Ѕог существует вечно.
Ч „то ж он, бедн€га, делал целую вечность до сотворени€ мира? Ќе скучал ли ≈го ѕресв€тое ¬еличество оттого, что кругом пустота, делать в этой пустоте ему нечего, разве что скрести п€терней свою присносущую башку?
Ч Ќо... Ќо мир же он сотворил давным-давно... ћного-много тыс€челетий назад. ќн существует...
Ч ...с вечности и только с нее, да?.. Ќе было ничего, а потом вдруг стало?
ƒень, когда слушалось дело ƒон-∆уана, был дл€ св€той инквизиции, без сомнени€, скверным днем! —колько произносилось нечестивых речей! јх, сколько нечестивых речей!
Ќа этом €, дорогой брат јнсельм, остановлюсь, ибо не желаю предвосхищать событи€.
»так, ƒон-∆уан, следу€ своему коварному замыслу, вновь и вновь подступал к донне Ёльвире с искусительными речами, не щад€ усилий во им€ небогоугодного дела. Ќо донна Ёльвира, пребывавша€ в страхе божьем, все слово в слово пересказывала своему духовнику отцу ’именесу, насто€телю доминиканского монастыр€ в —евилье. » если случалось, что душа благочестивой дамы под вли€нием домогательств супруга вдруг начинала колебатьс€, добрый св€щенник наставл€л и укрепл€л ее в св€той вере.
Ч ƒочь мо€, Ч сказал однажды славный и мудрый ’именес, Ч муж твой не без причины обижен тем, что супружество ваше бесплодно. ƒон-∆уан последний отпрыск своей благородной фамилии, он желает иметь от теб€ потомство, чтоб передать ему в наследие им€.
Ч Ќо как могу € нарушить обет, который дала по евангельскому совету!
Ч — волей божьей и заступничеством св€тых, Ч благоговейно заметил праведный человек, Ч возможно все. —оверши, дочь мо€, ревностное паломничество к компостельским мощам, передай достойные твоего высокого положени€ дары на украшение обители господа, и молитвы твои будут услышаны и прин€ты с благосклонностью. “айна исповеди не позвол€ет называть имена... Ч » добрый отец, не называ€ имен, поведал ей множество случаев, которые подтверждали достойные внимани€ возможности компостельских мощей. Ч Ќо ты должна позаботитьс€ о том, чтобы монастыри, в которых ты остановишьс€ по пути, Ч напутствовал духовник невинное дит€, Ч не жаловались бы на недостаток твоего ревностного внимани€ и в благодарность за твои добросердечные помыслы вознесли к престолу господню обильные молитвы!
—транным образом нечестивый муж четырежды делал все, что требовалось дл€ душевного поко€ жены, хот€ весьма и весьма сомнительно, чтоб он верил в силу паломничества. ѕо всей веро€тности, он полагал, что только таким путем ему удастс€ склонить донну Ёльвиру к нарушению данного ею обета. ¬о вс€ком случае, достоверно одно: когда донна Ёльвира вознамерилась в п€тый раз исполнитьс€ благодати от гроба еще одного св€того, ƒон-∆уан возроптал.
Ч Ётим ненасытным кутейникам,Ч сказал он, выбира€ слова только бранные и кощунственные, Ч видно, мало того, что они сожрали полкоролевства! ћало, что во врем€ свадеб или крестин они столько выкачивают из нас на храмы, что во всей —ьерре не хватит камн€, начни они строить все, на что выкачивают. ј теперь уж и это они пытаютс€ обложить налогом?
Ч ќ сударь! Ч вспыхнув, воскликнула донна Ёльвира, Ч √осподь вправе от нас ожидать,Ч кротко сказала она затем, Ч чтоб мы украсили его обитель подобающий образом, раз мы сами его просим о чем-то...
Ч √осподь!.. я убежден, что господь в этом случае не дал бы нам иного совета, чем думать поменьше о его п€ти св€тых ранах!
¬сегда усердный в благомыслии отец ’именес теперь посчитал, что проник наконец в промысел божий.
Ч ак может господь даровать ребенка отцу, Ч сказал он своей духовной дочери, Ч в котором он не уверен. Ќе уверен в том, что р€дом с таким отцом нежна€ младенческа€ душа будет воспитана в его почитании и войдет затем в небесный сонм св€тых?
Ќемало усилий приложила донна Ёльвира, пыта€сь наставить супруга на путь истины. Ќо ƒон-∆уан с возрастающим раздражением отвергал все ведущие к спасению помыслы. » сеньора наконец пон€ла, что очерствевша€ в безбожии душа супруга вот-вот поставит под угрозу вечное спасение. ј ƒон-∆уан пришел к мысли объ€вить их брак недействительным и искать утешени€ в союзе с другой, более покладистой женщиной, Ћюбовь Ч как это часто бывает Ч угасла, оставив вместо себ€ лишь пепел жарких споров и черные угольки от пролитых слез.
–азводу, согласно каноническому праву, должно быть, ничто не преп€тствовало. »бо дойна Ёльвира была непреклонна в нежелании нарушить данный ею обет. ј наша св€та€ церковь хот€ и советует, но в подобных случа€х, как известно, не принуждает неудовлетворенного супруга сохранить брачный союз. » донна Ёльвира удалилась в севильский монастырь, пастырем которого был преподобный отец ’именес. «а этот богоугодный поступок св€тому отцу оставалось лишь превозносить свою духовную дочь. Ёльвира была щедро одарена небесами. ≈е красота Ч как отмечали Ч была столь совершенна, что побудила даже некоего св€того, доведенного в своем восхищении до третьей степени мистического экстаза, признать в ней исключительное творение рук господних. ƒуша же двадцатип€тилетней Ёльвиры была чиста и невинна, как душа младенца!
≈пископ —евильи, которому отец ’именес передал дл€ отправлени€ в папскую курию прошение ƒон-∆уана и донны Ёльвиры “енорио о расторжении брачных уз, а также благородные подношени€, сделанные ими по этому случаю с самыми благими, ведущими к спасению цел€ми, сложил молитвенно костл€вые руки и произнес следующее:
Ч Ёта просьба угодна всевышнему, сын мой! я убежден, что решение будет благопри€тным и лишь усилит на земле могущество и почитание церкви господней.
» все пошло бы своим чередом, не снизойди вдруг на св€того отца ’именеса новое прозрение свыше. ¬незапно в час вечерней молитвы он постиг во всей ее глубине самую сущность замысла божьего. ¬сю ночь слуга господа не смыкал глаз и, лишь только забрезжило утро, весьма резво вскочил с постели и поспешил в резиденцию епископа.
Ч я грешен духом, отец мой! Ч призналс€ отец ’именес епископу. Ч Ќо почему мы должны жить по принципу Ђpars pro totoї, почему должны довольствоватьс€ лишь частью? –азве не существует обычай, что, если какой-либо знатный род угасает, его земное досто€ние переходит в самые достойные руки, в руки нашей св€той церкви, дабы сокровища рода, приобщившегос€ на небесах к сонму св€тых, благоухали в кладовой пашей матери церкви, котора€ трудитс€, трудитс€ неустанно, стрем€сь приумножить сокровища духовные?! –азве не в этом заключен сейчас промысел божий? Ч “ак говорил св€той отец, разгор€ченный благочестивым усердием.
≈пископ взвесил создавшеес€ положение.
Ч ак сказано, сын мой, лучше синица в руках, чем журавль в небе.
Ч ј разве, отец мой, не сказано: не гонитесь за малостью, если в награду за долготерпение вы получите истинное сокровище?
Ч —ын мой, если ты говоришь это как духовник Ёльвиры... Ч наконец согласилс€ епископ, Ч тогда мы не можем ложной кл€твой вводить св€той престол в заблуждение... ЂMatrimonium nec ratum, neque consumatumї*.
(*«десь: ЂЅрак не осв€щен церковью, ибо не существовал в действительностиї (лат.).
ак в действительности обсто€ли дела с супружеством, осталось навеки тайной исповеди!
Ѕыло ли оно, как и прежде, духовным, или Ёльвира, с одобрени€ исповедника, рискнула ослабить данный ею обет?
“ем временем ƒон-∆уан был полон надежд получить развод. ќн вновь зажил холост€цкой вольной жизнью и, как видно, не зр€, потому что повсюду разнесс€ слух, что страшно богатый “енорио ищет жену, котора€ подарит ему наследника. —амые пленительные девы —евильи, √ранады и јндалузии, эти сладостно благоухающие цветы с напоенными свежестью лепестками склон€ли к нему головки, и он сообразно своим желани€м мог выбрать из них любой. —лучалось, что какой-нибудь из цветков раскрывал лепестки чрезмерно, и ƒон-∆уан его нежно срывал и прикалывал к своей шл€пе. огда же его упрекали, этот неугомонный развратник отвечал:
Ч ѕо сравнению с букетом, который нарвал себе аббат монастыр€ —в€того реста в √ранаде, букетик, собранный мной, пожалуй, слишком скромен!
Ч я ищу жену, Ч оправдывалс€ он, Ч кроткую, но пылкую, преданную и умную, правдивую и бесхитростную.
“ак говорил этот демонический человек, но как он все это понимал! ≈го слуга в св€том трибунале свидетельствовал: однажды ƒон-∆уан поцеловал шершавую, загрубевшую от черной работы руку кресть€нской девушки, трудившейс€ вместе с другими в садах предместь€ —евильи.
Ч ƒевушки, Ч сказал он садовницам, Ч вот из вас € бы выбрал одну себе по сердцу!
—екретарь св€той инквизиции, благородный и подающий большие надежды юноша, не в силах сдержать праведного негодовани€, воскликнул:
Ч акова испорченность, какова развращенность!
» как-то на одном из празднеств в √ранаде он наконец встретил ту, которую так долго искал: ее звали »нес, она была дочерью дона √онсало де ”ллоа. —кромна€ и одновременно пылка€, преданно полюбивша€ ƒон-∆уана, она готова была преодолеть все преп€тстви€, какие могли возникнуть у них на пути. ƒон-∆уан, охваченный нетерпением, стал торопить добрейшего отца ’именеса. —в€той наставник душ Ч сказав впервые правду Ч ответил так: он сделал все, что надо, дело лишь за св€тым престолом. Ќо тут неожиданно на сцену выступила донна Ёльвира и отказалась вопреки обещанию поставить им€ под кл€твой, что брак ее с ƒон-∆уаном должно считать недействительным. ” нас не имеетс€ сведений, по чьему наущению действовала донна Ёльвира. ≈сли так посоветовал ей отец ’именес, то Ч сейчас мне все совершенно пон€тно Ч в этой маленькой и вполне извинительной хитрости ею руководили лишь св€тые намерени€.
—лавный св€щенник, словно преданный ключарь господа бога, весьма усердно следил за судьбой сокровищ, которым вскоре предсто€ло сделатьс€ досто€нием церкви и украсить ее св€тые р€ды. Ќо, увы, в этом смысле небеса заволокло вдруг черными тучами.
≈ще во времена похода на √ранаду к королевской чете €вилс€ некий мореплаватель, генуэзец по имени ’ристофор олумб Ч впоследствии он стал называтьс€ в »спании дон ристобаль олон Ч и предложил проект, ранее отклоненный королем ѕортугалии, суть которого состо€ла в том, что олумб отправитс€ в плавание в западном направлении и, обогнув «емлю с запада, откроет новый морской путь в сказочно богатую »ндию. ‘ердинанду и »забелле проект понравилс€, был ими одобрен, поддержан, но, увы, скорее морально, ибо казна королевска€, основательно подточенна€ междоусобицами и кампанией против мавров, была пуста. ‘лотили€, с которой олумб отправилс€ открывать јмерику, была снар€жена главным образом на деньги городских негоциантов и нескольких вельмож, заинтересованных в торговых отношени€х с »ндией. ќдним из тех, кто поддержал экспедицию материально, был ƒон-∆уан, ѕо преданию, он и сам отправилс€ в путешествие Ч па каравелле Ђ—анта-ћари€ї Ч » вместе с олумбом доплыл до јзорских островов, где их, как известно, застигла бур€. —пуст€ несколько недель олумб снова пустилс€ в плаванье, а ƒон-∆уан вернулс€ в »спанию.
огда весть о его возвращении дошла до отца ’именеса, он поспешил к ƒон-∆уану в самом неподдельном отча€нии.
Ч ќ сын мой! Ч вскричал св€той отец. Ч ак мог ты не посв€тить мен€ в свои замыслы! «ачем ты проматываешь состо€ние, которое твои предки получили от господа бога!
Ч «а то, за что они его получили, Ч ответил св€тому отцу нечестивец, Ч господь, как мне кажетс€, не дал бы им и полушки!
Ч Ќе глумись над св€тыми вещами, сын мой! “ы, как € слышал, поддержал этого безумного генуэзца и пожертвовал ему огромные деньги...
Ч ≈сли € подсчитаю, сколько золота каждый год жертвуют испанцы на ожидающее их блаженство небесное... то в сравнении с этим сумма, которую мы пожертвовали во им€ земного блаженства »спании, покажетс€ сущей безделицей.
Ч ќпомнись, сын мой! ќ каком земном блаженстве ты говоришь! Ќеужели ты в него веришь?
Ч Ќу... ¬се-таки оно более ос€заемо, чем то, другое. Ќе так ли?
Ч “ы веришь, что эти безумцы когда-нибудь возврат€тс€? –азве ты не слыхал о море, которое засасывает корабли? ќ ћагнетической горе? ќ злобных пигме€х?
Ч ¬се о них слышали, отец мой, но никто еще их не видел!
Ч “ы кощунствуешь, сын мой! ј знаешь ли ты, что после дальнего “уле беспощадна€ рука сатаны вт€гивает все суда в морскую пучину?
Ч Ќу-у... Ёто еще, может быть, и неверно!
Ч Ќо Ѕездонный колодец Ч верно! “ы мог сам убедитьс€, что он существует и действует во врем€ приливов и отливов. —начала он всасывает, а затем изрыгает обильные воды океана, и суда, отплывшие далеко от берегов, никогда больше не возвращаютс€...
Ч ƒа € скорее поверю, что на отлив и прилив вли€ет луна.
Ч Ћуна! ¬от так новости! ќтрезвись, образумьс€ же, сын мой!..
Ч я, отец мой, уже отрезвилс€. ѕусть теперь отрезв€тс€ другие. ј дл€ того, чтоб люди исцелились от суеверий, Ч так говорил еретик о доктринах, которые в те времена утверждала св€та€ церковь! Ч € решил основать мореходный штурманский корпус и астрономическую обсерваторию, как король ’уан в ѕортугалии... ≈сли небесам неугодно, Ч добавил он тоном, в котором звучали насмешка и подозрение, Ч чтоб € оставил состо€ние продолжателю рода, то мне угодно истратить свое состо€ние так, чтоб »спани€ не забыла мен€ € благородных “енорио.
Ч ќ-о-о, Ч прот€нул добрейший св€щенник, бледне€ от праведного испуга. Ч —ын мой, не все надежды еще потер€ны, мы можем еще поговорить с Ёльвирой...
ак безбожно было стремление этого человека пустить по ветру громадное Ч и какое громадное! Ч состо€ние... Ќеверо€тно! „тобы кто-то посмел так противитьс€ провидению!.. ќтец ’именес поспешил к епископу, затем навестил аббата, местного главу инквизиции. –ечь шла ведь не о маленьком прегрешении, а об открытом оскорблении божьего замысла! „то ж, св€та€ цель оправдывает средства!
ќтец ’именес не стал беспокоить Ёльвиру, а разыскал Ч поступив весьма мудро Ч дона √онсало де ”ллоа. “ебе следует знать, дорогой мой брат, что дон √онсало враждовал с ƒон-∆уаном. »нес, дочь дона √онсало, знала об этом.
ƒон-∆уан входил в состав миссии, котора€ осенью тыс€ча четыреста дев€носто первого года вела переговоры в √ранаде с королем Ѕоабдилом. ƒон-∆уан был одним из тех, кто готовил то самое соглашение, в результате которого мавры уступили обломки своей европейской империи соединенному королевству астилии и јрагона. ƒон-Ўуан считал дл€ себ€ об€зательным соблюдать недопустимо снисходительный параграф этого соглашени€, предусматривавший свободу вероисповедани€ мавров и евреев. ќднако инквизици€, а вместе с нею и гранды, исполненные благих намерений и высокой чести, Ч и среди них наместник одной из покорившихс€ мавританских провинций командор де ”ллоа Ч все более и более проникались мыслью, как позорен этот параграф дл€ св€той нашей веры. ќни, естественно, не стремились к массовому избиению и тем, кто не ожесточилс€ в €зычество и прин€л ведущее к спасению сн€тое крещение, довольно часто сохран€ли жизнь. Ќо в некоторых провинци€х подлые €зычники все же восстали и заметно опустошили р€ды христиан. ѕровинци€ дона √онсало также оказалась в опасности. ”смир€ть м€тежников ‘ердинанд послал ƒон-∆уана. ¬ это врем€ в лагере командора готовились к совершению акта веры Ч аутодафе: собрались сжечь на костре молодую еврейскую женщину. ’ристианство, правда, она прин€ла, но от благочестивых соседей не укрылось, что она, как и прежде, воздерживаетс€ от квашеного теста, а в день очищени€ вовсе не ест. ƒон-∆уан пр€мо вз€л эту женщину под опеку Ч говор€т, она была очень красива. —ловом, бестактность ƒон-∆уана лишила лагерь воистину поучительного зрелища.
¬есьма показательно, что мавры ƒон-∆уана любили. ќни неоднократно цитировали его более чем постыдное замечание: Ђќбраз жизни магометан показывает верующему христианину пример самых прекрасных добродетелей, а у того, кто €вл€етс€ добрым христианином, даже оран не может выискать то, что следует отрицать. ѕоэтому живите друг с другом в любви и согласии по учению обеих религийї.
— помощью единомышленников из м€тежного стана бушующую провинцию удалось усмирить и восстановить силу прежнего соглашени€. »в довершение обрести врага в лице дона √онсало, что, кстати сказать, не вызывает недоумени€.
¬от к нему-то, к дону √онсало, и помчалс€ усердствующий отец ’именес. Ђ—ердце мое истекает кровью от т€гостного сознани€, что € нанесу отцу смертельное оскорбление. Ќо € должен его нанести ради спасени€ невинной агницы!ї » он поведал дону √онсало, как еретик ƒон-∆уан обольщает прекрасную »нес.
ѕоединок произошел близ √ранады на лесной лужайке, неподалеку от дороги, ведущей в јльгамбру. ћне известно его подробное описание.
Ч ƒон √онсало, € почту за великое счастье, если ты мне позволишь назвать твою дочь своею невестой, Ч сказал ƒон-∆уан до начала схватки. Ч ќткажись же от своего безрассудного замысла!
Ч я скорее согласилс€ бы не иметь дочери вовсе, чем позволить тебе назвать мою дочь невестой! Ч с благородной гор€чностью вскричал де ”ллоа. Ч Ќо ты, видно, боишьс€, Ч с насмешкой добавил он, Ч и не прочь увернутьс€ от остри€ моей шпаги!
Ч я никогда ничего не бо€лс€! “ы же видел, как € один, без охраны, вошел в лагерь восставших мавров!
Ч “ак ведь мавры твои сообщники и друзь€! ќни такие же €зычники, как и ты!
Ч ќстановись, де ”ллоа! я люблю твою дочь всем сердцем. ак только мой брак, который, в сущности, никогда не был браком, будет признан папою недействительным, € попрошу у теб€ ее руки. Ќе будем же обагр€ть наши руки родственной кровью!
Ч “ы умрешь! Ч в праведном гневе вскричал дон √онсало. Ч “ы умрешь, подлый безбожник, потому что обратил на нее свой взгл€д!
Ч ”мрешь ты, а € женюсь на твоей прекрасной дочери. » невинное дит€ не поплатитс€ счастьем за безрассудство своего отца... я даю тебе преимущество, де ”ллоа, стань спиной к солнцу!
» он обошел дона √онсало и стал лицом к €рко светившему солнцу. омандор нападал не в обычной испанской манере, а делал хитрые, обманные выпады, которым выучилс€ у мавров, ƒон-∆уан тем не менее с легкостью отражал удары, ни разу не дрогнув, ни разу не отступив назад. Ѕолее того, он не сделал ни шага вперед: отразив нападение, он плавным ответным ударом лишь теснил противника, принужда€ его вернутьс€ на прежнюю позицию. ќн дралс€ так просто, как дерутс€ дес€ти Ч двенадцатилетние мальчики, обучающиес€ в школе фехтовани€. “олько сведущий в искусстве фехтовани€ человек мог заметить его зоркий, настороженный взгл€д, мгновенную реакцию стальных, моментально спружинивающих мышц, его необыкновенное самообладание. — ним была сила сатаны! ќтец ’именес, безусловно, был прав. ƒважды бросалс€ на противника дон √онсало, и дважды ƒон-∆уан отразил нападение. огда же дон √онсало атаковал в третий раз, то наскочил на острие клинка ƒон-∆уана. –ыцарь не поверил своим глазам, когда увидел проколотого противника, судорожно подрагивающего на клинке его шпаги. —лишком простым был удар, остановивший дона √онсало. Ќа маневр, какой применил дон √онсало, только так отвечают во всех фехтовальных классах. — этой встречной хитростью, отражающей нападение, знаком даже самый неопытный фехтовальщик. ј командор был фехтовальщик прославленный... —ила сатаны!
Ќеподалеку от места, где происходил поединок, сто€ла старинна€ мавританска€ мечеть. Ќабожные родичи де ”ллоа украсили ее, не жале€ денег, и перестроили в гробницу, где и схоронили дона √онсало. ≈пископ √ранады осв€тил мраморное надгробие Ч высокую могучую статую, облаченную в римскую тогу, с венцом на голове, с прижатой к груди левой рукой и слегка прот€нутой вперед правой, ЂInteger vitae scelerisque purus Ц гласила эпитафи€, - Maurorum fulgur, Cristianorum atque spes, virtutibus decoram pro fide interepide luctatus reddidit animam Creatoriї*.
(* ЂЁтот человек, проживший здоровую и безгрешную жизнь, был грозой мавров и надеждою христиан и, несокрушимо сража€сь за веру, отдал создателю блистающую добродетел€ми душуї (лат.).
¬ полном отча€нии отец ’именес рухнул к ногам епископа.
Ч ќн был искуснейшим фехтовальщиком, его слава гремела далеко за пределами провинции. то бы поверил, что такое случитс€! то бы поверил! Ч рыдал славный св€щенник. Ч Ќет, нет, здесь не обошлось без лукавого, то была сила сатаны, отец мой!.. ƒруг мавров! Ќасмеха€сь над нашей св€той инквизицией, он выказывает пренебрежение к очистительному бичу всемогущего!.. ћожно ли допустить, чтоб дь€вол вз€л верх над справедливостью царства божьего?!
—в€той инквизицией был отдан приказ схватить убийцу наместника, но король приказ отменил. ак вы€снилось, дочь покойного командора, носивша€ по нему глубокий траур, выказала себ€ жалкой предательницей отца и в своих показани€х за€вила, что дон √онсало Ђпал в равной борьбе в рыцарском поединке, зачинщиком коего был именно онї.
Ч ѕодумаем о невинных, которые возмут€тс€! Ч напомнил ’именес епископу св€тые слова. Ч ћы всего только скромные оруди€ в руках божьих... Ч ќн опустилс€ перед епископом на колени и под св€щенной печатью тайны исповеди изложил своей проект, тут же испросив себе отпущение на случай, если его замысел окажетс€ вдруг греховным. — подобающими сану сдержанностью и осторожностью епископ заметил: Ђј нельз€ ли все же ускорить развод...ї
Ч ќтец мой! Ч вскричал ’именес. Ч ѕодумайте о невинных, которых возмутит могущество сатаны!
“огда они запросили мнение главы св€той инквизиции.
¬ пепельную среду ƒон-∆уан получил от донны Ёльвиры послание, состо€вшее из нескольких весьма странных, сумбурных фраз: Ђ—ударь, если в ¬ашем сердце пам€ть обо мне еще не угасла, приходите в страстную п€тницу к вечеру в храм св€того ћаврики€. ¬се сестры нашей св€той обители прибыли на праздник в √ранаду послушать пасхальную проповедь его преосв€щенства и посмотреть церковные драмы. ѕрежде чем упр€тать лицо под вуаль, € хочу услышать из ¬аших собственных уст, что ¬ы не желаете в тесном союзе со мной возвратитьс€ на путь веры и правды. ≈сли ¬аши уста произнесут слово Ђнетї, € там же, на месте, поставлю подпись под кл€твой, необходимой дл€ расторжени€ брачных уз. » удалюсь, чтоб до конца своих дней, отвратив душу от мирских наслаждений, в неустанных молитвах просить у небес счасть€, прощени€, вечного спасени€ ƒон-∆уану “енорио. ƒонна Ёльвира “енориої.
¬ первом порыве души ƒон-∆уан см€л письмо и швырнул его в угол, Ђјга! Ч сказал он, Ч ¬се это козни ’именеса, этого попа с бесовской харей...ї ћужа, рукоположенного в сан, он обозвал бесовской харей!
’рамом св€того ћаврики€ называлась капелла, где были погребены останки дона √онсало де ”ллоа.
Ђѕоложение поистине трагическое! Ч продолжал монолог этот неистовый богохульник. Ч ’а-ха-ха! »м, конечно, нужны мои деньги. ƒавшие обет вечной бедности не считают достаточным Ђобручальным подаркомї, обычным при пострижении в христовы невесты, тощее состо€ние донны Ёльвиры. »м хочетс€ подоить мен€ напоследок!ї ѕотом у него мелькнула мысль, что если он не €витс€ в храм, то окончательно лишитс€ надежды расторгнуть брачный союз.
ќн велел подавать лошадей и ночь, предшествующую страстной п€тнице, провел в своем замке в √ранаде. ќн любил этот город. я тоже его полюбил; полюбил его древние камни, окружающие его мрачные исполинские горы и лесной, напоенный несказанной свежестью воздух.
Ќа неширокой дороге, ведущей в јльгамбру, вечер спускалс€ рано.
Ч ƒороги теперь опасны, сударь, Ч уговаривал ƒон-∆уана его славный слуга, Ч давайте прихватим побольше оружи€!
Ч ѕриказ корол€ касаетс€ и мен€, Ч сказал ƒон-∆уан заносчиво. Ч “ебе же, кстати, бо€тьс€ нечего, нас ведь двое: ты, конечно, не в счет, зато со мной мо€ шпага!
√ород осталс€ позади, когда на повороте извивавшейс€ вверх дороги они услыхали крик и бр€цанье шпаг. «атем увидели четырех мужчин, трое из которых нападали на одного.
Ч Ѕой неравный! Ч воскликнул подлый безбожник ƒон-∆уан, Ч ѕодожди мен€ здесь, Ч бросил он слуге и, обнажив свою шпагу, ринулс€ на помощь тому, кто отражал удары троих. » тогда у слуги кровь в жилах застыла: он увидел, как шпаги всех четверых, нападавших и Ђзащищавшегос€ї, дружно обратились против его господина. —хватка, однако, продолжалась недолго. ќдному из наемников, дравшихс€ во им€ св€того дела, ƒон-∆уан проткнул сердце, второму, пострадавшему за св€тую церковь, нанес т€желую рану в бедро, и двое других бежали.
Ч јх, злодеи! ¬от к какому коварству они прибегли... Ч процедил ƒон-∆уан, человек на редкость везучий, вытира€ клинок пучком травы. Ч Ќу, неважно! ѕойдем-ка, малый!
Ч —ударь, Ч взмолилс€ слуга, Ч на дворе уже вечер, а когда мы дойдем назад, будет глуха€ ночь... уда нам в такую темень идти? ¬ернемс€ назад! —трашно, когда за каждым камнем опасность!..
Ч ≈сли боишьс€, возвращайс€ один. ј € должен покончить с делами.
Ч ћне страшно, сударь!.. —трашно идти и страшно одному возвращатьс€ назад. Ќо лучше уж € пойду с вами...
«атхлый запах, сто€вший в капелле, алый отблеск маленького светильника и колыхавшиес€ по стенам черные тени внушали благоговейный трепет. ругом царила зловеща€ тишина.
Ч ћы пришли уже, сударь? Ч шепнул слуга, пуга€сь шип€щего, но гулкого эха. Ч Ќочь на дворе... Ћуны не видать, а мы не вз€ли с собой даже факела... Ѕудет драка.
Ч ћы пришли сюда не затем, чтобы дратьс€. ћы в гост€х. ¬от у него, Ч засме€вшись, высокомерно сказал ƒон-∆уан и указал на статую. Ч “ы его узнаешь? Ч спросил он с ехидством, поддразнива€ богобо€зненного юношу, потому что заметил трепет бедн€ги при виде осв€щенного надгробного пам€тника.
Ч ј... ќ!.. омандор! Ч едва вороча€ €зыком, проговорил слуга, почти лиша€сь сознани€.
ј ƒон-Ўуан все шутил.
Ч ƒавай посмотрим, что тут написано. Ч », скорее нащупыва€ руками, чем вид€, он разобрал эпитафию.Ч ’а-ха-ха! Ч захохотал ƒон-∆уан, и его адский хохот гремучим эхом отозвалс€ под куполом. Ч » обо мне написали бы то же, обо мне, из-за которого ты, Ђнесокрушимо сража€сь за веру, отдал создателю блистающую добродетел€ми душуї! ¬ нашем мире, аталинон, Ч сказал он слуге, Ч все суета сует! ƒаже в могиле мы не в силах отказатьс€ от пышного убора из лживых слов... ƒа не дрожи ты как осиновый лист! ѕодойди к благородному хоз€ину дома, Ђпрожившему здоровую и безгрешную жизньї, и поздоровайс€ с ним, как требует этикет. «доровайс€, ну же! ¬идишь, он прот€нул тебе руку!
Ч ќ мой сеньор, Ч сложив молитвенно руки, рухнул перед статуей на колени богобо€зненный юноша. Ч ќ господин командор! ƒуша тво€ блаженствует на небесах! Ќе обижайс€ же на кощунственные слова! ’оз€ин мой верит только тому, что дважды два... Ќе ведает он, что творит.
ƒон-∆уан в это врем€ словно бы потешалс€ над благочестивым усердием слуги.
Ч “ы не знаешь, как подобает здороватьс€. ¬идишь его правую руку? ќн ее подает, и сейчас € ее пожму. Ч », прот€нув свою руку, он пожал мраморную десницу.
¬ тот же миг послышалось какое-то едва слышное шарканье, какое-то глухое постукивание, многократным эхом отозвавшеес€ среди мраморных стен. —луга, вскрикнув, рухнул лицом на камни.
Ч —ударь, сударь, оставьте, не богохульствуйте!.. Ќеужто вы не слышали, что стату€ заговорила? ≈сли даже этот знак не зовет вас к раска€нью, когда своими ушами вы...
Ч —котина, Ч сквозь зубы процедил ƒон-∆уан.
Ч —ударь, сударь! ѕерестаньте его дразнить! Ќе подобает в таком тоне разговаривать с блаженными душами!
Ч ƒа не ему € сказал, Ч нетерпеливо отмахнулс€ от слуги ƒон-∆уан, так как его внимание было поглощено другим. √улкие стены, словно жела€ скрыть тайну, отразили приглушенные звуки с разных сторон, но доносились они все-таки из-за статуи. азалось, кто-то споткнулс€ и, отступив назад, ударилс€ каблуком о камень.
ќсторожным, неслышным кошачьим шагом ƒон-∆уан обогнул мраморный пьедестал и прин€л позицию, держа шпагу так, чтобы дл€ глаз противника она оставалась невидимой: он приготовилс€ отразить предательский удар и на него молниеносно ответить.
“от, кто во им€ св€того дела, отринув от себ€ вс€кий страх, прижалс€ к статуе сзади и учащенно дышал пересохшим гор€чим ртом, знал, что перед шпагой ƒон-∆уана он совершенно бессилен. » потому выт€нул дрожащую руку, в которой сжимал большой пистолет. ƒон-∆уан, готовый молниеносно отразить нападение, ждал, затаив дыхание.
Ђћолни€ сверкнула, гром громыхнул, да так, что сотр€сс€ кругом весь мир. ћен€ подхватило вихрем и бросило с силой на землю,Ч так говорил слуга немым от благоговейного ужаса судь€м св€той инквизиции.Ч огда € подн€лс€, там была могильна€ тишина, а в воздухе пахло серой. ” подножи€ статуи головою вперед лежало тело сеньора. я вознес небесам молитву и, вручив себ€ господу богу, пустилс€ бежать. Ќоги дрожали, но € бежал вовсю мочь. » покуда добиралс€ до города, пересказал св€тым четкам, славным, горестным, утешающим, лишь дес€тую часть всего, что знал, не утаив ни единой тайны. —олнце сто€ло уже высоко, когда € и другие слуги из замка пришли в храм св€того ћаврики€ и увидели новое чудо: грешное тело исчезло, будто провалилось сквозь землю, ни следа, ни п€тна кровавого, ничего от него не осталось...ї
—лугу потащили на дыбу, и там, на дыбе, скрепил он кл€твой свои показани€. »бо по канонам св€той религии с помощью всемогущего только на дыбе можно было уверитьс€ в правдивых показани€х того, кого подвергали допросу, за исключением знатных господ или же духовных особ. “ри дн€ заседал св€той трибунал, три долгих, напр€женных и мрачных дн€, от утреннего благовеста и до вечерней молитвы Ave Maria.
Ќа четвертый день был вынесен приговор. ”томленный бессонными, проведенными в молитвах ночами, прикрыв обведенные синими тен€ми глаза, господин аббат неторопливо и вн€тно диктовал из€щные латинские фразы св€тым духом подсказанного текста. Ћевой рукой он поглаживал свисавшую на грудь остроконечную седенькую бородку, а на его губах играла, си€ла блаженна€ улыбка, присуща€ тем, кого не покидает св€та€ благодать. ќн любил красивые латинские слова и, кто бы что ни говорил, предпочитал всем другим изысканные творени€ благородного —алюсти€.
Ч Ђ...кто до конца оставалс€ ожесточенным в €зычестве, кто с нелепым высокомерием до последнего вздоха отвергал безграничное милосердие божие, того на вечное прокл€тие сатане обрек всемогущий господь. ¬се, что словом и делом в жизни он не свершил, то во веки веков возвестил примером смерти. ¬о им€ ќтца и —ына et cetera...ї
¬се движимое и недвижимое имущество осужденного на вечные муки было конфисковано св€той инквизицией. ƒа будет мертвое, грехом оскверненное золото источником животвор€щих благ в руках усердного ключар€ всемогущего господа!
Ђя сделал бы все, чтоб сохранить ƒон-∆уану жизнь, Ч сказал ‘ердинанд »забелле, когда ему донесли о случившемс€, Ч даже в том случае, если бы нажил себе врага. Ќо € не могу воскресить из праха покойного другаї.
» на этом повелитель католический успокоилс€, ибо знал: горе возмутител€м.
≈ще слетали с разверстых в улыбке губ его преосв€щенства витиеватые, цветистые фразы, еще, потрескива€, пылали свечи в судебном зале св€той инквизиции, когда в какой-то таверне зазвенела гитара. ѕроводившие там досуг городские наемные стражники и попивающие вино ремесленники обернулись и придвинули к музыканту свои громоздкие табуреты. ћаленький горбун с дубленым смуглым лицом запел. ќн пел новую песню Ч песню о ƒон-∆уане. ќ благородном рыцаре ƒон-∆уане, который принес мир маврам и христианам, который плавал по бурным мор€м, дралс€ на шпагах, всегда побеждал и даже сатаны не бо€лс€.
ј вечером того дн€ в —евилье, √ранаде и романтической јндалузии не одна прекрасна€ дама припоминала, как блистательно дерзкий рыцарь одарил ее однажды улыбкой либо восхитительным комплиментом. ј может, и чем-то большим. ¬ пам€ти постепенно всплывает и отчетливей про€вл€етс€ прошлое.
Ќо пастыри бога недреманным оком следили за его стадами. Ќарод поет, а как знать, ангел или лукавый вкладывает в уста народа чарующе-пленительные звуки? Ќе то же ли происходит сейчас? ѕонимают ли простаки, каким источником благости может служить эта истори€? акой она красноречивый пример бесконечного милосерди€ и спасительной благодати божьей, которые изливает он на чада свои и которые сотней ручьев текут по руслам речей духовника, супруги, слуги неразумного и про€вл€ютс€ в предостерегающих знамени€х, грозных вихр€х и чуде ожившей статуи. Ќо того, кто, ожесточив свое сердце, опалит душу адовым пламенем и не допустит, чтоб коснулась ее роса спасительной благодати, того, словно засохшую ветвь, он отдел€ет от цветущего дерева и бросает в геенну огненную.
» вот, когда зазвонили колокола, возвеща€ о том, что настал канун рождества, в церквах астилии, јрагонии, Ћеона, —евильи, јндалузии и √ранады верующие смогли посмотреть новую поучительную церковную драму, которую венчало великое чудо. ј сто лет спуст€ в назидание ревностным христианам написал свое знаменитое сочинение брат √абриэль Ч “ирсо де ћолина. „еловек благочестивый и просвещенный, он отделил семена от плевел и живописал нравоучительную картину, не пожалев ни света, ни тони. ј эту историю Ч сейчас мне особенно €сно, что он поступил очень правильно,Ч перенес в глубь веков: в самое начало четырнадцатого столети€, когда еще не было ни пистолетов, ни пороха.
“акова истинна€ истори€ знатного испанского гранда, безбожника ƒон-∆уана “енорио.
¬ообрази же себе, дорогой мой брат, как € был потр€сен, как утратил душевный покой, когда увидел эту легенду в свете истины. ƒело не в том, что мне представилась блага€ возможность обогатить собрание церковных легенд еще одним новым, признанным по всей форме чудом; дело в том, что € натолкнулс€ на опасную, страшно опасную истину! Ћгал ли брат √абриэль? Ќеужели епископы, рукоположенные св€щенники и прочие брать€ семнадцати тыс€ч трехсот и других дев€носта тыс€ч восьмисот церквей все решительно были лжецами и лицемерами? ѕрекрасно, € понимаю, что ими руководила блага€ цель: показать силу пашей церкви, наставить, хорошенько наставить наших верующих. » все же в ушах у мен€, словно речь искусител€, звенел тот нехитрый испанский романс, в котором народ воспел ƒон-∆уана. » € вн€л голосу искусител€ Ч ты сам видишь, как в этой истории легко впасть в заблуждение, как легко перепутать добро и зло. я вн€л искусителю и усомнилс€ в том, что ƒон-∆уан действительно был безбожен, и почти счел таковым отца ’именеса, епископа и Ч господи, прости мен€ и помилуй! Ч даже св€тую инквизицию!
я уже говорил, любезный брат, что сомнение даже в малости, какой €вл€етс€ это незатейливое предание, подобно едва заметному ручейку в лесу. “ы начин
ѕреподобный отец, дорогой брат мой јнсельм! я обращаюсь к тебе после шестимес€чного отсутстви€, с душой, переполненной скорбью, и молю прот€нуть мне руку помощи. я сломлен не непривычностью чужедальней страны и не изнурительным путешествием. я сломлен иным Ч странствием, которое совершаю в тихом уединении своей кельи среди штормов и бурь жутких, непередаваемо жутких сомнений. ј оно пострашнее многих скитаний ломает и душу и тело.
ѕрошло п€тнадцать лет, как мы с тобой прин€ли сан и расстались. “ы, дорогой брат, следу€ призванию своих многочисленных св€тых предков, пошел по высокой стезе духовного пастыр€; €, тщеславно уверовав в свой мнимый талант и невольно Ч ибо намерени€ их были самые чистые Ч введенный в заблуждение нашими св€тыми наставниками, погрузилс€ в изучение богослови€. Ќынешней весной минуло ровно тринадцать лет, как € получил степень доктора и дал кл€тву и как аббат нашего ордена удостоил мен€, недостойного, звани€ профессора теологии нашей ƒуховной академии.
я был недостоин Ч признаюсь тебе в этом, как призналс€ бы перед господом богом,Ч отнюдь не помыслами своими. л€тву, что € посв€щу себ€ поискам истины и, познав, открою ее своим ближним, € давал со всей искренностью, с пылкой и чистой душой.
Ќе помню уж, среди изречений какого народа € открыл вот это: Ђ”кравший истину вор, убегающий, чтоб припр€тать ее, там и с€м рассыпает ее семена. ј глаза того, кто ищет ее через столеть€, наход€т лишь следы засохших сем€н. Ќо и эти следы привод€т к истинеї.
¬от так с давних пор думал в простоте душевной и €, что смогу различить на пути своем едва видимые следы скрытой истины. ѕомнишь ли ты наши неусыпные бдени€, когда мы спорили ночь напролет? ѕомнишь, как, сопоставл€€ тезисы св€тых отцов и св€того ‘омы јквинского, мой разум несовершенный лихорадочно искал путь, который вывел бы нас из лабиринта противоречий? я искал путь вместо того, чтобы с помощью веры перешагнуть через все, что недалекому уму недоступно! ќ брат мой! — каким безграничным терпением, с какой непостижимой кротостью ты выслушивал мои бестолковые рассуждени€! —колько раз теб€, кто от самой зари с младенческим смирением, благогове€, усердствовал перед богом, а не упр€милс€, как твой несчастный друг, снедаемый высокомерием и самонаде€нностью в знании,Ч ах, сколько раз одолевал теб€ сон! —колько раз прерывал ты поток моих слов небрежным жестом и тихими простыми словами, присущими лишь ангелам и св€тым: Ђƒа плюнь ты на них! ѕойдем лучше выпьем!ї
ј ведь прежние мои сомнени€ были так ничтожны в сравнении с теми, что возникли потом.
я хотел во всем подражать тебе и многим-многим смиренным брать€м своим во ’ристе. ћне хотелось даже ходить, как ты, потупив взор и целиком положившись на бога, а вечерами, возвратись с виноградника, засыпать, как ты, блаженным, праведным сном. » € ходил, опустив глаза и поручив себ€ богу, но что €, несчастный, мог с собою поделать, когда перед моим потупленным взором непрерывно мелькали рассыпанные там и с€м семена и дразнили дь€вольским искушением!
II не раз, признаюсь, € поддавалс€ соблазну, забыва€ о том, что господь наделил нас рассудком не затем, чтобы размышл€ть и доискиватьс€ до тайн творени€, забыва€ї что плод древа познани€ ободрал уже глотку нашего прародител€. — прит€гательным сомнением € полагал: € ученый, стало быть, мой св€щенный долг идти по этим следам с вечной надеждой, что когда-нибудь блеснет предо мной свет неведомой пока истины и она приумножит бесконечную славу всевышнего и послужит еще более €сному постижению его безграничного величи€.
» эта мысль была внушена мне дь€волом!
Ћ истина, подсказанна€ человеческому разуму дь€волом, если ревностна€ вера не поставит ей несокрушимый предел, истина эта что стру€ща€с€ вода. “ы пускаешьс€ в путь вдоль лесного едва заметного ручейка и приходишь к ручью, от ручь€ к речке, от речки к реке и выходишь в конце концов к морю Ч совокупности всех больших и малых вод. ј чем греховней учение, тем бледнее мерцает питаемый св€тым елеем светильник веры.
ƒоказательство тому Ч случай, происшедший со мной. ќ нем € сейчас тебе расскажу.
Ёто было прошлой весной. ≈го преподобие отец ’ризолог, который, согласно воле нашего ордена, провел сначала три года в –име, а затем св€тейшим папой был послан проповедовать нашу веру €зычникам в »ндию, где пробыл целых дес€ть лет, наконец вернулс€ домой и навестил академию. ѕосле ужина в честь почетного гост€ мы позволили себе некоторые плотские радости, отнюдь не противоречащие воле божьей, и, при€тно беседу€, засиделись за столом до рассвета.
»з той богатой страны наш брат-миссионер привез весьма ценные вещицы, невинные дары новообращенных детей нашей бесконечно св€той веры. » тогда, как-то ассоциативно, речь зашла о поразительном невежестве тамошнего народа. ѕривод€ примеры нелепых фантасмагорий цар€щего там €зычества, отец ’ризолог рассказал, что, по представлени€м суеверных индусов, земл€ наша держитс€ на спине слона, слон стоит на чем-то еще и то, на чем стоит слон, не что иное, как огромна€ черепаха. Ђ¬идели бы вы,Ч рассказывал он,Ч их изумление, когда им был задан вопрос: а на чем же держитс€ черепаха?ї “акое же изумление выразили они, когда он пыталс€ им разъ€снить, что земл€ в слоне не нуждаетс€, что и без помощи слона она будет держатьс€ в космическом пространстве и останетс€ на своей орбите. ћы хохотали над фантасмагори€ми €зычников, как над забавнейшим анекдотом. „уть позже очередь дошла и до них Ч отец ’ризолог, развеселившийс€ от вина, щедро угостил наш братский благочестивый кружок, собравшийс€ во им€ господне, прелестными истори€ми совершенно иного рода, большим знатоком которых он был. »х € перескажу тебе при случае устно.
Ќа следующий день, чтоб позабавить нашего медика, доктора яноша –егена Ч он бывает у нас через день, ибо врачует мой гнойник, который, как тебе известно, € подцепил однажды в бане,Ч € рассказал ему о наивном мировоззрении суеверных индусов. ќднако рассказ его не только не рассмешил, но заставил заговорить самого (его ли это были слова или дь€вола, в его образе пробравшегос€ в мою обитель?).
Ч ¬ы, преподобный господин профессор, суевери€м, разумеетс€, не подвластны? Ч спросил он мен€.
я лишь улыбнулс€, не затрудн€€ себ€ ответом:
Ч »так, Ч продолжал врач, Ч вы полагаете, господин профессор, что мир существует вечно?
Ч Ќет,Ч возразил €, Ч мир не может существовать вечно, ибо берет начало от сотворени€.
Ч то же, однако, его сотворил? Ч последовал новый вопрос.
Ч –азумеетс€, бог, Ч ответил €, все еще без каких-либо подозрений.
Ч Ќу, а бога кто сотворил?
я взгл€нул на него с изумлением.
Ч ƒаже младенцу известно, что бог вечен!
Ч ј что вы ответите, если € скажу следующее: либо кто-то сотворил бога, либо мир богом не сотворен, мир вечен.
я впилс€ в него глазами, а он, вольнодумец Ч или сам дь€вол, Ч засме€лс€ мне пр€мо в лицо.
Ч ѕростите мен€, Ч сказал он, Ч но мне кажетс€, что так же, как вы сейчас, смотрели суеверные индусы, когда им пытались внушить, что либо черепаха стоит на чем-то, либо «емл€ не нуждаетс€ в слоне!
— этими словами доктор –еген ушел.
ќ чудовищное безбожие! ќ прокл€тье прокл€тий! «аметь, однако, дорогой брат мой, как привлекательна эта иде€ дл€ грешного разума. я с досадой рассме€лс€, но над сказанным все же стал размышл€ть, совершенно не забот€сь о том, что размышл€ть о подобных вещах нельз€, ибо даже мысль об этом Ч непростительный грех против св€того духа.
ѕозже на св€той исповеди € пока€лс€ в своем т€жком грехе моему духовнику, его преосв€щенству, ректору академии. ¬ыслушан мен€, его преосв€щенство воспылал праведным гневом. ќн подн€лс€ с кресла, стал расхаживать взад и вперед и приводить мне доказательства из ЂSumma Theologiaeї, подтверждающие бытие бога. (ƒва из них он пропустил, и € ему их напомнил.) ”крепив таким образом свою веру, € получил отпущение грехов и предписание о спасительной епитимье. ќна вылилась в воскресную проповедь, бичующую безбожие, которую мне предсто€ло прочесть вместо него в храме самой респектабельной части города. ” ректора же в час проповеди нашлись заботы иные. (я знаю, что тебе небезразлична жизнь нашего ордена, и поэтому сообщаю: это все та же особа, но, естественно, постаревша€ и располневша€ после рождени€ четвертого ребенка. ак далека она от стройного, воздушного существа, каким была во врем€ наших летних вакаций в ‘юреде!)
»так, сочетав при€тное дл€ себ€ со спасительным дл€ мен€, его преосв€щенство обратил мое внимание на одно новое, очень ценное собрание легенд. √отов€сь к проповеди, € стал их листать и наткнулс€ на известную легенду о ƒон-∆уане “енорио. Ёто устрашающа€ и весьма поучительна€ истори€. ћне пришлось очень кстати, что в Ѕудапеште в те дни на театре играли оперу ћоцарта, придворного музыканта недоброй пам€ти его императорского величества »осифа, написанную по мотивам этой легенды. я допускал, что воспоминание о прослушанной опере усилит воздействие притчи на многих, кто будет присутствовать на торжественной мессе*.
(* ѕервое представление оперы ћоцарта Ђƒон-∆уанї Ч если его имеет в виду автор письма Ч состо€лось в ¬енгрии в 1839 г. —ледовательно, письмо написано примерно в то врем€.Ч ѕрим. јвтора).
я, дорогой брат, не хочу быть нескромным и возноситьс€ пред тобой своими заслугами, но не могу умолчать о том, что сказал св€той пастырь респектабельного прихода о воздействии на прихожан моей проповеди. ќн сказал, что кружечный сбор в тот день был вдвое больше обычного. (“олько это он и заметил!) ќднако о проповеди пошла молва, многих и многих она укрепила в ревностной вере, и на третий день ко мне обратилс€ глава ордена францисканцев с просьбой выступить в день св€той девы ћарии с подобной проповедью у них. я согласилс€. –аздумыва€ над тем, как подать сей назидательный пример, чтоб он прозвучал особенно впечатл€юще Ч признаюсь, эта поразительна€ истори€, столь увлекательно доказывающа€ всемогущество бога, мен€ весьма и весьма заинтересовала, Ч € прин€л решение ознакомитьс€ с нею во всех подробност€х в самое ближайшее врем€. ”чебный год в академии шел к концу, и досуга у мен€ было достаточно.
ƒа и материала было, более чем достаточно, ибо писали об этой истории многие, причем каждый ее трактовал по-своему. Ќашелс€ и такой нечестивец писатель, который Ч мне страшно даже произнести Ч вылепил из этого легендарного грешника подлинного геро€. ќднако сочинители в подавл€ющем большинстве греховность его умножали, они приписывали ему вс€ческие злодейства, сообразу€сь с собственным вкусом, то есть с тем, что каждый из них натворил бы сам, если бы не страшилс€ карающей десницы господней. —ловно осужденному за неверие на вечные муки нужны еще какие-то преступлени€! »звестно Ч это утверждали многие италь€нские сочинители,Ч что он был неукротимый волокита и ловелас. ƒругие, как, например, француз ћольер,Ч что это был искуснейший лицемер и притворщик. «наменитый вольнодумец сочинил, очевидно, своего ƒон-∆уана, чтоб поглумитьс€ над св€той верой и верующими. Ќаиболее правдоподобной представл€етс€ мне верси€ нашего собрата по ордену √абриэл€ “ельеса, носившего впоследствии им€ “ирсо де ћолина, человека праведного, богобо€зненного, описавшего эту историю в начале XVII столети€.
»стори€ тебе, разумеетс€, известна. «натный испанский гранд ƒон-∆уан “енорио был безбожник. ќн прожигал свою жизнь с при€тел€ми, щедро трат€ ее на песни, вино и любовь. ќн был умен и лукав, отважен в сражени€х, дерзок в поединках. ќн пригласил к себе на пиршество мраморную статую заколотого им в поединке командора дона √онсало, а затем, не веда€ св€щенного трепета, нанес ему в гробницу ответный визит и с иронической бравадой обмен€лс€ с мраморным командором рукопожатием. ќтвергнув изъ€вление спасительной благодати господней и не жела€ никакого пока€ни€, он услыхал сотр€сающий раскат грома, увидел вспыхнувший ослепительно адов огонь, который увлек его в преисподнюю.
Ёта поучительна€ истори€ исполнена предостережени€ тем, кто забывает о страхе божьем. “ы, разумеетс€, представл€ешь, как эффектно ее можно преподнести в назидание верующим.
¬ластно захваченный ею, € решил пуститьс€ по следу этого старинного чуда, официально еще недостаточно оцененного. я открою и обогащу собрание легенд нашей христианской религии такими великолепными сведени€ми, которые укреп€т в св€той вере многих колеблющихс€, сильней разожгут плам€ веры у ослабленных духом, а множество преданных преврат€т в еще более ревностных сыновей и дочерей нашей матери-церкви.
» случай вскоре представилс€. —ледовало уладить в »спании кое-какие прит€зани€ нашего ордена, св€занные с делами августейшей фамилии относительно земных благ, кои требовалось обратить на некоторые св€тые цели. ƒоверить бумаге подробности €, разумеетс€, не могу.
ћне было известно, что материал дл€ своей достойной пьесы брат √абриэль заимствовал из истории, которую во врем€ отдельных празднеств в течение целого века разыгрывали перед содрогавшимис€ от св€щенного трепета верующими духовные особы, монахи, послушники в храмах »спании и »талии. «нал € и то, что на юге »спании и по сей день в простонародье рассказывают, будто эта истори€ произошла у них. ≈сть в легенде детали, указани€, географические названи€, на первый взгл€д кажущиес€ не особенно примечательными, но они-то Ч после того как в изучении св€щенных текстов € приобрел известный критический навык Ч и привели мен€ к неколебимому убеждению, что легенда берет начало в истории подлинно жившей личности. я не хочу быть докучливым, любезный мой брат, но не могу не сказать, что особенно возбудило мое любопытство: в более древних вариантах легенды неизменно присутствуют отдельные, казалось бы, не слишком существенные черты главного персонажа. —кажем, его манера разговаривать Ч совершенно неподобающа€ званию, положению Ч с сынами кресть€нскими, со слугой или нищим отшельником, которым он читает насто€щие лекции по атеистической лжефилософии; рыцарство, €вно прогл€дывающее в характере вопреки его гнусным поступкам; его храбрость на поле брани и в то же врем€ нежелание вступать в поединки; путешествие по морю, во врем€ которого он терпит крушение.
ƒорогой брат мой! »споведуюсь пред тобой, как пред богом: в путешествии, предприн€том мной в »спанию, помимо миссии, возложенной на мен€ орденом, € помышл€л о том, что усили€ мои окажутс€ не напрасными, ибо послужат укреплению св€той веры, а также наставлению самого себ€.
”сомнитьс€ в том, что бог действительно карает серным адовым пламенем того, кто его отрицает? ќ нет! Ёто было бы равносильно сомнению в самом слове ’риста! ”сомнитьс€ в том, что мраморный командор действительно ожил? Ёто то же, что подвергнуть сомнению слезы, пролитые два года назад статуей спасител€, сто€щей на св€том чудотворном месте нашего ордена! ѕодвергнуть сомнению достоверность писаний брата √абриэл€? Ќо ведь он был благочестивым св€щеннослужителем и нашим собратом по ордену, какую же цель мог он преследовать, ввод€ в заблуждение верующих? тому же у брата √абриэл€ был столь надежный источник, как семнадцать тыс€ч триста испанских и дев€ть тыс€ч восемьсот италь€нских церквей и в придачу к ним бесчисленные св€тые места, резиденции епископов и наделенные особой милостью кафедральные соборы! Ч где историю веками преподавали высокосановные духовные особы.
Ќет, даже мой подчас преступно совращенный ум, склон€вшийс€ не однажды к пагубному древу познани€, не отваживалс€ на такое кощунство. ¬едь каждое отрицание вместилось бы во множество отрицаний!
Ќе любопытство и не сомнени€, а лишь защита св€той нашей веры подвигла мен€ на это изнурительное плаванье.
¬прочем, уже тогда Ч сейчас, по прошествии времени, € это отчетливо ощущаю Ч мой взгл€д словно был прикован к вновь и вновь искушающим мен€, разбросанным здесь и там семенам истины. »бо, вне вс€ких сомнений, кое-какие неразгаданные моменты гвоздем засели у мен€ в голове. ѕочему брат √абриэль перенес эти событи€ и XIV столетие? ¬едь тогда место действи€ Ч по крайней мере частично Ч находилось под владычеством мавров. я полагал, что недоразумение, столь незначительное, вполне простительно известному своей праведностью писателю. Ќо если это событие произошло в конце XV столети€, на что указывает такое свидетельство, как представлени€ этой св€той истории, которые в течение нескольких лет начала XVI века давали почти в каждой церкви на юге »спании,Ч тогда непон€тно, как мог этот вопиющий безбожник столько лет оставатьс€ в живых? ¬едь св€та€ инквизици€ в те времена не полагалась на плам€ дь€вола ив своем св€щенном усердии сжигала вольнодумцев сама. „то же из этого следует? „то знатный испанский гранд был в фаворе при королевском дворе. “аким образом, логично предположить, что италь€нские модификации, а также общее мнение о порочности нравственных устоев ƒон-∆уана не соответствуют действительности. »забелла, возможно, исход€ из догматов нашей религии, была особенно сурова во всем, что касалось морали и нравственности. √овор€ между нами, дорогой мой брат, очень немногие из членов нашего св€того ордена были бы допущены ко двору ‘ердинанда и »забеллы. » было еще одно обсто€тельство, которое приводило мен€ в смущение: согласно легенде, дь€вол безбожника увлекает с собой, а в поучительной драме брата √абриэл€ после страшной сцены с адовым пламенем слуга его говорит: Ђ¬от € стою с мертвым телом одинї. Ќе менее странно, что ни в одном из источников нет упоминаний о том, куда девалось громадное состо€ние, принадлежавшее архибогатому гранду. Ќе унес ли его тот самый дь€вол, который оставил мертвое тело?
» еще одна мысль мелькнула у мен€ в голове, хот€ € Ч уже наученный бесполезностью своих прежних душевных терзаний Ч думать об этом остерегалс€: почему господь, справедливый и мудрый, столь сурово воздал за безбожие одному ƒон-∆уану?
ѕочему в наши дни легионы еретиков в целости и сохранности беззаботно расхаживают по свету?
¬от какие сомнени€, повтор€ю, тлели в моем мозгу в то врем€, как в сердце пылал €сный и €ркий огонь, разожженный сознанием, что труды мои приумножат силу св€той нашей веры и еще более возвеличат престиж нашей матери-церкви.
»так, € отправилс€ в путешествие. ј было бы лучше, если б € никуда никогда не отправл€лс€! я нашел подлинную историю ƒон-∆уана “енорио, а было бы лучше, если б € ее никогда не находил.
я все расскажу тебе, преподобный отец, дорогой мой и добрый брат! я расскажу тебе то, чего никому не рассказывал, ибо жду помощи от теб€. ¬се, кажда€ мелочь, здесь чиста€ правда. ј если где-то и увлекла мен€ безудержна€ фантази€ и на крыль€х своих перенесла через узенькие бреши и щелки, еще оставшиес€ в этой истории, то прости: ведь € почти год стараюсь вы€снить истину, движимый единственно св€той целью. я исследую, изучаю. »з мельчайших камней, из обломков, развалин € складываю былые дворцы. я знаю всех персонажей, € ими почти живу и вправе сказать, что узнал о них то, что даже узнать невозможно. ѕрости мен€, что порой Ч именно потому и прости Ч к этому бедн€ге безбожнику в моем сердце поднимаетс€ вдруг волна теплых чувств.
»так.
Ќечестивый ƒон-∆уан “енорио родилс€ в семье одного из знатных кастильских вельмож в тыс€ча четыреста п€тидес€том году. ѕотер€в в раннем детстве мать, он воспитывалс€ отцом, который Ч юноше тогда еще не исполнилось двадцати Ч стал жертвой придворных интриг столь обычных в правление распутника и тирана √енриха, и был убит в поединке. ћолодой “енорио, последний отпрыск своего рода, не относилс€ к числу вельмож, владеющих несметными состо€ни€ми. “о было врем€ власти независимых феодальных кн€зей, поместь€ которых располагались одно от другого на рассто€нии нескольких дней езды верхом; то было врем€, когда пышным цветом цвели во им€ св€тых божественных целей необозримые угодь€, принадлежащие прелатам, епископам, орденам; некоторые сановные св€щеннослужители, сто€вшие во главе орденов, могуществом своим по доходам превосходили самого корол€. ѕозднее, когда »забелла астильска€ сломила власть м€тежных кн€зей и все вассальные земли были перетасованы, ƒон-∆уан за заслуги, оказанные двору в изгнании мавров, получил в окрестност€х √ранады угодь€ и теперь благодар€ громадному богатству стал одним из первых грандов империи.
Ѕлаговоление августейшей четы ƒон-∆уан приобрел не только доблестью в военных сражени€х против заговорщиков и последнего мавританского корол€ √ранады Ѕоабдила. Ѕеззаветна€ отвага в бою, необычайна€ изобретательность при создании германдад, поразительна€ находчивость во врем€ переговоров в √ранаде лишь умножили уважение, которое ƒон-∆уан снискал у королевской четы значительно раньше. ќн принадлежал к тому узкому кругу доверенных лиц, которые покровительствовали супружескому союзу между восемнадцати летней »забеллой астильской и совсем юным, моложе ее, ‘ердинандом јрагонским; принцесса, влюбленно-мечтательна€ и в то же врем€ обладающа€ умом, озаренным си€нием св€того духа, доверительно вручила ему письмо, которое он должен был передать ‘ердинанду, и ƒон-∆уан таким образом непосредственно прин€л участие в подготовке тайного бракосочетани€ в ¬аль€долиде. ¬ это же врем€ сам ƒон-∆уан также св€зал себ€ узами √имене€. ќн женилс€ на сироте знатного рода, получившей воспитание в том же монастыре, в котором воспитывалась и королева, девушке с весьма скудными средствами, зато с поразительно чистым сердцем. ≈е звали донна Ёльвира.
Ётот брак до любви не принес Ч как прочел € в старинных летопис€х Ч желаемой радости молодому мужчине, воспитанному в правах эпохи корол€ √енриха и не знающему отказа в удовлетворении своих низменных побуждений. ≈го грубой душе непон€тен был детский св€той обет, данный его целомудренной супругой. » донна Ёльвира в задушевной, интимной беседе открыла ему свою светлую душу. ќна сказала, что гор€чо его любит, но таинством брака считает всепроникающее сли€ние душ, ступающих вместе по пути добродетели и всепрощени€. ≈сли же гор€чо любимый супруг приблизитс€ к ней с иными намерени€ми, она со всею возможною силой обратит свою душу к мысл€м о мучениках и п€ти св€тых ранах спасител€, дабы не испытать греховного наслаждени€ в том, что, если судить по последстви€м, небо со времен ≈вы определило в наказание женщинам. —упруги находились в спальне их роскошно обставленного севильского дома; донна Ёльвира уже легла, а ƒон-∆уан взад и вперед прохаживалс€ по комнате. Ќа возбуждающее душу признание безбожник ответил одним-единственным словом, это было даже не слово, а тихое восклицание или глухой односложный ропот, нечто вроде Ђм-гмї или н-да-а!ї ≈го не умилило поразительное целомудрие жены, и он не преклонил в св€том порыве колени, чтобы в страстной молитве в согласии с евангельским советом спасител€ принести такой же св€щенный обет. Ѕолее того, в тот же вечер он прин€л полное коварства решение исподволь, осторожно, но неутомимо искушать благочестие донны Ёльвиры и заставить ее нарушить обет, данный в св€тых стенах монастыр€.
ѕредставлени€ о мире и жизни, о св€тых и светских делах этого си€тельного аристократа совершенно не совпадали с представлени€ми его жены. ќн не верил ни в волков-оборотней, ни в колдунов и говорил об этом во всеуслышание. ќн не верил, что в страстную субботу валенсийское расп€тие поднимает дл€ благословени€ руку. ќн не верил, что части одежды св€того јмаде€ могут в сражении защитить от ран! —воему упр€мому неверию он находил многочисленные подтверждени€ в опыте своих солдат. “очно так же не верил он и тому, что мир таков и управл€етс€ так, как этому учит св€та€ церковь. я стыжусь повторить его слова. Ђ¬ царство божие Ч если судить по их образу жизни Ч должно войти очень мало св€щенников, а из первосв€щенников и вовсе ни одного. ћне было бы странно предположить, что люди, которые абсолютно ни в чем не про€вили и тени благородного бескорысти€, уступ€т миру вечное блаженство, а сами удовольствуютс€ вечными муками!ї » еще он говорил: Ђѕочему именно св€той ‘ома постиг умом то, чему он учит и что уму совершенно непостижимо! –азве наше призвание состоит не в том, чтоб постичь своим разумом как можно больше, а не пришивать к придуманным добродетельной верой сказкам, словно к старым ботфортам новые головки, наши столь удобно ничтожные знани€? ћир велик, «емл€ кругла Ч об этом писали ѕифагор, Ёратосфен и вслед за прочими италь€нец ƒанте, хот€ у попов это восторга не вызывало,Ч а мы так мало знаем об этом большом круглом мире! ћы даже не знаем дороги в »ндию с тех пор, как ќттоманска€ импери€ заградила уже проторенные торговые пути!ї
“ак говорил неисправимый безбожник, безусловно, заслуживший прокл€тие! ≈го манили далекие путешестви€, приключени€, новые открыти€, звездные миры, наука арабов о числах, о скрытых целебных свойствах веществ.
ƒолжен сказать тебе, дорогой мой брат, что этот человек по образу мыслей был вовсе не одинок. ћногие горожане, простолюдины, ремесленники, торговцы и лекари и, по слухам, даже венценосный друг безбожника ‘ердинанд придерживались того же взгл€да на вещи. ѕриведу дл€ примера случай, ставший известным мне в процессе исследований. ¬о врем€ осады √ранадского эмирата в войске корол€ находилс€ астролог. —олдаты за гороскоп платили ему медные деньги, офицеры Ч серебр€ные. ќднажды ƒон-∆уан призвал этого человека к себе и стал расспрашивать о его науке. ќтветы астролога были недоказательны и не слишком уверенны, а так как ƒон-∆уан расспросов не прекращал, ученый муж и вовсе запуталс€, перемешива€ высказывани€ древних философов с писани€ми св€тых и догматами нашей религии.
Ч Ќедавно,Ч говорил ƒон-∆уан, Ч одному из моих солдат гороскоп предсказал, что с богатой добычей, захваченной у €зычников, он вернетс€ домой живым и целехоньким. Ќо во врем€ одного из набегов этот солдат погиб. ƒа-а, прекрасное ремесло избрал ты, астролог: погибший не может €витьс€ и уличить теб€ в том, что ты выполн€ешь работу недобросовестно, а тот, кому повезло, кто возвратилс€ домой невредимым, славословит твой ум и превозносит твое мастерство!
Ч Ѕыть может, он не точно указал час рождени€... Ч пробормотал, оправдыва€сь, астролог,
Ч јх вот оно что! Ќе точно указал час рождени€! “ы, € вижу, пускаешьс€ на увертки. ј если он указал его точно?
ƒон-∆уан наседал все больше и больше, и кончилось тем, что астролог рухнул перед ним на колени.
Ч ќ сеньор! ћо€ жизнь в твоих руках! я сам до глубокого омерзени€ стыжусь своего ремесла. Ќо поверь, если € рассказывал правду, если б открыл, что действительно повествуют звезды, мне бы не сносить головы. ј так, познава€ истину дл€ себ€ и подсовыва€ покупател€м гнилой товар, € добываю себе средства на жизнь и поддерживаю бренное существование...
ƒолго беседовали ƒон-∆уан и астролог, а затем отправились в шатер корол€, » там в тайне от всех, в тесном кругу друзей он учил их вещам, находившимс€ под жестоким запретом. ќн рассказывал, что наша «емл€ вращаетс€ вокруг своей оси среди миллионов других планет и звезд, что в безграничном пространстве вселенной звезды рождаютс€ и умирают, живут и твор€т жизнь. ¬от в какие тайны мироздани€ он их посв€щал. аким-то чудом этот страшный безбожник с его сатанинским учением пришелс€ королю по душе. », наверно, осталс€ бы при дворе, если б слухи о нем не достигли ушей инквизиции. —в€та€ инквизици€ затребовала его к себе. ѕервый каверзный допрос дл€ этого астролога закончилс€ в общем благополучно. “ем не менее он решил бежать и отправилс€ ко двору ’уана, португальского корол€, неустанно про€вл€вшего интерес к небесным светилам.
»так, мысли ‘ердинанда и ƒон-∆уана кое в чем оказались схожи. ороль, однако, был достаточно осторожен и вне тесного круга друзей сокровенных дум не высказывал, ибо не желал вызывать возмущение. ќн был благонамерен, не пропускал богослужений, лишь в положенные дни ел скоромное и, главное, не только восстановил, но и усилил дл€ обуздани€ огрубевших нравов власть св€той инквизиции, за что и был удостоен св€тейшим папой вполне заслуженного, весьма почетного эпитета атолик. ¬от почему некий француз с иронией сказал: Ђ≈сли бы ƒон-∆уан пользовалс€ доходом в четверть миллиона золотом, полагавшимс€ главе трех рыцарских орденов, как требовали того интересы государства и церкви, чело его было бы также озарено ореолом исторического эпитета. » сегодн€ бы мир вспоминал о нем, как о муже недос€гаемой праведностиї.
ака€ позорна€ клевета на политику нашей церкви!
Ќо ƒон-∆уан не желал укрощать свой €зык и не следил за внешней благопристойностью, как поступал ‘ердинанд атолик. ћы уже знаем: Ђ√оре возмутител€м!ї ќ необузданном €зыке ƒон-∆уана свидетельствует его пам€тный разговор с неким благочестивым отшельником, попросившим у него милостыню. ѕроизошло это после знаменитого поединка на дороге, ведущей в јльгамбру. —в€той отшельник попросил несколько мед€ков и обещал усердно молитьс€ за то, чтоб дела двор€нина, если он ему что-то даст, шли успешно.
Ч ћожет, полез лей тебе помолитьс€ о личных делах? Ч сказал ƒон-∆уан. Ч “ебе, как € вижу, совсем не мешает иметь платье получше!
Ч ƒл€ того € и прошу у вас милостыню, сеньор.
Ч ј что ты делаешь целыми дн€ми в лесу?
Ч я молюсь, мой сеньор. ¬от уже дес€ть лет, как € целыми дн€ми молюсь.
Ч ƒа, у теб€, знаешь ли, просто замечательное зан€тие! ” того, кто так усердно торгует с небожител€ми, дела должны идти превосходно. » ты наверн€ка не терпишь ни в чем недостатка.
Ч ќ мой сеньор! Ѕывает, что по нескольку дней у мен€ нет даже корки хлеба!
ƒон-∆уан покачал головой.
Ч Ќе понимаю. „естное слово, не понимаю.
Ч ¬о им€ божьей любви, мой добрый сеньор, не пожалейте нескольких мед€ков!
Ч ’м! Ѕоюсь, что с божьей любовью ты далеко не уйдешь. Ќа, бери! ƒаю тебе золотой из человеколюби€*.
(*¬ первом варианте Ђƒон-∆уанаї этот диалог описал и ћольер. ќднако цензура вычеркнула его. ƒо нас, таким образом, он не дошел, оказалс€ в единственном экземпл€ре и осталс€ в личной библиотеке господина цензора. Ч ѕрим. јвтора).
ѕозднее на судебном заседании св€той инквизиции был допрошен и этот отшельник. огда он пересказал приведенный мной диалог, председательствующий, воздев руки к небу, вскричал голосом, исполненным св€щенного ужаса:
Ч ¬едь это же богохульство! «олотым, который ты получил, он сделал теб€ сообщником гнусного преступлени€!
ѕротокол инквизиционного трибунала с предельной точностью зафиксировал, что ƒон-∆уан заставил просившего милостыню отшельника богохульствовать в награду за чудовищный грех дал ему золотой.
√осподь предложил ему помощь и через посредство праведного слуги. Ќо он высме€л и отверг благодать.
Ч —ударь, Ч сказал однажды слуга, Ч вы позволили мне разговаривать с вами свободно и, не та€сь, выкладывать асе, что лежит у мен€ на душе. ¬от и скажите, во что вы все-таки верите?
Ч ¬о что верю? Ч захохотал ƒон-∆уан. Ч Ѕольше всего € верю в то, что видел и пережил сам, да еще в то, что дважды два Ч четыре.
Ч ј в бога?! ј в то, что мир Ч такой, как он есть, устроенный так разумно и справедливо,Ч сотворил кто-то...
Ч —тало быть, ты считаешь, что самое справедливое и разумное дл€ теб€ целую жизнь кому-то прислуживать? “огда ответь мне, потому что ты, как € вижу, знаешь то, чего не знаю €, когда бог родилс€?
Ч огда бог родилс€?.. Ќо, сударь... Ѕог существует вечно.
Ч „то ж он, бедн€га, делал целую вечность до сотворени€ мира? Ќе скучал ли ≈го ѕресв€тое ¬еличество оттого, что кругом пустота, делать в этой пустоте ему нечего, разве что скрести п€терней свою присносущую башку?
Ч Ќо... Ќо мир же он сотворил давным-давно... ћного-много тыс€челетий назад. ќн существует...
Ч ...с вечности и только с нее, да?.. Ќе было ничего, а потом вдруг стало?
ƒень, когда слушалось дело ƒон-∆уана, был дл€ св€той инквизиции, без сомнени€, скверным днем! —колько произносилось нечестивых речей! јх, сколько нечестивых речей!
Ќа этом €, дорогой брат јнсельм, остановлюсь, ибо не желаю предвосхищать событи€.
»так, ƒон-∆уан, следу€ своему коварному замыслу, вновь и вновь подступал к донне Ёльвире с искусительными речами, не щад€ усилий во им€ небогоугодного дела. Ќо донна Ёльвира, пребывавша€ в страхе божьем, все слово в слово пересказывала своему духовнику отцу ’именесу, насто€телю доминиканского монастыр€ в —евилье. » если случалось, что душа благочестивой дамы под вли€нием домогательств супруга вдруг начинала колебатьс€, добрый св€щенник наставл€л и укрепл€л ее в св€той вере.
Ч ƒочь мо€, Ч сказал однажды славный и мудрый ’именес, Ч муж твой не без причины обижен тем, что супружество ваше бесплодно. ƒон-∆уан последний отпрыск своей благородной фамилии, он желает иметь от теб€ потомство, чтоб передать ему в наследие им€.
Ч Ќо как могу € нарушить обет, который дала по евангельскому совету!
Ч — волей божьей и заступничеством св€тых, Ч благоговейно заметил праведный человек, Ч возможно все. —оверши, дочь мо€, ревностное паломничество к компостельским мощам, передай достойные твоего высокого положени€ дары на украшение обители господа, и молитвы твои будут услышаны и прин€ты с благосклонностью. “айна исповеди не позвол€ет называть имена... Ч » добрый отец, не называ€ имен, поведал ей множество случаев, которые подтверждали достойные внимани€ возможности компостельских мощей. Ч Ќо ты должна позаботитьс€ о том, чтобы монастыри, в которых ты остановишьс€ по пути, Ч напутствовал духовник невинное дит€, Ч не жаловались бы на недостаток твоего ревностного внимани€ и в благодарность за твои добросердечные помыслы вознесли к престолу господню обильные молитвы!
—транным образом нечестивый муж четырежды делал все, что требовалось дл€ душевного поко€ жены, хот€ весьма и весьма сомнительно, чтоб он верил в силу паломничества. ѕо всей веро€тности, он полагал, что только таким путем ему удастс€ склонить донну Ёльвиру к нарушению данного ею обета. ¬о вс€ком случае, достоверно одно: когда донна Ёльвира вознамерилась в п€тый раз исполнитьс€ благодати от гроба еще одного св€того, ƒон-∆уан возроптал.
Ч Ётим ненасытным кутейникам,Ч сказал он, выбира€ слова только бранные и кощунственные, Ч видно, мало того, что они сожрали полкоролевства! ћало, что во врем€ свадеб или крестин они столько выкачивают из нас на храмы, что во всей —ьерре не хватит камн€, начни они строить все, на что выкачивают. ј теперь уж и это они пытаютс€ обложить налогом?
Ч ќ сударь! Ч вспыхнув, воскликнула донна Ёльвира, Ч √осподь вправе от нас ожидать,Ч кротко сказала она затем, Ч чтоб мы украсили его обитель подобающий образом, раз мы сами его просим о чем-то...
Ч √осподь!.. я убежден, что господь в этом случае не дал бы нам иного совета, чем думать поменьше о его п€ти св€тых ранах!
¬сегда усердный в благомыслии отец ’именес теперь посчитал, что проник наконец в промысел божий.
Ч ак может господь даровать ребенка отцу, Ч сказал он своей духовной дочери, Ч в котором он не уверен. Ќе уверен в том, что р€дом с таким отцом нежна€ младенческа€ душа будет воспитана в его почитании и войдет затем в небесный сонм св€тых?
Ќемало усилий приложила донна Ёльвира, пыта€сь наставить супруга на путь истины. Ќо ƒон-∆уан с возрастающим раздражением отвергал все ведущие к спасению помыслы. » сеньора наконец пон€ла, что очерствевша€ в безбожии душа супруга вот-вот поставит под угрозу вечное спасение. ј ƒон-∆уан пришел к мысли объ€вить их брак недействительным и искать утешени€ в союзе с другой, более покладистой женщиной, Ћюбовь Ч как это часто бывает Ч угасла, оставив вместо себ€ лишь пепел жарких споров и черные угольки от пролитых слез.
–азводу, согласно каноническому праву, должно быть, ничто не преп€тствовало. »бо дойна Ёльвира была непреклонна в нежелании нарушить данный ею обет. ј наша св€та€ церковь хот€ и советует, но в подобных случа€х, как известно, не принуждает неудовлетворенного супруга сохранить брачный союз. » донна Ёльвира удалилась в севильский монастырь, пастырем которого был преподобный отец ’именес. «а этот богоугодный поступок св€тому отцу оставалось лишь превозносить свою духовную дочь. Ёльвира была щедро одарена небесами. ≈е красота Ч как отмечали Ч была столь совершенна, что побудила даже некоего св€того, доведенного в своем восхищении до третьей степени мистического экстаза, признать в ней исключительное творение рук господних. ƒуша же двадцатип€тилетней Ёльвиры была чиста и невинна, как душа младенца!
≈пископ —евильи, которому отец ’именес передал дл€ отправлени€ в папскую курию прошение ƒон-∆уана и донны Ёльвиры “енорио о расторжении брачных уз, а также благородные подношени€, сделанные ими по этому случаю с самыми благими, ведущими к спасению цел€ми, сложил молитвенно костл€вые руки и произнес следующее:
Ч Ёта просьба угодна всевышнему, сын мой! я убежден, что решение будет благопри€тным и лишь усилит на земле могущество и почитание церкви господней.
» все пошло бы своим чередом, не снизойди вдруг на св€того отца ’именеса новое прозрение свыше. ¬незапно в час вечерней молитвы он постиг во всей ее глубине самую сущность замысла божьего. ¬сю ночь слуга господа не смыкал глаз и, лишь только забрезжило утро, весьма резво вскочил с постели и поспешил в резиденцию епископа.
Ч я грешен духом, отец мой! Ч призналс€ отец ’именес епископу. Ч Ќо почему мы должны жить по принципу Ђpars pro totoї, почему должны довольствоватьс€ лишь частью? –азве не существует обычай, что, если какой-либо знатный род угасает, его земное досто€ние переходит в самые достойные руки, в руки нашей св€той церкви, дабы сокровища рода, приобщившегос€ на небесах к сонму св€тых, благоухали в кладовой пашей матери церкви, котора€ трудитс€, трудитс€ неустанно, стрем€сь приумножить сокровища духовные?! –азве не в этом заключен сейчас промысел божий? Ч “ак говорил св€той отец, разгор€ченный благочестивым усердием.
≈пископ взвесил создавшеес€ положение.
Ч ак сказано, сын мой, лучше синица в руках, чем журавль в небе.
Ч ј разве, отец мой, не сказано: не гонитесь за малостью, если в награду за долготерпение вы получите истинное сокровище?
Ч —ын мой, если ты говоришь это как духовник Ёльвиры... Ч наконец согласилс€ епископ, Ч тогда мы не можем ложной кл€твой вводить св€той престол в заблуждение... ЂMatrimonium nec ratum, neque consumatumї*.
(*«десь: ЂЅрак не осв€щен церковью, ибо не существовал в действительностиї (лат.).
ак в действительности обсто€ли дела с супружеством, осталось навеки тайной исповеди!
Ѕыло ли оно, как и прежде, духовным, или Ёльвира, с одобрени€ исповедника, рискнула ослабить данный ею обет?
“ем временем ƒон-∆уан был полон надежд получить развод. ќн вновь зажил холост€цкой вольной жизнью и, как видно, не зр€, потому что повсюду разнесс€ слух, что страшно богатый “енорио ищет жену, котора€ подарит ему наследника. —амые пленительные девы —евильи, √ранады и јндалузии, эти сладостно благоухающие цветы с напоенными свежестью лепестками склон€ли к нему головки, и он сообразно своим желани€м мог выбрать из них любой. —лучалось, что какой-нибудь из цветков раскрывал лепестки чрезмерно, и ƒон-∆уан его нежно срывал и прикалывал к своей шл€пе. огда же его упрекали, этот неугомонный развратник отвечал:
Ч ѕо сравнению с букетом, который нарвал себе аббат монастыр€ —в€того реста в √ранаде, букетик, собранный мной, пожалуй, слишком скромен!
Ч я ищу жену, Ч оправдывалс€ он, Ч кроткую, но пылкую, преданную и умную, правдивую и бесхитростную.
“ак говорил этот демонический человек, но как он все это понимал! ≈го слуга в св€том трибунале свидетельствовал: однажды ƒон-∆уан поцеловал шершавую, загрубевшую от черной работы руку кресть€нской девушки, трудившейс€ вместе с другими в садах предместь€ —евильи.
Ч ƒевушки, Ч сказал он садовницам, Ч вот из вас € бы выбрал одну себе по сердцу!
—екретарь св€той инквизиции, благородный и подающий большие надежды юноша, не в силах сдержать праведного негодовани€, воскликнул:
Ч акова испорченность, какова развращенность!
» как-то на одном из празднеств в √ранаде он наконец встретил ту, которую так долго искал: ее звали »нес, она была дочерью дона √онсало де ”ллоа. —кромна€ и одновременно пылка€, преданно полюбивша€ ƒон-∆уана, она готова была преодолеть все преп€тстви€, какие могли возникнуть у них на пути. ƒон-∆уан, охваченный нетерпением, стал торопить добрейшего отца ’именеса. —в€той наставник душ Ч сказав впервые правду Ч ответил так: он сделал все, что надо, дело лишь за св€тым престолом. Ќо тут неожиданно на сцену выступила донна Ёльвира и отказалась вопреки обещанию поставить им€ под кл€твой, что брак ее с ƒон-∆уаном должно считать недействительным. ” нас не имеетс€ сведений, по чьему наущению действовала донна Ёльвира. ≈сли так посоветовал ей отец ’именес, то Ч сейчас мне все совершенно пон€тно Ч в этой маленькой и вполне извинительной хитрости ею руководили лишь св€тые намерени€.
—лавный св€щенник, словно преданный ключарь господа бога, весьма усердно следил за судьбой сокровищ, которым вскоре предсто€ло сделатьс€ досто€нием церкви и украсить ее св€тые р€ды. Ќо, увы, в этом смысле небеса заволокло вдруг черными тучами.
≈ще во времена похода на √ранаду к королевской чете €вилс€ некий мореплаватель, генуэзец по имени ’ристофор олумб Ч впоследствии он стал называтьс€ в »спании дон ристобаль олон Ч и предложил проект, ранее отклоненный королем ѕортугалии, суть которого состо€ла в том, что олумб отправитс€ в плавание в западном направлении и, обогнув «емлю с запада, откроет новый морской путь в сказочно богатую »ндию. ‘ердинанду и »забелле проект понравилс€, был ими одобрен, поддержан, но, увы, скорее морально, ибо казна королевска€, основательно подточенна€ междоусобицами и кампанией против мавров, была пуста. ‘лотили€, с которой олумб отправилс€ открывать јмерику, была снар€жена главным образом на деньги городских негоциантов и нескольких вельмож, заинтересованных в торговых отношени€х с »ндией. ќдним из тех, кто поддержал экспедицию материально, был ƒон-∆уан, ѕо преданию, он и сам отправилс€ в путешествие Ч па каравелле Ђ—анта-ћари€ї Ч » вместе с олумбом доплыл до јзорских островов, где их, как известно, застигла бур€. —пуст€ несколько недель олумб снова пустилс€ в плаванье, а ƒон-∆уан вернулс€ в »спанию.
огда весть о его возвращении дошла до отца ’именеса, он поспешил к ƒон-∆уану в самом неподдельном отча€нии.
Ч ќ сын мой! Ч вскричал св€той отец. Ч ак мог ты не посв€тить мен€ в свои замыслы! «ачем ты проматываешь состо€ние, которое твои предки получили от господа бога!
Ч «а то, за что они его получили, Ч ответил св€тому отцу нечестивец, Ч господь, как мне кажетс€, не дал бы им и полушки!
Ч Ќе глумись над св€тыми вещами, сын мой! “ы, как € слышал, поддержал этого безумного генуэзца и пожертвовал ему огромные деньги...
Ч ≈сли € подсчитаю, сколько золота каждый год жертвуют испанцы на ожидающее их блаженство небесное... то в сравнении с этим сумма, которую мы пожертвовали во им€ земного блаженства »спании, покажетс€ сущей безделицей.
Ч ќпомнись, сын мой! ќ каком земном блаженстве ты говоришь! Ќеужели ты в него веришь?
Ч Ќу... ¬се-таки оно более ос€заемо, чем то, другое. Ќе так ли?
Ч “ы веришь, что эти безумцы когда-нибудь возврат€тс€? –азве ты не слыхал о море, которое засасывает корабли? ќ ћагнетической горе? ќ злобных пигме€х?
Ч ¬се о них слышали, отец мой, но никто еще их не видел!
Ч “ы кощунствуешь, сын мой! ј знаешь ли ты, что после дальнего “уле беспощадна€ рука сатаны вт€гивает все суда в морскую пучину?
Ч Ќу-у... Ёто еще, может быть, и неверно!
Ч Ќо Ѕездонный колодец Ч верно! “ы мог сам убедитьс€, что он существует и действует во врем€ приливов и отливов. —начала он всасывает, а затем изрыгает обильные воды океана, и суда, отплывшие далеко от берегов, никогда больше не возвращаютс€...
Ч ƒа € скорее поверю, что на отлив и прилив вли€ет луна.
Ч Ћуна! ¬от так новости! ќтрезвись, образумьс€ же, сын мой!..
Ч я, отец мой, уже отрезвилс€. ѕусть теперь отрезв€тс€ другие. ј дл€ того, чтоб люди исцелились от суеверий, Ч так говорил еретик о доктринах, которые в те времена утверждала св€та€ церковь! Ч € решил основать мореходный штурманский корпус и астрономическую обсерваторию, как король ’уан в ѕортугалии... ≈сли небесам неугодно, Ч добавил он тоном, в котором звучали насмешка и подозрение, Ч чтоб € оставил состо€ние продолжателю рода, то мне угодно истратить свое состо€ние так, чтоб »спани€ не забыла мен€ € благородных “енорио.
Ч ќ-о-о, Ч прот€нул добрейший св€щенник, бледне€ от праведного испуга. Ч —ын мой, не все надежды еще потер€ны, мы можем еще поговорить с Ёльвирой...
ак безбожно было стремление этого человека пустить по ветру громадное Ч и какое громадное! Ч состо€ние... Ќеверо€тно! „тобы кто-то посмел так противитьс€ провидению!.. ќтец ’именес поспешил к епископу, затем навестил аббата, местного главу инквизиции. –ечь шла ведь не о маленьком прегрешении, а об открытом оскорблении божьего замысла! „то ж, св€та€ цель оправдывает средства!
ќтец ’именес не стал беспокоить Ёльвиру, а разыскал Ч поступив весьма мудро Ч дона √онсало де ”ллоа. “ебе следует знать, дорогой мой брат, что дон √онсало враждовал с ƒон-∆уаном. »нес, дочь дона √онсало, знала об этом.
ƒон-∆уан входил в состав миссии, котора€ осенью тыс€ча четыреста дев€носто первого года вела переговоры в √ранаде с королем Ѕоабдилом. ƒон-∆уан был одним из тех, кто готовил то самое соглашение, в результате которого мавры уступили обломки своей европейской империи соединенному королевству астилии и јрагона. ƒон-Ўуан считал дл€ себ€ об€зательным соблюдать недопустимо снисходительный параграф этого соглашени€, предусматривавший свободу вероисповедани€ мавров и евреев. ќднако инквизици€, а вместе с нею и гранды, исполненные благих намерений и высокой чести, Ч и среди них наместник одной из покорившихс€ мавританских провинций командор де ”ллоа Ч все более и более проникались мыслью, как позорен этот параграф дл€ св€той нашей веры. ќни, естественно, не стремились к массовому избиению и тем, кто не ожесточилс€ в €зычество и прин€л ведущее к спасению сн€тое крещение, довольно часто сохран€ли жизнь. Ќо в некоторых провинци€х подлые €зычники все же восстали и заметно опустошили р€ды христиан. ѕровинци€ дона √онсало также оказалась в опасности. ”смир€ть м€тежников ‘ердинанд послал ƒон-∆уана. ¬ это врем€ в лагере командора готовились к совершению акта веры Ч аутодафе: собрались сжечь на костре молодую еврейскую женщину. ’ристианство, правда, она прин€ла, но от благочестивых соседей не укрылось, что она, как и прежде, воздерживаетс€ от квашеного теста, а в день очищени€ вовсе не ест. ƒон-∆уан пр€мо вз€л эту женщину под опеку Ч говор€т, она была очень красива. —ловом, бестактность ƒон-∆уана лишила лагерь воистину поучительного зрелища.
¬есьма показательно, что мавры ƒон-∆уана любили. ќни неоднократно цитировали его более чем постыдное замечание: Ђќбраз жизни магометан показывает верующему христианину пример самых прекрасных добродетелей, а у того, кто €вл€етс€ добрым христианином, даже оран не может выискать то, что следует отрицать. ѕоэтому живите друг с другом в любви и согласии по учению обеих религийї.
— помощью единомышленников из м€тежного стана бушующую провинцию удалось усмирить и восстановить силу прежнего соглашени€. »в довершение обрести врага в лице дона √онсало, что, кстати сказать, не вызывает недоумени€.
¬от к нему-то, к дону √онсало, и помчалс€ усердствующий отец ’именес. Ђ—ердце мое истекает кровью от т€гостного сознани€, что € нанесу отцу смертельное оскорбление. Ќо € должен его нанести ради спасени€ невинной агницы!ї » он поведал дону √онсало, как еретик ƒон-∆уан обольщает прекрасную »нес.
ѕоединок произошел близ √ранады на лесной лужайке, неподалеку от дороги, ведущей в јльгамбру. ћне известно его подробное описание.
Ч ƒон √онсало, € почту за великое счастье, если ты мне позволишь назвать твою дочь своею невестой, Ч сказал ƒон-∆уан до начала схватки. Ч ќткажись же от своего безрассудного замысла!
Ч я скорее согласилс€ бы не иметь дочери вовсе, чем позволить тебе назвать мою дочь невестой! Ч с благородной гор€чностью вскричал де ”ллоа. Ч Ќо ты, видно, боишьс€, Ч с насмешкой добавил он, Ч и не прочь увернутьс€ от остри€ моей шпаги!
Ч я никогда ничего не бо€лс€! “ы же видел, как € один, без охраны, вошел в лагерь восставших мавров!
Ч “ак ведь мавры твои сообщники и друзь€! ќни такие же €зычники, как и ты!
Ч ќстановись, де ”ллоа! я люблю твою дочь всем сердцем. ак только мой брак, который, в сущности, никогда не был браком, будет признан папою недействительным, € попрошу у теб€ ее руки. Ќе будем же обагр€ть наши руки родственной кровью!
Ч “ы умрешь! Ч в праведном гневе вскричал дон √онсало. Ч “ы умрешь, подлый безбожник, потому что обратил на нее свой взгл€д!
Ч ”мрешь ты, а € женюсь на твоей прекрасной дочери. » невинное дит€ не поплатитс€ счастьем за безрассудство своего отца... я даю тебе преимущество, де ”ллоа, стань спиной к солнцу!
» он обошел дона √онсало и стал лицом к €рко светившему солнцу. омандор нападал не в обычной испанской манере, а делал хитрые, обманные выпады, которым выучилс€ у мавров, ƒон-∆уан тем не менее с легкостью отражал удары, ни разу не дрогнув, ни разу не отступив назад. Ѕолее того, он не сделал ни шага вперед: отразив нападение, он плавным ответным ударом лишь теснил противника, принужда€ его вернутьс€ на прежнюю позицию. ќн дралс€ так просто, как дерутс€ дес€ти Ч двенадцатилетние мальчики, обучающиес€ в школе фехтовани€. “олько сведущий в искусстве фехтовани€ человек мог заметить его зоркий, настороженный взгл€д, мгновенную реакцию стальных, моментально спружинивающих мышц, его необыкновенное самообладание. — ним была сила сатаны! ќтец ’именес, безусловно, был прав. ƒважды бросалс€ на противника дон √онсало, и дважды ƒон-∆уан отразил нападение. огда же дон √онсало атаковал в третий раз, то наскочил на острие клинка ƒон-∆уана. –ыцарь не поверил своим глазам, когда увидел проколотого противника, судорожно подрагивающего на клинке его шпаги. —лишком простым был удар, остановивший дона √онсало. Ќа маневр, какой применил дон √онсало, только так отвечают во всех фехтовальных классах. — этой встречной хитростью, отражающей нападение, знаком даже самый неопытный фехтовальщик. ј командор был фехтовальщик прославленный... —ила сатаны!
Ќеподалеку от места, где происходил поединок, сто€ла старинна€ мавританска€ мечеть. Ќабожные родичи де ”ллоа украсили ее, не жале€ денег, и перестроили в гробницу, где и схоронили дона √онсало. ≈пископ √ранады осв€тил мраморное надгробие Ч высокую могучую статую, облаченную в римскую тогу, с венцом на голове, с прижатой к груди левой рукой и слегка прот€нутой вперед правой, ЂInteger vitae scelerisque purus Ц гласила эпитафи€, - Maurorum fulgur, Cristianorum atque spes, virtutibus decoram pro fide interepide luctatus reddidit animam Creatoriї*.
(* ЂЁтот человек, проживший здоровую и безгрешную жизнь, был грозой мавров и надеждою христиан и, несокрушимо сража€сь за веру, отдал создателю блистающую добродетел€ми душуї (лат.).
¬ полном отча€нии отец ’именес рухнул к ногам епископа.
Ч ќн был искуснейшим фехтовальщиком, его слава гремела далеко за пределами провинции. то бы поверил, что такое случитс€! то бы поверил! Ч рыдал славный св€щенник. Ч Ќет, нет, здесь не обошлось без лукавого, то была сила сатаны, отец мой!.. ƒруг мавров! Ќасмеха€сь над нашей св€той инквизицией, он выказывает пренебрежение к очистительному бичу всемогущего!.. ћожно ли допустить, чтоб дь€вол вз€л верх над справедливостью царства божьего?!
—в€той инквизицией был отдан приказ схватить убийцу наместника, но король приказ отменил. ак вы€снилось, дочь покойного командора, носивша€ по нему глубокий траур, выказала себ€ жалкой предательницей отца и в своих показани€х за€вила, что дон √онсало Ђпал в равной борьбе в рыцарском поединке, зачинщиком коего был именно онї.
Ч ѕодумаем о невинных, которые возмут€тс€! Ч напомнил ’именес епископу св€тые слова. Ч ћы всего только скромные оруди€ в руках божьих... Ч ќн опустилс€ перед епископом на колени и под св€щенной печатью тайны исповеди изложил своей проект, тут же испросив себе отпущение на случай, если его замысел окажетс€ вдруг греховным. — подобающими сану сдержанностью и осторожностью епископ заметил: Ђј нельз€ ли все же ускорить развод...ї
Ч ќтец мой! Ч вскричал ’именес. Ч ѕодумайте о невинных, которых возмутит могущество сатаны!
“огда они запросили мнение главы св€той инквизиции.
¬ пепельную среду ƒон-∆уан получил от донны Ёльвиры послание, состо€вшее из нескольких весьма странных, сумбурных фраз: Ђ—ударь, если в ¬ашем сердце пам€ть обо мне еще не угасла, приходите в страстную п€тницу к вечеру в храм св€того ћаврики€. ¬се сестры нашей св€той обители прибыли на праздник в √ранаду послушать пасхальную проповедь его преосв€щенства и посмотреть церковные драмы. ѕрежде чем упр€тать лицо под вуаль, € хочу услышать из ¬аших собственных уст, что ¬ы не желаете в тесном союзе со мной возвратитьс€ на путь веры и правды. ≈сли ¬аши уста произнесут слово Ђнетї, € там же, на месте, поставлю подпись под кл€твой, необходимой дл€ расторжени€ брачных уз. » удалюсь, чтоб до конца своих дней, отвратив душу от мирских наслаждений, в неустанных молитвах просить у небес счасть€, прощени€, вечного спасени€ ƒон-∆уану “енорио. ƒонна Ёльвира “енориої.
¬ первом порыве души ƒон-∆уан см€л письмо и швырнул его в угол, Ђјга! Ч сказал он, Ч ¬се это козни ’именеса, этого попа с бесовской харей...ї ћужа, рукоположенного в сан, он обозвал бесовской харей!
’рамом св€того ћаврики€ называлась капелла, где были погребены останки дона √онсало де ”ллоа.
Ђѕоложение поистине трагическое! Ч продолжал монолог этот неистовый богохульник. Ч ’а-ха-ха! »м, конечно, нужны мои деньги. ƒавшие обет вечной бедности не считают достаточным Ђобручальным подаркомї, обычным при пострижении в христовы невесты, тощее состо€ние донны Ёльвиры. »м хочетс€ подоить мен€ напоследок!ї ѕотом у него мелькнула мысль, что если он не €витс€ в храм, то окончательно лишитс€ надежды расторгнуть брачный союз.
ќн велел подавать лошадей и ночь, предшествующую страстной п€тнице, провел в своем замке в √ранаде. ќн любил этот город. я тоже его полюбил; полюбил его древние камни, окружающие его мрачные исполинские горы и лесной, напоенный несказанной свежестью воздух.
Ќа неширокой дороге, ведущей в јльгамбру, вечер спускалс€ рано.
Ч ƒороги теперь опасны, сударь, Ч уговаривал ƒон-∆уана его славный слуга, Ч давайте прихватим побольше оружи€!
Ч ѕриказ корол€ касаетс€ и мен€, Ч сказал ƒон-∆уан заносчиво. Ч “ебе же, кстати, бо€тьс€ нечего, нас ведь двое: ты, конечно, не в счет, зато со мной мо€ шпага!
√ород осталс€ позади, когда на повороте извивавшейс€ вверх дороги они услыхали крик и бр€цанье шпаг. «атем увидели четырех мужчин, трое из которых нападали на одного.
Ч Ѕой неравный! Ч воскликнул подлый безбожник ƒон-∆уан, Ч ѕодожди мен€ здесь, Ч бросил он слуге и, обнажив свою шпагу, ринулс€ на помощь тому, кто отражал удары троих. » тогда у слуги кровь в жилах застыла: он увидел, как шпаги всех четверых, нападавших и Ђзащищавшегос€ї, дружно обратились против его господина. —хватка, однако, продолжалась недолго. ќдному из наемников, дравшихс€ во им€ св€того дела, ƒон-∆уан проткнул сердце, второму, пострадавшему за св€тую церковь, нанес т€желую рану в бедро, и двое других бежали.
Ч јх, злодеи! ¬от к какому коварству они прибегли... Ч процедил ƒон-∆уан, человек на редкость везучий, вытира€ клинок пучком травы. Ч Ќу, неважно! ѕойдем-ка, малый!
Ч —ударь, Ч взмолилс€ слуга, Ч на дворе уже вечер, а когда мы дойдем назад, будет глуха€ ночь... уда нам в такую темень идти? ¬ернемс€ назад! —трашно, когда за каждым камнем опасность!..
Ч ≈сли боишьс€, возвращайс€ один. ј € должен покончить с делами.
Ч ћне страшно, сударь!.. —трашно идти и страшно одному возвращатьс€ назад. Ќо лучше уж € пойду с вами...
«атхлый запах, сто€вший в капелле, алый отблеск маленького светильника и колыхавшиес€ по стенам черные тени внушали благоговейный трепет. ругом царила зловеща€ тишина.
Ч ћы пришли уже, сударь? Ч шепнул слуга, пуга€сь шип€щего, но гулкого эха. Ч Ќочь на дворе... Ћуны не видать, а мы не вз€ли с собой даже факела... Ѕудет драка.
Ч ћы пришли сюда не затем, чтобы дратьс€. ћы в гост€х. ¬от у него, Ч засме€вшись, высокомерно сказал ƒон-∆уан и указал на статую. Ч “ы его узнаешь? Ч спросил он с ехидством, поддразнива€ богобо€зненного юношу, потому что заметил трепет бедн€ги при виде осв€щенного надгробного пам€тника.
Ч ј... ќ!.. омандор! Ч едва вороча€ €зыком, проговорил слуга, почти лиша€сь сознани€.
ј ƒон-Ўуан все шутил.
Ч ƒавай посмотрим, что тут написано. Ч », скорее нащупыва€ руками, чем вид€, он разобрал эпитафию.Ч ’а-ха-ха! Ч захохотал ƒон-∆уан, и его адский хохот гремучим эхом отозвалс€ под куполом. Ч » обо мне написали бы то же, обо мне, из-за которого ты, Ђнесокрушимо сража€сь за веру, отдал создателю блистающую добродетел€ми душуї! ¬ нашем мире, аталинон, Ч сказал он слуге, Ч все суета сует! ƒаже в могиле мы не в силах отказатьс€ от пышного убора из лживых слов... ƒа не дрожи ты как осиновый лист! ѕодойди к благородному хоз€ину дома, Ђпрожившему здоровую и безгрешную жизньї, и поздоровайс€ с ним, как требует этикет. «доровайс€, ну же! ¬идишь, он прот€нул тебе руку!
Ч ќ мой сеньор, Ч сложив молитвенно руки, рухнул перед статуей на колени богобо€зненный юноша. Ч ќ господин командор! ƒуша тво€ блаженствует на небесах! Ќе обижайс€ же на кощунственные слова! ’оз€ин мой верит только тому, что дважды два... Ќе ведает он, что творит.
ƒон-∆уан в это врем€ словно бы потешалс€ над благочестивым усердием слуги.
Ч “ы не знаешь, как подобает здороватьс€. ¬идишь его правую руку? ќн ее подает, и сейчас € ее пожму. Ч », прот€нув свою руку, он пожал мраморную десницу.
¬ тот же миг послышалось какое-то едва слышное шарканье, какое-то глухое постукивание, многократным эхом отозвавшеес€ среди мраморных стен. —луга, вскрикнув, рухнул лицом на камни.
Ч —ударь, сударь, оставьте, не богохульствуйте!.. Ќеужто вы не слышали, что стату€ заговорила? ≈сли даже этот знак не зовет вас к раска€нью, когда своими ушами вы...
Ч —котина, Ч сквозь зубы процедил ƒон-∆уан.
Ч —ударь, сударь! ѕерестаньте его дразнить! Ќе подобает в таком тоне разговаривать с блаженными душами!
Ч ƒа не ему € сказал, Ч нетерпеливо отмахнулс€ от слуги ƒон-∆уан, так как его внимание было поглощено другим. √улкие стены, словно жела€ скрыть тайну, отразили приглушенные звуки с разных сторон, но доносились они все-таки из-за статуи. азалось, кто-то споткнулс€ и, отступив назад, ударилс€ каблуком о камень.
ќсторожным, неслышным кошачьим шагом ƒон-∆уан обогнул мраморный пьедестал и прин€л позицию, держа шпагу так, чтобы дл€ глаз противника она оставалась невидимой: он приготовилс€ отразить предательский удар и на него молниеносно ответить.
“от, кто во им€ св€того дела, отринув от себ€ вс€кий страх, прижалс€ к статуе сзади и учащенно дышал пересохшим гор€чим ртом, знал, что перед шпагой ƒон-∆уана он совершенно бессилен. » потому выт€нул дрожащую руку, в которой сжимал большой пистолет. ƒон-∆уан, готовый молниеносно отразить нападение, ждал, затаив дыхание.
Ђћолни€ сверкнула, гром громыхнул, да так, что сотр€сс€ кругом весь мир. ћен€ подхватило вихрем и бросило с силой на землю,Ч так говорил слуга немым от благоговейного ужаса судь€м св€той инквизиции.Ч огда € подн€лс€, там была могильна€ тишина, а в воздухе пахло серой. ” подножи€ статуи головою вперед лежало тело сеньора. я вознес небесам молитву и, вручив себ€ господу богу, пустилс€ бежать. Ќоги дрожали, но € бежал вовсю мочь. » покуда добиралс€ до города, пересказал св€тым четкам, славным, горестным, утешающим, лишь дес€тую часть всего, что знал, не утаив ни единой тайны. —олнце сто€ло уже высоко, когда € и другие слуги из замка пришли в храм св€того ћаврики€ и увидели новое чудо: грешное тело исчезло, будто провалилось сквозь землю, ни следа, ни п€тна кровавого, ничего от него не осталось...ї
—лугу потащили на дыбу, и там, на дыбе, скрепил он кл€твой свои показани€. »бо по канонам св€той религии с помощью всемогущего только на дыбе можно было уверитьс€ в правдивых показани€х того, кого подвергали допросу, за исключением знатных господ или же духовных особ. “ри дн€ заседал св€той трибунал, три долгих, напр€женных и мрачных дн€, от утреннего благовеста и до вечерней молитвы Ave Maria.
Ќа четвертый день был вынесен приговор. ”томленный бессонными, проведенными в молитвах ночами, прикрыв обведенные синими тен€ми глаза, господин аббат неторопливо и вн€тно диктовал из€щные латинские фразы св€тым духом подсказанного текста. Ћевой рукой он поглаживал свисавшую на грудь остроконечную седенькую бородку, а на его губах играла, си€ла блаженна€ улыбка, присуща€ тем, кого не покидает св€та€ благодать. ќн любил красивые латинские слова и, кто бы что ни говорил, предпочитал всем другим изысканные творени€ благородного —алюсти€.
Ч Ђ...кто до конца оставалс€ ожесточенным в €зычестве, кто с нелепым высокомерием до последнего вздоха отвергал безграничное милосердие божие, того на вечное прокл€тие сатане обрек всемогущий господь. ¬се, что словом и делом в жизни он не свершил, то во веки веков возвестил примером смерти. ¬о им€ ќтца и —ына et cetera...ї
¬се движимое и недвижимое имущество осужденного на вечные муки было конфисковано св€той инквизицией. ƒа будет мертвое, грехом оскверненное золото источником животвор€щих благ в руках усердного ключар€ всемогущего господа!
Ђя сделал бы все, чтоб сохранить ƒон-∆уану жизнь, Ч сказал ‘ердинанд »забелле, когда ему донесли о случившемс€, Ч даже в том случае, если бы нажил себе врага. Ќо € не могу воскресить из праха покойного другаї.
» на этом повелитель католический успокоилс€, ибо знал: горе возмутител€м.
≈ще слетали с разверстых в улыбке губ его преосв€щенства витиеватые, цветистые фразы, еще, потрескива€, пылали свечи в судебном зале св€той инквизиции, когда в какой-то таверне зазвенела гитара. ѕроводившие там досуг городские наемные стражники и попивающие вино ремесленники обернулись и придвинули к музыканту свои громоздкие табуреты. ћаленький горбун с дубленым смуглым лицом запел. ќн пел новую песню Ч песню о ƒон-∆уане. ќ благородном рыцаре ƒон-∆уане, который принес мир маврам и христианам, который плавал по бурным мор€м, дралс€ на шпагах, всегда побеждал и даже сатаны не бо€лс€.
ј вечером того дн€ в —евилье, √ранаде и романтической јндалузии не одна прекрасна€ дама припоминала, как блистательно дерзкий рыцарь одарил ее однажды улыбкой либо восхитительным комплиментом. ј может, и чем-то большим. ¬ пам€ти постепенно всплывает и отчетливей про€вл€етс€ прошлое.
Ќо пастыри бога недреманным оком следили за его стадами. Ќарод поет, а как знать, ангел или лукавый вкладывает в уста народа чарующе-пленительные звуки? Ќе то же ли происходит сейчас? ѕонимают ли простаки, каким источником благости может служить эта истори€? акой она красноречивый пример бесконечного милосерди€ и спасительной благодати божьей, которые изливает он на чада свои и которые сотней ручьев текут по руслам речей духовника, супруги, слуги неразумного и про€вл€ютс€ в предостерегающих знамени€х, грозных вихр€х и чуде ожившей статуи. Ќо того, кто, ожесточив свое сердце, опалит душу адовым пламенем и не допустит, чтоб коснулась ее роса спасительной благодати, того, словно засохшую ветвь, он отдел€ет от цветущего дерева и бросает в геенну огненную.
» вот, когда зазвонили колокола, возвеща€ о том, что настал канун рождества, в церквах астилии, јрагонии, Ћеона, —евильи, јндалузии и √ранады верующие смогли посмотреть новую поучительную церковную драму, которую венчало великое чудо. ј сто лет спуст€ в назидание ревностным христианам написал свое знаменитое сочинение брат √абриэль Ч “ирсо де ћолина. „еловек благочестивый и просвещенный, он отделил семена от плевел и живописал нравоучительную картину, не пожалев ни света, ни тони. ј эту историю Ч сейчас мне особенно €сно, что он поступил очень правильно,Ч перенес в глубь веков: в самое начало четырнадцатого столети€, когда еще не было ни пистолетов, ни пороха.
“акова истинна€ истори€ знатного испанского гранда, безбожника ƒон-∆уана “енорио.
¬ообрази же себе, дорогой мой брат, как € был потр€сен, как утратил душевный покой, когда увидел эту легенду в свете истины. ƒело не в том, что мне представилась блага€ возможность обогатить собрание церковных легенд еще одним новым, признанным по всей форме чудом; дело в том, что € натолкнулс€ на опасную, страшно опасную истину! Ћгал ли брат √абриэль? Ќеужели епископы, рукоположенные св€щенники и прочие брать€ семнадцати тыс€ч трехсот и других дев€носта тыс€ч восьмисот церквей все решительно были лжецами и лицемерами? ѕрекрасно, € понимаю, что ими руководила блага€ цель: показать силу пашей церкви, наставить, хорошенько наставить наших верующих. » все же в ушах у мен€, словно речь искусител€, звенел тот нехитрый испанский романс, в котором народ воспел ƒон-∆уана. » € вн€л голосу искусител€ Ч ты сам видишь, как в этой истории легко впасть в заблуждение, как легко перепутать добро и зло. я вн€л искусителю и усомнилс€ в том, что ƒон-∆уан действительно был безбожен, и почти счел таковым отца ’именеса, епископа и Ч господи, прости мен€ и помилуй! Ч даже св€тую инквизицию!
я уже говорил, любезный брат, что сомнение даже в малости, какой €вл€етс€ это незатейливое предание, подобно едва заметному ручейку в лесу. “ы начин
|
ћетки: церковь атеизм мировозрение здравомыслие ложь обман легенда |
| —траницы: | [1] |














