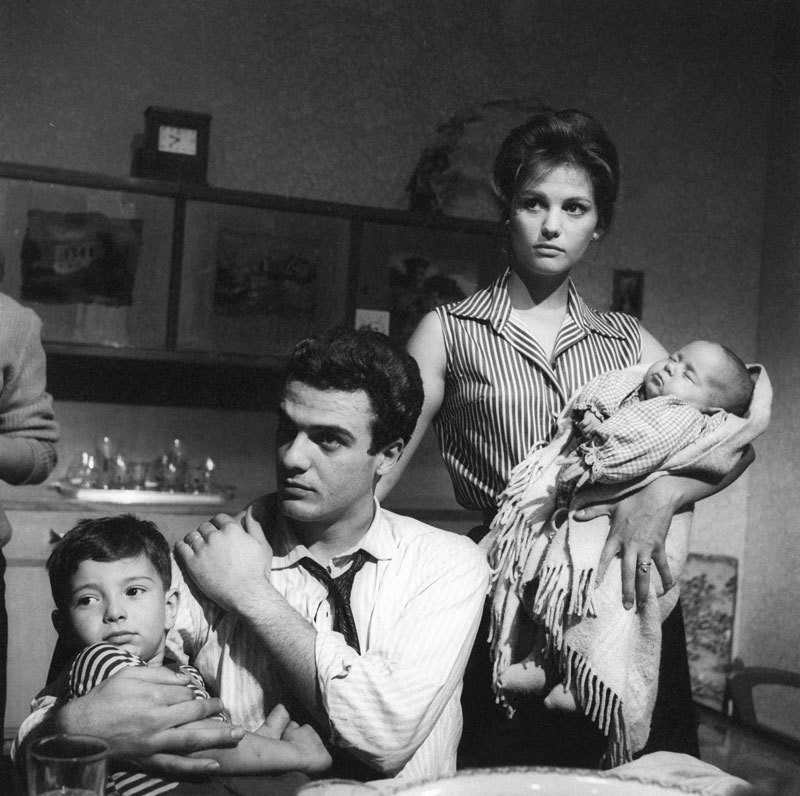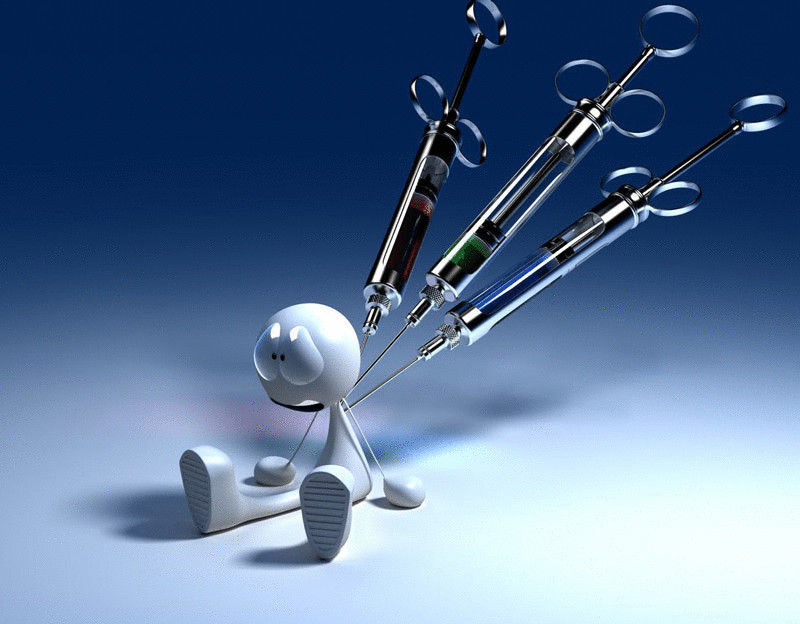-–убрики
- астрологи€, прогнозы (1748)
- разное (328)
- Ќью Ё…ƒ∆ (281)
- первоисток (123)
- јлександр и ”рани€ (45)
- √уань-»ньѕле€деанска€ “антра: ѕробуждение энергии (34)
- Ћазарев (41)
- орис (37)
- кулинари€ (259)
- бизнес, создание своего дела (233)
- јЋ№ћ»Ќ (196)
- –ами ЅЋ≈ “ (114)
- обучающие программы, английский €зык (94)
- Ё ’ј–“ “ќЋЋ≈ (70)
- ќ себе (10)
- x (3)
- (0)
- архитектура , дизайн (920)
- видео,аудио (2651)
- здоровье, практики омоложени€ и долголети€ (3906)
- «емл€ (583)
- избранное (114)
- искусство, культура (813)
- луб путешественников (691)
- книги, статьи (1987)
- осмос (249)
- расота, природа, города , страны (787)
- музыка (361)
- наука (1388)
- о любви (206)
- ќ любви (продолжение) (965)
- общество, политика (492)
- переход , преображение,вознесение (3928)
- практики, активации, медитации (2332)
- притчи, эссе,стихи ... (807)
- ѕсихологи€, психотерапи€ (14406)
- фото (488)
- ченнелинг (2363)
- арктурианский коридор (61)
- »ешуа через ѕамелу риббе (75)
- эзотерика, духовный путь, просветление, мистика (12659)
- ёмор (108)
-ћузыка
- “антра-растворение в Ћюбви.
- —лушали: 131819 омментарии: 23
-я - фотограф
јнатоми€ духовности. Alex Grey
-ѕоиск по дневнику
-ѕодписка по e-mail
-—татистика
«аписей: 26507
омментариев: 34325
Ќаписано: 61675
ƒругие рубрики в этом дневнике: ёмор(108), Ё ’ј–“ “ќЋЋ≈(70), эзотерика, духовный путь, просветление, мистика(12659), ченнелинг(2363), фото(488), –ами ЅЋ≈ “(114), разное(328), ѕсихологи€, психотерапи€(14406), притчи, эссе,стихи ...(807), практики, активации, медитации(2332), переход , преображение,вознесение(3928), обучающие программы, английский €зык(94), ќ себе(10), ќ любви (продолжение)(965), о любви(206), Ќью Ё…ƒ∆(281), наука(1388), музыка(361), кулинари€(259), расота, природа, города , страны(787), осмос(249), книги, статьи(1987), луб путешественников(691), искусство, культура(813), избранное(114), «емл€(583), здоровье, практики омоложени€ и долголети€(3906), видео,аудио(2651), бизнес, создание своего дела(233), астрологи€, прогнозы(1748), архитектура , дизайн(920), јЋ№ћ»Ќ(196), x(3), (0)
“равма. ак сохранить достоинство в страдании? |
ƒневник |
“равма. ак сохранить достоинство в страдании?
“равма – как это бывает
Ќаша сегодн€шн€€ тема – травма. Ёто очень болезненна€ часть человеческой реальности. ћы можем переживать любовь, радость, удовольствие, но также и депрессию, зависимость. ј также боль. » это – именно то, о чем € буду говорить.
ЌачнЄм с повседневной реальности. “равма – греческое слово, означающее повреждение. ќни происход€т каждый день.
огда травма происходит, мы цепенеем и все ставитс€ под вопрос – отношени€, в которых нас не прин€ли в всерьЄз, травл€ на работе или в детстве, когда нам предпочитали брата или сестру. ” кого-то – напр€жЄнные отношени€ с родител€ми, и их оставл€ют без наследства. ј ещЄ есть семейное насилие. —ама€ ужасна€ форма травмы – война.
»сточником травмы могут быть не только люди, но судьба – землетр€сени€, катастрофы, смертельные диагнозы. ¬с€ эта информаци€ травматична, она приводит нас в ужас и шок. ¬ наиболее т€жЄлых случа€х могут пошатнутьс€ наши убеждени€ о том, как устроена жизнь. » мы говорим: «я не представл€л свою жизнь такой».
“аким образом, травма сталкивает нас с основами существовани€. Ћюба€ травма –трагеди€. ћы переживаем ограничение в средствах, чувствуем себ€ ранимыми. » возникает вопрос, как это пережить и остатьс€ людьми. ак мы можем остатьс€ собой, сохран€ть ощущение себ€ и отношени€.
ћеханизмы травмы
ћы все переживали физические повреждени€ – порезатьс€ или сломать ногу. Ќо что такое повреждение? Ёто насильственное разрушение целого. — феноменологической точки зрени€, когда € резал хлеб и порезалс€, со мной происходит то же, что с хлебом. Ќо хлеб не плачет, а € – да.
Ќож нарушает мои границы, границы моей кожи. Ќож разрывает целостность кожи, потому что она недостаточно прочна, чтобы противосто€ть ему. “акова природа любой травмы. » любую силу, разрывающую границы целостности, мы называем насилием.
ќбъективно насилие присутствует не об€зательно. ≈сли € слаб или в депрессии, то почувствую себ€ раненым, даже если особых усилий не было.
ѕоследстви€ травмы – потер€ функциональности: например, со сломанной ногой не походишь. » ещЄ – тер€етс€ что-то собственное. Ќапример, мо€ кровь растекаетс€ по столу, хот€ природой так не предусмотрено. » ещЄ приходит боль.
ќна выходит на первый план сознани€, застилает весь мир, мы тер€ем работоспособность. ’от€ сама по себе боль – это просто сигнал.
Ѕоль бывает разной, но вс€ она вызывает чувство жертвы. ∆ертва чувствует себ€ обнажЄнной — это основа экзистенциального анализа. огда мне больно, € чувствую себ€ обнажЄнным перед миром.
Ѕоль говорит: «—делай с этим что-то, это первостепенно. «айми позицию, найди причину, устрани боль». ≈сли мы это делаем, у нас есть шанс избежать большей боли.
ѕсихологическа€ травма – механизм тот же. Ёльза
Ќа психологическом уровне происходит нечто, аналогичное физическому уровню: вторжение в границы, потер€ собственного и утрата функциональности.
” мен€ была пациентка. ≈Є травма происходила от отвержени€.
Ёльзе было сорок шесть, она страдала депрессией с двадцати лет, в последние два года особенно сильно. ќтдельным испытанием дл€ неЄ были праздники – –ождество или дни рождени€. “огда она не могла даже двигатьс€ и передавала работу по дому другим.
≈Є основное чувство было: «я ничего не стою». ќна замучила семью своими сомнени€ми и подозрени€ми, достала детей своими расспросами.
ћы обнаружили тревогу, которую она не осознавала, а также св€зь тревоги с основными чувствами и проговорили вопрос: «ƒостаточно ли € ценна дл€ своих детей». ѕотом мы вышли на вопрос: « огда они не отвечают мне, куда идут вечером, € чувствую себ€ недостаточно любимой».
“огда ей захотелось кричать и плакать, но плакать она давно прекратила – слЄзы действовали на нервы еЄ мужу. ќна чувствовала себ€ не в праве кричать и жаловатьс€, поскольку думала, что это неважно дл€ остальных, а значит – неважно и дл€ неЄ.
ћы начали искать, откуда происходило это чувство отсутстви€ ценности, и обнаружили, что в еЄ семье был обычай забирать без спросу еЄ вещи. ќднажды в детстве у неЄ забрали любимую сумочку и отдали кузине, чтобы та лучше смотрелась на семейной фотографии. Ёто – мелочь, но и она прочно откладываетс€ в сознании ребЄнка, если похожее повтор€етс€. ¬ жизни Ёльзы отвержение повтор€лось посто€нно.
ћать посто€нно сравнивала еЄ с братом, и брат был лучше. ≈Є честность наказывалась. ≈й пришлось боротьс€ за мужа, потом т€жело работать. ќ ней сплетничала вс€ деревн€.
≈динственным, кто еЄ любил, защищал и гордилс€ ею, был отец. Ёто спасло еЄ от более серьЄзного личностного расстройства, но от всех значимых людей она слышала только критику. ≈й говорили, что у неЄ нет прав, что она хуже, что она ничего не стоит.
огда она заговорила об этом, ей снова стало плохо. “еперь это был не только спазм в горле, боль, котора€ распространилась на плечи.
«ѕоначалу от высказываний родственников € приходила в €рость, — сказала она, — но потом мен€ выгнал з€ть. ќн рассказал моим родственникам, что € спала с его братом. ћать обозвала мен€ проституткой и выгнала. «а мен€ не заступилс€ даже будущий муж, который тогда крутил романы с другими женщинами».
ќна смогла заплакать обо всЄм этом только на сеансе терапии. Ќо при этом она не могла оставатьс€ одна – в одиночестве мысли начинали мучить еЄ особенно сильно.
ќсознание боли, причинЄнной окружающими, еЄ чувств и тоски, в конце концов, привели к тому, что за год терапии Ёльза смогла справитьс€ с депрессией.
—пасибо Ѕогу, что депресси€, в конце концов, стала настолько сильной, что женщина не смогла еЄ игнорировать.
ѕсихическа€ травма. „то происходит? —хема
Ѕоль – это сигнал, котора€ заставл€ет нас взгл€нуть на проблему. Ќо основной вопрос, который возникает у жертвы: «„его € действительно стою, если со мной так обращаютс€? ѕочему €? «а что это мне?»
Ќеожиданна€ травма не подходит нашей картине реальности. Ќаши ценности разрушаютс€, и каждое повреждение ставит под вопрос будущее. аждое повреждение приносит ощущение, что происход€щего слишком много. ѕод этой волной оказываетс€ наше эго.
Ёкзистенциальна€ психологи€ рассматривает человека в четырЄх измерени€х – в его св€зи с миром, жизнью, собственным € и будущим. ѕри серьЄзной травме, как правило, ослабл€ютс€ все четыре измерени€, но наиболее повреждаетс€ отношение с собой. —труктура экзистенции трещит по швам, а силы преодолеть ситуацию угасают.
¬ центре процесса находитс€ человеческое я. »менно оно должно распознать происход€щее и решить, что делать дальше, но у человека нет сил, и тогда ему нужна помощь других.
“равма в чистом виде – это неожиданна€ встреча со смертью или с серьЄзными повреждением. “равма происходит со мной, но иногда дл€ этого не нужно, чтобы угрожали именно мне. ƒостаточно увидеть, как нечто угрожает другому – и тогда человек тоже испытывает шок.
Ѕолее половины людей испытывали такую реакцию хот€ бы однажды в жизни, и около 10% затем демонстрировали признаки посттравматического синдрома – с возвращени€ми в травмирующее состо€ние, нервозностью и прочим.
“равма воздействует на глубочайшие слои экзистенции, но более всего страдает базовое доверие миру. Ќапример, когда людей спасают после землетр€сени€ или цунами, они чувствуют себ€ так, как будто в мире их больше ничего не держит.
“равма и достоинство. ак человек опускаетс€
ќсобенно т€жело травма переноситс€ в силу своей неизбежности. ћы сталкиваемс€ с обсто€тельствами, с которыми надо смиритьс€. Ёто судьба, разрушающа€ сила, над которой у мен€ нет контрол€.
ѕереживание такой ситуации означает: мы переживаем нечто, что в принципе не считали возможным. ћы тер€ем веру даже в науку и технику. Ќам-то уже казалось, что мы приручили мир, и вот мы – как дети, которые играли в песочнице, и наш замок разрушен. ак же во всЄм этом остатьс€ человеком?
¬иктор ‘ранкл два с половиной года прожил в концентрационном лагере, потер€л всю семью, чудом избежал смерти, посто€нно переживал обесценивани€, но при этом не сломалс€, а даже духовно вырос. ƒа, при этом были и повреждени€, которые остались до конца его жизни: даже в возрасте за восемьдес€т ему иногда снились кошмары, и он плакал по ночам.
¬ книге «„еловек в поисках смысла» он описывает ужас по прибытии в концлагерь. ак психолог он выделил четыре основных элемента. ¬ глазах у всех был страх, реальность была неверо€тна. Ќо особенно их шокировала борьба всех против всех. ќни потер€ли будущее и достоинство. Ёто соотноситс€ с четырьм€ фундаментальными мотиваци€ми, которые тогда не были известны.
”зники были потер€ны, постепенно приходило осознание, что под прошлой жизнью можно подвести черту. Ќаступила апати€, началось постепенное психическое умирание – из чувств оставалась только боль от несправедливости отношени€, унижени€.
¬торым последствием было изъ€тие себ€ из жизни, люди опустились до примитивного существовани€, все думали только о еде, месте, где согретьс€ и выспатьс€ –остальные интересы ушли. то-то скажет, что это нормально: сначала еда, потом мораль. Ќо ‘ранкл показал, что это не так.
“ретье – не было чувства личности и свободы. ќн пишет: «ћы больше не были людьми, но частью хаоса. ∆изнь превратилась в бытие в стаде.
„етвЄртое – исчезло чувство будущего. Ќасто€щее не мыслилось происход€щим на самом деле, будущего не было. ¬сЄ вокруг тер€ло смысл.
ѕодобные симптомы можно наблюдать в любых травмах. ∆ертвы изнасилований, солдаты, возвращающиес€ с войны, переживают кризис фундаментальных мотиваций. ¬се они ощущают, что не могут более никому довер€ть.
ѕодобное состо€ние требует специальной терапии по восстановлению базового довери€ миру. Ёто требует огромных усилий, времени и очень аккуратной работы.
—вобода и смысл. —екрет и экзистенциальный поворот ¬иктора ‘ранкла
¬с€ка€ травма задаЄт вопрос о смысле. ќн очень человечен, потому что сама травма – бессмысленна. Ѕыло бы онтологическим противоречием сказать, что мы видим смысл в травмах, в убийстве. ћы можем испытывать надежду на то, что всЄ в руках √оспода. Ќо этот вопрос – очень личный.
¬иктор ‘ранкл поднимал вопрос, что мы должны совершить экзистенциальный поворот: травма может стать осмысленной через наши собственные действи€. ««а что это мне?» – вопрос бессмысленный. Ќо «могу ли € что-то вынести из этого, стать глубже?» – придаЄт травме смысл.
Ѕоротьс€, но не мстить. ак?
«ацикливание же на вопросе «за что?» делает нас особенно беззащитными. ћы страдаем от чего-то, что бессмысленно само по себе – это нас разрушает. “равма разрушает наши границы, приводит к потере себ€, потере достоинства. “равма, котора€ происходит через насилие над другими, приводит к унижению. Ќасмешка над другими, унижение жертв – это обесчеловечивание. ѕоэтому наша ответна€ реакци€ – мы боремс€ за смысл и достоинство.
Ёто происходит не только тогда, когда мы травмированы сами, но когда страдают люди, с которыми мы себ€ идентифицируем. „ечн€ и —ири€, мировые войны и другие событи€ привод€т к суицидальным попыткам даже тех людей, которые не были травмированы сами.
Ќапример, юным палестинцам показывают фильмы о несправедливом отношении израильских солдат. » они пытаютс€ восстановить справедливое отношение к жертвам и причинить боль виновным. “равматизированное состо€ние может быть вынесено на рассто€ние. ¬ возвращЄнном виде это встречаетс€ при злокачественном нарциссизме. ѕодобные люди испытывают удовольствие, гл€д€ на страдани€ других.
¬озникает вопрос, как боротьс€ с этим средствами, отличными от мести и самоубийства. ¬ экзистенциальной психологии примен€ем метод «встать р€дом с собой».
≈сть два автора, отчасти оппозиционные друг другу – амю и ‘ранкл. ¬ книге о —изифе амю призывает сделать страдание осознанным, придать смысл собственному сопротивлению богам. ‘ранкл известен девизом «прин€ть жизнь, несмотр€ ни на что».
‘ранцуз амю предлагает черпать энергию из собственного достоинства. јвстриец ‘ранкл – в том, что должно быть нечто большее. ќтношени€ с собой, другими людьми и Ѕогом.
ќ силе цветка и свободе взгл€да
“равма – это внутренний диалог. ќчень важно при травме не дать себе остановитьс€. Ќужно прин€ть то, что случилось в мире, но не прекращать внутреннюю жизнь, сохран€ть внутреннее пространство. ¬ концлагере сохран€ть внутренний смысл помогали простые вещи: смотреть на закат и восход, форму облаков, случайно выраставший цветок или горы.
—ложно поверить, что такие простые вещи могут напитать нас, обычно мы ждЄм большего. Ќо цветок был подтверждением того, что красота ещЄ существует. »ногда они толкали друг друга и показывали знаками, как прекрасен мир. » тогда они чувствовали, что жизнь так ценна, что она пересиливает все обсто€тельства. ћы в экзистенциальном анализе называем это фундаментальной ценностью.
≈щЄ одним средством преодолеть террор были хорошие отношени€. ƒл€ ‘ранкла – желание снова увидеть жену и семью.
¬нутренний диалог также позвол€л создать дистанцию с происход€щим. ‘ранкл думал о том, что он когда-нибудь напишет книгу, начинал анализировать – и это отдал€ло его от происход€щего.
“ретье – даже при ограничении внешней свободы у них оставались внутренние ресурсы, чтобы выстроить образ жизни. ‘ранкл писал: «” человека можно забрать всЄ, кроме возможности зан€ть позицию».
¬озможность сказать соседу «ƒоброе утро» и загл€нуть ему в глаза была не необходима, но она означала, что у человека всЄ ещЄ есть минимум свободы.
ѕоложение паралитика, прикованного к постели, предполагает самый минимум свободы, но и его нужно уметь прожить. “огда ты чувствуешь, что ты всЄ ещЄ человек, а не объект, и у теб€ есть достоинство. » ещЄ у них оставалась вера.
«наменитый экзистенциальный поворот ‘ранкла состоит в том, что вопрос «за что это мне?» он обернул в «чего это ждЄт от мен€?» такой поворот означает, что у мен€ всЄ ещЄ есть свобода, а значит достоинство. ј значит, мы можем внести что-то своЄ даже в онтологический смысл.
¬иктор ‘ранкл писал: «“о, чего мы искали, имели такой глубокий смысл, что он придавал значение не только смерти, но также умиранию и страдани€м. Ѕорьба может быть скромной и незаметной, необ€зательно громкой».
јвстрийский психолог выжил, вернулс€ домой, но он пон€л, что разучилс€ чему-то радоватьс€, и он училс€ этому заново. » это был ещЄ один эксперимент. ќн сам не мог пон€ть, как они всЄ это пережили. », постига€ это, он пон€л, что больше ничего не боитс€, кроме Ѕога.
ѕодвод€ итог, € очень надеюсь, что эта лекци€ будет вам хоть немного полезна.
ћаленькие ценности есть всегда, если мы не слишком горды, чтобы их увидеть. ј слова приветстви€, сказанные нашему компаньону, могут вполне стать про€влением нашей свободы, придающей существованию смысл. » тогда мы сможем ощущать себ€ людьми
»сточник: http://www.pravmir.ru/travma-kak-sohranit-dostoinstvo-v-stradanii/#ixzz3bVk4HBKm
|
ƒжон ЌЁЎ: Ђ«адача решена в тот момент, когда поставленаї |
ƒневник |
ƒжон ЌЁЎ: ««адача решена в тот момент, когда поставлена»
я познакомилс€ с ƒжоном Ќэшем за мес€ц до его гибели в автокатастрофе

¬ышло это случайно. я знал, конечно, что он живет в Ќью-ƒжерси и работает в ѕринстоне, но сам никогда бы не отважилс€ к нему приблизитьс€. ¬ конце апрел€ мы небольшой компанией собрались в одном русско-американском доме, в гост€х у “ать€ны ѕоповой и ее мужа, Ўелдона —тарджеса, издател€ и журналиста. ќказалось, что неподалеку российские документалисты ≈катерина ≈ременко и ѕавел остомаров снимают по заказу немецкого телевидени€ фильм о ƒжоне Ќэше, том самом, главном герое «»гр разума». Ќэш снималс€ весь день — то есть разговаривал, обедал, гул€л по городу — и устал, конечно, потому что ему 87. Ќо, когда €, замира€, спросил: а не заедут ли они все вместе к нам сюда, ведь ехать п€ть минут, — он и его жена јлиси€ неожиданно согласились.
Ёто был шок, конечно. я очень люблю «»гры разума», они же «A Beautiful Mind», это одна из самых красивых и трогательных историй безуми€, выздоровлени€, открыти€, славы, ненужности, одиночества — вообще всего, что сопр€жено с насто€щим интеллектуальным трудом и вынужденным аутизмом гени€. » хот€ подлинна€ истори€ Ќэша не имеет почти ничего общего с сюжетом картины (кроме названий нескольких работ, которые, собственно, и принесли ему раннюю славу) — мне жутко интересно было увидеть человека, которого студенты прозвали ‘антомом; автора загадочных писем, непостижимых схем, ищущего закономерности, как у Ќабокова в «”словных знаках», в случайных и несистематизируемых вещах. Ћегенда же! јбель по математике и Ќобель по экономике! я никогда, конечно, не пойму того, что он делает, но вдруг он что-то такое скажет, что мне сразу все объ€снит?
ƒл€ хоз€ев визит Ќэша, да еще со столь же легендарной јлисией, с которой он то разводилс€, то сходилс€, — тоже был большим сюрпризом. Ќикто не знал, как себ€ вести. ¬се знали, что это, впрочем, не имеет большого значени€, поскольку Ќэш все врем€ погружен в себ€ и на людей реагирует слабо. ѕравда, ему очень нравитс€ ат€ ≈ременко. Ќо пойди пойми, что в его жизни значит «нравитс€». ћожет, просто она его меньше всех раздражает.
„ерез 10 минут они приехали. «а рулем была јлиси€, удивительно моложава€ дл€ своих лет (она была младше мужа на четыре года). Ќэш, каждый шаг которого фиксировал камерой остомаров, вошел в гостиную, гл€д€ пр€мо перед собой, и так же продолжал гл€деть, здорова€сь со всеми, — куда-то в одному ему ведомую сторону. я успел быстро спросить Ўелдона, считаетс€ ли Ќэш вполне излечившимс€ от шизофрении, и услышал, что вполне излечитьс€ нельз€, но можно «перестать обращать на нее внимание».
ќн очень долго, мучительно долго усаживалс€ в кресло, потом так же медленно закладывал ногу на ногу, это удалось с третьей, кажетс€, попытки. ќн был очень бледен и действительно похож на фантом. –ечь его походила на лепет, и, хот€ артикулировал он четко, приходилось вслушиватьс€ и переспрашивать. ќн попросил бренди, јлиси€ не рекомендовала, он насто€л. ƒиспозици€ была така€: он сидел в кресле, с двух сторон ему вс€чески демонстрировали дружелюбие Ўелдон и €, остальные расселись на полу и диване и внимали. ќписать впечатление от него очень трудно. Ѕыло видно, что этот человек сильно страдал и, веро€тно, страдает поныне; что он пребывает в страшном одиночестве (о котором в основном и шел разговор); что за свои догадки он заплатил страшную цену, полностью выломившись из мира людей и принадлежа теперь к какой-то не вполне пон€тной вселенной (хрестоматийной стала его фраза из автобиографии, совершенно чеховска€, из «„ерного монаха»: станов€сь нормальным, ты тер€ешь св€зь с космосом, и потому € не рад выздоровлению). ¬се его движени€ были медленны и т€гучи. ¬идимо, так двигаютс€ в другом измерении, к которому он теперь принадлежал. ѕрин€в стакан с бренди, он огл€дел присутствующих и сказал: «я очень рад вас всех видеть, очень рад… ћне весьма при€тно».
–азговор, который шел за столом, € попыталс€ тогда записать сразу, и многое из его мыслей мен€ поразило, но € и посейчас не уверен, что правильно его понимал. ƒл€ начала Ўелдон, само оба€ние и сострадание, спросил:
— ¬ам не странно заниматьс€ вещами, которые в мире могут пон€ть — ну, может, три человека, кроме вас?
— ћен€ могут пон€ть по крайней мере три человека, да. ” нас есть систематизированный €зык дл€ этого общени€. ј другого человека — например, вас — вообще никто не может пон€ть, именно потому, что вы не можете себ€ формализовать. Ћюдей вообще пон€ть невозможно. (ћне.) ¬ы чем занимаетесь?
— —тихи пишу.
— ¬от мне интересно было бы пон€ть, зачем человек это делает. ≈сли бы это можно было как-то формализовать. «ачем человек, допустим, переходит с одного €зыка на другой. Ёто проблема, которой стоило бы зан€тьс€.
— ј вам вообще в жизни нужно общение?
— ћне нужен контакт с теми людьми, которые могут проверить мои результаты. ¬ остальном, € думаю, нет.
— Ќасколько правдиво в фильме показано ваше общение с воображаемыми людьми? (“ут јлиси€ насторожилась, поскольку поднимать эти темы при Ќэше было нежелательно.)
— я никогда не видел воображаемых людей, иногда слышал их. Ѕольшинство же всю жизнь видит именно воображаемых людей, пон€ти€ не име€ о реальных.
— ћожете вы назвать свое самое большое научное достижение?
— Ќикогда не ставил такого вопроса. ƒумаю, мое главное научное достижение в том, что € всю жизнь занимаюсь вещами, реально интересующими мен€, и ни дн€ не потратил на зан€тие вс€кой чушью.
— ¬ерно ли, что математика — дело молодых?
— ¬ математике важно не столько умение напр€чь мозг, сколько умение его расслабить. ƒумаю, это умеют дес€теро из ста, не более. ¬ молодости это отчего-то удаетс€ лучше.
— „то бы вы назвали математической проблемой номер один?
— ¬еро€тно, доказательство гипотезы –имана. —корее всего, доказать ее невозможно, но возможно доказать, что она недоказуема. Ёто также будет решением проблемы.
— ≈сть ли у насто€щей, серьезной математики прагматический смысл, об€зательное применение?
— — помощью математики нельз€ зарабатывать деньги, но можно так организовать свой мозг, что вы начнете их зарабатывать. ¬ообще же зарабатывать деньги способны именно те, кто не умеет их считать. –ациональному счету деньги не поддаютс€, их количество почти никогда не соответствует вашему качеству, на этом сто€т все конфликты.
— ” вас были озарени€? » если да, когда они приходили?
— ќзарений не бывает. ¬ моем случае задача решена в тот момент, когда поставлена.
ќн посидел в гост€х минут двадцать, јлиси€ сказала, что он устал, и они подн€лись. ” всех было по этому поводу, кажетс€, довольно сложное чувство. — одной стороны, все испытали облегчение, потому что вокруг него ощущалась и не могла не ощущатьс€ некотора€ нат€нутость. — другой — хотелось, чтобы он посидел еще, выпил еще бренди и открыл тот секрет мироустройства, который ему виден и пон€тен, и тогда у всех сразу будут деньги, и мы будем выигрывать в игры с ненулевыми суммами, а главное — нам все станет €сно. ¬едь должен быть какой-то секрет, мы все его чувствуем. ¬от Ёйнштейн, например, перед смертью утверждал, что еще немного — и он все поймет, и, веро€тнее всего, так оно и вышло. ј Ќэш €вно что-то такое знал, но штука в том, что поделитьс€ этим знанием нельз€. ќт него можно только с ума сойти, что с ним и произошло. я шел за ним следом, провожа€ его к машине, и заметил на его старом светло-бежевом плаще небольшую дырку, но его это все совершенно не волновало. ”же потом мне рассказали общие знакомые, что больших денег у Ќэша сроду не водилось и что обе премии ушли главным образом на лечение, а сын у него — тоже математик — болен еще т€желее и ведет себ€ так странно, что никакой гениальностью это не объ€снишь. » в целом у мен€ осталось ощущение необыкновенно трагической фигуры, кроткой, медлительной, научившейс€ в конце концов жить с людьми, но так и не понимающей, зачем они нужны. “о есть чувство лютого, сквоз€щего неблагополучи€, какой-то огромной и трагической платы за знание, которое еще, может, и не нужно никому. ѕотому что знание, которое было нужно — и на котором стоит так называемое «равновесие Ќэша», необходимое правило дл€ решени€ конфликтов и выстраивани€ стратегий, — его не удовлетвор€ло, и он ушел туда, куда за ним последовать уже некому. ¬ литературе такое тоже бывает сплошь и р€дом. Ќельз€ не сойти с ума, пон€в, как все устроено, — и главное, что радости в этом знании ноль.
» надо всем преобладало чувство ужасной жалости к нему, которое совершенно не исключает уважени€ к его величию.
» никакого, соответственно, удовлетворени€ или урока. “олько чувство прикосновени€ к очень большому несчастью и очень серьезному €влению — что, собственно, одно и то же
ƒмитрий Ѕыков
|
ƒјћџ, „≈ћ ¬џ ”ћЌ≈≈, “≈ћ ЅќЋ№Ў≈ ЎјЌ—ќ¬, „“ќ ¬џ Ѕ”ƒ≈“≈ ќƒ»Ќќ » |
ƒневник |
ƒјћџ, „≈ћ ¬џ ”ћЌ≈≈, “≈ћ ЅќЋ№Ў≈ ЎјЌ—ќ¬, „“ќ ¬џ Ѕ”ƒ≈“≈ ќƒ»Ќќ »
ѕочему мужчины не хот€т быть с женщинами, с которыми они могут пообщатьс€ и поспорить? огда по€вилось отвращение к сильным и умным женщинам?

Ёто жестокий мир… полный неловких первых свиданий, плохого секса и ограниченных возможностей дл€ достижени€ оргазма.
—ейчас женщины ассоциируют риск первых свиданий с опасност€ми путешестви€ в арктическую тундру. √де холодно, некомфортно и полно шансов, что вы скорее умрЄте, чем раздобудете огонь.
ѕосле многих лет этих жутких странствий и огромного багажа знаний, мы можем сказать, что в этот раз — мы немножечко лучше готовы. ћы узнали советы, приЄмы и уроки, которые можно узнать только прочувствовав их на собственном опыте, быстро поуча€ мошенников, мужчин, которые просто пытаютс€ нас обмануть снова и снова.
ћы мен€емс€, мен€ем одежду, причЄску и стиль, чтобы соответствовать тому единственному, дл€ кого это предназначаетс€, но есть что-то такое, чего мы не можем изменить, и это часто играет с нами злую шутку.
сожалению, женщинам часто мешает интеллект. ѕотому что дл€ всех умных и образованных женщин реально то, что они чувствуют… у умных женщин больше шансов быть одинокими.
«наменита€ поговорка «невежество есть блаженство» не точно охватывает широкий спектр того, что чувствуют женщины, как они сид€т одни вечером в п€тницу, как им не с кем обсудить Ќицше или почитать ѕруста.
ќна не уменьшает боль, когда родители спрашивают о парне и почему она не может найти хорошего парн€.
ѕоговорка будет правильнее, если будет звучать так: «у невежественных женщин есть мужчины, а умные женщины не чувствуют блаженства».
Ќо почему так? ѕочему мужчины не хот€т быть с женщинами, с которыми они могут пообщатьс€ и поспорить? огда по€вилось отвращение к сильным и умным женщинам?
¬ одной из статей «The Wire», финансовый репортЄр, ƒжон арни, дал одно из объ€снений этого феномена: «успешные мужчины встречаютс€ с менее успешными женщинами не потому, что они хот€т «тупую женщину», а потому, что хот€т «кого-то, кто жертвует своими приоритетами ради них».
¬ основном, они хот€т кого-то, кто не будет думать о карьере, пока не подумает об ужине и удовольствии.
»м нужна достаточно тупа€ женщина, чтобы она могла расставить приоритеты, но, к сожалению, таких женщин гораздо больше, чем женщин умных и здравомысл€щих.
≈сть много женщин, которые готовы посв€тить свою жизнь мужчинам, которые не захот€т бросить им вызов, боротьс€ с ними и не хот€т их видеть в качестве равных.
ќп€ть же, реша€, кака€ вы женщина, это всЄ равно, что выбор между молотом и наковальней. ≈сли вы глупы, вас не будут принимать всерьЄз, но если умны, то вас будут принимать слишком серьЄзно. ¬езде женщины размахивают двуручным мечом. расива€, привлекательна€ женщина не должна быть умной, а женщин с сильным характером рассматривают как угрозу мужественности.
»сследование, проведЄнное со 121 британскими участниками, привело к результатам, что женщины с высоким интеллектом в женских/мужских отношени€х были определены как проблематичные.
—огласно прогнозам, их интеллект вызывает проблемы в отношени€х. ќднако высокий уровень интеллекта мужчин проблем не вызывает, он желателен.
Ёти культурные стереотипы и гендерные предрассудки не преп€тствуют женщинам рассматриватьс€ на равных. –ациональные и образованные женщины игнорируютс€ и наказываютс€ за интеллект.
“е женщины, которые учат вас, показывают вам и помогают вырасти и стать лучше, на самом деле лучше тех девушек в шортах, которые показывают слишком много тела и высоких каблуков.
онечно, есть много умных женщин, у которых есть парни. Ёто не подходит дл€ женщин с парн€ми, но чтобы успокоить нытьЄ, ун€ть боль всех умных женщин, мужчины посто€нно приглашают их на ужин, провод€т великолепное врем€, а затем решают, что они не хуже работы.
¬о-первых, на самом деле, это самое худшее
Ёто эпидеми€ поколени€ сегодн€шнего дн€. ¬езде женщины погружены в свои стандарты и ищут мужчину, который ценит их. ќни ожидают больших вещей, чем хотели бы, а не просто «он хорош дл€ мен€».
√де мужчина, который дожжен пон€ть вас? √де мужчина, который должен шокировать и поддерживать?
¬ статье «Daily Mail» министр университетов ƒэвид ”иллетс утверждает, что«успешные женщины будут выходить замуж за менее квалифицированных партнЄров, чем они – и, возможно, выберут тех мужчин, которые будут поддерживать их карьеру, а не поддерживать финансово».
—уд€ по тому, что мужчины развиваютс€ не с такой же скоростью, с какой женщины увеличивают образованность, то существует неравномерный масштаб. ∆енщины станов€тс€ умнее, а мужчины не сильнее их поддерживают.
Ѕольшинство мужчин хотели бы стать лучше в отношени€х. ћужчины приучены к тому, что женщина всегда хуже, а когда она становитс€ лучше – она становитс€ угрозой.
„исло женщин с высшим образованием сейчас превышает число мужчин с высшим образованием. ћужчины в этом соревновании не готовы оказатьс€ на втором месте, в этом и есть причина одиночества женщин.
¬ы забыли съесть весь пирог
»нтеллектуальные амбиции порождают пренебрежение. ѕренебрежение к любви, к парн€м и возрасту, что вы не получите степень ћиссис. ѕренебрежение в колледже, когда сосредотачиваетс€ внимание на обучении, а не на поисках парн€, отказыва€сь проводить ночи в барах и клубах.
сожалению, дл€ всех женщин, которые думали, что мужчина по€витс€ позже, другие женщины использовали молодость и расхватали парней и мужей, пока те сосредоточены на карьере.
∆енщины шли в колледж с намерением выйти замуж, медленно, но уверенно увод€ мужчин у тех, кто пошЄл туда учитьс€.
Ёто €вление лишь увеличивает веро€тность, что женщина покинет колледж. ќна разочаруетс€ и начнЄт больше работать дл€ достижени€ профессионального успеха из-за отсутстви€ любви, чтобы заполнить пустоту. ƒоктор јлекс Ѕэннер в «Huffington Post» объ€сн€ет, что женщины компенсируют свои неудачные знакомства с успешной профессиональной карьерой, а это только увеличивает разрыв.
Ѕольшие умы как большие шары
¬ы можете быть сладки, чувствительны и неуверенны, но ваш ум угрожает вам. ” вас может не быть мускулов и большого чл*на, но мужчины будут видеть в вас конкурента.
¬ы их пугаете. Ѕольшинство умных женщин не напыщенны и не высокомерны, но мужчины думают наоборот. ќни полагают, что женщина собираетс€ их исправить, отодвинуть на задний план и заставить чувствовать себ€ бесполезно.
¬ статье, опубликованной в «The Daily Beast», доктор Ёйлин ѕоллак объ€сн€ет,«¬се эти противоречи€ в нашей культуре созданы дл€ того, чтобы вы не были одновременно и умным и сексуальным. я не думаю, что большинство бросает этому вызов, мы просто смирились».
≈сли женщина слишком умна или самодостаточна, она рассматриваетс€ как«материал не дл€ знакомств». ≈сли она остроумна и конкурентоспособна,она рассматриваетс€ как сложна€ и властна€.
ќбщество учит женщин, что если они будут умными и смешными, то они не будут встречатьс€, а будут встречатьс€ пустые головы и чЄрствые сердца.
Lauren Martin
Ladies, The Smarter You Are, The More Likely
|
„улпан ’аматова о том, как не бо€тьс€ смерти |
ƒневник |
„улпан ’аматова о том, как не бо€тьс€ смерти
«—ери€ статей на тему смерти? акой бред, это никто читать не будет! Ёто слишком мрачно», — сказала мне одна знакома€, когда посв€тила € ее в план работы.
ћы неохотно говорим об этом. ќ том, что когда-нибудь об€зательно коснетс€ каждого.
ќ том, почему наше общество стремитьс€ закрытьс€ от темы смерти, о своем собственном воспри€тии этой темы говорит актриса „улпан ’аматова, соучредитель фонда «ѕодари жизнь!»
— „улпан, не вспомните, когда вы впервые столкнулись со смертью?
— огда ушел мой дедушка, € тогда училась в п€том классе. ¬се утро слышала сквозь сон, как мама говорила кому-то телефону, что дедушки не стало. Ќо это было дл€ мен€ еще словно в пространстве сна, тем более, слышанное казалось настолько нереальным, что мне даже не пришло в голову, что речь о случившемс€ на самом деле.
» только когда € уже стала собиратьс€ в школу, мама сообщила мне о смерти дедушки. ѕерва€ реакци€ — непонимание и неверие: такого не может быть, чтобы дедушки совсем не стало, что € больше никогда его не увижу.
—амым пугающим в уходе дедушки было понимание, что теперь изменитс€ мо€ жизнь, она не будет такой, как раньше. ¬едь у мен€ не будет дедушки, который занималс€ моим воспитанием, встречал мен€ из школы. ƒедушка очень активно присутствовал в моей жизни. Ћетом мы жили с ним вдвоем на даче, он ходил на рыбалку, потом жарил часов в п€ть утра пойманную рыбу, и мы с удовольствием ее ели. огда родилс€ младший брат, дедушкина забота досталась и ему. » вот € понимаю, что всего этого в моей жизни больше не будет, не будет такого, особенного детства с дедушкой!
ќднажды он мне приснилс€, пришел ко мне в гости, мы разговаривали, и € как-то стала успокаиватьс€.
— ак изменилось ваше отношение к вопросу смерти с тех пор, как вы стали работать в фонде «ѕодари жизнь»?
— Ќа самом деле, изменение моего отношени€ к смерти внутренне не св€зано дл€ мен€ с пон€ти€ми «фонд» или «работа». “ак получалось, что благодар€ каким-то обсто€тельствам, кто-то из лечившихс€ от лейкоза детей, которым мы пытались помочь, становилс€ по-насто€щему родным… » так случилось, что именно эти любимые дети уходили друг за другом. ќдна потер€ — смерть чудесной, дорогой дл€ мен€ девочки, была особенно т€желой.
я даже стала задумыватьс€, смогу ли дальше работать в фонде, поскольку было такое состо€ние, когда ты тер€ешь все ориентиры и почву под ногами, не понимаешь, как жить дальше. Ѕыл очень т€желый, черный период. » вдруг мне звонит мама этой девочки и говорит: «Ќам надо встретитьс€».
ѕри встрече рассказывает, что ей приснилась дочка, сто€ща€ на €рко осв€щенном солнцем пл€же на берегу мор€. » девочка сказала: «ћама, сейчас „улпан очень т€жело, передай ей, чтобы она обо мне не беспокоилась, потому что мне хорошо, и светит солнце».
» вот это как-то мен€ спасло, помогло перестроитьс€.
“еперь у мен€ нет ощущени€ чего-то ужасного. ƒа, € понимаю, что это трагеди€, что это очень т€жело. » это произойдет, конечно же, со всеми, уйдем мы, уйдут наши близкие и любимые люди. Ќо той эмоциональной потер€нности, котора€ была у мен€ после смерти дедушки, у мен€ больше нет. я понимаю: мне жалко в этой ситуации только саму себ€, а дл€ детей, которые ушли, наверное, смерть — все-таки некое освобождение.
ѕосле этого все последующие смерти, даже тех детей, которые были внутренне близки, € воспринимала по-другому. ƒа, мне больно, да, мне нечем дышать в этот момент. Ќо это происходит от ощущени€ собственного бессили€ перед судьбой, перед тем, что € вместе со всеми своими друзь€ми и вместе с фондом пыталась сделать, может быть, даже больше, чем это требовалось, но все оказалось напрасным. Ёто ощущение обиды, боли, несправедливости оп€ть св€зано именно с собой, а никак не с ушедшим.
ќднажды, когда умер еще один мальчик, € в вдруг поймала себ€ на мысли, что у мен€ совершенно изменилось ощущение смерти: € ее перестала бо€тьс€.
“о есть, сама смерть мен€ вообще не интересует. ƒа, все умрут. „то за этим будет, мы не знаем.
Ќо самое важное, что может быть, и на что мы можем повли€ть — это процесс ухода, то есть это врем€, которое проходит между жизнью и смертью. ≈сли мы говорим про смерть не внезапную, а предначертанную врачами, то, конечно отведенный человеку кусок жизни должен быть наполнен максимумом любви, света, тепла, уважени€. ћожет быть, это как раз врем€ дл€ того, чтобы вспомнить, что мы люди, и мы умеем друг друга любить. ’от€ об этом нужно помнить всегда и бережно относитс€ к друг другу, помн€, что каждый может уйти и неожиданно, мгновенно…
— огда, как вам кажетс€, у человека возникает осознанное ощущение, что человек смертен?
— ћне кажетс€, тема смерти возникает в тот момент, когда люди понимают: они должны жить и любить каждое подаренное мгновение жизни, старатьс€ не поссоритьс€ со своими близкими и любимыми людьми, успевать сделать им при€тное. “о есть, ценить эти секунды, которые у нас есть пока, потому что никто не знает, как он может столкнутьс€ со смертью. —валитс€ ли это кирпич, как у Ѕулгакова, на голову, либо это будет кака€-то долга€ болезнь. “о есть, ощущение смерти — в ощущении жизни.
— —егодн€ люди бо€тс€ стареть. —в€зано ли это со страхом смерти?
— Ѕо€знь старости св€зана со страхом потер€ть власть над своим телом. —тать беспомощным. Ќапример, ты можешь вз€ть сам зубную щетку, почистить сам зубы. ј в старческой немощи, если вдруг у теб€ откажут руки, ноги и так далее, тебе придетс€ кого-то просить об этом. —трах уйдет, если перед глазами человека будут примеры достойной старости, когда люди не испытывают боли, не испытывают унижени€ от того, что сами не могут что-то сделать. ј это возможно только если каждый поймет: рано или поздно такое может случитьс€ со мной, значит, нынешним старикам нужно оказывать посильную помощь, стремитьс€ к тому, чтобы старость не была страшной и унизительной.
— Ќо наше общество чаще не хочет думать ни о старости, ни о смерти, стара€сь закрытьс€ от этого.
— ƒа. Ќо это же просто от необразованности, от какой-то тотальной деформированности сознани€, от отсутстви€ информации и от нежелани€ погрузитьс€ в эту тему. Ћюди не хот€т думать, что все равно мы все умрем. Ёто вообще удел малоразвитых людей — закрыть глаза на чужую беду и думать: «только бы нас не коснулось». оснетс€ рано или поздно.
—егодн€ российское общество — общество —редневековь€ — темное, необразованное, тотально зацикленное на ежеминутном пожирательстве под девизом «Ѕери от жизни все!». ј если бы люди не забывали, что мы все когда-нибудь уйдем, им не нужны были бы миллионные капиталы, не нужно было бы обманывать друг друга. ќни бы знали, что никакие деньги никогда в жизни от смерти не спасали и не спасут.
— ј как на «ападе обстоит дело в обществе с отношением к смерти?
— Ќаверное, все-таки чуть-чуть получше, хот€ бы потому, что там есть адекватна€ реакци€ на пон€тие «хоспис», например. “ам смерть и подготовка к ней — это тоже часть жизни, и она должна быть достойной. „еловек не должен мучитьс€. ќн должен прожить тот отведенный ему судьбой участок жизни в болезни или в старости достойно, как человек.
” нас тема смерти звучит лишь на уровне расчлененки в дешевых детективах. Ѕольше ее не трогают вообще. Ёто какое-то запретное, темное, мутное, необъ€снимое поле, в которое как будто никто никогда не будет входить.
»зменитс€ ли ситуаци€, зависит от нас с вами — от журналистов, от людей, которые занимаютс€ искусством, которые пишут книги, работают на телевидении. ќт людей, в какой-то степени направл€ющих эмоции современников, которым некогда задуматьс€ над теми или иными вопросами.
“ы не можешь объ€снить ребенку, а тем более взрослому человеку, почему п€тью п€ть — двадцать п€ть, пока он не начнет понимать таблицу умножени€ в принципе. ѕоэтому разговаривать на какие-то важные темы нужно об€зательно. ƒаже если сами люди не хот€т этого слышать.
„еловек так устроен, он не хочет задумыватьс€, не хочет в принципе помогать другому. ≈му проще сделать что-нибудь удобное, легкое дл€ себ€. ќн не рефлексирует на эту тему, он не ходит так далеко. ≈сли человек воврем€ не прочитал книжек, не послушал музыки, у него не было перед глазами правильного примера и он не самообразовывалс€, он в принципе так устроен, что ему надо только есть, спать и справл€ть свои малые и большие нужды. ¬сЄ. ≈сли его не наполн€ть чем-то другим, то это будет животное.
≈сли не говорить на тему смерти, то так и останетс€ ощущение: смерти нет, она лишь то, «что бывает с другими». я сегодн€ жив, € сегодн€ поел, выпил, и мне хорошо.
— ак говорить с людьми о смерти? Ќужно ли обсуждать эту тему с детьми?
— — детьми надо разговаривать на одном €зыке, а с подростками — на другом €зыке. —о взрослыми людьми — на третьем €зыке. Ќаверное, там еще будет четвертый, п€тый, шестой, седьмой, в зависимости от человека, но говорить об этом, конечно же, надо. ѕотому что если ребенку изначально объ€сн€ть, подготавливать к тому, что такое в жизни случаетс€, у него не будет такой реакции, как у мен€ была на смерть дедушки.
— детьми можно обсуждать тему на примерах героев кино, через сказки, притчи, христианские пон€ти€.
— Ќа ваш взгл€д, нужно ли человеку называть смертельный диагноз? »ли не стоит пугать его?
— «десь — противоборство так называемой советской медицины и сегодн€шнего взгл€да медиков на этот вопрос.
ћне кажетс€, говорить нужно. я в этом уверена. ≈сли бы со мной произошло такое, если бы € заболела, то точно хотела бы знать свой диагноз, потому что тогда человек иначе начинает ценить оставшеес€ врем€, по-другому распредел€ть. ќн может подготовить своих близких, себ€.
Ќе должен человек уходить в незнании, ничего не понима€, в каком-то протесте против непон€тной болезни, в скандалах со своими родственниками, которые неизбежно случаютс€ в стрессовых ситуаци€х, в ощущении посто€нного обмана, в обвинени€х (ведь раз люди лгут, значит — виноваты).
— ¬ы боитесь смерти?
— Ќет, € не боюсь смерти. ћне очень жалко, что, если вдруг так случитс€, и € могу не увидеть свадьбы своих детей или не увидеть внуков. Ќе боюсь потому, что мне никто не сказал, что там, за этой границей? ћожет быть, солнце и пл€ж.
— ƒоводилось ли вам видеть случаи достойного ухода людей?
— ¬ ‘Ќ ÷ (‘едеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. ƒмитри€ –огачева) в момент €сного понимани€, что ребенку нельз€ помочь, ему разрешено все. ≈сли ребенок захотел, чтобы ежик в палате у него жил, у него будет жить ежик, собаку — разрешат собаку, аквариум — аквариум. “о есть, к счастью, в нашей стране есть такие врачи, которые понимают, что смысл их работы не только в отчете перед главным врачом, перед ћинистерством здравоохранени€ за оборот койко-места, а еще и в самом ребенке. я была свидетелем, когда мама ушедшего ребенка успокаивала рыдающую женщину-доктора. ¬ каком-то покое, душевном равновесии объ€сн€ла врачу, который из всех сил стремилс€ помочь ее ребенку и не смог, что раз так случилось, значит, так надо.
Ѕеседовала ќксана √оловко
»сточник: http://www.pravmir.ru/chulpan-xamatova-dengi-ot-smerti-ne-spasayut/#ixzz3bVN0Q48W
|
Ђ—трана заболела манией величи€ї |
ƒневник |
«—трана заболела манией величи€»
80 лет назад нацисты устроили провокацию с поджогом –ейхстага. ƒоре Ќасс (урожденной ѕеттин) в то врем€ было семь лет, и она помнит, как утверждалась гитлеровска€ диктатура. ƒл€ The New Times с ƒорой Ќасс поговорил јртур —оломонов.

я родилась в 1926 году недалеко от ѕотсдамерплац, а жила на енигетцерштрассе. Ёта улица находитс€ р€дом с ¬ильгельмштрассе, где были все министерства “ретьего рейха и резиденци€ самого √итлера. я часто прихожу туда и вспоминаю, как все начиналось и чем все закончилось. » мне кажетс€, что это было не вчера и даже не п€ть минут назад, а происходит пр€мо сейчас. ” мен€ очень плохие зрение и слух, но все, что случилось со мной, с нами, когда к власти пришел √итлер, и во врем€ войны, и в последние ее мес€цы — € прекрасно вижу и слышу. ј вот ваше лицо не могу €сно видеть, только отдельные фрагменты… Ќо ум мой пока работает. Ќадеюсь (смеетс€).
¬ы помните, как вы и ваши близкие реагировали, когда √итлер пришел к власти?
«наете, что творилось в √ермании до 1933 года? ’аос, кризис, безработица. Ќа улицах — бездомные. ћногие голодали. »нфл€ци€ така€, что мо€ мама, чтобы купить хлеб, брала мешок денег. Ќе фигурально. ј насто€щий маленький мешок с ассигнаци€ми. Ќам казалось, что этот ужас никогда не закончитс€.
» вдруг по€вл€етс€ человек, который останавливает падение √ермании в пропасть. я очень хорошо помню, в каком мы были восторге в первые годы его правлени€. ” людей по€вилась работа, были построены дороги, уходила бедность…
» сейчас, вспомина€ наше восхищение, то, как мы все и € с моими подругами и друзь€ми славили нашего фюрера, как готовы были часами ждать его выступлени€, € бы хотела сказать вот что: нужно научитьс€ распознавать зло, пока оно не стало непобедимым. ” нас не получилось, и мы заплатили такую цену! » заставили заплатить других.
Ќе думали…
ћой отец умер, когда мне было восемь мес€цев. ћать была совершенно аполитична. ” нашей семьи был ресторанчик в центре Ѕерлина. огда к нам в ресторан приходили офицеры —ј, все обходили их стороной. ќни вели себ€ как агрессивна€ банда, как пролетарии, которые получили власть и хот€т отыгратьс€ за годы рабства.
¬ нашей школе были не только нацисты, некоторые учител€ не вступали в партию. ƒо 9 но€бр€ 1938 года мы не чувствовали, насколько все серьезно (в ночь на 9 но€бр€ 1938 г. в √ермании начались еврейские погромы («’рустальна€ ночь»). ќколо сотни евреев было убито, 26 тыс. отправлено в концлагер€ — The New Times).
Ќо тем утром мы увидели, что в магазинах, которые принадлежали евре€м, разбиты стекла. » везде надписи — «магазин евре€», «не покупай у евреев»… ¬ то утро мы пон€ли, что начинаетс€ что-то нехорошее. Ќо никто из нас не подозревал, каких масштабов преступлени€ будут совершены.
ѕонимаете, сейчас так много средств, чтобы узнать, что на самом деле происходит. “огда почти ни у кого не было телефона, редко у кого было радио, о телевизоре и говорить нечего. ј по радио выступал √итлер и его министры. » в газетах — они же. я читала газеты каждое утро, потому что они лежали дл€ клиентов в нашем ресторане. “ам ничего не писали о депортации и ’олокосте. ј мои подруги даже газет не читали…
онечно, когда исчезали наши соседи, мы не могли этого не замечать, но нам объ€сн€ли, что они в трудовом лагере. ѕро лагер€ смерти никто не говорил. ј если и говорили, то мы не верили… Ћагерь, где умерщвл€ют людей? Ќе может быть. ћало ли каких кровавых и странных слухов не бывает на войне…
»ностранные политики приезжали к нам, и никто не критиковал политику √итлера. ¬се пожимали ему руку. ƒоговаривались о сотрудничестве. „то было думать нам?

¬ы с подругами говорили о войне?
¬ 1939 году у нас не было понимани€, какую войну мы разв€зываем. » даже потом, когда по€вились первые беженцы, мы особенно не предавались размышлени€м — что все это значит и куда приведет. ћы должны были их накормить, одеть и дать кров. » конечно, мы совершенно не могли себе представить, что война придет в Ѕерлин… „то € могу сказать? Ѕольшинство людей не используют ум, так было и раньше.
¬ы считаете, что вы тоже в свое врем€ не использовали ум?
(ѕосле паузы.) ƒа, € о многом не думала, не понимала. Ќе хотела понимать. » сейчас, когда € слушаю записи с речами √итлера — в каком-нибудь музее, например, — € всегда думаю: боже мой, как странно и страшно то, что он говорит, а ведь €, молода€, была среди тех, кто сто€л под балконом его резиденции и кричал от восторга…
ќчень трудно молодому человеку сопротивл€тьс€ общему потоку, думать, что все это значит, пытатьс€ предугадать — к чему это может привести? ¬ дес€ть лет €, как и тыс€чи других моих сверстниц, вступила в «—оюз немецких девушек», который был создан национал-социалистами. ћы устраивали вечеринки, ухаживали за стариками, путешествовали, выезжали вместе на природу, у нас были праздники. ƒень летнего солнцесто€ни€, например. остры, песни, совместный труд на благо великой √ермании… —ловом, мы были организованы по тому же принципу, что и пионеры в —оветском —оюзе.
¬ моем классе учились девочки и мальчики, чьи родители были коммунистами или социал-демократами. ќни запрещали своим дет€м принимать участие в нацистских праздниках. ј мой брат был в гитлерюгенде маленьким боссом. » он говорил: если кто-то хочет в нашу организацию, пожалуйста, если нет — мы не будем заставл€ть. Ќо были и другие маленькие фюреры, которые говорили: кто не с нами, тот против нас. » были настроены очень агрессивно к тем, кто отказывалс€ принимать участие в общем деле.
ѕасторы в униформе
ћо€ подруга ’ельга жила пр€мо на ¬ильгельмштрассе. ѕо этой улице часто ездил автомобиль √итлера в сопровождении п€ти машин. » однажды ее игрушка попала под колеса автомобил€ фюрера. ќн приказал остановитьс€, дал ей подойти и достать игрушку из-под колес, а сам вышел из машины и погладил ее по голове. ’ельга до сих пор эту историю рассказывает, € бы сказала, не без трепета (смеетс€).
»ли, например, в здании министерства воздушного транспорта, которым руководил √еринг, дл€ него был построен спортзал. » мо€ подруга, котора€ была знакома с кем-то из министерства, могла спокойно ходить в личный спортзал √еринга. » ее пропускали, и никто ее не обыскивал, никто не провер€л ее сумку.
Ќам казалось, что все мы — больша€ семь€. Ќельз€ делать вид, что всего этого не было.
ј потом началось сумасшествие — манией величи€ заболела цела€ страна. » это стало началом нашей катастрофы. » когда на вокзал јнхальтер Ѕанхоф приезжали дружественные √ермании политики, мы бегали их встречать. ѕомню, как встречали ћуссолини, когда он приезжал… ј как же? –азве можно было пропустить приезд дуче? ¬ам это трудно пон€ть, но у каждого времени свои герои, свои заблуждени€ и свои мифы. —ейчас € мудрее, € могу сказать, что была неправа, что должна была думать глубже, но тогда? ¬ такой атмосфере всеобщего возбуждени€ и убежденности разум перестает играть роль. стати, когда был подписан пакт ћолотова––иббентропа, мы были уверены, что ———– нам не враг.
¬ы в 1941 году не ожидали, что будет война?
ћы скорее не ожидали, что война начнетс€ так скоро. ¬едь вс€ риторика фюрера и его министров сводилась к тому, что немцам необходимы земли на востоке. » каждый день по радио, из газет, из выступлений — все говорило о нашем величии… ¬елика€ √ермани€, велика€ √ермани€, велика€ √ермани€… » как много этой великой √ермании не хватает! ” обычного человека така€ же логика: у моего соседа «мерседес», а у мен€ только «фольксваген». ’очу тоже, € ведь лучше соседа. ѕотом хочу еще и еще, больше и больше… » как-то все это не противоречило тому, что большинство из нас были верующими…
ќколо моего дома была церковь, но наш св€щенник никогда не говорил про партию и про √итлера. ќн даже не был в партии. ќднако € слышала, что в некоторых других приходах пасторы выступают пр€мо в униформе! » говор€т с амвона почти то же самое, что говорит сам фюрер! Ёто были совсем фанатичные пасторы-нацисты.
Ѕыли и пасторы, которые боролись с нацизмом. »х отправл€ли в лагер€.

¬ учебниках писали о том, что немецка€ раса — высша€?
—ейчас € покажу вам мой школьный учебник (достает с книжной полки школьный учебник 1936 года). я все храню: мои учебники, учебники дочери, вещи покойного мужа — € люблю не только историю страны, но и маленькую, частную, мою историю. ¬от смотрите — учебник 1936 года издани€. ћне дес€ть лет. ѕрочитайте один из текстов. ѕожалуйста, вслух.
Der fuhrer kommt (пришествие фюрера).
—егодн€ на самолете к нам прилетит јдольф √итлер. ћаленький –айнхольд очень хочет его видеть. ќн просит папу и маму пойти с ним встречать фюрера. ќни вместе идут пешком. ј на аэродроме уже собралось множество людей. » все пропускают малыша –айнхольда: «“ы маленький — иди вперед, ты должен видеть фюрера!»
—амолет с √итлером показалс€ вдалеке. »грает музыка, все замирают в восхищении, и вот самолет приземлилс€, и все приветствуют фюрера! ћаленький –айнхольд в восторге кричит: «ќн прилетел! ѕрилетел! ’айль √итлер!» Ќе выдержав восторга, –айнхольд бежит к фюреру. “от замечает малыша, улыбаетс€, берет за руку и говорит: « ак хорошо, что ты пришел!»
–айнхольд счастлив. ќн этого никогда не забудет.
—ейчас мне и смешно, и горько это читать, но тогда эти тексты казались мне совершенно нормальными.
ћы всем классом ходили на антисемитские фильмы, на «≈вре€ «юсса», например (aнтисемитский фильм «≈врей «юсс» ‘айта ’арлана был сн€т по личному распор€жению √еббельса в 1940 году, чтобы оправдать открытую травлю евреев — The New Times). ¬ этом кино доказывали, что евреи жадные, опасные, что от них одно зло, что надо освободить от них наши города как можно скорее.
ѕропаганда — страшна€ сила. —ама€ страшна€. ¬от € не так давно познакомилась с женщиной моего возраста. ќна всю жизнь прожила в √ƒ–. ” нее столько стереотипов по поводу западных немцев! ќна такое про нас говорит и думает (смеетс€). » только познакомившись со мной, она начала понимать, что западные немцы — такие же люди, не самые жадные и заносчивые, а просто — люди. ј сколько лет прошло после объединени€? » мы ведь принадлежим к одному народу, но даже в этом случае предрассудки, внушенные пропагандой, так живучи.
—ейчас € не могу пон€ть, как можно раздел€ть людей по национальному признаку. я старый человек, и мне теперь кажетс€, что все так просто: если у кого-то чего-то много, он должен этим поделитьс€; что нельз€ презирать или даже недолюбливать человека за то, что он другой нации… Ќо € не буду делать вам доклад о морали (смеетс€). я в молодости столько раз слышала, что слав€нска€ раса — низша€ раса… ак можно было в это верить?
¬ы верили?
огда тебе каждый день лидеры страны говор€т одно и то же, а ты подросток… ƒа, верила. я не знала ни одного слав€нина, пол€ка или русского. ј в 1942 году € поехала — добровольно! — из Ѕерлина работать в маленькую польскую деревню. –аботали мы все без зарплаты и очень много.
¬ы жили на оккупированной территории?
ƒа. ѕол€ков оттуда выселили, и приехали немцы, которые жили до этого на ”краине. ћоих звали Ёмма и Ёмиль, очень хорошие люди. ƒобра€ семь€. ѕо-немецки говорили так же хорошо, как и по-русски. “ам € прожила три года. ’от€ в 1944 году уже стало очевидно, что мы проигрываем войну, все равно в той деревне € чувствовала себ€ очень хорошо, потому что приносила пользу стране и жила среди хороших людей.
¬ас не смущало, что из этой деревни выгнали людей, которые раньше там жили?
я не думала об этом. —ейчас, наверное, это сложно, даже невозможно пон€ть…
уда идет поезд

¬ €нваре 1945 года у мен€ началс€ приступ аппендицита. Ѕолезнь, конечно, нашла врем€! (—меетс€.) ћне повезло, что мен€ отправили в больницу и прооперировали. ”же начиналс€ хаос, наши войска оставл€ли ѕольшу, и потому то, что мне оказали медпомощь, — чудо. ѕосле операции € пролежала три дн€. Ќас, больных, эвакуировали.
ћы не знали, куда идет наш поезд. ѕонимали лишь направление — мы едем на запад, мы бежим от русских. »ногда поезд останавливалс€, и мы не знали, поедет ли он дальше. ≈сли бы у мен€ в поезде потребовали документы — последстви€ могли бы быть ужасными. ћен€ могли спросить, почему € не там, куда послала мен€ родина? ѕочему не на ферме? то мен€ отпустил? ака€ разница, что € болею? “огда был такой страх и хаос, что мен€ могли расстрел€ть.
Ќо € хотела домой. “олько домой. маме. Ќаконец поезд остановилс€ недалеко от Ѕерлина в городе ”кермюнде. » там € сошла. Ќезнакома€ женщина, медсестра, вид€, в каком € состо€нии — с незажившими еще швами, с почти открытой раной, котора€ посто€нно болела, — купила мне билет до Ѕерлина. » € встретилась с мамой.
» через мес€ц €, все еще больна€, пошла в Ѕерлине устраиватьс€ на работу. “ак силен был страх! » вместе с ним — воспитание: € не могла бросить свою √ерманию и свой Ѕерлин в такой момент.
¬ам странно слышать это — и про веру, и про страх, но € вас увер€ю, если бы мен€ услышал русский человек моего возраста, он бы прекрасно пон€л, о чем € говорю…
я работала в трамвайном парке до 21 апрел€ 1945 года. ¬ тот день Ѕерлин стали так страшно обстреливать, как не обстреливали никогда. » €, снова не спросив ни у кого разрешени€, сбежала. Ќа улицах было разбросано оружие, горели танки, кричали раненые, лежали трупы, город начинал умирать, и € не верила, что иду по своему Ѕерлину… это было совсем другое, ужасное место… это был сон, страшный сон… я ни к кому не подошла, € никому не помогла, € как заколдованна€ шла туда, где был мой дом.
ј 28 апрел€ мо€ мама, € и дедушка спустились в бункер — потому что Ѕерлин начала захватывать советска€ арми€. ћо€ мама вз€ла с собой только одну вещь — маленькую чашку. » она до своей смерти пила только из этой надтреснутой, потускневшей чашки. я, уход€ из дома, вз€ла с собой мою любимую кожаную сумку. Ќа мне были часы и кольцо — и это все, что осталось у мен€ от прошлой жизни.
» вот мы спустились в бункер. “ам шагу нельз€ было ступить — кругом люди, туалеты не работают, ужасна€ вонь… Ќи у кого нет ни еды, ни воды…
» вдруг среди нас, голодных и напуганных, проноситс€ слух: части немецкой армии зан€ли позиции на севере Ѕерлина и начинают отвоевывать город! » у всех загорелась така€ надежда! ћы решили во что бы то ни стало прорватьс€ к нашей армии. ѕредставл€ете? Ѕыло очевидно, что мы проиграли войну, но мы все равно поверили, что еще возможна победа.
» мы вместе с дедушкой, которого поддерживали с двух сторон, пошли через метро на север Ѕерлина. Ќо шли мы недолго — вскоре оказалось, что метро затоплено. “ам было по колено воды. ћы сто€ли втроем — а вокруг тьма и вода. Ќаверху — русские танки. » мы решили не идти никуда, а просто спр€татьс€ под платформой. ћокрые, мы лежали там и просто ждали…
3 ма€ Ѕерлин капитулировал. огда € увидела развалины, € не могла поверить, что это — мой Ѕерлин. ћне снова показалось, что это сон и € вот-вот проснусь. ћы пошли искать наш дом. огда пришли к тому месту, где он раньше сто€л, мы увидели руины.
–усский солдат

“огда мы стали искать просто крышу над головой и поселились в полуразрушенном доме. ”строившись там кое-как, вышли из дома и сели на траву.
» вдруг мы заметили вдалеке повозку. —омнений не было: это русские солдаты. я, конечно, ужасно испугалась, когда повозка остановилась и в нашу сторону пошел советский солдат. » вдруг он заговорил по-немецки! Ќа очень хорошем немецком €зыке!
“ак дл€ мен€ началс€ мир. ќн сел р€дом с нами, и мы говорили очень долго. ќн рассказал мне о своей семье, € ему — о своей. » мы оба были так рады, что больше нет войны! Ќе было ненависти, даже не было страха перед русским солдатом. я подарила ему свою фотографию, и он мне подарил свою. Ќа фотографии был написан его почтовый фронтовой номер.
“ри дн€ он жил с нами. » повесил на доме, где мы жили, небольшое объ€вление: ««ан€то танкистами». “ак он спас нам жилье, а может быть, и жизнь. ѕотому что нас бы выгнали из пригодного дл€ жизни дома, и совершенно неизвестно, что было бы с нами дальше. ¬стречу с ним € вспоминаю как чудо. ќн оказалс€ человеком в бесчеловечное врем€.
я хочу особенно подчеркнуть: не было никакого романа. ќб этом даже думать было невозможно в той ситуации. акой роман! ћы должны были просто выжить. онечно, встречались мне и другие советские солдаты… Ќапример, ко мне вдруг подошел мужчина в военной форме, резко вырвал у мен€ сумку из рук, бросил на землю и тут же, пр€мо при мне, помочилс€ на нее.
ƒо нас доходили слухи, что делают советские солдаты с немецкими женщинами, и мы очень их бо€лись. ѕотом мы узнали, что делали наши войска на территории ———–. » мо€ встреча с Ѕорисом, и то, как он себ€ повел, — это чудо. ј 9 ма€ 1945 года Ѕорис больше не вернулс€ к нам. » потом € много дес€тилетий искала его, € хотела сказать ему спасибо за поступок, который он совершил. я писала везде — в ваше правительство, в ремль, генеральному секретарю — и неизменно получала или молчание, или отказ.
ѕосле прихода к власти √орбачева € почувствовала, что у мен€ по€вилс€ шанс узнать, жив ли Ѕорис, и если да, то узнать, где он живет и что с ним стало, и быть может, даже встретитьс€ с ним! Ќо и при √орбачеве мне снова и снова приходил один и тот же ответ: русска€ арми€ не открывает своих архивов.
» только в 2010 году немецка€ журналистка провела расследование и узнала, что Ѕорис умер в 1984 году, в башкирском селе, в котором прожил всю жизнь. “ак мы с ним и не увиделись.
∆урналистка встретилась с его детьми, которые сейчас уже взрослые, и они сказали, что он рассказывал о встрече со мной и говорил дет€м: учите немецкий.
—ейчас в –оссии, € читала, поднимаетс€ национализм, да? Ёто так странно… » € читала, что у вас все меньше и меньше свободы, что на телевидении — пропаганда… я так хочу, чтобы наши ошибки не повторил народ, который освободил нас. ¬едь € воспринимаю вашу победу 1945 года как освобождение. ¬ы тогда освободили немцев.
» сейчас, когда € читаю о –оссии, создаетс€ впечатление, что государство очень плохое, а люди очень хорошие… ак это говоритс€? ћутерхен руссланд, «матушка –осси€» (с акцентом, на русском), да? Ёти слова € знаю от моего брата — он вернулс€ из русского плена в 1947 году. ќн говорил, что в –оссии с ним обращались по-человечески, что его даже лечили, хот€ могли этого не делать. Ќо им занимались, тратили на пленного врем€ и лекарства, и он был всегда за это благодарен. ќн пошел на фронт совсем молодым человеком — им, как и многими другими юношами, воспользовались политики. Ќо потом он пон€л, что вина немцев — огромна. ћы разв€зали самую страшную войну и ответственны за нее. «десь не может быть иных мнений.
–азве сразу пришло осознание «немецкой вины», вины целого народа? Ќасколько мне известно, эта иде€ долго встречала сопротивление в немецком обществе.
я не могу сказать обо всем народе… Ќо € часто думала: как же это стало возможным? ѕочему это произошло? » могли ли мы это остановить? » что может сделать один человек, если он знает правду, если он понимает, в какой кошмар все так бодро шагают?
¬скоре после публикации ƒоре Ќасс в Ѕерлин пришло письмо:
”важаема€ госпожа ƒора Ќасс!
ѕишет вам из далекой –оссии, –еспублики Ѕашкортостан, внучка Ѕахти€ра јбдулгужина, известного вам по имени Ѕорис, √узали€ јбдулгужина. ћоего отца зовут јкрам, сын Ѕахти€ра. ћы, наша семь€, и родственники благодарим вас за то, что через долгие годы вы вернули нам хорошие вспоминани€ о нашем дедушке. ” нас на родине высоко цен€т поступки, отвагу и героизм человека.
сожалению, мне не суждено было увидеть деда. ≈го не стало еще 18 марта 1984 года, а € родилась 1989 году. Ќо мне казалось, что € его знаю в живую. ѕотому что отец всегда рассказывал нам про него, каким он был, какие награды он имел. ћы воспринимали его как геро€. аждый раз, когда нам задавали в школе написать сочинение на тему «ћой дедушка», мы с большой гордостью писали про него. ƒома у нас, как € себ€ помню, хран€тс€ его вещи (документы, записи, медали и вс€кое другое), завернутые в белую тр€пку. ћы к этому бережно относились и даже бо€лись трогать, а смотрели только из рук отца. я думала, это все, что осталось ценное от деда. Ќо € ошибалась, оказываетс€, самое ценное – это услышать про него добрые слова. Ќеважно, сколько лет прошло. ¬едь после того как по€вилась стать€ «—трана заболела манией величи€», наши журналисты вышли на св€зь с нами. ќни написали в газетах про него, сделали радиопередачу, а цель была такой, что какие бы трудные времена ни были, человечность и доброта всегда выше всего. ƒа, действительно, дед наш был таким справедливым, добрым и человечным. Ёто дл€ нас гордость и самое ценное.
ѕо рассказам отца, дед рассказывал про вас и показывал вашу фотографию, котора€ по сей день у нас хранитс€. » всегда говорил: «”чите немецкий €зык». ак нам известно, немецкий народ отличаетс€ своей чистоплотностью и европейской культурой. „его и дед придерживалс€ у себ€ дома. ”мер он, еще не достигши своего 60-лети€. ¬сю свою жизнь он работал бригадиром строительного отр€да родной деревни. ¬ послевоенные годы строили дома и поднимали колхоз. ∆енилс€, у него семеро детей. сожалению, бабушки очень рано не стало, еще до смерти деда. Ўесть дочерей и один сын, мой папа. —тарша€ дочь 1948 года, а младша€ 1962 года рождени€. ¬се они живут в разных районах нашей республики. ћы живем там же, в родной деревне деда. ¬место его дома построили новый.
сожалению, он не дожил до этих дней. ќн был бы рад. » если раньше было бы столько возможностей, как сейчас (например, интернет), может и встретились бы вы, хот€ бы через интернет пообщались. я думаю, он никогда не забывал про вас, потому что он хранил вашу фотографию, а не то что она просто сохранилась.
ќт имени своих родителей, от всех детей деда € желаю вам и вашей семье здоровь€, счасть€ и долгих лет жизни. ѕусть всегда окружают вас добрые люди! ќгромное спасибо!
јбдулгужина √узали€ јкрамовна, –осси€, –еспублика Ѕашкортостан
ќ“¬≈“ ‘–ј” Ќј——:
ƒорога€ √узали€!
“рудно было не заплакать, чита€ ваше письмо — глубокое и смелое. я насто€тельно приглашаю вас в гости в Ѕерлин – € покажу вам те места, где мы с моими родными пр€тались от бомбежек и от советских войск. ѕокажу то место, где мы спаслись благодар€ вашему дедушке. Ќадеюсь, вы не обидитесь, если € предложу оплатить часть расходов по авиабилетам вам и кому-нибудь из ваших родственников, кто, быть может, захочет поехать с вами? ћне так жаль, что € не смогла встретитьс€ с Ѕорисом… Ќо € надеюсь, что смогу увидеть вас. Ёто будет очень важна€ дл€ мен€ встреча.
∆ду вас в Ѕерлине.
ƒора Ќасс
|
—ветлана јлексиевич: Ђѕосле войны у женщин была еще одна войнаї |
ƒневник |
—ветлана јлексиевич: «ѕосле войны у женщин была еще одна война»

«ћужчины говорили о подвигах, о движении фронтов и военачальниках, а женщины говорили о другом – как страшно первый раз убить... или идти после бо€ по полю, где лежат убитые. ќни лежат рассыпанные, как картошка. ¬се молодые, и жалко всех – и немцев, и своих русских солдат. ќни пр€тали свои военные книжки, свои справки о ранени€х – потому что надо было снова научитьс€ улыбатьс€, ходить на высоких каблуках и выходить замуж».
«—амое страшное, конечно, первый бой. Ќебо гудит, земл€ гудит, кажетс€, сердце разорветс€, кожа на тебе вот-вот лопнет. Ќе думала, что земл€ может трещать. ¬се трещало, все гремело. ћне казалось, вс€ земл€ вот так колышетс€. я просто не могла... ак мне все это пережить... я думала, что не выдержку. ћне так сильно страшно стало, и вот € решила: чтобы не струсить, вз€ла комсомольский билет, макнула в кровь раненого, положила себе в карманчик и застегнула. » вот этим самым € дала себе кл€тву, что должна выдержать, самое главное – не струсить, потому что если € струшу в первом бою, то € уже дальше не ступлю шага. ћен€ заберут с передовой, отправ€т в медсанбат. ј € хотела быть только на передовой, отомстить за свою кровь лично…»
«Ѕои т€желые. ¬ рукопашной была... Ёто ужас. „еловек таким делаетс€... Ёто не дл€ человека... Ѕьют, колют штыком в живот, в глаз, душат за горло друг друга. ¬ой стоит, крик, стон... Ќикому не поверю, если скажет, что страшно не было. ¬от немцы подн€лись и идут, еще п€ть-дес€ть минут и атака. “еб€ начинает тр€сти... Ќо это до первого выстрела. ј как услышишь команду, уже ничего не помнишь, вместе со всеми поднимаешьс€ и бежишь. » тебе не страшно. ј вот на второй день ты уже не спишь, тебе уже страшно. ¬се вспоминаешь, все подробности, и до твоего сознани€ доходит, что теб€ могли убить, и становитс€ безумно страшно. —разу после атаки лучше не смотреть на лица, это какие-то совсем другие лица, не такие, как у людей. я не могу выразить, что это такое. ажетс€, что все немножко ненормальные. Ќа них смотреть страшно...
«ћы шли в наступление, очень быстро наступали. » выдохлись, обеспечение от нас отстало: кончились боеприпасы, вышли продукты, кухню и ту разбило снар€дом. “ретьи сутки сидели на сухар€х, €зыки все ободрали так, что не могли ими ворочать. ћою напарницу убили, € с новенькой шла на передовую. » вдруг видим, на «нейтралке» жеребенок. “акой красивый, хвост у него пушистый... √ул€ет себе спокойно, как будто ничего нет, никакой войны. » немцы, слышим, зашумели, его увидели. Ќаши солдаты тоже переговариваютс€: «”йдет. ј супчик был бы...» «»з автомата на таком рассто€нии не возьмешь...» «—найперы идут. ќни его сейчас... ƒавай, девчата!..» „то делать? я и подумать не успела. ѕрицелилась и выстрелила. ” жеребенка ноги подогнулись, свалилс€ на бок. » тоненько-тоненько, ветер принес, заржал. Ёто потом до мен€ дошло: зачем € это сделала? “акой красивый, а € его убила, € его в суп! «а спиной слышу, кто-то всхлипывает. ќгл€нулась, а это новенька€. «„его ты?» «∆еребеночка жалко...» » полные глаза слез. «јх-ах-ах, тонка€ натура! ј мы все три дн€ голодные. ∆алко потому, что еще никого не хоронила, не знаешь, что такое прошагать за день тридцать километров с полным снар€жением, да еще голодной. —начала фрицев надо выгнать, а потом переживать будем...» —мотрю на солдат, они же вот только мен€ подзадоривали, кричали, просили. Ќикто на мен€ не смотрит, будто не замечает, каждый уткнулс€ и своим делом занимаетс€. ј мне что хочешь, то и делай. ’оть садись и плачь. Ѕудто € живодерка кака€-то, будто мне кого хочешь убить ничего не стоит. ј € с детства все живое любила. ” нас, € уже в школу ходила, корова заболела, и ее прирезали. я два дн€ плакала. ћама бо€лась, чтобы чего со мной не случилось, так плакала. ј тут – бац! – и пальнула по беззащитному жеребенку. ¬ечером несут нам ужин. ѕовара: «Ќу, молодец снайпер... —егодн€ м€со в котле есть...» ѕоставили нам котелки и пошли. ј девчонки мои сид€т, к ужину не притрагиваютс€. я пон€ла, в чем дело, в слезы и из земл€нки... ƒевчонки за мной, стали мен€ в один голос утешать. Ѕыстро расхватали свои котелки и давай есть... ¬от как было...»
«∆енщина на войне... Ёто что-то такое, о чем еще нет человеческих слов. ≈сли мужчины видели женщину на передовой, у них лица другими становились, даже звук женского голоса их преображал. ак-то ночью € села возле земл€нки и тихонько запела. я думала, что все спали, никто мен€ не слышит, а утром мне командир сказал: «ћы не спали. “ака€ тоска по женскому голосу...» ј одного танкиста перев€зывала... Ѕой идет, грохот. ќн спрашивает: «ƒевушка, как вас зовут?» ћне так странно было произносить в этом грохоте, в этом ужасе свое им€: «ќл€...» ¬сегда € старалась быть подт€нутой, не забывать, что € женщина. » мне часто говорили: «√осподи, разве она была в бою, така€ чистенька€». я помню, что очень бо€лась, что если мен€ убьют, то € буду некрасиво выгл€деть. я видела много убитых девочек... ћне не хотелось так умереть. ƒругой раз пр€чешьс€ от обстрела и не столько думаешь, чтобы теб€ не убило, как пр€чешь лицо, чтобы не изуродовало. ћне кажетс€, все наши девчонки так думали. ј мужчины над нами сме€лись, им это казалось забавным. ћол, не о смерти думают, а черт-те о чем...»
«¬се у нас сейчас восстановлено, все утопает в цветах, а € изнываю от болей, у мен€ и сейчас не женское лицо. я не могу улыбатьс€, € ежедневно в стоне. «а войну € так изменилась, что когда приехала домой, мама мен€ не узнала. ћне показали, где она жила, € подошла к двери, постучала. ќтветили: «ƒа-да...» я вошла, поздоровалась и говорю: «ѕустите переночевать». ћама растапливала печь, а два моих младших братика сидели на полу на куче соломы, голые, нечего было одеть. ћама мен€ не узнала и отвечает: «ѕройдите дальше». я еще прошусь: да как-нибудь. ћама говорит: «¬ы видите, гражданочка, как мы живем? ” нас и так сколько солдаты спали. ѕока не стемнело, пройдите дальше». ѕодхожу ближе к маме, она оп€ть: «√ражданочка, пройдите дальше, пока не стемнело». я наклон€юсь, обнимаю ее и произношу: « ћама-мамочка!» “огда они все на мен€ как наброс€тс€, как заревут... я прошла очень т€желый путь. Ќа сегодн€шний день нет еще книг и фильмов, чтобы сравнить с тем, что € пережила».
«ѕриехал муж: «„то, ћарус€, ты будешь в тылу сидеть?» «Ќет, – говорю, – поедем». ¬ это врем€ организовывалась колонна особого резерва дл€ обслуживани€ фронта. ћы с мужем просились туда. ћуж был старшим машинистом, а € машинистом. „етыре года в теплушке ездили, и сын вместе с нами. ќн у мен€ за всю войну даже кошку не видел. огда поймал под иевом кошку, наш состав страшно бомбили, налетело п€ть самолетов, а он обн€л ее: « исанька, мила€, как € рад, что € теб€ увидел. я не вижу никого, ну, посиди со мной. ƒай € теб€ поцелую». –ебенок. ” ребенка все должно быть детское... —колько € провезла поездов на фронт? ¬от считайте: один состав в сутки, в среднем выходит триста шестьдес€т п€ть составов в год. ј за четыре года? ѕеремножьте – полторы тыс€чи составов получитс€. ћы с мужем везли на фронт чехословацкий корпус полковника —вободы. Ќас всегда бомбили, обстреливали из пулеметов. » стрел€ют-то по паровозу, им главное – убить машиниста, уничтожить паровоз. —амолеты опускались низко и били по теплушке и по паровозу, а в теплушке мой сын сидит. я больше всего бо€лась за сына, когда бомбили, брала его из теплушки с собой на паровоз. —хвачу его, прижму к сердцу: «ѕусть убьют одним осколком». –азве так убьет? ѕоэтому, видно, и жива осталась».
«—едьмого июн€ у мен€ было счастье, была мо€ свадьба. „асть устроила нам большой праздник. ћужа € знала давно: он был капитан, командовал ротой. ћы с ним покл€лись, если останемс€ жить, то поженимс€ после войны. ƒали нам мес€ц отпуска... ћы поехал в инешму, это »вановска€ область, к его родител€м. я ехала героиней, € никогда не думала, что так можно встретить фронтовую девушку. ћы же столько прошли, столько спасли матер€м детей, женам мужей. » вдруг... я узнала оскорбление, € услышала обидные слова. ƒо этого же кроме как: «сестричка родна€», «сестричка дорога€» ничего другого не слышала. ј € не кака€-нибудь была, € была красивенька€, чистенька€. —ели вечером пить чай, мать отвела сына на кухню и плачет: «Ќа ком ты женилс€? Ќа фронтовой... ” теб€ же две младшие сестры. то их теперь замуж возьмет?» » сейчас, когда об этом вспоминаю, плакать хочетс€. ѕредставл€ете: привезла € пластиночку, очень любила ее. “ам были такие слова: тебе положено по праву в самых модных туфельках ходить... Ёто о фронтовой девушке. я ее поставила, старша€ сестра подошла и на моих глазах разбила, мол, у вас нет никаких прав. ќни уничтожили все мои фронтовые фотографии...»
«ј из последних дней на войне вот что запомнилось. ≈дем мы – и вдруг откуда-то музыка. —крипка... ¬от в этот день дл€ мен€ кончилась война, не в ƒень ѕобеды, когда все стрел€ли в небо, обнимались, целовались, а когда € скрипку услышала. ”же недели две прошло, как сказали, что √ермани€ капитулировала, что победа. Ёто было такое чудо: вдруг музыка. я как проснулась... Ќам всем казалось, что после войны, после такого человеческого страдани€, мор€ слез будет прекрасна€ жизнь. Ќам казалось, что все люди будут очень добрые, будут любить друг друга... ¬едь у всех было такое великое горе. ќно нас брать€ми, сестрами сделало! ак мы ждали этот день... ƒень ѕобеды. » он действительно был прекрасен. ƒаже природа почувствовала, что в человеческих душах творилось. Ќо люди? огда € сейчас вижу злых людей, вижу эгоистов, которые только дл€ себ€ живут, € не могу пон€ть: как же это случилось, как это произошло? я вспоминаю ту скрипку, ее тонкий, ее слабенький звук, как звук детского голоса, и мое состо€ние тогда – как будто € от т€желого сна отошла. ак прекрасен мир! ак прекрасен человек! ¬от тогда € о будущем впервые подумала. ћы все вдруг заговорили о будущем! ќ любви говорили. ’отелось любить. » хот€ мы прошли суровую войну, мы все же сумели родить красивых детей... ¬от что самое главное».
‘рагменты из книги —ветланы јлексиевич «” войны не женское лицо» (¬рем€, 2008).
|
арл ёнг. ѕослевоенные психические проблемы √ермании |
ƒневник |
арл ёнг. ѕослевоенные психические проблемы √ермании
Ёто интервью .ёнга было опубликовано 11 ма€ 1945 г. в газете «Die Weltwoche» (÷юрих) под заглавием «ќбретут ли души мир?». —амо интервью состо€лось несколько ранее.
Ўмид: Ќе считаете ли вы, что окончание войны вызовет громадные перемены в душе европейцев, особенно немцев, которые теперь словно пробуждаютс€ от долгого и ужасного сна?
ёнг: ƒа, конечно. „то касаетс€ немцев, то перед нами встает психическа€ проблема, важность которой пока трудно представить, но очертани€ ее можно различить на примере больных, которых € лечу. ƒл€ психолога €сно одно, а именно то, что он не должен следовать широко распространенному сентиментальному разделению на нацистов и противников режима. ” мен€ лечатс€ два больных, €вные антинацисты, и тем не менее их сны показывают, что за всей их благопристойностью до сих пор жива резко выраженна€ нацистска€ психологи€ со всем ее насилием и жестокостью. огда швейцарский журналист спросил фельдмаршала фон юхлера [√еорг фон юхлер (1881-1967) руководил вторжением в «ападную ѕольшу в сент€бре 1939 г. ќн был осужден и приговорен к тюремному заключению как военный преступник Ќюрнбергским трибуналом] о зверствах немцев в ѕольше, тот негодующе воскликнул: «»звините, это не вермахт, это парти€!» — прекрасный пример того, как деление на пор€дочных и непор€дочных немцев крайне наивно. ¬се они, сознательно или бессознательно, активно или пассивно, причастны к ужасам; они ничего не знали о том, что происходило, и в то же врем€ знали.
¬опрос коллективной вины, который так затрудн€ет и будет затрудн€ть политиков, дл€ психолога факт, не вызывающий сомнений, и одна из наиболее важных задач лечени€ заключаетс€ в том, чтобы заставить немцев признать свою вину. ”же сейчас многие из них обращаютс€ ко мне с просьбой лечитьс€ у мен€. ≈сли просьбы исход€т от тех «пор€дочных немцев», которые не прочь свалить вину на пару людей из гестапо, € считаю случай безнадежным. ћне ничего не остаетс€, как предложить им анкеты с недвусмысленными вопросами типа: «„то вы думаете о Ѕухенвальде?» “олько когда пациент понимает и признает свою вину, можно применить индивидуальное лечение.
Ўмид: Ќо как оказалось возможным, чтобы немцы, весь народ, попали в эту безнадежную психическую ситуацию? ћогло ли случитьс€ подобное с какой-либо другой нацией?
ёнг: ѕозвольте сделать здесь небольшое отступление и наметить в общих чертах мою теорию относительно общего психологического прошлого, предшествовавшего национал-социалистической войне. ¬озьмем за отправную точку небольшой пример из моей практики. ќднажды ко мне пришла женщина и разразилась неистовыми обвинени€ми в адрес мужа: он сущий дь€вол, он мучит и преследует ее, и так далее и тому подобное. ¬ действительности этот человек оказалс€ вполне добропор€дочным гражданином, невиновным в каких-либо демонических умыслах. ќткуда к этой женщине пришла ее безумна€ иде€? ƒа просто в ее собственной душе живет тот дь€вол, которого она проецирует вовне, перенос€ свои собственные желани€ и неистовства на своего мужа. я разъ€снил ей все это, и она согласилась, уподобившись раска€вшейс€ овечке. азалось, все в пор€дке. “ем не менее именно это и обеспокоило мен€, потому что € не знаю, куда пропал дь€вол, ранее соедин€вшийс€ с образом мужа. —овершенно то же самое, но в больших масштабах произошло в истории ≈вропы. ƒл€ примитивного человека мир полон демонов и таинственных сил, которых он боитс€; дл€ него вс€ природа одушевлена этими силами, которые на самом деле не что иное, как его собственные внутренние силы, спроецированные во внешний мир. ’ристианство и современна€ наука дедемонизировали природу, что означает, что европейцы последовательно вбирают демонические силы из мира в самих себ€, посто€нно загружа€ ими свое бессознательное. ¬ самом человеке эти демонические силы восстают против кажущейс€ духовной несвободы христианства. ƒемоны прорываютс€ в искусство барокко: позвоночники изгибаютс€, обнаруживаютс€ копыта сатира. „еловек постепенно превращаетс€ в уробороса, уничтожающего самого себ€, в образ, с древних времен €вл€вшийс€ символом человека, одержимого демоном. ѕервым законченным примером этого типа €вл€етс€ Ќаполеон.
Ќемцы про€вл€ют особенную слабость перед лицом этих демонов вследствие своей неверо€тной внушаемости. Ёто обнаруживаетс€ в их любви к подчинению, в их безвольной покорности приказам, которые €вл€ютс€ только иной формой внушени€. Ёто соответствует общей психической неполноценности немцев, следствием их неопределенного положени€ между ¬остоком и «ападом. ќни единственные на «ападе, кто при общем исходе из восточного чрева наций оставались дольше всех со своей матерью. ¬ конце концов они отошли, но прибыли слишком поздно, тогда как мужик (the mujik) не порывалс€ освободитьс€ вообще. ѕоэтому немцев глубоко терзает комплекс неполноценности, который они пытаютс€ компенсировать манией величи€: «Am deutschen Wesen soil die Welt genesen» [ѕриблизительный перевод: «Ќемецкий дух спасет мир». Ёто нацистский лозунг, заимствованный из поэмы Ёмануэл€ √ейбел€ (1815-1884) «ѕризнание √ермании». —троки из √ейбел€ стали известны с тех пор, как их процитировал ¬ильгельм II в своей речи в ћюнстере в 1907 г.], — хот€ они не чувствуют себ€ слишком удобно в собственной шкуре! Ёто типично юношеска€ психологи€, котора€ про€вл€етс€ не только в чрезвычайном распространении гомосексуальности, но и в отсутствии образа anima в немецкой литературе (великое исключение составл€ет √Єте). Ёто обнаруживаетс€ также в немецкой сентиментальности и «Gemiitlichkeit» [”ют, при€тность], которые в действительности суть ничто иное, как жестокосердие, бесчувственность и бездушие. ¬се обвинени€ в бездушии и бестиальности, с которыми немецка€ пропаганда нападала на русских, относ€тс€ к самим немцам; речи √еббельса не что иное, как немецка€ психологи€, спроецированна€ на врага. Ќезрелость личности ужасающим образом про€вилась в бесхарактерности немецкого генерального штаба, м€гкотелостью напоминающего моллюска в раковине.
√ермани€ всегда была страной психических катастроф: –еформаци€, кресть€нские и религиозные войны. ѕри национал-социализме давление демонов настолько возросло, что человеческие существа, подпав под их власть, превратились в сомнамбулических сверхчеловеков, первым среди которых был √итлер, заразивший этим всех остальных. ¬се нацистские лидеры одержимы в буквальном смысле слова, и, несомненно, не случайно, что их министр пропаганды был отмечен меткой демонизированного человека — хромотой. ƒес€ть процентов немецкого населени€ сегодн€ безнадежные психопаты.
Ўмид: ¬ы говорите о психической неполноценности и демонической внушаемости немцев, но как вы думаете, относитс€ ли это также к нам, швейцарцам, германцам по происхождению?
ёнг: ћы ограждены от этой внушаемости своей малочисленностью. ≈сли бы население Ўвейцарии составл€ло восемьдес€т миллионов, то с нами могло бы произойти то же самое, поскольку демонов привлекают по преимуществу массы. ¬ коллективе человек утрачивает корни, и тогда демоны могут завладеть им. ѕоэтому на практике нацисты занимались только формированием огромных масс и никогда — формированием личности. » также поэтому лица демонизированных людей сегодн€ безжизненные, застывшие, пустые. Ќас, швейцарцев, ограждают от этих опасностей наш федерализм и наш индивидуализм. ” нас невозможна така€ массова€ аккумул€ци€, как в √ермании, и, возможно, в подобной обособленности заключаетс€ способ лечени€, благодар€ которому удалось бы обуздать демонов.
Ўмид: Ќо чем может обернутьс€ лечение, если его провести бомбами и пулеметами? Ќе должно ли военное подчинение демонизированной нации только усилить чувство неполноценности и усугубить болезнь?
ёнг: —егодн€ немцы подобны пь€ному человеку, который пробуждаетс€ наутро с похмель€. ќни не знают, что они делали, и не хот€т знать. —уществует лишь одно чувство безграничного несчасть€. ќни предпримут судорожные усили€ оправдатьс€ перед лицом обвинений и ненависти окружающего мира, но это будет неверный путь. »скупление, как € уже указывал, лежит только в полном признании своей вины. «ћеа culpa, mea maxima culpa!» [ћо€ вина, мо€ больша€ вина (лат.).]
¬ искреннем раска€нии обретают божественное милосердие. Ёто не только религиозна€, но и психологическа€ истина. јмериканский курс лечени€, заключающийс€ в том, чтобы провести гражданское население через концентрационные лагер€, чтобы показать все ужасы, совершенные там, €вл€етс€ поэтому совершенно правильным. ќднако невозможно достичь цели только моральным поучением, раска€ние должно родитьс€ внутри самих немцев. ¬озможно, что катастрофа вы€вит позитивные силы, что из этой погруженности в себ€ возрод€тс€ пророки, столь характерные дл€ этих странных людей, как и демоны. то пал так низко, имеет глубину. ѕо всей веро€тности, католическа€ церковь соберет богатый улов душ, поскольку протестантска€ церковь переживает сегодн€ раскол. ≈сть извести€, что всеобщее несчастье пробудило религиозную жизнь в √ермании; целые общины преклон€ют по вечерам колени, умол€€ √оспода спасти от антихриста.
Ўмид: “огда можно наде€тьс€, что демоны будут изгнаны и новый, лучший мир подниметс€ на руинах?
ёнг: Ќет, от демонов пока не избавитьс€. Ёто трудна€ задача, решение которой в отдаленном будущем. “еперь, когда ангел истории покинул немцев, демоны будут искать новую жертву. » это будет нетрудно. ¬с€кий человек, который утрачивает свою тень, вс€ка€ наци€, котора€ уверует в свою непогрешимость, станет добычей. ћы испытываем любовь к преступнику и про€вл€ем к нему жгучий интерес, потому что дь€вол заставл€ет забыть нас о бревне в своем глазу, когда мы замечаем соринку в глазу брата, и это способ провести нас. Ќемцы обретут себ€, когда примут и признают свою вину, но другие станут жертвой одержимости, если в своем отвращении к немецкой вине забудут о собственных несовершенствах. ћы не должны забывать, что рокова€ склонность немцев к коллективности в неменьшей мере присуща и другим победоносным наци€м, так что они также неожиданно могут стать жертвой демонических сил. «¬сеобща€ внушаемость» играет огромную роль в сегодн€шней јмерике, и насколько русские уже зачарованы демоном власти, легко увидеть из последних событии, которые должны несколько умерить наше мирное ликование. Ќаиболее разумны в этом отношении англичане: индивидуализм избавл€ет их от влечени€ к лозунгам, и швейцарцы раздел€ют их изумление перед коллективным безумием.
Ўмид: “огда мы должны с беспокойством ожидать, как про€в€т себ€ демоны в дальнейшем?
ёнг: я уже говорил, что спасение заключаетс€ только в мирной работе по воспитанию личности. Ёто не так безнадежно, как может показатьс€. ¬ласть демонов огромна, и наиболее современные средства массового внушени€ — пресса, радио, кино etc. — к их услугам. “ем не менее христианству было по силам отсто€ть свои позиции перед лицом непреодолимого противника, и не пропагандой и массовым обращением — это произошло позднее и оказалось не столь существенным, — а через убеждение от человека к человеку. » это путь, которым мы также должны пойти, если хотим обуздать демонов.
“рудно позавидовать вашей задаче написать об этих существах. я надеюсь, что вам удастс€ изложить мои взгл€ды так, что люди не найдут их слишком странными. несчастью, это мо€ судьба, что люди, особенно те, которые одержимы, считают мен€ сумасшедшим, потому что € верю в демонов. Ќо это их дело так думать; € знаю, что демоны существуют. ќт них не убудет, это так же верно, как то, что существует Ѕухенвальд.
|
¬ 70-х годах ћарина јбрамович провела эксперимент... |
ƒневник |
¬ 70-х годах ћарина јбрамович провела эксперимент...

ќт редакции:
ћарина јбрамович - это не жена и не дочь известного олигарха. ќна - одна из самых известных и попул€рных перформансистов планеты! —удьба ее так же необычна, как и ее искусство. ћарина и сегодн€ продолжает эксперимент в области физических и эмоциональных границ человеческого тела и сознани€. √де бы она ни жила, ни кочевала — в јмстердаме, Ќепале, Ќью-…орке, на “ибете, — она исследует страх и опыт боли, смерти, страдани€. ѕерформанс часто сравнивают с театральной постановкой, но, по мнению јбрамович, «в театре все фальшиво — ножи, кровь, переживани€, а в перформансе — все насто€щее».
|
омментарии психологов на тему чайлдфри |
ƒневник |
омментарии психологов на тему чайлдфри

„айлдфри (англ. childfree - свободный от детей) - субкультура и идеологи€, характеризующа€с€ сознательным нежеланием иметь детей. ќсновна€ иде€ чайлдфри - отказ от детей во им€ личной свободы и пропаганда бездетного образа жизни.
„то думают психологи о данном €влении? »нтересно как профессиональное мнение психолога, так и личное отношение к данной теме.
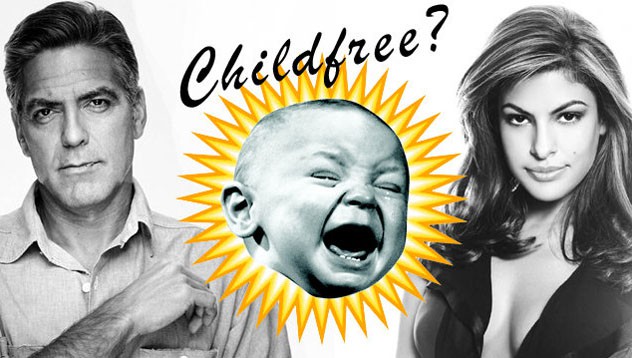
ѕальчикова ≈лена јлександровна
ѕсихолог раснодар
ћое личное отношение к данной теме - лично € не чайлдфри, и этим, наверное, все сказано.
Ќе име€ своего биологического ребенка, € многие годы помогаю взрослым люд€м лучше понимать самих себ€, своего внутреннего ребенка, решать их собственные детско-родительские проблемы, что здорово улучшает отношени€ между поколени€ми в целом в семье конкретного человека!
ƒа,есть нека€ идеологи€, котора€ кем-то создана и кому-то подходит. ћы видим следствие, а важно искать причину происход€щего с человеком. ¬едь если человек так боитс€ быть "порабощенным" другим человеком, потер€ть свою личную свободу, то как, скажите мне на милость, он вообще воспринимает отношени€ с близкими людьми?
»менно об этом стоит задуматьс€ всем нам, а не только приверженцам этой идеологии, порожденной убеждением, что дети ограничивают свободу личности.
¬ы знаете,сейчас вспомнились слова мульт€шного геро€, ¬ороны из мультика про ƒомовенка узю, когда случайно отведав "отворотного" зель€, она восклицает:"—вобода! уда хочу, туда лечу! ј куда хочу, куда лечу?".

ѕопова —ветлана Ёдуардовна
ѕсихолог —очи
—читаю, что «чайлдфри» – это патологи€. Ќо если это приобретает массовый характер, то патологи€ уже не личностна€, а социальна€.
Ёто показатель деградации общества потреблени€, у которого нет перспектив. «ƒети – наше будущее», как бы банально это не звучало, у общества нет будущего, если рождаемость снижаетс€.
¬ моем окружении достаточно много молодых бездетных пар. огда € спрашиваю «почему» – ответы бывают разные. азалось бы, у каждого свои причины и объ€снени€ – услови€ не позвол€ют, здоровье, много разных страхов… ћы всегда и все можем объ€снить и оправдать… Ќо обща€ тенденци€ – настораживает.

„ебан “ать€на —еменовна
ѕсихолог Ѕленхейм
„истой воды эгоизм и отказ расти как личность.
Ёгоизм потому, что все только вокруг собственной персоны.
ќтсутствие роста потому, что растить детей - это больша€ школа жизни и больша€ ответственность.
ј еще отказ платить по счетам. аждый из нас пришел в этот мир через людей и стал тем, кем стал, благодар€ люд€м. »нвестиции никто из родителей не просит возвращать, но мы можем реально отблагодарить Ѕога, мир, род человеческий за заботу о себе, именно вз€в на себ€ этот труд и эстафету жизни ради другого.
” мен€ двое взрослых и успешных детей – сыну 32, дочери 26. Ћюблю их безгранично и св€то верю, что они – это бесценный Ѕожий дар дл€ мен€ и огромное благословение. —читаю, что дети нас делают реально богатыми по 4-м причинам:
-
/uduba.com/page/newDesign/img/ul_dot.jpg" target="_blank">http://uduba.com/page/newDesign/img/ul_dot.jpg) 0% 0% no-repeat;">
они принадлежат только нам;
/uduba.com/page/newDesign/img/ul_dot.jpg" target="_blank">http://uduba.com/page/newDesign/img/ul_dot.jpg) 0% 0% no-repeat;">
они, как ничто другое в этой жизни, мотивируют расти и развиватьс€;
/uduba.com/page/newDesign/img/ul_dot.jpg" target="_blank">http://uduba.com/page/newDesign/img/ul_dot.jpg) 0% 0% no-repeat;">
они придают вкус и радость жизни;
/uduba.com/page/newDesign/img/ul_dot.jpg" target="_blank">http://uduba.com/page/newDesign/img/ul_dot.jpg) 0% 0% no-repeat;">
они представл€ют собой огромное поле дл€ творчества, креативности, полета!
ак психолог думаю - у адептов childfree экзистенциальный вакуум, потер€ смыслов.

ёргина Ќадежда јлександровна
ѕсихолог “аганрог
я думаю, что такое €вление может быть обусловлено двум€ причинами. Ћибо это непробудившиес€ инстинкты - зат€нувшеес€ детство, отсутствие зрелой личности, либо страхи - страх перед будущим, перед ограничени€ми, перед ответственностью.
¬ этом случае причины по-любому надо устран€ть с помощью психотерапевта, так как жить всю жизнь в розовых очках инфантилизма либо в черных очках страха непродуктивно, и внутренние проблемы надо решать - не дл€ будущих детей, а дл€ себ€ самих, раз уж провозглашают жизнь дл€ себ€ любимых. ѕо€в€тс€ у них потом дети или нет - дело частное.
ƒопускаю, конечно, что у кого-то така€ позици€ вполне зрела€ и осознанна€. Ќапример, человек понимает индивидуальные особенности своей личности, свои возможности и дает объективную оценку своей потенциальной родительской роли, понима€, что ребенок будет просто несчастным.
Ќапример, человек - талантливый художник, оторванный от реальности. ќн - гений, он может быть и на грани патологии гений, но его творчество экологично, радует людей, дает раскрытие его таланту. ј вот если у него будут дети, то, скорее всего, он и имен-то их не вспомнит. “акой человек безусловно осознает свою ответственность и принимает решение жить ради искусства, а не продолжени€ рода. » это его выбор. » это тоже дело частное.
Ќо когда все эти частные случаи принимают форму общественного движени€ и пропаганды, проблема становитс€ социальной и это - действительно проблема. ¬ конце концов, планировать свою жизнь - личное дело каждого. Ќо лезть в планирование жизни других - это нарушение прайвеси.
„то движет такими организаци€ми? ич, эпатаж, демонстративность. Ќе верю, что за этим могут лежать какие-то глубокие мысли и осмысленна€ идеологи€.
ƒл€ кого-то это возможность выделитьс€, дл€ кого-то, не исключаю, заработать денег, дл€ кого-то - убежать в толпу от своего одиночества. ј кто-то, веро€тно, таким образом убеждает самого себ€ в том, во что на самом деле не хочет верить, но боитс€, что создать семью не получитс€, и бегает с защитным щитом чайлдфри по подобным объединени€м.
’очу сказать, что пропаганда многодетности лично у мен€ вызывает такое же недоумение. ѕланирование семьи все-таки лучше оставить семье. ј задача социума, школы, например, воспитать уважение к семье, воспитать чувство ответственности, вооружить психологическими знани€ми - как нивелировать конфликты в семье, понимать и переживать кризисы, понимать другого и т.п.
ѕодрастающие, формирующиес€ люди должны быть знакомы с основами семейного кодекса. —лучайно родивша€ незрела€ мама порой даже не подозревает, что несет юридическую ответственность. Ќужна не пропаганда, а обучение, разъ€снение нюансов объективной реальности, с которой всем придетс€ столкнутьс€, независимо от личных предпочтений жить дл€ себ€ или дл€ других.

Ўирокова ќльга —ергеевна
ѕсихолог ¬ильнюс
Ќа мой взгл€д, не совсем правомерна така€ постановка вопроса: или - или. ак новое течение, как открыта€ тема дл€ обсуждени€ и пропаганды чайлдфри возникло не так уж давно. ќднако это не противопоставл€ет и не отрицает наличие или отсутствие патологического в этом направлении. ак и во многих про€влени€ человеческой личности отказ иметь ребенка может быть св€зан с личностной патологией, а может быть продиктован сознательными взрослыми убеждени€ми у так называемой нормальной личности.
ѕричины отказа от ребенка могут скрыватьс€ в глубоком бессознательном, даже несмотр€ на то, что выбор сделан сознательно. Ќапример, глубокий страх не стать хорошим родителем. »ме€ детский опыт, в котором отсутствовала должна€ забота и любовь со стороны родительских фигур или в силу травматических событий прошлого в семье или в роду, человек может развить в себе чувство гипертрофированной ответственности и в силу понимани€ того, что не сможет стать идеальным родителем и дать ребенку то, что по его мнению необходимо, чтобы он рос здоровым и счастливым, сознательно отказываетс€ от идеи завести ребенка.
¬о взрослом возрасте многие задумываютс€ о том, что они могут дать своему ребенку. »ногда взрослый человек может чувствовать то, что он(а) сам(а) испытывает огромный дефицит любви, заботы, хорошего отношени€ к себе, что его (или ее) «внутренний ребенок» не напитан, а процесс воспитани€ ребенка требует большой отдачи, и тогда понимание того, что сначала надо напитать себ€, ведет к тому, чтобы отложить вопрос о рождении ребенка.
¬о многих европейских культурах обнаружен феномен, когда женщине с детских лет нав€зываетс€ роль матери дл€ своей матери, когда еще будучи девочкой возникает необходимость направить свои силы и энергию на то, чтобы «вылечить», «улучшить», «воспитать», «спасти» свою собственную мать, если та психологически или физически хрупка или у€звима, у нее не сложилась жизнь или она не в силах адаптироватьс€. “огда дл€ реального ребенка у такой женщины не остаетс€ места, и она всю жизнь заботитс€ о своей матери (на месте матери может быть и ее собственный муж).
¬ своей практике € не раз сталкивалась с этим вариантом, и в этом смысле он патологичен, поскольку инвестици€ направл€етс€ не на развитие себ€ и своей идентичности, а уходит в обслуживание патологической семейной ситуации.
„асто отказ иметь ребенка св€зан с нарциссической патологией личности, когда ощущение внутренней пустоты и св€занна€ с этим депресси€ поглощают настолько, что не хватает либидинозной энергии на длительные отношени€, особенно когда они предполагают зависимость. „асто попытка справитьс€ с внутренней пустотой приводит к компенсации в творчестве, и тогда оно становитс€ смыслом жизни.
» мне кажетс€, что когда такой человек сознательно выбирает отказ от ребенка, то это скорее правильный выбор, поскольку ребенок априори будет страдать, наход€сь либо в тени грандиозного родител€, либо станов€сь его нарциссическим продолжением. —амый первый пример, который всплыл у мен€ в голове — это √урченко и ее отношени€ с дочерью, хот€ таких примеров полно.
≈ще одним немаловажным фактором может быть очень €сное осознание проблем в обществе, социальных и многих других глобальных проблем человечества. я думаю, очень непросто решитьс€ привести в этот мир новое существо, если внутри матери нет ощущени€ того, что мир достоин новой жизни, и что она готова предложить своему ребенку такое «нерадостное» существование в этом непростом, тревожном, агрессивном или страшном мире, каким она его видит.
ћне кажетс€, что сейчас общество готово расстатьс€ со многими предрассудками, в том числе и с тем, что воспроизводство — об€зательна€ задача в жизни каждого человека. » как психологи, мы часто вместе с нашим клиентом задумываемс€ о том, что думали его родители, когда решили его родить. », наверно, не раз слышали о том, что некоторым люд€м лучше не иметь детей. » это более честна€ и более разумна€ позици€ — отказатьс€ от рождени€ ребенка, если у личности нет желани€ и возможности инвестировать свою любовь и энергию в эту новую жизнь.

“итова ћари€
ѕсихолог ѕетах “иква
»нтересна€ тема. ¬ »зраиле нет такого движени€, поэтому интересно узнать, что такое существует.
я думаю, что рожать детей или не рожать - это личное дело человека. Ќикто не имеет право осуждать человека за его выбор.
” мен€ возникает вопрос: когда это движение по€вилось, и сколько лет его адептам, что это за люди? ¬озникновение этого движени€ в —Ўј мне пон€тно. ‘еминизаци€ общества там началась еще в начале прошлого века, и феминистское движение одно из сильных в мире. ј вот в –оссии?
¬озможно - это повод дл€ того, чтобы пойти против системы, нав€зывающей семейные ценности, против церкви и прочее. ≈сли мы говорим о молодых и образованных люд€х - то кто, как не они, хот€т бунта, быть не такими, как все, не смешиватьс€ с толпой веселых мамаш :-) (видимо).
√овор€ серьезно. ≈сли посмотреть на прин€тие решени€ о рождении детей, то хочу отметить, что не все, кто имеет детей, их планировали, не все хотели рождени€ детей, не все серьезно относ€тс€ к родительству. ј те, кто отказываютс€ от своих детей - тоже childfree?
Ќе думаю, что это движение стоит воспринимать, как национальную угрозу, не думаю, что это движение может быть масштабным и попул€рным. ¬сегда существовали люди, не оставл€ющие потомства. ћожет быть, это один из механизмов природы - чистка вида от эволюционно непригодного генетического материала (как бы жестоко это не звучало). ≈сли человек в своем развитии не дошел до понимани€, что он хочет и готов поделитьс€ собой с миром, если человеку нечего отдать в будущее, если он настолько ненавидит мир, что не хочет в нем оставить часть себе, сделать свой вклад в будущее жизни людей - насильно его точно не стоит заставл€ть.
» все-таки мне кажетс€, что смысл этого движени€ - борьба с другими (бунтарство против системы). » люди, которые станов€тс€ приверженцами этого течени€, ищут противосто€ни€. ак и €рым феминисткам, им все врем€ кажетс€ (иногда и действительно так оказываетс€), что их права ущемл€ют, и нужно боротьс€, даже в таких странных формах.
» в конце хочу добавить. аждый имеет право на самоопределение: и религиозное, и сексуальной ориентации, и в вопросе, какую семью строить - с детьми или без. ј вот те, кто рожает детей, а в дальнейшем не несет за них ответственности - это реальна€ проблема. Ётот тип childfree people (на мой взгл€д) требует внимательного отношени€ психологов, медиков и педагогов.
Ѕерегите себ€ и своих детей.
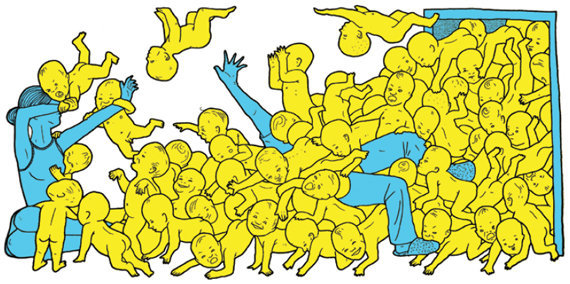
„ерныш Ќадежда Ќиколаевна
ѕсихолог јлматы
ѕропагандировать такие ценности - нездоровое €вление. онечно, человек имеет право выбора - иметь детей или нет. Ќо подталкивать на это других людей - преступление перед обществом.
Ѕывают случаи, когда человек не имеет возможности иметь детей по физическим или моральным трудност€м, но в общем всегда считалось, что бездетность - это больша€ проблема, и над ней работают ученые, изобрели Ё ќ. “о есть, любой нормальный человек, будь то женщина или мужчина, желает иметь ребенка. “акова природа человека - воспроизводить себе подобных.
ќтрицательно отношусь к этому €влению и считаю, что его нужно запретить законом.

ћагерамова ћарь€на јлександровна
ѕсихолог ћосква
“ема на самом деле интересна€, потому как веет новой волной с запада. ÷енности с годами у людей сильно изменились, и это печально.
Ћично € против подобного отношени€ к дет€м, к семейным ценност€м. Ќо € также знаю таких людей и принимаю их выбор. ќни его делают осознанно, несмотр€ на то, что в них говор€т страхи. —трахи, беспомощность, трагедии личной жизни и многое другое. “акие люди, как правило, не мен€ют своих взгл€дов, даже когда прошли несколько сессий психоанализа.
я так же и против Ё ќ, но не потому, что € така€ жестока€, а только лишь потому, что считаю - все не просто так. ≈сли по каким-то причинам ¬севышний не посылает люд€м ребенка, все это имеет какой-то смысл.
Ћюди сознательно бездетные, на мой взгл€д, из этой же области. Ќекоторым люд€м на самом деле лучше не иметь детей, чем делать их заранее несчастными. ¬ древних писани€х написано о том, как будет "чиститьс€" «емл€, это один из способов.

ќсинцева јнастаси€ јндреевна
ѕсихолог ќбнинск
ћне кажетс€, это психологический и духовный инфантилизм, но не как оценочное €вление, а просто как факт. ќтсутствие родительского инстинкта.
—ейчас нередко прин€то инстинкты считать чем-то "вчерашним", отсталым. Ќо человек по своей природе на телесном уровне принадлежит к животному в любом случае - от слова <жизнь>, <живот>. ≈сли обратить внимание еще на тот факт, что каждый второй человек на планете сейчас имеет проблемы со своим животом (достаточно посмотреть на полку в аптеке, сколько там средств дл€ поддержани€ ∆ “), то это лишь подтвердит, что существует ве€ние отказа от природы.
ѕоэтому "чайлдфри" мне видитс€ следствием отказа от природы человека как многогранного существа, где животна€ часть тоже есть. », оп€ть же, внутренн€€ невзрослость, потому что осознанно взрослый человек руководствуетс€ в первую очередь прин€тием и ответственностью.
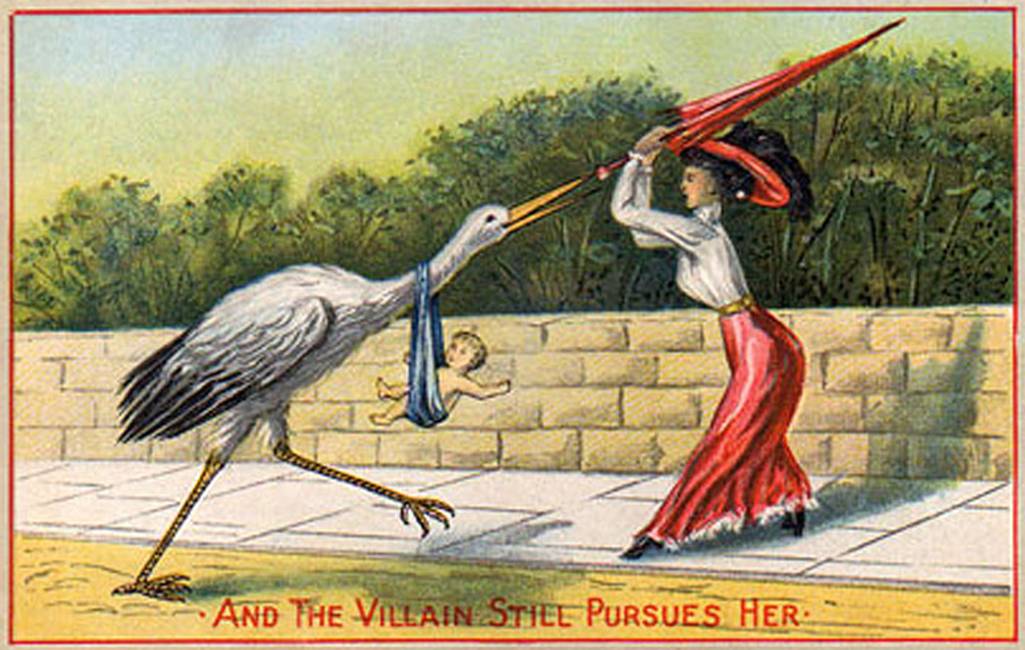
ƒушкова ќльга Ќиколаевна
ѕсихолог —ыктывкар
„ита€ определение термина чайлдфри, понимаю, что наполовину отношусь к данной идеологии, так как на сегодн€шний день, буду замужем, € действительно сознательно не хочу иметь ребенка - однако € не пропагандирую свои позицию. Ёто просто мой личный выбор, по своим сугубо личным соображени€м.
ак психолог € вовсе не считаю это патологией. ¬ чем патологи€? Ќеужели мы ¬—≈ должны хотеть ќƒЌќ√ќ и того же? ћир “ј разнообразен и у каждого сво€ позици€ и свои аргументы, и каждый человек имеет право ∆»“№ так как он хочет.
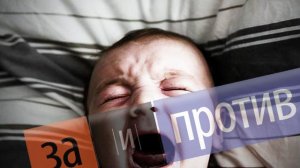
»ноземцева јлЄна Ќиколаевна
ѕсихолог —аратов
я мало общалась с такими людьми. “е причины, которые они озвучивали, обосновыва€ своЄ решение не иметь детей, были такими:
-
/uduba.com/page/newDesign/img/ul_dot.jpg" target="_blank">http://uduba.com/page/newDesign/img/ul_dot.jpg) 0% 0% no-repeat;">
не хочу жить ради других, хочу развиватьс€ духовно, жить дл€ себ€;
/uduba.com/page/newDesign/img/ul_dot.jpg" target="_blank">http://uduba.com/page/newDesign/img/ul_dot.jpg) 0% 0% no-repeat;">
не хочу ответственности, хочу свободы;
/uduba.com/page/newDesign/img/ul_dot.jpg" target="_blank">http://uduba.com/page/newDesign/img/ul_dot.jpg) 0% 0% no-repeat;">
мир жесток, не хочу, что бы мои дети страдали.
»сход€ из этого, € думаю что „айлдфри - это компенсаци€ патологии или сама патологи€.
’от€, возможно, есть люди, которые отказываютс€ от материнства и отцовства с благими здоровыми побуждени€ми. ’от€ дл€ мен€ лично это даже звучит несуразно. Ќо бывает вс€кое.

Ќагорнова Ќаталь€ јнатольевна
ѕсихолог —амара
»ногда за чайлдфри маскируютс€ бездетные люди или те, кто понимает, что пока не способен нести ответственность за ребЄнка. ” многих со временем проходит.
я не могу относитьс€ к такому €влению серьЄзно, поскольку мы никогда не знаем, что у человека на самом деле. ¬ добровольное решение совсем не иметь детей без серьЄзной причины (например, т€жЄла€ наследственность) просто не верю.
|
—емейные ценности Ц есть ли в них смысл |
ƒневник |
—емейные ценности – есть ли в них смысл
|
«а слова мама и женщина в √ермании будут наказывать |
ƒневник |
«а слова мама и женщина в √ермании будут наказывать
|
20 фактов о итае, которые могут вас сильно удивить |
ƒневник |
20 фактов о итае, которые могут вас сильно удивить
Ѕилл √ейтс написал в своем аккаунте в Twitter о том, что на него очень сильное впечатление произвели статистические выкладки, приведенные его любимым автором, канадским ученым ¬ацлавом —милом. —мил увер€ет, что в 2011-13 годах китайцы использовали больше цемента, чем американцы за весь 20 век! —вои расчеты канадский ученый обосновал данными √еологической службы —Ўј. ¬ацлав —мил считает, что потребление цемента в —Ўј в прошлом веке составило приблизительно 4,4 гигатонны, а в Ќ– в 2011-13 годах – 6,4. √игатонна, напомним, равн€етс€ миллиарду тонн.
Ќикто не спорит, что масштабы строительства в ѕоднебесной в последние пару дес€тилетий действительно ошеломл€ют, но и американцы в 20 веке не сидели, сложа руки. ” них тоже было достаточно громадных строительных проектов. „его сто€т хот€ бы плотина √увера и небоскребы. » тем не менее, ¬ацлав —мил уверен в правильности своих расчетов.
итай – экзотична€ страна. ѕон€ть китайцев зачастую нелегко, а порой и просто невозможно. ¬озможно, 20 нижеприведенных фактов помогут разобратьс€ в загадочной китайской душе.
ќтсидка при помощи двойников не редкий и единичный факт, а общераспространенна€ практика. ѕо этому поводу даже имеетс€ пословица: «¬ јмерике правит закон, а в итае – люди».
|
6 способов не сойти с ума, когда в твоей стране - война. |
ƒневник |
6 способов не сойти с ума, когда в твоей стране - война.

»так, Ѕј«ќ¬џ≈ Ќј¬џ » ѕќ¬≈ƒ≈Ќ»я » ¬ќ—ѕ–»я“»я ƒ≈…—“¬»“≈Ћ№Ќќ—“» ¬ќ ¬–≈ћя ¬ќ…Ќџ:
1) Ќеобходимо ограничить просмотр новостей по телевидению и в интернете. ”друченность начинаетс€ с небольшого, почти что незаметного факта; но потом растет, как масл€ное п€тно, и, когда мы, в конце концов, замечаем ее, уже слишком поздно: у нас больше нет сил, веры и желани€ боротьс€.
2) Ёлементы стабильности. ѕридерживайтесь распор€дка дн€. ѕишите план своей жизни хот€ бы на неделю. ѕланируйте семейные поездки и отпуск. —ейчас € часто слышу фразу: «я не знаю, что нас ждет завтра». Ёто разрушающа€ фраза. Ќаш гражданский долг знать: да, трудно, но мы победим. ћы сильные. ѕравда - за нами.
3) “ратьте свою энергию рационально. ќпределите дл€ себ€, где вы можете быть наиболее полезны. ≈сли вы решили зан€тьс€ волонтерской де€тельностью, это Ќ≈ значит, что вы должны отдать все свои сбережени€. ¬аше свободное врем€ Ќ≈ перестает принадлежать вам и вашим родным. —вои силы, навыки и умени€ расходуйте разумно. Ќе беритесь за то, что вам может быть непосильным.
4) ”мейте переключатьс€. Ќаучитесь не поддаватьс€ панике. ƒаже внутренн€€ паника делает вас у€звимым. ј наша у€звимость - на руку врагу. «аймите себ€ тем, что потребует вашего неотрывного внимани€. –исуйте, в€жите, да хоть лобзиком выпиливайте. ќтремонтируйте в квартире поломанные предметы. ¬едь за просмотром новостных лент, вы уже перестали замечать, что перегорела лампочка, а у дивана по€вились потертости. ј еще открою вам секрет - любой «hand-made» уже €вл€етс€ элементом арт-терапии, которую психологи рекомендуют не только во врем€ стрессового состо€ни€, а и дл€ предотвращени€ такового.
5) ќграничьте разговоры о тревожных событи€х. ќсобенно с посторонними людьми. ¬аши гражданские позиции могут отличатьс€ и вы рискуете быть непон€тым. ƒовер€йте только близким и проверенным люд€м, которые поймут вас даже если ваши взгл€ды разн€тс€.
6) Ќаучитесь расслабл€тьс€. «анимайтесь спортом, общайтесь с друзь€ми. ѕосещайте театры, музеи. „аще гул€йте. „итайте художественную литературу. ќбеспечьте услови€ дл€ духовного роста и физического развити€. Ёлементы мирной жизни никто не отмен€л. Ќе отказывайте себе в маленьких радост€х.
» в завершении хочу поделитьс€ цитатой: «–овно настолько были они спокойны, сколько нужно дл€ того, чтобы оградить свою душу от чужого, злого и враждебного взгл€да»
ƒавайте позаботимс€ о себе, родных, близких, о тех, кто очень нуждаетс€ сейчас в помощи.
¬едь мы ¬—≈ и есть страна. Ѕудем неу€звимы!
— любовью, психолог јмина аримова
|
—тарость начинаетс€ позже. „ем отличаетс€ жизнь после 50 от всей предыдущей жизни? |
ƒневник |
—тарость начинаетс€ позже. „ем отличаетс€ жизнь после 50 от всей предыдущей жизни? |
|
—читаетс€, что главным результатом роста продолжительности жизни €вл€етс€ то обсто€тельство, что пожилые люди теперь дольше живут. Ёто не так. √лавным, огромным, стратегическим, мен€ющим на наших глазах все человечество следствием скачка продолжительности жизни €вл€етс€ вовсе не то, что старость теперь дольше продолжаетс€, а то, что она намного позже начинаетс€.
ƒл€ тех, кому сегодн€ 40, 50, 55 лет по современным пон€ти€м, старость начнетс€ только лет в 75 — 80. “о есть на добрых двадцать п€ть лет — четверть века! — позже, чем дл€ поколени€ наших родителей.
≈ще совсем недавно в человеческой жизни было всего три основных периода: молодость, зрелость, старость.“еперь «зрелость», собственно, случаетс€ в п€тьдес€т и отмечает собой начало абсолютно нового, попросту не существовавшего раньше этапа в человеческой жизни.
„то мы знаем о нем?
1. ќн продолжаетс€ почти тридцать лет — с 50-ти до примерно 75-ти.
2. ¬ отличие от прежних представлений, физические и интеллектуальные возможности человека в этот период при правильном подходе не снижаютс€ и остаютс€ по крайней мере не хуже, а в некоторых случа€х и лучше чем в молодости.
3. ѕотенциально это лучший, самый качественный период в человеческой жизни, поскольку совмещает в себе здоровье, силы и жизненный опыт. «≈сли бы молодость знала, если бы старость могла» — это больше не про нас. ѕо всем статистическим данным последних лет самое счастливое врем€ в жизни, ее пик наступает теперь в примерно 65 лет.
4. “е, кому сегодн€ 55 — 65 лет проживают этот период первыми в истории человечества. –аньше его просто не было, поскольку люди намного раньше старели.
5. ¬ ближайшие несколько дес€тилетий люди возраста 50 — 75 станут самой массовой возрастной группой на планете.
ќ том, как теперь можно жить после 50-ти, об удивительных, почти фантастических возможност€х этого возраста и о люд€х которые научились с 50-ти жить лучше, €рче, интереснее и насыщенней чем прежде, в молодости
„ем отличаетс€ жизнь после 50 лет от всей предыдущей жизни? ƒа тем, что тому, как жить после п€тидес€ти, нас никто никогда не учил!
¬ младенчестве нас готов€т к детству, в детстве — к юности, в юности - к молодости, а в молодости мы проводим дес€тки часов, подготавлива€ себ€ к предсто€щим испытани€м зрелости. » только границу в 50 лет мы пересекаем, не име€ ни малейшего представлени€ о том, как, чем и ради чего жить дальше.
«десь нет ничего удивительного. ќткуда таким знани€м вз€тьс€, если еще дл€ поколени€ наших родителей в 50 лет официально начиналась старость, и жить дальше вообще не полагалось, а полагалось начинать понемногу умирать.
ћы редко осознаем, что та стратегическа€ жизненна€ программа, которой мы неукоснительно следуем, путешеству€ по жизни, на самом деле заложена в нас предыдущими поколени€ми. »менно предыдущими поколени€ми созданы те книги, фильмы, система образовани€, которые в детстве и в молодости формируют наше сознание.
Ќо у предыдущих поколений не было никаких представлений о жизни после 50 по той простой причине, что после п€тидес€ти лет жизни не было в принципе. ѕоэтому нет их и в программе жизни, котора€ досталась нам от них в наследство.
ѕо всей и вс€ческой статистике дл€ тех, кому сегодн€ 50–55 или около того, старость начнетс€ не раньше 80 лет. Ёто очень, очень при€тно, конечно. Ќам просто вз€ли и подарили аж 25 лет (!) дополнительной активной и насыщенной жизни. ѕроблема в том, что как пользоватьс€ этим подарком, нас не научили.
» в результате, переход€ границу в 50 и соглаша€сь по незнанию на преждевременную старость, мы рискуем потер€ть добрых 25–30 лет, которые — без преувеличени€ — могли бы быть самыми лучшими в нашей жизни.
ѕосле 50 лет в жизни наступает замечательный момент, когда есть врем€, здоровье, силы, свобода от социальных об€зательств, опыт, и до начала старости, по современным меркам, еще добрых четверть века!
Ќе тер€йте этого времени зр€. ѕотом очень жалеть будете!
≈сли вам за 50, то дл€ вас сегодн€ возможно все абсолютно все: новые увлечени€, новые радости и впечатлени€, нова€ карьера, нова€ любовь, новые путешестви€. ѕричем качество этих жизненных впечатлений намного превышает все, что было доступно в зеленой, неумелой юности или обремененной об€зательствами зрелости.
автор ¬ладимир яковлев:snob.ru. Ќа фото ћонсеррат ћечо, 78 лет. |
|
ќ понимании счасть€ современными детьми |
ƒневник |
ќ понимании счасть€ современными детьми - 5 млн. просмотров
¬ прошлом году в ”ниверситете Ќевады на TEDx выступил тринадцатилетний Ћоган Ћаѕлант, который рассказал о своей жизни без школы и о том, какие открыти€ она позвол€ет ему делать.
¬идео об истории жизни подростка собрало более 5 миллионов просмотров.
Ќа своем сайте Ћоган позже написал: «я думал, оно наберет что-то вроде 1000 просмотров. ќй, кажетс€, надо было подстричьс€. ∆иви и учись».
Ќе «абудьте ¬ключить —убтитры в правом нижнем углу.
|
ѕошл€ки и пошлость |
ƒневник |

ѕошл€ки и пошлость
Ѕольше полувека прошло с лекции ¬ладимира Ќабокова, которую он прочитал американским студентам. » кажетс€, мало что изменилось с тех времен.
ћещанин — это взрослый человек с практичным умом, корыстными, общеприн€тыми интересами и низменными идеалами своего времени и своей среды. ≈го можно назвать «благовоспитанным» и «буржуазным». Ѕлаговоспитанность предполагает галантерейную, изысканную вульгарность, котора€ бывает хуже простодушной грубости. –ыгнуть в обществе — грубо, но рыгнуть и сказать: «ѕрошу прощени€» — не просто вульгарно, но еще и жеманно. Ѕуржуа — это самодовольный мещанин, величественный обыватель.
ћещане питаютс€ запасом банальных идей, прибега€ к избитым фразам и клише, их речь изобилует тусклыми, невыразительными словами. »стинный обыватель весь соткан из этих заур€дных, убогих мыслей, кроме них у него ничего нет. Ќо надо признать, что в каждом из нас сидит эта заклишированна€ сущность, и все мы в повседневной речи прибегаем к словам-штампам, превраща€ их в знаки и формулы. Ёто не означает, однако, что все люди — обыватели, но предостерегает от машинального обмена любезност€ми. ¬ душный день каждый второй прохожий непременно спросит вас: «¬ам не очень жарко?» »з этого не следует, что ваш собеседник — пошл€к. ќн может оказатьс€ обыкновенным попугаем или словоохотливым иностранцем. огда вас спрашивают: « ак поживаете?» — ответ: «ѕрекрасно» может прозвучать унылым штампом, но начни вы распростран€тьс€ о своем здоровье, вы рискуете прослыть педантом и занудой.
»ногда банальность — хороший щит или надежна€ уловка от разговора с дураками.
я встречал просвещеннейших людей — поэтов, ученых, которые в кафе обходились двум€-трем€ словами: «да, нет, благодарю вас». ѕерсонаж, выступающий под именем «величественного пошл€ка», не просто обыватель-новичок, нет, это — профессиональный жеманник с головы до п€т, законченный тип благопристойного буржуа, всемирный продукт заур€дности и косности. ќн — конформист, приспособившийс€ к своей среде. ≈му присущи лжеидеализм, лжесострадание и ложна€ мудрость. ќбман — верный союзник насто€щего обывател€. ¬еликие слова расота, Ћюбовь, ѕрирода — звучат в его устах фальшиво и своекорыстно. “аков „ичиков из «ћертвых душ», —кимпол из «’олодного дома», наконец, ќмэ из «ћадам Ѕовари». ќбыватель любит пустить пыль в глаза и любит, когда это делают другие, поэтому всегда и всюду за ним по п€там следуют обман и мошенничество.
ќбыватель с его неизменной страстной потребностью приспособитьс€, приобщитьс€, пролезть разрываетс€ между стремлением поступать как все и приобретает ту или иную вещь потому, что она есть у миллионов, — и страстным желанием принадлежать к избранному кругу, ассоциации, клубу. ќн жаждет останавливатьс€ в лучших отел€х, путешествовать в 1-м классе океанского лайнера с капитаном в белоснежном кителе и великолепным сервисом. —оседство с главой компании и европейским аристократом может вскружить ему голову. Ќередко он — сноб. Ѕогатство и титул привод€т его в восторг: «ƒорога€, сегодн€ € болтал с герцогиней!»
ѕошл€к не увлекаетс€ и не интересуетс€ искусством, в том числе и литературой — вс€ его природа искусству враждебна. Ќо он с жадностью поглощает вс€ческую информацию и отлично натренирован в чтении газет и журналов.
ќн ревностный читатель «—этердей »внинг ѕост» и, просматрива€ газету, обычно отождествл€ет себ€ с геро€ми передовиц. ѕредставитель сильного пола воображает себ€ симпатичным судебным исполнителем или другой важной птицей, скажем, замкнутым холост€ком с душой ребенка и игрока в гольф. ≈сли это читательница — эдака€ мещаночка, она видит себ€ в роли обворожительной, рум€ной, белокурой секретарши. ќбыватель не отличает одного автора от другого; читает он мало и всегда с определенной целью, но может вступить в общество библиофилов и смаковать прелестные книги. ≈го не очень интересует живопись, но престижа ради он охотно повесит в гостиной репродукции ¬ан √ога или ”истлера, втайне предпочита€ им Ќормана –окуэлла.
¬ своей приверженности к утилитарным, материальным ценност€м он легко превращаетс€ в жертву рекламного бизнеса. —ама по себе реклама может быть очень хороша — иные ролики поднимаютс€ до насто€щих высот искусства, речь не об этом. —уть в том, что реклама всегда играет на обывательской гордости обладани€ вещью. примеру, в доме по€вилс€ радиоприемник или телевизор. »х только что доставили из магазина. ќт удовольстви€ мать всплескивает руками, возбужденные дети толп€тс€ вокруг, младшенький вместе с собакой т€нетс€ к тому месту, куда водрузили »дола, даже бабушка со всеми своими лучистыми морщинками виднеетс€ где-то на заднем плане, а в стороне от всех, заложив большие пальцы в проймы жилета, с победоносным видом выситс€ ќтец, он же ѕапаша, он же √орделивый ƒаритель. ћальчики и девочки в рекламе неизменно усыпаны веснушками, а у малышей всегда отсутствуют передние зубы. я ничего не имею против веснушек (на самом деле они очень идут иным юным создани€м). Ќо € считаю неслыханной пошлостью то, что с ними сделали рекламные и прочие агентства. ѕо рассказам очевидцев, если мальчик без веснушек или слегка веснушчатый должен по€витьс€ на телеэкране, ему наклеивают искусственные веснушки, минимум 22 штуки — восемь на каждой щеке и 6 на носу. ≈сли веснушчатых юных героев обычно играют белокурые или рыжеволосые красавчики, то у молодых статных мужчин, как правило, темные волосы и густые черные брови. ќт шотландца до кельта — такова эволюци€.
√лубочайша€ пошлость, источаема€ рекламой, не в том, что она придает блеск полезной вещи, но в самом предположении, что человеческое счастье можно купить.
онечно, сотворенный в рекламе мир сам по себе безвреден — каждый знает, что сотворен он продавцом, которому всегда подыгрывает покупатель. —амое забавное не в том, что здесь не осталось ничего духовного; нет, самое забавное, что это — теневой, иллюзорный мир, и в его реальное существование втайне не вер€т ни продавцы, ни покупатели, особенно в нашей мудрой, прагматичной и мирной стране.
” русских есть, вернее, было специальное название дл€ самодовольного величественного мещанства — пошлость. ѕошлость — это не только €вна€, неприкрыта€ бездарность, но главным образом ложна€, поддельна€ значительность, поддельна€ красота, поддельный ум, поддельна€ привлекательность. ѕрипечатыва€ что-то словом «пошлость», мы не просто выносим эстетическое суждение, но и творим нравственный суд. ¬се подлинное, честное, прекрасное не может быть пошлым. я утверждаю, что простой, не тронутый цивилизацией человек редко бывает пошл€ком, поскольку пошлость предполагает внешнюю сторону, фасад, внешний лоск. „тобы превратитьс€ в пошл€ка, кресть€нину нужно перебратьс€ в город. рашенный от руки галстук должен прикрыть мужественную гортань, чтобы восторжествовала неприкрыта€ пошлость.
¬озможно, само слово так удачно найдено русскими оттого, что в –оссии когда-то существовал культ простоты и хорошего вкуса. ¬ современной –оссии — стране моральных уродов, улыбающихс€ рабов и тупоголовых громил — перестали замечать пошлость, поскольку в —оветской –оссии развилась сво€, особа€ разновидность пошл€ка, сочетающего деспотизм с поддельной культурой. ¬ прежние времена √оголь, “олстой, „ехов в своих поисках простоты и истины великолепно изобличали вульгарность, так же как показное глубокомыслие. Ќо пошл€ки есть всюду, в любой стране — и в јмерике, и в ≈вропе. » все же в ≈вропе их больше, чем здесь, несмотр€ на старани€ американской рекламы
|
FAQ: »сторическа€ травма как культурное €вление |
ƒневник |
FAQ: »сторическа€ травма как культурное €вление
5 фактов о происхождении коллективных травм и способах работы с ними
 9 983
9 983
—лово «травма» сейчас €вл€етс€ чрезвычайно модным. ќно уже перешло из €зыка ученых в €зык газетчиков. ¬опрос о том, что такое, собственно, травма, требует разъ€снени€, ведь речь идет не о производственном травматизме, а о социально-психологическом и одновременно культурном €влении.
1. ѕричины психологической травмы
—амо пон€тие психологической травмы, как и многие другие научные термины, первоначально возникло как метафора. Ёто произошло в последней трети XIX века, хот€ до этого еще на прот€жении нескольких веков многие люди, особенно врачи, замечали, что после страшных событий, несчастных случаев, публичного шельмовани€ или совершени€ постыдных поступков человек может начать испытывать болезненные ощущени€, видеть странные сны и так далее. ¬спомним хот€ бы поведение леди ћакбет в трагедии Ўекспира. Ќо изучать это €вление медики стали относительно поздно. Ќапример, когда по€вились случаи психического шока от железнодорожных катастроф. ¬ начале ’’ века «игмунд ‘рейд и ѕьер ∆ане по-разному описали последстви€ эмоционального шока: ‘рейд большее внимание удел€л блокированию или сильной затрудненности воспоминаний о несчастном случае, а ∆ане — регрессии, то есть переходу к более архаическим или инфантильным формам поведени€.
¬о врем€ –усско-€понской войны 1904–1905 годов в русской армии работали квалифицированные психиатры, которые изучали, как вли€ет пережитое на фронте на солдат и офицеров. ¬озможно, именно обсуждение этой темы в печати повли€ло на новеллу Ћеонида јндреева, написанную как раз о –усско-€понской войне. Ќа мой взгл€д, это одно из самых сильных описаний психологической травмы в художественной литературе. ¬ рассказе описаны кошмары, которые видит офицер, ставший свидетелем многочисленных смертей безоружных людей — в окопах или в санитарном поезде.
«я узнал его, этот красный смех. я искал и нашел его, этот красный смех. “еперь € пон€л, что было во всех этих изуродованных, разорванных, странных телах. Ёто был красный смех. ќн в небе, он в солнце, и скоро он разольетс€ по всей земле, этот красный смех!»
‘едунина Ќ.ё. / Ѕурмистрова ≈.¬. ѕсихическа€ травма. истории вопроса // ∆урнал практической психологии и психоанализа, 2014, є1
јндреев Ћ.Ќ. расный смех
2. ¬арианты реакции индивида на психическую травму
ѕосле ѕервой мировой войны многие психиатры, в частности тот же ‘рейд, изучали пациентов, переживших шок во врем€ боевых действий или вследствие страшных известий, полученных с фронтов. —тало пон€тно, что существует большой класс психических переживаний и состо€ний, с которыми человек справл€етс€ с большим трудом.
¬ 1917 году ‘рейд пишет работу «—корбь и меланхоли€», другой вариант перевода названи€ — «ѕечаль и меланхоли€», вроде бы внешне не св€занную с последстви€ми боевых действий. “ем не менее исследователи помещают ее в контекст именно тех работ, которые обусловлены сдвигом исследовательских, социальных и клинических интересов ‘рейда во врем€ войны.
¬ этой работе ‘рейд выдел€ет два способа реагировани€ на очень т€желые переживани€. ќдин — это меланхоли€, другой — скорбь.
ћеланхоли€ — это зацикливание человека на своей потере, как сказали бы сейчас программистским €зыком. „еловек посто€нно возвращаетс€ к тому, что он пережил, и в некотором смысле не способен жить дальше. » это может быть очень объ€снимое поведение, когда ты тер€ешь очень близкого человека и много лет живешь с мыслью только об этой потере.
ƒругой случай — когда человек понимает, что он пережил очень т€желую потерю, но надо жить дальше, и что у него есть возможность дальше измен€тьс€, развиватьс€ и в то же врем€ не забывать то несчастье, которое его постигло, сделать его частью своей жизни, а не центром своей жизни. ‘рейд пишет:
«¬ чем же заключаетс€ работа, совершаема€ скорбью? я считаю, что без какой-либо нат€жки можно изобразить ее следующим образом: испытание реальности показало, что любимого объекта больше нет, и теперь необходимо отвлечь все либидо от св€зей с этим объектом. […] ‘актически же “€” после завершени€ работы скорби вновь становитс€ свободным и нескованным» (перевод ¬. ћазина, с изм.).
ѕротивопоставление этих двух реакций впоследствии оказалось чрезвычайно важным, хот€ исследование ‘рейда было только началом. ¬последствии психологи открыли €вление посттравматического стресса, когда человек вроде бы живет дальше, понимает, что должен/должна жить, но его/ее чувства как бы заморожены. ѕодлинное выздоровление может наступить много позже.
≈ще больше материала дл€ анализа скорби и меланхолии представила ¬тора€ мирова€ война и событи€, предшествующие ей, а именно создание системы концлагерей в √ермании. ¬ те же 1930-е годы уже вовсю работала и система √”Ћј√а в ———–, но психологическое состо€ние заключенных √”Ћј√а, да и тех людей, кто оставалс€ на свободе, но каждую ночь вздрагивал от шума машины под окнами, многие годы никто толком не исследовал. ѕсихологическую травматичность повседневной жизни в ———– анализировали в те времена лишь немногие люди, у которых хватало личной смелости и в то же врем€ методологического «оснащени€» дл€ такой работы.
Tammy Clewell. Mourning Beyond Melancholia: Freud’s Psychoanalysis Of Loss
3. онцлагер€ как пространства коллективной травмы
 »сторическа€ травма как культурное €вление ультуролог »ль€ укулин об изучении травмы в психоанализе, концентрационных лагер€х и коллективной пам€ти
»сторическа€ травма как культурное €вление ультуролог »ль€ укулин об изучении травмы в психоанализе, концентрационных лагер€х и коллективной пам€ти
¬ концлагер€ попадали и люди, которые не были виноваты ни в чем, кроме своей сексуальной ориентации, и люди, которые не были виноваты ни в чем, кроме своего происхождени€: евреи, цыгане и многие другие, и, например, советские военнопленные. ѕереживание безнадежности и полной зависимости в концлагере первым подробно описал австро-американский психолог Ѕруно Ѕеттельгейм, который через эти нацистские лагер€ прошел, и он же заметил, что уже и эти эмоции, не говор€ уже о повседневной и почти ритуализированной жестокости охранников и р€да заключенных, могут способствовать быстрому превращению человека в «доход€гу», если он не будет психологически сопротивл€тьс€.
¬последствии замечательный италь€нский писатель ѕримо Ћеви, попавший в концлагерь как еврей и освобожденный советскими войсками, в своей книге « анувшие и спасенные» рассказывал о так называемой «серой зоне», то есть о люд€х, которые в лагер€х цепл€лись за жизнь любой ценой (аналогично установке уголовников, известной из рассказов ¬арлама Ўаламова: «”мри ты сегодн€, а € завтра») и совершали множество малых и больших предательств, ловчили дл€ того, чтобы приспособитьс€ к жизни в лагер€х. ” таких людей на совести лежало огромное п€тно, некоторые из них многие годы после освобождени€, видимо, уговаривали себ€, что по-другому бы они не выжили. ј преданные ими переживали шок от того, что в лагере никому нельз€ верить.
—егодн€ психологи, антропологи и историки культуры пишут о том, что травматическим было не только нахождение в концлагере, но и «обычна€» жизнь в услови€х относительной свободы в тоталитарных обществах: бессудное ежедневное исчезновение людей вызывало чувство ужаса и бессмысленности, которые сублимировались по-разному. ¬ ———– в 1937 году эта сублимаци€ колебалась в диапазоне от параноидального поиска «вражеских» знаков, например портрета “роцкого, на тетрадках и школьных учебниках, откуда были уже вырезаны портреты «врагов народа», до болезненного интереса к романтике √ражданской войны, когда тоже можно было погибнуть в любой момент.
ќтдаленно сходные, хот€, конечно, трудносоизмеримые в моральном отношении феномены происходили во врем€ ленинградской блокады, когда люди находились на свободе и в гораздо менее морально-унизительных услови€х, чем в лагере. ќднако нестерпимый голод и физические мучени€ тоже заставл€ли их совершать поступки, которые бы они в нормальной жизни никогда не совершили. ¬ Ћенинграде тогда был человек, который очень подробно анализировал трансформации человеческой психики в этих катастрофических услови€х. Ёто была замечательна€ писательница и мыслительница Ћиди€ √инзбург, котора€ вела подробнейшие аналитические дневники.
Ѕеттельгейм Ѕруно. ѕросвещенное сердце
√инзбург Ћ. ѕроход€щие характеры. ѕроза военных лет. «аписки блокадного человека
4. оллективна€ травма в российской культуре
“о, что мы с вами обсуждаем, — это травмы, которые станов€тс€ элементами не только индивидуальной, но и коллективной пам€ти.
оллективна€ пам€ть — это сложный феномен. Ќе все психологи и антропологи согласны с ее реальностью. ƒействительно, в строгом смысле пам€ть есть только у индивидуального человеческого существа. Ќо есть особый феномен — личные шоковые переживани€, которые воспринимаютс€ не как уникальные, а как массовые. ”же в 1937 году многие люди в ———– понимали, что в своих страхах они не одиноки, хот€ и не понимали, что происходит в стране. “ак или иначе, пережита€ травма может быть эмоционально восприн€та как одновременно несообщаема€ — о таком вслух не скажешь — и разделенна€.
—оветска€ цензура дес€тилети€ми запрещала обсуждать многие из проблем, св€занные с пленом, жизнь остарбайтеров, то есть людей, угнанных в √ерманию на работы, этническую избирательностью нацистского террора (геноцид евреев и цыган), мучительные переживани€ во врем€ ленинградской блокады, депортации народов —еверного авказа, немцев ѕоволжь€, калмыков, крымских татар… Ёто замалчивание и его иногда прорывавшиес€ псевдоблагородные объ€снени€ (тем, кто хотел говорить подробнее о ленинградской блокаде, отвечали, что нужно помнить прежде всего о геро€х и о победе) в совокупности порождали у людей чувство вины и формировали в общественном сознании табуированные темы, о которых люди не могли поговорить даже сами с собой, не только с окружающими. ƒо сих пор это умолчание оказывает скрытое воздействие на российскую культуру, порождает отложенные эффекты «постпам€ти», когда неврозы передаютс€ от родителей к дет€м на прот€жении нескольких поколений.
ќдно из важнейших воздействий коллективной травмы: люд€м очень т€жело сказать и другим, и самим себе о том, как они себ€ вели в трудной ситуации, отдать себе отчет в том, что кто-то вел себ€ лучше, кто-то вел себ€ хуже. Ётот анализ мучителен, но очень важен. ¬ —оветском —оюзе он блокировалс€. —редства дл€ разговора о травме формировались преимущественно в неофициальной культуре. Ќо и сейчас таких средств, чтобы люди могли справитьс€ со своими переживани€ми, в российской культуре остро не хватает.
“имофеева ћ. “равма прошлого (сталинского режима) в клиническом материале российских пациентов
5. ¬арианты работы с травмой
 —олидарность и теори€ травм—оциолог ƒмитрий уракин о проблеме самоидентификации, теории сакрального и последстви€х «”отергейта»
—олидарность и теори€ травм—оциолог ƒмитрий уракин о проблеме самоидентификации, теории сакрального и последстви€х «”отергейта»
Ќужно пон€ть, что в прошлом у нас, € имею в виду некоторое сообщество людей, живущих в –оссии, есть много катастрофических событий, и мы не имеем права их забывать. Ќо если мы будем о них говорить, они не св€жут нас по рукам и ногам, не сделают нас их рабами и заложниками комплекса вины. Ќужно только понимать, как говорить, вырабатывать культурные средства, чтобы справитьс€ с посттравматическим стрессом и с т€желыми последстви€ми пам€ти о невысказанных страхах, передающейс€ через поколени€. Ќаоборот, чем меньше мы будем об этом говорить, чем больше мы будем устанавливать одну, никого не смущающую концепцию исторического прошлого, тем больше у нас будет развиватьс€ меланхоли€ и св€занный с ней комплекс вины, перенесенный на что-то другое: на того или ту, кто ведет себ€ непохоже на других, на тех, кто богаче или тех, кто беднее.
|
јлексей ортнев: Ђѕоскольку мы проиграли, то выйти и поплевать на наши же могилы невозможної |
ƒневник |
јлексей ортнев: «ѕоскольку мы проиграли, то выйти и поплевать на наши же могилы невозможно»
Ћ»Ќќ– √ќ–јЋ» ѕќЅ≈—≈ƒќ¬јЋј — ‘–ќЌ“ћ≈Ќќћ «Ќ≈—„ј—“Ќќ√ќ —Ћ”„јя» ќ “ќћ, ј ѕ»Ў”“—я “≈ —“џ, —јћќ÷≈Ќ«”–≈ » —”“» –ќ -Ќ-–ќЋЋј
 © јлександр ўербак/ оммерсантъ
© јлександр ўербак/ оммерсантъЋинор √оралик: я начну с самого базового: вы кто? Ќе в смысле «сегодн€ € актер, а завтра песни пою», а в смысле — вот человек проснулс€ — он кто?
јлексей ортнев: ќчень трудно ответить, бывает по-разному. —ейчас € больше всего, наверное, глава семьи. ѕервые мысли, которые мен€ посещают, — это мысли о дет€х. ќчень сложное хоз€йство: п€теро детей, квартиры, выплаты ипотеки и так далее.
√оралик: Ѕольшой менеджерский проект.
ортнев: јбсолютно верно. ѕоэтому, конечно… ’отел сказать, что никаким сочинительством не пахнет, но нет — как раз в полусне в голову приход€т фразы. Ќо сейчас это стало гораздо реже происходить, чем раньше. ѕрежде всего, € существенно реже стал просыпатьс€ с бодуна.
√оралик: ” этого есть минусы?
ортнев: ƒа, утреннее вот это треморное творчество совершенно куда-то испарилось. » потом, наверное, печень стала хуже помогать мозгу.
/www.colta.ru/assets/citata_top-5c490729fa837d3b7e1a1ab61e36d76f.png" target="_blank">http://www.colta.ru/assets/citata_top-5c490729fa837d3b7e1a1ab61e36d76f.png); background-position: 50% 0%; background-repeat: no-repeat;"> /www.colta.ru/assets/citata_bottom-cc5214fc5e30a02ff4d3422e07e2d81e.png" target="_blank">http://www.colta.ru/assets/citata_bottom-cc5214fc5e30a02ff4d3422e07e2d81e.png); background-position: 50% 100%; background-repeat: no-repeat;"> Ќадо сочин€ть — сочин€ю.√оралик: ѕерестал просыпатьс€ в хрустальном состо€нии?
ортнев: ƒа-да, вместо хрустального состо€ни€ — головна€ боль и мешки под глазами. ѕоэтому сейчас стихосложение больше превратилось в прагматику: надо сочин€ть — сочин€ю.
√оралик: ј «фразы», которые приход€т в голову, — это реплики или музыкальные фразы?
ортнев: ¬ 90 процентах случаев — музыкальные. »ли какие-то фразы, которые пропеваютс€. я все-таки не могу прин€ть высокое звание поэта: € текстовик, мне кажетс€. я пишу тексты дл€ песен, они должны быть устроены несколько примитивнее, чем стихи. — упрощенным словарем, очень четкой ритмикой, возможностью привнесени€ еще одного измерени€ — музыки.
√оралик: » голоса, в конце концов.
ортнев: —овершенно верно. ћне кажетс€, что большинство прекрасно написанных стихов уже не впускают в себ€ музыку, потому что и так ею полны. ћелодию некуда воткнуть. ≈сть, конечно, роскошные исключени€ — скажем, таривердиевские песни на стихи великих поэтов и поэтесс, — но это все-таки не вполне песни. ¬ них нет припевов, например, — это такие музыкальные монологи.
√оралик: ” вас есть тексты, которые не предназначены быть песн€ми, а только текстами?
ортнев: я их писал — как в юности пишут стихи, — а потом совершенно перестал. —ейчас текстов-текстов практически нет. Ќаверное, одно какое-нибудь стихотворение на сто текстов песен.
√оралик: » где оно?
ортнев: Ќигде. ¬ моем компьютере. Ќо € вас увер€ю, что там ничего интересного нет. Ўалости и какие-то благоглупости.
√оралик: ј тексты ваших песен, прочитанные глазами, и они же, исполненные голосом, — дл€ вас разные сущности?
ортнев: ƒа, конечно. √лазами они читаютс€ по-другому. ¬от совсем недавно было забавное приключение у мен€: мен€ пригласили вместе с несколькими прекрасными исполнител€ми бардовской песни на ѕ€тый канал, в какую-то поэтическую программу, где было предложено прочитать что-нибудь. Ёто было ужасно интересно! ѕотому что € первый раз в жизни прочитал как стихотворени€ какие-то из своих песен. я с удовольствием читал «—нежинку» как стихи. Ёто было очень смешно, публика пр€мо хохотала. » «ѕитер-ѕитер» € прочитал просто как текст — и получил большое удовольствие. ’от€ € понимаю, что в какой-то момент все равно начинаю петь, потому что мне очень не хватает четкой ритмики, котора€ в текст заложена. —вободный, без музыки, стих должен быть гораздо разнообразнее ритмически, а при произнесении без пени€ текст песни звучит глуповато.
√оралик: —тановитс€ слишком плоским?
ортнев: ƒа.
√оралик: ј бывает так: хочетс€ сделать текст плотнее, но понимаешь, что музыка этого не позволит?
ортнев: ƒа, бывает, конечно. ” нас как у группы даже есть некоторые эксперименты с плотными текстами. Ќо такие песни создаютс€ в стол, их ожидают два-три публичных исполнени€, запись на пластинку и забвение.
√оралик: “о есть без частых исполнений вживую?
/www.colta.ru/assets/citata_top-5c490729fa837d3b7e1a1ab61e36d76f.png" target="_blank">http://www.colta.ru/assets/citata_top-5c490729fa837d3b7e1a1ab61e36d76f.png); background-position: 50% 0%; background-repeat: no-repeat;"> p>ортнев: ¬ концерте существует очень больша€ конкуренци€ между песн€ми, они друг друга выпихивают, выживают, и чем ты дольше играешь, тем труднее становитс€ пробитьс€ молодым песн€м, написанным недавно. ¬се уже зан€то вещами, которые проверены дес€тилети€ми, публика их требует.
√оралик: » поощр€ет.
ортнев: ƒа. ѕублика терпеть не может нового. ѕоэтому, когда мы пишем новое, €, наверное, просто инстинктивно стараюсь написать кто-то конкурентоспособное, а стало быть — простое, мелодичное, ритмичное и так далее.
√оралик: Ќу, довольно жестока€ и ограничивающа€ позици€, без жалости к себе как автору.
ортнев: Ќаверное. ¬от еще: €, честно говор€, просто знаю, что € очень социально зависимый человек, и вс€ херн€, котора€ сейчас происходит вокруг, мен€ страшно подавл€ет, мне вообще не хочетс€ писать. ѕоэтому сейчас мы с моим коллегой —ережей „екрыжовым, например, пишем, там, песни дл€ новогоднего фильма. ” нас есть чудное, по-кавээновски сформулированное задание. ћой друг —аша ∆игалкин сказал: «Ћеха, мы снимаем четырехсерийный фильм, глупый-глупый, к следующему Ќовому году, там должно быть много песен. ¬ремени у теб€ — две недели». ћы за две недели с —ережей сочинили семь песен, по два дн€ на каждую. я к такому очень расположен — это как капустник писать, легко идет, другие ценности выход€т на передний план, ты не задумываешьс€ о качестве каждой строки. ј то некоторые песни дл€ «Ќесчастного случа€» € писал по полтора-два года, вот эти четыре четверостиши€. Ќапример, на диске «“оннель в конце света» таких песен очень много: скажем,«ƒве бабочки-однодневки» написаны за час целиком, а «¬округ оси» — за два года. » сама песн€ «“оннель в конце света» тоже сочин€лась ужасно медленно. огда-то в далеком детстве песню «”голочек неба» мы с —ережкой сочинили так же: первый куплет, условно говор€, в мае, а второй куплет — в феврале следующего года. ј, скажем, «Ѕабушка, помнишь?..» — очень быстро. я очень хорошо помню, как это сочин€лось. Ѕыло счастливое врем€, € был студентом ћ√”, жил на даче у бабушки, бабушка была жива и здорова, у мен€ было детское ощущение — вот ты на даче в шортиках, гул€ешь и сочин€ешь песни.
√оралик: “о есть теперь мы понимаем примерно, песни какой степени веселости вы пишете в хорошем настроении.
ортнев: (смеетс€) ƒа-да-да. » на самом деле многие как раз развеселые вещи пишутс€ в очень мрачном состо€нии. « онька-√орбунка» € сочинил целиком в момент страшного кризиса. » большинство номеров оттуда, самых скоморошистых, €рмарочных, было придумано в состо€нии посто€нного подпити€ и чрезвычайной угнетенности.
√оралик: —лушайте, у мен€ в этом месте есть два вопроса. ќдин — про самоиронию, другой — про агрессию. ¬сегда возникает чувство, что ваш лирический герой, стоит ему подойти к краю пафосного высказывани€, намеренно, именно что скоморошисто от этого кра€ откатываетс€ веселым кувырочком. ¬от как автор в этом самом интервью.
/www.colta.ru/assets/citata_top-5c490729fa837d3b7e1a1ab61e36d76f.png" target="_blank">http://www.colta.ru/assets/citata_top-5c490729fa837d3b7e1a1ab61e36d76f.png); background-position: 50% 0%; background-repeat: no-repeat;">ортнев: ¬ каком-то смысле да, наверное. я вырос в достаточно чопорной семье, в которой были очень любовные отношени€, объ€ти€, лобзани€ с мамой, с папой, нежные слова, но все это никогда не переходило какой-то границы — хорошего вкуса, что ли? ¬сегда в какой-то момент эта бесконечна€ любовь — а € всегда был уверен в родительской любви ко мне — маскировалась улыбкой, шуткой, подтруниванием надо мной. » сейчас в моей семье происходит точно так же. ¬се это переноситс€ в тексты, естественно. стати, мы сейчас сочин€ли новогодние песни, € сказал „екрыжову: «¬от эту точно можно будет играть в новогодних вс€ких наших концертах, на корпоративах!» “ака€ заводна€ получилась, такой рок-н-ролл новогодний. ќн говорит: «Ќет, даже не думай про это. ѕотому что это сейчас ты просто на взводе, а на самом деле в ней нет второго плана, она просто празднична€ песн€, констатаци€ фактов — и все. ƒа, она смешна€, она бы даже была уместна в каком-нибудь шоу “”ральские пельмени” — но в ней нет рефлексии».
√оралик: ¬ас это расстроило?
ортнев: Ќет-нет! я просто пон€л, что немножко зарвалс€.
√оралик: ¬ажно, что есть кто-то, кто может сказать — «этот текст лучше, этот хуже»? ¬едь очень часто коллеги эту тему просто деликатно обход€т в разговорах друг с другом.
ортнев: “ут все-таки песн€ была написана на заказ. Ёто не в категори€х «лучше-хуже», просто служебна€ песн€.
√оралик: “огда иначе: есть какие-то люди, чь€ реакци€ на текст вли€ет на ваше собственное его воспри€тие?
ортнев: ≈сть, наверное, два-три человека. Ќа самом деле, по большому счету, единственным действительно таким мерилом (это € говорю о песн€х, потому что стихи все-таки публично не исполн€ю) оказываетс€ публика — но ее реакцию нельз€ интерпретировать буквально. ћогут очень аплодировать, могут очень тепло принимать какие-то вещи — но ты чувствуешь, что это твои преданные зрители аплодируют чисто из вежливости или из-за того, что ты сделал вещь, котора€ очень похожа на вещи, нрав€щиес€ им всегда.
√оралик: “о есть они в этот момент люб€т теб€ вообще, теб€ самого?
ортнев: —овершенно верно. » поэтому в нашей уже достаточно богатой истории не раз случались эпизоды, когда писалась вещь, в которой и €, и вс€ группа были стопроцентно уверены, считали ее хит€рой — и она проваливалась. Ќо ситуации, когда € бы отдал что-нибудь кому-нибудь «на экспертизу», не представл€ю себе. ѕри этом мнение некоторых людей дл€ мен€ значит крайне много. я четко понимаю, что если мо€ любима€ подружка ћан€ Ѕезносова в ответ на присланную ей песенку шлет мне восторженный отзыв — то, значит, вау. ј если просто тишина, — ну, значит… “огда можно говорить себе, что она просто послала письмо не на тот адрес.
/www.colta.ru/assets/citata_top-5c490729fa837d3b7e1a1ab61e36d76f.png" target="_blank">http://www.colta.ru/assets/citata_top-5c490729fa837d3b7e1a1ab61e36d76f.png); background-position: 50% 0%; background-repeat: no-repeat;">√оралик: Ёто возвращает мен€ некоторым образом к началу разговора. то ваше «мы»? ¬от то «мы», которое очень часто фигурирует в текстах? » еще: оно динамически мен€етс€ на шкале лет?
ортнев: ћне кажетс€, что это «мы» — как это ни плоско прозвучит — это мое поколение. онечно, в моем поколении есть люди, которые очень далеки от мен€, и есть те, кто мне очень близок. ћне кажетс€, писать надо дл€ людей своего возраста и близких взгл€дов. —очин€ть — особенно песни, особенно развлекательные песни — п€тидес€тилетнему дл€ двадцатилетнего не нужно. ѕоэтому мне кажетс€, что мое «мы» просто мен€етс€ с возрастом. ћне очень лестно видеть на концертах молодых людей. Ќо все равно у мен€ есть внешн€€ опора, и эта опора — мои друзь€, в основном университетские. ќсобенно при€тно, когда приход€т, не предупредив, не попросив никаких пригласительных, — € просто вижу перед сценой своего сокурсника, иногда даже с семьей и детьми.
ћои «мы» — это те «мы», которые прожили, собственно, 25 лет, начавшихс€ с √орбачева и закончившихс€ ѕутиным. ”дивительным образом период, когда –осси€ €кобы «опустилась на колени», совпал с самыми лучшими годами моей жизни и жизни группы, в которую € вложил душу. ћы двадцать п€ть лет были на коне, мы пл€сали и пели в стремительно нищающем свободном государстве. ј потом все изменилось кардинальным образом, и «мы» заметалось.
√оралик: –асскажите в этой св€зи о том, как вы работаете в своих текстах с советским культурным наследием. ≈ще год назад там слышалась очень сложна€ смесь нежности, иронии и агрессии.
ортнев: ћне даже трудно что-то добавить, потому что именно это сочетание — вообще суть рок-н-ролла, на мой взгл€д. ≈ще сексуальность — но она как раз и складываетс€ из нежности, агрессии и иронии.
ƒл€ сцены, кстати, это сочетание совершенно необходимо, без него нельз€ удерживать интерес. ≈сли бы € занималс€ академическим писанием стихов в расчете на напечатанный текст, возможно, все было бы совершенно по-другому. я просто не знаю, потому что не пробовал. ј так — агресси€, конечно, беретс€ из мен€ самого, ее во мне очень много — иначе бы € не нарожал такое количество детей. Ќаверное, € в песн€х гораздо агрессивнее, чем в жизни, — а тексты прекрасно позвол€ют выплескивать агрессию. Ёто первое. ¬торое — € думаю, что очень часто сознательно делаю тексты по изложенной выше причине: € знаю, что публике это нравитс€.
√оралик: Ќека€ театральна€ составл€юща€?
ортнев: ƒа, как грим или костюм (которыми мы не пользуемс€, как известно).
√оралик: Ќа пересечении тем агрессии и советского наследи€ находитс€, скажем, ваш «—талинский сокол». ћне кажетс€, там найдены очень важные €зыковые инструменты дл€ разговора о прошлом. Ќо сейчас очень многие ищут €зык дл€ разговора о насто€щем — и удаетс€ это так себе. ≈сть много истерической эссеистики с обеих сторон, есть €зык почти академического анализа, есть редкие примеры удачного пр€мого высказывани€. ак у вас с насто€щим?
/www.colta.ru/assets/citata_top-5c490729fa837d3b7e1a1ab61e36d76f.png" target="_blank">http://www.colta.ru/assets/citata_top-5c490729fa837d3b7e1a1ab61e36d76f.png); background-position: 50% 0%; background-repeat: no-repeat;">ортнев: ƒл€ мен€ вообще писать о том, что сейчас происходит, мучительно т€жело. я никогда не умел выдавать мгновенную рефлексию, «утром в газете — вечером в куплете», этакие фельетоны. »ногда € пыталс€ писать фельетонами — и в результате за последние два года мы сочинили и забодали три написанные до конца песни.
√оралик: ѕо каким причинам забодали? аковы параметры отбора?
ортнев: «Ёто стыдно петь со сцены». ћы написали песню, когда были скандалы вокруг –ѕ÷: Pussy Riot, часы патриарха… ќчень мощный антиклерикальный текст, € знаю, что это был бы… ну если не хит, то сильный номер. ѕризнаюсь честно, € его слизал у ‘ила оллинза с песни «Jesus He Knows Me». “о есть в результате песн€ вышла совершенно друга€, но она именно про то, что Ѕог есть любовь, «–олекс» и «ћерседес». ћы ее сделали — и в это врем€ какие-то козлы порубили иконы топором где-то на ƒонетчине. » стало пон€тно, что если мы сейчас выйдем с этим номером — мы объединимс€ с этим безумием. ƒругой пример: написали песню, ужасно смешную (€ ее когда-нибудь опубликую), в период митингов, когда было эйфорическое ощущение, что вот — мы выходим на улицы, мы протестуем! я насмотрелс€ на протестующих и сам в этом принимал участие, и друзь€ мои, самые близкие, лезли на трибуну. я сочинил песню:
«»нтеллигент, дит€ сырой природы,
¬ыходит на трибуну, возбужден…»
ќчень смешна€ песн€. “ут народ посадили, митинги начали запрещать, и стало пон€тно, что эту песню тоже невозможно петь, потому что уже не смешно. ≈сли бы у митингов были хот€ бы какие-то позитивные результаты, эта самоирони€ и насмешка над собой были бы оправданными. ј поскольку мы проиграли, то выйти и поплевать на наши же могилы невозможно. » сделанна€ песн€ — аранжированна€, не записанна€, но готова€ — идет на фиг. ћы приходим на очередную репетицию и говорим: «¬се, это мы не делаем».
√оралик: “ут начинаетс€ сложный разговор про самоцензуру и страх: баланс хрупкий, самоирони€ может оказатьс€ не полезным, а подрывным делом — и так далее. —ами эти мысли крайне досадны, но они есть.
ортнев: ¬ нашем разговоре пока один раз прозвучало слово «вкус». ¬от мне кажетс€, что только на него и можно опиратьс€. акие метаморфозы происход€т с нашей песней «ѕутин и ’ристос»! ƒвенадцать лет мы ее поем со сцены, реакци€ колеблетс€ от восторженной (причем ты уже не понимаешь, чем восторгаютс€ — то ли первым, то ли вторым планом текста) до гробового молчани€. ¬ какие-то моменты, когда особенно подкручиваютс€ гаечки, молчание в зале гробовое, ни один человек не аплодирует. Ќа первых исполнени€х песни «я офигеваю, мама» в зале оп€ть же была гробова€ тишина. ѕрошло примерно полгода, люди убедились, что нас не посадили и не запретили, и начали страшно хлопать и кричать «браво». “е же самые люди.
√оралик: ажетс€, сейчас все чувствуют себ€ очень слабыми, и не перед лицом власти и органов, а перед лицом самих себ€ в том числе. „то делать с этим ощущением слабости, € не знаю.
ортнев: Ћинор, € тоже не знаю. я сейчас понимаю, что, как и в давние советские времена, есть такие антресольки, куда можно забитьс€: детска€ поэзи€, песни дл€ кинофильмов и спектаклей. ¬от мы с —ережкой мюзикл начинаем писать по русскому народному эпосу. XVIII век, XIX — про это можно. » переводы дл€ заработка. — кем мы дружим сейчас? »з грузинской поэзии — уже нельз€…
√оралик: »з китайской и северокорейской?
ортнев: ѕереводы поэтов стран Ѕ–» —.
√оралик: ѕодождите, теперь у нас есть еще народные республики. ƒонецка€ поэзи€ в переводе на русский €зык.
ортнев: (смеетс€) јй-ай-ай…
√оралик: ѕро √рад Ќебесный поговорите со мной? ” вас ведь очень много текстов с отсылками к религии.
ортнев: Ёто тоже, конечно, прием. я человек совершенно не религиозный, эта тематика дл€ мен€ — просто удобна€: некоторые слова зар€жены сильными эмоци€ми. ”дивительно удобно использовать в писанине слова «Ѕог», «ангел», «смерть»… ¬место того чтобы описывать длинно, скучно и вычурно какое-то свое состо€ние, достаточно написать слово из двух слогов — «ангел», и сразу за этим встает куча ассоциаций, коннотаций. ≈сли бы можно было так же удачно цитировать «¬инни-ѕуха»… ’от€, кстати, это тоже прекрасный вариант.
√оралик: ћне кажетс€, кто-то пробует изображать простого такого пацана. ≈сть же огромное количество трогательных маленьких графоманов, которые вставл€ют на каждом шагу слова «Ѕог», «ангел» и «смерть», но получают совсем другой результат.
ортнев: „тобы эти слова работали, нужен контрастный контекст. Ќапример, если построить все стихотворение на библейском вокабул€ре — выйдет плохо. Ќо вообще € сейчас с большим изумлением смотрю на некоторые свои тексты. ѕотому что € ничего подобного не думал, не знал, был гораздо площе и проще того, что в результате написалось.
√оралик: ак это произошло тогда?
ортнев: я пыталс€ подражать тому, что читал, и при этом пыталс€ скомпилировать какие-то совершенно разные вещи, «¬инни-ѕуха» с ѕастернаком. ¬ результате просто что-то получилось само, никака€ √осподн€ рука моим пером не водила. ѕросто — вот так вышло.
√оралик: –едкое высказывание.
ортнев: Ќу, это честно, по крайней мере.
√оралик: ј хотелось бы когда-нибудь почувствовать себ€ человеком, которым водит √осподн€ рука? Ќу, из любопытства.
ортнев: Ќаверное, да. ’отелось бы хоть раз, хоть на какое-то врем€ ощутить себ€ гением — внесоциальным, вневременным €влением, которое должно умереть к 40 годам.
√оралик: Ѕоюсь, наш с вами поезд ушел, мы старенькие.
|
јндрей ончаловский: ” русского человека нет желани€ быть богатым |
ƒневник |
јндрей ончаловский: ” русского человека нет желани€ быть богатым
–ежиссер јндрей ончаловский посетил научный семинар «–еалистическое моделирование», который с 70-х годов проводитс€ на экономическом факультете ћ√”, и прочитал доклад « ультурный код нации» — о взаимосв€зи российской экономической модели с русским менталитетом и религиозностью. ≈го доклад прокомментировал декан экономического факультета ћ√” јлександр јузан. «—ноб» приводит самые €ркие тезисы ончаловского с комментари€ми јузана
- ‘ото предоставлено автором
1. ак ментальность отражаетс€ на отношении к экономике
Ќа одной из конференций, в которой участвовал уважаемый мною американский культуролог Ћоуренс ’аррисон и несколько нобелевских лауреатов, € слушал лекцию индийского экономиста — он сказал, что в »ндии при составлении экономических прогнозов не обходитс€ без космологии: дл€ индусского менталитета, дл€ их культуры движение планет необходимо держать в голове даже при решении экономических вопросов. я в этот момент посмотрел на лицо члена китайской делегации — оно было абсолютно непроницаемым. ƒума€ о том, насколько разные у каждой нации культурные ценности и насколько по-разному понимаетс€ така€ вещь, как экономика, в разных культурах, € пыталс€ дл€ себ€ пон€ть, как видоизмен€етс€ люба€ иде€ под вли€нием культурного кода.
“о, что происходит в –оссии сегодн€, — следствие того, что мы страшно боимс€ проанализировать собственную историю и разобратьс€ в том, кто мы такие. ƒо тех пор, пока мы не разберемс€, какие элементы культурного кода русского человека €вл€ютс€ доминирующими, мы будем думать о том, что экономические реформы сами образуют нашу жизнь.
ультуролог Ћоуренс ’аррисон сказал, что добуржуазному обществу присуще кресть€нское сознание, которое чрезвычайно сильно сопротивл€етс€ любым переменам. –осси€, на мой взгл€д, живет в добуржуазном обществе, поскольку здесь не было предпосылок возникновени€ буржуазии. Ќаше государство предельно архаично, но накрыто тонким плащом европейской цивилизации. ѕосле «философского парохода» люди с европейской ментальностью тщательно скрывали свою европейскость, но они же при этом и производили в стране все. ќстальна€ гигантска€ русска€ масса представл€ет удивительную ћосковию с кресть€нским сознанием, которое не мен€етс€ последние полторы тыс€чи лет.
¬ли€ние ментальности на отношение к экономике € могу проиллюстрировать вот таким случаем из моей жизни. ¬ начале 90-х годов € был на конференции в ¬ашингтоне, где один американский экономист объ€сн€л, что основой процветани€ €вл€ютс€ конкуренци€, частна€ собственность и индивидуальна€ свобода. ћы обсуждали доклад вместе с немецкой делегацией и вместе посме€лись над тем, что американский коллега не знает истории ≈вропы. Ќемцы сказали: «ƒа, конечно, процветание складываетс€ из частной собственности, индивидуальной свободы, но кроме них об€зательна организованность, орднунг». я ошалело отошел к англичанам, с которыми мы посме€лись уже и над американцем, и над немцами, которые добавили: «ѕомимо конкуренции и индивидуальной свободы не нужно забывать и о защите традиций!» я сказал: «¬ы ведь владели огромной империей — может, вы сами мне скажете, какие три кита цивилизации назовут китайские и индийские экономисты?» ќни ответили: «Ёто-то мы скажем, но ты, јлександр, лучше расскажи, как русские определ€ют эти три кита». я ничего не сказал и ушел думать, как бы вы€вить этих китов.
ќднажды в Ўколе бизнеса € провел опрос насчет того, в каких национальных играх можно увидеть наш национальный характер — сказали, пр€тки и «стенка на стенку». јмериканскую же ментальность нагл€дно показывает бейсбол – игра, котора€ не интересна больше никому, кроме американцев, в которой каждый игрок может сыграть против команды соперника и выиграть. Ќациональный характер про€вл€етс€ и в лексике: есть слова, которые не перевод€тс€ на иностранные €зыки. Ќапример, слово «государство» — это же не state, не authority, не government — это все вместе. Ёто признак надконституционных ценностей, надконституционных институтов.
2. ќ религиозных корн€х бизнеса
я пришел к выводу, что религи€ €вл€етс€ наиболее существенным материалом дл€ формировани€ культурного кода. ¬ западной философии плохие поступки должны быть искуплены хорошими де€ни€ми. Ќо сначала человек должен исповедатьс€, то есть, превозмога€ стыд, назвать вслух свои поступки, чтобы суметь их проанализировать. ¬ –оссии исповедь в принципе не существовала либо практиковалась только перед смертью как последн€€ попытка обмануть Ѕога. ¬ –оссии искупление было в вере: верь — и тебе все проститс€, потому что Ѕог всемогущ и все прощает. ѕоэтому и –аспутин говорит: «Ќе согрешишь — не покаешьс€», дескать, чем больше грешишь, тем больше тебе проститс€. ƒл€ восточной церкви вера была важнее, чем дела. Ётическим эквивалентом денег стали индульгенции, которые привлекли в ¬атикан огромные средства. ƒл€ бедн€ков плата за грехи выходила намного большей, чем дл€ богатых, поскольку составл€ла куда больший процент дохода. “огда Ћютер и сказал, что грехи искупают делами, и за труд Ѕог даст деньги. ѕоэтому в протестантских церкв€х сегодн€ нет нищих, кроме цыган. –оссийское отношение к деньгам осталось на уровне V века: богатство — грех, бедность не порок, и скорее верблюд пройдет через игольное ушко… –елиги€, таким образом, формирует отношение человека к труду и к его результатам как к этическому достижению.
— католиками случилась интересна€ истори€: ¬торой ¬атиканский собор 1962 года перетрактовал некоторые ценности, совершенно не мен€€ содержани€ католичества. ј именно нищету перестали считать св€той, труд — прокл€тием, богатство — предосудительным. » вот, через 20–25 лет это начало приносить результат, и в 90-е годы XX века происходит экономическое оживление в ѕольше, «кельтское экономическое чудо» в »рландии, подъем в южных регионах √ермании. огда одного из немецких экономистов спросили, почему южные, католические земли √ермании развиваютс€ лучше, чем те, где распространен протестантизм, он ответил: «ѕросто католики теперь больше протестанты, чем мы». ≈сли мы продолжаем считать, что нищета св€щенна, а богатство предосудительно, то у нас будут какие угодно успехи, только не экономические.
3. ак перековать экономическое сознание
–оссийский славист ∆ивов в одном из своих трудов «–усский грех и русское спасение» писал, что русский человек не склонен анализировать свои поступки и уверен, что Ѕог все простит. ќтлична€ иллюстраци€ этого — «новые русские», которые в 90-е ходили с огромными крестами и церкви строили. ¬ русской ментальности укоренилось понимание того, что предпринимательство — это что-то плохое. „ехов говорил, что у русского человека нет желани€ желать. ƒобавлю, что и нет желани€ быть богатым, потому что быть богатым — значит украсть. ѕоэтому и буржуазии никогда не было. Ѕуржуазные ценности — это, конечно, не потребительска€ корзина, а неотъемлемое право человека, заработавшего честным трудом, получить политическую независимость. ¬ –оссии богатые люди никогда не имели независимости от цар€.
Ёкономическа€ реформа неизбежна. Ёто понимают и граждане, и власти предержащие. ќднако куда направить политическую волю? ћое убеждение: российскому народу, который живет в добуржуазном обществе, необходимо создать предпосылки дл€ формировани€ буржуазии и требовани€ политической независимости, котора€ основана на частной собственности, которой русский человек никогда не имел. ƒл€ того чтобы это сделать, необходимо воспитать поколение учителей и родителей — сделать так, чтобы человек думал не о правах, а об об€занност€х.
—уществуют разные по длине культурные волны. Ќедавно на экономическом факультете ћ√” читал лекцию јльберто Ѕизин, профессор Ќью-…оркского университета. ќн приводил пример длинных культурных волн: в 40-е годы евреев выдавали фашистам в тех италь€нских деревн€х, где во врем€ эпидемии черной оспы их считали распространител€ми чумных €дов и убивали. ѕри этом в соседних деревн€х, где в разгар эпидемии евреев не уничтожали, не выдавали их и фашистам. Ќа ”краине признаки длинных культурных волн видны в различи€х между регионами, которые были в черте оседлости и которые были за чертой. ƒлинные культурные волны могут иметь длительность и 100, и 200 лет, пример Ѕизина — 500 лет.
ороткие культурные волны мы можем увидеть, рассмотрев социокультурные изменени€, произошедшие в ёжной орее, японии, √онконге и —ингапуре во врем€ колоссального экономического скачка в этих странах. ¬озросла ценность самореализации, секул€рных, нерелигиозных ценностей, вырос индивидуализм, долгосрочна€ ориентаци€, сократилась «дистанци€ власти» (ощущение невозможности воздействовать на власть). Ќа распространение коротких волн можно воздействовать. ќбразование — фабрика культуры, правда, скорее ею €вл€ютс€ университеты, чем школы, потому что ценности кристаллизуютс€ в период ранней взрослости, в 18-25 лет. ќбразовательное воздействие оказывают на человека и налоги: он начинает понимать многое тогда, когда налоговым рублем голосует за строительство парковки или школы.
4. акой силе доверить управление обществом: рынку или государству?
„уть ли не чаще, чем ≈вангелие, люди сегодн€ цитируют ћаркса — € имею в виду его мысль о том, что человеческую жадность может ограничить только государство. ћаркс, придумавший идею мирового правительства, считал, что управление будет осуществл€тьс€ пролетариатом, однако оно будет осуществл€тьс€ другими людьми — тем самым 1% населени€ планеты, который держит в руках 60% мирового капитала. 20 лет назад этим капиталом владели 8% людей. ѕроцесс концентрации капитала — самый нагл€дный пример того, что сво€ рубашка ближе к телу и о себе человек будет думать всегда больше, чем о других. –ынок не доказал, что его законы гармонически регулируют отношени€ между людьми. ƒл€ этого нужно большое участие государства.
ƒжозеф —тиглиц (американский экономист, лауреат Ќобелевской премии. — «—ноб») сказал, что, выбира€ между рынком и государством, мы поступили подобно римскому императору, который должен был судить сост€зание двух певцов и, услышав первого певца, немедленно отдал приз второму. –ынок плохо справл€етс€ с регулированием отношений между людьми, но государство — еще хуже. я бы сказал, что и само общество делает это плохо. ¬ этом мире нет совершенства, но есть разнообразие: рынок, государство, общественна€ самоорганизаци€ — это разные способы достижени€ оптимума, который недостижим. ћы можем плохо воздействовать на культурный код и первым, и вторым, и третьим способом, но зато всеми трем€ способами, в принципе, можем на него вли€ть.
5. ак извлечь выгоду из особенностей русского культурного кода
Ќа сегодн€шний день нет такой смежной профессии, котора€ бы представл€ла собой некий фьюжн из экономики, социологии и антропологии. ƒо тех пор, пока мы будем думать, что культуру можно регулировать экономическими законами, мы будем заблуждатьс€. Ќапример, правительство предложило даром раздавать земли на востоке страны, видимо, предполага€, что люди побегут туда, возьмут ее и начнут сами обрабатывать. ѕравительство тем самым продемонстрировало незнание русского культурного кода — люди возьмут и продадут землю китайцам! “а же марксистска€ иде€, подн€та€ на щит в нашей стране, привела к тому, что коммунисты сожгли все иконы и расстрел€ли цар€, в амбодже та же марксистска€ иде€ привела к тому, что в течение п€ти лет были уничтожены несколько миллионов человек, но в јнглии таких эксцессов не было и случитьс€ не может — эту идею по-прежнему обсуждают в ќксфорде, с трубочками, у камина. ћен€ страшно занимает, почему одни и те же семена дают на разных почвах противоположный результат.
ѕока мы не поймем, кто мы, что нами движет и как можно модернизировать сознание русского человека, никакие экономические законы и никака€ основанна€ на них модернизаци€ невозможна. Ќужно заниматьс€ изучением составных частей русского характера, русского менталитета, нужно буквально заниматьс€ генами.
¬от уже более 40 лет наука под названием социометри€ позвол€ет нарисовать портрет наций, и за это врем€ накопилась прилична€ база ценностных и поведенческих национальных черт. „то же у нас получаетс€ с нашим культурным кодом, а что нет? ¬о-первых, не получаетс€ инновационна€ экономика. —очетание таких характеристик, как высока€ дистанцированность от власти (то есть представление о том, что на власть повли€ть нельз€), низка€ договороспособность и высокое избегание неопределенности приводит к эффекту блокировки. Ќа √айдаровском форуме € это сочетание назвал «русской ловушкой». Ќо значит ли это, что мы ничего не можем сделать? ћожем — чтобы эту ловушку разблокировать, достаточно убрать хот€ бы один компонент, например, избегание неопределенности, страх перед будущим.
Ќо, кроме «русской ловушки», существует и «русский секрет». Ќаша страна за XX век не смогла сделать конкурентоспособный автомобиль, холодильник и телевизор, но смогла сделать космический корабль, атомную бомбу и гидротурбину. я утверждаю, что при этом наборе характеристик можно успешно производить уникальные продукты малыми сери€ми — быть этаким общемировым Ћевшой — и невозможно производить массовые серии. ћы можем вколачивать сколько угодно денег в автопром и загораживать его таможенными пошлинами. ѕри нынешних услови€х наш путь модернизации на ближайшие дес€ть лет — вложение в опытные производства и креативные индустрии. ѕример успеха работы креативных индустрий: к 2013 году выручка от экспорта игры World of tanks превзошла выручку от экспорта российских танков. ћне, например, это нравитс€, потому что это демонстрирует нам наши пути и показывает, что мы — можем.
|
—мертельный иммунитет, или почему увеличиваетс€ число детей с аутизмом |
ƒневник |
—мертельный иммунитет, или почему увеличиваетс€ число детей с аутизмом
¬ июне 2000 г. группа видных правительственных ученых и чиновников здравоохранени€ собралась на встречу в отдаленном конференц-зале в Ќоркроссе, штат ƒжорджи€. —озванна€ ÷ентром контрол€ и предупреждени€ заболеваний (CDC), встреча была проведена в маленьком методистском центре в глуши, так, чтобы соблюсти максимальную секретность. ”строители не сделали никаких публичных за€влений об этой конференции - лишь 52 участника встречи получили частные приглашени€. —реди них были высшие чиновники ÷ентра контрол€ заболеваний и ”правлени€ контрол€ пищевых продуктов и лекарств (FDA), главный специалист по вакцинам из ¬семирной организации здравоохранени€ в ∆еневе и представители всех крупных производителей вакцин, включа€ "√лаксо —мит лайн", "ћерк", "¬иет" и "јвентис ѕастер".
¬се обсуждаемые научные данные, о чем посто€нно напоминали участникам чиновники ÷ентра контрол€ заболеваний, €вл€лись "строго секретными". ”частникам не разрешили делать фотокопий документов, а по окончании конференции они не имели права вз€ть с собой какие-либо записи.
‘едеральные чиновники и представители фармацевтических компаний собрались, чтобы обсудить тревожные результаты последнего исследовани€, которое подн€ло важные вопросы, св€занные с безопасностью большинства основных вакцин, вводимых новорожденным и маленьким дет€м.
ѕо словам эпидемиолога ÷ентра контрол€ заболеваний “ома ¬ерстраетена, проанализировавшего базу данных, котора€ содержит медицинские карты 100 000 детей: "Ќаход€щийс€ в вакцинах ртутный консервант тимеросал €вл€етс€ причиной драматического роста заболевани€ аутизмом и большинством других неврологических расстройств среди детей". -я был буквально потр€сен тем, что € обнаружил", — за€вил ¬ерстраетен собравшимс€ в —импсонвуде, ссыла€сь на огромное количество предыдущих исследований, которые вы€вили св€зь между использованием тимеросала и такими детскими заболевани€ми, как задержка речевого развити€, синдром дефицита внимани€, гиперактивность, аутизм. — 1991 г., когда
÷ентр контрол€ заболеваний и ”правление контрол€ пищевых продуктов и лекарств рекомендовали вводить дет€м раннего возраста дополнительно три вакцины, в которых использовалс€ консервант (в некоторых случа€х прививки делали дет€м в первые часы жизни), заболеваемость аутизмом возросла в 15 раз (с 1 ребенка на 2 500 детей ранее до 1 на 166 сейчас).
ќднако вместо того, чтобы оповестить общественность и перестать использовать тимеросал в детских вакцинах, чиновники в —импсонвуде бóльшую часть времени потратили на то, чтобы обсудить, как скрыть от общественности эти опасные данные. —огласно стенограмме, полученной благодар€ јкту о свободе информации, большинство участников были озабочены тем, как эти опасные данные о тимеросале повли€ют на фармацевтическую промышленность. "
‘актически, правительство было гораздо больше озабочено тем, что делать с обнаруженным вредом, чем защитой детского здоровь€. ÷ентр контрол€ заболеваний заплатил »нституту медицины за проведение нового исследовани€, призванного реабилитировать тимеросал, заказав ученым исключить св€зь между тимеросалом и аутизмом. ÷ентр контрол€ заболеваний скрыл результаты исследований ¬ерстраетена, хот€ те были предназначены дл€ немедленной публикации, и за€вил другим ученым, что данные "утер€ны" и не могут быть восстановлены.
ѕроизводители вакцин уже начали удал€ть тимеросал из вакцин, предназначенных дл€ американских новорожденных, но до прошлого года продолжали со скидкой распродавать запасы содержащих ртуть вакцин. ÷ентр контрол€ заболеваний и ”правление контрол€ пищевых продуктов и лекарств прот€нули им руку помощи, покупа€ зап€тнавшие себ€ вакцины с тимеросалом дл€ продажи в развивающихс€ странах и разрешив фармацевтическим компани€м продолжить использование этого консерванта в некоторых вакцинах в јмерике, –оссии и других странах, включа€ детские вакцины от гриппа и вакцины против столбн€ка, планово вводимые одиннадцатилетним дет€м.
‘армацевтические компании получают поддержку и от некоторых вли€тельных законодателей в ¬ашингтоне. Ћидер сенатского большинства Ѕилл ‘рист, получивший 873 тыс€чи долларов пожертвовани€ми фармацевтической индустрии, трудитс€ над тем, чтобы помочь производител€м вакцин избежать ответственности в более чем 4200 судебных процессах, начатых родител€ми пострадавших детей. ѕ€ть раз ‘рист пыталс€ скрыть правительственные документы, касающиес€ вакцин, включа€ документы из —импсонвуда, а также старалс€ оградить "»лай Ћилли", производител€ тимеросала, от вызовов в суд.
"—удебные процессы обладают такой силой, что могут разрушить бизнес производителей вакцин и ограничить наши возможности справитьс€ с биоатаками террористов", — за€вил ƒин –оузен, законодательный помощник ‘риста по вопросам здравоохранени€.
ƒаже многие консерваторы были шокированы усили€ми, приложенными правительством дл€ того, чтобы скрыть информацию о вреде тимеросала.
»стори€ о том, как правительственные организации здравоохранени€ в сговоре с Ѕольшой ‘армой старались скрыть от общественности информацию о вреде тимеросала — это истори€ о корпоративной самонаде€нности, о власти и алчности.
я сомневалс€, что аутизм может быть вызван только одной причиной, и € был абсолютно уверен в том, что правительство об€зано убедить родителей в безопасности прививок, от чего зависит искоренение смертельных детских болезней.
» только после чтени€ симпсонвудских материалов, после знакомства с ведущими научными исследовани€ми по этой теме, после бесед с лучшими национальными специалистами по ртути, € убедилс€ в том, что св€зь между использованием тимеросала и эпидемией аутизма и других детских неврологических заболеваний безусловно существует.
¬ насто€щее врем€ более 500 000 детей страдают аутизмом, и каждый год педиатры диагностируют более 40 000 новых случаев. Ёто заболевание было неизвестно до 1943 г., когда его впервые описали и диагностировали у 11 детей, родившихс€ через несколько мес€цев после того, как тимеросал в первый раз был применен в детских вакцинах в 1931 г.
я уверен, что эта проблема заслуживает много большего внимани€, чем ей удел€етс€ сейчас, однако очевидно, что концентраци€ ртути в вакцинах затмевает все остальные источники возможного заражени€ ртутью наших детей.
„то больше всего шокирует в этой истории — это те усили€, которые прилагаютс€ многими ведущими следовател€ми дл€ того, чтобы игнорировать или скрыть правду о тимеросале. — самого начала научные доказательства против ртутных добавок были чрезвычайно убедительными. онсервант, который используетс€ дл€ задержки роста грибков и бактерий в вакцинах, содержит этилртуть, мощный нейротоксин. ћножество исследований показало, что ртуть имеет тенденцию накапливатьс€ в мозге приматов и других животных после того, как они получат инъекцию такой вакциной, и что развивающийс€ мозг младенца чрезвычайно у€звим.
¬ 1977 г. российское исследование обнаружило, что взрослые, которым вводилась этилртуть в гораздо более низкой концентрации, чем та, которую получали американские дети, годы спуст€ все еще страдали от повреждени€ мозга. –осси€ запретила тимеросал в вакцинах 20 лет назад (это утверждение автора ошибочно, ртуть по-прежнему используетс€ в российских вакцинах — ј. .), и ƒани€, јвстри€, япони€, ¬еликобритани€ и все скандинавские страны последовали ее примеру.
"¬ам не удастс€ придумать исследование, доказывающее безопасность тимеросала", — говорит д-р ’ейли, глава кафедры химии университета штата ентукки. "ќн просто чудовищно токсичен. ≈сли вы введете тимеросал животному, его мозг будет поврежден. ≈сли вы введете тимеросал в живую ткань, ее клетки умрут. ≈сли поместите тимеросал в чашку ѕетри, в ней погибнут культуры. «на€ это, просто невозможно предположить, что кто-то способен вводить тимеросал новорожденным дет€м, не опаса€сь последствий".
¬нутренние документы доказывают, что "»лай Ћилли", котора€ разработала тимеросал, с самого начала знала, что он может стать причиной повреждений и даже смерти, как дл€ животных, так и дл€ людей. ¬ 1930 г. компани€ тестировала тимеросал, введ€ его двадцати двум пациентам с менингитом в последней стадии; все они умерли через несколько недель после инъекции. Ётот факт "»лай Ћилли" не потрудилась упом€нуть в отчете, объ€вившем, что тимеросал безопасен.
¬ 1982 г. ”правление контрол€ пищевых продуктов и лекарств предложило запретить продавать без рецепта препараты, содержащие тимеросал, а в 1991 г. решено было запретить использование тимеросала в вакцинах дл€ животных. “рагично, что в том же самом 1991 г. ÷ентр контрол€ заболеваний рекомендовал прививать новорожденных детей вакцинами, содержащими ртуть. Ќоворожденным должны были делать прививки против гепатита «¬» в первые 24 часа жизни, а в возрасте 2 мес€цев они должны были быть привиты против гемофильной палочки и дифтерии-столбн€ка-коклюша.
‘армацевтическа€ промышленность знала, что эти дополнительные вакцины несут в себе опасность. амнем преткновени€ дл€ "ћерка" и других фармацевтических компаний стали деньги. “имеросал позволил фармацевтической промышленности помещать вакцины в ампулы, содержащие несколько доз, что требует дополнительных мер предосторожности из-за опасности загр€знени€ вакцины, поскольку приходитс€ несколько раз вставл€ть иглу в ампулу. ѕроизводить большие ампулы (несколько доз вакцины) в два раза дешевле, чем маленькие (одна доза), что облегчает и удешевл€ет экспорт вакцин в бедные страны третьего мира, где всегда есть риск возникновени€ эпидемий. —толкнувшись с проблемой цены, "ћерк" проигнорировала предостережени€ √иллемана, а правительственные чиновники продолжали продвигать на рынок все больше и больше детских вакцин с тимеросалом. ƒо 1989 г. американские дошкольники получали всего три вакцины — против полиомиелита, дифтери€-столбн€к-коклюш и корь-свинка-краснуха. ƒес€тилетие спуст€, благодар€ федеральным рекомендаци€м, дети стали получать в общей сложности двадцать две прививки до того, как они достигали возраста, в котором идут в первый класс.
“рудно подсчитать, какой ущерб нанесен нашей стране, а также и международным усили€м искоренить эпидемические болезни, если страны третьего мира сочтут, что разрекламированна€ американска€ помощь отравл€ет их детей. Ќетрудно себе представить, как подобный сценарий будет истолкован врагами јмерики за границей. ”ченые, участвовавшие в кампании сокрыти€ правды о тимеросале — а многие из них искренни, даже идеалистичны, — за€вл€ют, что они способствуют великому делу защиты детей развивающихс€ наций от пандемий. ќни жестоко ошибаютс€. »х неспособность признать правду о тимеросале больно ударила по нашей стране и по беднейшему населению нашей планеты.
–оберт ‘. еннеди-мл., адвокат (—Ўј)
ѕеревод “ать€ны “рониной (“оронто)
|