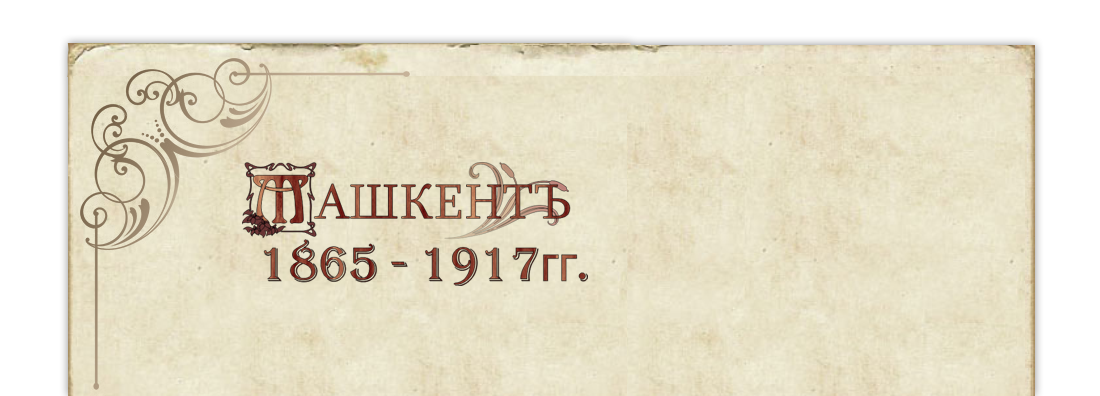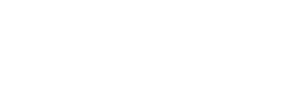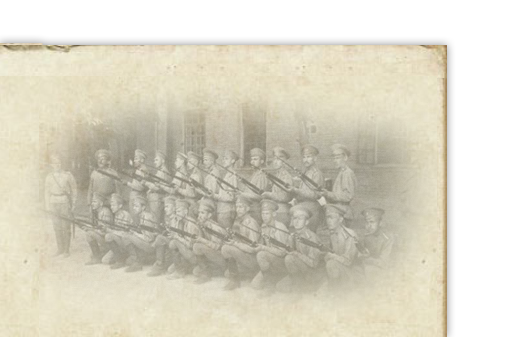от автора сайта: в данном разделе публикуются заметки, сделанные путешественником, который, в числе прочего, совершил летом 1914 года несколько пеших прогулок по Ташкенту. Данные заметки были опубликованы Туркестанскими ведомостями в том же 1914 году. Автор публиковался под псевдонимом «Антаръ».
Данный материал приводится в интернете, да и в какой-либо другой литературе впервые.
(экскурсия первая)
«На Саларъ»
Жаркий денек, хотя ветерок продувает. Тянет из городской духоты на простор поближе к природе, а таких мест много под самым городом.
Пройдя Сергиевскую церковь и достигнув слияния Ульяновской и Лахтинской улиц, свернул влево и мимо обширных тенистых усадеб дошел до пешеходного моста через Салар возле участка Каменских, где сделана запруда. Вода по желобу стекает вниз и шумным потоком несется дальше. Тут купают лошадей, греются голые ребятишки, чтобы снова ринуться в водоворот. А там, где волнение успокаивается, глубокомысленно уставившись в воду на свои поплавки, сидят серьезные люди – рыболовы, возмущаясь в душе шумом, производимым ребятишками, изредка бросая на них далеко не ласковые взгляды. Но тем…. «море по колена», не то что мутный Салар.
По другую сторону мостика двое мальчишек, намазавшись грязью, как черти, схватились за провод полевого телеграфа, упавшего с шестов, и усердно раскачивают. Пришлось взывать к их благоразумию. Не знаю надолго ли?.. Спустился вниз по течению. Левый берег гористый, правый же низменный и сплошь занят огородами, бахчами, полями; ближе к Салару теснятся высокие деревья, давая прекрасную тень. И на левом берегу растительности достаточно. Обитают по откосу красивые, но слишком пахучие, айлантусы; ветвистый тал; изредка орешник и всюду высокие кусты колючки, словно те же деревья. Тропки то идут по краю обрыва наверху, то спускаются к самой воде, то поднимаются, то снова спускаются, образуя волнистую линию, если смотреть на берег. Тени много. Вон под кустом лежит какой то человек. Дальше едет по верху сартенок, усердно распевая, характерно прерывая строфы своей песни, словно икая. На лужайке, прорезывающей холмы, пасутся коровы с высокими прямыми рогами. Местами журчат ручейки прозрачной воды, так не похожие на мутные воды Салара. У камышей квакают неизменные лягушки. Откуда то доносится сочное перекликание иволги, резко нарушающее общую относительную тишину, царящую в природе, истомленной зноем. Даже ветерок совершенно утих. Незаметно дошел до здания у берега, где имеется надпись «купаться воспрещается». Очевидно, это уже район кадетского корпуса, так как из за деревьев виднеется большое здание. Тропинка вдоль берега, окруженная ярко зеленым кустарником, среди цветков которого коварно выглядывает острый шип, беспрепятственно ведет дальше. На другом берегу работают, не смотря на праздничный день, сарты на полях и бахчах, за которыми вырисовывается зияющее своими многочисленными окнами большое здание какого то завода.
Тут Салар делает крутой изгиб. Против мыса, у самой воды среди деревьев небольшая зеленая площадка и на ней скамейка – видно, здесь место для купанья.
Журчит, свою монотонную песню еще один ручеек, укрытый зелеными кустами. Дорожка сходит к воде. На другом берегу велосипедист в откровенном костюме отдыхает под деревом.
Откуда то взявшийся киргиз с кумысом в бурдюках, смело переправляется на коне на другую сторону, прямо без дороги по целине.
Вдруг натыкаюсь на загородку, - очевидно тоже место для купания, а за ней не доходящую до берега, оставляющую тропу, проволочную колючую изгородь, уходящую влево на верх.
Тут Салар разбивается на два рукава: один уходи вправо, другой левее его, огибая поросший тальником остров. Он уходит в район кадетского корпуса и представляет, очевидно, его берег – частное владение. Видна длинная скамейка на берегу, загородки.

Нет, надо возвращаться обратно, так как, видимо, по берегу нельзя пробраться.
Пришлось, вернувшись к корпусу, выйти по проселку, проходящему среди хлопковых полей и бахчей, вдоль осененного приземистыми деревьями арыка, к переезду через железную дорогу на Оренбург, находящемуся напротив пешеходного мостика через Салар.
На переезде стоит велосипедист, устремив взоры вдаль в направлении города, на самом солнцепеке, словно не замечая жары. Постояв так довольно долго, свернул по полотну направо. Через некоторое время, к переезду подошли две барышни. Внимательно осмотрели местность и повернули также направо… Дождался велосипедист…
Счастливая молодость! Невозвратное время! Налево от переезда густо разросшиеся кусты акации. Прохлада и тень, полная тишина, но… коровы погуливали, да люди пикники устраивали, а потому достаточно неопрятно.
Семафор красным указателем дает знать подходящему товаропассажирскому поезду, что путь свободен – милости просим! Вот, шумя и пыхтя, пронесся и поезд. Битком набит. Душно в вагонах.
Направо дача с кактусами над воротами, а там и Паркентская улица. По одной стороне дома, по другой клеверное поле, где убирают покос сарты.
Вот и снова Салар. У моста по обоим берегам раскинулась чайхана «центральная», как гласит надпись, «шашлык, плов». Масса столиков у воды, под тенью деревьев и цветущих олеандров. Чисто, уютно. Должно быть, торговля идет хорошо. Здесь конечный пункт пушкинского трамвая.
Снова город, снова теснота, снова духота и пыль.
(экскурсия вторая)
«На братскую могилу»
Вагон трамвая, идущий с Московской улицы в направлении Старого города, быстро проносится мимо крепости, огибая ее справа и пересекая арык, оделяющий от магистрального Анхора.
Наверху на валах крепости, копошатся люди, а глубоко внизу купают лошадей, дальше же в первом «княжеском» пруде бросаются с высокого берега купальщики, барахтаются в прохладной воде, наслаждаясь и отдыхая от палящего зноя и страшной духоты, стоящей в воздухе…. Вагон мчится дальше..
Бурджарскую улицу сменяет раскинувшаяся по обе стороны «Великокняжеская слободка» или поселок, построенная на арендованных у инженерного ведомства землях, где раньше селиться запрещалось в виду близости к крепости. Она производит впечатление какой то казенщины….Дома все небольшие, оригинальные. Это даже скорее два сплошных дома, состоящих из отдельных квартир, справа окрашенных в розовый цвет, слева в неопределенный с красноватым оттенком. Схема домов очень простая: два окна, над которыми зияют чердачные отверстия, дверь; снова два окна и дверь и так далее. Над каждой такой квартирой крыша трамвая проходит внизу…
Вот за домами слева в овраге большое многоэтажное кирпичное здание – предполагалась постройка мельницы, да почему то не закончена. Возле нее, очевидно, свалочное место, над которым целыми тучами носятся «природные санитары» вороньего рода… Дальше масса зелени, какие то постройки…. Справа второй пруд, большого размера, гордо величаемый озером.
Тут плотно придвинулась к дороге татарская слободка. Дома более солидные. Существует она давно; чуть не с самого взятия Ташкента…
А вот и Старый город. Трамвай дальше пока не ходит, так как еще идет приемка Беш-Агаческой линии, подходящей к базару со стороны, противоположной линии «Вокзал – Старый город».
Небольшой спуск. На повороте к мосту через Анхор у дороги находится какая-то сартовская могила, а почти напротив небольшая мечеть с минаретом. Извозчиков, конечно, здесь не имеется и приходится дальше совершать путь пешком…
От моста поворот влево в пыльную улицу, ведущую к «Камеланским воротам». Это уже настоящее захолустье, в двух шагах от европейского трама, магазинов, цивилизации…. Высокие, почти сплошные глинобитные стены, изредка пересекаемые узенькими проулочками; небольшие воротца, ведущие в дворики, где помещаются закрытые от постороннего глаза дома… Через дувалы свешиваются ветви деревьев: тут и красивый каштан, и орех зеленеющий своими крупными плодами и яблоня, почти весь оранжево желтый урюк, и нежно розовато-красная алча – все здесь есть. У какого-то здания в два этажа, причем верхняя часть балконом и окнами наружу, возятся девочки – сартанки, еще не знающие покрывала, скрывающего и уродство и красоту, и старость, и молодость. Вот из-за угла вышла, видимо, молоденькая сартянка, но увидев необычного пешехода, быстро шарахнулась в сторону, старательно закрывая лицо. В другом месте сартянка брала воду, но быстро отвернулась, бросив работу, выжидая, пока «не минет опасность быть сглаженной».

В общем же пустынно и только изредка пройдет или проедет сарт на арбе или верхом, да у чайхана, находящейся на перекрестке улиц и внизу над арыком среди зелени, сидят и попивают чай местные аборигены….
На перекрестке сворачиваю круто вправо. Дорога, собственно, улица, но как то больше подходит слово «дорога», так как совершенно не чувствуется город, извивается все среди однородного пейзажа, пока не добираешься, пройдя от трамвайного моста, судя по времени, версты 1,5 или около того, до лавочек и чайхана, от которых до цели путешествия рукой подать. Дорога ведет дальше, переходя на Самаркандский тракт, но нам надо снова свернуть влево на поперечную улицу, приводящую к железной дороге, где то возле разъезда по пути к станции Кауфманская…
Сейчас же за углом налево обнесенная чугунной оградой, под сенью вековых деревьев находится «братская могила». Над входом надпись: «Души ихъ во благихъ водворятъ». На большом пространстве разбиты дорожки. Вдоль арычков в разных направлениях рассажены ирисы. Прямо против входа в середине площадки нечто вроде арки, а дальше небольшая часовня, по четырем фасам которой написаны тексты: «Упокой, Господи, души усопшихъ рабъ твоихъ», «Аще кто душу свою полагаетъ за други своя» и др.

Внутри часовни в центре вделана плита с указанием похороненных в «братской могиле», хотя, например, прах подполковника Обуха похоронен возле Собора. По углам небольшие потускневшие иконы, которые не мешало бы к предстоящему 50-летию реставрировать, хоть на городские средства, так как добровольные пожертвования стекаются слабо…
Посредине часовенки подвешена новая неугасимая лампада…
Самая могила, собственно, находится позади часовни. Там лежит большая чугунная плита с общим указанием, без перечисления поименно всех погребенных героев, а за ней еще одна меньших размеров, сооруженная родными над прахом Фонъ-Рейхгардта…
Часовня сооружена на добровольные пожертвования в 1886 году, как гласит надпись: «памяти воинамъ, павшимъ при штурме Ташкента 2 октября 1864 г. и 15 iюня 1865 г.» Правее часовни имеется еще могила убитого под Чимкентом шт.-кап. Коржева с памятником. По словам сторожа, прах перевезли по ходатайству одного из героев, бравших Ташкент, памятного ташкентцам протоиерея Малова…
С правой же стороны сохранилась еще стена крепости. По сартовским преданиям, здесь где то была зарыта от русских богатая казна. У стены в углу, прилегающем к дороге, находится домик сторожа Петра Пахомова. Ему 67 лет, а он совершенно бодрый и на вид лет 45-50 не больше. Он одинок, овдовел лет 16 назад. Дети все устроены и при нем не живут. Хорошо, что он знает туземный язык, а то бы пришлось положить невольно обет молчания, ведь посетители попадают сюда редко…
Тихо здесь, уютно, но все же жутко одному, особенно, когда хоронят на сартовском кладбище, находящемся напротив и украшенном у входа двумя поднятыми кверху руками в знак того, что покойник должен предстать к Богу совершенно чистым, как объясняют сарты в соседней чайхане…. Монотонное пение, завывания, плач удручающе действуют на старика – сторожа…
А так здесь хорошо и обыкновенно совершенно безлюдно, тихо, только издали доносится голос призывающего правоверных к молитве муэдзина, да по улице проедет, подымая пыль, какой-нибудь сарт….
(экскурсия третья)
«Пешком на Чирчик»
Ранее утро… По небу плывут облачка, почти скрывая солнце. Все говорит за то, что день ожидается не жаркий, вполне благоприятный для путешествия «per pedes apostolorum».
В начале 8-го часа утра удалось выбраться налегке лишь с фотографическим аппаратом в руках «на всякий случай», да с небольшим количеством сахара и чая в кармане, чтобы в «чайхане» выпить чаю с «комфортом»….
Вот и виадук, перекинутый через полотно железной дороги, с разветвляющимися станционными путями. Из вокзальной церкви справа, выглядывающей среди зелени своими «маковками», доносится благовест, сзывающий прихожан, ведь сегодня Троицын день, «зеленый праздник»… У нас, правда, зелень начинает уже блекнуть, но там далеко в России она только только появилась, нежная, красивая…
По Куйлюкскому большаку направляются в город непрерывные обозы, одиночные, двуколки, верховые и изредка пешие из ближайших мест…
Вдоль шоссе тянется арык, откуда доносится какое-то утомленное кваканье лягушки, словно ее разбудили, не дав досыта выспаться, после бессонной ночи, полной любовной истомы при свете луны.

По обочине шоссе, подымая пыль, едет на арбе молодой сартенок и тянет какую-то заунывную песню на высоких нотах, склоняя на все лады, слово «рамазан», - очевидно, глубоко запечатлелось какое-то событие во время рамазана…
Слева остается ипподром, где теперь носится чуждый азарта конь. В заборе зияют отверстия, проделанные любителями даровых зрелищ. Среди скакового поля гордо развивается на высоком шесте флаг, придавая некоторый официальный характер окружающей местности.
Напротив, по другую сторону шоссе, видны какие то конюшни, а дальше тянутся огороды, на которых резко выделяется капуста.
По сторонам дороги высятся громадные деревья, дающие много тени и прохладу, увеличивающуюся там, где протекает то справа, то слева арык.
Вот «Инженерная роща», в которую «вход посторонним воспрещается», но на дальних воротах такой запретительной надписи что-то не видно… Дальше рощу сменяет такая же, огороженная аккуратно обмазанным, покрытым поверху железом и какими то отдушинами внизу, дувалом. Среди зелени видны здания и покрытые брезентом бунты. Это ташкентский продовольственный магазин.. Против него раскинулась за крепким забором Дисциплинарная рота, выходящая другим фасадом на дорогу, ведущую на Куйлюк от вокзала. Видна церковь внутри ограды, а вне ее, очевидно, домики ротной администрации, обнесенные колючей проволокой.
Дорогу пересекает глубокий арык, на берегу которого находится водная мельница и рисоочистительный завод. На углу у того же арыка под сенью раскидистых ветвей приютилась чайхана с обычным помостом для сидения, покрытым войлоком. От нее вправо отходит дорога на консервный завод, куда удаляются и телеграфные столбы, сопутствующие нам от самого города. Вот дача генерала Джорабека. И тут, как гласит надпись, «посторонним вход воспрещается». Можно подумать, что публика настолько некультурна, что полезла бы в чужие владения, не будь такой надписи…Дальше речка Кара Су. Почему она «кара», трудно сказать, так как катит совершенно желтые воды. Идет исправление настила на большом мосту и езда производится по узенькому, едва арба протиснется, временному мосту. В реке купают лошадей, да и сами ездоки пользуются случаем охладиться, хоть и в мутной воде. Более стыдливые бросаются в воду, прикрыв до пояса свою наготу.
Отсюда тянутся вдоль пути чайханы, лавки, даже отделение «Ташкентского магазина Бочарова», продающего вино и пиво. У одного дома навалены грудами колеса и поломанные арбы – это колесная и арбенная мастерская.
Вот какое то здание со стеклянными галереями. Сарт говорит, что татарская мечеть, но ето едва ли, так как не видно обычного полумесяца. Ну, а русские, местные жители, по обыкновению ничего не знают и ничем, не интересуются, так что от этих «немогузнаек» познаниями не обогатишься..
Масса зелени. Щебечут воробьи. Вот запел, сначала робко, нерешительно, как бы пробуя голос, соловей, но затем взял подходящий тон и защелкал, засвистал, хоть не на тысячу ладов, так как это же не курский, а доморощенный соловей, но все же изображая несколько колен-трелей. И за то спасибо.
По дороге везут птицу, выражающую беспокойство в своих вьюках-клетках… Местами снимают хлебные злаки, местами уже убирают с поля. Покос травы давно превратился в душистое сено, сложенное в небольшие копны.
То и дело встречаешь чайхану. Да везде публика – сарты. Хоть одна, увитая с одной стороны розами, а напротив на большой черной доске у усадьбы вывеска: «Яков Фурманъ». Должно быть известное лицо, так что дальнейшие комментарии излишне. Помещение, видимо, чистое, кустики зелени подстрижены. Выделяется среди других. А то здесь, сплошь и рядом, русские живут в сартовских постройках.
Поля сменяются базарчиками, дувалами, рощами, а у арыка неизменная чайхана.
Напротив же еще один рисоочистительный завод и мукомольная мельница.
По шоссе тянутся обозы песку. Неужели все это издалека везут в Ташкент?
Солнце пригревает изрядно, только тень от деревьев спасает, но попадаются места и без растительности, тогда идти тяжеловато становится. Вдали видны на горах белые пятна не стаявшего под палящими лучами солнца снега…
Вот дача петрова, обнесенная колючей изгородью. Возле нее вглубь уходит зеленая дорожка, слева видны плантации помидоров, справа цветущий картофель и молодой фруктовый сад…

На нейтральной полосе красуется вишенка, так и манит полакомиться ягодами, крупными, темно-красными. Попробовал одну, другую. Ну, и кислятина же!.. По ту сторону тракта целое болото, поросшее камышом лягушиное царство… То то концерты здесь задают, целым хором, солистов и не услышишь, разве выделится особенно голосистая лягушка… Дальше уже чувствуется приближение Куйлюка, излюбленного ташкентцами. Справа разукрашенное флагами «Кафе Талъ-арыкъ». Беленький домик, к которому делается пристройка (для кабинетов что ли?) На вид чистенько. Тут же склад вина, пива и бакалейная лавочка.
Наискось от нового кафе, через дорогу, шагах в 150 начинается церковная земля, принадлежащая Свято Николаевскому монастырю. Против церковной школы строится каменный храм. Высоко на лесах сидят две монашки, углубившись в чтение. За оградой видны здания. Окон на дорогу нет, меньше мирского соблазна, против ворот приземистая звонница с несколькими колоколами. А вот и Куйлюк улица. Вдоль нее по обе стороны тянутся чайхана, лавки и просто домики, почему то булочники все греки – Греческая пекарня «Афины», «специально греческая пекарня». Тут же принимают столовников и отпускают обеды. На улице местный парикмахер скоблит голову какого-то сарта…
Недалеко от первого моста с видом на всю долину Чирчика влево от дороги хорошо знакомый ташкентцам ресторан «Кофе Куйлюкъ», так и написано «кофе», хотя должно быть надо читать: «кафе». Домик со шпилем в два этажа. Вокруг много зелени, цветут лилии. Видна увитая растениями терраса. В полесаднике стоят столики все чин чином…
А дальше р. Чирчик. Много воды в ней, благодаря сильным дождям. Теперь ее уже меньше, но одно время боялись за целость моста. А мост-то оригинальный. Весь состоит из отдельных кусков, словно в заплатах. Обыкновенно строится в одном направлении, перпендикулярно течению, а тут идет зигзагами то влево, то вправо. Имеются в одних местах железные скрепы, а в других обходятся без них.
В конце моста у левого берега имеется верхняя ферма, как-то ни к чему помещенная на данном месте. Настил сильно износился. Еще бы. Движение-то большое, непрерывное. Да давно пора построить постоянный мост. Сразу большая затрата, но зато на ремонт не будут ухлопывать ежегодно солидные суммы. Вот и сейчас свозят хворост, камни для укрепления берега у моста. А мост скрипит, дрожит, взывая о помощи от бешенного напора желтых вод Чирчика. Он разлился на большом пространстве, но главный напор у левого, где идет широкой струей, и у правого, где вся масса воды, сжатая в русле, стремительно несется, клокоча, бурля, пенясь на многострадальный мост. По средине же моста несутся лишь небольшие потоки – рукава, прорывая почву песчаного островка. На левом берегу прибрежная таловая роща стоит в воде… Над долиной Чирчика несется неумолчный шум бушующих волн.
За мостом находится чайхана и лавочка. Влево уходит большая дорога к какому то селению, видному от моста. В тихих заводях хорошее сравнительно купание и там все время кто либо барахтается, переплывает на песчаную отмель, греется на солнце, на чистом песке и снова в воду…. Рыбаки ловят сомят. И из города, видимо, ездят сюда на рыбалку, так как приходилось видеть даже велосипедистов с сетями за плечами…
У моста наворочено много камня, набросан хворост, прикрепленный, чтобы не смывало, толстой проволокой к прибрежному талу, в изобилии теснящемуся к воде…
Около 11 часов дня, отдохнув на левом берегу, отправился в обратный путь. По дороге зашел в чайхану выпить чайку и подкрепиться на дорогу. Там готовят плов «по заказу» причем сами заказчики мирно спят под гостеприимным кровом чайханы…
Обратно идти было труднее, так как солнце сильно пригревало и тени стало меньше… Все таки уже к 2 часам я был дома, совершив свое путешествие часов в шесть, сделав за это время верст 20. Хорошая прогулка!
(экскурсия четвертая)
«На Кладбище»
Хотелось пробраться по берегу Салара прямо к Кадетскому корпусу. С Жуковского свернул в Кадетский переулок, предполагая, судя по названию, что он имеет прямое отношение к корпусу. Но, видимо, по названию нельзя судить. Вот уже и дом, бывший Шаховского, ныне Иса Мухамедова, где приютилась камера мирового судьи. Оригинальная высокая башня с узкими длинными окнами. Через дувал виднеется большая дорога, какие то особенные окна. Видимо, замах был широкий, а осталось одно воспоминание. По другую сторону таится громадный сад, среди деревьев которого мелькают какие то хвойные породы. Слышится шум от падения воды. Посвистывают иволги, перекликаются нежно горлицы. Двигался дальше и уперся в Салар, тупик. А по ту сторону луга владения Кадетского корпуса. Таким образом, «кадетский» потому, что отсюда виден корпус, но «хоть видит око..» да найти нельзя.
Следующий Саларский переулок, с которого также можно увидеть корпус, кончается водокачкой и упирается в Салар, почему и назвали «Саларским», хотя их и с равным успехом можно переименовать, назвав первый вторым и наоборот…
Пришлось спуститься по Кауфманскому. Трамвай пока останавливается у Жуковского, хотя провода протянуты и дальше и новый мост совершенно готов и производится работа.
Салар тянется извилистой лентой. Слева масса купающихся; среди деревьев то и дело мелькают бросающиеся в воду тела. Справа от старого разобранного моста целый ряд арб стоит в воде, сарты нагружают их песком, добываемым со дна реки.
Вот кадетский корпус. Против него Первушинская улица. Ближе к железной дороге идет за оградой закладка фундамента. Уж не для военного ли училища?...
Переезд….Будка… Лавочка, где продают фрукты. Виноградники, откуда слышится назойливая трещотка.
Кладбищенская улица вскоре уходит влево, а прямо ведет дога к ипподрому к самому зданию, но обыкновенно едут по Куйлюкской. Ну, да пыль везде одинакова.
Вот завод Юсупова, кладбищенского соседа, а напротив сартовский базарчик и выделка памятников. Чуть правее и самое кладбище. Ворота гостеприимно раскрыты. Широкая аллея, обсаженная пирамидальными тополями, ведет к церкви, где по праздникам идет служба. Другие аллеи идут параллельно главной или перпендикулярно к ней. На перекрестках вывешены номера жилищ покойников, под которыми, очевидно, они зарегистрированы. Кому то готовят могилу, кого-то ждут.
Ну, что ж? Смерть неизбежна – «сегодня ты, а завтра я».
Тихо кругом. Журчат лишь арыки, да сарты бесшумно бродят с ведрами, поливая растительность на могилах. Изредка пройдут такие же любопытствующие, но все тихо чинно, словно боясь нарушить вечный покой насельников кладбища.
На некоторых могилах поуходили в землю кресты, ирисы затянуты паутиной, а другие, очевидно, оплачиваемые, в полном порядке. Ближе к церкви – больше памятников, а там у ограды-дувала скромно ютятся менее состоятельные. И тут, как в жизни, капитал всюду пробивает дорогу. Тесно здесь, но все же на виду, ближе к центру. Есть лишь заготовленные места, закупленные заранее и обнесенные оградой, но будущие жильцы еще не вступили во владение, черед их не настал.
Особенно интересных памятников нет, все больше по шаблону изделий «Сен-Галли». Оригинальны, впрочем, рядом с могилой-памятником «павшему от руки убийцы 6 сентября 1906 г.» прокурору судебной палаты Шарыгину, памятник Курицину, в виде грота из кирпичей, с чугунными цепями или другой недалеко от памятника – усыпальницы убитого в те же времена Чернова – в виде двух скал, посреди которых проложена дорожка; на большой скале чугунный крест, а перед этим памятником два чугунных же, по моему, подсолнуха, но, должно быть, изображают хризантемы, которые венчают два матовых шара, как будто для электричества. Во всяком случае, нешаблонно. Местами имеются поркышки-будки из жести для предохранения от зноя посаженных растений.
Вот недалеко от церкви, по левую сторону, за большой оградой, покрыта хорошим навесом среди стройных кипарисов, могила «героя Севастопольской обороны генерала Кривоблоцкого».
Непосредственно за церковью массивный черного мрамора памятник над могилой ком. совет. Иванова.
Встречаются оригинальные подписи, порой трогательные своей непосредственностью и простотой.
Вот большая ограда с висячим замком; разбит цветник. За стеклом образок. Надпись гласит: «Темников. Мир праху твоему», а внизу приписка, несомненно, позднейшая: «и жены его NN».
Недалеко отсюда памятник Владимиру Боголюбскому, 27 л. На одной стороне написано стихами: «Господь нам в утешенье с небес ангела послал, показал свое творенье и к себе на небо взял», на другой: «Спи незабвенным сном Володя до радостного свиданья; придет час благословенный, и мы увидимся с тобой».
Дальше кирпичное основание, на котором стоит подобие гроба, но маленького размера, из камня. Надпись: «Шмаков, скончался 45 лет, от благодарной жены».
А вот поближе к дувалу, где теснится беднота, на памятнике вместо надписи нарисован пейзаж березка и еще развесистое дерево без листьев вдоль них зеленая муравка, дорожка. Работа ли это покойника, или кто то близкий нарисовал родной, любимый пейзаж, памятный покойному, где то там на далекой родине?
Рядом на убогой могиле остатки поминок: обглоданные кости, яичная скорлупа.
Возле главной аллеи колонна на постаменте – Полиенко. Вделан портрет. Оригинальные надписи: «Бог да простит нас». Вот и все. Покончен о жизни вопрос, не надо больше не песен, не слез. «Да будет воля Твоя».
Здесь чувствуется все же искусственность витиеватость.
А вот много говорящая подпись: одно лишь слово: «Маме». Или же на простом деревянном кресте начертано карандашом: «спи мирно, Катенька, со своим братцем». Каждый, одним словом, выражал свое чувство, как мог и умел. А сколько могил, людей умерших без друзей, родных! И некому даже написать пару теплых слов, излить свое горе. Вон там за церковью подальше выстроены по ранжиру со строгим равнением покоятся целые ряды воинов, заброшенных на далекую окраину. Тут и казак, и сапер, и стрелок – со всей матушки России. Лишь высокие тополя вечно шепчутся над ними, да ручеек-арык журчит, словно убаюкивая.
Эта часть кладбища более старая заброшенная. Давно уже там хоронят. Памятники покосились, ограды полуразрушены, все заросло. Тихо кругом, лишь у одной могилы сидят две барышни и щебечут… о военном собрании, предстоящем вечере о….. да о многом говорят, что представляет полный контраст с окружающим. Но… «мертвый в гробе мирно спи, жизнью пользуйся живущий». Это так естественно. Каждому свое. Те отжили… Обедня отошла. Вышел народ и разбрелся по кладбищу, тоже нарушая царившую тишину. Отправился и я восвояси в грустном настроении, всегда навеваемом кладбищем.
Дойдя до полотна железной дороги, свернул вправо, спустился к Салару и по его извилинам дошел до Пушкинской улицы… Жарко… Хочется отдохнуть…
(экскурсия пятая)
«Избушка»
Давно я слышал про «избушку» на Чимкентском тракте, да все как то не удосуживался там побывать. Вот только теперь в компании с реалистом Б удалось собраться, хоть и жарко здорово, а вышли то мы все же довольно рано – в 8 часов утра…
Миновали Алайский базарчик. Почему то там всегда много народа, гораздо больше, чем на тюремном, на Московской улице, хотя здесь все как будто благоустроеннее, да и лавок побольше.
У тюремной церкви, стоящей вне ограды тюрьмы, но соединенной с ней для пропуска арестантов, желающих помолиться, толпится народ, ждет звона, ведь там престольный праздник. Мрачно глядит Ташкентская областная тюрьма. Кроме высокой стены с угловыми башнями, она обнесена еще колючей проволокой. Надо думать, сделано это больше для проходящих, чтобы их держать «подальше от стены, так как для арестанта, если он при побеге переберется через высокую стену, она препятствием не может служить. Ну изорвет одежду, тело, но может ли думать бросающийся в воду, как бы ног не замочить?...
Московская улица упирается прямо в здание “Биржевой гостиницы», приютившейся на самой окраине. Здесь же общедоступная столовая. Недалеко от нее конечный пункт трамвая, а с ним кончается и цивилизация, так как начинающийся левее Чимкентский тракт по расположенным вдоль него зданиям более напоминает туземный город. Положим, что здесь тракт шоссирован. Он все время извивается, то уклоняясь влево то ударяясь вправо, то взбираясь на возвышенность, то сбегая в долину. Первый подъем возле магазина Курносикова. Справа остается садоводство «Варшавянка», а недалеко от него напротив «Склад сырья Луи Зельма», несколько колесных или экипажных мастерских, вернее арбяных, так как с ними больше приходится иметь дел, ряды лавок, где набросано и сено, и виноград, и помидоры и все, чего захочешь, но, как подобает такому оживленному тракту, весьма много места отведено клеверу, чайхана, столовым, где на палочках готовят шашлык.
Дальше «Обмундировальная фабрика Луи Зельма», поставляющая свои произведения частям военного округа.
Чем дальше, тем чаще встречаются сады, длинные дувалы, за которыми ничего не видно. Слева лощина, по которой стремится арык Анхор. Вот дорога боковая уходит к нему, перекидывается через него и теряется где то среди плантаций помидор…
Слишком приблизившись к Анхору тракт делает изгиб вправо, как бы давая ему больше места.
На углу висит надпись «Кирпичный завод горного инженера Андреева». К нему надо ехать вниз, влево через мостик. Правее моста купают лошадей, а по ту сторону приютилась небольшая водяная мельница. Воды Анхора по трем деревянным желобам с шумом устремляются вниз, своим напором приводя в движение мельничные жернова. Самая мельница состоит из трех «комнат», к которым ведут сверху от моста ступеньки, проделанные в грунте. В первой комнате, обыкновенной сартовской стройки, с подпорками, производится, очевидно, взвешивание зерна; из нее прямо ход в помещение, где тоже навалено зерно, и дальше во двор к арыку Анхор, бурно стремящемуся, сделав свое дело, в раму, покрытую высокими таловыми деревьями. К первой «комнате» пристроена сама мельница. Туда ведет дверь, прикрытая полотнищем. Помещение небольшое, только-только имеются места для двух жерновов, приводимых в движение снизу.
Зерно сыпется в деревянный усеченный конус, из которого падает постепенно в жернова, перемалывается и готовая мука выбрасывается и скатывается в цементную загородку, откуда ее уже убирают и возвращают владельцу. В комнате имеется одно окно, но оно больше закрыто, чтобы ветром не раздувало муки. Когда входишь сюда и в первую комнату, то прямо поражаешься открывающейся картиной: здание – то старое, и вот отовсюду, с потолка, со стен спускаются паутины, их страшно много, никто их не снимает; так вот к этим паутинам пристала мучная пыль и они совершенно белые, свешиваются словно сталактиты в какой-нибудь знаменитой пещере. Красиво и оригинально!
Выбравшись на свет Божий, двинулись дальше.

Тут разветвление: прямо почти от моста идет дорога на Ниязбек, а влево отходит Чимкентское шоссе. На самом углу помещается гончарная лавка, а по другую сторону на тракте сартовские магазины.
Местность уже совсем деревенская, хотя мы еще в черте города. Вниз сбегает тропа.
Видны деревья, камыши, арык, а дальше вырисовывается горка среди зелени. По ту же сторону целый ряд айвовых деревьев, совершенно запыленных, так что листва приняла землистый оттенок. Только желтоватые плоды немного разнообразят унылую картину. Зато напротив по правую сторону зеленеют и приятно ласкают взоры клеверные поля.
Снова подъем… Слева видна небольшая чайхана. Справа «пивной зал Бурджар», а дальше из за тополей, выглядывает «избушка»… Вот она!... Стоит она одинокая на высоком мысу, покинутая заброшенная. А когда то здесь жизнь била ключом. Говорят, не знаю, насколько это справедливо, так как мало ли что говорят, будто здесь перед взятием Ташкента жил генерал Черняев со своим штабом, будто здесь происходили убийства, дуэли – во всяком случае, для Ташкента место «историческое».
Если же действительно имеет отношение к генералу Черняеву, то на это следовало бы обратить внимание, хоть к 50 летнему взятию Ташкента.
Сама «избушка» почти с трех сторон окружена крутым обрывом, у подножья которого с тыльной стороны протекает рукав мощного арыка Бозсу.
Жутко смотреть вниз, так как берега почти нет, а по отвесу цепляются молодые акации и разные растения, сквозь листву которых поблескивает глубоко внизу вода. С четвертой стороны примыкает дувал соседней чайханы, а возле него примитивные ступени в грунте, по краям которых, словно стражи, стоят тополевые пни, пустившие уже молодые побеги.
На площадке высятся высокие старые тополя, много видевшие на своем веку.
В глубине стоит «избушка», действительно русского типа, сруб, спереди крылечко с колонками – жердями и косыми подпорками, а наверху крыша под чердачным помещением с двумя небольшими окошками. Крыша из соломы с глиной. Потолок из камыша, но был отштукатурен, стены побелены. Теперь штукатурка пообвалилась, зияют щели.
Двери, ведущие с крыльца, вернее лишь отверстие, а равно два окна справа с видом на дорогу и мост через Бозсу и окно против двери, без рам, конечно, более или менее уцелели от всесокрушающего времени, но не от рук человеческих. Вся буквально «избушка» и окружающие тополя испещрены во всех направлениях от пола до потолка надписями – автографами, изречениями, порой порнографического характера. Всякий, кто умеет начертать хоть фамилию, спешит оставить свой след. И масса интеллигентных лиц участвует: вот какие то реалисты, там «свободный художник», в третьем месте кто-то «укрывается здесь от непогоды», дальше «укрывались» для других целей… Можно найти и разные справки. Так например, надпись на окне «здесь работали Суслов и Такулов 2 недели на мосту поденно по 1 р. 80 к. Есть и сентенция, применимая ко всем «писателям» в избушке: «писать здесь, за уши драть». Кроме надписей бросается в глаза слева сор, справа куча каменного угля, каким-то образом попавшая туда. И как это его еще не пристроили…
За «избушкой», занимающей немного места, всего 6х8 шагов, вырыто в земле углубление, окаймленное молодыми акациями, должно быть разбивали палатку…
Полная тень здесь. Прохладно. Сбегает вниз к мосту, совершенно новому, тракт. Налево и направо роща по берегам рукава Бозсу и дальше у самого арыка, несущего свои воды глубоко среди холмов. За новым мостом кончается «русская часть г. Ташкента», так что старый мост, перекинутый через Бозсу, уже находится за городом, у самой черты. Откосы у мостов поливаются сартом. Крупная езда по тракту. То и дело попадаются всадники, ар