-Метки
2008 99 франков askonchalovsky's channel bernhoft - "so many faces" cafe archy - lounge collection noha-tu cafe.mp3 die falscher eros ramazotti - canzone per lei freeman http://mf0.me/ grasshopper http://kab.tv/rus http://www.inomir.ru/universe/dinosaurs/54102.html hurts - confide in me jarle bernhoft massive attack - psyche matt damon and more - video. www.nytimes.com mp3 mr. freeman natalie portman noize mc smooth criminal spongle sting в гостях у познера talk too much skunk anansie wonderlustre the song “doom and gloom рассказы кино vicky cristina barcelona zeitgeist / дух времени Тим Рот александр журбин михаэль лайтман каббала анатолий вассерман анатолий вассерман & что почитать из историков анатолий вассерман 63 "развали себя сам" ахи бачинский белая студия. дипак чопра (ls) беседа м. лайтмана и д. диброва беседа я. чуриковой с м. лайтманом. в. горохов (65 кг.) что нужно женщине? валерий тодоровский вики кристина барселона виктор франкл владимир лихтерман волошин максимилиан воспитание детей вуди аллен гранат дельфин евгений чичваркин о сотрудниках мвд европа ларс фон триер еда загадки нашего "я". запах женщины интервью берта хеллингера - часть 1 интернет каббала каббала зоар лайтман каббала ноах зоар лайтман кинофильм клуб зебра на алексеевской книги король говорит леонид парфёнов линч любовь метки михаил лайтман михаэль лайтман михаэль лайтман kab.tv/rus михаэль лайтман каббала михаэль лайтман каббала http://kab.tv/rus моды моды концерт можайск музыка мультфильм мысли никола тесла олег таронопольский couture hair-dresser полюса попугай психология путешествие рэй куни смешно соловьев - мхат 09.02.08 соловьев - мхат 09.02.08 - ii среднее образование хотят сделать платным стив джобс steve jobs стиллавин стиляги танцы украина выборы мэр киева ундервуд фильмы фотографии фрейд френсис форд коппола человек шамати эрик берн психология я и друзья
-Музыка
- Daft Punk – Adagio For TRON
- Слушали: 41 Комментарии: 0
- Lovesong - The Cure
- Слушали: 24 Комментарии: 1
- Grasshopper
- Слушали: 221 Комментарии: 9
- Jen Gloeckner - Another January
- Слушали: 49 Комментарии: 0
- Talk Too Much Skunk Anansie Wonderlustre
- Слушали: 89 Комментарии: 0
-Я - фотограф
-Конвертер видеоссылок
-Стена
-Подписка по e-mail
-Поиск по дневнику
-Статистика

Create your own visitor map!


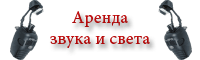




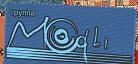


Белая студия. Дипак Чопра (ls) |
|
Метки: Белая студия. Дипак Чопра (ls) |
Процитировано 1 раз
Что значит - познать себя? (1 часть) |
Если вы хотите познать жизнь, то вам необходимо будет так же желать познать и смерть, так как одно без другого познать невозможно. Познать себя можно, только если вы желаете познать других, искренне ими интересуясь. Вы так же не можете познать добро без зла. Здоровье невозможно познать без болезни. И счастье познаётся одновременно вместе с горем.
В чём суть? Почему именно так?
Вокруг вас жизнь, которую вы осознаёте потому, что есть смерть. Обычно мы сравниваем что то с чем-то. Сравнение - это информационный обмен, взаимодействие. Если представить жизнь, как информационный обмен, то человек оказывается его частью. Он оказывается внутри информационного обмена. Если человек осознал информационный обмен, то он так же может осознавать и себя, как часть общего информационного обмена. Получается интересная вещь, а именно, что информационный обмен осознаёт сам себя.
Представим, что информационный обмен управляем. Человек управляет жизнью или жизнь управляет человеком? Ответ на этот вопрос очевиден - это взаимодействие. Мы наблюдаем жизнь, а жизнь наблюдает нас. Является ли информационным обменом форма вопроса и ответа? Это очевидно. Если я задам правильный вопрос и получу на него правильный ответ, то в итоге я останусь удовлетворённым. Чувство удовлетворения ни что иное, как счастье.
Если вы спросите - в чём смысл жизни? То вы мгновенно от самой жизни получаете ответ. Но почему ни кто толком не знает ответа? И может ли жизнь отвечать каждому человеку так, как хочет он, если сущность жизни одна и неизменна? И если она всем отвечает абсолютно одинаково, почему каждый думает об этом по своему? Есть ли между жизнью и человеком взаимосвязь? Она очевидна. А есть ли между человеком и смертью взаимосвязь? Это так же очевидно. А это значит, что жизнь и смерть человека, которые он воспринимает как противопоставленные друг другу явления, выявляют ту целостную сущность жизни, которую он не знает.
Выходит, я говорю о двух разных видах жизни? Именно.
Жизнь выражается целостностью. Это информационная сущность, объект, объективность. Что бы познать объективность, необходимо её принять не в виде сравнения, потому что тогда её целостность разбивается на две части противоположные друг другу по свойствам, на жизнь и смерть в нашем понимании, точнее, полном непонимании, а как целостное понятие.
Выходит, что сущность жизни выражена и горем и радостью одновременно.
Что же должно произойти с человеком, пытающимся познать сущность целостной жизни?
Он должен принять и себя и других в их собственной и естественной для них самих форме. Но как можно принять зло, смерть, насилие?
Человек начинает рассуждать исходя из понятия жизни, которое рождено его свойством сравнения, а значит имеет дело не с объективной жизнью, а уже с субъективной.
Итак, разделим жизнь на субъективную - следствие, и жизнь объективную - причина.
Выходит, что метод сравнения не подходит для анализа причин, так как всегда имеет дело только с субъективными следствиями и никогда с причиной.
Зло, смерть и насилие, как и жизнь, которую мы, люди, имеем ввиду, является лишь только логическим следствием и субъективностью, тогда когда сама жизнь, это не субъект сам в себе, а сумма противопоставленных друг другу субъектов.
Выходит, что ни кто из нас не имеет дело с реальностью, а лишь только с миром субъективной информации - следствием. Если врач лечит симптом, не устраняя причину, вылечит ли он болезнь? Представьте, что вдруг ни вашем теле возник огромный синяк, но вы не знаете откуда он взялся. Есть ли гарантия того, что завтра рядом с ним не появится ещё один такой же?
Мы боремся с самим синяком, так как для нас это неприятная вещь. Но что, если на самом деле кто-то каждую ночь наносит нам побои, так что мы просыпаясь не понимаем, откуда берутся синяки и продолжаем с ними бороться? Может ли так получиться, что однажды мы просто проиграем этот бой, так как в одно прекрасное утро просто не проснёмся от побоев?
Бессознательное, это часть сознания со знаком минус - всё, что осознаётся, как страх перед смертью. А убивать нас может простое слово, оно ведь так же информация.
Может быть нас бьет по ночам собственное бессознательное, как причина, наносящая боль, но просыпаясь, мы боремся не с причиной, а с следствиями?
Так ли это? Можем ли мы в действительности бить сами себя и потом боремся со следствиями собственных действий?
Давайте проверим. Итак, объективность, это два противопоставленных друг другу субъекта. Выходит, что бессознательное само по себе субъект и сознание само по себе субъект целостного сознания, который одновременно состоит из сознания и бессознательного, их суммы взаимодействия. Это значит, что наш ум, это вовсе не сознание, а только лишь его часть.
Рассмотрим этот вопрос с точки зрения функциональности.
Чашка, это всем известный целостный объект со своей функциональностью. Если разбить чашку, то она теряет свою функциональность, однако не теряет своего образа, который мы выражаем словами - разбитая чашка.
Если я разобью сознание, условно обозначив части, как сознание и бессознательное, то образ сознания сохранится, а функциональность нет, аналогично чашке.
Таким образом можно совершить подлог, - который будет выражаться в том, что я буду думать, что я думаю, осознаю, однако, это будет не целостной формой сознания, а дихотомической, разбитой, и следовательно его функция будет утеряна, где функциональность процесса мышления будет подменена его образом.
Рассмотрим далее эту ситуацию с точки зрения органического сознания, живого, и механистического, (автоматического) не живого сознания.
Любая автоматическая система, при нарушении функции, для её восстановления, требует внешнее вмешательство. Если стул сломан, то он сам не может так организовать себя, что бы восстановить собственную функциональность, что потребует рук человека.
Является ли ум человека автоматической или органической системой сам по себе?
Для того, что бы ответить на этот вопрос, необходимо выяснить его назначение и функцию.
Итак, если жизнь, как целостное явление, не разделяется в информационном поле на две противоположности, и в этом выражает свою функциональность, то следовательно сознание, разделившись на две противоположности, перестаёт быть органическим и прямым отражением самой жизни во взаимодействии с ней, где вместо функциональности целостной формы, подменяется лишь функциональным её образом, а значит является механистическим, где целостная форма жизни для такого сознания становится источником восстановления его исходной функциональности. Выходит, что жизнь, выражающая себя целостной формой, корректирует всегда жизнь человека, которую он отражает посредством дихотомического сознания, как если бы стул постоянно стремился сломаться, а мастер постоянно бы его стремился восстановить. Это утверждение абсолютно верно, если мы чётко понимаем, что познаём нашу реальность через систему сопоставления, а значит всегда ощущаем бессознательное, как нечто противоположное сознанию, естественным образом отрицаем его, как если бы сопротивлялись тому, что бы принять понятие смерти, страха, зла, насилия и т.п.
При этом человек ощущает подобную корректировку, как противоестественный и противопоставленный для собственной цели процесс, где цель его собственного направления всегда устремлена к тому, что бы "сломаться", которую он как раз и ощущает, как стремление к норме, воспринимая покой и остановку, как цель своего движения. Ни кто не поспорит о том, что естественным концом любой человеческой жизни является смерть. Или это не так? Тогда, когда сама жизнь выражается абсолютной противоположностью - непрерывным и бесконечным движением.
Резюмируя всё вышесказанное можно логически утверждать, что целостная форма жизни и форма жизни человека - две противопоставленные друг другу формы жизни, где целостная форма является такой, которая по отношению к человеческой, является внешним источником возвращающим её функциональность. Отсюда следует, что человек не управляет реальностью, так как определён целостной формой жизни, как механистическое сознание. Подобный вывод полностью совпадает с выводами нейрофизиологии, гуманистической психологией и диалектической (целостной) формой мышления, путём его логического построения. Через призму дихотомического сознания подобная логика покажется странной, не понятной, логикой сумасшедшего, опасной и т.п., так как ощущается, как противопоставленная собственной дихотомической логике.
А всё, что дихотомическое мышление ощущает, как противопоставленное самому себе, является тем или иным видом страха, который является так или иначе синонимом по отношению к центральному для него страху смерти.
___________________________________________________
Основная мысль данной работы в том, что человек имеющий
дихотомическое сознание, не в состоянии рождать целостные концепции, которые бы
могли правильно отражать жизненные принципы. И если ученый мыслит дихотомически,
то все его концепции будут по отношению к целостности жизни такими,
которые отражают не её собственные принципы, а принципы отраженного сознания.
И в этой работе я логически показал, как реальность, выражающаяся функциональностью, может быть подменена образом реальности, где утрачена её собственная функциональность, и следовательно функциональность самого человека является всегда ей прямо противопоставленной логически.
А значит, наши действия невольно разрушают концепцию целостной жизни.
Данная парадигма и привела человеческую популяцию в её "самых развитых"
формах цивилизации к глобальному мировому кризису. И нам стоит рассматривать не уже созданные концепции теоретического управления системами, а сознание человека, которое создаёт любые формы управления системами и взаимодействия, и является ключевым, базисным моментом собственной человеческой функциональности и самости.
Не разрешив этой проблемы на институциональном уровне, не изменив принцип мышления человека, мы не можем создать ни одной целостной концепции управления, так как все они внутри диалектической модели мира будут такими, которые будут отрицать ту её часть целостности, которая ложно воспринимается дихотомическим,
как опасность для жизни, а следовательно, будет разрушать её ложно правильными для себя самого логическими выводами.
В итоге мы так сильно сопротивляемся любым мыслям и действиям, которые в наш мир приносят иное видение и концепцию. И сегодня, как и сотни и тысячи лет тому назад, мы сопротивляемся таким научным взглядам, и любым другим взглядам, которые сталкивают нас внутри собственного дихотомического сознания с ощущением, внушающим нам ложно то, что изменения на базисном уровне мышления родственны таким, которые наша система воспринимает как концепцию противопоставления, концепцию смерти и страха перед смертью.
На сегодняшний день проблема дихотомического сознания внутри человеческой популяции, достигла самых грандиозных размеров и практически заполонило всю планету. Благодаря информационным технологиям, которые бурно развивались последнее столетие, распространение дихотомического сознания было разнесено
как вирус по всей планете и во все её ранее не тронутые уголки.
Новые поколения приняли подобную парадигму через общественные структуры, как данность и норму, что привело к тотальному, массовому заблуждению о норме, относительно процессов сознания и восприятия, к которому человек
потенциально был изначально приспособлен, но утерял данную способность мышления.
В чём суть? Почему именно так?
Вокруг вас жизнь, которую вы осознаёте потому, что есть смерть. Обычно мы сравниваем что то с чем-то. Сравнение - это информационный обмен, взаимодействие. Если представить жизнь, как информационный обмен, то человек оказывается его частью. Он оказывается внутри информационного обмена. Если человек осознал информационный обмен, то он так же может осознавать и себя, как часть общего информационного обмена. Получается интересная вещь, а именно, что информационный обмен осознаёт сам себя.
Представим, что информационный обмен управляем. Человек управляет жизнью или жизнь управляет человеком? Ответ на этот вопрос очевиден - это взаимодействие. Мы наблюдаем жизнь, а жизнь наблюдает нас. Является ли информационным обменом форма вопроса и ответа? Это очевидно. Если я задам правильный вопрос и получу на него правильный ответ, то в итоге я останусь удовлетворённым. Чувство удовлетворения ни что иное, как счастье.
Если вы спросите - в чём смысл жизни? То вы мгновенно от самой жизни получаете ответ. Но почему ни кто толком не знает ответа? И может ли жизнь отвечать каждому человеку так, как хочет он, если сущность жизни одна и неизменна? И если она всем отвечает абсолютно одинаково, почему каждый думает об этом по своему? Есть ли между жизнью и человеком взаимосвязь? Она очевидна. А есть ли между человеком и смертью взаимосвязь? Это так же очевидно. А это значит, что жизнь и смерть человека, которые он воспринимает как противопоставленные друг другу явления, выявляют ту целостную сущность жизни, которую он не знает.
Выходит, я говорю о двух разных видах жизни? Именно.
Жизнь выражается целостностью. Это информационная сущность, объект, объективность. Что бы познать объективность, необходимо её принять не в виде сравнения, потому что тогда её целостность разбивается на две части противоположные друг другу по свойствам, на жизнь и смерть в нашем понимании, точнее, полном непонимании, а как целостное понятие.
Выходит, что сущность жизни выражена и горем и радостью одновременно.
Что же должно произойти с человеком, пытающимся познать сущность целостной жизни?
Он должен принять и себя и других в их собственной и естественной для них самих форме. Но как можно принять зло, смерть, насилие?
Человек начинает рассуждать исходя из понятия жизни, которое рождено его свойством сравнения, а значит имеет дело не с объективной жизнью, а уже с субъективной.
Итак, разделим жизнь на субъективную - следствие, и жизнь объективную - причина.
Выходит, что метод сравнения не подходит для анализа причин, так как всегда имеет дело только с субъективными следствиями и никогда с причиной.
Зло, смерть и насилие, как и жизнь, которую мы, люди, имеем ввиду, является лишь только логическим следствием и субъективностью, тогда когда сама жизнь, это не субъект сам в себе, а сумма противопоставленных друг другу субъектов.
Выходит, что ни кто из нас не имеет дело с реальностью, а лишь только с миром субъективной информации - следствием. Если врач лечит симптом, не устраняя причину, вылечит ли он болезнь? Представьте, что вдруг ни вашем теле возник огромный синяк, но вы не знаете откуда он взялся. Есть ли гарантия того, что завтра рядом с ним не появится ещё один такой же?
Мы боремся с самим синяком, так как для нас это неприятная вещь. Но что, если на самом деле кто-то каждую ночь наносит нам побои, так что мы просыпаясь не понимаем, откуда берутся синяки и продолжаем с ними бороться? Может ли так получиться, что однажды мы просто проиграем этот бой, так как в одно прекрасное утро просто не проснёмся от побоев?
Бессознательное, это часть сознания со знаком минус - всё, что осознаётся, как страх перед смертью. А убивать нас может простое слово, оно ведь так же информация.
Может быть нас бьет по ночам собственное бессознательное, как причина, наносящая боль, но просыпаясь, мы боремся не с причиной, а с следствиями?
Так ли это? Можем ли мы в действительности бить сами себя и потом боремся со следствиями собственных действий?
Давайте проверим. Итак, объективность, это два противопоставленных друг другу субъекта. Выходит, что бессознательное само по себе субъект и сознание само по себе субъект целостного сознания, который одновременно состоит из сознания и бессознательного, их суммы взаимодействия. Это значит, что наш ум, это вовсе не сознание, а только лишь его часть.
Рассмотрим этот вопрос с точки зрения функциональности.
Чашка, это всем известный целостный объект со своей функциональностью. Если разбить чашку, то она теряет свою функциональность, однако не теряет своего образа, который мы выражаем словами - разбитая чашка.
Если я разобью сознание, условно обозначив части, как сознание и бессознательное, то образ сознания сохранится, а функциональность нет, аналогично чашке.
Таким образом можно совершить подлог, - который будет выражаться в том, что я буду думать, что я думаю, осознаю, однако, это будет не целостной формой сознания, а дихотомической, разбитой, и следовательно его функция будет утеряна, где функциональность процесса мышления будет подменена его образом.
Рассмотрим далее эту ситуацию с точки зрения органического сознания, живого, и механистического, (автоматического) не живого сознания.
Любая автоматическая система, при нарушении функции, для её восстановления, требует внешнее вмешательство. Если стул сломан, то он сам не может так организовать себя, что бы восстановить собственную функциональность, что потребует рук человека.
Является ли ум человека автоматической или органической системой сам по себе?
Для того, что бы ответить на этот вопрос, необходимо выяснить его назначение и функцию.
Итак, если жизнь, как целостное явление, не разделяется в информационном поле на две противоположности, и в этом выражает свою функциональность, то следовательно сознание, разделившись на две противоположности, перестаёт быть органическим и прямым отражением самой жизни во взаимодействии с ней, где вместо функциональности целостной формы, подменяется лишь функциональным её образом, а значит является механистическим, где целостная форма жизни для такого сознания становится источником восстановления его исходной функциональности. Выходит, что жизнь, выражающая себя целостной формой, корректирует всегда жизнь человека, которую он отражает посредством дихотомического сознания, как если бы стул постоянно стремился сломаться, а мастер постоянно бы его стремился восстановить. Это утверждение абсолютно верно, если мы чётко понимаем, что познаём нашу реальность через систему сопоставления, а значит всегда ощущаем бессознательное, как нечто противоположное сознанию, естественным образом отрицаем его, как если бы сопротивлялись тому, что бы принять понятие смерти, страха, зла, насилия и т.п.
При этом человек ощущает подобную корректировку, как противоестественный и противопоставленный для собственной цели процесс, где цель его собственного направления всегда устремлена к тому, что бы "сломаться", которую он как раз и ощущает, как стремление к норме, воспринимая покой и остановку, как цель своего движения. Ни кто не поспорит о том, что естественным концом любой человеческой жизни является смерть. Или это не так? Тогда, когда сама жизнь выражается абсолютной противоположностью - непрерывным и бесконечным движением.
Резюмируя всё вышесказанное можно логически утверждать, что целостная форма жизни и форма жизни человека - две противопоставленные друг другу формы жизни, где целостная форма является такой, которая по отношению к человеческой, является внешним источником возвращающим её функциональность. Отсюда следует, что человек не управляет реальностью, так как определён целостной формой жизни, как механистическое сознание. Подобный вывод полностью совпадает с выводами нейрофизиологии, гуманистической психологией и диалектической (целостной) формой мышления, путём его логического построения. Через призму дихотомического сознания подобная логика покажется странной, не понятной, логикой сумасшедшего, опасной и т.п., так как ощущается, как противопоставленная собственной дихотомической логике.
А всё, что дихотомическое мышление ощущает, как противопоставленное самому себе, является тем или иным видом страха, который является так или иначе синонимом по отношению к центральному для него страху смерти.
___________________________________________________
Основная мысль данной работы в том, что человек имеющий
дихотомическое сознание, не в состоянии рождать целостные концепции, которые бы
могли правильно отражать жизненные принципы. И если ученый мыслит дихотомически,
то все его концепции будут по отношению к целостности жизни такими,
которые отражают не её собственные принципы, а принципы отраженного сознания.
И в этой работе я логически показал, как реальность, выражающаяся функциональностью, может быть подменена образом реальности, где утрачена её собственная функциональность, и следовательно функциональность самого человека является всегда ей прямо противопоставленной логически.
А значит, наши действия невольно разрушают концепцию целостной жизни.
Данная парадигма и привела человеческую популяцию в её "самых развитых"
формах цивилизации к глобальному мировому кризису. И нам стоит рассматривать не уже созданные концепции теоретического управления системами, а сознание человека, которое создаёт любые формы управления системами и взаимодействия, и является ключевым, базисным моментом собственной человеческой функциональности и самости.
Не разрешив этой проблемы на институциональном уровне, не изменив принцип мышления человека, мы не можем создать ни одной целостной концепции управления, так как все они внутри диалектической модели мира будут такими, которые будут отрицать ту её часть целостности, которая ложно воспринимается дихотомическим,
как опасность для жизни, а следовательно, будет разрушать её ложно правильными для себя самого логическими выводами.
В итоге мы так сильно сопротивляемся любым мыслям и действиям, которые в наш мир приносят иное видение и концепцию. И сегодня, как и сотни и тысячи лет тому назад, мы сопротивляемся таким научным взглядам, и любым другим взглядам, которые сталкивают нас внутри собственного дихотомического сознания с ощущением, внушающим нам ложно то, что изменения на базисном уровне мышления родственны таким, которые наша система воспринимает как концепцию противопоставления, концепцию смерти и страха перед смертью.
На сегодняшний день проблема дихотомического сознания внутри человеческой популяции, достигла самых грандиозных размеров и практически заполонило всю планету. Благодаря информационным технологиям, которые бурно развивались последнее столетие, распространение дихотомического сознания было разнесено
как вирус по всей планете и во все её ранее не тронутые уголки.
Новые поколения приняли подобную парадигму через общественные структуры, как данность и норму, что привело к тотальному, массовому заблуждению о норме, относительно процессов сознания и восприятия, к которому человек
потенциально был изначально приспособлен, но утерял данную способность мышления.
|
|
Ключ понимания к любому частному или общественному конфликту. |
Сегодня один из самых прекрасных дней в моей жизни. День осознания методологии, позволяющей любому человеку нашего мира избавится, нет, не от проблем, вовсе нет, а от тюрьмы разума, который никогда не позволит никому выйти из ощущения динамического роста проблем, как в частной жизни, так и общественной, в жизни человеческой популяции, осознаваемой нами на глобальном уровне, как кризис человеческого мышления.
Человек обладает функцией разума, которая является автоматическим кругооборотом его самоощущения и включает в себя его чувства, действия, поступки и мотивацию к логическому действованию в жизни.
Однако, это не единственная функция человеческой психики, которая и делает из него человека. Но именно та, которая позволяет ему самому создать точку наблюдения за действиями собственного разума и его плодами.
Как и всякая функция, которая развивается и изменяется в следствии концентрации внимания на ней самой, как на системе, предмете, объекте, она пришла в полный упадок в связи с тем, что современный человек использует лишь только функцию сознательной его части психики, концентрирует внимание только внутри неё самой, на процессе ума, который является автоматической системой и не может, как следствие, а не причина, быть изменённой.
Причиной же создания всех стереотипов в мышлении человека, является такая функция, которая находится в независимом положении от самого следствия - действий ума, находится вне его собственного поля зрения. Такой точкой наблюдения является способность человека к абстрактному мышлению, рефлексии, то есть способности наблюдать процесс собственного мышления. Как и всякая функция, она развивается только благодаря концентрации человеческого внимание на ней самой, и связана с плодами ума человека, как причина его и следствие, где причиной является бессознательные процессы, выражающие себя абстрагированием от самих умозаключений, которые сами по себе уже являются следствием этого внутреннего процесса мышления скрытого от восприятия ума.
Сосредоточенный человек на процессе собственного мышления, сфокусировавший своё внимание только на нём самом, попадает в ловушку автоматизированного следствия бессознательных действий ума и никогда не в состоянии докопаться до сути любой собственной проблемы. Любой вывод ума, являющийся сам по себе следствием бессознательного процесса, является лишь рационализацией, то есть таким действием, который как в калейдоскопе, меняет слагаемые его осознаваемой действительности, не касаясь никогда причины возникновения той или иной уже сложившейся неизменной суммы стереотипов. В итоге, человек тасует логические осознаваемые объекты, осознавая их как перемены реальной картины мира, которая на самом деле никогда неизменна и всегда являлась только следствием деятельности бессознательных процессов.
Как и всякий другой орган - бессознательное, испытывая дефицит концентрации человеческого внимания на нём самом, деградирует, что приводит к его дисфункции.
Поместите руку в гипс и через некоторое время мышцы руки атрофируются и рука утратит в значительной степени свою функциональность.
Важным моментом в человеческом мышлении, является процесс наблюдения собственного мышления - рефлексирование, что позволяет сконцентрировать внимание человека не на той части собственного сознания, которая является автоматизированным следствием рефлексирования, и осознаётся нами, как процесс - думать, а на самой причине, постепенно возвращая человеку опыт его переживаний подобного наблюдения, что само по себе является свидетельством и доказательством его реального существования, хоть и не может быть определено классическими методами науки, опирающимися на материалистические факты.
Утерянная способность человека к рефлексированию, и внимание на этом процессе, логически его оторвала от них, и переместилась в область процессов, происходящих непосредственно уже в уме, как в следствии по отношению к рефлексии. Таким образом наша реальность как бы превратилась в замкнутое пространство следствия на самом себе, которое оторвано от его собственной причины существования. Причина оказалась вытесненной из целостного процесса человеческого мышления и является на сегодняшний день практически для всей человеческой популяции вытесненной.
По констатации данного факта, можно с уверенностью сказать о том, что на сегодняшний день всё человечество переживает самое ужасное психическое расстройство, выражающееся дисфункцией целостного аппарата восприятия, даже не осознавая этого. Являясь основой человеческого самоощущения и ощущения действительности, тем самым лишила человека точки опоры для равновесия в создании любых полноценных внутренних систем.
Вникая подробнее в свойства тех или иных функций человеческого аппарата восприятия, мы можем сделать на основе точных научных данных вывод о том, что опираясь на ум, как дискретный процесс, человечество невольно разрушает реальность, ощущая это как процесс собственного развития. У современного человека абсолютно разрушена система целостного восприятия, где он сам себя явно ощущает марионеткой действительности, которой не в состоянии управлять, как бы ни старался, отдавая все силы своей жизни на борьбу с этим.
В итоге каждая отдельная жизнь и каждая выстроенная человеком система, терпит неизбежный крах, где длинна её собственной жизни определена лишь относительным временем.
Стараясь сохранить этот ложный достигнутый результат в стереотипе, система уничтожает всё, что тем или иным способом пытается вернуть её в равновесие, так как самоощущение человека так же ложно и определено лишь отрезком его собственного существования.
Власть таким образом никогда не служит всем, а лишь самой себе.
Парадигма данной ситуации претерпевает общемировой кризис, стремясь к неизбежному перерождению, так как никогда человек в современной истории ещё ни разу не построил реальных систем управления реальностью и в течении многих тысячелетий находится в ложном стереотипе самовосприятия, и никогда по настоящему осознанно не был связан с причиной собственного существования.
И если бы это было ни так, то каждый человек в этом мире точно понимал причину своего рождения и его точное предназначение и цель, что создавало бы условия для истинной его реализации в социуме.
А это значит, что наш мир бы не говорил постоянно о страданиях и их шквальном водовороте, всё больше всасывающего наш мир, а испытывал бы чувство единства с мирозданием, осознаваемой нами, как счастье и гармония.
Человек обладает функцией разума, которая является автоматическим кругооборотом его самоощущения и включает в себя его чувства, действия, поступки и мотивацию к логическому действованию в жизни.
Однако, это не единственная функция человеческой психики, которая и делает из него человека. Но именно та, которая позволяет ему самому создать точку наблюдения за действиями собственного разума и его плодами.
Как и всякая функция, которая развивается и изменяется в следствии концентрации внимания на ней самой, как на системе, предмете, объекте, она пришла в полный упадок в связи с тем, что современный человек использует лишь только функцию сознательной его части психики, концентрирует внимание только внутри неё самой, на процессе ума, который является автоматической системой и не может, как следствие, а не причина, быть изменённой.
Причиной же создания всех стереотипов в мышлении человека, является такая функция, которая находится в независимом положении от самого следствия - действий ума, находится вне его собственного поля зрения. Такой точкой наблюдения является способность человека к абстрактному мышлению, рефлексии, то есть способности наблюдать процесс собственного мышления. Как и всякая функция, она развивается только благодаря концентрации человеческого внимание на ней самой, и связана с плодами ума человека, как причина его и следствие, где причиной является бессознательные процессы, выражающие себя абстрагированием от самих умозаключений, которые сами по себе уже являются следствием этого внутреннего процесса мышления скрытого от восприятия ума.
Сосредоточенный человек на процессе собственного мышления, сфокусировавший своё внимание только на нём самом, попадает в ловушку автоматизированного следствия бессознательных действий ума и никогда не в состоянии докопаться до сути любой собственной проблемы. Любой вывод ума, являющийся сам по себе следствием бессознательного процесса, является лишь рационализацией, то есть таким действием, который как в калейдоскопе, меняет слагаемые его осознаваемой действительности, не касаясь никогда причины возникновения той или иной уже сложившейся неизменной суммы стереотипов. В итоге, человек тасует логические осознаваемые объекты, осознавая их как перемены реальной картины мира, которая на самом деле никогда неизменна и всегда являлась только следствием деятельности бессознательных процессов.
Как и всякий другой орган - бессознательное, испытывая дефицит концентрации человеческого внимания на нём самом, деградирует, что приводит к его дисфункции.
Поместите руку в гипс и через некоторое время мышцы руки атрофируются и рука утратит в значительной степени свою функциональность.
Важным моментом в человеческом мышлении, является процесс наблюдения собственного мышления - рефлексирование, что позволяет сконцентрировать внимание человека не на той части собственного сознания, которая является автоматизированным следствием рефлексирования, и осознаётся нами, как процесс - думать, а на самой причине, постепенно возвращая человеку опыт его переживаний подобного наблюдения, что само по себе является свидетельством и доказательством его реального существования, хоть и не может быть определено классическими методами науки, опирающимися на материалистические факты.
Утерянная способность человека к рефлексированию, и внимание на этом процессе, логически его оторвала от них, и переместилась в область процессов, происходящих непосредственно уже в уме, как в следствии по отношению к рефлексии. Таким образом наша реальность как бы превратилась в замкнутое пространство следствия на самом себе, которое оторвано от его собственной причины существования. Причина оказалась вытесненной из целостного процесса человеческого мышления и является на сегодняшний день практически для всей человеческой популяции вытесненной.
По констатации данного факта, можно с уверенностью сказать о том, что на сегодняшний день всё человечество переживает самое ужасное психическое расстройство, выражающееся дисфункцией целостного аппарата восприятия, даже не осознавая этого. Являясь основой человеческого самоощущения и ощущения действительности, тем самым лишила человека точки опоры для равновесия в создании любых полноценных внутренних систем.
Вникая подробнее в свойства тех или иных функций человеческого аппарата восприятия, мы можем сделать на основе точных научных данных вывод о том, что опираясь на ум, как дискретный процесс, человечество невольно разрушает реальность, ощущая это как процесс собственного развития. У современного человека абсолютно разрушена система целостного восприятия, где он сам себя явно ощущает марионеткой действительности, которой не в состоянии управлять, как бы ни старался, отдавая все силы своей жизни на борьбу с этим.
В итоге каждая отдельная жизнь и каждая выстроенная человеком система, терпит неизбежный крах, где длинна её собственной жизни определена лишь относительным временем.
Стараясь сохранить этот ложный достигнутый результат в стереотипе, система уничтожает всё, что тем или иным способом пытается вернуть её в равновесие, так как самоощущение человека так же ложно и определено лишь отрезком его собственного существования.
Власть таким образом никогда не служит всем, а лишь самой себе.
Парадигма данной ситуации претерпевает общемировой кризис, стремясь к неизбежному перерождению, так как никогда человек в современной истории ещё ни разу не построил реальных систем управления реальностью и в течении многих тысячелетий находится в ложном стереотипе самовосприятия, и никогда по настоящему осознанно не был связан с причиной собственного существования.
И если бы это было ни так, то каждый человек в этом мире точно понимал причину своего рождения и его точное предназначение и цель, что создавало бы условия для истинной его реализации в социуме.
А это значит, что наш мир бы не говорил постоянно о страданиях и их шквальном водовороте, всё больше всасывающего наш мир, а испытывал бы чувство единства с мирозданием, осознаваемой нами, как счастье и гармония.
|
|
Я думаю, что... |
Большинство людей никогда не задумывается о причине того, почему они думают то или иное. Каждому свойственно считать что-то своё или схожее с другим. "Я думаю" - говорит человек вовсе не понимая, что это:
1. Дискретный процесс. То есть такой процесс и анализ объекта наблюдения, который оторван логически от других объектов и где вся сосредоточенность ума фокусируется только на самом объекте наблюдения.
Дискретному процессу свойственна такая логическая цепочка, которая переходит от объекта к объекту в последовательном или не последовательном порядке, и не в состоянии провести параллели между ними. Я думаю над "а", перешел думать над "в", теперь думаю над "с", снова думаю над "в" или "а". Логическая цепь имеет линейный горизонтальный вид, где выводы строятся исходя из видения объектов без их перекрёстного взаимодействия. В итоге, из за отсутствия наблюдения связи между объектами, обратная взаимосвязь с ними, как суммированный их собственный информационный поток, всегда искажен в логическом отражении.
Что бы понять это правильно, представьте, что пред вами шифр замок из (условно) 50 цифр. Прочитав шифр, вы тем самым смогли бы открыть замок. Правильный ключ-комбинация соответственно, один единственный правильный вариант. Условно назовём его истина. Вокруг замка расположены информационные подсказки, которые помогают прочесть единственно правильный вариант. Условно назовём эти подсказки - законы природы, выраженные через объекты, взаимодействующие с человеком.
Итак, если вы не учитываете подсказки и не видите связь между объектами взаимодействия, из за дискретного процесса мышления, то комбинируете объекты взаимодействия в собственную концепцию для ответа пароля замка. Соответственно, вы имеете невероятно огромное число возможных неверных комбинаций, которые однако могу быть схожи с правильным ответом, но таковым являться не будут, или вовсе будут расходиться с истиной. Однако, логическое мышление затрачивает массу сил на формирование любой концепции отдельной личности по отношению к формуле жизни. Как правило на это уходит почти вся жизнь человека, создавая изначально неверный ответ на поставленную задачу, так как трактует подсказки, выраженные информационными объектами взаимодействия с ним самим, через систему эмпирической логики, свойство которой не связывать объекты взаимодействия друг с другом, а наоборот, видеть объекты, как отдельные друг от друга и далее ещё и разделять каждый отдельный уже объект на противопоставленные внутренние свойства, осознавая это, как уже противопоставленные друг другу объекты. Основной вид противопоставленных объектов, это ночь - день, мужчина - женщина, холодное - горячее и т.п. Косвенный вид противопоставленных вещей заключается в их осознании отдельности от других, что мы осознаём, как предметность, материя.
Ещё, как мне кажется, удачный пример с чтением, где в детстве ребёнок читает слово по буквам, потом по слогам, а далее видит уже целое слово, как символ обозначающий имя того или иного свойства материалистического мира и таким образом движется от незнания к знанию. Однако, если бы мы шли эмпирической логикой в обучении чтению, то мы бы начинали от осознания целых слов , как символов, переходили бы к чтению по слогам, далее по буквам, а потом должны были бы по идее их вообще забыть. В итоге, эмпирическое мышление как бы превращает собственным действием процесс обучения в обратный процесс, где мы идём от знания к незнанию, словно кино наоборот.
В итоге, если подобную логику положить калькой на наш пример с замком - шифром с единственной комбинацией ответом - истиной, то получается, что вместо того, что бы сразу открыть замок, пока мы осознаём правильную комбинацию, мы начинаем её наоборот, всё больше запутывать и стремимся забыть вовсе.
2. Автоматический процесс уже созданных блоков, стереотипов видения картины мира, концепции.
Нейрофизиология и психология, философия, и ряд других наук, в целом пришли к одному заключению о том, что процесс мышления дискретен по свойству и автоматичен, где нейронная сеть не контролирует выбор по отношению к решению той или иной ситуации, а просто её программно выполняет, где сама программа базируется на опыте личности и всём опыте человечества за всю историю его существования, при этом опережая его осознанность от 50 до 250 ms.
В итоге, если человек поставит знак равенства между дискретным, автоматическим процессом и самоощущением "я". То вся его логическая цепочка развития напоминает кино наоборот, т.е. движение от знания к незнанию, где сам человек движется от осознания целостности ко всё большей дискретности внутри его собственной системы. Однако, его собственное видение картины мира и самого себя, будет прямо противоположной, то есть такой, которая выражается процессом всё большего числа отдельных информационных внутренних объектов, что осознаётся нами, как прогресс и развитие, выраженное количественным образом и качественным внутренним преобразованием. В итоге это выражается в желании чего бы то ни было большего - ум, власть, богатство, удобства, деньги, оружие, технологии, территории, свободы и т.п. Так же это выражено и демографическим феноменом прироста населения планеты, который отражает внутреннюю скорость развития и ускорение расщепления сознания каждой отдельной личности всей человеческой популяции. В конечном итоге это приводит к желанию много знать и понимать. Однако последнее является, как бы конечной точкой подобного дискретного процесса, который находится в беспрерывном развитии собственной внутренней логики.
Именно желание знать и завершает эпоху эмпирического мышления, что осознаётся популяцией, как общий кризис восприятия, с одновременным ощущением достигнутых вершин в научно-техническом прогрессе, фоном которому служат бесчисленные внутренние проблемы человека на всём институциональном уровне. Его абсолютное недовольство достигнутыми результатами, ощущение внутренней пустоты и бессмысленности существования, так как желание знать сталкивается с его противоположно достигнутым социальным положением абсолютной разобщенности, недоверии личности к личности и отсутствие информации о целостных объектах, что осознаётся нами, как истина или эквивалент в отражении картины реальности. Отсутствие взаимопонимания и как следствие невозможность создания опыта переживания целостных понятий связи, которые рождаются только в системе, свойство которой само по себе целостное.
Для того, что бы создать условия для формирования целостного аппарата восприятия каждого, где человек использовал бы диалектическое мышление, которое отразилось бы на логике его действий в сегодняшней его реальности, и привело к трансформации его самоощущения, которое бы вышло за пределы эмпирической логики в пространство диалектического мышления и логической взаимосвязи всего со всем, необходимо чётко определить концепцию современной науки в её современном описании реальности для человеческих институтов, и начать распространять эту концепцию видения целостного мира при воспитании новых поколений, которые создадут уже в собственной системе мышления такие стереотипы реагирования, которые по отношению к информационной реальности, будут являться не искаженными, что значит ложными, а эквивалентными, что означает истинными и общими для всей человеческой популяции, которые мы осознаём как положительно-эмоциональный стереотип в мышлении. Это означает, что в нашем мире довольно быстро исчезнет внутривидовая агрессия, достигнув эмоционального фона доисторических времён охотников и собирателей.
Литература:
Эрих Фромм «Анатомия человеческой деструктивности».
У нас есть прямые данные о жизни доисторических охотников: культ животных, в частности, говорит о том, что приписываемая им врожденная деструктивность – это чистой воды миф. Так, еще Мэмфорд обратил внимание на то, что в наскальной живописи (на рисунках в пещерах), посвященной жизни охотников, не встречается сюжет сражения между людьми.
И хотя к аналогиям следует прибегать с известной осторожностью, все же данные о существующих примитивных охотниках и собирателях производят очень большое впечатление. Вот что сообщает нам крупнейший специалист в этой области Колин Тёрнбал:
У двух известных мне групп почти полностью отсутствует физическая или эмоциональная агрессивность, что объясняется отсутствием войн, вражды, наветов, колдовства или шаманства. Я также не убежден, что охота сама по себе является агрессивной деятельностью. Чтобы научиться делать что-то, надо это увидеть. А сам процесс охоты не носит агрессивного характера. И когда человек осознает, что в этом процессе он истощает природные ресурсы, он фактически сожалеет о совершаемом «убийстве». И кроме того, при убийстве такого типа нередко наблюдается явное сочувствие. Лично я из общения с охотниками вынес впечатление, что это очень дружелюбные люди и что, бесспорно, суровый образ жизни, который они ведут, вовсе не позволяет делать вывод об их агрессивности (268, 1965).
Никто из участников дискуссии не смог возразить Тёрнбалу. Самое подробное изложение антропологических данных о примитивных охотниках и собирателях мы находим в работе Э. Р. Сервиса «Охотники». (243, 1966) В этой монографии рассмотрены все подобные общности за исключением оседлых групп на северо-западном побережье Северной Америки, которые жили в особо благоприятных условиях (с точки зрения природы). Не вошли в монографию также такие объединения охотников и собирателей, которые вымерли после контакта с цивилизацией, и притом так быстро, что мы располагаем весьма ограниченными знаниями о них.
По опыту своей собственной экономической системы мы привыкли считать, что человеческие существа имеют «естественную склонность к торговле и спекуляции». Мы считаем, что отношения между индивидами или группами строятся на принципе получения максимальной прибыли при посредничестве («дешево купить и дорого продать»). Однако примитивным народам это совершенно несвойственно, скорее наоборот. Они «отказываются от вещей», восхищаются щедростью, рассчитывают на гостеприимство и осуждают бережливость, как эгоизм.
Но самое удивительное состоит в том, что чем труднее их положение (чем больше ценность или дефицит товаров), тем меньше они «экономят» и тем больше поражают своей щедростью. Мы в этом случае имеем в виду формы обмена между людьми, живущими внутри одной общности и находящимися в каких-то родственных связях. В такой социальной общности гораздо теснее поддерживаются узы родства, которыми охвачено значительно больше людей, чем в нашем обществе. Если провести сравнение этих отношений с принципами жизни современной семьи, то мы увидим разительный контраст. Хотя мы «кормим» своих детей, не так ли? Мы «помогаем» нашим братьям и «заботимся» о престарелых родителях. А другие делают то же самое по отношению к нам...
Тесные социальные связи в целом обусловливают дружелюбные чувства, правила приличия в семейной жизни, а нравственная заповедь щедрости определяет способ отношения к вещам, которые играют (сравнительно с нами) малозначительную роль в жизни индивида и племени. Антропологи сделали попытку обозначить такой тип взаимодействия словами «чистый подарок» или «добровольный дар», чтобы подчеркнуть, что речь идет не о сделке, а о таком обмене, в основе которого лежит чувство совсем иного рода, чем в ситуациях торговли. Но эти обозначения не отражают подлинного характера подобного взаимодействия, а, может быть, даже вводят в заблуждение.
Петер Фройхен однажды получил от эскимоса кусок мяса и сердечно поблагодарил его в ответ. Охотник, к удивлению Фройхена, явно огорчился, а старый человек объяснил европейцу, что «нельзя благодарить за мясо. Каждый имеет право получить кусок. У нас не принято быть в зависимости от кого-либо. Поэтому мы не дарим подарков и не принимаем даров, чтобы не оказаться в зависимом положении. Подарками воспитывают рабов, как кнутом воспитывают собак». (99, 1961, с. 154).
Слово «подарок» носит оттенок «умиротворения, ублажения, задабривания», а не взаимности. А в племенах охотников и собирателей никогда не произносят слов благодарности, поэтому неприлично назвать кого-либо «щедрым», когда он делится добычей со своими товарищами по стойбищу. В других ситуациях можно назвать его добрым, но не в том случае, когда он делится с другими пищей. Так же точно воспринимаются и слова благодарности, они производят обидное впечатление, словно человек и не рассчитывал на то, что с ним поделятся. Поэтому при подобных обстоятельствах уместно похвалить человека за ловкость в охоте, а не делать намеков на его щедрость (243, 1966, с. 14, 16).
Особенно большое значение (с экономической и психологической точки зрения) имеет вопрос о собственности. Одно из самых расхожих представлений по этому поводу состоит в том, что любовь к собственности – это врожденная и сущностная черта человека. Но обычно при этом происходит смешение понятий: индивидуальная собственность на орудия труда и личные вещи и частная собственность на средства производства, которая является основой эксплуатации чужого труда. В индустриальном обществе средства производства в основном составляют машины и капитал, вложенный в машинное производство. А в примитивных обществах средства производства – земля и охотничьи угодья.
У примитивных племен никому не закрыт доступ к природным ресурсам – у них нет владельца...
Природные ресурсы, которые находятся в распоряжении племени, представляют коллективную или коммунальную собственность в том смысле, что в случае необходимости вся группа встанет на защиту этой территории. А внутри племени все семьи имеют равные права на свою долю собственности. Кроме того, соседние племена также могут по желанию охотиться на этой территории. Ограничения, видимо, касаются лишь плодоносных деревьев (с фруктами и орехами). Такие деревья обычно закрепляются за отдельными семьями данного племени. Но практически этот факт скорее свидетельствует о разделении труда, чем о разделе собственности, ибо такая мера должна предостеречь от пустой траты времени и сил, которая могла иметь место, если рассредоточенные по большой территории семьи устремились бы все к одному пункту сбора плодов. Ведь плодовые деревья, в отличие от дичи и дикорастущих ягод и трав, имеют достаточно устойчивую «прописку».Но все собранные фрукты и орехи все равно подлежат разделу с теми семьями, которые не собирали урожая, так что никто не должен голодать.
И наконец, к частной собственности относятся предметы индивидуального пользования, принадлежащие отдельным лицам. Оружие, ножи, платье, украшения, амулеты – вот что считается у охотников и собирателей частной собственностью. Но некоторые считают, что даже эти предметы личного пользования не являются частной собственностью в собственном смысле слова, поскольку обладание этими вещами скорее носит функцию разделения труда, чем владения «средствами производства». Обладание подобными вещами только тогда может быть осмыслено как частная собственность, если одни ими владеют, а другие – нет, т. е. когда это обладание может стать основой для эксплуатации. Но в этнографических отчетах такие случаи не описаны, и трудно себе представить, чтобы кто-то из членов рода, нуждаясь в оружии или одежде, не получил бы их от другого более счастливого члена рода (243, 1966, с. 22).
Социальные отношения между членами охотничьего сообщества отличаются отсутствием «Табели о рангах», даже такого «лидерства», как у зверей, здесь не наблюдается.
Племена охотников и собирателей в плане лидерства более всех других социальных систем отличаются от человекообразных обезьян. Здесь нет ни принуждения, основанного на принципе физического превосходства, нет также и иерархической организации, опирающейся на другие основания (богатство, военная или политическая сила, унаследованные классовые привилегии и т. д.). Единственное устойчивое превосходство связано с признаками возраста и мудрости.
Даже когда отдельные члены племени обладают более высоким статусом и престижем, они выражают свое преимущество совершенно иначе, чем обезьяны. От лиц с более высоким статусом охотники ожидают скромности и доброты (щедрости), а главной наградой для них является любовь и внимание со стороны других членов племени. Например, мужчина может проявить себя как самый сильный, храбрый, ловкий и умный во всём племени. Получает ли он при этом самый высокий групповой статус? Не обязательно. Он получит его только в том случае, если эти качества он поставит на службу интересам племени. Например, если на охоте он убивает больше дичи (и затем сможет отдать ее другим); если он умеет себя вести, а главным достоинством поведения считается скромность. Для простоты можно провести такую параллель. В племени человекообразных обезьян превосходство в физической силе ведет к преимуществу в социальной иерархии, которое дает вожаку больше пищи, «самок» и других благ. А в первобытном человеческом обществе физическое преимущество должно быть поставлено на службу всем остальным членам племени, и тот, кто стремится к лидерству, должен в истинном смысле слова приносить жертву (и получать меньше пищи за более напряженный труд). А в отношении сексуальных радостей он, как и другие мужчины, обычно ограничивается одной женой.
Складывается впечатление, что самые ранние человеческие сообщества одновременно являются и самыми равноправными. Возможно, это связано с тем, что общество первобытного типа ввиду рудиментарного уровня технологий больше других социальных общностей нуждается в кооперации труда. Обезьяны нерегулярно применяют совместные усилия и нерегулярно делятся друг с другом, а люди делают это постоянно – в этом состоит существенное различие между ними (243, 1966, с. 31).
Сервис описывает характерные для охотников формы авторитета; главная из них – регулирование коллективных действий.
Авторитет осуществляется в форме координации коллективных действий или установления порядка при решении спорных вопросов. Здесь речь идет как раз о «лидерстве». В охотничье-собирательской общности потребности в регулировании коллективных действий многочисленны и многообразны. Как правило, они касаются таких повседневных дел, как перенос стойбища на новое место, совместная охота, а также различного рода столкновения с врагами. Но и здесь, как и в других областях, лидерство охотников отличается от лидерства в более поздних культурах тем, что оно не имеет официального закрепления. Нет постоянного места лидера (конторы), руководство переходит из одних рук в другие сообразно ситуации и характеру необходимых действий. Так, например, старик благодаря своей мудрости и знанию ритуала будет планировать и возглавлять проведение соответствующей церемонии, в то время как на охоте лидером-распорядителем будет обычно более молодой, ловкий и удачливый охотник.
Но самое главное, что в племени отсутствует в обычном смысле слова руководитель, которого мы обычно связываем со словом «главный» (243, 1966, с. 51).*
• Такого же мнения о племенном лидерстве и Меггит (185, 1960), цитируемый Сервисом (243, 1966) и Э. Фроммом (см. разницу авторитетов в книге «Бегство от свободы». – 101, 1941а).
Данные об отсутствии иерархической системы во главе с вожаком заслуживают особого внимания в связи с тем, что практически во всех цивилизованных обществах господствуют стереотипные представления о том, что учреждения социального контроля опираются на исконные формы регулирования жизни, унаследованные человеком от животного мира. Но мы видели, что у шимпанзе существуют отношения лидерства и подчинения, хотя и в очень мягкой форме. А социальные отношения первобытных народов показывают, что человек генетически не является носителем командно-подчиненной психологии. Исследования исторического развития человечества на протяжении пяти-шести тысячелетий убедительно доказывают, что командно-административная психология является не причиной, а следствием приспособления человека к социальной системе. Для апологетов элитной системы социального контроля (когда все контролируется элитным слоем общества) очень удобно считать, что социальная структура возникла как следствие врожденной потребности человека и потому она неизбежна. Однако эгалитарное общество* первобытных народов свидетельствует, что дело обстоит совсем иначе. Возникает острый вопрос: каким образом первобытный человек защищается от асоциальных и опасных членов общины, если в ней отсутствует авторитарная или командно-бюрократическая система? На этот вопрос есть несколько ответов. И прежде всего важно, что поведение регулируется обычаем и этикетом. Ну а если эти регуляторы окажутся недостаточными, какие могут быть применены санкции против асоциального поведения? Обычно наказание состоит в том, что все члены группы отстраняются от виновника ситуации, при встречах не оказывают ему никаких знаков внимания и вежливости; его поведение обсуждают вслух, над ним смеются и в самом крайнем случае его изгоняют из общины. А если кто-либо систематически дурно поступает, нарушая покой не только своей, но и соседней группы (племени), то его собственная группа может принять коллективное решение и убить нарушителя. Такие случаи, разумеется, чрезвычайно редки; обычно, когда возникает сложная проблема, ее решение передается на усмотрение самого старшего и самого мудрого мужчины.
Все эти факты говорят об ошибочности нарисованной Гоббсом картины всеобщей врожденной агрессивности, которая неизбежно привела бы к войне всех против всех, если бы государство не взяло в свои руки монополию власти и наказания и таким образом хотя бы косвенно не удовлетворило индивидуальную жажду мести (расплаты с преступником). Вот что об этом думает Сервис:
Факт остается фактом, что групповые общности не распадаются, даже когда они никак официально не институированы...
И хотя столкновения и войны в таких сообществах сравнительно редки, но их угроза всегда остается (например, когда бывают ссоры между индивидами), и потому все равно нужно иметь средства для сдерживания или предотвращения войны.
В данной общине конфликты между двумя лицами, как правило, улаживает старший родственник соперников. В идеале этот старший должен быть в одинаковой степени родства к обоим (например, дядя или дед), чтобы каждый был уверен в его объективности. Но так, конечно, не всегда получается, и вообще не всегда старший родственник соглашается быть миротворцем. И тогда вся община берет на себя роль третейского судьи, и дело считается решенным, когда объявляется общественное мнение.
Есть еще способ разрешения конфликта – это состязание. Чаще всего оно проходит в форме спортивной борьбы... Так, эскимосская «дуэль» проходит «на рогах» в прямом и переносном смысле, т. е. соперники ударяют друг друга собственными головами. Особенно интересно известное эскимосское соревнование на «словах», или певческая дуэль. Главное оружие здесь – «острословие».
Певческие дуэли имеют цель напрочь искоренить любые конфликты и споры (за исключением убийства). В Восточной Гренландии певческая дуэль может дать человеку полную «сатисфакцию» (равную убийству), если он не отличается физической силой, но обладает таким голосом, что уверен в своей победе. Чтобы понять ситуацию, следует знать, что у эскимосов искусство пения ценится даже выше, чем физическая сила и ловкость: восточные гренландцы, наслаждаясь прекрасным пением, могут забыть даже о причине конфликта.
Певческие соревнования имеют свои правила и ритуалы. Опытные претенденты обычно придерживаются традиционных музыкальных образцов, которые мастер пения умеет донести до слушателей столь совершенно, что вызывает бурю аплодисментов. «Победителя» так и выбирают – им становится тот, кто получил больше «слушательских симпатий» (аплодисментов). Победа в певческом соревновании не дает никакого вознаграждения, кроме престижа ( 135, 1954).
Главное преимущество такого соревнования состоит в том, что оно длится долго и слушатели за это время успевают прийти к единому мнению: кто прав, а кто виноват в конфликте. Обычно каждый знает заранее, какую сторону он поддерживает, но единство общины считается (у этих народов) столь важной целью, что во время длительного соревнования каждый успевает понять, на чьей стороне большинство. Слушательские симпатии проявляются в таких реакциях, как смех, которым встречают стихи соревнующихся. Постепенно смех становится более громким и дружным. И тогда ясно видно, кто победил, а побежденный удаляется «со сцены» (243, 1966, с. 55).
У других охотничьих племен личные соревнования не отличаются такой «куртуазностью», как эскимосские. Некоторые племена предпочитают пускать в ход копье. Дуэль происходит следующим образом:
Спорящие стороны располагаются на площадке на строго установленном расстоянии друг от друга; обвинитель внезапно кидает копье в обвиняемого, а тот пытается избежать ранения (отклониться, отскочить). Публика награждает аплодисментами либо быстроту, силу и точность нападающего, либо ловкость и находчивость обвиняемого. Спустя некоторое время становится ясно, на чьей стороне зрительские симпатии. Когда обвиняемый понимает, что зрители считают его виновным, он перестает увертываться и получает смертельный удар. Если же нападающий видит, что общественное мнение против него, он просто опускает оружие[ *].
*Здесь Э. Фромм цитирует Харта и Пиллинга по книге Сервиса «Охотники» (243, 1966, с 56).
В конечном итоге человека необходимо убедить в важности, научить и довести до осознания, что его единственной отличительной чертой мыслительного процесса от животных, а именно рефлексией, или мышлением о мышлении, где объектом наблюдения является собственное мышление или абстрактное мышление, необходимо начать пользоваться, совершенствуя этот инструмент восприятия и через него меняя и самовосприятие, восприятие картины собственного мира и реальности.
В противном случае, неосознанная логическая линия целостности, эволюционным путём через сущность человека, доведёт его до цели через отрицание, что будет осознаваться, как бесконечный геометрический рост всё больших проблем нашего мира, не смотря на все попытки их разрешить. Новые поколения будут рождаться от природы наделённые способностью к целостному восприятию, ощущая современников с дихотомическим мышлением, как сумасшедших и больных людей, однако последних будет всегда превосходящее большинство, в связи с чем именно этим будут определяться общественные нормы, рождающие всё большие конфликты взаимопонимания между новыми и старыми поколениями людей и уродуя природу новых поколений, что будет ощущаться ими, как страдание от самого существования и жизни. Общество будет неизменно склоняться к матриархату. Лидеры государств будут делать всё, что бы удержать дихотомическое мышление как парадигму мышления современного человека, стараясь осознанно и неосознанно создавать ситуации препятствующие этому изменению, так как их собственная концепция жизни так же имеет дихотомическую логику и привела их к власти, как людей стремящихся к большему.
Подобное мышление не вписывается в современную концепцию о функционировании экономики, так как порождает логическую цепочку необходимости разрыва связей внутри вида, при нарастающей обратной взаимосвязи и взаимозависимости, что приводит к нарастающей внутривидовой агрессии, депрессиям и самоубийствам, наркотикам, просто вражде друг к другу, озлобленности населения, вечной усталости от темпа и образа жизни современного человека, от нарастающего ощущения внутренней пустоты.
Подобную концепцию разработал Дуглас Норт, объяснив выгоду для всей популяции или отдельного любого общества такое поведение и отношение к окружающим, которое бы обеспечивало работу не на себя за счёт других, а для всех, за счёт себя, что в целом было когда то нормой при создании первых человеческих общин, но в силу искажения действительности в восприятии, довольно быстро распространило ложную информацию о прямо противоположном, на всю популяцию в целом в той или иной мере, как вирус. С ростом информационных технологий подобная искаженная информация распространяется по всему миру с колоссальной скоростью, влияя на поведение и реагирование людей, на формирование их типа восприятия.
Дуглас НОРТ
ИНСТИТУТЫ,
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
ЭКОНОМИКИ
История имеет значение. Она имеет значение
не просто потому, что мы можем извлечь уроки из прошлого,
но и потому, что настоящее и будущее связаны с прошлым не-
прерывностью институтов общества. Выбор, который мы дела-
ем сегодня или завтра, сформирован прошлым. А прошлое мо-
жет быть понято нами только как процесс институционального
развития. Интегрировать понятие “институты” в экономичес-
кую теорию и экономическую историю — значит сделать важ-
ный шаг в развитии этой теории и истории.
В настоящей работе излагаются общие принципы теории
институтов и институциональных изменений. Хотя эта работа
опирается на мои предшествующие исследования институтов,
составлявшие основной предмет моей научной деятельности за
последние двадцать лет, здесь я иду гораздо дальше, чем в сво-
их прежних трудах, в изучении природы политических и эко-
номических институтов и процесса их изменений. Главный
ключ к анализу, представленному в настоящей работе — углуб-
ленное изучение того, что же представляют собой институты,
чем они отличаются от организаций и как влияют на транс-
акционные и трансформационные (производственные) издерж-
ки.
Основное внимание уделено проблеме кооперации между
людьми, а более конкретно — той кооперации, которая позво-
ляет экономическим системам извлекать выгоду из торговли,
что являлось ключом к пониманию “Богатства народов” Адама
Смита. Развитие институтов, создающих благоприятную среду
для совместного решения сложных проблем обмена, обеспечи-
вает экономический рост. Конечно, не всякая кооперация меж-
ду людьми продуктивна с точки зрения общества; в этом иссле-
довании мы как раз и стремимся объяснить развитие и тех ин-
ституциональных систем, которые порождают экономическую
стагнацию и упадок, и тех систем, которые способствуют эко-
номическому успеху. (с. 12, 13)
Фонд экономической книги
“Начала”, макет, 1997
1. Дискретный процесс. То есть такой процесс и анализ объекта наблюдения, который оторван логически от других объектов и где вся сосредоточенность ума фокусируется только на самом объекте наблюдения.
Дискретному процессу свойственна такая логическая цепочка, которая переходит от объекта к объекту в последовательном или не последовательном порядке, и не в состоянии провести параллели между ними. Я думаю над "а", перешел думать над "в", теперь думаю над "с", снова думаю над "в" или "а". Логическая цепь имеет линейный горизонтальный вид, где выводы строятся исходя из видения объектов без их перекрёстного взаимодействия. В итоге, из за отсутствия наблюдения связи между объектами, обратная взаимосвязь с ними, как суммированный их собственный информационный поток, всегда искажен в логическом отражении.
Что бы понять это правильно, представьте, что пред вами шифр замок из (условно) 50 цифр. Прочитав шифр, вы тем самым смогли бы открыть замок. Правильный ключ-комбинация соответственно, один единственный правильный вариант. Условно назовём его истина. Вокруг замка расположены информационные подсказки, которые помогают прочесть единственно правильный вариант. Условно назовём эти подсказки - законы природы, выраженные через объекты, взаимодействующие с человеком.
Итак, если вы не учитываете подсказки и не видите связь между объектами взаимодействия, из за дискретного процесса мышления, то комбинируете объекты взаимодействия в собственную концепцию для ответа пароля замка. Соответственно, вы имеете невероятно огромное число возможных неверных комбинаций, которые однако могу быть схожи с правильным ответом, но таковым являться не будут, или вовсе будут расходиться с истиной. Однако, логическое мышление затрачивает массу сил на формирование любой концепции отдельной личности по отношению к формуле жизни. Как правило на это уходит почти вся жизнь человека, создавая изначально неверный ответ на поставленную задачу, так как трактует подсказки, выраженные информационными объектами взаимодействия с ним самим, через систему эмпирической логики, свойство которой не связывать объекты взаимодействия друг с другом, а наоборот, видеть объекты, как отдельные друг от друга и далее ещё и разделять каждый отдельный уже объект на противопоставленные внутренние свойства, осознавая это, как уже противопоставленные друг другу объекты. Основной вид противопоставленных объектов, это ночь - день, мужчина - женщина, холодное - горячее и т.п. Косвенный вид противопоставленных вещей заключается в их осознании отдельности от других, что мы осознаём, как предметность, материя.
Ещё, как мне кажется, удачный пример с чтением, где в детстве ребёнок читает слово по буквам, потом по слогам, а далее видит уже целое слово, как символ обозначающий имя того или иного свойства материалистического мира и таким образом движется от незнания к знанию. Однако, если бы мы шли эмпирической логикой в обучении чтению, то мы бы начинали от осознания целых слов , как символов, переходили бы к чтению по слогам, далее по буквам, а потом должны были бы по идее их вообще забыть. В итоге, эмпирическое мышление как бы превращает собственным действием процесс обучения в обратный процесс, где мы идём от знания к незнанию, словно кино наоборот.
В итоге, если подобную логику положить калькой на наш пример с замком - шифром с единственной комбинацией ответом - истиной, то получается, что вместо того, что бы сразу открыть замок, пока мы осознаём правильную комбинацию, мы начинаем её наоборот, всё больше запутывать и стремимся забыть вовсе.
2. Автоматический процесс уже созданных блоков, стереотипов видения картины мира, концепции.
Нейрофизиология и психология, философия, и ряд других наук, в целом пришли к одному заключению о том, что процесс мышления дискретен по свойству и автоматичен, где нейронная сеть не контролирует выбор по отношению к решению той или иной ситуации, а просто её программно выполняет, где сама программа базируется на опыте личности и всём опыте человечества за всю историю его существования, при этом опережая его осознанность от 50 до 250 ms.
В итоге, если человек поставит знак равенства между дискретным, автоматическим процессом и самоощущением "я". То вся его логическая цепочка развития напоминает кино наоборот, т.е. движение от знания к незнанию, где сам человек движется от осознания целостности ко всё большей дискретности внутри его собственной системы. Однако, его собственное видение картины мира и самого себя, будет прямо противоположной, то есть такой, которая выражается процессом всё большего числа отдельных информационных внутренних объектов, что осознаётся нами, как прогресс и развитие, выраженное количественным образом и качественным внутренним преобразованием. В итоге это выражается в желании чего бы то ни было большего - ум, власть, богатство, удобства, деньги, оружие, технологии, территории, свободы и т.п. Так же это выражено и демографическим феноменом прироста населения планеты, который отражает внутреннюю скорость развития и ускорение расщепления сознания каждой отдельной личности всей человеческой популяции. В конечном итоге это приводит к желанию много знать и понимать. Однако последнее является, как бы конечной точкой подобного дискретного процесса, который находится в беспрерывном развитии собственной внутренней логики.
Именно желание знать и завершает эпоху эмпирического мышления, что осознаётся популяцией, как общий кризис восприятия, с одновременным ощущением достигнутых вершин в научно-техническом прогрессе, фоном которому служат бесчисленные внутренние проблемы человека на всём институциональном уровне. Его абсолютное недовольство достигнутыми результатами, ощущение внутренней пустоты и бессмысленности существования, так как желание знать сталкивается с его противоположно достигнутым социальным положением абсолютной разобщенности, недоверии личности к личности и отсутствие информации о целостных объектах, что осознаётся нами, как истина или эквивалент в отражении картины реальности. Отсутствие взаимопонимания и как следствие невозможность создания опыта переживания целостных понятий связи, которые рождаются только в системе, свойство которой само по себе целостное.
Для того, что бы создать условия для формирования целостного аппарата восприятия каждого, где человек использовал бы диалектическое мышление, которое отразилось бы на логике его действий в сегодняшней его реальности, и привело к трансформации его самоощущения, которое бы вышло за пределы эмпирической логики в пространство диалектического мышления и логической взаимосвязи всего со всем, необходимо чётко определить концепцию современной науки в её современном описании реальности для человеческих институтов, и начать распространять эту концепцию видения целостного мира при воспитании новых поколений, которые создадут уже в собственной системе мышления такие стереотипы реагирования, которые по отношению к информационной реальности, будут являться не искаженными, что значит ложными, а эквивалентными, что означает истинными и общими для всей человеческой популяции, которые мы осознаём как положительно-эмоциональный стереотип в мышлении. Это означает, что в нашем мире довольно быстро исчезнет внутривидовая агрессия, достигнув эмоционального фона доисторических времён охотников и собирателей.
Литература:
Эрих Фромм «Анатомия человеческой деструктивности».
У нас есть прямые данные о жизни доисторических охотников: культ животных, в частности, говорит о том, что приписываемая им врожденная деструктивность – это чистой воды миф. Так, еще Мэмфорд обратил внимание на то, что в наскальной живописи (на рисунках в пещерах), посвященной жизни охотников, не встречается сюжет сражения между людьми.
И хотя к аналогиям следует прибегать с известной осторожностью, все же данные о существующих примитивных охотниках и собирателях производят очень большое впечатление. Вот что сообщает нам крупнейший специалист в этой области Колин Тёрнбал:
У двух известных мне групп почти полностью отсутствует физическая или эмоциональная агрессивность, что объясняется отсутствием войн, вражды, наветов, колдовства или шаманства. Я также не убежден, что охота сама по себе является агрессивной деятельностью. Чтобы научиться делать что-то, надо это увидеть. А сам процесс охоты не носит агрессивного характера. И когда человек осознает, что в этом процессе он истощает природные ресурсы, он фактически сожалеет о совершаемом «убийстве». И кроме того, при убийстве такого типа нередко наблюдается явное сочувствие. Лично я из общения с охотниками вынес впечатление, что это очень дружелюбные люди и что, бесспорно, суровый образ жизни, который они ведут, вовсе не позволяет делать вывод об их агрессивности (268, 1965).
Никто из участников дискуссии не смог возразить Тёрнбалу. Самое подробное изложение антропологических данных о примитивных охотниках и собирателях мы находим в работе Э. Р. Сервиса «Охотники». (243, 1966) В этой монографии рассмотрены все подобные общности за исключением оседлых групп на северо-западном побережье Северной Америки, которые жили в особо благоприятных условиях (с точки зрения природы). Не вошли в монографию также такие объединения охотников и собирателей, которые вымерли после контакта с цивилизацией, и притом так быстро, что мы располагаем весьма ограниченными знаниями о них.
По опыту своей собственной экономической системы мы привыкли считать, что человеческие существа имеют «естественную склонность к торговле и спекуляции». Мы считаем, что отношения между индивидами или группами строятся на принципе получения максимальной прибыли при посредничестве («дешево купить и дорого продать»). Однако примитивным народам это совершенно несвойственно, скорее наоборот. Они «отказываются от вещей», восхищаются щедростью, рассчитывают на гостеприимство и осуждают бережливость, как эгоизм.
Но самое удивительное состоит в том, что чем труднее их положение (чем больше ценность или дефицит товаров), тем меньше они «экономят» и тем больше поражают своей щедростью. Мы в этом случае имеем в виду формы обмена между людьми, живущими внутри одной общности и находящимися в каких-то родственных связях. В такой социальной общности гораздо теснее поддерживаются узы родства, которыми охвачено значительно больше людей, чем в нашем обществе. Если провести сравнение этих отношений с принципами жизни современной семьи, то мы увидим разительный контраст. Хотя мы «кормим» своих детей, не так ли? Мы «помогаем» нашим братьям и «заботимся» о престарелых родителях. А другие делают то же самое по отношению к нам...
Тесные социальные связи в целом обусловливают дружелюбные чувства, правила приличия в семейной жизни, а нравственная заповедь щедрости определяет способ отношения к вещам, которые играют (сравнительно с нами) малозначительную роль в жизни индивида и племени. Антропологи сделали попытку обозначить такой тип взаимодействия словами «чистый подарок» или «добровольный дар», чтобы подчеркнуть, что речь идет не о сделке, а о таком обмене, в основе которого лежит чувство совсем иного рода, чем в ситуациях торговли. Но эти обозначения не отражают подлинного характера подобного взаимодействия, а, может быть, даже вводят в заблуждение.
Петер Фройхен однажды получил от эскимоса кусок мяса и сердечно поблагодарил его в ответ. Охотник, к удивлению Фройхена, явно огорчился, а старый человек объяснил европейцу, что «нельзя благодарить за мясо. Каждый имеет право получить кусок. У нас не принято быть в зависимости от кого-либо. Поэтому мы не дарим подарков и не принимаем даров, чтобы не оказаться в зависимом положении. Подарками воспитывают рабов, как кнутом воспитывают собак». (99, 1961, с. 154).
Слово «подарок» носит оттенок «умиротворения, ублажения, задабривания», а не взаимности. А в племенах охотников и собирателей никогда не произносят слов благодарности, поэтому неприлично назвать кого-либо «щедрым», когда он делится добычей со своими товарищами по стойбищу. В других ситуациях можно назвать его добрым, но не в том случае, когда он делится с другими пищей. Так же точно воспринимаются и слова благодарности, они производят обидное впечатление, словно человек и не рассчитывал на то, что с ним поделятся. Поэтому при подобных обстоятельствах уместно похвалить человека за ловкость в охоте, а не делать намеков на его щедрость (243, 1966, с. 14, 16).
Особенно большое значение (с экономической и психологической точки зрения) имеет вопрос о собственности. Одно из самых расхожих представлений по этому поводу состоит в том, что любовь к собственности – это врожденная и сущностная черта человека. Но обычно при этом происходит смешение понятий: индивидуальная собственность на орудия труда и личные вещи и частная собственность на средства производства, которая является основой эксплуатации чужого труда. В индустриальном обществе средства производства в основном составляют машины и капитал, вложенный в машинное производство. А в примитивных обществах средства производства – земля и охотничьи угодья.
У примитивных племен никому не закрыт доступ к природным ресурсам – у них нет владельца...
Природные ресурсы, которые находятся в распоряжении племени, представляют коллективную или коммунальную собственность в том смысле, что в случае необходимости вся группа встанет на защиту этой территории. А внутри племени все семьи имеют равные права на свою долю собственности. Кроме того, соседние племена также могут по желанию охотиться на этой территории. Ограничения, видимо, касаются лишь плодоносных деревьев (с фруктами и орехами). Такие деревья обычно закрепляются за отдельными семьями данного племени. Но практически этот факт скорее свидетельствует о разделении труда, чем о разделе собственности, ибо такая мера должна предостеречь от пустой траты времени и сил, которая могла иметь место, если рассредоточенные по большой территории семьи устремились бы все к одному пункту сбора плодов. Ведь плодовые деревья, в отличие от дичи и дикорастущих ягод и трав, имеют достаточно устойчивую «прописку».Но все собранные фрукты и орехи все равно подлежат разделу с теми семьями, которые не собирали урожая, так что никто не должен голодать.
И наконец, к частной собственности относятся предметы индивидуального пользования, принадлежащие отдельным лицам. Оружие, ножи, платье, украшения, амулеты – вот что считается у охотников и собирателей частной собственностью. Но некоторые считают, что даже эти предметы личного пользования не являются частной собственностью в собственном смысле слова, поскольку обладание этими вещами скорее носит функцию разделения труда, чем владения «средствами производства». Обладание подобными вещами только тогда может быть осмыслено как частная собственность, если одни ими владеют, а другие – нет, т. е. когда это обладание может стать основой для эксплуатации. Но в этнографических отчетах такие случаи не описаны, и трудно себе представить, чтобы кто-то из членов рода, нуждаясь в оружии или одежде, не получил бы их от другого более счастливого члена рода (243, 1966, с. 22).
Социальные отношения между членами охотничьего сообщества отличаются отсутствием «Табели о рангах», даже такого «лидерства», как у зверей, здесь не наблюдается.
Племена охотников и собирателей в плане лидерства более всех других социальных систем отличаются от человекообразных обезьян. Здесь нет ни принуждения, основанного на принципе физического превосходства, нет также и иерархической организации, опирающейся на другие основания (богатство, военная или политическая сила, унаследованные классовые привилегии и т. д.). Единственное устойчивое превосходство связано с признаками возраста и мудрости.
Даже когда отдельные члены племени обладают более высоким статусом и престижем, они выражают свое преимущество совершенно иначе, чем обезьяны. От лиц с более высоким статусом охотники ожидают скромности и доброты (щедрости), а главной наградой для них является любовь и внимание со стороны других членов племени. Например, мужчина может проявить себя как самый сильный, храбрый, ловкий и умный во всём племени. Получает ли он при этом самый высокий групповой статус? Не обязательно. Он получит его только в том случае, если эти качества он поставит на службу интересам племени. Например, если на охоте он убивает больше дичи (и затем сможет отдать ее другим); если он умеет себя вести, а главным достоинством поведения считается скромность. Для простоты можно провести такую параллель. В племени человекообразных обезьян превосходство в физической силе ведет к преимуществу в социальной иерархии, которое дает вожаку больше пищи, «самок» и других благ. А в первобытном человеческом обществе физическое преимущество должно быть поставлено на службу всем остальным членам племени, и тот, кто стремится к лидерству, должен в истинном смысле слова приносить жертву (и получать меньше пищи за более напряженный труд). А в отношении сексуальных радостей он, как и другие мужчины, обычно ограничивается одной женой.
Складывается впечатление, что самые ранние человеческие сообщества одновременно являются и самыми равноправными. Возможно, это связано с тем, что общество первобытного типа ввиду рудиментарного уровня технологий больше других социальных общностей нуждается в кооперации труда. Обезьяны нерегулярно применяют совместные усилия и нерегулярно делятся друг с другом, а люди делают это постоянно – в этом состоит существенное различие между ними (243, 1966, с. 31).
Сервис описывает характерные для охотников формы авторитета; главная из них – регулирование коллективных действий.
Авторитет осуществляется в форме координации коллективных действий или установления порядка при решении спорных вопросов. Здесь речь идет как раз о «лидерстве». В охотничье-собирательской общности потребности в регулировании коллективных действий многочисленны и многообразны. Как правило, они касаются таких повседневных дел, как перенос стойбища на новое место, совместная охота, а также различного рода столкновения с врагами. Но и здесь, как и в других областях, лидерство охотников отличается от лидерства в более поздних культурах тем, что оно не имеет официального закрепления. Нет постоянного места лидера (конторы), руководство переходит из одних рук в другие сообразно ситуации и характеру необходимых действий. Так, например, старик благодаря своей мудрости и знанию ритуала будет планировать и возглавлять проведение соответствующей церемонии, в то время как на охоте лидером-распорядителем будет обычно более молодой, ловкий и удачливый охотник.
Но самое главное, что в племени отсутствует в обычном смысле слова руководитель, которого мы обычно связываем со словом «главный» (243, 1966, с. 51).*
• Такого же мнения о племенном лидерстве и Меггит (185, 1960), цитируемый Сервисом (243, 1966) и Э. Фроммом (см. разницу авторитетов в книге «Бегство от свободы». – 101, 1941а).
Данные об отсутствии иерархической системы во главе с вожаком заслуживают особого внимания в связи с тем, что практически во всех цивилизованных обществах господствуют стереотипные представления о том, что учреждения социального контроля опираются на исконные формы регулирования жизни, унаследованные человеком от животного мира. Но мы видели, что у шимпанзе существуют отношения лидерства и подчинения, хотя и в очень мягкой форме. А социальные отношения первобытных народов показывают, что человек генетически не является носителем командно-подчиненной психологии. Исследования исторического развития человечества на протяжении пяти-шести тысячелетий убедительно доказывают, что командно-административная психология является не причиной, а следствием приспособления человека к социальной системе. Для апологетов элитной системы социального контроля (когда все контролируется элитным слоем общества) очень удобно считать, что социальная структура возникла как следствие врожденной потребности человека и потому она неизбежна. Однако эгалитарное общество* первобытных народов свидетельствует, что дело обстоит совсем иначе. Возникает острый вопрос: каким образом первобытный человек защищается от асоциальных и опасных членов общины, если в ней отсутствует авторитарная или командно-бюрократическая система? На этот вопрос есть несколько ответов. И прежде всего важно, что поведение регулируется обычаем и этикетом. Ну а если эти регуляторы окажутся недостаточными, какие могут быть применены санкции против асоциального поведения? Обычно наказание состоит в том, что все члены группы отстраняются от виновника ситуации, при встречах не оказывают ему никаких знаков внимания и вежливости; его поведение обсуждают вслух, над ним смеются и в самом крайнем случае его изгоняют из общины. А если кто-либо систематически дурно поступает, нарушая покой не только своей, но и соседней группы (племени), то его собственная группа может принять коллективное решение и убить нарушителя. Такие случаи, разумеется, чрезвычайно редки; обычно, когда возникает сложная проблема, ее решение передается на усмотрение самого старшего и самого мудрого мужчины.
Все эти факты говорят об ошибочности нарисованной Гоббсом картины всеобщей врожденной агрессивности, которая неизбежно привела бы к войне всех против всех, если бы государство не взяло в свои руки монополию власти и наказания и таким образом хотя бы косвенно не удовлетворило индивидуальную жажду мести (расплаты с преступником). Вот что об этом думает Сервис:
Факт остается фактом, что групповые общности не распадаются, даже когда они никак официально не институированы...
И хотя столкновения и войны в таких сообществах сравнительно редки, но их угроза всегда остается (например, когда бывают ссоры между индивидами), и потому все равно нужно иметь средства для сдерживания или предотвращения войны.
В данной общине конфликты между двумя лицами, как правило, улаживает старший родственник соперников. В идеале этот старший должен быть в одинаковой степени родства к обоим (например, дядя или дед), чтобы каждый был уверен в его объективности. Но так, конечно, не всегда получается, и вообще не всегда старший родственник соглашается быть миротворцем. И тогда вся община берет на себя роль третейского судьи, и дело считается решенным, когда объявляется общественное мнение.
Есть еще способ разрешения конфликта – это состязание. Чаще всего оно проходит в форме спортивной борьбы... Так, эскимосская «дуэль» проходит «на рогах» в прямом и переносном смысле, т. е. соперники ударяют друг друга собственными головами. Особенно интересно известное эскимосское соревнование на «словах», или певческая дуэль. Главное оружие здесь – «острословие».
Певческие дуэли имеют цель напрочь искоренить любые конфликты и споры (за исключением убийства). В Восточной Гренландии певческая дуэль может дать человеку полную «сатисфакцию» (равную убийству), если он не отличается физической силой, но обладает таким голосом, что уверен в своей победе. Чтобы понять ситуацию, следует знать, что у эскимосов искусство пения ценится даже выше, чем физическая сила и ловкость: восточные гренландцы, наслаждаясь прекрасным пением, могут забыть даже о причине конфликта.
Певческие соревнования имеют свои правила и ритуалы. Опытные претенденты обычно придерживаются традиционных музыкальных образцов, которые мастер пения умеет донести до слушателей столь совершенно, что вызывает бурю аплодисментов. «Победителя» так и выбирают – им становится тот, кто получил больше «слушательских симпатий» (аплодисментов). Победа в певческом соревновании не дает никакого вознаграждения, кроме престижа ( 135, 1954).
Главное преимущество такого соревнования состоит в том, что оно длится долго и слушатели за это время успевают прийти к единому мнению: кто прав, а кто виноват в конфликте. Обычно каждый знает заранее, какую сторону он поддерживает, но единство общины считается (у этих народов) столь важной целью, что во время длительного соревнования каждый успевает понять, на чьей стороне большинство. Слушательские симпатии проявляются в таких реакциях, как смех, которым встречают стихи соревнующихся. Постепенно смех становится более громким и дружным. И тогда ясно видно, кто победил, а побежденный удаляется «со сцены» (243, 1966, с. 55).
У других охотничьих племен личные соревнования не отличаются такой «куртуазностью», как эскимосские. Некоторые племена предпочитают пускать в ход копье. Дуэль происходит следующим образом:
Спорящие стороны располагаются на площадке на строго установленном расстоянии друг от друга; обвинитель внезапно кидает копье в обвиняемого, а тот пытается избежать ранения (отклониться, отскочить). Публика награждает аплодисментами либо быстроту, силу и точность нападающего, либо ловкость и находчивость обвиняемого. Спустя некоторое время становится ясно, на чьей стороне зрительские симпатии. Когда обвиняемый понимает, что зрители считают его виновным, он перестает увертываться и получает смертельный удар. Если же нападающий видит, что общественное мнение против него, он просто опускает оружие[ *].
*Здесь Э. Фромм цитирует Харта и Пиллинга по книге Сервиса «Охотники» (243, 1966, с 56).
В конечном итоге человека необходимо убедить в важности, научить и довести до осознания, что его единственной отличительной чертой мыслительного процесса от животных, а именно рефлексией, или мышлением о мышлении, где объектом наблюдения является собственное мышление или абстрактное мышление, необходимо начать пользоваться, совершенствуя этот инструмент восприятия и через него меняя и самовосприятие, восприятие картины собственного мира и реальности.
В противном случае, неосознанная логическая линия целостности, эволюционным путём через сущность человека, доведёт его до цели через отрицание, что будет осознаваться, как бесконечный геометрический рост всё больших проблем нашего мира, не смотря на все попытки их разрешить. Новые поколения будут рождаться от природы наделённые способностью к целостному восприятию, ощущая современников с дихотомическим мышлением, как сумасшедших и больных людей, однако последних будет всегда превосходящее большинство, в связи с чем именно этим будут определяться общественные нормы, рождающие всё большие конфликты взаимопонимания между новыми и старыми поколениями людей и уродуя природу новых поколений, что будет ощущаться ими, как страдание от самого существования и жизни. Общество будет неизменно склоняться к матриархату. Лидеры государств будут делать всё, что бы удержать дихотомическое мышление как парадигму мышления современного человека, стараясь осознанно и неосознанно создавать ситуации препятствующие этому изменению, так как их собственная концепция жизни так же имеет дихотомическую логику и привела их к власти, как людей стремящихся к большему.
Подобное мышление не вписывается в современную концепцию о функционировании экономики, так как порождает логическую цепочку необходимости разрыва связей внутри вида, при нарастающей обратной взаимосвязи и взаимозависимости, что приводит к нарастающей внутривидовой агрессии, депрессиям и самоубийствам, наркотикам, просто вражде друг к другу, озлобленности населения, вечной усталости от темпа и образа жизни современного человека, от нарастающего ощущения внутренней пустоты.
Подобную концепцию разработал Дуглас Норт, объяснив выгоду для всей популяции или отдельного любого общества такое поведение и отношение к окружающим, которое бы обеспечивало работу не на себя за счёт других, а для всех, за счёт себя, что в целом было когда то нормой при создании первых человеческих общин, но в силу искажения действительности в восприятии, довольно быстро распространило ложную информацию о прямо противоположном, на всю популяцию в целом в той или иной мере, как вирус. С ростом информационных технологий подобная искаженная информация распространяется по всему миру с колоссальной скоростью, влияя на поведение и реагирование людей, на формирование их типа восприятия.
Дуглас НОРТ
ИНСТИТУТЫ,
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
ЭКОНОМИКИ
История имеет значение. Она имеет значение
не просто потому, что мы можем извлечь уроки из прошлого,
но и потому, что настоящее и будущее связаны с прошлым не-
прерывностью институтов общества. Выбор, который мы дела-
ем сегодня или завтра, сформирован прошлым. А прошлое мо-
жет быть понято нами только как процесс институционального
развития. Интегрировать понятие “институты” в экономичес-
кую теорию и экономическую историю — значит сделать важ-
ный шаг в развитии этой теории и истории.
В настоящей работе излагаются общие принципы теории
институтов и институциональных изменений. Хотя эта работа
опирается на мои предшествующие исследования институтов,
составлявшие основной предмет моей научной деятельности за
последние двадцать лет, здесь я иду гораздо дальше, чем в сво-
их прежних трудах, в изучении природы политических и эко-
номических институтов и процесса их изменений. Главный
ключ к анализу, представленному в настоящей работе — углуб-
ленное изучение того, что же представляют собой институты,
чем они отличаются от организаций и как влияют на транс-
акционные и трансформационные (производственные) издерж-
ки.
Основное внимание уделено проблеме кооперации между
людьми, а более конкретно — той кооперации, которая позво-
ляет экономическим системам извлекать выгоду из торговли,
что являлось ключом к пониманию “Богатства народов” Адама
Смита. Развитие институтов, создающих благоприятную среду
для совместного решения сложных проблем обмена, обеспечи-
вает экономический рост. Конечно, не всякая кооперация меж-
ду людьми продуктивна с точки зрения общества; в этом иссле-
довании мы как раз и стремимся объяснить развитие и тех ин-
ституциональных систем, которые порождают экономическую
стагнацию и упадок, и тех систем, которые способствуют эко-
номическому успеху. (с. 12, 13)
Фонд экономической книги
“Начала”, макет, 1997
|
|
Сон |
Так от сна остались обрывки образов их и запишу.
Большая комната, зала, много кроватей, на которых спят люди.
(Вариации того, что снилось ранее. А снился дом целый. Внутри которого ходят чудовища, пожирающие людей.)
Итак, я лежу на кровати, среди других. Пробегают тени чудовищ но меня не достигают.
Площадь города, много людей знающих меня. Где-то всегда рядом демон множества лиц. Это красивая девушка. По площади бегает маг, ему приходится управлять на расстоянии транспортом, у которого нет по одному колесу. Большой автобус доехал до парковки без переднего правого колеса и припарковался. За рулём водитель. Но прежде я увидел мага, который развлекался тем, что гонял старый мерседес по площади. Кто-то забеспокоился за жизнь людей, которые ходят повсюду на площади. Но маг искусно провёл автомобиль сквозь людей, ни кого не задев. У автомобиля, мерседес голубого цвета так же не было какого то колеса.
Я иду вслед за Магом в здание. Наложились физиологические ощущения на сон. Я ищу уборную. Перед уборной стоит Маг. Но прежде я прохожу мимо девушки и признаюсь ей в любви, хотя слов при этом не произношу. Она опускает голову и демонстрирует мне свои лица, которые словно сползают к подбородку, пока сверху наплывает другой образ. И так по кругу. Я насчитал три или четыре лица. Девушка была смущена и кокетлива. Она не угрожала.
Итак в здании я столкнулся с Магом, мы с ним знакомы. Я говорю ему, что влюбился в демона с разными лицами. Он вздрогнул испуганно. Я заметил и спросил: - Что?
Он сделал вид отвлечённого человека и ответил: - Да нет, ничего, я думал о них клопы бывают.
Проснувшись понял, что где-то был рядом, что бы осознать себя внутри сна.
Большая комната, зала, много кроватей, на которых спят люди.
(Вариации того, что снилось ранее. А снился дом целый. Внутри которого ходят чудовища, пожирающие людей.)
Итак, я лежу на кровати, среди других. Пробегают тени чудовищ но меня не достигают.
Площадь города, много людей знающих меня. Где-то всегда рядом демон множества лиц. Это красивая девушка. По площади бегает маг, ему приходится управлять на расстоянии транспортом, у которого нет по одному колесу. Большой автобус доехал до парковки без переднего правого колеса и припарковался. За рулём водитель. Но прежде я увидел мага, который развлекался тем, что гонял старый мерседес по площади. Кто-то забеспокоился за жизнь людей, которые ходят повсюду на площади. Но маг искусно провёл автомобиль сквозь людей, ни кого не задев. У автомобиля, мерседес голубого цвета так же не было какого то колеса.
Я иду вслед за Магом в здание. Наложились физиологические ощущения на сон. Я ищу уборную. Перед уборной стоит Маг. Но прежде я прохожу мимо девушки и признаюсь ей в любви, хотя слов при этом не произношу. Она опускает голову и демонстрирует мне свои лица, которые словно сползают к подбородку, пока сверху наплывает другой образ. И так по кругу. Я насчитал три или четыре лица. Девушка была смущена и кокетлива. Она не угрожала.
Итак в здании я столкнулся с Магом, мы с ним знакомы. Я говорю ему, что влюбился в демона с разными лицами. Он вздрогнул испуганно. Я заметил и спросил: - Что?
Он сделал вид отвлечённого человека и ответил: - Да нет, ничего, я думал о них клопы бывают.
Проснувшись понял, что где-то был рядом, что бы осознать себя внутри сна.
|
|
Случаемость. |
Такого слова нет в природе, однако, здесь оно случилось.
Так что же случается, а что нет и почему? Почему не случается то, чего так хочешь и случается вовсе не то, чего даже не хочешь, а вообще что-то третье?
Встретил девушку, хочешь, но не случается.
Дай случиться ему самому. Кому же? Случаю. Дай случаю случиться самому. Как это так, непонятно?
Это так же непонятно, как многое, что становится непонятным, если не ставить цель понять.
Итак поставим цель - понять, а значит дадим случится тому, что хотим, что бы оно случилось.
В информационном мире много мнений. Но что взять? Почему одно мнение нравится а друге нет? И почему вообще так случилось, что одному нравится то, что не нравится другому? А вдруг именно там, в том, что мне так не нравится лежит ответ на то, что теперь я называю моей целью - "понять во что бы то ни стало".
Если не принять чью-то мысль, её невозможно понять. Почему? Потому что мысль отражает сущность, и если я отбросил чью то мысль в сторону, я не пойму её внутреннего содержания. То, что выражает саму сущность. Вот передо мной стоит кувшин. Стены его не прозрачны и он закрыт. Но я чувствую, что внутри него что-то есть. Что бы узнать что там, мне надо открыть кувшин и предложить содержимое моим органам чувств. И они мне расскажут, что в кувшине. Только потом я могу сказать, хорошо это для меня или нет.
Точно так же происходит с чужим отношением к предмету, которое не только не совпадает с вашим собственным отношением, но и вовсе отлично от него, что вызывает чувство раздражения и неприятия.
Но позвольте! Как то странно получается. Вы взяли кувшин, поняли, что там что-то есть, но не узнав что именно, сказали однозначно, что это плохо. Более того, есть явное желание разбить этот кувшин вовсе.
Многие скажут - что за вздор?! Как можно сравнивать какой-то там кувшин и чьё то мнение? Что в них общего? Это вообще, что зайца и редис скрестить. Чушь какая-то!
Но не спешите с выводами.
Давайте всё рассмотрим с точки зрения информации.
Человек всегда воспринимает в конечном итоге информацию. О вещи, о себе самом, о чьей-то мысли и наконец, самое интересное, о собственной мысли, которую осознаёт как объект наблюдения.
Кувшин - это информация. Он не прозрачный, в нём что-то есть. Всё это воспринимаемая информация. И так, чья-то мысль так же информация и по аналогии с информацией о кувшине, всякая мысль имеет её внутреннее содержание.
Допустим, я говорю слово - эссе. У воспринимающего, мгновенно возникает ассоциация с услышанным словом, которую он мгновенно интерпретирует в образ.
Я говорю - эссе, и большинство отвечает - литературный жанр. Но я имел ввиду иное - марку сигарет. Итак, слово, это конструктор, позволяющий нам передавать образы восприятия. Внешняя часть, лингвистическая - само слово, но его внутренняя часть наполнена такой информацией, которая рождает собственные ассоциации, информационные образы у воспринимающего. Если вы постоянно курите сигареты этой марки, то возможно моя и ваша внутренняя ассоциация с этим словом совпадут. Человек осознаёт подобное совпадение, как взаимопонимание, в связи с чем возникает контакт, внутри которого возникает два условия - потребность и реализация потребности.
Можно перевести это на бытовой условный случай: - продавщице в магазине продуктов, где так же продаются табачные изделия на кассе, вы говорите слово - эссе. Однако, если она вдруг ответит вам - литературный жанр, так и не дав пачку нужных вам сигарет, то ваш запрос не будет реализован, в связи с чем возникнет неудовлетворённость и как реакция, раздражение. Чем сильнее ваша потребность и несовпадение во взаимодействии с другим человеком, или иным объектом взаимодействия, который реагирует на ваши слова, как-то не так, как вы сами ожидаете, тем сильнее раздражение, возникающее в следствии этого.
Следует сказать о феномене человеческой агрессии, которая возникает именно из за того, что при взаимодействии, желание одного человека, как сложно выраженная уже информационная конструкция (речь), имеет такую обратную связь, идущую от ответной реакции другого человека, которая вовсе не отвечает изначальному вашему собственному запросу, что осознаётся, как взаимопонимание, понимание, адекватность.
Но так как природа человеческого желания - хотеть чего либо, в глобальном смысле выражается самим жизненным процессом и осознаётся человеком, как его собственная жизнь, то такое несоответствие обратной реакции на собственный запрос (желание), ощущается человеком, как угроза реализации его собственному желанию, которое он сам для себя отождествляет с понятием - я живу.
Что бы было понятно, о чём я говорю, стоит вспомнить самую распространённую реакцию,
которая всё чаще встречается между близкими людьми при их взаимодействии. И в которой звучит следующее:
- Ты убиваешь меня своими, словами! - говорит жена мужу, мать своему ребёнку, мужчина женщине, хотя ни кто ни кого в действительности в прямом физическом смысле не трогает. Однако, реакции, которые возникают, как несоответствие внутреннего запроса, при обратной связи, могут легко в итоге довести человека до реального инфаркта, болезни, депрессии и т.п.
Очевидно вам не раз доводилось злится на какой-нибудь не живой предмет, к примеру, светофор, который долго горит запрещающим сигналом для вашего свободного движения. Желание движения, может быть вызвано опаздыванием на работу или на встречу, но действие неживой системы, может вовсе не совпадать с вашим желанием двигаться дальше, в итоге возникает агрессия, как несовпадение её обратной реакции по отношению к вашему собственному желанию. В итоге вы восклицаете - сегодня всё против меня! Или говорите - сегодня не мой день.
Нужно так же отметить, что свойство самой жизни, выражено беспрерывным информационным обменом, внутри которого всегда существует механизм обратной эквивалентности, которую мы ощущаем, как истина.
Однако, в нашем мире, мы видим совершенно иную действительность, внутри которой нет никогда практически обратной эквивалентности по отношению к запросу наших собственных желаний. Это выражается тем, что нет ни какой гарантии, что у вас получится то, что вы задумали, как концепция собственного существования. В конечном итоге, общая направленность желания человека, выражается в стремлении создания таких жизненных ситуаций, которые бы отвечали чувству обратной эквивалентности, что мы осознаём, как взаимопонимание объектов взаимодействия и связь объектов взаимодействия, удовлетворение, выражающееся чувством радости и здоровья. Если я абсолютизирую объекты взаимодействия, то в итоге, мы логически сделаем вывод о том, что человек всегда имеет дело только с самой жизнью, как с целостным сложно выраженным объектом. Внутри этой логики, человек, осознающий конец собственной жизни, подвергает сомнению всю цепочку собственных действий, стоящих перед этим итоговым событием, так как смерть стирает все его желания, выраженные его самоощущением.
Можно ли поспорить с этим, казалось бы, абсолютным для любого явления нашего мира финалом? Смерть.
Но немного вернёмся к логике наших свободных действий, которые осознаются нами, как свобода выбора.
Мы теперь чётко понимаем, что внутри жизни и её логики, которая неизбежно приводит всё к концу, так как имеет и начало, мы имеем так называемую свободу действий. Но не является ли это страшным издевательством жизни над всем сущим?
Представьте, что вы хотите прийти домой. Вот дорога, вот ваш дом. Однако, сколько бы вы не шли по дороге, вы ни как не можете дойти до дома. И прежде, чем вы это успеваете сделать, вы умираете как сущность.
Разберём этот пример: Дом - это цель. Желание - быть в нём. Действие - я иду. Направленное действие - я иду к дому.
В реальности, когда мы идём домой, если не случается чего-то такого, что этому препятствует, мы всегда в итоге попадаем именно домой.
Однако, это абсолютно логически не укладывается в общую жизненную концепцию, так как "идя" по жизни и выбирая внутри неё какие-то собственные цели, мы в итоге приходим не к цели, а через любую, даже полностью реализованную цель, к смерти, что абсолютно не входит в наше желание жить и полностью ему противоречит. Более того, многие внутри этой концепции жизни, уже осознают бессмысленность множества внутренних устремлений и не идут к ним, так как они сами по себе ощущаются людьми, как бессмысленные. В конечном итоге множество людей сегодня приходят к выводу о том, что жизнь, которую они получили, и которая ощущается ими во взаимодействии с социумом, не имеет сама по себе смысла. В итоге это приводит людей к депрессиям, болезням и самоубийству всех типов и видов, медленному или быстрому.
Так как в человеке невероятно силён инстинкт жизни и страх перед смертью, то это обстоятельство вынуждает его смирится и рационализировать общую внутрисоциальную тенденцию (глобально популяционное взаимодействие) нарушенной логической цепочки, которая не соответствует на самом деле его самоощущению в выражении его внутреннего желания жить. Рационализация - это ни что иное, как ложное убеждение в том, что совершаемое информационное в конечном итоге действие, которое мы осознаём, как свобода воли, получает эквивалентный ответ от действительности, и при этом совершенно не берём в расчёт то, что называется простым и понятным всем словом - созидание.
Смысл слова, "созидание", ни как не включает в себя противоположного значения, внутри целостности этого объекта. Созидание не есть разрушение, а только созидание и ничего более того. А это означает, что невозможно осуществлять процесс созидания, через такой процесс, который имеет прямо противоположное значение выражаемое обратной эквивалентной связью, то есть не равен созиданию. Иными словами - это именно тот случай, когда вы просите воды, а вас её напротив вовсе лишают. И чем больше вы просите, тем вам яснее дают понять, что вы её не получите. Абсолютна ясна реакция человека по отношению к такому положению. Возвращаясь в примеру слова "эссе", чем больше вы просите сигареты "эссе", тем настойчивей продавщица твердит: - Это литературный жанр. Иными словами, если вы стремитесь достигнуть собственную цель за счёт права другого человека или объекта взаимодействия, который стремится достигнуть свою цель, таким образом мы всегда достигаем эффект нарушения обратной эквивалентности, что осознаётся нами, как противостояние друг другу или ненависть.
Если мы заменим информационные объекты из вышеприведённого примера, аналогичными им по свойствам другими глобальными информационными объектами, то получим следующее:
где "эссе" (условно запрашиваемая информационная потребность в сигаретах) или то, что человек осознаёт, как жизнь, (так же запрашиваемая информационная потребность) сталкивается с другим информационным объектом, получая от этого контакта взаимодействия, не равный ему самому ответ, "литературный жанр", что осознаётся объектами взаимодействия, как отсутствие связи между ними, неравенство, отсутствие взаимопонимания в конечном итоге при максимальном логическом развитии полное противопоставление себе самому.
Кратко это можно описать так - человек как бы спрашивает у реальности - что есть жизнь? И получает ответ от неё - это смерть. Получая такой ответ от реальности, человек не в состоянии любить саму жизнь, которая проявляет себя объективностью и целостностью. И подобный ответ его абсолютно не устраивает, что приводит к положению противостояния объекту, выражающему саму жизнь.
Вы когда нибудь видели ребёнка, который орёт во всё горло, катается по полу и в состоянии полной истерики и не желает идти дальше, потому что устал? Или потому что не хочет уходить из торгового центра, где много развлечений и игрушек. Дети демонстративно ложатся на пол и лежат, даже если это зима и холодно. Даже если грязно и вокруг много людей, которые смотрят на них. Но даже если ребёнку и удастся "сломать" родителей и они возьмут его на руки и понесут сами, или потащат за руку силком из торгового центра, то
реализация потребности родителей "быть дома" (направленное действие и цель) и привязанная к ним косвенно через это, потребность самого ребёнка, (но осознаваемая им самим, как противопоставленное действие по отношению к родительскому) окажется вопреки его желанию быть среди игрушек или отказу самому идти, выполненной, так как его цели в конечном итоге определяют родители и их собственные потребности и цели. Ребёнок в итоге всё равно, будучи зависимым от управляемой его родителями ситуацией, окажется дома. И собственную цель ощутит как нереализованную, через противопоставление ощущаемой им как враждебная, цель самих родителей.
Иными словами не человек определяет жизнь, а жизнь определяет человека, а значит ставит перед ним такие цели, какие свойственны ей самой, где человек в конечном итоге окажется не там, где он хочет, а там, куда ведёт его цель самой жизни, в глобальном смысле этого значения.
Но как же тогда решить проблему тотального несоответствия человеческого вопроса и ответа самой жизни ему?
Теперь нам предстоит вернуться к тому моменту, когда я писал о том, что человек всегда воспринимает в конечном итоге информацию: о вещи, о себе самом, о чьей-то мысли, и наконец, самое интересное, о собственной мысли, как объекте наблюдения.
Последнее свойство человека и способность наблюдать собственный процесс мышления, рефлексия, обнаруживает уникальную возможность к трансформации его собственного самоощущения от "Я" которое равно процессу мышления, к "Я", которое ему не равно, что так же верно, как противопоставление.
На сегодняшний момент времени абсолютно достоверными фактами являются данные нейрофизиологии, открывающие нам то, что процесс мышления в самоощущении, где "Я" равно процессу "думаю", является автоматической системой реагирования, основанной на стереотипах, которые в свою очередь складываются из двух глобальных понятий - общечеловеческий опыт жизни и опыт жизни конкретной личности, который складывается уже в свою очередь под влиянием социума, в период формирования аппарата мышления человека. Этот механизм обучения, всегда стремится к реализации информации о наилучшем способе выживания, то есть постоянно и беспрерывно связан с информационным пространством самой жизни и тем объектом, который её выражает.
Однако, так как человеческая популяция использует систему, основанную на сравнении, что не является реальным непрерывным действием, а является напротив, дискретным действием, в смысле её собственного внутреннего информационного пространства, частными свойствами которого является не сама по себе целостность, обусловленная обратной эквивалентной связью, а наоборот, эта эквивалентность стремится к постоянному нарушению, за счёт свойств противопоставления внутри целостности.
Таким образом абсолютную целостность мы воспринимаем, как диалектическую систему и закон - единство и борьба противоположностей, что заставляет человека ощущать любой информационный целостный объект, и себя самого, как два противопоставленных друг другу информационных уникальных субъекта, переживая их в ощущении нашего мира.
Отсюда мы видим реальность в логике начала и конца, жизни и смерти, дня и ночи, мужчины и женщины, холодного и горячего, сладкого и солёного и в конечном итоге, как сознание и бессознательное, как душа и тело.
В итоге примирить диалектическое существо, с двойственным началом, которое вечно воюет само с собой и ощущает внутреннее как внешнее, позволяет способность к наблюдению за собственным процессом сознания и формирование такого самоощущения, в котором обе этих сущности осознают друг друга и вынужденно мирятся, так как видят, что они абсолютно взаимозависимы и нераздельны. Такая связь определена психологией Юнга и Фромма, как целостность человеческого сознания, где личность смогла построить "мост", диалог между двумя непримиримыми врагами в самоощущении человека этого мира, где одной своей частью, душой, он принадлежит вечности, а другой своей частью он принадлежит смерти.
Только осознав эту целостность, человек может сделать осознанный выбор против собственного самоощущения, как смертного существа, в пользу бесконечного существа.
Это позволит с позиции нового самоощущения, перейти в разряд такой связи с природой, которая будет выражать эквивалентный ответ на вопрос человека о том, кто он и с какой целью рождён.
Это значит рождение абсолютно нового мира ценностей и мира абсолютно иных систем, основой которым будет являться не попытка обмануть саму жизнь, действуя за счёт разрушения других жизней и собственной сущности и человеческих желаний, и собственных неосознанных желаний, а во имя созидания любого явления, которое ранее стремилось к противопоставлению.
Это поворот человека и его мышления, на момент глобального кризиса, в сторону, ведущую из него. Это мир, где человек научится не сравнивать себя с другим, а воспринимать себя, как часть другого человека и его собственных проблем. Это мир взаимопонимания, который строится всего лишь на осознании каждого конкретного человека, через информированность на институциональном уровне, уровне воспитания, в котором люди получали достаточные и систематизированные знания современных научных положений о системах, где самым важной системой является сам человек.
Невозможно не выйдя из ложной парадигмы человеческого самоощущения, построить системы внутри неё самой, способные создавать не дихотомические, а, целостные стереотипы в поведении людей. Стереотипы, созидающего а не разрушающего автоматического характера.
В итоге, совершенно напрасно кто-то ждёт того, что все люди мира должны стать столь умными, что бы понимать эту гуманистическую идею. Достаточно её просто запустить, как механизм институционального уровня, что бы любой человек воспринимал так же естественно логику этого поведения, как и сегодня он естественным образом, абсолютно не осознавая того, разрушает свою жизнь и жизнь общества, и в конечном итоге это сказывается на самоощущении всей человеческой популяции. Точно так же как человек впитывает язык и культуру своего общества, не помня, как это произошло, точно так же человек впитает и любую иную идею, веря в неё искренне, будь она истиной или тотально противопоставленной ей ложью. В конечном итоге сама жизнь, определяя цель, приведёт человека домой. Нам остаётся только выбрать, согласиться с её собственной целью или бессмысленно сопротивляться, пытаясь придумать за неё какой-то иной финал.
P/S
Смысл истории с капризным ребёнком в том, что не понимая, что он своими действиями вредит себе и окружающим, заканчивается часто жестким ответом матери или отца, который принуждает его сделать то, что ребёнок не хочет или говорит, что не может. И в конечном итоге, это действие всегда должно быть направлено на такое, которое во взаимоотношениях между ребёнком и его родителями приводит к осознанию правильного взаимоотношения. Правильное же взаимоотношение всегда ведёт к ощущению счастья, сил, реализации, свободе личности и её уникальности, отличности от других, здоровью, словом тому, что смело можно назвать - созидание.
Если вы правильно строите свои взаимоотношения с людьми, они всегда ведут к условию внутреннего ощущения нарастающей связи, которую мы осознаём, как любовь и глубокое уважение. Где проблемы осознаются как повод ко всё большему укреплению этой связи, а не наоборот.
В итоге, переоценка прошлого, бывает приводит человека к благодарности по отношению к тому, что ранее ощущалось им, как несправедливость. Это возможность прощения, быть может самого важного, что необходимо осознать внутри себя. Самого центрального человеческого вопроса о потерянном рае.
Так что же случается, а что нет и почему? Почему не случается то, чего так хочешь и случается вовсе не то, чего даже не хочешь, а вообще что-то третье?
Встретил девушку, хочешь, но не случается.
Дай случиться ему самому. Кому же? Случаю. Дай случаю случиться самому. Как это так, непонятно?
Это так же непонятно, как многое, что становится непонятным, если не ставить цель понять.
Итак поставим цель - понять, а значит дадим случится тому, что хотим, что бы оно случилось.
В информационном мире много мнений. Но что взять? Почему одно мнение нравится а друге нет? И почему вообще так случилось, что одному нравится то, что не нравится другому? А вдруг именно там, в том, что мне так не нравится лежит ответ на то, что теперь я называю моей целью - "понять во что бы то ни стало".
Если не принять чью-то мысль, её невозможно понять. Почему? Потому что мысль отражает сущность, и если я отбросил чью то мысль в сторону, я не пойму её внутреннего содержания. То, что выражает саму сущность. Вот передо мной стоит кувшин. Стены его не прозрачны и он закрыт. Но я чувствую, что внутри него что-то есть. Что бы узнать что там, мне надо открыть кувшин и предложить содержимое моим органам чувств. И они мне расскажут, что в кувшине. Только потом я могу сказать, хорошо это для меня или нет.
Точно так же происходит с чужим отношением к предмету, которое не только не совпадает с вашим собственным отношением, но и вовсе отлично от него, что вызывает чувство раздражения и неприятия.
Но позвольте! Как то странно получается. Вы взяли кувшин, поняли, что там что-то есть, но не узнав что именно, сказали однозначно, что это плохо. Более того, есть явное желание разбить этот кувшин вовсе.
Многие скажут - что за вздор?! Как можно сравнивать какой-то там кувшин и чьё то мнение? Что в них общего? Это вообще, что зайца и редис скрестить. Чушь какая-то!
Но не спешите с выводами.
Давайте всё рассмотрим с точки зрения информации.
Человек всегда воспринимает в конечном итоге информацию. О вещи, о себе самом, о чьей-то мысли и наконец, самое интересное, о собственной мысли, которую осознаёт как объект наблюдения.
Кувшин - это информация. Он не прозрачный, в нём что-то есть. Всё это воспринимаемая информация. И так, чья-то мысль так же информация и по аналогии с информацией о кувшине, всякая мысль имеет её внутреннее содержание.
Допустим, я говорю слово - эссе. У воспринимающего, мгновенно возникает ассоциация с услышанным словом, которую он мгновенно интерпретирует в образ.
Я говорю - эссе, и большинство отвечает - литературный жанр. Но я имел ввиду иное - марку сигарет. Итак, слово, это конструктор, позволяющий нам передавать образы восприятия. Внешняя часть, лингвистическая - само слово, но его внутренняя часть наполнена такой информацией, которая рождает собственные ассоциации, информационные образы у воспринимающего. Если вы постоянно курите сигареты этой марки, то возможно моя и ваша внутренняя ассоциация с этим словом совпадут. Человек осознаёт подобное совпадение, как взаимопонимание, в связи с чем возникает контакт, внутри которого возникает два условия - потребность и реализация потребности.
Можно перевести это на бытовой условный случай: - продавщице в магазине продуктов, где так же продаются табачные изделия на кассе, вы говорите слово - эссе. Однако, если она вдруг ответит вам - литературный жанр, так и не дав пачку нужных вам сигарет, то ваш запрос не будет реализован, в связи с чем возникнет неудовлетворённость и как реакция, раздражение. Чем сильнее ваша потребность и несовпадение во взаимодействии с другим человеком, или иным объектом взаимодействия, который реагирует на ваши слова, как-то не так, как вы сами ожидаете, тем сильнее раздражение, возникающее в следствии этого.
Следует сказать о феномене человеческой агрессии, которая возникает именно из за того, что при взаимодействии, желание одного человека, как сложно выраженная уже информационная конструкция (речь), имеет такую обратную связь, идущую от ответной реакции другого человека, которая вовсе не отвечает изначальному вашему собственному запросу, что осознаётся, как взаимопонимание, понимание, адекватность.
Но так как природа человеческого желания - хотеть чего либо, в глобальном смысле выражается самим жизненным процессом и осознаётся человеком, как его собственная жизнь, то такое несоответствие обратной реакции на собственный запрос (желание), ощущается человеком, как угроза реализации его собственному желанию, которое он сам для себя отождествляет с понятием - я живу.
Что бы было понятно, о чём я говорю, стоит вспомнить самую распространённую реакцию,
которая всё чаще встречается между близкими людьми при их взаимодействии. И в которой звучит следующее:
- Ты убиваешь меня своими, словами! - говорит жена мужу, мать своему ребёнку, мужчина женщине, хотя ни кто ни кого в действительности в прямом физическом смысле не трогает. Однако, реакции, которые возникают, как несоответствие внутреннего запроса, при обратной связи, могут легко в итоге довести человека до реального инфаркта, болезни, депрессии и т.п.
Очевидно вам не раз доводилось злится на какой-нибудь не живой предмет, к примеру, светофор, который долго горит запрещающим сигналом для вашего свободного движения. Желание движения, может быть вызвано опаздыванием на работу или на встречу, но действие неживой системы, может вовсе не совпадать с вашим желанием двигаться дальше, в итоге возникает агрессия, как несовпадение её обратной реакции по отношению к вашему собственному желанию. В итоге вы восклицаете - сегодня всё против меня! Или говорите - сегодня не мой день.
Нужно так же отметить, что свойство самой жизни, выражено беспрерывным информационным обменом, внутри которого всегда существует механизм обратной эквивалентности, которую мы ощущаем, как истина.
Однако, в нашем мире, мы видим совершенно иную действительность, внутри которой нет никогда практически обратной эквивалентности по отношению к запросу наших собственных желаний. Это выражается тем, что нет ни какой гарантии, что у вас получится то, что вы задумали, как концепция собственного существования. В конечном итоге, общая направленность желания человека, выражается в стремлении создания таких жизненных ситуаций, которые бы отвечали чувству обратной эквивалентности, что мы осознаём, как взаимопонимание объектов взаимодействия и связь объектов взаимодействия, удовлетворение, выражающееся чувством радости и здоровья. Если я абсолютизирую объекты взаимодействия, то в итоге, мы логически сделаем вывод о том, что человек всегда имеет дело только с самой жизнью, как с целостным сложно выраженным объектом. Внутри этой логики, человек, осознающий конец собственной жизни, подвергает сомнению всю цепочку собственных действий, стоящих перед этим итоговым событием, так как смерть стирает все его желания, выраженные его самоощущением.
Можно ли поспорить с этим, казалось бы, абсолютным для любого явления нашего мира финалом? Смерть.
Но немного вернёмся к логике наших свободных действий, которые осознаются нами, как свобода выбора.
Мы теперь чётко понимаем, что внутри жизни и её логики, которая неизбежно приводит всё к концу, так как имеет и начало, мы имеем так называемую свободу действий. Но не является ли это страшным издевательством жизни над всем сущим?
Представьте, что вы хотите прийти домой. Вот дорога, вот ваш дом. Однако, сколько бы вы не шли по дороге, вы ни как не можете дойти до дома. И прежде, чем вы это успеваете сделать, вы умираете как сущность.
Разберём этот пример: Дом - это цель. Желание - быть в нём. Действие - я иду. Направленное действие - я иду к дому.
В реальности, когда мы идём домой, если не случается чего-то такого, что этому препятствует, мы всегда в итоге попадаем именно домой.
Однако, это абсолютно логически не укладывается в общую жизненную концепцию, так как "идя" по жизни и выбирая внутри неё какие-то собственные цели, мы в итоге приходим не к цели, а через любую, даже полностью реализованную цель, к смерти, что абсолютно не входит в наше желание жить и полностью ему противоречит. Более того, многие внутри этой концепции жизни, уже осознают бессмысленность множества внутренних устремлений и не идут к ним, так как они сами по себе ощущаются людьми, как бессмысленные. В конечном итоге множество людей сегодня приходят к выводу о том, что жизнь, которую они получили, и которая ощущается ими во взаимодействии с социумом, не имеет сама по себе смысла. В итоге это приводит людей к депрессиям, болезням и самоубийству всех типов и видов, медленному или быстрому.
Так как в человеке невероятно силён инстинкт жизни и страх перед смертью, то это обстоятельство вынуждает его смирится и рационализировать общую внутрисоциальную тенденцию (глобально популяционное взаимодействие) нарушенной логической цепочки, которая не соответствует на самом деле его самоощущению в выражении его внутреннего желания жить. Рационализация - это ни что иное, как ложное убеждение в том, что совершаемое информационное в конечном итоге действие, которое мы осознаём, как свобода воли, получает эквивалентный ответ от действительности, и при этом совершенно не берём в расчёт то, что называется простым и понятным всем словом - созидание.
Смысл слова, "созидание", ни как не включает в себя противоположного значения, внутри целостности этого объекта. Созидание не есть разрушение, а только созидание и ничего более того. А это означает, что невозможно осуществлять процесс созидания, через такой процесс, который имеет прямо противоположное значение выражаемое обратной эквивалентной связью, то есть не равен созиданию. Иными словами - это именно тот случай, когда вы просите воды, а вас её напротив вовсе лишают. И чем больше вы просите, тем вам яснее дают понять, что вы её не получите. Абсолютна ясна реакция человека по отношению к такому положению. Возвращаясь в примеру слова "эссе", чем больше вы просите сигареты "эссе", тем настойчивей продавщица твердит: - Это литературный жанр. Иными словами, если вы стремитесь достигнуть собственную цель за счёт права другого человека или объекта взаимодействия, который стремится достигнуть свою цель, таким образом мы всегда достигаем эффект нарушения обратной эквивалентности, что осознаётся нами, как противостояние друг другу или ненависть.
Если мы заменим информационные объекты из вышеприведённого примера, аналогичными им по свойствам другими глобальными информационными объектами, то получим следующее:
где "эссе" (условно запрашиваемая информационная потребность в сигаретах) или то, что человек осознаёт, как жизнь, (так же запрашиваемая информационная потребность) сталкивается с другим информационным объектом, получая от этого контакта взаимодействия, не равный ему самому ответ, "литературный жанр", что осознаётся объектами взаимодействия, как отсутствие связи между ними, неравенство, отсутствие взаимопонимания в конечном итоге при максимальном логическом развитии полное противопоставление себе самому.
Кратко это можно описать так - человек как бы спрашивает у реальности - что есть жизнь? И получает ответ от неё - это смерть. Получая такой ответ от реальности, человек не в состоянии любить саму жизнь, которая проявляет себя объективностью и целостностью. И подобный ответ его абсолютно не устраивает, что приводит к положению противостояния объекту, выражающему саму жизнь.
Вы когда нибудь видели ребёнка, который орёт во всё горло, катается по полу и в состоянии полной истерики и не желает идти дальше, потому что устал? Или потому что не хочет уходить из торгового центра, где много развлечений и игрушек. Дети демонстративно ложатся на пол и лежат, даже если это зима и холодно. Даже если грязно и вокруг много людей, которые смотрят на них. Но даже если ребёнку и удастся "сломать" родителей и они возьмут его на руки и понесут сами, или потащат за руку силком из торгового центра, то
реализация потребности родителей "быть дома" (направленное действие и цель) и привязанная к ним косвенно через это, потребность самого ребёнка, (но осознаваемая им самим, как противопоставленное действие по отношению к родительскому) окажется вопреки его желанию быть среди игрушек или отказу самому идти, выполненной, так как его цели в конечном итоге определяют родители и их собственные потребности и цели. Ребёнок в итоге всё равно, будучи зависимым от управляемой его родителями ситуацией, окажется дома. И собственную цель ощутит как нереализованную, через противопоставление ощущаемой им как враждебная, цель самих родителей.
Иными словами не человек определяет жизнь, а жизнь определяет человека, а значит ставит перед ним такие цели, какие свойственны ей самой, где человек в конечном итоге окажется не там, где он хочет, а там, куда ведёт его цель самой жизни, в глобальном смысле этого значения.
Но как же тогда решить проблему тотального несоответствия человеческого вопроса и ответа самой жизни ему?
Теперь нам предстоит вернуться к тому моменту, когда я писал о том, что человек всегда воспринимает в конечном итоге информацию: о вещи, о себе самом, о чьей-то мысли, и наконец, самое интересное, о собственной мысли, как объекте наблюдения.
Последнее свойство человека и способность наблюдать собственный процесс мышления, рефлексия, обнаруживает уникальную возможность к трансформации его собственного самоощущения от "Я" которое равно процессу мышления, к "Я", которое ему не равно, что так же верно, как противопоставление.
На сегодняшний момент времени абсолютно достоверными фактами являются данные нейрофизиологии, открывающие нам то, что процесс мышления в самоощущении, где "Я" равно процессу "думаю", является автоматической системой реагирования, основанной на стереотипах, которые в свою очередь складываются из двух глобальных понятий - общечеловеческий опыт жизни и опыт жизни конкретной личности, который складывается уже в свою очередь под влиянием социума, в период формирования аппарата мышления человека. Этот механизм обучения, всегда стремится к реализации информации о наилучшем способе выживания, то есть постоянно и беспрерывно связан с информационным пространством самой жизни и тем объектом, который её выражает.
Однако, так как человеческая популяция использует систему, основанную на сравнении, что не является реальным непрерывным действием, а является напротив, дискретным действием, в смысле её собственного внутреннего информационного пространства, частными свойствами которого является не сама по себе целостность, обусловленная обратной эквивалентной связью, а наоборот, эта эквивалентность стремится к постоянному нарушению, за счёт свойств противопоставления внутри целостности.
Таким образом абсолютную целостность мы воспринимаем, как диалектическую систему и закон - единство и борьба противоположностей, что заставляет человека ощущать любой информационный целостный объект, и себя самого, как два противопоставленных друг другу информационных уникальных субъекта, переживая их в ощущении нашего мира.
Отсюда мы видим реальность в логике начала и конца, жизни и смерти, дня и ночи, мужчины и женщины, холодного и горячего, сладкого и солёного и в конечном итоге, как сознание и бессознательное, как душа и тело.
В итоге примирить диалектическое существо, с двойственным началом, которое вечно воюет само с собой и ощущает внутреннее как внешнее, позволяет способность к наблюдению за собственным процессом сознания и формирование такого самоощущения, в котором обе этих сущности осознают друг друга и вынужденно мирятся, так как видят, что они абсолютно взаимозависимы и нераздельны. Такая связь определена психологией Юнга и Фромма, как целостность человеческого сознания, где личность смогла построить "мост", диалог между двумя непримиримыми врагами в самоощущении человека этого мира, где одной своей частью, душой, он принадлежит вечности, а другой своей частью он принадлежит смерти.
Только осознав эту целостность, человек может сделать осознанный выбор против собственного самоощущения, как смертного существа, в пользу бесконечного существа.
Это позволит с позиции нового самоощущения, перейти в разряд такой связи с природой, которая будет выражать эквивалентный ответ на вопрос человека о том, кто он и с какой целью рождён.
Это значит рождение абсолютно нового мира ценностей и мира абсолютно иных систем, основой которым будет являться не попытка обмануть саму жизнь, действуя за счёт разрушения других жизней и собственной сущности и человеческих желаний, и собственных неосознанных желаний, а во имя созидания любого явления, которое ранее стремилось к противопоставлению.
Это поворот человека и его мышления, на момент глобального кризиса, в сторону, ведущую из него. Это мир, где человек научится не сравнивать себя с другим, а воспринимать себя, как часть другого человека и его собственных проблем. Это мир взаимопонимания, который строится всего лишь на осознании каждого конкретного человека, через информированность на институциональном уровне, уровне воспитания, в котором люди получали достаточные и систематизированные знания современных научных положений о системах, где самым важной системой является сам человек.
Невозможно не выйдя из ложной парадигмы человеческого самоощущения, построить системы внутри неё самой, способные создавать не дихотомические, а, целостные стереотипы в поведении людей. Стереотипы, созидающего а не разрушающего автоматического характера.
В итоге, совершенно напрасно кто-то ждёт того, что все люди мира должны стать столь умными, что бы понимать эту гуманистическую идею. Достаточно её просто запустить, как механизм институционального уровня, что бы любой человек воспринимал так же естественно логику этого поведения, как и сегодня он естественным образом, абсолютно не осознавая того, разрушает свою жизнь и жизнь общества, и в конечном итоге это сказывается на самоощущении всей человеческой популяции. Точно так же как человек впитывает язык и культуру своего общества, не помня, как это произошло, точно так же человек впитает и любую иную идею, веря в неё искренне, будь она истиной или тотально противопоставленной ей ложью. В конечном итоге сама жизнь, определяя цель, приведёт человека домой. Нам остаётся только выбрать, согласиться с её собственной целью или бессмысленно сопротивляться, пытаясь придумать за неё какой-то иной финал.
P/S
Смысл истории с капризным ребёнком в том, что не понимая, что он своими действиями вредит себе и окружающим, заканчивается часто жестким ответом матери или отца, который принуждает его сделать то, что ребёнок не хочет или говорит, что не может. И в конечном итоге, это действие всегда должно быть направлено на такое, которое во взаимоотношениях между ребёнком и его родителями приводит к осознанию правильного взаимоотношения. Правильное же взаимоотношение всегда ведёт к ощущению счастья, сил, реализации, свободе личности и её уникальности, отличности от других, здоровью, словом тому, что смело можно назвать - созидание.
Если вы правильно строите свои взаимоотношения с людьми, они всегда ведут к условию внутреннего ощущения нарастающей связи, которую мы осознаём, как любовь и глубокое уважение. Где проблемы осознаются как повод ко всё большему укреплению этой связи, а не наоборот.
В итоге, переоценка прошлого, бывает приводит человека к благодарности по отношению к тому, что ранее ощущалось им, как несправедливость. Это возможность прощения, быть может самого важного, что необходимо осознать внутри себя. Самого центрального человеческого вопроса о потерянном рае.
|
|
Достаточно низко поклониться. |
В нашей жизни невероятную роль играет то, кто нас окружает и кого мы держимся сами. В конечном итоге я думаю, что самоотверженная борьба личности за право быть уникальным и при этом абсолютно интегральным с обществом, пусть до конца может и не побеждает в этом мире никогда, однако всегда заслуживает глубочайшего уважения. И как было сказано, дело не в том, что люди перестали верить, а в том, что нет того, кто достаточно низко мог бы поклониться Ему. И если я вижу в людях подобные попытки и усилия, быть может даже неосознанные, я низко склоняю свою голову перед ними.
Пока мы не осознаем ту ценность и ответственность, которая находится внутри нас, жизнь будет пустой, хоть быть может и насыщенной повседневными заботами. В конечном итоге мы можем однажды понять, что важны не те мы, кто думает, а Тот, Кто идёт через каждый атом вселенной, через каждую клетку вашего тела, через каждого человека, соединяя всё в единую сущность.
В конечном итоге это надо принять глубоко в своём сознании.
|
|
Что такое - думать? |
Каждый человек в нашем мире определённо знает, что он умеет думать. Более того, все абсолютно уверенны в том, что процесс мышления выделяет человека среди всех прочих животных, способных к мышлению. Однако на этом, как правило, познания и заканчиваются. Возможно, многие ещё вспомнят способность человека к абстрактному мышлению, хотя процент таковых будет уже меньшим. Если спросить человека о том, что такое диалектика, то возможно некоторые воспроизведут её законы. Однако, если проанализировать способ мышления большинства, то окажется, что эти диалектические законы ни каким образом не отражаются в их способе того процесса, который мы осознаём, как процесс - думать.
Итак, для чего же человеку дан ум и какие функции у него существуют от природы? Выполняет ли человеческое сознание своё функциональное назначение или является лишь формальным способом обработки тех лишь только данных, которые воспринимаются им, как внешние по отношению к нему самому?
Давайте проверим, думаем ли мы вообще или путаем это понятие и процесс, с его собственным нарушением, который используем в повседневной жизни, принимая как норму данное нарушение?
Для того, что бы рассмотреть общую функциональность нашего сознания, нам необходимо будет перед глазами иметь её общую модель, используя те современные научные данные, что у нас есть.
Сознание человека состоит из первой сигнальной системы и второй сигнальной системы (нейрофизиология).
Сознание человека состоит из бессознательного и сознания (психология).
Зная хотя бы только это, уже можно задаться вопросом - как это работает? Однако необходимо ещё добавить и следующее - сознание дискретно, то есть способно определять связи между объектами наблюдения только последовательно, эмпирически.
Важно так же знать, что бессознательное или первая сигнальная система, обрабатывает информацию в непрерывности, обнаруживая связи между всем, что сознание одновременно с этим непрерывным процессом связи воспринимает в последовательной логической системе, где невозможна такая логика, которая бы позволила сломать или обойти её собственную логическую последовательность.
Первый вывод, который можно сделать, заключается в том, что человек использует не всю систему восприятия, которая заложена в него от природы, а только её часть, которую определяет, как целостность саму по себе.
В итоге, если процессом мышления мы называем в повседневной жизни такой процесс, который в философии, психологии и нейрофизиологии обозначен, как дискретное, эмпирическое сознание, то оно само по себе не является аналитическим, системным, диалектическим процессом мышления или высшей функцией человеческого сознания. Не отражает само по себе всю систему человеческого восприятия, а следовательно не может называться процессом в полном смысле этого слова, которая отражала бы целостную функциональность высшей нервной деятельности человека.
Говоря проще, обывательским языком, тот процесс, который осознаётся нами как "я думаю", ничего общего с целостным процессом не имеет, так как не выполнено главное - его общее назначение, выражающее его целостную функцию. Функция же целостного сознания является такой системой, где между сознанием и бессознательным, первой и второй сигнальными системами налажена связь для их параллельного взаимодействия и осознанного контакта. Иными словами, высшей функцией человеческого сознания и определением процесса мышления, является та точка контроля, которая находится между первой и второй сигнальными системами восприятия, отождествлена с самоощущением человеческого "я" и выражает себя условным наблюдателем двух обменных информационных процессов, диалектически друг другу противопоставленных как системы, где одна осуществляет прямой контакт с непрерывной действительностью, а другая эту непрерывность видит в логике дискретности.
Отсюда соответственно произошло то нарушение общей целостной функциональности человеческого восприятия, где эмпирическая его часть, опирающаяся на метод сопоставления, стала воспринимать собственную диалектическую целостность, в системе координат эмпирической логики, как глобальное противопоставление самой себе. Отделившись от целостности, оно изменило человеческое самоощущение, самость, привело к искажению всей ценностной базы человека в самом корне её построения, так как сама является частью опорного механизма корневой, изначально целостной, системы восприятия.
Отсюда вечное человеческое ощущение об "утраченном рае", ощущение проклятости, ощущение принадлежности к общей деструктивности, заставляющей человека считать себя изначально злым. Ложные выводы Карла Лоренца о так называемом "гене зла" внутри человека и о необходимости его реализации. О феномене фашизма, садизма и насилии, которое свойственно этому общечеловеческому заболеванию. Эрих Фромм в своей книге "Анатомия человеческой деструктивности", тщательно проанализировал ход мысли Лоренца, доказав, что природа феномена человеческой агрессии, как внутри популяции, так и вне её, кроется именно в нарушении внутренних процессов человеческого мышления и как следствие, рационализирована в искаженных выводах о реальности, и о самом себе. В итоге, это может показаться странным, но именно общее нарушение, которое смело сегодня можно назвать самым масштабным заболеванием человеческой популяции, а именно, ложное представление о собственной системе мышления, как следствие, запустили такие процессы и пути человеческого развития, которые осознаются нами, как глобальный кризис или кризис человеческого сознания. Привели к фашизму и сегодняшнему терроризму. К общему деструктивному построению любых систем, так как основой им служит не целостное сознание, а такое, которое отрицает само себя, следовательно проявлено во всей человеческой деятельности и системах построения.
В итоге современный человек не только не знает, что такое целостный, диалектический процесс мышления, который отражает ему собственное самоощущение и ощущение реальности, но и вообще никогда, в истинном значении этой функциональности не осуществляет его в течении всей своей жизни.
Тот процесс, который сегодня описан, как информационная реальность или квант-реальность, где происходит глобальный обмен на всех его уровнях, от атомарного до уровня клеток, где человеком является тот, кто осуществляет контроль информационных обменов, сам по себе является автоматической системой информационного обмена, ложно считая, что имеет некую свободу выбора в этом.
Очень важно подчеркнуть то, что то самоощущение, которое сегодня осознаётся, как человек, как концепция - "я думаю", является автоматической системой обмена, как информационного уровня, так и отраженного на биологическом уровне, что полностью не соответствует действительной современной научной картине реальности о человеческом сознании и его сущности, и ставит так называемого "человека" в настоящем времени в безвыходное положение, всегда опережая его осознанность от 50 до 250 миле секунд.
В итоге отсутствия сихронизированности между работой первой и второй сигнальной системы восприятия и отсутствием между ними связи, человек обречён воспринимать динамическую реальность, как противоестественную стремлению собственного эмпирического мышления, которое наоборот, стремиться к погашению любой динамики и воспринимает покой, не как непрерывность информационного движения, а наоборот, как её полное отсутствие, бессознательно стремясь к ней, и неизбежно её достигает в самоощущении смерти.
Резюмируя всё вышесказанное, можно констатировать, что современный человек не знает, что такое процесс мышления вовсе, что такое рефлексирование, что такое диалектическая модель его сущности. Он является абсолютно детерминированной частью непосредственной эволюции, которая никогда не позволяет ему абсолютизировать его рациональные идеи, внося в них эффект неожиданности и случая, который никогда не может быть просчитан эмпирическим умом. В итоге подобного искажения реальности, мы абсолютно потеряли смысл свободы воли, так как он неизбежно разрушается внутри системы, где существует логика начала и конца. Конца любой системы, у которой есть начало.
В заключении я хочу вспомнить удивительные слова из Бхагавад Гиты.
Из всех людей только тот, кто знает, что Я - нерожденный и не имеющий начала верховный повелитель всех миров, неподвластен иллюзии и свободен от всех грехов.
Разум, знание, свобода от сомнений и иллюзии, снисходительность, правдивость, способность обуздывать чувства и ум, счастье, горе, рождение и смерть, страх и бесстрашие, непричинение вреда, уравновешенность, удовлетворенность, аскетичность, щедрость, слава и бесславие - все эти разнообразные качества живых существ созданы Мной одним.
Семь великих мудрецов, а до них четыре других великих мудреца, так же как и Ману [прародители человечества], появились из Меня, порожденные Моим умом, и от них пошли все живые существа, населяющие различные планеты.
Тот, кто действительно постиг Мое величие и мистическое могущество, посвящает всего себя чистому преданному служению; в этом нет и не может быть никаких сомнений.
Я - источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из Меня. Мудрецы, постигшие эту истину, служат и поклоняются Мне всем сердцем.
Все мысли моих чистых преданных поглощены Мной, и вся их жизнь посвящена Мне. Всегда делясь друг с другом знанием и беседуя обо Мне, они испытывают огромное удовлетворение и блаженство.
Тех, кто постоянно служит Мне с любовью и преданностью, Я наделяю разумом, который помогает им прийти ко Мне.
Желая оказать им особую милость, Я, находящийся в их сердцах, рассеиваю царящую там тьму неведения светочем знания.
Итак, для чего же человеку дан ум и какие функции у него существуют от природы? Выполняет ли человеческое сознание своё функциональное назначение или является лишь формальным способом обработки тех лишь только данных, которые воспринимаются им, как внешние по отношению к нему самому?
Давайте проверим, думаем ли мы вообще или путаем это понятие и процесс, с его собственным нарушением, который используем в повседневной жизни, принимая как норму данное нарушение?
Для того, что бы рассмотреть общую функциональность нашего сознания, нам необходимо будет перед глазами иметь её общую модель, используя те современные научные данные, что у нас есть.
Сознание человека состоит из первой сигнальной системы и второй сигнальной системы (нейрофизиология).
Сознание человека состоит из бессознательного и сознания (психология).
Зная хотя бы только это, уже можно задаться вопросом - как это работает? Однако необходимо ещё добавить и следующее - сознание дискретно, то есть способно определять связи между объектами наблюдения только последовательно, эмпирически.
Важно так же знать, что бессознательное или первая сигнальная система, обрабатывает информацию в непрерывности, обнаруживая связи между всем, что сознание одновременно с этим непрерывным процессом связи воспринимает в последовательной логической системе, где невозможна такая логика, которая бы позволила сломать или обойти её собственную логическую последовательность.
Первый вывод, который можно сделать, заключается в том, что человек использует не всю систему восприятия, которая заложена в него от природы, а только её часть, которую определяет, как целостность саму по себе.
В итоге, если процессом мышления мы называем в повседневной жизни такой процесс, который в философии, психологии и нейрофизиологии обозначен, как дискретное, эмпирическое сознание, то оно само по себе не является аналитическим, системным, диалектическим процессом мышления или высшей функцией человеческого сознания. Не отражает само по себе всю систему человеческого восприятия, а следовательно не может называться процессом в полном смысле этого слова, которая отражала бы целостную функциональность высшей нервной деятельности человека.
Говоря проще, обывательским языком, тот процесс, который осознаётся нами как "я думаю", ничего общего с целостным процессом не имеет, так как не выполнено главное - его общее назначение, выражающее его целостную функцию. Функция же целостного сознания является такой системой, где между сознанием и бессознательным, первой и второй сигнальными системами налажена связь для их параллельного взаимодействия и осознанного контакта. Иными словами, высшей функцией человеческого сознания и определением процесса мышления, является та точка контроля, которая находится между первой и второй сигнальными системами восприятия, отождествлена с самоощущением человеческого "я" и выражает себя условным наблюдателем двух обменных информационных процессов, диалектически друг другу противопоставленных как системы, где одна осуществляет прямой контакт с непрерывной действительностью, а другая эту непрерывность видит в логике дискретности.
Отсюда соответственно произошло то нарушение общей целостной функциональности человеческого восприятия, где эмпирическая его часть, опирающаяся на метод сопоставления, стала воспринимать собственную диалектическую целостность, в системе координат эмпирической логики, как глобальное противопоставление самой себе. Отделившись от целостности, оно изменило человеческое самоощущение, самость, привело к искажению всей ценностной базы человека в самом корне её построения, так как сама является частью опорного механизма корневой, изначально целостной, системы восприятия.
Отсюда вечное человеческое ощущение об "утраченном рае", ощущение проклятости, ощущение принадлежности к общей деструктивности, заставляющей человека считать себя изначально злым. Ложные выводы Карла Лоренца о так называемом "гене зла" внутри человека и о необходимости его реализации. О феномене фашизма, садизма и насилии, которое свойственно этому общечеловеческому заболеванию. Эрих Фромм в своей книге "Анатомия человеческой деструктивности", тщательно проанализировал ход мысли Лоренца, доказав, что природа феномена человеческой агрессии, как внутри популяции, так и вне её, кроется именно в нарушении внутренних процессов человеческого мышления и как следствие, рационализирована в искаженных выводах о реальности, и о самом себе. В итоге, это может показаться странным, но именно общее нарушение, которое смело сегодня можно назвать самым масштабным заболеванием человеческой популяции, а именно, ложное представление о собственной системе мышления, как следствие, запустили такие процессы и пути человеческого развития, которые осознаются нами, как глобальный кризис или кризис человеческого сознания. Привели к фашизму и сегодняшнему терроризму. К общему деструктивному построению любых систем, так как основой им служит не целостное сознание, а такое, которое отрицает само себя, следовательно проявлено во всей человеческой деятельности и системах построения.
В итоге современный человек не только не знает, что такое целостный, диалектический процесс мышления, который отражает ему собственное самоощущение и ощущение реальности, но и вообще никогда, в истинном значении этой функциональности не осуществляет его в течении всей своей жизни.
Тот процесс, который сегодня описан, как информационная реальность или квант-реальность, где происходит глобальный обмен на всех его уровнях, от атомарного до уровня клеток, где человеком является тот, кто осуществляет контроль информационных обменов, сам по себе является автоматической системой информационного обмена, ложно считая, что имеет некую свободу выбора в этом.
Очень важно подчеркнуть то, что то самоощущение, которое сегодня осознаётся, как человек, как концепция - "я думаю", является автоматической системой обмена, как информационного уровня, так и отраженного на биологическом уровне, что полностью не соответствует действительной современной научной картине реальности о человеческом сознании и его сущности, и ставит так называемого "человека" в настоящем времени в безвыходное положение, всегда опережая его осознанность от 50 до 250 миле секунд.
В итоге отсутствия сихронизированности между работой первой и второй сигнальной системы восприятия и отсутствием между ними связи, человек обречён воспринимать динамическую реальность, как противоестественную стремлению собственного эмпирического мышления, которое наоборот, стремиться к погашению любой динамики и воспринимает покой, не как непрерывность информационного движения, а наоборот, как её полное отсутствие, бессознательно стремясь к ней, и неизбежно её достигает в самоощущении смерти.
Резюмируя всё вышесказанное, можно констатировать, что современный человек не знает, что такое процесс мышления вовсе, что такое рефлексирование, что такое диалектическая модель его сущности. Он является абсолютно детерминированной частью непосредственной эволюции, которая никогда не позволяет ему абсолютизировать его рациональные идеи, внося в них эффект неожиданности и случая, который никогда не может быть просчитан эмпирическим умом. В итоге подобного искажения реальности, мы абсолютно потеряли смысл свободы воли, так как он неизбежно разрушается внутри системы, где существует логика начала и конца. Конца любой системы, у которой есть начало.
В заключении я хочу вспомнить удивительные слова из Бхагавад Гиты.
Из всех людей только тот, кто знает, что Я - нерожденный и не имеющий начала верховный повелитель всех миров, неподвластен иллюзии и свободен от всех грехов.
Разум, знание, свобода от сомнений и иллюзии, снисходительность, правдивость, способность обуздывать чувства и ум, счастье, горе, рождение и смерть, страх и бесстрашие, непричинение вреда, уравновешенность, удовлетворенность, аскетичность, щедрость, слава и бесславие - все эти разнообразные качества живых существ созданы Мной одним.
Семь великих мудрецов, а до них четыре других великих мудреца, так же как и Ману [прародители человечества], появились из Меня, порожденные Моим умом, и от них пошли все живые существа, населяющие различные планеты.
Тот, кто действительно постиг Мое величие и мистическое могущество, посвящает всего себя чистому преданному служению; в этом нет и не может быть никаких сомнений.
Я - источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из Меня. Мудрецы, постигшие эту истину, служат и поклоняются Мне всем сердцем.
Все мысли моих чистых преданных поглощены Мной, и вся их жизнь посвящена Мне. Всегда делясь друг с другом знанием и беседуя обо Мне, они испытывают огромное удовлетворение и блаженство.
Тех, кто постоянно служит Мне с любовью и преданностью, Я наделяю разумом, который помогает им прийти ко Мне.
Желая оказать им особую милость, Я, находящийся в их сердцах, рассеиваю царящую там тьму неведения светочем знания.
|
|
Вначале было слово |
"В начале было Слово, и Слово было у Бога и слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Всё через него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нём была Жизнь... "
Александр Моисеевич Пятигорский — философ, профессор Лондонского университета
"Начинать рефлексию надо конечно в реальной жизни с языка. С проверки всех языковых репрезентаций твоей мысли. Ведь они конечно тоже в конечном счёте случайны. И здесь понимание того, о чём ты говоришь, это попытка бросить "кости" так, что бы они легли в твою пользу. Но в этом процессе, этой работы, у Вас появится дополнительная возможность траты энергии, без которой нет энергии".
http://youtu.be/O-aLpU38VYs?t=43m46s
...Путешествуя по Аду, где Данте оказывался перед зрелищем знаменитого «чудовища обмана», которое он-то видит ясно, но вдруг чувствует, что описать его невозможно, невозможно другому передать увиденное (видимое)... Данте чувствует: если он скажет это слово (а он может сказать только его, ведь других просто не существует), то уже это будет не то, что он видит. И он вдруг восклицает так:
Мы истину, похожую на ложь, должны хранить сомкнутыми устами...
Говоря по-другому, он приходит к ситуации молчания... Приходится молчать.
http://gordon0030.narod.ru/archive/8961/index.html
Бауэр Эрвин Симонович - Биолог-теоретик, специалист по философии и методологии биологии. Окончил медицинский факультет Будапештского университета (1914). Участник Венгерской революции. После ее поражения эмигрировал. С 1925 года жил в СССР в Москве, с 1934 года - в Ленинграде. Ставил задачу создания теоретической биологии. Отличительным свойством живого считал принцип устойчивого неравновесия. В главном труде «Теоретическая биология» (1935) развил принцип устойчивого неравновесия неживых систем и построил на основе этого принципа целостную концепцию жизни и ее проявлений (обмен веществ, рост и развитие, раздражимость, размножение, наследственная изменчивость и т. д.)
http://www.uni-dubna.ru/departments/sustainable_de...udy_kafedry/Osnov_trudy/Bauer/
Смысл принципа устойчивого неравновесия заключается в биофизических аспектах направления движения энергии в живых системах. Б. утверждает, что работа, производимая данной структурой живой клетки, выполняется только за счет неравновесия, а не за счет поступающей извне энергии, тогда как в машине работа выполняется напрямую от внешнего источника энергии. Организм употребляет поступающую извне энергию не на работу, а только на поддержание данных неравновесных структур. "Следовательно, для сохранения их, т.е. условий системы, необходимо их постоянно возобновлять, т.е. постоянно затрачивать работу. Таким образом, химическая энергия пищи потребляется в организме для создания свободной энергии структуры, для построения, возобновления, сохранения этой структуры, а не непосредственно превращается в работу". (Там же, с. 55). Требуемая же по функции данной структуры работа выполняется автоматически, за счет самопроизвольного выпрямления структурной деформации.
http://www.chronos.msu.ru/biographies/aksyonov_bauer.html
Анохин Петр Кузьмич - (14 (26) января 1898, Царицын — 5 марта 1974, Москва) — советский физиолог, создатель теории функциональных систем, академик АМН СССР (1945) и АН СССР (1966), лауреат Ленинской премии (1972).
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%ED%EE%F5%E8%ED,_%....D0.B0.D0.B1.D0.BE.D1.82.D1.8B
Принципиальные вопросы общей теории функциональных систем М., 1971.
Трудно найти в истории цивилизации такой момент, о котором можно было бы сказать, что именно тогда возникла идея о целостности, о единстве мира. Вероятно, уже при первой попытке понять мир мыслящий человек столкнулся с поразительной гармонией между целым, «универсумом», и отдельными деталями, частями.
Дуглас Норт - американский экономист.
Лауреат Нобелевской премии по экономике 1993 года «за возрождение исследований в области экономической истории, благодаря приложению к ним экономической теории и количественных методов, позволяющих объяснять экономические и институциональные изменения»
Чтобы рассмотреть недостатки теории рационального выбора применительно к проблеме институтов, необходимо остановиться на двух особых аспектах человеческого поведения: 1) мотивация и 2) расшифровка информации об окружающем мире. Очевидно, что человеческое поведение гораздо сложнее того, которое описывают экономисты в своих моделях, опирающихся на функцию индивидуальной полезности. Во многих случаях следует говорить не только о максимизации личной выгоды, но и об альтруизме и самоограничении, которые радикально влияют на результаты выбора индивида. Далее мы видим, что люди воспринимают внешний мир путем переработки информации с помощью пред-существующих ментальных конструкций, обеспечивающих
понимание окружающего и решение возникающих проблем. Чтобы разобраться в этих вопросах, надо принять во внимание способность игроков перерабатывать информацию и сложность проблем, которые предстоит решить.
Рассмотрим сначала мотивацию индивидов.
В последние годы социобиологи и экономисты объединили усилия для изучения параллелей между основополагающими чертами генетического выживания и эволюционного развития животных и аналогичными моделями поведения людей. Многие экономисты пришли к выводу, что этот подход не только заслуживает внимания, но и позволяет сделать важные заключения о человеческом поведении. Джек Хиршлейфер в 1987 году следующим образом сравнил биологические и социоэкономические эволюционные модели:
Все эволюционные модели имеют некоторые общие черты. Во-первых,
предмет всех моделей — популяция. Даже когда мы говорим об отдельных единицах, то если процесс изменений носит эволюционный характер, его можно описать как изменение в популяции микроединиц. Так, эволюционный процесс болезни в теле отдельного человека — это результат отношений между популяциями бактерий, антител, клеток и т.д.
Эволюция экономики какого-либо отдельного государства — это результат изменения отношений между популяциями индивидов, торговых организаций и т.п. Эволюционные модели представляют собой сочетание постоянства (наследования) и изменения. Должны быть как неизменные, так и меняющиеся элементы, и даже сам изменяющийся элемент должен быть наследуемым, если мы говорим о системе как эволюционной. В биологической эволюции упор делается на различия в выживании и репродукции органических типов или свойств от одного поколения к другому. Здесь постоянство обеспечивается менделевским наследованием неизменных моделей кодированных генетических инструкций (генов).
Вариации происходят вследствие действия различных сил, включая внутренние мутации генетических инструкций (ошибки в генетическом кодировании), рекомбинацию генов в сексуальной репродукции и внешнее давление естественного отбора. Социоэкономическая эволюция в основном состоит в различии типов роста и выживания социальных организаций. Главный наследственный элемент — это груз социальной инерции, поддерживаемый сознательно передаваемой традицией. Что касается изменчивости, то аналогом мутаций являются ошибки в воспроизведении
усваиваемых традиций. Также продолжает действовать естественный отбор. Наконец, имитация и рациональное мышление образуют дополнительные негенетические источники социоэкономической изменчивости (Хиршлейфер, 1987, с. 221).
1 Большой круг научных работ по этому вопросу представлен в материалах конференции на тему “Поведенческие основания экономической теории” (под ред. Хогарта и Редера), состоявшейся в Чикагском университете в октябре 1985 года. На этой конференции собралось множество психологов и экономистов, а также представителей других социальных наук, которые провели плодотворную дискуссию о сложных проблемах поведенческого анализа, применяемого экономистами. Также см. обзор Марка Макины в первом номере Journal of Economic Perspectives за 1987 год, лекцию Фрэнка Хана, прочитанную в том же году на ежегодной конференции Шотландского экономического общества, и работу Шауна Харгривс-Хипа Rationality in Economics (1989).
2 См. статью Уинтера в публикации Хогарта и Редера 1986 года (S429).
3 Статьи Чарльза Плотта и Роберта Лукаса в публикации Хогарта и Редера 1986 года
содержат интересные рассуждения, которые обосновывают применение неоклассических постулатов в некоторых условиях.
«Институты, институциональные изменения и функционирование экономики» (Institutions, Institutional Change and Economic Performance, 1990)
Русское издание
Фонд экономической книги «НАЧАЛА»
МОСКВА 1997.стр.38 Часть I
ББК 26.34
Н 34
УДК 345 (4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%EE%F0%F2,_%C4%F3%E3%EB%E0%F1
Дмитрий Шаменков - Ученый, биолог, врач-трансфузиолог, опыт работы в онкологии, новые технологии, управление и организация
http://shamenkov.ru/obo-mne/
Сохранение информационной эквивалентности при передаче информации ЛЮБЫМ способом, в том числе, с помощью СЛОВ. Это условие является ключевым для сохранения целостности функциональной системы. Это просто научный факт.
...До того момента времени, пока вы не осознаете необходимость следования честности во всех отношениях для поддержания своего здоровья, вы даже не сможете ответить на вопрос, кто такой “Я”, вы не сможете полноценно быть уверенным в том, КОГО вы чувствуете, говоря про умение “слушать и слышать СЕБЯ”! Наркоман “не верит не тому, что ему говорят, ни словам, ни текстам, произносимым другими людьми”, зато “самому себе и своим ощущениям” верит он чрезвычайно сильно, считая их единственно верными. Наркоман превосходно “чувствует и других людей”, и при этом видит только то, что они все ему врут. Попробуйте забрать наркотик у наркомана – он никогда вам его не отдаст, ведь вы обманываете его. Но задайтесь вопросом – не ошибается ли он? Бог ему судья, но с медицинской точки зрения, с точки зрения сохранности здоровья, он ошибается очень сильно.
В Системе управления здоровьем мы занимаемся не абстрактными рассуждениями общего характера, а разбираем конкретные инструменты, без которых, с позиций современной науки, здоровая жизнь не возможна. Поддержание точной информационной эквивалентности на всех этапах передачи информации является основой поддержания жизни. И в тех случаях, когда это зависит в чем-то от нас, мы со всей данной нам волей должны стремиться к соблюдению данного правила, особенно, в коммуникации с помощью второй сигнальной системы, являющейся основой для существования и развития всего организма Человечества, состоящего из 7 млдр человек-клеток. Это основа жизни.
http://shamenkov.ru/otkuda-vzyalas-lozh/#comment-559
В основе большинства заболеваний лежат нарушения процесса коммуникации между нашим Я, умом, телом и тем, что мы называем окружающей средой.
Москва 2009 г. "Осознанное управление здоровьем".
Александр Моисеевич Пятигорский — философ, профессор Лондонского университета
"Начинать рефлексию надо конечно в реальной жизни с языка. С проверки всех языковых репрезентаций твоей мысли. Ведь они конечно тоже в конечном счёте случайны. И здесь понимание того, о чём ты говоришь, это попытка бросить "кости" так, что бы они легли в твою пользу. Но в этом процессе, этой работы, у Вас появится дополнительная возможность траты энергии, без которой нет энергии".
http://youtu.be/O-aLpU38VYs?t=43m46s
...Путешествуя по Аду, где Данте оказывался перед зрелищем знаменитого «чудовища обмана», которое он-то видит ясно, но вдруг чувствует, что описать его невозможно, невозможно другому передать увиденное (видимое)... Данте чувствует: если он скажет это слово (а он может сказать только его, ведь других просто не существует), то уже это будет не то, что он видит. И он вдруг восклицает так:
Мы истину, похожую на ложь, должны хранить сомкнутыми устами...
Говоря по-другому, он приходит к ситуации молчания... Приходится молчать.
http://gordon0030.narod.ru/archive/8961/index.html
Бауэр Эрвин Симонович - Биолог-теоретик, специалист по философии и методологии биологии. Окончил медицинский факультет Будапештского университета (1914). Участник Венгерской революции. После ее поражения эмигрировал. С 1925 года жил в СССР в Москве, с 1934 года - в Ленинграде. Ставил задачу создания теоретической биологии. Отличительным свойством живого считал принцип устойчивого неравновесия. В главном труде «Теоретическая биология» (1935) развил принцип устойчивого неравновесия неживых систем и построил на основе этого принципа целостную концепцию жизни и ее проявлений (обмен веществ, рост и развитие, раздражимость, размножение, наследственная изменчивость и т. д.)
http://www.uni-dubna.ru/departments/sustainable_de...udy_kafedry/Osnov_trudy/Bauer/
Смысл принципа устойчивого неравновесия заключается в биофизических аспектах направления движения энергии в живых системах. Б. утверждает, что работа, производимая данной структурой живой клетки, выполняется только за счет неравновесия, а не за счет поступающей извне энергии, тогда как в машине работа выполняется напрямую от внешнего источника энергии. Организм употребляет поступающую извне энергию не на работу, а только на поддержание данных неравновесных структур. "Следовательно, для сохранения их, т.е. условий системы, необходимо их постоянно возобновлять, т.е. постоянно затрачивать работу. Таким образом, химическая энергия пищи потребляется в организме для создания свободной энергии структуры, для построения, возобновления, сохранения этой структуры, а не непосредственно превращается в работу". (Там же, с. 55). Требуемая же по функции данной структуры работа выполняется автоматически, за счет самопроизвольного выпрямления структурной деформации.
http://www.chronos.msu.ru/biographies/aksyonov_bauer.html
Анохин Петр Кузьмич - (14 (26) января 1898, Царицын — 5 марта 1974, Москва) — советский физиолог, создатель теории функциональных систем, академик АМН СССР (1945) и АН СССР (1966), лауреат Ленинской премии (1972).
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%ED%EE%F5%E8%ED,_%....D0.B0.D0.B1.D0.BE.D1.82.D1.8B
Принципиальные вопросы общей теории функциональных систем М., 1971.
Трудно найти в истории цивилизации такой момент, о котором можно было бы сказать, что именно тогда возникла идея о целостности, о единстве мира. Вероятно, уже при первой попытке понять мир мыслящий человек столкнулся с поразительной гармонией между целым, «универсумом», и отдельными деталями, частями.
Дуглас Норт - американский экономист.
Лауреат Нобелевской премии по экономике 1993 года «за возрождение исследований в области экономической истории, благодаря приложению к ним экономической теории и количественных методов, позволяющих объяснять экономические и институциональные изменения»
Чтобы рассмотреть недостатки теории рационального выбора применительно к проблеме институтов, необходимо остановиться на двух особых аспектах человеческого поведения: 1) мотивация и 2) расшифровка информации об окружающем мире. Очевидно, что человеческое поведение гораздо сложнее того, которое описывают экономисты в своих моделях, опирающихся на функцию индивидуальной полезности. Во многих случаях следует говорить не только о максимизации личной выгоды, но и об альтруизме и самоограничении, которые радикально влияют на результаты выбора индивида. Далее мы видим, что люди воспринимают внешний мир путем переработки информации с помощью пред-существующих ментальных конструкций, обеспечивающих
понимание окружающего и решение возникающих проблем. Чтобы разобраться в этих вопросах, надо принять во внимание способность игроков перерабатывать информацию и сложность проблем, которые предстоит решить.
Рассмотрим сначала мотивацию индивидов.
В последние годы социобиологи и экономисты объединили усилия для изучения параллелей между основополагающими чертами генетического выживания и эволюционного развития животных и аналогичными моделями поведения людей. Многие экономисты пришли к выводу, что этот подход не только заслуживает внимания, но и позволяет сделать важные заключения о человеческом поведении. Джек Хиршлейфер в 1987 году следующим образом сравнил биологические и социоэкономические эволюционные модели:
Все эволюционные модели имеют некоторые общие черты. Во-первых,
предмет всех моделей — популяция. Даже когда мы говорим об отдельных единицах, то если процесс изменений носит эволюционный характер, его можно описать как изменение в популяции микроединиц. Так, эволюционный процесс болезни в теле отдельного человека — это результат отношений между популяциями бактерий, антител, клеток и т.д.
Эволюция экономики какого-либо отдельного государства — это результат изменения отношений между популяциями индивидов, торговых организаций и т.п. Эволюционные модели представляют собой сочетание постоянства (наследования) и изменения. Должны быть как неизменные, так и меняющиеся элементы, и даже сам изменяющийся элемент должен быть наследуемым, если мы говорим о системе как эволюционной. В биологической эволюции упор делается на различия в выживании и репродукции органических типов или свойств от одного поколения к другому. Здесь постоянство обеспечивается менделевским наследованием неизменных моделей кодированных генетических инструкций (генов).
Вариации происходят вследствие действия различных сил, включая внутренние мутации генетических инструкций (ошибки в генетическом кодировании), рекомбинацию генов в сексуальной репродукции и внешнее давление естественного отбора. Социоэкономическая эволюция в основном состоит в различии типов роста и выживания социальных организаций. Главный наследственный элемент — это груз социальной инерции, поддерживаемый сознательно передаваемой традицией. Что касается изменчивости, то аналогом мутаций являются ошибки в воспроизведении
усваиваемых традиций. Также продолжает действовать естественный отбор. Наконец, имитация и рациональное мышление образуют дополнительные негенетические источники социоэкономической изменчивости (Хиршлейфер, 1987, с. 221).
1 Большой круг научных работ по этому вопросу представлен в материалах конференции на тему “Поведенческие основания экономической теории” (под ред. Хогарта и Редера), состоявшейся в Чикагском университете в октябре 1985 года. На этой конференции собралось множество психологов и экономистов, а также представителей других социальных наук, которые провели плодотворную дискуссию о сложных проблемах поведенческого анализа, применяемого экономистами. Также см. обзор Марка Макины в первом номере Journal of Economic Perspectives за 1987 год, лекцию Фрэнка Хана, прочитанную в том же году на ежегодной конференции Шотландского экономического общества, и работу Шауна Харгривс-Хипа Rationality in Economics (1989).
2 См. статью Уинтера в публикации Хогарта и Редера 1986 года (S429).
3 Статьи Чарльза Плотта и Роберта Лукаса в публикации Хогарта и Редера 1986 года
содержат интересные рассуждения, которые обосновывают применение неоклассических постулатов в некоторых условиях.
«Институты, институциональные изменения и функционирование экономики» (Institutions, Institutional Change and Economic Performance, 1990)
Русское издание
Фонд экономической книги «НАЧАЛА»
МОСКВА 1997.стр.38 Часть I
ББК 26.34
Н 34
УДК 345 (4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%EE%F0%F2,_%C4%F3%E3%EB%E0%F1
Дмитрий Шаменков - Ученый, биолог, врач-трансфузиолог, опыт работы в онкологии, новые технологии, управление и организация
http://shamenkov.ru/obo-mne/
Сохранение информационной эквивалентности при передаче информации ЛЮБЫМ способом, в том числе, с помощью СЛОВ. Это условие является ключевым для сохранения целостности функциональной системы. Это просто научный факт.
...До того момента времени, пока вы не осознаете необходимость следования честности во всех отношениях для поддержания своего здоровья, вы даже не сможете ответить на вопрос, кто такой “Я”, вы не сможете полноценно быть уверенным в том, КОГО вы чувствуете, говоря про умение “слушать и слышать СЕБЯ”! Наркоман “не верит не тому, что ему говорят, ни словам, ни текстам, произносимым другими людьми”, зато “самому себе и своим ощущениям” верит он чрезвычайно сильно, считая их единственно верными. Наркоман превосходно “чувствует и других людей”, и при этом видит только то, что они все ему врут. Попробуйте забрать наркотик у наркомана – он никогда вам его не отдаст, ведь вы обманываете его. Но задайтесь вопросом – не ошибается ли он? Бог ему судья, но с медицинской точки зрения, с точки зрения сохранности здоровья, он ошибается очень сильно.
В Системе управления здоровьем мы занимаемся не абстрактными рассуждениями общего характера, а разбираем конкретные инструменты, без которых, с позиций современной науки, здоровая жизнь не возможна. Поддержание точной информационной эквивалентности на всех этапах передачи информации является основой поддержания жизни. И в тех случаях, когда это зависит в чем-то от нас, мы со всей данной нам волей должны стремиться к соблюдению данного правила, особенно, в коммуникации с помощью второй сигнальной системы, являющейся основой для существования и развития всего организма Человечества, состоящего из 7 млдр человек-клеток. Это основа жизни.
http://shamenkov.ru/otkuda-vzyalas-lozh/#comment-559
В основе большинства заболеваний лежат нарушения процесса коммуникации между нашим Я, умом, телом и тем, что мы называем окружающей средой.
Москва 2009 г. "Осознанное управление здоровьем".
|
|
Остановка сознания. |
Об этом типе медитации я вычитал у Ошо лет в 27. Ошо описывал механизм остановки процесса сознания. Я читал и думал о том, что не могу понять. Я словно гнался за своим собственным хвостом. Чувство было такое, будто ускользает главное.
Сегодня прекрасный день, хотя бы потому, что я вновь получил возможность исполнить эту медитацию при всех соответствующих ей условиях.
Случай.
Только сегодня я могу рассуждать с точки зрения нейрофизиологии, психологии или философии о процессе нашего сознания. Но тогда в 27, не раз сталкиваясь с остановкой сознания в собственной жизни, я даже и не знал, что именно происходит со мной.
Я тогда даже и не знал что это описано буддистами тысячи лет назад, и что это станет ключом к пониманию собственных внутренних процессов в психологии и поводом для иных научных открытий.
Каждый из нас знаком с господином случаем, когда на ровном месте жизни вдруг возникает препятствие.
Если спросить себя, что мы делаем в подобной ситуации, то откроется, что обычно наше сознание сосредоточено внутри проблемы, которую мы осознаём, как случай, выраженный проблемой, которую мы не просто переживаем, а находимся в непосредственном взаимодействии с ней, внутри неё, и на столько слиты, что отделить себя от переживания не в состоянии. Мы так и говорим - я переживаю, ревную, завидую, горжусь и т.п.
Итак, я попытаюсь для других объяснить одну из величайших практик мира так, что бы это было возможно для возобновления в вашем собственном опыте.
И если вы думаете, что поймете, не обладая необходимым пережитым опытом подобного психического состояния, то конечно же не сможете этого сделать, так как процесс понимания и есть сам по себе автоматический процесс, базирующийся как на личном, так и на общечеловеческом совокупном уровне. Это уже программа. И с ней ничего невозможно сделать, находясь внутри неё самой и ощущая себя частью уже реализующейся программы в настоящем.
Эта практика позволит вам не быть внутри спонтанного состояния, которое заставит вас пройти его, а позволит отделиться от самого переживания в самоощущении.
Для чего же это нужно?
Всё дело в том, что наше реагирование является точками сосредоточения ума, в системе, которая обнаруживает своё дискретное свойство.
В итоге можно сказать так - наша реальность, это сумма дискретных переживаний ума, каждое из которых он отражает как объект, который существует без связи с другими объектами и осознаётся как реальность, имя которой мы дали - пространство и материя.
И в этом смысле, можно сказать о нашем мире, как о неживой сущности, так как он полностью становится зависимым от внешнего источника воздействия.
Все живые организмы начинаются только с того момента, когда они реализуют способность к саморегуляции, без вмешательства внешних сил.
Итак, если взять любой предмет и его функциональность, как например в книге по менеджменту Ицхака Калдерона Адизеса, где он приводит в пример корову и стул.
Функциональность - это понятие, которое соответствует прямому назначению сущности.
Итак, если бы можно было бы подоить стул, то от чего его нельзя бы было назвать коровой? Функциональность - не выбор, а назначение. Не человек определяет то, что будут делать его сердце или почки. Не делает он так же выбор и по отношению к тому назначению, что осознаётся им, как его руки или ноги, голова, тело, как его собственное рождение.
Стул обладает механистическим разумом, отличающимся от живого органического тем, что основной его проблемой является невозможность сохранить функциональность, актом собственной воли. И завися от внешнего источника сил, не в состоянии вернуть себе функциональность, если она будет им утеряна. Формально сломанный стул остаётся стулом, однако его функциональность нарушена, и на нём невозможно сидеть. И только мастер, который вновь его починит, способен вернуть ему эту функцию или даже может изменить её по своему усмотрению. Любой, кто однажды сделал из PC Хакинтош, понимает это.
Итак, стул не может сам себя починить. А вот система с органическим мышлением устроена абсолютно иначе.
На руке человека пять пальцев, как пример органического сознания, всё так же говорит Адизес в своей книге по менеджменту. Каждый палец не похож на остальные. Сумма их общего взаимодействия и является функцией руки. Если человек ломает или теряет вовсе палец, то при этом он не теряет общей функциональности руки, и остальные пальцы стараются компенсировать эту утрату. Стул же, как представитель собственной функции и механистического сознания, не в состоянии компенсировать сам утрату своей ножки. Он не может оставшиеся три организовать таким образом, что бы сохранить изначальную функциональность. И если бы мог, то стул для нас воспринимался, как живой.
Итак, можно смело говорить о таком системном понимании, где мёртвым является не то, что существует, а то, что не способно к органическому сознанию и является механистическим, требующим воздействия из вне.
Итак, по последним данным нейрофизиологии, человеческое сознание является автоматическим процессом или иначе, с точки зрения систем - механистической, мёртвой системой. Наши реакции по отношению к внешнему раздражителю, практически всегда автоматические.
Первое условие для практики остановки ума, просто знать о том, что именно такое это за процесс - думать.
До тех пор, пока ваш собственный опыт самоосознания приравнивается к этому процессу, где "я"= процессу думать, вы внутри автоматической системы, где нет ни какой свободы выбора.
Чем сильнее вы пытаетесь думать, тем безнадёжнее рационализация, уводящая человека в сторону своих фантазий от реальности.
Итак, второе необходимое условие - постоянно помнить о том, как именно работает ваше сознание.
Третье условие, так как вы являетесь представителем механистического сознания, не зависит от вас и осознаётся, как случай, организация которого спонтанна и ощущается как внешнее событие.
Итак, при наступлении случая, аномалии для ума, помня о системе, которая осознаётся, как процесс собственного переживания, вы можете вспомнить о том, что способны к абстрагированию по отношению к этому автоматическому процессу.
Условия для выполнения практики должны быть абсолютно естественным и неподготовленным процессом.
Однажды может случится так, что на уровне бессознательного, помня об автоматизме собственных переживаний и столкнувшись с живой ситуацией, вы вдруг прыгните в абстрагирование или рефлексию.
Это может случиться, как если бы вы ожидали чего-то необычного, но не знали что именно вы ждёте.
Итак эмпирический жизненный пример:
Вы подходите к кассе, что бы расплатиться через оператора. В итоге неожиданным образом попадаете в ситуацию, когда обнаруживаете себя и оператора кассира, через некоторое мгновение, в состоянии брани и взаимных оскорблений. Если спросить Вас о причине происходящего, ни вы ни кассир этого сказать точно не смогут. Вы можете только указывать уже на обидные следствия, но не на саму причину, которая словно ускользает от точного её обнаружения.
Итак, всё происходит мгновенно.
Постоянным напоминанием себе о том, что вы знаете, как устроены ваши собственные реакции, так сказать в мирное время, что они сами по себе автоматичны, вы создали необходимый стереотип, который отложился в той части сознания, которую мы называем бессознательное. При наступлении спонтанного реагирования, из под сознания выстреливает запрограммированный вами же стереотип, основанный на точных данных или иначе, на знании, которое же вы сами и заложили внутри себя. В итоге вы одновременно становитесь наблюдателем собственного спонтанного чувства, где рождение точки наблюдения обнаруживаете вовсе не в самом реагировании или переживании, а в вами же созданном ранее стереотипе, который родился как ваше иное "Я".
Если подобное происходит в момент ссоры, то вы вдруг ссору воспринимаете, как что-то, что происходит вовсе не с вами, а с теми, кто наблюдается как нечто отдельное от вашей собственной сущности.
Знайте, вы пережили удивительный момент мгновения, в который осознали реальность, как видение собственной души.
Изучая эти внутренние процессы, вы со временем начнёте видеть всё происходящее с её точки зрения. Пройдёт не мало времени и приложенных усилий, прежде чем Вы научитесь осознавать собственный процесс мышления, где точкой опоры этих двух обменных процессов, между бессознательным и сознанием, и между сознанием и его собственными рождёнными образами, возникнет ваше собственное "я".
В итоге, я описал механизм воссоединения бессознательного и сознания в единую систему восприятия или целостное мышление, которого может достичь любой человек в своей жизни.
И что является официально признанным механизмом отражения полной функциональности, зрелости человеческой системы восприятия, названной психологией - целостностью восприятия. Или словами нейрофизиологии - высшая нервная система, как грань, находящаяся между двух параллельных процессов, где одной является обменный процесс, осознающий сам себя, как обменный процесс. Что бы понять это точнее, необходимо ясно различать, что первичным обменным процессом или первой сигнальной системой человека, является та его часть сознания, которая фактом вытеснения из целостности, становится некой тенью нашего сознания, бессознательным, и которая связана непосредственно с тем, что мы называем инстинктами или чистым знанием, которое диктует нам сама природа.
Оставшаяся же часть сознания, являясь второй сигнальной системой, выстроена на автоматическом реагировании, базируется на сопоставлении и этим самым противопоставляет себя той части, которая воспринимается, как его собственная тень или бессознательное.
В итоге усиливая энергию сознания, человек всегда приходит логически к ещё большему разрыву между обеими частями его системы восприятия, что является самоотрицанием и осознаётся как внутренний конфликт сущностного самоопределения.
Сегодня прекрасный день, хотя бы потому, что я вновь получил возможность исполнить эту медитацию при всех соответствующих ей условиях.
Случай.
Только сегодня я могу рассуждать с точки зрения нейрофизиологии, психологии или философии о процессе нашего сознания. Но тогда в 27, не раз сталкиваясь с остановкой сознания в собственной жизни, я даже и не знал, что именно происходит со мной.
Я тогда даже и не знал что это описано буддистами тысячи лет назад, и что это станет ключом к пониманию собственных внутренних процессов в психологии и поводом для иных научных открытий.
Каждый из нас знаком с господином случаем, когда на ровном месте жизни вдруг возникает препятствие.
Если спросить себя, что мы делаем в подобной ситуации, то откроется, что обычно наше сознание сосредоточено внутри проблемы, которую мы осознаём, как случай, выраженный проблемой, которую мы не просто переживаем, а находимся в непосредственном взаимодействии с ней, внутри неё, и на столько слиты, что отделить себя от переживания не в состоянии. Мы так и говорим - я переживаю, ревную, завидую, горжусь и т.п.
Итак, я попытаюсь для других объяснить одну из величайших практик мира так, что бы это было возможно для возобновления в вашем собственном опыте.
И если вы думаете, что поймете, не обладая необходимым пережитым опытом подобного психического состояния, то конечно же не сможете этого сделать, так как процесс понимания и есть сам по себе автоматический процесс, базирующийся как на личном, так и на общечеловеческом совокупном уровне. Это уже программа. И с ней ничего невозможно сделать, находясь внутри неё самой и ощущая себя частью уже реализующейся программы в настоящем.
Эта практика позволит вам не быть внутри спонтанного состояния, которое заставит вас пройти его, а позволит отделиться от самого переживания в самоощущении.
Для чего же это нужно?
Всё дело в том, что наше реагирование является точками сосредоточения ума, в системе, которая обнаруживает своё дискретное свойство.
В итоге можно сказать так - наша реальность, это сумма дискретных переживаний ума, каждое из которых он отражает как объект, который существует без связи с другими объектами и осознаётся как реальность, имя которой мы дали - пространство и материя.
И в этом смысле, можно сказать о нашем мире, как о неживой сущности, так как он полностью становится зависимым от внешнего источника воздействия.
Все живые организмы начинаются только с того момента, когда они реализуют способность к саморегуляции, без вмешательства внешних сил.
Итак, если взять любой предмет и его функциональность, как например в книге по менеджменту Ицхака Калдерона Адизеса, где он приводит в пример корову и стул.
Функциональность - это понятие, которое соответствует прямому назначению сущности.
Итак, если бы можно было бы подоить стул, то от чего его нельзя бы было назвать коровой? Функциональность - не выбор, а назначение. Не человек определяет то, что будут делать его сердце или почки. Не делает он так же выбор и по отношению к тому назначению, что осознаётся им, как его руки или ноги, голова, тело, как его собственное рождение.
Стул обладает механистическим разумом, отличающимся от живого органического тем, что основной его проблемой является невозможность сохранить функциональность, актом собственной воли. И завися от внешнего источника сил, не в состоянии вернуть себе функциональность, если она будет им утеряна. Формально сломанный стул остаётся стулом, однако его функциональность нарушена, и на нём невозможно сидеть. И только мастер, который вновь его починит, способен вернуть ему эту функцию или даже может изменить её по своему усмотрению. Любой, кто однажды сделал из PC Хакинтош, понимает это.
Итак, стул не может сам себя починить. А вот система с органическим мышлением устроена абсолютно иначе.
На руке человека пять пальцев, как пример органического сознания, всё так же говорит Адизес в своей книге по менеджменту. Каждый палец не похож на остальные. Сумма их общего взаимодействия и является функцией руки. Если человек ломает или теряет вовсе палец, то при этом он не теряет общей функциональности руки, и остальные пальцы стараются компенсировать эту утрату. Стул же, как представитель собственной функции и механистического сознания, не в состоянии компенсировать сам утрату своей ножки. Он не может оставшиеся три организовать таким образом, что бы сохранить изначальную функциональность. И если бы мог, то стул для нас воспринимался, как живой.
Итак, можно смело говорить о таком системном понимании, где мёртвым является не то, что существует, а то, что не способно к органическому сознанию и является механистическим, требующим воздействия из вне.
Итак, по последним данным нейрофизиологии, человеческое сознание является автоматическим процессом или иначе, с точки зрения систем - механистической, мёртвой системой. Наши реакции по отношению к внешнему раздражителю, практически всегда автоматические.
Первое условие для практики остановки ума, просто знать о том, что именно такое это за процесс - думать.
До тех пор, пока ваш собственный опыт самоосознания приравнивается к этому процессу, где "я"= процессу думать, вы внутри автоматической системы, где нет ни какой свободы выбора.
Чем сильнее вы пытаетесь думать, тем безнадёжнее рационализация, уводящая человека в сторону своих фантазий от реальности.
Итак, второе необходимое условие - постоянно помнить о том, как именно работает ваше сознание.
Третье условие, так как вы являетесь представителем механистического сознания, не зависит от вас и осознаётся, как случай, организация которого спонтанна и ощущается как внешнее событие.
Итак, при наступлении случая, аномалии для ума, помня о системе, которая осознаётся, как процесс собственного переживания, вы можете вспомнить о том, что способны к абстрагированию по отношению к этому автоматическому процессу.
Условия для выполнения практики должны быть абсолютно естественным и неподготовленным процессом.
Однажды может случится так, что на уровне бессознательного, помня об автоматизме собственных переживаний и столкнувшись с живой ситуацией, вы вдруг прыгните в абстрагирование или рефлексию.
Это может случиться, как если бы вы ожидали чего-то необычного, но не знали что именно вы ждёте.
Итак эмпирический жизненный пример:
Вы подходите к кассе, что бы расплатиться через оператора. В итоге неожиданным образом попадаете в ситуацию, когда обнаруживаете себя и оператора кассира, через некоторое мгновение, в состоянии брани и взаимных оскорблений. Если спросить Вас о причине происходящего, ни вы ни кассир этого сказать точно не смогут. Вы можете только указывать уже на обидные следствия, но не на саму причину, которая словно ускользает от точного её обнаружения.
Итак, всё происходит мгновенно.
Постоянным напоминанием себе о том, что вы знаете, как устроены ваши собственные реакции, так сказать в мирное время, что они сами по себе автоматичны, вы создали необходимый стереотип, который отложился в той части сознания, которую мы называем бессознательное. При наступлении спонтанного реагирования, из под сознания выстреливает запрограммированный вами же стереотип, основанный на точных данных или иначе, на знании, которое же вы сами и заложили внутри себя. В итоге вы одновременно становитесь наблюдателем собственного спонтанного чувства, где рождение точки наблюдения обнаруживаете вовсе не в самом реагировании или переживании, а в вами же созданном ранее стереотипе, который родился как ваше иное "Я".
Если подобное происходит в момент ссоры, то вы вдруг ссору воспринимаете, как что-то, что происходит вовсе не с вами, а с теми, кто наблюдается как нечто отдельное от вашей собственной сущности.
Знайте, вы пережили удивительный момент мгновения, в который осознали реальность, как видение собственной души.
Изучая эти внутренние процессы, вы со временем начнёте видеть всё происходящее с её точки зрения. Пройдёт не мало времени и приложенных усилий, прежде чем Вы научитесь осознавать собственный процесс мышления, где точкой опоры этих двух обменных процессов, между бессознательным и сознанием, и между сознанием и его собственными рождёнными образами, возникнет ваше собственное "я".
В итоге, я описал механизм воссоединения бессознательного и сознания в единую систему восприятия или целостное мышление, которого может достичь любой человек в своей жизни.
И что является официально признанным механизмом отражения полной функциональности, зрелости человеческой системы восприятия, названной психологией - целостностью восприятия. Или словами нейрофизиологии - высшая нервная система, как грань, находящаяся между двух параллельных процессов, где одной является обменный процесс, осознающий сам себя, как обменный процесс. Что бы понять это точнее, необходимо ясно различать, что первичным обменным процессом или первой сигнальной системой человека, является та его часть сознания, которая фактом вытеснения из целостности, становится некой тенью нашего сознания, бессознательным, и которая связана непосредственно с тем, что мы называем инстинктами или чистым знанием, которое диктует нам сама природа.
Оставшаяся же часть сознания, являясь второй сигнальной системой, выстроена на автоматическом реагировании, базируется на сопоставлении и этим самым противопоставляет себя той части, которая воспринимается, как его собственная тень или бессознательное.
В итоге усиливая энергию сознания, человек всегда приходит логически к ещё большему разрыву между обеими частями его системы восприятия, что является самоотрицанием и осознаётся как внутренний конфликт сущностного самоопределения.
|
|
Простые правила быть в здравом уме: |
1. Сомневайтесь, ведь сомнения, это ключ к движению и жизни.
2. Обновляйте в соответствии с научным, представление о реальности.
В современном мире наука не популяризирована. Знания берут, а не получают.
3. Будьте, а не кажитесь тем, кем себя ощущаете.
4. Стоит всегда помнить, что помимо жизни человека и реальности человека, есть реальность сама по себе и жизнь сама по себе, которая и определила всё.
Обратная связь с самой жизнью человеком утеряна. Он не осознаёт обратной связи с ней, забыл её язык общения.
Вспомнить этот язык, значит услышать голос самой жизни внутри себя, ведь никто не выбирал эту жизнь, но она выбрала вас как возможность, которую необходимо использовать по заданному ей назначению и цели.
2. Обновляйте в соответствии с научным, представление о реальности.
В современном мире наука не популяризирована. Знания берут, а не получают.
3. Будьте, а не кажитесь тем, кем себя ощущаете.
4. Стоит всегда помнить, что помимо жизни человека и реальности человека, есть реальность сама по себе и жизнь сама по себе, которая и определила всё.
Обратная связь с самой жизнью человеком утеряна. Он не осознаёт обратной связи с ней, забыл её язык общения.
Вспомнить этот язык, значит услышать голос самой жизни внутри себя, ведь никто не выбирал эту жизнь, но она выбрала вас как возможность, которую необходимо использовать по заданному ей назначению и цели.
|
|
Понравилось: 1 пользователю
Определение диалектической сущности человека. |
Человек, это система контроля между рефлексией и дискретным процессом ума, где рефлексией является непрерывный информационный обмен между объектом и субъектом без искажения информационной реальности внутри её логики, что осознаётся нами, как истина, а дискретный ум является такой системой обмена между субъектами, где само его свойство дискретности, переводит непрерывный информационный поток в систему разорванных связей самой непрерывности и в иной, противопоставленный логический язык восприятия, что осознаётся нами, как частная правда субъекта. В итоге сопоставления этих двух параллельных процессов, можно говорить о том, что ум человека не является свойством самой природы, и отраженные его свойства, которые мы осознаём, как наша реальность и действия, не являются настоящей реальностью, а лишь такой, через которую появляется возможность осознания самой непрерывности процессов информационного обмена. В этом смысле наша реальность имеет субъективно логический, временный и пространственный характер с итоговым началом и концом, целью которой она не является сама по себе, а лишь как повод для познания истины и логики непрерывности в системе информационного обмена.
|
|
Проблемы механизмов мотивации. |
Никто точно не знает, как действует механизм мотивации, какой силы должен быть мотивирующий фактор и когда он сработает, не говоря уже о том, почему он срабатывает. Все, что известно, это то, что работник трудится ради денежного вознаграждения и комплекса компенсационных и поощрительных мер. Работник может в определенной степени распорядиться полученными деньгами по своему усмотрению. Денежное вознаграждение и другие компоненты компенсации обеспечивают необходимые условия выживания, развития работника, проведения им досуга в настоящем, а также уверенность в будущем, развитие и высокое качество жизни в расчете на перспективу.
Майкл Мескон, Майкл Альберт и Франклин Хедоури «Основы менеджмента».
Для того, что бы говорить о мотивирующем моменте в деятельности человека, необходимо достаточно глубоко проникнуть в суть вещей, в глубину социального воспитания личности и самого социума, который культивирует те или иные ценности в то или иное историческое время.
Для того, что бы говорить о ценностях той или иной группы людей, необходимо учитывать множество таких факторов, которые в итоге приведут нас к воспитанию.
Если мы человека поставим в условия, где его естественные потребности дополним комплексом таких потребностей, которые ему будут навязаны обществом, но не будут в действительности являться его собственным устремлением, то такой человек будет искусственно стремиться к удовлетворению подобных навязанных потребностей, не получая в итоге от этого никогда удовлетворения, так как в общей информационной действительности его собственные нераскрытые потребности он будет ощущать лишь как бессознательная часть его собственных внутренних побуждений.
В итоге то, что можно было бы назвать несоответствием или ложью, будет то ощущение, где его бессознательные побуждения, будут постоянно сталкиваться с несоответствием с его «собственным» общественно-навязанным мнением.
Подобное утверждение вытекает из современного научного положения о физиологии, в котором чётко описан механизм ложно-положительных стереотипов, где многократно повторенная ложь, осознаваемая как правда действительности, усваивается механизмом человеческого сознания и превращается в механизм автоматического реагирования на соответствующее внешнее раздражение.
Ярким примером подобного ложно-позитивного стереотипа является курение, где каждый курильщик знает, что курить плохо и вредно для здоровья, однако преодолеть подобный стереотип ему достаточно сложно, так как он стал автоматическим реагированием по отношению к соответствующей реальности.
Если разобраться в действительности, исходя из простого факта прогрессирующей в человеческой популяции депрессии, то мгновенно станет понятно, какая огромная армия людей живёт не только не правильной жизнью, но и считает ложно-положительные привычки своего общества и самих себя естественными. Более того, будет защищать их, и раздражаться, если кто-то попытается им указать на это.
Говоря о ложно-положительных стереотипах в мышлении, я не могу не вернуться к реальной жизни, где подобные стереотипы стали абсолютно естественным поведением людей в семье, бизнесе, творчестве, словом во всех сферах человеческой деятельности, где люди испытывают периодическую депрессию. И подобные стереотипы стали иметь на столько сложные психологические формы убеждённости, что порой впечатляют их тончайшие хитросплетения, впечатляет то, сколько сил человеческий ум бросает для попытки рационализировать их.
Описать их гораздо уже сложнее, так как каждый отдельный индивид рождается изначально в среде, внутри которой имеют место быть массовые заблуждения в отношении тех или иных ценностей, которые на сегодняшний день уже приняли хронический и системный вид. Как и всякое хроническое отрицательное состояние, оно неизбежно переходит в новые качественные состояния, поражая общество всё глубже и глубже, и как любая другая болезнь, которая начинается с расстройства психики человека, превращается в болезнь, поражающая его организм в целом.
Сегодня можно уже писать огромные труды в отношении многих и многих людей, считающих себя абсолютно нормальными, но в действительности таковыми не являющимися.
Как правило, их общий жизненный тонус находится в постоянном сопротивлении этому внутреннему состоянию напряжения, пока позволяют физические силы. Однако год от года, чем меньше физических сил остаётся у человека, тем ярче прогрессирует его ложно-положительный стимул.
К примеру, можно привести бизнесмена, который стал таковым по причине каких-то пережитых жизненных ошибок, с которыми с трудом справился, сделав ложный вывод о том, что в этом мире деньги и власть решают всё.
Те жизненные удары, которые он сам себе нанёс в связи с тем, что его внутреннее самоощущение не совпадало с общественным, привели его в итоге не к тому выводу, что общественное мнение в отношении ценностей может заблуждаться, а наоборот. В итоге полного примирения с ложными общественными утверждениями, которые ранее являлись для его собственных внутренних ощущений, как противоестественные, человек полностью вытесняет часть своего аппарата восприятия на уровень бессознательного, что позволяет ему «примириться» с той реальностью, которую он имеет по факту вокруг себя. Иными словами, вся его реальность сосредоточена теперь в той части сознания, которая отныне работает автоматически, как ложно-положительный стереотип, постепенно разрушая человека изнутри.
На общественном, уровне подобный механизм приспособления, позволяет индивиду выжить и даже иметь успех и личный «выигрыш», однако на уровне системы, в итоге проигрывает всё общество, так как подобная система внутри себя содержит общую деструктивную направленность.
Подобное общество как правило крайне раздражительно и агрессивно по отношению друг к другу, в нём процветают действия носящие ярко выраженный характер саморазрушения всех типов в поведении: пьянство, наркотики, преступность, и т.п.
На данную тему был написан труд (Institutions, Institutional Change and Economic Performance, 1990).
Дугласом Нортом, который рассматривал общество с позиции на уровне институциональных преобразований.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%EE%F0%F2,_%C4%F3%E3%EB%E0%F1
Можно смело говорить о том, что общества или государства, в которых процветают такие внутренние процессы саморазрушения, межличностные разрушения, находятся на системном уровне под властью ложно-положительных стереотипов. Если допустить, что подобный стереотип исходит уже из самой системы управления, то такому государству возможно помочь лишь скорее всего только внешним воздействием. Точно так же, как и отдельной личности, которая уже порой просто не в состоянии трезво оценить собственное положение саморазрушающего характера.
С точки зрения современно нейро-физиологии, мы имеем дело с неким информационным вирусом, который распространяется через все системы глобальной коммуникации внутри человеческой популяции. Суть его заключается не в преднамеренной лжи, а в искаженной интерпретации реальности, которая поступает нам в виде шквального информационного потока, считающегося правильным на институциональных уровнях, но на самом деле таковым не являющимся. В итоге он становится навязанным мнением большинства, которые принимают его как своё собственное, защищая ложное, так как оно теперь прочно связано с их собственной самостью и самоощущением, жизнью, концепцией их жизни, не зная даже о том, что сознание базируется на автоматических процессах.
Предпринимая шаги по изменению собственной информационной реальности, человек затронул важнейшие артерии на шее человечества, не до конца осознавая, что тиражирование рационализированного самообмана, приведёт к катастрофе на глобальном уровне и способно уничтожать популяцию без всяких ядерных бомб.
В итоге, когда мы с вами затрагиваем обычную проблему мотивации, мы должны чётко понимать, что современное общество шагает в истории с таким темпом развития, которого никогда ранее не наблюдалось.
Ускоряя все внутренние процессы, не осознав до конца того, как работает наша собственная внутренняя система восприятия, мы тем самым порой способствуем ускорению развития отрицательных и деструктивных концепций, ложно-положительных стереотипов.
Майкл Мескон, Майкл Альберт и Франклин Хедоури «Основы менеджмента».
Для того, что бы говорить о мотивирующем моменте в деятельности человека, необходимо достаточно глубоко проникнуть в суть вещей, в глубину социального воспитания личности и самого социума, который культивирует те или иные ценности в то или иное историческое время.
Для того, что бы говорить о ценностях той или иной группы людей, необходимо учитывать множество таких факторов, которые в итоге приведут нас к воспитанию.
Если мы человека поставим в условия, где его естественные потребности дополним комплексом таких потребностей, которые ему будут навязаны обществом, но не будут в действительности являться его собственным устремлением, то такой человек будет искусственно стремиться к удовлетворению подобных навязанных потребностей, не получая в итоге от этого никогда удовлетворения, так как в общей информационной действительности его собственные нераскрытые потребности он будет ощущать лишь как бессознательная часть его собственных внутренних побуждений.
В итоге то, что можно было бы назвать несоответствием или ложью, будет то ощущение, где его бессознательные побуждения, будут постоянно сталкиваться с несоответствием с его «собственным» общественно-навязанным мнением.
Подобное утверждение вытекает из современного научного положения о физиологии, в котором чётко описан механизм ложно-положительных стереотипов, где многократно повторенная ложь, осознаваемая как правда действительности, усваивается механизмом человеческого сознания и превращается в механизм автоматического реагирования на соответствующее внешнее раздражение.
Ярким примером подобного ложно-позитивного стереотипа является курение, где каждый курильщик знает, что курить плохо и вредно для здоровья, однако преодолеть подобный стереотип ему достаточно сложно, так как он стал автоматическим реагированием по отношению к соответствующей реальности.
Если разобраться в действительности, исходя из простого факта прогрессирующей в человеческой популяции депрессии, то мгновенно станет понятно, какая огромная армия людей живёт не только не правильной жизнью, но и считает ложно-положительные привычки своего общества и самих себя естественными. Более того, будет защищать их, и раздражаться, если кто-то попытается им указать на это.
Говоря о ложно-положительных стереотипах в мышлении, я не могу не вернуться к реальной жизни, где подобные стереотипы стали абсолютно естественным поведением людей в семье, бизнесе, творчестве, словом во всех сферах человеческой деятельности, где люди испытывают периодическую депрессию. И подобные стереотипы стали иметь на столько сложные психологические формы убеждённости, что порой впечатляют их тончайшие хитросплетения, впечатляет то, сколько сил человеческий ум бросает для попытки рационализировать их.
Описать их гораздо уже сложнее, так как каждый отдельный индивид рождается изначально в среде, внутри которой имеют место быть массовые заблуждения в отношении тех или иных ценностей, которые на сегодняшний день уже приняли хронический и системный вид. Как и всякое хроническое отрицательное состояние, оно неизбежно переходит в новые качественные состояния, поражая общество всё глубже и глубже, и как любая другая болезнь, которая начинается с расстройства психики человека, превращается в болезнь, поражающая его организм в целом.
Сегодня можно уже писать огромные труды в отношении многих и многих людей, считающих себя абсолютно нормальными, но в действительности таковыми не являющимися.
Как правило, их общий жизненный тонус находится в постоянном сопротивлении этому внутреннему состоянию напряжения, пока позволяют физические силы. Однако год от года, чем меньше физических сил остаётся у человека, тем ярче прогрессирует его ложно-положительный стимул.
К примеру, можно привести бизнесмена, который стал таковым по причине каких-то пережитых жизненных ошибок, с которыми с трудом справился, сделав ложный вывод о том, что в этом мире деньги и власть решают всё.
Те жизненные удары, которые он сам себе нанёс в связи с тем, что его внутреннее самоощущение не совпадало с общественным, привели его в итоге не к тому выводу, что общественное мнение в отношении ценностей может заблуждаться, а наоборот. В итоге полного примирения с ложными общественными утверждениями, которые ранее являлись для его собственных внутренних ощущений, как противоестественные, человек полностью вытесняет часть своего аппарата восприятия на уровень бессознательного, что позволяет ему «примириться» с той реальностью, которую он имеет по факту вокруг себя. Иными словами, вся его реальность сосредоточена теперь в той части сознания, которая отныне работает автоматически, как ложно-положительный стереотип, постепенно разрушая человека изнутри.
На общественном, уровне подобный механизм приспособления, позволяет индивиду выжить и даже иметь успех и личный «выигрыш», однако на уровне системы, в итоге проигрывает всё общество, так как подобная система внутри себя содержит общую деструктивную направленность.
Подобное общество как правило крайне раздражительно и агрессивно по отношению друг к другу, в нём процветают действия носящие ярко выраженный характер саморазрушения всех типов в поведении: пьянство, наркотики, преступность, и т.п.
На данную тему был написан труд (Institutions, Institutional Change and Economic Performance, 1990).
Дугласом Нортом, который рассматривал общество с позиции на уровне институциональных преобразований.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%EE%F0%F2,_%C4%F3%E3%EB%E0%F1
Можно смело говорить о том, что общества или государства, в которых процветают такие внутренние процессы саморазрушения, межличностные разрушения, находятся на системном уровне под властью ложно-положительных стереотипов. Если допустить, что подобный стереотип исходит уже из самой системы управления, то такому государству возможно помочь лишь скорее всего только внешним воздействием. Точно так же, как и отдельной личности, которая уже порой просто не в состоянии трезво оценить собственное положение саморазрушающего характера.
С точки зрения современно нейро-физиологии, мы имеем дело с неким информационным вирусом, который распространяется через все системы глобальной коммуникации внутри человеческой популяции. Суть его заключается не в преднамеренной лжи, а в искаженной интерпретации реальности, которая поступает нам в виде шквального информационного потока, считающегося правильным на институциональных уровнях, но на самом деле таковым не являющимся. В итоге он становится навязанным мнением большинства, которые принимают его как своё собственное, защищая ложное, так как оно теперь прочно связано с их собственной самостью и самоощущением, жизнью, концепцией их жизни, не зная даже о том, что сознание базируется на автоматических процессах.
Предпринимая шаги по изменению собственной информационной реальности, человек затронул важнейшие артерии на шее человечества, не до конца осознавая, что тиражирование рационализированного самообмана, приведёт к катастрофе на глобальном уровне и способно уничтожать популяцию без всяких ядерных бомб.
В итоге, когда мы с вами затрагиваем обычную проблему мотивации, мы должны чётко понимать, что современное общество шагает в истории с таким темпом развития, которого никогда ранее не наблюдалось.
Ускоряя все внутренние процессы, не осознав до конца того, как работает наша собственная внутренняя система восприятия, мы тем самым порой способствуем ускорению развития отрицательных и деструктивных концепций, ложно-положительных стереотипов.
|
|
Понравилось: 1 пользователю
За каждым шагом через боль, открывается истина. Наблюдаю. |
Быть частью жизни, это особое состояние ума. Я бы не сказал, что это легко. Скорее это предел чувств, их полное напряжение. В определённый момент наступает бессилие перед тотальностью жизни и её бесконечным напором. Не сопротивляйтесь. Подчинитесь.
Вы часть жизни, а жизнь часть вас самих. Растворяясь в её безумном вихре, вы обретаете её собственную силу.
Ума больше нет. Есть только вы и жизнь внутри вас.
Человек, обладая невероятной внутренней силой её страшится. Он боится открыть её в себе.
Боится быть самим собой. Боится элементарной боли.
Но можно принять этот страх. Посмотреть ему в глаза, дать ему убить вас.
Когда вы позволите ему убить вас, вы вдруг обнаружите, что он не убивает, а меняет вас. Ничего не оставляя от прежней сущности, он превращает вас в иную сущность.
Мы даже не представляем до конца, что на самом деле делает смерть. Быть готовым к жизни, значит принять самый большой страх перед жизнью.
Только в этот момент разрушается самая великая иллюзия.
Получить ответ можно только в случае правильно заданного вопроса. На любой внутренний вопрос вы получаете ответы, которые реализуют действительность, которую мы называем наш мир. Но ни кто не осознаёт почти, откуда исходят его вопросы к жизни, не осознаёт эту информационную связь, а соответственно не понимает, почему жизнь непредсказуема.
Мы смотрим на окружающий человека мир через ум, пытаясь транслировать в реальность мысли, однако только сокровенные желания исполняет жизнь. А вот их то мы как раз и не ощущаем.
В итоге, это как если бы вы угадывали мысли любимого человека и делали то, что он хотел бы видеть.
Реальность ждёт нашего осознания её собственных намерений. Она даёт нам возможность, которую мы реализовываем сами. При этом возможность может быть абсолютно невероятной.
Передать словами это сложно, это надо пережить самому.
Это, как если бы источник давал вам материал, из которого возможно было бы построить любую реальность. Оказываясь в одной из них, самой низшей, мы приобретаем первый опыт творения. Затем это становится возобновляемым опытом. И наконец это становится жизненным стереотипом, который становится неотъемлемой частью вашего существа.
Реальность и вы срастаетесь. Жизнь торжествует.
Да, Творец явно либо ребёнок, либо очень с хорошим чувством юмора, потому что через некоторое время вновь наступает отрицание и вновь мы проходим весь его цикл. И так до осознания первоначального замысла, в котором снова тотально принимаем источник и снова рождается в этом партнёрстве новая реальность и новый мир.
И ни какой скуки, так как каждый раз новая реальность определяет новое самоощущение. Это бесконечное перевоплощение.
В итоге любимый человек похож на это. Как если бы он всегда был иной, всегда менялся и угадывался каждый раз новым, непредсказуемо обновлённым. И так до конца дней.
Вы часть жизни, а жизнь часть вас самих. Растворяясь в её безумном вихре, вы обретаете её собственную силу.
Ума больше нет. Есть только вы и жизнь внутри вас.
Человек, обладая невероятной внутренней силой её страшится. Он боится открыть её в себе.
Боится быть самим собой. Боится элементарной боли.
Но можно принять этот страх. Посмотреть ему в глаза, дать ему убить вас.
Когда вы позволите ему убить вас, вы вдруг обнаружите, что он не убивает, а меняет вас. Ничего не оставляя от прежней сущности, он превращает вас в иную сущность.
Мы даже не представляем до конца, что на самом деле делает смерть. Быть готовым к жизни, значит принять самый большой страх перед жизнью.
Только в этот момент разрушается самая великая иллюзия.
Получить ответ можно только в случае правильно заданного вопроса. На любой внутренний вопрос вы получаете ответы, которые реализуют действительность, которую мы называем наш мир. Но ни кто не осознаёт почти, откуда исходят его вопросы к жизни, не осознаёт эту информационную связь, а соответственно не понимает, почему жизнь непредсказуема.
Мы смотрим на окружающий человека мир через ум, пытаясь транслировать в реальность мысли, однако только сокровенные желания исполняет жизнь. А вот их то мы как раз и не ощущаем.
В итоге, это как если бы вы угадывали мысли любимого человека и делали то, что он хотел бы видеть.
Реальность ждёт нашего осознания её собственных намерений. Она даёт нам возможность, которую мы реализовываем сами. При этом возможность может быть абсолютно невероятной.
Передать словами это сложно, это надо пережить самому.
Это, как если бы источник давал вам материал, из которого возможно было бы построить любую реальность. Оказываясь в одной из них, самой низшей, мы приобретаем первый опыт творения. Затем это становится возобновляемым опытом. И наконец это становится жизненным стереотипом, который становится неотъемлемой частью вашего существа.
Реальность и вы срастаетесь. Жизнь торжествует.
Да, Творец явно либо ребёнок, либо очень с хорошим чувством юмора, потому что через некоторое время вновь наступает отрицание и вновь мы проходим весь его цикл. И так до осознания первоначального замысла, в котором снова тотально принимаем источник и снова рождается в этом партнёрстве новая реальность и новый мир.
И ни какой скуки, так как каждый раз новая реальность определяет новое самоощущение. Это бесконечное перевоплощение.
В итоге любимый человек похож на это. Как если бы он всегда был иной, всегда менялся и угадывался каждый раз новым, непредсказуемо обновлённым. И так до конца дней.
|
|
Понравилось: 1 пользователю
Ясон Бадридзе. |
В этом видео есть момент, когда учёный, доктор биологических наук, профессор Ясон Бадридзе говорит о телепатических свойствах нашего разума, передаче информации без слов.
Я хочу сказать, что подобный опыт вполне доступен человеку и сегодня. Однако, для его реализации требуется целостность психики, то есть такая модель сознания, которая выстроила между сознанием и бессознательным мост, объединяющий первую и вторую сигнальные системы.
Это абсолютно не противоречит научному пониманию мира, как общей интегрально информационной картины.
Дело в том, что человеческое сознание получает общий информационный поток из вне, но пропуская его через фильтр ума, делит его на два таких потока, которые по отношению друг к другу осознаются, как противопоставление. В итоге подобного искажения, становится невозможно передать эквивалент данных не от субъекта к субъекту, не от субъекта по отношению к объекту. Остаётся единственная обратная связь от объекта к субъекту, которая как раз и воспринимается умом человека, как система противопоставления и вытесненная часть собственного сознания, являющаяся на сегодняшний момент бессознательной его частью.
Иными словами, объективность ощущается человеком сегодня как трансцендентная часть его собственной реальности и сущности и отделена от него системой, которую мы осознаём как непреодолимый порог по ту сторону жизни. В итоге, мы не видим и не слышим друг друга, даже когда говорим друг с другом и когда слушаем друг друга, так как слова являются лишь только внешней частью информационной сущности, не несущей прямых сведений об объекте, а только лишь являются его интерпретированной версией сознания и не несут в себе целостной информации о нём, что является объективной реальностью, а не той реальностью, которая нами осознаётся, но которая на самом деле является только лишь её искаженной интерпретацией. Иллюзией, как мы говорим. Что соответствует изначально ложному определению бытия.
Если мы говорим о такой реальности, условием которой является обязательная эквивалентность в передаче информационных потоков, осознаваемая нами, как истина, то сам по себе разум является принципом искажения эквивалентности, что создаёт условия не для объективной истины, а для субъективных правд и всех внутренних подобной системы объектов, не являющимися на самом деле вещами в себе. В итоге мы чётко видим, что наше взаимопонимание день ото дня всё уменьшается и уменьшается, являясь основной причиной всех наших бед жизни.
|
|
Теории потребностей. |
Маслоу, Мак Клелланд и Герцберг имели каждый свою отличную от другого теорию потребностей.
Однако сегодня стоит рассматривать потребности человека с точки зрения новых научных данных. Наличие первой сигнальной системы и наличие второй сигнальной системы, сознание и бессознательное, говорит о двух потоках реакций, входящих в человека, как общий интегральный информационный поток.
Теория квант реальности, в которой каждый квант стремиться к реализации и созданию таких ситуаций, которые бы способствовали реализации, сообщает о том, что общее стремление реальности и заключается в реализации всех видов потребностей, какие бы не возникали каждое мгновение.
Однако, при этом необходимо учитывать так же и наличие не целостного, а дихотомического сознания у современного человека, которое и делит общий интегральный информационный поток восприятия на два потока, воспринимающиеся им самим, как два противоположных рода информации, которые отрицают друг друга.
В итоге, мы получаем некую искаженную интерференционную картину нашего восприятия, распределённую на каждого индивида, где разделение интегральной внешней информации, выражающее сущность реальности в её целостности, разделилось само по себе диалектическим противоречием, через систему сопоставления, которую мы называем Ум.
Если представить глобальную систему реальности, как систему абсолютной логической взаимозависимости, как целостный информационный объект, то изменив к нему логический подход восприятия, через который сам целостный объект распадается на диалектическое противопоставление по отношению к собственной целостности, то само появление возможности такого сопоставительного наблюдения, можно разве что сравнить с теорией большого взрыва или появлением всего из ничего, где под восприятием "ничто", находится всего лишь та часть информационной реальности, которая через призму нашего сознания ощущается, как глобальная диалектическая противопоставленность или антиреальность. В итоге любой объект, имеющий в нашем мире название, существует по независимой логике от других объектов, что само по себе абсолютно противоречит целостности информационной картины реальности.
Сегодня абсолютно ясно, что информационная действительность, которая окружает человека на любом микро и макро уровне, абсолютно логически взаимосвязана и имеет иную логику существования, нежели та, что использует сознание. Однако сознание само по себе, не является полной картиной инструмента человеческого восприятия, так как в нём имеется так же и первая сигнальная система или бессознательное, выражающееся способностью к абстрагированию по отношению к плодам собственного сознания или ума.
Очень важно сегодня понять и принять на информационном уровне, то общее положение, которое описывает две абсолютно противопоставленные друг другу логические системы.
1. Ум или человеческое сознание через призму сопоставления, делит любую информационную изначально целостность, на диалектический объект, который описан ещё тысячи лет тому назад и чётко сформулирован Гегелем, как основной закон -
"единство и борьба противоположностей".
Обратите внимание на эту формулу. В ней играет огромную важность первое слово - "единство", как исходное положение информационного объекта. Закон описывает динамическую логику распадения целостности на противоположные части и их последующее отрицание друг друга.
Представьте, что подобную логическую систему вы применили по отношению и самоопределению. В итоге в ваше самоопределение проникнет логическое видение такого рода, которое не позволит увидеть собственную целостность, а мгновенно своим наблюдением только лишь разобьёт эту целостность, на две части, одна из которых будет восприниматься как норма, а другая, как диалектическое противопоставление нормам всех логических выводов и представлений о реальности, к которым была применена подобная система восприятия.
Сделаю весьма смелое предположение, хоть я и не физик, но опыт квантово-волнового дуализма, можно объяснить именно этим эффектом логического видения картины реальности, где чётко видно противопоставление между объективным первичным состояние самой природы и субъективным к ней отношением человека, который благодаря логике сопоставления, благодаря ему, осознал себя и материальный мир вокруг него, который развернулся в одно мгновение из так называемого, воспринимаемого логически "ничего".
В итоге суть общей человеческой проблемы заключается в том, что бы точно описать внешнюю по отношению к человеку реальность и особенности самого человека, соотносящегося с объективной картиной мира.
Однако, подобное описание случилось весьма давно, но в силу специфики отрицающего момента в ощущении логической противопоставленности, реальность была искажена в восприятии человека и стала восприниматься им, как тотальное зло или трансцендентная часть картины мира, между которыми стояла стена, которую невозможно было преодолеть, ощущаемая нами, как смерть.
2. Логика целостного само восприятия и отраженная через него картина действительности.
Нужно понять, что на основе последних данных о картине реальности, подтверждённых в таких науках, как физика, абстрактная математика, психология, нейрофизиология, философия и многих других, мы вывели общую характеристику окружающего мира, чья логика существования прямо противопоставлена логической картине мира человека в его постижении.
В итоге этой логической противопоставленности, мир целостности был превращен в мир объектов, где на всём протяжении осознанного существования человека, он наблюдался иначе, через собственные свойства самого человека.
Однако, не всегда человек воспринимал сам себя на столько отделённым от его собственной той части, которая описана Фрейдом как подсознание и развёрнуто в представлении мира бессознательного, его учеником Юнгом.
История развития человеческого аппарата восприятия и самоощущения, требует отдельного труда, где было бы показано, как менялось человеческое само восприятие в истории его собственного развития.
В итоге, логика целостного восприятия была практически утрачена в нашем мире, так как человек делал акцент всё более на собственное сознание и его принцип постижения.
И чем более развивался ум человека, как система, тем ярче это отражалось на той картине собственной реальности, которую выстраивал он сам для себя.
Это привело к общей искаженности глобальной картины мира в представлении самого человека, на которой стоит сделать особенный акцент, так как по последним данным и научным определениям, именно по эквивалентности в восприятии, осознаваемой нами как честность, и был нанесён огромный удар со стороны логики человеческого разума, в котором и была потеряна связь с объективностью.
Всё более проникая в человеческие институты, она захватила наш мир, как глобальная общая проблема и проявилась наконец в явлении теперь уже на уровне общечеловеческого кризиса, определяемого, как кризис человеческого мышления.
Данный труд не претендует на законченное описание или методологию, позволяющую сформировать целостное мышление у человека, однако он указывает ещё и ещё раз, как это делали и до меня и другие, что необходимо изменить на институциональном уровне общую направленность в воспитании личности. Абсолютно изменить общую сложившуюся парадигму мышления и его логики, которая сама по себе является искажающей моделью, и не позволяет правильно отражать объективный информационный мир, который мы осознаём, как честность пред самими собой или категорию истины.
Опираясь на дихотомическое сознание, культивируемое современным обществом, мы порождаем такие ценности, которые противоречат всем законам самой жизни и её собственным законам целостности.
Я не создаю чего то принципиально нового в этом мире, но чётко понимаю, что сам мир человека, выраженный логикой сознания, воспринимает информацию о целостности, как такую, которая разрушает его собственную логику восприятия и ощущается на биологическом уровне, как угроза жизни, и которую он понимает через уже искаженную призму, где само понятие жизнь уже иное. В итоге он защищает свои модели жизни, внутри которых стремиться к статическому пониманию положения удовлетворения своих потребностей.
Так как проблема носит чётко выраженный системный характер, то задевая фундаментальное, мы затрагиваем в этом смысле так же ту концепцию реальности и самовосприятия, которую строили тысячелетиями и которая так же ощущается нами, как нечто фундаментальное, однако, не может таковым являться, так как никогда не являлось источником зарождения самой жизни, но является следствием гораздо более масштабных действий реальности, породившими саму жизнь.
В итоге книги и открытия, которые были сделаны уже тысячи лет тому назад, к примеру такими авторами, как Платон или Сократ, Аристотель, не явились поводом для пересмотра глобальных концепций в общечеловеческом восприятии, а продолжали изменяться лишь эволюционным образом. Однако, сегодня, понимая проблему на системном уровне, можно с уверенностью сказать, что само по себе эволюционное преобразование человеческого сознания, основанного на системе сравнения и противопоставления, отрицая целостность, таким образом отрицает и ту часть самой себя, которая воспринимается, как тотальное зло.
В итоге не имея логики целостности в самовосприятии, человек постоянно создаёт ситуации в своей реальности, которые ощущает, как противопоставленное себе самому мнение или мнение группы, в результате чего начинает бороться с подобным явлением. Однако в логике целостности эта борьба напоминает борьбу с самим собой.
Сопоставлению логики целостного или органического мышления, с логикой дихотомического или системы сравнения, можно и нужно посвятить всю свою жизнь, едва ли затронув небольшую её часть, представленную, как динамическая модель мира человека с её внутренними проблемами, которые как раз и возникают в связи с отсутствием эквивалентности между действительным и ожидаемым.
Однако, моя задача на данный момент только лишь указать на суть проблемы, которую осознав, люди должны решать через институты общества, постепенно исправляя тотальную ложь, которая сама невольно рождает себя, всё более поражая наши внутренние системы, как логика раковой опухоли, которая всё более поражая тело человека в конечном итоге уничтожает и саму себя.
Современная теория удовлетворения потребностей много сложнее и принципиально отличается от теорий уважаемых авторов, старающихся в своё время решить проблемы менеджмента.
И я бы мог сказать что в мире, в котором человек впитывает общественные установки, как свои собственные, с раннего детства, практически чудом является возможность создания целостного восприятия у отдельного индивида, так как в обществе практически не представлена модель подобного восприятия, то и шансы на формирование целостной психики у отдельного человека крайне малы.
К подобной форме восприятия человек приходит не по случайности, а по назначению самой жизни, которую осознаёт, как миссия. По этой причине такие личности, как Юнг, Ошо, Фромм, говорили о вере, не как о системе опирающейся на абстрактное понятие, а как о системе целостности, которую осознавали благодаря собственному соответствию её в свойствах отражения, которое обозначили сами в себе, как целостная психика.
В итоге мы вскрываем две очень большие человеческие проблемы, одна из который определение миссии в собственном назначении жизни, откуда берут все свои начала так же и общественные системы, производство, производимые товары, ценообразование, политика государства, строй, словом всё, что мы получаем уже как реализованные желания и ожидаемый результат.
Каждый человек в своей жизни сталкивается с серьёзнейшими проблемами в этой области, так как его реализованные желания не соответствуют внутренним ожиданиям, которые непосредственно так же связаны и с первичной системой реагирования, бессознательным. Внутри же системной диалектической целостности, воспринимаемое бессознательное желание, как противопоставленное желанию в сознании, при столкновении, практически всегда получает неизбежный результат, где наши реализованные желания никогда не приводят человека к удовлетворению, а порождают эффект новой неудовлетворённости как в частном случае так и в общей системе.
Победы человека естественным образом стремятся к ощущению победы над природой, где победить окончательно природу, означает убить причину самой жизни.
В итоге человек достигает реализации, но не ощущает удовлетворения, так как заданное бессознательным не соответствует действительности в сознании. В итоге рождается система эгоистического устремления, которая сообщает человеку ложную информацию о том, что удовлетворение лежит в большем усилии, которое само по себе в нашем мире выражено и осознаётся, как действование. Так как действием в нашем мире и представлениях является и слово и психическое действие и физическое действие, которое выражено системой ценностей и желаний в круге этих ценностей, то каждое подобное действие приводит к нарастающему чувству неудовлетворённости, чем больше мы прикладываем усилие в подобной логике действия.
В итоге человек стремящийся к богатству, не может остановиться, так как не ощущает удовлетворённости в каждом достигнутом результате. Каждый раз при достижении цели, вместо положительного удовлетворения, мы получаем внутри нашего самоощущения прямо противоположное чувство разочарования, которое возникает из за несоответствия внутренней логики бессознательного, связанного с самой сутью жизни и логики сознания, которое противопоставляет себя бессознательному, то есть самой жизни.
Рождённое тотальное противоречие между осознанной конечностью любого явления в нашем мире и ощущением бесконечности, которая всегда выходит за рамки возможностей жизни человека и ощущается, как смерть, заставляет человека не искать понимание этого вопроса и этого противоречия, а бежать от него в глубину своего мира, заставляет всё более утверждаться в системе разрушающего целостность сознания.
В итоге, если научное управление системами допускает возможность миссии у предприятия, то стоит глубоко копнуть в причинность такого понятия, как миссия, которое может совершенно не соответствовать тому, что назначено самой жизнью, но что не ощущается вовсе, так как целая часть информационной реальности не входит в логическое представление о её целостности и более того вовсе отрицается и ощущается, как угроза жизни.
В итоге мы создаём внутренние системы, которые осознаём как необходимость в желании, однако всё более и более начинаем ощущать то, что реализованные проекты зачатую просто уничтожают всякую нормальную возможность жить здоровой жизнью. Каждый раз создавая продукт или систему, мы получаем от неё самой по обратной информационной связи ответ, который несёт в самом себе информацию о соответствии с ожидаемым результатом. В итоге мы чётко видим, что борьба с наркоманами, не уменьшает, а увеличивает их число. Борьба с педофилами, не уменьшает, а увеличивает их число.
http://top.rbc.ru/society/16/03/2013/849484.shtml
Производства не улучшают и облегчают жизнь человека, а наоборот, создают массу таких дополнительных проблем, которые в своей совокупности ощущаются, как тенденция усложнения жизни. Медицина лечит людей всё лучше и лучше, однако болезней становится всё больше и больше. Мы конструируем машины для перемещения по земле и воде и воздуху для упрощения сообщений, но в итоге ускоряем жизнь до такого состояния, что стресс сегодня является самым распространённым явлением современного мира. Несмотря на глобальную сеть интернет, одиночество личности сегодня набирает всё большие обороты.
Жизнь, как объективная реальность, всегда через обратную связь с деятельностью человека и его ожидаемым, будет сообщать и корректировать его через чувство удовлетворённости или его отсутствие. И так как глобальная информационная реальность является вся сама по себе стремлением к реализации и самой по себе реализацией всех потребностей на всех её уровнях от микро до макро космоса, то соответственно отсутствие связи с её собственными процессами, рождают не реальные, а искусственно созданные ценности ума, реализация которых не соответствует самой действительности жизни, что через бессознательное или первую сигнальную систему по обратной связи транслируется через самого человека, порождая внутри него самого чудовищное столкновение, которое мы осознаём как столкновение души и тела.
Однако современному человеку навряд ли душа представляется не как абстрактное понятие, а как системное понятие его собственного внутреннего устройства. Склонный к самоотрицанию в этой части самого себя, человек скорее скажет, что души у него вовсе нет и что это религиозные предрассудки. И даже если и согласится с тем, что она у него есть, то всё равно не будет иметь чётких представлений об этом, которые опирались бы не на абстрактное понятие, а на законы проявляющие себя на всех уровнях жизни.
В итоге единственной методикой, которая бы могла предотвратить развитие ложных утверждений, формируя по обратной связи ложное восприятие, является полнота информационного представления о жизни, которую необходимо доносить до людей через институты так же формирующие их сознание.
И если все институты мира будут сообщать людям о том, что земля плоская, то таково и будет представление о мире всех людей, что отразиться мгновенно на всём, что так или иначе называется реальностью отраженный представлений.
Современные же институты не делают акцент в изменившейся парадигме мира, а продолжают культивировать лишь только старые взгляды, так как сами учителя и воспитатели не обладают необходимой базой данных для формирования собственной целостности сознания. И в этом смысле, научное сообщество должно разработать сообща концепцию новой реальности и донести её до всех человеческих институтов, учитывая специфику тех или иных направлений деятельности.
Те, кто понимает важность этого, осознаёт это, как миссию собственной жизни и распространяет тем или иным образом эту информацию для людей.
Однако сегодня стоит рассматривать потребности человека с точки зрения новых научных данных. Наличие первой сигнальной системы и наличие второй сигнальной системы, сознание и бессознательное, говорит о двух потоках реакций, входящих в человека, как общий интегральный информационный поток.
Теория квант реальности, в которой каждый квант стремиться к реализации и созданию таких ситуаций, которые бы способствовали реализации, сообщает о том, что общее стремление реальности и заключается в реализации всех видов потребностей, какие бы не возникали каждое мгновение.
Однако, при этом необходимо учитывать так же и наличие не целостного, а дихотомического сознания у современного человека, которое и делит общий интегральный информационный поток восприятия на два потока, воспринимающиеся им самим, как два противоположных рода информации, которые отрицают друг друга.
В итоге, мы получаем некую искаженную интерференционную картину нашего восприятия, распределённую на каждого индивида, где разделение интегральной внешней информации, выражающее сущность реальности в её целостности, разделилось само по себе диалектическим противоречием, через систему сопоставления, которую мы называем Ум.
Если представить глобальную систему реальности, как систему абсолютной логической взаимозависимости, как целостный информационный объект, то изменив к нему логический подход восприятия, через который сам целостный объект распадается на диалектическое противопоставление по отношению к собственной целостности, то само появление возможности такого сопоставительного наблюдения, можно разве что сравнить с теорией большого взрыва или появлением всего из ничего, где под восприятием "ничто", находится всего лишь та часть информационной реальности, которая через призму нашего сознания ощущается, как глобальная диалектическая противопоставленность или антиреальность. В итоге любой объект, имеющий в нашем мире название, существует по независимой логике от других объектов, что само по себе абсолютно противоречит целостности информационной картины реальности.
Сегодня абсолютно ясно, что информационная действительность, которая окружает человека на любом микро и макро уровне, абсолютно логически взаимосвязана и имеет иную логику существования, нежели та, что использует сознание. Однако сознание само по себе, не является полной картиной инструмента человеческого восприятия, так как в нём имеется так же и первая сигнальная система или бессознательное, выражающееся способностью к абстрагированию по отношению к плодам собственного сознания или ума.
Очень важно сегодня понять и принять на информационном уровне, то общее положение, которое описывает две абсолютно противопоставленные друг другу логические системы.
1. Ум или человеческое сознание через призму сопоставления, делит любую информационную изначально целостность, на диалектический объект, который описан ещё тысячи лет тому назад и чётко сформулирован Гегелем, как основной закон -
"единство и борьба противоположностей".
Обратите внимание на эту формулу. В ней играет огромную важность первое слово - "единство", как исходное положение информационного объекта. Закон описывает динамическую логику распадения целостности на противоположные части и их последующее отрицание друг друга.
Представьте, что подобную логическую систему вы применили по отношению и самоопределению. В итоге в ваше самоопределение проникнет логическое видение такого рода, которое не позволит увидеть собственную целостность, а мгновенно своим наблюдением только лишь разобьёт эту целостность, на две части, одна из которых будет восприниматься как норма, а другая, как диалектическое противопоставление нормам всех логических выводов и представлений о реальности, к которым была применена подобная система восприятия.
Сделаю весьма смелое предположение, хоть я и не физик, но опыт квантово-волнового дуализма, можно объяснить именно этим эффектом логического видения картины реальности, где чётко видно противопоставление между объективным первичным состояние самой природы и субъективным к ней отношением человека, который благодаря логике сопоставления, благодаря ему, осознал себя и материальный мир вокруг него, который развернулся в одно мгновение из так называемого, воспринимаемого логически "ничего".
В итоге суть общей человеческой проблемы заключается в том, что бы точно описать внешнюю по отношению к человеку реальность и особенности самого человека, соотносящегося с объективной картиной мира.
Однако, подобное описание случилось весьма давно, но в силу специфики отрицающего момента в ощущении логической противопоставленности, реальность была искажена в восприятии человека и стала восприниматься им, как тотальное зло или трансцендентная часть картины мира, между которыми стояла стена, которую невозможно было преодолеть, ощущаемая нами, как смерть.
2. Логика целостного само восприятия и отраженная через него картина действительности.
Нужно понять, что на основе последних данных о картине реальности, подтверждённых в таких науках, как физика, абстрактная математика, психология, нейрофизиология, философия и многих других, мы вывели общую характеристику окружающего мира, чья логика существования прямо противопоставлена логической картине мира человека в его постижении.
В итоге этой логической противопоставленности, мир целостности был превращен в мир объектов, где на всём протяжении осознанного существования человека, он наблюдался иначе, через собственные свойства самого человека.
Однако, не всегда человек воспринимал сам себя на столько отделённым от его собственной той части, которая описана Фрейдом как подсознание и развёрнуто в представлении мира бессознательного, его учеником Юнгом.
История развития человеческого аппарата восприятия и самоощущения, требует отдельного труда, где было бы показано, как менялось человеческое само восприятие в истории его собственного развития.
В итоге, логика целостного восприятия была практически утрачена в нашем мире, так как человек делал акцент всё более на собственное сознание и его принцип постижения.
И чем более развивался ум человека, как система, тем ярче это отражалось на той картине собственной реальности, которую выстраивал он сам для себя.
Это привело к общей искаженности глобальной картины мира в представлении самого человека, на которой стоит сделать особенный акцент, так как по последним данным и научным определениям, именно по эквивалентности в восприятии, осознаваемой нами как честность, и был нанесён огромный удар со стороны логики человеческого разума, в котором и была потеряна связь с объективностью.
Всё более проникая в человеческие институты, она захватила наш мир, как глобальная общая проблема и проявилась наконец в явлении теперь уже на уровне общечеловеческого кризиса, определяемого, как кризис человеческого мышления.
Данный труд не претендует на законченное описание или методологию, позволяющую сформировать целостное мышление у человека, однако он указывает ещё и ещё раз, как это делали и до меня и другие, что необходимо изменить на институциональном уровне общую направленность в воспитании личности. Абсолютно изменить общую сложившуюся парадигму мышления и его логики, которая сама по себе является искажающей моделью, и не позволяет правильно отражать объективный информационный мир, который мы осознаём, как честность пред самими собой или категорию истины.
Опираясь на дихотомическое сознание, культивируемое современным обществом, мы порождаем такие ценности, которые противоречат всем законам самой жизни и её собственным законам целостности.
Я не создаю чего то принципиально нового в этом мире, но чётко понимаю, что сам мир человека, выраженный логикой сознания, воспринимает информацию о целостности, как такую, которая разрушает его собственную логику восприятия и ощущается на биологическом уровне, как угроза жизни, и которую он понимает через уже искаженную призму, где само понятие жизнь уже иное. В итоге он защищает свои модели жизни, внутри которых стремиться к статическому пониманию положения удовлетворения своих потребностей.
Так как проблема носит чётко выраженный системный характер, то задевая фундаментальное, мы затрагиваем в этом смысле так же ту концепцию реальности и самовосприятия, которую строили тысячелетиями и которая так же ощущается нами, как нечто фундаментальное, однако, не может таковым являться, так как никогда не являлось источником зарождения самой жизни, но является следствием гораздо более масштабных действий реальности, породившими саму жизнь.
В итоге книги и открытия, которые были сделаны уже тысячи лет тому назад, к примеру такими авторами, как Платон или Сократ, Аристотель, не явились поводом для пересмотра глобальных концепций в общечеловеческом восприятии, а продолжали изменяться лишь эволюционным образом. Однако, сегодня, понимая проблему на системном уровне, можно с уверенностью сказать, что само по себе эволюционное преобразование человеческого сознания, основанного на системе сравнения и противопоставления, отрицая целостность, таким образом отрицает и ту часть самой себя, которая воспринимается, как тотальное зло.
В итоге не имея логики целостности в самовосприятии, человек постоянно создаёт ситуации в своей реальности, которые ощущает, как противопоставленное себе самому мнение или мнение группы, в результате чего начинает бороться с подобным явлением. Однако в логике целостности эта борьба напоминает борьбу с самим собой.
Сопоставлению логики целостного или органического мышления, с логикой дихотомического или системы сравнения, можно и нужно посвятить всю свою жизнь, едва ли затронув небольшую её часть, представленную, как динамическая модель мира человека с её внутренними проблемами, которые как раз и возникают в связи с отсутствием эквивалентности между действительным и ожидаемым.
Однако, моя задача на данный момент только лишь указать на суть проблемы, которую осознав, люди должны решать через институты общества, постепенно исправляя тотальную ложь, которая сама невольно рождает себя, всё более поражая наши внутренние системы, как логика раковой опухоли, которая всё более поражая тело человека в конечном итоге уничтожает и саму себя.
Современная теория удовлетворения потребностей много сложнее и принципиально отличается от теорий уважаемых авторов, старающихся в своё время решить проблемы менеджмента.
И я бы мог сказать что в мире, в котором человек впитывает общественные установки, как свои собственные, с раннего детства, практически чудом является возможность создания целостного восприятия у отдельного индивида, так как в обществе практически не представлена модель подобного восприятия, то и шансы на формирование целостной психики у отдельного человека крайне малы.
К подобной форме восприятия человек приходит не по случайности, а по назначению самой жизни, которую осознаёт, как миссия. По этой причине такие личности, как Юнг, Ошо, Фромм, говорили о вере, не как о системе опирающейся на абстрактное понятие, а как о системе целостности, которую осознавали благодаря собственному соответствию её в свойствах отражения, которое обозначили сами в себе, как целостная психика.
В итоге мы вскрываем две очень большие человеческие проблемы, одна из который определение миссии в собственном назначении жизни, откуда берут все свои начала так же и общественные системы, производство, производимые товары, ценообразование, политика государства, строй, словом всё, что мы получаем уже как реализованные желания и ожидаемый результат.
Каждый человек в своей жизни сталкивается с серьёзнейшими проблемами в этой области, так как его реализованные желания не соответствуют внутренним ожиданиям, которые непосредственно так же связаны и с первичной системой реагирования, бессознательным. Внутри же системной диалектической целостности, воспринимаемое бессознательное желание, как противопоставленное желанию в сознании, при столкновении, практически всегда получает неизбежный результат, где наши реализованные желания никогда не приводят человека к удовлетворению, а порождают эффект новой неудовлетворённости как в частном случае так и в общей системе.
Победы человека естественным образом стремятся к ощущению победы над природой, где победить окончательно природу, означает убить причину самой жизни.
В итоге человек достигает реализации, но не ощущает удовлетворения, так как заданное бессознательным не соответствует действительности в сознании. В итоге рождается система эгоистического устремления, которая сообщает человеку ложную информацию о том, что удовлетворение лежит в большем усилии, которое само по себе в нашем мире выражено и осознаётся, как действование. Так как действием в нашем мире и представлениях является и слово и психическое действие и физическое действие, которое выражено системой ценностей и желаний в круге этих ценностей, то каждое подобное действие приводит к нарастающему чувству неудовлетворённости, чем больше мы прикладываем усилие в подобной логике действия.
В итоге человек стремящийся к богатству, не может остановиться, так как не ощущает удовлетворённости в каждом достигнутом результате. Каждый раз при достижении цели, вместо положительного удовлетворения, мы получаем внутри нашего самоощущения прямо противоположное чувство разочарования, которое возникает из за несоответствия внутренней логики бессознательного, связанного с самой сутью жизни и логики сознания, которое противопоставляет себя бессознательному, то есть самой жизни.
Рождённое тотальное противоречие между осознанной конечностью любого явления в нашем мире и ощущением бесконечности, которая всегда выходит за рамки возможностей жизни человека и ощущается, как смерть, заставляет человека не искать понимание этого вопроса и этого противоречия, а бежать от него в глубину своего мира, заставляет всё более утверждаться в системе разрушающего целостность сознания.
В итоге, если научное управление системами допускает возможность миссии у предприятия, то стоит глубоко копнуть в причинность такого понятия, как миссия, которое может совершенно не соответствовать тому, что назначено самой жизнью, но что не ощущается вовсе, так как целая часть информационной реальности не входит в логическое представление о её целостности и более того вовсе отрицается и ощущается, как угроза жизни.
В итоге мы создаём внутренние системы, которые осознаём как необходимость в желании, однако всё более и более начинаем ощущать то, что реализованные проекты зачатую просто уничтожают всякую нормальную возможность жить здоровой жизнью. Каждый раз создавая продукт или систему, мы получаем от неё самой по обратной информационной связи ответ, который несёт в самом себе информацию о соответствии с ожидаемым результатом. В итоге мы чётко видим, что борьба с наркоманами, не уменьшает, а увеличивает их число. Борьба с педофилами, не уменьшает, а увеличивает их число.
http://top.rbc.ru/society/16/03/2013/849484.shtml
Производства не улучшают и облегчают жизнь человека, а наоборот, создают массу таких дополнительных проблем, которые в своей совокупности ощущаются, как тенденция усложнения жизни. Медицина лечит людей всё лучше и лучше, однако болезней становится всё больше и больше. Мы конструируем машины для перемещения по земле и воде и воздуху для упрощения сообщений, но в итоге ускоряем жизнь до такого состояния, что стресс сегодня является самым распространённым явлением современного мира. Несмотря на глобальную сеть интернет, одиночество личности сегодня набирает всё большие обороты.
Жизнь, как объективная реальность, всегда через обратную связь с деятельностью человека и его ожидаемым, будет сообщать и корректировать его через чувство удовлетворённости или его отсутствие. И так как глобальная информационная реальность является вся сама по себе стремлением к реализации и самой по себе реализацией всех потребностей на всех её уровнях от микро до макро космоса, то соответственно отсутствие связи с её собственными процессами, рождают не реальные, а искусственно созданные ценности ума, реализация которых не соответствует самой действительности жизни, что через бессознательное или первую сигнальную систему по обратной связи транслируется через самого человека, порождая внутри него самого чудовищное столкновение, которое мы осознаём как столкновение души и тела.
Однако современному человеку навряд ли душа представляется не как абстрактное понятие, а как системное понятие его собственного внутреннего устройства. Склонный к самоотрицанию в этой части самого себя, человек скорее скажет, что души у него вовсе нет и что это религиозные предрассудки. И даже если и согласится с тем, что она у него есть, то всё равно не будет иметь чётких представлений об этом, которые опирались бы не на абстрактное понятие, а на законы проявляющие себя на всех уровнях жизни.
В итоге единственной методикой, которая бы могла предотвратить развитие ложных утверждений, формируя по обратной связи ложное восприятие, является полнота информационного представления о жизни, которую необходимо доносить до людей через институты так же формирующие их сознание.
И если все институты мира будут сообщать людям о том, что земля плоская, то таково и будет представление о мире всех людей, что отразиться мгновенно на всём, что так или иначе называется реальностью отраженный представлений.
Современные же институты не делают акцент в изменившейся парадигме мира, а продолжают культивировать лишь только старые взгляды, так как сами учителя и воспитатели не обладают необходимой базой данных для формирования собственной целостности сознания. И в этом смысле, научное сообщество должно разработать сообща концепцию новой реальности и донести её до всех человеческих институтов, учитывая специфику тех или иных направлений деятельности.
Те, кто понимает важность этого, осознаёт это, как миссию собственной жизни и распространяет тем или иным образом эту информацию для людей.
|
|
Я думаю... |
Знаете, о чём я думаю?
Я думаю о разговоре с самим собой. Это необычный разговор. Он не прекращается ни на минуту. Ни ночью, ни днём. 24 часа в сутки. Возможно, вас это удивит. Кто то покрутит пальцем у виска. Но я не рассержусь. Я внутри себя не расстроюсь. Понимаете?
Вы выходите в город и вас окружают массивы домов, люди, шум, проблемы, заботы.
Мы на столько сильно потеряли ориентиры в жизни, что жизнь для нас стало нечто иное, нечто такое, что создали мы, люди. Но куда же делась сама жизнь, которая создала нас, людей?
Мы не слышим друг друга. Мы не слышим себя.
Поэтому мой разговор с самим собой не прекращается ни на минуту. Я, как маленький ребёнок, который боится потерять маму, держусь за то, что у меня внутри.
Вы когда нибудь ощущали себя частью всего? Внутри тела? Пропитанные любовью к жизни?
Не к той жизни, что создали мы, а к той жизни, что создала нас. Ни кто этого не может отнять или изменить.
Я так хочу, я так сильно хочу смотреть в глаза человеку и ощущать его участие. Его понимание. Глубокое понимание самого себя.
То, о чём я говорю и пишу, это иное самоощущение. Такой дар. Ни каких сомнений.
Через зеркало души вы отражаете мир таким, какой он есть на самом деле, истинным.
В итоге вы видите две картины. Реальность и наш мир, мир, который построил за много тысячелетий человек.
Мы построили лабиринт, ужасное сооружение. Потёмки для души.
Выбраться можно в одиночку, но вот действовать в этом мире ни как невозможно в одиночку.
Здесь ни кто не слышит крики близких о помощи. Здесь царство мыслей-программ, которые ни как не связаны между собой и каждая делает что-то для себя самой.
Мы сомневаемся в том, что нас ждёт худшее, потому что всегда надеемся на лучшее. Но это лучшее ни как не связано с жизнью, а лишь только с нашим эгоизмом. В итоге мы получим самое худшее из возможного.
Время, когда человека вытаскивали из грязи и возвращали к жизни прошло. Время благодарности прошло. Наступило время слабости, утопающих в грязи, где те, кто ещё идёт, идёт по головам утопающих. Этим миром правит ложь. На столько обильная и сочная, на столько сладкая и цветущая, что от её клейкости не спасается даже тот, кто мог бы. Вдыхая пары этой лжи, будет отравлен любой праведник и любая душа.
Но жизнь, сама по себе жизнь защитит нас и разбудит протест внутри нас. Наступит время, когда каждый будет говорить сам с собственной душой, ясно осознавая себя в ней.
Это будет жадная очередь к источнику, который готов утолить жажду любого изголодавшегося по жизни по доверию, по прощению.
Нас ждут трудные времена. Многие так и не поймут смысла самой жизни и зачем они появились. Будут разбиты самые святые чувства. Нет жалости у жизни, но есть высшая мудрость и справедливость.
Я думаю о разговоре с самим собой. Это необычный разговор. Он не прекращается ни на минуту. Ни ночью, ни днём. 24 часа в сутки. Возможно, вас это удивит. Кто то покрутит пальцем у виска. Но я не рассержусь. Я внутри себя не расстроюсь. Понимаете?
Вы выходите в город и вас окружают массивы домов, люди, шум, проблемы, заботы.
Мы на столько сильно потеряли ориентиры в жизни, что жизнь для нас стало нечто иное, нечто такое, что создали мы, люди. Но куда же делась сама жизнь, которая создала нас, людей?
Мы не слышим друг друга. Мы не слышим себя.
Поэтому мой разговор с самим собой не прекращается ни на минуту. Я, как маленький ребёнок, который боится потерять маму, держусь за то, что у меня внутри.
Вы когда нибудь ощущали себя частью всего? Внутри тела? Пропитанные любовью к жизни?
Не к той жизни, что создали мы, а к той жизни, что создала нас. Ни кто этого не может отнять или изменить.
Я так хочу, я так сильно хочу смотреть в глаза человеку и ощущать его участие. Его понимание. Глубокое понимание самого себя.
То, о чём я говорю и пишу, это иное самоощущение. Такой дар. Ни каких сомнений.
Через зеркало души вы отражаете мир таким, какой он есть на самом деле, истинным.
В итоге вы видите две картины. Реальность и наш мир, мир, который построил за много тысячелетий человек.
Мы построили лабиринт, ужасное сооружение. Потёмки для души.
Выбраться можно в одиночку, но вот действовать в этом мире ни как невозможно в одиночку.
Здесь ни кто не слышит крики близких о помощи. Здесь царство мыслей-программ, которые ни как не связаны между собой и каждая делает что-то для себя самой.
Мы сомневаемся в том, что нас ждёт худшее, потому что всегда надеемся на лучшее. Но это лучшее ни как не связано с жизнью, а лишь только с нашим эгоизмом. В итоге мы получим самое худшее из возможного.
Время, когда человека вытаскивали из грязи и возвращали к жизни прошло. Время благодарности прошло. Наступило время слабости, утопающих в грязи, где те, кто ещё идёт, идёт по головам утопающих. Этим миром правит ложь. На столько обильная и сочная, на столько сладкая и цветущая, что от её клейкости не спасается даже тот, кто мог бы. Вдыхая пары этой лжи, будет отравлен любой праведник и любая душа.
Но жизнь, сама по себе жизнь защитит нас и разбудит протест внутри нас. Наступит время, когда каждый будет говорить сам с собственной душой, ясно осознавая себя в ней.
Это будет жадная очередь к источнику, который готов утолить жажду любого изголодавшегося по жизни по доверию, по прощению.
Нас ждут трудные времена. Многие так и не поймут смысла самой жизни и зачем они появились. Будут разбиты самые святые чувства. Нет жалости у жизни, но есть высшая мудрость и справедливость.
|
|
Чем отличаются человеческие правды от истины. |
В этом мире семь миллиардов людей. Нет ни одного, кто бы пожелал или отказывался родиться. Ни кто не выбирал пол, место своего рождения и ту национальную культуру, которая его окружает. В итоге мы совершенно забываем, что прежде чем принять христианство, мы были язычниками, которым рубили головы, заставляя изменить веру.
В итоге, ортодоксальное христианство выглядит нелепо на фоне исторических событий и внутренней человеческой природы, которая заставила нас однажды так же быть и язычниками. Все менее осознавая себя, как вид, весь род человеческий занимается спорами о том, что кому ближе или дальше по духу, какие культуры правильные, а какие варварские.
Но есть ли в этом хоть какой-то смысл, если природа создаёт одного умным, а другого глупым, одного смелым, а другого трусом, одного сильным, а другого слабым, одного высоким, а другого маленьким, одного женщиной, а другого мужчиной?
Для того, что бы понять, что такое истина и чем она отличается от правды человека, необходимо понять, что человеческое мнение всегда выстраивается относительно окружающей реальности. Однако, под словом реальность мы подразумеваем мир человека, а не ту вовсе, которая определила саму жизнь и человека внутри себя самой. Я же говорю только о той действительной жизни, относительно которой мы не можем иметь собственного мнения, потому что наше мнение не вечно в самоощущении и постоянно меняется, относительно внешних событий. Однако реальность самой природы никогда не меняется сама по себе и не зависит от мнений человека, так как ни кто не выбирал своего рождения в этой реальности. В итоге мы можем говорить о такой некой реальности, которая по отношению к мнению или суждению человека о ней, сама по себе неизменна и выражена собственными законами вечного существования.
Соответственно константу её собственной сути можно назвать - истина, а человеческое постижение этой реальности через призму его переменчивого понимания - субъективная правда.
Важно отметить то, что изменения реальности, которые мы видим, как течение истории, созданы не самой по себе жизнью и её сутью, а изменениями нашего отношения к ней самой, которое мы осознаём, как взаимодействие. В итоге, проекцию нашего отношения к вечности её собственных законов, мы осознаём, как время и пространство.
То есть иными словами можно сказать так - суммой собственных мнений об объективной реальности, в итоге межличностного взаимодействия и взаимодействия с объектами окружающими человека, мы создаём некий общий образ отношения к действительности имеющий или не имеющий с ней сходство и тождественность.
Искажение, происходящее между объективной реальностью и человеческим восприятием, мы ощущаем, как наша реальность, или как внутреннее ощущение беспокойства самого глубокого общечеловеческого чувства, которое мы вспоминаем как историю о грехопадении. В этом смысле можно сказать, что наша реальность не равна объективной, а следовательно не является реальностью самой по себе. Или иными словами, является такой реальностью, которую можно назвать ложно образованной.
Так как в современном мире, который научно описан, как КВАНТ РЕАЛЬНОСТЬ, всё стремится к реализации своих потребностей, от низших форм жизни до высших, где при обмене информацией, только эквивалентность отвечает за равновесие и является основным ориентиром объективности, по общей информационной картине мира человека можно с уверенностью сказать о том, что условие эквивалентности при информационном обмене между реальностью и мнением самого человека о реальности не имеет в сопоставлении между ними соответствия, что чётко осознаётся нами, как все страдания нашего мира, как частного порядка, так и глобального.
Проблема современного мира человека в том, что мы оторвались от ощущения связи с объективной реальностью, выстроив внутри неё самой некое искусственно созданное пространство, общей парадигме которой свойственно сравнение, как метод постижения. Итогом этого действия, стало то, что наше общее устремление автоматически направлено на дефрагментацию любых целостных понятий самой реальности, общим законом которой напротив является целостность. В итоге человек потерял и собственную целостность, так как сам себя определяет при помощи этого же инструмента постижения, который мы осознаём, как ум или сознание.
Современная нейрофизиология доказала совершенно однозначно, что человеческое сознание автоматизированный процесс, основанный на общечеловеческом и личностном опыте, где транслируемые концепции личности опережают её осознанность от 50 до 250 м.с.
В итоге, под воздействием общества мы закладываем в себя стереотипы мышления, имеющие общую деструктивную направленность, так как они не имеют информационного соответствия или эквивалентности с действительностью. Мы запускаем цепную реакцию внутреннего характера, общественного свойства, где теперь невольно всё более культивируется образ реальности, который не соответствует так сказать его оригиналу. В итоге на бессознательном уровне внутри нас самих происходят такие процессы, которые не осознаются, однако продолжают руководить нами на уровне, который теперь по отношению к нам называется высшим или истиной. В итоге мы чётко ощущаем то, что ни кто из людей как бы не в праве утверждать, что знает истину, так как это считается высшей степенью эгоизма.
Однако, такой запрет на знание истины, не остановит учёного, который не стремится заполучить власть или деньги, а движим только желанием соответствовать той части самого себя, которую ощущает как эквивалент реальности, явно начиная осознавать то внутреннее противоречие, которое в нём самом происходит в борьбе самоощущения между душой и разумом.
Не желая ни власти, ни денег, он не привязан в этом мире к тому, что может его отвлечь от желания знать и соответствовать истине. В итоге он вынужденно отрывается от социума, так как последний стремится невольно в противоположную от знаний сторону, рационализируя своё движение по последнему писку модных концепций и умозаключений, в которых сам себе доказывает, что классические формы науки например, гораздо ценнее истины, так как она не вписывается в традиции самой классической науки.
В итоге важнее соответствовать форме, нежели истине.
Не будь страсть человека к поиску истины столь мощной, не появлялись бы люди, которых просто останавливали общественные предрассудки, сообщающие им о том, что не стоит рисовать удавов ни снаружи ни внутри, а стоит быть как все, и ровняться на всех.
И никогда бы этот мир не прочёл сказку Экзюпери "Маленький принц", если бы сам писатель следовал этому совету.
Резюмируя всё вышесказанное, я могу с уверенностью констатировать, что всех нас ввели в явное заблуждение относительно возможности знать истину. Каждый может знать истину, так как она проявляет себя по отношению к нашему миру тем, что мы осознаём, как факт жизни, а вовсе не тем, что мы подразумеваем под словом жизнь внутри собственного вида. Жизнь независящее от наших желаний обстоятельство. В итоге человеку необходимо прежде задуматься, чем что либо хотеть в своих желаниях и реализовывать их в действительности, так как уже на физическом и органическом плане это может быть абсолютно неверным решением, имеющим абсолютно осязаемые последствия.
Так начинаются все процессы разрушения, которые мы ощущаем, как угрозу нашему собственному здоровью, как угрозу целостности нашего мира.
В итоге, от элементарного незнания, усиливая то, что получил человек от общества, свой ум, он только приумножает общие проблемы, не осознавая того, а думая абсолютно противоположное, свой домысел превращает в абсолют ложной истины, оборачивающийся каждый раз для нашего мира катастрофой.
Так природа в итоге идёт к своей цели через отрицание, в которое человек впал не потому, что отрицание невозможно отменить, а потому что он по факту отрицает действительность, осознавая её как зло, по отношению к своему ложному, но так горячо любимому миру.
В итоге эта так называемая "любовь" к жизни оборачивается для всех явно проявленной ненавистью, нарывом, взрываясь в один прекрасный момент времени.
С какой в итоге ненавистью брат идёт на брата, а сын на отца.
Даже видя то, что наши институты не несут нам часто удовлетворения и реализации в жизни, которые бы осознавались как счастье, мы упрямо настаиваем на их ложно созданных стереотипах и правилах. И чем упорнее мы будем противостоять внутреннему процессу истины внутри нас самих, тем ярче будет то потрясение, которое нас ждёт.
В итоге, ортодоксальное христианство выглядит нелепо на фоне исторических событий и внутренней человеческой природы, которая заставила нас однажды так же быть и язычниками. Все менее осознавая себя, как вид, весь род человеческий занимается спорами о том, что кому ближе или дальше по духу, какие культуры правильные, а какие варварские.
Но есть ли в этом хоть какой-то смысл, если природа создаёт одного умным, а другого глупым, одного смелым, а другого трусом, одного сильным, а другого слабым, одного высоким, а другого маленьким, одного женщиной, а другого мужчиной?
Для того, что бы понять, что такое истина и чем она отличается от правды человека, необходимо понять, что человеческое мнение всегда выстраивается относительно окружающей реальности. Однако, под словом реальность мы подразумеваем мир человека, а не ту вовсе, которая определила саму жизнь и человека внутри себя самой. Я же говорю только о той действительной жизни, относительно которой мы не можем иметь собственного мнения, потому что наше мнение не вечно в самоощущении и постоянно меняется, относительно внешних событий. Однако реальность самой природы никогда не меняется сама по себе и не зависит от мнений человека, так как ни кто не выбирал своего рождения в этой реальности. В итоге мы можем говорить о такой некой реальности, которая по отношению к мнению или суждению человека о ней, сама по себе неизменна и выражена собственными законами вечного существования.
Соответственно константу её собственной сути можно назвать - истина, а человеческое постижение этой реальности через призму его переменчивого понимания - субъективная правда.
Важно отметить то, что изменения реальности, которые мы видим, как течение истории, созданы не самой по себе жизнью и её сутью, а изменениями нашего отношения к ней самой, которое мы осознаём, как взаимодействие. В итоге, проекцию нашего отношения к вечности её собственных законов, мы осознаём, как время и пространство.
То есть иными словами можно сказать так - суммой собственных мнений об объективной реальности, в итоге межличностного взаимодействия и взаимодействия с объектами окружающими человека, мы создаём некий общий образ отношения к действительности имеющий или не имеющий с ней сходство и тождественность.
Искажение, происходящее между объективной реальностью и человеческим восприятием, мы ощущаем, как наша реальность, или как внутреннее ощущение беспокойства самого глубокого общечеловеческого чувства, которое мы вспоминаем как историю о грехопадении. В этом смысле можно сказать, что наша реальность не равна объективной, а следовательно не является реальностью самой по себе. Или иными словами, является такой реальностью, которую можно назвать ложно образованной.
Так как в современном мире, который научно описан, как КВАНТ РЕАЛЬНОСТЬ, всё стремится к реализации своих потребностей, от низших форм жизни до высших, где при обмене информацией, только эквивалентность отвечает за равновесие и является основным ориентиром объективности, по общей информационной картине мира человека можно с уверенностью сказать о том, что условие эквивалентности при информационном обмене между реальностью и мнением самого человека о реальности не имеет в сопоставлении между ними соответствия, что чётко осознаётся нами, как все страдания нашего мира, как частного порядка, так и глобального.
Проблема современного мира человека в том, что мы оторвались от ощущения связи с объективной реальностью, выстроив внутри неё самой некое искусственно созданное пространство, общей парадигме которой свойственно сравнение, как метод постижения. Итогом этого действия, стало то, что наше общее устремление автоматически направлено на дефрагментацию любых целостных понятий самой реальности, общим законом которой напротив является целостность. В итоге человек потерял и собственную целостность, так как сам себя определяет при помощи этого же инструмента постижения, который мы осознаём, как ум или сознание.
Современная нейрофизиология доказала совершенно однозначно, что человеческое сознание автоматизированный процесс, основанный на общечеловеческом и личностном опыте, где транслируемые концепции личности опережают её осознанность от 50 до 250 м.с.
В итоге, под воздействием общества мы закладываем в себя стереотипы мышления, имеющие общую деструктивную направленность, так как они не имеют информационного соответствия или эквивалентности с действительностью. Мы запускаем цепную реакцию внутреннего характера, общественного свойства, где теперь невольно всё более культивируется образ реальности, который не соответствует так сказать его оригиналу. В итоге на бессознательном уровне внутри нас самих происходят такие процессы, которые не осознаются, однако продолжают руководить нами на уровне, который теперь по отношению к нам называется высшим или истиной. В итоге мы чётко ощущаем то, что ни кто из людей как бы не в праве утверждать, что знает истину, так как это считается высшей степенью эгоизма.
Однако, такой запрет на знание истины, не остановит учёного, который не стремится заполучить власть или деньги, а движим только желанием соответствовать той части самого себя, которую ощущает как эквивалент реальности, явно начиная осознавать то внутреннее противоречие, которое в нём самом происходит в борьбе самоощущения между душой и разумом.
Не желая ни власти, ни денег, он не привязан в этом мире к тому, что может его отвлечь от желания знать и соответствовать истине. В итоге он вынужденно отрывается от социума, так как последний стремится невольно в противоположную от знаний сторону, рационализируя своё движение по последнему писку модных концепций и умозаключений, в которых сам себе доказывает, что классические формы науки например, гораздо ценнее истины, так как она не вписывается в традиции самой классической науки.
В итоге важнее соответствовать форме, нежели истине.
Не будь страсть человека к поиску истины столь мощной, не появлялись бы люди, которых просто останавливали общественные предрассудки, сообщающие им о том, что не стоит рисовать удавов ни снаружи ни внутри, а стоит быть как все, и ровняться на всех.
И никогда бы этот мир не прочёл сказку Экзюпери "Маленький принц", если бы сам писатель следовал этому совету.
Резюмируя всё вышесказанное, я могу с уверенностью констатировать, что всех нас ввели в явное заблуждение относительно возможности знать истину. Каждый может знать истину, так как она проявляет себя по отношению к нашему миру тем, что мы осознаём, как факт жизни, а вовсе не тем, что мы подразумеваем под словом жизнь внутри собственного вида. Жизнь независящее от наших желаний обстоятельство. В итоге человеку необходимо прежде задуматься, чем что либо хотеть в своих желаниях и реализовывать их в действительности, так как уже на физическом и органическом плане это может быть абсолютно неверным решением, имеющим абсолютно осязаемые последствия.
Так начинаются все процессы разрушения, которые мы ощущаем, как угрозу нашему собственному здоровью, как угрозу целостности нашего мира.
В итоге, от элементарного незнания, усиливая то, что получил человек от общества, свой ум, он только приумножает общие проблемы, не осознавая того, а думая абсолютно противоположное, свой домысел превращает в абсолют ложной истины, оборачивающийся каждый раз для нашего мира катастрофой.
Так природа в итоге идёт к своей цели через отрицание, в которое человек впал не потому, что отрицание невозможно отменить, а потому что он по факту отрицает действительность, осознавая её как зло, по отношению к своему ложному, но так горячо любимому миру.
В итоге эта так называемая "любовь" к жизни оборачивается для всех явно проявленной ненавистью, нарывом, взрываясь в один прекрасный момент времени.
С какой в итоге ненавистью брат идёт на брата, а сын на отца.
Даже видя то, что наши институты не несут нам часто удовлетворения и реализации в жизни, которые бы осознавались как счастье, мы упрямо настаиваем на их ложно созданных стереотипах и правилах. И чем упорнее мы будем противостоять внутреннему процессу истины внутри нас самих, тем ярче будет то потрясение, которое нас ждёт.
|
|
Понравилось: 1 пользователю
Новейшая теория мира? |
Аристотель превративший платоновские идеи в формы вещей и, кроме того, присоединивший сюда учение о потенции и энергии (как и ряд др. аналогичных учений), развил диалектику дальше. Аристотель в учении о четырёх причинах — материальной, формальной, движущей и целевой — утверждал, что все эти четыре причины существуют в каждой вещи совершенно неразличимо и тождественно с самой вещью. Учение Аристотеля о перводвигателе, который мыслит сам же себя, т. е. является сам для себя и субъектом и объектом, есть фрагмент всё той же диалектики. Называя "диалектикой" учение о вероятных суждениях и умозаключениях или о видимости, Аристотель даёт здесь диалектические становления, поскольку сама возможность только и возможна в области становления. Ленин говорит: "Логика Аристотеля есть запрос, искание, подход к логике Гегеля — а из нее, из логики Аристотеля (который всюду, на каждом шагу, ставит вопрос именно о диалектике) сделали мертвую схоластику, выбросив все поиски, колебания, приемы постановки вопросов" (Полное собрание соч., 5 изд., т. 29, с. 326).
Что такое ложь?
Ложью является искажение в восприятии при обмене информационных данных.
Ложь может быть преднамеренная и не преднамеренная, вольная и невольная.
Каждый человек является информационным носителем, обменивающийся информацией с другими людьми, и внешней средой, а так же, благодаря абстрактному мышлению, как высшей формы, способен на создание такой точки наблюдения, которая по отношению к самому процессу обмена, не является самим по себе информационным обменом, но является такой, которая способна к его контролю и управлению и находится между ними.
Общая характеристика такого положения абсолютно совпадает с современной концепцией физиологов Сеченова, Павлова, Анохина, которые заложили общее понимание принципа существования живых объектов. В своей "Теории функциональных систем" П.К. Анохин детально описывает не только непосредственно сам процесс обмена информации между живыми объектами, но и формулирует чёткий принцип и причины, дающие возможность их существованию.
Система КВАНТ РЕАЛЬНОСТИ
(Определение Константина Викторовича Судакова*)
* http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F3%E4%E0%EA%EE%E2...%C2%E8%EA%F2%EE%F0%EE%E2%E8%F7
С позиции нормальной физиологии, с позиции теории функциональных систем, является стыком, гранью, системой, между умом и телом, между психикой и соматикой**
** http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EE%EC%E0%F2%E8%EA%E0
Все процессы обмена из которых мы состоим и в которых участвуем, с позиции высшей нервной деятельности, состоят из элементарных квантов, которые всегда движутся к условиям потребности и к их удовлетворению. Вся энергия всегда движется к условиям реализации потребности. Любое информационное, энергетическое перемещение, с помощью обратной связи сообщает об удовлетворении этой потребности. Информация об удовлетворении рождается на стыке двух обменных процессов, что и составляет суть высшей нервной системы человека.
Человеческое сознание является системой, стыком между глобальными информационными процессами обмена, в котором (в здоровом, в нормальном состоянии) отражаются бесконечные процессы удовлетворения всех информационных потоков, что приводит к состоянию постоянной удовлетворённости, которую мы осознаём, как истина или честность по отношению к нашему самоощущению.
На головной мозг постоянно проецируется два информационных потока, один из которых представляет микрокосмос (изнутри), а другой поток из макрокосмоса (извне).
Все наши действия, слова, которые так же являются действиями, всегда направлены на удовлетворение потребностей. А сознание (модель полезного приспособительного результата, модель удовлетворения потребностей) является системой, способной отражать, наблюдать эти информационно-энергетические обмены.
Сознание по Анохину, это "акцептор* результата поведения".
* http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%EA%F6%E5%EF%F2%EE%F0
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/1868/%...%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
Необходимое удовлетворение потребностей, как высших, так и низших систем, является основным двигателем глобальной природы на микро и макро уровнях взаимодействия.
Обратный поток удовлетворённости, в связи с взаимодействиями человека и природы, возвращаясь к нам по обратной связи, осознаётся как постоянный эмоционально-положительный тонус, который является нормальным состоянием.
Каждый отдельный, дискретный момент реальности начинается потребностью и заканчивается её реализацией, ощущаемой нами в итоге, как хроническое положительно-эмоциональное состояние.
Пример с обывательских позиций в потребностях.
Как только человек поел, его потребность удовлетворена и заканчивается движение энергии, в итоге он достигает и находится в положительно-эмоциональном тонусе. Основными человеческими потребностями является потребность в еде, сексе, крове, семье.
Полное удовлетворение - это акт всегда связанный с движением энергии, приводящей к положительно-эмоциональной обратной связи, которую мы осознаём как удовлетворение.
Удовлетворение, с физиологической позиции - это концентрация взаимодействующих систем на уровне атомарного, молекулярного, биохимического процесса в каждом отдельном, живом моменте реальности, которую мы наблюдаем и как межклеточный процесс взаимодействия, взаимодействия между организмами, так называемые зоо-популяционные взаимодействия, взаимодействия социального уровня, взаимодействия общепланетарного уровня, взаимодействия процессов космического масштаба. Согласование всех этих процессов и их взаимодействие на всех перечисленных выше уровнях, их гармония и удовлетворённость, благодаря обратной связи, отражает общий процесс движения энергии из того места, где её много в место, где её мало. Так называемый механизм компенсации органического сознания, позволяющий сохранять общую целостность системы и её общую функциональность.
Нематериальный результат или информационный результат при помощи обратной связи, программирует все наши действия и является мотивам по отношению ко всем нашим действиям, самым оптимальным образом приводит нас к удовлетворению.
Ложь - как общечеловеческая, системная проблема, являющаяся продуктом искажения информации о реальности в восприятии.
Из за отсутствия информированности об органических системах взаимодействия при описании реальности, которые человечеству известны уже многие тысячелетия, произошли естественные искажения в системе человеческого восприятия, в его высшей нервной деятельности, в его собственном самовосприятии, где акцент с точки контроля, располагающейся между информационными обменами, переместился внутрь самого информационного обмена, где человеческое самоощущение с ним срослось и отождествилось в выражении собственного "я". Таким образом, так как сам процесс является автоматическим и естественным для всей информационной реальности, то человек утратил как контроль над этими процессами, так и самоконтроль, став частью автоматического процесса, который мы осознаём, как эволюция.
В итоге тот процесс который осознаётся нами как ум, не является центром между обменными процессами, а является самим автоматическим обменным процессом, что не позволяет при помощи ума или его собственных действий хоть каким-то образом участвовать в реальности.
Свойство самого человеческого ума таково, что оно интерпретирует реальность, не как целостность процессов обмена, а как их противопоставление друг другу, где одна часть реальности отрицается другой. В итоге ум человека, как инструмент, который позволяет проецировать и самоощущение, определяет и самого себя в отражении собственных свойств ума.
В итоге это привело к удару по аппарату центральной нервной системы, которая сама по себе через свойство ума, определилась человеком как противопоставленная самой себе, создав условия возникновения бессознательной части в восприятии. При этом создаваемая общая концепция мира, и человеческой реальности, естественным образом в своём развитии приняла позицию отрицания того механизма, который физиологами и психологами описан как функция системы высшей нервной деятельности или целостность сознания или норма. И так как функция аппарата человеческого сознания, в том виде, в котором мы сегодня её ложно понимаем как ум, воспринимает норму, как противопоставление, как угрозу разрушения собственной позиции, логики, выражению самоощущения на биологическом уровне, то таким образом ум непреднамеренно стремится к разрушению всех уровней целостности и собственной её сущности, которой и является реальность или жизнь сама по себе. В итоге умом, который призван любую целостность разрушить на части, целостность воспринимается, как сама по себе тотальная угроза его собственной (не целостной) концепции восприятия, что осознаётся, как угроза его собственной жизни и реальности.
Теперь, когда механизм непреднамеренного заблуждения вскрыт и описан лучшими признанными учеными мира, когда мы видим, что через всю историю человечества и его лучших умов, лейтмотивом проходит чёткое описание системы, позволяющей передавать информацию без искажения, отказ от этих знаний будет означать уже осознанную ложь и осознанное пребывание в дальнейшем саморазрушении и борьбе с самими собой, где единственным логическим итогом может быть только уничтожение самих себя на системном уровне, то есть таком, который проявится в нашей реальности, как угроза уничтожения всей человеческой популяции.
Невозможно выиграть внутри целостной системы, где всё является частями одного целого механизма, который мы осознаём как жизнь, в какой-то выдуманной ситуации в её отдельности, ложно ощущающей себя таковой. В итоге эта позиция отражает на человеческом существе древнейшее и самое актуальное на сегодняшний день состояние, осознаваемое нами, как общая человеческая гордыня по отношению к самой сути жизни и её выражению, которую мы ощущаем, как тотальное зло, вечно борясь с ним.
Что такое ложь?
Ложью является искажение в восприятии при обмене информационных данных.
Ложь может быть преднамеренная и не преднамеренная, вольная и невольная.
Каждый человек является информационным носителем, обменивающийся информацией с другими людьми, и внешней средой, а так же, благодаря абстрактному мышлению, как высшей формы, способен на создание такой точки наблюдения, которая по отношению к самому процессу обмена, не является самим по себе информационным обменом, но является такой, которая способна к его контролю и управлению и находится между ними.
Общая характеристика такого положения абсолютно совпадает с современной концепцией физиологов Сеченова, Павлова, Анохина, которые заложили общее понимание принципа существования живых объектов. В своей "Теории функциональных систем" П.К. Анохин детально описывает не только непосредственно сам процесс обмена информации между живыми объектами, но и формулирует чёткий принцип и причины, дающие возможность их существованию.
Система КВАНТ РЕАЛЬНОСТИ
(Определение Константина Викторовича Судакова*)
* http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F3%E4%E0%EA%EE%E2...%C2%E8%EA%F2%EE%F0%EE%E2%E8%F7
С позиции нормальной физиологии, с позиции теории функциональных систем, является стыком, гранью, системой, между умом и телом, между психикой и соматикой**
** http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EE%EC%E0%F2%E8%EA%E0
Все процессы обмена из которых мы состоим и в которых участвуем, с позиции высшей нервной деятельности, состоят из элементарных квантов, которые всегда движутся к условиям потребности и к их удовлетворению. Вся энергия всегда движется к условиям реализации потребности. Любое информационное, энергетическое перемещение, с помощью обратной связи сообщает об удовлетворении этой потребности. Информация об удовлетворении рождается на стыке двух обменных процессов, что и составляет суть высшей нервной системы человека.
Человеческое сознание является системой, стыком между глобальными информационными процессами обмена, в котором (в здоровом, в нормальном состоянии) отражаются бесконечные процессы удовлетворения всех информационных потоков, что приводит к состоянию постоянной удовлетворённости, которую мы осознаём, как истина или честность по отношению к нашему самоощущению.
На головной мозг постоянно проецируется два информационных потока, один из которых представляет микрокосмос (изнутри), а другой поток из макрокосмоса (извне).
Все наши действия, слова, которые так же являются действиями, всегда направлены на удовлетворение потребностей. А сознание (модель полезного приспособительного результата, модель удовлетворения потребностей) является системой, способной отражать, наблюдать эти информационно-энергетические обмены.
Сознание по Анохину, это "акцептор* результата поведения".
* http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%EA%F6%E5%EF%F2%EE%F0
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/1868/%...%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
Необходимое удовлетворение потребностей, как высших, так и низших систем, является основным двигателем глобальной природы на микро и макро уровнях взаимодействия.
Обратный поток удовлетворённости, в связи с взаимодействиями человека и природы, возвращаясь к нам по обратной связи, осознаётся как постоянный эмоционально-положительный тонус, который является нормальным состоянием.
Каждый отдельный, дискретный момент реальности начинается потребностью и заканчивается её реализацией, ощущаемой нами в итоге, как хроническое положительно-эмоциональное состояние.
Пример с обывательских позиций в потребностях.
Как только человек поел, его потребность удовлетворена и заканчивается движение энергии, в итоге он достигает и находится в положительно-эмоциональном тонусе. Основными человеческими потребностями является потребность в еде, сексе, крове, семье.
Полное удовлетворение - это акт всегда связанный с движением энергии, приводящей к положительно-эмоциональной обратной связи, которую мы осознаём как удовлетворение.
Удовлетворение, с физиологической позиции - это концентрация взаимодействующих систем на уровне атомарного, молекулярного, биохимического процесса в каждом отдельном, живом моменте реальности, которую мы наблюдаем и как межклеточный процесс взаимодействия, взаимодействия между организмами, так называемые зоо-популяционные взаимодействия, взаимодействия социального уровня, взаимодействия общепланетарного уровня, взаимодействия процессов космического масштаба. Согласование всех этих процессов и их взаимодействие на всех перечисленных выше уровнях, их гармония и удовлетворённость, благодаря обратной связи, отражает общий процесс движения энергии из того места, где её много в место, где её мало. Так называемый механизм компенсации органического сознания, позволяющий сохранять общую целостность системы и её общую функциональность.
Нематериальный результат или информационный результат при помощи обратной связи, программирует все наши действия и является мотивам по отношению ко всем нашим действиям, самым оптимальным образом приводит нас к удовлетворению.
Ложь - как общечеловеческая, системная проблема, являющаяся продуктом искажения информации о реальности в восприятии.
Из за отсутствия информированности об органических системах взаимодействия при описании реальности, которые человечеству известны уже многие тысячелетия, произошли естественные искажения в системе человеческого восприятия, в его высшей нервной деятельности, в его собственном самовосприятии, где акцент с точки контроля, располагающейся между информационными обменами, переместился внутрь самого информационного обмена, где человеческое самоощущение с ним срослось и отождествилось в выражении собственного "я". Таким образом, так как сам процесс является автоматическим и естественным для всей информационной реальности, то человек утратил как контроль над этими процессами, так и самоконтроль, став частью автоматического процесса, который мы осознаём, как эволюция.
В итоге тот процесс который осознаётся нами как ум, не является центром между обменными процессами, а является самим автоматическим обменным процессом, что не позволяет при помощи ума или его собственных действий хоть каким-то образом участвовать в реальности.
Свойство самого человеческого ума таково, что оно интерпретирует реальность, не как целостность процессов обмена, а как их противопоставление друг другу, где одна часть реальности отрицается другой. В итоге ум человека, как инструмент, который позволяет проецировать и самоощущение, определяет и самого себя в отражении собственных свойств ума.
В итоге это привело к удару по аппарату центральной нервной системы, которая сама по себе через свойство ума, определилась человеком как противопоставленная самой себе, создав условия возникновения бессознательной части в восприятии. При этом создаваемая общая концепция мира, и человеческой реальности, естественным образом в своём развитии приняла позицию отрицания того механизма, который физиологами и психологами описан как функция системы высшей нервной деятельности или целостность сознания или норма. И так как функция аппарата человеческого сознания, в том виде, в котором мы сегодня её ложно понимаем как ум, воспринимает норму, как противопоставление, как угрозу разрушения собственной позиции, логики, выражению самоощущения на биологическом уровне, то таким образом ум непреднамеренно стремится к разрушению всех уровней целостности и собственной её сущности, которой и является реальность или жизнь сама по себе. В итоге умом, который призван любую целостность разрушить на части, целостность воспринимается, как сама по себе тотальная угроза его собственной (не целостной) концепции восприятия, что осознаётся, как угроза его собственной жизни и реальности.
Теперь, когда механизм непреднамеренного заблуждения вскрыт и описан лучшими признанными учеными мира, когда мы видим, что через всю историю человечества и его лучших умов, лейтмотивом проходит чёткое описание системы, позволяющей передавать информацию без искажения, отказ от этих знаний будет означать уже осознанную ложь и осознанное пребывание в дальнейшем саморазрушении и борьбе с самими собой, где единственным логическим итогом может быть только уничтожение самих себя на системном уровне, то есть таком, который проявится в нашей реальности, как угроза уничтожения всей человеческой популяции.
Невозможно выиграть внутри целостной системы, где всё является частями одного целого механизма, который мы осознаём как жизнь, в какой-то выдуманной ситуации в её отдельности, ложно ощущающей себя таковой. В итоге эта позиция отражает на человеческом существе древнейшее и самое актуальное на сегодняшний день состояние, осознаваемое нами, как общая человеческая гордыня по отношению к самой сути жизни и её выражению, которую мы ощущаем, как тотальное зло, вечно борясь с ним.
|
|
Что такое истина и почему она неуловима. |
К сожалению, наши мозги так забиты предрассудками, что туда просто больше ничего не втиснешь. Нет просто места.
Человеку не обязательно помнить о том, что накопило до него самого всё человечество и запаковало в его ДНК, как наилучший опыт выживания. Да что там человечество, эволюция многих сотен тысяч лет, миллиардов лет.
Не сопоставимые категории нашей памяти ума и бессознательного.
Основная проблема мнений - элементарное отсутствие системных знаний. Именно системных. Но таких системных, которые бы выстраивались не как то, что мы называем - каждый раз заново изобретать велосипед, а таких, которые опирались на общее научное понимание сути самой природы. И так как фактор самой природы является для человека единым, то соответственно и знания подобного рода будут едиными для всех, так как нет двух природ, но есть всегда два мнения об одном неизменном.
И если человеку известны всегда были законы этой природы, почему же он никогда не мог договориться с другим мнением человека в понимании единой картины мироздания?
Всему причиной система, следствием которой является то, что мы называем - ум, отождествлённый с самоощущением нашего "я".
Эта конструкция служит основой нашему мироощущению и самоощущению, следствием которой является наш материальный мир.
Однако, наука любезно предоставила нам более точное описание нашего собственного сознания, что бы хотя бы понять, что помимо ума, у человека есть ещё и первая сигнальная система (официальный термин физиологии), бессознательное (психология), душа (религия). И это я ещё мало перечислил, так как не являюсь на самом деле очень начитанным человеком. Но хотя бы по вышеперечисленному, можно с уверенностью сказать о том, что человеку всегда было интересно познать то, что он однозначно всегда ощущал в самом себе.
Современный человек в своём большинстве считает, что кроме того, что он может думать и чувствовать, где чувствовать на самом деле так же думать только путано, сомневаться в собственных мыслях, и есть то, что он понимает под словом - Я. А иногда эта путаность надоедает человеку и от усталости он выбирает хоть какую то устраивающую его общественную конструкцию, с которой может мириться в большей степени. Большинство определяет его собственную концепцию. На том и договорились. Все зарабатывают деньги, становятся пошлыми, доканывают друг друга различными заморочками, иначе просто скучно жить. Короче, берут от жизни и от каждого всё, что в нём найдут. Оставшееся выбрасывают на помойку. Современному человеку свойственно сильно загрязнять окружающее его пространство. А потом жаловаться на экологию. Загрязнять во всех смыслах этого значения, в самом широком смысле.
В итоге это всё ощущается, как некое гнилое болото из которого ни кто в одиночку не выберется, а договориться не представляется возможным.
И вы хотите сказать, что человек, впавший в маразм и который без посторонней помощи уже не в состоянии из него выбраться, это нормально?
Самое ужасное то, что этим человеком уже стала не отдельная личность, а глобальная личность, популяция, вид.
Кто же этот Кто, который всегда внешний по отношению к безумцу?
Вы можете верить или не верить, понимать или не понимать, знать или нет. Но, если у Вас хоть немножко есть здравого смысла в голове, то просто спросите себя - какого хрена вы родились? И если думаете, что вас родила мама, то начните снова спрашивать по цепочке. И так до тех пор, пока вы не заткнётесь, потому что ответа у вас нет.
А кто маму? А кто маму мамы?
И если вы поленитесь это сделать, то Тот, кто создал жизнь и Вас, такую маму мамы всем нам сделает, что бы вытянуть нас из этого состояния, что мало точно не покажется.
Истина на то и истина, что это не мнение даже общественное. Это закон создающий вечное течение самой жизни. А уж форму определяете вы сами.
Истина неуловима не по тому, что неуловима, а потому что ни кто её вовсе не ловит.
Человеку не обязательно помнить о том, что накопило до него самого всё человечество и запаковало в его ДНК, как наилучший опыт выживания. Да что там человечество, эволюция многих сотен тысяч лет, миллиардов лет.
Не сопоставимые категории нашей памяти ума и бессознательного.
Основная проблема мнений - элементарное отсутствие системных знаний. Именно системных. Но таких системных, которые бы выстраивались не как то, что мы называем - каждый раз заново изобретать велосипед, а таких, которые опирались на общее научное понимание сути самой природы. И так как фактор самой природы является для человека единым, то соответственно и знания подобного рода будут едиными для всех, так как нет двух природ, но есть всегда два мнения об одном неизменном.
И если человеку известны всегда были законы этой природы, почему же он никогда не мог договориться с другим мнением человека в понимании единой картины мироздания?
Всему причиной система, следствием которой является то, что мы называем - ум, отождествлённый с самоощущением нашего "я".
Эта конструкция служит основой нашему мироощущению и самоощущению, следствием которой является наш материальный мир.
Однако, наука любезно предоставила нам более точное описание нашего собственного сознания, что бы хотя бы понять, что помимо ума, у человека есть ещё и первая сигнальная система (официальный термин физиологии), бессознательное (психология), душа (религия). И это я ещё мало перечислил, так как не являюсь на самом деле очень начитанным человеком. Но хотя бы по вышеперечисленному, можно с уверенностью сказать о том, что человеку всегда было интересно познать то, что он однозначно всегда ощущал в самом себе.
Современный человек в своём большинстве считает, что кроме того, что он может думать и чувствовать, где чувствовать на самом деле так же думать только путано, сомневаться в собственных мыслях, и есть то, что он понимает под словом - Я. А иногда эта путаность надоедает человеку и от усталости он выбирает хоть какую то устраивающую его общественную конструкцию, с которой может мириться в большей степени. Большинство определяет его собственную концепцию. На том и договорились. Все зарабатывают деньги, становятся пошлыми, доканывают друг друга различными заморочками, иначе просто скучно жить. Короче, берут от жизни и от каждого всё, что в нём найдут. Оставшееся выбрасывают на помойку. Современному человеку свойственно сильно загрязнять окружающее его пространство. А потом жаловаться на экологию. Загрязнять во всех смыслах этого значения, в самом широком смысле.
В итоге это всё ощущается, как некое гнилое болото из которого ни кто в одиночку не выберется, а договориться не представляется возможным.
И вы хотите сказать, что человек, впавший в маразм и который без посторонней помощи уже не в состоянии из него выбраться, это нормально?
Самое ужасное то, что этим человеком уже стала не отдельная личность, а глобальная личность, популяция, вид.
Кто же этот Кто, который всегда внешний по отношению к безумцу?
Вы можете верить или не верить, понимать или не понимать, знать или нет. Но, если у Вас хоть немножко есть здравого смысла в голове, то просто спросите себя - какого хрена вы родились? И если думаете, что вас родила мама, то начните снова спрашивать по цепочке. И так до тех пор, пока вы не заткнётесь, потому что ответа у вас нет.
А кто маму? А кто маму мамы?
И если вы поленитесь это сделать, то Тот, кто создал жизнь и Вас, такую маму мамы всем нам сделает, что бы вытянуть нас из этого состояния, что мало точно не покажется.
Истина на то и истина, что это не мнение даже общественное. Это закон создающий вечное течение самой жизни. А уж форму определяете вы сами.
Истина неуловима не по тому, что неуловима, а потому что ни кто её вовсе не ловит.
|
|






