-Поиск по дневнику
-Подписка по e-mail
-Друзья
-Постоянные читатели
-Статистика
Записей: 871
Комментариев: 1385
Написано: 2520
Сны |
Для всех, кто заходит впервые - важное упреждение: в правом углу верхней панели в меню "Вид" ("глазик") нажмите на "Выбрать стиль оформления", а потом на "Авторский" - и дневник примет для вас прежний внешний вид, более читабельный и удобный для глаза.
Начало здесь

Как часто в мои забредают ресницы,
Едва лишь их сон благодатный коснётся,
И робкие звери, и малые птицы,
И голые луны, и алые солнца.
В. Блаженный
Я не люблю вас, люди, люди
Из серокаменных домов!
Вы не участвуете в чуде
Пророчества и вещих снов.
В. Ходасевич
Во сне в полной мере проявляется наша сущность. Днём человеческое бытиё искажено случайностями реальной жизни, истинное лицо скрыто за цивилизованной маской. Мы давно не дети: наши слова обдуманны, поступки – взвешены, шаги – просчитаны наперёд.
И лишь в ночном бреду свершает дух наш вольный
Любой желанный шаг, и дикий и крамольный:
И мы в слезах летим в сладчайшие объятья,
И мы кому-то шлём безумные проклятья,
И с кем-то рвём навек, кому-то гладим руку,
И поверяем всю тоску свою и муку,
Волнуясь и спеша. До мига пробужденья
Диктуют волю нам порывы, побужденья.
Л. Миллер

Порой какой-нибудь невразумительный сон бросит туманный и косноязычный намёк на возможность инобытия, заставит всерьёз задуматься над тем, во что ты "в трезвом неподкупном свете дня", в здравом рассудке и памяти ни за что не поверишь. А вот Цветаева – богохульница и грешница – верила. Не верила – "знала из опыта." В письме к Пастернаку, разделяя мир на "тот свет" и "этот", она признавалась: "Борис! Борис! Как я знаю тот! По снам, по воздуху снов, по разгроможденности, по насущности снов."

А как изумительно и точно – если тут уместно это слово – определила сущность сна Татьяна Толстая в рассказе "Петерс":
"Сон приходил, приглашал в свои лазы и коридоры, назначал встречи на потайных лестницах, запирал двери и перестраивал знакомые дома, пугая чуланами, бабами, чумными бубонами, черными бубнами, быстро вёл по тёмным переходам и вталкивал в душную комнату, где за столом, лохматый и усмехающийся, сидел, крутя пальцами, знаток многих нехороших вещей".

Страх и трепет
...Однажды я проснулась ночью от ощущения какого-то страха. Может быть, мне что-то снилось, но я ничего не помнила, только это ощущение пещерного ужаса, которого я никогда не испытывала в жизни. Кажется, меня разбудил вой собаки. Но в ту минуту, когда я проснулась, было тихо. Я лежала, спелёнутая простыней; так во сне замоталась в неё, что не могла пошевельнутся, как в коконе, вся в липком поту – не от жары, а от страха. Я не понимала причины этого страха, это было что-то генетическое, вековое, древнее, доисторическое, жуткое. От плотно задёрнутых штор в комнате стоял мрак, и только на стене напротив на часах светился отблеск фонаря, похожий на волчий глаз. Этот зловещий глаз не сводил с меня своего мутного взгляда.

В голове уже прояснилось настолько, чтобы понять, что всё это сон, бред, но страх не проходил. Не было чувства облегчения, как обычно – слава богу, это только сон! – было какое-то другое, непонятное чувство – страха пробуждения. Это было предчувствием, что наяву меня ждёт что-то ещё более страшное, что будет ещё страшнее. И некуда спрятаться, нигде нет спасенья. Как это у Ходасевича?..
Прервутся сны, что душу душат,
Начнётся всё, чего хочу.
И солнце ангелы потушат,
Как утром – лишнюю свечу.

...Ещё один сон – очень странный. Будто я знаю, что меня сейчас должны убить. Но все делают вид, что это игра, понарошку, шутка, якобы не знают, что это будет на самом деле. Но втайне знают. И украдкой утирают слезы, отводят глаза. Как бы не могут этого предотвратить: то ли боятся, то ли бессильны. Кто-то заплетает мне косичку (я вроде как подросток, мне очень часто во сне 13-15 лет). Играют со мной, шутят. А я тоже вроде не знаю, что меня ждёт. Поддерживаю эту игру. А сама втайне от всех знаю. Кто убьёт, как – мне это словно и неинтересно. Знаю, что я обречена, что уже скоро. И вот что поразительно – мне это ничуть не страшно и даже весело. Забавляет, что они не знают, что я всё знаю.
Такого ещё у меня во сне никогда не было. Обычно опасность, близость смерти пугала, просыпалась в холодном поту. А тут – тоже проснулась, и с ощущением сердца. Не то, чтобы болело, но я его очень чувствовала. Но мне было всё равно, что я умру. Даже весело. Что это значит? Я не боюсь смерти?
...Под утро приснилось: будто я уже не сплю и слышу, как в соседней комнате кто-то шаркает ногами. Будто бы бабушка. С ужасом вспоминаю, что бабушки давно нет. Значит, приснилось, с облегчением думаю я. И рассказываю (во сне) об этом Давиду. А он говорит : "Нет, не приснилось, я тоже слышу шаги". Я напрягаю слух: шаги всё громче, отчётливей, всё несомненней. Но ведь ходить некому?!.. Минута дикого ужаса. Я вся оледенела, застыла в комок от страха. Последняя спасительная мысль: может быть... Линда? Потом вдруг в спальне появляется Линда, вся мокрая. За ней – группа каких-то людей. Что-то, значит, произошло из ряда вон, – соображаю я. Хватаю её на руки, прижимаю, пытаюсь согреть, осушить. И тут просыпаюсь. Иду в кухню. Давид уже там, бреется. Время – десять часов. Так поздно я ещё не вставала. С упрёком ему пеняю: "Ты что меня бросил на произвол сна!" Рассказываю. Давид говорит: "Сон в руку. Линда написила." В кухне действительно лужа. Линда, вместо того, чтобы виновато свернуться в клубок, нагло растянулась во всю ширь и бьёт хвостом по полу, как молотилка. Демонстрирует хорошее настроение.
«Спи. Забудь. Всё было так прекрасно».
Я сон потерял, а живу, как во сне,
всё музыка дальняя слышится мне...
В. Ходасевич
Из поэтов, кто прожил свою жизнь как во сне, первым, кто вспоминается - Борис Поплавский.

В зимний день на небе неподвижном
рано отблеск голубой погас.
Скрылись лампы. Гаснет шорох жизни.
В тишине родился снежный час.
...Спать. Лежать, покрывшись одеялом,
точно в тёплый гроб, сойти в кровать.
Слушать звон трамваев запоздалых.
Не обедать. Свет не зажигать.
Видеть сны о дальнем, о грядущем.
Не будите нас, мы слишком слабы.
Задувает в поле наши души
холод счастья, снежный ветер славы.

На переплётах его тетрадей, на корешках книг, везде попадались записи: «Жизнь ужасна. Печаль оттого, что никто никого не любит». Чувство невыносимости мира, сознание своей ненужности и слабости рождало строки:
Как холодно. Душа пощады просит.
Смирись, усни. Пощады слабым нет.
Молчит январь, и каждый день уносит
последний жар души, последний свет.
Закрой глаза, пусть кто-нибудь играет.
Ложись в пальто. Укутайся, молчи.
Роняя снег в саду, ворона грает.
Однообразный шум гудит в печи.
Огни горят, исчезли пешеходы.
Века летят во мрак немых неволь.
Всё только вьюга золотой свободы,
лучам зари приснившаяся боль.
Он ушёл из жизни обиженным и непонятым.
Спать. Уснуть. Как страшно одиноким.
Я не в силах. Отхожу во сны.
Оставляю этот мир жестоким,
ярким, жадным, грубым, остальным.
Сон как способ уйти от мерзостей жизни, как отказ от борьбы за место под солнцем ради этого места под луной.

Я шаг не ускоряю сквозь года,
Я пребываю тем же, то есть сильным,
хотя в душе большие холода,
охальник ветер, соловей могильный.
Так спит душа, как лошадь у столба,
Не отгоняя мух, не слыша речи.
Ей снится черноглазая судьба,
Простоволосая и молодая вечность.
Так посредине линии в лесу
на солнце спят трамвайные вагоны,
коль станции - большому колесу -
не хочется вертеться в час прогона.
Смерть пришла к этому гениальному неудачнику как избавительница.
Спи. Забудь. Всё было так прекрасно.
Скоро, скоро над твоим ночлегом
новый ангел сине-бело-красный
с радостью взлетит к лазурям неба.

Вспоминается третья литературная симфония Андрея Белого «Возврат» где он разрабатывает тему теургии – «вечного возвращения», возврата человека к своим истокам.

Первая часть её представляет собой своеобразный вариант библейского предания о потере рая согрешившим человеком.
Некий доисторический невинный ребёнок играет на берегу моря. Это прекрасная счастливая жизнь, «вселенная заключила его в свои мировые объятия».

У ребёнка есть могущественный благодетель и защитник – «особенный старик», который воплощает Вечность и обладает божественной властью.

Однако ребёнка совращают злые силы, подстрекая его любопытство к иной жизни.

И во второй части «Возврата» ребёнок просыпается на земле, в новой своей ипостаси. Теперь он – Евгений Хандриков, сотрудник химической лаборатории. Он влачит жалкое существование в убогих условиях с некрасивой больной женой, дефективным ребёнком, злыми сослуживцами. Всё это чуждо ему. Зачем-то люди спешат в «притоны работы», в чад лабораторий, в неволю. Окружающие напоминают ему зверей, фавнов, кентавров...
Существование Хандрикова делится по времени суток: днём он – погрязший в быту, в мелочных заботах «маленький человек», существо жалкое и несчастное, а ночью, в сновидениях, когда вскрывается резервуар подсознания, он снова живёт полнокровной природной жизнью «ребёнка», резвящегося на берегу океана, где много солнца, ветра, чистого песка, тепла, где он охраняем стариком – временем, Богом.

Человек хочет сорвать путы быта, выйти за сферу эмпирического существования. Но для этого ему надо слиться с океаном вечности, вернуться в стихию, в которой он пребывал в своих грёзах. Лишь там он обретает себя прежнего, подлинного, настоящего...

Мне будет вечно сниться дождь
и шум листвы у изголовья
каких-то баснословных рощ
бесчасья или безвековья.
Мне будет вечно сниться путь,
скрывающийся за холмами,
которым позабыл шагнуть,
как снится детский сон о маме.
Мне будет вечно сниться дождь
с почти расплывшейся страницы
и то, как ты меня зовёшь,
и я встаю, мне будет сниться.
В.Соколов

В полусне-полубреду
Часто вспоминаю Нину Сергеевну Могуеву, её последние письма. В одном из них она, по-матерински предостерегая меня от «стычек с этими» и высказывая пожелание, чтобы в моей новой книге было больше светлого, писала: «А в общем, я хорошо понимаю, что никакие советы ни к чему (это я о своих советах идти в осиянный храм), «стихи не пишутся – случаются». Что случится, то и будет. И не слушайте Вы старую больную бабку, которой хочется, чтобы её наболевшую душу тихонько нежили и гладили, и напевали ей сладким голосом райские песни» (5.06.04).
Эти строчки её письма у меня слились в сознании с некрасовскими строками из стихотворения «Баюшки-баю», когда в последние минуты перед смертью в полусне-полубреду к нему приходит давно умершая мать и говорит ему светлые утешительные слова, которые его измученной душе так хотелось тогда услышать:

Усни, страдалец терпеливый,
свободный, гордый и счастливый,
увидишь родину свою,
баю-баю-баю-баю.
Ещё вчера людская злоба
тебе обиду нанесла,
всему конец: не бойся гроба,
не будешь знать ты больше зла.
He бойся клеветы, родимый,
ты заплатил ей дань живой,
не бойся стужи нестерпимой,
я схороню тебя весной.
Не бойся горького забвенья,
уж я держу в руке моей
венец любви, венец прощенья,
дар кроткой родины твоей.
Уступит свету мрак упрямый.
Услышишь песенку свою
над Волгой, над Окой, над Камой –
баю-баю-баю-баю...
Вот каких стихов подсознательно ждала от меня её измученная душа – утешающих, просветленных. А я была занята литературной борьбой, расчисткой авгиевых конюшен...
Позднее мне попала в руки последняя книга И. Алексеева «Трамвай живых». Это были уже совсем другие стихи, сильно отличающиеся от тех, что я резко критиковала три года назад в «Ангелах ада» («Тут конец перспективы»). Когда Лидия Гинзбург услышала стихи юного Бродского, она сказала А.Кушнеру: «Это серьёзно». Когда я прочла последние стихи И. Алексеева, я подумала этими же словами: «Это серьёзно».

...А человек засыпает, спасён,
от равновесий любви и разлуки.
Слышит он сквозь посторонние звуки:
«Спи, мой любимый, забудь обо всём».
Чувствуя прикосновенье руки,
он распадается под одеялом,
слыша: «На нас не таращится дьявол.
Это у страха глаза велики.
Здесь никого. Мы с тобою вдвоём.
И далеко беспощадное утро.
Мы не расстанемся ни на минуту.
Жили мы вместе. И вместе умрём».
Вновь тишина воцаряется, лишь
голос в ответ дребезжит, убывает:
«Ты говори, только так не бывает.
Так не бывает, как ты говоришь».
Сон смерти
Помню, как меня поразили эти откровения Юрия Нагибина в его рассказе «Синий лягушонок» - последнее, что он написал перед смертью:

«Вы слышали когда-нибудь ночные голоса леса? Скрип деревьев, вздохи трав? Я не раз наблюдал, став лягушкой, как по-разному ведут себя деревья с наступлением ночного часа. Соседствуют две берёзки-однолетки с крепкой корой без раковых наплывов и здоровой сердцевиной ствола, с густо облиственной кроной, но приходит ночь, и одно дерево спокойно, тихо спит, а другое начинает скрипеть – в полное безветрие. И скрип этот – как стон, как бессильная жалоба, как сухой, бесслёзный плач. У природы нет общего языка, как нет его у людей. И всё-таки я знаю, о чём они скрипят и стонут, – это тоска по оставшимся в прежней жизни».

«Будучи человеком, я заигрывал с идеей переселения душ, гарантирующей жизнь вечную. Казалось заманчивым примерить на себе другие личины. Разве знал я, что в это бессмертие втянется лютая тоска». «Скрип деревьев, бормот кустов, шёпот трав перебили и заглушили другие звуки – ухали, охали, скулили, взрыдывали животные, бывшие когда-то людьми. Те же, что не пили жизни из человечьей чаши, спали безмятежно, глухие к памяти своих былых превращений; среди этих тихонь находились и первенцы бытия. А ведь и они могут когда-нибудь очнуться в человечью муку».

Как вторят этим словам поразительные строки Вениамина Блаженного:
– Мы здесь, – говорят мне скользнувшие лёгкою тенью
туда, где колышутся лёгкие тени, как перья, –
теперь мы виденья, теперь мы порою растенья
и дикие звери, и в чаще лесные деревья.
– Я здесь, – говорит мне какой-то неведомый предок,
какой-то скиталец безлюдных просторов России, –
ведь всё, что живущим сказать я хотел напоследок,
теперь говорят за меня беспокойные листья осины.
– Мы вместе с тобою, – твердят мне ушедшие в камень,
ушедшие в корни, ушедшие в выси и недра, –
ты можешь ушедших потрогать своими руками, –
и грозы и дождь на тебя опрокинутся щедро...
– Никто не ушёл, не оставив следа во вселенной,
порою он твёрже гранита, порою он зыбок,
и все мы в какой-то отчизне живём сокровенной,
и все мы плывём в полутьме косяками, как рыбы...

Сон как попытка любви
Николай Заболоцкий признавался, что некоторые свои строки сочинял во сне. Бывали случаи, когда он, проснувшись среди ночи, записывал строку стихотворения и снова засыпал. Так были написаны "Фигуры сна", "Бегство в Египет", "Можжевеловый куст", "Сон", где он описывает потустороннее существование человека.

Заболоцкий говорил: "Во сне удивительная чистота и свежесть чувств. Самая острая грусть и самая сильная влюблённость переживаются во сне."
Вспомнилась цветаевская поэма "Попытка комнаты." Она возникла у неё в ответ на вопрос Рильке: какой будет комната, где они встретятся? Это была попытка описать место встречи поэтов – комнаты, которая может существовать лишь в воображении поэта как идея (попытка). Пытаясь представить место свидания, о котором мечтала, Цветаева неожиданно для самой себя обнаруживает в поэме, что оно не состоится, что ему нет места в реальности.
Всё вырастет, не ладь, не строй,
Под вывеской – сказать, какой? –
Взаимности. Лесная глушь.
Гостиница Свиданье Душ.

Свиданье душ возможно лишь в "Психеином Дворце", в потустороннем мире, "на тем свету"...
Друг, гляди! Как в письме, как в сне том –
Это я на тебя – просветом!
В первом сне, когда веки спустишь –
Это я на тебя предчувствьем
Света. В крайнюю точку срока –
Это я – световое око.

Действие происходит во сне, возможно, в кошмаре; это странная поэма, пронизанная тревогой и страхом. Героиня кого-то ждёт – сначала это должен был быть Пастернак, потом она изменила адресата, им стал Рильке.
Всеми – теми, кому и кол
Не препятствие ночью майской!
Три стены, потолок и пол.
Всё, как будто? Теперь – являйся!
Оповестит ли ставнею?
Комната наспех составлена.
Белесоватым по серу –
В черновике набросана.
Не штукатур, не кровельщик –
Сон. На путях беспроволочных—
Страж. В пропастях под веками –
Некий, нашедший некую.
Стены, пол, мебель, сам дом превращаются в нечто неосязаемое. Потолок – световое око неба, пол – зелёная брешь земли. Между ними – пустота. И в этой пустоте герои становятся бесплотными. Встреча, которая происходит во сне, которая на земле невозможна.

У Цветаевой есть потрясающее стихотворение "Сон", которое я хочу привести полностью:
Врылась, забылась – и вот как с тысяче-
Футовой лестницы без перил,
С хищностью следователя и сыщика
Все мои тайны – сон перерыл.
Сопки – казалось бы, прочно замерли –
Не доверяйте смертям страстей!
Зорко – как следователь по камере
Сердца – расхаживает Морфей.
Вы! Собирательное убожество,
Не обрывающееся с крыш!
Знали бы, как, на перинах лёжачи,
Преображаешься и паришь!
Рухаешь! Как скорлупою треснувшей –
Жизнь с её грузом мужей и жён.
Зорко – как лётчик над вражьей местностью
Спящею – над душою сон.
Тело, что все свои двери заперло –
Тщетно! – уж ядра поют вдоль жил,
С точностью сбирра и оператора
Все мои раны – сон перерыл!
Вскрыта! Ни щёлки в райке, под куполом,
Где бы укрыться от вещих глаз
Собственных. Духовником подкупленным
Все мои тайны – сон перетряс!

Сон как созерцание с высоты духовной действительности, решение загадок жизни, перетрясение всех тайн человека – так его видела Цветаева.
Из её поэмы «Новогоднее»:
Что мне делать в новогоднем шуме
с этой внутреннею рифмой: Райнер – умер?
Если ты, такое око смерклось,
значит, жизнь не жизнь есть, смерть не смерть есть.
Значит, тмится, допойму при встрече!
Нет ни жизни, нет ни смерти, – третье,
новое...
Вот это третье, новое, то, что не жизнь — не смерть и есть Сон.

«Человечества сон золотой», о котором писал Гёте:
Если к правде святой
мир дорогу найти не умеет, —
честь безумцу, который навеет
человечеству сон золотой!
«Найди меня, сон»
Лучшее, что я когда-либо читала на эту тему - книга рассказов Людмилы Петрушевской «Найди меня, сон».

Там жизнь героев так плавно переходит в иное измерение, что они порой сами не догадываются, что живут уже в нездешнем мире.
Причём в конце каждого рассказа даётся какое-то реальное объяснение мистическим моментам (сон, наркотический бред, состояние после наркоза на операции), то есть правда жизни не страдает, но при этом такие прорывы в экзистенциальные глубины и высоты человеческого сознания, такие потрясающие прозрения, что дух захватывает.
Есть вещи, в которые не то чтобы веришь или предполагаешь, догадываешься, а которые просто знаешь доподлинно, каким-то внутренним зрением, внутренним знанием, шестым чувством, генетически знаешь. Это то, что сильнее логики, разума, здравого смысла.
Очень сильное впечатление на меня произвели «Реквиемы» Л. Петрушевской, особенно первый, который называется «Я люблю тебя».

Он – о семейной паре, муже и жене. Муж изменял жене, не ценил, не замечал, занятый своей личной жизнью, а она любила его и мирилась с тем малым, что ей ещё оставалось. Занималась детьми, бытом, терпела и любила молча. Так прошла жизнь. Потом её разбил паралич. И вот тут он словно проснулся, прозрел, понял, кто действительно был для него самым родным человеком. Он бережно ухаживал за ней, уже потерявшей речь, прикованной к постели, а в ночь, когда она умерла и её увезли, он заснул и вдруг услышал, что она тут, прилегла на подушку и сказала: «Я люблю тебя». И он спал счастливым сном, и был спокоен и горд на похоронах и говорил всем, что она ему сказала фразу: «я люблю тебя». Что она всё-таки успела ему это сказать – «без слов, уже мёртвая, но успела».
Что это? Мистика? Нет. Это высшая правда жизни, правда души, которую невозможно объяснить, её можно только постичь сердцем, душевным опытом.

Покой, который снится
...Ещё один сон, приснившийся мне под Новый год. У меня в руках – продуктовый паёк, он же – мешок подарков от деда Мороза. Разворачиваю, а там: орехи, семечки крупные, ещё что-то вкусное. И вдруг рядом – отец, и я с такой радостью его всем этим угощаю. И он не растворяется, не исчезает куда-то, как всегда в подобных снах, а с удовольствием берёт. И такая радость. А рядом – чуть в тени – брат. (Наполовину – Давид. Но всё-таки больше –брат.) Но он ещё как-то в стороне, немного скован. Но чувствуется, что всё будет у нас хорошо. Такой хороший, тёплый сон, так редко такие бывают. Обычно мучительные, терзающие по пробуждении.
Всё дальше, слабее их отзвук и свет, –
Родные, любимые, давние лица.
А сны всё не знают, что их уже нет,
Лишь сны не хотят и не могут смириться.
И там, продираясь сквозь толщу и тьму,
Лелею тот миг окончания бегства,
Когда догоню, припаду, обниму,
"Ну вот , наконец-то, – скажу, – наконец-то!"
...Давно уже видела сон, который всё не могу забыть. Отец. Я так рада, что вижу его, так ценю каждый миг с ним, прижимаюсь, заглядываю в глаза, чего в жизни никогда не было. Он молчит и вдруг спрашивает, всё понимая, что со мной: "Что, тяжело?" – как бы даже с сочувствием, но с пониманием непреложности и как бы заслуженности этой тяжести. Я молча киваю. Спрашиваю: "Ты там что-нибудь чувствуешь?" Он пожимает плечами: "Нет..." А потом какая-то комната, и вроде мы все вместе там: я, он, Стасик, – их нет, но я чувствую, что они здесь где-то, рядом. И – занавески накрахмаленные, которые раздувает ветер. И такой покой, такая тихая радость вокруг.
Господи, вот он, покой, –
Мысли густые, кисельные...
Вот он, выходит, какой -
Дом, занавески кисейные.
И. Кабыш
Это были мгновения жизни, словно показанные мне Богом: вот чего ты сама себя лишила, что могло бы быть у тебя: отец, брат, радость и защищённость родства...
«Как странно явь господствует над снами...»
У Ирины Снеговой есть такие строки:
Приснился бы! Хоть мельком! В кой-то раз!
Как странно явь господствует над снами,
что снятся нам обидевшие нас,
и никогда – обиженные нами.
У меня – всё наоборот. Там, во сне, я говорю им всё то, что теперь, наяву, говорить уже некому и поздно. Ночью сердце словно мстит за то, что заковываешь его в тиски днём, сны мстят за всяческую дневную растрату. Расправа за растрату. Растрава.
Идут года, бегут недели,
но ты теперь, как ни зови –
потусторонен, запределен,
недосягаем для любви.
И лишь во сне всё как по правде,
лишь там нельзя тебя убить.
Там можно всё ещё поправить,
и досказать, и долюбить.
Там светом радуги играет
То, что уже покрыто мглой,
горит и вечно не сгорает –
что стало пеплом и золой.

...Снова приснился отец. Смутно помню кого-то ещё рядом – Тамара, Давид... Потом они куда-то отодвинулись, и – его фигура. Такая узнаваемая, родная. Его плечо и рука. Рукав пиджака, чуть блестящего от подпалин утюга и от времени, в который я уткнулась. Умом я понимала, что его нет, что он умер. И чувствовала ледяной холод его руки сквозь пиджак. Подумалось почти спокойно: ну да... Конечно... Он же мёртвый. Но это не пугало. И как-то не мешало ощущать его живым. Пусть мёртвый, но главное, я чувствовала, что он слышит, видит, понимает меня. Пусть это на какой-то миг, сейчас он уйдёт, растворится, но вот эта минута – она была моя... Наша. Я прижалась губами к рукаву и повторяла как заведённая, словно в бреду, что-то во мне повторяло: "Знал бы ты, как я тебя люблю... Знал бы ты, как я тебя люблю..." Как заклинание, как молитву.
И вдруг его рука словно в ответ чуть-чуть дрогнула, слегка согнулась. Я мгновенно почувствовала, во мне сразу отозвалось: это ответ, это знак, что он слышит меня. Это было как слабое прощение. И это было – счастье.
Я проснулась от шёпота своих губ: "Знал бы ты, как я тебя люблю..." Я это произносила вслух. Давид спал, не слышал. Я зажмурила глаза, силясь вернуть сон, зная уже, что не верну. Но так хотелось сохранить, сберечь ту минуту.
Ночь чернеет неизвестностью в окно.
Мы с тобой не говорили так давно.
И листочки, что печатал ты в тиши —
кладезь мудрости, заботы и души,
так давно ты мне уже не приносил.
Тосковать и вспоминать уже нет сил.
Как случилось, почему же так, родной?
Это я, всему лишь я тому виной.
Над балконом кружат стаями стрижи...
Я люблю тебя, что делать мне, скажи?!
Как вернуть, и досказать, и долюбить,
как себя или тоску в себе убить?
Ты на снимке незаметно улыбнись.
Ты из детства мне явись или приснись.
А в мою уже навеки влиты кровь
твои шахматы, и Волга, и любовь...

Антропософия утверждала, что во время сна мы встречаем друг друга "по-настоящему", в то время как днём можем ещё замыкаться, утаивать наши мотивы, что-то симулировать в чувствах. Но ночью мы – открытая книга. "Сон – это жизнь, которую явь не стреножит", – как пишет П. Шаров.
Сны об отце
В царстве сна, в государстве памяти
наши встречи с тобою грустны.
Давит на сердце тяжесть каменная,
мне не выбраться из-под груза.
Фотокарточка на надгробии.
Взгляд невыспавшийся, усталый.
Отраженье твоё, подобие
на земле без тебя осталось.

То, что я сейчас пишу – не рассказ. Это послание. Я пишу это тебе, отец. Неведомо как, но мне верится, знается, что ты прочтёшь. Я пишу его в ответ. Помнишь? Это было через два года после твоей смерти, 1 мая. Я вышла на балкон ночью, словно кто-то позвал меня туда. Эта звезда выделялась из всех. Она мигала, пульсировала. Я сразу поняла, что это ты.

– Завтра твой день рождения. Я знаю, помню, приду, – говорила я тебе мысленно. Я была уверена, что ты слышишь.
В эту ночь я увидала тебя во сне. И такая нежность была, словно за всю жизнь, за все дни, что я её в себе не замечала, не пускала в себя. Проснулась – ничего не помню, только нежность. Тяжесть и нежность, как у Мандельштама. Не хотелось просыпаться. Боль потери – всё это будет потом. А тогда, в полусне – тяжёлая нежность. Я видела всю твою жизнь. Каким ты был маленьким мальчиком. Все твои обиды, победы, поражения, надежды. Всё, чего не знала, чего ты никогда не рассказывал, я видела внутренним зрением. И любила так нежно, пронзительно. Сколько упущено дней! Теперь я знала, как буду тебя любить, как буду заботиться, доставлять радость. Какое это было бы счастье.
На небе полночном горят письмена.
Я в смутной тревоге гляжу из окна.
Пытаюсь прочесть это, как в полусне...
Я знаю, что это написано мне.
Пульсирует небо мне звёздной строкой.
В ответ – неуверенный взмах мой рукой.
И слезы глаза застилают, слепя:
Я знаю, я помню, я вижу тебя!

Недавно мне приснился сон. Как мы идём с ним по переулку, заходим в арку на Первой Дачной, за углом гастронома, — я знаю, что он тут временно, что он сейчас уйдёт, насовсем уйдёт, и тороплюсь, силюсь сказать ему самое важное, но что-то мешает, не даёт, какая-то ложная стыдливость, скованность, которая никогда не давала мне сказать ему нежные слова, обнять, так с годами всё это сдерживалось, не пускалось, пока не закостенело, а тут вдруг отпустило, и я, тихонько прислонясь к плечу — почти физически помню шероховатость его пиджака, — спрятав лицо у него на груди, выдохнула, как будто что-то само сказалось за меня: "Не представляю, как я буду без тебя. Я не могу без тебя".
Я не помню, что он ответил и ответил ли что-то, я тут же проснулась. Щёки были мокры от слёз, и помню первую мысль при пробуждении: "Слава Богу, я успела, сказала, он знает теперь". И тут же — вторая, пронзившая острой болью: "Боже мой, это же только сон!"
Я плакала беззвучно и бессильно, и тут откуда-то накатила застаревшая зубная боль, но так сильно болел тот сон внутри, что на неё уже было наплевать. Мучила мысль, что я никогда ему уже этого не скажу, что он никогда не узнает. Но, может быть, как-нибудь всё же... какую-нибудь лазейку, щёлочку, незамеченный чёрный ход туда, в тот год, в тот день... Может быть, через сон, или если там, на могиле сказать... нет, написать и просунуть ему туда, закопать... Я не знаю, как, но он должен узнать, что я люблю его, что всегда любила, я не могу жить с этим грузом невысказанности, невыплаканности у него на плече!
Нежность держала всегда в чёрном теле.
Не обняла, не поцеловала ни разу.
А теперь держусь без тебя еле-еле
и тоску глушу в себе, как заразу.
А теперь неотданное объятие душит,
радугой висит над моей головою.
Послушай мою наболевшую душу,
как она по ночам по-собачьи воет.
Я тебя обнимаю сквозь все преграды,
сквозь все утраты, года, столетья.
Как была бы тебе я безумно рада,
если б встретились на том свете.

Однажды увидела тебя во сне. Ты сказал: "Мне ничего не надо от тебя, ничего". Я проснулась и поняла: я не могу с этим жить. Что мне делать? Не могу. Хорошо верующим: верят, что там — ещё одна жизнь, где встретишься с теми, кого любишь. "Блажен, кто верует, тепло ему на свете". Я знаю, что там ничего нет. Я никогда не встречу его и ничего ему уже не скажу. И мне будет теперь так же холодно и больно жить, как было ему. Он ушёл, не дождавшись от меня того, чего, может, ждал всю жизнь. И я всю жизнь буду тянуть руки в пустоту, в небо, где нет алмазов, где только холодная тьма, прошитая пулями звёзд, и вздрагивать, завидев в толпе похожий силуэт, обливаясь слезами. Поздно. Поздно.
Как живётся там тебе,
за седыми небесами,
в муке ль, радости, мольбе —
сны мои расскажут сами.
Так же там ты одинок ль,
как при жизни был со мною?
В перевёрнутый бинокль
вижу давнее, родное.
И, с тобою говоря,
вижу то ли явь, то ль сны я:
смерти мёртвые моря,
чёрный ход в миры иные...
Недавно я увидела сон. Приснилось непередаваемое ощущение детского восприятия свежести летнего утра. Рано-рано. Липки.

Я иду по аллеям. Город спит. Мощное ощущение утренней свежести и будоражащей радости – биологической, «нутряной», неудержимой, от которой хочется бежать, прыгать, кричать, которая бывает только в детстве. Ни души. И вдруг вдали замечаю отца. Образ его двоится: то он молодой – всегда бодрый, подтянутый, с готовой шуткой на губах, жизнерадостный, то уже старый, но улыбающийся, радостный меня видеть.

Такой светлый-светлый сон. Так редко такие бывают. И под конец – небо, облака, как показывают в кино, когда герой прощается с жизнью (Андрей Болконский, Баталов «Летят журавли»).

И я вижу это небо как бы их глазами, то есть не просто, а – крупно, со значением, как в последний раз.
И – мысль: значит, я умираю? Но – не испуг, не печаль, а радость от этой мысли.
И ещё один сон об отце. Снилось, что он мне показывает альбом с его фотографиями, которых я прежде не видела. Вот он маленький мальчик... Вот школьник... Молодой... Чередовались кадры его неведомой мне жизни, наполняя жадной радостью открытий. С каждым снимком я знала о нём всё больше и больше. Передо мной возникали снимки, где он с мамой – в саду на лавочке, он обнимает её за плечи («в городском саду играет духовой оркестр» – как иллюстрация к этой песне), какие-то военные, довоенные картины... Я вдруг поняла всю его жизнь, всего его – без связи со мной, как-то отстранённо, точно откуда-то с небес увидела. Это было то Большое, что «видится на расстоянье». Радость копилась в груди, крепла, нарастала и вдруг – как высшая её точка, как верхняя нота, выше которой уже ничего не бывает – озарила догадка: «Так смерти нет?!» И отец улыбнулся мне, как несмышлёнышу, и сказал чуть устало, как о чём-то само собой разумеющемся: «Нет».

Мне снились фотографии отца,
которых я ни разу не видала.
Держа альбом у моего лица,
он всё листал, листал его устало.
Вот он младенец. Вот он молодой.
А вот за две недели до больницы....
Шли фотоснимки плавной чередой,
и заполнялись чистые страницы.
Вот с мамою на лавочке весной.
как на него тогда она глядела!
Вот лестница с такою крутизной,
что на неё взобраться было — дело.
Но ведь давно уж нет того крыльца...
И вдруг в душе догадка шевельнулась:
"Так смерти нет?" — спросила я отца.
Он улыбнулся: "Нет". И я проснулась.
И всё. Больше он мне не снился. Может быть, потому, что лучше этого сна уже ничего быть не может. Вспомнились посмертные слова из «Гранатового браслета»: «Ты меня слышишь? Слышишь? Успокойся, моя безмерно любимая…»
Я успокоилась. «Не говори с тоской: их нет. Но с благодарностию: были». Я счастлива, что вы были – все, кого я любила и люблю. Но если были – значит, есть. Это как закон физики, закон земного притяжения, которое перетягивает небесное.

Ветер или ты листы колышишь?
Пробирает медленная дрожь.
Почему-то знаю, что услышишь.
Как-нибудь по-своему прочтёшь.
Ты приснишься мне на день рожденья?
В небе ковш изогнут, как вопрос.
И твоё реальное виденье
проступает сквозь завесу слёз.
Из кривых и прыгающих строчек
словно перекидывая мост,
вижу твой замысловатый росчерк,
вижу руку с родинками звёзд.
О тебе узнаю всё из сна я.
Как тебе в обители иной?
Я тебя ничуть не вспоминаю,
просто ты по-прежнему со мной.
Продолжение: http://www.liveinternet.ru/users/4514961/post299744367/
|
|
Процитировано 2 раз
Понравилось: 2 пользователям
О правде и фальши |
Начало здесь

фрагменты из моей книги «Признаки (призраки) жизни"
Приволжское издательство, Саратов, 2007
«Матери героев плакать не должны»
Это было очень давно, ещё до перестройки. Мне тогда было 19 лет, я училась на филфаке и работала в молодёжной редакции областного радио. Меня послали взять интервью у матери Героя Советского Союза А. Хользунова, чьим именем названа саратовская улица.

Надо было сделать одну из тех парадных показушных передач, которыми пестрел наш местный эфир в те годы.
Я застала старую, одинокую плачущую женщину, которая сидела уже несколько дней голодная, без молока и хлеба.

Она жаловалась мне на пионеров школы имени её сына, которые забыли про неё и давно не навещали, высказывала ещё какие-то обиды.

Я пошла в магазин и купила ей продуктов (потом моя начальница мне выговаривала, что я не должна была этого делать, что это не моя обязанность. Вроде как я этим - в её глазах - подрывала авторитет редакции).
Поев, женщина немного успокоилась, и я включила «репортёр» (так тогда назывались громоздкие, в 5 кг весом, редакционные диктофоны).

Она стала вспоминать свою жизнь, погибших на войне мужа и троих сыновей. Они все были для неё равны - и герои, и не герои. Вспоминала и плакала.

Я запомнила один эпизод: как младший сын всегда дарил ей весной сирень - её было полно в окрестных двориках.

Когда шла война, сирень, ничуть не считаясь с этим, цвела особенно пышно - рвать её было некому. Весной 1945-го мать получила последнюю похоронку. Когда мы разговаривали, кусты сирени кудрявились и колыхались за окном. Она всхлипнула: «Теперь мне уже мой сыночек никогда сирень не принесёт».


Алексей Иванович Хользунов, Герой Советского Союза
Меня поразило тогда: ведь больше 30 лет прошло, а для неё всё было словно вчера...

Я не могла делать из её рассказа «парадный» репортаж, я написала всё как есть. Мой материал исчеркали, заставили всё переписывать. Но самое дикое было на монтаже, когда звукорежиссёр, ругаясь, вырезал каждый всхлип женщины на плёнке, убирая, по его выражению, «сопли». Тогда делали так называемый «кровный» монтаж, то есть вырезали слово (даже междометие), если оно в чем-то противоречило идеологии. Все передачи должны были кончаться оптимистически. Матери героев плакать не должны, они должны были гордиться своими сыновьями. Меня жёг стыд за ту искорёженную редакторами передачу, где правду заменили фальшью.

Как я ненавижу этот тупой, самодовольный, толстокожий оптимизм, не желающий слышать чужую боль, равнодушный и нетерпимый ко всему, что нарушает его сытое благополучие. Извечное «сделайте мне красиво». Главное, чтоб мой взгляд, мой слух ничто не оскорбляло, не тревожило, не царапало, а что там, как там на самом деле - наплевать. «Кто плачет там? Мне слёзы не видны...»

Сколько сюжетов было под запретом! Я часто ходила мимо интерната слепых, который был тогда в подвале на Вольской, и мне захотелось сделать передачу о его обитателях. Моё начальство пришло в ужас. Нельзя! Негатив. На такие вещи было Табу. О старой, больной брошенной всеми женщине, которая ведёт себя не как мать героя - нельзя. Надо врать. О каком-нибудь идиоте-передовике, который двух слов не свяжет, надо писать, приукрашивая, сочиняя ему «образ», подгоняя под модель «нашего современника».

Мне стало тошно, и я ушла с радио, хотя в принципе очень любила эту работу.

Мне нравилось записывать людей, как бы фотографировать их голоса, их неповторимые интонации. Мне даже расшифровывать записи нравилось, хотя это была очень кропотливая, нудная работа: каждое слово с плёнки надо было переносить на бумагу, чтобы потом из этой «прямой речи» выбирать нужное.
В своих лекциях (это уже было перестроечное время) я могла говорить всё, что думаю и что хочу сказать.

Никто мне не зажимал рот, не ловил на слове (недостаточно идеологически выверенном), не вычёркивал и не запрещал моих мыслей и чувств. Это была моя свобода.
И мои слушатели это ценили и отвечали мне такой же искренностью и откровенностью (я много лет храню их исповедальные письма, эмоциональные отклики).

Но встречались и другие. Те самые любители фальши и лакировки, хрестоматийного глянца. С такими у меня возникали, как и встарь, «перпендикулярные» отношения. Один из таких случаев произошёл совсем недавно.
Некрасов-гражданин супротив Некрасова-человека
Однажды в конце вечера о Рубцове ко мне подошла женщина и представилась: «Елена Сапогова». До этого я не видела её, только читала о ней статьи в газетах. Она восторженно отозвалась о лекции и пригласила меня на свой концерт в консерватории.

Мы с Давидом пошли, нам понравилось, как она пела.

Я пригласила её спеть на вечере Некрасова, который готовила. Она охотно согласилась.
Потом я разбила эту лекцию на две части (по два часа в каждой): ранний Некрасов петербургского периода 40-х годов и поздний - 50-60-х. Сапогова вызвалась спеть на обоих. На первом вечере это должны были быть «Тройка», «Еду ли ночью по улице тёмной» и «Двенадцать разбойников». Предупредила её за четыре месяца (она просила сказать заранее). Раз пять перезванивались, уточняли, где и когда она вступает, после каких моих слов, на какой примерно минуте. За день до выступления спрашиваю: «Может быть, Вам нужен зал - порепетировать? Может, придёте пораньше?» - «Нет-нет».
Ну, думаю, наверное, дома репетировать будет.
И вот объявляю Сапогову. Она выходит и, спев несколько строк «Тройки», обескураженно замолкает. «Забыла!» - с детской непосредственностью - залу. Достает записную книжечку со словами, пытается их разобрать, но не видит без очков. «Ничего не вижу!» - с раздражением. Сцена слабо освещена - никто не думал, что она будет петь по бумажке. А ведь знала за несколько месяцев! Какой позор. Какое неуважение к публике, к Некрасову, наконец.
Но зал всё это ей простил, даже наградил аплодисментами, когда она с грехом пополам спела.
«Ладно, - подавила я в себе зреющий протест. - Всё-таки народная артистка».
Иногда посматривала в ее сторону - у нее было злое, раздраженное лицо. «Наверное, злится на себя, на свою оплошность», - смягчилась я. «Надо будет как-то успокоить, мол, ничего страшного», - мелькнуло в мыслях.
Но оказалось, она злилась не на себя - на меня. Когда я объявила следующую песню, - вышла на сцену, как на баррикаду.
- У каждого свой Некрасов. У меня - Некрасов-гражданин! - с пафосом провозгласила она.
И стала с вызовом читать «Назови мне такую обитель», нарушив таким образом композицию, канву моей лекции. Ведь я исподволь подводила свой рассказ к её песне «Двенадцать разбойников», читала «В больнице», «Влас» - о том, как героев переломила болезнь, как они пришли к Богу, знакомила с народной легендой о раскаявшемся разбойнике. Она всю логику мне поломала, так как после стиха без всякого перехода и связи с предыдущим запела «Разбойников». Едва спев, не дослушав аплодисменты, размашистым шагом вышла из зала.
«Я такой злой её ещё не видела. Что это с ней?» - недоумевала библиотекарша.
Звоню ей на другой день:
- Ничего не изменилось, будете у нас петь?
- Нет, не буду, Наталья Максимовна. (Хотя везде уже развешаны объявления с её фамилией. И договорённость была заблаговременной и неоднократной).
- Я буду в этот день в командировке.
- Ясно. Это официальная версия. А на самом деле? Вас, кажется, что-то смутило в моём рассказе?
- Очень смутило, Н. М. Даже возмутило. Я даже нитроглицерин пила.
- Что же?
- Я уже говорила, что для меня существует только Некрасов-гражданин. И мне дела нет, с кем он там жил в гражданском или негражданском браке.

- То есть как, это до Панаевского цикла Вам нет дела, этой жемчужины русской поэзии?
Ведь Некрасов же писал не только крестьянские стихи, как мы учили в школе. У него прекрасная любовная лирика, которая тоже обильно питалась страданием и потому так пронзительна и до сих пор современна.
А что Вас смутило в гражданском браке? Брак действительно был гражданский, она не была разведена с Панаевым, тогда развод получить было трудно, почти невозможно. Рубцов, кстати, который Вам так понравился в моей интерпретации, тоже не был зарегистрирован с Дербиной.
- Мне нет до этого дела, - с гордым целомудрием заявила народная певица. - И мне жаль, что там было много молодёжи, что они слышали всё это.
- Что - это?! - взорвалась я. - Эта молодёжь подходила ко мне и спрашивала, где напечатаны эти стихи, где их достать, восторженные отзывы писали. Вы хоть бы почитали в тетради, что люди пишут.

- Ну, это Ваши поклонники, - с пренебрежением бросила она.
- Не многовато ли поклонников - триста человек?
- Молодёжь не увидела в этой истории любви ничего грязного, не говоря уже о том, что таким фактом, как гражданский брак, сейчас шокировать никого невозможно. Это ханжество.
- Так значит, я ханжа? - саркастически рассмеялась она.
- Получается так. Я не понимаю, Вы же смотрите канал «Культура», надеюсь. Сейчас там идёт документальный сериал И. Волгина о Достоевском - ровеснике Некрасова, который, кстати, чуть не весь вышел из этого поэта. Вы ведь не станете Волгина обвинять в пошлости? А он говорит и об Апполинарии Сусловой, и о картёжной игре Достоевского, - как же это можно отделить от его творчества? Или Вы в эти моменты зажимаете уши?
Но моя оппонентка, видимо, смотрела другие телепрограммы.
- Вот как-то выступал Бари Алибасов, говорил о Пушкине, то у него там мат-перемат. Зачем мне это знать?
- Но как же Вы можете сравнивать? Где Вы слышали у меня мат? Я рассказываю о Некрасове как о живом человеке, да, не ангеле с крыльями, но я это делаю на достаточно высоком уровне, чего не заметили и не поняли только Вы. И, чтобы противопоставлять своего Некрасова моему, надо всё-таки знать о нём, простите, побольше школьной программы.
- Я не знаю Некрасова! - опять саркастический смех. - Но Вы тоже, я думаю (со злостью) - не всё досконально знаете о нём.
- Я не говорю, что всё досконально, но я прочла о нём всё, что смогла достать в нашей и университетской библиотеке, я занималась им несколько месяцев. А Вы какую литературу о Некрасове читали?
Молчание.
- И Ваше представление о Некрасове ничем не выше моего. Просто я говорю о нём не замшелыми казёнными фразами - «Некрасов - патриот, Некрасов - гражданин», подменяя ярлыками человеческую суть, а на конкретных примерах его жизни, судьбы, поступков, стихов доказываю это.
- Знаете что, Н. М., я уже взрослый человек, и мне поздно менять свои взгляды.
- Не взгляды, а стереотипы восприятия. А узнавать новое никогда не поздно.
Хотя ничего нового в принципе я на этой лекции не открыла, всё давно опубликовано, давно стало достоянием нашей культуры: и воспоминания современников о Некрасове, и мемуары его «гражданской жены» (какой ужас!) А. Панаевой, и ЖЗЛ Скатова, Жданова, и статьи К. Чуковского, и 15-томное собрание сочинений с подробными комментариями специалистов. Но не у всех, к сожалению, есть время, возможность, желание прочесть всё это.
На моей лекции люди с замиранием сердца следили за перипетиями судьбы поэта - как в 16 лет пришёл в Петербург без гроша в кармане, как выживал в подвале, пройдя все круги городского дна («Еду ли ночью по улице тёмной» - это ведь про себя, Некрасов ни о чём не писал понаслышке). Кстати, пела Сапогова эту песню, на мой взгляд, эксплуатируя одну и ту же тональность, выезжая на штампе, на технике, чувства не было. Я была поражена: ведь народная артистка должна прожить, прочувствовать, пропустить всё это через свою душу.
Люди плакали над лошадью, избиваемой извозчиком («Под жестокой рукой человека...»), и режиссёр телевидения из другого города строго выговаривала мне: «Вы не должны сами плакать (у меня был минутный горловой спазм, когда я это читала), мы можем плакать, а Вы не должны!» Но мне кажется, уж лучше плакать, чем бездушное и формальное исполнение, демонстрация лишь голосовых данных. Два часа просидеть в мире Некрасова, в мире его стихов, песен, снимков, иллюстраций знаменитых художников - и не дать в себя проникнуть ничему, кроме злости - это надо умудриться.
Вторую лекцию о Некрасове я читала без её песен. Их пели на плёнке Л. Харитонов, И. Архипова, И. Кобзон - думаю, не хуже. И закончила я так: «Я не буду говорить официозных фраз о «Некрасове-гражданине». Для меня он - тот чеховский человек с молоточком, напоминающий, что есть те, кому плохо, кому нужна твоя помощь, кто будит твою совесть».
В конце того вечера мне на стол легла записка с таким четверостишием-экспромтом:

Явися к Вам на лекцию хоть мент,
которому с вчерашнего хреново,
и он бы понял то в один момент,
чего не поняла Е. Сапогова.
Некрасов-гражданин... Некрасов не укладывается в это понятие, не умещается в него.
Истинный Некрасов не имеет ничего общего с тем шаблонным представлением певца народного горя, к которому мы привыкли. Да, народный заступник (никогда принципиально не пользовался плодами крепостного труда, не владел людьми), но и барин (лакеи любимому псу прислуживали), и эстет (простонародное имя «Фёкла» жены переменил на более благозвучное «Зинаида»), и, между прочим, западник, игрок, делец, великий предприниматель, человек необузданных страстей, с поэтическим бесстрашием и беспощадностью изображавший в стихах самого себя («погрузился я в тину нечистую мелких помыслов, мелких страстей»).
И при этом - Поэт, благороднейшая душа, нежное страдающее сердце, «галлюцинант человеческих мук», «гений уныния», неделями одержимый хандрой (как сказали бы сейчас - депрессией), вечно казнимый терзаньями совести, гложимый чувством неизбывной вины.
В 1855 году он писал Боткину: «Во мне всегда было два человека, один - вечно бьющийся с жизнью и с тёмными силами, а другой - такой, каким меня создала природа».
Ему была доступна одновременно и самая высокая, и самая циничная мысль о каждом предмете. В 1857 году, возвращаясь из-за границы, Некрасов восторженно приветствует родимые края: «Спасибо, сторона родная, за твой врачующий простор!» И в то же самое время в стихотворном послании другу пишет о том же возвращении на родину:
Наконец из Кенигсберга
я приблизился к стране,
где не любят Гутенберга
и находят вкус в говне.
Выпил русского настою,
услыхал ... мать,
и пошли передо мною
рожи русские писать.
Наверное, если б эти стихи прочли или услышали некоторые наши ортодоксальные патриоты - в обморок бы упали от такого Некрасова. Если человек долго сидел в подвале и вдруг вышел на свет божий - он может ослепнуть. Вот так и тот, кто имел скудные знания и вдруг узнал столько нового, впадает в состояние ступора. При малейшем отступлении от замшелых хрестоматий он делает стойку: стоп! Мы это не проходили - щёлкает у него в голове. Это какая-то отсебятина. Почему я этого не знал?
(«Что это ещё за литература? - взывал ко мне некто в своей анонимке. - Покажите нам её! Мы её не съедим»).
Не знал - значит, нет, не должно быть. - Такая вот в небогатом мозгу выстраивается цепочка. А если ещё человек с амбициями, претендующий на то, что он знает многое, если не всё, - во всяком случае, до моей лекции он был в этом совершенно уверен, - то смятение от неведомых знаний переполняет, он не может примириться с мыслью, что полный профан, и - грудь вперёд, ноздри раздуваются от праведного негодования, в природе которого он себе не может признаться, и - к спасительной двери. Вот так однажды ринулась с моей лекции о Цветаевой чтица Сюзанна Лавринович, не вынеся услышанного. А потом мне усиленно предлагали её услуги на вечерах с чтением стихов.

- Но ей же не нравятся мои лекции?
- Ну, ради такого дела она закроет на это глаза.
Нет уж. Постараюсь впредь избавить свои вечера от таких исполнителей, которые «любят свою родину с закрытыми глазами и запертыми устами».
«Недалёкая» Панаева
29 января 2007 года по каналу «Культура» идёт передача «Пленницы судьбы» об Авдотье Панаевой.

Куча авторов и ведущих: историк Анатолий Марголис, поэтесса Татьяна Вольтская и многие другие. Поразила пошлость и поверхностность передачи. Подробно - о похождениях Панаева, о том, что «супружеский долг он выполнял разве что в медовый месяц», - с удовольствием поизгалявшись по этому поводу.

И. И. Панаев.
Фотография. Конец 1850 — начало 1860-х гг.
В пренебрежительном тоне - о Панаевой: неграмотная, в мемуарах от неё досталось и Тургеневу, и тем, и другим, но - ни слова о том, почему, за что. Пренебрежительно-снисходительно о Некрасове: делец, игрок, «злой советчик» Панаевой в «огарёвском деле» (десять минут из тридцати - об этом тёмном запутанном деле - зачем? Ведь ничего толком неизвестно, одни домыслы). А лексика! «Финансовая пирамида»! «Современник» - проект, который кормил Некрасова»!
Акценты!!! Безбожно смещены акценты в этой передаче: с главного - на второстепенное, побочное. В результате у зрителя создаётся впечатление, что эти Некрасов и Панаева - обычные люди со своими слабостями, ничем не лучше нас, и телеведущие, снисходительно рассказывающие нам о них, - неизмеримо их выше, моральнее и умнее.

телеведущая, поэтесса Татьяна Вольтская
Да они недостойны у той же Панаевой ботинок зашнуровать!
Ради чего была сделана эта передача? Да, я тоже стремлюсь показать на своих вечерах живых людей, но я отбираю наиболее характерные факты, а не случайные, «жареные», для меня главное - показать, за что мы ценим ту же Панаеву, почему она осталась в благодарной памяти потомков, в чём её след в истории. Ни слова - о прекрасной любовной лирике Некрасова, вдохновительницей которой была Панаева (только с ухмылочкой: «Он был настоящий Отелло!»)

Некрасов и Панаев. Карикатура Н. А. Степанова.
«Иллюстрированный альманах», запрещенный цензурой. 1848.
А этот эпизод, когда она, старая, больная, нищая, пишет письмо Чернышевскому, жалуясь на безденежье, отовсюду изгнанная, и вдруг - в раскрытое окно - романс о ней, положенный на музыку уже десятками композиторов.

Люди в зале плакали, когда я рассказывала об этом. В этом штрихе - вся она.
И в мемуарах её главное - не ошибки, а её посмертная верность Некрасову, то, что она в них ругала тех, кого ругал бы он. Она ни разу ни в чём его не упрекнула.

Муза поэта. Это не прозвучало ни разу.

Зато пренебрежительно: «Да, она была соавтором Некрасова, но вы почитайте эти романы! Это же слабая литература!» Зачем же советовать читать, раз слабая. Почему бы не посоветовать почитать любовную лирику, адресованную ей? А ведь в неё были влюблены не только Панаев и Некрасов - и Чернышевский, и Достоевский, и даже Дюма. Фет посвящал ей стихи.

Вместо всего этого - упор на трудное детство, на то, что простая, неграмотная, недалёкая.

Если не знать ничего о Панаевой, возникает недоумение - а зачем вообще было о ней рассказывать? В чём её заслуга?
Когда хороший актёр готовится к роли, он перевоплощается в своего героя, он старается прочесть о нём как можно больше, понять мотивы его поступков, оправдать, показать лучшее, что в нём было. Лектор, автор передачи тоже должен мысленно прожить его жизнь, пропустить «через себя». Ничего подобного в телевизионной халтуре этих снисходительных снобов от литературы не было. Они не любят своих героев, не увлечены ими, они походя касаются их жизней, пачкая их своими грубыми прикосновениями.
Каждый видит то, что хочет видеть
«Люби - и говори всё, что хочешь. Любовь расставит верные акценты», - писала Лариса Миллер.

Я всегда делаю акценты на главном. Любовь за меня расставляет их правильно. Я не изображаю поэтов святыми, но и не перехожу ту грань, за которой поэт будет вызывать антипатию. Я даю ровно столько, чтобы мы почувствовали его живым человеком из плоти и крови, с болью, ошибками, страданиями.
В поэтической колонке, которую ведёт (или вела) С. Кекова в газете «Малиновый родник», все поэты в её изображении - благостные, все за уши притянуты к православию, выбираются только такие стихи и факты, всё подгоняется под эту модель. В книге А. Мадорского «Сатанинские зигзаги Пушкина» (Москва 1998) - другая крайность. Я - не то и не другое.
После вечера о Некрасове ко мне подходили со словами:
- Вы так рассказали о Некрасове, словно он здесь, сейчас, с нами.
- Как называется поэма? «Рыцарь на час»? В каком она томе?
Вот это - главная награда, задача, цель.

Я стараюсь на своих вечерах воссоздать личность поэта, дать его психологический портрет в контексте эпохи, творчества и частной жизни. Ибо ещё Лермонтов писал, что история души человеческой едва ли не любопытней и полезней истории целого народа. Тем более если это душа великого поэта.
А всем, кто выражает недовольство тем, что я как бы спускаю с котурнов классиков и нарушаю некие хрестоматийные каноны, то есть не лакирую и не приукрашиваю, как это делали раньше, а даю полнокровный, живой, правдивый образ поэта, - таким бы я хотела напомнить слова Марины Цветаевой, которая сравнивала своё творчество с водой: кто-то зачерпнёт море, а кто-то - лишь стакан, всё зависит от вместимости сосуда - головы, сердца, и от степени жажды. Точно так же каждый берёт от этих лекций ровно столько, сколько хочет и способен почерпнуть.
У кого-то застревает в сознании только тот «вопиющий» факт, что Бодлер болел сифилисом, а Некрасов - о Боже! - жил «с кем-то» в гражданском браке, а кому-то открываются целые миры, прекрасные стихи, новые знания. Одни видят, как Могуева, оранжевую сказку, другие - грязь под ногами, одни - лужу, другие - звёзды, отражённые в ней. Одни звонят: «Как можно Ахматову показывать обнажённой! (на слайдах с рисунков Модильяни). Это порнография!»

справа — рис. А. Модильяни, с которым Ахматова «хотела уйти»...
(«О каком наследстве можно говорить? Взять под мышку рисунок Моди и уйти»...)
Другие возмущаются: «Неужели это правда, что Лорка любил Сальвадора Дали? Какой кошмар!»


А другая пишет прекрасные стихи, которые назвала «На вечере Лорки»:

Как меня поразила вблизи
эта светлая бездна глаз.
А сияние Вашей души
освещало и грело нас.
Тёк рассказ певучей волной,
закипая гитарным звоном,
повествуя о сердце чужом,
неизведанном, незнакомом.
И взволнованная душа,
растревожена чудным пеньем,
мне плеснула кружевом слов,
что застыло стихотвореньем.

Это мне написала тогда Надежда Шаховская.

Надежда Шаховская слева
А вот листочек, который я бережно храню с того вечера, от Нины Сергеевны Могуевой:
На пороге вечности

Федерико Гарсиа Лорке
Умирающий вечер и плач гитары,
и так печален Дон Ящер старый.
Распахивают веер свой маслины,
луна серебрит холмы и долины,
над рощами Андалузии милой
свой вечный круг совершают светила.
Заря разгорается ярче и краше,
и разбивается утра чаша,
и веет мятою с покоса,
и солнце - косточка абрикоса,
благословляя землю покоем,
всё заливает жёлтым зноем.
Вся ты прежняя и - другая,
Андалузия дорогая.
Федерико стоит у порога.
Грустный взгляд. Тяжела дорога.
Н.С.Могуева

(Стихотворение состоит из образов стихов Ф. Г. Лорки).
Наталье Максимовне - Спасибо за Лорку!
Н.С.
Каждый видит то, что хочет видеть. Поэзия - это увеличительное стекло, которое усиливает чувства человека. Но если усиливать нечего - тут она бессильна. Тут можно только посочувствовать.
«Все глупости творятся с серьёзными лицами»
У меня была лекция, опубликованная в двух моих книжках: «Публичная профессия»(1998) и «Звезда или хлеб?» (1999), с которой я выступала в библиотеке в те годы. Лекция называлась «Живое и мёртвое» и была посвящена критериям оценки современной поэзии.
Так часто приходится читать стихи, в которых вроде бы есть всё: ум, аллюзии, всё модное слововерчение, а душа к ним не лежит. Они мёртвые. Ко всем тем критериям я бы отнесла ещё такое качество, как юмор.
«Все глупости на земле творятся с серьёзными лицами. Улыбайтесь, господа!» - призывал Мюнхгаузен из знаменитого фильма.

У глупых стихов и статей о поэзии тоже, как правило, «серьёзные лица». Нудные и вялые. Критик-шестидесятник Станислав Рассадин давно и безуспешно борется с излишней серьёзностью в литературоведении. Вот и недавняя его книга «От Фонвизина до Бродского» продолжает полемику с теми, кто «умерщвляет живую жизнь литературы».

К числу его примеров я привела бы ещё и свой, по поводу юмора Некрасова. Он у него восхитителен. Но почему-то некоторые исследователи и интерпретаторы его творчества этот юмор напрочь игнорируют. Вплоть до того, что позволяют себе переделывать на более серьёзный, академический лад какие-то строки поэта, показавшиеся кому-то чересчур легкомысленными. Вот, например, прелестное стихотворение Некрасова, которое я у него очень люблю:
Где твоё личико смуглое
нынче смеётся, кому?
Эх, одиночество круглое!
Не посулю никому!
А ведь, бывало, охотно
шла ты ко мне вечерком.
Как мы с тобой беззаботно
веселы были вдвоём!
Как выражала ты живо
милые чувства свои!
Помнишь, тебе особливо
нравились зубы мои?
Как любовалась ты ими,
как цаловала, любя!
Но и зубами моими
не удержал я тебя...

К. Маковский. Портрет Н.А.Некрасова. 1856.
Стихотворение шутливое, немного дурашливое: тут и «особливо», и эти «зубы», которые придают стиху непосредственность, лукавство, неповторимое своеобразие. Оно живое. И во многом благодаря этим «зубам». Собственно, всё стихотворение держится на этих зубах, в них-то вся прелесть, в этой улыбке.
И вот, готовясь к вечеру Некрасова, я нахожу в нашей библиотечной фонотеке пластинку советского композитора Бориса Терентьева с песнями на стихи поэта, в том числе и на это. Мелодия занудная, заунывная, совершенно не соответствующая характеру стихов. И вдруг слышу: певец выдаёт нечто отнюдь не некрасовское, а, как я подозреваю, плод творчества самого Терентьева (или исполнителя Евгения Беляева): «Помню, тебе особливо нравились очи мои». Видимо, советским авторам «зубы» показались непоэтичным, неэстетичным словом, и они ничтоже сумняшеся отредактировали классика, заменив на высокопоэтичное «очи» (см. моё эссе «О красоте и красивости»). Ну и соответственно последнюю строчку «улучшили»: «но и глазами моими не удержал я тебя». И всё, очарование ушло.
Напыщенное «очи» (никогда никакой мужчина - если, конечно, он не Нарцисс и не Куракин - не скажет о себе «очи») убило живую непосредственную интонацию стиха, сделало его плоским, попросту неумным, особенно в серьёзном, даже торжественном исполнении тенора. Классик же, какой тут может быть юмор! А то, что недопустимо самочинно искажать и корёжить строки классика, пользуясь тем, что он уже умер и не сможет отстоять свои стихи - этого им никто в консерватории не объяснил. Поэтому приходится объяснять мне.
«Грязное бельё» или правда жизни?
«Грязное бельё». Сколько лет я читаю лекции, столько слышу это обвинение от грязных людей. Людей с грязными мыслями и грязным воображением. К счастью, таких немного. Мои лекции - это не ликбез, там даётся не школьный минимум знаний, не хрестоматийное изложение общеизвестного. У меня театр души поэта. Вы, как в театре, следите за перипетиями его жизни, за тем, как «душа меняла имена».

Это не байки Вячеслава Недошивина, которые одно время звучали по радио и ТВ, где собраны одни обывательские сплетни и совсем нет творчества. Но при этом я стремлюсь показать поэта как живого человека, его характер, личность, судьбу. Эли Фор писал: «Нам не найти поэта в поэте, если мы не будем искать в нём человека». Личная жизнь не может быть отторжена от творчества, она неминуемо становится его частью.

Я всегда стараюсь увязать свой рассказ с современностью. Ведь каждый подсознательно задаётся вопросом: а какое это имеет отношение ко мне лично? Одним словом, что ему Гекуба?
Вспоминается вечер о Елизавете Кузьминой-Караваевой. Смерть Блока. Я повторяю знаменитые фразы: «Его убило отсутствие воздуха... Он перестал слышать музыку...». И вдруг чувствую - не могу. Надоело лицемерить. Какое к чёрту отсутствие воздуха! У нас у всех отсутствие воздуха. Когда он был в России, этот воздух?! Живём как-то, принюхались. От этого ещё никто не умирал. Тем более поэт. Он во всём найдёт свою музыку, увидит и услышит то, что захочет.
На этом вечере я впервые сказала, что Блок умер от сифилиса. (Об этом пишет Ефим Эткинд, ссылаясь на Корнея Чуковского): «Блок страдал от той болезни, от которой умерли любимые им Ницше и Врубель, болезни, которая так страшно сочетала в себе связь любви и смерти».

А. Блок на смертном одре. Фото М.С.Наппельбаума. 8 августа 1921г.
Не думала, что это вызовет такой шок у некоторых слушателей. Подходили после вечера: «Неужели?!» Звонили домой. Сетовали, сокрушались, негодовали. Ссылались на мемуары Бекетовой. Но тот благообразный респектабельный буржуазный господин, которого изображает в своих записках тётка Блока, стремясь «не выносить сор из избы», не имеет с реальным Блоком ничего общего.

Да, он ходил в публичные дома (об этом его пронзительное: «Разве так суждено меж людьми?») Но кто тогда не ходил в публичные дома? Среди поэтов редко бывают праведники. Поэт - это стихия, он должен перегореть в огне своих страстей, чтобы переплавить потом всё это в свои творения. Не бывает так, чтобы прожить жизнь и нигде не оступиться, не запачкаться. Есть чистота и есть чистоплюйство, ханжество, дистиллированность души. Я много думала об этом, у меня даже стихотворение есть на эту тему:
Пройти по жизни невидимкой,
чистюлей, льдинкой, нелюдимкой,
неузнанно скользящей мимо
того, что быть могло любимо.
Не запятнав ни рук, ни платья,
презрев объятья и проклятья,
не знавшись с болью и тоскою,
во имя воли и покоя
парить в своём высоком небе,
где пусто, холодно, как в склепе.
Парить безбрежно, белокрыльно,
с душой, где снежно и стерильно,
где, только Богу потакая,
живёт лишь Муза, и людская
нога там не ступала сроду...
Переборов свою природу,
и славы ангелов алкая,
кому нужна она, такая?
Косные ортодоксы не признают сложностей жизни и всё делят на чёрное и белое. Но образ гения не может поблёкнуть от слова правды.
Я ясно вижу всё плохое и вокруг, и в себе. И эта ясность зрения - огромное бремя. Но не пытаюсь его себе облегчить какими-то шорами, иллюзиями. Лучше быть зрячим, чем слепым, даже если видишь много мерзкого. Правда лучше самообмана, хотя и не всем достаёт мужества её выдерживать. Ложь надо обличать хотя бы из соображений социальной гигиены.
Тем, кто склонен иметь просто красивую легенду о поэтах, какие мы знали из школьных учебников, а не правду жизни, лучше на мои вечера не ходить во избежание стрессов и нервных потрясений. Ибо это мой принцип, которым я всегда руководствуюсь в подготовке материала: рассказать о поэте так, чтобы он предстал перед людьми не мёртвым классиком с наведённым на биографию глянцем, а «живым и только, до конца».
Творчество и жизнь неразделимы, одно вырастает из другого. И я всегда видела свою задачу не в том, чтобы пропеть очередной дифирамб гению русской словесности, а в том, чтобы проследить подлинный путь его судьбы. Да и в стихах открываешь новый, глубинный смысл, когда прочитаешь их в контексте жизни, видишь, «из какого сора» они выросли.
Это не только моя точка зрения, но и, например, В. Ходасевича.

В своём «Некрополе» он пишет: «Не должно ждать от меня изображения иконописного, хрестоматийного. Такие изображения вредны для истории. Я уверен, что они и безнравственны, потому что только правдивое и целостное изображение замечательного человека способно открыть то лучшее, что в нём было. Истина не может быть низкой, потому что нет ничего выше истины. Пушкинскому «возвышающему обману» хочется противопоставить нас возвышающую правду: надо учиться чтить и любить замечательного человека со всеми его слабостями и порою даже за самые эти его слабости. Такой человек не нуждается в прикрасах. Он от нас требует гораздо более трудного: полноты понимания».

Эта мысль Ходасевича мне очень близка, и я стараюсь всегда в своих поэтических портретах придерживаться этого правила. При подготовке я использую не общеизвестные, а новейшие материалы, последние монографии специалистов, которые ещё не дошли до Саратова, труднодоступную литературу, многое беру из зарубежных источников, из Интернета, из личной переписки с писателями и их родственниками. И не боюсь каких-то шокирующих фактов, которые раньше от нас старательно скрывались.

Правда глаза колет
Однажды на лекции о Борисе Чичибабине, когда я говорила о его неприятии сталинизма и читала его анти-антисемитские стихи - несколько человек демонстративно вышло.
«Так-так, - подумала я. - Аудиторию надо чистить время от времени. Воздух освежать. Ещё не хватало, чтоб на мои лекции сталинисты и националисты ходили. Для этого есть СП и «Земское обозрение».

Вспомнились слова библиотекарши: «Да у меня полно тех, кто не хочет ходить на Кравченко!»

И.В. Белякова, курировавшая мои вечера поэзии в библиотеке (слева)
А вот это уже интересно. Давайте разберёмся - кто же «не хочет»? Отметём сразу тех, кто «ленивы и нелюбопытны», и снобов, пребывающих в приятной иллюзии, что они «всё это знают». - Эти вообще не ходят никуда. Остаются следующие подгруппы:
1.Сталинисты, антисемиты, невежды и ханжи, которым нестерпима всякая смелая мысль, неожиданный факт, всё, что отходит от шаблонных прописей, заплесневелых клише и стереотипов, засевших в их заскорузлых мозгах со школьных лет. Им уютно в своей косности и неприятно открывать под старость лет, что они, оказывается, ничегошеньки не знают.
2.Те, кто был задет моей критикой, их дружки и знакомые, пылающие жаждой мести - таких за 20 лет литературной деятельности накопилось немало.
3. Завистники и «конкуренты», чьи книги не покупают, на чьи творческие вечера и лекции не ходят, кто занимается тем же, чем я, но с меньшим успехом. Естественно, они не признаются в истинных причинах своей «нелюбви» к моим лекциям и будут бубнить всё про ту же «личную жизнь», «грязное бельё» и «жареные факты».
Ничего этого никогда не было и в помине. В моих лекциях нет пошлости и обывательщины Недошивинских рассказов, нет инфантилизма и косноязычия телепередач Вульфа, нет поверхностности лекций М. П. Беловой (за 40 минут она умудряется рассказать и о Тютчеве, и о Фете), которая, как мне говорила председатель клуба ветеранов СГУ Киселёва, была яростно против того, чтобы пригласить меня читать в их клуб лекции.

М. П. Белова, доцент кафедры советской литературы ХХ века.
- Почему? - вяло полюбопытствовала я.
- Ну как же, - говорит, - она же моя ученица, неужели она лучше меня прочтёт?
Увы. (Для неё - увы, но не для моих слушателей).
В этот клуб Киселёва усиленно зазывала меня года два. Просила прочитать лекцию о Заболоцком, о которой слышала восторженные отзывы. Но я не люблю мероприятий «для галочки». Я всегда отношусь к этому ответственно. Стала выяснять, есть ли экран, слайд-проектор?
- Нет. А нам не надо.
- Магнитофон?
- Не обязательно.
- Но это уже не тот вечер, я так не читаю.

- Почему бы вашим ветеранам не прийти послушать в библиотеку? Здесь всего два квартала. Или вам это для галочки нужно?
Взрыв возмущения.
- Вы же кончали наш университет и не хотите для своего же университета!.. Светочка Кекова и то у нас читала, не отказывала.
- Я тоже могу почитать вам свои стихи. Даже провести творческий вечер - тут не нужен магнитофон и экран.
- Нет, у нас есть свои поэты. У нас Кекова...
- Ну пусть вам тогда и лекцию Кекова прочтёт. Тем более что она, кажется, защищалась по Заболоцкому.
Но им нужна была именно моя. В отместку, что не удалось меня тогда склонить к выступлению в необорудованном зале, Киселёва теперь меня порочит на всех углах и заявляет в библиотеке, что все её ветераны «принципиально» на меня не ходят.
Что абсолютное враньё. Войцеховская, преподаватели СГУ говорили мне, что после каждой лекции в их клубе по субботам они в полном составе сломя голову бегут на мои в библиотеку, боясь опоздать (у них начинается в 15 часов, а у меня - в 17), а тем, кто не ходит к Киселевой, та выговаривает с детской обидой: «К Кравченко вы ходите, а к нам нет!»

Киселёва на моей лекции (слева)
Кто ещё остаётся из тех, что «не ходят»? Лавринович, которая ушла с лекции Цветаевой, хлопнув дверью, но которая тем не менее рвётся у меня выступать, и я устала отбивать её атаки? Сапогова, которая пила нитроглицерин, не выдержав груза новой информации о Некрасове?
А теперь спросите всех тех, кто ходит (в моих списках постоянных слушателей их 758 человек), спросите этих учителей, кандидатов наук, профессоров, людей разных профессий - что их привлекает в моих лекциях?

«Клубничка», как бесстыдно врал в газете «Жизнь» Куракин в анонимной заметке? «Грязное бельё»? Спросите их и послушайте, что они вам скажут. Или почитайте в книге отзывов в областной научной библиотеке, что люди пишут о моих вечерах. Есть там хоть один негативный? То-то. А правда - она многим глаза колет.
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/231553.html
|
|
Спасение утопающих |
Начало здесь

«Сознание потерпевших крушение — правда жизни и уже потому спасительно. Я верю только идущим ко дну».
Хосе Ортега-и-Гассет

***
Я тонула, а думали все, что я просто купалась.
Я кричала, визжала, а мне лишь смеялись в ответ.
И волна надо мною под дружеский хохот смыкалась.
И прощался, сужаясь до точечки, солнечный свет.
Я призналась в любви, над Татьяны письмом умирая,
повторяя его обороты в корявых стихах.
А в ответ услыхала: «Ой-ой, не могу, угораю!
Классно ты разыграла, подруга. Прикольно, Натах!»
Я бумажный кораблик в ладонях житейского моря,
бултыхаюсь в потоках невидимых собственных слёз,
где не верит никто в настоящесть бумажного горя
и крик сердца не слышит и не принимает всерьёз.
Слышишь, пахнет кострами и пепел Клааса стучится?
Видишь, крюк, что искала Марина, торчит из стены?
Ты не думай, что с нами уже ничего не случится.
Это очень серьёзно — на что мы сюда рождены.
***
Девочка на донышке тарелки.
Мама: «Ешь скорей, а то утонет!»
Ем взахлеб, пока не станет мелко,
К девочке тяну свои ладони…
А теперь ты жалуешься, стонешь.
Обступили капельницы, грелки.
Я боюсь, боюсь, что ты утонешь
как та девочка на дне тарелки.
И, как суп тогда черпала ложкой,
я твои вычерпываю хвори.
Мама, потерпи еще немножко,
я спасу тебя из моря горя.
Ты теперь мне маленькая дочка.
Улыбнись, как девочка с тарелки…
В ту незабываемую ночь я
на часах остановила стрелки.
* * *
С этим нежности грузом в груди тону,
мне не справиться с ним никак.
Стопудовая жалость идет ко дну
о двух вытянутых руках.
Покидая земной ненадежный кров,
я вливаюсь в речной поток,
осязая потусторонних миров
обжигающий холодок.
* * *
Лес тонул в жужжании и гуле.
Пробовали горло соловьи.
Травки слабосильные тянули
Вверх существования свои.
А туманы плыли в небе белом,
Чтобы лечь на землю точно в срок.
Каждый занимался своим делом,
Выполняя божеский урок.
Поднимались розовые зори,
Волны тихо бились о корму.
И до человеческого горя
Не было им дела никому.
* * *
Тень Офелии храня,
по волнам плывёт веночек,
за собою вдаль маня...
На часах двенадцать дня.
На душе двенадцать ночи.
Лунный скальпель взрежет ночь,
Млечный путь звездами брызнет.
Но уже нельзя помочь –
как ни мучь и ни морочь –
этой обречённой жизни.
Неподвижен лунный зрак.
Небо вызвездилось колко.
За окном густеет мрак.
До свиданья, друг и враг.
Расстаёмся ненадолго.
***
Под знаком рыб живу и ног не чую.
Плыву навстречу, но миную всех.
В миру не слышно, как внутри кричу я.
Одеты слёзы в смех как в рыбий мех.
Вот так-то, золотая моя рыбка,
всё золото спустившая в трубу.
Кому отдашь последнюю улыбку,
когда крючок подденет за губу?
Но разве лучше мучиться на суше,
глотая воздух злобы и измен,
когда в стихии обретают души
покой и волю счастию взамен.
* * *
Утомилась мечта о чуде.
Призадумалась и остыла.
"Понимаешь, всё ещё будет"
заменило: всё уже было.
Хочешь – жалуйся, хочешь – кайся,
но таков уж обычный финиш:
то, что было - плывущий айсберг,
то теперь – затонувший Китеж.
***
На дно души спускаюсь я во сне.
Там русла рек моих существований.
Там смутный голос будет бредить мне
в божественной свободе и нирване.
Есть в сутках жизни заповедный час,
когда иное видит глаз и сердце.
И в вечность, недоступную для нас,
с протяжным скрипом поддаётся дверца.
Там оживает прошлогодний снег,
там конь крылатый напрягает жилы...
И всё, что ни приснится в этом сне, –
всей жизнью будет неопровержимо...
***
Вы меня из яви не достанете, –
я усну и уплыву туда,
где гоняет ветер волны памяти
и горит заветная звезда.
Там туннели улиц не запружены,
и, легко меняя виражи,
я плыву, как перышко, погружена
в странную сновидческую жизнь.
Там, за безымянными деревьями,
где потоки ласковой воды
унесут туда, где чудо с перьями,
унесут от горя и беды,
за родными мертвыми скитальцами,
что теперь безмерно далеки.
Строки, их написанные пальцами,
наплывают на черновики.
Из краёв греха и одичания –
в вотчину родимого лица...
Снится мне живая, беспечальная
вечность без начала и конца.
Это мой любимый вид общения –
общество безмолвных визави,
где одно сплошное сновидение,
непрерывность встречи и любви.
***
Под воду океана времени
уходят наши города
с людьми, домами и деревьями –
всё погребает волн гряда.
Корабль в пучину погружается,
стирая след земных примет,
а память бьётся и сражается
за каждый крохотный предмет.
И я, ловец земного жемчуга,
высматриваю там, на дне –
вот чей-то голос, речь, вот жест, рука,
то, что всего дороже мне.
Всё холоднее волны памяти,
всё дальше и опасней дно...
Попробуйте – а вдруг достанете
то, что ушло от вас давно.
***
Я рассекаю секунды, как волны,
властно вторгаясь в минувшие дни.
Воспоминаньями светлыми полны,
кругом спасательным держат они.
Вот ещё чуточку самообмана –
и достигаю заветной черты...
За пеленою ночного тумана
я различаю любимых черты.
Словно вслепую идёт опознанье,
и повторяю, скорбя и любя:
«Помню тебя до потери сознанья,
помню тебя, и тебя, и тебя!»
Если мы ищем – то, значит, обрящем.
Если мы любим – то, значит, живём.
Нет, вы не в прошлом, а вы в настоящем,
в будущем нерасторжимо моём.
Губы свежа виноградным и мятным, –
он никому из живых незнаком, –
я говорю с вами вам лишь понятным,
но непонятным другим языком.
Вновь завывают холодные зимы.
Нет на пути ни души, ни огня.
Всё я живу как-то жизни помимо,
в сторону сносит куда-то меня...
***
Я ошиблась веком и страной.
Время! Ты проходишь стороной.
Но во мне лучей твоих рентгены,
кровь твоя в моих струится венах,
грудь мою грызёт твоя тоска,
мысль твоя стучит в моих висках.
Время, ты всё злей, радиоактивней,
но тебя никак не обойти мне.
Я птенец из твоего гнезда.
И моя в тебе есть борозда.
Ты и боль, и быль моя, и небыль.
Я в тебе между землёй и небом.
Время, я тебя хватаю ртом.
Видишь, человек твой за бортом?!
***
Все мы дети грязной и безумной,
под собой не чуемой земли.
Наши Грины вымерли, как зубры,
на мели все наши корабли.
Апокалипсическое время!
Наши корабли уже на дне.
Я сейчас ни с этими, ни с теми,-
я сейчас с собой наедине...
***
Грезим мы об алых парусах.
Белый парус ищет бури в море.
Жизнь и смерть мелькают на весах.
Как же выжить в этих волнах горя?
Пьян корабль. На дно уходит век.
Никому не выйти без урона.
Что это?.. Спасение?! Ковчег?
Пропустите, мной оплачен чек!
Глядь, а там, в волнах, – весло Харона.
* * *
Я ёжик, плывущий в тумане
в потоке вселенской реки.
Мне звёзды мигают и манят,
мелькают вдали маяки.
— Плыви, ни о чём не печалясь, –
журчит мне речная вода, –
доверчиво в волнах качаясь,
без мысли зачем и куда.
Но только не спрашивай:"Кто я?"
Не пробуй, какое здесь дно.
Не стоит, всё это пустое,
нам этого знать не дано.
И лунный начищенный грошик
сияет мне издалека:
плыви по течению, ёжик,
и жизнь твоя будет легка.
***
Я не чувствую слов – только то, что за ними, –
интонация, искренность, полутона.
Я не помню ни лиц, ни одежды, ни имя, –
только образ, всплывающий с мутного дна.
Как сомнамбула в мире живу виртуальном.
Не живу, а, вернее, слыву и плыву.
Для меня ирреальное только реально.
Лишь оно-то и держит меня на плаву.
***
Мне кажется, я живу в маяке,
где зажигаю огонь,
чтобы корабль, что плывёт вдалеке,
не канул меж берегов.
Чтобы однажды один из ста
мой увидал бы свет,
чтобы доплыл, уцелел, пристал...
Но никого нет.
***
Сердце — одинокий
остров в океане.
От земли далёкий,
утонул в тумане.
Кто его заметит,
кто его услышит?
И никто на свете
писем не напишет.
Волны будут биться
до изнеможенья...
С кем-нибудь случится
кораблекрушенье.
И кого-то чудом
выбросит на берег...
В это так нетрудно
каждому поверить.
Чайки там летают.
Морем пахнет остро.
Будет обитаем
одинокий остров.
***
Как с забытых вымерших Галактик -
из небытия всплывают дни.
И опять иду я как лунатик,
на твои болотные огни.
Снова незапятнаны одежды,
всё подвластно почте и мечте.
Гаснут звёзды — маяки надежды.
Только сердце светит в темноте.
***
Полые дни, пустотелые ночи,
бедные бури в стакане воды.
Лета течёт и стихами бормочет,
и размывает наши следы.
Цвет облаков на чернила помножу
и ароматом беды окроплю.
Ведомо травам, как они схожи –
запах отравы и слова «люблю».
Где-то во сне затерялся твой облик.
Стиснули зубы полярные льды.
Алый корабль с парусами потоплен
жалкою бурей в стакане воды.
***
Обиды — на обед,
на ужин — униженья.
Коловращенье бед
до головокруженья.
Но помни, коль ослаб,
про мудрое решенье:
про лягушачьих лап
слепое мельтешенье.
Вселенной молоко
мучительно взбивая,
спасёт тебя легко,
вздымая высоко,
душа твоя живая.
* * *
А я не заметила, что собеседника нет, -
должно быть, ушёл, а быть может, и не появлялся, -
и всё говорю — в пустоту, в микрофон, в Интернет...
Как мир переделать хотелось, а он мне не дался.
Но что мне укоры его, и уколы, и суд, -
превышен порог болевой и бессмысленна пытка.
Какую бы форму мирскую не принял сосуд -
единственно важно горящее пламя напитка.
Не в полную силу любя, отдавая, дыша,
в эфире тебе никогда не дождаться ответа.
С последним лучом, как с ключом — отворилась душа,
и мгла озарилась доселе невиданным светом.
Сверкающий искрами вечный струится поток,
что движет неистовой силы небесное тело.
От дна оттолкнувшись, выходишь на новый виток,
где будет всё то, что когда-то от мира хотела.
***
Надвигается час роковой -
ночь отпустит лихие поводья,
и меня понесёт за собой
захлестнувшее слов половодье.
Я забуду и век, и число
в этой пуще неволи охоте.
Поднебесное взмоет весло,
исчезая в водовороте.
Обмелевшая суша души,
пересохшие губы Тантала...
Утолить эту жажду спеши,
пока утро ещё не настало.
И подслушать у звёздных миров
их язык неисповедимый,
тайну вещих божественных слов...
Но они — непереводимы.
Перевод с языка немоты,
темноты и ночного безмолвья...
А слова так чисты и просты,
и флюиды святой правоты
источают их в небо с любовью.
***
Текут ручьи разливные,
ни для кого не важные.
По ним плывут наивные
кораблики бумажные.
И рваный лист тетрадочный
поманит вдруг нирваною,
несбыточной, загадочной
страной обетованною.
Лети, мой синий парусник,
сквозь все ветра весенние,
врезайся в волны яростно
и не ищи спасения.
Мои мечты и чаянья
поведай всем и каждому,
кораблик мой отчаянный,
печаль моя бумажная.
http://rutube.ru/video/c5c512c4d37fcfbe477f5c12c100f7a2/?bmstart=0
***
Остров жизни медленно шёл ко дну,
покрываясь слоем воды,
оставляя на гребне меня одну,
поглощая волной следы.
Исчезали вещи, слова любви,
уходили вглубь голоса,
и тонуло то, что звалось людьми
и глядело в мои глаза.
Всё уходит в бездну, сводясь на нет,
ухмыляется бог-палач.
Только ты — спасительный мой жилет,
куда можно упрятать плач.
Только ты — единственный огонёк
в море мрака, холода, лжи.
Я держусь за шею, как за буёк -
удержи меня, удержи.
***
Жизнь коротка, не ухватиться
за край, когда идёшь ко дну.
Не взвыть, как зверь, не взмыть, как птица,
не кануть рыбой в глубину.
Но знаю истину одну:
с тобою вечный День Рожденья,
и Рождество, и Новый год.
Спасенье ты моё, везенье
и исцеленье от невзгод.
С тобою нет плохих погод.
* * *
Ты стал моим берегом и оберегом.
Вхожу в твою душу, как в тёплую реку,
и чувствую почву и твёрдое дно –
всё то, без чего устоять не дано.
Жила без любви, без надежды и веры,
и в пропасть манили ночные химеры.
Но что мне теперь даже самая смерть,
когда под ногами небесная твердь?
Ты был мне обещан и Богом, и Чёртом,
давно позабытым в веках звездочётом.
Так выпали карты и звёзды легли –
идти нам одною стезёю земли.
http://rutube.ru/video/d8ec37bc96acd1f2b3ffb637db232ac5/?bmstart=0
* * *
Мы как будто плывём и плывем по реке…
Сонно вод колыханье.
Так, рукою в руке и щекою к щеке,
И дыханье к дыханью
Мы плывем вдалеке от безумных вестей.
Наши сны – как новелла.
И качает, как двух беззащитных детей,
Нас кровать-каравелла.
А река далека, а река широка,
Сонно вод колыханье…
На соседней подушке родная щека
И родное дыханье.
http://rutube.ru/video/fb41ccccc24e43974e187df6087fb647/?bmstart=0
***
Утону в небесной нежности,
позабыв, откуда шла,
осенённая безгрешностью
белоснежного крыла.
Словно ангельские вестники,
искры звёздные летят.
Вьюга окна занавесила:
спи, земля, моё дитя...
Чистота непоправимая
непорочного листа.
Немота, переводимая
на живой язык Христа.
Птичий почерк иероглифом.
Воробей как ворожей.
Ставь, метель, свои автографы
на распахнутой душе!
Напиши там что-то нежное
о любви и о весне.
Город тихий и утешенный
улыбается во сне.
Сказка длится, не кончается,
а позёмка за окном
плачет, шепчется, печалится
всё о том же, об одном...
***
Нам всем раствориться в потоках космической пыли,
как в музыке мы растворяем обиду и злость.
А счастье прошло по касательной, пулей навылет,
но кость не задета и, стало быть, всё обошлось.
Ах, жизнь так полна, что от смерти её не убудет.
И нежности тяжесть не раз нас заставит тонуть.
Но всё ещё будет — сдаётся мне — всё ещё будет!
Порою достаточно за угол лишь завернуть.
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/231152.html
|
|
Русофрения |
(вдогонку к предыдущему посту)
фрагменты из моей книги «Признаки (призраки) жизни"
Приволжское издательство, Саратов, 2007
Пророчество русофила
Когда я в 2003 году победила на Международном конкурсе поэзии «Пушкинская лира» в Нью-Йорке, заняв 2 место, мне вспомнилось пророчество И. Малохаткина 1995 года, у которого особенное негодование тогда вызвали мои строки об Израиле:
Я тобою ранена, я больна тобою.
Русь моя, окраина, небо голубое!
Всю тебя изграбили, но, и обвиняя,
На луну Израиля я не променяю.
И хотя я здесь, кажется, ясно выразилась, что не променяю, Малохаткин позволил себе усомниться в моих намереньях и уверял в статье, что "Обмен на Израиль не состоялся - наверное, из-за малости луны Израиля. А вот на американскую луну обмен бы произошёл". («Саратовская мэрия» 14.04.95). На что я могла бы ответить, как Высоцкий: "Не волнуйтесь, я не уехал. И не надейтесь – я не уеду!"
Но ответила ему пародийными стихами в своей книге «Публичная профессия», в эссе «Люблю я критиков моих»:
Родину едва не променяла
на Израиль, хоть его луна
по сравненью с нашей весит мало,
там не больше шекеля она.
В США она поболе будет всё же.
Если так прикинуть на зубок -
то на доллар там луна похожа...
Но я чист душою, видит Бог!
Необъятна - не окинешь оком -
русская луна, я в том клянусь!
И за это верно и глубоко
я тебя люблю, родная Русь.

- Вот она, американская луна! - подумала я, получив из Нью-Йорка сертификат международного общества пушкинистов.

Правду говорят - пророчества поэтов сбываются.))
Если в кране нет воды...
Кстати, о Малохаткине и о его «патриотизме» очень смешно пишет Игорь Ефимов в своей книге о Бродском «Нобелевский тунеядец» (Захаров. Москва, 2005).
Оказывается, известный издатель, друг Бродского и С. Довлатова, И. Ефимов учился когда-то вместе с И. Малохаткиным на литературных курсах в Москве и жил с ним в одном общежитии.

Игорь Ефимов, прозаик, философ, историк, публицист

Иван Малохаткин, саратовский поэт
Жизнь студентов была довольно бурной и насыщенной событиями, то есть пьянками, драками, разборками, в том числе и на национальной почве. Об одной из них Ефимов повествует на страницах 64-65:
«Человек десять беспорядочно махали руками, хватали друг друга, материли, давили, падали, отползали, вскакивали и снова кидались в свалку. Бывший взрывник, а ныне саратовский поэт Малохаткин, отсидевший в лагере за то, что взорвал своего начальника, порывался покончить раз и навсегда с казахским поэтом Файзуло Хабибуло за проявленную тем неблагодарность, за недооценку влияния русской культуры. («Мы вас, дикарей, ложку учили держать, а вы, суки-падлы...»).

Малохаткин в молодые годы
За неимением взрывчатки он махал пудовыми кулаками, расшвыривал тех, кто пытался остановить его. Я прыгнул на него сзади, вцепился в локти, потащил прочь. Хабибуло бился в руках армянского поэта Саакяна, пытаясь дорваться до горла своего врага. Откуда-то выпрыгнула Тамара и вцепилась Саакяну в волосы. Мелькнуло минутное изумление: «Почему на Саакяна? Она же должна быть за своего собутыльника, за Малохаткина, против Хабибуло?» Но ещё через минуту я понял: она была против тех, кто разнимал.
Не выпуская дёргающегося Малохаткина (у него уже был разбит нос, и, кажется, он не очень рвался продолжать драку), я зарычал и...».
Обрываю цитату на самом интересном месте и отсылаю любопытствующих к книге. В другом месте там упоминается Малохаткин уже в более спокойном контексте как сидящий тихо на лекции о Пушкине. Лекция была так хороша, что «даже Малохаткин и Хабибуло забыли свои историко-национальные распри и сидели тихо». Жаль только, ненадолго.
Перечитывая фразу Малохаткина: «Мы вас, дикарей, ложку учили держать», я вспомнила фильм Э. Рязанова «Небеса обетованные», тот эпизод, когда герой В. Невинного, задуренный идеями общества «Память», разъярённый, распаренный, с огромной толстой ряхой во весь экран, тыча пальцем в маленького скорбного еврея Карцева со скрипочкой, вопил: «Они убили нашу культуру!!!
Всё это было бы смешно, когда бы не было так гнусно.
Просматривая саратовскую прессу, находишь массу примеров подобной русофрении, приобретающей уже в известных кругах, «близких к писательским», характер эпидемии. Особенно позабавила меня заметка в «Богатее», где рассказывалось о судебном процессе между двумя саратовскими национал-патриотами В. Сосниным (в своё время осуждённым за «разжигание межнациональной розни») и А. Зазыбиным, его общественным защитником. Соснин, будучи в тюрьме, написал доверенность Зазыбину на своё имущество, а вернувшись, обнаружил в квартире пропажу редких книг, одной из коллекций и крупной суммы денег. Зазыбин, оказывается, засчитал себе всё это в качестве гонорара, с чем Соснин не согласился.
Казалось бы, обычная, говоря зэковским языком, «бытовуха», распря на тему «вор у вора дубинку украл». Но нет. Дело получило политическую окраску, так как, цитирую: «в качестве подоплёки данного конфликта каждая из сторон видит связи оппонента с евреями. В одном случае речь идёт о «еврейских корнях» в родословной, в другой - о тайной финансовой поддержке «патриотической деятельности оппонента». Одним словом, если в кране нет воды...

Пушкин со славянским типом лица
Мне не нравится, когда любовь к Родине принимает форму шовинизма и воинствующего национал-патриотизма, когда под видом национального самосознания, поисков исконных корней проповедуют расистские взгляды. Иногда это происходит неосознанно, но душок всё равно остаётся неприятный.
Как-то на моём вечере, посвящённом Заболоцкому, один слушатель захотел дополнить лекцию и стал говорить о "чисто русских корнях" поэта. Говорил долго, акцентируя, что Заболоцкий именно русский, что корни у него "не немецкие, не татарские, не еврейские, а именно русские!" Хотя я уже сказала перед этим, что родился он в Вятской губернии, и этим, по-моему, всё сказано. А что, если бы корни у него были немецкие, как частично у Цветаевой и Блока, или татарские, как у Ахматовой, или монгольские, как у Державина, или еврейские, как у Фета, или прости господи, африканские, как у Пушкина – они от этого были бы менее русскими? Разве это что-то меняет в нашем отношении к поэту и его поэзии? Он русский, потому что родился в России, потому что говорит и думает по-русски, этого достаточно.
Другой слушатель написал мне в тетрадь отзывов такой сомнительный комплимент: "Наталия Кравченко, судя по фамилии и внешности, украинка, этим и объясняется необыкновенная прелесть её вечеров." Ну неужели же только этим?
А вот ещё смешнее. «Земское обозрение» вдруг решило усомниться в происхождении Александра Пушкина. Ну не могут они примириться с тем, что у «нашего всего» - нерусские корни!

И начинают копать: «Тревожит однобокое изучение родословной А. С. Пушкина, где выделяется более всего генеалогическое древо по линии матери... Для широкой общественности малоизвестна линия отца... Также не изученным остаётся вопрос отцовства Осипа Абрамовича Ганнибала. Существуют письма, в которых Ганнибал доказывал Императрице и Сенату, что Надежда - НЕ ЕГО ДОЧЬ (орфография автора). Как говорят в народе, - только женщина знает, от кого родила.» («Земское обозрение», 22.06.05).
Бедный Пушкин. «Земское обозрение» предпочло бы видеть его скорей незаконнорожденным, но со «славянским типом лица», который у него якобы был в действительности, нежели «ненашим» потомком. Вспоминается, как Пушкин жаловался Дельвигу: «Бывало, что ни напишу - всё для иных не Русью пахнет.».

Неловко напоминать этим людям общеизвестные истины: русская литература - понятие не национальное, а сверхнациональное, не этническое, а полиэтническое, не племенное, а кафолическое. Великие писатели России несут в генах вселенское взаимодействие: Толстой, Блок, Цветаева знали о своих немецких корнях, Достоевский - о литовских, Пушкин - об эфиопских, Державин - о монгольских, Жуковский - о турецких, Лермонтов - о шотландских, Тютчев - об итальянских, Некрасов - о польских, Ахматова - о татарских...

Местные патриоты с пристрастием подсчитывали, сколько среди героев моих лекций русских, а сколько — инородцев. «Инородцев» оказалось на один или два больше, что дало им повод окрестить мои лекции «русофобскими».
Суть, смысл, пафос русской культуры выше национальных перегородок. Этого никак не могут понять и принять наши русофрены.
П. Вяземский писал: «У многих любовь к Отечеству заключается в ненависти ко всему иностранному». Патриотизм «Земского обозрения» - именно тот случай. А между тем Е. Евтушенко в своём знаменитом «Бабьем яре» писал:
О русский мой народ! Я знаю, ты
по сущности, интернационален.
Но часто те, чьи руки нечисты,
твоим чистейшим именем бряцали.
Я знаю доброту твоей земли.
Как подло, что, и жилочкой не дрогнув,
антисемиты пышно нарекли
себя «Союзом русского народа»!
Ничто во мне про это не забудет!
«Интернационал» пусть прогремит,
когда навеки похоронен будет
последний на земле антисемит.
Но произойдёт ли это когда-нибудь в России? Сомневаюсь. Пока любовь к Родине будет восприниматься через призму шовинизма, пока под видом национального самосознания, поисков русских корней будут проповедоваться расистские взгляды, пока культурой будут ведать такие как Сухарев и Глубоков, пока будут процветать и бесчинствовать черносотенные газеты, а народ - безмолвствовать, а интеллигенция — потакать...
Сарказм или пафос?
Не так давно я получила письмо от одного заключённого колонии строгого режима.

Он пишет, что когда они готовились к встрече со мной и репетировали стихи из моей книги, у них возник спор, как их читать: «Мы поспорили о том, как следует читать последнюю строку третьего столбца. Я читал её с сарказмом, а мои оппоненты - с пафосом:
Некогда бескрайняя, безбрежная,
а теперь сужаются края.
Бедная, безбожная и грешная,
Родина кромешная моя.
Говорят, кишишь ты инородцами,
сбилася с особого пути,
наводнилась Галичами, Бродскими,
так что даже вброд не перейти.
Самое последнее прибежище
для того, кто пьёт и кто убьёт.
Пусть для заграницы ты посмешище,
а для нас - держава и оплот.
Боль незаживающая, мутная
и ежеминутная в груди.
Родина, беспутная, валютная,
ты за всё, за всё меня прости...
Вы правы, говоря: «И то, что я сказать хотела, вы понимаете не так». Крепко живёт в людях великодержавное... Невольно вспомнишь Пушкина: «Тьмы низких истин мне дороже нас возвышающая ложь».

Пушкина мой эпистолярный собеседник слегка переврал, но стихи мои о родине понял верно. - "Ну разумеется, с сарказмом!" - ответила я ему. На бумаге интонацию передать трудно. Я даже изъяла потом эту строфу из стихотворения именно из опасения, что строки об «инородцах», о «державе и оплоте» могут понять «не так», то есть вне их саркастического смысла. А так, как, скажем, у Куракина: «Москва, Москва, столица россов, погрязла в инородстве ты!» Хороший скинхед из него бы получился, будь помоложе.

А ещё раньше - член общества «Память», где свято блюли чистоту родословных. «Не по своей земле ходишь!» - кричал он моему мужу — не славянского происхождения -, встретив в трамвае.
Патриотическая струя Пегаса
Недавно бросили нам в почтовый ящик бесплатную газету "За народовластие" (накануне выборов). Там на самом видном месте нахожу стихотворение Н. Куракина под названием "Русский вопрос". Цитирую первые строки:
Теснятся словеса и слоги.
Я потакать им не берусь,
Пока поэтикой дороги
Мне душу возвышает Русь.
В ней всё и вся соединилось,
В ней боль моя и жизнь моя,
И Богом даденная милость
С неоспоримостью жнивья.
Ну, и так далее, как говорил Хлебников. Стихи, чего уж там, оставляют желать много лучшего. Но дело не в них. В заметке, сопровождавшей сей опус, много восторженных слов было сказано во славу "патриотических убеждений" автора, которых "невозможно скрыть": "патриотизм так и хлещет, бьёт живой струёй из прекрасных гражданских стихотворений Н. Куракина", – пишет И. Бакалова. Такая вот "живая струя" Пегаса.

Достала последний сборник поэта-гражданина Куракина. Открыла: "Люд ты мой русский! Стонущий, страждущий..." – с фальшивым псевдонекрасовским пафосом витийствует автор.

Закрыла. Открыла книжку стихов М. Муллина: "О бедный мой запутанный народ!" – кликушествует и этот.

И здесь та же "струя." Помнится, Гумилёв говаривал Ахматовой: "Аня, удуши меня, если я когда-нибудь начну пасти народы." А эти – пасут, и ничего.

Мирные стада патриотов преображаются в стаи хищных хорьков, когда им померещится что-то нерусское. Они бдят. Их не проведёшь. Они раскусят любую "задумку хитрецов". Например, чего удумали, подлые: "Всех норовят с экранов и трибун нас называть по имени... с фамилией." То есть без отчества. А зачем, думаете, им это надо? "Внедрившие" сию "задумку", оказывается, "о шкурной пользе ведали – придумали... желая скрыть отцов, которые Россию трижды предали." "Не отрекусь от батюшки Семёна!" – надрывно вопиет поэт.
Я внимательно рассмотрела обложку, авантитул. Отчества "Семёнович" нигде не обнаружила. "Михаил Муллин." И точка. Что ж он нам голову морочит? Почему не величает себя по батюшке, как от нас требует?
Мне отчество вошло не в графы – в гены.
С его забвеньем малость подождём!
Да ради бога! На здоровье. Кому нужно его отчество? Кто на него покушается? Где этот вражина?
Я не байстрюк и не сураз презренный –
В законном браке от отца рождён. –
гордо заявляет Муллин о своём законном происхождении.

Это чванство мне отвратительно. Неужели же это повод для гордости? Вот в новейших исследованиях (В. А. Захаров. "Загадка последней дуэли", Москва, "Русская панорама",2000) на основе архивных материалов утверждается, что Лермонтов на самом деле сын кучера из их имения. То есть, по изысканному выражению Муллина, «байстрюк».

Так же, впрочем, как и Жуковский, и особенно - Фет, "неполноценность'' которого усугубляется тем, что истинный его отец – еврей.

А. Фет на портрете И. Репина
Так что ж теперь, Муллин имеет неоспоримое преимущество перед ними? Если б жил в то время – поди и руки бы им , "презренным", не подал.
"Я сын отца, а не полка." И это тоже не его заслуга. "Не попугай мне песни пел, а Сирин." Какой ещё Сирин? Петух какой-нибудь. "Меж лип, а не маслин." Маслины-то чем виноваты, господи. Чем они хуже лип? Как и попугай ни в чём не повинный. (Который, кстати, "петь песни" не умеет). Или это намёк на ту вражью местность, где они обитают?
«...За графу не пускали пятую»
Я знаю тех, кто над анкетой бьются,
Чтоб их отцов не угадал народ. -
пишет М. Муллин.

А вот это уже конкретнее. По поводу анкет. Неужели Муллину неизвестно, почему русские евреи вынуждены были ломать головы над анкетами? Кто их к этому вынуждал? Да потому что, как пел Высоцкий, "за графу не пускали пятую".
Не пускали в любимый ВУЗ, на творческую работу. Не важно – насколько ты умён, талантлив, трудолюбив, профессионален. Это кадровиков не интересовало. Пресловутый пятый пункт в паспорте был приговором, позорным клеймом. Вот и выбирай – гордиться отчеством "Самуилович" и быть отовсюду отторгнутым, как шелудивый пёс, или переделать его на русское "Семёнович" и этим открыть себе двери к образованию и работе.
Вспоминаются строки Инны Лиснянской – тоже об отце, между прочим:

Мой отец – военный врач,
Грудь изранена.
Но играй ему, скрипач,
Плач Израиля!
...Бредит он вторую ночь
Печью газовой.
– Не пишись еврейкой, дочь, –
– мне наказывал.

Что, и в неё Муллин бросит свой камень?
В нынешнее время, когда идеология уже не играет первую скрипку, и больше стали цениться деловые качества, необходимость в "корректировке" анкет отпала. Но антисемитизм – ирреальное чувство, сродни звериному инстинкту и классовому чутью, он не поддаётся контролю разума. Особенно процветают эти настроения в нашем Союзе писателей. Несколько примеров.
Заходит туда молодой поэт. Хочет вступить в Союз. Один из наиболее рьяных блюстителей чистоты расы – думаю, все там хорошо знают его фамилию – интересуется его происхождением.
– Я полукровка, – чистосердечно отвечает тот.
– Много вас тут таких ходит!
Не верите? Я тоже не поверила, когда мне это рассказали.
А вот второй эпизод. Принимают в Союз поэта. Талантливого, что тут редкость. Но... Всё тот же "русский вопрос".
– Что мы тут жидов всяких принимаем! – раздаётся голос одного из чистокровных. Глава писательского союза мягко пожурил скандалиста:
– Мы тут обсуждаем стихи, а не национальность, – сделал он ему замечание.
А что, национальность в принципе можно обсуждать?
Писатель-сказочник Михаил Каришнев-Лубоцкий был вынужден в своё время вступить в Союз российских писателей Москвы, так как в местном Союзе кой-кому не понравился его профиль. Тогда он, кстати, был просто Лубоцким, что было с его стороны крайне неосмотрительно. Вскоре после этого он вспомнил о более русской фамилии своего деда и стал Каришневым-Лубоцким. Ну да что ж после драки кулаками-то махать. Впрочем, думаю, и полурусская фамилия дела бы не спасла. (Как в том анекдоте: бьют не по паспорту.)
Когда по радио была о нём передача, Макеева задала "бестактный" вопрос, почему он не был принят в нашем Союзе. Лубоцкий смущённо пробормотал: "Жизнь полна анекдотов." Скверных анекдотов, как сказал бы Достоевский. При случае я спросила его – почему не сказал правды? И тут же осеклась – какая правда, боже мой, кто бы её пропустил по нашему радио! Вспомнились строки Бориса Чичибабина: "Всё погромней, всё пещерней, время крови, время черни..."

Квасной патриотизм

В другом стихе М Муллина, "Перо", посвящённом "Вечному жиду", читаю такое:
В прагматизме всё давно старо...
Как-то на беду
Подарили вечное перо
Вечному жиду, –
который и пишет с тех пор "вечное враньё. "
Той же гнусной злобой обуян,
Псевдонимы лишь меняет, хам:
То он Ярославский Емельян,
То он Терц Абрам.
Читал ли Муллин Абрама Терца, которого по-хамски позволяет называть себе хамом? То бишь крупнейшего русского литературоведа Андрея Синявского, избравшего для зарубежных публикаций провокативный псевдоним Абрам Терц?

Хотя бы его изумительные "Прогулки с Пушкиным"?

Или ненавистная фамилия Терц ему этого не позволила сделать?

Читаю другое стихотворение, "Русская печь", где автор поёт хвалу русской печи, что его взрастила и вскормила, и тем блюдам, которые в ней готовились.
Я потом в Метрополе бывал,
Но таких уже блюд не едал.
Ну что ж, дело, как говорится, вкуса. Кто любит арбуз, а кто – свиной хрящик. Но к чему такой пафос?
Отчего никакая халва
Заменить мне лапши не смогла?
А если я люблю, например, больше халву, так что, я уже русофоб? Странный, однако, критерий патриотизма, который измеряется лапшой. Уж не той ли, что вешается нам на уши вот такими стихами? Кстати, наша российская лапша мало чем отличается от итальянского спагетти. Так что не очень удачный примерчик своего патриотизма подобрал здесь поэт. Взял бы какую-нибудь редьку с луком, что ли.
Почему эскалоп и лангет
Не заменят мне сельский обед?
Эскалоп, да будет известно Муллину, это всего лишь ломти нежирной свинины, баранины или телятины, а лангет – всего лишь блюдо из вырезки, а вовсе не какие-нибудь еврейские фамилии. И почему они не могут заменить сельский обед привередливому поэту, мне непонятно.
А вот квасной патриотизм по Куракину:
Счастливый, словно дар Валдая,
сижу, в зубах я ковыряю.
Промеж зубов застряла масса -
из русских щей говяжье мясо!
Как же можно выковыривать - ведь русское же! Это ж святое.

В своей давней заметке «Русские идут» («Ангелы ада» 2004) я прошлась по поводу неумеренного употребления этого слова в названиях книг саратовских авторов («Русский вопрос», «Русский день», «Русский бал», «Русское небо»). Надо ли объяснять, что патриотизм не измеряется количеством употребления слова «русский» на единицу текста, которое в ином контексте звучит неуместно, нелепо, смешно: «Я сын отца, я русский слишком», «небо тревожное, русье», «славянское небо - не знаю бездонней» и т. д.
В одном из интервью Инна Лиснянская вспоминала о своём детстве, о том, как приехала в пионерский санаторий, и там был начальник, который всё время говорил: «Вы не просто дети, а вы - наши, советские дети. Вы едите не просто капусту, вы едите нашу, советскую капусту. Вы нарушаете не просто тишину, а нашу, советскую тишину».

Кто-то написал слово из трёх букв в уборной, и начальник сказал на митинге: «Дети, вы портите не просто уборную, а нашу, советскую уборную».
И тогда из шеренги вышел мальчик: «Дядя, Вы не просто идиот, Вы наш, советский идиот!» Устами младенца...
Поставь вместо «советский» - «русский» - суть от этого не изменится. Здесь точно такая же история. Только тот дядя говорил те слова от избытка патриотического идиотизма, а эти квазирусские писатели - чаще всего из прагматического расчёта: вступить в Союз, напечататься в альманахе, - это слово для «СП-шников» как пароль - свой, дескать, пустите. Как «Сезам, откройся».
"Русскость – как роскошь для меня", – пишет Муллин. А для меня это естественное состояние, как воздух, которым дышу. Я не могу жить без этого воздуха, задохнусь без него, но мне не приходит в голову им гордиться или рядиться в него, как в роскошные одежды. Не помню, кто это сказал: "Гордиться тем, что родился русским – всё равно что гордиться тем, что родился во вторник. "
Я из чаши восторгов испил,
Испытав русофильскую негу. . . – пишет Муллин.
И сказал мне восторженный враль,
Сладострастно смыкающий веки: –
Здесь причалил воздушный корабль –
И остался в России навеки!
Ну прямо полный оргазм. Слова-то какие: "сладострастно", "нега", "восторги"... Вот только как ни взбадривай своё патриотическое либидо виагрой подобных строчек – у читателя ответного оргазма это не вызывает. Другим местом он Россию любит в отличие от "сладострастных вралей."
Не откажу себе в удовольствии привести несколько поэтических цитат в качестве красной тряпки для быка квасного патриотизма:
Прости мне, родная страна,
За то, что ты так ненавистна.
Олег Чухонцев
Я снова услышу погромный вой
О том, кем Россия продана.
О мать моя мачеха! Я сын твой родной!
Мне негде без Родины, Родина!
Борис Слуцкий
Моя Родина, ты гадина,
И стоишь на подлецах.
Леонид Губанов
Как ненавистна, как немудрена
Моя отчизна – проза Щедрина.
Борис Чичибабин
В этих строках больше любви к Родине и боли за неё, чем в сладострастных стонах иных русофилов и ксенофобов.
«Кошка - тоже патриот»
Булат Окуджава говорил, что считает свои произведения частью русской культуры, но это вовсе не значит, что он относит себя к числу тех, кто убежден, будто русская культура превосходит другие. Такие взгляды он никогда не принимал. Его патриотизм - камерный, негромкий:
Держава! Родина! Страна! Отечество и государство!
Не это в душах мы лелеем и в гроб с собою унесём,
а нежный взгляд, а поцелуй - любови сладкое коварство,
Кривоарбатский переулок и тихий трёп о том, о сём.
Одно время Окуджава дружил со Станиславом Куняевым, но когда однажды за границей в среде бывших москвичей-эмигрантов завели разговор о кадровых переменах в журнале «Наш современник» и о том, как благотворно сказалось на его литературно-философском уровне мудрое руководство нового главного редактора Куняева, Булат опешил: «Да о чём вы говорите! Какая такая философия-литература! Они же все бандиты!»

Пока он писал о России,
не мысля потрафить себе,
его два крыла возносили -
два праведных знака в судьбе.
Когда же он стал «патриотом»
и вдруг загордился собой,
он думал, что слился с народом,
а вышло - смешался с толпой.
К так называемым «национал-патриотам» Окуджава относился с большой настороженностью и недоверием. Как-то, отложив просмотренные номера российских газет, он заметил: «Кошка - тоже патриот. Это же в конце концов биологическая особенность - «русский». Чем же тут хвастать-то? Что дышу местным воздухом?»


Патриотизм Окуджавы - не казённый, не государственный, - личностный, человечный.
Я люблю! Да, люблю! Без любви я совсем одинок.
Я отверженных вдоволь встречал, я встречал победителей.
Но люблю не столицу, а Пески, Таганку, Шипок,
и люблю не народ, а отдельных его представителей.
Подлинное чувство любви к Родине никогда не кричит о себе, оно довольствуется сутью.
Патриотизм на словах и на деле
А. Городницкий вспоминал, как Окуджава рассказал ему однажды кавказскую притчу о существе патриотизма:

«Пришли к сороке и спросили, что такое родина? «Ну как же, - ответила сорока, - это родные леса, поля, горы». Пришли к волку и спросили у него, что такое родина. «Не знаю, - сказал волк, - я об этом не думал». А потом взяли обоих, посадили в клетки и увезли далеко. И снова пришли к сороке и задали тот же вопрос. «Ну как же, - ответила сорока, - это родные леса, поля, горы...». Пришли к волку, а волка уже нет - сдох от тоски».
Но вам сквозь ту бумагу белую
не разглядеть, что слёзы лью,
что я люблю отчизну бедную
как маму бедную мою.
Истинный патриотизм - некриклив, ненавязчив. Это целомудренное чувство. Им не размахивают, как флагом на демонстрации. Подобно поэту Роману Тягунову, сказавшему: «Я никогда не напишу о том, как я люблю Россию», Борис Рыжий писал:

Как некий, скажем, гойевский урод
красавице в любви признаться, рот
закрыв рукой, не может, только пот
лоб леденит, до дрожи рук и ног
я это чувство выразить не мог,
ведь был тогда с тобою рядом Бог.
Теперь, припав к мертвеющей траве,
ладонь прижав к лохматой голове,
о страшном нашем думаю родстве.
И говорю: люблю тебя, да, да! -
до самых слёз, и нет уже стыда,
что некрасив, ведь ты идёшь туда,
где боль и мрак, где илистое дно,
где взор с осадком, словно то вино...
Иль я иду, а впрочем - всё одно.
Вот это истинное чувство любви к родине. Что у него общего с напыщенным краснобайством Куракина о себе любимом: «Ты ещё нужен России - взвихривать вёрсты дорог!»? И так уже напылил достаточно.

Е. Мартынова разразилась огромной статьёй в «Деловой газете» во славу куракинского гения «На просторах русского вопроса», которую потом продублировала в «Литературной России», значительно расширив за счёт поношения Кравченко. (Одна колонка - о Куракине, и три - обо мне. «Ну как не порадеть родному человечку?». Прочтите, кстати, мой ответ на неё, дабы выслушать и другую сторону: http://www.stihi.ru/2010/06/12/4293)
Вот уже пять лет Куракин эту статью неустанно пиарит на всех сайтах, (что лишний раз доказывает его личную в ней заинтересованность). Начинается она пафосно и проникновенно: «Ценность патриотического начала... видится мне неоспоримой. Ведь патриотизм - это тоже талант, по нынешним временам редкий. Вроде бы и спорить не о чем. С талантом не спорят. Его признают. Ан нет... Вышедшая в минувшем году книга Николая Куракина «Русский вопрос» («Саратовский писатель» 2004) вызвала бурю в супротивном лагере».
Вся «буря» - это мой памфлет о стихах Куракина «Бредит сивая кобыла» (у страха глаза велики). Не буду повторяться - я уже всё сказала, что думаю об этих велеречивых виршах. Но вот только один примерчик: строки, над которыми проливает слёзы умиления Е. Мартынова, можно сказать, программные строки Куракина, увековеченные в патриотической песне:
Я иду по Руси. Отыщу ли тот дом деревенский? (Давно, стало быть, не был на родине - Н.К.)
Воспалённая память давно и надсадно болит.
И раскрывши глаза всякий раз как-то очень по-детски,
тут и там узнаю мне родные черты.
Как хотите, но я не могу удержаться от смеха над этой фразой: «и раскрывши глаза всякий раз как-то очень по-детски...». Так и видишь этого калику перехожего, одним глазом восторженно обозревающего родные просторы, а другим - не забывающим при этом украдкой смотреться в карманное зеркальце: «очень по-детски я раскрыл глаза на этот раз или не очень, ах ты, мордашка этакий!»


У Куракина, впрочем, это фирменное, - о чём бы он ни писал, о любви к Родине ли, к женщине ли, на кого бы и на что бы он ни смотрел - он во всём видит себя, любимого: «Гляжусь я в твой профиль ахматовский», «и в светлый глянец локонов гляжусь я зачарованно»... Одним словом, «гляжусь в тебя, как в зеркало» (привет певцу Ю. Антонову).
Верная сподвижница и ученица Куракина Е. Мартынова рьяно бросается на защиту любимого учителя от моих насмешек. Лучшая оборона, как известно — нападение.
«Гражданское начало поэзии Н. Куракина встречает у Кравченко решительный отпор. Оказывается, пугают её исконные русские ценности. Та самая триада «Соборность. Православие. Народность» вызывает у критикессы прямо-таки припадок оскорбительного сарказма. Главное для неё - камня на камне не оставить от патриотической поэзии».
Термин «патриотическая» для Мартыновой - прямо охранная грамота какая-то, фетиш, священная корова. А что, «патриотическая» поэзия не может быть бездарной? А вот Михаил Кульчицкий писал: «Я б запретил декретом Совнаркома писать о Родине бездарные стихи».

Да не русскую нацию я высмеиваю, а безграмотных виршеплётов, не Россию я ненавижу, а антисемитов и националистов. Это далеко не одно и то же.
Уважаемые профессиональные патриоты Саратова, бряцающие этим словом на каждом шагу, как шпагой, теперь вот добившиеся своего официального праздника «День патриота» 31 июля, на котором опять будете произносить слова, слова, слова... А где же ваши дела? А что вы сделали для своего города? Для тех людей, которые в нём живут или жили когда-то? Кому помогли, кого поддержали? В чём на деле проявляется ваш хвалёный патриотизм?
Давно ли вы были - и были ли вообще когда-нибудь - на могиле вдовы великого русского поэта Н. Некрасова, которая находится на Воскресенском кладбище в самом плачевном состоянии? Я звонила в музей Чернышевского - там открестились: мы не ухаживаем, не должны. А мне казалось, что именно этому музею логично было бы позаботиться о могиле вдовы («жены и друга Некрасова», как значится на табличке) поэта, который всегда помогал жене, а потом вдове Чернышевского, всю жизнь слал ей деньги, поддерживал его семью. Может быть, это должно стать заботой местного Союза писателей? Куда там. «Для этого нужны средства». Да руки нужны всего-навсего. И совесть. И часа три свободного времени - оторвать его от выпивки на благое дело. На словах-то легче Родину любить.
А могли бы - хоть раз в месяц! - проводить творческие вечера поэтов в своём просторном помещении. Да не для собственного развлечения, с банкетом в конце, а для всех саратовцев, с объявлениями в прессе. Чтобы каждый имел шанс показать людям своё творчество. А слушатели - любители поэзии, а не ангажированное жюри - могли бы сами для себя решить, кто действительно поэт, а кто лишь патриот. Ведь есть очень талантливые авторы - и я знаю их, - которые к своему несчастью - или счастью - не входят в тусовки Амусина, Александрова, Куракина, в число друзей Макеевой и Ёлшиной, и потому им никогда не пробиться ни на сцену, ни на страницы альманахов, ни в местный эфир. А может быть, они-то как раз и составят гордость русской культуры. Дайте им эту возможность - хотя бы раз в году! Вот это и было бы патриотическое дело.
Пишу и сама понимаю тщетность и наивность своих слов.
Хотела бы ответить всем нашим национал-патриотам этим стихотворением:

А вам, друзья, я так отважусь
Сказать, поскольку здесь живу я.
Люблю Россию, но не вашу,
Сусальную и неживую.
Люблю не миф, не сверхдержаву.
Я, здешних улиц уроженка,
Люблю Россию Окуджавы,
Шаламова и Евтушенко.
Не древних сказов благолепье,
Где столько патоки и фальши,
Не только пажити и степи,
Но и проспекты, и асфальты.
Не терема и не усадьбы,
Люблю Россию без рисовки.
Что в нос вы тычете нам лапти,
Коль сами носите кроссовки!
Люблю, не пряча слова злого,
Когда глупа она, жестока,
Русь Гоголя и Салтыкова,
Русь Чаадаева и Блока.
Не тот зовётся патриотом,
Кто водку хлещет, как Есенин,
А тот, кто делает хоть что-то,
Кто мрак пытается рассеять.
Россию любит, кто ей служит,
Кто за неё пойдёт на плаху,
А не позёр, что бьёт баклуши
И рвёт у ворота рубаху.

Анонимные патриоты
...Ещё в своей книге 2003 года «По горячим следам» я написала об антисемитизме в саратовских писательских кругах, прикрытом, как фиговым листком, лозунгом борьбы с русофобией ( главным образом, моей, даже на лекции мои было рекомендовано не ходить, так как те «заражены русофобией»).

Мне тогда казалось, что я, что называется, «закрыла тему». Оказывается, нет. Это какое-то подобие дракона Шварца, у которого вместо срубленной головы тут же вырастает две новых. Причём свою воинственность и агрессивность они любят оформлять-декорировать в ширмочки трусливых псевдонимчиков, а то и просто, без затей — в анонимки.
Помню, первая из них, вручённая мне после вечера о Мандельштаме в библиотеке, начиналась пафосной фразой: «Мы, русский народ, который ходит на ваши лекции...» - и дальше шло нечто патриотически-непечатное.
Из анонимки, полученной сравнительно недавно, скорее всего, принадлежащей перу записного патриота Куракина, который жить не может без своих дебильных выпадов против «дипломированной пятиколонницы, филологини, публицистутки Н Кравченко, проживающей больше в Израилях, чем в России, и по этой причине ( а возможно и по причине исторической тяги к соплеменникам Березовскому и Швондеровичу»:
«Пишу о вас ( о тебе, шендеровиче, латыниной и прочих твоих соплеменниках также мерзко, как вы и ваша кагал - пишет о русских журналистах, к коим ты - не имеешь никакого отношения несмотря на то что "родилась и живёшь" в Саратове...».
Хочется вымыть руки и глаза.
Кстати, почему все эти пламенные профессиональные патриоты, как они себя позиционируют, дружно как один покинули свои малые родины? Почему Амусин уехал из родной казахстанской Долинки, где «скрипит крыльцо, чтоб не врал отцу», и вместо починки крыльца стал, сидя в Саратове, слагать о нём скрипучие вирши?

Где «тот дом деревенский», который покинул на заре юности Куракин, и который до сих пор не в силах отыскать («Я иду по Руси. Отыщу ли тот дом деревенский?»)

А почему Муллин покинул родную деревню Старо-Костеево Бакалинского района Башкирской АССР, где родился в 1946 году, но не пригодился? Что бы ему не остаться да не работать на благо родного колхоза, прославляя родимые места, что можно было бы с тем же успехом делать и там?

Нет, всех из своих медвежьих углов в областные города потянуло. Ну понятно, здесь жизнь полегче да покомфортнее.
Но Саратов не ваш родной город. Это я здесь живу с рождения и ни разу никуда не уезжала, даже на лето. Это я здесь училась, работала, читала лекции, пропагандировала русскую и мировую литературу. С какого же бодуна вы себя считаете патриотами родных мест? Да ещё противопоставляете мне — себя? Что вы-то для своего-несвоего города сделали, кроме создания собственных тусовок-кормушек, доморощенных конкурсов и взаимно-хвалебных статеек-панегириков, прославляющих воинственную бездарность?
Расхристан ворот. Настежь рот:
«Я - патриот! » «Я — патриот!»
Ну почему, как патриот -
всегда дурак или урод?
Бродский в одном из интервью сказал: «Я всегда полагал, что человеческое существо должно определять себя в первую очередь не этнически, не расой, не религией, не мировоззрением, не гражданством и не географической ситуацией, но, прежде всего, спрашивая себя: «Щедр ли я? Лгун ли я?»
Ещё Н. Карамзин писал: «Всё народное ничто перед человеческим. Главное дело - быть людьми, а не славянами».
Продолжение: http://www.liveinternet.ru/users/4514961/post315956221/
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/230233.html
|
|
Понравилось: 1 пользователю
История его души. Часть четвёртая. |
Часть первая
Часть вторая
Часть третья
Орудие рока
Казалось, какой-то рок тяготел над ним. Лермонтов почти физически чувствовал свою обречённость. Но не думал, даже подумать не мог, что орудием этого рока станет его товарищ, однополчанин, недалёкий и самовлюблённый Мартынов («Мартышка», как он его называл), легко узнаваемый в «Герое нашего времени» в образе Грушницкого.

Мартынов очень много внимания уделял своей внешности, и эта слабость, подмеченная Лермонтовым, стала предметом его постоянных острот и насмешек.

Мартынов. Рис. князя Гагарина
Вы видите здесь Мартынова в утрированной «черкесской» одежде: папаха, черкеска в галунах, брюки с лампасами, шашка, огромный кинжал на поясе и ко всему этому лихо подкрученные усы. Лермонтов высмеивал его экипировку, эти черкеска и кинжал стали у него главным мотивом эпиграмм, карикатур и острот. Мартынов же был раздражительным, надутым и обидчивым человеком, совершенно без чувства юмора.
И однажды — это было 13 июля 1841 года в Пятигорске на вечере у Верзилиных — Лермонтов, как обычно, задел Мартынова какой-то шуткой по поводу «горца с большим кинжалом». Мартынов, находясь в окружении дам, вспыхнул от гнева и резко одёрнул поэта: «Сколько раз я Вас просил оставить свои шутки при дамах!» И быстро вышел из зала. Танцы продолжались, и все думали, что этим и закончится ссора. Никто не слышал, что сказал Лермонтову Мартынов, когда поздним вечером они вышли от Верзилиных. Никто не слышал, что отвечал ему Лермонтов. Но на вторник, на 15 июля, была назначена между ними дуэль.

дом Верзилиных в Пятигорске

комната в доме Верзилиных, где произошла ссора Лермонтова и Мартынова

Дуэль. Рис. Лермонтова.
Все были уверены, что всё кончится миром и все поедут пить шампанское. По этой причине секунданты не побеспокоились ни об экипаже, ни о докторе. Не было и никаких уговоров помириться. Возможно, всё бы окончилось обменом выстрелов в воздух, если бы не следующее обстоятельство: Лермонтов, подняв дуло вверх, громко сказал: «Я в этого дурака стрелять не буду!» «А я — буду!» - вспылил Мартынов и рефлекторно нажал курок.

Лермонтов упал, как подкошенный. Он умер мгновенно: пуля прошла навылет. Вот так из-за глупой ссоры оборвалась жизнь гения.

Лермонтов на смертном одре. Портрет работы Р. К. Шведе (1841)
На второй день после гибели поэта Р. К. Шведе создал портрет "Лермонтов на смертном одре". «Живопись нехороша, но память дорога, так как это единственный снимок», – писал в 80-х годах Д. А. Столыпин об этой работе. Здесь поэт лежит в белой рубашке, прикрытый до пояса простыней; волосы коротко острижены, рот и глаза полуоткрыты. По свидетельствам современников, Шведе точно запечатлел облик погибшего. Портрет, написанный по заказу А. А. Столыпина, много лет находился у него, а в 1882 году А. Столыпиным был передан в Лермонтовский музей. Портрет Шведе условно был отнесен к прижизненным, так как писался с натуры. Работа оставляет тяжелое впечатление.
Ознакомившись со множеством документов, можно утверждать, что единственным поводом к дуэли были насмешки Лермонтова над Мартыновым. Лермонтов сам спровоцировал того на вызов. Выдвигать версию о заговоре против поэта — значит не считаться со множеством очевидных фактов, свидетельствами огромного числа современников. В Петербурге даже не было известно, что Лермонтов находился в Пятигорске. Версия о существовании заговора и появившееся в 30-е годы 20 века «документальное» обоснование о смерти поэта как результате происков врагов — продукт эпохи, наполненной вымыслами о заговорах и врагах народа.
Да, царь не любил поэта и при известии о его гибели произнёс ужасную фразу: «собаке — собачья смерть», долго препятствовал публикациям воспоминаний о Лермонтове, но он не отдавал приказа убить его, как долгие годы считалось в нашем литературоведении.
По решению Николая I-го наказанием для Мартынова стало церковное покаяние, которое он должен был отбывать 10 лет в монастыре. В действительности же он его проносил не более четырёх лет. Остаток жизни прожил спокойно и в полном достатке, окружённый многочисленным семейством.

За год до смерти Мартынов напишет мемуары, в которых будет оправдывать себя и обвинять поэта в том, что тот дразнил его и смеялся над его стихами (он тоже писал стихи и считал себя поэтом не меньшим, чем Лермонтов).
Но в глазах большинства Мартынов отныне стал прокажённым. У него теперь было только одно имя и звание: «убийца Лермонтова». Жена его стала «женой убийцы Лермонтова», впереди маячили «сын убийцы Лермонтова», «внук убийцы Лермонтова» и так до скончания ставшего безымянным рода.
Скончался он в 1875 году (в 60 лет), похоронен был в родовом имении в Знаменском. После революции в барском доме разместили дом для беспризорных. Когда они узнали, что в могиле покоятся останки человека, убившего на дуэли Лермонтова, её разрыли, а кости разбросали.
И всё же не верится, что безвременная кончина гения была лишь нелепой и обидной случайностью. Лермонтова не стало потому, что за неполные 27 лет жизни он исполнил всё, что призван был исполнить, состарился духом и остро желал уйти.

«Я — как человек, зевающий на бале, который не едет спать только потому, что ещё нет его кареты», но вот карету подали, и он уехал в небытие.

Как писал А. Кушнер:
И Лермонтов звездой пронёсся, а не скис,
не тратясь на детали,
постигнув суть вещей, отвергнув компромисс.
Первая и последняя любовь
В исследовании В. Захарова «Загадка последней дуэли» открываются любопытные подробности, предшествовавшие той ссоре с Мартыновым. Причиной дуэли — или поводом, толчком — послужила женщина, старшая из трёх дочерей Верзилиных, в доме которых собиралась молодёжь Пятигорска — Эмилия. Ещё в пору посещения Пушкиным Пятигорска Эмилия была прославлена им как "звезда Кавказа", девушка очень умная, образованная, светская, превосходная музыкантша, но к тому времени не очень молодая (26 лет) и пользовавшаяся нелестной репутацией.

Эмилия Верзилина
Лермонтов начал ухаживать за Эмилией, и она вначале была благосклонна к поэту, но вскоре переменила фронт и обратила своё внимание на однополчанина поэта красавца Николая Мартынова, недалёкого и самовлюблённого «Мартышку».

То, что Эмилия отдала предпочтение именно ему - не могло не задеть поэта. Обладая насмешливым умом и желчным характером, он посвящал ей эпиграммы:
Зачем, о счастии мечтая,
Ее зовем мы: гурия?
Она, как дева, - дева рая,
Как женщина же — фурия.
Или же:
За девицей Эмили
молодёжь как кобели...
Доведённая этими эпиграммами до бешенства, Эмилия как-то призналась, что если бы была мужчиной, то не вызвала бы его на дуэль, а убила бы из-за угла. Где-то её можно было понять. Это сейчас для нас Лермонтов — слава и гордость России, и мы ему всё прощаем. Тогда же действовали законы не литературы, а жизни. Лермонтова многие не любили за злой язык и язвительный характер. Он больно обижал многих своих друзей и знакомых, чего же говорить о соперниках и врагах.
Гибель поэта оставила Эмилию равнодушной. Она ничего не сделала, чтобы предотвратить дуэль, хотя знала о ней. На следующий же день после похорон она плясала на вечере в Пятигорске , устроенном князем Владимиром Голициным.

Не стоило, может быть, упоминать об этой даме, если бы не одна поразительная деталь, открывшаяся вскоре после смерти Лермонтова. Эта Эмилия оказалась той самой девочкой, в которую был влюблён десятилетний Лермонтов, его первая любовь, встреченная им на Кавказе.

Когда в 1859 году была опубликована юношеская записка поэта, где говорилось о его детской влюблённости, Эмилия Александровна её прочла и узнала в этой девочке себя.

Позже её дочь оставила в своих воспоминаниях рассказ об этом, составленный со слов её матери: «Эта девочка была моя мать, она помнила, как бабушка ходила в дом Хастатова в гости к Столыпиным и водила её играть с девочками, а мальчик брюнет вбегал в комнату, конфузился и опять убегал, и девочки называли его «Мишель».

Скорее всего, встретившись с Эмилией в 1841 году, Лермонтов её не узнал. Прошло много лет, и трудно было предположить, что нынешняя «Роза Кавказа» и девятилетняя девочка из детских грёз — одно и то же лицо. Вот так мистически сошлись в одном лице первая любовь поэта и последняя его любовь, послужившая косвенной причиной его гибели.
Когда-то меня так потрясла эта история, что я даже стихи написала:
«Кто мне поверит, что я знал любовь,
имея десяти лишь лет от роду?
Подкашивались ноги, стыла кровь...
Мы отдыхали на Кавказских водах.
Забыть не в силах девочки одной
лет девяти... Не помню, хороша ли,
но образ тот навеки был со мной,
куда б пути земные ни лежали...»
Так вспоминал поэт свою любовь.
Пройдут года, и след её растает.
И встретит эту девочку он вновь
через 17 лет... Но не узнает.
Эмилия Верзилина. Звезда
Кавказа. Бело-розовая кукла.
Изящна, образованна, горда,
стройна, и белокура, и округла...
Мишель влюблён. Прогулки тет-а-тет.
Но вот она не кажет глаз, остынув.
Вниманием красавицы согрет
усатый обаятельный Мартынов.
И началось! Обстрелы эпиграмм,
сарказмов яд, всё злее и жесточе...
Но лишь скалистым ведомо горам,
как он страдал, душою кровоточа.
Она тебя не стоила, Мишель!
В тот самый день, когда тебя зарыли,
Эмилия – подумаешь, дуэль! –
отплясывала весело кадрили.
Прошло ещё семнадцать. И тогда
была опубликована записка
поэта, где Кавказская Звезда
себя узнала в восьмилетней киске.
Какой судьба придумала курьёз!
И романист так вряд ли подытожит:
та девочка из юношеских грёз
и дама-вамп – лицо одно и то же.
Два чувства только было, два – в одном,
всё, что меж ними – тень былого пыла.
Одно поэта пробудило в нём,
другое человека в нём убило.
След Лермонтова в русской культуре
В отличие от Пушкина, который принимал, не примиряя, любые противоречия, Лермонтов мучился, метался и бунтовал, не в силах покориться судьбе и не зная, что делать с жизнью.
Парадокс, но русская литература пошла именно лермонтовским путём, путём поиска гармонии в дисгармонии. Смысла в хаосе. Духовности в душевной болезни.
Лермонтовские следы с лёгкостью обнаруживаются у Некрасова, Блока, Мандельштама и Гумилёва.
Достоевский все годы с напряжённым вниманием относился к личности Лермонтова, и след этого интереса остался во многих его произведениях.

Ф. Достоевский. Худ. К. А. Васильев.

иллюстрация к "Бесам" Достоевского
Но настоящее художественное исследование причин ссоры поэта с Мартыновым мы найдём в романе «Бесы» в главе «Поединок». Финал поединка Ставрогина с Гагановым, конечно, отличается от трагического конца лермонтовской дуэли, но нравственный поединок изображён совершенно точно.

А. И. Васильчиков утверждал, что Мартынов был сражён презрением Лермонтова. В «Поединке» мы находим почти буквальное повторение этих слов Ставрогиным секунданту: «Я не хотел обидеть этого дурака, а обидел опять».

Ставрогин
«Никогда не забуду того спокойного, почти весёлого выражения, которое играло на лице его пред дулом пистолета, уже направленного на него, - рассказывал Васильчиков о последних минутах Лермонтова. - Никто не смотрел в глаза смерти так прямо, потому что никто не чувствовал так ясно, что смерти нет". «Кто близ небес, тот не сражён земным».

Это был безумный вызов высшим силам. Бравый Мартынов или попросту Мартышка (это в самом деле Мартышка, обезьяна Лермонтова) — то же для него, что Грушницкий для Печорина, Смердяков для Ивана Карамазова) оказался орудием небесной кары за бесовскую гордыню Лермонтова. И небесное знамение словно подтвердило это... «В страшную грозу при блеске молнии и раскатах грома перешла эта бурная душа в иную область бытия» (В. Соловьёв).


Для нас Лермонтов — великий поэт, и нам, естественно, хочется видеть его уравновешенным, наделённым всеми положительными качествами, тогда как в реальности он был насмешником, злым на язык, ядовитым, о его дурном характере ходили легенды.
Гению всё прощают поздние века. Величие затмевает для потомков мораль, как это ни странно. Лермонтов — национальный гений, вечная слава России, и когда мы думаем, что он возвышает нашу нацию, нам дела нет до того, какой у него был характер. Но тем не менее именно он сыграл тут свою роковую роль. Посеешь характер — пожнёшь судьбу, как гласит народная пословица.
Николай Бурляев возмущался постановкой спектакля Юрия Еремина о Лермонтове «Из пламени и света рождённое слово», говорил, что он ушёл после него расстроенный: «Помню, когда Мартынов убил омерзительно похотливого Лермонтова, то зал облегчённо вздохнул и потом букеты цветов дарили ему, а не Лермонтову». Это, конечно, другая крайность, когда в погоне за правдой была перейдена грань.
Но и лубочный фильм Н. Бурляева «Лермонтов» рисует нам совершенно нереальный, конфетный образ поэта.

Так же как и Мартынов не был злодеем, каким он предстаёт в фильме Бурляева. Согласно патриотической версии лермонтовской судьбы, луну русской поэзии погубили евреи, и Мартынов — один из них, в чём уличает его Бурляев: ведь как-никак отчество его Соломонович, - в этом-то оказывается всё и дело!

Ещё одна несостоявшаяся версия — якобы Мартынов мстил за честь своей сестры, то ли обманутой Лермонтовым, то ли изображённой в его романе в образе княжны Мэри. Впервые эта версия появляется в воспоминаниях Н.П. Раевского, опубликованная в «Ниве» в 1885 году, и дети Мартынова ухватились за неё, так как она оправдывала их отца. Спустя некоторое время были опубликованы письма членов семьи Мартынова, на которых были изменены даты написания. Эта уловка сделала своё дело — понадобилось почти 80 лет, чтобы восстановить истину. Э. Герштейн в своей книге «Судьба Лермонтова» подробно рассмотрела взаимоотношения поэта с семейством Мартыновых, но не обнаружила никаких свидетельств об увлечении поэта сёстрами Мартынова.
Эпилог
Трудно было примириться с чудовищной несправедливостью гибели юного гениального поэта. Белла Ахмадулина замечательно выразила это всеобщее подспудное желание переиграть ситуацию:
И снова, как огни мартенов,
огни грозы над темнотой.
Так кто же победил — Мартынов
иль Лермонтов в дуэли той?
...Чем я утешу поражённых
ничтожным превосходством зла?
Прославленных и побеждённых
поэтов, погибавших зря?
Что расскажу я им о битвах
ума с безумьем роковым,
о малых и больших обидах,
о женщинах, неверных им?
Я так скажу: на самом деле,
давным-давно, который год,
забыли мы и проглядели,
а всё идёт наоборот.
Мартынов пал под той горою,
Он был наказан тяжело,
И воронье ночной порою
Его терзало и несло.
А Лермонтов зато – сначала
Все начинал и гнал коня,
И женщина ему кричала:
«Люби меня, люби меня!»

Похоронен поэт был сначала в нескольких саженях от места дуэли, у подножия горы Машук, куда не раз когда-то взбирался мальчиком.

место дуэли М. Лермонтова

памятник Лермонтову на месте дуэли
Но через год бабушка выхлопотала разрешение перевезти прах Лермонтова на родину. И в 1842 году он был перезахоронен в Тарханах, в фамильном склепе Арсеньевых рядом с прахом матери.

Бабушке Елизавете Арсеньевой долго не решались сообщить о смерти внука. Узнав об этом, она перенесла апоплексический удар. Веки её глаз, ослабевшие от слёз, падали, и, чтобы глядеть на опостылевший ей мир, старушке приходилось поддерживать их пальцами. Всё, что она бережно хранила - все вещи, сочинения внука, тетради, рисунки, одежду — всё раздала, не в силах видеть то, до чего касался поэт. Слишком велика была боль. Поэтому с таким трудом приходилось собирать рассеянный всюду материал для его биографии. Осталось очень немного вещей: шкатулка, портсигар, курительная трубка, личная печатка, рисунки и книги. Их можно увидеть в музее Лермонтова в Тарханах.


личные вещи Лермонтова

музей-заповедник «Тарханы»
А Елизавету Алексеевну потом разбил паралич и через три года после смерти Лермонтова она скончалась. Фамилия Лермонтовых со смертью поэта прекратилась, так как он был единственным сыном у родителей. Если Пушкин погиб, всеми признанный, оплаканный народом, то участь Лермонтова в этом смысле была более несчастливой: его признавали не все, поняли немногие и почти никто не любил его.
Бабушка поэта — Елизавета Арсеньева, урождённая Столыпина, пензенская помещица, была самым и единственно близким человеком поэту.

Она одна дала Лермонтову всю любовь, которой не дал ему отец, уже не могла дать мать, ещё не могли дать грядущие поколения, в которой отказывали ему множество знакомых и современников. Но неисчислимая любовь к нему всех будущих читателей, всех тех, кто есть и будет потом — не больше той, одной, бабушкиной. И мы всегда будем видеть его таким, каким она его видела — осенённым божественным даром, хрупким, беззащитным перед обидой и гибелью и — несказанно красивым.
Худ. П.Е. Заболотский. 1837 г. Выполнен по заказу Е. Арсеньевой. Среди прижизненных портрет считается одним из лучших.
Мятежный дух поэта долго искал бури, долго бродил в чужих краях, но потом всё же нашёл свою родину, то есть понял и принял жизнь в её земной сущности. «Я ищу свободы и покоя». Он искал их и обрёл в конце пути. «Смиряется в душе моей тревога», - писал он. «И в небесах я вижу Бога». Бога, а не Демона. Демонизм и сверхчеловечество не исчерпывают всей его поэзии и даже не составляют её сути. Мудростью сердца он постиг религиозный смысл жизни, он вернулся в страну белеющих берёз и жёлтой нивы. И обязательно пришёл бы в своём творчестве к прекрасной пушкинской простоте и гармонии, уже был на пути к ним. Но пуля оборвала этот путь.


И мне хочется закончить своими стихами о нём:
Потомок старинного рода,
не Байрон, о нет, ты иной,
ты — произведенье природы,
как ливень в полуденный зной,
как синие горы Кавказа,
желтеющей нивы волна,
как молнии огненноглазой
стремительные письмена.
Пылающий протуберанец
с развёрстой, как рана, душой,
на этой земле — чужестранец,
загробному раю — чужой.
Ценою томительной муки,
всему, что вокруг, вопреки,
обрёл ты волшебные звуки,
мятежное пламя строки.
Единственно и отрешённо
в твоём одиноком пиру.
Там воздух небес разрежённый...
Но гибель красна на миру.
И хочется острову тайно —
волнам набегающим в плен,
склонить свои гордые пальмы
у чьих-то родимых колен,
и парус тоскует, как нищий,
по встреченной в море ладье.
Как жадно созвучья он ищет
в пустынном своём бытие!
И — отзвуки, отклики, клики
на всю поднебесную высь:
спасайся, мой мальчик великий!
Пока ещё можно спастись!..
Уехать в Тарханы, в Тарханы,
где тихо в саду поутру,
где стелятся в поле туманы,
и листья шумят на ветру,
где муза ночами порхает,
и нету всевидящих глаз.
В Тарханах тревога стихает.
Ну что тебе этот Кавказ?!.
Два белых крылатых оленя
из царства бессмертного льда
туманною лунной аллеей
умчали тебя в никуда.
Но след твой остался на свете,
как снежных вершин торжество.
И плачут утёсы столетий,
лелея в морщинах его.

памятник М.Ю.Лермонтову в Лермонтовском сквере. Скульптор И. Я. Гинцбург. Фото 1892 г.

памятник М. Лермонтову в Москве

памятник М. Ю. Лермонтову в музее-заповеднике "Тарханы"

памятник 1000-летию России в Нижнем Новгороде. Пушкин, Лермонтов, Гоголь. 1862 г.
Литература:
1. П. А. Висковатый. Лермонтов. Жизнь и творчество. М., изд. В.О. Рихтера, 1891.
2. В. Афанасьев. Лермонтов. ЖЗЛ., Молодая Гвардия, 1991.
3. М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М., Худ. лит-ра, 1989.
4. Д. Мережковский. «Лермонтов — поэт сверхчеловечества», ж. «Наше наследие», №5, 1989
5. И. Андронников. «Лермонтов. Исследования и находки», М., Худ. лит-ра, 1967.
6. Ю. Айхенвальд. Лермонтов. Силуэты русских писателей. М., Республика, 1994.
7. Э. Герштейн. Судьба Лермонтова. М., Худ. Лит-ра, 1986.
8. Б. Эйхенбаум. О поэзии. Сов. писатель, Ленинград. Отд. 1969.
9. Е. Гусляров. О. Карухин. Лермонтов в жизни. Изд. Янтарный сказ. Калиниград, 1998.
10. К. Паустовский. Поручик Лермонтов. Том 6, М., Худ. Лит-ра, 1958.
11. В. А. Захаров. Загадка последней дуэли. М., Рус. Панорама, 2000.
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/229360.html
|
|
Процитировано 2 раз
Понравилось: 1 пользователю
История его души. Часть третья. |
Часть первая
Часть вторая

Высочайший юноша вселенной
Однако самая большая любовь Лермонтова была не к женщине и даже не к родине — самой большой мечтой и любовью его был Кавказ.

окрестности Железноводска. Рис. Лермонтова
Он посвятил ему массу стихов, картин, рисунков.

Тебе, Кавказ, суровый царь земли,
Я снова посвящаю стих небрежный.
Как сына, ты его благослови
И осени вершиной белоснежной.
От юных лет к тебе мечты мои
Прикованы судьбою неизбежной,
На севере, в стране тебе чужой, —
Я сердцем твой, всегда и всюду твой.
Кавказ с детства открыл ему свои величественные объятья, и они заменили ему ласки рано умершей матери, а позднее — любовь родной души, дружбу близких и далёкую родину.

Хотя я судьбой на заре моих дней,
О южные горы, отторгнут от вас,
Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз.
Как сладкую песню отчизны моей,
Люблю я Кавказ.
Горы вытеснили из его души и Москву, и Тарханы, и Кропотово. Ему казалось, что он вырос там, что именно они — горы — были его домом.

Я видел горные хребты,
Причудливые, как мечты,
Когда в час утренней зари
Курилися, как алтари,
Их выси в небе голубом,
И облачко за облачком,
Покинув тайный свой ночлег,
К востоку направляло бег-
Как будто белый караван
Залетных птиц из дальних стран!
Вдали я видел сквозь туман,
В снегах, горящих как алмаз,
Седой, незыблемый Кавказ…
Лермонтов пишет поэму «Исмаил-Бей», в основу которой были положены реальные исторические события, происходившие на Кавказе в начале 19 века.

Прекрасен ты, суровый край свободы,
и вы, престолы вечные природы,
когда, как дым, синея, облака
под вечер к вам летят издалека...

картина Лермонтова «Тифлис»
Кавказ не знает простого, мирного житья. Всё там — гроза и буря — война, месть, любовь, природа.
Как я любил, Кавказ мой величавый,
Твоих сынов воинственные нравы,
Твоих небес прозрачную лазурь
И чудный вой мгновенных, громких бурь...

картина Лермонтова «Перестрелка в горах Дагестана»
Кавказ был родной страной его мятежному духу, он был ему к лицу. Да и весь мир для Лермонтова — какой-то моральный Кавказ, где нет будничной безопасности, тишины и покоя.
И дики тех ущелий племена,
Им бог — свобода, их закон — война,
Они растут среди разбоев тайных,
Жестоких дел и дел необычайных;
Там в колыбели песни матерей
Пугают русским именем детей;
Там поразить врага не преступленье;
Верна там дружба, но вернее мщенье;
Там за добро — добро, и кровь — за кровь,
И ненависть безмерна, как любовь.

рис. Лермонтова

портрет Лермонтова работы однополчанина Д.П. Палена (1840)
Портрет был сделан в июле 1840 года с натуры однополчанином Лермонтова, бароном Д.П. Паленом, после валерикского боя, в палатке барона Л.В. Россильона. Это – профильное изображение, выполненное карандашом на бумаге: у поэта усталый вид, он небрит, в глазах грусть; фуражка помята, ворот сюртука расстегнут, без эполет. Это – единственный профильный портрет Лермонтова и, возможно, наиболее схожий с оригиналом из всех прижизненных изображений. Портрет хранится в Институте русской литературы.
Кавказ был колыбелью поэзии Лермонтова так же, как он был колыбелью поэзии Пушкина, и никто после Пушкина так поэтически не отблагодарил Кавказ за дивные впечатления. Юный поэт сполна заплатил дань волшебной стране, поразившей его душу. Замечательно об этом сказала Белла Ахмадулина в своём стихотворении «Тоска по Лермонтову»:
Они всё там же, там, где я была,
где высочайший юноша вселенной
меж туч и солнца, меж добра и зла
стоял вверху горы уединенной.
О, там, под покровительством горы,
как в медленном недоуменье танца,
течения Арагвы и Куры
ни встретиться не могут, ни расстаться.
Внизу так чист, так мрачен Мцхетский храм.
Души его воинственна молитва.
В ней гром мечей, и лошадиный храп,
и вечная за эту землю битва.
Где он стоял? Вот здесь, где монастырь
ещё живёт всей свежестью размаха,
где малый камень с лёгкостью вместил
великую тоску того монаха.
Что, мальчик мой, великий человек?
Что сделал ты, чтобы воскреснуть болью
в моём мозгу и чернотой меж век,
всё плачущей над маленьким тобою?
И в этой, богом замкнутой судьбе,
в своей нижайшей муке превосходства,
хотя б сверчок любимому, тебе,
сверчок играл средь твоего сиротства?
Стой на горе! Не уходи туда,
где — только-то! — через четыре года
сомкнётся над тобою навсегда
пустая, совершенная свобода!

Эти четыре года, между 1837-м и 1841-м — срок, за который юноша, проживший 22 года, должен был во что бы то ни стало прожить большую часть своей жизни — до её предела, до высочайшего совершенства личности. И этот духовный взлёт, точка отсчёта будущей славы юного гения началась в тот день, когда им было написано «На смерть поэта».
Заступник
Пушкина оплакали многие, но заступился за него всей жизнью один Лермонтов.

«На смерть поэта» было написано сразу после того, как он узнал о смерти Пушкина 29 января 1837 года (без заключительных 16 строк, которые были дописаны чуть позже).

Оно разошлось по Петербургу во множестве списков.
черновик стихотворения "На смерть поэта"
Вскоре Лермонтову стало известно, что высшее общество столицы защищает Дантеса и клевещет на Пушкина, а власть утверждает, что Дантес и Геккерн «не подлежат ни законам, ни суду русскому». Как бы в ответ на это поэт напишет заключительные 16 строк стихотворения, в которых были названы главные виновники гибели Пушкина — придворная знать.
А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда - всё молчи!..
Но есть и божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли, и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!
Эти стихи быстро разошлись по городу и произвели впечатление разорвавшейся бомбы. Сила воздействия их была необычайна. Люди, слушавшие и читавшие их, приходили в негодование, пылали, готовы были, казалось, на что угодно, так подымала сила лермонтовских стихов, так заразителен был жар, пламеневший в них. Это воспринималось как призыв, как революционная прокламация. А последние 16 строк представляли собой прямое политическое выступление против Николаевского правительства.

Император Николай I и его подданные
Николай I получил по почте копию заключительных стихов с надписью: «Воззвание к революции». Это был, конечно, вздор, Лермонтов был далёк от революции. Но недаром сравнивал его Достоевский с декабристом Луниным: при других обстоятельствах Лермонтов мог кончить так же, как Лунин.
И даже сейчас, по прошествии столького времени, сила воздействия этих стихов не стала меньше. Бенедикт Сарнов рассказал по этому поводу одну смешную историю.

Бенедикт Сарнов
Как-то в застойные годы на сборище советских писателей некто Злобин попросил слова и обратился к президиуму со словами: «Вы, жадною толпой стоящие у трона, Свободы, Гения и Славы палачи!» Лица секретарей и партийных функционеров вытянулись, перекосились, побагровели. А голос Степана Павловича гремел: «Таитесь вы под сению закона, пред вами суд и правда - всё молчи!»

писатель С. П. Злобин
Сидящие в президиуме ёжились, краснели, бледнели. Но что они могли сделать? Нельзя же было запретить оратору читать вслух стихи Лермонтова. Так что пришлось им — в кои веки! - услышать всю правду о себе, высказанную публично, при большом стечении народа и в самых неприятных выражениях.
Списки стихотворения поступили тогда и в 3 отделение к Бенкендорфу. Оно было охарактеризовано им как «бесстыдное вольнодумство, более, чем преступное». Царь приказал провести медицинское освидетельствование поэта, чтобы «удостовериться, не помешан ли он». "Надменные потомки известной подлостью прославленных отцов" не могли простить безвестному нетитулованному гусарскому офицеру вмешательства в их генеалогические распри. Лермонтов был арестован.
Последние стихи перед отъездом
25 февраля 1837 года последовал приказ Николая I-го о переводе поэта на Кавказ в действующую армию. Перед отъездом он пишет стихотворение «Не смейся над моей пророческой тоскою...», в которой прорицает свой скорый конец.

Я говорил тебе: ни счастия, ни славы
Мне в мире не найти; — настанет час кровавый,
И я паду; и хитрая вражда
С улыбкой очернит мой недоцветший гений;
И я погибну без следа
Моих надежд, моих мучений.
К тому же времени относится и его «Прощай, немытая Россия»:
Быть может, за стеной Кавказа
Укроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.

картина Лермонтова "Воспоминания о Кавказе". 1838.
Последним его стихом, написанным в Петербурге перед отъездом на Кавказ, были «Тучки»:

Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники
С милого севера в сторону южную...
Когда Лермонтов читал его друзьям, в его глазах стояли слёзы.
Любимый идеал
В 1839 году, странствуя вместе с поэтом А. Одоевским по старой Военно-Грузинской дороге, где он изучал местные сказания, Лермонтов встретил в Мцхете старого одинокого монаха, который рассказал ему свою историю, поразившую поэта.

Военно-Грузинская дорога близ Мцхеты
Эта история легла в основу его новой поэмы «Мцыри» (в переводе с грузинского это слово означает «послушник» и второй смысл слова - «одинокий чужеземец»). Вся поэма — предсмертная исповедь молодого монаха - это страстный вопль души, измученной тоской по родине и свободе.

автограф «Мцыри»
Я знал одной лишь думы власть,
Одну - но пламенную страсть:
Она, как червь, во мне жила,
Изгрызла душу и сожгла.
Она мечты мои звала
От келий душных и молитв
В тот чудный мир тревог и битв,
Где в тучах прячутся скалы,
Где люди вольны, как орлы.
Я эту страсть во тьме ночной
Вскормил слезами и тоской...

исповедь Мцыри. Рис. Л. Пастернака
«Мцыри» - это любимый идеал Лермонтова, как пишет Белинский, это отражение его собственной личности, его неукротимого мятущегося духа, жажды свободы. Как и для Мцыри, жизнь для поэта важна не в её протяжённости, а в своей наполненности, напряжённости момента, и, так же, как Мцыри две тихие жизни променял бы на одну, но только «полную тревог», так же, как Демон готов был отдать Тамаре вечность за миг любви, так и Лермонтов готов был отдать целые века за искромётный миг единственного ощущения, «той дружбы краткой, но живой меж бурным сердцем и грозой». Ему дорого это состояние тревоги и волнения, он знает, что такое избыток сил и крови, эти грозы и молнии души, эта напряжённая страстность минуты. Он знает всему этому цену.

Странная любовь
Лермонтов по рождению не принадлежал к высшему кругу, и двери аристократических салонов были для него закрыты. Про него, как и про Пушкина, говорили, что он сел не в свои сани, и видели в нём дерзкого выскочку, который, несмотря на небольшой чин и опальное положение, тщится играть неподобающую ему роль. Его ненавидели за резкость и остроту языка, за самобытность и самостоятельность суждений, за его антимолчалинские свойства, за возрастающую известность и репутацию таланта, выходившего за пределы обыденности. И Лермонтов отвечал им такой же ненавистью и презрением:
О, как мне хочется смутить весёлость их
и дерзко бросить им в глаза железный стих,
облитый горечью и злостью!

МАСКАРАД В ЗИМНЕМ ДВОРЦЕ
Картина маслом Б. Виллевальде
Свет для него преисполнен фальши, искусственности, поддельности. Всё истинно живое гибнет в нём. За этими стенами с золочёными обоями, за зеркальными окнами, за громом мазурок — ничего нет. Ни одной живой души. Здесь жизнь без неба. А душа спит или умирает, отравленная скукой: "И скучно, и грустно, и некому руку подать в минуту душевной невзгоды..."

Критика не была единодушна в признании таланта Лермонтова. Многие считали, что слишком своевольно плывёт он против течения и ведёт себя как враждебно настроенный иностранец в своём отечестве, которому всем обязан. В ответ на эти упрёки в антипатриотизме Лермонтов пишет стихотворение «Родина» - классический пример истинного, а не квасного патриотизма, подлинной любви к своей отчизне, которая неотделима от боли за неё. Безнадёжность, безысходность здесь растворены в стихии безотчётной — странной — любви. Сердце любит то, в чём рассудок не находит отрады.

Но я люблю — за что, не знаю сам —
Ее степей холодное молчанье,
Ее лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек ее подобные морям...
Холодное, бедное, грустное, но — родное, своё...

А в 1838 Лермонтов пишет ещё одно истинно патриотическое стихотворение «Дума», в котором высказывает свои мысли и чувства по поводу современного ему поколения.

Печально я гляжу на наше поколенье.
Его грядущее иль пусто, иль темно...
Позже из этого стихотворения вырос роман «Герой нашего времени».

«Я холоден и горд...»
Лермонтов многим казался холодным, желчным, даже злым, чуть ли не ненавистником человеческого рода. О его горделивом и презрительном отношении к людям говорили и писали многие, да он и сам писал об этом:
Никто не дорожит мной на земле,
И сам себе я в тягость, как другим;
Тоска блуждает на моем челе,
Я холоден и горд; и даже злым
Толпе кажуся; но ужель она
Проникнуть дерзко в сердце мне должна?
Зачем ей знать, что в нем заключено?
Огонь иль сумрак там — ей всё равно.

Презрительная гордость была действительно одной из основных черт Лермонтова, которой он наделял и своих героев: Демона, Арбенина, Печорина. Но это была не просто черта характера, а исторически выработанный принцип, высказанный ещё Пушкиным, по натуре не склонным к мизантропии: «Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей».
Это трезво-проницательный взгляд на вещи. Особенно ярко это сказалось в образе Печорина, которого Белинский полностью отождествлял с Лермонтовым. «Печорин — это он сам как он есть», - писал он Боткину.

Печорин — умный, образованный, талантливый и глубоко мыслящий человек, способный на многое хорошее, но... он равнодушен к своей и чужой жизни, не прощает людям несовершенств и слабостей, ни к кому не испытывает настоящей привязанности. И, хотя Лермонтов говорит в предисловии, что написал портрет, составленный из пороков своего поколения, прежде всего он воплотил в нём самого себя, с тем, чтобы, выплеснув свою душу, свою суть, освободиться и исцелиться от своих пороков, комплексов, поз, личин, масок...
Нет сомнения, что он страдал от своей жестокости, от гнетущего состояния скуки, от недостойной игры с женскими сердцами. Вместо всего этого он хотел для себя той «дивной простоты», которой искала вся его поэзия. И Лермонтов нашёл такой идеал, такую простодушную душу — Максим Максимыч. В простой скромной оболочке поэту открылось добро, сердечность и нравственная чистота.

Максим Максимыч
Большая заслуга поэта в том — эстетическая и этическая — что он на Кавказе увидел и полюбил эту будничную фигуру. Вообще между противоположными категориями Печорина и Максима Максимыча всю свою жизнь выбирала муза Лермонтова. Поза и простота, гордыня и смирение, влияние мрачно-мятежного Байрона и светлого ясного Пушкина — всё это воплощено в Печорине и его бедном обиженном приятеле.
Лермонтов всю жизнь искал себя на пути между отрицанием и утверждением человека. «Какая нежная душа в нём!» - воскликнул Белинский под впечатлением от первой встречи с Лермонтовым. А Тургенев писал другое: «Недоброй силой веяло от него».
Самое тяжёлое, роковое в судьбе Лермонтова — это бесконечное раздвоение, смешение добра и зла, света и тьмы.

«Верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные», - говорит Печорин, он же Лермонтов. Но это — необъятная сила в пустоте, сила метеора, неудержимо летящего, чтобы разбиться о землю.
Не говори: я трус, глупец!
О, если так меня терзало
сей жизни мрачное начало,
какой же должен быть конец?!

последний прижизненный портрет Лермонтова в сюртуке офицера Тенгинского пехотного полка. Худ. К. А. Горбунов. 1841.
Дуэль с Барантом
Роковой дуэли Лермонтова с Мартыновым предшествовала ещё одна, закончившаяся, по счастью, благополучно. Косвенной виновницей её была Мария Щербатова — 19-летняя вдова, женщина красивая, образованная, искренне любившая поэта и не скрывавшая своей любви, хотя он и старался всячески оберечь её имя от пересудов. Трогательное впечатление производит ее неизменное чувство, отмеченное в одной строке дневниковой записи И. Тургенева: «Сквозь слезы смеется. Любит Лермонтова».
Вблизи этой женщины Лермонтов провёл последний год своей жизни.

Он посвятил ей несколько стихотворений, в частности, «На светские цепи, на блеск утомительный бала цветущие степи Украйны она променяла...», «Мне грустно, потому что весело тебе». ( На картине Ильи Репина «Портрет баронессы Икскуль фон Гильденбандт» запечатлена ее дочь).

И. Репин. Портрет баронессы В. И. Икскуль фон Гильденбандт. 1889.
За Щербатовой волочился сын французского посла Барант — спесивый молодой человек, которого поэт невзлюбил, отождествив с Дантесом, и окрестил «салонным Хлестаковым». Баранта приводило в ярость, что женщина оказывала явное предпочтение поэту. Лермонтов часто ловил на себе его насмешливо-презрительный взгляд. Потом тому донесли слова поэта, сказанные в его адрес: «Je déteste ces chercheurs d’aventures*, эти Дантесы и де-Баранты заносчивые сукины дети».
Барант вызвал поэта на поединок. Дуэль проходила на шпагах. После первого же выпада у шпаги Лермонтова переломился конец, и Барант успел слегка задеть противника. Перешли на пистолеты: Барант стрелял первым и промахнулся. После этого Лермонтов выстрелил в сторону. Дуэль окончилась ничьей. В тот же день Лермонтов был арестован и предан военному суду за «недонесение о дуэли».

ЗДАНИЕ ОРДОНАНС-ГАУЗАВ ПЕТЕРБУРГЕ, ГДЕ НАХОДИЛСЯ ЛЕРМОНТОВ ПОД АРЕСТОМ
ВО ВРЕМЯ СЛЕДСТВИЯ ПО ДЕЛУ О ДУЭЛИ С БАРАНТОМ
Акварель Ф. Баганца, 1853 г.
Николай I воспользовался случаем, чтобы расправиться с поэтом окончательно. Он терпеть не мог его творчество, возмущался его «безнравственным романом». В лирике Лермонтова, печатавшейся тогда в «Отечественных записках», царь чувствовал враждебную и неподчинявшуюся ему силу.

ОБЛОЖКА ДЕЛА О ДУЭЛИ
ЛЕРМОНТОВА С БАРАНТОМ
Бенкендорфу не нравились и литературные замыслы поэта, и его намерение основать журнал. Он не хотел иметь в столице этого беспокойного молодого человека, становившегося любимцем публики. Его влияние на умы становилось опасным. Вдогонку за Лермонтовым на Кавказ он посылает предписание, в котором поручика Лермонтова запрещалось прикомандировывать к каким-либо отрядам, участвовавшим в экспедициях против горцев, то есть таким образом ему отрезался путь к выслуге. А ведь поэт так надеялся выслужить себе на Кавказе отставку, чтобы заняться только литературным трудом. Этот путь ему был заказан. Он понимал безвыходность своего положения - «пленного рыцаря», пойманного самодержавным тираном, лишённого надежды на возвращение. Впереди не было ничего, кроме гибели — от черкесской пули или от другой.
Скорбное предчувствие
С этого времени Лермонтовым овладевает мрачное состояние духа, безысходности, тревожного предчувствия мысли о близкой смерти. Всё явственнее виделся ему уход из жизни. Он всё время думал и говорил об этом.
Е. П. Растопчина вспоминает: «Лермонтову очень не хотелось ехать, у него были всякого рода дурные предчувствия. Во время прощального ужина он только и говорил об ожидавшей его скорой смерти».
В это время он пишет «В полдневный жар в долине Дагестана...»
СОН
В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я;
Глубокая еще дымилась рана,
По капле кровь точилася моя.
Лежал один я на песке долины;
Уступы скал теснилися кругом,
И солнце жгло их желтые вершины
И жгло меня — но спал я мертвым сном.
И снился мне сияющий огнями
Вечерний пир в родимой стороне.
Меж юных жен, увенчанных цветами,
Шел разговор веселый обо мне.
Но в разговор веселый не вступая,
Сидела там задумчиво одна,
И в грустный сон душа ее младая
Бог знает чем была погружена;
И снилась ей долина Дагестана;
Знакомый труп лежал в долине той;
В его груди дымясь чернела рана,
И кровь лилась хладеющей струёй.

В Пятигорске Лермонтов полюбил одинокие ночные прогулки.

Изредка к нему кто-нибудь присоединялся из приятелей. Но Лермонтов был молчалив и не рад непрошеному собеседнику. В одну из таких прогулок он сказал солдату Павлу Гвоздеву, которого давно знал: «Чувствую, что мне очень мало осталось жить». Часто у него в комнате до рассвета горела свеча. О чём он думал в эти ночи? Бог весть, но вот одна из его дум тех дней:

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.
В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сияньи голубом...
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чём?
Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!
Но не тем холодным сном могилы...
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб дыша вздымалась тихо грудь;
Чтоб всю ночь, весь день, мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Тёмный дуб склонялся и шумел.

Всё явственнее виделся ему уход из жизни. Не страх, а холод смерти сжимал его душу, и даже шутках вдруг проглядывало что-то зловещее. Его присутствие стало смущать и тревожить людей. Взгляд Лермонтова стал настолько тяжёл, что никто не смел смотреть ему в глаза, словно сквозь них, изнутри, смотрел не он, а кто-то всевластный и страшный для людей.

В это время была написана его саркастическая «Благодарность», стихотворение, в котором запечатлелась минута подлинного отчаяния. Это «благодарность» Богу, скорее похожая на дерзкий вызов:
За все, за все тебя благодарю я:
За тайные мучения страстей,
За горечь слез, отраву поцелуя,
За месть врагов и клевету друзей;
За жар души, растраченный в пустыне,
За все, чем я обманут в жизни был...
Устрой лишь так, чтобы тебя отныне
Недолго я еще благодарил.
"Нет, не тебя так пылко я люблю"
Любовь, опустошившая его душу, вдруг проступит для него в чертах кузины Екатерины Быховец, в которой он увидел свою Вареньку, казалось, для него давно умершую. Он как будто никогда и не вспоминал о ней, но, оказалось, она всегда жила в нём.

И когда Лермонтов встретил в Пятигорске Екатерину Быховец, он вдруг в ней увидел словно тень своей Вареньки, хотя, в сущности, у юной «креолки», как называли Екатерину, не было никакого внешнего сходства с блондинкой Лопухиной. Но какой-то отблеск, отзвук прежнего чувства он ощутил, глядя на её личико.

Екатерина Быховец чувствовала что-то необычное в его отношении к ней, думая, что он влюблён в неё, но поэт, не желая портить добрых и чисто родственных отношений, был с ней откровенен:
Нет, не тебя так пылко я люблю,
Не для меня красы твоей блистанье:
Люблю в тебе я прошлое страданье
И молодость погибшую мою.
Когда порой я на тебя смотрю,
В твои глаза вникая долгим взором:
Таинственным я занят разговором,
Но не с тобой я сердцем говорю.
Я говорю с подругой юных дней,
В твоих чертах ищу черты другие,
В устах живых уста давно немые,
В глазах огонь угаснувших очей.

Они встретились в день его дуэли, последней дуэли в его жизни. Эта девушка прожила с Лермонтовым последний день его жизни.
Окончание здесь: http://www.liveinternet.ru/users/4514961/post295947968/
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/228849.html
|
|
Процитировано 11 раз
Понравилось: 2 пользователям
История его души. Часть вторая. |
Начало здесь

"Они любили друг друга..."
Долгие годы биографы не знали имени женщины, скрытого под инициалами Н.Ф.И., которой были адресованы многие стихи поэта. Разыскания Ираклия Андронникова открыли это имя. Это была Наталья Фёдоровна Иванова, по мужу Обрескова.

Они познакомились на балу.

Она не скрывала своего удивления, увидев поэта там, где не рассчитывала увидеть.
- Бежите от себя и от своего «Демона»? От своих милых печалей к этому холодному веселью?
- Нет, не бегу. Но Вы здесь, и это мирит меня с толпой.
- Я — совсем другое! Мне нечего терять. Это моё место. А вот Вас может погубить этот вздорный мир.
Ваша печаль рождает прекрасные стихи, - продолжала она. - Не знаю, родит ли что-нибудь веселье.
Она посмотрела ему в глаза своими близорукими голубыми глазами.
- Вы должны мыслить, желать и жить только сердцем.
Она возвращала его к тишине, к одиночеству, но тем самым приближала его к самому себе. Он почувствовал, что она — единственная, кто понимает его, принимает всерьёз, кто не считает его мальчишкой, как другие.

Я, веруя твоим словам,
глубоко в сердце погрузился,
однако же нашёл я там,
что ум мой не по пустякам
к чему-то тайному стремился,
к тому, чему даны в залог
с толпою звёзд ночные своды,
к тому, что обещал нам Бог
и что б уразуметь я мог
через мышления и годы.
Он любил её тайно. Никто, даже кузины Лермонтова, даже Сашенька Верещагина не догадывались. Они не встречались. Ничего реального не происходило в их отношениях. Но он и в разлуке видит её, слышит её голос.
Позже Лермонтов умными разговорами и светскими манерами очаровал мать и отчима Натальи и был приглашён в дом. Его любовь к ней перестала быть тайной. Натали же, уверившись в его любви, испытывала на нём силу своих чар, доставляя ему по своему произволу то радость, то страдание.

Она то кокетничала с ним, то была подчёркнуто холодна. И тогда он не находил в ней уже того, что в ней любил. И уже сам не понимал, почему его любовь так сильна. И ему делалось всё больнее.
Мать Натальи не скрывала, что ищет для неё жениха. Девушка посмеивалась, говоря, что замуж не собирается. Но под разными предлогами отказывала влюблённому поэту, когда он приглашал её танцевать. И танцевала только с военными, предпочтительно с усами и шпорами.

Он их изображал на своих карикатурах.

Лермонтов тогда был всего лишь студентом. В гневе он адресует возлюбленной оскорбительное стихотворение, которое прочитал в кружке молодёжи на маскараде под одобрительный смех и аплодисменты молодых повес.
Дай бог, чтоб вечно вы не знали,
Что значат толки дураков,
И чтоб вам не было печали
От шпор, мундира и усов;
Дай бог, чтоб вас не огорчали
Соперниц ложные красы,
Чтобы у ног вы увидали
Мундир, и шпоры, и усы!
А после маскарада, наедине с собой, он пишет ей совсем другие слова:
Как я хотел себя уверить,
Что не люблю ее, хотел
Неизмеримое измерить,
Любви безбрежной дать предел.
Мгновенное пренебреженье
Ее могущества опять
Мне доказало, что влеченье
Души нельзя нам побеждать...
Раньше он читал в её глазах — ну, если не любовь, то что-то близкое ей — участие, внимание, живой интерес. Ему казалось, она понимала его, чувствовала его стихи. И вдруг всё изменилось. Обида, безысходность сменялись надеждой: а может быть, она притворяется в своей холодности?
Но если ты ко мне любовь хотела скрыть,
казаться хладною и в тишине любить,
но если ты при мне смеялась надо мною,
тогда как внутренне полна была тоскою...
Он пишет драму «Странный человек» - как объяснение того, чего она, может быть, не понимает, как укор в том, что она обманула, предала человека, который только один и любил её по-настоящему.
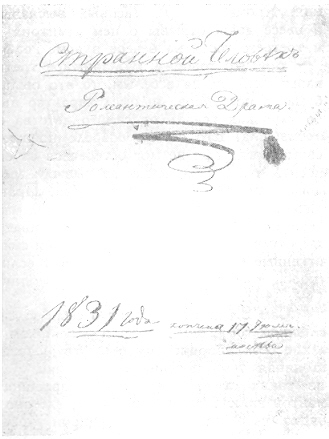
Чтобы показать ей, как убивает странного человека всё то, что он любит: родные, друзья, близкая женщина. Арбенин — не Лермонтов, но Лермонтов дал Арбенину многие свои черты, некоторые поступки, свою любовь к Наталье и — свои стихи. А Наталья изображена здесь под именем Наталья Фёдоровны Загорскиной.
Из драмы Лермонтова «Странный человек»: «Во всей ледяной России нет сердца, которое отвечало бы моему! Всё, что я люблю, убегает меня... Я похож на чумного!»

Этот вопль души Арбенина принадлежит, конечно, самому Лермонтову.
Каждый вторник поэт посещал Благородное собрание. Здесь он иногда встречал Наталью, но эти встречи уже не приносили радости. Всё, что их некогда сближало — исчезло. Она больше не интересовалась его стихами, а давний, почти случайный и единственный их поцелуй стал казаться ему сном. Он отчаянно отталкивал от себя измучивший его образ с ледяными глазами, ненавидел его и — не мог выбросить из сердца.

Н. Ф. Иванова. Акварель М. А. Кашинцева
Он писал стихи, подобные заклинаниям:
Я не люблю тебя — страстей
И мук умчался прежний сон,
Но образ твой в душе моей
Всё жив, хотя бессилен он,
Другим предавшися мечтам,
Я всё забыть его не мог;
Так храм оставленный — всё храм,
Кумир поверженный — всё бог!
Он всё ещё любит, хотя эта любовь стала похожа на ненависть раба, потерявшего надежду освободиться. И душа его возмущена, она вспоминает о своей гордости, она бунтует:
К ***
Я не унижусь пред тобою;
Ни твой привет, ни твой укор
Не властны над моей душою.
Знай: мы чужие с этих пор.
Ты позабыла: я свободы
Для заблужденья не отдам;
И так пожертвовал я годы
Твоей улыбке и глазам,
И так я слишком долго видел
В тебе надежду юных дней
И целый мир возненавидел,
Чтобы тебя любить сильней.
Как знать, быть может, те мгновенья,
Что протекли у ног твоих,
Я отнимал у вдохновенья!
А чем ты заменила их?
Быть может, мыслию небесной
И силой духа убежден,
Я дал бы миру дар чудесный,
А мне за то - бессмертье он?
Зачем так нежно обещала
Ты заменить его венец,
Зачем ты не была сначала,
Какою стала наконец!
Я горд! - прости! люби другого,
Мечтай любовь найти в другом;
Чего б то ни было земного
Я не соделаюсь рабом.
К чужим горам, под небо юга
Я удалюся, может быть;
Но слишком знаем мы друг друга,
Чтобы друг друга позабыть.
Отныне стану наслаждаться
И в страсти стану клясться всем;
Со всеми буду я смеяться,
А плакать не хочу ни с кем;
Начну обманывать безбожно,
Чтоб не любить, как я любил, -
Иль женщин уважать возможно,
Когда мне ангел изменил?..
Не знав коварную измену,
Тебе я душу отдавал;
Такой души ты знала ль цену?
Ты знала - я тебя не знал!
Лермонтов решает уехать подальше от своей любви, постараться забыть. Он переезжает из Москвы в Петербург. Это было главной причиной его переезда, хотя формально он был связан с учёбой, с переводом в петербургский университет.
Поэт пишет прощальное письмо Наталье, которое так и не отдал ей: «Прости! Мы не встретимся боле...» Но забыть не удаётся.
Порой ему казалось, что это не просто измена девушки и страдания молодого человека, - это некое сцепление сил мироздания, таких, как Бог, природа, звёзды, вечность...

В 1841 году — в последний год своей жизни — Лермонтов сделал перевод стихотворения Гейне из «Книги песен», - оно поразило его совпадением с его чувством, глубоким соответствием с самой большой мукой его жизни — тоской о потере возлюбленной.
Они любили друг друга так долго и нежно,
С тоской глубокой и страстью безумно-мятежной!
Но, как враги, избегали признанья и встречи,
И были пусты и хладны их краткие речи.
Написав эти строки, Лермонтов тут же перечеркнул их, словно испугавшись обжигающей явственности этого откровения, как при блеске молнии показавшего всю его жизнь — до конца.

Sie liebten sich beide, doch keiner
Wollt'es dem andern gestehn.
Heine *
Они любили друг друга так долго и нежно,
С тоской глубокой и страстью безумно-мятежной!
Но, как враги, избегали признанья и встречи,
И были пусты и хладны их краткие речи.
Они расстались в безмолвном и гордом страданье
И милый образ во сне лишь порою видали.
И смерть пришла: наступило за гробом свиданье...
Но в мире новом друг друга они не узнали.
_________________________
* Они любили друг друга, но ни один
не желал признаться в этом другому.
Гейне (нем.)
Роковая ошибка
Лермонтов рассчитывал поступить в Петербургский университет на 2 курс и, проучась два года, выйти наконец на свободу и начать жизнь литератора. Однако так как он не сдавал экзаменов в Москве за 1 курс, ему предложили в Петербурге начать всё снова. К тому же срок обучения в университете увеличивался ещё на год. Получалось, что учиться ему надо было не два, а четыре года. Его планы рушились.
И тогда родственник Алексей Столыпин подсказал поступить в школу юнкеров, которую сам окончил.

- Два года — и ты офицер гвардейского полка! А не захочешь служить — подашь в отставку.
И Лермонтов согласился. Это был один из тех ложных и роковых шагов, о котором он потом сожалел. Останься он в университете — несомненно, сблизился бы с тем кругом студенческой молодёжи, из которой впоследствии вышли главные деятели 40-х годов. И жизнь, глядишь, пошла бы по другому сценарию, может быть, более счастливому.
Школа юнкеров — это был в некотором роде военный Лицей.

школа юнкеров. Рис. Лермонтова
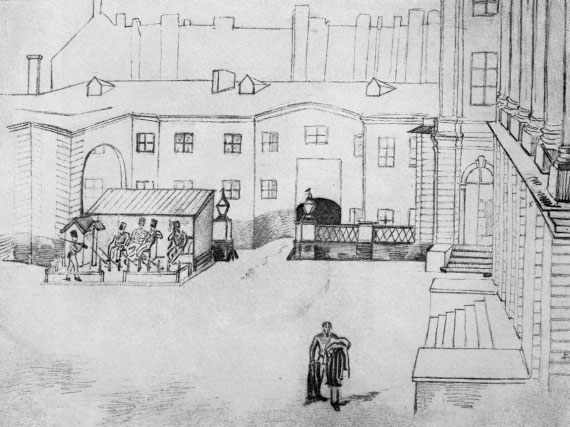
внутренний двор Юнкерской школы

учебная езда в Манеже. Рисунок Лермонтова
По его окончании Лермонтов получил назначение в лейб-гвардии Гусарский полк, расквартированный в Царском селе.

Царское Село, где был расквартирован лейб-гвардии Гусарский полк, в который Лермонтов был выпущен по окончании Юнкерской школы в 1834 г.
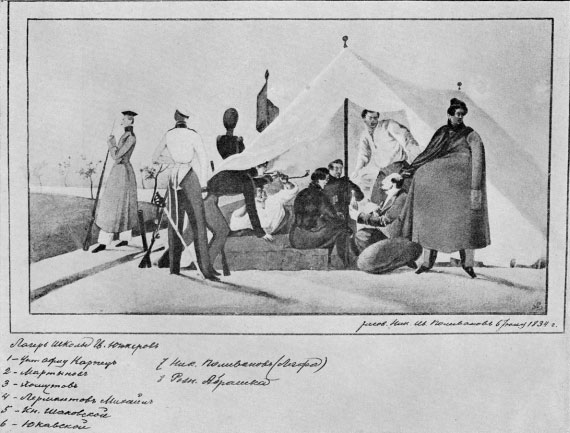
летний лагерь Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Акварель Николая Поливанова, друга и однокашника Лермонтова
Служба в полку, гусарский разгул, картёжная игра, наезды в столицу, посещение «большого света»...
Самозванная Лаура
Из воспоминаний, посвящённых юношеским годам поэта, наибольший интерес представляют записки Екатерины Хвостовой, урождённой Сушковой, с которой Лермонтов в то время часто общался.
Правда, позже были высказывания в печати родной сестры Сушковой и двоюродной её сестры графини Растопчиной, скептически относившихся к интерпретации тех событий своей родственницей, желавшей прослыть Лаурой русского поэта. Она считала себя вдохновительницей лучших произведений Лермонтова, что часто не соответствовало действительности.

Так, например, Сушкова писала в своих записках, что стихотворение «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...») было адресовано ей и написано Лермонтовым, когда он делал вид, что вызовет на дуэль жениха её, своего друга Александра Лопухина, то есть в 1835 году, тогда как на самом деле оно было написано в 1841-м. И о многих других стихах поэта, написанных другим лицам, Сушкова говорила как о посвящённых ей. Этакая самозванная Лаура.

Но понять её как женщину можно. Наверное, трудно, имея в активе стихи гениального поэта, посвящённые себе, не попытаться преувеличить своё значение в его жизни.
Екатерине Сушковой было 17 лет, когда она впервые увидела Лермонтова — Мишеля, как тогда его звали родственники. Она была красивая, избалованная мужским вниманием, модно одетая черноглазая барышня.

Е. Сушкова. Миниатюра неизвестного художника.
А Мишелю было всего 15, и Екатерина не принимала его всерьёз, считала мальчишкой. Однажды он услышал её фразу, сказанную о нём кому-то: «Как жаль, что он ещё не юноша!»
«Ещё не юноша! - в ярости повторял он обидные слова. - Дура! Видела бы ты мою душу!»

юный Лермонтов. Художник Ю. Врублевский
«Ну и что ж, что 15 лет, - размышлял он наедине с собой. - Но разве мои 15 лет такие же, как у других?»
Взгляните на мое чело,
Всмотритесь в очи, в бледный цвет;
Лицо мое вам не могло
Сказать, что мне пятнадцать лет.
И скоро старость приведет
Меня к могиле -- я взгляну
На жизнь - на весь ничтожный плод -
И о прошедшем вспомяну...
Сушкова с кузиной Сашенькой Верещагиной подсмеивались над юным поэтом, дразнили, подтрунивали.
Из записок Е. Сушковой:
«У Сашеньки встречала я в это время её двоюродного брата, неуклюжего, косолапого мальчика лет шестнадцати или семнадцати, с красными, но умными, выразительными глазами, со вздернутым носом и язвительно-насмешливой улыбкой... Я прозвала его своим чиновником по особым поручениям и отдавала ему на сбережение свои шляпу, зонтик, перчатки. Но Мишель перчатки частенько терял, и я грозила отрешить его от вверенной ему должности».
Сушкова держала себя с ним довольно высокомерно и заносчиво, она имела привычку смотреть вверх, и Лермонтов смеялся над этим и часто повторял, что стоит быть у её ног, чтобы никогда не быть ею замеченным. И даже написал об этом стихотворение:
Вверху одна
горит звезда,
Мой ум она
манит всегда,
Мои мечты
она влечет
и с высоты
меня зовет.
Таков же был
тот нежный взор,
что я любил
судьбе в укор;
мук никогда
он зреть не мог,
как та звезда,
он был далек;
Усталых вежд
я не смыкал,
я без надежд
к нему взирал.
В Сушкову, конечно, немудрено было влюбиться, но Лермонтов не был в неё влюблён, хотя сама Екатерина была убеждена в том, что он погибает от любви к ней. Пустая красота сама по себе мало что для него значила.
Вблизи тебя до этих пор
Я не слыхал в груди огня.
Встречал ли твой прелестный взор -
Не билось сердце у меня.
И что ж? - разлуки первый звук
Меня заставил трепетать;
Нет, нет, он не предвестник мук;
Я не люблю - зачем скрывать!..
Однако же хоть день, хоть час
Еще желал бы здесь пробыть;
Чтоб блеском этих чудных глаз
Души тревоги усмирить.
Он показал эти стихи Саше Верещагиной, и та ужаснулась его непочтительности: «Я не люблю! Разве можно красавицам говорить такие ужасные слова! Я бы рассердилась».
Нищий
Как-то они отправились в Лавру и там возле монастыря на паперти увидели слепого нищего.

Он дряхлой дрожащей рукой поднёс им свою деревянную чашечку, куда они накидали ему мелких денег. Услышав звук монет, бедняк крестился, благодарил молодых господ, приговаривая: «Пошли вам Бог счастья, молодые господа, а вот намедни приходили сюда тоже господа, тоже молодые, да шалуны, насмеялись надо мною: наложили полную чашечку камушков. Бог с ними!»

Помолясь, молодые люди пошли обедать. Сушкова увидела, как Лермонтов тут же за столом что-то быстро набрасывал на листке бумаги.
- О чём же можно написать вот так сходу - думала она, - кроме мадригала или эпиграммы? Судя по серьёзности — первое...

И самонадеянно решила, что это, конечно же, ей. Но стихи были написаны не для неё. И даже не для Натальи Ивановой. Вообще не для кого. Она взяла листок из рук Лермонтова и прочла:
Нищий
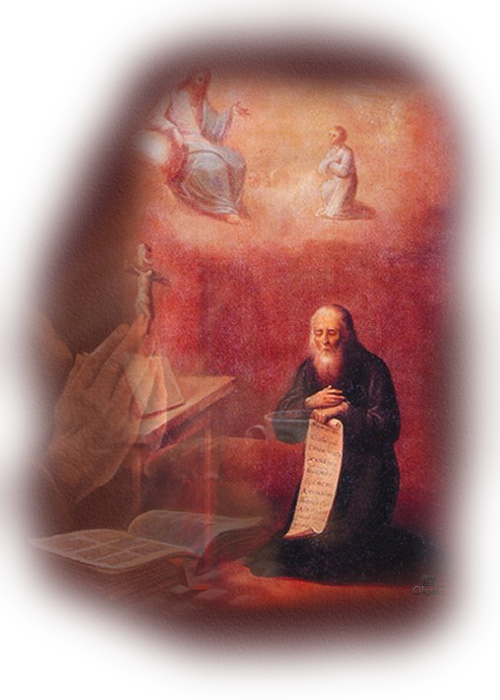
У врат обители святой
Стоял, просящий подаянья,
Бедняк иссохший, чуть живой
От глада, жажды и страданья.
Куска лишь хлеба он просил,
И взор являл живую муку,
И кто-то камень положил
В его протянутую руку.
Так я молил твоей любви
С слезами горькими, с тоскою;
Так чувства лучшие мои
Обмануты навек тобою!
«Я к Вам пишу...»
Загадка аббревиатуры Н.Ф.И. заслонила на некоторое время внимание исследователей к другому, самому сильному чувству Лермонтова — ибо, бесспорно, что самый глубокий след в жизни и творчестве поэта оставила Варвара Александровна Бахметева, урождённая Лопухина.

портрет Варвары Лопухиной. Акварель Лермонтова.
Когда-то Лермонтов знал Вареньку ещё девочкой. Она была младшей сестрой его друга А. Лопухина, двоюродной сестрой Саши Верещагиной и Аркадия Столыпина.
Она была не так красива, как Н.И., но во всём её облике, который хотелось бы назвать ангельским, было столько таинственной прелести, что её нельзя было не заметить в толпе. В ней не было кокетства, но была удивительная природная грация, мягкость движений... Шелковистые волосы, тонкие черты, задумчивые чёрные глаза, родинка над губою...

Лермонтов смотрел на неё, не в силах оторвать глаз. И в нём, словно от какого-то кошмарного сна, пробуждалась душа... Это было радостно, как если бы увидеть, проснувшись после грозовой ночи, голубое небо. Он даже сам не понимал, что в ней так пленяет его.
Она не гордой красотою
Прельщает юношей живых,
Она не водит за собою
Толпу вздыхателей немых.
И стан ее не стан богини,
И грудь волною не встает,
И в ней никто своей святыни,
Припав к земле, не признает;
Однако все ее движенья,
Улыбки, речи и черты
Так полны жизни, вдохновенья,
Так полны чудной простоты.
Но голос душу проникает
Как вспоминанье лучших дней,
И сердце любит и страдает,
Почти стыдясь любви своей.
Чувство к Вареньке было безотчётно, но истинно и сильно, и он сохранил его до самой смерти своей, несмотря на некоторые последующие увлечения. Лопухиной посвящено множество стихотворений Лермонтова, поэма «Демон», послание «Валерик».
В этом стихотворении-послании описывалось сражение, в котором принимал участие поэт во время похода в Чечню в июле 1840 года.
эпизод сражения при Валерике. Рис. Лермонтова, раскрашенный Г. Гагариным
По мнению критики, это стихотворение впервые выразило особый взгляд на войну, так углублённый позже Л. Толстым (а из его «Бородина» выросла «Война и мир» - вот какие семена бросал в почву Лермонтов!). И это стихотворение явилось в виде послания к Вареньке Лопухиной.

автограф стихотворения «Валерик»
Я к вам пишу случайно, — право,
Не знаю как и для чего.
Я потерял уж это право.
И что скажу вам? — ничего!
Что помню вас? — но, боже правый,
Вы это знаете давно;
И вам, конечно, всё равно.
И знать вам также нету нужды,
Где я? что я? в какой глуши?
Душою мы друг другу чужды,
Да вряд ли есть родство души.
Страницы прошлого читая,
Их по порядку разбирая
Теперь остынувшим умом,
Разуверяюсь я во всем.
Смешно же сердцем лицемерить
Перед собою столько лет;
Добро б еще морочить свет!
Да и притом, что пользы верить
Тому, чего уж больше нет?..
Безумно ждать любви заочной?
В наш век все чувства лишь на срок,
Но я вас помню — да и точно,
Я вас никак забыть не мог!
Во-первых, потому, что много
И долго, долго вас любил,
Потом страданьем и тревогой
За дни блаженства заплатил,
Потом в раскаянье бесплодном
Влачил я цепь тяжелых лет
И размышлением холодным
Убил последний жизни цвет.
С людьми сближаясь осторожно,
Забыл я шум младых проказ,
Любовь, поэзию, — но Вас
Забыть мне было невозможно.
У маменьки Вареньки была одна забота — выдать дочь замуж, не прозевать жениха. А Лермонтов, конечно же, был не жених. Мальчик. Лопухина была его ровесницей, но она уже считалась невестой, в то время как «Мишель» ещё считался ребёнком.
Он и сам понимал тщетность своих надежд. Сопоставлял себя с нею и находил себя гадким, некрасивым, сутулым.

В неоконченной юношеской повести «Вадим» в Вадиме — уродливом горбуне — он изобразил себя, как бы утрируя свои физические недостатки, а в прекрасной Ольге - Вареньку.
Образ этой девушки, а потом — замужней женщины, являлся во многих произведениях поэта, он раздваивался в образах княжны Мэри и особенно Веры в «Герое нашего времени», в «Княгине Лиговской»...
Однако Лермонтов относился к Вареньке с такой деликатностью чувства, что нигде не упоминал её имени в черновых тетрадях. Много раз набрасывал её профиль, но тут же пририсовывал ей усы и превращал в мужчину.
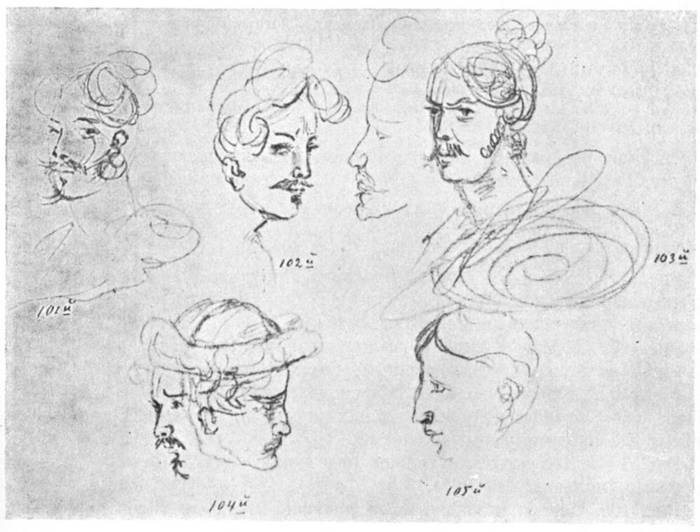
наброски карандашом мужских голов и два портрета Лопухиной
Он тщательно скрывал от всех своё чувство.
Я не хочу, чтоб свет узнал
Мою таинственную повесть;
Как я любил, за что страдал,
Тому судья лишь бог да совесть!..
Им сердце в чувствах даст отчет;
У них попросит сожаленья;
И пусть меня накажет Тот,
Кто изобрел мои мученья;
Укор невежд, укор людей
Души высокой не печалит;
Пускай шумит волна морей,
Утес гранитный не повалит;
Его чело меж облаков,
Он двух стихий жилец угрюмый,
И кроме бури да громов
Он никому не вверит думы...
Я издали смотрел, почти желая,
Чтоб для других очей твой блеск исчез;
Ты для меня была как счастье рая
Для демона, изгнанника небес...
Лермонтов посвящает Лопухиной благословляющие, любовно-молитвенные стихи, так и названные - «Молитва», в котором поэт обращается к образу Богородицы, Матери Божией, заступницы. Этот лирический шедевр многим принёс отраду и утешение в жизни, его заучивали и твердили, как молитву.
Я, матерь Божия, ныне с молитвою
Пред твоим образом, ярким сиянием,
Не о спасении, не перед битвою,
Не с благодарностью, иль покаянием,
Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника в свете безродного;
Но я вручить хочу деву невинную
Теплой заступнице мира холодного.
Окружи счастием душу достойную;
Дай ей сопутников, полных внимания,
Молодость светлую, старость покойную,
Сердцу незлобному мир упования.
Срок ли приблизится часу прощальному
В утро ли шумное, в ночь ли безгласную,
Ты восприять пошли к ложу печальному
Лучшего ангела душу прекрасную.
Эти строки выписала себе императрица Александра Фёдоровна. У неё были постоянные споры с Николаем I-м по поводу литературного значения Лермонтова, в котором она была на стороне поэта. В это время у неё умер отец — прусский король Фридрих-Вильгельм III, и «Молитва» была близка её душевному состоянию.

императрица Александра Фёдоровна
По её указанию в феврале 1841 года к этим стихам была написана музыка придворным композитором Феофилактом Толстым.
Послушайте этот романс в исполнении Олега Погудина:
В. Лопухиной адресована и поэма «Демон», которая, особенно в первых вариантах, вся проникнута изображением душевных бурь поэта и его любви к чудной девушке, в которой он видел для себя оплот против мрачных дум и настроений.

М. Врубель. Демон и Тамара.
В себе Лермонтов видел мрачного Демона, а в Вареньке-Тамаре — ясное, безгрешное существо, которое одно может вернуть его к небесам.

«Опять, опять она — и все она!»
Вскоре случилось то, чего так боялся Лермонтов — родные выдали Вареньку за богатого пожилого человека — Бахметева. Лермонтов не мог простить ей измены.

Как она могла предпочесть ему такую посредственность?

Он пытался рассердиться, подумать о ней с презрением — и не мог. «Бахметев богат и стар. Ей захотелось свободы, нарядов и блестящей жизни, она — как все», - пытался настроить он себя против неё. И — ничего не получалось из этого. Он вспоминал её грустное лицо. Такое милое, тихое, единственное...

Однажды они встретились у Столыпиных. Лермонтову было странно и страшно видеть его Вареньку с 37-летним супругом, уже успевшим обзавестись лысиной и брюшком — тот был самоуверен, благодушен и, как видно, не догадывался, ничего не знал об их прежней любви.

Лермонтов много говорил в этот вечер, делал намёки, понятные ей одной. Он чувствовал, что она его ещё любит...
Невыносимое страдание охватило его душу. Он ведь видел, понял, что ничего более чуждого для неё, чем этот Бахметев, нет, но понял и другое, - что она не унизится до бабьих измен, тайных страстей, и, хотя душа её стремится нему — им никогда не бывать вместе.
Твоей любви нельзя не верить,
а взор не скроет ничего.
Ты не способна лицемерить.
Ты слишком ангел для того.
За ней вставал лёгкой тенью образ Татьяны из «Евгения Онегина» - замужней и столь прекрасной и недосягаемой.
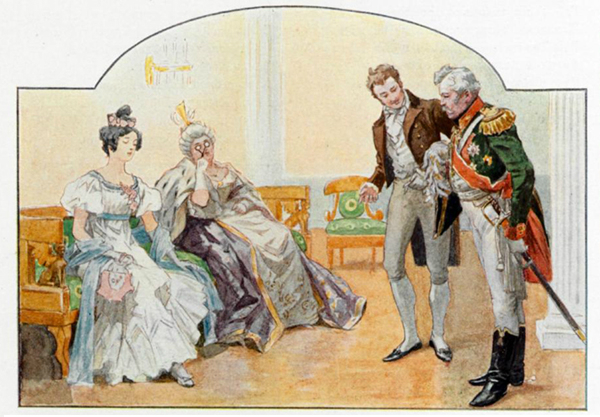
Но в час ночной, когда воспоминанье
Приводит к нам минувшего скелет,
И оживляет прежние страданья,
И топит в них всё счастье прежних лет,
Тогда, тогда порою нахожу я
В душе, как бога в храмине пустой,
Тот милый взор, с улыбкою святой;
И мнится, я храним ее рукой,
И жду, безумец! ласки, поцелуя...
Бледнеют грезы мрачные мои,
Всё исчезает, кроме дум любви;
Но с ней, хоть образ узнаю прекрасный,
Сравнить мечту стараюсь я напрасно;
Заснул? — передо мной во время сна
Опять, опять она — и все она!

М. Лермонтов. Рис. Л. Пастернака. 1831.
Позже в «Купце Калашникове» отразилась эта его безнадёжная любовь к Вареньке, в кулачном поединке Кирибеевича с законным мужем Степаном Калашниковым.
В драме «Два брата» поэт выводит Вареньку в героине Вере, жене князя Лиговского. Желая уязвить бывшую возлюбленную, Лермонтов выводит там её вышедшей за князя ради богатства. К Бахметеву Лермонтов упорно питал неприязненное чувство, язвил и насмехался над ним, выставляя в своих произведениях в жалкой неприглядной роли. В «Княжне Мэри» он рисует его в лице мужа Веры, придурковатого хромого старичка.
- Как, неужели этот господин, который шёл за княгиней так смиренно — ея муж? Если б я их встретила на улице, то приняла бы за лакея. Я думаю, что она делает из него всё, что хочет, по крайней мере, всё, что можно из него сделать.
- Однако она счастлива...
- Разве вы не заметили, сколько на ней бриллиантов?

Характер Вареньки как бы раздвоен в повести и представлен в двух типах: в Мэри, каким он мог казаться в юные годы, и в Вере, каким сложился потом, любящим и убитым существом, прикованным к чужому ей по уму и развитию человеку.

иллюстрация В. Серова к "Герою нашего времени"
Оскорблённому Бахметеву казалось, что все, читавшие «Героя нашего времени», узнавали его и его жену. К довершению сходства у Веры в романе характерная примета: родинка на щеке, как у Вареньки.
Бахметев решительно запретил ей иметь с поэтом какие-либо отношения. Он заставил её уничтожить все письма Лермонтова и всё, что он когда-либо ей дарил и посвящал. Тогда Лопухина передала дорогие ей рукописи и рисунки поэта кузине Саше Верещагиной.

В. Лопухина. Рис. Лермонтова
Таким образом в семье последней многое сохранилось, в том числе два портрета Варвары Лопухиной. Один из них, где Варенька изображена в образе испанской монахини.

А также автопортрет Лермонтова, нарисованный им акварелью в зеркало.
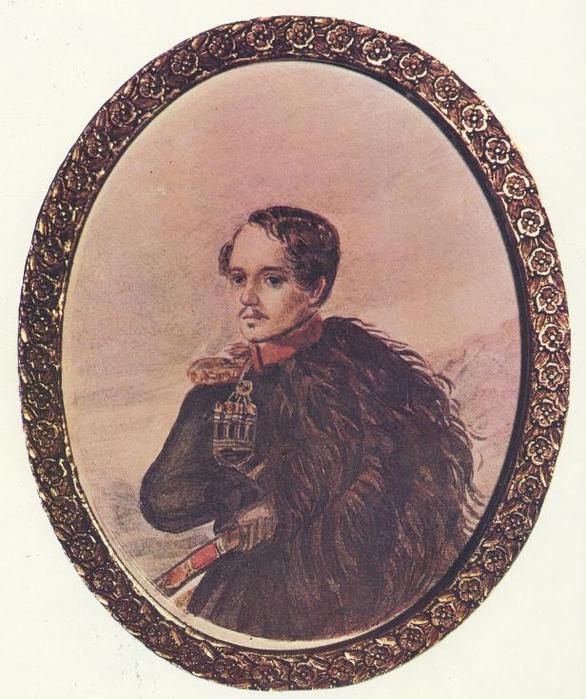
Перед отъездом на Кавказ Лермонтов решит поехать к Варе и подарить ей этот портрет. Что с того, что Бахметев — ревнивец и не потерпит этот портрет у себя в доме, главное — дать ей в руки. Она посмотрит и запомнит. И портрет этот, даже если Бахметев его сожжёт или растопчет, всегда будет с ней.
И он поехал, и так и сделал. Она посмотрела на портрет, побледнела и положила его в уголок дивана. Муж нахмурился и быстро вышел из комнаты. Лермонтов и Варенька смотрели в глаза друг другу. «Я не хочу без тебя жить», - говорили её глаза. «И я без тебя», - читала она в его помрачённом тоской взоре.

Они прощались. И оба чувствовали, что навсегда.
В 1841 году Лермонтов пишет стихотворение «Оправдание», адресованное Вареньке. Это скорее моленье о прощении. Как бы предчувствуя возможность близкой смерти, поэт видит и горькую участь, которая может постичь предмет его любви.
Когда пред общим приговором
Ты смолкнешь, голову склоня,
И будет для тебя позором
Любовь безгрешная твоя, —
Того, кто страстью и пороком
Затмил твои младые дни,
Молю: язвительным упреком
Ты в оный час не помяни.
Но пред судом толпы лукавой
Скажи, что судит нас иной,
И что прощать святое право
Страданьем куплено тобой.
Лопухина пережила Лермонтова на 10 лет. Томилась долго и тихо скончалась в 1851 году (в 37 лет).
Продолжение здесь: http://www.liveinternet.ru/users/4514961/post295755699/
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/228133.html
|
|
Процитировано 9 раз
Понравилось: 3 пользователям
История его души |
Начало здесь

15 октября 1814 года родился великий русский поэт Михаил Лермонтов.
Два идеала
Лермонтов сумел найти свой, особый путь в русской литературе. На смерть Пушкина ответил только он, притом ответил так, что голос его прозвучал на всю страну, и никому не ведомый молодой гусарский офицер стал тут же всеми признан пушкинским преемником. Лермонтов как бы сменил Пушкина на посту, занял опустевший трон, и никто не посмел оспаривать его право на это. И с тех пор у нас два основных поэта, два полюса, два поэтических идеала.

Пушкин — мудрее, прозрачнее, с более безупречным вкусом, у Лермонтова же поражает в стихах интонация, звук, он захватывает и потрясает силой страсти, накалом чувства. Пушкин чуть холоднее, Лермонтов — страстней, расточительней сердцем.
С Пушкиным у нас связаны представления о классике, совершенстве, покое, высшей гармонии, с Лермонтовым — о романтике, порыве, смятении чувств. Недаром его так любят в юности. Лермонтов сумел придать русскому языку особую энергию выражения и внёс в литературу подлинный романтизм. Чернышевский писал о его стихе: «Тяжестью кажется энергия, поэтому говорят, что стих Лермонтова тяжелее Пушкина, что решительно несправедливо».
К сожалению, при всей любви к Лермонтову, у нас его мало знают. Сохранившийся биографический материал крайне скуден и малосодержателен. Утрачены автографы многих произведений, альбомы, картины, рисунки.
Писем дошло очень мало, писем к нему вовсе не сохранилось, воспоминания бедны и поверхностны, да и те появились лишь полвека спустя после его гибели, когда многое стёрлось из памяти. Причём писали их люди, плохо знавшие поэта. Близкие друзья - Раевский, Столыпин-Монго не написали ни строчки. И это понятно — ведь правду писать было нельзя. Император Николай I имел какие-то тайные, до сих пор невыясненные до конца причины ненавидеть само имя поэта, и упоминать его печатно не осмеливались, да и цензура не пропускала.
В этом смысле Пушкину повезло больше. Русское и мировое пушкиноведение сделало невозможное: оно оживило Пушкина, сделало нашим современником. Пушкин влияет на наше сознание так, как он не влиял на современную ему читающую и мыслящую Россию. С Лермонтовым этого не произошло. Он во многом ещё не открыт, он до сих пор — тайна...
Всеведенье пророка
Вот что писал Белинский в письме В. Боткину вскоре после смерти поэта:
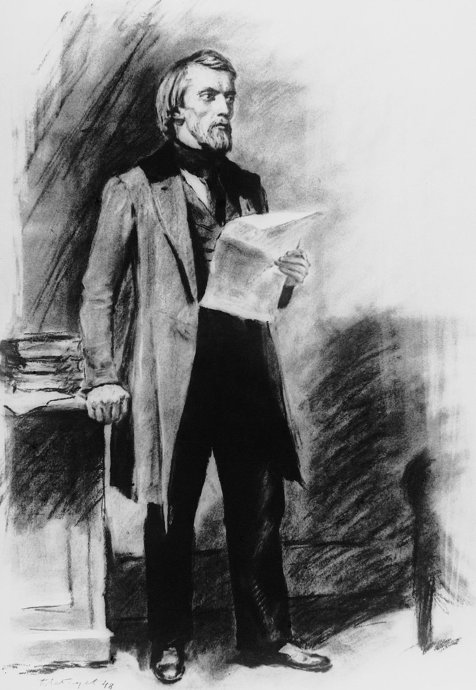
«Надо удивляться детским произведениям Лермонтова — его драме «Боярину Орше» и т.п. (не говорю уже о «Демоне»!): это не «Руслан и Людмила», тут нет ни легкокрылого похмелья, ни сладкого безделья, ни лени золотой, ни вина, ни шалостей амура — нет, это сатанинская улыбка на жизнь, искривляющая младенческие ещё уста, это «с небом гордая вражда», это — презрение рока и предчувствие его неизбежности. Всё это по-детски, но страшно сильно и взмашисто. Львиная натура! Страшный и могучий дух!»

Ахматова говорила, что не от Пушкина или Гоголя, а именно от Лермонтова произошли Толстой и Достоевский.
Нет в нашей литературе явления более загадочного, мистического, фатального, непостижимого, чем Михаил Лермонтов. Поневоле думаешь о пророческих знаках, которыми была отмечена вся судьба этого поэта. В год столетия со дня его рождения началась I мировая война, в год столетия со дня смерти — Вторая. И всякий юбилей Лермонтова сопровождался у нас в стране большими историческими потрясениями. И сам Лермонтов обладал знаниями пророка, о чём писал:
С тех пор как вечный судия
Мне дал всеведенье пророка...
И если один наш пророк — Пушкин - в 20 лет уже предсказал «рабство, падшее по манию царя», то другой — Лермонтов — в свои 16 далеко его опередил в своём всеведении:
Настанет год, России чёрный год,
когда царей корона упадёт.
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
и пища многих будет смерть и кровь...
Поражает сила проникновения этого поэта в тайну своей судьбы, предсказавшего собственную смерть:
В полдневный жар в долине Дагестана
с свинцом в груди лежал недвижим я,
глубокая ещё дымилась рана,
по капле кровь точилася моя.

Лермонтов не только предчувствовал свою роковую смерть, но прямо видел её заранее. И не верится в случайность этой гибели. Это не случилось, а свершилось.
Не говори: я трус, глупец!
О! Если так меня терзало
сей жизни мрачное начало,
какой же должен быть конец!
Не здешний душой
Существует предание о том, что род Лермонтова происходит от испанского герцога Лермы, который во время борьбы с маврами бежал из Испании в Шотландию. И будто поэт даже долгое время подписывался под письмами и стихами: «Лерма».

"Портрет герцога Лермы" (1832-1833), первое известное живописное произведение Лермонтова. Своему воображаемому предку художник придал автопортретные черты.
Правда, позже выяснилось, что это предание не соответствует действительности.
Существует также легенда о другом предке поэта — шотландском барде-пророке Томасе Лермонте, воспетым Вальтером Скоттом в своей балладе.

Пророчества его, высказанные в поэтической форме предсказания исторических событий в Шотландии, ценились очень высоко и ещё в 1615 году были изданы в Эдинбурге. Большой известностью он пользовался и как поэт. Ему приписывалось авторство древнейшего варианта «Тристана и Изольды».

Рассеянный судьбою род Лермонтов искал счастья по всему свету. Одна его ветвь осела в России. К восьмому колену, когда явился в этом роду младенец Михаил, Лермонты обрусели и стали Лермонтовыми, незнатными дворянами, почти утратившими воспоминания о земле, откуда вышли.

Лермонтов упоминает о своих шотландских предках в ранних стихах 30-х годов:
Под занавесою тумана,
под небом бурь, среди степей
стоит могила Оссиана
в горах Шотландии моей.
Летит к ней дух мой усыплённый
родимым ветром подышать...

могильник ирландского певца Оссиана в Северной Ирландии
Я здесь был рождён, но не здешний душой...

О, зачем я не ворон степной!
На запад, на запад помчался бы я,
где цветут моих предков поля,
где в замке пустом, на туманных горах
их забвенный покоится прах...

Сын страданья
Тарханы — не только место рождения, но и творческая колыбель поэта.

Тарханы. Пензенское имение Е. А. Арсеньевой

Здесь в 1828 году (в 14 лет) были написаны «Черкесы», спустя несколько лет драма «Два брата», поэма «Сашка». Здесь истоки поэзии Лермонтова.

рабочий кабинет Лермонтова в Тарханах
Здесь он похоронен в часовне рядом с прахом матери.

С детства Лермонтову пришлось стать свидетелем семейной драмы его родителей.

Отец дурно обращался с матерью, изменял ей, даже поднимал на неё руку. Ребёнок рос слабым, болезненным. Мать и любовь, и горе своё выплакала над его головой.
Мария Михайловна была одарена душою музыкальною. Посадив ребёнка на колени, она играла на фортепиано, выплёскивая в музыке свою боль, а он, прильнув головкой, сидел неподвижно, и звуки потрясали его младенческую душу, и слёзы катились по детскому личику.

Мать передала ему свою необычайную нервность. Через три года чахотка свела её в могилу.

Она скончалась в 21 год. Лермонтов очень её любил и с тех пор всё время словно прислушивался к чему-то, поющему в душе, стремясь уловить памятью ускользающую мелодию, тень её песни...

В младенческих летах я мать потерял.
Мне мнилось, что в розовый вечера час
та степь повторяла мне памятный глас.
За это люблю я вершины тех скал,
люблю я Кавказ.
Это «памятный глас» - эхо рано прервавшейся жизни, забытая песня матери. Это «забытое» он будет слушать и искать всю жизнь.

Ранняя смерть матери, разрыв между отцом и бабушкой, смерть отца — всё это несомненно повлияло на характер Лермонтова и на его творчество, предопределив появление многих трагических мотивов.
Я сын страданья. Мой отец
не знал покоя по конец.
В слезах угасла мать моя.
От них остался только я:
ненужный член в пиру людском,
младая ветвь на пне сухом...
Согласно завещанию бабушки, Лермонтов должен был жить с ней до его 16-летия, в противном случае она лишала его наследства. Она пошла на этот хитрый шаг, чтобы привязать к себе внука, без которого не мыслила жизни. Таким образом она обезоружила отца поэта, вынужденного ради благополучия сына терпеть разлуку с ним, хотя он очень тосковал по ребёнку. Когда же срок 16-летия подошёл, и сын должен был уехать к отцу, бабушка сделала всё возможное и невозможное, чтобы помешать этому. Упрёки, угрозы, слёзы, интриги... Жизнь без внука была бы для неё адом, и она восстала против этого ада.

Лермонтов сдался, пожалев бабушку, и остался с ней. А отец вскоре умер. Что сразило его — болезнь или нравственное страдание? Может быть, и то, и другое. Лермонтов страшно переживал смерть отца, мучаясь сознанием своей невольной вины. «Ужасная судьба отца и сына — жить розно и в разлуке умереть...»

отец поэта. Акварель Лермонтова. 1835 год.
Чёрные мысли овладевали его душой. Той же весной 1830 года он пишет стихотворение «Смерть». Оно преисполнено вертеровского настроения, решимости уйти из жизни. «Окончен путь, бил час, пора домой» (домой — на «небесную родину», если по Жуковскому). «Пора. Устал я от земных забот». И это не игра в смерть, это действительно мысли о самоубийстве, настолько тяжело даётся поэту жизнь во всех своих проявлениях. Он буквально изнемогает душой. Он любит земное, любит жизнь с её страстями, и никто, как он думает, не подвержен им так сильно, любит даже мучения, но он устаёт, как пловец среди больших волн. И возникает некий протест, душевный срыв:
Ужели захочу я жить опять,
чтобы душой по-прежнему страдать
и столько же любить? Всесильный Бог,
ты знал: я долее терпеть не мог.
Мысль о смерти постоянно тяготела над ним:
Я предузнал мой жребий, мой конец,
и грусти ранняя на мне печать.
И как я мучусь, знает лишь Творец,
но равнодушный мир не должен знать.
Он не совершил этого греха, но готовность к самоубийству оставила рубец на его душе. Эта мысль встречается в его стихах, в записанных в черновых тетрадях сюжетах для драм, и обе драмы его, носящие автобиографический характер, «Люди и страсти» и «Странный человек» кончаются самоубийством.
Но, как ни странно, грустные, а часто по-настоящему трагические стихи Лермонтова дают душевную силу, какую-то внутреннюю свободу. Ведь многие живут как бы зажмурившись, отгоняя от себя мысли о смерти, распаде тела, муках души. Лермонтов не боится проникать в самые глубины ада. В стихотворении «Чума в Саратове» под впечатлением слухов о холере, которая была тогда в наших краях, Лермонтов рисует страшную картину, представив себе погибшей от чумы девушку, которую он любил, кузину Анюту Столыпину, увидев в этой воображаемой страшной смерти возмездие за умершую любовь, которую они оба не сберегли.
ЧУМА В САРАТОВЕ
Чума явилась в наш предел;
Хоть страхом сердце стеснено,
Из миллиона мертвых тел
Мне будет дорого одно.
Его земле не отдадут,
И крест его не осенит;
И пламень, где его сожгут,
Навек мне сердце охладит.
Никто не прикоснется к ней,
Чтоб облегчить последний миг;
Уста, волшебницы очей,
Не приманят к себе других;
Лобзая их, я б был счастлив,
Когда б в себя яд смерти впил,
Затем что, сладость их испив,
Я деву некогда забыл.
Саратов 19 века. На Волге. Курсеев В.А.
Одинокость
Лермонтов очень любил Пушкина, Шиллера, но больше всего говорил его душе Байрон.

Белинский в то время писал о несуществовании русской литературы, и мрачная байроновская муза нашла отзвук в душе молодого непризнанного ещё поэта. В стихотворении «К...» Лермонтов сделал попытку выяснить степень своей близости к нему:
Не думай, чтоб я был достоин сожаленья,
Хотя теперь слова мои печальны; — нет;
Нет! все мои жестокие мученья—
Одно предчувствие гораздо больших бед.
Я молод; но кипят на сердце звуки,
И Байрона достигнуть я б хотел;
У нас одна душа, одни и те же муки;
О если б одинаков был удел!..
Как он, ищу забвенья и свободы,
Как он, в ребячестве пылал уж я душой,
Любил закат в горах, пенящиеся воды,
И бурь земных, и бурь небесных вой.
Как он, ищу спокойствия напрасно,
Гоним повсюду мыслию одной.
Гляжу назад — прошедшее ужасно;
Гляжу вперед — там нет души родной!
Однако вскоре Лермонтов освобождается от влияния своего кумира, отвечая тем, кто упрекал его в подражании английскому поэту, стихотворением, в котором отстаивал свою индивидуальность:

Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый избранник,
Как он, гонимый миром странник,
Но только с русскою душой.
Я раньше начал, кончу ране,
Мой ум немного совершит;
В душе моей, как в океане,
Надежд разбитых груз лежит.
Кто может, океан угрюмый,
Твои изведать тайны? Кто
Толпе мои расскажет думы?
Я - или бог - или никто!
Однако мятежный дух Байрона — дух гордого одинокого изгнанника — всегда жил в сердце Лермонтова. Он всегда ощущал себя одиноким. В университете держался в стороне от студентов и не примыкал ни к одному кружку. Он даже не познакомился с такими своими товарищами по университету, как Белинский, Герцен, Гончаров. На лекциях поэт не слушал, читал книги, был погружён в себя. И зыбка была грань, отделявшая то, что было в нём от книг, от Байрона, книжного романтизма — от его истинной сути.
Пусть я кого-нибудь люблю:
любовь не красит жизнь мою.
Она, как чумное пятно
на сердце, жжёт, хотя темно.
Враждебной силою гоним,
я тем живу, что смерть другим,
живу, как неба властелин -
в прекрасном мире — но один.
В 16 лет он напишет стихотворение — наверное, не найти в России человека, кто бы ни знал его наизусть - «Белеет парус одинокий...» - раздумье о себе, о своей одинокости, о грустной бесцельности жизни, когда ни в прошлом, ни в будущем нет счастья, как нет и настоящих бурь, способных насытить мятежную душу.

В стихотворении «Одиночество» юный Лермонтов пишет:
Как страшно жизни сей оковы
нам в одиночестве влачить.
Делить веселье — все готовы:
никто не хочет грусть делить.
Он с горечью сознаёт:
Никто не дорожит мной на земле
и сам себе я в тягость, как другим...
Он в отчаянии от этой вселенской глухоты и непонимания: «Но люди не хотят к моей груди прижаться», - оттого, что «души в них волн холодней». Он ищет в земном хоре созвучий свою человеческую рифму.
И как преступник перед казнью
ищу вокруг души родной.
Но он был не создан для этого слияния. Поэт страдал от всякого неловкого прикосновения, от каждой фальшивой ноты в отношениях, и редко допускал кого-либо в святая святых своего я.
Я холоден и горд. И даже злым
толпе кажуся, но ужель она
проникнуть дерзко в сердце мне должна?
Зачем ей знать, что в нём заключено?
Огонь иль сумрак там — ей всё равно.

В минуту отчаяния Лермонтов пишет сам себе эпитафию, которая кончается так:
И в нём душа запас хранила
блаженства, муки и страстей.
Он умер, здесь его могила.
Он не был создан для людей.
Мысль, которая была так чудесно высказана в «Демоне», когда ангел описывает любящую душу:
Творец из лучшего эфира
соткал живые струны их.
Они не созданы для мира,
и мир был создан не для них.
"Как Демон, с гордою душой..."
Считается, что Лермонтов стал известен широкой публике в 1837 году своим стихотворением «На смерть поэта». Но гораздо раньше — с 1829 года, когда он был ещё в юнкерской школе, его поэма «Демон» ходила по рукам в рукописи. Великий князь Михаил Павлович, отличавшийся остроумием, прочтя её, сказал: «Был у нас итальянский Вельзевул, английский Люцифер, немецкий Мефистофель, теперь явился русский Демон. Я только никак не пойму, кто кого создал: Лермонтов ли — духа зла, или Дух зла — Лермонтова?»

Голова Демона. М. Врубель
Поэма во множестве списков разошлась по стране и была воспринята современниками как призыв к свободе, вся читающая Россия знала её наизусть. Лермонтов работал над ней с 1829 по 1841 год (12 лет), она выдержала у него 8 редакций, в ходе которых он углублял характеристики героев, обогащал пейзажные зарисовки, менял стихотворный размер. Автограф последней редакции «Демона» утерян. Первое полное издание «Демона» было осуществлено в Германии в 1856 году, в России лишь в 1860-м (почти 20 лет спустя после его смерти).
«Демону» Лермонтова предшествовал, как известно, «Демон» Пушкина, оказавший сильное влияние на молодого поэта:
Тогда какой-то злобный гений
Стал тайно навещать меня.
Печальны были наши встречи:
Его улыбка, чудный взгляд,
Его язвительные речи
Вливали в душу хладный яд.
Неистощимой клеветою
Он провиденье искушал;
Он звал прекрасное мечтою;
Он вдохновенье презирал;
Не верил он любви, свободе;
На жизнь насмешливо глядел —
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел.
Это демон сомнения, дух размышления, рефлексии, разрушающий всякую полноту жизни, отравляющий радость бытия. Счастлив был Пушкин — тот злобный гений лишь навещал его в прошлом, но потом перестал и души его не отравил. Пушкин видел в нём врага и не пытался приблизиться к нему, понять его. Демон Лермонтова — иной.
Собранье зол его стихия.
Носясь меж дымных облаков,
он любит бури роковые
и пену рек, и шум дубров.

Иллюстрация Врубеля. Парящий в небе Демон. Если пушкинский Демон «вдохновенье презирал», то лермонтовский Демон — само вдохновенье, бурно летящее в тучах, полное страстей. Его Демон — это безмерная печаль одиночества и жажда любви, не осуществимая в жизни. Рванувшись к добру, он пал ещё глубже, не сумев преодолеть свою сатанинскую гордость. Он не создан для любви, он обречён на вечное одиночество в пустынных горах.

И душа поэта летит вместе с Демоном над снежными вершинами гор, страстно внимая тайному голосу его тоски.
Демон стихотворения Лермонтова — это не Демон поэмы. Это антипод ангела-хранителя поэта. Поэт предчувствует трудную жизнь и собирает все силы. И вот какова, он думает, будет его жизнь:
И гордый демон не отстанет,
пока живу я, от меня,
и ум мой озарять он станет
лучом чудесного огня.
Покажет образ совершенства
и вдруг отнимет навсегда
и, дав предчувствие блаженства,
не даст мне счастья никогда.

Двоюродная сестра поэта Саша Верещагина, когда он прочёл ей это стихотворение, спросила:

- Так Вы согласны со своим Демоном?
- Нельзя не согласиться со своей судьбой, - ответил он.
- Это великая судьба, - подтвердила она. - Но тогда Вам надо быть подальше от людей, как Байрону.
Поэт гнева и гордыни, Лермонтов с юности полюбил чёрный образ Демона, воспев красоту зла, его одушевлённость, мученье, тоску и величие.

Лермонтов первым в русской литературе поднял религиозный вопрос о зле. Никто никогда не говорил о Боге с такой личной обидой:
Зачем так долго прекословил
надеждам юности моей?
Никто никогда не обращался к Богу с таким спокойным вызовом:
И пусть меня накажет Тот,
кто изобрёл мои мученья.
Никто никогда не благодарил Бога с такой горькой усмешкой:
Устрой лишь так, чтобы Тебя отныне
недолго я ещё благодарил.
Лермонтов чувствовал, что Демон, плод его фантазии, обретал какую-то свою, отдельную от него жизнь. Это уже не простой дух зла. Это отвергнутая Богом могучая и одинокая душа, хотя и мечтающая о прощении, как человек о счастье, но, если б оно последовало — может быть, и не принявшая бы его. И не только из гордости, а из любви к своей судьбе, такой, как она есть, из верности своему бытию.
Я не для ангелов и рая
всесильным Богом сотворён,
но для чего живу, страдая,
про это больше знает Он.
Но его Демон — это не Дьявол или, по крайней мере, не только Дьявол.
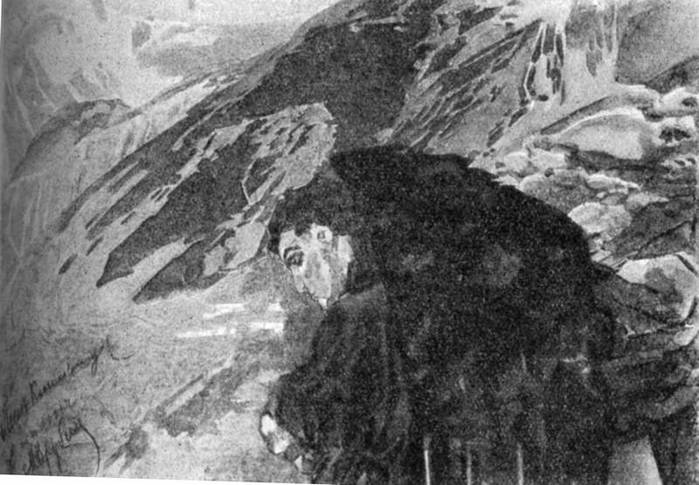
То не был ада дух ужасный,
порочный мученик, о нет!
Он был похож на вечер ясный,
ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет.
Почти то же самое говорит Лермонтов о себе самом:
Я к состоянью этому привык,
но ясно выразить его б не мог
ни демонский, ни ангельский язык.
«Какая нежная душа в нём!» - восклицал Белинский о Лермонтове. «Недобою силой веяло от него» - осуждал Тургенев. Так добрый или недобрый? И то, и другое. Ни то, ни другое.
Страшно делалось от невозможности понять самого себя, как будто несколько таинственных душ жили в нём под одной телесной оболочкой.
Меня спасало вдохновенье
от мелочных сует.
Но от своей души спасенья
и в самом счастье нет...
Первая любовь
Лермонтов начал жить, думать и чувствовать слишком рано. В том возрасте, когда детей тешат игры, он уже изведал безнадёжную любовь, чертил в тетрадях женские профили, а в 10 лет его опалило дыхание страсти.

Позже поэт опишет ту свою первую раннюю любовь — 9-летнюю девочку, встреченную на Кавказе у родственников, куда бабушка возила его лечиться на воды: «Кто мне поверит, что я уже знал любовь, имея 10 лет от роду? Белокурые волосы, голубые глаза...никого я так не любил, как в тот раз. И так рано! В 10 лет! О, эта загадка, этот потерянный рай до могилы будут терзать мой ум! Иногда мне странно, и я готов посмеяться над этой страстью! Но чаще плакать».

По мнению Байрона, поэта, очень близкого Лермонтову, такая страстная детская влюблённость является безошибочным признаком души, предназначенной для изящных искусств. Очевидно, к этому эпизоду детской любви относится стихотворение Лермонтова «Первая любовь», написанное в 16 лет:
О, этот взор в груди моей живёт.
Как совесть, душу он хранит от преступлений.
Он — след единственный младенческих видений.
И деву чудную любил я, как любить
не мог ещё с тех пор, не стану, может быть...
Но в 12 лет он переживёт ещё одну пылкую влюблённость. В стихотворении «К гению» рукою поэта была сделана приписка: «напоминание о том, что было в Ефремовской деревне в 1827 году, где я во второй раз полюбил 12-ти лет и поныне люблю».
Это была 12-летняя Анюта Столыпина, двоюродная сестра Лермонтова, с которой он встретился в селе Васильевском, куда ездил с отцом. Чистые серые глаза девочки заставили его забыть о синих. Они гуляли по саду, ели яблоки, падавшие с веток. Он брал с собой нож, чтобы очистить ей яблоко. Они долго шли, держась за руки, а потом садились под яблоню и молчали, глядя друг другу в глаза.
А однажды девочка увидела на стволе яблони свежевырезанные буквы «А» и «М». Потом Аня с матерью уехали в Москву. Мальчик одиноко бродил по саду. Ему больно было видеть места, где ещё вчера бывала она, буквы «А» и «М» на коре дерева. Он прижался лбом к этой яблоне. «Ты — свидетельница моей любви, - шептал он ей. - Ты видела нас счастливых. Живи дольше! Если ты засохнешь — и я умру. Пусть меня похоронят у твоих корней».
А потом им было написано стихотворение «Дереву», в котором он вспомнил «два талисмана», то есть те буквы А и М, вырезанные им на коре яблони.
И деревцо с моей любовью
Погибло, чтобы вновь не цвесть;
Я жизнь его купил бы кровью,
Но как переменить, что есть?
Ужели также вдохновенье
Умрет невозвратимо с ним?
Иль шуму светского волненья
Бороться с сердцем молодым?
Нет, нет, - мой дух бессмертен силой,
Мой гений веки пролетит;
И эти ветви над могилой
Певца-страдальца освятит.

Анна Столыпина. Рисунок Лермонтова на посвящении к драме "Menschen und Leidenschaften".
Когда через год Лермонтов снова увидел Анюту — его постигло жестокое разочарование. Она не только совсем не помнила их любви, говорила о ней с насмешкой, как о каком-нибудь пустяке, но и не сохранила в себе ничего от той прелестной девочки. Черты её изменились. Душа тоже. Он вспоминал о заветном дереве в Кропотове, но всё это больше не связывалось с ней, - это была не та милая девочка, а холодная, насмешливая светская девица. В Петербурге родные подыскали ей выгодную партию.

А. Г. ФИЛОСОФОВА, УРОЖДЕННАЯ СТОЛЫПИНА
Акварель В. Гау, 1843 г.
В «Стансах», которые Лермонтов напишет в тот же день, эта встреча отразилась как одна из самых крупных его жизненных катастроф.
Смеялась надо мною ты,
И я презреньем отвечал -
С тех пор сердечной пустоты
Я уж ничем не заменял.
Ничто не сблизит больше нас,
Ничто мне не отдаст покой...
Хоть в сердце шепчет чудный глас:
Я не могу любить другой.

«Что ж, пусть это живёт во мне одном», - с горечью думал он. Лермонтов пишет стихотворение «Ночь» - явное продолжение «Стансов», посвящённых Столыпиной:
Один я в тишине ночной;
Свеча сгоревшая трещит,
Перо в тетрадке записной
Головку женскую чертит:
Воспоминанье о былом,
Как тень, в кровавой пелене,
Спешит указывать перстом
На то, что было мило мне.
Слова, которые могли
Меня тревожить в те года,
Пылают предо мной в дали,
Хоть мной забыты навсегда.
И там скелеты прошлых лет
Стоят унылою толпой;
Меж ними есть один скелет -
Он обладал моей душой...
А позже он адресует Ане Столыпиной трагедию «Люди и страсти» со стихотворным посвящёнием ей:
Тобою только вдохновенный,
Я строки грустные писал,
Не знал ни славы, ни похвал,
не мысля о толпе презренной.
Одной тобою жил поэт,
Скрываючи в груди мятежной
Страданья многих, многих лет,
Свои мечты, твой образ нежный;
Назло враждующей судьбе
Имел он лишь одно в предмете:
Всю душу посвятить тебе,
И больше никому на свете!..
Его любовь отвергла ты,
Не заплативши за страданье.
Пусть пред тобой сии листы
Листами будут оправданья.
Прочти – он здесь своим пером
Напомнил о мечтах былого.
И если не полюбишь снова,
Ты, может быть, вздохнешь об нем.
АВТОГРАФ ПОСВЯЩЕНИЯ К ДРАМЕ „MENSCHEN UND LEIDENSCHAFTEN“ ЛЕРМОНТОВА
С ЗАРИСОВКОЙ А. Г. СТОЛЫПИНОЙ НА ПОЛЯХ
Но, хотя Лермонтов и похоронил свою любовь под сухой яблоней, однако оставаться с незанятым сердцем было не в его характере. Он вновь увлёкся, правда, опять ненадолго. Летом 1830 года он напишет:
Никто, никто, никто не усладил
В изгнанье сем тоски мятежной!
Любить? -- три раза я любил,
Любил три раза безнадежно.
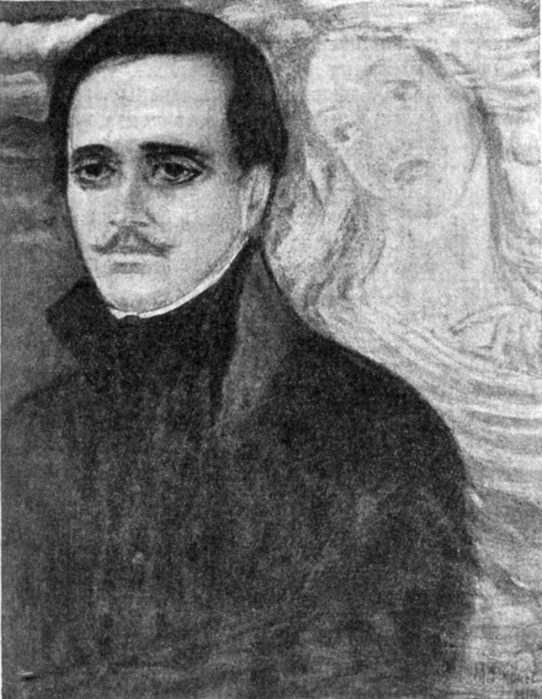
ЛЕРМОНТОВ
Акварель М. Дурнова, 1914 г.
Продолжение здесь: http://www.liveinternet.ru/users/4514961/post295571069/
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/227782.html
|
|
Процитировано 19 раз
Понравилось: 10 пользователям
Телерадиокомпания (окончание) |
Начало здесь
К 175-летию Областной библиотеки снимался документальный фильм.

Саратовская областная универсальная научная библиотека, где я читаю лекции с 1995 года
Снимала его всё та же телерадиокомпания за библиотечные деньги. Мне звонит директор: «Мы хотим снять Ваш вечер! Вы не против?»
- Нет, конечно. Только все эти Косовичи, Грачёвы снимать не будут.
- Ну как же так, мы же им деньги платим.
Я поверила. Сказала девчонкам-артисткам из студенческого театра «Данко», которые готовили композицию по моим стихам. Они обрадовались, дома родным сказали, что их будут снимать. В день вечера Грачёв, как я и ожидала, «заболел». Хорошо, был один постоянный слушатель с видеокамерой, снял вечер, мы хоть артистов не «обманули». Но кому сказать - не поверят: снят фильм о библиотеке, где нет и намёка на мои вечера поэзии, которые я провожу здесь с 1995 года и на которых перебывало уже полгорода. О которых Александр Кушнер писал: «Как же повезло Вашим слушателям в Саратове, что у них есть такой замечательный знаток поэзии, умный и вдумчивый её пропагандист».

Так пусть же мои слушатели и читатели знают теперь, какой ценой достаётся то, что они с таким нетерпением ждут и слушают в библиотечных залах. И пусть знают: пока они со мной - ничего эти телерадиокомпании с нами сделать не смогут.
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/224619.html
|
|
Телерадиокомпания |
Начало здесь

"Возглавляет А.В. Россошанский государственную телерадиокомпанию, но возглавляет с такой непринуждённостью, как свою личную... В общем, как известно, «государство - это я». Так вот и происходит конвертизация государственных ресурсов в частные интересы".
«Саратовская панорама» 8.08.07.

депутат Саратовской областной Думы,
директор филиала ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Саратов»
А.В. Россошанский
В моей «Тетради отзывов», которую я завела в областной библиотеке с 1995 года, встречаются такие записи:
«Очень устал от бездуховного телевидения, дурацкой рекламы, какого-то оскотинивания вокруг. Но безмерно счастлив, что есть возможность посещать лекции Кравченко. Большое спасибо. Это очень нужное важное дело.
Семёнов А.М».
«Считаем, что поэту нужно шире предоставлять телерадиоаудиторию для расширения круга слушателей.
Симонова, Скотникова».
«Можно ли надеяться, что этот или подобный цикл будет издан или дополнительно показан по ТВ?
(Подпись)».


Я отвечала людям, что все эти вопросы, апелляции - не ко мне, что их следует отправлять по соответствующим адресам, откуда их уже - продолжала мысленно - направят по хорошо всем известному адресу.
Моё противостояние с этими структурами длится уже давно. Когда это всё началось? Пожалуй, с 1993 года, когда Кашкин посоветовал по селектору Ёлшиной, чтобы та осветила мою победу на областном конкурсе поэзии, дала репортаж о презентации моего первого сборника в библиотеке. Почему-то это распоряжение её взбесило. Они умудрились в той передаче не назвать ни моей фамилии (люди потом звонили, спрашивали: а чьи это стихи читали артисты?), ни библиотеки на Зарубина, где это происходило (там страшно обиделись - ведь готовились, сценарий писали), не задать ни одного вопроса по существу, всё сведя к женской теме 8 марта:
(это — запись репетиции, в реале от неё практически ничего не осталось)
студентки 3 курса театрального факультета читают мои стихи в библиотеке
В 1995-м году мою передачу о Софии Парнок - уже записанную - вообще хотели запретить («наш народ ещё до этого не дозрел», - заявила Ёлшина), даже возродили худсовет ради такого дела, и хотя мне удалось её тогда отстоять, но время выхода поставили на полпервого ночи, чего в истории саратовского телевидения ещё не случалось, и её мало кто увидел.
А когда люди звонили на другой день и просили повторить передачу в более удобное время, Ёлшина злорадно сообщала, что её «уже стёрли». Вот так они стремились все эти годы стереть каждый мой след в культурной жизни Саратова, уничтожить малейшую память о нём. У Феликса Кривина есть такая сказка: мелок всё пытался что-то объяснить тряпке, написать, а тряпка всё его стирала, стирала... Помните?

«Полусказка» под названием «Сильный аргумент»:
«Мелок трудился вовсю. Он что-то писал, чертил, подсчитывал, а когда заполнил всю доску, отошел в сторону, спрашивая у окружающих:
- Ну, теперь понятно?
Тряпке было непонятно, и поэтому ей захотелось спорить. А так как иных доводов у нее не было, она просто взяла и стерла с доски все написанное.
Против такого аргумента трудно было возражать: Тряпка явно использовала свое служебное положение. Но Мелок и не думал сдаваться. Он принялся доказывать все с самого начала - очень подробно, обстоятельно, на всю доску.
Мысли его были достаточно убедительны, но - что поделаешь! - Тряпка опять ничего не поняла. И когда Мелок окончил, она лениво и небрежно снова стерла с доски все написанное.
Все, что так долго доказывал Мелок, чему он отдал себя без остатка...»
Когда в Доме учёных в 1996-м проходила презентация моего сборника «Сокровенное» с участием студентов театрального факультета, певцов, бардов, и концертный зал с трудом вместил всех пришедших на этот вечер, Ёлшина с Зориной отказались прислать съёмочную группу в ответ на приглашение администрации: «Мы выезжаем только по экстраординарным поводам». Хотя таких презентаций ещё не было в Саратове, о ней писали во многих газетах.
Особенно «обострилась» ненависть власть предержащих ГТРК после моего «открытого письма» С.Утцу, опубликованного в книге «По горячим следам» (2003) под названием «Как я не стала телеведущей».
Вместо того, чтобы на планёрке обсудить его, попытаться понять, почему же «проект осуществить не представляется возможным», как это изящно сформулировал мне Нагибин, или, вернее, по чьей вине он был сорван, они предпочли в отместку выдать мне волчий билет на всю оставшуюся жизнь. Остракизму подвергалось всё: мои новые циклы лекций, победы на Международном конкурсе, даже творческие успехи других людей, если они каким-то образом были связаны со мной.
После вечеров в библиотеке ко мне подходили люди, потрясённые услышанным: «Боже мой, и это у нас, в провинции! Да Вам надо в Москву!»

Приходили на костылях, со слуховыми аппаратами, с маленькими детьми, приезжали из Энгельса, Балаково, Ершова, Калининска, Волгограда. Снимали на пленку, на видео, конспектировали.



Одна женщина была из другого города, у неё был билет на вечерний поезд, и она в оставшиеся два часа зашла «на огонёк», а потом восторженно говорила библиотекарям: «Какие же вы счастливые, что можете это слышать постоянно! Я расскажу всем в Перми о ваших прекрасных вечерах!»

Знали бы эти люди, что в Саратове эти вечера упорно - до неприличия - замалчиваются, игнорируются, преследуются, очерняются... Вот уже 20 лет. Юбилей отмечать можно.
У меня более ста тем лекций, которые я разрабатывала более 20 лет. Золотой век, серебряный, средневековье, современность, зарубежье, забытые имена, новые имена, саратовские поэты... Уникальные компьютерные слайды, эксклюзивные факты, редкие музыкальные записи, фонограммы мастеров искусств, выступления «вживую» артистов, бардов. Надо ли объяснять, какой это титанический труд.
Если я рассказала о каком-то поэте и кто-то на этот вечер не смог попасть, то повторить я его смогу лишь через 5-6 лет (за это время лекция уже обрастает новым материалом), раньше просто очередь не дойдёт. То есть одну лекцию я могу прочитать лишь раз в 5-6 лет, в то время как другие лекторы каждую лекцию читают по 5-6 раз в разных библиотеках, музеях, культурных центрах, с объявлениями в прессе, по радио, ТВ и с соответствующей оплатой в каждом месте. Мне этот путь заказан. В объявлениях даже на этот единственный вечер, - как бы уникален он ни был - мне отказано. Многие люди до сих пор не знают об этих вечерах, их лишают этой информационной возможности. Лишают методично, старательно, целеустремлённо. Это при том, что вход на мои вечера все эти 20 лет - свободный, и объявления на них, как на все мероприятия культуры, должны даваться бесплатно. Когда я об этом рассказываю - люди недоумевают, не верят. Ну как же так?! Не может быть! А вот так. Может. У нас всё может.
Дело не в обиде, не в желании славы, заслуженной известности. Но скольких людей они лишили возможности услышать прекрасное, узнать новое, у скольких отняли этот ни с чем не сравнимый праздник души!
Одна моя горячая поклонница, купив книги в магазине, разыскала мой телефон и долго взволнованно кричала в трубку о родстве душ, о счастье понимания, о радости открытий. Она не могла и не хотела примириться с негативным отношением ко мне и к моей деятельности властей. И первое, что сделала - отправилась в народную приёмную ГТРК, где с наивностью андерсеновского мальчика допытывалась, почему они чинят препятствия таким замечательным лекциям, не хотят оповещать людей об их проведении, не говоря уже о том, чтобы их пропагандировать и освещать?

телерадиокомпания «Саратов»
Корреспондент Косович, подумав, выдал: «Характер у неё плохой. Маленькая, но настырная». Я удивилась, узнав такую «причину», так как этого Косовича никогда в глаза не видела, а разговаривала только по телефону, если можно назвать разговором диктовку объявлений. Да, приходилось проявлять настойчивость, звонить несколько раз, когда они не выполняли своих обещаний, а как иначе? Я привыкла доводить дело до конца.
Косович признался ей, что они «забыть не могут, как им Кашкин руки выкручивал», то есть заставлял когда-то передавать объявления о моих вечерах. Надо знать Кашкина - это щепетильнейший в таких вопросах человек.

В. И. Кашкин, председатель телерадиокомпании «Саратов» с 1991 по 1996 год
Он попросил у меня тогда официальную бумагу - письмо от директора библиотеки, и только после этого вызвал подчинённых, велев им «помочь в этом благородном деле». И вот этого они, оказывается, не могут мне «простить» с 1996 года (года смерти Кашкина). Не могут простить моего - такого долгого - существования в культурной жизни города, несмотря на все их старания.

«Если бы ко мне попало это объявление, - заявила Липатова, - я бы, конечно, его не дала». «Но почему?!» - надрывалась моя сподвижница. А по кочану. «Не даёт ответа», - как писал Гоголь. Охота на ведьм. Запрет на профессию. Как это может быть в наше время - не Лапиных, не Романовых? Ещё как может.

Главный редактор Главной редакции информационно-публицистических передач ГТРК Л. Ф. Липатова
С этой Липатовой у меня позже всё-таки состоялся разговор. Было это так.
За два дня до лекции я позвонила Грачёву и попросила записать объявление. (Бравший у меня накануне интервью Голубь обещал, что они будут беспрепятственно их давать). Грачёву же лень было записывать, он всячески давал понять, что занят, что у него срочное дело, просил перезвонить, но в назначенный час исчезал, прятался, и выручавшая его Сальникова объявляла мне, что он «вышел». Так продолжалось раз десять на дню. Это уже походило на издевательство. Наконец терпение моё лопнуло, и я с металлом в голосе настояла, чтобы он в конце концов записал объявление. Грачёв нехотя подчинился, хотя даже по телефону чувствовалось, как его от этого корёжит.

Е. Грачёв, ведущий радиопрограмм ГТРК
На другой день слушаю радио: идёт блок новостей, где-то в середине - моё. Потом этот блок должен повторяться три раза. Но во время повтора я вдруг обнаруживаю, что моё объявление исчезло. Другие мероприятия в нашей библиотеке перечисляются - гораздо менее значимые - собрание садоводов, например, а информация о вечере изъята. Ну ладно бы, если б добавились какие-то более срочные новости, так нет, минуты три после этого звучала музыка. За это время объявление могло бы прозвучать по меньшей мере трижды.
Я звоню Грачёву, чтобы потребовать объяснений - ведь и ежу ясно, что это сделано намеренно! - но он, как всегда, прячется за спину Сальниковой. Та начинает мне вешать лапшу, что «объявления платные».
- Это неправда, - говорю я. Устала уже опровергать за 20 лет. - Объявления на культуру всегда бесплатны. И Вы это знаете.
- Да, но у нас приоритет коммерческих объявлений, мы должны давать в первую очередь их.
- У вас не было в этом выпуске никаких новых объявлений, всё повторялось один в один. И только моё объявление почему-то надо было вымарать. У вас потом музыка 3 минуты звучала! Ведь сколько людей могли услышать и прийти, а вы...
- Звоните Липатовой, - отрезала Сальникова. - Она Вам всё объяснит.
Звоню. Хотя ничего хорошего уже не ожидаю. Говорю, что хочу пригласить её на свой вечер, хотя понимаю, что бесполезно.
- Правильно понимаете. У нас много работы. Нам не до поэзии.

Это я поняла давно. Но... (Пытаюсь объяснить важность этого вечера и объявления на него). Липатова взрывается:
- Сколько я здесь работаю - я только и слышу о Ваших вечерах, только и слышу Вашу фамилию!
Пытаюсь объяснить, что это не мои вечера, то есть вечера не моей поэзии, а тех поэтов-классиков, о которых я рассказываю. Но ей без разницы.

Эти Ваши ан-о-он-сы-ы! - с какой-то гадливостью в голосе тянет она. Хотя это были всего лишь краткие объявления, а не анонсы, о трехминутных анонсах была моя робкая просьба, пожелание, с которым я обратилась к Голубю, и даже не просьба, а скорее мечта, тотчас встретившая у Липатовой глумливый отклик.
- Вы можете мне объяснить, почему не передать объявление на вечер, если есть лишнее время, если вместо этого долго играет музыка?
- Я Вам отвечу. - И - членораздельно, нагло:
- He Ва-ше де-ло!
- Значит, вы отказываетесь их передавать? Значит, я должна читать лекции, по-вашему, для пустого зала?
- Присылайте по электронной почте. (Присылали сто раз, они её игнорируют).
- И тогда вы дадите?
- А это уж как получится. Хотим - дадим, хотим - нет.
Но «хотеть» они не хотели. Потом я узнала, что Грачёв накануне нажаловался Липатовой, что я якобы не давала ему работать. Это после того, как он десять раз заставлял ему перезванивать! Она просто вынудила меня сказать ей всё, что стояло у горла. И я об этом не жалею. Как гора с плеч.
- Вы ведёте себя безобразно! - гремело в трубке. - Чё-ё-рная неблагодарность! Чё-ё-ёрная!
Я ещё их должна благодарить! На какую «благодарность» они намекают?
Однако после наложенного высочайшей лапой табу на мои вечера я с радостью увидела: залы по-прежнему полны! Вот уже полтора года - при абсолютной информационной блокаде, при полной изоляции - мои лекции собирают до 200-250 человек.
На вечере Бродского в марте некуда было ставить стулья. На вечере Окуджавы не хватило номерков в гардеробе. Очередь выстраивалась от Горького до Московской. Зал ведь не обманешь. Он голосует «ногами». Это не эфир, в который можно безнаказанно говорить что угодно, не зная ответной реакции слушателей, а чуть что - отключая микрофон.
В «Общей газете РУ» (февраль 2007) Липатова хвалится своей передачей «Круговорот», которую они ведут с С.Утцем: «Именно передачи в прямом эфире пользуются особенной популярностью. Например, еженедельная программа «Круговорот»... В ней часто возникают серьёзные дискуссии между авторами-ведущими и нашими слушателями».
Слушала я одну из этих передач, в среду 31 января, где Утц и Липатова рассуждали о самоубийстве. Звонили в основном пенсионеры: ругали власть, высокие цены, жаловались на невозможную жизнь. Техника дискуссий была такова. Звонок. Не успел человек заикнуться, Утц его прерывает:

«Как Вас зовут? Сколько Вам лет?» Хотя женщин спрашивать о возрасте, мягко говоря, неэтично. Но тут хитрость: на эфир каждому даётся одна минута, и если звонок неблагоприятный, где ругают власть, Ипатова, то эти вопросы тянут время, и после двух-трёх слов человек благополучно отключается от эфира, не успев назвать всех косвенных виновников самоубийств.
Схема: «Я хочу сказать... - Как Вас зовут?», - вкрадчиво, сбивая напор собеседника. Ответив, тот пытается продолжать, но его осаждают вопросом: «Сколько Вам лет?» Да что это, медицинская передача, что ли! (Впрочем, Утц -бывший врач, вспомнила я, - то ли уролог, то ли венеролог).

Одна женщина решила перехитрить и с ходу выпалила скороговоркой: «Меня зовут Татьяна Ивановна, мне 56 лет. Я считаю, что власть делает жизнь невыносимой! Выступавший недавно Ипатов говорил неправду... Вы, наверное, сейчас отключите мой телефон, я слишком долго ждала...». Как в воду глядела - телефон отключён.
И вдруг звонит какая-то дама, которая возмущена предыдущими критиковавшими власть звонками: «Те, кто живут трудно - никогда не покончат с собой. Надо быть оптимистом. А эти, которые ненавидят... Почему вы всех ненавидите - весь мир, губернатора, правительство? Всё им нехорошо! Надо начинать с себя. Вы должны учить детей и внуков смирению...» Липатова и Утц чуть ей не рукоплещут.
- Золотые слова! Вот ими бы и закончить передачу...
И телефон ей не отключали минут пять, если не больше. Потрафила. По принципу У-2 («угадать - угодить»).
Один пенсионер раздражённо говорит Утцу:
- Вы даёте людям сказать два слова и отключаете, а сами говорите уже 27 минут!
Утц:
- Извините! Мы за это получаем зарплату. Из расчёта количества слов нам платят деньги.

(Да? - подумала я. А качество слов не учитывается?)
- И вообще, это наша передача, куда хотим, туда и повернём.
Они всё хотели «повернуть» к детям, к молодёжи, которые кончают с собой по глупости, от несчастной любви («почитайте их дневники!» - советовал Утц), однако, как назло, звонили одни пенсионеры, винившие отцов города во всём, в том числе и в самоубийствах. Но ведь ведущим не за это «зарплату платят», чтобы губернатора критиковать.

губернатор П. Ипатов (ныне в отставке)
Тут Липатова решила блеснуть эрудицией и вспомнила Цветаеву (видимо, чтобы уйти от щекотливой злобы дня). Её фраза (дословно):
- Как она рвалась в Россию! Как она любила жизнь! Народ! А вот не дали ей место нянечки в детском саду - и покончила с собой.
О самоубийстве Цветаевой написаны тома. А Липатовой всё ясно. Оказывается, всё дело было в трудоустройстве. Надо же, как просто ларчик открывался.
Утц:
- Я вот не считаю себя человеком с особо крепкими нервами. Но я не представляю себе, что могло бы случиться, чтобы решиться на такое.
Не представляет? Что ж, можно позавидовать. Или, скорее, пожалеть...
Какая сложная, тонкая, больная тема. Как надо было бережно готовить такую передачу, подбирать каждый факт, продумывать каждое слово - ведь такая деликатная материя! А не ляпать, что попало, в эфир. Какие там дискуссии! Это напоминало неравный поединок: слушатели хотели сказать, что хотели, а ведущие, пользуясь своими полномочиями, строго следили, чтобы говорили только то, что нужно им. Поединок с уже заученным и оплаченным финалом.

Второй раз моё знакомство с творчеством радиокомпании состоялось в Прощёное воскресенье 18 февраля. С 10 до 11 утра звучала радиопостановка по поэме Е. Грачёва «чего-то там в джунглях или телефонный роман».

Надо сказать, опусы Грачёва частенько звучат в местном эфире (своя рука владыка). Но я как услышу это наигранно-оживлённое: «Сегодня у нас в гостях...». В каких гостях? Логичнее было бы сказать: в хозяевах. Он из этих «гостей» не вылазит. Читает, кажется, даже что-то поёт. Не помню. Но то, что было в это самое Прощёное воскресенье - забыть невозможно. Только в джунглях можно принять такое за поэзию.
«Романа» как такового нет - лишь зарифмованные, напичканные молодежным сленгом тары-бары то скучающих подруг, то флиртующих с ними тинейджеров, имитирующие телефонные разговоры. Этим автор значительно облегчил себе задачу - что взять с телефонного трёпа! Какую философскую глубину, каких откровений можно от него ожидать? Поразительная бедность, даже скудость мысли, плоскость, просто какое-то плоскостопие мышления. Примитив в самом своём классическом воплощении. Хотела записать что-нибудь для примера, но вскоре бросила ручку - не записывать же всю «поэму».
«Стихи должны быть многослойными», - говорила Инна Лиснянская. Стихотворение - это пространство, из которого обязательно должен быть экзистенциальный выход, выход к новому, большому смыслу. Отталкиваясь от каких-то конкретных вещей и впечатлений, мы в конце концов переходим на другой, более высокий уровень. У Грачёва этого не происходит. Всё на одном пятачке. Да, сленг он изучил неплохо. Но этого мало, чтобы претендовать на некое художественное слово.
Причём вся эта галиматья была густо оснащена музыкальными и шумовыми эффектами: всамделишными телефонными звонками, какофонией звуков, имитирующей современную музыку века, каждые 6-8 строк жалкого опуса читали актёры, оперативно сменяя друг друга. «Это же сколько денег в эту «постановку» вбухано!» - ужаснулась было я, да спохватилась: что я, это ж все свои читают, они все из одной редакции, то бишь компании, какие счёты между своими.

Каждые 5-10 минут голос корреспондентки Нечаевой (оттуда же) торжественно, чуть ли не ликующе вещал: «Вы слушаете радиопостановку по поэме...» - не давая забыть об этом прискорбном факте ни на минуту. Так когда-то сообщалось о полёте в космос - с такой же дотошной регулярностью.
Сначала я слушала внимательно, но запаса терпения хватило лишь минут на двадцать. Вряд ли кто-то выдержал дольше. Думаю, даже в Прощеное воскресенье такое разбазаривание эфирного времени простить нельзя.
В воскресенье 20 марта с 10-ти до 10.20 утра в местном эфире звучали тёплые поздравления имениннице оператору Нелли Безбородовой. Каждый член редакции спешил отметиться: «Дорогая Неличка, поздравляем! Желаем тебе (и - длинный перечень обычных в таких случаях банальностей). За эти 15-20 минут я узнала, что Нелли Безбородова - милая, улыбчивая, добрая, приветливая, что у неё взрослая дочь на мехмате, умница и красавица и т.д. Недоумение постепенно сменялось возмущением. Да что же это такое! Дождитесь обеденного перерыва и говорите обо всём этом своей подруге и сослуживице лично. Почему об этом должен знать весь город?
Дальше вклинился Грачёв (по методу Куракина), замаскировав под поздравление рекламу своих виршей. После дежурных комплиментов последовало: «А как помогла мне Неля, когда озвучивала мою поэму (что-то там - опять не запомнила - в джунглях), дальше - о том, как она ее достойно музыкально оформила (запомнила фразу: «мы вместе с ней ткали это полотно» - ну прямо тебе «Война и мир»!) И не удержался, чтобы не процитировать тут же стишок собственного сочинения.
Всё это двадцатиминутное умилительное воркование в эфире имеет своё точное обозначение: бесстыдное разбазаривание эфирного времени в личных целях. И это при том, что на какой-то жизненно важный вопрос или высказывание людям даётся всего минута, после чего их безжалостно «отключают» на полуслове.
Ещё один постоянный обитатель местного эфира - Н. Куракин.

В последнее время он повадился звонить во все программы Н. Макеевой - разумеется, анонимно («инкогнито», как он любит говорить; помню, собираясь на вечер Кековой, оповещал: «я пойду инкогнито!»), то с целью прославить своих дружков («Муллин - первый поэт губернии!», - объявлял он ничтоже сумняшеся), то - сквитаться с врагом, то бишь со мной. Злоба настолько застит ему глаза, что он не разбирает, уместно ли в данном случае ниспровержение моего творчества или у передачи всё-таки другая тема?
Передача была о саратовском барде Кириллове, с которым я даже не была знакома.

православный бард А. Кириллов
Но, видимо, Куракин спутал его с другим православным бардом С. Ивановым, написавшим когда-то песню на мои стихи «Утоли моя печали» (на них написали музыку и В. Мишле, и П. Старчик), которая имела шумный успех на презентации 1996 года, её несколько раз просили исполнить на бис.
Куракин этого не забыл и напустился на ни в чём не повинного Кириллова в прямом эфире: что, дескать, Вы, такой правоверный, можете иметь общего с таким исчадием, как Н.М., пишущая богохульные стихи (тут он процитировал четыре мои строчки «Что там, в этой мёртвой остуди...», за что я ему весьма благодарна - хоть посредством Куракина радиослушатели смогли их услышать).
Казалось бы, неуместно, не по адресу, не по существу, Кириллов не поймёт, о ком речь, ни сном ни духом, другая бы ведущая осадила злостного мстителя или хотя бы попросила назвать себя. Когда люди услышали бы фамилию Куракина - всем сразу стало бы ясно, чем этот звонок вызван, какими истинными причинами, о его невменяемой ненависти к моей особе знает уже весь город. Но он, обычно громогласно и с удовольствием представлявшийся, читая свои творения, здесь предпочёл остаться «инкогнито», изображая некий «глас народа».
Макеева, разумеется, узнала голос Куракина (он уже десятки раз выступал в её программах), но тоже почему-то не спешила его «выдавать». Она жадно ухватилась за этот звонок и стала подталкивать Кириллова к «правильному» ответу, то есть к осуждению меня. Платят, что ли, Куракину за эти звонки? - подумалось невольно. Наверное, никто не звонит, вот и договорились. Или наоборот, он им платит, чтоб свои личные счёты сводить?
Вспомнилось, как И. Прозорова в ответ на мои отчаянные попытки пробить очередное объявление на вечер классика, по-дружески посоветовала: «Хотите, чтобы они звучали - найдите спонсора».
- Я?! Должна платить?!
- Ну не я же...
И привела в пример недавний случай:
Инна Прозорова, ведущая ГТРК
- Пришёл как-то к нам один поэт. Не буду называть его фамилию, но - крайне неприятный, он всем нам здесь очень не понравился. И заявил: «Я - поэт, я хочу читать тут свои стихи!».

- Куракин, что ли?
- Откуда Вы знаете? - растерялась Прозорова.
- Да кто же ещё так себя беззастенчиво рекламирует?
- Так вот редактор и говорит: пусть платит. За выход своих книжек он платит ведь, ну и здесь плати.
- Да, но я не Куракин, и речь не о моих стихах, а о культурной программе для всего города, о циклах просветительских литературно-музыкальных вечеров.
Но им было всё едино. С Куракиным им видимо удалось потом договориться, судя по регулярности его вылазок в эфир.
С этой оплатой ко мне как-то подъехала Г. Шевченко, правда не прямо, a обиняками: не знаю ли я таких поэтов, которые согласились бы на часовую передачу за деньги, поскольку у них всё теперь переходит на коммерческую основу.

- И сколько? - полюбопытствовала я.
- Пять тысяч (то был 2001-2002 год).
Тогда за эту сумму можно было издать солидную книгу. Я усомнилась, что они таких дураков где-нибудь найдут. Но, видимо, нашли.
Так что знайте, уважаемые радиослушатели, если вы слышите в эфире слова о гениальности какого-то саратовского поэта (пусть даже сами стихи этому резко противоречат), то это значит, что поэтом за то хорошо заплачено. А если просто - о хорошем поэте, то заплачено несколько меньше... Может быть, я утрирую, но суть от этого не меняется.
А если всё же все эти Куракины-Мартыновы-Амусины-Грачёвы звучат по саратовскому радио совершенно бесплатно, единственно из любви к их искусству или же сумев понравиться чем-нибудь иным, то в таком случае как понять эти намёки на деньги, с которыми ко мне подъезжали - что, с меня одной их хотели брать, что ли? В виде исключения?
Это причём всего лишь за объявления о литературных вечерах. Я представляю, какая была бы заломлена цена, если б я тоже пожелала почитать свои стихи в эфире, пусть даже победившие на Международном конкурсе «Пушкинская лира» в Нью-Йорке.

«Мне-то Ваши стихи давно нравятся», - вздохнула тогда Прозорова, и в её недосказанной реплике ясно читалось всесильное «но», способное перечеркнуть любые слова и фразы.
Вот такая она, тёплая дружественная телерадиокомпания. Радушная и щедрая к своим и сурово-непримиримая к чужим и неплатёжеспособным.

Люди обречены смотреть и слушать один и тот же круг «приближённых». Водораздел между нашими и ненашими настолько глубок, что преодолеет его редкая птица - подстрелят на лету.
Мафия оккупировала всё, в том числе и культуру. Какой ужас у нас выдаётся за творчество бардов по радио - это же невозможно слушать!

А прекрасные песни Светланы Лебедевой, которые уже расходятся в дисках по городу (абсолютный слух, божественные мелодии, чудный голос, какая-то внутренняя интеллигентность и благородство всего её облика, - зал взрывается аплодисментами, едва лишь она поднимается на сцену) Макеевой упорно - в течение многих лет! - игнорируются.
Она демонстративно не записывала её песен на вечере в корниловской студии, хотя записывала всё остальное. Она отвергла кассету с песнями Лебедевой на мои стихи, которую ей передал по моей просьбе П. Шаров, выбрав из неё лишь крошечный кусочек из песни "Люди с хорошими лицами..." ("Моим слушателям"):
https://www.youtube.com/watch?v=Gw3x5-HA_ZI&list=PLrgDSzTXDpvMD-HLgTkjPwtraUEsiF6XU&index=19&t=3s
Причём прозвучала она в её передаче как бы о слушателях корниловской литстудии, что неправда, так как эти люди в большинстве своём ничем не интересуются, кроме своих виршей, а я писала о людях, любящих большую Поэзию, приходящих на вечера о Поэтах. Как можно было в упор не видеть самородка Лебедеву, предпочитая ей и навязывая слушателям жуткую какофонию Кирилловых и Ляляевых?
А очень просто. По причине «связей порочащих», в которых та «замечена».

Вот если бы она на стихи Куракина или Амусина писала - тогда другое дело.
Студент I курса саратовской консерватории В.Орлов победил во Всероссийском конкурсе молодых композиторов в Самаре в декабре 2006-го, заняв 2 место с вокальным циклом «Чужая душа» на мои стихи.

В Самаре этот цикл звучал по радио, телевидению, у нас же - всё то же молчаливое неприятие всё по той же причине, в которой вслух они никогда не сознаются. И будут «отзывать» куда-то камеры, «заболевать» в день съёмок, ссылаться на недостаточную (или, наоборот, излишнюю) «экстраординарность» момента. Это трусливое, но усердное пакостничество (надо называть вещи своими именами!) бывает, надо сказать, весьма изобретательно.
Приведу только два случая. Первый связан с вечером мистики в корниловской литстудии, что был 22 апреля 2003 года. Я туда давно уже не ходила, но Корнилов настойчиво зазывал меня на это занятие, чтобы я прочла там свою поэму «По ту сторону света».

И. М. Корнилов, руководитель литературной студии «Молодые голоса»
Я спросила, что ещё там будет, какая программа. Оказывается, Корнилов хотел посвятить её рассказам и разным мистическим случаям, которые с людьми приключались в жизни. Я представила себе, на какой низкий бытовой уровень всё это будет спущено, и предложила «взять нотой выше»: рассказать о теме мистики в литературе. Корнилов с радостью согласился.
Макеева пришла в студию на занятие, привлечённая темой, не ожидая увидеть там меня. «А почему столько народу?» - недоумённо спрашивала она, озираясь вокруг. Народу действительно было раз в пять больше, чем обычно у Корнилова (накануне было объявление по радио). Макеева и мысли не допускала, по-видимому, что все эти люди пришли послушать меня. Если бы она хоть раз за 20 лет явилась на любой мой литературный вечер, то увидела бы не 40-50, как тогда, а 250-300 человек.
Но этого не случилось и, думаю, уже не произойдёт. Зато она регулярно посещала тусовки Куракина, видимо, с удовольствием слушая его самоупоённые дифирамбы самому себе и выступления жалкой кучки графоманов. Но это - кол-лек-тив, и это более достойно внимания радиокомпании.
Так уж получилось, что практически весь вечер я везла на себе: рассказывала о теме потустороннего мира в произведениях В. Соловьёва, Б. Поплавского, А. Белого, Р. Рильке, М. Цветаевой, И.Тургенева, Ю. Нагибина, В. Ходасевича, И. Бродского, Б. Рыжего.

Макеева сидела рядом с выключенным микрофоном, - записывать меня?! Это не входило в планы её начальства. Люди слушали, затаив дыхание, она - со скучающим видом, проявляя нетерпение, когда же умолкнет ненавистная Кравченко и заговорит коллективная масса.
Когда я слушала потом эту передачу по радио, я оценила по достоинству мастерство монтажа наших старых кадров. Да, это надо было суметь. Аплодисменты, которые долго не стихали, восторженные высказывании по поводу моих рассказов и стихов - всё это было сведено на нет. Из поэмы прозвучало лишь две строфы (причём мой голос отчаянно «буратинил»). «Ну, вы уже, наверное, составили себе представление, - подытожила этот отрывок ведущая. - Но! (с нажимом) были и замечания!». И даёт полностью идиотский вопрос-претензию Зрячкина: «Зачем в поэме целых три эпиграфа?»

Эти эпиграфы в своё время резко не понравились Байбузе, и это было его единственное замечание по поводу всей книги, - хочет, мол, свою образованность показать.
Н. Байбуза, руководитель литстудии при СП
Но эпиграфы пишутся не для этого, а чтобы прояснить главную мысль, суть произведения, их может быть сколько угодно.
И вот Зрячкин, повторяя слова своего гуру и учителя, задал мне тот же нелепый вопрос, который показался Макеевой достойней внимания слушателей, чем строки поэмы. Я как-то не слишком удачно на него ответила («самому умному философу трудно отвечать на глупые вопросы»), но этот ответ Макеева с готовностью дала с какими-то последующими возражениями Зрячкина («Вы же самодостаточны, зачем Вам эпиграфы?» и тому подобная чушь).
Было создано впечатление, что я не поэму читала, не лекцию, а оправдывалась в ответ на взыскательную критику собратьев по перу. «Она Вас похерила», - сказал мне тогда П.Шаров, прослушав передачу. Что ж, в этом их творчество, их маленькие творческие радости. Успеха им в их нелёгком неблагодарном труде.
Ещё случай. 3 декабря 2006 года - юбилей Дома книги (70 лет).

Меня приглашают выступить перед покупателями и - поскольку мои книги на I месте по рейтингу продаж на «Саратовском» стенде - дают не 15 минут, как всем, а 30-40. Мы пришли с Лебедевой, чуть опоздали.

- Там уж Вас Ваши поклонницы дожидаются, - говорили продавцы, ставя стулья самым стареньким. После нашего выступления раскупают мои книги, подходят за автографами.
- А в каком сборнике стихотворение о маме? Я своей дочке подарю.
- А в каком про чебуречную? Мне понравилось...
И вот показывает TV. Книг моих на стенде, которые занимают почти всю верхнюю полку - нет. И вообще этого стенда вблизи не показывают, потому что трудно, наверное, чисто технически при этом «замазать» мои книги. Поёт Лебедева «Люди с хорошими лицами... » (дали буквально полкуплета).
Я, которая рядом сижу, старательно вырезана, хотя выступали мы вместе, я читала, она пела. А перед этим Мартынову и Муллина показывают вдвоём за столом на сцене, как сиамских близнецов (читали, что ли в унисон, как сестры Цветаевы?).
Нашу композицию снимали, подходили с блокнотами, уточняли фамилии, но Там Наверху им объяснили, что к чему, и ничего Этого в эфир не просочилось, за исключением крошечного кусочка песни (без объявления имён авторов и исполнителей). Да и то лишь потому, что уж очень соблазнительно было закончить словами: «люди с хорошими лицами», якобы это те, кто приходит в книжный магазин. Они не учли, что песню эту знает уже полСаратова, что мы уже несколько лет заканчиваем ею каждый творческий вечер, что она расходится в кассетах по городу (люди переписывают друг у друга), что её уже разучили и распевают в колонии строгого режима и поют на концертах самодеятельности, что она опубликована в нескольких моих сборниках, разошлась по полкам библиотек и книжных магазинов. И очень многие в Саратове знают, чьи это стихи и кому они в действительности посвящены. Вот этого руководители телерадиокомпании не учли, иначе они не дали бы и этого фрагментика песни, связанного для них с моим одиозным именем. Мне звонили тогда многие мои слушатели и спрашивали:
- Слышали, Ваша песня звучала?
И недоумевали, почему не показали при этом меня, сидевшую рядом. Но разве объяснишь это нормальным людям? Как они не устанут - столько лет! -отслеживать, вымарывать, вытравлять... Или это уже вошло в привычку, в условный рефлекс, в состав крови?
Но - кончается время радиокомпании. Люди несут заявления с отказами от радиоточек - нечего там слушать, кроме погоды. По мнению Л. Барановой (уволенной под надуманным предлогом с поста заместителя председателя ГТРК), «компания неуклонно движется к разрушению» («Саратовская панорама» № 31, 2007).
Один мой постоянный слушатель лекций Валериан Морозов как-то оказался на радио, где у него брали интервью по какому-то поводу.
выступление моего читателя и слушателя В. Морозова на вечере в библиотеке
«Ой, не говорите, не говорите мне о Кравченко!» - зажала уши и закатила к небу глаза радиодама, когда он попытался поделиться своими восторгами от моих лекций. А почему, спрашивается, «не говорите»? Это же не ваша частная лавочка, господа. К вам не в гости пришли чай пить. Вы же государственная компания, -так, по крайней, мере, зовётесь. Вы обязаны знать и сообщать о всех заметных явлениях в культурной жизни региона. Но за двадцать с лишним лет (первую свою публичную лекцию о Высоцком я прочла в 1986 году) ни у одного штатного газетчика или телерадиоработника не совпали интересы с поэзией ни разу - а ведь я проводила по 10-11 вечеров ежегодно! Ну ладно бы пришли, послушали - не понравилось. А то ведь понятия не имеют, что это такое! Но тем не менее... «Пастернака не читал, но скажу». Вспомнились кстати его строки:
Что же сделал я за пакость,
я, убийца и злодей?
Я весь мир заставил плакать
над красой земли моей.
Ни в коей мере не отождествляю себя с опальным гением, но вот в гонителях сходство просматривается вполне. Природа их во все времена одинакова.
Саратовская телерадиокомпания уже давно действует по принципу вахтёров: «этого - не пущать!» Держиморды. Не пущать - в эфир, в культуру, в поэзию, в умы и сердца людей. Да я уже давно там! Это вам туда путь заказан.

Кто-то мне рассказал, что прежде, чем вышел первый номер новоиспечённой «Волги», у Амусина был уже наготове «чёрный список»: кого ни при каких обстоятельствах там не печатать. Причём «не пущают» они в литературу, к читателям, к слушателям, естественно, не по степени таланта, а по самым низким личным причинам: кто-то наступил на хвост, кто-то покритиковал, кто-то пишет лучше. По этой причине в Саратове уже давно нет честной объективной критики: или обслуживают свой клан, или сводят счёты с неугодными. Поэтому мы имеем литературу и культуру, какую имеем.
Впрочем, иногда объявления прорывались. Но какой ценой! Сейчас уже об этом случае можно рассказать: люди эти там уже не работают и карьере их я не поврежу. Была такая - может, кто ещё помнит, - радиостанция «Мир». И была у неё так называемая «третья кнопка», то есть канал, действующий на третьей кнопке трёхканального радиоприёмника. Там шли длинные передачи о культуре, которые вела журналистка Вера Ионова.
Однажды включаю этот канал и слышу свою лекцию о Гумилёве, которую она читает (зачитывает слово в слово) из моей книги «Звезда или хлеб?» (1999). Иногда, впрочем, кое-где вставляя «я думаю» и «как мне кажется». Да и фамилии поэтов звучали без имён, так как она не знала, по-видимому, как расшифровываются их инициалы. Моё авторство не упоминалось. О книге, моих лекциях - ни слова. Но в начале трансляции обязательное: «У микрофона Вера Ионова» и в конце опять же назвать себя не забыла.
Давид звонит туда от имени радиослушателя: «Скажите, кто автор передачи о Гумилёве?» - «Вера Ионова», - без зазрения совести отвечает она. Тут уже за трубку трясущимися руками берусь я: «Так кто автор?» Она узнала мой голос и тут же переориентировалась: «Наталия Кравченко!» Выкручивалась, как могла. И якобы она её «обработала» (но после того, как я сказала, что передача записана на магнитофон, замолкла). И то, что поскольку купила книгу в магазине, то имеет право распоряжаться ею на своё усмотрение...
А главная подлость была в том, что где-то за полгода до этого Давид встретил в библиотеке её начальницу, Маргариту Шашкину, постоянную посетительницу моих лекций, и предложил ей подготовить передачу по этой моей книге. Она ответила что-то неопределённое, вроде как «подумаем». И вот «додумались». На вопрос, почему не пригласили читать меня, автора, Ионова сказала:
- A y нас нет денег на оплату.
- Но оплата бывает разной. Если бы вы объявили в конце, где продаётся эта книга, где можно послушать эти лекции в полном объёме, - меня бы это вполне устроило.
Потом я узнала, что это была уже восьмая лекция из моей книги, которую они читали от своего имени.

на презентации моей книги «Звезда или хлеб?» в библиотеке
Сколько людей могли бы узнать - но не узнали - о моих лекциях, вечерах, книгах! Сколько читателей и слушателей у меня могло бы прибавиться!
Можно было пожаловаться начальству, дать делу ход. Ионова очень этого боялась. Я подумала: ну что с того, если её уволят? Неизвестно ещё, кто придёт на смену. И я поставила ей условие: я не поднимаю шума, но она теперь за это будет регулярно давать объявления на мои вечера на своём канале. И она давала - слово в слово, исправно, почти год, пока эту радиостанцию не закрыли.
Вспоминается ещё один эпизод. В пятницу 20 февраля (это был 2004 год) Татьяна Шварц из ГТРК должна была (обещала) объявить в новостях культуры по ТВ о моей победе в Международном поэтическом конкурсе. (За день до этого были опубликованы итоги в «Книжном обозрении», где моё имя стояло первым в списке от России). В глубине души я знала, что этого ей не дадут сделать. Но под каким предлогом? Когда-то Зорина заявляла, что они «выезжают только по экстраординарным поводам». На этот раз, наверное, наоборот - слишком «эпохальное» событие для местных новостей.
Включаю ящик. В «Новостях культуры» идёт сюжет (в пятый или шестой раз) - («старости культуры» - это название им больше подходит) - о книге немецкого писателя в немецком зале в нашей библиотеке. Потом какой-то французский сюжет. Обо мне ни слова. Потом долго - выставка художника Батусова, друга Сокульского. С важным видом даёт интервью И. Алексеев.

Звучат торжественные фразы: «Мы собираемся совершить акцию... вывести Саратов на новое поэтическое пространство... Но мы не хотим никуда ехать. Мы хотим вывести Саратов на мировой уровень.». (Это уже подключился Сокульский).

поэт-миллионер А. Сокульский, владелец сети обувных магазинов в Саратове
Шварц слушает всю эту галиматью с робким подобострастным видом, как школьница. Нет, чтобы задать вопрос: «Объясните по-русски, что это за акция? В чём она заключается конкретно? Каким образом вы собираетесь выйти на мировой уровень?» - и вся их бодяга рассыпалась бы, как карточный домик.
В переводе на общечеловеческий язык это значит, что Алексеев с Сокульским приглашают на свою тусовку в ресторане «Камелот» узкий круг своих друзей, редакторов каких-то третьестепенных московских журналов, с которыми они познакомились в Интернете. Кто эти великие мировые имена, что приедут к ним в гости? Евтушенко? Кушнер? Ахмадулина? Ни одного имени не прозвучало.
Это их личная тусовка, их личные знакомства. Ну, напечатают они их в своих журналах после тёплого приёма в Саратове. При чём здесь какие-то акции? Какое это всё имеет отношение к саратовским поэтам, не принадлежащим к камелотской компании? Почему ТВ должно освещать их обещания и посулы, то есть то, чего ещё не произошло? Это что ли «экстраординарный» повод к съёмкам?
А вот то, что действительно выводит Саратов на международный уровень, моя победа на конкурсе - почему-то ими замалчивается. Для неё секунды в эфире не нашлось. Как это понимать, господа? Вы не согласны с Международным жюри? Или кому-то это - «серпом по яйцам»? (Бродский).
Через неделю у меня должен быть вечер в библиотеке. Шварц дважды звонила, первый - выясняла подробности победы на конкурсе, второй - за день до вечера - сообщала, что камеры заказаны и завтра они приедут снимать, брать интервью. Но в последний момент - буквально за три часа до начала - вдруг новое сообщение: съёмок не будет. Вроде как эти камеры куда-то срочно понадобились начальству. Тон у неё был недоуменный, обескураженный.
- Я в первый раз с таким сталкиваюсь. Какие-то непонятные приказы руководства...
- А я с этим сталкиваюсь постоянно, уже лет двадцать. Мне не привыкать.
- Ну, я думаю, Ваш вечер и без нас прекрасно пройдёт.
- Не сомневаюсь.
Окончание здесь (несколько строк)
|
|











































