-Рубрики
- Новости, интересное (269)
- Бизнес и все что его касается (141)
- Дети, дом, семья (101)
- техника приборы и технологии (69)
- Строительство и ремонт (59)
- Автомобили и все для них (49)
- Здоровье, женское, красота, уход засобой (47)
- Праздники и поздравления (45)
- новогоднее праздничное (16)
- Мода и стиль (42)
- Современное искусство (40)
- Творчество и стихи (39)
- игрушки к новому году (16)
- МК мастер класс (36)
- Разное, личное (36)
- Декупаж (35)
- Мебель, дизайн, интерьер (33)
- религия и обряды (32)
- Туризм и отдых (24)
- Видео, музыка, интересные ролики (22)
- Кулинария (18)
- Фильмы, книги, новости кино (10)
- фен-шуй (8)
- Любовь, отношения, психология (4)
- Ландшафтный дизайн и цветы (3)
- Астрология и неопознанное (0)
-Видео

- #МОНТЯН_ Стукачок с ICTV
- Смотрели: 182 (2)

- ПИЦЦА из лаваша без возни! _ Быстрый рец
- Смотрели: 1 (0)

- Слушала и плакала спасибо.
- Смотрели: 480 (3)

- НОВОГОДНЯЯ 2020 Маргарита Бахарева
- Смотрели: 4 (0)

- Юнона и Авось - Я тебя никогда не забуду
- Смотрели: 6 (0)
-Поиск по дневнику
-Подписка по e-mail
-Постоянные читатели
-Shiniti- Anonimushka BowHunter Desert_Man Domcom DubplatekillaZ Fridrix Irena_Dominique13 It-is-my-life Konstancia LA_RYSIK Lenusya202 MENTALCHROME Ma_Atmo_Nidhi Nadya_art Nickmos Quga Sige-Sowelu Sonu32 Sue_RnB_Princess Svetlechek Timjum _White_tea_ domovoy96 igorinna irinar1 kisyachka perfectissima shlapak_olesya usik Айна_Ким Алиция_Гадовская ВС_елена_Я Виктор_Варкентин Виктория_Брюховецкая ВитаНика Елена_Блинкова Златеника_Сияющая Княгиня_Нарышкина Лександр-Август_Сан-Март Оделайна Саша17 Солнечная_Танюшка Шокер_Ру Юлия12 Я_просто_Галина аленка82 звездачет красунья львица688
-Сообщества
Читатель сообществ
(Всего в списке: 4)
Выгляди_на_100
Vse_obo_vsem
Quotation_collection
Меняюсь_Читателями
-Статистика
Свадебное платье Беллы от Каролины Эрреры |
Многие из женской половины человечества выбирают себе платья на свадьбу, как у знаменитостей. Последним шедевром, которое появилось в кино стало платье Беллы их Саги Сумерки. Данное платье создала Каролина Эррера и украсила его множеством пуговиц. Главной изюминкой платья стала полуоткрытая спина и множество кружев. Как на мой взгляд оно получилось просто шикарным. Кстати говоря, дубликат платья уже появились в продаже и стоят они без доллара 800 у.е., согласитесь за такую цену многие смогут себе его позволить. Хотя первоначальная стоимость создания платья была около 35 тысяч долларов.
1.
 Читать далее
Читать далее
Если вы хотите действительно свадьбу по всем правилам, то вам необходимо выучить свадебный танец. Современная студия танца в Санкт-Петербурге поможет вам освоить свадебный танец и не только. Школа танцев предлагает обучение практически всем видам танца, начиная от цыганского и клубного, заканчивая эротическими видами танца.
1.
 Читать далее
Читать далее Если вы хотите действительно свадьбу по всем правилам, то вам необходимо выучить свадебный танец. Современная студия танца в Санкт-Петербурге поможет вам освоить свадебный танец и не только. Школа танцев предлагает обучение практически всем видам танца, начиная от цыганского и клубного, заканчивая эротическими видами танца.
Метки: студия танца в Санкт-Петербурге мода свадебное платье беллы |
Машины в помощь хозяйству |
Многие считают, что современные вездеходы хороши только для экстремальных путешествий, но это вовсе не так. Вездеходы, особенно небольшие часто выбирают различные экстренные службы для передвижения, их используют при ремонте линий коммуникаций, а также они не заменимы в хозяйстве.
Современные фермеры часто используют их в качестве универсального автомобиля, так как на них можно перевозить сено, урожай, и выполнять ещё массу полезных действий. Чаще всего для хозяйства приобретаются надежные и проверенные временем вездеходы АРГО, в России есть официальный дистрибьютор вездеходов и всю подробную информацию можно узнать на сайте argoatv.ru, а также купить аксессуары к вездеходам. Вездеходы АРГО бывают на шести и восьми колесах, каждый выдирает то, что больше подходит, также можно установить на вездеход гусеницы. А ещё они могут плавать, тоже нужный параметр) А вот и фото, кто как их использует)
1.
 Читать далее
Читать далее
Современные фермеры часто используют их в качестве универсального автомобиля, так как на них можно перевозить сено, урожай, и выполнять ещё массу полезных действий. Чаще всего для хозяйства приобретаются надежные и проверенные временем вездеходы АРГО, в России есть официальный дистрибьютор вездеходов и всю подробную информацию можно узнать на сайте argoatv.ru, а также купить аксессуары к вездеходам. Вездеходы АРГО бывают на шести и восьми колесах, каждый выдирает то, что больше подходит, также можно установить на вездеход гусеницы. А ещё они могут плавать, тоже нужный параметр) А вот и фото, кто как их использует)
1.
 Читать далее
Читать далее
Метки: вездеходы арго |
Установка Windows |
Сегодня пользователей персонального компьютера очень много, и не все эти пользователи хорошо владеют навыками работы с компьютером, поэтому часто сталкиваются с проблемами. И одной из этих проблем являются вирусы и вредоносные сканеры. Особо опасные вирусы могут очень навредить не только программному обеспечению, но и привести в негодность железо.
Так как все чаще мои друзья и знакомые стали сталкиваться с смс банерами, я решила рассказать о самом простом способе его удаления. Данный способ подходит только тем, у кого на компьютере нет ничего важного, обычно это домашние компьютеры на которых люди просто общаются в интернете и играют. Сразу оговорюсь, способов избавления от смс банеров много, но все их в одной статье не рассмотришь)
Итак начнем, данный способ - это форматирование диска и переустановка оперативной системы. Сразу оговорюсь, что форматирование диска в данном случае обязательно, так как вирус прячет файл восстановления чаще всего на диске D и прикрепляет его к полезной программке. У меня был случай, когда у подруги материнский файл вируса зацепился за Антивирусник, вот такой парадокс)
Первое, что мы делаем, это загружаем компьютер с компакт диском Windows и при загрузке компьютера жмем на кнопку Delete несколько раз. Дальше появляется таблица BIOS. Из появившийся таблицы мы выбираем boot (загрузки) и выбираем загрузку с CD. После этого нажимаем F10 (запись) и у нас идет перезагрузка компьютера.
После этого у нас начинается установка системы, мы выбираем её не в автоматическом режиме и два раза жмем на enter. После этого начинается процесс установки, где мы с помощью обычно кнопки D удаляем все разделы, то есть диск C и D(пользуйтесь подсказками, система умная сама все расскажет)
После того, как мы удалили все разделы, создаем их по новой для диска C достаточно 40 мб памяти. При создании раздела первым всегда создаем тот, на котором будет стоять система. Нажав создать раздел у нас появляется окошечко, где мы выбираем - форматировать в системе NTFS, идет форматирование и загрузка с диска С. Настройки интернета можно пропустить они в последствии настроятся сами или нужно будет прописать параметры. Тоже самое делаем и с диском D только на диске С мы выбираем основной диск, там обычно пишется подсказка, что на нем устанавливается ОП, а для диска D выбираем раздел для хранения файлов, по подсказкам я думаю разберетесь) Удачи вам, если что спрашивайте)
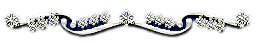
Вот, ещё хотела сказать на счет удаленных файлов, каждая система предусматривает хранилище удаленных файлов и если вы нечаянно удалили нужный вам файл не стоит паниковать, его можно быстро восстановить из Корзины.
Так как все чаще мои друзья и знакомые стали сталкиваться с смс банерами, я решила рассказать о самом простом способе его удаления. Данный способ подходит только тем, у кого на компьютере нет ничего важного, обычно это домашние компьютеры на которых люди просто общаются в интернете и играют. Сразу оговорюсь, способов избавления от смс банеров много, но все их в одной статье не рассмотришь)
Итак начнем, данный способ - это форматирование диска и переустановка оперативной системы. Сразу оговорюсь, что форматирование диска в данном случае обязательно, так как вирус прячет файл восстановления чаще всего на диске D и прикрепляет его к полезной программке. У меня был случай, когда у подруги материнский файл вируса зацепился за Антивирусник, вот такой парадокс)
Первое, что мы делаем, это загружаем компьютер с компакт диском Windows и при загрузке компьютера жмем на кнопку Delete несколько раз. Дальше появляется таблица BIOS. Из появившийся таблицы мы выбираем boot (загрузки) и выбираем загрузку с CD. После этого нажимаем F10 (запись) и у нас идет перезагрузка компьютера.
После этого у нас начинается установка системы, мы выбираем её не в автоматическом режиме и два раза жмем на enter. После этого начинается процесс установки, где мы с помощью обычно кнопки D удаляем все разделы, то есть диск C и D(пользуйтесь подсказками, система умная сама все расскажет)
После того, как мы удалили все разделы, создаем их по новой для диска C достаточно 40 мб памяти. При создании раздела первым всегда создаем тот, на котором будет стоять система. Нажав создать раздел у нас появляется окошечко, где мы выбираем - форматировать в системе NTFS, идет форматирование и загрузка с диска С. Настройки интернета можно пропустить они в последствии настроятся сами или нужно будет прописать параметры. Тоже самое делаем и с диском D только на диске С мы выбираем основной диск, там обычно пишется подсказка, что на нем устанавливается ОП, а для диска D выбираем раздел для хранения файлов, по подсказкам я думаю разберетесь) Удачи вам, если что спрашивайте)
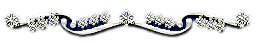
Вот, ещё хотела сказать на счет удаленных файлов, каждая система предусматривает хранилище удаленных файлов и если вы нечаянно удалили нужный вам файл не стоит паниковать, его можно быстро восстановить из Корзины.
Метки: установка Windows хранилище удаленных файлов |
Послужим делу |
До полуночи судили-рядили, раскладывали по полочкам каждое слово, оброненное немкой, каждую догадку, вызванную странным посещением. Возвращались к исходу, к записке, к почерку, который дол-, жен был узнать Владимир Афанасьевич, тот покаялся: не помнит руки Платона Трофимовича Крайнева и теперь ничего не может утверждать, но в абстрактной, будто бы бессодержательной фразе записки было то,, что мог сказать только директор, именно Платон Трофимович Крайнев... Чего он хотел? Где он сам? И кому еще кроме немцев нужна типография?
Говорили тихо, шепотом, призрак немки, таящийся в глубине глухого дома, тяготил, настораживал, и когда впервые за весь вечер с опаской обмолвились о партизанах — слух о них смутно бродил в городе, острый озноб прошел у Аннушки по телу; она вспомнила, как Нина Вильгельмовна почти кричала: «Мой Саша...»
Но, странно, она никак не могла соединить в своем сознании Сашу и его мать, будто они никогда и ничем не были связаны друг с другом, жили порознь; она не могла допустить себе иной мысли и чувствовала, как было бы оскорбительно для Саши, если бы вздумали поставить рядом его и одинокую, проклятую всеми тварь, сидящую в пропахшей кислым не табачным дымом холодной тьме на старом диване. Что же, зло всегда одухотворялось призраком тьмы. И все-таки где же это она слышала, что духовное начало двояко, и если нравственность, одинаково
склонная к добру и злу, потеряна немкой, то в уме-то ей не откажешь, а ум — это и есть истина...
Кажется, это говорил Борис, что-то в этом роде, что-то такое, к чему Днушка пробивалась сейчас ожившим после потрясения рассудком, все связывая с таящейся внутри дома одинокой немкой.
— Как решим? — произнесла Аннушка, закутываясь в мамин пуховый платок.
— Что решать! — опомнился Григорий Иванович, он все так же задумчиво раскачивался на стуле.— Послушать надо, что будет толковать шишка эта, гебитскомиссар. А что больше придумаешь? Ну, положим, забастуем, скроемся все трое, хотя это из области чистой фантастики. Типографию и без нас пустят. Есть людям надо ведь, кое-кто пойдет. Да и заставят! А что если немка не врет? Ну, допустим такое... Тогда что же, послужим правому делу.
Он сидел, сузив глаза в щелки, почти не видные за стеклами очков.
— Ты, Владимир Афанасьевич, бери и нас с Аннушкой, тебе верные люди нужны будут.
На том и решили.
Говорили тихо, шепотом, призрак немки, таящийся в глубине глухого дома, тяготил, настораживал, и когда впервые за весь вечер с опаской обмолвились о партизанах — слух о них смутно бродил в городе, острый озноб прошел у Аннушки по телу; она вспомнила, как Нина Вильгельмовна почти кричала: «Мой Саша...»
Но, странно, она никак не могла соединить в своем сознании Сашу и его мать, будто они никогда и ничем не были связаны друг с другом, жили порознь; она не могла допустить себе иной мысли и чувствовала, как было бы оскорбительно для Саши, если бы вздумали поставить рядом его и одинокую, проклятую всеми тварь, сидящую в пропахшей кислым не табачным дымом холодной тьме на старом диване. Что же, зло всегда одухотворялось призраком тьмы. И все-таки где же это она слышала, что духовное начало двояко, и если нравственность, одинаково
склонная к добру и злу, потеряна немкой, то в уме-то ей не откажешь, а ум — это и есть истина...
Кажется, это говорил Борис, что-то в этом роде, что-то такое, к чему Днушка пробивалась сейчас ожившим после потрясения рассудком, все связывая с таящейся внутри дома одинокой немкой.
— Как решим? — произнесла Аннушка, закутываясь в мамин пуховый платок.
— Что решать! — опомнился Григорий Иванович, он все так же задумчиво раскачивался на стуле.— Послушать надо, что будет толковать шишка эта, гебитскомиссар. А что больше придумаешь? Ну, положим, забастуем, скроемся все трое, хотя это из области чистой фантастики. Типографию и без нас пустят. Есть людям надо ведь, кое-кто пойдет. Да и заставят! А что если немка не врет? Ну, допустим такое... Тогда что же, послужим правому делу.
Он сидел, сузив глаза в щелки, почти не видные за стеклами очков.
— Ты, Владимир Афанасьевич, бери и нас с Аннушкой, тебе верные люди нужны будут.
На том и решили.
Метки: творчество |
Работа с недвижимостью |
Вы пробовали продать или купить недвижимость, если пробовали, значит определенно знаете сколько сразу проблем юридического характера сваливается вам на голову. Сегодня, чтобы осуществить сделку необходимо быть юристом со стажем, или найти хорошую компанию, которая поможет произвести все операции по купле - продаже, собрать необходимый пакет документов.
Представляемая мною компания производит выкуп и продажу квартир в Москве, хочется отметить профессиональные и личностные качества сотрудников Иванов Сергей, Дубинина Ирина, Терентьев Владимир Юрьевич, Кутищева Ольга Владиславовна, Бондаренко Наталья, Максименко Владислав, Пысин Анатолий Юрьевич генеральный директор компании. Компания обладает не только профессиональными сотрудниками, но и возможностями мониторинга, оформления, регистрации. В любом случае вы не будите часами стоять в государственных организациях за нужными документами, работники компании сделают это сами. Перечень предоставляемых услуг и прочая информация находится на сайте компании,там есть возможность связи с работниками фирмы.
Представляемая мною компания производит выкуп и продажу квартир в Москве, хочется отметить профессиональные и личностные качества сотрудников Иванов Сергей, Дубинина Ирина, Терентьев Владимир Юрьевич, Кутищева Ольга Владиславовна, Бондаренко Наталья, Максименко Владислав, Пысин Анатолий Юрьевич генеральный директор компании. Компания обладает не только профессиональными сотрудниками, но и возможностями мониторинга, оформления, регистрации. В любом случае вы не будите часами стоять в государственных организациях за нужными документами, работники компании сделают это сами. Перечень предоставляемых услуг и прочая информация находится на сайте компании,там есть возможность связи с работниками фирмы.
Метки: недвижимость юридическое сопровождение |
Испания |

Испания,четвертая по величине страна на юго-западе Европы, ее особенный гористый ландшафт создает уникальный природный комплекс, большая территория страны находится на уровне 650 метров над морем. Поэтому в стране самый теплый климат из всех европейских государств. Горные массивы, плоскогорья, море и океан, леса и редколесье, насыщенная и многообразная природа.
Сегодня это экономически развитое самостоятельное государство входящее в Евросоюз, в Испании множество памятников культуры признанных ЮНЕСКО достоянием всего мира, охраняемыми законом. Несмотря на экономический кризис, страна занимает высокое экономическое положение среди всех стран мира, входит в лидирующую десятку, это позволяет стране иметь огромный потенциал для развития. Сегодня, как никогда, выгодно приобретать недвижимость в Испании, компания CostablancaVIP поможет вам осуществить мечту, приобрести прекрасные апартаменты в любом город страны. Компания предоставляет огромный выбор вилл, квартир, апартаментов, таунхаусов в Испании на Коста Бланке. Вы сможете жить в самом живописном уголке, наслаждаться природой при этом выгодно вложить свои деньги.
Метки: испания недвижимость покупки |
Профессиональная Линия |
Продукция компании Профессиональная Линия, это не просто продукция для широкого круга потребителей, это продукция для профессионалов, в ассортименте любые машинки для стрижки животных и авторегистраторы отличного качества. Вся продукция представлена в выставочном зале в центре города рядом с метро Комсомольская, Универмаг Московский. Время работы с 9 до 21.00. а так же на сайте компании.
Компания принимает заказы от населения и предприятий имеется курьер, любая удобная форма доставки товара тут машинка для стрижки собак и других животных по самым оптимальным ценам отличного качества. Чтобы животные чувствовали себя комфортно во время летнего периода, а так же для гигиенической стрижки необходимы специальные машинки, эти приборы рассчитаны для стрижки животных, есть для кошек и собак, а так же для более крупных питомцев лошадей и овец.
Компания принимает заказы от населения и предприятий имеется курьер, любая удобная форма доставки товара тут машинка для стрижки собак и других животных по самым оптимальным ценам отличного качества. Чтобы животные чувствовали себя комфортно во время летнего периода, а так же для гигиенической стрижки необходимы специальные машинки, эти приборы рассчитаны для стрижки животных, есть для кошек и собак, а так же для более крупных питомцев лошадей и овец.
Метки: машинки для стрижки животных животные |
Понравилось: 1 пользователю
Идем к стоматологу |
Самые счастливые люди, это те, у которых никогда не болели зубы, да и это утверждение поймут те, кто знает, что такое зубная боль. Все мы знаем, что правильная профилактика, своевременное лечение и осмотр специалиста залог здоровых зубов, но иногда очень сложно найти своего врача. Я говорю не просто о докторе стоматологе, а враче к которому вы будете всегда идти с легким сердцем. Вот именно такую клинику я вам хочу посоветовать, вот тут сайт компании, вот +7(812)5721130 и +7(812)2759826 номера телефонов, где вы можете получить более точную информацию.
От себя хочу добавить, что работники клиники Шарм, очень приветливые и квалифицированные специалисты оказывают практически все возможные стоматологические услуги. Не откладывайте поход к стоматологу в дальний ящик, идите сегодня, тогда завтра у вас будет прекрасная улыбка.
От себя хочу добавить, что работники клиники Шарм, очень приветливые и квалифицированные специалисты оказывают практически все возможные стоматологические услуги. Не откладывайте поход к стоматологу в дальний ящик, идите сегодня, тогда завтра у вас будет прекрасная улыбка.
|
|
Типография |

Он чувствовал это, но его все же не оставляла боязнь какого-то сговора вот с этой женщиной, пошедшей служить к оккупантам, поэтому он показал бумажку поочередно Григорию Ивановичу и Аннушке. Бухгалтер так и сяк крутил ее, даже смотрел на свет, как крупную купюру, не фальшивая ли, Аннушке вообще было ни до чего. Владимир Афанасьевич протянул записку «старой деве»:
— И чей же это почерк?
— Не узнаете?
— Нет.
—Он нервно передернул плечами.
—Да и к чему? Ничего не знаю. Какие-то записки! Мы с вами не в школе — записками заниматься.
— Вот именно. Вы уже не ребенок, Владимир Афанасьевич.
— Что вы хотите сказать?
— Это писал Платон Трофимович.
— Какой Платон Трофимович? — не давался немке Владимир Афанасьевич.
— Крайнев. Директор типографии.
— Крайнев? Директор? — повторил он чуть ли не с издевкой.
Немка этого не заметила.
— Ну же, ну...— проникала она в его сознание.— Крайнев. Вы же верите ему?
— Вы меня не путайте, вот что! Где он, Крайнев? Сбежал из города. И при чем здесь вы? Знать ничего не знаю.
Он растерянно оборачивал раскрасневшееся лицо к Григорию Ивановичу, к Аннушке, будто прося у них защиты от ни с того ни с сего прицепившейся к нему немецкой прислужницы, и все это отчетливо видела Аннушка, но, странно, нервное замешательство отца не передавалось ей, и лишь с какой-то тяжелой апатией, сменившей приступ обиды, она думала: что еще нужно от них этой женщине, отдаленно и только внешне похожей на Нину Внльгельмовну?
Григорий Иванович, покачиваясь на стуле и вприщур глядя на немку, спросил брезгливо, тоном следователя:
— Значит, вы знаете, где Крайнев. Где же?
Она снова раскрыла сумочку, достала сигарету, закурила, но ее начал душить кашель.
— Простите... Этот эрзац... Никак не могу привыкнуть.
— Пора бы! — равнодушный к ее страданиям, усмехнулся Григорий Иванович.
Она откашлялась, зажгла потухшую сигарету, тяжело дышала, поглаживая виски, видно усмиряя боль. Смрадно тянуло не похожим на табачный дымом, Аннушка поняла, что этим и пахнет от немки. Не глядя на Григория Ивановича, Нина Вильгельмовна ответила:
— Ваш вопрос к делу не относится. Вообще я говорю с одним Владимиром Афанасьевичем.
И вдруг потянулась ко всем троим то ли от кашля, то ли еще от чего-то слезящимися, страдающими глазами:
— Вы должны мне верить. Верить. Просто верить. Не задавайте мне вопросов, на которые я не могу ответить!
Она повернулась к Аннушке, сделала движение, будто хотела обнять ее, но не осмелилась, остановилась.
— Мой Саша... Вы же знаете. Знаете!
Воцарилось молчание, нарушаемое лишь трудным, сиплым дыханием Нины Вильгельмовны, она жадно сглатывала, и в груди у нее екало, как у лошади, но это не вызывало у Аннушки ничего, кроме отвращения. Она испытывала то, что должна была испытывать при виде предательства, и даже имя Саши — мгновенно, скомкано возникло его лицо с наивными близорукими глазами — ничего не изменило, непогрешимая ее душа не допускала никаких других отклонений, никаких других толкований предательства, а женское милосердие подверглось в ней слишком тяжелому испытанию, чтобы вновь дать хоть слабый росток, и ее поразило, что отец «пошел на попятную».
— Ну хорошо... Что вам, собственно, от меня надо? — Владимир Афанасьевич прикрыл ладонями лысую голову, поеживался, как от холода. - '
Нина Вильгельмовна никак не могла зажечь спичку об исчирканный коробок.
— Дело касается только вас одного.
Все трое молчали.
— Ну, бог с вами... Какое ненужное упрямство.
То, что она говорила, было неожиданно, дико. Она говорила, что немецкие власти решили пустить типографию, что завтра надо собрать рабочих, что с ними будет говорить сам майор, сам гебитс-комиссар... Это «гебитс-комиссар» прозвучало у нее как-то очень привычно, безукоризненно по-немецки, и по лицу Владимира Афанасьевича прошла нервная корча.
— И что же вы предлагаете? — тихо спросил он, взяв себя в руки.
— Типографию надо пускать.
— Как? — вырвалось у Аннушки, забывшей в ходе беседы, кто перед ней.
И снова с мукой глядела на нее Нина Вильгельмовна сквозь облако дыма.
— Типография нужна не только гебитс-комиссариату...
Фраза прозвучала как бы между прочим, необязательно, но у всех троих она вызвала одно и то же движение губ:
— Кому же?
Долго, с тяжелым укором глядела Нина Вильгельмовна, качая головой.
— Мне пора. Так, стало быть, завтра, в девять, Владимир Афанасьевич. Взвесьте все. Хотела бы только предупредить...— Она устало потерла виски.— Отказ может очень плохо кончиться. В этом-то вы мне уж должны поверить... немецкой овчарке... Так, кажется, вы меня зовете?
Она закрыла потрепанный, сморщенный ридикюль длинными пальцами, и Аннушка только теперь заметила, как пошатываясь поизносилась, вроде своего ридикюля, «старая дева». Слыша шаркающие, стихающие шаги, она представила, как немка войдет сейчас в темную одинокую комнату и будет долго сидеть в стылой тьме, пока не свалится на старый истертый диван, проклятая и презираемая, и где-то очень глубоко в ней возникло ощущение, похожее на ту жестокую беспризорность, которую она испытывала в ночном лесу под тихо падающим дождем, когда Борис на какое-то время оставил ее одну.
Но она содрогнулась от самой схожести этого ощущения с тем, что творилось сейчас с немкой, и подумала о том, что на месте Нины Вильгельмовны лучше всего было бы умереть — естественный и единственный выход, раз уж так все сложилось.
Метки: творчество |
Взгляд из тишины |

Так же неприятно было на душе у всех троих, не хотелось знать ни о чем, что глухо стояло за окнами.
В отчужденной тишине сухо прозвучал голос немки: — Мне надо с вами поговорить, Владимир Афанасьевич, один на одни. Без свидетелей.
Аннушка смотрела на нее, как будто впервые видела, и впервые у нее начало рождаться что-то помимо ее незатихающей мысли о Борисе, вернее, никуда не уходящей его близости — это чувство затмевало в ней все, и вот теперь голубые, может быть, от чистоты расы, глаза немки заставили Аннушку вспомнить тот веселый майский день, когда она мыла лестницу за Нину Внльгельмовну. В ней потянулась какая-то нить, на которой были туго и больно затянуты узелки — ранняя смерть мамы, гибель Бориса, приход немцев, и вот теперь эта немка со всегда ласкавшими Аннушку голубыми глазами — почему же самые светлые мгновения жизни отдаются такой тяжелой обидой?
Как тогда, ночью, когда, отдаваясь усталым объятиям Бориса, она жалела об уходе маленькой девочки, теперь ей стало обидно — до ломоты в горле — за все, чем одарили ее душу «панки» и что предала немка.
Отец, с какой-то детской бескомпромиссностью скривив губы, протянул:
— Зачем же без свидетелей?
Свидетели очень,— он повторил дважды,— очень и очень даже могут понадобиться...— Голос сухо перехватывало от волнения.—
И о чем нам с вами говорить?
Помилуйте, фрау или как вас там?..
Немка вздрогнула, глаза ее затуманились, но она с той же настойчивостью продолжала:
— Я не в обиде на вас, Владимир Афанасьевич. Бог с вами. Но поймите...
Он не дал ей закончить:
— Один на один нам говорить не о чем. У нас с вами разные интересы.
Если хотите говорить...
У меня в своем доме секретов нет. Ясно?
Она коротко вздохнула, выхватила из сумочки яркую пачку сигарет, таких не видывали в «панках», длинными дрожащими пальцами зачиркала спичкой, обволоклась густым дымом и, держа у рта два пальца с лишним — торчком — суставчиком, стала похожа на прежнюю Нину Внльгельмовну.
Внимательно поглядела сквозь дым на Владимира Афанасьевича.
— Ну, как вам будет угодно...
Немка подошла к столу, Аннушке показалось, что от нее идет неприятный чужой дух.
— Я бы хотела показать вам вот это.— Она легко достала из сумочки приготовленную, чтоб не искать, туго, как для пробки, свернутую бумажку.
— Узнаете почерк?
Отец разложил бумажку, поднес к глазам, читал написанную карандашом фразу, никак не улавливая смысла и все же по каким-то " одному ему понятным намекам понимая, что пустая отвлеченная фраза адресована только ему.
|
|
Электромопед - транспорт будущего |

Какое современное средство передвижения самое экологически чистое, каждый из нас ответит, что велосипед, только не все знают, что существуют велосипеды на батарейках, электровелосипеды тут , на сайте есть полная информация о этих чудесных вещах. Электротранспорт, разработанный для широкого круга людей, весьма удобное средство передвижения, вы не крутите педали, поэтому не устаете, вы можете ехать по тротуару, вам не нужны права на вождение, вам не страшны пробки.
Электроскутер, электромопед, и электровелосипед, рассчитаны на наши дороги, управлять таким транспортом очень легко, а главное вам не нужен дорогостоящий бензин и парковка. Вы можете поставить свой транспорт в любом удобном месте, вы не будете зависеть от расписания общественного транспорта и повышения цен.
Метки: техника спорт электромопед |
Все для красоты |

Календарная весна уже вступила в свои права, не за горами и лето, поэтому необходимо подготовиться к лету, подготовить свой гардероб и конечно себя. Весна, просто обязывает нас выбрать для себя подходящую диету, сходит в салон, сделать стрижку, горячее восстановление волос, маникюр или другую процедуру. Сегодня сделать татуаж совершенно безболезненно, специалисты имеют отличное оборудование, вводят обезболивающее.
Татуаж губ, прежде всего подходит тем, у кого губы не имеют четкой линии, или очень тонкие, визуально татуаж увеличивает губы, получается очень симпатично. Кто еще колеблется, уверяю вас - это очень удобно, конечно если нет противопоказаний вашего косметолога.
Метки: мода женское уход косметические средства. |
Шиномонтаж |
Вам когда-нибудь приходилось искать срочно шиномонтаж? Наверняка приходилось, так вот, тем кто живет или работает в районе Останкино, могу посоветовать хороший шиномонтаж, адрес и все подробную информацию можно узнать здесь http://amshina.ru/ Так вот, если вы выбрали этот шиномонтаж, то обязательно не пожалеете. Сотрудники работают быстро и качественно, а чтобы распределить свой день и не ждать лишнее время, позвоните и запишитесь, так всем будет проще)
Чтобы не складывать старую резину, её можно сразу в сервисе продать и получиться, что вы шиномонтаж сделали со скидкой) Качественное новейшее оборудование позволит произвести шиномонтаж в самые короткие сроки и по высочайшему уровню, согласитесь, очень актуальная тема, ведь скоро снег сойдет и нужно "переобувать" машину)
Но даже если вы приехали туда из-за неожиданной поломки, проблем тоже не будет, за счет всего вышеперечисленного на сервисе нет бесконечных очередей и пробитое колесо в течение получаса будет уже заменено.
Чтобы не складывать старую резину, её можно сразу в сервисе продать и получиться, что вы шиномонтаж сделали со скидкой) Качественное новейшее оборудование позволит произвести шиномонтаж в самые короткие сроки и по высочайшему уровню, согласитесь, очень актуальная тема, ведь скоро снег сойдет и нужно "переобувать" машину)
Но даже если вы приехали туда из-за неожиданной поломки, проблем тоже не будет, за счет всего вышеперечисленного на сервисе нет бесконечных очередей и пробитое колесо в течение получаса будет уже заменено.
Метки: шиномонтаж в москве выкуп б/у шин |
Лицом к лицу |

Ровно через десять дней Мария Федоровне, уже из эвакуации, из Рогожина, передала Владимиру Афанасьевичу, чтоб он, подготовив дочь, сообщил ей: умер доставленный в госпиталь смертельно раненный Аннушкин лейтенант.
Немцы вошли в город — как с неба свалились.
Среди ошеломленного населения запоздало ходили слухи, будто паши войска вынуждены были спешно отойти, чтобы избежать окружения, только кому от этих слухов было легче?
В пасмурное осеннее утро тяжелые, грязно камуфлированные танки, поводя длинными стволами с ноздрями прорезанными надульниками, будто принюхиваясь, пошли средь тихих домов, и чувствовалась под железным панцирем настороженная, готовая к действию убойная сила. Они шли и мимо «панков», и даже парализованное сообщением Марии Федоровны Аннушкино сознание воспринимало их как дьявольщину, тяжелый морочиый сон — настолько внезапно было шествие чудищ, наполнивших грохотом и чадом весь город. Потом появились мотоциклисты и нестройные, серые, чужие колонны самих пришельцев, похожих на инопланетян в нахлобученных на головы глухих железных колпаках.
Из города были эвакуированы лишь кое-какие предприятия, кажется, еще банк, да вот госпиталь, а подготовленные к отправке в тыл типография Владимира Афанасьевича и сейсмостанция Григория Ивановича остались на месте, и «панки», осиротевшие без Марии Федоровны, оказались как бы не у дел, но, конечно, я над ними уже сгущались грозы земли и человеческие потрясения. Незаметно, предопределенная именно внезапностью вступления немцев, началась новая жизнь, с немецким комиссариатом в одном из старых особнячков, сохранившихся в центральной части города, с новыми и новыми, жирно, крупно, как для неграмотных, напечатанными приказами германской власти, с кабальной тоской при виде фланирующих по улицам солдат-патрулей... Кабы не зубы, так и душа бы вон...
Висел приказ с германским гербом вверху — птицей, раскрывшей клюв и строго разбросавшей крылья: живущие в городе лица немецкой национальности должны стать на учет в управе — им будут даны гражданские привилегии и назначены пайки. Стали этих самых лиц звать «фольксдойчами», словечко надолго вошло в унылый, презренный лексикон оккупации. Нина Вильгельмовна в сфольксдойчи» не определилась, три дня где-то пропадала, а где — «панки» не ведали. И вдруг пошла работать в немецкий комиссариат переводчицей — большего позора «панки» еще не знали. Тотчас невидимая стена встала между нею и всеми остальными. Григорий Иванович, соседствовавший со «старой девой», даже перебрался к Аннушке и Владимиру Афанасьевичу на второй этаж, и он стали жить одним миром, не предвидя еще, какая идет к ним беда.
Как-то вечером сидели втроем на веранде за скудной трапезой — незваной гостьей явилась немецкая, по определению Горощихи, кобыла. Стояла в дверях, переводя святотатственно голубые глаза, кажется, только и жившие на исхудавшем, вправду как лошадином, лице, с Григория Ивановича на Аннушку, с Аннушки на Владимира Афанасьевича. На веранде было неуютно от холодного осеннего вечера, от рано наступившей темноты, огонек в плошке плясал, и по стене летучими мышами перепархивали тени —дуло в не заклеенные на зиму окна.
Метки: творчество |
Понравилось: 1 пользователю
Индонезия, целая жизнь в снимке |
Нико Фредиа - это фотограф, который для себя выбирает съемку людей, их жизни и их ситуации. Его одна фотография отражает целый спектр эмоций и по ним можно узнать всю жизнь, быт и мысли изображенного на фотографии человека.
Сегодня Нико Фредиа выбрал местом своей деятельности Индонезию, эти снимки просто завораживают, они такие живые....
1.
 Читать далее
Читать далее
Кстати говоря, если вы хотите пригласить друга - иностранца к себе в гости, то нужно знать, что для этого вашему другу понадобиться приглашение, чтобы сделать визу в Россию. На сегодняшний день визы в Россию можно оформить с помощью компаний, которые помогут вам правильно оформить приглашения для друзей или партнеров по работе.
Сегодня Нико Фредиа выбрал местом своей деятельности Индонезию, эти снимки просто завораживают, они такие живые....
1.
 Читать далее
Читать далееКстати говоря, если вы хотите пригласить друга - иностранца к себе в гости, то нужно знать, что для этого вашему другу понадобиться приглашение, чтобы сделать визу в Россию. На сегодняшний день визы в Россию можно оформить с помощью компаний, которые помогут вам правильно оформить приглашения для друзей или партнеров по работе.
Метки: Нико Фредиа фото Индонезии визы в Россию |
Понравилось: 2 пользователям
С днем защитника отечества! |
Всех мужчин с праздником!


|
|
Аннушка |

В своей комнате, в постели, проваливаясь в сон и возвращаясь в явь, Аннушка ничего не испытывала, кроме расслабившего ее успокоения,— слишком дороги были ей ее радость и ее мука в быстро несущихся днях.
За окошком вставал ясный голубой рассвет, и, подумав о том, что дождик все же поборол ночную духоту, смыл с земли пороховую сыпь, она облегченно, до хруста в коленях потянулась, и только тогда постепенно к ней пробился уходящий вдаль долгий и печальный голос локомотива.
Все остальные звуки стихли, и лишь гудел и гудел паровоз, уносящийся в утреннюю даль.
Она сбросила ноги на пол, села, ошеломленно глядя в окошко. Откинула одеяло, запоздало устыдилась обнаженных ног, стала надергивать на них рубашку, но тут же сорвалась, забегала по комнате, что-то ища, и когда ей попалась влажная от ночного дождя футболка, Аннушка спрятала ее, будто какую-то очевидную улику, сорвала с вешалки девчоночье ситцевое платьишко и в нем выбежала из дома.
Всего на секунду она остановилась на крыльце—из калитки, гневно и жалостливо оглядывая как попало натянутое ее платье, не спрятанные волосы, серое лицо, шла к ней Мария Федоровна.
— Ты куда?
Аннушка отшатнулась от нее, но тут же твердо сошла с крыльца, досадно морщась, миновала расставленные Марией Федоровной руки с висевшим на них госпитальным халатом.
--Да куда ты? Господи! Анна! —тихо, боясь огласки, причитала она.
Аннушка обернулась, глядела, ломая брови: — Отцу ни слова... Слышите?
Она бродила среди сосен, молчащих, будто неотступно следивших за ней, ее глаза настороженно пробегали по истоптанной, вдавленной в землю траве, окуркам, разбросанным консервным жестянкам, и до нее с трудом доходил смысл того, что произошло. Да, она не напрасно прощалась с девочкой, о которой ей совсем недавно напомнила безмятежная картина воинского лагеря: тогда еще ничто не предвещало вот этого следующего утра с оскорбительно никчемными, никому не нужными останками батальона Бориса. И опять она не жалела о том. на что пошла в пролетевшем сквозь сердце озарении, она пошла бы на это снова, доведись повториться всему, что было, видно, так уж было ей суждено.
Она медленно повела сухими глазами по тихим, таящим от нее что-то соснам и вдруг увидела в глубине рощи освещенную поверху водонапорную каланчу. Заостренные обломки кирпичей были розово нежны от утреннего солнца, и вся башня уже не казалась Аннушке мертвым призраком, нет же, ведь это чистый символ озарившего ее счастья. Она не торопилась подойти к уходящей в голубое небо башне, а когда приблизилась к ней, прошлого удручающего чувства запустения так и не возникло; ночной дождик и здесь смыл пыль, копоть, тлен, и в недосягаемой вышине красновато, будто изнутри, светились зубцы. Она все ниже и ниже опускала глаза, пока не остановилась на торопливо нацарапанных осколком штукатурки словах —резкие, настойчивые линии звали к прочтению, убеждали Аннушку:
«Я люблю тебя... Пиши... Воинская часть... Борис...:
Метки: творчество |
Понравилось: 3 пользователям
Полезные советы |
Если у вас першит в горле, необходимо помассировать мочку уха и ушную раковину, першение само собой пройдет.
Если вы схватились за горячее, необходимо сразу схватить мочку уха и немного помассировать.
Если вы что-то потеряли не никак не можете найти, возьмите любую ленточку или веревочку и обвяжите ножку стола, вещь быстро найдется.
Переступайте порог с правой ноги, тогда вы всегда будете удачливы.
Чихнешь натощак утром, жди гостей.
Чайник шумит к морозу, а летом к перемене погоды.
Если вы схватились за горячее, необходимо сразу схватить мочку уха и немного помассировать.
Если вы что-то потеряли не никак не можете найти, возьмите любую ленточку или веревочку и обвяжите ножку стола, вещь быстро найдется.
Переступайте порог с правой ноги, тогда вы всегда будете удачливы.
Чихнешь натощак утром, жди гостей.
Чайник шумит к морозу, а летом к перемене погоды.
Метки: приметы |
Понравилось: 1 пользователю
Привет из глубины веков |

Каждый раз я не устаю удивляться мудрости нашей природы, и если бы человек мог понять всю накопленную природой мудрость, возможно бы хоть на шаг придвинулся к тайнам мироздания. Под слоем вечной мерзлоты при строительных работах на берегу реки Колымы, что находится в магаданской области, были извлечены на поверхность интересные растения с замершими семенными коробочками. Когда эти семена были доставлены в исследовательский институт оказалось, что они попали туда более 30 тысяч лет назад, но самое удивительное, что ученым удалось воссоздать питательную среду и прорастить эти растения. Семена, которые пролежали в вечной мерзлоте, произрастали в этой местности примерно 40 - 25 тысяч лет назад, по оценке ученых, это смолевка узколистная (Silene stenophylla Ledeb) которая широко распространена в этом районе. Удивительно , но природа всегда знает, что ей делать, чтобы сохранять свое богатство на века.
Метки: природа интересно |
Понравилось: 2 пользователям
Курорт в Таиланде |
Есть много мест на планете, которые завораживают своей красотой и именно поэтому данные места любят инвесторы и строители, они возводят удивительной красоты отели в таких местах для туристов. Вот и Таиланд не стал исключением, недалеко от аэропорта Самуи у самого берега моря притаился отель с самым большим СПА центром.
Помимо всего прочего отель занимает 78 вилл, каждая из которых имеет свой отдельный бассейн и считается полноценным номером в отеле, вот бы отдохнуть в таком месте.
1.

А вот, кто любит горы и гостеприимства Закарпатья имеют возможность снять номер в мини отеле, мини отели Ужгорода предлагают самые разные варианты и вполне приемлемые цены, так что отдых обязательно удастся.
2.
 Читать далее
Читать далее
Помимо всего прочего отель занимает 78 вилл, каждая из которых имеет свой отдельный бассейн и считается полноценным номером в отеле, вот бы отдохнуть в таком месте.
1.

А вот, кто любит горы и гостеприимства Закарпатья имеют возможность снять номер в мини отеле, мини отели Ужгорода предлагают самые разные варианты и вполне приемлемые цены, так что отдых обязательно удастся.
2.
 Читать далее
Читать далее
Метки: отели Таиланда мини отели Ужгорода фото |
Понравилось: 1 пользователю











