-Метки
Север абхазия авраамиты акварель алексей иванов баня барышни башня rowan бунин весна викинги выборы высоцкий д.а. медведев диалектика дом в котором дороги древняя греция дураки духовность егэ едопоклонство живопись жихарь жопа карандаш керлинг кино книжки лето лица людей маг в законе мариам петросян масло мастер милиция моряковка мужики музыка наука наша новая школа неведомая ебаная хуйня ненависть образование общага олди олимпийские игры пидарасы повзаправде порядок слов праздники праздничная передвижная психушка президент преподы путин пятиминутка душевности рисунки родина ручка садовничий сангина светлана миронова сибирь снусмумрик спорт средние века студенты тгпу томск трикстеры трудно быть богом трудовое право тупоумие тушь фотографии холодное оружие шуты энтропия эпоха возрождения юриспруденция
-Поиск по дневнику
-Подписка по e-mail
-Друзья
Друзья оффлайнКого давно нет? Кого добавить?
_Nurka_08
Борис_Балахонцев
Красный_яхонт
Ронда
-Статистика
И когда ты помилуешь их, и воздашь за любовь и честь, -
Удвой им выдачу спирта, и оставь их, как они есть.
Удвой им выдачу спирта, и оставь их, как они есть.
Скьявона |
Schiava (ит.) - рабыня.
Schiavona (ит.) - славянка.
Schiavina (ит.) - просторный зимний плащ из грубого сукна.
 Скьявона (esclavona, schiavona) - прямой обоюдоострый меч. Первоначальная разработка и применение относятся к концу XVI века и приписываются славянским наёмникам в гвардии дожей Венеции.
Скьявона (esclavona, schiavona) - прямой обоюдоострый меч. Первоначальная разработка и применение относятся к концу XVI века и приписываются славянским наёмникам в гвардии дожей Венеции.
Известно, что в разнообразных армиях мира славян издавна уважали за лихость, неприхотливость и высокий профессионализм. Особенно же ценили их в спецвойсках наподобие гвардейских отрядов за идейную стойкость и личную преданность. В нашем случае извечным конкурентом венецианцев была Оттоманская Порта - скопище богопротивных мусульман. Однако это она для Венеции всего лишь экономический соперник, а для суровых балканских парней из Хорватии, Далмации или Словении турки - исконные, первейшие, смертные вражины: "сколько раз увидишь его, столько раз его и убей". Поэтому с малоазийскими басурманами южные славяне бились всякий раз как в последний и скоро составили себе репутацию не последних ребят в этом деле.
Изрядно показали себя братья-славяне и в сварах с христианнейшими европейцами. Причём для Венеции те войны вышли пострашнее, чем противостояние с турками, ибо грызня с Портой была борьбой за торговые пути, рынки сбыта и сферы влияния, в некотором роде борьба нанайских мальчиков, любимые враги. Главные замесы приключались большей частью на море или в припортовых землях: Эвбея, Лепанто, Превеза. Почти во всех случаях Венеция огребала, получала минуса в рейтинге, но ни единого раза мусульмане венецианскую метрополию не трогали, хотя, казалось бы, сам Аллах велел развивать наступление. Всё это был такой специальный режим сосуществования: два маленьких бизнеса, ничего личного.
Войны с католиками - это не то же самое, это войны на выживание. Самый масштабный пример – Лига Камбре 1508 г. Мало никому бы не показалось: император Священной Римской империи Максимилиан I, король Людовик XII Французский, герцог Феррарский, герцог Савойский, граф Мантуи, плюс разная шушера мелкой россыпью, а для пущей красоты - папа Юлий II. И вся бриганда договаривается ни много ни мало о разделе Венеции. "Силой огненных мечей", натурально. А ещё в истории любви Венеции и Европы были папские интердикты, систематические битвы с армиями Габсбургов, неприязнь к мальтийским рыцарям за солдафонство в делах с турками, Фрундсберг и много другого. Но вот не посылали султаны к дожам тайных убийц, хоть какие были обрезанные гады. А ближайшим соседям и братьям во Христе римским папам это дело было – как два пальца об асфальт.
При этом когда сами венецианцы жгли города матери-Италии, то резались с огоньком, и врагу старались дотянуться до горла, будь то Коньячная лига или Четырёхлетняя война. Правда, не получалось - союзники венецианцам всегда попадались бдительные, сторонники системы сдержек и противовесов.
Впрочем, это тонкости и детали. Важно, что между молотом и наковальней Востока и Запада бойцы-славяне так прославились среди венецианцев, что этноним "скьявона" (именно в женском роде, что представляется особенно душевным и ласкающим слух) прочно утвердился за их штатным оружием. Одновременно усилиями североитальянских мастеров развилась эстетическая составляющая скьявоны - сложнейшая гарда-корзина со множеством ветвей и дужек.

"Преданным стражам порядка, храбрым славянским воинам, за защиту от иностранцев республика Венеция публично выражает вековую признательность.."
Мемориальная доска на Славянской набережной, Венеция (взято и повернуто на полградуса с сайта Гоблина)
Под катом ТТХ, выдержки из классиков и изображения
Schiavona (ит.) - славянка.
Schiavina (ит.) - просторный зимний плащ из грубого сукна.
 Скьявона (esclavona, schiavona) - прямой обоюдоострый меч. Первоначальная разработка и применение относятся к концу XVI века и приписываются славянским наёмникам в гвардии дожей Венеции.
Скьявона (esclavona, schiavona) - прямой обоюдоострый меч. Первоначальная разработка и применение относятся к концу XVI века и приписываются славянским наёмникам в гвардии дожей Венеции. Известно, что в разнообразных армиях мира славян издавна уважали за лихость, неприхотливость и высокий профессионализм. Особенно же ценили их в спецвойсках наподобие гвардейских отрядов за идейную стойкость и личную преданность. В нашем случае извечным конкурентом венецианцев была Оттоманская Порта - скопище богопротивных мусульман. Однако это она для Венеции всего лишь экономический соперник, а для суровых балканских парней из Хорватии, Далмации или Словении турки - исконные, первейшие, смертные вражины: "сколько раз увидишь его, столько раз его и убей". Поэтому с малоазийскими басурманами южные славяне бились всякий раз как в последний и скоро составили себе репутацию не последних ребят в этом деле.
Изрядно показали себя братья-славяне и в сварах с христианнейшими европейцами. Причём для Венеции те войны вышли пострашнее, чем противостояние с турками, ибо грызня с Портой была борьбой за торговые пути, рынки сбыта и сферы влияния, в некотором роде борьба нанайских мальчиков, любимые враги. Главные замесы приключались большей частью на море или в припортовых землях: Эвбея, Лепанто, Превеза. Почти во всех случаях Венеция огребала, получала минуса в рейтинге, но ни единого раза мусульмане венецианскую метрополию не трогали, хотя, казалось бы, сам Аллах велел развивать наступление. Всё это был такой специальный режим сосуществования: два маленьких бизнеса, ничего личного.
Войны с католиками - это не то же самое, это войны на выживание. Самый масштабный пример – Лига Камбре 1508 г. Мало никому бы не показалось: император Священной Римской империи Максимилиан I, король Людовик XII Французский, герцог Феррарский, герцог Савойский, граф Мантуи, плюс разная шушера мелкой россыпью, а для пущей красоты - папа Юлий II. И вся бриганда договаривается ни много ни мало о разделе Венеции. "Силой огненных мечей", натурально. А ещё в истории любви Венеции и Европы были папские интердикты, систематические битвы с армиями Габсбургов, неприязнь к мальтийским рыцарям за солдафонство в делах с турками, Фрундсберг и много другого. Но вот не посылали султаны к дожам тайных убийц, хоть какие были обрезанные гады. А ближайшим соседям и братьям во Христе римским папам это дело было – как два пальца об асфальт.
При этом когда сами венецианцы жгли города матери-Италии, то резались с огоньком, и врагу старались дотянуться до горла, будь то Коньячная лига или Четырёхлетняя война. Правда, не получалось - союзники венецианцам всегда попадались бдительные, сторонники системы сдержек и противовесов.
Впрочем, это тонкости и детали. Важно, что между молотом и наковальней Востока и Запада бойцы-славяне так прославились среди венецианцев, что этноним "скьявона" (именно в женском роде, что представляется особенно душевным и ласкающим слух) прочно утвердился за их штатным оружием. Одновременно усилиями североитальянских мастеров развилась эстетическая составляющая скьявоны - сложнейшая гарда-корзина со множеством ветвей и дужек.

"Преданным стражам порядка, храбрым славянским воинам, за защиту от иностранцев республика Венеция публично выражает вековую признательность.."
Мемориальная доска на Славянской набережной, Венеция (взято и повернуто на полградуса с сайта Гоблина)
Под катом ТТХ, выдержки из классиков и изображения
|
Метки: венеция холодное оружие эпоха возрождения скьявона славяне |
Процитировано 2 раз
Понравилось: 2 пользователям
К вопросу о земной славе |
"Варяг - м. скупщик всячины по деревням; маяк, тархан, орел; или кулак, маклак, прасол, перекупщик; или офеня, коробейник, щепетильник, меняющий мелочной товар на шкуры, шерсть, щетину, масло, посконь и пр".
(Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. 1863 г.)
(Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. 1863 г.)
|
Метки: викинги |
Medieval Pulp fiction |
Франц Г. Бенгтссон. "Рыжий Орм"
(Frans G. Bengtsson. The Long Ships: A Saga of the Viking Age)
Аннотация к одному из изданий гласит, что это - "пародия на классический викингский роман". Из чего делается такой вывод - неясно. По факту имеется описание перипетий скандинавской и европейской жизни второй половины X века, приправленные залихватскими похождениями, забавными диалогами и потешными персонажами. Культура, образ мысли и мировосприятие отражены ненавязчиво, но отменно богато и точно. Персонажи, как и полагается уважающим себя северянам, немногословны и вдумчивы. Убивают, грабят, судятся, женятся и крестятся обстоятельно и толково. Никто попусту красивостей не совершает и эмоциями не сорит. При этом нарочито серьезные скандинавские мужики периодически напоминают рассуждающих о делах тринадцатилетних пацанов или непрерывно толкующих обо всём подряд тарантиновских бандитов.
Что касается технической стороны, то очень качественно совмещена сдержанная манера первоисточников и современная литературность. В итоге получилась первосортная стилизация: мало описаний, много глаголов, ёмкая словесность и обильный дух эпохи, причем всё это без исконной тяжеловесности саг. Понятно, что такая непринуждённость на деле даётся безмерным профессионализмом, за что давно покойному автору поклон.
Лучшее, что есть у Бенгтссона (и не стоившее ему, шведскому автохтону, ничего) - это интонация. Трудности раннесредневековой североевропейской жизни порождают своеобразный юмор. Это вам не южные легкомысленные зашучивания от безделья. Тут юморок сродни английскому, с тяготением к иронии и парадоксу. Видимо, только благодаря размеренной лёгкости стиля при прочтении даже не вспоминаешь, что речь идет о величайших в истории ублюдках и нелюдях. Никаких профессиональных резчиков по живым людям - всё сплошь могучие и хитроватые, но добродушные нурманы.
Но все равно здорово.
* * *
Книжка издавалась только в середине 90-х и настолько малыми тиражами, что сегодня купить её можно лишь в букинистических магазинах, а на этих ваших озонах "товар отсутствует". При этом существуют как минимум три редакции с серьёзными разбросами в переводах имён собственных и терминов:
1. Бенгстон Ф. Викинги: длинные корабли. М.: Octo Print, 1993 г. 576 с. (откровенно трехгрошовое издание и по форме и по содержанию)
2. Франц Г. Бенгтссон. Рыжий Орм. М.: Терра, 1996. 480 с. (добротный перевод и включены все части)
3. Бентсон Ф.Г. Драконы моря: Сага эпохи викингов. М.: КРОН-пресс, 1993. 333 с. (занятные иллюстрации, приемлемый перевод, но безбожная купюра - нет второй половины второй части)



несколько цитат
(Frans G. Bengtsson. The Long Ships: A Saga of the Viking Age)
Аннотация к одному из изданий гласит, что это - "пародия на классический викингский роман". Из чего делается такой вывод - неясно. По факту имеется описание перипетий скандинавской и европейской жизни второй половины X века, приправленные залихватскими похождениями, забавными диалогами и потешными персонажами. Культура, образ мысли и мировосприятие отражены ненавязчиво, но отменно богато и точно. Персонажи, как и полагается уважающим себя северянам, немногословны и вдумчивы. Убивают, грабят, судятся, женятся и крестятся обстоятельно и толково. Никто попусту красивостей не совершает и эмоциями не сорит. При этом нарочито серьезные скандинавские мужики периодически напоминают рассуждающих о делах тринадцатилетних пацанов или непрерывно толкующих обо всём подряд тарантиновских бандитов.
Что касается технической стороны, то очень качественно совмещена сдержанная манера первоисточников и современная литературность. В итоге получилась первосортная стилизация: мало описаний, много глаголов, ёмкая словесность и обильный дух эпохи, причем всё это без исконной тяжеловесности саг. Понятно, что такая непринуждённость на деле даётся безмерным профессионализмом, за что давно покойному автору поклон.
Лучшее, что есть у Бенгтссона (и не стоившее ему, шведскому автохтону, ничего) - это интонация. Трудности раннесредневековой североевропейской жизни порождают своеобразный юмор. Это вам не южные легкомысленные зашучивания от безделья. Тут юморок сродни английскому, с тяготением к иронии и парадоксу. Видимо, только благодаря размеренной лёгкости стиля при прочтении даже не вспоминаешь, что речь идет о величайших в истории ублюдках и нелюдях. Никаких профессиональных резчиков по живым людям - всё сплошь могучие и хитроватые, но добродушные нурманы.
Но все равно здорово.
* * *
Книжка издавалась только в середине 90-х и настолько малыми тиражами, что сегодня купить её можно лишь в букинистических магазинах, а на этих ваших озонах "товар отсутствует". При этом существуют как минимум три редакции с серьёзными разбросами в переводах имён собственных и терминов:
1. Бенгстон Ф. Викинги: длинные корабли. М.: Octo Print, 1993 г. 576 с. (откровенно трехгрошовое издание и по форме и по содержанию)
2. Франц Г. Бенгтссон. Рыжий Орм. М.: Терра, 1996. 480 с. (добротный перевод и включены все части)
3. Бентсон Ф.Г. Драконы моря: Сага эпохи викингов. М.: КРОН-пресс, 1993. 333 с. (занятные иллюстрации, приемлемый перевод, но безбожная купюра - нет второй половины второй части)



несколько цитат
|
Метки: книжки мужики викинги север |
Про милицию |
"...наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле".
(Закон РФ от 18.04.1991 № 1026-1 "О милиции", первоначальная редакция)
Экзистенция всякого рядового милиционера, как путь Моисея, пролегает меж двух огромных нелюбовей.
По одну руку у него - начальство, которое не любит милиционера за то, что он плохо ловит жуликов.
По другую руку - жулики, которые не любят милиционера за то, что он ловит их слишком хорошо.
Сам милиционер твёрдо знает, что ловит жуликов хорошо.
И в этом обретает с ними глубинное родство.
Что, в общем, трудно спрятать.
И только одно помогает преодолеть всем трём группам пагубную отчуждённость промеж собой: нелюбовь к гражданам.
(Закон РФ от 18.04.1991 № 1026-1 "О милиции", первоначальная редакция)
Экзистенция всякого рядового милиционера, как путь Моисея, пролегает меж двух огромных нелюбовей.
По одну руку у него - начальство, которое не любит милиционера за то, что он плохо ловит жуликов.
По другую руку - жулики, которые не любят милиционера за то, что он ловит их слишком хорошо.
Сам милиционер твёрдо знает, что ловит жуликов хорошо.
И в этом обретает с ними глубинное родство.
Что, в общем, трудно спрятать.
И только одно помогает преодолеть всем трём группам пагубную отчуждённость промеж собой: нелюбовь к гражданам.
|
Метки: милиция диалектика повзаправде |
Инквизиция и астрология или Астрологи-гриль |
«Мой костёр в тумане светит..»
фра Томазо Торквемада
«В печку его, Зина, сейчас же!»
проф. Преображенский
фра Томазо Торквемада
«В печку его, Зина, сейчас же!»
проф. Преображенский
Средневековье – время неприглядное. То есть оно, может быть, во всевозможных книжках выглядит неплохо, или даже вовсе зашибись. И, переевши книжек, население подчас полагает, что средние века – это рыцари, дамы, замки, пастухи и пастушки со свирелями, или, на худой конец, свежий воздух, экологически чистый харч, целостность духа и никаких пагубных излишеств. При мало-мальском знакомстве с материалом или, ещё лучше, с деревенской жизнью становится понятно, что всё это эльфоебизм и сферическое средневековье в вакууме. Никаких вам рыцарей, забудьте такую блажь. Есть одна только рассевшаяся близ дорог и городов бандитская мразь, которая сморкалась, подтиралась и жрала без помывки рук между одним, другим и третьим, а важнейшим из искусств полагала умение задорно грабить и убивать людей.


Про дам с пастушками даже и начинать не стану. В остальном – примерно та же история. Весьма неудобное для житья время, ужасный век, жестокие сердца.
Астрологической братии от эпохи тоже перепало. Потому как непрестанно лезли поперёк руководящей линии. Так перепало, что некоторые даже не унесли. Хотя астрологов обижали заметно меньше, нежели прочих специалистов магических наук. Даже в папских буллах, прописывавших необходимость отрывать головёнки колдунам, астрологов обходили стороной. И единственно от чего мягко предостерегали, так это от предсказаний в адрес матери нашей Церкви и лично товарищей генеральных римских пап. Но уж в такой деликатной просьбе не сыщут недоброго и видные правозащитники Эдуард Петров с Андреем Карауловым - В.Ю. Сурков гарантирует это.
Подробностей!
|
Метки: инквизиция средние века трикстеры джордано бруно |
Про святых |
"Вплоть до третьего-четвертого веков существовал целый жанр в раннехристианской литературе, описывающий странствия вольных проповедников с набожными отроковицами".
(В. Авдеев. "Преодоление христианства")
"Ему больше нравилось разговаривать с молодыми женщинами, чем со старыми".
(Б. Рассел про св. Доминика, "История западной философии")
(В. Авдеев. "Преодоление христианства")
"Ему больше нравилось разговаривать с молодыми женщинами, чем со старыми".
(Б. Рассел про св. Доминика, "История западной философии")
|
Метки: духовность средние века |
Карна-Ушастик, бык среди кшатриев |

"Однажды блистательно сверкающий Индра, поддерживающий этот мир, приняв обличие брахмана, попросил у Васушены его панцирь и серьги. Хотя и обескураженный этой просьбой, Карна отрезал кровоточащий панцирь и серьги и, почтительно сложив ладони, предложил их богу".
(Махабхарата. Восстановление дома Куру)
|
Метки: рисунки олди акварель махабхарата карна ушастик |
О моём старшине или Баллада о завкафе |
Заведующий кафедрой в Томском педагогическом университете - суть савраска зачавканный, которого всякому при встрече хочется придавить в тёмном углу из жалости. Завкаф работает много, космокредов получает за это несоразмерно мало, сон имеет плохой, движения конвульсивные, взгляд дикий. Основная функция этого пасхального кролика - неиллюзорно отхватывать за косяки сотрудников кафедры, он вообще вечно нагибаем начальством по любым поводам.
При этом завкафа недолюбливают обе стороны этой нашей маленькой игры в крысу: и подчинённые, и руководство. Подчинённые - за то, что он принуждён периодически сообщать им, что премии нынче не будет (как вариант: мы должны кого-то направить в состав приёмной комиссии, послать на сбор морковки, приготовить весёлые пантомимы на день рождения ректора, зачислить племянника проректора по АХЧ, объявить выговор преподавателю кафедры <имярек> за недопустимо большое количество двоек, проставленных им на экзамене по... "Да они тупые!!" - "А отчитываться на совете факульта по успеваемости вы будете?!" - "Чо я ещё могу поставить, если они вопрос в билете прочитать не могут!" - "Если мы станем отчислять платников, университет останется без денег! Поставьте хотя бы тройки.." - "Да там два бурята даже по-русски не говорят!!" - "У вас учебно-методический комплекс сдан?" - "Плять..."). Начальство со своей стороны посылает лучи любви за то, что завкаф, состроив замшелое лицо лоботомированного второгодника и кося глазами от беспробудного вранья, в очередной раз на голубом глазу несёт какую-нибудь несусветную чушь, навроде того, что Ольга Юрьевна опоздала на пары, потому что у неё кошка дома рожала, а у Ивана Тимофеевича при выходе с зачёта в прозрачном пакете ("идиот!") в бутылке орехового цвета и с большой этикеткой с золотыми буквами "Ахтамар" ("..убью ссуку") был отнюдь не коньяк, о чем смехотворно и подумать, а вовсе даже случайно на коньяк похожая краска-морилка, - он у себя балкон ремонтирует, ой, Ирина Алексеевна, я тут ремонт затеял, так вы не поверите...
Представляется необходимым отметить также то обстоятельство, что педовский студент (как любой другой), периодически чумея от обилия информации, бредёт за утешением не в деканат (там все равно никто ничего не знает), а именно к завкафу, и, на манер слепого котенка отыскав у завкафа сисю с теплым молоком, невозбранно кормится из неё во всякое время суток.
Наконец, кадровая политика ТГПУ такова, что любого препода в любой миг могут попросить на мороз безо всяких объяснений. Банхаммер в виде увольнения применяется педовскими модерами с лёгкоcтью чрезвычайной, в отношении персонажей любой степени заслуженности и за проступки неочевидные.
Не мёдом, ох не мёдом полит хлеб центуриона.
***
А мне тут кафедру предложили.
Воооот, значит.

При этом завкафа недолюбливают обе стороны этой нашей маленькой игры в крысу: и подчинённые, и руководство. Подчинённые - за то, что он принуждён периодически сообщать им, что премии нынче не будет (как вариант: мы должны кого-то направить в состав приёмной комиссии, послать на сбор морковки, приготовить весёлые пантомимы на день рождения ректора, зачислить племянника проректора по АХЧ, объявить выговор преподавателю кафедры <имярек> за недопустимо большое количество двоек, проставленных им на экзамене по... "Да они тупые!!" - "А отчитываться на совете факульта по успеваемости вы будете?!" - "Чо я ещё могу поставить, если они вопрос в билете прочитать не могут!" - "Если мы станем отчислять платников, университет останется без денег! Поставьте хотя бы тройки.." - "Да там два бурята даже по-русски не говорят!!" - "У вас учебно-методический комплекс сдан?" - "Плять..."). Начальство со своей стороны посылает лучи любви за то, что завкаф, состроив замшелое лицо лоботомированного второгодника и кося глазами от беспробудного вранья, в очередной раз на голубом глазу несёт какую-нибудь несусветную чушь, навроде того, что Ольга Юрьевна опоздала на пары, потому что у неё кошка дома рожала, а у Ивана Тимофеевича при выходе с зачёта в прозрачном пакете ("идиот!") в бутылке орехового цвета и с большой этикеткой с золотыми буквами "Ахтамар" ("..убью ссуку") был отнюдь не коньяк, о чем смехотворно и подумать, а вовсе даже случайно на коньяк похожая краска-морилка, - он у себя балкон ремонтирует, ой, Ирина Алексеевна, я тут ремонт затеял, так вы не поверите...
Представляется необходимым отметить также то обстоятельство, что педовский студент (как любой другой), периодически чумея от обилия информации, бредёт за утешением не в деканат (там все равно никто ничего не знает), а именно к завкафу, и, на манер слепого котенка отыскав у завкафа сисю с теплым молоком, невозбранно кормится из неё во всякое время суток.
Наконец, кадровая политика ТГПУ такова, что любого препода в любой миг могут попросить на мороз безо всяких объяснений. Банхаммер в виде увольнения применяется педовскими модерами с лёгкоcтью чрезвычайной, в отношении персонажей любой степени заслуженности и за проступки неочевидные.
Не мёдом, ох не мёдом полит хлеб центуриона.
***
А мне тут кафедру предложили.
Воооот, значит.

|
Метки: преподы тгпу образование повзаправде |
Про командировки |
Уже начал забывать, как это неплохо бывает съездить в командировку. Важно только не частить, чтобы продолжать получать удовольствие. Бессонная ночь в полупустом автобусе под музыку в наушниках, с видами ночной дороги - в этом определенно есть бог.
Сильно смущает чтение лекций сорокалетним мужикам. Среди них начальник местной криминальной милиции в звании подпола и старший опер Саша в капитанском звании после Карабаха и Чечни. Это всё настоящие мужики, без малейших оговорок и с моей снятой шляпой. И вполне вероятно, что в другой ситуации они посморкались бы мною, как платочком хлопчатобумажным. Потому что обо мне сказать то же самое никак не получается, ни с их первого взгляда, ни с моего второго. Однако же мы играем в игру "уважь приезжего, а то ему ещё экзамен сдавать". Меня именуют по имени-отчеству, привозят-увозят, покупают билет, предлагают пообедать и поквасить, а я делаю вид, что всё так и должно быть. От побухать отказываюсь, но в остальном строю из себя грёбаного борменталя и надоедаю многозначительными намеками на содержимое выеденного яйца. При том, что стараюсь быть предельно сдержан в своём потребительстве, всё одно - противно.
Однако мир чистогана не спрашивает: "Нравится ли тебе то, чем ты занимаешься?"
Он спрашивает: "На что ты будешь жить в октябре, слон сиамский?"

Сильно смущает чтение лекций сорокалетним мужикам. Среди них начальник местной криминальной милиции в звании подпола и старший опер Саша в капитанском звании после Карабаха и Чечни. Это всё настоящие мужики, без малейших оговорок и с моей снятой шляпой. И вполне вероятно, что в другой ситуации они посморкались бы мною, как платочком хлопчатобумажным. Потому что обо мне сказать то же самое никак не получается, ни с их первого взгляда, ни с моего второго. Однако же мы играем в игру "уважь приезжего, а то ему ещё экзамен сдавать". Меня именуют по имени-отчеству, привозят-увозят, покупают билет, предлагают пообедать и поквасить, а я делаю вид, что всё так и должно быть. От побухать отказываюсь, но в остальном строю из себя грёбаного борменталя и надоедаю многозначительными намеками на содержимое выеденного яйца. При том, что стараюсь быть предельно сдержан в своём потребительстве, всё одно - противно.
Однако мир чистогана не спрашивает: "Нравится ли тебе то, чем ты занимаешься?"
Он спрашивает: "На что ты будешь жить в октябре, слон сиамский?"

|
Метки: дороги мужики |
Пророк |

Иллюстрация к песне "Фуллтайм" группы "Башня Rowan"
http://www.rowan.ru/read.php?song=antifooltime.html
|
Метки: рисунки пастель башня rowan |
Только гады множатся и явно процветают |
"Совершенно не понятно, почему бы за неуспеваемость действительно не выгонять двоечников: если мы настаиваем на том, что школа – это место, где дети учатся, то что там делают те, кто учиться не хочет?"
"Если мы откажемся от мысли, что школа – это приют для разного рода убогих, которые без смысла и толку кому-то должны высиживать «уроки», и хотя бы попробуем сделать ее «храмом знаний», простите за пафос, но как иначе – перед средней школой откроются потрясающие перспективы. Сегодняшнее унылое дотягивание двоечников до тройки и постоянное унижение беспросветной бестолковостью сменится нормальным обучением тех, кто хочет учиться".
"Потому что, видите ли, школы борются за успеваемость, каждый учитель должен проставить галочки, не ставить двоек и вообще вести себя как можно более беззубо и безлико, чтобы никого ненароком не обидеть. Эта оригинальная идея уже привела к тому, что средний уровень школы упал до «троечного»: еще лет пять – и он скатится до откровенно «двоечного», а там, глядишь, и до вполне имбецильного".
М. Бударагин. (http://www.vz.ru/columns/2009/9/9/325756.html)
Первое желание после прочтения этих слов - броситься Михаилу Бударагину на грудь и бурно, неостановимо рыдать в духе сентиментальных романов XVIII века. Хочется, как минимум, благодарно посмотреть ему в глаза, крепко пожать руку и признать резонным человеком.
"О, если бы верно взвешены были вопли мои, и вместе с ними положили на весы страдание мое! Оно верно перетянуло бы песок морей! Оттого слова мои неистовы".
(Иов 6:1-12)
Кроется, правда, тут еще одна мыслишка, автором не учтённая, но существенная.
ЕГЭ, этот цирк Барнума, придуман не "для", а "против". Против преподов. Потому что преподы, как известно, - козлы. Мысль эта столь очевидна, что не требует подтверждения: миллионы студентов, правдорубы типа Аркадия Мамонтова и "Наша Раша" гарантируют это. Преподы шизофреничны, злобны, похмельны, мстительны, некомпетентны, продажны, бессовестны, циничны, злопамятны, завистливы, глупы, властолюбивы, мелочны и тщеславны. И даже самый замечательный препод по человеческой природе своей субъективен. "Дружок, я все знаю, я сам, брат, из этих". Между тем именно от оценок этого упыря зависит порой человеческая (детская!) судьба. Отменным средством от этого является нынешнее фактическое табу на исключение из средней школы. То, что хромые верблюды задерживают караван и не дают караванщику делать свое дело - мысль десятая. У нас гуманное социальное государство, в конце концов.
То, о чем говорит М. Бударагин (и о чем до спазмов в гиппокампе мечтается мне) можно построить только на субъективности учительского мнения. Потому что, скажем, коллегиальность решения об отчислении ситуации не спасёт - на моей практике такая проба была: чадо в 15 лет пребывало в 8-м классе, привычно обкладывало матом половину учителей и имело табель из тотальных двоек. Однако команда нелюдей, направивших в управление образования представление на исключение из школы, была немедленно разоблачена в своем малодушии и банальной профнепригодности. Полгода потом ещё отплёвывались, непедагогично матерясь. И это правильно: ублюдки даже под именем "педсовета" остаются скопищем ублюдков, и ожидать от них справедливости не стоит. Поэтому нужно будет придумывать еще одну малую механизацию по типу ЕГЭ - теперь уже для отчисления.
Так и будем без конца умножать матрёшек из ржавого железа.
* * *
А самое паршивое, что государственная политика последних двадцати лет привела к тому, что преподавательский корпус в стране и вправду хреноват. Легендарный размер учительской заработной платы порождает ситуацию, при которой в учителя/преподы слишком часто идут люди, мало для этого пригодные, но неспособные заработать денег на настоящей работе.
Однако повышение денежного довольствия породит новые проблемы, и не факт, что они будут меньше прежних.
Диалектика, йопт.
"Если мы откажемся от мысли, что школа – это приют для разного рода убогих, которые без смысла и толку кому-то должны высиживать «уроки», и хотя бы попробуем сделать ее «храмом знаний», простите за пафос, но как иначе – перед средней школой откроются потрясающие перспективы. Сегодняшнее унылое дотягивание двоечников до тройки и постоянное унижение беспросветной бестолковостью сменится нормальным обучением тех, кто хочет учиться".
"Потому что, видите ли, школы борются за успеваемость, каждый учитель должен проставить галочки, не ставить двоек и вообще вести себя как можно более беззубо и безлико, чтобы никого ненароком не обидеть. Эта оригинальная идея уже привела к тому, что средний уровень школы упал до «троечного»: еще лет пять – и он скатится до откровенно «двоечного», а там, глядишь, и до вполне имбецильного".
М. Бударагин. (http://www.vz.ru/columns/2009/9/9/325756.html)
Первое желание после прочтения этих слов - броситься Михаилу Бударагину на грудь и бурно, неостановимо рыдать в духе сентиментальных романов XVIII века. Хочется, как минимум, благодарно посмотреть ему в глаза, крепко пожать руку и признать резонным человеком.
"О, если бы верно взвешены были вопли мои, и вместе с ними положили на весы страдание мое! Оно верно перетянуло бы песок морей! Оттого слова мои неистовы".
(Иов 6:1-12)
Кроется, правда, тут еще одна мыслишка, автором не учтённая, но существенная.
ЕГЭ, этот цирк Барнума, придуман не "для", а "против". Против преподов. Потому что преподы, как известно, - козлы. Мысль эта столь очевидна, что не требует подтверждения: миллионы студентов, правдорубы типа Аркадия Мамонтова и "Наша Раша" гарантируют это. Преподы шизофреничны, злобны, похмельны, мстительны, некомпетентны, продажны, бессовестны, циничны, злопамятны, завистливы, глупы, властолюбивы, мелочны и тщеславны. И даже самый замечательный препод по человеческой природе своей субъективен. "Дружок, я все знаю, я сам, брат, из этих". Между тем именно от оценок этого упыря зависит порой человеческая (детская!) судьба. Отменным средством от этого является нынешнее фактическое табу на исключение из средней школы. То, что хромые верблюды задерживают караван и не дают караванщику делать свое дело - мысль десятая. У нас гуманное социальное государство, в конце концов.
То, о чем говорит М. Бударагин (и о чем до спазмов в гиппокампе мечтается мне) можно построить только на субъективности учительского мнения. Потому что, скажем, коллегиальность решения об отчислении ситуации не спасёт - на моей практике такая проба была: чадо в 15 лет пребывало в 8-м классе, привычно обкладывало матом половину учителей и имело табель из тотальных двоек. Однако команда нелюдей, направивших в управление образования представление на исключение из школы, была немедленно разоблачена в своем малодушии и банальной профнепригодности. Полгода потом ещё отплёвывались, непедагогично матерясь. И это правильно: ублюдки даже под именем "педсовета" остаются скопищем ублюдков, и ожидать от них справедливости не стоит. Поэтому нужно будет придумывать еще одну малую механизацию по типу ЕГЭ - теперь уже для отчисления.
Так и будем без конца умножать матрёшек из ржавого железа.
* * *
А самое паршивое, что государственная политика последних двадцати лет привела к тому, что преподавательский корпус в стране и вправду хреноват. Легендарный размер учительской заработной платы порождает ситуацию, при которой в учителя/преподы слишком часто идут люди, мало для этого пригодные, но неспособные заработать денег на настоящей работе.
Однако повышение денежного довольствия породит новые проблемы, и не факт, что они будут меньше прежних.
Диалектика, йопт.
|
Метки: образование преподы егэ михаил бударагин |
Взгляд, конечно, очень варварский, но верный |
"Власти Ингушетии заявили, что непосредственный организатор покушения на президента республики Юнус-Бек Евкурова убит в результате перестрелки. Двое человек, ехавших с Дзортовым, были убиты на месте, а ему удалось скрыться. Его труп, сообщают власти, был найден позже неподалеку от места перестрелки".
http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2009/09/090905_ingush_top_militant_shot.shtml
"В процессе общей резни эпизодами прошло несколько мелких резнюшек, в одной из которых, в частности, Туор ликвидировал Маэглина, еще раз таким образом доказав, что люди в разрешении конфликтных ситуаций всегда более конструктивны, нежели эльфы".
А. Свиридов (С.О. Рокдевятый). "Зверьмариллион".
http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2009/09/090905_ingush_top_militant_shot.shtml
"В процессе общей резни эпизодами прошло несколько мелких резнюшек, в одной из которых, в частности, Туор ликвидировал Маэглина, еще раз таким образом доказав, что люди в разрешении конфликтных ситуаций всегда более конструктивны, нежели эльфы".
А. Свиридов (С.О. Рокдевятый). "Зверьмариллион".
|
Метки: мужики юнус-бек евкуров кавказ |
Харыпы in da house |
Неделю назад, почуяв неладное, выломал дверь к соседям по секции и был опрокинут бурей из трупных мошечек, которые развелись там на почве щедро распахнутого и оставленного на лето холодильника с какими-то смрадными черными сгустками слизи на полках.
А теперь они съехались снова, прекрасные парни из Козюлино, Могочино и тому подобных пердей, с лицами персонажей фильма "Жмурки", навечно застрявшие в 97-м году, по-будистски игнорирующие функцию смыва в сортире и по-детски радующиеся наличию кнопки "boost" на своих сабвуферах.
Сабвуфер в помещении величиной в 12 кв. метров - это само по себе прекрасно, а в два часа ночи бодрит общагу сразу на два этажа вверх и вниз.
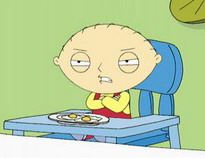
А теперь они съехались снова, прекрасные парни из Козюлино, Могочино и тому подобных пердей, с лицами персонажей фильма "Жмурки", навечно застрявшие в 97-м году, по-будистски игнорирующие функцию смыва в сортире и по-детски радующиеся наличию кнопки "boost" на своих сабвуферах.
Сабвуфер в помещении величиной в 12 кв. метров - это само по себе прекрасно, а в два часа ночи бодрит общагу сразу на два этажа вверх и вниз.
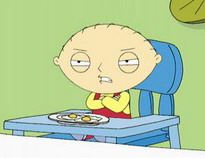
|
Метки: студенты общага дураки |
Процитировано 1 раз
Про свадьбы |
Иногда зовут на свадьбы. И это крайне, крайне неприятно.
Хм, странно слышать, отчего бы это вдруг? Вы что же, поручик, не питаете исступленной любви к разухабистым пьянкам среди нескольких десятков незнакомых людей по поводу сомнительного события на фоне всеобщего пароксизма восторга? Это даже противоестественно - не стремиться нажраться в синюшный коматоз в целенаправленно организованном хаосе под музыку, целиком соответствующую самому мероприятию. Это, наконец, антинационально и выглядит как плевок в тысячелетние традиции.
Что характерно, учинять этот мерзкий геволт имеют обыкновение невесты, которым иначе жизнь никак не мила. Один товарищ утверждает, будто бы любое дитя женского полу с трех лет вожделеет выйти замуж и круглосуточно грезит фатой. Поменять верховую езду на отце на езду верхом на муже - примерно так он полагает.
Другое превосходное обоснование свадьбе - "неудобно отказать". Друзья, подруги, родня - все они будут со страшной силой тянуться поздравить, выпить с молодыми на счастье, не порвать, так понадрывать баян, и разное тому подобное. И это уже неотразимый довод, разумеется.
Помню, как болели улыбательные мышцы рожи с последнего раза. От шестичасового непрерывного счастья. А есть ведь еще тамада. С веселыми конкурсами, хай йому грець. Нет гаже породы среди людей, чем массовики-затейники, эти недобитые акушерами при рождении задорные весельчаки.
Нет, нет. Нещадно отправлять всяких вострецов в сторону гениталий разными видами парадного марша.
Друзья поймут, а остальных - на три на тайные руны.
Хм, странно слышать, отчего бы это вдруг? Вы что же, поручик, не питаете исступленной любви к разухабистым пьянкам среди нескольких десятков незнакомых людей по поводу сомнительного события на фоне всеобщего пароксизма восторга? Это даже противоестественно - не стремиться нажраться в синюшный коматоз в целенаправленно организованном хаосе под музыку, целиком соответствующую самому мероприятию. Это, наконец, антинационально и выглядит как плевок в тысячелетние традиции.
Что характерно, учинять этот мерзкий геволт имеют обыкновение невесты, которым иначе жизнь никак не мила. Один товарищ утверждает, будто бы любое дитя женского полу с трех лет вожделеет выйти замуж и круглосуточно грезит фатой. Поменять верховую езду на отце на езду верхом на муже - примерно так он полагает.
Другое превосходное обоснование свадьбе - "неудобно отказать". Друзья, подруги, родня - все они будут со страшной силой тянуться поздравить, выпить с молодыми на счастье, не порвать, так понадрывать баян, и разное тому подобное. И это уже неотразимый довод, разумеется.
Помню, как болели улыбательные мышцы рожи с последнего раза. От шестичасового непрерывного счастья. А есть ведь еще тамада. С веселыми конкурсами, хай йому грець. Нет гаже породы среди людей, чем массовики-затейники, эти недобитые акушерами при рождении задорные весельчаки.
Нет, нет. Нещадно отправлять всяких вострецов в сторону гениталий разными видами парадного марша.
Друзья поймут, а остальных - на три на тайные руны.
|
Метки: праздники энтропия |
Про Спарту, хамов и историческую науку |
С запозданием открыл для себя очередного (и, видимо, немалоизвестного) набигателя на историческую науку - А.Н. Савельева, бывшего депутата Государственной Думы РФ, доктора политологических наук, историка с казацкой душой, лихого приверженца одноклеточных трактовок, протыкателя дутых теорий и размашистого сеятеля идей. Исследователь, начинающий статьи с патетических филиппик, пользующийся оборотами "специалисты считают", принципиально презирающий ссылки на первоисточники, с точностью до десятилетий датирующий правление Ликурга, и походя доказывающий происхождение спартанцев от троянцев (а тех от вавилонян) - это тот клистир, что давно требовался нечестивому кагалу отечественных жидоисториков. Лично меня от этого интеллектуального проброса так заровняло, что не надо хоронить. В частности, мною проштудированы три достаточно обширные и серьезнообразные статьи А.Н. Савельева на тему истории Древней Спарты, позаимствованные с сайта http://www.zlev.ru/.
Под катом - много букв, цитат и взаимоисключающих параграфов, иллюстрирующих умственную мощь депутатов Государственной Думы РФ в целом и в частности

Под катом - много букв, цитат и взаимоисключающих параграфов, иллюстрирующих умственную мощь депутатов Государственной Думы РФ в целом и в частности

![]() Вложение: 3748354_Savelev.rar
Вложение: 3748354_Savelev.rar
|
Метки: древняя греция наука дураки |
Про разрыв шаблона |
В июне 2007 года в Томской области состоялась гуманитарная общественная акция.
Велопробег "По маршруту здоровья" призывал решительно отринуть наркотики, алкоголь и табак ради будущего. Все шло благопристойно и на высокой ноте, пока участники пробега не добрались до с. Моряковский Затон.
Здесь, покуда неместные агитировали аборигенов за здоровый образ жизни, у одной из участниц украли велосипед.
В назидание, я полагаю. Чтоб наивность свою нездешнюю поумерили и на истинные ценности не замахивались.
А то целостность картины мира любая пришлая недоумь испаскудить может, а людям жить потом с этой болью.
Могли бы и в дегте извалять, охальников.
За такое-то.

"...дела с крещением шли слабо; и вот эти бритые, что много говорили о мире, а сами более всего распалялись враждой к чужим богам, были однажды схвачены верующими людьми и повешены на священных ясенях. Другие же, что подались на север, в леса Гёинге, где вера была послабее, встречены были с радостью, связаны и отправлены на рынки Смоланда и обменяны там на быков и бобровый мех".
(Ф. Бенгтссон, "Рыжий Орм")
Велопробег "По маршруту здоровья" призывал решительно отринуть наркотики, алкоголь и табак ради будущего. Все шло благопристойно и на высокой ноте, пока участники пробега не добрались до с. Моряковский Затон.
Здесь, покуда неместные агитировали аборигенов за здоровый образ жизни, у одной из участниц украли велосипед.
В назидание, я полагаю. Чтоб наивность свою нездешнюю поумерили и на истинные ценности не замахивались.
А то целостность картины мира любая пришлая недоумь испаскудить может, а людям жить потом с этой болью.
Могли бы и в дегте извалять, охальников.
За такое-то.

"...дела с крещением шли слабо; и вот эти бритые, что много говорили о мире, а сами более всего распалялись враждой к чужим богам, были однажды схвачены верующими людьми и повешены на священных ясенях. Другие же, что подались на север, в леса Гёинге, где вера была послабее, встречены были с радостью, связаны и отправлены на рынки Смоланда и обменяны там на быков и бобровый мех".
(Ф. Бенгтссон, "Рыжий Орм")
|
Метки: родина сибирь моряковка |
Без заголовка |
"Смешные — хорошие. Смешные всегда помогают друг дружке".
(Г.Л. Олди. "Шмагия")
"Если у человека есть деньги, он уже не смешной".
(х/ф "Валентина". пр-во СССР, 1980 г.)
(Г.Л. Олди. "Шмагия")
"Если у человека есть деньги, он уже не смешной".
(х/ф "Валентина". пр-во СССР, 1980 г.)
|
Метки: диалектика |
Про рабов, педагогов и бессознательное |
"Язык - это самостоятельная сила; не человек говорит на языке, говорит сам язык, самовластно, а через него и само бытие. Таким образом, язык, по Xайдеггеру, это и дом бытия, и кров, жилище самого человека, и самостоятельная смыслопорождающая сила, и единственное пространство, где обитает истина бытия".
(Грицанов А. История Философии: Энциклопедия. М., 2002. Ст. "ХАЙДЕГГЕР")
Этнолингвист Эдвард Сепир с высот академической мудрости сформулировал: "То, что именуют "реальным миром", в значительной степени бессознательно строится на основе языковых норм данной группы". Обыденный смысл этой идеи прост: как мы говорим/слышим, так мы и думаем/воспринимаем, и, как следствие, так и живем. Концепция вербальной магии: влияние слов на реальность. В глубине души люди всегда это подозревали и, будучи закоснелыми эмпириками, практиковали от начала времен, не дожидаясь, пока им наукообразно разъяснят.
Мне неизвестно, какими историческими путями прошло греческое слово "педагог" (παιδαγωγός, "детоводитель"). Так, скажем, столетней давности словарь Брокгауза и Ефрона (1890-1907 гг.) содержит только одно толкование этого понятия: «Педагог – раб, уходу которого в афинских семействах поручались мальчики с шестилетнего возраста» . Изначально афинский педагог был говорящим скотом со специфичной задачей: он отвечал за то, чтобы по дороге от дома до школы чадо не сошло с узкого пути добродетели. Брал за руку и тащил в бастион тьмы, - получать свет знаний. В интересах дела ему даже предоставлялось право наказывать ребенка, в том числе телесно. Правда, потом нужно было ответить и за правомерность порки, и за все проколы на участке ответственности. Раба-педагога, в отличие от других невольников, били в крайних случаях, тяжелой работой не изнуряли, но и куском юридически недееспособного мяса он быть не переставал. Максимальные ништяки, которые ему перепадали – баланда погуще и одежка поцивильнее. Хотя это, конечно, во многом зависело от хозяина. Весь этот древнегреческий сюжет современным детишкам разъясняют в пятом классе на уроках истории. Детишки, понятно, немедленно забывают, но троица лингвистических пингвинов Сепир-Уорф-Хайдеггер (и примкнувший к ним К.-Г. Юнг) ехидно машут нам ластами.
Поименовать нынешнего учителя/препода по функции, которая исполнялась сугубо рабами - это сильный ход. Это значит – зафиксировать место субъекта в картине мира. Как раз через ту самую механику взаимовлияния слов, смыслов, подсознания и бытия. Преподаватель философии Томского государственного педагогического университета Юрий Николаевич Шевченко употреблял в таких случаях слово "имплицитный", то бишь "подразумеваемый", "невыраженный". И добавлял, что имплицитные слои культуры являются чрезвычайно инертными и внешним влияниям поддаются крайне плохо. Зато эффективно влияют на человеческую жизнь.
В этом свете выспренний пафос последнихзвонков, днейучителей и тому подобных мероприятий представляется как минимум безосновательным. Вопреки обильным словоблудиям на тему социальной важности педагогического труда («Учитель, перед именем твоим..!»), реальность напоминает о себе весомо и грубо - как кирпичом в харю. Убожество сегодняшнего государственного образования является секретом для немногих. Характерно скорее то, что это почти никого не смущает, но это-то и объяснимо: раб и не должен получать вознаграждения, и обращения заслуживает соответствующего.
Пустозвонство нашего образовательно-административного речекряка с учетом многовековых коннотаций становится не просто идиотским, но едва ли не инфернальным вплоть до запаха серы. Все эти онанистические конструкции наподобие "педагог новой формации", "педагогика сотрудничества", "инновационная культура педагогов" – тысячи их. Такие смысловые кракозябры политруки от образования генерируют непрерывно. Нет, понятно, что над всеми чиновниками, как над пчелами, довлеет роевое сознание, и это они неспециально, а просто привычно попукивают ртом без участия рассудка.
Но «раб новой формации» – это праздник души, я считаю. Именины сердца.
Еще забористей выпирают аллюзии, если проследить движение термина в древнеримской культуре. Здесь педагогами назывались «рабы, учившие молодых купленных или доморощенных рабов всем обязанностям и приёмам рабской службы» (Брокгауз-Ефрон). В общем-то, опять не новость: люди в стране во многом будут такими, какими будут учителя, то есть - зацикленными на прокорме, истомленными нелюбовью и отсутствием смысла в жизни. Но какова баллистика валуна, летящего в огород тем, кто полагает, будто нестрашно, если их детей будут учить так, как учат сейчас!
Самовоспроизводство рабов, черт побери. А вы как хотели.
***
А ведь у греков было имя для свободного человека, работающего учителем - "дидасколос". Было у них также слово «дидакт», и еще образное понятие «ментор», по имени наставника Одиссеева сына Телемаха, - Ментора, сына Алкима. Если уж так хотелось дернуть непременно что-нибудь из античности.
Вотще.
(Грицанов А. История Философии: Энциклопедия. М., 2002. Ст. "ХАЙДЕГГЕР")
Этнолингвист Эдвард Сепир с высот академической мудрости сформулировал: "То, что именуют "реальным миром", в значительной степени бессознательно строится на основе языковых норм данной группы". Обыденный смысл этой идеи прост: как мы говорим/слышим, так мы и думаем/воспринимаем, и, как следствие, так и живем. Концепция вербальной магии: влияние слов на реальность. В глубине души люди всегда это подозревали и, будучи закоснелыми эмпириками, практиковали от начала времен, не дожидаясь, пока им наукообразно разъяснят.
Мне неизвестно, какими историческими путями прошло греческое слово "педагог" (παιδαγωγός, "детоводитель"). Так, скажем, столетней давности словарь Брокгауза и Ефрона (1890-1907 гг.) содержит только одно толкование этого понятия: «Педагог – раб, уходу которого в афинских семействах поручались мальчики с шестилетнего возраста» . Изначально афинский педагог был говорящим скотом со специфичной задачей: он отвечал за то, чтобы по дороге от дома до школы чадо не сошло с узкого пути добродетели. Брал за руку и тащил в бастион тьмы, - получать свет знаний. В интересах дела ему даже предоставлялось право наказывать ребенка, в том числе телесно. Правда, потом нужно было ответить и за правомерность порки, и за все проколы на участке ответственности. Раба-педагога, в отличие от других невольников, били в крайних случаях, тяжелой работой не изнуряли, но и куском юридически недееспособного мяса он быть не переставал. Максимальные ништяки, которые ему перепадали – баланда погуще и одежка поцивильнее. Хотя это, конечно, во многом зависело от хозяина. Весь этот древнегреческий сюжет современным детишкам разъясняют в пятом классе на уроках истории. Детишки, понятно, немедленно забывают, но троица лингвистических пингвинов Сепир-Уорф-Хайдеггер (и примкнувший к ним К.-Г. Юнг) ехидно машут нам ластами.
Поименовать нынешнего учителя/препода по функции, которая исполнялась сугубо рабами - это сильный ход. Это значит – зафиксировать место субъекта в картине мира. Как раз через ту самую механику взаимовлияния слов, смыслов, подсознания и бытия. Преподаватель философии Томского государственного педагогического университета Юрий Николаевич Шевченко употреблял в таких случаях слово "имплицитный", то бишь "подразумеваемый", "невыраженный". И добавлял, что имплицитные слои культуры являются чрезвычайно инертными и внешним влияниям поддаются крайне плохо. Зато эффективно влияют на человеческую жизнь.
В этом свете выспренний пафос последнихзвонков, днейучителей и тому подобных мероприятий представляется как минимум безосновательным. Вопреки обильным словоблудиям на тему социальной важности педагогического труда («Учитель, перед именем твоим..!»), реальность напоминает о себе весомо и грубо - как кирпичом в харю. Убожество сегодняшнего государственного образования является секретом для немногих. Характерно скорее то, что это почти никого не смущает, но это-то и объяснимо: раб и не должен получать вознаграждения, и обращения заслуживает соответствующего.
Пустозвонство нашего образовательно-административного речекряка с учетом многовековых коннотаций становится не просто идиотским, но едва ли не инфернальным вплоть до запаха серы. Все эти онанистические конструкции наподобие "педагог новой формации", "педагогика сотрудничества", "инновационная культура педагогов" – тысячи их. Такие смысловые кракозябры политруки от образования генерируют непрерывно. Нет, понятно, что над всеми чиновниками, как над пчелами, довлеет роевое сознание, и это они неспециально, а просто привычно попукивают ртом без участия рассудка.
Но «раб новой формации» – это праздник души, я считаю. Именины сердца.
Еще забористей выпирают аллюзии, если проследить движение термина в древнеримской культуре. Здесь педагогами назывались «рабы, учившие молодых купленных или доморощенных рабов всем обязанностям и приёмам рабской службы» (Брокгауз-Ефрон). В общем-то, опять не новость: люди в стране во многом будут такими, какими будут учителя, то есть - зацикленными на прокорме, истомленными нелюбовью и отсутствием смысла в жизни. Но какова баллистика валуна, летящего в огород тем, кто полагает, будто нестрашно, если их детей будут учить так, как учат сейчас!
Самовоспроизводство рабов, черт побери. А вы как хотели.
***
А ведь у греков было имя для свободного человека, работающего учителем - "дидасколос". Было у них также слово «дидакт», и еще образное понятие «ментор», по имени наставника Одиссеева сына Телемаха, - Ментора, сына Алкима. Если уж так хотелось дернуть непременно что-нибудь из античности.
Вотще.
|
Метки: образование преподы древняя греция порядок слов |








