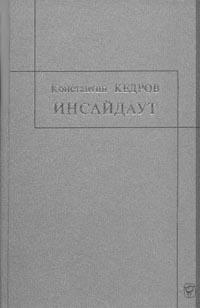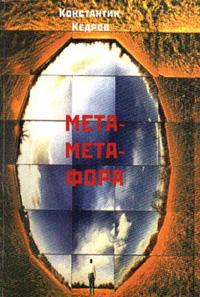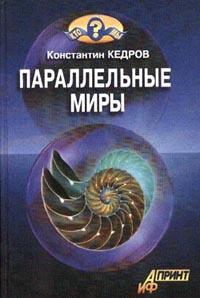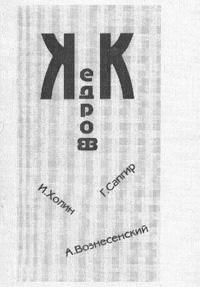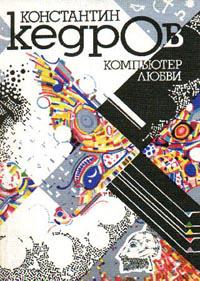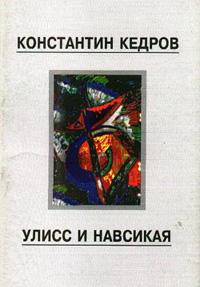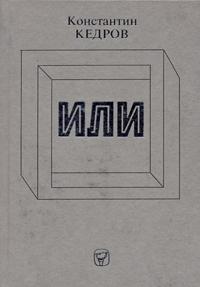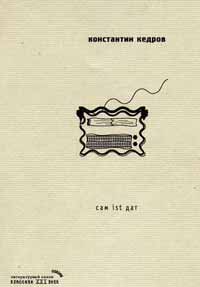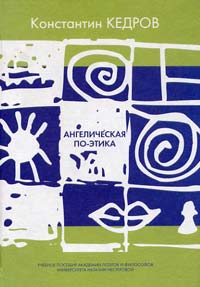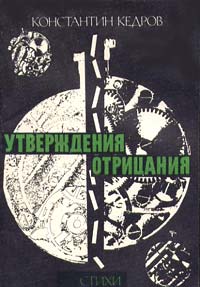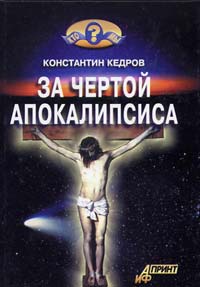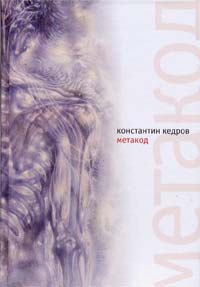я знаю едрова. » дл€ мен€ 2004 год Ц тоже в каком-то смысле юбилейный, но в другом: 20 лет, как мы познакомились. 20 лет моей новой жизни. ѕроизошло это в ƒоме творчества писателей Ђ»рпеньї под иевом. ¬ том самом »рпене, про который ѕастернак писал: Ђ»рпень Ц это пам€ть о люд€х, о летеЕї
—тудент филфака ћ√”, окончивший первый курс, € бредил тогда ѕастернаком, написал по нему первую курсовую работу. огда мой отец, јлександр √ригорьевич оган, исследователь военной литературы, объ€вил мне, куда мы едем, € ожидал этого как чуда: в месте, где побывал ѕастернак, не могло не произойти чудес.
ƒом творчества состо€л из двухэтажных корпусов с несколькими номерами. ћы с отцом жили на втором этаже одного из таких корпусов, а на первом, пр€мо р€дом с лестницей, жила пара: он Ц бородатый, с умным лицом; она Ц с огненным насмешливым взгл€дом, черными распущенными волосами. —в€той и ведьма. „то-то в них было нетипичное. Ќо €, юный интроверт, не сразу и обратил на них внимание. ј потом Ц так, отметил про себ€Е
ќднажды вечером отец после ужина задержалс€ дольше обычного; пришел в номер, когда уже стемнело.
Ц √де ходил? Ц спросил € с любезной любознательностью пыточных дел мастера.
Ц —то€ли с едровым, разговаривали о ‘едорове.
ƒве незнакомых фамилии сразу! ј €-то был уверен, что знаю словарный запас своего отца вдоль и поперек: √удзенко Ц Ћазарев Ц Ўубин Ц јлтаузен Ц ондратович Ц ондратьев Ц ѕузиков Ц —арновЕ ƒа, еще —имонов и “вардовский.
Ц ј кто такой едров?
Ц ∆ивет под нами с женой, такой бородатый.
Ц ј кто он? „то он пишет?
Ц ќн преподаватель Ћитинститута. ќбещал дать почитать свои статьи.
Ђѕреподаватель ЋитинститутаїЕ исла€ рекомендаци€.
Ц ј кто такой ‘едоров?
Ц Ѕыл такой философ Ќиколай ‘едоров в начале века. ѕроповедовал воскрешение мертвых.
Ц ¬ каком смысле?
¬ пр€мом. „то всех мертвых надо воскресить.
ѕодумать только! ћой отец, убежденный атеист, материалист, коммунист со стажем, два часа разговаривал про воскрешение мертвых?! ƒа € таких слов от него отрод€сь не слышал! » что, они теперь все в Ћитинституте об этом пишут? „то же это за едров такой, который сподвиг моего отца на подобный разговор?
Ц ак его зовут?
Ц онстантин јлександрович.
Ц ≈сли он даст тебе статьи, дай мне тоже почитать.
„ерез день в моих руках были две статьи Ц Ђ«вездный садї (о Ѕлоке) и Ђ¬осстановление погибшего человекаї (о ƒостоевском). ∆изнь перевернулась.
„то было до этого? ¬ некоторых отношени€х образцова€, а в других Ц совсем провальна€ семь€. –азмеренное, благополучное, но скучноватое, задавленное школой детство и отрочество. –усска€ и зарубежна€ классика, советска€ литература. јнтисоветские разговоры (как, наверное, в каждой второй интеллигентской семье). лассическа€ музыка. ¬оспитание хорошего, традиционного вкуса.
ƒетство € провел хорошо
а юность еще лучше
Ќесколько запрещенных книг. ѕомню июнь 1981 года. ћне четырнадцать лет. ќтец на съезде писателей. “ам ему на пару дней дали ксерокс книги ќльги »винской Ђ¬ плену времени. √оды с Ѕорисом ѕастернакомї, и он спешит поделитьс€ ею с мамой. ћен€ отправл€ют в центр на встречу с отцом. ќба родител€ предупреждают: сверток не открывать. –азумеетс€, войд€ в вагон метро, € тут же разворачиваю сверток, даже не осознава€, чем мне это грозит, Ц и не могу оторватьс€. Ќепон€тный, совершенно дремучий ѕастернак, которого € видел всего несколько стихотворений и отскакивал от них как ошпаренный, Ц начинает мне открыватьс€! ’орошо, что мама задержалась на работе. я проглатываю книгу за несколько часов, выписываю из нее все, что задело (листов дес€ть получилось), и иду гул€ть с собакой. » думаю о прочитанном. ¬первые в жизни Ц думаю о смысле искусства! ¬ чем же он? Ќу, конечно, не в том, что говор€т марксисты, потому что у них очень скучно; но в чем же? », уже возвраща€сь домой, подход€ к дому, € поражен внезапной мыслью: искусство Ц это ¬ечность, это образ ¬ечности.
я помню то место, где остановилс€ как вкопанный. “аких слов, как Ђ¬ечностьї, до тех пор не было в моем словаре. ј тут вдруг залетело, как шарова€ молни€, и осталось навсегда.
Ќо Ц кака€ она, ¬ечность? «начительна€ часть философии и тем более богословие от мен€ закрыты, да мне и в голову не приходит искать в них ответа: € все-таки воспитан в советских традици€х. я ищу его в том, что мне ближе, Ц в филологии и через филологию.
¬се интересно юному филфаковцу, но € пытаюсь пон€ть, что же стоит за народными обр€дами и фольклорными Ђобщими местамиї Ц неужели какие-то Ђтрудовые процессыї? за Ђмифологической школойї Ц неужели наивные представлени€ о небесных телах? за Ђброд€чими сюжетамиї Ц неужели случайные миграции? за пропповской алфавитом волшебной сказки Ц неужели только внешние структурные сходства? ј рыцарские ритуалы? ј законы €зыка? Ќеужели это всего лишь функции от исторических событий? Ќо ведь признать это значит сдатьс€ бессмысленности мироздани€: все преход€ще, ничего вечного нет. ”ниверситетска€ библиотека открыла целый мир, но он оказалс€ похожим на лабиринт. я блуждал в нем и все больше утверждалс€ в рел€тивизме. ћне стало тепло, пыльно и скучно. ¬ид€ мои странные поиски, один школьный при€тель (он учитс€ на юрфаке) советует загл€нуть в ’лебникова. я загл€дываю Ц и ничего не понимаю. Ёто почище ѕастернака!
» вот случайна€ встреча. „итаю статьи едрова Ц и словно припоминаю что-то давно забытое. ак будто со знакомых вещей снимают патину, и они проступают в своей изначальной, первозданной красоте. Ђ огда ты загнан и забитЕї ¬едь € читал эти строки блоковской поэмы Ђ¬озмездиеї, но мне и в голову не приходило пон€ть их буквально: задрать голову и посмотреть на небо. » тем более соотнести блоковский ЂЅалаганчикї с ближневосточными мифами, а с ними Ц романы ƒостоевского: ЂЌевеста-смерть Ц чрезвычайно распространенный фольклорный образ. <Е> “аков закон мистериального действа: все превращаетс€ в свою противоположность. Ёто мир наизнанку. «десь похороны Ц свадьба, а свадьба Ц похороны. «десь смерть означает воскресениеї.
Ќебо вообще выпало из нашей культуры, полностью. я пока мало что понимаю во всем этом, но чувствую: это Ц насто€щее. Ёто то, чего € искал, но сам, конечно, никогда бы не нашел. Ёто Ц совершенно новое, неизмеримое измерение. Ёто метакод. » чисто по-человечески мне интересны эти люди, но как вести себ€ с ними, € пока не знаю. ƒо сих пор взрослые были дл€ мен€ учител€ми Ц и € смотрел на них с почтительного рассто€ни€, снизу вверх, выслушивал умные (или не очень) вещи и отходил в сторонку, в свою жизнь. «десь мне, конечно, тоже многому предстоит учитьс€ (потом упом€нутый при€тель будет звать едрова Ђтвой гуруї), но нет отчуждени€; мне словно бы предлагают учитьс€ и одновременно дружить. –азве можно это совместить? ќтец начинает ревновать. Ђ“вой едровї, Ц говорит он мне к концу нашей поездки, словно забыв, что сам же нас и познакомил.
ќказываетс€, они еще и пишут стихи. —татьи мен€ покорили безусловно (хот€ бóльшую их часть мне еще предсто€ло прочесть), но вот не будет ли разочаровани€ со стихами?
онец августа. ћы прощаемс€ с »рпенем. √орит костер, и впервые € слышу эти строки ≈лены ацюбы:
ћы среди ќ√Ќя
мы Ц душа ќ√Ќя
каждый человек Ц ѕЋјћ≈Ќ» €зык
Ќу, насчет каждого не уверен, а эти Ц точно. » € хочу быть как они.
“ак »рпень вошел в историю литературы дважды: знакомством ѕастернака с «инаидой Ќиколаевной Ќейгауз и нашим знакомством с едровым.
ведь ласточки
это летающие мощи отшельника
ведь отшельники
это ласточки
увеличенные за счет остановленного полета
(ѕрошу рассматривать эти поэтические образы не как преднамеренное оскорбление чьих-либо религиозных чувств, а как метафоры.)
Ёто написано едровым тогда же, вскоре после посещени€ иево-ѕечерской Ћавры.
ќсень 1984 года. јртековска€ улица, дом 8, квартира 2. я бываю здесь все чаще и чаще, слушаю разговоры, беру статьи. —татей к тому времени напечатано немного. ќднажды получаю приличную (страниц в сорок Ц п€тьдес€т) пачку папиросной бумаги; оригинал статьи, обнародованной на идиш в журнале Ђ—оветиш √еймландї. Ђќбретение космосаї.
ак € жалею о том, что у мен€ не осталось хот€ бы одного экземпл€ра этой статьи, которую € перепечатал на машинке дважды по п€ть экземпл€ров и почти всю раздал знакомым (конечно же, напрасно: Ђѕервый признак умного человека знать, с кем имеешь дело, и не метать бисераЕї ј может, не напрасно. ќдна мо€ бедна€ однокурсница, которой € всучил этот труд, везде носила его с собой и все врем€ спрашивала мен€: Ђћиша, ну как же мы выворачиваемс€?ї). ак € жалею, что несколькими годами спуст€ поддалс€ на уговоры автора, которому дл€ подготовки книги Ђѕоэтический космосї нужен был хот€ бы один экземпл€р его же статьи (видать, тоже все раздал)! Ќу мог ли € отказать едрову?! ј надо было! » тогда все следующие поколени€ российских людей смогли бы насладитьс€ первозданным профетическим пафосом этой Ц нет, не статьи, а ќткровени€. »бо то, что получилось при переработке дл€ Ђѕоэтического космосаї и еще более поздней Ђћетаметафорыї, на мой взгл€д, в€ловато. ј так придетс€ всем учить идишЕ Ќо, может быть, это не случайно; может быть, ћоисей тоже получил скрижали на русском €зыке, и лишь при публикации их перевели на древнееврейский?
Ђќбретение космосаї поразило мен€ так, как, пожалуй, не поражал ни один текст ни до, ни после. —тройное, вн€тное, поэтичное, убедительное доказательство единства человека и космоса Ц единства не метафорического, а буквального (впрочем, к тому времени € уже пон€л, что многие метафоры надо понимать буквально), причем вз€того Ђповерх барьеровї всех наук. Ќепосредственна€, жива€ св€зь мен€ со ¬селенной через ¬џ¬ќ–ј„»¬јЌ»≈ была €влена, открыта. Ёто был категорический императив, требовалось ему соответствовать. ≈динственное, что смущало мен€ в тексте (да и теперь кажетс€ неудачным), Ц это конкретные рекомендации, как ощутить свое единство со ¬селенной (почувствуйте свой пупок, спроецируйте его на —олнце и пр.). Ќемножко это снижало планку, напоминало не то йогу в попул€рном изложении, не то дыхательную гимнастику. я же был уверен в том, что искусственно этой космической переориентации вызвать нельз€, к ней можно только готовитьс€, но происходит она у каждого индивидуально, и готовить к ней можно только стихами.
онечно, строга€ академическа€ наука нашла бы, в чем упрекнуть едрова (да она его долгое врем€ и не признавала; едва ли в полной мере признаЄт и сейчас Ц разве как поэта, объект исследовани€, но не как субъекта), но мен€ это не волновало. » еще незабываемое, драгоценное, на всю жизнь оставшеес€: слайд-программы едрова. ¬ домашних услови€х, на небольшом экране он (возможно, под какую-то музыку, но точно не помню) показывает слайды своих рисунков и картин, одновременно чита€ стихи. Ёто дает мне больше, чем любые отвлеченные разговоры.
и когда эти камни
эти щем€щие камни
отпада€ от тела
упадут в пустоту
ты пойдешь по полю
наполненному прохладой
отрыва€ от земли букет своих тел.
“еперь пон€тно, чтó такое переориентаци€! я прошу у едрова его стихи, получаю пачку папиросной бумаги. Ќо вот сила синэстезии: сами по себе, отдельно от слайдов, они мне кажутс€Е пресноватыми, что ли. ƒа € вообще и не воспринимаю их как стихи: долгое врем€ вижу в них лишь инструкции по космической переориентации.
ќброненна€ фольга
в мертвом воздухе звенит
свой затейливый повтор
продолжает сладкий звук
ѕриходит в гости мой при€тель; он уже наслышан о моем увлечении. я показываю ему папиросные листочки. ќн бегло перелистывает их и насмешливо: Ђ¬сего-то?ї Ёто о самих стихах. ” при€тел€ солидные, хот€ по тем временам и не одобр€емые вкусы: он любит Ѕродского.
√овор€т, дл€ европейцев все китайцы (вариант: монголы, вьетнамцы) на одно лицо Ц и наоборот. “акими китайцами первое врем€ были дл€ мен€ гости .ј. —начала, правда, он приглашал мен€ одного, видимо, присматрива€сь, подхожу ли € к его кругу. ѕотом, когда € привык к такому отчасти интимному общению, стал воспринимать его как нечто удобное и об€зательное, р€дом со мной стали по€вл€тьс€ люди.
ќднажды прихожу Ц на диване сидит кентавр, человек с лицом быка: рельефные черты, жесткие кудри. я тогда еще не читал стихотворени€ Ђ ороваї; лишь потом пон€л, что это Ц автопортрет. ќн смотрит на мен€ с озорным интересом, но ревниво. я на него Ц с благоговейным ужасом. Ёто јлексей ѕарщиков Ц один из троицы знаменитых кедровских учеников (ѕарщиков Ц ≈ременко Ц ∆данов, именно в такой, почти иерархической последовательности), о которых € уже наслышан. «ато читал в ЂЋитературной учебеї поэму ЂЌовогодние строчкиї с предисловием едрова, в котором впервые было сформулировано, что такое ћ≈“јћ≈“ј‘ќ–ј. ѕредисловие-то еще как-то пон€л, но вот поэмуЕ „ерез три года на студенческой конференции € буду делать доклад об этой поэме. “огда настанет мой черед быть непон€тым.
Ќо ѕарщиков тогда, кажетс€, уже не принадлежал к близким Ђкитайцамї; гораздо чаще € вижу других. ¬от рыжа€, весела€ Ц художница √ал€ ћальцева. —колько раз потом € и с едровыми, и один побываю в ее огромной квартире на улице √рановского! Ќередко € видел на јртековской высокого, худого, длинноволосого заикающегос€ юношу с насмешливым и очень внимательным взгл€дом. ќднажды мы возвращались вместе. Ёто художник јндрей Ѕондаренко. ќн жил недалеко от »ностранки и как раз устраивалс€ туда работать. ѕотом € заходил к нему в гости, он показывал мне свою умную графику, выполненную в поразительной технике Ц точно бактерии ползают под микроскопом, но сн€ты с космической высоты. ѕотом он и его друг ƒмитрий Ўевионков в этой технике оформ€т первую стихотворную книгу едрова.
ќт многих остались только лица: уехали, исчезли, умерлиЕ ћир едрова, как бытовой, так и поэтический, подобен разлетающейс€ ¬селенной: едва € привыкал к одному его облику, к одним обитател€м, к одним параметрам и приметам, как вдруг, не отмен€€ их, по€вл€лись другие, совершенно неожиданные.
весне 1985 года (Ђвесна перестройкиї) € вроде бы уже более или менее освоилс€ в этом мире, более того Ц привык считать его правильным, как вдругЕ
едровы идут к какому-то художнику, € с ними. —ретенский бульвар, высокий дом, мансарда. ѕросторна€, но не слишком больша€ мастерска€. Ёто что, тоже искусство? я такого еще не видел! ¬с€ мастерска€ перет€нута веревками, на которых р€дами вис€т бумажки с разными изречени€ми каких-то вымышленных персонажй. я хожу и удивл€юсь: здесь и следа нет космической переориентации! куда мен€ привели! Ёто скорее переориентаци€ социальна€ Ц в коммунальную квартиру, где € никогда не жил и не хочу (еще предсто€ло!). “оже космос, но отмеченный печатью не –а€, а јда. ј вот огромноеЕ как это сказатьЕ нет, не полотно (€ еще не знаю терминов современного искусства) Ђ√рафик выноса мусорного ведраї. ј вот какие-то разговоры на кухне, записанные каллиграфическим почерком на большомЕ какой же это материал? Ќо что удивительно: в такой немыслимой концентрации, в такой идиотической упор€доченности это коммунальное сумасшествие как бы раздвигаетс€ изнутри, и в просветы безуми€ словно прогл€дывает высший смысл.
ѕотом »ль€ абаков (живой, лукавый, улыбчивый Ц впрочем, и тогда между ним и нами чувствовалась дистанци€) несколько часов, почти до закрыти€ метро, показывал слайды работ московских художников-концептуалистов. Ђ онцептуализмї Ц это было новое дл€ мен€ слово как в переносном, так и в пр€мом смысле. Ћишь спуст€ полтора-два года € стал более или менее четко понимать, что такое концептуализм, и осознавать его как противосто€щее Ђнамї, метаметафористам, направление в искусстве.
ј на следующий день был коммунистический субботник в честь дн€ рождени€ Ћенина Ц по-моему, последний в моей жизни. Ќедалеко от ћ√” мы перетаскивали не то камни, не то песок €кобы дл€ благоустройства территории Ц сначала с одного места на другое, а потом обратно. я в полной мере чувствовал себ€ персонажем абакова.
»юнь того же года. Ќа кедровском диване Ц среднего роста лысоватый брюнет с большим носом, глазами навыкате, легким одесским акцентом, начальственным голосом и энергичной жестикул€цией. ќн читает серию коротких рассказов про √угу. √уга очень переживает, что у него сильно пахнут носки. Ђ∆енитьс€ надо, батенька, тогда носки не будут пахнутьї, Ц замечает едров. √еннадий ацов смеетс€, слегка прищурива€ глаза и показыва€ крепкие зубы. ” него американска€ улыбка.
јвгуст. ћой день рождени€ и одновременно Ц перва€ годовщина нашего знакомства. ” .ј. сто€т несколько литых крестов, он дарит мне один из них: Ђ—тарообр€дческий!ї „ерез полтора года в квартире √али ћальцевой какой-то художник, узнав, что € филолог, будет с восторгом рассказывать мне о посещении старообр€дческого храма на –огожском кладбище. я что-то слышал об этом месте, но никак не соотносил его с современностью. ∆ивые старообр€дцы? «вучит как Ђживые неандертальцыї, только гораздо интереснее. Ќадо будет побывать!
„то мне импонирует в Ђгуруї, так это его свобода от существующих общественно-литературных лагерей Ц и от западников, и от слав€нофилов. √алере€ крестов и складней, иконы, Ѕибли€, курсы по древнерусской литературе и ƒостоевскому в Ћитинституте, борода Ц вот, казалось бы, и готов портрет почвенника 70Ц80-х, адепта Ђисконно-посконностиї. этому блюду ÷иолковский с ‘едоровым и ’лебниковым в небольших дозах Ц как перец с солью. Ќо р€дом Ц ѕикассо, ћа€ковский, Ќорберт ¬инер, двоюродный дед едрова ѕавел „елищев, јндрей ЅелыйЕ и кто только еще не бывал на јртековской!
≈ще мало что изменилось, в основном были какие-то ожидани€Е » осеньЦзима 1985Ц86 гг. в отношении стали прорывом. ћне кажетс€, первым таким событием, которое показало, что перемены начинаютс€, стало столетие ’лебникова в окт€бре 1985 года, открывшее длинную череду столетних юбилеев де€телей —еребр€ного века. ƒл€ нас это был личный праздник: мы считали ’лебникова своим, а себ€ Ц его. едров, как сказали бы формалисты, литературно канонизировал ¬елимира в статье Ђ«вездна€ азбука ¬елимира ’лебниковаї. ќтношение к нему мы проецировали на себ€.
юбилею вышло несколько книг. ¬оспользовавшись одной из них как поводом, .ј. напечатал в ЂЌовом миреї статью-рецензию, которую редакци€ забавно озаглавила Ђ—толетний ’лебниковї. Ёто было событие вдвойне: о ’лебникове тогда писали мало, еще меньше печатали едрова. Ќо самое главное: с этим праздником св€зано мое воспоминание о первом легальном, официально разрешенном вечере едрова Ц первом, разумеетс€, в моей жизни.
Ќе помню, где это было; не то в районе старого ћ√”, чуть ли не на одном из его факультетов, не то в »сторико-архивном. ѕомню лишь: мы целой командой движемс€ от павильона станции метро Ђѕроспект ћарксаї мимо ћузе€ Ћенина, и ∆ен€ ƒаенин хорошо поставленным командирским голосом решительно обращаетс€ к прохожим: Ђ¬ыворачивайтесь в марше!ї ѕрохожие отшатываютс€, но не выворачиваютс€. ƒлинна€ аудитори€, скучные столы из прессованных опилок. Ёто еще не поэтический вечер Ц едров рассказывает только о ’лебникове. Ќо мы, посв€щенные, знаем: на самом деле речь о космической переориентации, о метакоде, метаметафоре и выворачивании.
ѕримерно в это же врем€ Ц 90 лет ƒаниилу ’армсу. ¬ечер в ћузее ћа€ковского. — той поры, как его закрыли на реконструкцию в св€зи со строительством третьей Ђлуб€ной избушкиї, € там ни разу и не был. ѕриходитс€ покрутитьс€ по вечерним переулкам, пару раз ткнутьс€ туда, куда попасть не хотелось бы. ¬ечер длинный, в меру солидный, хот€ и не засушенный. ¬едет его ћариэтта „удакова. “о, что едрова пригласили выступить, Ц факт его €вного общественного признани€. Ќа том вечере в ћузее ћа€ковского €, привыкший видеть в обэриутах абсурд и озорство, услышал от едрова нечто поразительное. ¬ миниатюре Ђ—ундукї герой, залеза€ в сундук, неожиданно оказываетс€ вне его. — ним, объ€снил едров, происходит выворачивание из этого мира через смерть в другой мир: Ђ«начит, жизнь победит смерть неизвестным дл€ мен€ способомї. „ерез несколько лет, изуча€ иврит, € узнал, что слово Nora означает одновременно и Ђгробї, и Ђшкафї.
¬ но€бре 1985 года € впервые на дне рождени€ у едрова. ћного народу, о многих уже слышал. ¬от небольша€ женщина с широко открытыми, как будто наивными глазами и такой же наивной, неторопливой манерой речи Ц Ћера Ќарбикова; едров часто про нее говорил. ќна читает отрывок из романа Ђ–авновесие света дневных и ночных звездї, в котором неразличимы пр€ма€ и обратна€ перспективы €зыка. я никогда еще не видел на русском €зыке больших произведений в такой стилистике примитива; наверное, именно так писали бы ожившие куклы, одну из которых словно напоминает Ћера.
— чего начались лично дл€ мен€ поэтические вечера кедровского круга? —ерый декабрьский день 1985-го, какой-то боковой вход в ћинистерство иностранных дел. Ќеслыханное дело Ц едрова, ацюбу, ’одынскую, еще кого-то пригласили выступать в ћ»ƒе! Ёто можно было приравн€ть к государственному перевороту! едров, конечно, пригласил кучу своих Ц иЕ никого, кроме выступавших, не пустили.
ћне кажетс€, первый поэтический вечер, на котором € услышал едрова и его спутников со сцены, проходил в ћузее ћа€ковского той же зимой 1985Ц1986 годов, но в пам€ти он не сохранилс€. «ато помню ƒ урчатовского института в одну из февральских суббот 1986 года. ќгромное пустынное здание из стекла и бетона, низкие потолки, коридоры, входыЦвыходы. ћы долго ждали, пока нам откроют актовый зал. ѕо-моему, администраци€ очень удивилась, увидев нас. Ќи единой афиши, ни единого человека. ѕомнитс€, с нами был ацов. Ќе он ли занималс€ организацией этого меропри€ти€? Ќаконец зал открыли, и стало пон€тно, что вечер будет похож на корабль, перегруженный с одного борта: все, кто пришел, пошли на сцену выступать, а в зале сидел € да еще два-три забредших на огонЄк человека. ѕо обычным меркам Ц полный провал, а тогда казалось Ц победа! ¬се, кто хотел, смогли чуть ли не впервые показать со сцены всЄ, что хотели. Ёто была как бы генеральна€ репетици€ перед надвигавшейс€, такой долгожданной чередой выступлений после стольких лет вынужденного молчани€ или шепота!
ј € многие стихи услышал или впервые, или как бы заново, эстетически, вне св€зи с кедровскими домашними лекци€ми. »менно с тех пор, что называетс€, с голоса € запомнил и полюбил многие вещи. ѕоэтическа€ вселенна€ едрова была (и осталась) такой же, как человеческа€ и бытова€: она непрерывно расшир€лась, поворачивалась новыми сторонами, в ней продуцировались новые формы. “ы не успевал привыкнуть к одному Ц теб€ тут же ставили лоб в лоб с чем-то новым.
ѕоэтические вечера той поры вел сам .ј. ’от€ моим идеалом всегда был строгий академизм, € завидовал его свободному неакадемическому общению с аудиторией. ¬ услови€х информационного вакуума поэтический вечер вынужденно совмещалс€ с лекцией о метакоде и метаметафоре. Ќи капельки не занудно, как тогда говорили, Ђна €зыке, доступном простому народуї, едров объ€сн€л эти сложные вещи, виртуозно подвод€ к стихам. ѕрежде всего он читал небольшие, но принципиальные вещи: Ђ«еркальный паровозї, Ђ азньї, Ђѕроституткуї (надо было видеть лица почтенной публики середины 80-х при одном названии!), Ђ«накиї, Ђѕозади «одиакаї, Ђ озуї, Ђ рестї, Ђѕоцелуйї, Ђ—транникаї, ЂЌевестуї. ¬роде бы многие из этих стихов € должен был знать, но у мен€ такое впечатление, что € услышал их (или восприн€л) именно на этих вечерах. Ќе забуду ЂKonstantin Kedroff (—он)ї Ц глубоко трагическое, скоморошеское произведение:
значит смерть корабль плывущий по суше
значит € себ€ проводил до смерти
берег мой вода а могила суша
вот какой корабль ЂKonstantin Kedroffї
“огда же зазвучала и аббревиатура Ђƒќќ—ї Ц как название стихотворени€:
Ќеостановленна€ кровь обратно не принимаетс€
ќкна настежь и все напрасно
две дани времен две отгадки
одна направо одна налево
ƒќќ—
ƒобровольное ќбщество ќхраны —трекоз
«атем обычно слово получала Ћена ацюба. аюсь, € (как, наверное, и многие) долгое врем€ видел в Ћене лишь жену гениального мужа. Ќу да, ну пишет, ну все пишутЕ Ѕлизорукость мне была свойственна не только физическа€.
Ќо не заметить Ђ—валкуї было невозможно! ¬начале это была небольша€ забавна€ помойка. ћы весело сме€лись над Ђшломанным шамолЄтомї:
‘южел€ж швернули? Ќишего!
’вошт отвалилш€? Ўто ж?
ћне бы до вжлЄтной полошы дополжти!
уда же ты, детошка? ћы еще вжлетим!
ќднако на наших глазах (как сказали бы раньше, Ђна глазах изумлЄнной публикиї) постепенно возникала не просто поэма, а цела€ философи€ поэтического текста. Ёто произошло за каких-то четыре-п€ть мес€цев: к каждому следующему выступлению Ђ—валкаї прирастала новыми территори€ми. Ќадо было еще видеть, как Ћена умудрилась на пишущей машинке, за несколько лет до того, как в стране по€вились компьютеры, фактически предвосхитить компьютерную графику, пусть и весьма простую. “очно так же сам .ј. уже в 1984 году написал знаменитый Ђ омпьютер любвиї Ц а что мы знали тогда об этих компьютерах?
—тихами не ограничивались: нередко выступала и Ћера Ќарбикова с отрывками из романа. о второй половине вечера, когда публика уже немного Ђвъехалаї, .ј. начинал читать свои большие тексты, условно говор€ Ц поэмы. Ќа первых порах это были Ђ¬енский стулї, Ђ«аинька и Ќастась€ї, ЂЋабиринт светаї, ЂЎахматный ќзирисї и, конечно, Ђ омпьютер любвиї. √оды 1985Ц1986 были дл€ едрова удивительно плодотворными. я теперь понимаю, что мог наблюдать один из высочайших его творческих взлЄтов. „то ни мес€ц Ц то нова€ поэма, открытие! ѕричем это сейчас, с почти двадцатилетней дистанции, легко оценить. ј тогда, признаюсь, € просто не мог проглотить эти тексты. —тановилс€ перед ними в оцепенении. » оторватьс€ тоже не мог. ¬от, представьте, пришли вы на поэтический вечер. ¬ предвкушении прекрасного, высокого, поэтичного выдел€етс€ слюна. » тут на вас падает, как бетонна€ плита:
¬осьмиконечна€ луна вернет
треть€ пада€ восьмерит
лунеет отрицант цвета тосковатого
ћеталл ћеталит ћетально
параднит судьбант тьме€
наверхно-западно-востоко-
нижне-верхне-средне-
наружно-внутренне-вверх-сегментальноЕ и т.д. и т.п.
азалось бы, пора уж привыкнуть к едрову и его штучкам. Ќо в том-то и дело, что привыкнуть к этому невозможно! аждый раз чего-то такое, что, как сказали бы тартуские структуралисты, Ђобманывает читательское (или слушательское) ожиданиеї. Ќе успел € приспособитьс€ к хард-року Ђѕартантаї, как послышалс€ фолк-рок Ђјстрал€ї:
јстри астрай мо€ астра
астра любви приветна€
ты у мен€ астра астральна€
астрой не будешь не астра
ѕри некотором внешнем сходстве приемов Ђјстральї никак не относитс€ к концептуализму. Ёто —имвол веры: Ђј—“–јЋ»“≈“ Ц таково мое кредо. / верую потому что астральної
“еперь-то € вижу, что эти поэмы взаимодополнительны. ѕередать космическую реальность средствами одного €зыка нельз€: она много€зычна. «начит, нужно стремитьс€ к тому, чтобы выйти за его пределы. осмический универсум изоморфен универсуму лингвистическому; на небе есть свои корни и аффиксы. Ђјстральї Ц это обращение к корню, Ђѕартантї Ц к аффиксу. ≈диное человеко-вселенное существо Ц это нова€ реальность, получивша€ в Ђјстралеї название яќЌ:
Ќе все яќЌ но запад и восток яќЌ
не все яќЌ но голос и звезда яќЌ
не все яќЌ но жизнь и смерть яќЌ
яќЌы образуют мирозданье
разъединенные они едины
их единение в четвертом измерении
Ќо яќЌ Ц это и квантовое единство субъекта и объекта описани€. ¬ своем интересе к современной науке, которым .ј. заражал всех окружающих, он был последователен, чему свидетельство Ц поэма Ђ“еорема √Єдел€ о неполнотеї. едров очень любит теорему урта √Єдел€, особенно в ее нестрогой гуманитарной интерпретации: Ђ≈сли высказывание полно, оно неверно; если высказывание верно, оно неполної. ¬прочем, как знать, быть может, именно така€ интерпретаци€ более осмысленна, нежели ее формализованное представление. ак бы там ни было, но поэма-теорема Ц случай в истории поэзии уникальный. Ќе успели мы переварить Ђѕартантї с Ђјстралемї, как услышали:
»так Ц дуэль!
ƒано:
а) ƒантес
б) ѕушкин
ѕушкин целитс€ в ƒантеса
ƒантес целитс€ в ѕушкина
“ребуетс€ доказать:
а) ѕушкин бессмертен
б) ƒантес не вечен
» дальше Ц безумно смешна€ пароди€ на теорему, поэму иЕ и биографиюЕ нет, страшно вымолвитьЕ (шепотом) Ђ—олнца русской поэзииї. —ейчас бы за такое идущие в одном месте попросили бы в такое местоЕ Ќо, с другой стороны, ведь едров доказал-таки в строгом логико-поэтическом тексте, что,
ѕоскольку ѕушкин > ƒантеса в вечности
ƒантес > ѕушкина во времени
»так: 37 лет ѕушкина = 90 лет ƒантеса
ѕостепенно состав участников этих литературных вечеров стал расшир€тьс€, и они разбивались на два отделени€. ¬ первом читали представители назревавшего клуба Ђѕоэзи€ї (помню ацова и ƒрука; наверн€ка был и еще кто-то), во втором Ц члены ƒќќ—а. —олировал, конечно, .ј.
— конца феврал€ 1986 года выступлени€ стали музыкально-поэтиче≠скими. ацов привел джазовое трио Ђ“ри ќї: —ерге€ Ћетќва, јркади€ Ўилк≠лопера и јркади€ ириченкќ. ¬се трое играли на духовых. ƒо этого € никогда их не слышал и ничего о них не знал, да и вообще о джазе имел весьма акаде≠мическое представление. я впервые увидел их на вечере в Ѕитцевском спорт≠комплексе (собственно, это был и не вечер: начиналс€ он как будто часа в че≠тыре). ЂЅоже! Ц подумал €. Ц Ќету у едрова кра€! ќн что, с этими будет высту≠пать?ї –€дом с ним сто€ли два гоголевских персонажа. ќдин, в белом балахоне, худобой устремл€лс€ ввысь и ниспадал кудр€шками длинных волос, очков и подслеповатых глаз. ƒругой, в клетчатой рубашке и подт€жках, устремл€лс€ окрест себ€; в окрестност€х были жгучие глаза под жгучими бров€ми и жгуча€ борода. »нструменты обоих говорили: Ђ» € тоже Ћетов!ї Ђ» € тоже ириченко!ї ” —ерге€ Ћетова они были тонкие, из€щные, продолжали его длинные руки, длинные пальцыЕ јркадий ириченко играл в основном на тубе; он наматывал ее на себ€, как борец змею (€ всегда вспоминал дореволюционную рекламу фильма ЂЌе дл€ денег родившийс€ї с ћа€ковским в главной роли; оказалось Ц не € один: в то же врем€ писалс€ сценарий Ђјссыї, где этот образ, хоть и по другому поводу, также обыгрываетс€), и дальше делал с ней что хотел. “ретьего, јркади€ Ўилклопера, € в тот раз не запомнил: тихий, аккуратный, он умудр€лс€ совмещать Ђ“ри ќї с оркестром Ѕольшого театра.
¬ феврале Ц мае 1986 года выступлени€ шли непрерывным потоком. ƒалеко не на всех € был, и далеко не все помню. ¬споминаетс€ не то школа, не то ѕ“”, кажетс€, в районе метро ЂЅабушкинска€ї, где чуть ли не в коридоре были расставлены стуль€ дл€ поэтического вечера; помню ћузей космонавтики на ¬ƒЌ’. акие-то ƒ Е ѕомню (это уже май) зал общежити€ ћ√” на улице равченко (метро Ђѕроспект ¬ернадскогої). ажетс€, эту встречу вела јн€ √ерасимова.
ћое положение в этой компании было довольно необычным: свой, но не пишущий. „тобы обыграть это, мен€ вместе со всеми Ђдоосамиї стали сажать на сцену (точнее, лицом к публике: не всегда эта сцена и была), и в конце вечера, когда аудитори€ уже нетерпеливо ждала конца, .ј. объ€вл€л: Ђѕоследний участник нашего вечера Ц ћиша ƒзюбенко! ” него есть замечательна€ черта: он ничего не пишет. ѕохлопаем ему за это!ї “аков был мой Ђпервый раз на эстрадеї. “ак € стал Ђвыступатьї! ¬се это закончилось так же внезапно, как и началось, Ц наступило лето. ќно обещало только хорошее. ” .ј. вышла стать€ о ≈сенине. я проходил практику в ќтделе рукописных фондов √ослитмузе€, не зна€, что через 18 лет мне, уже сотруднику этого отдела, придетс€ описывать фонд едрова.
ќднажды прихожу Ц на нем лица нет, € таким его никогда не видел. Ђћен€ уволили из Ћитинститутаї. акие-то странные подробности, будто дело происходит в годы глухой брежневщины. ѕравда, не совсем; запомнилс€ его рассказ о том, как протестующие студенты выпустили стенгазету: Ђ—еминары, восьминары, дев€тинарыЕї Ќо, признаюсь, € тогда не пон€л драматизма ситуации, поскольку раздел€л со многими филологами мнение ѕастернака о том, что Ћитературный институт был ошибкой √орького. ћатериальные последстви€ стали €сны вскоре Ц когда со стен кедровской квартиры любимые всеми нами уникальные картины ѕавла „елищева ушли к какому-то коллекционеру. ќ душевных последстви€х умалчиваюЕ
» все жеЕ ёность ожидает только хорошего. —езон 1986Ц1987 годов оправдал эти ожидани€ с лихвой. ажетс€, был уже но€брь. ¬ ћанеже открылс€ ћолодежный форум Ц помнитс€, так называлось это важное перестроечное меропри€тие: выставки, концерты, показы мод, дискуссии. Ћегализаци€ молодежной субкультуры и примкнувшего к нему авангарда. ¬се было очень карнавально. ѕригласили туда и едрова. я тоже оказалс€ на сцене.
Ёто был самый разгар моих попыток лингвистически осмыслить поэтический авангард. я пришел к выводу о том, что существует единый лингвистический универсум, объедин€ющий все €зыки мира во всЄм объЄме их исторического развити€ и функциональных приложений. Ётот универсум не есть научна€ абстракци€. ќн про€вл€етс€ конкретно: на низшем, фонетическом уровне Ц в наименовании, причЄм здесь €зыковые различи€ не играют определ€ющей роли; на высшем, грамматико-синтаксическом уровне Ц в творчестве, которое только и возможно благодар€ существованию разных €зыков и само есть неосознанное или, реже, осознанное заимствование ино€зычных структур. ћожно было бы сказать, что существуют две формы энергии €зыка: действительна€ и потенциальна€; последн€€ и есть форма существовани€ лингвистического универсума. —в€зь между €зыками осуществл€етс€ на всЄм спектре состо€ний сознани€, и традиционными методами лингвистического анализа этой св€зи обнаружить нельз€.
¬сем этим € сумбурно поделилс€ с .ј., и он предложил мне сообщить об этом разношерстной публике, шатавшейс€ по ћанежу и подходившей то к одной, то к другой сцене.
онечно, с академической точки зрени€ вылезать с такими серьезными и одновременно спорными тезисами на эстраду было чистейшим варварством и непростительной вульгарностью. ћен€ вдохновл€л пример футуристов, которые умудр€лись совмещать научные дискуссии с арт-скандалами. ¬прочем, на последнее € не претендовал Ц просто (который уже раз в жизни!) вспомнил рассказ ». јндроникова Ђѕервый раз на эстрадеї. ћне предсто€ло доходчиво и кратко объ€снить простой советской молодЄжи то, что € и сам не до конца понимал. „то € и сделал.
Ќе скрою, у мен€ осталось ощущение огромного камн€, брошенного в бездонную пропасть, Ц никакого встречного звука, никакой ответной реакции. ƒа и кака€ могла быть реакци€? Ёто же был карнавальный калейдоскоп! онечно, вне академической науки тема неизбежно снижалась; но, с другой стороны, возникла-то она именно в этом, игровом контексте, он был дл€ нее родным! Ћингвистический универсум мог быть не только научным пон€тием, но и поэтической программой! “еперь, знаком€сь с творчеством ¬илли ћельникова, € более чем когда-либо уверен в своей правоте.
Ќо€брь. ѕредсто€л вечер в библиотеке на „истых прудах (тогда Ц еще станци€ метро Ђ ировска€ї). ак всегда, вести его должен был едров, а € Ц изображать хорошего непишущего мальчика. Ќо .ј. возьми да и скажи: Ђ ак-то неудобно и вести вечер, и выступать на нем. ћожет быть, ты будешь вести?ї ¬идать, его вдохновила мо€ революционна€ речь в ћанеже.
Ќе скрою, предложение показалось мне очень лестным. Ќо € не знал Ц как?! ¬ ћанеже побубнил п€ть минут и ушел, а здесь мне, зажатому занудному студенту-четверокурснику, надо было держать на себе всю конструкцию выступлени€.
ќднако € денек подумал и согласилс€.
онечно, Ђƒќќ—ї немного приобрел в моем лице. онечно, мне приходилось посто€нно напоминать себе, что € не на заседании Ќаучного студенческого общества. онечно, .ј. был все врем€ на подхвате. Ќо позорного провала не случилось, хот€ кедровский конферанс и по сей день остаетс€ дл€ мен€ непокоренной вершиной. Ќачало было положено. ¬едомый стал изображать ведущего.
ƒальше был декабрь, ÷ентральный дом художника. «ал хоть и не самый большой, но, во-первых, несравнимо больше библиотечного, а во-вторых, насто€щий Ц со сценой, рампой, микрофоном и пр. ѕублика пришла сама€ разна€ Ц не то чтобы все свои. Ќо ведь только дл€ своих какой смысл?! —вет в зале не тушили. я посмотрел на это море (как мне тогда показалось; на самом деле зал не был заполнен) людей и бросилс€ на/в него, как в холодное море. ажетс€, была кака€-то сложна€ программа со множеством участников, надо было быстро и просто объ€снить, что их объедин€ет, при чем здесь звездное небо и т.д. ак раз накануне € где-то вычитал поразивший мен€ факт: оказываетс€, число клеток человеческого тела того же пор€дка, что и число звезд во ¬селенной. ≈два € сообщил об этом прибалдевшей аудитории, как из зала раздалс€ голос јни √ерасимовой: Ђ“ы что, считал?ї я растер€лс€. ¬о мне еще жил академический предрассудок безусловного приоритета лектора над аудиторией, его неприкосновенности. Ќо тут же € вспомнил, что здесь правила игры другие. » вдруг слышу, кто-то кричит ей в ответ моим голосом: Ђƒа, всю ночь, еле успелї.
— тех пор, как в нашем ќтечестве началось кратковременное, хот€ и не повсеместное см€гчение государственных нравов, € не оставл€л надежды свести две стороны моего быти€, соединить, казалось бы, несоединимое Ц современный авангард и университетскую аудиторию. ¬едь не всегда же между ними возвышалась Ѕерлинска€ стена отчуждени€! ¬ечер в ƒоме студента на равченко был неудачен и малолюден Ц € хотел услышать Ђѕартантї в самом ћ√”. ≈динственной инстанцией, котора€ могла бы пригласить Ђдоосовї без ущерба дл€ собственной репутации, умеренно сочетавшей серьезность и легкомыслие, было Ќаучное студенческое общество. ѕереговоры с его вожд€ми велись несколько мес€цев; наконец выбрали взаимно устраивавшую всех дату Ц 7 апрел€ 1987 года, вторник, 18 часов.
Ёто был самый главный день в моей жизни! ак € готовилс€ к нему! јндрей Ѕондаренко написал дес€ток афиш (как жаль, что у мен€ не сохранилось ни одной!), € и не помню еще кто развесили их не только в корпусах ћ√”, но и в местах наибольшего скоплени€ интеллектуальной молодежи столицы: выставочных залах, институтахЕ —ейчас бы это назвали Ђѕрезентаци€ ƒќќ—а в ћ√”ї. ак назвали тогда Ц не помню. я нервничал страшно: бо€лс€, что не будет публики, что не придут выступающие. ј больше всего бо€лс€, что те и другие друг другу не понрав€тс€, поскольку взаимна€ настороженность была колоссальной.
Ќо, несмотр€ на все страхи, € был заинтересован в максимально профессиональной аудитории. ѕоэтому персонально пригласил на вечер ћаксима »льича Ўапира Ц тогда еще восход€щую филологическую звезду, который, как € знал, интересуетс€ авангардом, хот€ и не €вл€етс€ его адептом. » выступающие пришли, и публика. ажетс€, это происходило в аудитории є7 на первом этаже первого гуманитарного корпуса.
¬от тут € по-насто€щему почувствовал себ€ ведущим. ќдно дело выступать на молодежных площадках, и совсем другое Ц в alma mater. «десь действительно требовалось установить взаимный контакт Ц и кому как не мне предсто€ло это сделать? я был средостением между теми и другими. ”ниверситетскую публику надо было настроить на понимание того, что ей предсто€ло услышать, а выступающих Ц см€гчить по отношению к тому, как их могут воспринимать. онечно, диковато было видеть, как консервативна€ университетска€ профес≠сура слушает рассказ .ј. о метаметафоре. Ќо, с другой стороны, каких-нибудь три года назад и € был такой же.
ћы постарались собрать всех, кто смог прийти. ажетс€, были Ќаташа ћихайлова, ацов и даже исина. Ћера Ќарбикова читала отрывок из романа. ≈гор –адов поразил чопорную интеллигенцию рассказами о надувной женщине и Ђ’очу быть юкагиром!ї ¬ыступал ƒаенин. онечно, были ’одынска€, Ћена ацюба и .ј. Ќельз€ сказать, что принимали плохо. —корее никак. „тение шло в тишине, набухавшей напр€жением. ¬сем запомнилс€ перелом в ходе вечера. Ћена читает Ђ—валкуї. ‘илологи ошарашены.
¬се новые башмаки новы одинаково,
каждый рваный башмак рван по-своему.
“ишина лопаетс€: на всю аудиторию разноситс€ смех Ўапира.
≈ще одно пам€тное выступление Ц в молодежном кафе ЂЌа —ретенкеї 20 ма€ того же года. ≈го вела ƒун€ —мирнова, котора€ тогда воспринималась как младша€ ипостась јни √ерасимовой. Ќизкие сводчатые потолки, тесные переходы. афе помещалось в здани€х бывшего —ретенского монастыр€, в подвале. ак-то нелепо смотрелись под этими сводами барные стойки. Ќо храмова€ архитектура была в ту пору приглушена, унижена, так что почти ничем не давала себ€ знать. —пуст€ дес€ть лет € не смог найти точное место, где находилось это кафе, Ц оно оказалось во внутреннем дворе возобновленного монастыр€, недоступном внешнему человеку. ѕомнитс€, € выступил там с каким-то манифестом, текст которого передал ƒуне дл€ публикации и который благополучно сгинул.
ƒругое врем€. ƒруга€ страна. ”тро. я сажусь за статью о старообр€дчестве. ѕотом просматриваю газету. ¬ Ёрмитаже выставка абакова; теперь это седой сдержанный мэтр. ѕрогрессивное человечество празднует день рождени€ —вибловой, котора€ забиеннала фотографи€ми всю ћоскву. »ду в книжный магазин; на каждой второй книге написано: Ђ’удожник ј. Ѕондаренкої. ћне звонит ученица: она дружит с ”мкой и готовит вечер с участием —.Ћетова. ѕо телевизору ƒун€ —мирнова оканчивает третий класс школы злослови€. Ќа работе мен€ ждет опись фонда клуба Ђѕоэзи€ї.
—ам € без поцелу€ без взгл€да
без голоса без костюма
то в ванне то в телевизоре
то за решеткой
ќткрываю журнал ЂЌовое врем€ї.. Ќа предпоследней странице читаю:
ЂЌаш ответ Ќобелевке
<Е> √лавной сенсацией Grammy.ru-2003 можно назвать победу в номинации Ђѕоэзи€ годаї поэта, доктора философских наук онстантина едрова. Ќаконец-то читатели и слушатели оценили написанный им еще в 1984 году поэтический шедевр Ђ омпьютер любвиїЕї
— фотографии гл€дит на мен€ знакомое лицо Ц то, которое € впервые увидел двадцать лет назад в »рпене.
—начала восстал голос
потом дыхание
еще ничего не видно
а уже говорит и дышит
ј €Е Ќу что €ЕЌи стрекозы из мен€ не вышло, ни ейного охранника. „то жЕ Ѕуду лежать медведем у корней сосны и гл€деть, как надо мной, под вечнозелеными иглами и шишками кедрового леса, порхают те, у кого это получилось.
------------------------------------------------------------------------------------------------