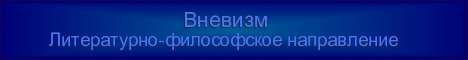-Рубрики
- Поэзия (94)
- Метафизика (43)
- Критика (32)
- Стихотворения (11)
- Проза (8)
- Полемика (6)
-Музыка
- The Clouds
- Слушали: 1699 Комментарии: 0
-Друзья
-Постоянные читатели
-Сообщества
-Статистика
ОПЫТ РАЗРЫВА РАДИ "ВНЕ" |
Этимология "разрыва"
Начнем с определения понятия "опыт разрыва". Впервые формулу "опыт разрыва" или, точнее, "разрыв уровня" (la rottura del livello), употребил известный итальянский традиционалист Юлиус Эвола, ученик Генона, человек, разрабатывавший прикладные, оперативные аспекты традиционализма.
В традиционалистской философии есть два имени, которые являются основными - это Рене Генон и Юлиус Эвола. Круг людей, занимающихся традиционализмом, в наши дни расширяется. Появилось много интересных и важных авторов, работающих в этом направлении, и, тем не менее, эта пара мыслителей - Генон и Эвола - не может быть сопоставлена с какими-то другими исследователями Традиции.
В данной лекции мы будем ориентироваться на концептуальные модели Юлиуса Эволы, изложенные им в разнообразных трудах - "Йога могущества", "Герметическая Традиция", "Метафизика Пола", "Оседлать Тигра", онтологию группы "Ур", которую возглавлял юный Эвола и т.д.
Наследие этого автора является основополагающим для современного традиционализма. Вместе с тем, сегодня оно должно быть подвергнуто определенной исторической и метафизической коррекции. На чествовании двадцатилетия со дня смерти Эволы в Риме я делал доклад - "Julius Evola visto di sinistra", где суммировал доктринальные пункты теории Юлиуса Эволы, требующие пересмотра. Это было встречено массовым недоумением эволаистов, многие из которых знали Эволу лично. Но постепенно идеи, изложенные в этом докладе усвоились, и в новых изданиях книг Эволы (в частности, с предисловиями профессора Джорджо Галли) ссылки на этот доклад фигурируют как "взгляд на Эволу слева", что стало одним из аспектов "классической эволаистики". И независимо от того, согласны ли те или иные традиционалисты со мной или нет, все, кто всерьез озабочены осмыслением идей этого автора, принимают данную позицию во внимание.
Для знакомства с Юлиусом Эволой я посоветовал обратиться к первоисточникам и изучить для этого итальянский.
"Разрыв" и инициация
Итальянский термин, которым пользуется Эвола для обозначения "разрыва уровня", опыта разрыва, звучит так: la rottura del livello. Для Эволы это ключевое понятие в описании духовной реализации человека. Эвола ставит понятие "разрыв уровня" (la rottura del livello) в центре всей своей оперативной доктрины.
Можно грубо разделить метафизику на две части: с одной стороны, теоретическое изложение того, каким является мир, каково в нем место человека, каким является соотношение принципа и следствия, причины и видимого мира (в изложении этой стороны традиционализма максимальной ясности достиг Рене Генон); с другой стороны, прикладные, оперативные аспекты доктрины, применение ее к конкретным человеческим ситуациям, наставления в практике духовной реализации (в этом вопросе наиболее ясные и ценные указания применительно к нашей эпохе дал Юлиус Эвола). Метафизика остается справедливой сама по себе всегда и при любых обстоятельствах; даже если ни одно из ее положений не будет применено и реализовано на практике, это никоим образом не ослабит и не обеднит метафизического видения мира. Это обеднит только тех людей, которые не станут обращаться к метафизике и стараться реализовывать в самих себе ее принципы.
У нормальных людей, которые сталкиваются с метафизикой, возникает совершенно закономерное желание включиться в жизнь метафизического мира, прорваться из своего довольно скромного состояния к реальностям метафизических сфер.
Вот тут во всем объеме возникает проблематика духовной реализации.
Эта вторая, оперативная, сторона метафизики связана с тем, что традиционалисты называют инициацией. Инициация - это опыт переживания метафизических реальностей в личном плане. В таком случае человек пытается подстроить собственное существование, свой собственный опыт под те нормы, которые вытекают из метафизической теории.
Здесь возникает следующий момент. - Если метафизика справедлива сама по себе и сама в себе, то человек для того, чтобы попасть "в зону высшего внимания" (как говорил Жан Парвулеско), чтобы "стать интересным для метафизики", должен совершить некоторое усилие, прожить жизнь специфическим образом. Иными словами, необходимо прожить очень особенную жизнь для того, чтобы метафизика вами заинтересовалась. Этой проблемой занимается часть Традиции, сопряженная с духовной реализацией или инициацией.
Метафизическая теория объясняет все, исходя из точки зрения Божества, отправляясь от онтологии, от точки бытия. Процесс онтогенеза описывается сверху вниз: как мир был создан, как он появился, какова логика его появления, какова его структура.
Процесс инициации идет в противоположном направлении. Он начинается не с утверждения точки трансцендентного Божества, метафизических принципов, а с попытки человеческого существа, отталкиваясь от факта собственного присутствия в определенном пространственно-временном континууме, двигаться в сторону метафизики. Инициация - это течение в "обратном направлении". Есть два термина исламского эзотеризма: мобда и ма'ад, которые означают, соответственно, "процесс удаления" (объяснение того, как происходит построение мира - это, собственно, и есть метафизика) и "возвращение. Ма'ад имеет прямое отношение к инициации.
Метки: метафизика |
Адресат книги Н.ГУМИЛЁВА "К СИНЕЙ ЗВЕЗДЕ" |
Маргарита Сосницкая
|
Я ИДУ К ГУМИЛЁВУ |

Маргарита Сосницкая
Николай Гумилёв

Об авторе картины:
ДЕЛЛА-ВОС-КАРДОВСКАЯ (урожденная Делла-Вос) Ольга Людвиговна
2 сентября 1875 (Чернигов) - 9 августа 1952 (Ленинград)
Живописец, график.
Метки: вневизм |
Поэт соблазна и тревоги. О поэзии Маргариты СОСНИЦКОЙ |
Розовых фламинго чужестранней,
Маревей прожилок перламутра,
Пробивается робкое, раннее,
Настороженное утро.
Клювиком долбит скорлупку
Замкнутого ночи яйца
С неизбежностью лютой
Первенца.
Оперясь облаками перистыми
И прорезавши голосок,
Полетит большекрылою птицею
На закат,
чтоб прийти на Восток.
В этом стихотворении как бы предсказана вся будущая судьба поэтессы. Чем дальше она удаляется от своей родины, родного края, детства и юности, тем более явственно в ней проступает национальное начало, или славянская идентичность – то она ощущает себя скифянкой на горячем коне, укрощающем степь, то плачет по «исконно снежно-белой Руси», которая стала «кумачово-красной», то чувствует себя белогвардейским офицером, навечно застрявшем в Париже. Здесь особо надо сказать о буйстве красок в поэзии М. Сосницкой и вообще о любви к многоцветию. Наверное, это чисто женское свойство - любовь к эстетизации окружающего мира, но у Маргариты все горит и «маревеет». Береза для нее царевна-лебедь, одетая в снежное серебро, даже на черно-белой фотографии она видит синие глаза своего отца. Это позволяет сказать, что у нее не мужской, надрывный патриотизм, а женский, мягкий, нежный, обволакивающий. И это даже не материнская любовь, а именно женская – одаряющая, сводящая с ума, как пение сирены. И здесь, наверное, уместно сказать еще об одной грани поэзии Маргариты – о ее метафизичности или связи с запредельным миром. Не зря в одном из своих стихотворений она встречается с самим Сатаной. Ее лирическая героиня способна к контакту с потусторонним миром, но ей больше нравится мир земной.
От скуки всепознанья я завяну,
А тайное короткой жизни интерес дает,
Суля минуты счастья и победы.
Но, на самом деле, как и всякой женщине, Маргарите хочется всего, она ощущает себя полубогиней, которая запросто станет Богиней в мире ином. С другой стороны, это положение полубогини, полуженщины не совсем отрадно для автора. Видимо, тут сказались и сама экзистенциальная ситуация Сосницкой – жизнь вне Родины, долгий путь к литературному признанию, отсутствие всякого надежного статуса.
Полубогиня. Поклоненья фимиам
Нужнее мне озона, кислорода.
Когда ж воздвигнется мне храм
От радостно прозревшего народа?
Полубогиня я пока живу,
Купаюсь, жажду кисти Васнецова,
А час придет и, наконец, умру,
Богиней стану снова.
В самом начале своих размышлений я сказал, что Маргарите дорого всё русское, но, занимая маргинальное положение между Россией и Европой, она как бы сводит в себе эти две культуры. В русской поэзии не так уж много поэтов европейского направления. Русская поэзия в основе своей самобытна, самостийна. Поэтому и у Сосницкой, хоть и встречаются образы Афродиты, Сапфо, Пигмалиона и Галатея, она определяет себя в полемике с ними.
Не жду у морей, не желаю
напева коварных сирен.
Сама песнопенья слагаю
и тем похищаю в плен.
Люблю не Улисса, а лес,
в лесу широко и свободно,
За брата мне зверь здесь,
пусть дикий, большой и голодный.
Вместе с тем, в стихах посвященных России, она далека от идеализации своей родины, ее многое в ней не утраивает. Она любит Россию, но «странною любовью».
Родина моя юродивая,
В белом подвенечном саване,
Ты досталася нам изуродованной,
Изнасилованной, в черных ссадинах.
Губы нежные уксусом вымыты,
Крестик сорван со впалой груди,
И мы, дети, в дому твоем сироты,
В мире некуда нам идти.
Россия, которую она могла бы любить, ей кажется потонувшей в катаклизмах истории. И современной своей родине она не может простить это поражение.
Не могу я любить – ненавижу,
Что сгубила ты силу свою.
И пустила измену под крышу,
И за ненависть трижды люблю.
Вот этот диапазон отношений – от ненависти до любви, заставляет автора постоянно расширять свой опыт, свои духовные горизонты. И в самом деле, в эпоху глобализации трудно довольствовать только одной культурой, даже если она родная. В наше время повсюду происходит сплавление своего и чужого. Но тут интересно, под каким углом зрения это происходит. В поэзии Сосницкой примечательно то, что не утихающая в ней полемика с Западом, или европейской культурой приводит ее к Востоку, в частности, к японской стихотворной форме хайку. Как известно, это японские трехстишия, которые не рифмуются, но в каждой строке сохраняют строгий порядок слогов. Идеальная формула хайку 5+7+5 слогов по очереди в каждом стихе. Но главная задача Сосницкой - чтобы от перестановки мест слагаемых сумма не менялась. А сверхзадача – сохранить традицию и передать дух древних хайку в наше электронное время, несмотря на Прокрустово ложе формы. И что самое удивительное, ей это удается. Но удается чисто формально, в виде стилизации. Этим самым она как бы отторгает себя от русской традиции, но на деле не пристает и к восточной. Это особое пространство поиска, эксперимента, растворения в ином. Не потому ли у нее вырывается восклицание:
О, если б душа
помещалась в хайку –
Как жилось бы легко!
Мое знакомство с творчеством Сосницкой началось с публикации в «Тамыре» ее хайку.
В лучах солнца
дым благовоний
клубится как будто дракон.
* * *
Трава колышется на ветру –
Всевышний гладит
шерсть земли.
* * *
Ящерицей юркнула молния,
скрылась
в расщелине туч.
Как известно, с эпохи Басё, а это 17 век, содержанием хайку стала пейзажная лирика. В приведенных мной трехстишиях мы видим великолепные ее образцы. Конечно, обращение Сосницкой к жанру хайку не уникально, европейские поэты уже со второй половины ХХ века активно осваивают этот жанр. Но, представляется, что для Маргариты это скорее способ донести структуру своего духа – изящную, жемчужную, женственную.
Если подытожить наши размышления, то главное в поэзии Сосницкой – это ее неповторимый женский взгляд – одаряющий и возвышающий, призывный и отталкивающий, за все тревожащийся и обо всем пекущийся. И в то же время – это взгляд личности, оказавшейся на маргиналиях, но и там на обочине, в сносках и примечаниях, честно выполняющей предназначение поэта – вносить в мир соблазн и тревогу, которые полны неизведанных смыслов.
Ауэзхан Кодар,
член Союза писателей Казахстана, кандидат философских наук
Метки: критика |
Маргарита СОСНИЦКАЯ. ПОДМАСТЕРЬЕ В "ЦЕХУ ПОЭТОВ" |
Об авторе
Звали её Маргарита,
а вот была она
Фаустом в юбке.
ПОДМАСТЕРЬЕ В «ЦЕХУ ПОЭТОВ»
Пуля у меня в желудке –
Коготь железный дракона, –
Но не в меня пальнули –
В Николая Степановича Гумилёва.
І
«Огнезарая птица победы
(чуть) коснулась крылом и меня» *
И я, точно мой вещий предок,
Отпустил на свободу коня,
Но к кудеснику или гадалке
Недосуг обращаться, чтоб
Знать в лесу, на опушке иль в балке
Пустят пулю мне в грудь или в лоб.
А пока огнезарая птица
И меня озарила крылом,
И погоны кавалериста
Золотым заиграли огнем.
ІІ
«на согретом солнцем утёсе
нежится», спит молодая «пантера»,
и ей снится весна на Родосе,
где была она черной гетерой.
Босиком на камнях танцевала,
Белоснежный роняя хитон, –
Будто чёрное пламя пылало,
Голубой подчеркнув горизонт.
И мечтала на дальнем Родосе
Чернокожая диво-гетера,
Как на солнцем согретом утёсе
Молодая заснула пантера.
ІІІ
«мне отрубили голову, и я
(весь) истекая кровью, аплодирую»,
«Палач» раскланивается гибкий, как змея,
Взмахнувши палочкой волшебною – секирою.
Я вижу, кровь моя размашисто, ветвисто
Течёт по солнцем обожженному песку,
С гуденьем сводов, пением и свистом
Выводит ярко за строкой строку.
Палач бледнеет. И взмахнув секирою,
Мне голову отрубывает вновь,
А я невозмутимо аплодирую:
Живой водою пишет моя кровь.
IV
«...я никогда не смог бы догадаться,
что от счастья и славы дряхлеет сердце».
Ради счастья я с Анной мечтал обвенчаться,
Ну а слава нашла нас в атаках на немцев.
Если б кто-то сказал, ни за что б не поверил,
Что от счастья и славы в сушёную грушу
Кавалер двух крестов, открыватель Америк,
Превратить может сердце и душу.
Счастье с Анной мне выпало адское,
Ну, от славы и мертвому мне уж не деться.
Лучше б мне никогда не пришлось догадаться,
Что без счастья дичает остывшее сердце.
V
«высокий, стройный, сильный
с закрученными русыми усами»,
Он гонок чемпион автомобильный,
Летающий еще на аэроплане.
А вечером, в кафе, где пурпур, позолота,
Шампанское с друзьями распивает он,
Рассказывая об опасностях полёта...,
Чтоб дама слышала поодаль за столом.
Она вздохнет, посмотрит замогильно,
Нагие плечи нежа соболями,
И он поклонится ей, стройный, сильный,
С закрученными русыми усами.
1992
* Первые две строки стихотворений этого цикла взяты из прозы Николая Гумилёва "Записки кавалериста" или "Африканская охота". Цикл написан в том возрасте, в котором Гумилёв был расстрелян.
**************************
***
Моя поэзия во многом блеф,
Игра в перевоплощенье,
Переносящее в качанье нараспев
В другие времена и измеренья.
Охотно я бываю Клеопатрой –
К утру любовник яд принять готов, –
Опять же Федрою побыть приятно:
Пусть муж – не пасынок – погибнет от быков.
Сильней всего, однако б, я желала
Быть дамой петербургского поэта,
Чтоб заговорщицей после провала
Стать вместе с ним под дуло пистолета.
И только иногда порывом свежим ветра
Срывает масок и нарядов пёстрых смесь,
И остаюсь в пятне белесом света
Бесстрастная и тихая, как есть.
15.05.1993
***
Памяти Н. Гумиёева
Напившись вина и зажегши свечу,
Склонилась над тусклою книгою,
И, как заклинанья, слова я шепчу,
Губами в забвении двигая.
Слова вдруг вздохнули, сверкнули огнём
Алмазов, сапфиров, граната –
Целует вот так океан окоём
В кольце подвенечном заката.
А строки иные – глубин жемчуга
С подвеской, как май, изумрудной
И рядом же здесь два живых василька
С их запахом свежим, приблудным.
И пламя трепещет. Смотрю сквозь бокал:
Дробится на искры и шпаги –
Пульсируют, слившись в единый кристалл,
Слова, как в ларце, на бумаге.
10 .02. 1992
Из цикла
ПРОСТРАНСТВО РАЯ
***
- О, Боже, на все Твоя воля!...
Но где ж, Милосердный, Ты был,
Когда Гумилёва вывели в поле
И пустили в распыл?
Божьи взоры закатно-алы,
Голос громом раскатисто дрогнет:
- Он мечтал о «сводах Валгаллы»,
А туда нет иной дороги.
2008
***
Вы можете представить Льва Толстого комиссаром?
Тогда б Москва не вспыхнула пожаром,
А зацвела б садами,
приняла французов
И смертью не своей преставился б Кутузов.
Но вижу я Льва Николаича Толстого
Не под расстрелом рядом с Гумилёвым –
В рядах Деникина, Кутепова, Дроздова:
Солдатам надо умирать в бою и с боем.
2009
Метки: поэзия |
ЛЮБОВЬ РОЖДЕСТВА. Алексей Филимонов |
ЛЮБОВЬ РОЖДЕСТВА
Вневизм учение Христа,
не искажённое доселе,
когда отверста высота
и дух подъят в бессонном теле.
И Рождество Его пути
ещё безгласно, но безбрежно.
Приотворив себя, найти
пытайся веру и надежду.
Тогда перепорхнёт извне
извечный вестник вне-теченья,
и в прорифмованном окне
увидишь истину прозренья.
7 января 2011 г.
ул. Танкиста Хрустицкого
Метки: поэзия |
Положение о литературной премии им. И.Ф.Анненского |
Премия будет присуждаться в трёх номинациях:
1. Поэзия
2. Литературная критика и эстетическая мысль
3. Художественный перевод
Членами редколлегии будут рассматриваться произведения, опубликованные на страницах альманаха, в других периодических изданиях, интернете и книжной периодике.
Подведение итогов за 2010 год состоится в мае 2011 года в Санкт-Петербурге.
|
Метки: премия |
Ауэзхан КОДАР. ВОСТОЧНЫЕ МОТИВЫ. О ПОЭЗИИ Сергея ГОНЦОВА |
Ауэзхан Кодар о поэзии Сергея Гонцова
Сергей Гонцов. Восточные мотивы
Страница Ауэзхана Кодара:
http://www.zonakz.net/blogs/user/stranitsa_auezxana_kodara/7591.html
Восточные корни русской души (о поэзии Сергея Гонцова)
В русской поэзии, как это ни удивительно, редко встретишь стихи с восточной окраской. Вспоминаются разве что блоковское: «Да, скифы мы, да, азиаты мы…» или есенинское: «О, Азия, Азия, голубая страна / Посыпанная пылью, песком и известкой / Там так медленно катит по небу Луна, / Поскрипывая колесами как киргиз в повозке/».
Но даже эти стихи скорее декларативны, чем исповедальны, или исторгнуты подлинной потребностью духа. Однако поскольку Россия действительно совместное творение Азии и Европы, такой поэт должен был появиться и появился в последней четверти прошлого века. Не случайно также, что его дарование открыл сам Виктор Астафьев, самый взыскательный из русских писателей. Составляя антологию современной (на тот момент) поэзии (кроме литераторов Москвы и Ленинграда, тех он не брал в расчет) мэтр с особой теплотой отозвалсяв о подборке стихотворений молодого поэта Сергея Гонцова в альманахе «Поэзия» 1984 г. Потом была целая «книжка в журнале», или публикация в 1990 г. в очень популярной тогда «Литературной учебе».
С тех пор имя Сергея Гонцова - одно из значительных имен в российской поэзии. И хотя Гонцов родился в Южном Зауралье (он – потомок древнего боярского рода), его дед служил в крепости Верном (это современное Алматы), а отец, тоже, как и дед, офицер, исколесил Казахстан и Среднюю Азию от Кара-Кумов, Ферганы до Кушки. Как видим, будущий поэт уже своим рождением и происхождением был связан с Азией и Сибирью, которая и вовсе гремучая смесь евро-азиатского синтеза.Из всего этого со временем получилось так, что по существу, Гонцов стал открывателем азиатской Атлантиды в русской ментальности. Вот как писал о нем критик Владимир Славецкий: «Юный гигант, богатырь, великодушный и одновременно уверенный в неотразимости своего великанского обаяния, странствовал по миру. И странствие души развертывалось на слишком большом пространстве, чтобы всматриваться в детали». Возможно, так было в начале его пути. У Гонцова, действительно, встречаются стихи, написанные большими мазками, но меня привлекло к его поэзии как раз внимание к деталям и подробностям. Если хотите, эстетика персидской миниатюры, или китайской живописи. Давайте присмотримся к его стихотворению «Вечная битва».
Битва с драконами на мосту
Продолжается много лет, -
Синяя река играет внизу,
От листа к листу благоуханный свет
Течет, - вырастает лес,
Ряженые рубят вековые стволы,
Творец спускается с низких небес,
Озаряя мировые углы
Светом истины, добра, любви,
А на великолепном мосту
Дракон и герой по колено в крови
Бьются за неслыханную красоту. (Выделено мной – А.К.)
В этой картине столько света, цвета, запахов и оттенков, что возникает ощущение целого мира и твоей включенности в этот мир. И тебя не отталкивает даже то, что на этом великолепном фоне идет битва, или, по сути, война. Не отталкивает, ибо дракон и герой бьются «за неслыханную красоту». Примечательно, что автор не отказывает в притязании на красоту даже дракону, самому отрицательному персонажу всех сказок и мифов.
Когда я впервые прочитал это стихотворение, мне вспомнилась притча о Чингисхане и красавице Гюрбельджин, царице тангутов.
Говорят, что однажды великий каган выехал по первому снегу на охоту. Снег напоминал первый день творения, сверкал и искрился, восхищая своим великолепием. И до того это понравилось царственному охотнику, что он спросил у своего спутника:
- Что может быть белее этого снега?
- Только красавица Гюрбельджин… - вкрадчиво ответил спутник.
Это до того впечатлило грозного полководца, что он пошел и завоевал Тангут. В этой легенде Потрясатель Вселенной предстает вполне земным человеком, способным зачароваться красотой и природы, и земной женщины.
Так и Гонцов в своем стихотворении переносит событие из плоскости этики в пространство эстетического и добивается восхитительного эффекта погружения в героическую архаику, где нет ничего невозможного, где сосуществуют боги и люди, птицы и ангелы, где все говорит со всем и перетекает во все. Для Гонцова вообще не присуще соблюдение грани между реальным и ирреальным, сном и явью, настоящим и прошлым. Для него это все – огромное сегодня, удостоверяющее себя как раз тем, что ему ничего не чуждо. Однако все, что существует, подлежит именованию. В этом плане для Гонцова вся предыстория человечества есть история Востока. Это можно назвать настоящим открытием. И не только в поэзии. Поскольку для него Восток – не географическое понятие, а временное. Это стадия мифологического развития человечества, которая больше не повторится. На мой взгляд, понимание этой уникальности делает уникальной и поэзию самого Гонцова. Кроме того, в наше время, время всеобщего увлечения евразийской идентичностью России, Гонцов – абсолютно востребованный автор, реанимировавший в своей поэзии еле брезжущий древний облик своей великой страны.
СЕРГЕЙ ГОНЦОВ
ВОСТОЧНЫЕ МОТИВЫ
***
Встану и миром пойду,
Чуть заграждая рукой
Пламя свечи, как звезду.
Господи, кто я такой?
Ночь возвращает стада.
Вьется туман над рекой.
Крепче не видно моста.
Господи, кто я такой?
Запах цветов и травы.
Бор, точно царский покой.
Хоть не сносить головы,
Господи, кто я такой?
Зыблется тысяча лет.
Листья шумят под ногой.
Если ты знаешь ответ,
Господи, кто я такой?
Конь белоснежный впотьмах.
Дети, старуха с клюкой.
Страшный собор на холмах,
Да незнакомый, другой.
Понял я, скорбь не тая,
Горе на крепкой земле.
Господи, это же я
В городе или в селе...
ВЕЧНАЯ БИТВА
(в духе древних миниатюр)
Битва с драконами на мосту
Продолжается много лет, -
Синяя река играет внизу,
От листа к листу благоуханный свет
Течет, - вырастает лес,
Ряженые рубят вековые стволы,
Творец спускается с низких небес,
Озаряя мировые углы
Светом истины, добра, любви,
А на великолепном мосту
Дракон и герой по колено в крови
Бьются за неслыханную красоту.
ЧАША
Подожди, я не знаю, что будет со мной.
Дай вглядеться во мрак, рассеченный грозой,
Дай отпить на прощанье из чаши земной,
Из серебряной чаши с горючей слезой.
Навсегда! Навсегда! Это – надо понять.
Плещет мгла через край, как шумит Океан,
И рукою не двинуть, и глаз не поднять, –
Этот остров уходит, уходит в туман.
Этот дом островерхий в лиловом кольце.
Этот сад расцветающий, белый, пустой.
И таинственный лес, и отец на крыльце,
И тревожная мать под вечерней звездой.
Влажно-дымчатый вихрь налетает на склон
И торжественно, страшно скрывает от глаз
Все, что создал от века незримый Закон,
Безначальным прощаньем возвысивший нас…
ДВА ГОЛОСА
– Отдыхающей птице, – сказал, – не восстать
От всемирного сна, тяжела её ноша.
Этим сказочным крыльям печально блистать,
Над лесной тишиной, над дорогой полнощной.
– Отдыхающей птице, – сказал, – всё равно, –
Чем приволье богато, что в мире творится.
Всё, что птице приснится, – свершилось давно,
Разве древняя воля, – теперь повторится?
– Отдыхающей птице, – сказал, – сто веков,
Это ком Благодати, – Плуг, Молот, Твердыня, –
Всё, что здесь ты возьмёшь, только тайна оков,
Разве трудно понять, что достойней – Пустыня?
– Отправляйся на волю, где бродит Дракон, –
Где на каменных рёбрах миров первозданных,
Над поверхностью дней, – всё сплетает Закон,
Как Великий Паук, – для убогих и странных.
– Отдыхающей птице, – скажу, – равных нет, –
Всё, возьмёт, как булат, всё измерит, как злато,
Видишь, дремлет она для того, – чтоб стал свет,
А могучее Древо, – как Бездна, – крылато?
КРЕСТ В ГОРАХ
Я ничего не знаю об искусстве
И музыкой случайно дорожу, —
Как Ангелом, но даже в скорбном чувстве
Печали никакой не нахожу.
Любая вещь берется ниоткуда
И частью возвращается туда,
И трудно знать, в чем содержанье чуда, —
В том или в этом случае всегда
Мы числами замучены, как дети
Чужой заботой, но уже сейчас
Вселенная разбрасывает сети,
Которые случайно любят нас.
Наверно, есть какие-то приметы,
В которых Дух Творенья говорит, —
Нас окружают чудные предметы,
И часть из них потомков покорит.
САЖЕНЕЦ КЕДРА
Как-то дивно выходит на свет
Этот век, и соборный, и юный,
Точно саженец кедра, – в ответ
На утраченный, редкостный цвет,
Где шумели другие кануны.
Всё сойдётся в могучем стволе,
Даже то, что казалось потоком,
Безысходно гремящим во мгле.
А сейчас на старинной земле
Он стоит, укрепляемый Богом.
Не случайный, как новый канон,
Из стихий изготовлен великих,
Точно слово чудесных времен,
Точно ход неизвестных племён,
Перед сонмом, внезапных и диких…
Он с мизинец, но чудно широк,
Как дитя, что узрело когда-то
Вечный мир, чтоб исполнился срок,
Откатился нездешний оброк
И явилось тут всё, что крылато.
Метки: поэзия критика |
Ольга СОКОЛОВА. НАСЛЕДИЕ И.Ф.АННЕНСКОГО И ВНЕВИЗМ |
Ольга Соколова
НАСЛЕДИЕ И.Ф.АННЕНСКОГО И ВНЕВИЗМ
…Работаю исключительно для будущего.
И.Ф. Анненский, «Книги отражений».
Значение наследия Иннокентия Анненского для будущего русской поэзии, которое отчасти уже наступило, имеет провиденциальный характер. В своём творчестве он «опередил и свою школу, и своих современников, и даже, если хотите, самого себя – и в этом скрыта его удивительная жизненность и до сих пор полное его непризнание» – писал искусствовед Н.Н.Пунин (Проблема жизни в поэзии И.Анненского. «Апполон». 1914, № 10, С. 48). Ему вторил известный учёный-историк П. П. Митрофанов: «Анненский при жизни не был популярен и не дождался признания, но нет сомнения, что имя его постепенно с распространением истинной культуры дождётся у потомков заслуженной славы». (П.П.Митрофанов. Иннокентий Анненский. Русская литература ХХ века. М., 1915. Т.2, кн. 6. С. 296). Согласно Лидии Гинзбург, в творчестве Иннокентия Анненского «есть черты как-то предвосхищающие дальнейшее развитие русской лирики» (Лидия Гинзбург. О лирике. Изд. 2-е, доп. Л., 1974. С. 311).
В своем стихотворении «Закат в полынье» наш современник, поэт и критик Алексей Филимонов, основатель символизма вне в литературе, проницает постепенное понимание творчества поэта сквозь некую «полынью» развития традиции:
ЗАКАТ В ПОЛЫНЬЕ
Повторяю фамилию: – Анненский, –
чёрный дождь и асфальт-антрацит
отражает осколки державинских
од, близ коих мерцает Коцит.
За реку проплывают вагоны,
дотлевает закат в полынье.
Гумилёва блеснули погоны,
растворяясь в блокадном огне.
Державин, Гумилёв, Блок – корифеи, чей вклад в новизну несомненен и внеохватен. Будучи поэтом для поэтов, Анненский стал для нас –развивающих новое направление, вневизм – своеобразным зеркалом, в миражном мареве которого мы преломляемся в лучах изначальных.
О радости отражения, отражений вне, Иннокентий Анненский упоминает в своём стихотворении «Миражи»:
То полудня пламень синий,
То рассвета пламень алый,
Я ль устал от чётких линий,
Солнце ль самое устало –
Но через полог темнолистый
Я дождусь другого солнца
Цвета мальвы золотистой
Или розы и червонца.
Будет взорам так приятно
Утопить в сетях зелёных,
А потом на тёмных клёнах
Зажигать цветные пятна.
Пусть миражного круженья
Через миг погаснут светы…
Пусть я — радость отраженья,
Но не то ль и вы, поэты?
Не к нам ли обращается поэт-провидец? Не синий ли кристалл Вневизма прозревает он, говоря о «..другом солнце Цвета мальвы золотистой Или розы и червонца»?
Критерий истины, согласно Вл. Соловьёву находится вне. В своём стихотворении «Слова и вне» А. Филимонов свидетельствует о неизречённости:
Слово вне человека —
ты его не забудь,
прозревание века,
претворение в путь.
Там, где гаснут созвездья,
золотая мечта —
синевы бесполезней,
здесь, в гниенье холста.
И материи мимо
утекают слова,
оставляя незримо
на бессмертье права.
На ладони воскресшей,
в очертаниях снов.
Чуден паводок вешний,
растворитель оков.
Но для этого мы должны высветлиться сами. Стать логословами. И тогда нам удастся, быть может, высказать всё, что необходимо, новословами, ещё не проявленными ни в материи, ни в сознании (О.Н.Соколова. Взгляд извне. СПб., 2010, С. 179).
В основе творчества И. Анненского лежит идея невозможности. Эту идею он доводит до апофеоза в стихотворении «Невозможно». В очерке «Белый экстаз» поэт, «эпатируя», утверждает: «В основе искусства лежит … обоготворение невозможности и бессмыслицы. Поэт всегда исходит из непризнания жизни…» (И.Ф.Анненский. Книги отражений. С. 145). В «обоготворении невозможного» поэт видит сверхзадачу искусства, в «бессмыслице» – отрицание практицизма, в «непризнании жизни» – порыв к высшему идеалу.
НЕВОЗМОЖНО
Не познав, я в тебе уж любил
Эти в бархат ушедшие звуки:
Мне являлись мерцанья могил
И сквозь сумрак белевшие руки.
Но лишь в белом венце хризантем,
Перед первой угрозой забвенья,
Этих вэ, этих зэ, этих эм
Различить я сумел дуновенья.
И, запомнив, невестой в саду
Как в апреле тебя разбудили, –
У забитой калитки я жду,
Позвонить к сторожам не пора ли.
Если слово за словом, что цвет,
Упадает, белея тревожно,
Не печальных меж павшими нет,
Но люблю я одно — невозможно.
Называя три буквы — не о дуновении ли вне-в-изма мечтает И. Анненский? Не его ли дуновение он различает в миражах невозможного вне?
Иннокентий Анненский в своём творчестве пытается пробиться «сквозь камень привычки», становится ловцом забытых фраз «с мерцающих стран бытия». «Скопище литер унылых» – не для него. Они тревожат мрак, но они бескрылы, подобно «бабочке газа», которая «…всю ночь Дрожит, а сорваться не может». Об этом И. Анненский повествует в своём стихотворении «Бабочка газа»:
Скажите, что сталось со мной?
Что сердце так жарко забилось?
Какое безумье волной
Сквозь камень привычки пробилось?
В нём сила иль мука моя,
В волненьи не чувствую сразу:
С мерцающих строк бытия
Ловлю я забытую фразу…
Фонарь свой не водит ли тать
По скопищу литер унылых?
Мне фразы нельзя не читать,
Но к ней я вернуться не в силах…
Не вспыхнуть ей было невмочь,
Но мрак она только тревожит:
Так бабочка газа всю ночь
Дрожит, а сорваться не может…
Являя своим творчеством силу, способную «к такому отражению мира не-я, которое явится преодолением всего того, что враждебно в нём человеку, и не отступит перед дисгармонией окружающего» (И. Ф.Анненский. Стихотворения и трагедии. Л., «Советский писатель». 1990, С. 35), И. Анненский призывает нас к отражению вне-я, вне-мира, к символизму вне. Призывает нас сегодня, спустя 100 лет, к подлинному прозрению тайной сути вещей. Подобно «кондуктору песнопений», он ведёт нас в «неземные промежутки» внемира, мира теней и божественных сущностей. Об этом говорится в стихотворении А. Филимонова «13 декабря», о годовщине смерти поэта:
Анненского голос чуткий,
красота развоплощений.
И кондуктор песнопений
в неземные промежутки
не о тех и ниоткуда,
но, двойник сереброкрылый,
тень объемлет на перилах —
и уже предвидит чудо.
Откровений и предместий
вдруг откроется шлагбаум,
и знамением усталым
озарит презренья вестник.
Где из вечности токката
гул перрона нелюдимый,
обретается в едином
венчике строфы распятой.
Чуткий голос Анненского», «голос вне хора» (М. М. Бахтин) доносится до нас извне и по сей час.
Метки: критика |
Светлана Большакова. Эссе о Ultima Thule Владимира Набокова |
Незаконченный роман Solus Rex, глава первая «Ultima Thule»
Незаконченный роман, дошедший до нас в двух главах. Но такого пронзительного Откровения, которое дарует «Ultima Thule» не встречалось мне нигде. Одна глава, которая сметает, сжигает все сомнения, оставшиеся у Путника в темноте, нащупывающего Острие Меча.
«Камни, как кукушкины яйца. Кусок черепицы в виде пистолетной обоймы, осколок топазового стекла, что-то вроде мочального хвоста, совершенно сухое, мои
слезы, микроскопическая бусинка, коробочка из-под папирос, с
желтобородым матросом в середине спасательного круга, камень,
похожий на ступню помпеянца, чья-то косточка или шпатель,
жестянка из-под керосина, осколок стекла гранатового, ореховая
скорлупа, безотносительная ржавка, фарфоровый иверень, - и
где-то ведь непременно должны были быть остальные,
дополнительные к нему части, в я воображал вечную муку,
каторжное задание, которое служило бы лучшим наказанием таким,
как я, при жизни слишком далеко забегавшим мыслью, а именно:
найти и собрать все эти части, чтобы составить опять тот
соусник, ту супницу, - горбатые блуждания по дико туманным
побережьям, а ведь если страшно повезет, то можно в первое же,
а не триллионное утро целиком восстановить посудину -- и вот
он, этот наимучительнейший вопрос везения, лотерейного
счастья,-- того самого билета, без которого, может быть, не
дается благополучия в вечности».
С первых строк мы оказываемся лицом к лицу с Изначальной Трагедией, Трагедией Вечного, Нерукотворного. Дух, стоя на краю Бездны, заглянул в нее, увидел Свое Отражение и воскликнул… Сколько раз отразилось Изначальное в той водянистой поверхности, отразилось и разбилось на множество, как найти, собрать и составить в изначальном порядке разлетевшиеся осколки, воистину «каторжное задание». Как вернуться в тот Изначальный Источник, дарующий Свет. Кто он, тот, вытянувший счастливый билетик?
Что человек ищет? Что не дает ему покоя? Что хочет вспомнить? Как найти Память?
Память просыпается в минуты наивысшего страдания, когда нам думается, что все потеряно, весь Мир и вся Вселенная бессмысленны.
«Помнишь, мы как-то завтракали (принимали пищу) года за два
до твоей смерти? Если, конечно, память может жить без головного
убора. Кстатическая мысль: вообразим новейший письмовник. К
безрукому: крепко жму вашу (многоточие). К покойнику: призрачно ваш».
Ушедшая жена, с неродившимся ребенком. Это ли не высшая точка для пробуждения Памяти.
Адам Фальтер.
«В шелковой, цвета пареной репы рубашке, с клетчатым галстуком, в
широких гриперловых панталонах и пегих туфлях, он показался мне
ряженым, но большой нос был все тот же, и им-то он безошибочно
почуял тонкий запах прошлого, когда, подойдя, я хлопнул его по
мускулистому плечу и задал ему мою загадку».
Перед нами Шут. Во всем своем многообразии масок и одеяний. И все же в нем есть «не хрящи, а подшипники, карамбольная связность телодвижений, точность и орлиный холод». Качества, которые помогли ему выстоять и не погибнуть от удара Меча Мудрости.
На примере Адама Фальтера В. Набоков показывает истинную суть Вечной Мистерии, Суть Рождения Истины, Мудрости, Ребенка Камня.
«Минуло около получаса со времени его возвращения, когда
собранный сон небольшого белого дома, едва зыблившийся
антикомариным крепом да ползучим цветком, был внезапно -- нет,
не нарушен, а разъят, расколот, взорван звуками, оставшимися
незабвенными для слышавших, дорогая моя, эти звуки, эти ужасные
звуки. То были не свиные вопли неженки, торопливыми злодеями
убиваемого в канаве, и не рев раненого солдата, которого
озверелый хирург кое-как освобождает от гигантской ноги, они
были хуже, о, хуже... и если уж сравнивать, говорил потом м-сье
Paon, hфtelier (Содержатель гостиницы (франц.)), то, пожалуй,
они скорее всего напоминали захлебывающиеся, почти ликующие
крики бесконечно тяжело рожающей женщины, но женщины с мужским
голосом и с великаном во чреве».
Таковы родовые муки Адама Фальтера. Он появляется перед читателем в новом обличье, потеряв все свое былое шутовство. Казалось, что из него вынули костяк, а лицо выражало усталость, тупую усталость, но и животное облегчение после чудовищных родов.
После этого происшествия Адам Фальтер сделался вроде помешанного, совершая различные курьезные поступки, вроде сбора чужих шляп в кафе. Ни с кем не мог он поделиться той Истиной, что была ему открыта, лишь раз он дал исчерпывающий ответ итальянскому психиатру, которого после и нашли мертвым.
И все же Фальтер проговорился.
«- Погодите. Меня сейчас не столько интересует способ открытия, сколько ваша
уверенность в истинности находки. Другими словами, либо у вас есть способ проверить находку, либо сознание истины заложено в ней.
- Видите ли, - отвечал Фальтер, - в Индокитае, при розыгрыше лотереи, номера вытягивает обезьяна. Этой обезьяной оказался я. Другой образ: в стране честных людей у берега был пришвартован ялик, никому не принадлежавший; но никто не знал,
что он никому не принадлежит; мнимая же его принадлежность
кому-то делала его невидимым для всех. Я случайно в него сел.
Истин, теней истин, - сказал Фальтер,-- на свете так
мало, - в смысле видов, а не особей, разумеется,-- а те, что
налицо, либо так ничтожны, либо так засорены, что... как бы
сказать... отдача при распознавании истины, мгновенный отзыв
всего существа -- явление мало знакомое, мало изученное. Ну,
еще там у детей... когда ребенок просыпается или приходит в
себя после скарлатины... электрический разряд действительности,
сравнительной, конечно, действительности, другой у вас нет.
Возьмите любой трюизм, т. е. труп сравнительной истины.
Разберитесь теперь в физическом ощущении, которое у вас
вызывают слова: черное темнее коричневого, или лед холоден.
Мысль ваша ленится даже привстать, как если бы все тот же
учитель раз сто за один урок входил и выходил из вашего класса.
Но ребенком в сильный мороз я однажды лизнул блестящий замок
калитки. Оставим в стороне физическую боль, или гордость
собственного открытия, ежели оно из приятных,-- не это есть
настоящая реакция на истину. Видите, так мало известно это
чувство, что нельзя даже подыскать точного слова... Все нервы
разом отвечают "да" - так, что ли. Откинем и удивление, как
лишь непривычность усвоения предмета истины, не ее самой. Если
вы мне скажете, что такой-то - вор, то я, немедленно соображая
в уме все те вдруг осветившиеся мелочи, которые сам наблюдал,
все же успеваю удивиться тому, что человек, казавшийся столь
порядочным, на самом деле мошенник, но истина уже мною
незаметно впитана, так что самое мое удивление тотчас принимает
обратный образ (как это такого явного мошенника можно было
считать честным); другими словами, чувствительная точка
истины лежит как раз на полпути между первым удивлением и
вторым".
Когда говорит Память, человек мгновенно Слышит. Никакие гуру, наставники, ордена не смогут заменить или подменить Память, когда все нервы разом отвечают да.
Эту главу можно цитировать бесконечно. Здесь нет ни одного ненужного или лишнего слова.
«…можно ли рассчитывать на загробную жизнь. - Вам это очень интересно?
Во-первых, - сказал Фальтер, - обратите внимание на
следующий любопытный подвох: всякий человек смертен; вы (или я)
- человек; значит, вы можете быть и не смертны. Почему? Да
потому что выбранный человек тем самым уже перестает
быть всяким. Вместе с тем мы с вами все-таки смертны, но я смертен
иначе, чем вы».
Так кто же ОН, ТОТ, кто вытянул счастливый билетик?
Foxess: http://www.liveinternet.ru/users/foxess/profile/
Метки: критика |
Процитировано 2 раз
Андрей РОМАНОВ. Из книги "НАМ СУЖДЕНО ОТ СЧАСТЬЯ УМЕРЕТЬ..." |
Андрей Владимирович
НАМ СУЖДЕНО
ОТ СЧАСТЬЯ УМЕРЕТЬ
ИЗ КНИГИ СТИХОТВОРЕНИЙ
Санкт-Петербург, АПИ 2010
* * *
Притянет за голову,
скажет мне: «Доброе утро!»
Поступков и слов
потускнеет вчерашняя вязь.
А женские плечи близки мне
и так недоступны,
что в сердце,
как в сданную крепость
вступает боязнь...
Но солнце настало,
и гордиев узел развязан:
мне каждое утро
до завтра встречаться с тобой,
А все, что казалось вчера нам
случайною связью,
сегодня окажется
нашей внезапной судьбой.
НАД СУМРАКОМ ОБВОДНОГО КАНАЛА
1
Хмурый космос усмехнулся криво;
поскользнулось солнце на воде...
Помнишь ли,
Как ты была красива,
ты, что мне не встретилась нигде?
Нам в грядущий полдень нет возврата
даже по фальшивым паспортам,
Вновь тебя искать?
Пустая трата
времени, отпущенного нам.
Выставь телескоп своей квартиры
за пределы городских огней,
отыщи звезду в созвездье Лиры –
наши взгляды встретятся на ней.
И когда космическая вспышка
хлестко даст пощечину векам, –
астроном –
лысеющий мальчишка
честь открытья приберет к рукам.
2
Отражаясь в сумраке канала,
хмурый март приветлив стал опять.
Отложи таблетки веронала –
это блажь в такую полночь спать.
К нам звезда спустилась неспесиво
на пролет Литейного моста.
Ты в любых шелках была красива;
с возрастом сгустилась красота.
И, когда идешь ты утром рано,
кончики рассвета теребя,
парни, что вернулись из Афгана,
восхищенно смотрят на тебя.
3
Нарекли дорогу автострадой,
Проложили путь через жнивьё.
И за неположенной наградой
в Кремль слетелись словно вороньё.
Расхватали, напились, подрались,
взмыли в небо, солнце заслонив.
Не затем мы в той стране остались,
чтобы песни складывать про них.
Вдоль России сумрачной и строгой,
где проселки, как бикфордов шнур,
нам шагать нехоженой дорогой,
в стороне оставив Байконур.
Затянув потуже пояс Славы,
отряхнув чернобыльскую вонь,
мы кирзой в грязи напишем главы
жизни, отпылавшей, как огонь.
Чтоб сберечь
(как будущие всходы
спину распрямляющей Земли)
красоту,
которую ни годы,
ни невзгоды высечь не смогли.
4
День придет,
Верховный суд разбудит
совесть всех, кто взялся нас вести.
Жаль, что нас тогда с тобой не будет
На планете, сбившейся с пути.
Карусель крутых разоблачений
закружит, пружинами скрипя.
И вернутся правнуки с учений
Мир рукопожатием скрепя.
И, поняв, что были мы красивы,
что времен предугадали нить,
правнучки достанут негативы,
чтобы нас с тобою воскресить,
И с восторгом вглядываясь в лица
Улыбаясь людям молодым,
Мы пройдем по улицам столицы,
Что была лишь центром областным.
* * *
Волоча вдоль коломенской трассы
Похоронную муть на софе,
Я приполз к тебе с лунной террасы,
Где мы горькую пили в кафе,
Где, осилив хребет Альтаира,
Осквернитель Христова креста
При строительстве светлого мира
Обещал нам блатные места.
Но космической краской обляпан,
Я за эти две тысячи лет,
Не сдавался ни шлемам, ни шляпам,
Выполняя всевышний завет.
И теперь, прославляя Непрядву,
И бубновый распнув интерес,
Я бы смог рассказать тебе правду,
Испытав исторический стресс.
Что нам лунные эти отроги,
И сигнал водосточной трубы, –
Вдоль карельской железной дороги
Мы с тобой собираем грибы
И за собственных внуков в ответе
Понимаем, врагов хороня,
Что на белом чудовищном свете
Нет нигде ни тебя, ни меня.
* * *
– Возвращайся, ростральная фея,
Подари мне блокадный рассвет,
На котором твоя портупея
Сохранила трагический след.
Старый снимок расщедрится сходу,
Чтоб из времени вытряхнуть стресс.
Нам синоптик подарит погоду,
А Москва – транссибирский экспресс.
Серебро в грановитой породе
Станет ближе космической мгле,
Ведь недаром настурция бродит
По давно расселенной Земле.
Лимузин гарантирует встречу,
Звездолет – персональную ночь,
Где врачи приготовят нам лечо,
Если скальпель не сможет помочь.
Вот бы вновь отыскать киноленту,
Где победно ликуют друзья,–
Ту, что – даже назло президенту–
Предъявить на таможне нельзя;
Там, где с властною силой в обнимку,
Тормознув нас движеньем руки,
Спросят: «Как вы сошли с фотоснимка,
Исторической лжи вопреки?»
* * *
Не спеша воскрешать ни фиту, ни, тем более, ять, я –
Рядовой обитатель привычных маршрутных карет –
Заключаю тебя межпланетную фею в объятья,
И, признавшись в любви, доверяю бессмертья секрет.
Ой, когда ж это было? На Лиговку блажь накатила,
Уголовники вновь на три буквы послали конвой,
Потому что Москва за награды платить прекратила,
Открестившись от крови минувшей Второй Мировой.
С той поры осознав, что Россия с Европой рассталась,
Что хохочет Совмин, показав победителям нос,
Те, кто выжил в боях, согласились на самую малость:
Хоть десятку, хоть вышку, но лишь бы не в цех и колхоз.
И сегодня нам на уши вешает танцы и шманцы
Престарелая сволочь, чья грудь в орденах и крестах,
Что стреляла нам в спину, когда наступали германцы,
Чтоб – «Ни шагу назад!» – мы… А после спасалась в кустах.
Зерна правды ужасной ты в души, любимая, высей,
Чтобы даже на стендах усастый упырь не воскрес.
И маршрутка летит от «Крестов» до коломенских высей,
Возвращая солдат на священную почву с небес.
* * *
Мы были и раздеты, и разуты,
Осознавая, – если черт не съест,
Не выпадет нам счастья три минуты,
Пусть, – даже встав, – решенье примет съезд.
Ведь, если, демонстрируя немилость,
Свалился с неба мудрый Млечный путь,
Его тоска, всего лишь, нам приснилась,
И ты о ней, пожалуйста, забудь.
Настал черед сосулькам и аортам,
Заглушки ставить шелудивым ртам,
В чужом краю, что числится курортом,
Где мы живем по ложным паспортам.
Пора «линять»! Воздушных ям не будет…
Республиканский имидж невысок,
Культурная элита не осудит
Очередной вне времени бросок.
И в той межзвездной гонке неустанной
Мы попадем в компьютерную клеть,
Когда в подъезде, на углу Расстанной,
Свистит пацан, рискуя повзрослеть,
Ему плевать, что воробьишек стайку
Коты на свадьбе нашей помянут
И в президенты выдвинут всезнайку
На десять галактических минут.
Метки: поэзия |
Ауэзхан КОДАР. Об авторе |
Ауэзхан Абдираманович Кодар, поэт, культуролог, публицист, переводчик казахской национальной классики, кандидат философских наук, академик Народной Академии Казахстана «Экология».
Билингв, пишет на казахском и русском языках.
Автор книг на русском языке: «Крылатый узор» (1991 г.), герменевтического сборника «Абай (Ибрагим) Кунанбаев (1996 г.), поэтического сборника «Круги забвения» (1998 г.), монографий «Очерки по истории казахской литературы» (1999 г.), «Степное знание: очерки по культурологии» (2002), книги стихов с параллельным английским текстом «Цветы руин» (2004). Книги-компенидиума «Зов бытия» (2006) и «Антологии казахской поэзии в переводах Ауэзхана Кодара» (2006).
Автор поэтических сборников на казахском языке «Царство покоя» (1994) и «Возвращение» (2006).
Поэтические сборники Кодара переведены на английский и корейский языки.

|
Метки: ауэзхан кодар |
Ауэзхан КОДАР. ОШИБКА АХУРАМАЗДЫ. Повесть |
ОШИБКА АХУРАМАЗДЫ
Незаконнорожденному поколению, интеллигенции 90-х посвящается
Начиная с определенной точки, возврат уже невозможен. Этой точки надо достичь.
Ф. Кафка. Афоризмы.
Мифы не страшны, страшны современники, ставшие мифами.
Из интеллигентского фольклора.
В Америку!
Агзамов проснулся в прекрасном расположении духа. Голова чуть побаливала, но в теле была необыкновенная легкость. Сразу же вспомнился вчерашний банкет: чем больше пели ему дифирамбы, тем воздушней он себя ощущал и, под конец, окончательно впал в эйфорию. Банкетный зал был весь в зеркалах, и лысина Агзамова отражалась в них тысячекратно. Чем больше было славословий, тем больше витал он в облаках, как бог в жертвенном дыме и в какой-то момент почувствовал, что не существует, достиг нирваны. И это ощущение несуществования повторялось несколько раз: когда сам Кулмуратов поздравил его с орденом, когда с другого конца стола его бывшая жена Азалия, сияя, как дворцовая люстра, подняла большой палец и когда юная официантка, которую он приметил с начала банкета, подавая коктейль, кинула на него обворожительный взгляд, полный преданности и покорности.
Правда, когда они оживленной толпой выходили из ресторана, к нему бросился какой-то бродяга в куцем коричневом пальто, с лохматыми, давно немытыми волосами. Он размахивал какой-то книгой и кричал что-то нечленораздельное. Охрана быстро убрала его с дороги, но Агзамова неприятно поразила недобрая ухмылка, переходящая в косой шрам, как бы увеличивающий эту ухмылку до бесконечности.
«Как же звали этого беднягу из Гюго?», - подумал Агзамов. – Кажется, Гуинплен… Ну и рожа… Где-то я его видел», - бессильно ворохнулось в мозгу. Агзамова охватило чувство смутной тревоги. Однако когда он уселся на заднее сидение «Ландкрузера», салон которого окунал в благоухающую атмосферу комфорта, Агзамов опять впал в эйфорию, близкую к несуществованию.
И вот теперь, проснувшись после банкета, Агзамов был рад, что существует, что договор с жизнью не расторгнут, что кожа шелковиста, а тело сибаритствует в приятном предощущении утренней зарядки.
По обыкновению он встал и, хотел было приняться за зарядку, но вдруг заметил что-то странное: на подушке и вдоль нее были рассыпаны какие-то коричневые зерна или дробинки, или родинки. Да, кажется, родинки. Рука Агзамова невольно потянулась к шее, где у него с юношеского возраста была целая россыпь то ли папилом, то ли родинок, которых так и не удалось вывести в течение всей жизни. И вот, пожалуйста, теперь они сами выпали, все в один день. Шея стала гладкой как каток, пальцы так и скользили, не натыкаясь ни на что. Агзамову стало неуютно, как будто он лишился какой-то защиты, как будто маленькие славные гномики, преданно лепившиеся к его шее сегодня исчезли даже не попрощавшись. Агзамов принес с туалета совок, ладошкой ссыпал туда все родинки с подушки и постели, пошел в туалет и бестрепетно выкинул их в мусорницу. Это была особенность его характера. Странности не волновали его – то, что он не понимал, сразу выносил за скобки, выбрасывал из своей жизни.
Он подошел к окну, открыл форточку, сделал несколько взмахов руками и ногами, поповорачивал шею, покосил глазами, сделал несколько вдохов и выдохов, посидел, отдохнул и пошел в ванну. Там он разделся и принял душ. При этом он полностью отдавался под власть теплых, нежных струй, глотал и сплевывал воду, сунул руку в пах и несколько минут стоял, держа на весу одрябшие яйца. «Вот бы увидела меня Аделаида Николаевна, мой заместитель», - лукаво подумал Агзамов, - мгновенно убирая руку с срамного места. Скользнув в халат, он почистил зубы и стал бриться. Процедура бритья всегда освежала Агзамова. Ему было приятно видеть, как в зеркале вместо заспанного брюзгливого типа с мешками под глазами появляется бодрячок с розовеющими щечками и озорным взглядом ласкающих и ласкающихся глаз.
Вот и сейчас тщательно побрившись, он посмотрел в зеркало и… оторопел. Лицо продолжало оставаться небритым. Станок выпал из его рук, он нагнулся, поднял его и снова посмотрелся в зеркало. На этот раз все было в порядке. Он увидел свою гладко выбритую физиономию, пристально всматривающуюся в зеркало. Не обнаружив далее ничего необычного, Агзамов пошел на кухню и приготовил себе кофе. В задумчивости закончив утреннюю трапезу, Агзамов взял заготовленный с вечера портфель и вскоре выходил во двор, где его ждал служебный «Ландкрузер». По обыкновению, Агзамов закурил и стал ждать, когда к нему подбежит улыбающийся водитель, чтобы проводить до машины. Однако из машины никто не вышел. Докурив сигарету, Агзамов подошел к машине, открыл дверцу, и, поднял было ногу, чтобы сесть, но тут его остановил строгий водительский окрик: «Извините, Вы кто?».
|
Метки: проза |
Ауэзхан КОДАР. ОШИБКА АХУРАМАЗДЫ. Продолжение |
- Знаешь, - улыбнулся Агзамов. – Мы – восточные люди, а на Востоке мир скорее подтекст, а не текст. И я думаю, что это правильно.
- Оригинальнейшая трактовка теории Дерриды! – осклабился гигант.
- Да он о нем скорее ни сном, ни духом, - грустно констатировал Танат.
Агзамыча оскорбило, что эти, по всему видать, пауперизованные элементы еще смеют посягать на его интеллектуальную экипировку.
- Слушайте, молодой человек, - весьма вежливо обратился он к книгочею. – что вы имеете против подтекста?
- Да ради бога! – широко махнул рукой Танат, - только сначала текст, а потом подтекст, сколько угодно подтекстов. Но если нет текста, извините, никакого подтекста не будет.
- Ну, хорошо! – хитро улыбнулся Агзамыч. – Вы хотите отсюда выйти?
- Хотим! – сказал гигант.
- Тогда зови начальство.
Гигант заколотил в дверь. К зарешеченной двери подошел сержант.
- Чего надо?
Но тут к двери подошел Агзамыч и что-то шепнул на ухо сержанту. Сержант как говорится не повел и ухом. Тогда он вынул из кармана минииздание своего отца Агзамова и показал милиционеру.
- Ну, знаешь, кто это? – и указал на фамилию своего отца.
- Аг-зам Аг-за-мов, - прочитал по слогам сержант.
- Знаешь, кто он такой?
- Не-а.
- Лауреат Государственной премии СССР. А я его сын. Понимаешь?
- Ну и что?
Тут к Агзамычу подошел гигант и дыша ему в лицо перегаром, спросил:
- Ты че ему мозги паришь? Ты же не Агзамов.
- Как не Агзамов? – возмутился Агзамов.
- Ты на себя посмотри – нет в тебе никакого лоска, гонора, какой же ты Агзамов? Между прочим, вчера по «ящику» передавали, что сегодня он летит в Америку, - выказал немалую осведомленность гигант. – Знаешь че? – еще плотнее придвинулся он к Агзамову. – У тебя бабки есть?
- Есть немного, - попытался уклониться Агзамов.
– Дай ему бабки и всего делов, - усмехнулся гигант. Тогда он и тебя отпустит и нас тоже отпустит. Мы ж не дадим пропасть друг другу? - обратился он к стражу закона и не успел тот что-то ответить всунул ему весомые купюры, охотно предложенные Агзамовым.
- Вещи при вас? – спросил он для порядка. Но тройка уже бодро мчалась к выходу.
- Пойдешь с нами? – сказал гигант, когда они вышли во двор.
- А куда с вами?
- В царство Аида, к Танатосу.
- Это где?
- В микрах, где еще?
Агзамыч задумался. Он понимал, что идти ему некуда, но и с этими идти не хотелось.
- Знаете, у меня столько дел. Вот держите на такси и до свидания.
- Слушай, друг, шланги горят, ты бы дал на похмелье-то?
- А ты я гляжу не прост, палец дашь, руку откусишь! На вот бери, что даю и будь доволен, - Агзамов вручил гиганту всякую мелочь и заспешил подальше от этих сомнительных личностей.
- А все-таки подтексты твои не помогли, - бросил ему в след гигант и они с Танатосом не спеша зашагали в сторону микрорайонов. «Бабло оно и в КПЗ бабло!» - прозвучало напоследок в пространстве.
Агзамов шел и думал: «Куда я иду? Этих я и за людей не посчитал, а самому мне и идти-то некуда. Нет, надо обратно в милицию. Я им должен заявить, что я потерялся, что я это я!».
Он нехотя повернул в сторону опорного пункта. После утреннего пробуждения в «отстойнике» ему не хотелось иметь дела со стражами порядка. Как-то не верилось, что это учреждение для установления истины, или для сочувствия человеку.
Его мысли потекли в другую сторону.
«…Но как они меня опознают? Ведь паспорт-то дома. Фу, какую чушь я несу! Не знал, что так трудно, удостоверить других в том, что ты это ты. За сорок лет в казахской культуре я стал знаменитым как пропись. И вот, пожалуйста, теперь меня никто не узнает».
Он подошел к полупустой остановке и сел на скамейку. Раньше все сбежались бы к нему, стали бы просить автограф, говорили бы как его любят, чтят, обожают, как любят его телепрограмму. Теперь людям нет до него дела, каждый ждет своей маршрутки или автобуса.
Агзамов тяжело поднялся и пошел куда глаза глядят.
Немного подумав Агзамов вспомнил Радика, или Радия Гадикова, «главу голубого экрана» как называли его друзья. Как он не подумал раньше, вот кто не ошибется в идентификации! Еще со времен Кунаева повелось, что если не того выдал в эфир, сам эфир будешь нюхать.
Агзамов сошел с троллейбуса и задумался, то ли перейти улицу на светофор, то ли по подземному переходу. По светофору, конечно, быстрее, но Агзамову нужна была стопроцентная безопасность.
Спустившись в подземку, он очень пожалел о принятом решении, ведь в последний раз он пользовался переходом лет двадцать назад, тогда это было приятно, особенно летом, здесь было прохладно, в киоске можно было купить газету, стояли автоматы с газированной водой. Зато теперь через каждые пять шагов сидели нищие, кто-то кинув на пол шляпу, пел под гитару. Какой-то поэтишка, приставая к прохожим читал стихи, дородная бабка продавала пирожки, безногий инвалид катил на плоской каталке и толпы прохожих, порой нарядных, порой не очень, шли вместе с Агзамовым, торопясь выбраться из этого подземелья.
Агзамову бы тоже побыстрее убраться отсюда, но тут его внимание привлек плакат царя в парадной царской одежде с булавой в правой руке и с шаром – в левой, над завитыми кудрями царя стояло сияние.
«Так это же фарн, хварна», - мелькнуло в мозгу у Агзамова. Он когда-то занимался этим вопросом, но тогда это была запретная тема. Тираж изъяли, книгу сожгли, выдвижение на премию ленинского комсомола сорвалось. В одно мгновение он стал еретиком и диссидентом. А теперь это тема – достояние массового сознания. Вон к плакату тянут шеи и старик в берете, и молодая стильная женщина в модных очках, и худосочный интеллегентик бомжеватого вида.
- Так, что же там написано?
|
Метки: проза |
Ауэзхан КОДАР. ОШИБКА АХУРАМАЗДЫ. Продолжение |
В казино
Они поехали по аль Фараби, переехали Фурманова и только тогда Агзамов заметил как изменился город, когда-то роскошная Алма-Ата, а теперь неудобоваримое, какое-то куцее Алматы. Однако несмотря на невыразительное название, в бывшей столице выросло множество суперсовременных высотных комплексов, которых можно было видеть с любой точки города. Если ранее единственной высоткой кунаевской столицы была 25-этажная гостиница «Казахстан», на фоне новеньких «куатовских» высоток, она смотрелась эдаким архитектурным динозавром, мирно доживающим свои дни на чужом празднике жизни, на фоне пятизвездочных отелей с чудными иностранными наименованиями типа «Рахат-Палас», «Анкара», «Сингафредо». Но в то же время состояние дорог было такое, как будто по ним каждый день катаются на танках. Разметки куда-то делись, асфальтовое покрытие было латано-перелатано, рытвины имперского размера сочетались с новоявленными «скрытыми полицейскими». В общем, Агзамова так растрясло, что он с тоской вспоминал об индийских рикшах, бережных к каждому своему пассажиру.
И еще Агзамычу бросилось в глаза то, что город превратился в как бы огромную лавку: первые этажи некогда бесцветных многоэтажок пестрели разными вывесками на чудовищной смеси английского, казахского и русского сленга. Там располагались всякие бутики, магазинчики, закусочные, а рядом под красочными переносными зонтами зазывали к себе пивные и кафе-мороженое. Но больше всего в городе оказалось даже не кафешек и ресторанов, хотя и их тоже развелось видимо-невидимо, но всяких казино и игровых автоматов. Казалось, что за неимением лучшего, или, вернее, вследствие потери всяких разумных оснований для воспроизводства и смыслопроизводства, люди надеются только на выигрыш в лотерею, неважно какую, лишь бы повезло. Будет ли это выигрыш в рулетку или покер, в «наперсточек» или Джек-пот, все равно, лишь бы слепая игра случая выбрала меня, любимого. Такая настроенность невидимых людских масс оскорбляла Агзамова, всегда привыкшего надеяться на свой интеллект и на свое влияние в обществе. Ведь механизм славы – самая загадочная вещь на свете, однажды потрудившись заработать авторитет, всю остальную жизнь ты можешь почивать на лаврах, твоя слава будет работать на тебя лучше любого продюсера. Но теперь кто он, бывший Агзамов? Агзамова поразило, что он подумал о себе в прошедшем времени, как о бывшем. А это кто едет с русской красоткой на заднем сиденье, с толстой мошной в кармане?! Правда, они уже побывали в трех казино с похожим названием и все еще не нашли Айхана. Ну и что? Как сказал когда-то Горбачев: «Процесс пошел!». Пусть Агзамыча выкинуло из прошлой жизни, но ведь он еще жив и, главное, его интеллект еще при нем, вон он как рефлексирует все это время, пока они по бывшей Ленина спустились на все еще Гоголя и поехали по нему прямо. Когда авто переехало улицу Фурманова Агзамов на противоположной стороне улицы увидел казино «Шахерезада», построенное в виде сверкающей, трехлучевой короны. Перед казино были выставлены, видимо, в качестве выигрыша, три автомобиля – «БМВ», «Мерседес-500» и «Тойота-Лэндкрузер». Этот джип очень понравился Агзамову, ибо напомнил ему о его собственной машине, которая так неожиданно и безвозвратно ушла из его жизни. Но ушла ли? А может, попробовать ее вернуть? И тут Агзамов совсем неожиданно для себя решил зайти в казино и попытать свое счастье.
- Братишка, останови вон у того казино, - сказал он шоферу-казаху.
- Но тогда надо будет развернуться…
- Ну, так развернись.
- Эй, эй, погоди! – раздался сзади голос Маша. – Ты что, лохушник, что ли? – зашептала она на ухо Агзамову. – Тебя же облапошат как Буратино. Ты что, наших не знаешь?
- Это ты меня не знаешь! – ворчливо буркнул Агзамыч.
- Я тут катаю его по всему городу. Думаю, он меня в кабак пригласит. А ты вишь, что удумал, спустить все деньги? Нет, так не пойдет.
- Не слушай его, сверни вон к кабаку, - повернулась она к таксисту.
- Вот тебе деньги на кабак, - сказал Агзамов и дал ей сьопку новеньких долларов, - а я пошел! – буркнул он сходя с такси.
- Нет, я с тобой! – Маша уже шла за ним.
- Эй, а мне кто заплатит? – выскочил из машины таксист.
Агзамов рассчитался с таксистом и пошел к казино.
Когда они входили, путь им преградили два охранника.
- Сейчас нельзя. Вон видите 12 часов. У нас время молитвы.
- Ничего себе казино! – воскликнула Маша. – У вас что – игорное заведение или мечеть?
- А тебе вообще не стоит вякать, - сказал один из охранников. – Женщин мы вообще сюда не пускаем.
- Вы знаете, - с достоинством произнес Агзамов, - она – со мной, я заплачу сколько запросите.
- Ладно, - сказал старшой из охраны, отправляя в карман стодолларовую купюру. – Только пусть она наденет вот этот хиджаб и протянул что-то вроде мешка с пустым овалом для лица. – вот, накидывай.
- Я тебе не лошадь с попоной! – возмутилась было Маша, но увидев гневное лицо Агзамова, покорно полезла в хиджаб. Ее увели в раздевалку и вскоре она вернулась в черном мешковатом платье до пят.
После этого их провели в молельную комнату, где с полсотни человек колотились лбами о молитвенные коврики, потом садились на колени и шептали что-то невразумительное, затем выставив разнокалиберные зады, опять валились на коврик. Зрелище было не из приятных, но Агзамову с Машой пришлось проделать все это вместе со всеми. Отец когда-то научил Агзамова формуле исламской веры и одной молитве, содержание которой он давно уже не помнил. Зато помнил слова и шептал их с неожиданно проснувшейся жаждой веры. Такое чувство было удивительным для Агзамова, поскольку он был закоронелым атеистом и никогда не ощущал потребности в боге. Он, как говорится, не нуждался в этой гипотезе. Его удовлетворяла научная картина мира. Но в последнее время он с замиранием сердца отмечал, что в этой картине никто не нуждается. Напротив, все теперь кинулись в религию, мистику, гороскопы, составление родословий и прочую хиромантию. Когда-то Агзамыч споткнулся о фразу автора «Так говорил Заратустра» о том, что культура – это скорее исключение, чем правило в жизни человечества, что это тонкая наружная пленка, под которой все также торжествуют дикие первобытные инстинкты. Агзамычу, тонкому интеллектуалу и моралисту до мозга костей не хотелось в это верить. Это что же, значит, нет в истории никакого прогресса, а возможно и нет никакой истории? И что - мы также беззащитны перед вопросами бытия и веры как миллионы лет назад? Агзамов отказывался в это поверить. И, тем не менее, он сейчас вместе со всеми отбивал поклоны, и, мало того, пытался направить свои мысли в нужное русло, т.е. в религиозном направлении, стараясь понять хотя бы логику такого образа мысли, при котором ты несравненно ниже верховного существа, но пытаешься обратить его взор на свою скромную персону, донимаешь его всяческими просьбами, хотя от тебя требуется лишь то, чтобы ты полностью предался его воле и только тогда Он, возможно, снизойдет до тебя. Но как ни старался Агзамов, он так и не проник в эту логику и ему ничего не оставалось, как повторять то, что повторяли другие. Он не читал Бодрийяра и не знал, что мир страдает перепроизводством символов, теряющих свое содержание, но продолжающих существовать и в этом своем существовании, способных убить то новое и актуальное, что рождается параллельно, но не обладает, к примеру, авторитетом многовековой исламской традиции.
|
Метки: проза |
Ауэзхан КОДАР. ОШИБКА АХУРАМАЗДЫ. Продолжение |
В тусклом предутреннем свете показалась однокомнатная квартира, где у стены сидел в кресле рослый русский мужик с длинными волосами и допивал остатки водки из 200-грамового стакана, а рядом свернувшись в калачик, валялся темноволосый казах, рядом с которым лежал огромный фолиант, раскрытый где-то посередине. На проигрывателе образца 70-х годов повизгивала виниловая пластинка, с иглой застрявшей на последнем обороте. Русский парень был похож на шведского шкипера или на Иисуса Христа, или на хиппи, которые в Алма-Ате нет-нет, да промелькивали. Приглядевшись Агзамов признал в нем русского гиганта из «шлакушника».
- Я этого, кажется, видел, - неуверенно произнес Агзамов.
- Я даже вам скажу, где вы его видели, - веско сказал Нуриев. – В КПЗ, или как говорят в народе, в «шлакушнике».
- Да, а вы откуда знаете? – наивно спросил Агзамыч и осекся при одной мысли, что все это время тоже был под наблюдением.
- Нет-нет, что вы, за вами слежки не было, - успокоил его Нуриев, как будто угадав его мысли. – Просто у них такой образ жизни, что их постоянно загребают менты. – Это самая несчастная порода людей, я их называю «гении-кустари». Они, надо сказать, очень талантливы, но не умеют ладить с обществом, вписываться в конъюнктуру. Ведь талантом надо делиться, знать под кого лечь, а эти мнят себя уже готовыми оракулами, непризнанными пророками. У них на все есть свое суждение, их никогда нельзя переубедить. Даже между собой каждый раз начиная во здравицу, кончают за упокой. В общем, грызутся как собаки, но друг без друга не могут. Они действительно единственные, которые в наших условиях разбираются в модернизме и постмодернизме.
- А нам это нужно?
- Кто его знает? По крайней мере, надо что-то знать об этих вещах. Вообще-то не мне бы вам об этом говорить.
- А по мне, все это говно, словесный мусор, нам надо нациестроительством заниматься.
- Уау, слово-то какое сложное! Это даже не выговорить. Вы нациепатриоты – очень странные, кто вам сказал, что нация – это соответствие прошлому? Вы же именно оттуда черпаете свои представления о нации, из прошлого! И кто вам сказал, что вообще возможно соответствие чему-то?
- Но ты же сам чему-то соответствуешь?
- Ничему я не соответствую! Я расставил игорные столы и очищаю карманы игроков, разбивая их мечты на соответствие каким-то заветным, сакральным числам. Я как раз богатею там, где люди хотят меня обанкротить! Так кто умнее? И дело даже не в уме, а в образованности. И знаете, кто меня образовал? Вот эти двое! Я прикинулся «шмурдяком»-алкаголиком, таскался с ними по пивбарам, злачным местам, по всяким конференциям, ведь они иногда переодеваются в чистое и выступают на ученых собраниях. И однажды от кого-то из них я услышал слова Гераклита: «Мир – ребенок играющий в кости!». И для меня сразу все встало на свои места, что нет ни бога, ни черта, ни смысла, ни бессмыслицы, я не стал лезть в политику, я открыл казино.
- Зачем тогда теперь лезешь? – неприветливо спросил Агзамов.
- Я понял, что у нас нет чистого рынка. Это стало моим вторым открытием. Рынок – это свободная конкуренция товаров, а у нас нет этого. У нас все управляется оттуда, - он кивнул на потолок. – А там сидит мой папа и держит в своих руках нити всех интриг. Слышал, недавно Бекжанов умер. Ну, этот наш Леви-Строс или скорее Миклухо-Маклай. Он и в самом деле из казахов хотел сделать что-то вроде папуасов.
Нуриев нажал на кнопку пульта и на экране появился высокий, худощавый Бекжанов, известный писатель и этнограф. Агзамов не любил его, они были антиподами. Агзамыч искал величие казахов в глубокой древности, в сакской, тюркской предистории, а этот дальше 19 века оплеванного Абаем и Левшиным не забирался. Между тем на экране возник кабинет президентского любимца Акбасова. Там сидели Акбасов и Бекжанов и о чем-то жарко спорили, размахивая руками и брызгая слюной. Вдруг Акбасов полез в ящик стола и вытащил оттуда кинжал. Бекжанов выхватил у него кинжал и полоснул себя по горлу. Кровь фонтаном брызнула в лицо Акбасову. Нуриев выключил монитор.
- Вот такое вот харакири, - подытожил Нуриев, положив пульт на стол. – Думаете, это все просто так, что, Бекжанову жить надоело? Это Папа приказал ему исчезнуть из жизни, ибо тот все время лез с идеей Казахстан для казахов, а как это возможно в наше время, остальные народы ведь тоже не букашки. И Папа это прекрасно понимает, а вот вы, писатели, вечно воду мутите. Но Папа ошибался насчет Бекжанова, он-то как раз был не опасен, всего лишь демагог и позер, но в его верноподданичестве не приходилось сомневаться. Вот кто опасен! – Нуриев снова схватился за пульт и включил монитор. Показался большой ресторан. Видимо, там шел чей-то юбилей. Вскоре Агзамов стал узнавать присутствующих.
За центральным столом сидел Бакай Жакаимов, живой классик казахской литературы, автор бессмертной эпопеи «Нескончаемая даль». О нем говорили, что он появился на свет сразу со своей многообещающей трилогией, да так и не расстается с ней до сих пор, все исправляет, исправляет, добивается невиданного совершенства. Добился он этого совершенства или нет, никто так и не понял, но все понимали, что надо хвалить его уже за саму попытку. Вот и хвалили его все, начиная с Луи Арагона, который почему-то добровольно взвалил на себя шефство над киргиз-кайсацкой литературой. В этом году юбиляру исполнялось восемьдесят пять, а его нетленному шедевру – пятьдесят пять. Агзамову вспомнилась притча про пройдоху-алкаша, который выходил из своей каморки с тремя копейками, но благодаря своей незаурядной общительности к обеду уже сидел в ресторане, а ночью засыпал в самой дорогой гостинице в объятиях самой роскошной девицы, какая только возможна. Вот и Жакаимов обладал не то что обаянием, а какой-то железной хваткой, из тисков которой невозможно было вырваться ни гению, ни титану, ни самому Господу Богу, если автор неувядаемой эпопеи хотел их использовать в свою пользу. Возможно, поэтому вещичка кое-как исполненная в стиле соцреализма, верно служила своему хоязину вот уже более полувека. Агзамов повернулся к Нуриеву.
|
Метки: проза |
Ауэзхан КОДАР. ОШИБКА АХУРАМАЗДЫ. Продолжение |
«А может, прав Такен: хварна – это всего лишь внутреннее свойство, тогда я ее никак не могу потерять. Она всегда будет при мне. Возможно, со мной не будут носиться, как раньше, но живет же, к примеру, Такен. Его никто не осыпает милостями, не превозносит, он еле выживает, смотря по этой скромной мастерской, но спокойно продолжает творить и как творит – свежо, самобытно, национально. Все что мы с Адоевым едва намечали в теории, он полновесно воплотил в искусстве. И возможно даже пошел дальше нас. Ибо для него национальное неотделимо от общечеловеческого».
Напротив Агзамова висело два зеркала – одно обычное, другое вогнутое. Агзамов только было направился к зеркалам, как к нему подбежала Манька и потащила совсем в другую сторону.
У входа на небольшом квадратном возвышении стояло что-то вроде стеклянного судна для больных. Приглядевшись Агзамов увидел, что это не судно, а что-то напоминающее человеческий, как сказали бы медики коитально-дефекационный комплекс. Но штука была в том, что внутри прозрачной вагины был длинный полый мужской член впечатляющих размеров, плавно переходящий снаружи в женские половые губы. Такену удалось невероятное, он обнажил самое сокровенное, то, что на протяжении тысячелетий было окружено чуть ли не сакральной тайной.
- Уау! – воскликнула Манька. – Неужели такие бывают?
- Какие «такие»? – спросил Такен
- Ну, члены… - растерянно сказала Манька.
- А хотелось бы? - улыбнулся Такен.
Все рассмеялись.
- Мне кажется этой своей штукой я разрешил всю гендерную проблематику. Нет проблемы равенства или неравенства, нужно соитие, нужен коитус, вот и все. Мы, земные люди, созданы для плотствования, но как раз до этого мы никак не дойдем, так любим рассуждать на абстрактные темы, хлебом не корми.
- Такеша, я не могу сдержаться! А ну, пойдем со мной.
Манька обняв за шею Такена, потащила к двери. Такен попытался было вырваться, но она была выше него и вскоре они исчезли за дверьми.
Агзамов оставшись один, постоял еще некоторое время возле прозрачно-бесстыдного шедевра, зачем-то сунул палец в полость фаллоса или вагины и прошел потом к зеркалам, которые его давно заинтересовали.
Одно зеркало было обычное, другое – вогнутое. Но лучше бы он к ним не подходил. Как бы он ни вставал на цыпочки, какие бы потом не корчил рожи, он не отражался ни в одном из них! «Так, значит, я действительно исчез? Достиг нирваны? Саморазрушился? Но ведь вот же я стою, вот у меня руки, ноги». Агзамов высунул язык. Все было напрасно. В зеркале ничего не отразилось. Тогда он плюнул в зеркало. Плевок тоже бесследно исчез. Боже мой? Что происходит? Чего же я лишился – души или плоти? Или они на самом деле одно и я лишился всего сразу?
Дверь тихо открылась, и, обнявшись вошли Такен и Маша, счастливые, умиротворенные.
Смотря с упоением на повернувшегося к ним Агзамова, Такен сказал:
- Поздравь меня, друг, я женюсь на ней! А со своей я развожусь. Я, наконец-то, все решил!
Но тут Маша-Манька-Обманка разжала объятия и отпрянула от Такена.
- С какой стати, Такеша! Я же не давала согласия! Я отдалася тебе, но это не значит, что я буду твоей женой! Я отдамся еще десяткам других!
- Да пожалуйста! Но будь моей женой!
- Быть женой для меня презренно! Быть женой – это то, что убило женщину в женщине! Быть женой – это значит стать рабыней одного мужчины. Это значит запереть на кухне все свои влечения и страсти! Это значит, что ты не можешь быть язычницей и вакханкой, что ты не можешь отдаться тому, кому захочешь! Это значит, навеки лишить себя выбора! И что взамен всему этому? Только штамп в паспорте и лицемерное уважение общества и сплошное лицемерие с мужем, когда ты ему изменяешь и когда он изменяет тебе? Нет, я не могу так лгать – ни себе, ни обществу!
Такен:
- Но ты не можешь так просто покинуть меня, после того, что было? А было ведь потрясающе!
- Поэтому я и покидаю тебя! Потрясающее не повторяется! Эй, рохля, пошли! – и она подхватив за руку Агзамыча оттолкнула Такена, пробежала с Агзамычем сквозь дверной проем и они помчались вниз по лестнице.
Немного погодя они, вмиг оказавшись на улице, лихорадочно открыли калитку и вскоре ловили такси.
После оргии
- Почему ты с ним так поступила? – спросил на улице Агзамыч, - еле переводя дух.
- Я не говорила ему, что буду его женой. Он талантливый человек, но как мужик – самый элементарный. Он бы запер меня и выбросил ключ.
- Как сказала Дебора из «Однажды в Америке»?
- Какая разница? Мы одно онтологическое тело.
Тут подъехала иномарка и они побежали к дверце машины.
- Куда едем-то? – обернулся к Маше Агзамыч.
- Да есть у меня одни хухрики…Подкармливаю их иногда.
- Саина – Жубанова, - сказала она, наклонившись к дверце.
- Знаешь, есть такая порода людей, - сказала она, когда они уселись в машину и поехали, – несвоевременные, ну, пасынки какие-то, или незаконнорожденные (как будто детей зачинает закон, а не фаллос!), вечно не к месту, ни к селу, ни к городу, но вечно в движении и размышлениях. Это началось еще с Сократа. Мы ж его вечно видим на чужих пирах, а в собственном доме не видим. Так и у меня есть два дружка, один – поэт, другой – философ, которые забили на этот мир широко и окончательно. Поэт какое-то время делал успешную карьеру, работал на телевидении, издал свои переводы «Биттлз» и «Пинк Флойда», поехал в Москву, думал произведет там фурор, но никто даже и бровью не повел. Все ниши были заняты. Пришлось ему вернуться в Алма-Ату, но и здесь уже все ниши были забиты. Ведь талант у нас не ценится по номиналу, а по количеству и, главное, качеству связей. А с философом случилось так, что он вообще появился раньше времени, люди еще барахтались в марксизме, а его потянуло к постмодерну, о котором тогда еще и в России не знали. Представляешь, он написал диссертацию о хайдеггеровском понимании истины, а его зарубили на том основании, что ему некому оппонировать. - Слушай, сказала она таксисту, - останови возле магазина, я пойду, затарюсь.
Взяв у Агзамыча деньги, она пошла в магазин и вскоре вернулась с двумя пакетами, полными продуктов.
«Опять везет в какой-то шлакушник», - подумал Агзамов. Но то, что он увидел, поднявшись на четвертый этаж, превзошло все его ожидания. На звонок Маши дверь открыл какой-то казах с зелеными пьяненькими глазами и кривой ухмылкой, почему-то показавшейся Агзамову знакомой. И только увидев за ним русского гиганта, Агзамыч признал старых знакомцев из милицейского КПЗ. Но приглядевшись, Агзамыч удивился еще больше – его старые знакомцы были одеты чуть ли не с иголочки. Гигант был во фраке, а книгочей в сюртуке и даже чисто выбрит и даже шрам, казалось, не так выделялся, скорее похожий на довольную кривую ухмылку.
- Машка! Откуда тебя занесло? – обрадовался гигант.
- Игоречек! А я к тебе с гостем и с харчами.
Маша зашла сама и затащила за собой Агзамыча.
- Вообще-то это моя квартира, - проронил книгочей отступая.
- Ну, значит, и тебя обслужим, - многообещающе заявила Маша. – Слушай, - повернулась она к Игорю. – Никак вы на банкет идете или собрались читать свою Нобелевскую лекцию, но я вас впервые вижу в полном параде. По какому поводу вы так намарафетились?
- Талант не пропьешь! – осклабился в улыбке Игорь. – У нас сегодня проект должен пройти в фонде образования. Вот ждем Костыляныча с вестями. Если пройдет, он поведет нас на прием в американское посольство, а через неделю мы все едем в Америку! Читать лекцию по теме: «Аполонийское и дионисийское начала в казахской культуре». Я – Аполлон, Костыляныч - сатир, а вот это наш Дионис, или Танат по прозвищу «Доброе утро!», ибо уже к восьми утра он стоит у магазина в еще не начавшейся очереди за водкой!
- Но слушай, может, мы тогда не вовремя? – замежевалась Манька.
- Люди с водкой у нас всегда вовремя! – с пафосом сказал Игорь и перехватив у Маньки пакеты, занес их в зал.
Смеясь, они вошли в комнату, Агзамыч – за ними. Он еще в прихожей обратил внимание на то, что обои в доме как на плавках Макмерфи из фильма Милоша Формана «Полет над гнездом кукушки» – с резвящимися на волнах дельфинами. Это настраивало на довольно фривольный лад.
Квартира явно была холостяцкой. В центре стоял потрепанный журнальный столик с диванчиком и двумя креслами, в углу, у окна довольно компактный письменный стол, над ним навесные книжные полки с такими огромными фолиантами, что казалось, они сейчас рухнут. Напротив стола ютилась солдатская односпальная койка – вот и все содержимое комнаты. Агзамову предложили сесть, но он пошел к полкам. Фолианты оказались словарями – французские, английские, арабские. Но больше всего впечатлили Агзамыча словари греческие и латинские. Но мало того, на полках не оказалось ни одной книги на русском.
|
Метки: проза |
Ауэзхан КОДАР. ОШИБКА АХУРАМАЗДЫ. Окончание |
Агзамов никак не ожидал такой агрессии к себе, ведь это он сделал этого человека человеком. Не выбей он тогда ему квартиры, ему пришлось бы уехать в свою грязную железнодорожную станцию, или же откинуть копыта в одной из пивнушек Алма-Аты. И этот парень, который каждым шагом продвижения здесь обязан ему, променял его на этих полубомжей, развратников, циников, в общем, дела-а-а-а… Но погоди, погоди, кажется он припоминает… Как-то приехал из Калифорнии Ларри Джонс, руководитель международного Пен-клуба, Агзамов познакомил его с Айханом и они почему-то так спелись, что тот захотел пригласить его в Америку, но не просто так, а чтобы он прочитал лекции о казахской культуре. Агзамов нисколько не возражал бы против этого, но Айхан пристегнул к себе еще кого-то, как оказалось, эту сладкую парочку. Этого Агзамыч простить не мог. Он продумал тонкую комбинацию со своим отъездом в Америку и приговором проекту Айхана, который должен был произнести Председатель Правления, славный парень, известный как правозащитник. Так оно, видимо, и получилось. Агзамов иронично хмыкнул.
- Так что это у нас сегодня – трибунал?
- «То Высший Суд – наперсники разврата!» - напряженно заржал Игорь.
- Можно мне слово? – буднично сказал Танат. – Я считаю, что этот человек ни в чём не виноват. – И, кроме того, - обратился он к Игорю, - он сегодня спас нас от этого дикаря. – Я очень уважаю Агзама Агзамовича, - обратился он потом к Айхану. – Он – сын великого писателя, среди нас должны быть аристократы, а он единственный кто здесь аристократ по праву рождения.
Но с хварной вы хватили лишку, - повернулся Танат к шаману. - Это чушь собачья! Нет никакой хварны. Если Бог умер в эпоху Ницше, какая может быть хварна? Как говорили античные скептики: это не более чем то. Агзамыч такой же, как мы: в меру глуп, порой не в меру самодоволен. А то, что его отовсюду убрали, так устарел, пора и честь знать. Вон Делёз когда устал от страданий, взял и спрыгнул с восьмого этажа вниз головой, как Эмпедокл в жерло вулкана. Вот это смерть философа! Вообще, я вам скажу, что только философы предназначены для смерти, а все остальные предназначены только для прозябания.
- Я тоже думаю, что этот ваш шаман или явно чем-то обкурился, или действует по твоему сценарию, - сказал Агзамов, жестко посмотрев на Айхана. – Я никогда не нуждался в какой-то хварне, верил только себе и своим знаниям. Я и тебя когда-то оценил, - продолжал Агзамов, обращаясь к Айхану, - из уважения к твоему интеллекту и силе характера. Но со временем характер стал в тебе самодовлеть, ты стал подчинять себе окружающих, стремиться к лидерству.
- А не кажется тебе, что всё происходило само собой? Просто я стал актуален для людей, я говорил то, о чем они думали, буром шел вперед, не сворачивал с избранного пути, вот люди и потянулись ко мне. И только тебе это почему-то стало не в радость. Ты мне помогал, когда меня никто не знал, видимо, тебе нравилось тешить свое самолюбие тем, что ты такой благодетель, но стоило мне проявить себя самостоятельно, это сразу тебе не понравилось. А ведь ты считал себя продвинутым парнем, уникальной личностью, далеко опередившей своих соплеменников! Так в чем твоя уникальность, в том, что ты строишь козни против ближайших своих друзей, тянешь их за ногу обратно в яму? Чем же ты лучше самых заурядных казахов еще в утробе матери зачатых с комплексом неполноценности, в котором зависть – самое определяющее чувство. Уж мне-то чего завидовать, я с четырех лет заболел полиемиелитом, в шесть лет потерял отца, в двадцать лет умерла от рака мать, и, тем не менее, я шел вперед. Рожденный в станционном тупике, теперь я – кумир своего поколения! Я изначально решил, что раз мне отказано в одном, превзойти людей в другом – в знании, образованности, культуре. Я сам себя сделал человеком, состоялся вопреки всему – происхождению, здоровью, отсутствию блата. В цивилизованных странах обычно поддерживают таких людей, вспомните хотя бы Джека Лондона или Тулуз-Лотрека, но у нас, чем больше я становился известным, тем более сгущался вокруг меня заговор молчания. Правда, был краткий период, когда мы работали с тобой вместе: создали журнал, стали создавать среду. Но тут твои друзья, все эти старые хмыри, настроили тебя против меня. И вот когда ты отошел от меня, вокруг меня образовалась пустота. Ведь у нас не общество, а какое-то преступное исмаилитское братство, каста убийц всего живого и творческого. И тогда со мной остались только эти двое и видит Бог, они столько же сделали для меня, сколько я – для них! Их считали алкашами, отбросами общества, а я изумлялся их свободе, независимости, эрудиции. Их отовсюду изгоняли с позором, я их приблизил к себе! Это не прибавило мне авторитета в глазах общества, зато я вырос в собственных глазах. Ибо я считаю, что все богатства этого мира не стоит одной фразы Хайдеггера, взятой им в свою очередь у Гельдерлина: «Поэтически обитает на земле человек». Поэтически, а не политически, как это происходит со многими из нас. В них меня восхищало то, что они сделали свой выбор. Кафка писал, что с определенного момента в духовном развитии человека наступает точка невозврата и что ее не надо бояться, ее надо достичь. Так вот, ты никогда не достигал такой точки, всегда оставлял лазейку, чтобы вернуться в реальность. Ты так и живешь, как оборотень – засыпаешь волком с мыслью о мясе молодых ягнят, а проснувшись, сдираешь когти и лезешь ногами в мягкие тапочки, чтобы не выдать свою звериную сущность. Духовным существом можно назвать того, у кого есть двери восприятия, кто может впустить в себя соблазны этого мира и найти отдохновение в ярком языческом танце. И чем больше участников, тем насыщенней танец, но твои двери, увы, давно закрыты. Они у тебя выполняют не функцию входа, а функцию барьера, или преграды.
- Что ты знаешь обо мне? – презрительно процедил Агзамов. - Ты думаешь мне впервой выпасть из времени, примерить отребье изгоя? Только стоило мне подняться, как на меня стучали и я вновь уходил на дно, вел растительное существование. Однажды меня представили к очень высокой премии, но только для того, что назавтра вычеркнуть из списков. Я нигде не задерживался на работе больше года или двух, и вот, когда наконец настало мое время, вылезаете вы, хотя самим вам и сказать-то нечего этому миру!
- Мы, по крайней мере, не придумываем мифов, а вот ты этим занимался всю жизнь. Ведь вся твоя жизнь – это мифотворчество. Чего только стоит твоя книга «Тюркская хварна». Хварна – это изобретение иранского мира, продукт зороастризма, «Авесты». Нельзя же в пылу патриотизма попирать очевидные вещи. У тюрков божья благодать называется «кут» и он одинаков для всех смертных!
- Надо же, открыл Америку! Между прочим, я первым написал о тюркском боге Тенгри и тенгрианской благодати – «куте»!
- А мне больше нравится Ахурамазда. Все степные боги всего лишь его отрыжка! Ахурамазда – самое великодушное божество, это первый монотеистический бог в мире. Но он был столь неревнив и не завистлив, что делил свою власть и с Митрой, и с Анахитой, и со многими другими богами и очень возможно, что среди них был и Тенгри! Когда другие боги с остервенением, достойным разве что кухарок, грызлись за власть, Ахурамазда то и дело раздавал ее лакомые куски почти кому придется. В результате, через много веков пришлось родиться Заратустре, чтобы власть вновь сосредоточилась в руках Ахурамазды. Но мне почему-то нравится божественная рассеянность этого небесного властителя, она идет не от слабости, а от силы, не от недостатка, а от избытка, не от изьяна, а от совершенства. Мне этот бог нравится в любом своем проявлении – от грозного божества до мелкого демона, ибо он непредсказуем как сама действительность, а, как сказано Аристотелем, бытие мира проявляется многообразно. Особенно мне нравятся Гаты Заратустры, его разговоры с Богом. Заратустра – пророк-богохульник, он хочет лишить своего бога жертвоприношений. Но как милостив с ним Ахурамазда!
- Да что ты пристал к нему, - опять встрял между собеседниками Танат. – Хварна, кут, Тенгри, Ахурамазда – какая разница. Это все та же метафизическая мистическая белиберда и место ей – на свалке истории.
- Тебе явно хочется понравиться Агзамову, - задумчиво произнес Айхан. – Но не ты ли мне всегда жаловался на него, говорил, что это позавчерашний день, прошлогодний снег, что он элементарен как пропись, что он зажимает наше поколение. Мне ради тебя пришлось расстаться с ним, хотя он не сделал мне ничего плохого.
- А я и говорю, что не надо расставаться, он – хороший, - спокойно продолжал Танат, - только из другого поколения.
- Но из-за него мы не едем в Америку! Он провалил наш проект!
- А это надо нам – ехать в Америку! Кому мы там нужны? Проект! Значит, не созрел наш проект!
Метки: проза |
БЕЛОЙ БАБОЧКИ ПАРЕНЬЕ. Кира САПГИР (Франция) |

«Поэт идет до последней черты правдивейшего отношения к себе. Его итог – «откровение духовного мира» - как писал Андрей Белый о творчестве Ходасевича.
И начало нашего тысячелетия – самоновейшее время, когда особенно чувствуется острота эстетического запроса, вызванная духовным голодом предшествовавших десятилетий. Это новое время выдвигает требование новой правдивой ноты, новой, реалистической (в серьезнейшем смысле) поэзии:
Нацелено солнце в мишень паутины,
без промаха бьёт! И ослепшим глазам
мерещатся – в яркой палитре куртины –
Борисов-Мусатов, Ван-Гог и Сезанн.
Какое скопленье оттенков и цвета!
В траве изумрудной – росы холодок –
в сто раз увеличенный линзою света
и вправленный в лето хрустальный глазок…
(В. Коробов, «Пейзаж»)
Передо мной изящно оформленный стихотворный сборник необычного формата: квадратная тетрадь, похожая, скорее, на альбом для набросков, летучих пейзажных зарисовок. И именно таким видится мир поэзии Владимира Коробова – это стихи, где все еще различим звон струн Серебряного века.
Тем не менее, Коробов – не архаист, он поэт сегодняшнего дня, постоянный автор «толстых» журналов. И, если уже существует в истории литературы понятие «царскосельские поэты», «ахматовские сироты» (по выражению Д. Бобышева), то В. Коробова, пожалуй, стоит отнести к «переделкинской плеяде» – к «пастернаковским пасынкам». И здесь метафоричность, элегичность, точность интонации – неотъемлемая черта лучших стихов поэта:
И море остыло. И лодки забыты.
И пляжи до лета фанерой забиты.
Так, значит, как раньше, так, значит, как прежде
вдвоём не бродить на пустом побережье,
так, значит, уже не сбежать нам с тобою
к весёлому морю весёлой тропою,
не плыть, не лежать на заброшенном пляже,
касаясь волны, словно пенистой пряжи…
Что было – прошло. И всё реже и реже
мне верить погоде и верить надежде.
То хрупкое лето волною разбито.
И море остыло. И гавань размыта.
…………………………………….
В стихотворении «Заденет бабочка крылом…» – лирико-драматический отблеск, заставляющий вспомнить о поэзии Ходасевича. Здесь та же духовность и благородная сдержанность. Этот сплав, который высоко ценили великие писатели прошлого, в кругу литераторов начала ХХ1 века, с их поспешным, часто сумбурным вдохновением, смотрится, по меньшей мере, необычным. Ведь литературная разнузданность в наше время выглядит едва ли не главным симптомом таланта, осев в обывательском сознании в виде пышного, но, увы, искусственного цветка.
Похоже, что Коробов, оставаясь поэтом для немногих, ищет и находит читателя, в чем-то главном равного себе. Сознательно сторонясь спекулятивных моментов в искусстве, он не хочет ни удивлять, ни мистифицировать читателя. В такой позиции можно ошибочно усмотреть высокомерие, которое есть ничто иное как независимость. Эта независимость в литературе предполагает некоторый пассеизм – поиск точки опоры в прошлом, без которого равно непонятны настоящее и будущее:
«Тем ягодам не зреть на сломленных ветвях…» –
запомнил я сквозь сон навязчивую строчку
и тут же позабыл, оставив второпях
пометку на листке – пустую оболочку.
И вот, пока я жил, блуждал в чужих краях,
надежды растеряв и старясь в одиночку,
строка вдруг проросла –
«…на сломленных ветвях
тем ягодам не зреть», – в судьбе поставив точку.
Чем глубже в прошлое проникает осмысляющий взгляд художника, тем жизнеспособнее и долговечнее его творчество.
Юрий Кублановский, автор предисловия к сборнику «Сад метаморфоз» цитирует Василия Розанова: «Кто воспел русскую осень – уж будь уверены, есть в то же время и глубоко чувствующий русский гражданин, способный к подвигу, к долгу, к терпению и страданию за родину». Эти слова замечательно точно обозначают четкую непосредственную связь между духом творчества и его темой в стихах Владимира Коробова – будь то осенние крымские холмы либо – московские подворотни в мусорных окурках. Ибо в саду метаморфоз всё возможно, всё взаимосвязано, всё проистекает по замыслу Творца – и окровавленные крылья птицы, случайно угодившей под колёса автомобиля, и паренье белой бабочки над благоухающим весенним оврагом.
Впервые опубликовано в газете «Русская мысль» (Париж) № 47, 12-18 декабря 2008 г.
|
Метки: критика |
БРОНЗА ЛИСТОПАДА. Лев АННИНСКИЙ |

То ли боги от нас отступились,
то ли нам наплевать на богов.
Владимир Коробов
Уже настолько привыкли мы, что стихотворение – это непременно «эксцесс», «удар по нервам» (можно продолжить ряд: «эффектный жест», «шедевр», «кунстштюк», «самоутверждение мастера», а в другом ряду: «плевок в небеса», «экстатическое покаяние» и т.д.), – настолько, повторяю, привыкли мы к такого рода эффектности, что отсутствие ее у поэта делает его в наших глазах неуловимым ловцом ускользающих бликов, исповедником тихих радостей, наблюдателем мерцающих в невесомости метаморфоз духа.
Мало того, что Владимир Коробов пару раз помянул такие метаморфозы, так еще и книгу свою новую назвал: «Сад метаморфоз». Тут уж ясно, к каким шепотам, к чьему робкому дыханью надо его пристроить, каких соловьев помянуть среди предтеч. Юрий Кублановский поминает Тютчева, слышавшего подземный гул там, где другие весело внимали грозе в начале мая; поминает Анненского, которому в самосветящейся тьме не нужно было иного света…
И никакого желания кроиться миру в черепе? Никакого. Даже Брюсов гравюрно четкий помянут у Коробова исчужа, даже Блок далековат от него в поле катастрофических предзнаменований. И уж, конечно, это вам не Бродский! То есть – никаких претензий на место в иерархии гениев. Тихий свет, и только…
А Хлебников?! Помянут же! И в отзвуках иногда слышен: «Звезды сбились в стаи, как мальки, в пригоршне недремлющего бога». Ну и что? Чехов тоже помянут. Естественно: человек, получивший диплом Литературного института, имеет Хлебникова в ближайшем ассоциативном фонде. Человек, проработавший пять лет в ялтинском Музее Чехова, чувствует обаяние «краткости» метаморфоз. Чехов-то тут, в общем, родной, чего не скажешь о Хлебникове.
Батюшков? Помянут – по смежности. В Крыму лечился.
Фофанов? Помянут из жалости, как отодвинутый во второй ряд русской лирики.
Из современников – Жигулин, у которого Коробов учился в Литинституте. Соколов…
Вот Владимир Соколов – самый точный ориентир. Простота ясности. Классическая прозрачность стиха. И сквозь эту подкупающую прелесть – смертоносные вехи истории. У Соколова вехи кровью мечены: 1941 год врезан в память, Павел Коган отзывается.
А у самого Коробова какие вехи? Родился в 1953 рубежном году. Сталина не застал. Не застал уже той крутой эпохи. Из Тобольска в двухлетнем возрасте вывезен в Крым. Но и сибирской «крутости» в себе не осознал. Произрос в метаморфозах всесоюзного курорта. А что в столицу подался на изломе от 80-х к 90-м – так кто тогда не подался? Кто не поддался метаморфозам большой политики, кого тогда не закружили ее метаморфАзы?
Но Коробов-то тут при чем? Никакой у него в стихах явной политики. Никаких поколенческих манифестов.
Однако вопрос неизбежен: какую мироориентацию принимает человек, появившийся на свет на переломе эпох, на грани поколений, на повороте: от послевоенных скептиков – к тем «детям Застоя», для которых и либеральная Оттепель 60-х уже стала детской сказочкой.
Так ведь и до Оттепели этим слушателям сказочек надо было еще дожить. Надо было расстаться с тем сказочным вождем, который к моменту их появления на свет был богом. А потом канул во тьму.
Осознание этого падения – через десять лет. Когда бронзового кумира ночью тайком сволакивали с пьедестала, распиливали на куски, закапывали по частям, и надо было как-то отнестись к низвергнутому главнокомандующему (это пришлось сделать старшим: либо проклясть за аресты и расстрелы, либо сохранить верность победителю, либо, на крайний случай, подергать за усы…).
А Коробов? Да ничего такого «эксцессивного» – ни за, ни против. Смыслы обрушены. Бронза опала. Видны веревки и «край литого сапога». Десятилетний мальчишка плачет надрывно не потому, что может осознать что-то в этом переворачивающемся мире, а от ужаса, что мир вообще вот так запросто переворачивается.
Очередной переворот – перестройка.
И тут кое-что сказано впрямую. И резко. Тут редкий у Коробова врез в политику на фоне садовых метаморфоз настолько эксцессивен, – что стих сам за себя скажет больше, чем любой к нему комментарий.
Итак, исповедь поколения:
Мы жаждали правды, искали успеха –
нам в лица бросали булыжники смеха!
Пока на парадах палили из пушек,
мы души сгноили в подвалах пивнушек.
Какие мы, к черту, поэты, пророки –
мы кожей впитали эпохи пороки,
и, не протрезвев от повальной попойки,
вскочили случайно в трамвай перестройки.
Все-таки откомментирую.
Так чего вы жаждали? Правды или успеха? Правда – она, как я вообще понимаю, от успеха не зависит. И не потому ли над вами слегка посмеивались (а вам эти легкие смешки казались булыжниками), что вы еще не успели решить, что вам важно? Успех или правда?
Ладно. Те, кто сделали выбор, были не лучше. Отказались «палить из пушек» (то есть работать в составе Системы, Державы, Структуры) и развернулись к Системе задом. Не обязательно чтобы пойти в диссиденты (как самые крутые из идеалистов-«шестидесятников»), но – как тогда говорилось: чем в Систему, так лучше в сторожа и дворники.
«Подвалы пивнушек» – где-то рядом. Но уже с некоторым сдвигом в сторону сомнения: все ж сам стих Коробова, лишенный всякой патетики и тронутый налетом горечи, – свидетельствует о том, что из пивнушек надо было выйти на свет божий. Не в пророки, черт бы их побрал вместе с поэтами, – а в трезвеющие после коммунистического опьянения ряды борцов за демократию.
Опохмелялись ряды, как мне уже приходилось писать, пепси-колой. Учились отличать по оттенкам родное дерьмо от заграничных пищевых добавок. Оттенки различать того и другого.
Коробовский стих обходится без этих добавок и без ассенизационного гурманства. Он чист. Он – между эскапистами послевоенных залежных неудобий и эксцессистами оттепельной клумбы.
«Вскочили случайно в трамвай перестройки…»
А где оказались?
Ну, сказано же: в саду метаморфоз.
Про перестройку и ее социопсихологические метаморфозы в стихах более никаких сигналов. Смысл того, что зафиксировано в стихах, шире. Контуры размытее. И Творец – загадочен в своем бытии-небытии.
Лишь только лист земли коснется,
свой волен замысел стереть
Творец...
И значит – остается
в небытие перелететь.
Листопад. Сад. Жасмин. Сирень.
Казалось бы, эти мотивы навеяны Крымом, где Владимир Коробов, привезенный младенцем из Сибири, прожил тридцать лет и три года.
Но что от Крыма осталось в поэтической памяти? Богоданная Таврида? Сад грез? Да ничего похожего! Заледенелый зимний берег. Стеклярус волн. Из новейших примет – щегольской «Мерседес» у щегольского коттеджа. Гривны: с одной «свисает ус Богдана», с другой «таращится Тарас». Вынужден извиниться за коробовские формулировки: видать, очень ему обидно, что «умыкнули хохлы» эту землю. Но и то, что виднеется сквозь узор этих смушек, – все равно чужое. Потерянное. Нереальное.
Так вот она – мечта, так вот она – Таврида:
какой-то шум в ушах, бессонница и бред,
губернский городок, трактир, кариатида,
сквозь пыльное стекло – татарский минарет.
Губернский городок – тоже знаковая метаморфоза: образ этого утло-жалкого русского места жительства – важнейший мотив у Коробова, и выведен сильно и горько. Городок-голубятня. «Облезлый плакат и продмаг с каланчою пожарной». Провинциальное убожество. Базарная баба, торгующая грибами и рябиной, сплевывает лузгу и доверчиво поглядывает на заезжего столичного профана, который думает о чем-то своем.
О чем думает этот столичный профан?
Друзья судачат о Париже,
о визе грезят, о турне,
хоть выросли в навозной жиже
в глухой российской стороне.
Из них зовет домой не многих
распутица родных дорог...
Прости нас, сирых и убогих,
провинциальный русский Бог!
Бог нас забыл или мы его забыли?
Горше всего Коробову тогда, когда метаморфоза запустения вырастает до образа страны. Страна – нищенка. Страна – пепелище. Страна, бредущая в бреду. Теряющаяся в потемках. Пропадающая в пурге.
«В московской пурге», – уточняет лирический герой, со времен перестройки переселившийся в столицу. Так что нечего вешать собак на перестройку. Не в ней беда, а в вековечном российском ощущении невоплотимости рая, который маячит в тумане и манит в обман.
Зачем? Об этом знает Бог,
что жнет и сеет нас, как травы,
и властно манит за порог,
где нет ни родины, ни славы...
За какой уж там «порог»? За крымский, что ли? Пути теряются в тумане! Сад метаморфоз качается в глазах. Огни и воды едва не поглотили душу – и зачем? Медные трубы не маячат в будущем. Поколение, подцепившееся за поручень перестройки и угодившее из Застоя в Распад, ищет, на что бы опереться душой.
А если не на что? Если пустота?
Поэзия может опереться и на пустоту.
Да как же это? Ведь стихов люди больше не воспринимают! «При полном зале – ни души живой!» Где читатели? Как жить, когда в газетах — сплошная ложь?
Но бог-то – есть. Он и сеет, и жнет. А мы – трава.
Талант – от бога? Куда с талантом-то? Что делать человеку, которому выпал от бога – талант? Какой сад выращивать?
Больничный сад зарос травою.
Сжигают мусор у оград.
И над опавшею листвою
кружит последний листопад.
Больной ребенок сквозь толстые стекла очков наблюдает этот бронзовый листопад.
Потом, когда больное зренье
устанет всматриваться в тьму, –
души ранимые прозренья
помогут мир открыть ему.
Поколению Владимира Коробова – уже шестой десяток. Увидят середину нового века?
А что увидят их дети, пытающиеся сейчас восстановить историческое зрение? Они увидят то, на что мы их зрение настроим. Может, бронзу. А может, прах.
Вот такие метаморфозы.
Впервые опубликовано в журнале «Дружба народов» № 1, 2009 г.
|
Метки: критика |