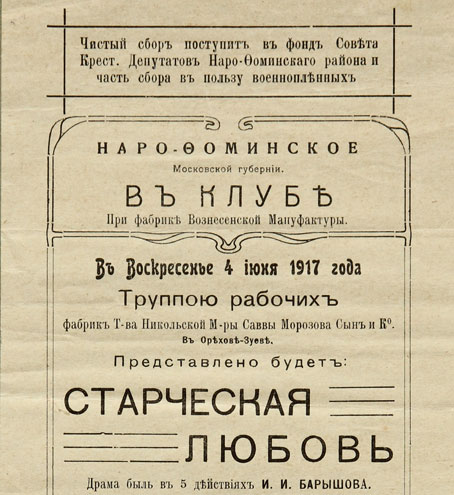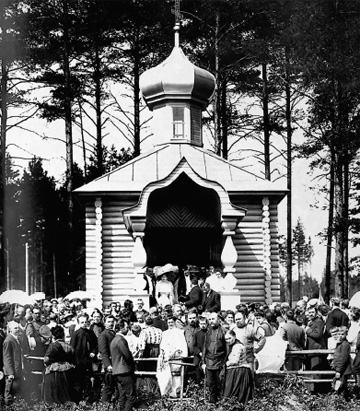К истории личного архива адмирала Н.О. фон Эссена |
К.Л. Козюренок. Архив адмирала Н.О. Фон Эссена
|
К истории личного архива адмирала Н.О. фон Эссена В специальной литературе неоднократно подчеркивалось значение в исторических исследованиях личных архивных фондов. Но их история изучается гораздо менее интенсивно по сравнению с фондами учреждений. Особенно это относится к собраниям документов государственных и военных деятелей. В настоящей работе мы попытаемся осветить судьбу архива адмирала Н.О. фон Эссена, ныне составляющего личный фонд 757 в Российском государственном архиве военно-морского флота. Командующий флотом Балтийского моря адмирал Николай Оттович фон Эссен скончался в Ревеле 7 мая 1915 года. В череде скорбных хлопот, связанных с проводами в последний путь этого выдающегося российского флотоводца, совершенно затерялись скромные усилия "Комиссии по пересмотру бумаг, оставшихся по смерти адмирала фон Эссена". Печальная обязанность разобрать документы, находившиеся на флагманском броненосном крейсере "Рюрик" в каюте покойного командующего, была возложена на чинов его штаба - генерал-майора В.А. Винтера, капитана 2 ранга князя М.Б. Черкасского, подполковника А.А. Мартьянова и капитана 2 ранга барона Р.Р. Мирбаха. "Бумаги" адмирала оказались исключительно делового содержания - различные официальные инструкции, наставления, правила, печатные приказы, оперативные планы. Комиссия справилась со своей задачей за один день 8 мая, составив две описи этих документов, переданных затем на хранение в Оперативную и Распорядительную части штаба флота. В дальнейшем они разделили судьбу всего огромного массива документов штаба командующего флотом Балтийского моря периода Первой мировой войны. Часть их в плановом порядке, через образованный в 1916 г. временный архив при флагманском историографе штаба флота, передали в Особый временный отдел Архива Морского министерства. Последний был создан тогда же по инициативе Исторической части Морского генерального штаба специально для сбора непосредственно в ходе боевых действий документов Великой войны. В сентябре 1918 г. при Морской академии учреждена Военно- морская историческая комиссия для составления истории войны на море 1914-1918 гг. (Мориском), и документы Особого временного отдела были переданы ей. Большая же часть документов штаба флота была вывезена из Гельсингфорса в Кронштадт во время знаменитого Ледового похода весной 1918 г. и сдана в архив Кронштадтского порта. В октябре 1920 г. заведующий Центральной регистратурой (архивом текущего делопроизводства) штаба Морских сил Балтийского моря К. Садовский среди прочего обнаружил там "... штаба комфлотом адм. Эссена... приблизительно 2000 дел в пачках перевязанных". Вскоре их перевезли в Петроград, в архив Морискома, а после его ликвидации в 1926 г. все материалы штаба Балтийского флота были переданы в секцию армии и флота Ленинградского исторического архива. Там документы, хранившиеся в каюте Н.О. фон Эссена на флагманском корабле, были выделены и включены в собрание личных документов адмирала. Отечественные военно-морские историки - современники фон Эссена прекрасно понимали значение его личного архива как "... важнейшего документального материала для биографии всем флотом любимого и глубокоуважаемого покойного командующего флотом, сыгравшего великую роль в создании флота на Балтийском море". Исполнявший обязанности начальника Исторической части МГШ и одновременно начальник Архива Морского министерства старший лейтенант А.И. Лебедев, к которому в конце мая 1915 г. поступили из штаба Балтийского флота описи документов, обнаруженных в каюте Н.О. фон Эссена, обратил внимание на то, что среди них нет эпистолярного наследия адмирала и вообще личных документов. Он узнал от капитана 2 ранга В.М. Альтфатера, что фон Эссен "вел постоянно, всю свою жизнь дневник". Излишне говорить, какую ценность представлял бы он для истории российского флота начала XX века. Вероятно именно по инициативе Лебедева морской министр И.К. Григорович тогда же обратился с письмом к вдове адмирала Марии Михайловне: "Узнав, что покойный супруг Ваш вел постоянно дневники, и глубоко чтя память Николая Оттовича, в целях всестороннего освещения его личности и значения его для флота, обращаюсь к Вам с покорнейшей просьбой не отказать в любезности предоставить на хранение в Морской генеральный штаб указанные дневники, а также официальные письма и документы, если таковые имеются". Министр обещал оставить семье копии дневников, а для разбора домашнего архива командировать начальника Исторической части. Надо полагать, что ответа на это обращение не последовало, поскольку 6 июня 1915 г. уже сам А.И. Лебедев написал письмо зятю фон Эссена лейтенанту Б.П. Страхову, женатому на старшей дочери покойного адмирала Марии Николаевне. Он просил сообщить, действительно ли адмирал вел дневники "и в утвердительном случае посодействовать предоставлению снять с них копии...". Служивший на "Рюрике" Страхов передал письмо сыну Николая Оттовича лейтенанту А.Н. фон Эссену, штурману базировавшейся в Ревеле британской подлодки Е-9. Антоний Николаевич ответил А.И. Лебедеву 8 июля: "Имею честь уведомить Вас, что часть дневников отца, а именно относящиеся к началу нынешней войны до момента смерти отца, находятся у меня, остальная же часть у моей матери. Вполне разделяя Ваше мнение о важности находящихся у меня документов, я, тем не менее, в настоящее время лишен возможности дать снять копии с них. По окончании войны я, а в случае моей смерти мои родные, передадим дневники адмирала в историческую часть для снятия копий". В сентябре 1917 г. командир подводной лодки "АГ-14" старший лейтенант А.Н. фон Эссен не вернулся вместе с ней из боевого похода. Забегая вперед скажем, что среди документов фонда 757 дневников Николая Оттовича нет. Совсем недавно один из его потомков Б. Додд- Эссен сообщил о том, что эти дневники, а также фотографии и письма хранились у родственниц адмирала и были изъяты при их аресте органами НКВД в 1936 г. в Москве. Таким образом известный из переписки 1915 г. факт существования дневников как будто бы получил подтверждение. На запрос дирекции РГАВМФ в 1998 г. из Центрального архива ФСБ пришел отрицательный ответ, но заметим, что поиск этих материалов весьма затруднен тем обстоятельством, что родственницы Эссена носили другие фамилии, которые до сих пор не установлены. При этом, на наш взгляд, существует опасность некоторой путаницы. В личном фонде адмирала хранятся его флагманские исторические журналы за 1906-1915 гг. по должностям начальника 1-го отряда минных судов, Соединенных отрядов, Действующего флота, командующего Морскими силами Балтийского моря Когда эти документы поступили на хранение в Мориском с журналов за 1907-1908 и 1914 гг. сняли машинописные копии, причем одна из них была озаглавлена как "Дневник". Не эти ли журналы, которые аккуратно вели в штабе фон Эссена, имелись ввиду в переписке 1915 года? Альтфатер явно знал о "дневниках" только понаслышке, родственники же покойного адмирала не отдали исторические журналы потому что он ими очень дорожил и даже хранил дома. Правда, в таком случае остается открытым вопрос с дневниками за период русско-японской войны, о которых сообщил потомок адмирала. Выше уже упоминалось, что с осени 1918 г. документы по истории Первой мировой войны на море концентрировал у себя Мориском. В феврале 1919 г. при нем для этого был создан специальный архивный отдел флота и морского ведомства. Туда и обратилась в декабре 1918 года Мария Николаевна Страхова, обеспокоенная судьбой части личного архива своего отца, который три с половиной года назад остался в распоряжении семьи покойного адмирала. К тому времени она уже была вдовой - в июне 1917 г. Б.П. Страхов пропал без вести на подлодке "Львица", с апреля 1918 г. работала переводчицей в МГШ. Оказалось, что в январе 1917 г. Мария Михайловна фон Эссен сдала имущество из своей петроградской квартиры на хранение в отдел ценных вещевых вкладов Ссудной казны, то есть городского ломбарда. Причины такого шага неизвестны, мы знаем лишь, что вдова адмирала уехала на Кавказ и возвратилась только в середине 1920-х гг. В "Описи имущества Марии Михайловны Эссен, находящегося в складах городского ломбарда на Тучковом буяне", среди мебели и домашних вещей, значились также 9 ящиков, 4 сундука, 2 тюка и 2 корзины. М.Н. Страхова писала: "Ценностей в смысле денег там особых нет, есть несколько монет, как помню старинных и вероятно несколько золотых, но мало, а затем: серебро фамильное, чарки отца, жетоны, надписи и немного женских драгоценных вещей. Чарки все дареные отцу боевыми товарищами... Дороже всего мне тетради и письма отца. Их надо все взять. ... Почти все, что там находится, связано так или иначе с отцом: его погоны, его оружие, его книги, его фотографии и проч.". С просьбой принять на хранение документы отца дочь фон Эссена обратилась в Мориском через своих знакомых - бывших морских офицеров, перешедших на службу советской власти. Непосредственно переписку по этому вопросу М.Н. Страхова вела с Н.В. Новиковым, известным военно-морским историком, в то время заведовавшим в комиссии сбором документов. Он прекрасно понимал важность сохранения личного архива покойного адмирала. В двадцатых числах января 1919 г. соответствующие отношения за подписью председателя Морискома профессора Н.Л. Кладо были разосланы во все инстанции, от которых зависело решение вопроса: Главное управление архивным делом, Центральную исполнительную коллегию по жилищным делам, Центральный контрольно-учетный отдел Совета народного хозяйства Петрограда. Кладо писал, что "Комиссия по исследованию и использованию опыта войны 1914-1918 гг. на море признала существенно важным для своих работ иметь в распоряжении и пользовании для исторических военно-морских научных целей архив умершего бывшего командующего во время войны Балтийским флотом Эссена.." и "ввиду срочности и научной необходимости иметь эти документы" просит разрешить их изъятие со склада ломбарда сотрудниками комиссии в присутствии М.Н. Страховой. Такое разрешение было получено, и 29 января 1919 г. Н.В. Новикову и А.И. Лебедеву, в то время управляющему 2 отделением III секции ЕГАФ, выдано удостоверение для "выемки" документов фон Эссена и перевозки их в архив Морискома, который размещался в здании бывшего Морского корпуса на 11-й линии Васильевского острова. Однако сделать это зимой 1919 г. не удалось, очевидно потому что Страхова, служившая в МГШ в Москве, не смогла приехать в Петроград. Тем не менее она не переставала интересоваться судьбой документов отца и в начале июля 1919 г., через служившего в МГШ бывшего офицера штаба Балтийского флота Гончарова, телеграммой сообщила Новикову, что срок хранения вещей в ломбарде истекает 15 числа. Для проезда из Москвы в Петроград требовалась специальная командировка, и Мария Николаевна хлопотала о получении таковой, однако это было весьма проблематично после увольнения ее из МГШ в марте 1919 г. по причине социального происхождения. Страхова с надеждой писала Н.В.Новикову: "Я полагаю, что моя "контрреволюционность" не должна служить препятствием иметь дело с Исторической комиссией?" Марии Николаевне хотелось самой разобрать архив отца и лично передать его в Мориском. Но на всякий случай она выслала доверенность для получения вещей из ломбарда своей двоюродной сестре, проживавшей в Петрограде. Страхова также высказала пожелание, чтобы "при вскрытии ящиков ради сохранения в целости всего важного для памяти отца" присутствовали сам Н.В.Новиков и лично известный ей служивший в Красном флоте бывший офицер штаба адмирала А.Н. Сполатбог, а также родственник фон Эссенов П.С. Чистяков. Очевидно в свой предыдущий приезд в Петроград, в декабре 1918 года, Мария Николаевна даже заняла под размещение архива и вещей отца комнату в квартире по соседству с двоюродной сестрой и просила выдать на нее охранное свидетельство. Можно утверждать, что сохранностью основной части личных документов адмирала Н.О. фон Эссена мы обязаны именно активности и настойчивости его старшей дочери. Со своей стороны Новиков делал все возможное в тогдашней ситуации. 16 июля 1919 г. главному комиссару Народного банка, в ведении которого находился отдел ценных вещевых вкладов, за подписью Н.Л. Кладо был направлен запрос, умело составленный уже поднаторевшими в общении с советскими органами сотрудниками Морискома. Из него следовало, что комиссия долгое время искала личные документы адмирала и обнаружила их местонахождение только что. "Не подлежит сомнению, сколь существенно необходимы для исторической работы комиссии документы, принадлежавшие перу одного из наиболее выдающихся наших флотоводцев, бывшего командующего флотом Балтийского моря в самом начале этой войны... Поэтому, ввиду необходимости для комиссии получить все бумаги покойного адмирала, а также основываясь на правительственном распоряжении... от 16 марта 1919 г., по которому даже национализированные и конфискованные материалы, относящиеся к области войны на море, должны быть переданы в распоряжение комиссии...", предлагалось выдать находящиеся в ломбарде вещи М.Н.Страховой "для выемки всего необходимого для комиссии". Состоялась ли передача вещей мы не знаем. Но документы фон Эссена в Мориском опять не попали. Советские власти отнесли их к разряду "документов, принадлежавших частным лицам, изъятым из сейфов бывших частных банков" и не подлежащих возврату. Правда в "Журнале для записи поступлений в архив Военно-морской исторической комиссии" значится, что 12 августа 1920 г. от М.Н.Страховой были приняты какие-то "документы адмирала Эссена", очевидно хранившиеся у родственников. Об этом косвенно свидетельствует наличие в личном фонде фон Эссена документов Б.П. Страхова, тогда же переданных его вдовой вместе с материалами ее отца. Вновь попытаться вернуть архив покойного адмирала Мария Николаевна смогла только два года спустя, когда изъятые из национализированных после революции хранилищ документы "историко-литературного характера" и личные стали возвращать владельцам по их заявлениям. Выяснилось, что бумаги фон Эссена были отправлены в Москву, в Отдел международных расчетов Валютного управления. Страхова вновь обратилась к Н.В. Новикову, и 9 августа 1922 г. в вышеуказанное учреждение была направлена бумага за подписью председателя Морискома, начальника Военно-морской академии М.А. Петрова с запросом о передаче архиву комиссии документов адмирала "... в составе его дневников, служебных документов, записок и прочих частных и личных материалов... ввиду большого значения этих материалов для научно-исторических работ". На этот раз ждать пришлось не более месяца и во второй половине сентября в Москву за "личным архивом бывшего комфлота Балтийского моря Н.О. Эссена" был командирован сотрудник Морискома, опытный архивист Н.Н. Алихов. 27 сентября 1922 г. комиссия наконец приняла на хранение "14 тетрадей, 210 снимков, 28 печатных произведений, 19 служебных и частных телеграмм, 22 бумаги, 200 частных писем". Вместе с поступившими ранее из штаба Балтфлота и от М.Н.Страховой материалами все это собрание, объединенное как "документы адмирала Эссена", 20 сентября 1929 г. было передано в военно-морскую секцию Ленинградского отделения Центрального исторического архива. Позднее она была переименована в Центральный государственный архив военно-морского флота, а собрание документов адмирала стало личным фондом 757. С тех пор его документы неоднократно использовались исследователями, некоторые из них опубликованы. |
|
Метки: эссен |
Дамское морское общество Марии Эссен активно занималось благотворительностью. |
This page was loaded апр 27 2019, 5:21 pm GMT.
| Мой комментарий: Многие интересующиеся военно-морской тематикой знают о выдающемся адмирале, кумире адмирала Колчака, Николае Оттовиче Эссене. Как правило, с такими достойными людьми всегда рядом идут их достойные спутницы жизни. Таковой была и жена адмирала Н.О. Эссена -Мария Михайловна Эссен. "В ЭТУ ВОЙНУ НАШЕ ОБЩЕСТВО ПОМОГЛО ВСЕМ СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ" Дамское морское общество Марии Эссен активно занималось благотворительностью. ВСТУПЛЕНИЕ России в войну с кайзеровской Германией в 1914 году было воспринято миллионами подданных Николая II с большим патриотическим подъемом. Не остались в стороне и женщины. Известно, что тысячи сестер милосердия, включая особ императорской фамилии, трудились в госпиталях как на фронте, так и в тылу. Десятки молодых женщин даже участвовали в боях. Впрочем, попытки формирования женских ударных батальонов в конечном счете успеха не имели. Жены офицеров российского императорского флота, проживавшие в Кронштадте и Петербурге, также не пожелали ос- таться безучастными к судьбе родины в тяжелую для нее годину Великой — как ее вскоре стали называть — войны. Они решили оказывать помощь семьям моряков «как призванных из запаса, так и состоящих уже на действительной службе». С этой целью была создана благотворительная организация под на- званием «Дамское морское общество», устав которого начальник Главного управления по делам местного хозяйства утвердил уже 7 августа 1914 года. Со- став действительных членов общества определялся «кругом морских дам», т.е. его членами могли быть жены морских офицеров, их матери и дочери. Учредительницей общества стала супруга командующего Морскими силами Балтийского моря адмирала Н.О. Эссена (1) Мария Михайловна Эссен. Она же предоставила свою квартиру для работы новой благотворительной организации. 4 сентября 1914 года на первом общем собрании членов общества был избран его совет, в который вошли М.М. Эссен (председатель), Н.А. Канина (казначей), Т.А. Бестужева-Рюмина, Р.Л. Глазенап, А.И. Григорова, М.К. Пил- кина и др. Секретарем совета стал мужчина — А.А. Литвинов.
|
|
| https://ganfayter.livejournal.com/160989.html | |
|
Метки: эссен благотворительность |
Генерал Лавр Корнилов |
Генерал Лавр Корнилов
Почему он не стал «спасителем Отечества» в 1917 году?
Казак, разведчик и боевой генерал
Лавр Георгиевич Корнилов родился в 1870 году в семье казака Семиреченского войска. Как и его ровесник Ленин, Корнилов имел ясно выраженные калмыцкие корни. В 1917 году эти люди стали непримиримыми политическими противниками.
Корнилов получил военное образование, блестяще закончил Академию Генерального штаба, знал несколько восточных языков, возглавлял научно-разведывательные экспедиции по Китаю и Индии, выдвинулся во время Русско-японской войны. Работал русским военным резидентом в Пекине. В Первую мировую войну вступил генерал-майором на посту начальника 48-й пехотной дивизии. Во время Великого отступления 1915 года попал в плен. Всероссийскую известность получил благодаря своему побегу из плена летом 1916 года.
Революционная карьера белогвардейского генерала
Вопреки усиленно распространявшейся про него большевиками легенде, Корнилов не был монархистом. В первые дни после Февральской революции он руководил арестом Царской семьи в Царском Селе. Сторонники Корнилова из числа правых говорили, что он тем самым уберёг Царскую семью от возможных эксцессов при аресте.
Временное правительство назначило его командующим Петроградским военным округом. Здесь он безуспешно протестовал против узаконения солдатских беспорядков, и правительство отправило его на фронт командовать 8-й армией. После провала наступления, предпринятого в июне 1917 года, Корнилов прославился тем, что восстановил в своей армии военно-полевые суды и расстрелы за дезертирство. Это сделало его имя ненавистным в левой среде, но популярным среди правых. Керенский, став премьер-министром и стремясь остановить развал армии и государства, назначил Корнилова 19 июля 1917 года Верховным Главнокомандующим.
Горячий патриот, наивный в политике
Правые круги усиленно выдвигали Корнилова на роль «спасителя Отечества». Корнилов выступал с программой введения военной диктатуры, предусматривавшей разгон Советов и доведение войны с Германией до победного конца.
Соратник Корнилова генерал Антон Деникин впоследствии упрекал русскую буржуазию в том, что она, подбив Корнилова на выступление против Временного правительства, по сути предала его, ничем не поддержав. Один из его доброжелателей говорил, что «Корнилов имел львиное сердце, но овечьи мозги». В доверие к Корнилову втёрлись тёмные личности, которые разжигали его вражду к Керенскому. В конце концов, 27 августа Керенский издал приказ об увольнении Корнилова от должности.
Неудавшийся мятеж
Корнилов не подчинился приказу, а выпустил воззвание к русским людям, призывая их помогать ему свергнуть Временное правительство, действующее якобы в сговоре с большевиками. Корнилов надеялся на движение к Петрограду казачьего конного корпуса. Но казаки ничего толком не знали и были распропагандированы по дороге советскими агитаторами.
Ни одна воинская часть, ни одна политическая партия не поддержала Корнилова. 30 августа он и группа его генералов-единомышленников была арестована в Ставке в Могилёве. Большевики лучше всех воспользовались разгромом мнимого мятежа и получили преобладание в Советах Петрограда и Москвы, что позволило им вскоре захватить власть.
Корнилова между тем продолжали чествовать правые круги. Вскоре после Октябрьского переворота арестованным «мятежникам» удалось бежать на Дон, где они положили начало белогвардейской Добровольческой армии, навсегда связанной с именем Корнилова. В бою с большевиками 31 марта 1918 года на окраине Екатеринодара «русская граната, направленная рукою русского человека, сразила великого русского патриота», как сказал об его гибели генерал Деникин.
Фотоматериал использован из свободного доступа Яндекс и является собственностью авторов.https://zen.yandex.ru/media/history_russian/genera...nilov-5c728cad57accc00b6dcaa5c
|
Метки: российская императорская армия корниловы |
Свита... |
[]
Свита...Часть III
- Dec. 26th, 2011 at 3:22 PM
Оригинал взят у 
Идем дальше.
Мария Петровна Трубецкая, княжна (1870- 1954).
Назначена фрейлиной в 1891 году. У нее весьма интересная родословная. Самая младшая из семи детей князя Петра Никитича Трубецкого (1826-1880)(племянника известного декабриста Сергея Трубецкого) и светской львицы Елизаветы Эсперовны Белосельской-Белозерской (1834-1917). Существует знаменитый портрет Елизаветы Эсперовны кисти блистательного льстеца Винтергальтера. В свете княгиню Трубецкую звали 'Лизон' – она собирала в своем салоне дипломатов и политиков, вела переписку с Тьером, Пальмерстоном и Горчаковым и всячески изображала из себя гранд-даму, играющую важную политическую роль.
Старшая дочь Трубецких – Елена – вышла замуж за Павла Демидова – а их дочь Аврора стала матерью принца Павла Югославского. Вот такая интересная родословная коллизия – получается Мария Петровна была в родстве с Сербско-Югославской королевской семьей.
Фрейлиной Мария Петровна пробыла недолго, потому что в 1894 году – в Ильинском – стала женой графа Алексея Алексеевича Белевского-Жуковского, внебрачного сына великого князя Алексея Александровича от Александры Жуковской. Вот и еще один брачный союз 'внутри двора'. Граф Алексей состоял при своем дяде великом князе Сергее и позже стал его адъютантом. Я расскажу о нем и его семье позже – когда речь пойдет об адъютантах великого князя. Маруся и Алексей были очень любимы великокняжеской парой и те всегда привозили им подарки из заграничных путешествий. Сергей Александрович стал крестным отцом единственного сына Белевских – тоже Сергея…А Елизавета Федоровна в своем черновом завещании 1905 года 'отпишет' Марусе свои наручные часы.
Фото Марии Петровны и Алексея Алексеевича

В сумасшедшие революционные годы Мария Петровна с детьми покинет Россию и проживет оставшуюся жизнь во Франции – опубликует небольшие воспоминания о Елизавете Федоровне, будет читать лекции о последней царской семье. В общем – эмигрантское житье и последнее место упокоения – кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.
Александра Николаевна Лобанова-Ростовская ,княжна (1868 -?). Фрейлина, оставившая по себе самые интересные воспоминания у современников. Мои уважаемые коллеги по ЖЖ уже не раз писали об этой веселой девушке
http://il-ducess.livejournal.com/129054.html
http://il-ducess.livejournal.com/174991.html?thread=3338383
http://ne-nai.livejournal.com/49328.html
Но кто она была и откуда?..О том, что в наши дни ее путают с двоюродной сестрой Людмилой – я уже рассказала. Между прочим – я с большим удивлением прочитала в Придворном Календаре -первоначально Александра была фрейлиной не Елизаветы Федоровны, а великой княгини Александры Георгиевны. То есть на свой пост она заступила в 1889 году – исполнять обязанности при юной жене великого князя Павла. В электронной описи ГАРФа - фонде греческой королевы Ольги – есть указание о наличии фотографии Групповая фотография с надписью "Александра", дочь Ольги Константиновны, "фафочка" и два мужчины с датой 1890 год. Можно легко догадаться, что Фафочка – это Фафка…
Кстати, я вдруг задумалась о происхождении прозвища Александры Николаевны. Моя версия – Фафка – это детское шепелявое произношение уменьшительного имени Сашка – может кто-то из братьев-сестер Александры (а может и она сама) не мог произнести имя правильно. В конце концов – так часто рождаются прозвища. Вон мать бывшего румынского короля Елена Греческая среди родни была известна как Sitta…потому что в детстве ее брат не мог хорошо произносить слово sister .
Теперь о родословной. Лобановы- Ростовские очень примечательный род в истории России – в 19 веке тесно связанный с дипломатическими кругами. Хорошо известен князь Алексей Борисович – дипломат, посол, министр иностранных дел. Многие женщины из этого ряда выходили замуж за дипломатов. Две тетки Александры Николаевны таким образом нашли мужей. Собственная сестра Фафки – Ольга – первым браком была за секретарем при российском посольстве в Португалии, а вторым за британским посланником при различных дворах сэром Эджертоном…
Обратимся к семье Александры. Ее родителями были князь Николай Алексеевич Лобанов-Ростовский (1826 -1887) и Анна Ивановна Шаблыкина (1837-после 1907) (в первом браке Шеншина). Родословный сборник Руммеля указывает, что у них было 8 детей – 4 сына и 4 дочери. Фафка – третья дочь. В дальнейшем их семью прославит самый старший брат Алексей (Шталмейстер Высочайшего Двора, действительный статский советник, член Государственного Совета)и старшая сестра Ольга – она же леди Эджертон – которая откроет в 1919 году модный дом Paul Caret в Лондоне, чтобы помочь нуждающимся русским эмигранткам…Кстати, самая младшая сестра – Люба – выйдет замуж за американца – профессора истории Калифорнийского университета James B. Landfield. Воистину – Лобановы – семья интернациональная.
В 1892 году Фафка становится фрейлиной Елизаветы Федоровны – видимо, после смерти Александры Георгиевны великокняжеская чета не распрощалась со всеми приближенными великого князя Павла и его покойной жены, а оставила при своем дворе. Тем более, судя по отзывам современников, Фафка была популярным персонажем в их окружении. Она часто сопровождала великокняжескую пару в заграничных путешествиях в 1890е годы…По каким причинам она покинула службу в 1902 году – неясно. Замуж она не выходила. Возможно – стала жить вместе с семьей старшей сестры Ольги – в Риме, а затем в Лондоне. Воспоминания Феликса Юсупова о болтливой Фафке на выставке ювелирного искусства в Лондоне относятся аж к 1935 году! Как видно, характером Фафка не изменилась даже в преклонные годы – в 1935 году ей было уже 67 лет…
Делаем справедливое заключение, что Александра Николаевна пережила революционные годы – может и за пределами России – и, скорее всего, продолжала жить у сестры Ольги Эджертон, которая еще в 1916 году потеряла и сына, и мужа. Косвенное тому доказательство – запись в дневнике императрицы Марии Федоровны от 5 июня 1919 года (она недавно приехала в Англию и жила в Лондоне, после всех жутких лет ‘заточения’ в Крыму):
'…Затем приняла Хюне с женой, а потом – леди Эджертон и ее сестру Тафку, которую я никогда бы не узнала с этой чудовищной шляпкой на голове. Вид у нее весьма привлекательный, только уж очень она большая'.
Понятно, что Тафка это Фафка – императрица спутала прозвище (немудрено, учитывая сколько лиц и фамилий ей встречались в течение жизни).
Интересно, что в своем черновом завещании Елизавета Федоровна не упомянула Фафку – там есть имена Маруси Белевской, Китти Струковой и Софьи Шаховской, а также графини Олсуфьевой. О Фафке ни слова. Но среди современников княжна оставила неплохую память.
Когда она умерла и как складывалась ее жизнь в 1902-1935 гг и после 1935 года – найти не удалось. Надеюсь, данные о ней есть где-то в генеалогиях, написанных эмигрантами и вышедших на Западе в 1950е и далее – годы. Мои ручки пока не дотянулись до этих томов.
Теперь - фотографии княжны с великой княгиней и среди Романовых и прочих лиц. Чтобы не повторять фото из постов моих друзей – выставлю пару других. Но не удержусь от соблазна еще раз напомнить вот это групповое фото из Франценсбада 1896 года:
 Фафка сидит внизу. А рядом с великим князем Сергеем наверняка ее сестра – Ольга. Фамильное сходство налицо.
Фафка сидит внизу. А рядом с великим князем Сергеем наверняка ее сестра – Ольга. Фамильное сходство налицо.
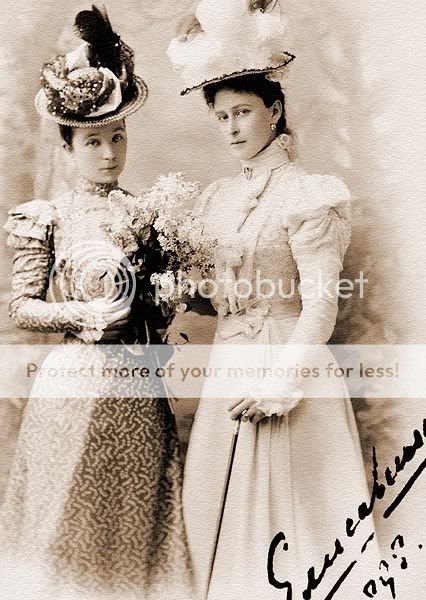
Фафка с великой княгиней.

А здесь групповое фото из Ильинского образца 1896 года – послекоронационный отдых царственных особ в великокняжеском имении. Фафка –самая крайняя слева.
Ну вот...на сегодня все)). To be continued...
Tags:
|
Метки: романовы фрейлины трубецкие лобановы-ростовские |
Мария Николаевна фон Эссен р. 12 ноябрь 1896 ум. 27 май 1971 |
Мария Николаевна фон Эссен р. 12 ноябрь 1896 ум. 27 май 1971
Запись:738155
Полное дерево
Поколенная роспись
| Род | Эссены |
| Пол | женщина |
| Полное имя от рождения |
Мария Николаевна фон Эссен |
| Родители
♂ Николай Оттович фон Эссен [Эссены] р. 11 декабрь 1860 ум. 7 май 1915 ♀ Мария Михайловна Васильева [Васильевы] р. 20 июнь 1862 ум. 3 декабрь 1929 |
|
События
12 ноябрь 1896 рождение:
брак: ♂ Борис Петрович Страхов [Страховы] р. 15 июль 1886 ум. 1917
27 май 1971 смерть:
Заметки
В мае 1904 г. она с отличием окончила Санкт-Петербургское Училище ордена Св. Екатерины, причем была «при выпуске Всемилостивейше награждена шифром», то есть пожалована во фрейлины. В 1917 – 1919 служила в Морском ГШ. Уволена 20. 03. 1919 за «контрреволюционность». Умерла в окрестностях г. Нью-Йорк.
Ближайшие предки и потомки
Деды
♂ Отто Васильевич (Отто Вильгельм) фон Эссен
рождение: 27 январь 1828
титул: барон
брак: ♀ Любовь Алексеевна Дружинина
смерть: 16 февраль 1876, Санкт-Петербург
брак: ♂ Отто Васильевич (Отто Вильгельм) фон Эссен
смерть: 23 октябрь 1906, Санкт-Петербург
Деды
Родители
рождение: 17 январь 1871, с
смерть: 17 май 1908
♂ Антон (Антоний) Оттович фон Эссен
рождение: 21 сентябрь 1863, Санкт-Петербург
брак: ♀ Наталья Александровна Штольценвальд
смерть: 1919, Киев
рождение: 11 декабрь 1860, Санкт-Петербург, Российская империя
брак: ♀ Мария Михайловна Васильева
титул: барон
смерть: 7 май 1915, Ревель
рождение: 20 июнь 1862
брак: ♂ Николай Оттович фон Эссен
смерть: 3 декабрь 1929
Родители
== 3 ==
♂ Антоний Николаевич фон Эссен
рождение: 29 июль 1888
смерть: сентябрь 1917
рождение: 29 март 1892
брак: ♂ Владимир Владимирович Дитерихс
смерть: 16 декабрь 1963
рождение: 4 январь 1897
смерть: 1941
рождение: 15 июль 1886
брак: ♀ Мария Николаевна фон Эссен
смерть: 1917
рождение: 12 ноябрь 1896
брак: ♂ Борис Петрович Страхов
смерть: 27 май 1971
== 3 ==
|
Метки: эссен васильевы страховы |
История любви. История лжи |
Елизавета Федоровна и Сергей Александрович Романовы
История любви. История лжи
Источник: Фома.Ru
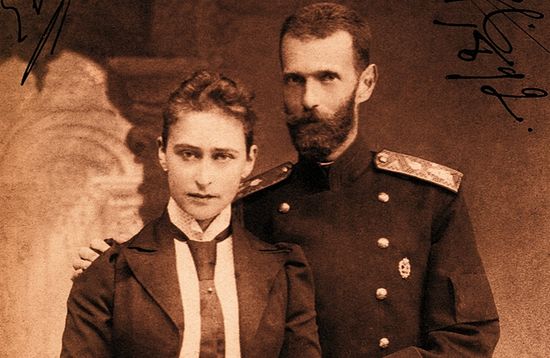 Елизавета Федоровна и Сергей Александрович Романовы
Елизавета Федоровна и Сергей Александрович Романовы
Принято считать, что великая княгиня и великий князь состояли в «белом браке» (т. е. жили как брат с сестрой). Это неправда: они мечтали о детях, особенно Сергей Александрович. Принято считать, что Елизавета Федоровна была кротким и тихим ангелом. И это неправда. Ее волевой характер и деловые качества давали о себе знать с детства. Говорили, что великий князь порочен и имеет нетрадиционные наклонности, — снова неправда. Даже всесильная английская разведка не нашла в его поведении ничего более «предосудительного», чем чрезмерная религиозность.
Сегодня личность великого князя Сергея Александровича Романова или остается в тени его великой жены — преподобномученицы Елизаветы Федоровны, или опошляется — как, например, в фильме «Статский советник», где генерал-губернатор Москвы предстает очень неприятным типом. А между тем во многом именно благодаря великому князю Елизавета Федоровна стала той, какой мы ее знаем: «великой Матушкой», «ангелом-хранителем Москвы».
Оклеветанный при жизни, почти позабытый после смерти, Сергей Александрович заслуживает того, чтобы быть открытым заново. Человек, усилиями которого появилась Русская Палестина, а Москва стала образцовым городом; человек, всю жизнь несший крест неизлечимой болезни и крест бесконечной клеветы; и христианин, который причащался до трех раз в неделю — при всеобщей практике делать это раз в год на Пасху, для которого вера во Христа была стержнем жизни. «Дай мне Бог быть достойной водительства такого супруга, как Сергий», — писала Елизавета Федоровна после его убийства…
Об истории великой любви Елизаветы Федоровны и Сергея Александровича, а также об истории лжи о них — наш рассказ.
Имя великого князя Сергея Александровича Романова произносится сегодня, как правило, только в связи с именем его жены, преподобномученицы Елизаветы Федоровны. Она действительно была выдающейся женщиной с необыкновенной судьбой, но князь Сергей, оставшийся в ее тени, оказывается, как раз играл в этой семье первую скрипку. Их брак не раз пытались очернить, назвать безжизненным или фиктивным, в конце концов, несчастным, или, наоборот, идеализировали. Но эти попытки неубедительны. После гибели мужа Елизавета Федоровна сожгла свои дневники, но сохранились дневники и письма Сергея Александровича, они и позволяют нам заглянуть в жизнь этой исключительной семьи, тщательно оберегаемую от посторонних взглядов.
НЕ ТАКАЯ ПРОСТАЯ НЕВЕСТА
Решение о женитьбе было принято в нелегкое для великого князя Сергея Александровича время: летом 1880 года скончалась его мать, Мария Александровна, которую он обожал, а меньше чем через год, бомба народовольца Игнатия Гриневицкого оборвала жизнь его отца, императора Александра II. Пришло время ему вспомнить слова воспитательницы, фрейлины Анны Тютчевой, которая писала молодому князю: «По вашей натуре Вам надо быть женатым, Вы страдаете в одиночестве». У Сергея Александровича действительно было несчастное свойство углубляться в себя, заниматься самоедством. Ему нужен был близкий человек… И он такого человека нашел.
 Великий князь Сергей Александрович. 1861
Великий князь Сергей Александрович. 1861
1884 год. Элла — одна из красивейших невест Европы. Сергей — один из самых завидных женихов, пятый сын императора Александра II Освободителя. Судя по дневникам, впервые они встретились, когда великая герцогиня Гессенская и Рейнская Алиса-Мод-Мэри, супруга Людвига IV, была на последних месяцах беременности будущей супругой великого князя. Сохранилась фотография, где она сидит вместе с заехавшей в Дармштадт российской императрицей Марией Александровной и ее семилетним сыном Сергеем. Когда российское венценосное семейство возвращалось в Россию из своего путешествия по Европе, они снова заехали к родственникам в Дармштадт, и маленькому великому князю позволили присутствовать при купании новорожденной Эллы — его будущей жены.
Почему Сергей сделал выбор именно в пользу Елизаветы, ускользнуло от внимания его родных и воспитателей. Но выбор был сделан! И хотя Элла и Сергей оба испытывали сомнения, в конце концов, в 1883 году миру было объявлено об их помолвке. «Я дал своё согласие не колеблясь, — сказал тогда отец Эллы, великий герцог Людвиг IV. — Я знаю Сергея с детского возраста; вижу его милые, приятные манеры и уверен, что он сделает мою дочь счастливой».
Сын российского императора взял в жены провинциальную немецкую герцогиню! Вот привычный взгляд на эту блестящую пару — и тоже миф. Не так просты были Дармштадтские герцогини. Елизавета и Александра (ставшая последней российской императрицей) — родные внучки по матери королевы Виктории, с 18 лет и до кончины в старости — бессменной правительницы Великобритании (императрицы Индии с 1876 года!), человека строгой морали и железной хватки, при которой Британия достигла своего расцвета. Официальный титул Елизаветы Федоровны, перешедший всем гессенским принцессам, — герцогиня Великобританская и Рейнская: они принадлежали, ни больше ни меньше, к роду, правившему на тот момент третьей частью суши. И этот титул — по всем правилам этикета — унаследовали от матери, императрицы Александры Федоровны дочери последнего российского императора Николая II.
Таким образом, с британской короной Романовы породнились благодаря Алисе Гессенской — как и ее мать Виктория, необыкновенно сильной женщине: выйдя замуж за немецкого герцога, Алиса вынуждена была столкнуться с привередливостью немцев, не очень охотно принимавших английскую принцессу. Тем не менее однажды она на протяжении девяти месяцев возглавляла парламент; развернула широкую благотворительную деятельность — основанные ею богадельни действуют в Германии по сей день. Ее хватку унаследовала и Элла, и впоследствии ее характер даст о себе знать.
А пока Елизавета Дармштадтская, хоть и чрезвычайно благородная и образованная, но несколько ветреная и впечатлительная молодая особа, обсуждает магазины и красивые безделушки. Подготовка к их с Сергеем Александровичем свадьбе держалась в строжайшей тайне, и вот летом 1884 года девятнадцатилетняя гессенская принцесса прибыла в украшенном цветами поезде в столицу Российской империи.
«ОН ЧАСТО ОТНОСИЛСЯ К НЕЙ, КАК ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ…»
 Принцесса Гессенская и Великобританская Элла. Начало 1870-х гг.
Принцесса Гессенская и Великобританская Элла. Начало 1870-х гг.
На публике Елизавета Федоровна и Сергей Александрович были, в первую очередь, высокопоставленными особами, возглавляли общества и комитеты, а их человеческие отношения, их взаимная любовь и привязанность держались в тайне. Сергей Александрович прилагал все усилия к тому, чтобы внутренняя жизнь семьи не становилась достоянием общественности: у него было множество недоброжелателей. Из писем мы знаем больше, чем могли знать современники Романовых.
«Он рассказывал мне о своей жене, восхищался ей, хвалил ее. Он ежечасно благодарит Бога за свое счастье», — вспоминает князь Константин Константинович, его родственник и близкий друг. Великий князь действительно обожал свою жену — он любил дарить ей необыкновенные драгоценности, делать ей маленькие подарки по поводу и без. Обходясь с ней временами строго, в ее отсутствие он не мог нахвалиться Елизаветой. Как вспоминает одна из его племянниц (в будущем — королева Румынии Мария), «дядя часто был резок с ней, как и со всеми другими, но поклонялся ее красоте. Он часто относился к ней, как школьный учитель. Я видела восхитительную краску стыда, которая заливала ее лицо, когда он бранил ее. „Но, Серж…“ — восклицала она тогда, и выражение ее лица было подобно лицу ученицы, уличенной в какой-нибудь ошибке».
«Я чувствовала, как Сергей желал этого момента; и я знала много раз, что он страдал от этого. Он был настоящим ангелом доброты. Как часто он мог бы, коснувшись моего сердца привести меня к перемене религии, чтобы сделать себя счастливым; и никогда, никогда он не жаловался… Пусть люди кричат обо мне, но только никогда не говори и слова против моего Сергея. Стань на его сторону перед ними и скажи им, что я обожаю его, а также и мою новую страну и что таким образом научилась любить и их религию…»
Из письма Елизаветы Федоровны брату Эрнесту о перемене религии
Вопреки распускаемым тогда слухам, это был по-настоящему счастливый брак. В день десятилетия супружеской жизни, которое пришлось на разгар Русско-японской войны, князь записал в дневнике: «С утра я в церкви, жена — на складе*. Господи, за что мне такое счастье?» (Склад пожертвований в пользу воинов, организованный при содействии Елизаветы Федоровны: там шили одежду, заготавливали бинты, собирали посылки, формировали походные церкви. — Ред.)
Их жизнь действительно была служением с максимальной отдачей всех сил и способностей, но об этом мы еще успеем сказать.
Что же она? В письме к брату Эрнесту Элла называет мужа «настоящим ангелом доброты».
 Великокняжес-кая чета в гостях у дармштадтских родственников. Великая княгиня Елизавета Федоровна — вторая справа; вторая слева — принцесса Алиса, будущая императрица Александра Федоровна
Великокняжес-кая чета в гостях у дармштадтских родственников. Великая княгиня Елизавета Федоровна — вторая справа; вторая слева — принцесса Алиса, будущая императрица Александра Федоровна
Великий князь стал во многом учителем своей супруги, очень мягким и ненавязчивым. Будучи на 7 лет старше, он действительно в большой степени занимается ее образованием, учит русскому языку и культуре, знакомит с Парижем, показывает ей Италию и берет ее в поездку на Святую землю. И, судя по дневникам, великий князь не переставал молиться, надеясь, что когда-нибудь жена разделит с ним главное в его жизни — его веру и Таинства Православной Церкви, к которой он принадлежал всей душой.
«После 7 долгих лет счастливой нашей супружеской жизни <…> мы должны начать совершенно новую жизнь и оставить нашу уютную семейную жизнь в городе. Мы должны будем так много сделать для людей там, и в действительности мы будем там играть роль правящего князя, что будет очень трудным для нас, так как вместо того, чтобы играть такую роль, мы горим желанием вести тихую личную жизнь».
Из письма Елизаветы Федоровны отцу, великому герцогу Гессенскому, о назначении супруга на пост генерал-губернатора Москвы
Необыкновенная религиозность — черта, отличавшая великого князя с детства. Когда семилетнего Сергея привезли в Москву и спросили: чего бы тебе хотелось? — он ответил, что самое его заветное желание — попасть на архиерейскую службу в Успенский собор Кремля.
 Сергей Александрович и Елизавета Федоровна на Святой земле. Гефсимания, храм святой Марии Магдалины, 1888
Сергей Александрович и Елизавета Федоровна на Святой земле. Гефсимания, храм святой Марии Магдалины, 1888
Впоследствии, когда взрослым молодым человеком он встречался во время поездки по Италии с Папой Римским Львом XIII, тот поражался знанию великим князем церковной истории — и даже велел поднять архивы, чтобы проверить озвученные Сергеем Александровичем факты. Записи в его дневниках всегда начинались и заканчивались словами: «Господи, помилуй», «Господи, благослови». Он сам решал, чтó из церковной утвари следует привезти на освящение храма святой Марии Магдалины в Гефсимании (тоже его детище) — блестяще зная как богослужение, так и всю его атрибутику! И, кстати, Сергей Александрович был первым и единственным из великих князей дома Романовых, кто за свою жизнь трижды совершил паломничество на Святую землю. Причем первое отважился проделать через Бейрут, что было крайне трудно и далеко не безопасно. А во второе взял с собой жену, в то время еще протестанку…
«БЫТЬ ОДНОЙ ВЕРЫ С СУПРУГОМ — ПРАВИЛЬНО»
В их родовом имении Ильинском, где Сергей Александрович и Елизавета Федоровна провели счастливейшие дни своей жизни, начиная с медового месяца, сохранился храм, теперь он снова действует. По преданию, именно здесь присутствовала на своем первом православном богослужении тогда еще протестантка Элла.
Елизавете Федоровне по статусу было необязательно менять вероисповедание. Пройдет 7 лет после замужества, прежде чем она напишет: «Мое сердце принадлежит Православию». Злые языки говорили, что к принятию новой веры Елизавету Федоровну активно подталкивал ее супруг, под чьим безусловным влиянием она находилась всегда. Но, как писала отцу сама великая княгиня, муж «никогда не старался принудить меня никакими средствами, предоставляя все это совершенно одной моей совести». Все, что он делал, — мягко и деликатно знакомил ее со своей верой. И сама княгиня очень серьезно подошла к этому вопросу, изучая Православие, присматриваясь к нему очень внимательно.
 Великая княгиня Елизавета Федоровна за занятиями живописью. Конец 1880-х гг
Великая княгиня Елизавета Федоровна за занятиями живописью. Конец 1880-х гг
Приняв, наконец, решение, Элла первым делом пишет своей влиятельной бабушке королеве Виктории — они всегда были в добрых отношениях. Мудрая бабушка отвечает: «Быть со своим супругом одной веры — это правильно». Совсем не столь благосклонно принял решение Елизаветы Федоровны ее отец, хотя трудно придумать более ласковый и тактичный тон и более искренние слова, какими Элла умоляла «дорогого Папу» о благословении на решение перейти в Православие:
« … Я все время думала и читала и молилась Богу — указать мне правильный путь, и пришла к заключению, что только в этой религии я могу найти всю настоящую и сильную веру в Бога, которую человек должен иметь, чтобы быть хорошим христианином. Это было бы грехом оставаться так, как я теперь — принадлежать к одной Церкви по форме и для внешнего мира, а внутри себя молиться и верить так, как и мой муж ‹…› Я так сильно желаю на Пасху причаститься Св. Тайн вместе с моим мужем…»
Герцог Людвиг IV не ответил дочери, но против своей совести она пойти не смогла, хотя признавалась: «Я знаю, что будет много неприятных моментов, так как никто не поймет этого шага». Так, к неописуемому счастью супруга, пришел день, когда они смогли вместе причаститься. И третье, последнее в его жизни, путешествие на Святую землю уже совершили вместе — во всех смыслах.
90 ОБЩЕСТВ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ
Великий князь был одним из инициаторов создания и до самой гибели — председателем Императорского Православного Палестинского общества, без которого сегодня невозможно представить себе историю русского паломничества на Святую землю! Став во главе Общества в 1880-х годах, он умудрился открыть в Палестине 8 подворий Русской Православной Церкви, 100 школ, где арабских детей обучали русскому языку и знакомили с Православием, построить в честь матери храм Марии Магдалины — вот неполный перечень его дел, причем осуществлялось все это довольно тонко и хитро. Так, иногда князь выделял деньги на строительство, не дожидаясь оформления разрешительной документации, так или иначе обходил множество препятствий. Существует даже предположение, что его назначение в 1891 году генерал-губернатором Москвы — хитроумная политическая интрига, придуманная разведками недовольных Англии и Франции, — кому понравится «хозяйничание» России на территории их колоний? — и имевшая своей целью отстранение князя от дел на Святой земле. Как бы то ни было, расчеты эти не оправдались: князь, кажется, только удвоил свои усилия!
Трудно представить, насколько деятельными людьми были супруги, сколько они успели сделать за свою, в общем, недолгую жизнь! Он возглавлял или был попечителем около 90 обществ, комитетов и других организаций, причем находил время принимать участие в жизни каждого из них. Вот лишь некоторые: Московское архитектурное общество, Дамское попечительство о бедных в Москве, Московское филармоническое общество, Комитет по устройству при Московском университете Музея изящных искусств имени императора Александра III, Московское археологическое общество. Он состоял почетным членом Академии наук, Академии художеств, Общества художников исторической живописи, Московского и Петербургского университетов, Общества сельского хозяйства, Общества любителей естествознания, Русского музыкального общества, Археологического музея в Константинополе и Исторического музея в Москве, Московской духовной академии, Православного миссионерского общества, Отдела распространения духовно-нравственных книг.
С 1896 года Сергей Александрович — командующий Московским военным округом. Он же — председатель Императорского Российского Исторического музея. По его инициативе был создан Музей изобразительных искусств на Волхонке — в основу его экспозиции великий князь заложил шесть собственных коллекций.
 Дворец в Ильинском. 1900-е гг.
Дворец в Ильинском. 1900-е гг.
«Отчего я всегда чувствую глубоко? Отчего я не таков, как все другие, не весел, как все? Я до глупости углубляюсь во все и вижу иначе — мне самому совестно, что я до того старообразен и не могу быть, как вся „золотая молодежь“, весел и беспечен».
Из дневника великого князя Сергея Александровича
Став в 1891 году генерал-губернатором Москвы — а это означало попечение не только о Москве, но и о десяти прилегающих к ней губерниях — он развернул невероятную деятельность, задавшись целью сделать город равным европейским столицам. Москва при нем стала образцовой: чистая, аккуратная брусчатка, городовые, выставленные в зоне видимости друг друга, все коммунальные службы работают идеально, порядок везде и во всем. При нем налажено электрическое освещение улиц — построена центральная городская электростанция, возведен ГУМ, отреставрированы башни Кремля, построено новое здание Консерватории; при нем по первопрестольной стал ходить первый трамвай, открылся первый общедоступный театр, а центр города был приведен в идеальный порядок.
Благотворительность, которой занимались Сергей Александрович и Елизавета Федоровна, не была ни показной, ни поверхностной. «Правитель должен быть благословением своего народа», — часто повторял отец Эллы, и он сам, и его жена, Алиса Гессенская, этому принципу старались следовать. Их дети с малолетства были приучены помогать людям, невзирая на ранги — к примеру, каждую неделю ходили в больницу, где дарили цветы тяжелобольным, ободряли их. Это вошло в их кровь и плоть, точно так же воспитывали своих детей Романовы.
Даже отдыхая в своем подмосковном имении Ильинском, Сергей Александрович и Елизавета Федоровна продолжали принимать просьбы о помощи, об устройстве на работу, о пожертвовании на воспитание сирот — все это сохранилось в переписке управляющего двором великого князя с разными людьми. Однажды пришло письмо от девушек-наборщиц частной типографии, осмелившихся просить позволить им спеть на Литургии в Ильинском в присутствии великого князя и княгини. И эта просьба была исполнена.
В 1893 году, когда в Центральной России бушевала холера, в Ильинском открылся временный медпункт, где осматривали и при необходимости срочно оперировали всех нуждающихся в помощи, где крестьяне могли остаться в специальной «избе для изоляции» — как в стационаре. Медпункт просуществовал с июля по октябрь. Это — классический пример того служения, которым всю жизнь занимались супруги.
«БЕЛЫЙ БРАК», КОТОРОГО НЕ БЫЛО
Принято считать, что Сергей и Елизавета намеренно вступили в так называемый «белый брак»: решились не иметь детей, а посвятить себя служению Богу и людям. Воспоминания близких и дневники свидетельствуют о другом.
«Как бы я хотел иметь детей! Для меня не было бы большего рая на земле, будь у меня собственные дети», — пишет в письмах Сергей Александрович. Сохранилось письмо императора Александра III жене, императрице Марии Федоровне, где он пишет: «Как жаль, что Элла и Сергей не могут иметь детей». «Из всех дядьев мы более всего боялись дядю Сергея, но, несмотря на это, он был нашим фаворитом, — вспоминает в дневниках племянница князя Мария. — Он был строг, держал нас в благоговейном страхе, но он любил детей… Если имел возможность, приходил, чтобы проследить за купанием детей, укрыть одеялом и поцеловать на ночь…»
 Супруги великий князь Сергей Александрович и великая княгиня Елизавета Федоровна. 1884 Сергей Александрович и Елизавета Федоровна в год свадьбы. Вопреки распространенному мнению, они не жили в т. н. «белом браке»: великий князь мечтал о детях. «Должно быть, не суждено нам иметь полного счастья на земле, — писал он своему брату Павлу. — Если б я имел бы детей, то мне кажется, для меня был бы рай на нашей планете, но Господь именно этого не хочет — Его пути неисповедимы!»
Супруги великий князь Сергей Александрович и великая княгиня Елизавета Федоровна. 1884 Сергей Александрович и Елизавета Федоровна в год свадьбы. Вопреки распространенному мнению, они не жили в т. н. «белом браке»: великий князь мечтал о детях. «Должно быть, не суждено нам иметь полного счастья на земле, — писал он своему брату Павлу. — Если б я имел бы детей, то мне кажется, для меня был бы рай на нашей планете, но Господь именно этого не хочет — Его пути неисповедимы!»
Великому князю было дано воспитать детей — но не своих, а брата Павла, после трагической гибели при преждевременных родах его жены, греческой принцессы Александры Георгиевны*. Непосредственными свидетелями шестидневной агонии несчастной женщины были хозяева имения Сергей и Елизавета. Убитый горем Павел Александрович несколько месяцев после трагедии был не в состоянии ухаживать за своими детьми — малолетней Марией и новорожденным Дмитрием, и эту заботу целиком и полностью взял на себя великий князь Сергей Александрович. Он отменил все планы и поездки и остался в Ильинском, участвовал в купании новорожденного — который, кстати, и выжить-то не должен был по единогласному мнению врачей, — сам обкладывал его ватой, не спал ночами, заботясь о маленьком князе. Интересно, что в дневник Сергей Александрович записывал все важные события из жизни своего подопечного: первый прорезавшийся зуб, первое слово, первый шаг. А после того как брат Павел вопреки воле императора вступил в брак с женщиной, не принадлежавшей к аристократическому роду, и был изгнан из России, его детей, Дмитрия и Марию, окончательно взяли на попечение Сергей и Елизавета.
Почему Господь не дал супругам собственных детей — Его тайна. Исследователи предполагают, что бездетность великокняжеской пары могла быть следствием тяжелой болезни Сергея, которую он тщательно скрывал от окружающих. Это еще одна малоизвестная страница жизни князя, которая совершенно меняет привычные для многих представления о нем.
ЗАЧЕМ ЕМУ КОРСЕТ?
Холодность характера, замкнутость, закрытость — обычный список обвинений против великого князя.
К этому еще добавляют: гордец! — из-за его чересчур прямой осанки, придававшей ему надменный вид. Если бы знали обвинители князя, что «виновник» гордой осанки — корсет, которым он вынужден был поддерживать свой позвоночник всю свою жизнь. Князь был тяжело и неизлечимо болен, как и его мать, как и его брат Николай Александрович, который должен был стать российским императором, но скончался от страшного недуга. Свой диагноз — костный туберкулез, приводящий к дисфункции всех суставов, — великий князь Сергей Александрович умел от всех скрывать. Только жена знала, чего это ему стоит.
«Сергей очень страдает. Ему снова нездоровится. Очень нужны соли, горячие ванны, без них он не может обходиться», — пишет Елизавета близким родственникам. «Вместо того чтобы отправиться на прием, великий князь принимал ванну», — ёрничала газета «Московские ведомости» уже в предреволюционное время. Горячая ванна — чуть ли единственное средство, снимающее боли (суставные, зубные), которые мучили Сергея Александровича. Он не мог ездить верхом, не мог обходиться без корсета. В Ильинском еще при жизни его матери была устроена кумысная ферма для лечебных целей, но болезнь с годами прогрессировала. И если бы не бомба студента Ивана Каляева, очень возможно, генерал-губернатор Москвы все равно не прожил бы долго…
Закрыт, немногословен и замкнут великий князь был с детства. А можно ли было ожидать другого от ребенка, чьи родители фактически находились в разводе, который тем не менее не мог состояться? Мария Александровна жила на втором этаже Зимнего дворца, не имея уже супружеского общения с мужем и терпя присутствие фаворитки государя — княжны Долгоруковой (она стала его женой после смерти Марии Александровны, но пробыла в этом статусе меньше года, до гибели Александра II). Крах родительской семьи, глубокая привязанность к матери, кротко терпевшей это унижение, — факторы, которые во многом определили формирование характера маленького князя.
Они же — поводы для клеветы, слухов и злословия в его адрес. «Не в меру религиозен, замкнут, очень часто бывает в храме, причащается до трех раз в неделю», — это самое «подозрительное» из того, что сумела выяснить о князе английская разведка перед его вступлением в брак с Елизаветой, как-никак —внучкой английской королевы. Репутация почти безупречная, и тем не менее еще при жизни на великого князя выливались потоки клеветы и нелицеприятных обвинений…
«ТЕРПИ — ТЫ НА ПОЛЕ БРАНИ»
Поговаривали о распутном образе жизни генерал-губернатора Москвы, по первопрестольной распускались слухи о его нетрадиционной сексуальной ориентации, о том, что Елизавета Федоровна очень несчастлива в браке с ним — все это еще при жизни князя звучало даже в английских газетах. Сергей Александрович поначалу терялся и недоумевал, это видно из его дневниковых записей и писем, где он ставит один вопрос: «Почему? Откуда все это?!»
«Терпи всю эту прижизненную клевету, терпи — ты на поле брани», — писал ему великий князь Константин Константинович.
Нападок, обвинений в надменности и равнодушии не удалось избежать и Елизавете Федоровне. Безусловно, основания для того были: несмотря на широчайшую благотворительную деятельность, она всегда держала дистанцию, зная цену своему статусу великой княгини — принадлежность к императорскому дому едва ли предполагает панибратство. И характер ее, проявившийся с детства, давал повод для таких обвинений.
В наших глазах образ великой княгини, надо признать, несколько елейный: нежная, кроткая женщина со смиренным взглядом. Этот образ сложился, конечно, не без оснований. «Ее чистота была абсолютна, от нее невозможно было оторвать взгляд, проведя с ней вечер, каждый ожидал часа, когда сможет увидеть ее на следующий день», — восхищается тетей Эллой ее племянница Мария. И в то же время нельзя не заметить, что великая княгиня Елизавета обладала волевым характером. Мать признавала, что Элла — прямая противоположность старшей послушной сестре Виктории: очень сильная и отнюдь не тихая. Известно, что Елизавета очень жестко отзывалась о Григории Распутине, считая, что его смерть была бы лучшим выходом из сложившейся при дворе катастрофической и нелепой ситуации.
«…Когда он увидел ее <…>, он спросил: «Кто вы?» «Я его вдова, — ответила она, — почему вы его убили?» «Я не хотел убивать вас, — сказал он, — я видел его несколько раз в то время, когда имел бомбу наготове, но вы были с ним, и я не решился его тронуть». «И вы не сообразили того, что вы меня убили вместе с ним?» — ответила она…»
Описание беседы Елизаветы Федоровны с убийцей мужа из книги о. М. Польского «Новые мученики Российские»
Как сказали бы сегодня, великая княгиня была первоклассным управленцем, филигранно умеющим организовать дело, распределить обязанности и следить за их исполнением. Да, она держалась несколько отстраненно, но вместе с тем не игнорировала малейших просьб и нужд тех, кто к ней обращался. Известен случай во время Первой мировой войны, когда раненый офицер, которому грозила ампутация ноги, подал просьбу пересмотреть это решение. Ходатайство попало великой княгине и было удовлетворено. Офицер поправился и впоследствии, во время Второй мировой войны, занимал должность министра легкой промышленности.
Безусловно, жизнь Елизаветы Федоровны кардинально изменилась после страшного события — убийства любимого мужа… Фотография развороченной взрывом кареты тогда была напечатана во всех московских газетах. Взрыв был такой силы, что сердце убитого нашли только на третий день на крыше дома. А ведь останки Сергея великая княгиня собирала собственными руками. Ее жизнь, ее судьба, ее характер — все изменилось, но, конечно, вся предыдущая, полная самоотдачи и деятельности жизнь была подготовкой к этому.
«Казалось, — вспоминала графиня Александра Андреевна Олсуфьева, — что с этого времени она пристально всматривается в образ иного мира <…>, <она> посвятила себя поиску совершенства».
«МЫ С ТОБОЙ ЗНАЕМ, ЧТО ОН СВЯТОЙ»
«Господи, сподобиться бы такой кончины!» — писал в своем дневнике Сергей Александрович после гибели от бомбы кого-то из государственных деятелей — за месяц до собственной смерти. Он получал письма с угрозами, но игнорировал их. Единственное, что князь предпринял: перестал брать с собой в поездки детей — Дмитрия Павловича и Марию Павловну — и своего адьютанта Джунковского.
Великий князь предчувствовал не только свою смерть, но и трагедию, которая захлестнет Россию через десятилетие. Он писал Николаю II, умоляя его быть более решительным и жестким, действовать, принимать меры. И сам такие меры предпринимал: в 1905 году, когда восстание разгорелось в студенческой среде, он отправил студентов на бессрочные каникулы, по домам, не дав разгореться пожару. «Услышь меня!» — пишет и пишет он в последние годы государю императору. Но государь не услышал…
 Остатки кареты великого князя Сергея Александровича после взрыва
Остатки кареты великого князя Сергея Александровича после взрыва
4 февраля 1905 года Сергей Александрович выезжает из Кремля через Никольские ворота. За 65 метров до Никольской башни раздается взрыв страшной силы. Кучер смертельно ранен, а Сергей Александрович разорван на части: от него осталась голова, рука и ноги — так князя и похоронили, соорудив специальную «куклу», в Чудовом монастыре, в усыпальнице. На месте взрыва нашли его личные вещи, которые Сергей всегда носил с собой: образки, крест, подаренный матерью, маленькое Евангелие.
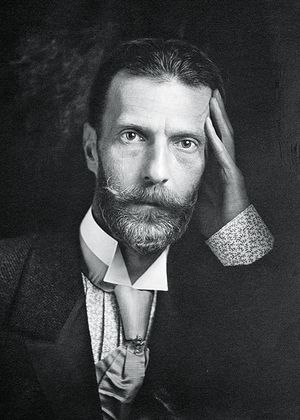 Великий князь Сергей Александрович незадолго до гибели
Великий князь Сергей Александрович незадолго до гибели
После трагедии все, что не успел сделать Сергей, все, во что он вложил свой ум и неуемную энергию, Елизавета Федоровна считала своим долгом продолжить. «Я хочу быть достойна водительства такого супруга, как Сергий», — писала она вскоре после его смерти Зинаиде Юсуповой. И, вероятно, движимая этими мыслями, отправилась в тюрьму к убийце супруга со словами прощения и призывом к покаянию. Она работала до изнеможения и, как пишет графиня Олсуфьева, «всегда спокойная и смиренная, находила силы и время, получая удовлетворение от этой бесконечной работы».
О том, чем стала для столицы основанная великой княгиней Марфо-Мариинская обитель милосердия, существующая и поныне, трудно сказать в нескольких словах. «Господь отмерил мне так мало времени, — пишет она З. Юсуповой. — Надо еще очень многое успеть сделать»…
***
 Великая княгиня Елизавета Федоровна — настоятельница Марфо-Мариинской обители милосердия. 1910-е гг.
Великая княгиня Елизавета Федоровна — настоятельница Марфо-Мариинской обители милосердия. 1910-е гг.
5 июля 1918 года Елизавета Федоровна, ее келейница Варвара (Яковлева), племянник Владимир Павлович Палей, сыновья князя Константина Константиновича — Игорь, Иоанн и Константин, и управляющий делами князя Сергея Михайловича Федор Михайлович Ремез были живыми сброшены в шахту под Алапаевском.
Мощи великой княгини покоятся в храме, который построил ее муж, — храме святой Марии Магдалины в Гефсимании, а останки великого князя перенесены в 1998 году в Новоспасский монастырь Москвы. Она канонизирована в 1990-е годы, а он… Похоже, святость бывает очень разная, и великий — действительно великий — князь Сергей Александрович вновь остался в тени своей великой жены. Сегодня комиссия по его канонизации возобновила работу. «Мы ведь с тобой знаем, что он святой», — говорила в переписке Елизавета Федоровна после смерти мужа. Она знала его лучше всех.
Источник: Фома.Ru
26 ноября 2014 г.
Рейтинг: 9.8 Голосов: 2413 Оценка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
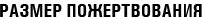

Смотри также
 33 портрета Великой княгини
33 портрета Великой княгини
ФОТОГАЛЕРЕЯ 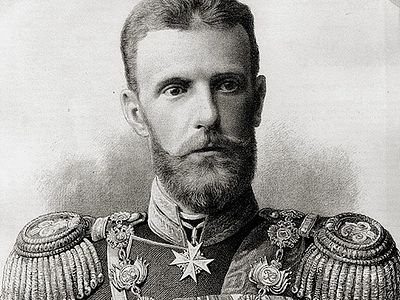 Долг и правда: жизнь и мученическая кончина великого князя Сергия
Долг и правда: жизнь и мученическая кончина великого князя Сергия
Иеромонах Иов (Гумеров)  Она шла за Христом
Она шла за Христом
Архим. Иоанн (Крестьянкин)
Комментарии

|
Метки: романовы |
Открытие памятника на могиле М.М. фон Эссен |
[]
July 12th, 2014
Вчера, 11 июля 2014 г., прошла служба на вновь установленном памятнике на могиле Марии Михайловны фон Эссен (1860 - 1928) - супруги адмирала Николая Оттовича фон Эссена (1860-1915).
Эссены покоятся на кладбище Новодевичьего монастыря в Петербурге, но не совсем рядом. И если могила адмирала находится в относительном порядке (хотя и "новодельная", без креста и с грубо "посаженной" на цемент облезлой фотографией), то крест его жены был в духе 20-х годов - простой, покосившийся, толком без основания. Благодаря энергии Татьяны Валентиновны Акуловой (Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого) и финансовой поддержке Группы компаний «Балт Эскорт», «Балтийский эскорт», «Балт–Тест»удалось поставить на могиле Марии Михайловны достойный памятник.
Отчёт Морского литературно-художественного фонда имени Виктора Конецкого и мою старую статью о семье Эссенов (из "Кортика") можно посмотреть на их сайте: http://www.baltkon.ru/fund/news/detail.php?ELEMENT_ID=1264
С удовольствием представляю несколько фотографий.
Мария Михайловна фон Эссен с детьми (фотография предоставлена потомками):
Служба у нового памятника:
Поминовение членов семьи фон Эссен:
За благословением к о. Серафиму подошли участвовавшие в церемонии правнучка адмирала Наталья Станиславовна Янанис и праправнучка Алиса Адольевна Скоробогатова.
Наталья Станиславовна Янанис:
Доктор исторических наук Валентин Георгиевич Смирнов, ответственный секретарь РГО, инициатор установки нового памятника на могиле Марии Михайловны:
Главная движущая сила этого и многих других проектов - Татьяна Валентиновна Акулова (Конецкая):
Потрясающая полировка камня затрудняет съёмку:
Фотография на память:
Памятник Адмиралу и его родным тоже нуждается в реставрации (в том числе восстановлении утраченных крестов). Требующаяся сумма - 900.000 рублей...
|
Метки: эссен |
Семья адмирала Н.О.Эссена |
Владислав Кислов. Страничка гатчинского краеведа
Выдающиеся жители старой Гатчины
Семья адмирала Н.О.Эссена
В конце 1890-х годов одну из квартир дома № 13 на Николаевской (Урицкого) улицы Гатчины нанимала семья, состоящая из молодой женщины и четырёх детей: трёх девочек и мальчика. Изредка к ним приезжал из Кронштадта молодой лейтенант флота. Это был глава семьи – Николай Оттович Эссен (1860 – 1915). Никто и подумать тогда не мог, что этот скромный лейтенант станет позднее адмиралом, гордостью Русского флота.
 Николай Оттович ЭссенОтцом Николая был эстляндский уроженец, голландец Отто Вильгельм фон Эссен (1828 – 1876), статс-секретарь, действительный тайный советник; матерью – Любовь Алексеевна (1839 – 1906), дочь коллежского советника Дружинина. В метрической книге петербургской церкви св. Анны записано:
Николай Оттович ЭссенОтцом Николая был эстляндский уроженец, голландец Отто Вильгельм фон Эссен (1828 – 1876), статс-секретарь, действительный тайный советник; матерью – Любовь Алексеевна (1839 – 1906), дочь коллежского советника Дружинина. В метрической книге петербургской церкви св. Анны записано:
«Отто Вильгельм фон, из Ассика в Эстляндии, 30 лет, холостой, коллежский советник, сын умершего судьи земской полиции Густава Вильгельма фон Эссена; венчался в январе 1859 с Любовью Дружининой, 19 лет, греческой конфессии, девицей, дочерью коллежского советника Алексея Дружинина».
Николай Оттович Эссен родился в Петербурге. Поскольку морские традиции фамилии Эссен к тому времени насчитывали более полутора веков, мальчика с малых лет начали готовить к морской карьере. Всего в Русском флоте служили 12 представителей фамилии Эссен и 7 из них стали Георгиевскими кавалерами!
Были в роду Эссенов и военные, служившие на суше. Иван Николаевич (Магнус Густав) Эссен (1759 – 1813), генерал-лейтенант, герой Отечественной войны 1812 года, Георгиевский кавалер, военный губернатор Риги. Портрет его находится в Военной галерее Зимнего Дворца.
 Герб графов ЭссеновВ той же галерее имеется портрет Петра Кирилловича Эссена (1772 – 1844), героя Отечественной войны 1812 года, Георгиевского кавалера, генерала от инфантерии. В начале 1800-х годов Пётр Эссен был военным губернатором Выборга, в 1819 – 1830 годах – военным губернатором Оренбурга, а в 1830 – 1842 годах – генерал-губернатором Петербурга. Заслуги Петра Эссена перед Петербургом огромны. В период его губернаторства: открыта первая в России железная дорога Петербург – Царское
Герб графов ЭссеновВ той же галерее имеется портрет Петра Кирилловича Эссена (1772 – 1844), героя Отечественной войны 1812 года, Георгиевского кавалера, генерала от инфантерии. В начале 1800-х годов Пётр Эссен был военным губернатором Выборга, в 1819 – 1830 годах – военным губернатором Оренбурга, а в 1830 – 1842 годах – генерал-губернатором Петербурга. Заслуги Петра Эссена перед Петербургом огромны. В период его губернаторства: открыта первая в России железная дорога Петербург – Царское
Село; установлена Александровская колонна перед Зимним Дворцом и памятники М.И. Кутузову и М.Б. Барклаю де Толли у Казанского собора; открыты Училище правоведения и Институт гражданских инженеров. За энергичные меры к прекращению холерной эпидемии 1830 – 1831 годов Пётр Эссен получил графский титул и герб, на котором был начертан девиз «Верою и верностью».
 Пётр Кириллович ЭссенПётр Кириллович Эссен был, возможно, первым из рода Эссенов, кто оставил своѐ имя в истории Гатчины. Ещё пятилетним ребёнком, в 1877 году, его зачислили на службу вахмистром Лейб-кирасирского полка. А 1 марта 1791 года Пётр Эссен стал поручиком Гатчинского морского батальона. Здесь он обратил на себя внимание Цесаревича Павла Петровича, который, став Императором, перевѐл Эссена в лейб-гвардии Измайловский полк и вскоре произвёл в полковники. Дальнейшая карьера Петра Кирилловича была столь стремительной и блистательной, что появилась легенда о причинах такой удачи. Якобы однажды неподалёку от Гатчины Павел I встретил на дороге молодого секунд-майора и милостиво пригласил его в карету. В завязавшейся беседе офицер, а им оказался Пётр Эссен, так развлёк скучающего в дороге Императора, что по выходе из кареты Пётр был уже капитаном, через час был пожалован в полковники, а вскоре стал Выборгским генерал-губернатором. Прямо как в сказке! И ведь многое в этой легенде – правда, за исключением того, что Павел уже давно знал и ценил Петра Эссена, причём не за талант общения, а за ревностное и честное служение Царю и Отечеству!
Пётр Кириллович ЭссенПётр Кириллович Эссен был, возможно, первым из рода Эссенов, кто оставил своѐ имя в истории Гатчины. Ещё пятилетним ребёнком, в 1877 году, его зачислили на службу вахмистром Лейб-кирасирского полка. А 1 марта 1791 года Пётр Эссен стал поручиком Гатчинского морского батальона. Здесь он обратил на себя внимание Цесаревича Павла Петровича, который, став Императором, перевѐл Эссена в лейб-гвардии Измайловский полк и вскоре произвёл в полковники. Дальнейшая карьера Петра Кирилловича была столь стремительной и блистательной, что появилась легенда о причинах такой удачи. Якобы однажды неподалёку от Гатчины Павел I встретил на дороге молодого секунд-майора и милостиво пригласил его в карету. В завязавшейся беседе офицер, а им оказался Пётр Эссен, так развлёк скучающего в дороге Императора, что по выходе из кареты Пётр был уже капитаном, через час был пожалован в полковники, а вскоре стал Выборгским генерал-губернатором. Прямо как в сказке! И ведь многое в этой легенде – правда, за исключением того, что Павел уже давно знал и ценил Петра Эссена, причём не за талант общения, а за ревностное и честное служение Царю и Отечеству!
Эти сведения о некоторых Эссенах приведены мною для того, чтобы стало понятно, как много сделала для России эта фамилия, на каких традициях воспитывались представители её новых поколений и, в том числе, Николай Оттович Эссен.
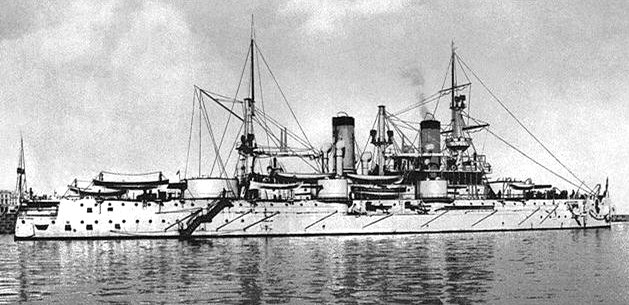 Броненосец «Севастополь»
Броненосец «Севастополь»
Николай Эссен окончил в Петербурге Морское училище, затем механическое отделение Николаевской морской академии и Артиллерийские офицерские классы. О его службе можно написать целую книгу. Морские походы в Балтийском и Средиземном морях, служба на Тихом океане – вот вехи начального периода его военной карьеры.
Позднее Николай Эссен, командуя броненосцем «Севастополь», отличился в сражениях за Порт-Артур. Из приказа начальника Квантунского укрепрайона генерал-лейтенанта А.М. Стесселя от 5 декабря 1904 года:
«Гордитесь, славные воины, подвигом броненосца «Севастополь», подвигом командира капитана 1-го ранга Эссена, господ офицеров и команды! Пусть каждый из вас будет с гордостью передавать родине и потомкам, как «Севастополь» один отважился выйти на рейд в ночь на 26 ноября и, будучи атакован подряд пять ночей, со славой геройски отбивал атаки неприятельских миноносцев. Подвиг этот не должен изгладиться из вашей памяти! Ура героям броненосца «Севастополь!».
При сдаче Порт-Артура команда хотела взорвать повреждённый броненосец. Но это нарушало условия договора о сдаче. Решено было затопить корабль в глубоком месте, чтобы он не достался врагам. Во время затопления группа офицеров буквально силой заставила капитана Эссена, не желавшего уходить с корабля, покинуть мостик. Эссен был награждѐн орденом св. Георгия 4-й степени и золотым оружием.
В 1911 году Эссен стал командующим морскими силами на Балтийском море. Адмирал многое сделал для того, чтобы Балтийский флот начал Германскую войну способным не только успешно противостоять всем попыткам нападения на Петроград с моря, но и способным наносить врагу существенный урон.
19 июля 1914 года командующий Балтийским флотом адмирал Н.О. Эссен в связи с началом Великой войны издал приказ, в котором говорилось:
«Поздравляю Балтийский флот с великим днём, для которого мы живём, которого ждали и к которому готовились. С этого дня каждый из нас должен забыть все свои личные дела и сосредоточить все свои помыслы и волю к одной цели – защищать Родину от посягательств врага и вступать в бой с ним без колебаний, думая только о нанесении врагу самых тяжелых ударов, какие только возможны. Да исполнит каждый из нас величайший долг перед Родиной – жизнью своей защитит её неприкосновенность и да последует примеру тех, кто двести лет назад с великим Императором во главе своими подвигами и кровью положили в этих водах начало нашему флоту!».
Ещё в начале 1915 года Эссен почувствовал себя больным, но, мало заботясь о здоровье, активно трудился. 1 мая он, находясь на миноносце, следующем в Ревель, простудился и по прибытии к месту назначения поступил в госпиталь с тяжелейшим крупозным воспалением лѐгких. Скончался Н. О. Эссен 7 мая 1915 года. Тело адмирала было доставлено миноносцем «Пограничник» в Петроград. После панихиды в храме Спаса на Водах адмирал, при огромном стечении народа, упокоился на Новодевичьем кладбище. От имени Императрицы Александры Фёдоровны был возложен на могилу огромный венок в форме креста из живых белых цветов. На траурной ленте от Государственной думы виднелась надпись «Славному защитнику Андреевского флага, гордости русского флота». Гроб опускали в могилу под залпы орудийного салюта.
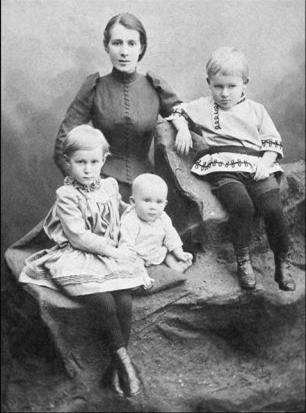 Мария Михайловна Эссен с детьми: Марией – слева; Юлией – в центре; Антонием – справа. Фото 1892 годаКак правило, у достойных людей бывают такие же достойные спутницы жизни. Я уже писал о жившей когда-то в Гатчине жене адмирала Колчака – Софье Фѐдоровне Колчак. Вот и Мария Михайловна, жена кумира адмирала Колчака – адмирала Николая Эссена – тоже некоторое время жила в Гатчине. Эти женщины жили в нашем городе в разное время – Мария Эссен в 1896 – 1900 годах, а Софья Колчак в 1914 – 1916 годах. Но обе, будучи женами моряков, несли на себе всю тяжесть воспитания детей: их мужья, почти неотлучно находились на службе, совершали длительные плавания.
Мария Михайловна Эссен с детьми: Марией – слева; Юлией – в центре; Антонием – справа. Фото 1892 годаКак правило, у достойных людей бывают такие же достойные спутницы жизни. Я уже писал о жившей когда-то в Гатчине жене адмирала Колчака – Софье Фѐдоровне Колчак. Вот и Мария Михайловна, жена кумира адмирала Колчака – адмирала Николая Эссена – тоже некоторое время жила в Гатчине. Эти женщины жили в нашем городе в разное время – Мария Эссен в 1896 – 1900 годах, а Софья Колчак в 1914 – 1916 годах. Но обе, будучи женами моряков, несли на себе всю тяжесть воспитания детей: их мужья, почти неотлучно находились на службе, совершали длительные плавания.
Николай Эссен женился 10 ноября 1885 года. Его избранницей стала Мария Михайловна, дочь коллежского советника Михаила Васильевича Васильева и его жены Юлианы Захаровны, урождённой Кадьян. Дед Марии со стороны матери, Захар Иванович Кадьян, был технологом, помощником директора Императорского фарфорового завода.
Мария Михайловна старалась быть рядом с мужем, где бы он ни служил. К моменту поселения в Гатчине, в 1896 году, у супругов было трое детей: Мария, 10 лет; Антоний, 8 лет и Юлия, 4 лет. Уже в Гатчине на свет появилась младшая дочь Эссенов – Вера. На фотографии, снятой, вероятно в конце 1892 года, можно видеть Марию Михайловну Эссен и еѐ старших детей: Марию, Юлию и Антония. При взгляде на мать семейства, даже не верится, что этой хрупкой на вид женщине будет под силу не только воспитать детей, но и немало сделать для пользы России.
Как сказано выше, её муж был постоянно занят на службе и не мог уделить достаточного внимания жене и детям. Когда Мария Михайловна с детьми поселилась в Гатчине, Николай Эссен находился в длительном плавании на крейсере «Владимир Мономах». В 1897 году он вернулся в Петербург. Однако встреча с семьёй была недолгой: уже вскоре Эссен получил под своѐ командование миноносец «Пакерорт», через год был переведен на должность старшего офицера на мореходную канонерскую лодку «Грозящий». Три года Николай Эссен плавал на этих кораблях, входивших в состав Средиземноморской эскадры контр-адмирала Скрыдлова. Лишь годы спустя, уже после Русско-японской войны, семье Эссенов чаще удавалось собираться в Петербурге в полном составе.
В 1915 году, в самый тяжёлый для России период Великой войны, потеряв мужа и став вдовой, Мария Михайловна не утратила присутствия духа и начала с ещё большим рвением заниматься благотворительностью в учреждённом ею в сентябре 1914 года «Дамском морском обществе». Общество это, в деятельности которого участвовали многие из проживающих в Кронштадте и Петербурге жён офицеров флота, оказывало помощь семьям моряков, находящихся в действующем флоте. Мария Михайловна Эссен предоставила Обществу свою квартиру в доме № 21 в Ковенском переулке. Почётными членами «Дамского морского общества» были известные адмиралы: Ф.К. Авелан; М.В. Бубнов; Р.Н. Вирен; К.Д. Нилов; В.А. Карцов; П.П. Муравьёв; А.И. Русин; К.В. Стеценко, а также представители общественности – архитектор А.Н. Бенуа; директор Главной физической обсерватории Петербургской Академии наук академик князь Б.Б. Голицын; певица М.И. Горленко-Долина; К.Н. Макарова, вдова вице-адмирала С. О. Макарова и некоторые другие авторитетные лица.
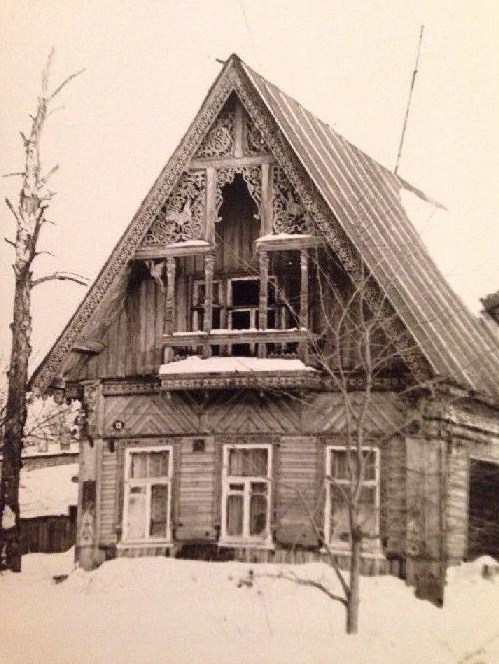 Флигель дома № 13 на улице Урицкого (бывшей Николаевской) в Гатчине. Не сохранился. Фото 1950-х годов.
Флигель дома № 13 на улице Урицкого (бывшей Николаевской) в Гатчине. Не сохранился. Фото 1950-х годов.
Средства Общества формировались за счёт пожертвований отдельных лиц и учреждений, дохода от благотворительных концертов, продажи картин А.Н. Бенуа. Общество привлекало и другие учреждения к делу помощи семьям погибших моряков. К примеру, местные полицейские управления выдавали нуждающимся пособия в сумме 10 – 50 рублей. По ходатайству Марии Михайловны Эссен Комитет Великой княжны Татьяны Николаевны выделил 5000 рублей для «оказания помощи семьям моряков, пострадавшим от военных действий и выселяемым по приказанию военного начальства из мест своего жительства». Общество организовало пошив белья для моряков. Много было и других добрых дел.
Наступил 1917-й год, принёсший семье Эссенов, как и большинству семей офицеров Русского императорского флота, много горя и хлопот. В начале года Мария Михайловна уехала на Кавказ. В сентябре туда пришло известие, что её единственный сын, Георгиевский кавалер Антоний Николаевич Эссен (1888—1917) погиб в Балтийском море, командуя подводной лодкой АГ-14. В октябре погиб зять – муж старшей дочери Эссенов, Марии – Борис Петрович Страхов (1886 – 1917), офицер подводной лодки «Львица». О судьбе семьи Эссенов в период Революции и Гражданской войны можно написать целую книгу.
В начале 1920-х Мария Михайловна вернулась с Кавказа в Петроград. О том, как женщины семьи Эссен, оставшиеся практически без средств к существованию, жили в эти годы, вспоминала позднее (со слов матери) её правнучка Наталья Станиславовна Хамзина (родилась в 1936):
«В общем, судьба трагическая. Потому что жены офицеров, особенно морских, составляли как бы особую касту в России. Они настолько гордились перед всякими штатскими, «штафирками» … Знали, что мужья – это в какой-то степени смертники, как лётчики были позже. Образованность была на уровне языков, литературы. К жизни не приспособлены совершенно. И вот так получается, правда, это к счастью, что все мужчины успели до революции умереть или погибнуть. Вы же понимаете – люди верные присяге никогда не могли еѐ нарушить, никогда… Верность присяге и честь – это превыше всего было. Так что хорошо, что никого из них не бросили за борт, на штыки не подняли. Остались женщины – три дочери, бабушка-адмиральша и вот ещё внучка – моя мать (Марина Борисовна Страхова – В.К.). Ни средств, ни профессии. Начали кто где крутиться. Преподавали английский. Мама где-то с девяти лет начала их, бедных, обшивать».
В 1928 году Мария Михайловна Эссен скончалась. Её дочери Мария, Юлия и Вера продолжали жить в Ленинграде, зарабатывая на жизнь уроками английского языка. В начале 1930-х годов Юлия работала преподавателем Ленинградского института искусств.
В марте 1935 года Мария, Юлия, Вера, дочь Марии – Марина – были высланы, как социально-опасные элементы, в Тургай на 5 лет. Тогда же была арестована семья Антона Николаевича Эссена: его жена – Наталья Александровна (родилась в 1892), переводчик и преподаватель иностранных языков, и его сын – Николай Антонович (родился в 1914). Мать и сына выслали в Кустанай. Через некоторое время ссылку отменили и Эссены вернулись в Ленинград.
Началась Великая отечественная война и на семью Эссенов опять обрушились беды. Младшая дочь адмирала Эссена, Вера Николаевна Эссен (родилась в 1897 году), с 1930-х годов страдала психическим заболеванием и, к моменту подхода линии фронта к Ленинграду, находилась на излечении в психиатрической больнице Петергофа. Там она была убита немцами в 1941 году.
Наступила блокада. Чтобы как-то прокормиться, дочь Марии Страховой, Марина Борисовна Страхова (1910 – 1995), ставшая к этому времени преподавательницей балета, пошла учиться в институт Лесгафта. Вместе с этим институтом весной 1942 года Марина, её дочь Наталья, мать Марины – Мария Николаевна и сестра матери – Юлия Николаевна были эвакуированы из Ленинграда. Дальше – воспоминания Натальи Станиславовны:
«Весной 1942 года, в конце апреля, институт Лесгафта эвакуировали на Северный Кавказ, в Нальчик. И с этим институтом мы все поехали, в том числе бабушка и её тетя. Мы там довольно шикарно жили, хотя в одной квартире. Профессорские семьи с детьми, пожилые люди … Потом наступил такой момент, что нас держали в закрытых домах, потому что приближались немцы. Уже танки было слышно, мародёрство началось, сидели за закрытыми дверями. Весь институт, а это в основном молодые парни и девушки, пошли пешком через Грузинский перевал. И вот остались те, кого ни на руках не понесешь, ни сами идти не могут – старики да дети; еды нам оставили на какое-то время. Потом выяснилось, что обстановка ещё не так страшна, вернулось правительство республики, потому что правительство первое всё удрало из города. Появилась надежда всё-таки как-то уехать. Дали «телятники» – телячьи вагоны, но ничего не гарантировали: как-нибудь может быть уедете. А бабки мои остались под немцами. С немцами они и ушли. Увели, ушли – этого я уже не знаю. И это-то мы узнали уже много лет спустя. Потом каким-то немыслимым способом мама получила всё-таки после войны письмо. Вот эти фотографии нам прислали оттуда. Там, конечно, очень бедно они жили, в Нью-Йорке, в Бруклине. Там они и скончались обе. Сначала младшая. Мария писала, что очень уж много кофе она пьёт и много курит».
Каким-то образом дочери адмирала Эссена – Мария и Юлия – оказались к 1953-му году в США. В Америке они и скончались.
Добавлю ещё, что Мария Николаевна Эссен (1886 – 1971), в замужестве Страхова, с отличием окончила Петербургское Училище ордена св. Екатерины и была пожалована во фрейлины. После гибели мужа (о нём сказано выше) Мария работала в Морском Генеральном штабе (с 1918 года он находился в Москве) переводчиком. В 1919 году её уволили и Мария через некоторое время вернулась в Петроград.
Юлия Николаевна Эссен (1892 – 1963) в 1912 году вышла замуж за морского офицера Владимира Владимировича Дитерихса (1891 – 1951). В начале Великой войны Юлия стала сестрой милосердия и служила в Петроградском морском госпитале. Муж служил на кораблях Балтийского флота; в ту войну ему пришлось воевать и на суше: в составе Конно-подрывного отряда Балтийского флота при Кавказской туземной конной дивизии. За отличие в боях он был награждён Георгиевским оружием. Получив два ранения, лечился в Царском Селе. Затем научился лётному делу и, в составе морской авиации, в августе 1916 года принял участие в ожесточённых воздушных боях над Рижским заливом. Наградой стали ордена св. Анны 4 степени с надписью «за храбрость» и св. Георгия 4 степени. Далее в его судьбе были: служба в контрразведке Балтийского флота; арест финскими белогвардейцами и заключение в тюрьме Николайштадта; возвращение в Советскую Россию и служба в Красном флоте; подозрение в контрреволюционной деятельности; бегство в Финляндию; эмиграция во Францию, занятия там бактериологией. Могила Дитерихса находится на парижском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.
Совершенно неожиданно, после многих десятков лет, прошедших после кончины адмирала Николая Оттовича Эссена и его жены Марии Михайловны, их имена снова появились в нашей жизни. Так, имя Марии Михайловны Эссен прозвучало в недавно прошедшем фильме Ахима фон Борриса «Четыре дня в мае». Этот фильм снят по мотивам опубликованного в журнале «Вокруг света» проекта сценария журналиста Фроста «Русская былина». Сюжет вкратце: в последние дни Великой отечественной войны группа русских разведчиков вместе с немецкими солдатами сражаются против русских танкистов, командир которых посягнул на честь девочек-воспитанниц сиротского пансионата, где встали на постой разведчики.
Сейчас в Интернете и на страницах прессы ведутся споры по поводу реальности и правдивости тех событий. Бесспорными остаются два обстоятельства: во-первых, одним из действующих лиц является «баронесса Эссен», вдова адмирала из Петербурга; во-вторых, действие сценария и фильма разворачивается на острове Рюген.
Остров Рюген – это упомянутый Пушкиным в «Сказке о царе Салтане» остров Буян, расположенный вблизи побережья Балтийского моря. И остров этот – прародина славян! Мне довелось месяца два жить на этом благословенном острове, излюбленном месте отдыха жителей Германии. Названия некоторых местных деревень носят почти славянские имена: мне, к примеру, запомнилось селение Долге мост.
Остров славится тем, что на нём никогда не было военных действий! Со времён наполеоновских войн Рюген был «госпитальным» островом. Причём, здесь находились госпитали воюющих друг с другом стран! Сохранились памятники погибшим от ран пациентам этих госпиталей. Во время Великой отечественной войны, после занятия Рюгена советскими войсками, на острове в течение нескольких лет были госпитали для раненых красноармейцев. На привокзальной площади столицы Рюгена, города Бергена, до сих пор сохранился памятник советским солдатам, умершим в этих госпиталях.
Ныне, как и в далёком прошлом, на острове действуют пансионаты для сирот и инвалидов. Заведующей таким пансионатом в 1945 году сценарист Фрост сделал баронессу Эссен. Как он нашёл этот прообраз? Возможно, Фрост где-то прочёл о Марии Михайловне Эссен. И его поразили благородство и мужество этой женщины. Именно эти качества присутствовали у баронессы из фильма. Согласитесь, вспомнить о достойной женщине через восемь десятков лет после её кончины, это дорогого стоит! Кстати, фильм «Четыре дня в мае» мне понравился.
В июле 2011 года на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде был заложен фрегат «Адмирал Эссен». После ввода в строй предполагалось направить судно на Черноморский флот.
И вот на-днях в прессе появились сообщение о том, что фрегат «Адмирал Эссен» успешно прошёл государственные испытания в Баренцевом море (Источник).

Так восстановлена память об адмирале Н.О. Эссене, отдавшем все силы на благо России и её флота.
ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ
2016 г.
http://kraeved-gatchina.de/ocherki/vydayushchiesya-zhiteli/essen-semya
© 2019. Владислав Кислов. Все права защищены
|
Метки: эссен страховы |
Емелин А.Ю. - "Осиротели мы…" Памяти адмирала Н.О. фон Эссена |
Емелин А.Ю. - "Осиротели мы…" Памяти адмирала Н.О. фон Эссена
"ОСИРОТЕЛИ МЫ…"
К 100-летию кончины командующего флотом Балтийского моря
адмирала Николая Оттовича фон Эссена.
На скрижалях истории российского флота сохранились десятки и сотни достойнейших имён, верой и правдой служивших Отечеству в мирное и военное время. Куда меньше их среди адмиралов. Одним из тех, кто по праву останется в памяти поколений моряков, является адмирал Николай Оттович фон Эссен (1860-1915). Кто из русских моряков кануна Первой мировой войны не знал этого имени? Слава будущего адмирала началась с января 1904 г., когда в первых же боях с японцами маленький, но быстроходный крейсер II ранга "Новик" действовал впереди всей эскадры. Почти три месяца на страницах газет и журналов эти имена - "Новик" и "капитан II ранга фон Эссен" упоминались постоянно и всегда вместе. 17 апреля 1904 г. Николай Оттович вступил в командование эскадренным броненосцем "Севастополь". И на этой должности он сумел проявить себя - незадолго до капитуляции Порт-Артура вывел корабль из простреливаемой гавани, до последнего вел огонь по японским позициям, а потом затопил броненосец на глубине. В период между Русско-Японской и Первой мировой войнами он сумел из пепла воссоздать Балтийский флот, воспитать и натренировать личный состав, подготовить, сколь было в его силах, театр к боевым действиям. Едва ли кто из адмиралов того времени так настойчиво проводил в жизнь девиз Степана Осиповича Макарова "Помни войну", едва ли кто был так популярен у личного состава. Человеку действия, импульса, порыва - ему чрезвычайно тяжело дались первые месяцы войны с Германией, когда его инициатива сковывалась сверху, а война на море приобретала характер "позиционной". Здоровье было подорвано постоянной нервной нагрузкой, напряжённой работой, частыми межбазовыми переходами. В этих условиях воспаление легких стало роковым. После непродолжительной болезни 7 мая (20 мая н.ст.) 1915 г. он скончался.
Именно деятельность этого человека, подчас неудобного и начальству, и подчиненным, нередко заблуждающегося, но неизменно активного предопределила многое в развитии противостояния русского и германского флотов в 1914–1917 гг. Его преждевременная смерть явилась тяжелейшим ударом, приведшим к необратимым последствиям.
Из дневника второго флагманского минного офицера
старшего лейтенанта И.И.Ренгартена
4 мая 1915 г., понедельник. Гельсингфорс.
"<…> 1-го ком[андующий] плохо себя чувствует, был даже лёгкий сердечный припадок. 2-го он ушёл на миноносце в Ревель.
Сегодня утром мы получили известие, что он заболел, был срочно вызван начальник штаба, который в 2 ч пополудни ушёл в Ревель на “Москвитянине”.
Позже я по телефону узнал, что у ком[андующего] фл[отом] воспаление лёгких, что слабо сердце… Этого только не доставало!
После завтрака рано утром мы уходим в Ревель на "России"".
6 мая, среда. Ревель.
"<…> Мы сейчас ничего не знаем ещё, но вести тревожные: вчера ком[андующий] флот[ом] свезён в госпиталь, по приказанию верхов[ного] главнок[омандующего] временное командование флотом возложено на нач[альника] штаба. У коман[дующего] крупозное воспаление лёгких при слабом сердце.
Сюда зачем-то прибыл мор[ской] министр.
Командующему плохо.
Утром врачи считали положение угрожающим: крупозное воспаление лёгких, слабое сердце, впрыскивали камфару, морфий; страшная слабость. Министр почувствовал себя дурно, когда увидел адмирала - так поразил его вид.
Выписаны знаменитости, - Сиротинин выехал утром из Петрограда экстренным поездом. В командование флотом вступил нач[альник] шт[аба] в[ице]-адм[ирал] Кербер, но об этом во всеуслышание не объявлено. <…>Вечером начальник штаба вернулся к нам на "Россию". Сообщил, что положение кома[ндующе]го немного улучшилось - кризиса надо ожидать в течение трёх дней".
РГАВМФ. ф.Р-29, оп.1, д.199, л.153-154. Машинописная копия.
Из дневника второго флагманского минного офицера
старшего лейтенанта И.И.Ренгартена
7 мая, четверг. Ревель.
"<…> Положение адмирала признается несколько легче, однако исход всё ещё представляется сомнительным.
По разобр[анным] нем[ецким] радио известны места по-видимому разведочных кр[ейсе]ров; наши под[водные] лод[ки] в море, англ[ийские] п[одводные] л[одки] вышли ночью, - им сообщены эти места. М[инонос]цы наши делают разведку к Стейнорту.
7 ч вечера - ужасное несчастье: 6 ч 30 мин адмирал скончался. Я только что шифровал радио главнок[омандующе]му и мор[скому] министру.
Сегодня такой тёплый, тихий, ясный вечер и так безумно грустно. Не прошло и получаса после кончины адмирала, как случилось новое несчастье - нелепое и неожиданное: планируя уже у самой воды, почти коснувшись её, перевернулся аэроплан, и в результате утонул один из лучших лётчиков стар[ший] лейт[енант] Кульнев. Аппарат вдребезги. Сейчас на месте несчастья - в каких-нибудь 4-х кабельтовых от ангаров - спущены 4 водолаза, ищут тело.
Кульнев - опытный и смелый летчик, но всегда слишком рисковавший.
Что же ждёт теперь наш многострадальный флот.
У нас, близких к адмиралу лиц, немало было разговоров о недостатках адмирала, но всегда мы знали, что этот человек всей душой предан флоту, и мы всегда знали, что, если будет бой, он не сдастся и не пожалеет себя. Никто не болел так душой за всё, что делалось, как он.
Полночь. Только что вернулись с берега.
Мы собрались у маленькой церкви на окраине города и там ждали гроб адмирала. Ждали долго, ходили кучками, беседовали, - было тяжко и жутко. Место мрачное и глухое.
Уже стемнело, когда показалась колесница. За нею шёл адм[ирал] Кербер и большая толпа офицеров и некоторых представ[ителей] мест[ной] власти.
Сняли гроб и на руках внесли в церковь.
Я тоже нёс. Когда открыли крышку, я увидел адмирала - вид его был страшен, руки совершенно восковые, лицо в пятнах.
Пал камень на сердце.
Отслужили панихиду.
Его семья выехала в Петроград, только сын остался здесь.
Завтра сюда придёт вызванный из Моонзунда "Пограничник", он должен доставить тело адмирала в Петроград.
Господи! Как всё это тяжело!
Когда мы вернулись, было дано радио: "Морские Силы. Флот извещается, что командующий флотом сегодня скончался".
По приказу гавноком[андующего] в[ице]-адм[ирал] Кербер вступил во временное командование флотом. <…>
Осиротели мы. Грусть тяжкая.
Я вспоминаю Артур - сколько было там горя пережито! Но это было, значит, ещё не всё…"
РГАВМФ. ф.Р-29, оп.1, д.199, л.155-156. Машинописная копия.
Из дневника второго флагманского минного офицера
старшего лейтенанта И.И.Ренгартена
9 мая, суббота. Ревель.
"Вчера в 11 у[тра] была панихида в той же самой церкви.
На корабле масса разговоров: кто? Миллион предположений, называют возможных кандидатов, мелькают имена, от которых делается тошно…
Русин, Стеценко.
Вероятными казались - Кербер и Канин. Наша точка зрения была всецело за Кербера.
Днём все разъяснилось. От верх[овного] главнокомандующего пришло телеграф[ное] повеление – командующим флотом назначен вице-адмирал Канин.
<…>
К трём [часам] снова собрались в Симеоновской церкви. Отслужили последнюю панихиду, простились с нашим адмиралом, потом 20 человек ниж[них] чин[ов] взяли венки, стоявшие у изголовья 4 адмир[альских] флага взяли - контр-адмир[альский], вице-адмир[альский] и адмир[альский] - офицеры с “России”, флаг ком[андующего] флотом взял я; у каждого были ассистенты.
Когда подняли гроб - адмиралы и офицеры, - мы тронулись из церкви. По всему пути от церкви до гавани стояли войска шпалерами (без оружия) - впереди колесница с ельником, венки, флаги, хор, священники (со всех кораблей), гроб провожающие.
Я не менялся с ассистентом, как делали другие, когда рука уставала нести флаг, т.к. по какому-то внутреннему чувству хотелось донести флаг командующего до конца".
Из дневника второго флагманского минного офицера
старшего лейтенанта И.И.Ренгартена
"Дорога была вне города, и народу за шпалерами было мало. Зато в гавани было всё запружено.
У стенки стоял "Пограничник" - чистенький, выкрашенный, с широким помостом вместо сходен. Отменно блестящий вид мин[онос]ца, ибо он только что пришёл из Моонзунда, где 2 недели болтался в походах; он имел только несколько часов времени.
Кормовые флаги были у всех приспущены до половины, флаг комфлота перенесён с "России" на "Пограничник".
11.VII.1914 покойный адмирал шёл на "Пограничнике" в Ревель, чтобы собрать флагманов и сказать, что война неизбежна, чтобы уже с полуночи 13-го принять определённые меры предосторожности и даже подготовки театра. То был переход из мирного времени в военное.
8.V.1915 г. адмирал ушёл на том же "Пограничнике" мёртвым; последний поход - переход в могилу.
Мы внесли гроб и поставили на правых шканцах миноносца, на разостланный ковер. Покрыли гроб венками, поставили флаги. При гробе остались Сполатбог и Тирбах".
Из дневника второго флагманского минного офицера
старшего лейтенанта И.И.Ренгартена
"Музыка играла “Коль Славен”, и при полной тишине м[иноносе]ц стал отходить от стенки; Руднев управлялся идеально, не было слышно ни одной команды, каждый молча и без суеты делал своё дело, и “Пограничник” направился к воротам, вышел и скрылся за стенкой. А мы все ещё долго стояли и смотрели молча вслед, т.к. не находили слов, потому что было ужасно больно и грустно".
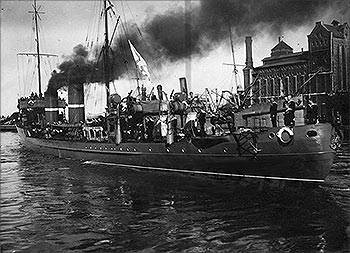 |
Эсминец "Пограничник" с телом Н.О. фон Эссена выходит из Ревеля в Петроград. 8 мая 1915 г. Фотография. 170х115 мм. РГАВМФ. ф.757, оп.1, д.155, л.293. Подлинник. |
Из дневника второго флагманского минного офицера
старшего лейтенанта И.И.Ренгартена
"Я не успел почти ничего сделать в этот день; после обеда опять панихида - по Кульневе. Нач[альник] шт[аба] предложил место в автомобиле, с ним рядом были Дараган и Мирбах.
Кульнев лежал в покойницкой госпиталя, далеко за городом. Вот уж безвременная гибель. Если бы на нём был спасательный жилет, он бы всплыл и был бы спасён, т.к. удар не был смертельный; я видел небольшую ранку над левым глазом. Собрались летчики и товарищи Кульнева, несколько знакомых его, н[ачальни]к шт[аба], адмирал Непенин. Отслужили панихиду. После этого я с Дараганом отправился на "Андрей Первозванный", где сидел часов до 11-ти.
Я вынес впечатление, что назначение Канина принимается благоприятно".
РГАВМФ. ф.Р-29, оп.1, д.199, л.156-158. Машинописная копия.
Из книги капитана 2 ранга К.Г.Люби "Волны Балтики"
"Сердечно, но без полагающейся по мирному времени церемонии, перевозятся останки адмирала Николая Оттовича на его любимый "Пограничник". Именно – сердечно. Команда, любившая своего адмирала, часто с ним плававшая, носившаяся в любую непогоду для смотров и проверок по всем портам и стоянкам частей флота, эта команда, так часто имевшая возможность просто поговорить с адмиралом-человеком, адмиралом-флотоводцем, - теперь не скрывает слёз при виде гроба с телом своего вечно-живого адмирала.
На грот мачте - развевается в последний раз флаг командующего флотом адмирала Эссена. Приспущен до половины большой Андреевский флаг. Международный обычай, указующий на присутствие покойника. Знак скорби и траура.
"Пограничник" в последний раз со своим адмиралом лихо разворачивается в узкой Ревельской гавани и уходит в Петроград.
На Неве "Пограничник" ошвартовался у пристани. Тело адмирала снесли на берег. Отвезли для отпевания в морской Храм-памятник Спас-на-водах. Затем - последний этап - на кладбище Ново-Девичьего монастыря. Скромно. Без полагающейся по мирному времени помпы - наряда войск всех родов оружия. Нельзя. Война. Парады отменены. Один только Севастополь, несмотря на войну, салютовал и отдавал почести своему бывшему адмиралу, генерал-адъютанту Дикову. Столица осталась верна букве. Уставу. Может быть, это и к лучшему. Не любил Николай Оттович парадов, почестей, шума и блеска. Скромный был человек. Скромными похоронами ушёл из мира.
Присутствовали, по положению, генералы и адмиралы. Среди первых выделялся своим высоким ростом и добродушным видом главнокомандующий VI армией и Балтийским флотом генерал Фан дер Флит. Морского министра адмирала Григоровича окружали его ближайшие помощники - вице-адмиралы, начальники: Морского Генерального штаба - Русин, Главного морского штаба - Стеценко, Главного управления кораблестроения - Муравьёв. Временно-командующий Балтийским флотом - Кербер и начальник Минной обороны Канин также прибыли отдать последний долг своему адмиралу. Из великих князей никого не было - все находились на фронте действующих армий".
(Люби К.Г. "Волны Балтики". Рига, 1939. с.273–274).
Из дневника второго флагманского минного офицера
старшего лейтенанта И.И.Ренгартена
13 мая, среда. Ревель.
"<…> Я до того устал вчера, что вечером у меня в глазах прыгали кровавые мальчики… Вся эта нервная деятельность - на фоне тяжелого чувства осиротелости. Вчера как-то особенно было тяжело; всё казалось, что нет самого главного, умерла душа, нет хозяина - распоряжается новое, постороннее лицо, чужое…".
22 мая, пятница.
"Сегодня я видел странный сон: покойный адмирал передал мне записку, на которой было написано: “Когда корабли будут выходить для боя, надо каждому взять крест и евангелие”, и мне казалось, что он торопится высказать предсмертную волю.
Как все странно, нелепо, дико.
Человечество сошло с ума".
РГАВМФ. ф.Р-29, оп.1, д.199, л160, 165. Машинописная копия.
Из письма Николая Оттовича фон Эссена жене Марии Михайловне
"Готовлюсь вступить в бой, - может быть, последний в моей жизни. Иду со спокойной совестью, что сделал все от меня зависящее, чтобы использовать данные мне средства. Мы выполним свой долг до конца".
Емелин А.Ю.
начальник отдела ОС и ГУД РГАВМФ
P. S.
В день 100-летия со дня кончины Николая Оттовича фон Эссена у его могилы на кладбище Новодевичьего монастыря в С-Петербурге была отслужена панихида. В церемонии приняли участие курсанты Санкт-Петербургского военно-морского института и Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова. Организатором мероприятия выступил председатель правления Санкт-Петербургского Комитета восстановления храма Спас-на-Водах Владимир Бельков. Памятник на могиле адмирала был накрыт Андреевским флагом.
ПРИМЕЧАНИЯ
Николай Оттович фон Эссен (11 декабря 1860 - 7 мая 1915 г.) родился в С-Петербурге, происходил из потомственных дворян Эстляндской губернии. По окончании Морского училища 20 апреля 1880 г. произведён в гардемарины, затем 20 августа 1881 г. - в первый офицерский чин мичмана. Участвовал в заграничном плавании на фрегате "Герцог Эдинбургский" (1880-1884). Окончил механический отдел Николаевской морской академии (1886) и Артиллерийский офицерский класс (1891). В 1892-1896 гг. - старший артиллерийский офицер крейсера I ранга "Адмирал Корнилов" (плавал в составе Тихоокеанской эскадры на Дальнем Востоке). В апреле 1896 г. возвратился в Кронштадт на крейсере I ранга "Владимир Мономах" (вахтенный начальник). В 1897-1899 гг. служил на отдельном отряде судов в Средиземном море: командир миноносца №120 (1897-1898), старший офицер мореходной канонерской лодки "Грозящий" (1898-1900). Затем командовал миноносцем №123 и миноноской №49 в Финском заливе. Командир парохода "Славянка" (1901-1902), крейсера II ранга "Новик" (1902-1904), на котором отличился в первые месяцы обороны Порт-Артура. С 17 марта 1904 г. - командир эскадренного броненосца "Севастополь", участвовал на нём в сражении в Жёлтом море 28 июля 1904 г., затопил корабль на глубине перед сдачей крепости (20 декабря 1904 г.). Отказался идти в японский плен, дал подписку о неучастии в войне и через США вернулся в Россию. Заведующий стратегической частью Военно-морского учёного отдела Главного морского штаба (1905). Командир строившегося в Англии крейсера "Рюрик" (1906). Далее на Балтийском море: командующий Отрядом минных крейсеров (с 28 июня 1906 г.), 1-м Отрядом минных судов (с 2 октября 1906 г.), Минной дивизией (с 8 декабря 1907 г.), начальник соединенных отрядов на правах начальника Морских сил Балтийского моря (с 24 ноября 1908 г.), и. д. начальника Действующего флота Балтийского моря (с 3 декабря 1909 г.), начальник Действующего флота Балтийского моря (с 18 апреля 1910 г.), командующий Морскими силами Балтийского моря (с 30 мая 1911 г.), командующий флотом Балтийского моря (с 17 июля 1914 г.). В период службы на Балтике был произведён в контр-адмиралы (5 апреля 1907 г.), вице-адмиралы (18 апреля 1910 г.), в адмиралы (14 апреля 1913 г.). Под непосредственным руководством Н.О. фон Эссена Балтийский флот был возрождён после Русско-японской войны, проведены подготовка и обучение личного состава, разработка планов боевых действий на случай войны с Германией, в частности - создана идея Центральной минно-артиллерийской позиции поперёк Финского залива для проведения оборонительного боя в случае попытки прорыва более сильного противника к Петербургу; начато оборудование морского театра. Лично руководил действиями Балтийского флота в начальный период Первой мировой войны. Скончался от воспаления лёгких в Ревеле, погребён на кладбище Новодевичьего монастыря в С-Петербурге.
Ренгартен Иван Иванович (19 октября 1883 - 14 января 1920) - капитан 1 ранга за отличие (28 июля 1917 г.). Входил в состав знаменитого "царского" выпуска Морского кадетского корпуса, воспитанники которого были произведены в офицеры 28 января 1904 г., на следующий день после начала Русско-японской войны. В числе лучших выпускников был послан в Порт-Артур. Прибыв в крепость 29 февраля, он попал на эскадренный броненосец "Полтава". Неоднократно нёс сторожевую службу на внешнем рейде на судовом катере, участвовал в морских сражениях и боях на суше. Ранен пулей в правый локоть и осколком в правый висок (9 августа 1904 г.). После сдачи крепости - в японском плену. Его умение и отвага были отмечены пятью орденами - от Св. Анны 4 ст. с надписью "За храбрость" (26 марта 1904 г.) до Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом (12 декабря 1906 г.). После войны окончил Минный офицерский класс в Кронштадте (1907) и несколько лет преподавал в нём. Наиболее плодотворный период недолгой жизни И.И.Ренгартена связан со штабом командующего Балтийским флотом, в котором он был 2-м минным офицером (с 1912), затем минным офицером, позже помощником флаг-капитана по оперативной части (с 14 января 1917 г.), флаг-капитаном по оперативной части (с 10 марта 1917 г.). Наибольшую известность Ивану Ивановичу принесло изобретение радиопеленгатора, которое, в совокупности с отличной организацией перехвата и дешифровки неприятельских сообщений, дало в руки командованию флота важный козырь в борьбе с противником. После окончания Ледового похода бывший капитан 1 ранга был уволен в отставку. В период Гражданской войны являлся сотрудником Морской исторической комиссии, преподавал в Морской академии. Возвращаясь из поездки в Москву, заразился тифом и умер в Петрограде. Являлся автором книг "Воспоминания порт-артурца" (СПб., 1910), "Радиотелеграфное дело" (1911, 1917), "Очерки по тактике минного дела" (1919), и интереснейших дневников.
Кербер Людвиг Бернгардович (с 30 откября 1916 - Корвин Людвиг Федорович) (19 апреля 1863, г. Дерпт - 9 апреля 1919, Лондон) - вице-адмирал "за отличие в делах против неприятеля" (6 декабря 1914). Окончил Морское училище (1884), Минный офицерский класс (1891), военно-морской отдел Николаевской морской академии (1902). Участвовал в кругосветном плавании на корвете "Витязь" под командованием С.О.Макарова (1886-1889). Флагманский интендант 1-й Эскадры флота Тихого океана (с 12 апреля 1904 г.). Старший офицер крейсера I ранга "Россия" (с 26 декабря 1904 г.). Начальник Морской канцелярии при Главнокомандующем морскими и сухопутными силами, действующими против Японии (14 декабря 1905 г. - 20 февраля 1906 г.). Командир минного крейсера "Донской казак" (1906). Штаб-офицер Морского Генерального штаба (26 июня 1906 г. – 21 января 1908 г.). Командир канонерской лодки "Хивинец" (1908). Морской агент в Англии (1909-1911). Командир ЛК "Цесаревич" (1911-1913). Начальник штаба командующего Морскими силами Балтийского моря (с 7 мая 1913), с 17 июня 1914 – Флота Балтийского моря. Начальник Действующей эскадры Флота Балтийского моря (1915). Член Адмиралтейств-совета (с 2 декабря 1915 г.). Председатель Совещания по морским перевозкам (с 10 февраля 1916 г.). Главноначальствующий г. Архангельска и Беломорского водного района (10 ноября 1916 г. - 7 марта 1917 г.), командующий Флотилией Северного Ледовитого океана (10 ноября 1916 г. - 26 января 1917 г.). Уволен в отставку (3 декабря 1917 г.). Скончался во время операции.
Великого князя Николая Николаевича (младшего).
Григорович Иван Константинович (26 января 1853, СПб. - 3 марта 1930, Ментона) - адмирал (27.09.1911). Окончил Морское училище (1874). Командир КР "Разбойник" (1895), ББО "Броненосец" (1895–1896), минного крейсера "Воевода" (1896). Морской агент в Англии (1896–1898). Командир ЭБР "Цесаревич" (1899–1904). Командир порта Артур (28 марта 1904 г. - 21 декабря 1904 г.). Начальник штаба Черноморского флота и портов Черного моря (с 30 октября 1905). Командир порта Императора Александра III (с 28 декабря 1906). Вр.и.д. главного командира Кронштадтского порта, военный губернатор Кронштадта (13 октября 1908 г. - 31 января 1909 г.). Товарищ морского министра (с 9 февраля 1909 г.). Морской министр (с 19 марта 1911), смещён с должности после Февральской революции. Член Государственного Совета (с 01.01.1914). В отставке с 31 марта 1917 г. Эксперт Военно-морской исторической комиссии по использованию опыта Первой мировой войны (1920). Преподавал морскую практику в Учебном управлении Морского штаба Республики (1922). Умер во Франции.
Сиротинин Василий Николаевич - в 1914 г. лейб-медик, академик, тайный советник, заслуженный профессор медицины, председатель Медицинского совета, Общества русских врачей, руководитель Главного управления Российского общества Красного Креста.
Кульнев Илья Ильич (9 января 1885, Псковская губ. - 7 мая 1915, Ревель) - старший лейтенант (25 марта 1915 г., старшинство с 1 января 1915). Окончил Морской кадетский корпус (1904). На броненосце береговой обороны "Генерал-адмирал Апраксин" участвовал в Цусимском сражении, попал в плен. Окончил теоретические курсы авиации при Петербургском политехническом институте, затем Севастопольскую авиашколу. Морской лётчик (с 1 июля 1914 г.). Начальник 4-й (с 12 января 1915 г.), 1-й (с 3 апреля 1915 г.) авиационных станций. Испытывал ряд новых самолетов, первым совершил на гидросамолете "перевёрнутый" полет, ночные взлет и посадку, в том числе с пассажиром. Погиб при выполнении полёта на летающей лодке ФБА. Исключен из списков погибшим при исполнении боевого служебного долга (18 мая 1915 г.). Могила находится на Новодевичьем кладбище в С-Петербурге (центральная часть, между 3-й и 4-й дорожками).
Из воспоминаний Б.П.Дудорова: "В первых числах мая в Ревеле погиб лейтенант Илья Кульнев, погиб обидно, бесцельно. Сгубила его страсть порисоваться. Видимо, желая показать своё искусство перед стоящими на рейде кораблями, он на малой высоте стал закатывать крутые виражи, скользнул на крыло и был убит на месте" (Цит. по: Король В.В. В небе России. СПб., 1995. С. 131).
В докладе Морского Генерального штаба морскому министру И.К.Григоровичу №141 от 29 мая 1915 г. деятельность лётчика оценивалась высоко: "…старший лейтенант в период своей деятельности по гидроавиации успел оказать развитию этого дела неоценимые услуги. Отличаясь редкой выносливостью и замечательным мужеством, вышеуказанный офицер буквально проводил в воздухе до 7 часов почти ежедневно, чем, конечно, способствовал общему подъёму духа и настроения среди своих товарищей. <…> Кульнев безбоязненно садился на совершенно новые и никому не известные аппараты <...>" (РГАВМФ. ф.418, оп.1, д.1402, л.6.).
О Кульневе также см.: Герасимов В. Листая послужные списки // Морской сборник. 1994. №8. С. 87-89.
Эссен Антоний Николаевич (29 июля 1888 г., Ревель - сентябрь 1917) - старший лейтенант (10 апреля 1916 г.). Окончил Морской кадетский корпус (1907). Служил на крейсер "Адмирал Макаров", пройдя путь от вахтенного офицера до старшего штурмана (6 октября 1908 г. - 3 августа 1913 г.), с осени 1913 г. учился в Николаевской морской академии, с началом войны вернулся на "Адмирал Макаров". Штурманский офицер, офицер связи на английской подводной лодке Е9 (20 октября 1914 г. - 30 июня 1916 г.), был награжден Георгиевским оружием (17 августа 1915 г.), орденами Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом (23 марта 1915 г.), Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (6 декабря 1916 г.) и английским Крестом за отлично усердную службу (1916). Флагманский штурман штаба Дивизии подводных лодок Балтийского моря (20 июня 1915 г. - 2 февраля 1917 г.), командир ПЛ АГ-14 (с января 1917). Погиб с кораблём во время выхода на позицию к Стейнорту между 12 и 20 сентября 1917 г.
Русин Александр Иванович (8 августа 1861 г. - 17 ноября 1956 г., Касабланка) - адмирал (10 апреля 1916 г.). Окончил Морское училище (1881) и гидрографическое отделение Николаевской морской академии (1888). Старший офицер крейсера I ранга "Россия" (1898–1899). Морской агент в Японии (1899-1904). Командир эскадренного броненосца "Слава" (1905-1907), начальник Николаевской морской академии (1908-1910), директор Морского кадетского корпуса (1908-1913). Начальник Главного морского (1913-1914) и Морского Генерального (1914-1917) штабов, одновременно начальник Морского штаба Верхового главнокомандующего (1916-1917). В 1919 г. - сотрудник 2 отделения III секции Единого государственного архивного фонда (бывшего Архива Морского министерства). В эмиграции жил и умер в Касабланке, являлся председателем Всезарубежного объединения русских морских организаций (ВОМО).
Стеценко Константин Васильевич (21 мая 1862, Кронштадт - ?) - адмирал (6 декабря 1916 г.). Окончил Морское училище (1881). Флаг-капитан штабов: начальника эскадры Тихого океана (1900-1903), командующего отдельным Практическим отрядом обороны побережья Балтийского моря (1903), командующего флотом в Тихом океане (1904-1905). Командир крейсеров "Аскольд" (1905-1906), "Рюрик" (1906-1908). Начальник штабов: начальника соединенных отрядов Балтийского моря (1908-1909), начальника Действующего флота Балтийского моря (1909-1911). Начальник бригады крейсеров эскадры Балтийского моря (1911). Командующий Сибирской флотилией (1911-1913). Состоял при морском министре (1913-1914), затем являлся начальником Главного морского штаба (1914-1917). После Февральской революции - член Адмиралтейств-совета, 15 июня 1917 г. уволен от службы. В 1918 г. находился в заключении в Петропавловской крепости.
Канин Василий Александрович (11 сентября 1862 г. - 17 июня 1927, Марсель) - адмирал (10 апреля 1916 г.). Окончил Морское училище (1882). Командир миноносок "Орёл", "Глухарь" (1885), канонерской лодки "Кубанец" (1907–1908), линейного корабля "Синоп" (1908–1911), начальник 4-го дивизиона эсминцев Балтийского моря (1911), Отряда заградителей Балтийского моря (1913-1915), Минной обороны Балтийского моря (1915). Командующий Флотом Балтийского моря (1915-1916). Член Государственного Совета (с 6 сентября 1916 г.), Адмиралтейств-совета (с 1 января 1917 г.). Второй помощник морского министра (с 4 апреля 1917 г.). Член Совещания по судостроению (с 14 июня 1917 г.). Уволен в отставку (13 декабря 1917 г.). В годы гражданской войны - на стороне белых, командовал Черноморским флотом (1919).
О личности В.А.Канина и его деятельности на посту командующего Флотом Балтийского моря высказывались разные суждения. Так, например, флаг-капитан по оперативной части штаба комфлота капитан 1 ранга князь М.Б.Черкасский считал одной из главнейших причин застоя после смерти Н.О. фон Эссена то, что "во главе флота стоит не военный человек, а прекрасный семьянин, хороший игрок в бридж, знаток минного дела и обладатель многих других невоенных добродетелей" (РГАВМФ. ф.418, оп.1, д.5651, л.1).
Вице-адмирал Л.Б.Кербер остался начальником штаба, но 31 мая был назначен начальником Минной обороны Балтийского моря и 17 июня передал штаб флота своему преемнику, контр-адмиралу Н.М.Григорову. 19 июня он получил новое назначение - начальником Действующей эскадры флота Балтийского моря. Это соединение формально существовало с мая 1911 г. (под названием Эскадра Действующего флота Балтийского моря), руководил им лично командующий флотом. После смерти Эссена негласное соперничество между Кербером и Каниным привели к тому, что было решено предоставить первому известную самостоятельность, назначив начальником эскадры. Спустя полгода Кербер получил новое назначение, а эскадра вновь была подчинена непосредственно командующему флотом.
И.И. Ренгартен по этому поводу писал в дневнике:
14.12.1915 "Злоба дня: отчисление Кербера и расформирование эскадры.
Кербер назначен членом Адмиралтейств-Совета, на его место (начальником 1-й бригады линейных кораблей Балтийского моря. - Прим. публ.) Бахирев, на место Бахирева (начальником 1-й бригады крейсеров. - Прим. публ.) - Трухачев, далее: Колчак (сменил П.Л.Трухачева на посту начальника Минной дивизии. - А.Е.), кн. Черкасский (стал вместо А.В.Колчака флаг-капитаном по оперативной части штаба командующего флотом. - Прим. публ.), наконец, на место князя - Типольт.
В этом сейчас всё хорошо и целесообразно.
Уничтожение эскадры есть признание в ненужности и того факта, что она была создана для личности. Но трагизм в том, что по отношению к Керберу, как к боевому адмиралу, его вышибка есть акт чёрной неблагодарности; в этом деле слишком много личных отношений. К сожалению, надо признать, что сам Кербер бывал часто весьма нетактичен и фатально не умел говорить по-русски - отсюда он стал весьма непопулярен" (РГАВМФ. ф.Р-29, оп.1, д.199, л.275–276).
31.12.1915 "Сегодня командующий флотом чествовал со своим штабом Кербера - завтраком. Говорились речи, пенились бокалы, адмиралы лобзались. Искренности было мало, хотя слова с обеих сторон были сказаны хорошие" (РГАВМФ. ф.Р-29, оп.1, д.199, л.279).
Сполатбог Александр Николаевич (29 июля 1880 - 19 ноября 1937 г.) - капитан I ранга за отличие (30 июля 1916 г.). Окончил Морской кадетский корпус (1901). Участник обороны Порт-Артура, в бою 28 июля 1904 г. - командир кормовой башни 305-мм орудий эскадренного броненосца "Цесаревич". С 1906 по 1911 г. состояла на флаг-офицерских должностях при Н.О. фон Эссене, затем и.д. старшего офицера крейсера "Баян" (1911-1913). После этого служил в штабе командующего флотом - флагманский штурман (с 7 мая 1913 г.), флаг-капитан по распорядительной части (с 23 августа 1916 г.). С марта 1917 г. - командир крейсера "Адмирал Макаров", с 15 января 1918 г. - командующий под брейд-вымпелом 1-й бригадой крейсеров Балтийского моря. Впоследствии - начальник штаба Чёрного и Азовского морей (1920), начальник Управления безопасности кораблевождения Чёрного и Азовского морей (1921), начальник Сводно-гидрографического отряда на Чёрном море (1922). Преподаватель военно-морского дела в Одесской артиллерийской школе. Уволен в отставку (10 августа 1926 г.). Репрессирован.
Тирбах Петр Игнатьевич (11 июня 1890 г., г. Ташкент - 20 марта 1953 г., Лос-Анджелес) - старший лейтенант за военные отличия (28 ноября 1916 г.). Окончил Морской корпус (1910). Флаг-офицер штаба командующего Морских сил Балтийского моря (с 22 июня 1913 г.). И.д. старшего флаг-офицера по оперативной части штаба командующего флотом Балтийского моря (с 5 января 1917 г.). После гражданской войны в эмиграции. В 30-е гг. жил в Шанхае, умер в Лос-Анджелесе.
Руднев Владимир Иванович (3 ноября 1879 г. - 25 февраля 1966 г.) - капитан 1 ранга за отличие (6 декабря 1916 г.). Окончил Морской кадетский корпус (1900). На крейсере I ранга "Баян" участвовал в обороне Порт-Артура (1904). Флагманский минный офицер штаба начальника командующего Морскими силами Балтийского моря (1910–1914). Командир эсминцев "Пограничник" (1914–1916), "Изяслав" (1916–1917), крейсера "Рюрик" (1917–1918). В эмиграции жил в Ницце, позднее - в Париже.
Дараган Дмитрий Иосифович (25 декабря 1884 г., г. С-Петербург - 21 декабря 1978 г., Хельсинки) - капитан I ранга (2 октября 1919 г.). По окончании Морского кадетского корпуса (1904) участвовал на эскадренном броненосце "Цесаревич" в обороне Порт-Артура. И.д. флагманского штурманского офицера штаба начальника бригады крейсеров эскадры БМ (1912-1913), бригады линейных кораблей Балтийского моря (1913). Старший офицер линкора "Андрей Первозванный" (1913-1915), командир эсминцев "Деятельный" (1915–1916), "Автроил" (1916-1918). Уволен от службы без права на получение пенсии (12 января 1918 г.). Участвовал в гражданской войне (Север, 1918-1920), после чего жил в Финляндии.
Мирбах Рудольф Романович, барон (18 марта 1882 - 12 апреля 1965 г., Западный Берлин) - капитан 2 ранга за отличие (6 декабря 1914 г.). Окончил Морской кадетский корпус (1902). Участник обороны Порт-Артура (1904). Флагманский минный офицер штаба командующего Флотом Балтийского моря (1914-1917), командир посыльного судна "Кречет" (1915–1917). И.д. главного минёра БФ (1917–1918), уволен от службы (30 апреля 1918 г.). Участник гражданской войны, затем жил в эмиграции.
Непенин Адриан Иванович (21 октября 1871 г., Великие Луки - 4 марта 1917 г., Гельсингфорс) - вице-адмирал (6 сентября 1916 г.). Окончил Морской кадетский корпус (1892). В период обороны Порт-Артура командовал миноносцами "Расторопный" и "Сторожевой" (1904), был награждён орденом Св. Георгия 4 ст. (5 сентября 1905 г.) за отражение атак японских миноносцев в б. Белый Волк. Командир миноносца "Прозорливый" (1907). Начальник 2-го (1908-1909), 8-го (1909) дивизионов миноносцев Балтийского флота. Командир канонерской лодки "Храбрый" (1909-1911). Начальник Службы связи Балтийского флота (1911-1916), командующий Морской обороной Приморского фронта Морской крепости императора Петра Великого (1914-1915). Командующий Флотом Балтийского моря (с 6 сентября 1916 г.). Убит матросами.
https://rgavmf.ru/books/iz-fondov-rgavmf/emelin-ay...pamyati-admirala-no-fon-essena
|
Метки: эссен |
Алексей фон Эссен: «Дворянством нельзя кичиться» |
Алексей фон Эссен: «Дворянством нельзя кичиться»
 Татарстанские дворяне готовятся встретить главу Императорского дома.
Татарстанские дворяне готовятся встретить главу Императорского дома.
Через месяц Казань посетит великая княгиня Мария Владимировна Романова, которая приезжает в столицу Татарстана по приглашению руководства республики. Как собираются встретить ее потомки дворянских фамилий, живущих в Казани? Есть ли шансы России вновь обрести монарха, и стоит ли лоббировать закон о реституции? Эти и другие вопросы корреспондент «БИЗНЕС Online» задала предводителю татарстанских дворян Алексею фон Эссену.
«Дед пообещал отказаться от своих детей, если они вступят в комсомол»
— Алексей Григорьевич, в пору вашего детства, как я понимаю, о дворянском происхождении говорить было небезопасно. Когда вы узнали, к какому роду принадлежите?
Предводитель татарстанских дворян Алексей фон Эссен
— Мой дед пострадал во время репрессий в 1937 году. У моей бабушки на пианино стоял портрет его брата-адмирала, только на снимке он был еще не адмирал, а просто капитан первого ранга. Но наше дворянское происхождение нигде не афишировалось. В 1956 году деда реабилитировали, и тогда в семье начали говорить о нашем происхождении. А до этого времени вскользь говорили про прадеда, бывшего министром юстиции, товарищем министра, его уважал сам император. Мы после войны все жили ровно и одинаково, и задача моих родителей в сословном плане заключалась в том, чтобы внушить детям, что дворянством нельзя кичиться. Мы такие же, как и другие россияне.
— Вы в это время жили в Тбилиси?
— Да, и Грузия в этом отношении была немного иной, там у народа был пиетет перед дворянами. Они всегда уважали и свое дворянство. Большую роль в моей жизни и в осознании рода сыграла книга «Порт-Артур», у отца было три или четыре этих книги, ему все их дарили – хотели сделать приятное. В этой книге много места уделено адмиралу Николаю фон Эссену, любимцу адмирала Макарова, Эссен тогда был еще капитаном второго ранга. Это была история семьи. Когда я уже стал взрослым, отец рассказал мне о том, что в свое время дед пообещал отказаться от своих детей, если они вступят в комсомол.
— Они вступали?
— Нет, никто. И когда я уже был в армии, отец прислал мне письмо, в котором писал, что если ты хочешь сделать карьеру, то в партию тебя примут только в армии.
— Вступили?
— Нет, не тянуло меня. Хотя комсомольцем я был и был активным, был заместителем секретаря комсомольской организации, работал в молодежном движении. Боролся за чистоту рядов, был строгим.
«Это был пиар-ход русского флота»
— Наверняка в какой-то период вы начали изучать жизнь адмирала Николая фон Эссена. Чем он все-таки был славен?
Адмирал Николай фон Эссен. 1907 год
— Повторюсь и скажу, что книга «Порт-Артур» была катехизисом нашей семьи. Адмирал был братом моего деда, и у нас было много его фотографий, братья ими обменивались. Разница между братьями была большая – около 10 лет. Мой дед был самым младшим. У нас в семье был даже рукописный вариант его книги о войне с японцами, но он пропал, возможно, его конфисковали. Николай фон Эссен был единственным моряком в Порт-Артуре, который сумел свой боевой корабль не сдать японцам, а вывести его в открытое море и там принять бой. Две недели они готовились к прорыву блокады, и каждую ночь японцы их расстреливали. Это был броненосец «Севастополь». Будущий адмирал был лихим командиром, прославился он на «Новике». Однажды он пошел в атаку на целый флот, он совершил три маневра, но огонь противника заставлял его возвращаться. Это был, как сейчас выражаются, пиар-ход русского флота, потому что противники увидели, что русский флот не сдался, он ведет боевые действия. Наместник Квантунской области потом вызвал его и сказал: «Как вы смели? Я думал, что вы погибли! Молодец!» Позже, когда был приказ военного министра описать военные действия с японцами, Эссен написал критически. Кстати, одно из его писем жене, где тоже содержалась критика, попало в руки императору. Когда война завершилась, Эссен написал большой труд – описание военных действий. Его доклад был заслушан на офицерском собрании, его слушали от адмиралов – до гардемаринов. Они слушали не дыша, это была правда о войне.
— Уже будучи адмиралом, ваш предок участвовал и в войне 1914 года…
— Он занимался минированием, он целым флотом выходил на охоту. В первые дни войны фон Эссен он вывел весь флот на Балтике и направил его на Швецию, на свою историческую родину. Это был период, когда Швеция колебалась: выступить на стороне немцев или соблюсти нейтралитет. Это был факт устрашения.
— Валентин Пикуль хорошо пишет об адмирале в романе «Моонзунд».
Крейсер II ранга «Новик» и эскадронный броненосец ‘Победа’ под Золотой Горой в Порт-Артуре. 1904 г.
— Он пишет хорошо, но Пикуль был своеобразным человеком. Эссен, кстати, подготовил 6 адмиралов, четверо из них по очереди командовали флотом. Один из его учеников, например, вывел весь флот из Гельсингфорса.
— Род ваш пошел из Швеции?
— Да, это было за 12 поколений от меня. Основателем рода был Томас фон Эссен. Они был не из Швеции, а из Вестфалии, но так как эта территория перешла Швеции, они там оказались. Томас был тевтонским рыцарем, они были рыцари-монахи, но потом он женился и пошел наш род.
— Вам приходилось бывать в Вестфалии?
— К сожалению, нет.
— Как ваша семья попала в Грузию?
— Мой дед после окончания училища правоведения в Санкт-Петербурге немного работал в суде, но чтобы сделать карьеру, надо было ехать в провинцию, он был товарищем прокурора в Кутаиси. И там, как я понимаю, пресекались его пути и пути Иосифа Джугашвили. Думаю, что это правда, потому что через много лет мой дед оказался в списке 100 человек от Грузии, которых решено было расстрелять. И против его фамилии расписались и Жданов, и Молотов. Были такие списки во всех союзных республиках.
— Как же уцелели остальные члены вашей семьи?
— Это для нас загадка. Наверное, сыграло роль то, что мы жили в Грузии, там все-таки репрессии были как-то помягче. Там были сильны человеческие связи. Хотя когда деда арестовали, отцу пришлось уйти с работы. А деда сразу же расстреляли.
«Революция – это беспредел»
— Как так случилось, что вы вдруг решили перебраться в Казань?
Николай фон Эссен с супругой Марией Михайловной. 1913 — 1914 гг.
— Когда про меня говорят швед, немец, это неверно. Мой дед был православным, русским по духу. Я тоже русский уже. Хотя приставка «фон» в семье сохранялась. Во время войны 1914 года многие от нее избавлялись и даже фамилии меняли. Я, конечно, мог бы прожить в Грузии, потому что говорю по-грузински, я знал людей, но как бы там жили мои дети? Мой дед, кстати, тоже собирался уезжать. В национальных республиках надо ассимилироваться или уезжать.
— Вы оставили в Тбилиси квартиру?
— Там оставались моя мать и сестра, они там жили еще некоторое время. А я в 1993 году переехал в Казань, в Грузии в это время президентом был Звиад Гамсахурдиа. В Казань поехали, потому что это родина моей жены, здесь жили мои тесть и теща. Когда читаешь какие-то исторические материалы о революции, все они написаны под каким-то углом. Но когда сам прочувствуешь революцию, как это было в Грузии… Революция – это беспредел. Это страшно. Поэтому я должен был уехать. У меня было два пути: используя фамилию фон Эссен, уехать в Вестфалию, которую в XIV веке покинули мои предки, или остаться русским и переехать в Россию.
— Приставка «фон» у вас сохранилась?
— У меня в паспорте ее нет, но она есть у сына, Николая, с этим были связаны канцелярские проблемы. Ему даже пришлось подавать в суд. Нужно было собрать много бумаг, и даже в Грузии их собирали. К счастью, там в это время жила моя сестра. Николай восстановил нашу фамилию ради потомков. Я не стал это делать, потому что пришлось бы менять много документов.
— Вы приехали и сразу же стали создавать в Казани дворянское собрание?
— Нет, я стал создавать условия для жизни семьи. Но в 1996 году потомки казанских дворян начали создавать дворянское собрание и через Москву вышли на меня. Сын знаменитого артиста Юрия Катина-Ярцева занимался Николаем Карловичем фон Эссеном — знаменитым историком, он был полковником Семеновского полка. Катин-Ярцев заинтересовался потомками полковника, нашел меня. Я в это время еще жил в Тбилиси. Он-то и рассказал про меня казанцам.
— В начале 90-х годов по всей стране, включая Москву, начали организовывать дворянские собрания.
— Да, мы в Тбилиси об этом знали. Моя мама этим интересовалась. Но мы не верили тогда, что это возможно. Но мне всегда казалось, что правильнее было бы называться потомками дворян, потому что дворянство передается по мужской линии. В этом смысле у нас в дворянском собрании, мне кажется, все устроено разумно, мы можем привлечь многих людей, не только тех, у кого дворянство передано по мужской линии.
— Для того, чтобы вступить, нужно пройти геральдическую комиссию?
— Да. Мы помогаем, подсказываем, в каких архивах можно найти документы. Не все так просто. Например, как-то ко мне обратились потомки польских дворян. Посоветовался в Москве и мне сказали, что не все польские дворяне стали российские дворянами. Но я дал им направление поиска, возможно, нужные бумаги и обнаружат. Сейчас многие архивы переведены в электронный вариант, это удобно. В Казани сильные историки, они одни из первых в стране начали поднимать дворянскую тему. Хотя многие архивы в Казани были уничтожены – пожары, революция. Церковные архивы тоже уничтожены. Но дворянский архив уцелел процентов на 70. Выпущена книга «Казанское дворянское собрание», где расписаны все фамилии. Это тоже помогает.
«Все документы мы жестко проверяем»
— Бывают случаи, когда из Москвы, из геральдической комиссии, возвращаются документы?
— Практически нет, мы очень жестко их проверяем. Бывают случаи, когда мы предлагаем людям участвовать вместе с нами в работе, представляем к награде, и если Великая Княгиня дает орден, это право на личное дворянство.
— Для чего люди сейчас вступают в дворянское собрание?
— С точки зрения выгоды, это ничего не дает. Создать положительный образ в глазах людей – этого тоже нет, иногда даже наоборот, могут посмеяться, наверное, это смешно, когда человек что-то бесплатно делает. Но моя цель была иная – восстановление исторической справедливости. Я понимал, что воссоздать дворянское собрание, каким оно было до 1917 года, это невозможно. Но привлечь людей к изучению своего рода, возродить этикет – это все возможно. Вы же видите, что сейчас происходит – деньги определяют все, власть покупается и продается. Дворянский дух – это дух чести. Это культ свободы духа. Если мы сможем привить это нашим детям, это будет только на пользу родине. Мы должны создавать лидеров. Они идут не в политику, они ни на что не влияют, но они дают пример.
— А как строятся отношения с центром и Российским дворянским собранием? Там ведь не все благополучно – предводители меняются. Начинал все князь Андрей Голицын, но ему пришлось уйти.
 — Ситуация такова, что все мы люди, хотя и потомки дворян. Власть меняет человека, слаб человек. Власть проверяет, раскрывает положительные и отрицательные качества. Был князь Голицын, он получил большой аванс от властей, государство выделило на Знаменке под дворянское собрание огромный особняк. Помещение было упущено. Пушкинский музей отвоевал, возможно, это было справедливо, но взамен он мог бы что-то получить.
— Ситуация такова, что все мы люди, хотя и потомки дворян. Власть меняет человека, слаб человек. Власть проверяет, раскрывает положительные и отрицательные качества. Был князь Голицын, он получил большой аванс от властей, государство выделило на Знаменке под дворянское собрание огромный особняк. Помещение было упущено. Пушкинский музей отвоевал, возможно, это было справедливо, но взамен он мог бы что-то получить.
— Здание казанского дворянского собрания уцелело, там сейчас ратуша. Не пытались попросить там какую-нибудь комнату?
— Возможно, я всю свою жизнь неправильно поступаю, но мне не хотелось бы быть просителем. Мне хочется, чтобы дела нашего сообщества дворян, куда входят уважаемые издревле в Казани фамилии Алябьевы, Радзиевские, Костырко-Стоцкие, Любарские, Хованские и другие, действия этих людей должно быть оценено.
— То есть вы хотите, как у Булгакова, «сами придут и все отдадут сами»?
— Не так, я просто хочу, чтобы власти поняли, что нас надо поддерживать, мы можем принести и приносим пользу. Я скажу о себе. Моя первая обязанность как главы семьи – сделать моей семье достойный жизненный уровень. Но у меня есть еще и общественная нагрузка – дворянское собрание, и я там делаю все, что от меня зависит. Мы дружим с обществом мурз, с краеведами, нас объединяет любовь к истории, к своей родине. Я уважаю краеведов, которые готовы сражаться на каждый исторический угол.
— Почему в татарстанском дворянском собрании не платят членские взносы?
— Это мое ноу-хау. Деньги обязывают. Но, наверное, с будущего года введем взносы. Мы сейчас просто по необходимости собираем деньги на какие-то акции. Когда я работал на двух работах, я делал так: одна зарплата для дома, вторая – на общественные дела. Хотел как-то у президента помощь попросить для наших членов, даже письмо подготовил, но потом стыдно стало просить, так и не отправил. Исторически так всегда было, что предводитель дворянства свои деньги вкладывал.
«Теоретически монархию можно реставрировать»
— Российское дворянское собрание признает Марию Владимировну. В мире Кирилловичей не очень жалуют, не все Романовы ее признают. Как вы можете это прокомментировать?
 — Кирилл Владимирович был реальным родственником императора. У него был вполне официальный статус. Этому никто не противился. Разбираться, кто сейчас ближе по крови, наверное, не стоит. Каждый должен выбрать определенную линию, Российское дворянское собрание выбрало Владимира Кирилловича, потом это перешло к его дочери. Сделали ставку на вполне конкретных людей. Метаться, искать, создавать – зачем? Мария Владимировна с точки зрения политической – нейтральный человек, она не стремится к реставрации монархии, она полагает, что должно пройти время.
— Кирилл Владимирович был реальным родственником императора. У него был вполне официальный статус. Этому никто не противился. Разбираться, кто сейчас ближе по крови, наверное, не стоит. Каждый должен выбрать определенную линию, Российское дворянское собрание выбрало Владимира Кирилловича, потом это перешло к его дочери. Сделали ставку на вполне конкретных людей. Метаться, искать, создавать – зачем? Мария Владимировна с точки зрения политической – нейтральный человек, она не стремится к реставрации монархии, она полагает, что должно пройти время.
— То есть вы полагаете, что монархия может быть реставрирована?
— Теоретически, может быть. У нас есть президент, а в Англии – королева. Она символ страны. А испанский король? Он, кстати, сумел повлиять на внутренний климат в Испании. Король – это символ нации.
 — Как вы полагаете, разумным ли было бы принять закон о реституции?
— Как вы полагаете, разумным ли было бы принять закон о реституции?
— Сложный вопрос, я не хотел бы противоречить Марии Владимировне. Она полагает, что это несвоевременно. Прошло почти 100 лет. Но с другой стороны… Наверное, могла бы быть какая-то компенсация людям, все потерявшим во время революции. Сейчас дают возможность взять ранее принадлежавшие дома и усадьбы не в собственность, а в аренду с условием их реставрации.
— Я знаю один такой случай – дом Пороховщикова на Арбате. Он был передан в аренду покойному ныне актеру Александру Пороховщикову. Но там другая ситуация – Пороховщиков был родственником патриарха Пимена.
— Сейчас такая возможность есть у многих – берите родовую усадьбу и восстанавливаете. Но вы же понимаете, каких денег это стоит. Реально ли это? Если мне такое предложат, я точно не смогу. Наши дворяне предлагали мне взять какой-нибудь разрушенный особняк для дворянского собрания и восстановить, но я на это не пошел, у нас нет финансовой базы. Дом Фукса восстановили, это прекрасно, но там же есть инвестор. То другая ситуация. Когда в Тбилиси в нашу семью пришли чекисты, чтобы все реквизировать, они пригнали три машины. Но вещей набрали только на две машины и они были очень разочарованы. Они очень разозлились. А моя бабушка, которая коллекционировала ковры, ответила: «А вы не спросили меня, на что мы эти годы жили». Она эти иранские ковры продавала и на это семья жила. Что мне теперь, этот список найти? Для меня эти ковры не имеют ценности, для меня ценна рукопись книги Николая Оттовича, которую он прислал моему деду.
 — В ноябре в Казань приезжает Великая Княгиня Мария Владимировна. Цель ее визита?
— В ноябре в Казань приезжает Великая Княгиня Мария Владимировна. Цель ее визита?
— Наверное, поднятие нашего духа. Она приезжает по приглашению правительства Татарстана.
Справка
Алексей фон Эссен родился в Тбилиси в 1944 году. Окончил политехнический институт по специальности инженер-механик. Имеет около 20 научных трудов по безопасности дорожного движения, опубликованные на русском и грузинском языках. В 1993 году переехал в Казань. Сейчас работает преподавателем учебно-производственного комбината. Женат, двое детей и два внука.
Татарстанское дворянское собрание было организовано в 1997 году, зарегистрировано как общественная организация, в нем состоят 20 родов, количество членов — 60. За эти годы организовано 12 выставок, читались лекции, члены дворянского собрания участвовали в конференциях и благотворительных акциях. Проводятся соревнования судомоделистов на приз Н.О. фон Эссена. Подготовлен родословный справочник членов собрания. Тесно сотрудничает с потомками мурз.
Татьяна Мамаева
фото: Сергей Елагин
видео: Максим Тимофеев
www.business-gazeta.ru/article/88849/
06.10.2013
Навигация по записям
Общественная палата выделила «самые полезные» НКО
«Лекции по этикету» от барона фон Эссена
http://www.nd-rt.ru/2015/12/05/aleksej-fon-essen-dvoryanstvom-nelzya-kichitsya/
|
Метки: эссен |
Провокатор Его Величества |
Провокатор Его Величества
Опубликовано: 27 Апреля 2019 11:26
0
357
"Совершенно секретно", No.7/423 Апрель 2019
ЕВНО АЗЕФ, БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ АГЕНТ. ФОТО: RU.M.WIKIPEDIA.ORG
24 апреля 1918 года в берлинской клинике от болезни почек скончался человек, живший в Германии под именем купца Александра Неймайера. Жил, заметим, по русскому паспорту – одному из тех, которые некогда предоставил усопшему Департамент полиции Министерства внутренних дел Российской империи, тоже к тому времени уже усопшей. 26 апреля умершего похоронили на кладбище в Вильмерсдорфе, и на его могиле даже годы спустя красовалась лишь дощечка с кладбищенским номером 446. Под которой и нашел свое упокоение Евно Азеф – так по-настоящему звали покойного, 100-летний юбилей смерти которого в прошлом году прошел незамеченным, хотя при жизни он был, наверное, самым блистательным полицейским агентом. Или самым успешным и выдающимся террористом начала ХХ века – это уж как посмотреть. А посмотреть можно по-разному, ибо и до сего дня не распутать, кому больше услужил Азеф – той высокой государственной инстанции, агентом которой он был, или революции…
В этом году исполнится 150 лет со дня рождения великого провокатора. А может, уже и стукнуло: известен лишь его год рождения, но не точная дата. Про Азефа написано несметное множество романов, исследований, очерков, статей и заметок, защищены диссертации. Достоверно известно, что в дела полицейско-провокаторские он влез сам и по своей доброй воле, а не влип по неосторожности или от безвыходности. Не кипел и его «разум возмущенный» настолько, чтобы податься в революционеры, дабы затем оказаться перевербованным царскими жандармами, взявшими его своими твердыми руками за мягкие революционные места. Сын бедного портного из местечка Лысково Гродненской губернии сумел вырваться сначала из проклятой «черты оседлости» – в Ростов-на-Дону, а затем и вовсе из России, отправившись в Германию. Где и поступил учиться на электротехника. Специальность по тем временам крайне престижная, очень востребованная и хорошо оплачиваемая. Потому и поныне не слишком ясно, с чего бы это в апреле 1893 года будущий инженер-электротехник вдруг отправил из Германии в Петербург, в Департамент полиции, письмо, предложив свои услуги в качестве осведомителя, за что поначалу испрашивал ежемесячное вознаграждение аж в 50 рублей…
Трудно сказать, когда и как оказалась перейдена та грань, за которой «просто» информатор государевых служб трансформировался сначала в ценного агента, внедренного в революционную подпольную террористическую организацию, а затем – в ее… руководителя. И, главное, в организатора самых дерзких и знаковых терактов против высших сановников Российской империи. К убийству которых, получается, свою руку приложила и тайная полиция этой самой империи? Ведь именно она и ввела в революционную группу своего агента. Который, если и не создал Боевую организацию партии социалистов-революционеров совсем уж с нуля, то, приняв ее в свои руки после ареста Григория Гершуни, кардинально реорганизовал, превратив в почти безотказную боевую машину смерти.
Именно Азеф руководил Боевой организацией эсеров в самый кровавый и удачный для террористов период, с 1903 по 1908 годы. Именно под его руководством были организованы и самые громкие террористические акты: убийство министра внутренних дел Вячеслава фон Плеве в июле 1904 года (кстати, предшественник Плеве, Дмитрий Сипягин, убит в апреле 1902 года – тоже членом Боевой организации эсеров, руководил которой тогда Гершуни, ближайшим соратником которого был, опять же, Азеф); убийство великого князя Сергея Александровича в феврале 1905 года; два покушения на московского генерал-губернатора адмирала Фёдора Дубасова; убийство петербургского градоначальника Владимира фон дер Лауница; убийство адмирала Григория Чухнина… Азеф также принимал участие в разработке и всех без исключения планов вооруженных восстаний той поры – Московского, Свеаборгского, Кронштадтского. Именно Азеф внедрил в революционный терроризм самые передовые технические новшества того времени, наладив поставку современной взрывчатки из-за границы и поставив на поток производство мощных бомб современного же образца на месте. Более того, он даже планировал использовать аэроплан-бомбардировщик для организации покушения на императора, спонсировав разработку и постройку аппарата. Правда, до бомбардировки Николая II с воздуха так и не дошло, но разработку продали немецкому военному ведомству. И даже как-то не удивляет, что именно агент тайной полиции Азеф стал самым блистательным кадровиком революционеров-террористов: он поставил дело отбора кадров для терактов (и их подготовки) на столь высочайший уровень, что ни один из тех, кого Азеф лично отобрал для работы в терроре, никогда никого не предал, не раскололся на допросе и не выдал товарищей, даже поднимаясь на эшафот. Впрочем, по словам писателя Марка Алданова, списку террористических «подвигов» Азефа «соответствует другой, более длинный, – список революционеров, выданных им департаменту. Их исчисляют десятками, если не сотнями».
Трудно понять, как кураторы упустили момент, когда осведомитель стал играть сам по себе и, главное, для себя, – на полную катушку используя технические, организационные и финансовые возможности: полицейских служб империи – против революционеров, революционеров – против высокопоставленных сановников империи и ее самой. По словам жандармского генерала Павла Заварзина, Азеф «нагло обманывал и партию, и заведывавшего розыском», а покушение на великого князя Сергея Александровича и вовсе организовал, дабы снять с себя подозрения товарищей по партии «и отомстить Департаменту полиции за лишение его крупного содержания (500 рублей в месяц)»! «Он все время играл двойную роль, – писал в своих мемуарах последний директор Департамента полиции Алексей Васильев, – и, получая регулярное содержание от Департамента, одновременно принимал участие в подготовке террористических актов, не сообщая об этом полиции». За все время работы Азефа на полицию, сокрушался Васильев, так и «не были приняты меры предосторожности, чтобы убедиться, что человек, получающий жалованье от государства, не помогает организовывать террористические акты против министров и Великих князей». Но так ведь и его кураторы – они тоже играли, и тоже на себя и для себя, руками своего провокатора добывая чины, ордена, должности, премии, проводя огромные неподотчетные суммы по графе «специальные оперативные расходы». Порой и вовсе решали вопросы, как сказали бы ныне, «чисто конкретно», – руками террористического подполья устраняя тех, кто стоял на их карьерном пути. Так вот заигрались и доигрались – до упразднения империи.
Доигрался и Азеф. Уйдя после своего разоблачения в 1908 году на покой, он осел в Германии, благо средства имелись. Зажил было в свое удовольствие, но все сгубила начавшаяся война: состояние, вложенное в русские ценные бумаги, обратилось в пыль. Первый год он еще продержался, открыв вместе с супругой корсетную мастерскую в Берлине, но летом 1915 года его арестовали, следующие 2,5 года он провел в Моабитской тюрьме. После большевистского переворота Азефа выпустили и, что удивительно, взяли на службу в… германский МИД, внештатно, конечно. Видимо, решили применить его таланты на мутном поле тайных игр вокруг России, но не успели – не выдержало здоровье, подорванное в Моабите…
https://www.sovsekretno.ru/articles/id/6245/?utm_r...r=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
|
Метки: азеф эсеры террор |
Эссены |
Эссены
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Эссен.
| Эссен | |
|---|---|
| нем. von Essen | |
 |
|
 |
|
| Описание герба
Графский герб Петра Кирилловича Эссена, см. текст >>> |
|
| Девиз | Верою и верностью |
| Том и лист Общего гербовника | XI, 8 |
| Титул | графы |
| Часть родословной книги | VI |
| Ветви рода | Эссен-Стенбок-Фермор |
| Подданство | |
 Королевство Швеция Королевство Швеция |
|
 Российская империя Российская империя |
|
 Эссен на Викискладе Эссен на Викискладе |
|
Герб Эссена
Эссен — фамилия, принадлежавшая нескольким немецко-шведским дворянским родам (разного происхождения).
Существует несколько дворянских родов Эссен, происходящих от древних лифляндских дворян, и других, более позднего происхождения. К последним можно отнести русский дворянский род Эссенов (без приставки фон), родоначальником которого был Санкт-Петербургский военный генерал-губернатор, член государственного совета, генерал от инфантерии Пётр Кириллович Эссен (1772—1844), возведённый в 1833 г в графское достоинство Российской империи. В 1835 г. Высочайше повелено графу Якову Ивановичу Стенбок-Фермор, женатому на единственной дочери Петра Кирилловича, Александре, принять фамилию тестя и именоваться Эссен-Стенбок-Фермор.
Самым многочисленным является род фон Эссенов, родоначальником которого был остзейский дворянин Томас фон Эссен. К данному роду относятся такие государственные деятели многих стран, как Ханс Хенрик фон Эссен (Hans Heinrich, Шведский рейхс и фельдмаршал, генерал-губернатор Норвегии, позднее губернатор Скании, возведён в графское достоинство Шведского королевства), Отто Васильевич (Otto Wilhelm; статс-секретарь Е. И. В., тайный советник, сенатор, товарищ министра юстиции Российской Империи), Николай Оттович (русский адмирал, командующий Балтийским флотом, участник Русско-японской войны). Потомки рода сейчас живут во многих странах Европы и обеих Америк. Есть потомки и в России.
Содержание
Описания гербов
Герб остзейского рода фон Эссенов представляет собой щит, где в лазоревом фоне на ветке сидит серебряная сова.
Графский герб Эссена представляет щит, рассечённый горизонтально. От главы — в золотом поле возникающий государственный орёл с тремя коронами, имеющий на груди в щитке вензелевое имя императора Николая I. В нижней же половине гербового щита — в серебряном поле единорог, бегущий влево, и за ним дерево.
Щит увенчан графской короной и под ней три шлема, в нашлемниках имеющие: с боков по три страусовых пера, а в средине — возникающий единорог. Намёт: направо — красный с золотом, налево — лазуревый с серебром. Щитодержцы — воины с копьями, в шишаках. Девиз: «Верою и верностью». Герб графа Эссен внесён в Часть 11 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 8.
Известные представители рода
- Эссен, Александр Антонович (1829—1888) — генерал-лейтенант, начальник 6-й кавалерийской дивизии.
- Эссен, Антон:
- Эссен, Антон Антонович (1797—1863) — генерал от кавалерии, начальник гвардейской кирасирской дивизии.
- Эссен, Антон Оттович фон (1863—1919) — губернатор Петроковской губернии, помощник Варшавского генерал-губернатора, сенатор, егермейстер.
- Эссен, Александр Александрович фон (1748—1805) — генерал-лейтенант, шеф Черниговского драгунского полка
- Эссен, Иван Николаевич (1759—1813) 1-й — генерал-лейтенант, каменец-подольский военный губернатор, рижский военный губернатор.
- Эссен, Льюис (1908—1997) — английский физик-экспериментатор.
- Эссен, Николай:
- Эссен, Николай Иванович (1817—1880) — самарский городской голова.
- Эссен, Николай Карлович (1885—1945) — полковник Российской императорской армии, генеалог[1]
- Эссен, Николай Оттович фон (1860—1915) — русский адмирал, командующий Балтийским флотом.
- Эссен, Отто Васильевич фон (1761—1834) — капитан-лейтенант, эстляндский губернатор
- Эссен, Пётр Кириллович 3-й (1772—1844) — генерал-лейтенант, Оренбургский и Петербургский военный генерал-губернатор
- Эссен, Рейнгольд-Вильгельм Иванович (1722—1788) — генерал-поручик, участник Семилетней войны, Ревельский обер-комендант.
- Эссен, Ханс Хенрик (1755—1824) — шведский фельдмаршал и государственный деятель.
- Эссен, Христофор фон (1717-?) — генерал-поручик[2].
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса:
- Эссен, Ганс Генрик фон де (1755—1824) — адъютант шведского короля Густава III, губернатор Стокгольма, Померании, посол во Франции. N 2763; 18 декабря 1813
- Эссен, Генрих Иванович; майор; № 5257; 1 декабря 1835
- Эссен, Густав Иванович; майор; № 2061 (932); 17 февраля 1809
- Эссен, Максим Карлович; подпоручик; № 4657; 25 декабря 1831
Примечания
- Эссен Николай Карлович. // Проект «Русская армия в Великой войне».
- Эссен-фон, Христофор // Русский биографический словарь : в 25 томах. — СПб.—М., 1896—1918.
Ссылки
- Эссен, графский род // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
- Эссены // Немцы России (энциклопедия) / Председатель ред. коллегии О. Кубицкая. — М: Издательство «Общественная Академия наук российских немцев», 2006. — Т. 3: П—Я. — С. 854. — ISBN 5-93227-002-0.
- Эссены графы (существующий род)
- Friherrliga och grevliga ätterna von Essen nr 158 och 118 (швед.)
|
Метки: эссен стенбок-фермор |
10 театральных художников Серебряного века |
10 театральных художников Серебряного века
В XIX — начале ХХ века художники часто не только писали картины, но и оформляли театральные сцены. Многие из них работали для Русских сезонов Сергея Дягилева и создавали декорации для Московской частной оперы Саввы Мамонтова, Большого и Мариинского театров. Портал «Культура.РФ» рассказывает о десяти живописцах, проявивших себя в качестве художников-постановщиков.
Мстислав Добужинский
Свои первые театральные работы Мстислав Добужинский выполнил по заказу МХАТа. Одним из самых удачных стало оформление спектакля по тургеневской пьесе «Месяц в деревне». О своей работе над этой постановкой художник вспоминал так: «С Константином Сергеевичем, несмотря на порядочную разницу лет, у меня сразу возникло большое душевное сближение. Он меня мало стеснял и умел необыкновенно уютно беседовать. Задача, которая стояла передо мною в «Месяце в деревне», была гораздо глубже и больше, чем просто создать «красивую рамку» пьесы. Я вошел в совершенно новую и исключительную атмосферу работы, и то, что открывал мне Станиславский, было огромной для меня школой».
Также во МХАТе он оформил спектакли «Николай Ставрогин» по Достоевскому, тургеневские «Где тонко, там и рвется», «Нахлебника» и «Провинциалку». Последней мхатовской работой художника стала еще одна постановка Достоевского — «Село Степанчиково». К этому времени между Станиславским и Добужинским накопились творческие разногласия, из-за чего они перестали сотрудничать. Несмотря на это, художник всегда тепло вспоминал Станиславского.
В эмиграции Добужинский много работал в Каунасском театре — там он поставил десять опер, среди них — «Пиковая дама», «Паяцы», «Борис Годунов», а также лучший, по мнению критиков, его спектакль — «Дон Жуан». Добужинский также подготовил декорации для балета Михаила Фокина «Русский солдат», вместе с Михаилом Чеховым работал над лондонской постановкой «Бесов». В США, куда он переехал в конце жизни, ему удалось оформить спектакль «Бал-маскарад» Джузеппе Верди в Метрополитен-опере и «Воццек» Альбана Берга в Нью-Йоркской опере совместно Федором Комиссаржевским.
Константин Коровин
Первые шаги в качестве художника-сценографа Константин Коровин сделал в частной опере Саввы Мамонтова. Там в 1885 году он оформил «Виндзорских проказниц» Отто Николаи. В следующие 15 лет Коровин работал в театре Мамонтова над десятком постановок — среди них «Аида», «Самсон и Далила» и «Хованщина». О его декорациях к опере «Лакме» Лео Делиба критики писали: «Все три декорации «Лакме» художника Коровина вполне прекрасны — от них точно веет тропическим зноем Индии. Костюмы сделаны со вкусом, более того — они оригинальны».
В дальнейшем Коровин работал в Большом театре, там он оформил «Русалку» и «Золотого петушка», а для Мариинского театра подготовил декорации к «Демону» Рубинштейна. Как писал художник: «Краски, аккорды цветов, форм — эту задачу я и поставил себе в декоративной живописи театра балета и оперы». Несмотря на сорокалетний опыт и более сотни поставленных спектаклей, в эмиграции Коровин-декоратор первое время не был востребован. Но с открытием Русской оперы в Париже художник вернулся к любимой профессии и создал декорации к «Князю Игорю».
Александр Головин
В Большой театр Александр Головин попал по рекомендации Василия Поленова — здесь он создал декорации для опер «Ледяной дом» Арсения Корещенко и «Псковитянка» Николая Римского-Корсакова. Художник вспоминал: «Я не любил начинать с начала, то есть с первой картины и переходить затем ко второй, третьей и т.д., а начинал либо с конца, с последней картины, либо с середины. Так, при постановке «Ледяного дома» я начал с картины рассвета над цыганским табором.
Трудность работы заключалась в том, что все приходилось мне делать самому: я никогда не умел рассказывать, что именно мне нужно, чего я добиваюсь, и всегда предпочитал сделать работу сам, а не поручать ее помощникам».
Работал Головин и для «Русских сезонов» Дягилева в Париже — он оформил оперу «Борис Годунов» Модеста Мусоргского и балет «Жар-птица» Игоря Стравинского. Готовил постановки и для Мариинского театра: всего он оформил там 15 спектаклей. Вместе с Всеволодом Мейерхольдом Головин поставил «Орфея и Эвридику», «Электру» и «Каменного гостя». Мейерхольд писал: «Два имени никогда не исчезнут из моей памяти: Головин и покойный Николай Сапунов, это те, кому, как и мне, приоткрыты были потайные двери в страну чудес». Последней совместной работой Мейерхольда и Головина стал лермонтовский «Маскарад». Головин для этого спектакля написал около четырех тысяч рисунков и эскизов декораций, тканей и реквизита. После революции их творческий союз распался. В 1925 году во МХАТе Головин оформил «Женитьбу Фигаро», а также «Отелло» — этот спектакль для художника стал последним.
Василий Поленов
Среди известных постановок Василия Поленова — оформление сказки «Алая роза» по пьесе Саввы Мамонтова и декорации к «Орфею и Эвридике» Кристофа Глюка, выполненные для Частной оперы Саввы Мамонтова. Также он оформил «Орлеанскую деву» Петра Чайковского. Но Поленов не только работал в чужих театрах, но и организовал свой собственный. Вместе с детьми он показывал спектакли для учеников сельской школы, расположенной рядом с его усадьбой. После революции в театре стали играть уже крестьянские ребята. Вот как описывал это художник: «У нас тут среди крестьян образовалось два театральных кружка…. Между исполнителями или артистами, как мы их называем, есть очень талантливые и одухотворенные. Дочери заняты режиссерством, костюмами, гримом, но и сами участвуют, а я пишу декорации, устраиваю сцену и делаю бутафорию».
Лев Бакст
Одной из первых театральных работ Льва Бакста был балет «Фея кукол» Йозефа Байера, поставленный в 1900 году. Бакст много работал для Эрмитажного и Александринского театров. Позже он сотрудничал с Русскими сезонами Сергея Дягилева, благодаря которым его узнали в Европе. Бакст декорировал балеты «Клеопатра», «Шехерезада», «Карнавал» и другие. Особенно художнику удавались античные и восточные произведения. Как театральный художник Бакст достиг особенного мастерства в создании костюмов. Модели, придуманные Бакстом, не только нашли свое место на сцене, но и серьезно повлияли на мировую моду того времени. Бакст так описывал свой творческий метод: «В каждом цвете существуют оттенки, выражающие иногда искренность и целомудрие, иногда чувственность и даже зверство, иногда гордость, иногда отчаяние. Это может быть… передано публике… Именно это я пытался сделать в «Шахерезаде». На печальный зеленый я кладу синий, полный отчаяния… Есть красные тона торжественные и красные, которые убивают… Художник, умеющий извлекать пользу из этих свойств, подобен дирижеру…»
Николай Рерих
Первый театральный опыт Рериха пришелся на 1907 год: создатели «Старинного театра» в Петербурге Николай Евреинов и Николай Дризен поручили ему оформить спектакль «Три волхва». Критики дружно ругали постановку, но, однако, хвалили декорации. Позже по заказу Дягилева Рерих оформил для Русских сезонов «Князя Игоря» и «Псковитянку» (совместно с художниками Александром Головиным и Константином Юоном). Как писал режиссер Александр Санин Рериху: «ты в этой вещи будешь «велик». Если бы ты не существовал, тебя надо было бы для «Игоря» выдумать и родить». С восхищением о театральных работах художника писала и парижская пресса: «Я не имею чести лично знать Рериха… Сужу о нем только по декорациям в Шатле и нахожу их чудесными… Все, что я видел в Шатле, переносит меня в музеи, на всем видно глубочайшее изучение истории, и во всем этом нет обыденщины, банальности и нудной условности, к которым так привыкла наша театральная публика…» Еще одной работой Николая Рериха для Дягилева стал балет Игоря Стравинского «Весна священная», о которой композитор вспоминал: «Я занялся работой с Рерихом, и через несколько дней план сценического действия и названия танцев были придуманы. Пока мы жили там, Рерих сделал также эскизы своих знаменитых задников, половецких по духу, и эскизы костюмов по подлинным образцам из коллекции княгини».
Виктор Васнецов
Виктор Васнецов для театральной сцены работал мало, однако его эскизы к «Снегурочке» Александра Островского стали новаторскими в отечественной сценографии. Сначала Васнецов оформил домашний спектакль в усадьбе Саввы Мамонтова Абрамцево. К слову, Васнецов не только исполнил декорации, но и сыграл роль Деда Мороза; Илья Репин был боярином Бермятой, а сам Савва Мамонтов — царем Берендеем. Через три года Виктор Васнецов повторил оформление «Снегурочки», но уже для Московской частной оперы Саввы Мамонтова. Художник вдохновлялся древнерусским зодчеством и народными ремеслами. Вот как писал об этой постановке критик Владимир Стасов: «Васнецов сочинил все костюмы и декорации — в том числе «Палату Берендееву». Это — истинные chef-d’oeuvre (шедевры) театрально-национального творчества. <…> Никогда еще ничья фантазия, сколько я способен судить, не заходила так далеко и так глубоко в воссоздании архитектурных форм и орнаментистики Древней Руси, сказочной, легендарной, былинной. Все, что осталось у нас в отрывках бытовых от древней русской жизни, в вышивках, лубочных рисунках, пряниках, деревянной древней резьбе, — все это соединилось здесь в чудную, несравненную картину. Для любования и изучения не только художников, но и всех развертываются здесь широкие, далекие горизонты».
Иван Билибин
Иван Билибин известен в первую очередь своими книжными иллюстрациями к русским сказкам и былинам. Но проявил он себя и как театральный художник. Среди его работ — балетная сюита «Русские пляски». Об эскизах костюмов к этой постановке он писал: «Был ли красив этот костюм? Он был великолепен. Бывает красота движения и красота покоя. Взять хотя бы наш русский танец. Мужчина пляшет, как бес, охватывая головокружительные по быстроте коленца, лишь бы сломить величавое спокойствие центра танца — женщины, а она почти стоит на месте, в своем красивом наряде покоя, лишь слегка поводя плечами».
Он оформлял «Фуэнте Овехуну» Лопе де Вега для Старинного театра, «Золотого петушка» Николая Римского-Корсакова и «Аскольдову могилу» Алексея Верстовского для частного московского Оперного театра Зимина, «Руслана и Людмилу» Михаила Глинки и «Садко» Николая Римского-Корсакова — для театра Народного дома в Петербурге. Как и другие художники начала XX века, Билибин работал для Русских сезонов в Париже — участвовал в оформлении оперы «Борис Годунов» и танцевальной сюиты «Пир». В эмиграции Билибин декорировал постановки русских опер «Царская невеста», «Князь Игорь», «Борис Годунов» в Театре Елисейских Полей и оформлял балет «Жар-птица» Игоря Стравинского в театре Колон в Буэнос-Айресе.
Александр Бенуа
Первой театральной работой Александра Бенуа стало оформление одноактной оперы «Месть Амура» в Эрмитажном театре в 1900 году. Через два года он уже работал над грандиозной оперой «Гибель богов» Вагнера на сцене Мариинского театра, а затем — над балетом «Павильон Армиды» Черепнина, к которому он к тому же написал либретто. Игорь Грабарь писал о художнике: «У Бенуа много страстей, но из них самая большая — страсть к искусству, а в области искусства, пожалуй, к театру… Он самый театральный человек, какого я в жизни встречал, не менее театральный, чем сам Станиславский, чем Мейерхольд…»
В Европе Бенуа прославился благодаря участию в Русских сезонах Дягилева: он оформил балеты «Сильфиды», «Жизель», «Соловей». Но лучше всего ему удались декорации к балету Стравинского «Петрушка», к которому он также написал либретто. Бенуа много работал и со Станиславским в МХТ — он оформлял пьесы Мольера «Мнимый больной» и «Тартюф», «Хозяйку гостиницы» Гольдони. Станиславский так вспоминал художника: «Бенуа оказался очаровательным. Он слушает, охотно идет на всякие пробы и переделки и, видно, хочет понять секреты сцены. Он прекрасный режиссер-психолог и великолепно и сразу схватил все наши приемы и увлекся ими. Очень трудолюбив. Словом — он театральный человек». В эмиграции Бенуа работал в парижском театре «Гранд-опера», где создал декорации к «Поцелую феи» Игоря Стравинского.
Сергей Судейкин
Первые работы Сергея Судейкина в театре, как и у многих художников его времени, стали возможны благодаря сотрудничеству с Саввой Мамонтовым. В театре-студии на Поварской он оформлял «Смерть Тентажиля» Метерлинка. Впоследствии он работал и над другой пьесой Метерлинка — «Сестра Беатриса», о которой Александр Блок писал: «Точно эти случайные зрители почувствовали «веяние чуда», которым расцвела сцена, мы узнали высокое волнение, волнение о любви, о крыльях, о радости будущего».
В Новом Драматическом театре Судейкин сделал декорации для «Цезаря и Клеопатры» под началом Федора Комиссаржевского. В Малом театре он оформил балеты «Лебединое озеро», «Привал кавалерии» и «Тщетная предосторожность». Дягилев привлек Судейкина к оформлению «Послеполуденного отдыха Фавна» Клода Дебюсси и «Весны священной» Игоря Стравинского, а также «Трагедии Саломеи» Флорана Шмидта. В эмиграции Судейкин был сценографом кабаре «Летучая мышь» в Париже и работал в «Метрополитен-опере» в Нью-Йорке.
Автор: Лидия Утёмова
Теги:
ТеатрыПубликации раздела Театры
Смотрите также
5 костюмов Музея Большого театра
Халат Федора Шаляпина, платья от Пьера Кардена и другие экспонаты.
Какое вы направление в искусстве?
Готика, реализм или авангард?
«Ну какой ты фараон! Ты не фараон, ты лакей»
Мариус Петипа в воспоминаниях артистов балета.
https://www.culture.ru/materials/253887/10-teatral...r=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
|
Метки: театр деятели культуры |
Таинственные факты о «Мастере и Маргарите» |
Таинственные факты о «Мастере и Маргарите»
Один из самых ярких и известных романов XX века до сих пор будоражит умы читателей. Произведение М.А. Булгакова неоднократно экранизировали и ставили в театре. Не каждый знает, но за историей о «Мастере и Маргарите» тянется вереница таинственных и, порой, пугающих фактов и происшествий.
1. Воланд – прототип дьявола
В мире ничто не делится на абсолютное добро и абсолютное зло. В «Мастере и Маргарите» Воланд – покровитель творчества и истинной любви. Эпиграфом к роману служит цитата из «Фауста» Иоганна Гёте «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Те, кто читал Гёте, помнят, что это слова Мефистофеля, дьявола. Это и является прямой отсылкой к тому, что Воланд действительно является прототипом библейского дьявола.
Кадр из мини-сериала "Мастер и Маргарита" (2005)
2. Маргарита – жена Булгакова
Елена Сергеевна Шиловская – жена и муза Михаила Александровича Булгакова. Именно она стала для писателя прообразом Маргариты – любящей, преданной и вдохновляющей женщины. Также частью архетипа главной героини романа стала знаменитая французская королева Марго. В сцене Великого бала Сатаны один из гостей путает Маргариту с Маргаритой Валуа, называя ее «светлая королева Марго». История нам говорит, что королева благоволила творческим людям, художникам и поэтам. Этот факт очень органично влился в концепцию романа.
Кадр из мини-сериала "Мастер и Маргарита" (2005)
3. Последние слова романа – смертный приговор?
Над последней редакцией романа Булгаков начал работать в 1937. Писателю постоянно что-то не нравилось, он делал правки в сюжете, добавлял детали, доводя рукопись до совершенства. Последним, что Булгаков добавил в роман – это реплика Маргариты «Так это, стало быть, литераторы за гробом идут?». Через месяц писатель умер.
Кадр из мини-сериала "Мастер и Маргарита" (2005)
4. Время перестает существовать
Каждый, кто читал или смотрел «Мастера и Маргариту», обращал внимание, что в романе не названа дата событий. Предположительно, линия Воланда и компании, Мастера и Маргариты происходит с 1 по 7 мая 1929 года, в Страстную неделю. А линия Понтия Пилата и Иешуа Га-Ноцри происходит в течение недели в 29 году. Именно эта неделю потом назвали Страстной. В первой части романа действия двух линий идут параллельно, во второй части они соединяются. Для героев время перестаёт существовать.
Кадр из мини-сериала "Мастер и Маргарита" (2005)
5. Преданность до конца
Роман был опубликован в 1966 году, через 26 лет после смерти Булгакова. В этом заслуга Елены Сергеевны, жена писателя. После смерти Булгакова она долгое время пыталась опубликовать рукопись, но прекратила попытки после нападок на Ахматову и Зощенко. Только в эпоху «оттепели» удалось напечатать роман, но с цензурой. Из него вырезали больше 14 тысяч слов. 26 лет Елена Булгакова хранила рукопись и никогда не оставляла надежду показать миру творение своего мужа.
Елена и Михаил Булгаковы
А как вы относитесь к роману «Мастер и Маргарита»?
https://zen.yandex.ru/media/proknigi_literatura/ta...arite-5c759aa955643b00b5d29b78
|
Метки: булгаковы шиловские |
Иностранный агент на Лубянке |
Иностранный агент на Лубянке
28 ноября 2014, 11:49
Николай Муравьев (сидит в центре) с помощниками-адвокатами
Правозащитная организация Политический Красный Крест (позже — «Помполит») работала в сотне метров от Лубянки на протяжении двадцати лет: с 1918 по 1937 год. «Железный Феликс» Дзержинский, а потом и глава ОГПУ Генрих Ягода не только отвечали на запросы защитников арестованных и осужденных, но и пускали их в тюрьмы и изоляторы. Первым советским правозащитникам удавалось добиваться пересмотра решений, возвращения из ссылки, переводов из тюрьмы в больницу и даже освобождения.
Политический Красный Крест
В конце 19 — начале 20 веков под общим названием Политический Красный Крест (ПКК) в России действовало несколько объединений, помогавших политическим заключенным и ссыльным. Сначала подобную организацию создала в Петербурге член исполкома «Народной воли» Вера Фигнер, первыми получателями помощи стали сосланные в Сибирь и отдалённые губернии, а также заточённые в столичные тюрьмы народовольцы. Средства для Политического Красного Креста собирали на благотворительных концертах, литературных чтениях и вечерах, да и просто путём организации добровольных сборов «на политических». Существование организации было полулегальным: наряду с филантропической деятельностью и юридической помощью во время следствия и судов Политический Красный Крест помогал организовать свидания с политическими единомышленниками (слушательницы Высших женских Бестужевских курсов проникали в тюрьмы под видом невест) и побеги.
Название «Красный Крест» без всякого согласования с Международным Красным Крестом заимствовали те же народовольцы, мотивируя свой выбор тем, что политические заключённые являются «солдатами революции» (МКК помогал раненым и пленным военнослужащим).
После Февральской революции Политический Красный Крест заработал как «Общество помощи освобожденным политическим». Его участники полагали, что основным занятием теперь станет возвращение и помощь в поправке здоровья, устройстве на работу и восстановлении в правах бывшим каторжанам и ссыльным. Но очень скоро Политический Красный Крест возобновил свою работу в обычном формате, он начал помогать первым политическим заключённым Советской власти: анархистам, социал-демократам и эсерам, православным и мусульманам, католикам и толстовцам, грузинским меньшевикам и сионистам, участникам белого движения и раскулаченным крестьянам. При этом статус правозащитная организация имела вполне официальный: в 1918 году нарком юстиции Исаак Штейнберг выпустил соответствующий декрет.

Владимир Короленко. Репродукция: Ю. Гурьев / РИА Новости
Учредителями Политического Красного Креста в Москве были 50 человек: политические и общественные деятели, юристы, врачи, литераторы. Условием вступления в организацию был выход из любых политических партий. К концу 1918 года московский Политический Красный Крест насчитывал 227 членов, а к марту 1922 года — 857 членов. Почётным председателем московского ПКК стал писатель Владимир Короленко. Комитеты Политического Красного креста существовали и в других городах: в Харькове, Полтаве, Петрограде.
В юридической комиссии московского ПКК работало 42 человека, они оказывали помощь безвозмездно тем, кого по уставу организации признавали политическими заключенными. А именно всем, кто обвинялся в принадлежности к политическим партиям; заложникам, взятым вместо обвиняемых в политических деяниях; обвиняемым в правонарушениях, совершенных по религиозным мотивам; обвиняемым в контрреволюции, в шпионаже по идейным соображениям; военнопленным гражданской войны.
Одной из ключевых для Политического Красного Креста фигур был его председатель, адвокат Николай Муравьёв — член партии эсеров, назначенный после Февральской революции председателем Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства. После Октябрьской революции Муравьёв работал юрисконсультом Московского народного банка и, вместе со своим заместителем Екатериной Пешковой и ее помощником Михаилом Винавером, помогал политическим заключенным.
Кто такая Пешкова
Екатерина Пешкова родилась в дворянской семье в Полтаве, жила в Самаре, где закончила гимназию и в 19 лет стала работать корректором в «Самарской газете». В редакции познакомилась с фельетонистом Алексеем Пешковым — будущим «буревестником революции» Максимом Горьким. Через год они обвенчались, в 1897 году, у них родился сын Максим. Пешкова и Горький расстались в 1903 году, после смерти младшей дочери. Писатель жил с гражданской женой, актрисой Марией Андреевой, но с Пешковой поддерживал дружеские отношения: сохранилась их переписка, известно, что Екатерина Павловна вела его бухгалтерию. Ей же, как полагают историки, имя знаменитого и приближённого к власти писателя позволяло входить в тюрьмы и следственные кабинеты, просить о смягчении участи арестованных и добиваться пересмотра приговоров.
До Политического Красного Креста в жизни Пешковой была партия эсеров, Париж и знакомство с Верой Фигнер, работа в «Комитете помощи русским политкаторжанам», Италия. Вернувшись в Россию, Пешкова возглавила детскую комиссию в обществе «Помощь жертвам войны», где работала вместе с адвокатом Сахаровым — дедом академика Андрея Сахарова. В возрождённый Политический Красный Крест Пешкова пришла после Февральской революции и, став заместителем Муравьёва, фактически возглавила московскую организацию.
Критики нередко припоминали Пешковой её прошлое в партии эсеров и намекали, что экс-супруга Горького и её помощник, меньшевик Винавер, отдают предпочтение бывшим партийным товарищам. Представители ВЧК, в свою очередь, упрекали Политический Красный Крест в том, что он хлопочет за буржуазию и дворян, игнорируя пролетариат. В ответ на эти обвинения в 1919 году юридическая комиссия ПКК привела статистику поданных ходатайств: на первом месте оказалась трудовая интеллигенция (врачи, учителя, инженеры, бухгалтеры, конторские служащие) — 390 человек или 30%. За рабочих было подано столько же ходатайств (325 или 25%) сколько за буржуа и офицеров вместе взятых (те же 325 или 25%), за крестьян 10% — 130 ходатайств, и столько же за иностранцев.

Екатерина Пешкова
Прием просителей Пешкова вела лично, в помещении ПКК на Кузнецком мосту, дом 16 (позже этот же дом получил номер 24, и в нём помещалась организация-преемник Политического Красного креста — «Помполит»). «Теперь тот скромный двухэтажный дом разрушен, а на его месте построено высокое, принадлежащее КГБ здание. Там на первом этаже находится бюро пропусков. А раньше никакой вывески не было, вернее, у небольшой двери висела вывеска "Курсы Берлица". <...> Вы поднимались по лестнице на второй этаж и шли по длинному коридору, где направо и налево были комнаты, принадлежавшие этим курсам, коридор упирался в стеклянную дверь, и только тут, при тусклом свете электрической лампочки, замечалась небольшая вывеска: Политический Красный Крест, прием юриста в такие-то дни, в такие-то часы, прием Е.П. Пешковой в такие-то дни, в такие-то часы», — вспоминает ПКК автор «Записок уцелевшего» Сергей Голицын.
В «Непридуманном» Льва Разгона тоже есть описание этого дома и его посетителей: «Коридор в нём разделял четыре небольшие комнаты. В самой маленькой из них — два стола. За одним — Екатерина Павловна Пешкова, за другим — её бессменный помощник Винавер. В другой комнате что-то вроде бухгалтерии. Самая большая комната почти всегда забита людьми: ожидающими! И ещё одна большая комната, заставленная ящиками и продуктами, бельём, одеждой… Сюда обращались родственники эсеров, меньшевиков, анархистов: родственники людей из «партий», «союзов» и «групп», созданных, придуманных в доме неподалеку, за углом направо. Здесь выслушивали женщин, стариков и детей и здесь их утешали, успокаивали, записывали адреса, чтобы невероятно скоро сообщить, где находится их отец, муж, жена, мать, брат, сын».
Своей немногословностью, деловитостью Пешкова производила на посетителей суровое впечатление, вспоминает ее подопечная, а потом и приятельница Анна Книпер-Тимирёва: «Народу там всегда было много. Екатерина Павловна много слов не тратила, слишком была занята, и я не задерживалась. Каждый раз, как я от неё выходила в приёмную, ожидающие спрашивали: "Что, сегодня не очень строгая?" Когда я потом рассказала Екатерине Павловне, как её побаивались посетители, она очень огорчилась: "Правда? А я так всегда стеснялась! Мне казалось, что всё на мне такое некрасивое"».
«Увидел я её впервые, когда она с туго набитым портфелем в руках, красивая, эффектная, стройная, в кожаном пальто, в кожаном шлеме лётчика, вышла скорыми шагами из подъезда курсов Берлица, села в коляску мотоцикла и покатила в сторону Лубянской площади. Она всегда ездила в ГПУ таким способом, хотя пешком пройти было два шага», — вспоминает Сергей Голицын. В Государственном политическом управлении (ГПУ) на Лубянке Пешкова получала сведения о местонахождении арестованных и осуждённых, ходатайствовала о переводах и замене наказания и получала или продлевала мандат — документ, дающий ей право посещения мест лишения свободы.
Первая и единственная советская ОНК
«1921 год. Иркутск, тюрьма, женский одиночный корпус. Резко стукнуло окошко, и я увидела даму в шляпе и вуалетке, среднего возраста, чуть подкрашенные губы, решительное лицо. Она внимательно посмотрела на нас — мы сидели вдвоём — и спросила, не нуждаемся ли мы в хлебе. Нет, в хлебе мы не нуждались. И всё, окно снова захлопнулось. Разве я могла представить себе, кем будет в моей судьбе эта незнакомая дама? Что долгие годы в самые тяжёлые дни она придёт на помощь — и столько раз выручит из беды», — так вспоминает свою первую встречу с Пешковой Анна Книпер-Тимирёва. В изоляторы, тюрьмы и лагеря члены Политического Красного Креста ходили с 1919 года, получая мандаты сначала в ВЧК, а потом в ГПУ. Эти посещения выглядели фактически так же, как в наши дни работают Общественные наблюдательные комиссии (ОНК): правозащитники могли в присутствии сотрудников охраны встретиться с заключёнными, осмотреть камеры, поговорить о питании, состоянии здоровья, обращении охраны и следователей. Заключённые могли передать жалобы и ходатайства, получить передачи.
Из воспоминаний Екатерины Пешковой (записано с её слов Книпер-Тимирёвой): «В 20-е годы мы с Винавером возили передачу в Бутырку. В столовой на Красной Пресне мы брали порции второго блюда и вдвоём везли их на ручной тележке. Это довольно далеко и страшно утомительно. Везём, везём, остановимся — и отдыхаем, прислонившись спиной друг к другу».
В Бутырской тюрьме члены ПКК были частыми гостями. В архивах сохранились обращения правозащитников в ВЧК и ГПУ в связи с выявленными там нарушениями: внезапным этапированием заключенных без вещей, побоями, запретами на передачи и на сообщение родственникам сведений о здоровье и местонахождении заключенных. «Не во всех камерах бывали даже "параши"; пользование уборной в третий раз допускается в виде исключения и зависит от усмотрения стражи. Естественно, что такой порядок заключённые готовы подчас приравнивать к своего рода физической пытке. Обращение низшего персонала, по словам заключённых, отличается грубостью, зачастую сопровождается площадной руганью и обращением на "ты". Постановление Президиума ВЧК от 9 сентября 1920 года, где предписывалось вежливое обращение, не исполняется», — сообщается в документе, датированном апрелем 1921 года.
«В Бутырскую тюрьму не принимается никакая посуда, заключённым приходится есть из общих чашек, что весьма негигиенично, просьба распорядиться принимать тазы, ложки, чашки. Во внутренней тюрьме не принимают никаких шерстяных вещей: белье, фуфайки, брюки и прочее, а также обувь», — пишет Политический Красный Крест в ОГПУ 3 ноября 1928 года. На записке стоит пометка: «Обещано дать указание о приёме».

Охрана в Бутырской тюрьме, 1917 год. Репродукция: РИА Новости
Хотя изначально Политический Красный Крест, возглавляемый Муравьёвым и Пешковой, был московской организацией, довольно быстро он приобрел статус всероссийского, а затем и всесоюзного. Вот отрывок из отчета о посещении в октябре 1921 года Орловского централа: «В тюрьме производится стрельба по окнам, в результате чего двое политических заключённых поранены, и одному из них предстоит отнять руку. Пища подаётся с червями, и настроение заключенных стало настолько угнетённым, что привезённые из Орла заключённые предупреждают, что орловские заключённые, пытавшиеся не раз улучшить свое положение голодовками, решили прибегнуть к массовому самоубийству». Вот сведения о положении дел в лагере в Кеми — печально знаменитых Соловках: «Высланные в Соловках жалуются на непосильную работу, грубое обращение, даже побои на работах по сооружению шоссейных дорог на Ухте и в Парондоне. В августе сего года некоторые надзиратели из заключённых за неисполнение непосильного урока заставили стоять раздетыми до белья на пеньке до изнеможения, что является тяжёлым наказанием, ввиду множества комаров. Зимой 26 года в лесозаготовках на 63 участке старший надзиратель Тарасевич и его помощник Севастьянов избивали заключенных. Например, был избит ими уголовный заключённый Иванов Алексей и Андреев, после чего они умерли, как сообщили приехавшие из Соловков».
Посещать тюрьмы участникам Политического Красного креста, а потом и «Помполита» удавалось до 1932 года — это последняя дата сохранившегося в архивах разрешения, выписанного ГПУ на имя Пешковой.
«Глубокоуважаемая Екатерина Павловна!..»
Этими словами начинаются почти все письма в Политический Красный Крест от заключённых, их родственников и знакомых. Те, кто не знал Пешкову лично, слышали о ней от товарищей по несчастью. В архиве, рассекреченном только в 1990-е годы, тысячи писем с таким обращением.
В первую очередь в ПКК шли за информацией: где содержится, как здоровье, скоро ли приговор. С 1922 года, когда заработали Особые совещания (ОСО), люди стали просто исчезать: арестован и всё, родственники в полном неведении. Пешкова наводила справки, просила, требовала, добивалась. Согласно данным того же архива, с 1925 по 1928 год она получила копии почти всех постановлений ОСО ОГПУ по административному размещению политических заключённых. Вела переписку с ОГПУ о сроках и местах ссылки.
По просьбам родственников Пешкова, её помощник Винавер и юристы ПКК подавали ходатайства о перемене места ссылки и заключения, пересмотре дел и применении амнистии, получали разрешения на свидания, на выезд за границу, на временный перевод из лагеря или ссылки в больницу для лечения, нередко добиваясь положительного исхода дела. Вели переписку с Центральным сионистским отделом в Палестине для получения виз на право выезда, с Международным комитетом Красного Креста — если за решёткой оказывались политические-иностранцы.
Ходатайствовали члены ПКК и о судьбе священнослужителей, правда, обстановка в стране в ситуации голода и гражданской войны была такова, что просить за «попов» можно было лишь в случае совсем преклонного возраста или тяжёлой болезни арестанта. Весной 1922 года в Политехническом музее проходил показательный «процесс 54-х» (были арестованы миряне и священники, воспротивившиеся изъятию ценностей из храмов), и Ревтрибунал вынес по нему 11 смертных приговоров. Политический Красный Крест добился частичного пересмотра дела, и в итоге Политбюро сократило число приговорённых к расстрелу с 11 до пяти человек.
Подопечным ПКК был и известный епископ-старообрядец Александр Ухтомский (иеромонах Андрей), окормлявший духовенство 3-й армии адмирала Александра Колчака. Его арестовали в 1921 году за произнесение проповеди, «в которой призывал крестьян организовываться в крестьянские союзы». «Моё преступление состоит в том, что я в церкви проповедь сказал, что слово крестьянин происходит от слова христианин, а слово литургия филологически значит республика. Поэтому я продолжаю считать мой 8-месячный арест досадным недоразумением», — писал Ухтомский в анкете, предложенной ему Политическим Красным Крестом. В феврале 1922 года ПКК удалось добиться перевода священника на лечение в частную клинику, откуда он вернулся в Бутырскую тюрьму. В 1920—1930-е годы Ухтомского ещё не раз арестовывали, но в 1932 году, когда его приговорили к трём годам ссылки и отправили в Алма-Ату, Пешкова могла уже только помогать ему посылками, не пытаясь смягчить участь иеромонаха. В архивах «Помполита» сохранилось письмо, в котором Ухтомский благодарит за присланную ему муку и подписывается «старый дармоед». В 1934 епископа-раскольника снова арестовали и отправили в Ярославский политизолятор. Сразу после отбытия наказания — новый приговор, три года лагерей. В сентябре 1937 года дело пересмотрели, и Ухтомский был приговорён к высшей мере наказания. Расстрелян в Ярославской тюрьме. В 1981 году Православная церковь за рубежом признала его новомучеником.
Летом 1928 года Пешковой писала дочь писателя Корнея Чуковского Лидия — и просила позаботиться о ссыльной анархистке Аиде Басевич: «Через 2 месяца у неё должен родиться ребенок. Беременность её протекает очень тяжело (больные почки). Вчера её родители получили от неё телеграмму: "По распоряжению Новосибирска пересылают в Тулум, со здоровьем отказываются считаться, апеллировала в центр". Не можете ли в этом деле помочь Вы, то есть Красный Крест? Не можете ли Вы добиться того, чтобы эту больную женщину оставили в Минусинске (где она более или менее устроена), хотя бы ещё на 2 месяца, и переслали в Тулун только после родов (если вообще эта пересылка неизбежна)?» По ходатайству Пешковой этап Басевич перенесли на год, в ссылку ее отправили осенью 1929 года, когда ребёнку был год. В 1930 году Аида Басевич вернулась в Ленинград, но через два года была приговорена к новой ссылке — на этот раз на пять лет.
Многочисленные знакомые Пешковой — литераторы, художники, учёные — писали ей о своих попавших в беду знакомых, коллегах, дальних родственниках и просто жертвах политических репрессий, о которых им случайно стало известно. Есть в архиве ПКК письма и от самого Чуковского, от поэтов Анны Ахматовой, Андрея Белого, Максимилиана Волошина, вдовы Валерия Брюсова Иоанны, писателя Алексея Новикова-Прибоя, академика Владимира Вернадского. Основатель советской нефтяной геологии Иван Губкин хлопотал за жену инженера Сергея Вышеградского Анну Золотухину; писатель Евгений Замятин — за мужа своей сестры, школьного учителя Владимира Волкова; композитор Михаил Ипполитов-Иванов просил не высылать из Ленинграда дирижёра Дмитрия Ахшарумова.

Виталий Бианки, 50-е годы. Фото: В. Логинов / РИА Новости
Ходатайство с просьбой не высылать на Урал, оставить в Ленинграде писателя Виталия Бианки в 1926 году подписали Марк Слонимский, Михаил Зощенко, Борис Жидков, Самуил Маршак, Алексей Толстой, Федор Сологуб, Евгений Шварц и многие другие. «С тех пор, как он сослан в Уральск, в детской литературе образовался пробел, который невозможно заполнить. Для того, чтобы продолжать свою работу, Бианки нужно постоянное общение со специалистами, педагогами и учеными. А также как зоологу-орнитологу, ему необходимо наблюдать мир животных той полосы, изучение которых составляет его специальность. Просим в интересах малолетних писателей освободить Бианки досрочно». Стараниями Пешковой сотоварищи освобождения писателя удалось добиться, до 1928 года он жил в Новгороде, а потом вернулся в Ленинград. В 1935 году Бианки снова арестовали, потом выпустили, но предписали в двухдневный срок покинуть Ленинград. Пешкова добилась пересмотра приговора и предотвратила ссылку: «В ответ на Ваш запрос сообщаю, что, согласно полученной из НКВД справке, высылка из Ленинграда Вам будет отменена, — ввиду чего послано извещение о разрешении Вам проживания в Ленинграде до пересмотра дела».
Всем миром — на этот раз не литературным, а художественным — просили за вдову купца и филантропа Саввы Мамонтова. 53-летнюю Александру Мамонтову арестовали в 1928 году. Сначала в ПКК написала Наталья Поленова: «До меня тут в деревне дошло известие об аресте моей племянницы Александры Саввишны Мамонтовой. Недоумеваю, как мог случиться такой факт, зная, как она далека от всякой политики, и волнуюсь за ее физическое и нравственное состояние. Она человек не молодой с очень больным сердцем и парализованной половиной лица. Такие волнения не могут не отразиться на ней». Затем Пешкова получила коллективное обращение на имя председателя ВЦИК Михаила Калинина, подписанное художниками Михаилом Нестеровым, Апполинарием Васнецовым, Ильей Остроуховым, а также композитором Ипполитовым-Ивановым и режиссером Константином Станиславским. На тексте этого обращения, хранящегося в Госархиве, рукой Пешковой написано: «Освобождена».
Иностранный агент
Для самих заключенных и их семей помощь Политического Красного Креста была бесплатной и часто как раз заключалась в материальной поддержке: передачами, продуктами, одеждой, мебелью и деньгами для оставшихся без кормильца семей. На какие же средства существовала первая в Советском Союзе правозащитная организация?
Вот объявление, данное московским ПКК в газете «Жизнь» 29 мая 1918 года: «Возродившийся Политический Красный Крест, преследующий задачи оказания всех видов помощи политическим заключенным, испытывает большой недостаток в материальных средствах. <...> Красный Крест надеется встретить поддержку во всех культурных слоях русского общества и просит нас напечатать, что он с признательностью принимает всякого рода пожертвования, которые надлежит адресовать: Москва, М. Никитская, 25». В начале существования «возродившегося ПКК» в его пользу в Москве устраивались концерты, спектакли, лекции, литературные чтения, лотереи. Участники организации платили членские взносы, а также принимали пожертвования от различных объединений и частных лиц. Помогать ПКК, а позже и сменившему его «Помполиту» старались Анна Ахматова, Михаил Чехов, Александра Толстая, Михаил Сажин и многие другие. Отчисления в Политический Красный крест делали и перешедшие на нелегальное положение партии: меньшевики, эсеры, анархистский «Чёрный Крест».
Активно помогали Политическому Красному Кресту эмигрантские организации: «Политический Красный Крест» в Париже, «Политический Красный Крест» в Берлине, БУНД (Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России), женевский «Комитет помощи политическим заключённым в России», «Общество помощи русским политическим заключённым» в Филадельфии, американское «Общество помощи заключённым социалистам в России», нью-йоркское «Общество помощи русским ссыльным». Помощь принимали любую: как в пользу всей организации, так и адресную — 10 фунтов для передачи заключенному N или 5 долларов для семьи арестанта Z. По данным исследователя архивов ПКК, профессора РГГУ Бориса Морозова, были случаи, когда оказавшиеся в Москве иностранцы просто приходили к Пешковой на Кузнецкий мост и приносили пожертвования.

Устав ПКК
Собирать средства для ПКК за границей и привозить деньги в Москву Пешковой позволял особый, почти дипломатический статус, полученный в качестве уполномоченной Польского Красного Креста. Она была заместителем председателя в этой организации и с 1920 года участвовала в процессе репатриации польских военнопленных, возвращении их на родину путем обмена на российских военнопленных, оказавшихся в Польше. Большинство участников обмена — захваченные на фронтах советско-польской войны в 1920 году. Были и бывшие польские легионеры, служившие в соединениях, созданных в Сибири в 1918 году. Военнопленные поляки содержались в европейской России, в частности, в Тульском лагере, а также в азиатской части страны, в районе Колывани (Новосибирская область). Пешкова разыскивала поляков в тюрьмах, лагерях, госпиталях, вела переговоры с репатриационной комиссией с польской стороны, в том числе и в Варшаве, куда имела возможность свободно и регулярно выезжать. Бывая в Европе, Пешкова занималась и финансовыми вопросами Политического Красного Креста. Регулярно встречалась в Берлине с председателем Берлинского комитета помощи заключённым и ссыльным в России Екатериной Кусковой. Кускова вела активную переписку с Пешковой и Винавером, в 2009 году эти письма были опубликованы в книге «Наш спор с вами решит жизнь». Любопытно, что сохранились только письма Пешковой и Винавера, которые хранила Кускова, — её послания в целях безопасности они уничтожали сразу после прочтения.
Работа уполномоченным Польского Красного Креста в репатриационной комиссии свела Пешкову с основателем ВЧК, а позже председателем ОГПУ Феликсом Дзержинским — человеком, с которым ей пришлось очень тесно сотрудничать, помогая политическим заключенным.
Пешкова и Дзержинский
Знакомы они были и раньше, но многие исследователи деятельности Политического Красного Креста склонны полагать, что именно работа Пешковой по возвращению на родину польских офицеров произвела сильное впечатление на Дзержинского и позже не позволила ему отобрать у правозащитников мандат на посещение тюрем и заставляла выслушивать их просьбы и ходатайства.
Сохранился небольшой рассказ о разговоре с Дзержинским, записанный со слов самой Екатерины Пешковой ее подругой Книпер-Тимирёвой: «Когда кончилась война с Польшей, мне предложили взять на себя работу по репатриации военнопленных поляков — руководство Польским Красным Крестом. Дзержинский вызвал меня к себе. Я ему говорю: "Я очень боюсь брать это дело на себя. Говорят, поляки такие коварные, им нельзя доверять". Тут Дзержинский, который был чистокровный поляк, стал страшно смеяться: "Вот и хорошо: вы работайте, а очень-то им не доверяйте"».
Кстати, известно, что в бюро Польского Красного Креста у «железного Феликса» был осведомитель, о котором Пешкова ничего не знала. Использовал ли он подобные способы контроля Политического Красного Креста, достоверно неизвестно.
Знакомы Пешкова и Дзержинский были ещё до октября 1917 года: она помогала сидящему в тюрьме революционеру, когда работала в «Комитете помощи русским политкаторжанам». Связывал их и тот факт, что сын Пешковой и Горького Максим работал в аппарате ВЧК.
Руководство ВЧК и ОГПУ было близко семье Горького. Зампред ОГПУ и будущий глава НКВД Генрих Ягода был частым гостем в доме на Малой Никитской и на даче писателя. Пешкова использовала это в интересах политзаключенных: «Знаю, что Екатерина Павловна, минуя охранительные посты и секретарей, прямо проходила в кабинет Ягоды и в особо вопиющих случаях не просила, а требовала, и не просто смягчения участи заключённых, а их освобождения», — вспоминает в «Записках уцелевшего» Сергей Голицын. «Надо полагать, что вся эта гуманитарная деятельность Пешковой терпелась с ведома Ленина, который время от времени особенно ухаживал за Горьким», — писал меньшевик Григорий Аронсон.
Все эти знакомства не означают, что обитатели Лубянки встречали Пешкову с распростёртыми объятиями, скорее наоборот, но и просто отмахнуться от просьб и ходатайств они не могли.
В 1922 году, казалось, наступил конец: деятельность Политического Красного Креста была приостановлена. На коллегии ГПУ выступила начальник секретного отдела Андреева с обличительным докладом: ПКК вменялось в вину то, что организация нигде не зарегистрирована, существует явочным порядком, «осаждает» органы своими ходатайствами за «все без разбора категории преступников», а также поддерживает связи с меньшевиками и эсерами — а потому может быть объявлена контрреволюционной. Как отмечает исследователь Лия Должанская, все сказанное на коллегии соответствовало действительности. Политический Красный Крест был выселен из помещения на Кузнецком Мосту, комнаты опечатали, у членов организации отобрали подписки о невыезде из Москвы по делу о контрреволюции.

Феликс Дзержинский, 20-е годы. Репродукция: РИА Новости
В это самое время в Москве шёл процесс по делу руководства партии эсеров, и ПКК оказался в самой гуще событий. Сначала был арестован Николай Муравьёв: он был в этом деле адвокатом и с согласия своих доверителей солидарно с коллегами отказался продолжать участие в процессе, протестуя против его политизации и грубых нарушений закона. После ареста Муравьёва выслали в Казань, а газета «Правда» объявила его, а также защитников Владимира Жданова, Александра Тагера и других «продажными профессионалами-адвокатами» и «прожжёнными судейскими крючками».
За три дня до вынесения приговора по делу эсеров выяснилось, что архив партии хранит у себя Екатерина Пешкова. Дело против неё возбудил лично Дзержинский, но до суда не дошло. «Чудесное» избавление Пешковой от ОГПУ породило предположения о том, что она была агентом, сотрудничала с политическим управлением более тесно, чем того требовали правозащитные задачи. Но доказательств этой версии ни в архивах, ни в воспоминаниях современников не обнаружено. Биографы Пешковой полагают, что ее выручил Горький и всё тот же дипломатический статус уполномоченного Польского Красного Креста.
«Помполит». Последние годы правозащиты
Уже через три месяца после процесса и разгрома ПКК Пешковой удалось добиться разрешения на создание новой организации под необычным названием «Е.П. Пешкова. Помощь политическим заключенным» — «Помполит». Удостоверение о регистрации общества за подписью зампредседателя ГПУ Иосифа Уншлихта Пешкова получила 11 ноября 1922 года. Вместе с документами ей передали изъятый архив и помещение в здании на Кузнецком Мосту.
Внутреннее устройство «Помполита» сильно отличалось от ПКК: вместо выборного руководства и десятков соучредителей — всего два сотрудника, сама Пешкова и её бессменный заместитель Винавер. Утверждало их руководство ГПУ. Только они могли обращаться в органы с просьбами и ходатайствами, получать разрешения на посещение тюрем. В «Помполите» были другие сотрудники (немногим больше десяти человек), но они работали в техническом аппарате.
И главное отличие — «Помполит» лишился права оказывать юридическую помощь своим подопечным. Теперь можно было только давать материальную поддержку, ходатайствовать и просить компетентные органы.
Несмотря на постоянное ограничение полномочий «Помполита», поток просителей не прекращался, и Пешкова, не имея возможности смягчить судьбу осужденных, облегчала быт их родственников, занималась устройством детей репрессированных родителей. Известна история семьи Марины и Николая Мухиных: их сыновья-близнецы, Лев и Сергей, родились в 1927 году, когда родители находились в ссылке в Алма-Ате. Уже тогда «Помполит» помогал Мухиным и материально, посылками, и хлопотал об облегчении их участи. В 1937 году после нескольких арестов и новой ссылки Николай Мухин умер. В апреле 1937 года братья-близнецы Мухины, ученики 2-го класса, прислали Екатерине Пешковой записку: «Екатерина Паловна, маму арестовали. И мы остались одни».
В 1937 году хлопотать об облегчении участи матери малолетних детей «Помполит» уже не мог: Пешкова занималась тем, что поддерживала братьев Мухиных морально и материально, вела с ними переписку, искала родственников, устраивала детей в детдом. 15 сентября 1937 года Марию Мухину приговорили к высшей мере наказания за контрреволюцию и расстреляли в тот же день на Донском кладбище. «Мемориал» приводит цитату из воспоминаний М.В. Базилинской: «После ареста родителей в один из вечеров к телефону подозвали кого-то из мальчиков, и мужской голос сообщил: "Сегодня ночью расстреляна ваша мать, Мария Михайловна Мухина". Бедный мальчик закричал: "Вы врёте!" — и бросил трубку».
И «закручивание гаек», и финансовые трудности (число политических заключенных росло, а источники поступления средств из-за границы иссякали) к 1930-м превратили «Помполит» в справочное бюро: Пешкова могла лишь узнать, вынесен ли приговор, сколько лет дали, куда отправили, можно ли семье последовать за арестантом.

Группа социал-демократов в ссылке в Обдорске, 1929-1930 годы
Историк, профессор МГУ Ярослав Леонтьев приводит диалог, пересказанный внучкой Пешковой Марфой Максимовной: «Когда Ягода спросил бабушку: «Когда же вы закроете вашу лавочку?», она ответила: «Через день после того, как вы закроете свою». Интересно, что ГПУ прекратило свое существование раньше «Помполита» — но на смену ему пришёл НКВД.
В середине 1937 года «Помполит» был ликвидирован по распоряжению наркома внутренних дел СССР Николая Ежова.
После 1937-го
Сразу после закрытия «Помполита» арестовали Михаила Винавера: его обвинили в шпионаже в пользу Польши и приговорили к 10 годам лагерей. В 1942 году он вышел по амнистии и в том же году скончался.
Екатерина Пешкова осталась на свободе, но была лишена былого влияния. Оно частично вернулось к ней после войны: Пешкова невольно породнилась с НКВД. Её внучка Марфа вышла замуж за Серго Берия, сына наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии. В своих воспоминаниях Марфа Пешкова пишет, что Берия-старший предпочитал не встречаться с пожилой родственницей и, если она заставала его дома, просто запирался в кабинете и не выходил, пока она не уйдет. После смерти Сталина Пешкова занималась реабилитационными делами своих старых знакомых: Анны Книпер-Тимирёвой, Ирины Каховской. Умерла Екатерина Пешкова в 1965 году в Кремлёвской больнице, куда попала после инфаркта.
Примечательно, что о периоде своей жизни, когда она оказывала помощь политзаключенным, Пешкова не оставила потомкам никаких воспоминаний. В 1958 году она написала довольно подробную автобиографию, в которой упомянула о двадцати годах одной строчкой: «С 1918 г. по 1938 г. – в «Помощи политзаключённым».
Архивы московского Политического Красного Креста и «Помполита» до начала 1990-х годов находились на секретном хранении. С того момента, как материалы были рассекречены, их исследованием занимается Научно-Информационный и Просветительский Центр «Мемориал».
|
Метки: красный крест пешковы дзержинские террор |
Гоголь, Булгаков и Маргарита |
Гоголь, Булгаков и Маргарита
-
26 Апреля 2019
-
233
Содержание
Булгаков и Гоголь явно имеют что-то общее в своем творчестве. Быть может, потому, что оба обращались к теме потусторонних сил, да и самого вселенского зла. И, для равновесия, к теме великой всепобеждающей любви в самых разных её ипостасях. Но есть свидетельства, что и судьба Булгакова была таинственно связана с судьбой Гоголя.
Гоголь помог

Гоголь был любимым писателем Булгакова еще с детских лет. И когда Михаил Афанасьевич обратился к литературному творчеству, он именно Гоголя считал для себя эталоном.
Сам Булгаков утверждал, что неоднократно встречался с Гоголем – во сне или на грани бреда, когда его посещали странные видения. Булгаков зафиксировал в дневнике, как подобное видение спасло его от пристрастия к наркотику. Было это еще в 1918 году. Булгаков, работая врачом, подхватил смертельно опасный недуг – дифтерию. Спохватился вовремя, но чуть не умер от последствий лечения, сыворотка дала жуткий аллергический эффект. И вот тогда он начал употреблять морфий. Тогдашняя супруга пыталась избавить будущего писателя от зловещей привычки, но тщетно. Пока однажды ему в полубреду не явился Гоголь, строго грозящий пальцем. Это помогло. Тягу к роковому веществу отшибло сразу.

Не раз Булгаков в письмах обращался поначалу к адресату, но внезапно переходил на разговор с Николаем Васильевичем. Таковы письма к Викентию Вересаеву, автору документального труда «Гоголь в жизни». Более того, даже в своем знаменитом письме Сталину от 1930 года Булгаков привел цитаты из Гоголя и подписал письмо его именем. Возможно, так вышло случайно, письмо сочинялось, когда Булгаков был в полнейшем отчаянии. Собственно, это отчаяние и заставило просить или дать ему хоть какое-то пространство для литературного труда, или разрешить покинуть СССР.
Работу ему тогда всё же дали – в театре. Это позволило Булгакову продержаться и продолжить трудиться над главным своим произведением, романом «Мастер и Маргарита». Один из первых вариантов текста этой книги Михаил Афанасьевич бросил в пламя. Как раз за несколько дней до упомянутого выше письма. Поступил он так вполне осознанно – намеревался установить творческую связь между собой и Гоголем. Был период, когда именно Гоголя можно было бы счесть прототипом Мастера – по описанию его внешности.
Указал дом Маргариты

Главным прообразом Маргариты принято считать последнюю жену писателя – Елену Сергеевну. Булгаков утверждал, что и здесь без Гоголя не обошлось. Еще до их встречи он тяжело переживал жизненные проблемы, нездоровый интерес спецслужб к себе, разлад в тогдашней семье. И почти не печатали. Да вдобавок еще и денег не было. Понятно, что Булгаков пребывал в ужасно настроении. И прогулка по Москве его утешить вряд ли могла. Он брел по улицам, погруженный в свои угрюмые мысли. И вдруг столкнулся с тем самым человеком, которого видел в бредовом состоянии почти десятью годами раньше. На сей раз Гоголь ему пальцем не грозил, а указал на внушительный, официозного вида дом совсем рядом. И скрылся.
Через год с небольшим Михаил Булгаков познакомился с Еленой, тогда женой высокопоставленного военного. И когда провожал ее, потрясенно понял, что она живет в том самом доме… Но ей о своем видении он долго не решался рассказать.
Шинель и камень Гоголя

Известные слова, которые Булгаков обращал к Гоголю – «Укрой меня своей чугунной шинелью!» - появилась во время его работы над спектаклем по «Мертвым душам» во МХАТе. В 1932 году Булгаков признавался в письме, что опять видел Гоголя на грани сна и яви. И Николай Васильевич вроде как даже сердился на затею с постановкой, а Михаил Афанасьевич убеждал его в актуальности и важности разговора с публикой о «Мертвых душах». Возможно, он даже хотел эту вырвавшуюся фразу включить в спектакль. Навеяна фраза была, скорее всего, памятником Гоголю работы скульптора Андреева – тем, который советская власть сочла недостаточно торжественным и слишком печальным. А потому он был убран подальше во двор возле нынешней библиотеки им. Гоголя.
Но после смерти Булгакова на его могиле оказался изначальный надгробный камень с места погребения Гоголя. Произошло это через много лет после ухода писателя. Елена Сергеевна случайно увидела в кладбищенской мастерской глыбу, которую убрали с могилы Гоголя, когда тому по случаю юбилея ставили парадный памятник. Обломок гранита, опять же, парадностью не вышел, выбросили его. Вдова Булгакова утверждала, что этот огромный кусок камня с неровной поверхностью отчетливо искрился, несмотря на сумрак в помещении.
https://book24.ru/blog/5293171/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
|
Метки: литераторы булгаковы |
Карта Брюса |
[Карта колдуна Брюса] Географическая карта частей Великой Руссии, Понта Эвксинского или Черного моря, Малой Тартарии (Крым и северное Причерноморье) и пограничных областей Болгарии, Романии и Натолии. Нюрнберг: Картографическое заведение Хоманна, 1720-е гг. 62×51,1 см. Гравюра на меди с ручной акварельной раскраской. Небольшая подклейка бумагой с оборотной стороны по сгибу листа.
Топографическая основа этой карты была создана Георгом фон Менгденом и знаменитым сподвижником Петра I — Яковом Брюсом во время Азовских походов 1695-1696 годов. Во время своего первого заграничного путешествия в 1697-1699 гг. Петр I передал эти материалы для издания карты картографу Яну Тессингу в Амстердаме. Тессинг выпустил карту с латинской топонимикой в 1699 году. Позднее материалы Менгдена и Брюса были использованы знаменитым картографом и издателем Йоганном Хоманном из Нюрнберга, который впервые заменил название государства «Московия» на «Россия» в названиях карт. В картуше карты помимо герба России — двуглавого орла присутствует аллегорическое изображение молодого русского царя в облике юного Марса — бога войны в римской мифологии.
Карта обладает исторической и культурной ценностью музейного уровня.
Продажи: Аукцион «Литфонд» № 74 — 100 000 руб., № 95 — 100 000 руб., № 102 — 100 000 руб., № 118 — 100 000 руб.
Эстимейт: 85 000 – 90 000 руб.
|
Метки: брюс менгдены |
Карл Густав Маннергейм |
Карл Густав Маннергейм
Десятилетие, изменившее жизнь Карла Густава Маннергейма
Биографическая гипотеза. Автор В.С. Хукка.
Глава I. Крушение семьи.
Потеря сына, разрыв с родственниками, отъезд на войну. В жизни маршала Финляндии Маннергейма и президента этой страны есть период с 1902 по 1912 год, изменивший полностью его судьбу.
После смерти новорожденного сына летом 1894 года Анастасии и Густаву Маннергеймам стало трудно сохранить семью. Рождение через год дочери Софьи не помогло ее отцу смириться с потерей сына, хотя впоследствии из двух дочерей – Софьи и Анастасии - Софью он любил больше.
Проблемы в общении и противоречия, и без того существовавшие между супругами, усугубились. Густав пустился во все тяжкие и не скрывал своих любовных похождений. Его жена после нескольких лет скандальных отношений втайне от мужа в 1901 году уехала в район боевых действий в Китае. После ее возвращения в семье Маннергеймов на какое-то время воцарился мир. Густав слушал рассказы жены о пережитых ужасах, жалел ее, но любовные отношения между супругами, по всей видимости, окончательно сошли на нет. Каждый из них жил своей жизнью. Разделив квартиру и разъехавшись, они просто искали повод, чтобы расстаться официально. Развод состоялся только в 1919 году, когда Маннергейм избирался в президенты Финляндии, и его брак с русской мог сыграть при этом негативную роль.
Оскорбленная изменами мужа и его откровенной связью с графиней Елизаветой Шуваловой, ставшей осенью 1902 года вдовой, Анастасия Маннергейм решила уехать за границу, на этот раз во Францию. Она увезла с собой обеих дочерей, предварительно приведя в порядок свои финансовые и имущественные дела. Для управления имениями, полученными по наследству или приобретенными на денежные средства Анастасии, были назначены ее родственники. Густав только после ее отъезда узнал, что он лишился не только жены и дочерей, но и всего материального благополучия, которое приобрел благодаря женитьбе на Анастасии, дочери генерал-лейтенанта Николая Устиновича Арапова.
Впоследствии Маннергейм признал, что в крахе его семьи есть большая доля его вины и очень переживал, когда его бывшая жена умерла в Париже в 1936 году. Но в молодости, при отсутствии достаточного жизненного опыта и имея пример своих разведенных родителей, он не смог сохранить брак. Различия в характере, менталитете и смерть сына стали непреодолимой преградой в сохранении семейной жизни Маннергеймов. Наверное, если бы у Маннергейма был сын, все могло бы быть по-другому.
Возможно, переживания Густава из-за потери наследника усугублялись еще тем, что у младшей сестры его жены – Софьи, вышедшей в 1896 замуж за графа Дмитрия Менгдена, родились двое сыновей – Георгий в 1897 году, а еще через два года, в 1899 году, Николай. В Петербурге ходили слухи, что Маннергейм женился на Анастасии Араповой по расчету, что ему больше приглянулась младшая сестра Софья, но так как традиции в России не позволяли младшей сестре выходить замуж прежде старшей, он женился на Анастасии, чтобы не потерять значительное приданное. Пословица «Стерпится, слюбится» в устройстве судеб людей соблюдалась неукоснительно.
Сестры Араповы после смерти родителей жили в семье тети – Марии Александровны Звягинцовой (1845-1908). Она стала их опекуншей в 1880 году после смерти старшей сестры Веры Александровны Араповой. Отец девочек генерал-лейтенант Николай Устинович Арапов (1825-1884) умер еще раньше, и их опекуном со стороны родственников отца был его младший брат Арапов Константин Устинович (1831-1916).
Александр Звягинцов, двоюродный брат сестер Араповых, и их родственник Петр Арапов служили в Кавалергардском полку вместе с Маннергеймом и были его друзьями. Предложение о вступлении в брак Анастасии Араповой Маннергейм сделал, когда по приглашению друга жил в доме Звягинцовых. Возможно, Густав не очень любил Анастасию и, в душе опасаясь за прочность будущей семьи, настоял, чтобы венчание было совершено по православной и лютеранской традициям. Наверное, появление сына могло бы укрепить этот брак.
В свое время отец Густава оставил семью, где было семеро детей, поселившись с любовницей в Париже. История повторилась, но теперь жена с двумя дочерьми без объяснений с мужем покинула Маннергейма, также уехав во Францию. Она не хотела травмировать дочерей разлукой с матерью, как при отъезде на Восток, когда оставляла их в Петербурге.
Она поквиталась с мужем за равнодушие и измены, но этот разрыв между нею и Густавом, в будущем, по всей видимости, сильно повлиял на судьбу дочерей Маннергейма. У них обеих не было семей.
Судьба же их двоюродных братьев Менгденов в супружестве была счастливой. В годы революции Георгий и Николай вместе с родителями эвакуировались из Крыма и жили в Париже. Старший, Георгий, в 1918 году в Кисловодске женился на дочери кавалергарда Дмитрия Шереметева – Ирине. Младший из Менгденов за границей вступил в брак с герцогиней Марией Лихтенбергской.
Члены семейства Менгденов в 1919 году, укрываясь от большевиков во Франции, наверное, благодарили судьбу, что в 1904 году в Париже поселилась Анастасия Маннергейм с дочерьми.
Анастасия уехала во Францию не без подсказки своей тети Марии Звягинцовой, потому что с 1864 года в этой стране жил Владимир Александрович Звягинцов (1838-1926), родной брат ее мужа.
Оставшись в 1903 году в Петербурге без жены и дочерей, Маннергейм очень быстро осознал, что у него большие материальные проблемы из-за стремительно растущих долгов и значительное количество недоброжелателей.
Густав был в таком угнетенном состоянии, что даже подумывал о самоубийстве. Наверное, он переживал то же, что его мать, Хелена Маннергейм (1842-1881), когда она, оказавшись в положении брошенной жены, не сумела перенести позора и умерла в возрасте 39 лет от сердечного приступа.
Привыкший за десять лет супружества жить роскошно, Маннергейм быстро нищал и, стараясь забыться, весь ушел в служебные обязанности, пропадая сутками в офицерской кавалерийской школе, куда его перевели по просьбе начальника школы генерала А.А. Брусилова. Но его долги, особенно из-за пристрастия к игре в карты, постоянно росли. Густава очень удручало и то, что был разрушен привычный круг родственников, друзей и знакомых. Денежного содержания катастрофически не хватало. Густав сдал шикарные семейные апартаменты и перебрался в однокомнатную служебную квартиру, к тому же прежнее жилье тяготило его воспоминаниями.
Родственные связи Анастасии, которые он приобрел в России, женившись на ней, дочери кавалергарда и генерал-лейтенанта, обернулись для Маннергейма серьезной проблемой. К осуждающим его родным Анастасии - Араповым, Звягинцовым и Менгденам - присоединились их многочисленные родственники и близкие знакомые, которые прервали общение с Густавом. О нем стали нелестно отзываться в Кавалергардском полку, где Араповы в лице тринадцати представителей своей фамилии служили на протяжении двух веков. Друзья семьи Маннергеймов, такие как Раухи (супруга - урожденная княжна Голицина Лидия Львовна (1864-1933), открыто защищали Анастасию и порочили в свете Густава за его измены.
Особенно на него была обижена тетя Анастасии - Мария Александровна Звягинцова (1845-1908), урожденная Казакова, дочь генерал-майора в отставке и сенатора А.Б.Казакова. В ее доме он жил, и там будущая чета Маннергеймов договорилась о венчании по православному и лютеранскому обычаям. Муж Марии Александровны Звягинцов Иван Александрович (1840-1913) был Воронежским вице-губернатором и Курским губернатором. Как глубоко верующий православный, он настаивал на традиционном в России таинстве, но Маннергейму, чьи родные были противниками его женитьбы на православной, удалось убедить опекунов в том, что нужен компромиссный брак.
Семье Звягинцовых, где было семеро детей, Густав Маннергейм стал заклятым врагом. Ему была очень неприятна эта вражда, и он болезненно переживал разрыв с другом молодости Александром Звягинцовым, жизнерадостным и смелым кавалергардом, к сожалению, погибшим на войне в ноябре 1915 года.
Младшие братья Александра Владимир (1871-1944) и Николай (1878-1932) были большими любителями лошадей. Кавалергард Владимир Звягинцов был образованным офицером. Он окончил лицей с золотой медалью и после увольнения с военной службы достиг высоких гражданских чинов. Будучи членом управления государственного коннозаводства, много сделал для совершенствования отбора лошадей для армии.
С другим братом – Николаем, который в дальнейшем был начальником русских сил Мурманского края, Маннергейм в молодые годы общался мало из-за разницы в возрасте. Николай Звягинцов был женат на графине Игнатьевой Софье Алексеевне (1880-1935), младшей сестре кавалергарда Алексея Игнатьева (1877-1954). Будущий генерал-лейтенант Красной армии Алексей Алексеевич Игнатьев в Кавалергардском полку был в подчинении у Маннергейма. Он получил от Густава не слишком лестный отзыв о своих военных способностях. По матери - урожденной княжне Мещерской Софье Сергеевне (1850-1944) -, по обоим дедам и отцу Игнатьеву Алексею Павловичу (1842-1906), бывшему командиру кавалергардского полка и генерал-губернатору нескольких областей (убит террористом в г. Твери в 1906 году), а также дяде Игнатьеву Николаю Павловичу (1832-1908), дипломату и министру, Софья и Алексей принадлежали к высшему аристократическому кругу России. Сестра и брат, представители могущественных родов Игнатьевых и Мещерских, без стеснения злословили о Маннергейме, как и их мать, Софья Сергеевна.
После революции военный атташе во Франции граф Алексей Игнатьев передал большевикам золотой запас российского золота, хранящийся на его имя в Парижском банке, за что был проклят матерью. Родной брат, Павел, стрелял в него. Генерал Игнатьев, долго служивший в Красной армии, в своей книге «Пятьдесят лет в строю», вспоминая службу с Маннергеймом в Кавалергардском полку, напирал на чуждость Маннергейма России и отозвался о нем как о «наемнике». Кроме известных политических причин, недоброжелательность А. Игнатьева к своему бывшему командиру - это отголосок враждебности к Густаву родственников бывшей жены. О своем предательстве с золотом, на которое так рассчитывали иммигранты в Европе, генерал Игнатьев, конечно, умолчал.
Сестры Анастасия и Софья Араповы получили в наследство имения в Московской и Воронежской губерниях, где их соседями, наряду с князьями Мещерскими, были многие хорошие знакомые их родителей, а также Звягинцовых, Менгденов, или знакомые супругов Маннергейм по Петербургу и Москве. В дворянских кругах царской России почти все друг друга знали или были в родственных отношениях. Многие сочувствовали Анастасии, дочери покойного кавалергарда и московского обер-полицмейстера Николая Арапова. Ее младшая сестра Софья Николаевна Арапова (1873-1953), став женой графа Менгдена Дмитрия Георгиевича (1873-1953), оказалась в родстве с известной семьей военных и придворных аристократов, которые вместе с нею стали враждовать с Маннергеймом.
В 17-м веке графы Менгдены приехали в Россию на военную службу, как и Густав Маннергейм в 20-м. При Петре I их предок был командиром Преображенского полка, самого любимого царем.
В годы правления императрицы Анны Иоановны Менгдены стали ближайшими сподвижниками Бирона и после его падения были все арестованы. Ссылки избежала только любимая фрейлина Анны Леопольдовны – Юлиана Менгден, хотя позднее разделила с нею судьбу и так же была в заключении в Холмогорах.
Возвращенные из ссылки при Петре III Менгдены вскоре вновь стали занимать высокие должности при дворе и добиваться высоких чинов на военной службе. Старший брат Дмитрия – Менгден Георгий Георгиевич (1861-1917) был зачислен в Кавалергардский полк в 1881 году. Когда в полк был переведен корнет Маннергейм, то граф Г. Менгден был полковым адъютантом (начальником штаба) и помогал Густаву освоиться в столице. Барон Маннергейм многое перенял у графа Г. Менгдена, который был образцовым кавалергардом и порядочным офицером. В изданной в 1904 году книге Д. Пошивалова «Воспоминания кавалергарда» о Георгии Менгдене написано, что он был требовательным, но справедливым и стремился помогать инициативным солдатам.
Служа в полку, Подшивалов написал для молодых воинов «Памятку кавалергарда и историю полка». Граф Менгден внимательно слушал, когда ротмистр Дашков на офицерском собрании зачитывал текст, дополнил его и внес поправки, после чего распорядился немедленно отпечатать и распространить среди солдат эту «Памятку». Кроме того, дополняет Подшивалов, находясь в дружеских отношениях с командиром эскадрона Великим князем Николаем Михайловичем (двоюродным дядей Николая II), он обратил его внимание на книгу рядового кавалергарда. Благодаря стараниям графа Менгдена кавалергард-крестьянин Д.Подшивалов при увольнении в запас был лично награжден Великим князем Николаем Михайловичем золотым крестом и получил место управляющего в имении одного из офицеров полка.
Впоследствии Георгий Менгден более трех лет командовал родным Кавалергардским полком. До возвращения в полк служил в Москве, где заведовал двором дяди царя – Московского генерал-губернатора Великого князя Сергея Александровича. После убийства Великого князя с 1905 года служил в той же должности у его вдовы – Великой княгини Елизаветы Федоровы, старшей сестры российской императрицы Александры Федоровны. В марте 1917 года был арестован и убит на гауптвахте в городе Луга пьяными солдатами, будучи в чине генерал-лейтенанта и должности начальника сборного пункта кавалерийских частей.
Младший из братьев Менгден Дмитрий Георгиевич (1873-1953) также начинал службу в Кавалергардском полку. Но тех высоких званий, как его в отец – генерал-лейтенант Менгден Георгий Федорович и его брат Георгий он не достиг (Менгден Георгий Федорович умер в 1902 году, над захоронениями родителей сыновья воздвигли склеп-часовню при православной церкви Сергея Радонежского в Латвии, сохранившейся до сих пор). Младший Менгден достойно служил в полку, подражая старшему брату и традициям семьи, заложенным генерал-майором Менгденом Евстафием Романовичем, в середине 19 века успешно командовавшим Кавалергардским полком. Именно по его примеру следующие поколения семейства Менгден шли служить кавалергардами.
В 1903-1904 годах семья Дмитрия Менгдена находилась в Москве. В 1904 году, отправляясь на войну с Японией, к Менгденам в Москве заезжал Маннергейм. Он пытался выяснить намерения жены и переговорить о своих планах на управление приобретенным вместе с Анастасией имением в Прибалтике. Сестрой жены Софьей Менгден Густав был встречен недоброжелательно, и ему было объявлено, что имение перешло в ведение мужа их младшей тети - барона Б. Мейендорфа. Не добившись конструктивного разговора с родственниками и узнав, что теперь в его отношения с женой подключилась еще одна тетя – баронесса Надежда Мейендорф – Густав решил, что все как-нибудь образуется после войны.
В Москву супруги Дмитрий и Софья поехали не только, чтобы быть поближе к старшему Менгдену, но и потому, что у нее, как наследницы московского обер-полицмейстера генерал-лейтенанта Николая Арапова была значительная собственность. Граф Дмитрий Менгден старался ее приумножить.
Возможно, в пору хороших отношений с Маннергеймом по его примеру они решили на хуторе Аносовка Воронежской губернии разводить лошадей. Судьба была благосклоннее к семье Дмитрия Менгдена, чем к его брату Георгию. В чине полковника он был адъютантом Великого князя Николая Николаевича и вместе с семьей эвакуировался из Крыма. Сестры Георгия и Дмитрия - Евгения, 1859 г.р., отличающиеся особой грациозностью и Зинаида, 1879 г.р. были фрейлинами вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Кто помог семье Менгдена попасть на корабль в Крым, неизвестно. Возможно, он эвакуировался как адъютант Николая Николаевича, или же Менгденов распорядилась погрузить Мария Федоровна. Известно об ее отказе взойти на английский корабль без лиц, ее сопровождающих. Младшая из сестер – Зинаида Георгиевна Менгден находилась в Дании при вдовствующей императрице Марии Федоровне до кончины матери последнего императора Николая II в 1928 году.
Благосклонное отношение к Менгденам во время эвакуации из Крыма было обусловлено тем, что были еще свежи воспоминания о расправе над Георгием Менгденом, женатым на Марии Кассини, чьей судьбой после убийства мужа были озабочены все приближенные царской семьи. Ей также удалось спастись. Придворная дама Мария Артуровна Кассини-Менгден умерла в 1938 году.
Перебравшись во Францию, семейство Менгденов постепенно восстановило отношения с Маннергеймом. В Париже Дмитрий Георгиевич и Софья Николаевна прожили еще более 30 лет.
Сыновья Софьи и Дмитрия породнились с графами Шереметевыми и герцогами Лихтенбергскими. Старший сын Менгденов Георгий Дмитриевич (1897-1983) – был женат на Ирине Шереметевой. Ее родители – отец, граф Шереметев Дмитрий Сергеевич (1869-1943), и мать, урожденная графиня Воронцова-Дашкова Ирина Илларионовна (1872-1952 ) – были хорошо знакомы Густаву Маннергейму. С ее отцом он служил в Кавалергардском полку. Во Франции граф Д. Шереметев возглавлял объединение кавалергардов в Париже. Он совместно с женой Ириной Илларионовной, дочерью царского наместника на Кавказе, снискал себе имя в объединении русских дворян за рубежом благодаря оказанию помощи нуждающимся.
Шереметевы, породнившиеся с Менгденами, состояли в родстве с династией Романовых. Они за границей активно занимались сбором исторических воспоминаний, сохранением русской культуры и сбором средств на благотворительность. В Финляндии, а также приезжая в Париж, Маннергейм всегда был в курсе эмиграционных новостей, потому что во Франции общение в дворянском сообществе было еще более тесным, чем в Петербурге до революции. Допускается, что именно бывший кавалергард Дмитрий Шереметев принимал участие в улучшении отношений между Менгденами и Маннергеймом.
Чтобы иметь денежные средства, отправляясь на войну, Маннергейм оформил страховое свидетельство. Ранее он получил письмо от своей сестры Евы из Франции, о том, что Анастасия не собирается к нему возвращаться. А графиня Шувалова после смерти мужа в 1902 году все настойчивее принуждала Густава объявить о том, что они решили жить вместе.
Маннергейм был неравнодушен ко многим женщинам. Он отличался непостоянством. Кроме графини Шуваловой, и одновременно с этим, у него были другие увлечения. Возможно, Анастасия Маннергейм терпела его любовную связь с Шуваловой, которая была старшей Густава на десять лет, но любовные интрижки с более молодыми женщинами терпеть не захотела. Особенно ее могло задеть увлечение Маннергейма балериной Карсавиной. Увлечения балеринами не избежали и царевич Николай, и многие Великие князья. То, что у Густава не все гладко с Елизаветой Шуваловой, станет ясно после их встречи на японском фронте. Позднее Маннергейм, несмотря на чудно проведенные с нею дни, стал удаляться от стареющей вдовы, которая также включилась в число его недоброжелателей.
Возможно, он, оставшись один в Петербурге, понял, что без жены и дочерей, при негативных отзывах о нем в Финляндии и при том, что два брата в 1903 году выехали в Швецию из-за несогласия с политикой русификации, его служба в России не имеет смысла. Маннергейм через Менгденов, по-видимому, решил все-таки узнать возможности воссоединения с семьей. Кроме того, в браке с Анастасией он по рекомендации сослуживца Гюне купил в Курляндии имение Априккен, но, так как оно было куплено на деньги от продажи недвижимости, принадлежащей жене, сделка была оформлена на ее имя. Наверное, Маннергейм полагал, что за десятилетие жизни в браке он получил какое-то право на это имение или на какую-то компенсацию за Априккен. Оставшись в Петербурге, он даже разработал проекты управления имением и, видно по всему, не собирался с ним расставаться, вернувшись с войны. Допускается, что он, приобретая необходимое снаряжение для участия в боевых действиях и военную экипировку, растратился и еще больше задолжал, надеясь рассчитаться не только из суммы страхования, но и из денег, полученных от развития имения Априккен. Или, может быть, планировал получить компенсацию от Анастасии, или продать какое-то имущество имения или часть самого имения.
В Москве его ждало разочарование, ибо он узнал, что имением Априккен распоряжается муж сестры матери Анастасии – барон Мейендорф, В этой связи трудно выяснить, кто был инициатором остановки Маннергейма в старой столице - он сам или Софья Менгден и младшая тетя сестер Араповых – урожденная Казакова Надежда Александровна, в 1904 году вторично вышедшая замуж и ставшая баронессой Мейендорф.
Наверное, Густав не сразу понял эффективность решения своей жены, которое давало ей возможность окончательно с ним расстаться и при этом оставить его ни с чем. У Анастасии и Софьи Араповых, кроме тети Марии Александровны, была еще одна тетя - Надежда Александровна Казакова (1854-1939). Она была младшей дочерью сенатора Александра Борисовича Казакова, от его второй жены Софьи Николаевны, урожденной Демидовой, которая после брака не пожелала писаться Казаковой и жила под фамилией Демидова. Надежда очень увлекалась рыцарскими романами и уговорила отца построить в Подмосковье замок. В 1874 году началось строительство, которое Надежда продолжила самостоятельно после смерти отца в 1880 году. В 1885 году великолепный замковый дворец был построен.
Он был очень красив, необычен и фундаментален. Заменит он также тем, что в нем побывали Николай II, неоднократно его дядя Великий князь Сергей Александрович и многие другие выдающиеся личности Российской империи. В настоящее время дворец реставрирован и Президентом Российской Федерации используется как резиденция для встреч с зарубежными гостями. В новом замке в 1886 году тридцатидвухлетняя Надежда Казакова сочеталась браком с полковником Веригиным Е.А., владеющим в ближайших селах кирпичными заводами и, по всей видимости, помогшему будущей жене в налаживании производства высококачественного кирпича в ее имении. После смерти мужа в 1891 году Надежда Александровна, мать которой Софья Демидова жила за границей, посвящала все свое время благоустройству своих владений и веселому времяпрепровождению. Озабоченность ее судьбой проявил Великий князь Сергей Александрович, и в Министерстве иностранных дел был выбран кандидат ей в мужья – посланник в Дании барон Мейендорф фон Искууль (1861-1941), представитель знаменитого, но небогатого рода.
В 1904 году, наверное, не без участия старшего из Менгденов, управляющего двором Великого князя Сергея Александровича, урожденная Надежда Казакова становиться баронессой Мейендорф и с тех пор замок именуется по этой фамилии (по ней он и известен как немногое из спасенного от разорения дореволюционных усадеб). По стечению обстоятельств в это время в Ницце умирает ее мать – Демидова Софья Николаевна, единственной наследницей которой стала баронесса Надежда Мейендорф. Скорее всего, многоопытные братья Менгдены и Мейендорф, который был младше жены на семь лет, нашли решение, как во Франции помочь Анастасии Маннергейм, оформив на нее имущество Софьи Демидовой, а в России Надежда Демидова и ее муж получили в управление прибалтийское имение Априккен. Таким образом, Густаву был приготовлен очень неприятный сюрприз.
Можно представить положение Маннергейма перед объединенными, заранее обговорившими и подготовившими все необходимые документы родственниками его жены. Сестра Анастасии Маннергейм - Софья Менгден, две ее тети – М. Звягинцова и Н. Мейендорф, их мужья, дети, близкая и дальняя родня, а также многочисленные их друзья, приятельницы и знакомые ополчились на ротмистра Маннергейма, окончательно унизив его и подчеркнув – ему рассчитывать не на что и не на кого.
В Московской и Воронежской губерниях, где были основные имения сестер Анастасии и Софьи Араповых, прекрасно помнили их родителей. Те же Игнатьевы были в родственных отношениях не только со Звягинцовыми, но и с князьями Мещерскими. У кавалергарда Алексея Игнатьева мать была урожденная княжна Мещерская Софья Алексеевна (1850-1935), дружившая с женой брата своего мужа – урожденной княжной Голицыной Екатериной Леонидовной (1842-1917), а сын последней Павел Николаевич Игнатьев (1870-1945) был женат на урожденной княжне Мещерской Наталье Николаевне (1877-1944) – фрейлине и дочери попечителя Московского учебного округа. Всего в семье Николая и Екатерины Игнатьевых было восемь детей, родившихся с 1863 по1879 год, и имелось огромное количество родственников.
Князь Мещерский Николай Петрович (1829-1901) и генерал-лейтенант Арапов Николай Устинович (1825-1884) не только по делам службы общались в Москве, но и были соседями по имениям в Воронежской области, и их дети прекрасно знали друг друга с детства. Воронежские помещики, друзья и подруги, выросшие вместе с сестрами Араповыми, в том числе князь Мещерский Петр Николаевич (1869-1944) и его сестры Мария Николаевна (1866-1948), жена графа Толстого Николая Михайловича (1860-1931), и Наталья Игнатьева постоянно общались с многочисленной родней и не стеснялись в осуждении Маннергейма. Выставить какие-либо оправдательные аргументы в свою защиту Густав не мог, потому что графиня Шувалова демонстрировала их связь. В Петербурге она даже приглашала Маннергейма на свои знаменитые балы без его супруги Анастасии.
Маннергейм догадывался, что о его отношениях с женой станет известно при Дворе, что кто-то поведает об этом вдовствующей императрице Марии Федоровне, которой он был многим обязан. Почти через четверть века после ее смерти в Дании он в своих мемуарах очень тепло о ней отзывался, видимо, всю жизнь был благодарен ей за поддержку. Он понимал, что она осудит его поведение, рассказать о котором Марии Федоровне могли многие из ее окружения. Кавалергарды Араповы были одной из самых многочисленных фамилий в полку, и, как шеф Кавалергардского полка, вдовствующая императрица многих из них знала лично. Младший брат отца сестер Анастасии и Софьи – генерал Арапов Константин Устинович (1831-1916), также как и младшая сестра их матери М.А. Звягинцова, был их опекуном. Он организовывал свадебное торжество и вместо отца вел Анастасию под венец. Константин Арапов из кавалергардов был назначен в 1874 году командиром Кирасирского полка, над которым шефствовали императрицы - Александра Федоровна (до своей смерти в 1880г.) и с 1881 года Мария Федоровна. В том же 1874 году императорская семья Александра III пожелала утвердить Константина Устиновича управляющим всеми дворцами Петергофа. Константин Устинович имел звание генерала от кавалерии и впоследствии - генерал-адъютанта. Он пользовался почетом у вдовствующей императрицы и из-за пожилого возраста императором Николаем II был утвержден Почетным опекуном Опекунского Совета учреждений императрицы Марии Федоровны. Опекунский Совет был одним из самых уважаемых заведений царской России, в нем состояли люди ответственные, располагающие значительными средствами и жертвующие на благие цели. Вдовствующая императрица Мария Федоровна, будучи человеком отзывчивым, так организовывала Совет, что он оказывал неоценимую помощь нуждающимся подданным. Безупречная служба, возраст и непорочное поведение снискали Константину Арапову незыблемый авторитет среди его многочисленной родни, а также всех, кто сталкивался с ним в жизни. Он был холост, в быту очень скромен и свою нерастраченную любовь щедро тратил на осиротевших дочерей брата Николая – Анастасию и Софью. Очевидно, он одним из первых узнал, что весной 1902 года, перед сезоном скачек, Маннергейм увлекся балериной Тамарой Карсавиной (1885-1978), которая была моложе Густава почти на восемнадцать лет. Семидесятилетний Константин Устинович был очень энергичен, постоянно был в курсе того, что происходило в гвардейских частях, знал почти всех офицерских жен и внимательно отслеживал успехи и неудачи на конных соревнованиях. Он всегда был на виду у семьи императора и пользовался доверием Николая II и его матери – вдовствующей императрицы Марии Федоровны. В 1904 году ему было присвоено воинское звание – генерал от кавалерии, а в 1908 году в возрасте семидесяти семи лет он был удостоен звания генерал-адъютант. Его отец Арапов Устин Иванович был в 1836-1846г. предводителем дворянства в Тамбовской губернии и имел четырех сыновей, которые были дружны между собой.
Несомненно, что Анастасия Маннергейм прежде, чем покинуть мужа, поделилась своими планами с дядей Константином и, скорее всего, приехала к нему вместе с дочерьми попрощаться. Нет никаких данных, что Константин Устинович в последующем навредил Маннергейму. Он просто прекратил с ним общение, молчаливо одобрив поступок племянницы, и все сообщество гвардейских офицеров сразу поняло это, особенно в Кавалергардском полку, где представители семьи Араповых служили на протяжении 200 лет.
В 1891 году, прибыв в этот полк, корнет Маннергейм очень быстро сдружился с Петром Араповым, и свой первый отпуск кавалергарды провели вместе в Москве и Московской губернии в имении родителей нового товарища. Петр Иванович Арапов (1871-1930) впоследствии тоже получит под командование Кирасирский полк, которым ранее командовал Константин Устинович Арапов. Петр был сыном кавалергарда генерал-лейтенанта Арапова Ивана Андреевича (1844-1913) и урожденной Ланской Александры Петровны (1845-1919), старшей дочери Натальи Николаевна Гончаровой-Пушкиной, рожденной во втором браке. Генерал Петр Петрович Ланской (1799-1877) с 1818 года кавалергард. Он женился на вдове Александра Сергеевича Пушкина в 1844 году, после семи лет ее траура по великому русскому поэту. В семействе Ланских к четверым детям А.С. Пушкина родилось три дочери - Александра в 1845 г., Софья в 1846 г. и Елизавета в 1848 году. Все три сестры Ланские вышли замуж за кавалергардов. Александра за Ивана Арапова, а Елизавета за его младшего брата Николая Арапова. Их отец и оба брата служили в Кавалергардском полку. Генерал Иван Андреевич Арапов был большим знатоком лошадей. Известно, что он отбирал их для сыновей в соответствии со стандартом полка. Однажды семья Араповых была вынуждена продать Маннергейму прекрасную лошадь только потому, что из-за ее нрава никто, кроме Густава, не смог с нею совладать. Мать Петра Арапова – Александра Петровна, получила от своей матери Н.Н. Пушкиной–Ланской оставшиеся у нее документы и переписку с поэтом. Дочь систематизировала материал, попросила у родственников письма с описанием жизни семьи Пушкиных и написала воспоминания о матери: «Наталья Николаевна Пушкина–Ланская. К семейной хронике жены А.С. Пушкина». Большинство пушкинистов оценивают издание негативно и считают, что Александра Петровна Арапова пыталась оправдать мать, несколько преувеличив негатив о ее первом муже А.С.Пушкине.
К слову, к тому времени уже были известны письма Пушкина к Гончаровой, которые Наталья Николаевна передала своей младшей дочери от поэта, когда та, оставив мужа, уехала за границу, где вышла замуж за принца Нассау, получив в браке титул графини Меленберг. Позднее младшая дочь Пушкина Наталья Александровна Меленберг решилась через И.А. Тургенева опубликовать эти письма, что тоже вызвало негативное отношение, особенно со стороны старших детей А.С. Пушкина.
Несмотря на отрицательные оценки знатоков биографии поэта, воспоминания Араповой пользовались в обществе значительной популярностью. Она немало делала, чтобы поддерживать память о поэте, помогала его родным, особенно старшей дочери А.С. Пушкина – Марии. Мария Александровна, старшая дочь поэта, и старшая дочь Натальи Николаевы Пушкиной-Ланской Александра Петровна, в замужестве Арапова , умерли в 1919 году во время большевистского лихолетья. Сын Александры Араповой и друг молодости Маннергейма – Арапов Петр Иванович в СССР дожил до 1930 года. Он работал в должности скромного бухгалтера, но его дети были репрессированы. Ведь он сам и его жена, урожденная баронесса Мейдель Александра Андреевна (1880-1944), были «чуждыми элементами». Похоронены супруги в Гатчине, где Петр Арапов командовал Кирасирским полком. Дети и внуки А.С. Пушкина и Н.Н. Пушкиной-Ланской поддерживали друг с другом родственные отношения.
Младшая дочь Ланских – Елизавета Петровна Арапова (1848-1903) очень рано осталась вдовой, потому что полковник Николай Андреевич Арапов (1847-1883) умер в возрасте тридцати шести лет, оставив на попечении жены троих детей – Елизавету, Наталью и Марию. Вдова уехала в имение в деревне Апрелевка Пензенской губернии, куда к ней приезжали в гости старший сын А.С.Пушкина Александр и старшая дочь поэта Мария. Старшая дочь Николая и Елизаветы Араповых – Елизавета, в замужестве Бибикова, переписывалась с младшим сыном поэта Григорием Пушкиным.
Память о поэте спасла многих Араповых, потому что в 1918 году в государственные фонды были сданы все материалы об Александре Сергеевиче Пушкине, накопленные в семье. Опасность им грозила серьезная. Средняя сестра Софья Петровна Ланская (1846-1918) была женой командира Кавалергардского полка генерала Шипова Николая Николаевича (1846-1911), а их сын Николай Шипов (18734-1958) командовал этим полком в тяжелейшем 1917 году. Кроме того, породнившаяся с принцами Наусскими младшая дочь Н.Н. Гончаровой и А.С. Пушкина Наталья Александровна через своих детей стала близка с многими европейскими аристократами. На ее дочери женился двоюродный брат Александра III Великий князь Михаил Михайлович Романов. Родная сестра мужа София Наусская (1836-1913) была супругой короля Швеции и Норвегии – Оскара II и матерью Густава V (1858-1950) – короля Швеции с 1907 по 1950 год.
У Маннергейма были с Петром Араповым в полку прекрасные отношения. Совсем другими стали его воспоминания об Араповых после бегства Анастасии в Париж, когда их семе йство сделало его жизнь невыносимой, внешне не предпринимая к этому ни малейших усилий. После 1902 года род Араповых его просто игнорировал, и далее все развивалось как бы само собой, ибо кавалергарды и другие гвардейские офицеры были родственниками или добрыми знакомыми и всегда друг друга поддерживали. В том же Кавалергардском полку служебные и личные взаимосвязи были постоянными.
Анастасия Маннергейм была дальней родственницей тех Араповых, чьей бабушкой была жена А.С. Пушкина – П.П. Ланского, но она любила поэта и сразу после свадьбы убедила Густава поселиться на Мойке в доме напротив того, где скончался великий поэт.
Командир кавалергардов Н.Н. Шипов, женатый на дочери Н.Н. Пушкиной-Ланской – Елизавете, ее внучку Елену Николаевну Шипову (1880-1971) обвенчал с кавалергардом Безаком. Сын нижегородского губернатора Федор Николаевич Безак (1865-1940) с момента прибытия в полк Маннергейма относился к нему предвзято. Отвечая в полку за распределение квартир для офицеров, Густаву он так и не подобрал жилья, пригодного для проживания. Сначала Маннергейма его товарищ по Николаевскому кавалерийскому училищу граф П. Демидов пристроил у своего дяди князя Кочубея, а потом Густав был вынужден поселиться у Звягинцовых, где и состоялось его женитьба на Анастасии Араповой. Конечно, и Шиповы, и Безаки, связанные тесными родственными узами с Араповыми, доброжелательнее к Маннергейму относится не стали, а скорее были рады его внезапному обеднению и долгам.
Кроме Петра Арапова и Александра Звягинцова, в начале службы в Кавалергардском полку Густав сдружился с Владимиром Николаевич Воейковым (1868-1947). Они вместе участвовали в любовных приключениях, за что их журил председатель офицерского собрания, советуя поскорее жениться. Владимир Воейков женился на дочери барона Фредерикса Владимира Борисовича (1838-1927) – министра императорского двора и уделов. С молодой супругой Евгенией- Валентиной Жозефиной (1867-1950) Владимир быстро остепенился и забыл, как в молодости с Густавом весело проводил время в доме родителей. Род Воейковых был одним из богатейших и древнейших в России, а мать Владимира Воейкова была урожденная княжна Долгорукова Варвара Владимировна (1840-1909).
Дослужившись в Кавалергардском полку до командира эскадрона, Владимир Воейков решил заниматься различными проектами, связанными с развитием спорта, стал близок к царской семье, получив комендантские полномочия. Он занялся развитием имения в Пензенской губернии, где в течение нескольких столетий были вотчины Араповых. Поддерживать своего приятеля молодости в 1902-1904 году ему было невыгодно. Кроме того, его дед со стороны матери Долгорукий Владимир Андреевич (1810-1891) был влиятельным генерал-губернатором Москвы, занимая этот пост более четверти века – с 1865 по 1891 год. У него в подчинении был отец Анастасии Маннергейм – генерал-лейтенант Арапов Николай Устинович, двенадцать лет (с 1866 по 1878г.) бывший московским обер-полицмейстером. В 19 веке в Москве отношения между дворянами–чиновниками были добросердечнее, чем в столице и они хорошо знали семьи друг друга. Свою мать Варвару Владимировну Воейков не посмел бы огорчать, помогая Густаву. Кроме того, Воейков со временем наладил в Пензенской губернии розлив минеральной воды, а генерал-лейтенант Иван Андреевич, отец его сослуживца Петра Арапова, один из самых состоятельных дворян губернии, активно развивал новые производства по переработке сельхозпродукции в Нижне-Ломовском и Наровчатском уездах. Он и его супруга Александра Петровна много сделали для благоустройства губернии, осуществив проекты, задуманные отцом Ивана Андреевича, также кавалергардом Араповым Андреем Николаевичем (1807-1874), многолетним предводителем дворянства Пензенской губернии.
Отец жены В. Воейкова барон В.Б.Фредерикс, швед по происхождению, к Конюшенному ведомству относился с пренебрежением и часто устраивал разносы его руководству. Маннергейм для него был незначительным гвардейским офицером. Как человек консервативный, он, естественно, не одобрял семейных неурядиц, тем более, что, возможно, знал о похождениях своего зятя и Густава в молодости. Поэтому ни Воейков, ни тем более Фредерикс помогать Маннергейму в тяжбе с родственниками не стали, и Густав причины этого прекрасно понимал.
К осени 1904 года стало окончательно ясно, что примирение Маннергейма с женой не состоится, а его проекты по прибалтийскому имению, куда он съездил в августе, чтобы попытаться хоть что-то получить в собственность после десятилетнего брака, отклонены, Густав, лишенный всего былого богатства, в отчаянном состоянии уехал на фронт. С Маннергеймом остались только его добрые друзья Скалоны, кавалергардский приятель Ф.Ф. Гюне-Гойнинген , в какой-то мере Павел Демидов, бывший с училища с ним в добрых отношениях и генерал А.А. Брусилов, который как начальник офицерской кавалерийской школы был заинтересован в таком высококлассном коннике, как Густав, и отговаривал его от поездок на фронт. Генерал Брусилов не принадлежал к гвардейской аристократии. Он был из числа потомственных военных, сын генерала, прослужившего большую часть жизнь на Кавказе. Службой в Петербурге Брусилов тяготился и при первой возможности стремился в провинциальные войска. Маннергейм его очень ценил, хорошо отозвался о нем как генерале-кавалеристе в своих воспоминаниях. Но Брусилов был из иного офицерского круга, совершенно далекого от того, к которому Густав привык в столице. Маннергейм впоследствии, особенно в первую мировую войну, пользовался неизменной поддержкой своего бывшего начальника кавалерийской школы, хотя к тому времени ему самому удалось доказать свою состоятельность участием в войне с Японией и двухлетней разведывательной деятельностью в Китае.
Барон Гюне-Гойнинген в свое время посоветовал семье Маннергеймов приобрести имение Априккен и, наверное, он поддерживал стремление Густава остаться его владельцем. Допускается, что именно он одолжил Маннергейму какую-то сумму денег, пока тот не оформил страховое свидетельство, перед отъездом на фронт. Барон Гюне прилагал немалые усилия, чтобы в краткий срок собрать имущество и багаж Маннергейма. Скорее всего, это он советовал Густаву, как ему вести себя в Москве при встрече с родственниками жены. Маннергейм сдал свою роскошную служебную квартиру Феликсу Феликсовичу Гюне–Гойнингену, и, по всей видимости, остался ему очень благодарен за поддержку. Только к нему единственному он приехал в гости в Петербург после возвращения с Японского фронта. Конечно, нельзя исключить, что Густаву необходимо было встретиться с Гюне для возвращения долга. Но все равно больше ни с кем из Конюшенного ведомства Маннергейм увидеться не пожелал и, якобы, заявил, что для него его больше не существует. Перед отъездом на фронт свои вещи Густав отставил в квартире Скалонов. Из ценного там были только картины, которыми Маннергейм дорожил из-за того, что на них были изображены его любимые лошади.
Наверное, в душе Густав надеялся на помощь, хотя бы моральную, товарища по Николаевскому кавалерийскому училищу графа Демидова Павла Александровича (1869-1935), с которым он сохранил дружбу на долгие годы. Он посещал Павла во Франции, куда семья Демидовых уехала после революции. В училище было неписаное, но очень строгое правило, требующее уважения со стороны юнкеров первого курса (именовались «звери») к юнкерам старшего курса (именовались «корнет») и закрепление за «корнетом» выбранного им «зверя». «Зверем» у «корнета» Маннергейма был Павел Демидов. Разделение юнкеров первого и второго курса носило скорее ритуальный характер и заключалось в исполнении младшими различных, как правило, нелепых и насмешливых поручений. Маннергейма на первом курсе его «корнет» заставлял в ночное время рассказывать истории на нескольких языках, а за ошибки тот носил на себе «корнста» в туалетную комнату. Густав поручал Павлу писать пошлые сочинения, а также вопить в конюшне что есть мочи, пугая лошадей и забавляя обслугу тем, что представитель известнейшей династии России «орет белугой».
Став кавалергардом, Павел Демидов продолжал дружить с Маннергеймом и до женитьбы Густава неоднократно поддерживал его материально и подыскивал квартиру для жительства. Демидов в 1894 году женился на урожденной Шереметевой Ольге Васильевне (1876-1967), представительнице этого рода из Нижегородской губернии, владеющего роскошным замком в Юрино на р. Волге. Брак не сложился и просуществовал совсем недолго. В 1902 году Павел Демидов перевелся из Кавалергардского полка в Министерство внутренних дел, предположительно из-за неурядиц в семье. Так что расстались они с Маннергеймом с женами почти одновременно, и Павел помочь в семейных проблемах Густаву не мог. Пока шла война с Японией, чиновник МВД женился на Елизавете (Элле) Треповой, дочери Трепова Федора Федоровича (1854-1938), принадлежащего к роду, чьи представители занимали высшие должности в государственной иерархии России. После Демидов служил в основном в губерниях Украины.
У Маннергейма не всегда хорошо складывались отношения с родственниками Демидова, представителями рода князей Кочубеев. Многие из них служили в Кавалергардском полку и относились к Густаву с оттенком снисходительности, отличаясь снобизмом, свойственным многим высшим малоросским аристократам.
В молодые годы П. Демидов поселил Густава в квартиру своего дяди, кавалергарда Кочубея, пока тот был в отъезде. Князь, возвратившись в Петербург, напомнил молодым людям о неэтичности их поведения.
Кроме того, у Павла Демидова в роду было все так необычно, что он мог посчитать семейные проблемы Маннергейма чем-то заурядным и совсем не важным. Его дяди Кочубеи были одновременно внуками Министра внутренних дел Кочубея и Шефа жандармов Бенкендорфа. Один из них, Кочубей Виктор Сергеевич (1860-1923) был женат на сестре друга Маннергейма князя Сергея – Елене Константиновне Белосельской-Белозерской (1869-1944). В 1879 он начал службу в Кавалергардском полку и вскоре был назначен адъютантом цесаревича Николая, с которым у него сложились исключительно доверительные отношения. Виктор Сергеевич Кочубей многие годы был начальником Главного управления уделов Министерства императорского Двора и Уделов. Управляя всей собственностью императорской семьи, всегда действовал самостоятельно, напрямую решая все вопросы с Николаем II и императрицей Александрой Федоровной, что вызывало неудовольствие Министра двора В.К. Фредерикса.
Родство между Кочубеями и Белосельскими-Белозерскими имело долгую историю. На бабушке друга Густава князя Сергея - Елене Павловне (1812-1888) - после смерти его деда – Белосельского-Белозерского Эспера Александровича (1802-1946), в 1847 году женился знаменитый русский нумизмат Кочубей Василий Викторович (1811-1850), дядя Кочубеев-кавалергардов, братьев отца Павла Демидова.
Примечательно, что вдова была из рода Бибиковых, но падчерицей приходилась А.Х. Бенкендорфу, чья родная дочь Бенкендорф Софья Александровна (1825-1875) сначала вышла замуж за Демидова Павла Григорьевича (1809-1858), а после его смерти в 1860 году за Кочубея Сергея Викторовича (1819-1880). От Демидова она родила четверых сыновей, в том числе Александра (отца Павла Демидова) и от Кочубея двоих сыновей, младший из которых – Кочубей Василий Сергеевич (1862-1911) был женат на Наталье Столыпиной, а старший – Кочубей Виктор Сергеевич (1860-1923) – женился на Елене Константиновне Белосельской-Белозерской (1869-1944), сестре друга Маннергейма князя Сергея. Все эти семьи имели имения в Воронежской губернии и были соседями Араповых и Менгденов. Первая жена графа Павла Демидова – Ольга Васильевна Шереметева, была дочерью фрейлины Ольги Дмитриевны Скобелевой (1847-1898), чья родная сестра Надежда Дмитриевна (1847-1920) была матерью Сергея и Елены Белосельских-Белозерских. Обе сестры, Ольга Дмитриевна и Надежда Дмитриевна, были родными сестрами знаменитого военноначальника царской армии Д.Скобелева.
В переплетение судеб родственников друга Густава по училищу Павла Демидова уместно добавить, что после развода его первая жена Ольга Васильевна Демидова (Шереметева) вступила в брак с князем Кочубеем Михаилом Михайловичем (1860-1937). Мать Павла Демидова, урожденная Абаза Александра Александровна (1853-1894) в запутанность родственных отношений добавила огромное количество новых, причем скандальных. В сумятицу семей Кочубеев – Шереметевых - Скобелевых и Белосельских-Белозерских она, будучи замужем за отцом Павла Демидова Александром Павловичем (1845-1893), добавила свой вклад. Она родила внебрачных сына и дочь от оскандалившегося кражей семейных реликвий Великого князя Николая Константиновича. Не трудно представить разразившийся скандал и реакцию императорской фамилии в связи с рождением детей от опального Великого князя. Позднее император даровал им фамилию – Волынские, а отчество Павловичи, по имени следующего мужа Александры Александровны – Павла Феликсовича Сумарокова-Эльстона (1855-1938). От него она родила также двух детей. Умершая в возрасте сорока одного года, мать Павла Демидова была в полной материальной и физической зависимости от рода ее отца – Абаза. Она скончалась в 1894г, оставив девятерых детей, рожденных от троих мужчин. За год до ее кончины скончался отец Павла – Александр Павлович Демидов. Великий князь Николай Константинович был в ссылке и там женился. Две девочки, родившиеся от Сумарокова–Эльстона, были совсем юными, о них заботились после смерти матери родственники ее мужа – Юсуповы. Пересуды о связи Демидовой с Николаем Романовым очень долго не позволяли определиться с их детьми – Ольгой, 1877 года рождения, и Николаем, 1878 года рождения. Только в 1888 году Александр III признал детей своего двоюродного брата. Судьба сестры и брата Волынских была безрадостной. Ольга болела душевной болезнью и скончалась очень молодой. Николай Волынский был искалечен на войне с Японией и вскоре умер.
Павел Сумароков–Эльстон был по отцу родным дядей Феликса Юсупова, и конечно, его дочери – Екатерина, родившаяся в 1881 году, и Зинаида, 1886 года рождения, лишившись матери в1894 году, имели поддержку со стороны родных отца, но ни заменить матери, ни изменить отношений к ней императорского дома было невозможно. Тем более, что пользовавшийся доверием Александра III самый влиятельный из рода Абаза – Александр Агеевич (1821-1895) - был уличен в финансовых злоупотреблениях. Хотя о нем в мемуарах Сергея Юльевича Витте (1849-1915), написано, что «это был человек с редким, совершенно выходящим из ряда вон здравым смыслом, с большими несомненными способностями», больше никогда род Абаза не занимал в Российской империи каких-либо значительных постов. Пока А.А. Абаза служил в Петербурге, он тоже не отличался высокой нравственностью. Сначала из-за скандальной связи вынужден был жениться на юной француженке, а затем открыто жил с вдовой Нелидовой, деля время между своим домом на Фонтанке 23 и салоном любовницы на Мойке.
Сам Павел Демидов в год смерти матери (1894) женился на Ольге Шереметевой, мать которой была не только фрейлиной и сестрой «белого генерала» Скобелева, но и племянницей Полтавцевой – жены знаменитого Министра двора В. Адлерберга, но вскоре развелся с ней. Мария Федоровна, являясь шефом Кавалергардского полка, предъявляла высокие требования к нравственности офицеров и их происхождению, и Павел понимал, что рассчитывать на успешную карьеру ему не приходиться. Поэтому он перевелся в Министерство внутренних дел. В 1905 он году женился на Элле (Елизавете) Федоровне Треповой (1885-1978) и стал полностью гражданским чиновником. Павел Демидов в Малороссии (в Украине) был вице-губернатором и губернским предводителем дворянства. В 1910 году с его поправками была издана книга «Родословная Демидовых». По всей видимости, он был не глупый, но честолюбивый человек. Известен факт, что Павел Александрович добивался получения фамилии Демидов-Лопухин, которая была дарована брату его деда Петру Григорьевичу Демидову. Примечательно, что ему удалось уговорить на это потомков Петра Демидова–Лопухина, что, по видимому, было одним из условий оказания им помощи, в том числе через Треповых, в сохранении их родового имения, которое было в залоге. Это предприятие Павла Демидова не удалось, а после революции некоторые из Демидовых–Лопухиных уехали в Финляндию. Они участвовали в защите от захвата страны со стороны СССР и даже сменили свою фамилию на финскую.
В 1903-1904 годах друзья аристократы Павел Демидов и Сергей Белосельский-Белозерский в Петербурге не могли помочь Маннергейму в его семейных делах. Круг петербургской знати был так тесен, что, расставшись с Анастасией, ротмистр Маннергейм обрекал себя на одиночество, и никто мог ему помочь без того, чтобы не вступить в конфликт со своими родными или знакомыми. Поэтому переход Маннергейма из Конюшенного ведомства в Кавалерийскую школу не был спонтанным. Густава тяготила канцелярская работа, общение с людьми знати и все возрастающие долги. Он почувствовал себя таким же всеми осуждаемым, как его мать в Финляндии после бегства отца, и ему захотелось разорвать одиночество сменой места службы. Его надежды, что со сменой служебного положения все как-то изменится к лучшему, не сбылись, но Маннергейм все-таки получил кое-какую передышку. Он был мужчиной и офицером и, в отличие от своей матери, которой не удалось пережить душевные муки, Густав справился с депрессией. Сначала, будучи 36-летним, он выигрывает скачки, обращая на себя внимание князя Николая Николаевича прекрасной физической формой и безупречной кавалерийской подготовкой. Но в школе, где Маннергейм вместе с генералом Брусиловым сумел организовать новую систему подготовки и начал обучать офицеров-кавалеристов лучшим способам езды по пересеченной местности, ему едва не суждено было погибнуть. При падении с лошади он повредил шею так, что голова была повернута, и только чудо уберегло его от переломов и смертельной травмы.
страница 1 страница 2 ... страница 10 страница 11
http://pora.zavantag.com/stati/karl-gustav-mannergejm/main.html
|
Метки: маннергейм менгдены |
Управляющие двором. Менгден |
Свита...Часть VII. Управляющие двором. Менгден
- Feb. 2nd, 2012 at 12:03 AM
Георгий Георгиевич, граф Менгден (1860-1917)
Граф Менгден прослужил на посту управляющего двором дольше всех предшественников. Он занял место графа Шувалова в 1898 году, а фактически сдал дела только в 1908 – когда великая княгиня Елизавета Федоровна распустила свой двор.
Георгий Георгиевич происходил из лифляндского (прибалтийского) рода фон Менгден – баронов и графов. Для знатоков русской истории фамилия Менгден, наверное, напомнит прежде всего о Юлиане фон Менгден, закадычной подруге правительницы Анны Леопольдовны…Но углубляться так далеко в XVIII век мы не будем.
Граф Георгий Георгиевич был старшим сыном графа Георгия Федоровича фон Менгден (1836-1902), кавалергарда и генерал-лейтенанта, и Зинаиды Николаевны Бурцевой (1835-1910). Пожалуй, самой известной из его семьи стала младшая сестра – Зинаида (1879-1950), последняя фрейлина вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Зинаида Георгиевна разделила с царицей все невзгоды революционного времени и осталась при ней в Дании до самой ее кончины.
Граф Менгден окончил Пажеский корпус, вышел в Кавалергардский полк, и в чине ротмистра в марте 1898 года заступил на должность исполняющего обязанности управляющего двором великого князя Сергея Александровича. В своем дневнике за 12 марта 1898 года великий князь упомянул, что Менгден станет управляющим:’ утром у меня кавалергард Гр. Менгден – беру заведующим двором – хоть бы в этот раз успешно!'. Видимо, амбициозный Шувалов не соответствовал своей должности и от нового управляющего ожидали большего рвения.
Граф Менгден в 1912 г.
Менгден оправдал все ожидания. Великая княгиня в своей переписке с родственниками отмечала аккуратность и усердие Менгдена в делах. После того как великий князь был убит в 1905 году, Менгдену пришлось взять на себя распоряжение денежными делами его племянников – Марии Павловны и ее брата Дмитрия. Ведь их отец проживал с новой семьей заграницей, а над его имуществом была учреждена опека. Судя по некоторым фразам из переписки Елизаветы Федоровны с Николаем Вторым, великий князь Павел не доверял Менгдену и подозревал в безалаберном ведении дел (а может и в растратах и воровстве), но великая княгиня отметала все инсинуации и всегда ходатайствовала за Менгдена перед императором или его матерью. Именно благодаря Елизавете Федоровне граф Менгден, сдав дела управляющего в ноябре 1908 года, получил звание генерал-майора, был зачислен в Свиту (императора) и стал командиром Кавалергардского полка (а он очень этого хотел)! Шефом полка была императрица-мать. Менгден командовал полком до января 1912 года. (Интересно, что как раз в 1912 году его сестра Зинаида официально стала фрейлиной при императрице Марии Федоровне…связаны ли как-то эти события?)
Между прочим, именно графу Менгдену великая княгиня в 1905 году написала письмо, строки из которого цитируются во всех ее биографиях: 'Не надо бояться смерти, надо бояться жить'. Это письмо она послала ему из Петербурга в декабре 1905 года, когда императорская семья не пускала ее в Москву, так как в первопрестольной кипело восстание – а Елизавета Федоровна рвалась обратно и объясняла причины своего желания – 'Я попросту считаю себя подлой, оставаясь здесь, предпочитаю быть убитой первым случайным выстрелом из какого-нибудь окна, чем сидеть тут, сложа руки…и Москва – настоящая, не анархисты, меня не поймет – если не вернусь…’.
После 1912 года граф командовал 2-ой кавалерийской бригадой и участвовал в Первой мировой войне. В начале 1917 года он находился в Луге, наблюдая за сборным пунктом кавалерийских частей. И первого марта – в эти дни решалась судьба государства( второго марта Николай Второй подпишет отречение от престола), а в Петрограде бушевала революция – граф Менгден был схвачен взбунтовавшейся солдатней и посажен на гауптвахту. Тщетно офицеры-кавалеристы пытались отбить командира. Последовала трагическая развязка. Озверевшие бунтовщики ворвались на гауптвахту и – по одной версии – убили Менгдена ударом приклада. По другой версии, его выволокли на улицу и потащили в артиллерийские казармы – но по дороге забили прикладом насмерть и бросили тело. Вместе с ним были убиты еще двое офицеров…Их всех похоронили там же, в Луге.
Вопрос – и за что убили старого графа? А потому что фамилия немецкая, а раз немецкая – значит изменник...Поэтому погибли кавалергард Менгден, конно-гренадер Эгерштром и лейб-гусар Клейнмихель …
Вот так еще один из приближенных великого князя Сергея умер насильственной смертью от рук так называемых революционеров…
В 1920 году погибнет младший брат графа Георгия – Николай Георгиевич – попав в плен к большевикам. В Советской России останется и старшая сестра – Евгения, бывшая фрейлина. Только Дмитрий Георгиевич - самый младший брат - и уже упомянутая Зинаида Георгиевна сумеют покинуть Россию и закончат жизнь на чужбине.
Очерк о графе Менгдене будет неполным, если не упомянуть его жену. В 1890 году Георгий Георгиевич женился на графине Марии Артуровне Кассини, фрейлине и старшей дочери дипломата и посла в Китае, США и Испании графа Артура Павловича Кассини. (Кстати, племянник Марии Артуровны – знаменитый в свое время Олег Кассини, американский модельер (одевал Жаклин Кеннеди и многих других известных дам)).
Графиня Мария Менгден (близкие звали ее Мими) в конце 1904 года тяжело заболела и ей требовалась сложная операция . В тот момент великокняжеская чета находилась в Петербурге – графиня через своего мужа упросила великую княгиню приехать и побыть с ней во время операции. Дело в том, что ввиду слабого сердца графини ей нельзя было делать наркоз, и она просила Елизавету Федоровну поддержать ее. Великая княгиня вернулась в Москву и держала графиню за руку, пока шла операция…Состояние Марии Артуровны долго было критическим и она все еще болела в феврале 1905 года. И тут есть интересный момент…Многие биографы Елизаветы Федоровны пишут, что в день убийства великого князя его супруга как раз собиралась ехать в склады Красного Креста – но тут раздался взрыв и Сергея Александровича не стало. А согласно неизданным мемуарам сестры великой княгини, Виктории Баттенбергской, Елизавета Федоровна собиралась ехать не на склады, а навещать тяжелобольную Марию Менгден…
Детей у Менгденов не было. Мария Артуровна покинула Россию в 1919 году и обосновалась в Дании – ее имя часто мелькает в дневнике императрицы Марии Федоровны за 1919-1923 годы. Графиня постоянно навещала царицу, они вместе проводили время и вспоминали былое. В 1938 году Мария Артуровна умерла в Копенгагене.
К сожалениею, фотографии графини Менгден мне не удалось отыскать. Впрочем, и фотографии ее мужа, тоже редкость.
На этом очерки об управляющих двором окончены. Теперь настала очередь адъютантов великого князя. Как говорится,
to be continued...
Tags:
|
Метки: менгдены |
Менгдены |
Менгдены
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 2 января 2019; проверки требуют 3 правки.

Перейти к навигации Перейти к поиску
| Менгдены | |
|---|---|
| нем. Mengden | |
 |
|
 |
|
| Описание герба
по Долгорукову Щит расчетверен на золото и червлень. В 1-й части, выходящая слева рука в латах держит дворянскую корон; во 2-й части, стоящий на задних лапах лев, влево обращенный, держит пять стрел; в 3-й части, вправо обращенный золотой гриф держит меч в правой лапе; в 4-й части, выходящая справа рука в латах держит поднятую палицу. Посреди герба щиток: в серебряном поле две червленых горизонтальных полосы. Внизу всего герба, и во всю длину широкая серебряная полоса, на коей три зеленые холмика, и над ними золотая шестиугольная звезда. На всем гербе графская корона, и на ней три шлема с дворянскими коронами. Из правого шлема выходит вправо обращенный золотой гриф, держащий меч в правой лапе; на среднем шлеме два черных орлиных крыла; и из-за каждого крыла выходят четверо голубых знамен; из левого шлема выходит влево обращенный лев, держащий пять стрел. Намет золотой, подложенный червленью. Щит держат золотые справа гриф, с мечем в лапе; слева лев, с пятью стрелами в лапе. |
|
| Титул | бароны, графы |
| Часть родословной книги | V |
| Подданство | |
 Ливонская Конфедерация Ливонская Конфедерация |
|
 Священная Римская империя Священная Римская империя |
|
 Российская империя Российская империя |
|
 Менгдены на Викискладе Менгдены на Викискладе |
|
Эта статья — о дворянском роде. О носителях фамилии см. Менгден.
Менгден (нем. Mengden) — графский и баронский род, происходящий из Вестфалии. Род записан в дворянские матрикулы Лифляндской и Эстляндской губерний и в V часть родословной книги Костромской и Петроградской губерний.
Иоанн фон Менгден (ок 1400—1469), прозванный Остгоф, был магистром тевтонского ордена в Ливонии (1450—1469). Лифляндский ландрат Оттон фон Менгден грамотой Шведской королевы Христины, от 12 июля 1653 года был возведён, «с нисходящим его потомством, в баронское королевства Шведского достоинство». Прапорщик лейб-гвардии драгунского полка Карл-Вольдемар Эрнестович фон Менгден, находившийся по происхождению в прямой линии от барона Оттона фон-Менгдена был утверждён в баронском достоинстве определением Правительствующего сената от 20 сентября 1848 года.
Правнучкой барона Оттона фон-Менгдена была баронесса Юлиана фон Менгден. Её двоюродный брат, барон Карл Людвиг (1706—1761), был президентом камер- и коммерц-коллегии; он играл значительную роль при Анне Леопольдовне, а после воцарения Елизаветы Петровны в 1742 году был сослан в Нижнеколымский острог, где и умер в 1761 году. Его брат Иоанн Генрих был председателем лифляндского гофгерихта.
Одна ветвь Менгденов получила в 1779 году графский титул Римской империи — камер-юнкер барон Эрнст Рейнгольд Менгден[lv] (1726—1798).
В 1557 году, при нашествии русских на Ливонию, Эрнст Менгден был взят в плен и увезен в Москву. Его внук Юрий Андреевич (ум. после 1702 г.) был первым полковником Преображенского полка, а правнук Иван Алексеевич (ум. 1731, Астрахань) сражался под Полтавой (1709), при Екатерине I был казанским (1725) и астраханским губернатором (1726—1731). Из потомков последнего барон Владимир Михайлович (1825—1910) — член Государственного совета, а брат его Александр (1819—1903) — дипломат.
Род графов и баронов Менгден записан в дворянские матрикулы Лифляндской и Эстляндской губерний и в V часть родословной книги Костромской и С.-Петербургской губерний.
Содержание
Геральдика[править | править код]
Герб фон Менгденов являлся одним из первых дворянских гербов, бытовавших в России. Между декабрем 1685 года и 25 января 1686 года он был представлен в Палату родословных дел в числе доказательств, обосновывающих право семьи на внесение в родословную книгу[1].
Известен интересный в геральдическом и генеалогическом отношении экслибрис В.Н. фон Менгдена, в котором соединены четыре герба: фон Менгденов, баронов фон Фелькерзамов, баронов Брюнингов и фон Вульфов, т.е. самого владельца и его ближайших родственников: бабка по отцу, деда по матери и бабки по матери соответственно[2].
Известные представители фамилии[править | править код]
Баронский род[править | править код]
- Менгден, Амалия Георгиевна (1799—1864)
- Менгден, Евгений Евстафьевич фон (1804—1871)
- Менгден, Евстафий Романович (1798—1874)
- Менгден, Иван Алексеевич (?—1731)
- Менгден, Михаил Александрович (1781—1855) — правнук Ивана Алексеевича Менгдена
- Менгден, Александр Михайлович (1819—1903)[3]
- Менгден, Владимир Михайлович (1825—1910)
- Менгден, Михаил Александрович (1781—1855) — правнук Ивана Алексеевича Менгдена
- Менгден, Иоанн Генрих (1701—1768)[4]
- Менгден, Иоганн Карл[de] (1730—1796)[5]
- Менгден, Карл Людвиг (1706—1761)[6]
- Менгден, Карл Эрнестович (1821—1883)[7]
- Менгден, Юлиана Магнусовна (1719—1787)
Графский род[править | править код]
- Менгден, Эрнст Бурхард (1738—1797)
- Менгден, Георгий Фёдорович (1836—1902) — правнук Эрнста Менгдена
- Менгден, Георгий Георгиевич (1861—1917)
- Менгден, Георгий Фёдорович (1836—1902) — правнук Эрнста Менгдена
Прочие[править | править код]
- Менгден, Александр Александрович[8]
- Менгден, Георг фон (Юрий Андреевич)
- Менгден, Иван Иванович[9]
- Менгден, Фридрих Вильгельмович[10]
Примечания[править | править код]
- ↑ РГАДА, Ф.286. Оп.2. Д.1. лист 118.
- ↑ “Гербовник Анисима Титовича Князева 1785 года”. Сост. А.Т. Князев (1722-1798). Издание С.Н. Тройницкий 1912г. Ред., подгот. текста, послесл. О.Н. Наумова. М. Изд. “Старая Басманная”. 2008г. стр. 1
|
Метки: менгдены |
Эмигрантка, покорившая Париж: как грузинская княгиня завоевала французские подиумы |
Эмигрантка, покорившая Париж: как грузинская княгиня завоевала французские подиумы
Многие российские эмигранты аристократического происхождения после революции за рубежом начинали жизнь с чистого листа. Им приходилось осваивать новые профессии, и в этом некоторые из них добивались заметных успехов.
Грузинская княжна Мэри Шервашидзе, в замужестве княгиня Эристова, в 1920-х гг. во Франции стала моделью. И хотя сама она считала эту профессию унизительной для себя, без труда покорила подиумы и была признана одной из самых красивых женщин ХХ в.
(!) Подписывайтесь на наш канал в Дзен >> КУЛЬТУРОЛОГИЯ <<
Отец Мэри, князь Прокопий Шервашидзе | Фото: liveinternet.ru
Мэри родилась в Грузии в аристократической семье, ее отец, князь Шервашидзе, был членом Государственной думы Российской империи. Вскоре после рождения дочерей семья переехала в Петербург, Мэри воспитывалась там и после, к своему стыду, не могла ни читать, ни говорить по-грузински. Но благодаря своему аристократическому происхождению, прекрасным манерам и яркой внешности она стала фрейлиной императрицы Александры Федоровны.
Слева – княжна Мэри Шервашидзе. Справа – сестры Елена, Мэри и Тамара Шервашидзе | Фото: liveinternet.ru
С юных лет княжна Шервашидзе отличалась яркой красотой, привлекающей внимание многих мужчин. С именем Мэри связано немало легенд. Например, о том, как княжна, постоянно опаздывавшая на мероприятия, однажды пришла на панихиду позже императора и посмела войти в зал, что было нарушением правил придворного этикета. Но Николай II не только не выразил недовольства, но и сделал ей комплимент: «Грешно, княжна, быть такой красивой».
Княжна Мэри Шервашидзе | Фото: pulse.ge
После революции княжна в числе многих российских аристократов уехала в Тифлис. Там портрет Мэри написал пораженный ее красотой художник Савелий Сорин. С этим связана еще одна легенда: якобы этот портрет в течение многих лет висел в спальне у принцессы Монако Грейс Келли, и по утрам она сначала подходила к картине, а потом к зеркалу, таким образом определяя, хорошо ли она сегодня выглядит.
Слева – С. Сорин. Портрет Мэри Шервашидзе. Справа – княгиня Шервашидзе-Эристави, фото | Фото: liveinternet.ru
(!) Подписывайтесь на наш канал в Дзен >> КУЛЬТУРОЛОГИЯ <<
В 1915 г. грузинский поэт Галактион Табидзе создал цикл стихотворений «Мэри». Есть версия, что его музой стала княжна Шервашидзе: однажды она прошла мимо него в парке, даже не заметив, а поэт до конца дней не мог о ней забыть. Впрочем, сама княжна утверждала, что никогда не встречалась с Табидзе и не читала его стихов.
Князь Эристави, супруг Мэри Шервашидзе | Фото: liveinternet.ru
Поклонников у княжны Мэри всегда было множество, но ее сердце всю жизнь принадлежало одному мужчине – ее супругу, князю Георгию Эристави (Эристову), который был потомком грузинского царя Ираклия II. Их свадьба состоялась в 1919 г., а в 1921 г., после того как в Грузию вошли советские войска, Эристовы решили эмигрировать. Они уехали в Константинополь, а оттуда – в Париж.
Грузинская эмигрантка, которая во Франции стала моделью | Фото: photostranger.com
За рубежом многим эмигрантам аристократического происхождения приходилось зарабатывать на жизнь самостоятельно. Устроиться на работу пришлось и княгине Эристовой – она стала работать моделью в модном доме «Шанель». Дворянки из Российской империи пользовались тогда во французской модной индустрии невероятной популярностью. Гордая осанка, благородный профиль и утонченные манеры Мэри Эристовой производили настоящий фурор среди публики. Очень быстро она стала одной из лучших моделей Шанель.
Княгиня Шервашидзе-Эристави с супругом | Фото: sputnik-georgia.ru
Несмотря на громкий успех, княгиня считала подобную работу унизительной. Бывшая фрейлина императрицы считала ниже своего достоинства зарабатывать деньги, дефилируя по подиуму. При первой же возможности она оставила это занятие и больше никогда не вспоминала о том, что ей пришлось работать моделью.
(!) Подписывайтесь на наш канал в Дзен >> КУЛЬТУРОЛОГИЯ <<
Грузинская эмигрантка, которая во Франции стала моделью | Фото: liveinternet.ru и sputnik-georgia.ru
В 1947 г. ушел из жизни ее муж. Княгиня так тяжело переживала его смерть, что не только больше никогда не вышла замуж, но и обрекла себя на добровольное заточение в Доме престарелых. Правда, условия проживания там были достойными: она занимала три роскошно меблированных комнаты и ни в чем не нуждалась.
Княгиня Мэри Шервашидзе-Эристави | Фото: liveinternet.ru
Даже в зрелом возрасте княгиня продолжала сводить с ума мужчин, но никому не отвечала взаимностью. Ее появление на публике всегда вызывало восторг, но она была к нему равнодушна. До конца дней она сохранила благородную осанку и гордый нрав. В 1986 г. княгиня ушла из жизни.
Княгиня Мэри Шервашидзе-Эристави | Фото: spektrnews.in.ua
(
https://zen.yandex.ru/media/kulturologia/emigrantk...diumy-5cba2a5788da1e00b560597a
Источник: https://kulturologia.ru/blogs/190417/34229/
|
Метки: шервашидзе русское зарубежье эмиграция |
Эмигрантка, покорившая Париж: как грузинская княгиня завоевала французские подиумы |
Эмигрантка, покорившая Париж: как грузинская княгиня завоевала французские подиумы
Многие российские эмигранты аристократического происхождения после революции за рубежом начинали жизнь с чистого листа. Им приходилось осваивать новые профессии, и в этом некоторые из них добивались заметных успехов.
Грузинская княжна Мэри Шервашидзе, в замужестве княгиня Эристова, в 1920-х гг. во Франции стала моделью. И хотя сама она считала эту профессию унизительной для себя, без труда покорила подиумы и была признана одной из самых красивых женщин ХХ в.
(!) Подписывайтесь на наш канал в Дзен >> КУЛЬТУРОЛОГИЯ <<
Отец Мэри, князь Прокопий Шервашидзе | Фото: liveinternet.ru
Мэри родилась в Грузии в аристократической семье, ее отец, князь Шервашидзе, был членом Государственной думы Российской империи. Вскоре после рождения дочерей семья переехала в Петербург, Мэри воспитывалась там и после, к своему стыду, не могла ни читать, ни говорить по-грузински. Но благодаря своему аристократическому происхождению, прекрасным манерам и яркой внешности она стала фрейлиной императрицы Александры Федоровны.
Слева – княжна Мэри Шервашидзе. Справа – сестры Елена, Мэри и Тамара Шервашидзе | Фото: liveinternet.ru
С юных лет княжна Шервашидзе отличалась яркой красотой, привлекающей внимание многих мужчин. С именем Мэри связано немало легенд. Например, о том, как княжна, постоянно опаздывавшая на мероприятия, однажды пришла на панихиду позже императора и посмела войти в зал, что было нарушением правил придворного этикета. Но Николай II не только не выразил недовольства, но и сделал ей комплимент: «Грешно, княжна, быть такой красивой».
Княжна Мэри Шервашидзе | Фото: pulse.ge
После революции княжна в числе многих российских аристократов уехала в Тифлис. Там портрет Мэри написал пораженный ее красотой художник Савелий Сорин. С этим связана еще одна легенда: якобы этот портрет в течение многих лет висел в спальне у принцессы Монако Грейс Келли, и по утрам она сначала подходила к картине, а потом к зеркалу, таким образом определяя, хорошо ли она сегодня выглядит.
Слева – С. Сорин. Портрет Мэри Шервашидзе. Справа – княгиня Шервашидзе-Эристави, фото | Фото: liveinternet.ru
(!) Подписывайтесь на наш канал в Дзен >> КУЛЬТУРОЛОГИЯ <<
В 1915 г. грузинский поэт Галактион Табидзе создал цикл стихотворений «Мэри». Есть версия, что его музой стала княжна Шервашидзе: однажды она прошла мимо него в парке, даже не заметив, а поэт до конца дней не мог о ней забыть. Впрочем, сама княжна утверждала, что никогда не встречалась с Табидзе и не читала его стихов.
Князь Эристави, супруг Мэри Шервашидзе | Фото: liveinternet.ru
Поклонников у княжны Мэри всегда было множество, но ее сердце всю жизнь принадлежало одному мужчине – ее супругу, князю Георгию Эристави (Эристову), который был потомком грузинского царя Ираклия II. Их свадьба состоялась в 1919 г., а в 1921 г., после того как в Грузию вошли советские войска, Эристовы решили эмигрировать. Они уехали в Константинополь, а оттуда – в Париж.
Грузинская эмигрантка, которая во Франции стала моделью | Фото: photostranger.com
За рубежом многим эмигрантам аристократического происхождения приходилось зарабатывать на жизнь самостоятельно. Устроиться на работу пришлось и княгине Эристовой – она стала работать моделью в модном доме «Шанель». Дворянки из Российской империи пользовались тогда во французской модной индустрии невероятной популярностью. Гордая осанка, благородный профиль и утонченные манеры Мэри Эристовой производили настоящий фурор среди публики. Очень быстро она стала одной из лучших моделей Шанель.
Княгиня Шервашидзе-Эристави с супругом | Фото: sputnik-georgia.ru
Несмотря на громкий успех, княгиня считала подобную работу унизительной. Бывшая фрейлина императрицы считала ниже своего достоинства зарабатывать деньги, дефилируя по подиуму. При первой же возможности она оставила это занятие и больше никогда не вспоминала о том, что ей пришлось работать моделью.
(!) Подписывайтесь на наш канал в Дзен >> КУЛЬТУРОЛОГИЯ <<
Грузинская эмигрантка, которая во Франции стала моделью | Фото: liveinternet.ru и sputnik-georgia.ru
В 1947 г. ушел из жизни ее муж. Княгиня так тяжело переживала его смерть, что не только больше никогда не вышла замуж, но и обрекла себя на добровольное заточение в Доме престарелых. Правда, условия проживания там были достойными: она занимала три роскошно меблированных комнаты и ни в чем не нуждалась.
Княгиня Мэри Шервашидзе-Эристави | Фото: liveinternet.ru
Даже в зрелом возрасте княгиня продолжала сводить с ума мужчин, но никому не отвечала взаимностью. Ее появление на публике всегда вызывало восторг, но она была к нему равнодушна. До конца дней она сохранила благородную осанку и гордый нрав. В 1986 г. княгиня ушла из жизни.
Княгиня Мэри Шервашидзе-Эристави | Фото: spektrnews.in.ua
(
https://zen.yandex.ru/media/kulturologia/emigrantk...diumy-5cba2a5788da1e00b560597a
|
Метки: шервашидзе русское зарубежье эмиграция |
В Париж Миллер уже не вернулся... |
.
В Париж Миллер уже не вернулся...
Преемником Кутепова на посту руководителя РОВС стал генерал-лейтенант Евгений Карлович Миллер, принадлежавший к кругам старого кадрового генералитета. Его добрым знакомым был генерал Николай Владимирович Скоблин (вскоре после похищения Кутепова он вместе со своей женой известной русской певицей Надеждой Васильевной Плевицкой дал согласие работать на советскую разведку).
Близкие к Кутепову люди, считавшие первоочередной задачей РОВС массовый террор внутри СССР, были не очень довольны преемником – генералом Миллером. Его считали нерешительным, склонным к кабинетной работе и неспособным руководить столь крупной организацией. А молодые, требующие активных действий члены РОВС за глаза называли «старческой головкой».
Сменив Кутепова, Миллер вовсе не отказался от террора. В секретных документах РОВС, которые становились известными советской разведке, подчёркивалась необходимость подготовки кадров для террористических групп, по ведению партизанской войны в тылу Красной армии – в случае войны с СССР. Для эмигрантской молодёжи Миллер создал в Белграде унтер-офицерские курсы.
Стремясь полностью поставить под контроль РОВС и делая ставку на Н. В. Скоблина, как наиболее вероятного преемника Миллера на посту его руководителя, Сталин в 1937 году отдал приказ на похищение генерала.
Для участия в операции по похищению Е. К. Миллера в Париж был направлен заместитель начальника ИНО ГУГБ НКВД Сергей Шпигельглас, псевдоним «Дед». Ему помогали прибывший из Испании резидент ИНО в Мадриде Александр Орлов, псевдоним «Швед», и резидент ИНО в Париже Станислав Глинский, псевдоним «Пётр».
В один из сентябрьских дней 1937 года Скоблин зашёл в рабочий кабинет генерала Миллера.
– Я хотел бы вам рассказать, Евгений Карлович, что у меня несколько раз были беседы с представителями германской разведки.
– Где вы с ними встречались? – сразу же спросил он.
– Вы понимаете, почему я беспокоюсь: французы могут разозлиться.
– Разумеется, Евгений Карлович, все беседы проходили вне Парижа, у нас в Озуар-ла-Феррьер гости почти каждый день, поэтому ещё одно новое лицо никого не удивит.
– И как вам человек из Берлина? – Он показался мне серьёзным партнёром, – осторожно ответил Скоблин.
– Он из абвера и говорит, что готов предложить нам взаимовыгодные условия сотрудничества. Но...
– Что «но»? – заинтересовался Миллер.
– Разумеется, он хотел бы иметь дело с вами. Я для него слишком мелкая фигура.
– Ну что вы, Николай Владимирович, вы такой же руководитель РОВС, как и все другие.
– Уверяю вас, Евгений Карлович, они в Берлине знают только вас и только с вами хотят обо всём договориться.
– Я, разумеется, готов выполнить свой долг и встретиться. Но как это поудобнее сделать, учитывая моё официальное положение и вероятную ревность французов.
– Приезжайте к нам, – с готовностью предложил Скоблин. – Надежда Васильевна будет рада вас видеть.
Встречу назначили на 22 сентября того же, 1937 года. Миллер выехал к Скоблину, не сказав никому, куда отправляется, но оставив запечатанный конверт у начальника канцелярии генерала П. Кусонского. В Париж Миллер уже не вернулся... На конспиративной квартире, куда Миллера отвёз Н. В. Скоблин, их ждала группа сотрудников советской разведки.
В тот же день Миллера на машине вывезли в Гавр и посадили на советское судно «Мария Ульянова», которое спешно прекратило разгрузку бараньих шкур и взяло курс на Ленинград.
Миллер, помня историю с Кутеповым, имел обыкновение, уходя на встречу, оставлять дома или в рабочем кабинете пакет, который следовало вскрыть в случае его долгого отсутствия. В пакете Миллер оставлял записку с точным указанием, куда, к кому и с кем направляется.
Так же он поступил, отправившись к Скоблину.
Когда в штабе РОВС поняли, что Миллер исчез бесследно, оставленный пакет вскрыли.
«У меня сегодня в 12.30 час. Дня рандеву с генералом Скоблиным на углу рю Жасмен и рю Раффе, и он должен везти на свидание с немецким офицером, военным агентом в прибалтийских странах – полковником Штроманом и с г. Вернером, состоящим здесь при посольстве. Оба хорошо говорят по-русски. Свидание устроено по инициативе Скоблина. Может быть, это ловушка, на всякий случай оставляю эту записку.
Генерал Миллер
22 сентября 1937 г.».
Скоблин, которого немедленно пригласили явиться, сначала всё отрицал, когда же адмирал М. Кедров предложил продолжить беседу в полицейском участке, улучив момент, скрылся.
Во французской и мировой прессе поднялся невероятный шум. Эмиграция была потрясена.
29 сентября корабль прибыл в Ленинград, а на следующий день Миллер был в Москве. На суде ему предъявили обвинения в преступлениях против народа: его признали ответственным за массовые убийства, зверства, грабежи, а также виновным в организации диверсий и террористических акций против СССР в 1920-1930-х годах. Миллер был приговорён к высшей мере наказания. 11 мая 1939 года расстрелян и кремирован во внутренней тюрьме НКВД на Лубянке.
Источник: Шварев Н. Охота за генералами : Подробности похищения белогвардейских офицеров Кутепова и Миллера / Н. Шварев // Родина. – 2006. – № 3. – С. 54-59https://zen.yandex.ru/media/vounb/v-parij-miller-u...ulsia-5cb02fa0ae8e1600b3bdd217
|
Метки: миллер вчк-кгб |
Московские легенды. Сухарева башня |
Московские легенды. Сухарева башня
- Nov. 28th, 2016 at 10:41 AM
Некогда по Земляному валу тянулись Стрелецкие слободы, где квартировалась городская охранная стража. Около Сретенских ворот в XVII веке располагался Сухарев полк, названный по имени полковника его Лаврентия Сухарева. Именно на том месте была построена башня, получившая название Сухаревская. Высота башни была более 60 метров.
Яков Вилимович Брюс, московский колдун, фигура не менее таинственная и загадочная, чем французский прорицатель Мишель Нострадамус. Шотландец на службе русских царей, он предсказывал судьбу по звездам, ставил на ноги безнадежно больных и говорят, создал эликсир вечной молодости. Он был инженером, математиком, астрономом, знахарем, топографом, военным, политиком, дипломатом. И даже колдуном – были уверены его современники. В том числе и царь Петр.
В 16 лет Брюс записался в потешные войска, которые создавал тогда Петр Первый. Молодой государь, жадно рвавшийся к знаниям, сразу выделил среди остальных просвещенного шотландца. Который, к тому же, не уступал «герру Питеру» в пьянстве и разгуле. Петр любил шотландца и прощал ему колкости в свой адрес и в адрес православной церкви.
Брюс сопровождает Петра в его поездке по Европе. В 1698 году Пётр, получив известия о бунте стрельцов в Москве, спешит на родину. Вместе с ним в Россию возвращается и Брюс. Фактически масонство было завезено в Россию, после этих экспедиций Петра I в Англию, в которых его сопровождал Брюс. Считается, что основателями масонства в России являются Пётр I и его соратники, — Патрик Гордон, Франц Лефорт и как мы уже знаем Яков Брюс.
Сразу после прибытия в Россию Великого посольства 1697-1698 годов, Брюс предложил воодушевленному после посещения Европы царю, спроектировать и построить первое в Москве светское учебное заведение, — школу математических и навигационных наук. Помимо прочего это здание должно было служить штаб-квартирой первой масонской ложи России, учрежденной Петром вскоре после возвращения из Англии, так называемого «Нептуного общества». Это сооружение, известное как Сухарева башня, располагалось в Москве на пересечении Садового кольца, Сретенки и 1-й Мещанской улицы (ныне проспекта Мира).
В Сухаревой башне по ночам собиралось «Нептуново общество», тайный царский совет и первая российская масонская ложа, члены которой увлекались магией, чародейством и астрологией, и в которую помимо Петра I входили его приближённые, первые лица государства. Среди них были Меньшиков, Шереметьев, Голицын, Лефорт, Апраксин ну и, конечно же, Брюс. В народе шептались, что царь, окружив себя иноземцами, творит теперь с ними в башне дела «богомерзкие» и «нечестивые», общается с сатаной и занимается колдовством.
В 1701 году в Сухаревой башне Пётр I открывает Навигацкую школу, а Брюс, который являлся ближайшим сподвижником царя, открывает при этой школе первый в России научный центр. В башне проводились регулярные астрономические наблюдения, ставились различные физические и химические опыты, чертились карты, переводились иностранные и писались свои учебники и пособия. Но, в народе говорили, что в башне Брюс творит жуткие вещи, и обходили её стороной.
На последнем этаже Брюс устроил обсерваторию. Светящееся каждую ночь окно обсерватории быстро уверило москвичей в том, что дело здесь нечисто. Свечной торговец Алексей Морозов, например, утверждал, что как-то в сумерках сам видел, что из окон астронома вылетают железные птицы. И вскоре по городу прошел тревожных слух - лютеранин из Сухаревой башни общается с нечистой силой и с ее помощью превращает живых людей, чьи стоны и разносятся по окрестностям, в летающих железных драконов.
- В этой истории есть доля правды, - говорит доктор исторических наук Зинаида Татарская. - В Сухаревой башне Яков Брюс работал над созданием летальных машин. Сохранившиеся чертежи действительно напоминают чертежи современных самолетов. Эти бумаги сейчас находятся в Российской академии наук. К сожалению, часть ценных документов бесследно исчезла в тридцатые годы. По одной из версий, их выкрали немецкие шпионы и потом по чертежам Брюса фашисты сделали свои непобедимые истребители «мессершмиты».
По легенде в Сухаревской башне хранилась «Соломонова печать» на перстне со словами SATOR, AREPO TENET OPERA ROTAS. «Можно сим перстнем делать разно: к себе печатью превратишь, невидим будешь, от себя отвратить все очарования разрушишь, власть над сатаной получишь…».
Но самой большой тайной чернокнижника из Сухаревки, пожалуй, остаётся его колдовская «Черная книга». Много легенд ходило вокруг этого таинственного предмета. В народе говорили, что эту книгу написал сам сатана, и называли её не иначе как «Библией чёрта», если откроет её кто-то помимо чернокнижника, которому она принадлежит, будет проклят навечно. Чернокнижнику же эта книга даёт огромную власть и тайные знания. Также ходила молва, что книга эта досталась Брюсу вместе со знаменитой и легендарной библиотекой Ивана Грозного, которую он надёжно спрятал от посторонних глаз в подземельях Сухаревой башни.
Другая легенда о магической «Чёрной книге» повествует о том, что писана она была волшебными знаками, принадлежала некогда премудрому царю Соломону ив ней записаны судьбы всех людей на земле. Книга Соломона была заговоренной, кроме Брюса её никто не мог взять в руки, она просто исчезала. Хранилась она в тайной комнате башни, вход в которую знал только Брюс. С этой книгой хотел познакомиться Петр I, но даже в присутствии самого Брюса она не далась царю в руки. Перед смертью Брюс замуровал «Чёрную книгу» где-то в Сухаревой башне, в потайной комнате на которую наложил особое заклятие, «магический замок», чтобы не попала книга и тайные знания, содержащиеся там, в руки посторонних людей.
После смерти Брюса легендарную книгу якобы пытались разыскать многие, а Екатерина II даже заставила разобрать стены в части комнат башни. Но книгу тогда так и не нашли. Брюс пугал москвичей и после смерти. Его тело уже было погребено в склепе у лютеранской кирхи Св. Михаила в Немецкой слободе, но каждую ночь в обсерватории по-прежнему загорался свет. Москвичи говорили, что это дух колдуна охраняет свою магическую книгу.
Следующую масштабную попытку найти книгу, по слухам, предпринял сам Сталин. Произошло это событие в 1934 году, когда по решению советского правительства башню было решено снести, так как якобы она мешала движению транспорта. Несмотря на протесты многих архитекторов, к сносу приступили немедленно и с необычной спешностью. Явная надуманность причины сноса этого редчайшего памятника архитектура Петровской эпохи, и то, как происходил сам снос, вызвало массу сплетен. Сухареву башню не взорвали, как это происходило в те времена со многими другими сооружениями и храмами, пошедшими под снос, а разобрали, буквально по кирпичику.
За разборкой башни наблюдал лично Лазарь Каганович, а все выезжающие с объекта машины и всех выходящих людей обыскивали сотрудники НКВД. Вывод напрашивался сам собой, — там явно что-то искали, что-то очень важное. И нашли. Но увы, среди различных рукописей, книг, манускриптов, эзотерических трудов, принадлежавших Брюсу, а также приспособлений и механизмов, алхимической утвари и чертежей не было самого главного, «Чёрной книги».
Разгневанный тиран отдал приказ взорвать останки башни. Присутствовавший при уничтожении архитектурного памятника Лазарь Каганович потом говорил Сталину, что видел в толпе высокого, худого человека в парике, которые погрозил ему пальцем, а потом испарился. Но некоторые научные труды Брюса вождь всех народов все-таки нашел и использовал их при строительстве современной Москвы.
Определить место, где стояла Сухарева башня, можно по фотографиям ниже. Трёхэтажный дом справа практически не изменился.
Вот этот дом крупным планом. Узнать его легко по сталинской символике.
А ниже мы видим расположение Сухаревой башни по отношению к больнице Склифосовского (Шереметьевской больнице). Прямо перед нами бурлит Сухаревский рынок, воспетый Гиляровским.
А так больница и рынок выглядели с верхушки Сухаревой башни. Перед нами Садовое кольцо, справа Сретенка, слева проспект Мира (их не видно).
Больница Склифосовского с тех пор почти не изменилась.
Другие московские легенды:
Голосов овраг
Подземелья в Коломенском
Меншикова башня
Усадьба колдуна Брюса «Глинки»
Дом колдуна Брюса
Сухарева башня
Дом Пашкова
Дом Стахеева
https://raven-yellow.livejournal.com/87601.htmlmments — Leave a comment )
|
Метки: брюс москва сретенка сухарева башня |
Реальная жизнь атамана Грициана Таврического: успех, ревнивая жена и другие радости и беды Григория Абрикосова |
Реальная жизнь атамана Грициана Таврического: успех, ревнивая жена и другие радости и беды Григория Абрикосова
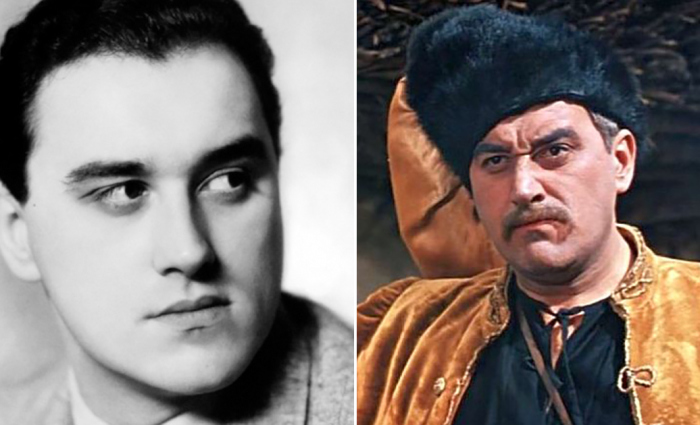
Вся жизнь этого талантливого актёра была неразрывно связана с Театром имени Вахтангова. Григорий Абрикосов был продолжателем купеческого рода, прославившегося предпринимательскими талантами и вкладом в благотворительность, науку и производство России. Он сыграл более трёх десятков ролей в кино, но запомнился, прежде всего, как атаман Грициан Таврический из музыкальной комедии «Свадьба в Малиновке». В его жизни было множество поклонниц и одна женщина, ставшая его настоящей судьбой.
Профессия по наследству

Григорий Абрикосов. / Фото: www.postila.io
Отец Григория Абрикосова Андрей Львович свои первые театральные роли получил уже после того, как сыграл Григория Мелехова в немом фильме «Тихий Дон». Именно эта работа в кино, по сути, стала началом славного творческого пути актёра. Когда в 1932 году у него родился сын, Андрей Абрикосов назвал его в честь своего первого киногероя.
Кажется, судьба мальчика была предопределена с самого рождения. В доме Абрикосовых всегда царила творческая атмосфера, в гостях бывали известные актёры и режиссёры. В 1938 году Андрей Абрикосов был принят в труппу Вахтанговского театра, а Григорий стал часто бывать в храме искусства.
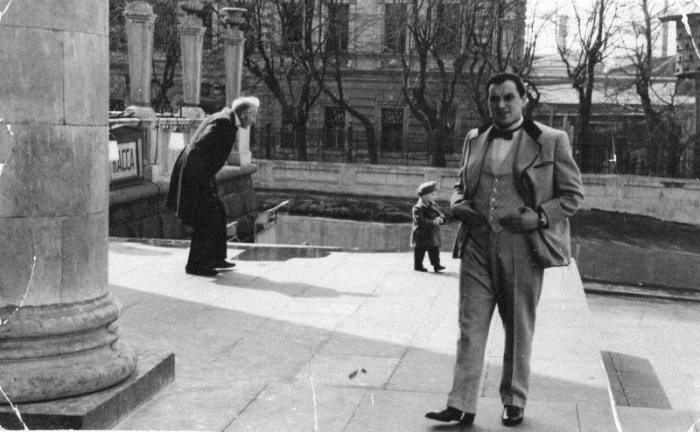
Григорий Абрикосов. / Фото: www.kino-teatr.ru
У Григория была очень тесная духовная связь с отцом, а потому он всегда с интересом следил за его деятельностью. В результате мальчик буквально заболел актёрской профессией, поэтому после окончания школы сразу же подал документы в Щукинское училище.
Творческий дебют
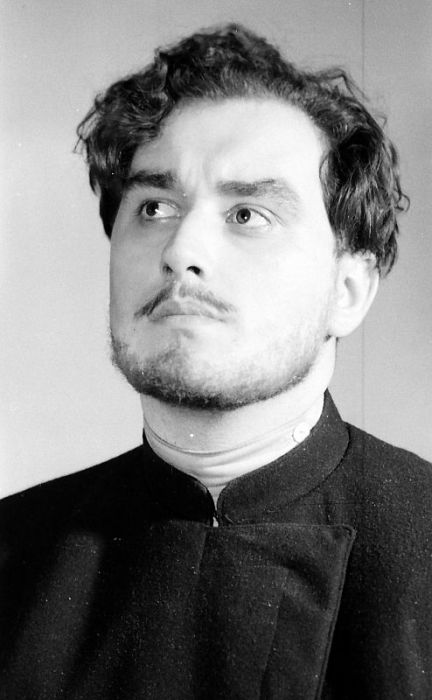
Григорий Абрикосов в роли Фомы Гордеева в одноименном спектакле. / Фото: www.vakhtangov.ru
Студенческие годы позволили юноше не только овладеть теоретическими знаниями, но и попробовать себя в роли актёра: за два года до получения диплома Григорий Абрикосов уже был приглашён в театр имени Маяковского, где с успехом дебютировал.
Однако после окончания театрального училища молодой человек перешёл в театр имени Вахтангова, которым в то время уже руководил его отец. Молодого актёра сразу же утвердили на главную роль в спектакль «Фома Гордеев» по Горькому.

Григорий Абрикосов в роли Безенчука в спектакле «Двенадцатый час». / Фото: www.vakhtangov.ru
Успех был ошеломительным. Красивый и талантливый Григорий Абрикосов очень скоро стал любимцем публики и о молодом даровании заговорила вся театральная Москва. Харизматичный актёр одинаково хорошо мог сыграть комедийного персонажа и романтического героя, перевоплотиться в любой образ. Даже маленькие роли в его исполнении становились яркими и запоминающимися.

Андрей и Григорий Абрикосовы. / Фото: www.kino-teatr.ru
Кинокарьера Григория Абрикосова складывалась довольно успешно, хотя в его фильмографии далеко не все работы были большими. Однако мастерство актёра проявлялось даже в небольших эпизодах. Настоящей визитной карточкой Абрикосова стала роль атамана Грициана Таврического в «Свадьбе в Малиновке». Примечательно, что роль отца атамана сыграл Андрей Львович Абрикосов, папа актёра.
Светлое счастье

Григорий Абрикосов - Игнат Глембай в спектакле «Господа Глембаи». / Фото: www.vakhtangov.ru
Григорий Абрикосов обладал выдающейся внешностью и непередаваемым обаянием. Естественно, что у него было множество поклонниц, да и молодые актрисы не оставляли его своим женским вниманием.
Но актёр был предан женщине, которую полюбил ещё в молодости. Его избранницей стала талантливая актриса театра имени Пушкина Марина Кузнецова. Зрители запомнили её по ролям в фильмах «Застава в горах», «Свадьба Кречинского», «Шведская спичка». Правда, снималась она мало, да и в театре играла не так долго.

Марина Кузнецова. / Фото: www.kino-teatr.ru
Актёру в своё время пришлось довольно долго добиваться расположения своей возлюбленной. Марина Михайловна ответила Григорию Андреевичу взаимностью, однако очень переживала об их семилетней разнице в возрасте. Ей казалось, что в какой-то момент её молодой супруг увлечётся юной красоткой и оставит незаживающую рану в её сердце.
Однако Григорий Абрикосов никогда не давал повода своей жене усомниться в его верности. Сейчас можно встретить информацию о том, что Марина Михайловна постоянно ревновала мужа. Закатывала ему сцены и истерики, не занималась домом, и даже заботы о дочери Марии легли на плечи отца.

Григорий Абрикосов с дочерью Марией. / Фото: www.kino-teatr.ru
Однако те, кто знал близко семью Абрикосовых, были уверены: у Григория Андреевича был удивительно крепкий и надёжный тыл. Супруга оставила сцену и кино для того, чтобы её талантливый и любимый муж мог спокойно заниматься творчеством.

Григорий Абрикосов и Марина Кузнецова. / Фото: www.kino-teatr.ru
Марина Кузнецова-Абрикосова не только заботилась об их общем доме, воспитывала дочь и баловала супруга кулинарными изысками. Она всегда была его самым мудрым и объективным критиком и советчиком. Находясь вдали от дома на гастролях или съемках, Григорий Абрикосов писал супруге письма, полные любви и нежной заботы. И всегда с едва сдерживаемым нетерпением открывал двери своего дома после долгого отсутствия, каждый раз волнуясь, как перед первым свиданием.
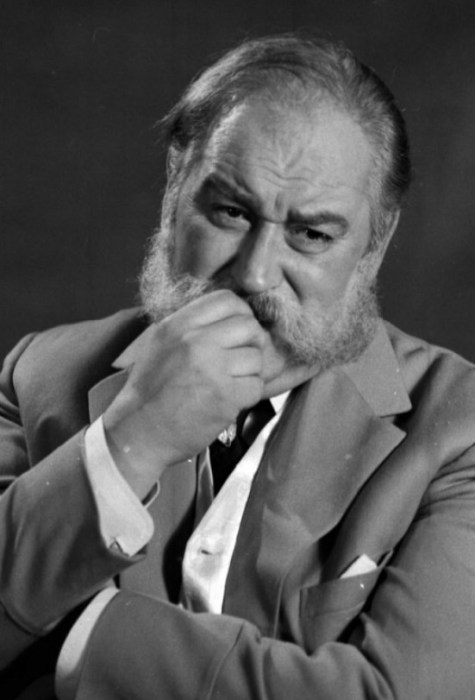
Григорий Абрикосов. / Фото: www.vakhtangov.ru
Возможно, в их отношениях и присутствовала женская ревность, однако она совершенно не мешала супругам сохранять взаимное уважение и хорошую атмосферу в семье.
Сердечный приступ унёс жизнь Григория Андреевича в 1993 году, жена пережила его на три года. По её просьбе Марину Михайловну похоронили в одной могиле с любимым мужем.
Скачать видео
Когда в 1967 году на экраны кинотеатров вышел фильм «Свадьба в Малиновке», экранизация оперетты композитора Бориса Александрова и лебреттиста Леонида Юхвида, созданная ещё в 1936 году, его посмотрело рекордное количество зрителей – 74,5 миллиона человек. Что интересно, на студии Довженко картину посчитали слишком легкомысленной и снимать отказались, поэтому съёмки переехали на «Ленфильм».
|
Метки: абрикосовы |
Елена Блаватская. Неразоблаченная Изида |
Елена Блаватская. Неразоблаченная Изида
Взгляд с психопатологической точки зрения
Автор: Александр Шувалов






В 1877 году Блаватская опубликовала в Нью-Йорке книгу «Разоблаченная Изида», в которой писала о «ключах к тайнам древней и современной науки». Однако до нашего времени оккультизм и личность Блаватской остаются во многом таинственными.
НЕ ТАКАЯ, КАК ВСЕ
Елена Петровна Блаватская (1831—1891) — русская писательница, основательница теософического общества, устроительница многочисленных спиритических сеансов. Она путешествовала по Северной Африке, Малой Азии, Северной и Южной Америке, Индии, Китаю и часто в таких местах, где раньше не появлялись европейские женщины. Личность Елены фон Ган (Блаватской она стала по фамилии мужа) крайне неоднозначна. С одной стороны, ею написаны многочисленные тома по серьезным вопросам отношений материальной и духовной сущностей человека, с другой, она неоднократно обвинялась — и не бездоказательно — в примитивном шарлатанстве.
Рассмотрим нашу героиню с психопатологической точки зрения. Психический инфантилизм и дисгармония Елены были замечены родными со школьных лет, когда впервые появились истерические состояния, сопровождаемые судорогами и галлюцинациями. Девочка рассказывала, что перед ней возникал величественный образ индуса в белой чалме, которого она называла своим покровителем, утверждая, что именно он спасал ее в минуты опасности. Блаватская писала: «В течение примерно шести лет (в возрасте от восьми до пятнадцати) ко мне каждый вечер приходил какой-то старый дух, чтобы через мою руку письменно передавать различные сообщения. Это происходило в присутствии моего отца, тети и многих наших друзей»1.
С детства не признавая никакой дисциплины, Блаватская не слушалась воспитателей, всякое противоречие вызывало в ней раздражение, доходящее до судорожных приступов. Словно хулиганистый мальчишка, Елена немедленно нарушала любой запрет. В подростковом возрасте отмечались сноговорение и снохождение. Однажды ее нашли в таком состоянии в подвале дома разговаривающую с каким-то невидимым существом. Она писала: «Я ненавижу наряды, украшения и цивилизованное общество; я презираю балы, залы. Как сильно я их презирала, показывает следующий случай. Когда мне исполнилось 16 лет, меня заставили однажды пойти на большой бал у царского наместника Кавказа. Мои протесты никто не хотел слушать, и мне сказали, что велят прислуге насильно меня одеть, вернее раздеть, соответственно моде. Тогда я умышленно сунула ногу в кипящий котел и потом должна была 6 месяцев сидеть дома»1.
В 17 лет Елена вышла замуж за 60-летнего генерала, ереванского вице-губернатора Никифора Блаватского. Сыграли свадьбу, а через несколько месяцев молодая жена девственницей (!) уехала в путешествие, из которого вообще не собиралась возвращаться домой.
РУКОВОДЯЩИЕ ПОКРОВИТЕЛИ
Все то, что сообщалось впоследствии самой Еленой Петровной о своих странствиях, часто носило характер фантазий: например, какие-то духи переносили ее нематериальным способом из одной страны в другую. Все литературные произведения создавались, по собственному признанию Блаватской, с помощью сверхъестественных сил, так как «покровители» могли «легко сообщаться с ней на расстоянии посредством мысленного телеграфа».
Когда «покровители» не писали ее рукой, они помогали ей другими удивительными способами. «Вера, — сообщает она сестре, — я пишу Изиду …Временами мне кажется, что древняя богиня красоты самолично ведет меня через все области тех столетий, которые я должна описать. Я сижу с открытыми глазами и… вижу и слышу все реальное вокруг себя и при всем том вижу и слышу то, о чем пишу…» Когда Блаватской требовались выдержки из какой-нибудь редкой древней книги, страницы последней тотчас же появлялись перед ее глазами в «астральном свете».
Сохранились воспоминания, принадлежащие государственному деятелю и будущему председателю Кабинета министров России Сергею Витте, который вряд ли был склонен к легкомысленной доверчивости. «Когда я познакомился с ней ближе, то был поражен ее громаднейшим талантом все схватывать самым быстрым образом: никогда не учившись музыке, она сама выучилась играть на фортепиано и давала концерты в Париже (и Лондоне); никогда не изучая теорию музыки, она сделалась капельмейстером оркестра и хора у сербского короля Милана… никогда серьезно не изучая языков, она говорила по-французски, по-английски и на других европейских языках, как на своем родном языке… она писала с легкостью всевозможные газетные статьи на самые серьезные темы, совсем не зная основательно того предмета, о котором писала»3.
Практически у каждой гениальной женщины имеются неблагополучия в сексуальной сфере. Фридрих Ницше писал в книге «По ту сторону добра и зла»: «Если женщина обнаруживает научные склонности, то обыкновенно в ее половой системе что-нибудь да не в порядке. Уже бесплодие располагает к известной мужественности вкуса»4. Блаватская не составляет в этом правиле исключения, поэтому игнорировать данную патологию было бы неправильно из-за громадного влияния, которое сексуальность оказывает на личность. По мнению немецкого сексопатолога Моля, у нее «можно предположить наличие ложного гермафродитизма, при котором, как показывает опыт, часто имеют место гомосексуальные наклонности. Временами Блаватская обращалась к однозначно мужским профессиям… Эпизодически она присваивала себе мужское имя, например «Джек», и могла шуметь и ругаться как ломовой извозчик»5. Факты такого поведения подтверждают и отечественные биографы: «Е.П. Блаватская с внешней стороны проявляла больше недостатков, чем достоинств… Она была обуреваема страстями, всегда раздражена, негодовала, проклинала и командовала без конца; ругалась как солдат; курила с утра до вечера повсюду, даже в священных храмах Индии»6.
ГЕНИАЛЬНАЯ АВАНТЮРИСТКА
Елена Петровна никогда не жила да, видимо, и не стремилась жить полноценной женской жизнью: после падения с лошади у нее произошло смещение матки, «освободившее ее от сексуальных переживаний и давшее возможность всецело сосредоточиться на духовных исканиях»7. Здесь уместно привести выписку из медицинского свидетельства от 1885 года, которое подтверждает такое предположение: «…она, как показывает подробное исследование, никогда не рожала и не переносила гинекологических заболеваний». Близкий соратник Блаватской по теософскому обществу полковник Генри Олкотт дополняет: «Каждое ее слово и каждый ее поступок говорили о безразличии к сексу»2.
Относительно ее оккультных способностей сохранились самые противоположные мнения.
«Главная же ее сила и условие ее успехов заключались в необычайном ее цинизме и презрении к людям… “Чем проще, чем глупее и грубее феномен, — признавалась она мне впоследствии, — тем он вернее удается”». Выписка из отчета ученой комиссии, назначенной для исследования феноменов Теософического общества, гласит: «Что касается нас, мы не видим в ней ни представительницы таинственных мудрецов, ни того менее простой авантюристки; мы полагаем, что она заслужила свое место в истории как одна из наиболее совершенных, остроумных и интересных обманщиц нашей эпохи»8.
Блаватская принадлежит к той категории деятелей, гениальность которых соединяется с авантюризмом… Будучи энергичной и талантливой натурой, открыв путь на Запад буддизму и йоге, медитации, Елена Блаватская смогла реализовать свой литературный потенциал. Другая творческая грань ее личности была окрашена в яркие истерические тона, привлекая к ее персоне повышенное внимание окружающих. «Сверхнормальные» способности поддерживались шарлатанскими приемами, что она особенно и не скрывала. Третья грань ее личности — сексуальная девиация в сторону гомосексуальности — характерна для большинства великих женщин. А мне лишь хотелось напомнить читателям, что жила такая русская женщина, которая на свой лад видела и объясняла существующий мир.
1 Нэф М.К. Личные мемуары Е.П. Блаватской. М., 1993. C. 11.
2 Мэрфи Г. Когда приходит рассвет. Жизнь и труды Елены Петровны Блаватской. Урал, 1999. C. 171.
3 Витте С.Ю., Избранные воспоминания. 1849—1911 гг. М., 1991. C. 9.
4 Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. М., 1990. Т. 2.
5 Moll A., Beruhmte Homosexuelle. Wiesbaden, 1910. C. 74.
6 Писарева Е.Ф. Миссия Е.П. Блаватской, теософия и теософическое общество // АУМ, № 3. Синтез мистических учений Запада и Востока. М., 1990. С. 17.
7 Гарин И.И. Что такое мистика. М., 2004. Т. 2. С. 691.
8 Соловьев В.С., Современная жрица Изиды. Мое знакомство с Е.П. Блаватской и «теософическим обществом». М., 1994. С. 69.
https://www.psyh.ru/nerazoblachennaya-izida/?utm_r...r=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
|
Метки: елена блаватская |
Фон Мекк, Александр Карлович |
Фон Мекк, Александр Карлович
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 19 мая 2016; проверки требуют 37 правок.
Перейти к навигации Перейти к поиску
| Александр Карлович фон Мекк | |
|---|---|
 |
|
| Дата рождения | 6 июня 1864 |
| Место рождения | Москва |
| Дата смерти | 15 марта 1911 (46 лет) |
| Место смерти | Москва |
| Гражданство |  Российская империя Российская империя |
| Род деятельности | железнодорожный деятель |
| Отец | Фон Мекк, Карл Фёдорович |
| Мать | Надежда Филаретовна фон Мекк |
| Супруга | Анна Георгиевна (Франс) |
| Дети | сын Георгий |
 Александр Карлович фон Мекк на Викискладе Александр Карлович фон Мекк на Викискладе |
|
Александр Карлович фон Мекк, (06.06.1864, Москва — 15.03.1911, Москва) российский предприниматель и общественный деятель, выдающийся организатор отечественного туризма — один из первых альпинистов в России, учредитель Русского горного общества. А. К. фон Мекк происходил из семьи принадлежавшего старинному дворянскому роду фон Мекк, известного инженера и предпринимателя, владельца ряда российских железных дорог Карл Федорович фон Мекк (нем. Karl Otton Georg von Meck), (1821—1876). Его мать, Надежда Филаретовна фон Мекк (1831—1894), после смерти мужа сумела сохранить семейное дело и передать управление им своим сыновьям — сначала старшему Владимиру (1852—1892), а с 1892 г. — Николаю (1863—1929), председателю правления Общества Московско-Казанской железной дороги и Александру, избранному в члены правления[1]
Содержание
Биография
Выбор пути
Детство и юные годы Александра пришлись на годы, когда богатство семьи позволяло обеспечить детям хорошее воспитание и образование. В детстве он рос под опекой гувернёров, учился игре на фортепьяно, много читал. После окончания частного пансиона в 1877 г. Москве поступил в Императорское училище правоведения в Петербурге[2], но по болезни оставил его, вместе с матерью уехал за границу, слушал лекции в Йенском университете, в котором до него учились, например, Карл Маркс, Миклухо-Маклай.
После учебы А. К. фон Мекк пробовал заниматься экономикой, экспортной торговлей. Однако, практическое предпринимательство не заинтересовала его. Н. Ф. фон Мекк 17 декабря 1877 г. писала П. И. Чайковскому о сыне, что «он мечтатель и живет всегда в каком-то отвлеченном мире». После избрания в правление Общества Московско-Казанской железной дороги и получения своей доли в наследстве после смерти матери, А. К. фон Мекк предпочитал заниматься не семейным делом, а собственными увлечениями и общественной деятельностью[3].
Призвание
Большую часть своих доходов А. К. фон Мекк направлял на благотворительность. Активно участвовал в работе Московского попечительного комитета Императорского Человеколюбивого общества, был помощником (заместителем) Председателя комитета братолюбивого общества снабжения в Москве неимущих квартирами, Председателем попечительства над бедными детьми[4]. За большой вклад в деятельность благотворительных организаций был удостоен ордена Равноапостольного Князя Св. Владимира 4-й степени.[4]
Также был действительным членом Общества содействия физическому развитию и в других благотворительных организациях. Был первым председателем Общества содействия русскому торговому мореходству.
С первым директором Археологического института учредил Общество Вспомоществования недостаточным слушателям Московского Археологического Института[5]
Вместе с братом Николаем Карловичем и племянником Владимиром Владимировичем был соучредителем 3-х стипендий имени семейства фон Мекк в Московском дворянском институте для девиц благородного звания имени императора Александра III в память императрицы Екатерины II[6].
Был известен, как коллекционер живописи, авторитетный библиограф и архивист. В уже зрелом возрасте в 1910 году закончил Московский археологический институт с званием ученого архивиста.[7] Написал несколько работ по археографическому и архивному делу. В его книжное собрание входил (один из лучших в российских частных библиотеках) раздел русских и зарубежных трудов по истории экономических учений, кредитно-банковскому и биржевому делу, денежному обращению, налогам, по отраслям промышленности и торговли. законодательству, земскому и городскому управлению. В библиотеке были основные издания по русской истории, географии и альпинизму[~ 1]. В 1905 г. вместе с У. Г. Иваском учредил в Москве Общество любителей книжных знаков[8].
А. К. фон Мекк много путешествовал, был членом Императорского Русского географического общества и Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Активная общественная деятельность Александра Карловича велась в 39 обществах, в 8 из которых он был председателем.[7]
Альпинизм
Тяга горам возникла у А. К. фон Мекка, когда в раннем детском возрасте он из-за слабого здоровья несколько лет провёл во Франции в горном местечке Шамони, откуда альпинисты с проводниками отправлялись на Монблан. Позже, во время своих путешествий, он овладел техникой альпинизма и принимал участие в нескольких горных восхождениях: в 1903 году на Юнгфрау — горную вершину в Бернских Альпах (в Швейцарии) и на Казбек; в 1905 году — на Монблан. В своей статье «Верховья Теберды» А. К. фон Мекк описал первые восхождения в районе Домбая на две безымянные вершины, одну из которых он назвал «Семёнов-баши» (3608 м) в честь председателя Русского географического общества, путешественника П. П. Семёнова-Тянь-Шаньского. А. К. фон Мекк был членом нескольких европейских альпинистских клубов, в 1901 г. основал и был первым председателем Русского горного общества[~ 2]. Издавал «Ежегодник», устраивал выставки, популяризуя альпинизм в России и руководил деятельностью общества вплоть до своей неожиданной кончины в 1911 г.[9][10][11][12].
После кончины А. К. фон Мекка РГО опубликовало несколько статей, в том числе от Г. А. фон Мекка, Анучина Д. Н., Красильникова Ф. С., иностранных коллег.
Известный немецкий альпинист Вилли Рикмер-Рикмерс (Willi Rickmer Rickmers) писал[12] (недоступная ссылка с 20-10-2016 [917 дней])[источник не указан 917 дней]:
«Александр создал русский альпинизм, организовал и поставил его на прочное основание. Раньше мы ничего не слышали о русских горовосходителях, и понятие „русское“ не имело место в альпинизме. Фон-Мекк уничтожил это предубеждение своей работой, своим энтузиазмом, настойчивым, благородным характером, деятельностью в качестве руководителя Русского Горного общества, автора многих статей и редактора „Ежегодника“, выдвинул русский альпинизм на почетное место.»
Умер 15 марта 1911 года. Был похоронен на Новодевичьем кладбище. Могила не сохранилась.
Семья
Жена — Анна Георгиевна, в девичестве — Франс (? — 1914), по происхождению — шотландка. Разделяла увлечение мужа альпинизмом. После смерти Александра Карловича была избрана Председателем Русского Горного Общества.
Сын — Георгий (14.10.1888 — 1962).
Младшая дочь умерла в детском возрасте (конец 1904 — начало 1905)[13].
Библиография
- Фон Мекк А. К. The Imperial Society for Promoting Russian Commercial Shipping: Short Historical Sketch — Printing offices O. Herbeck, 1893, 48 с.
- Фон Мекк А. К. Список книг, принадлежащих А. К. фон Мекк (по 1 января 1900 г.) — М.: Печатня С. П. Яковлева, 1901, 72 с.
- Фон Мекк А. К. Альпийские клубы и РГО. Клухорский перевал — М.: Ежегодник Русского горного общества, т. 1, 1903
- Фон Мекк А. К. Вола-вцек — М.: Ежегодник Русского горного общества, т. 2, 1904
- Фон Мекк А. К. Казбек и Ермоловская хижина. Несчастный случай на Монблане. — М.: Ежегодник Русского горного общества, т. 3, 1905
- Фон Мекк А. К. Первовосхождения в верховьях Теберды — М.: Ежегодник Русского горного общества, т. 4, 1906
- Фон Мекк А. К. Русская Ледниковая комиссия — М.: Ежегодник Русского горного общества, т. 5, 1906
- Фон Мекк А. К. С. И. Иловайский как горный турист. — Записки Кавказского Горного Клуба, 1907, № 4/6, сс. 16- 21
- Фон Мекк А. К. Пути восхождения на Монблан — М.: Ежегодник Русского горного общества, т. 7, 1907
- Фон Мекк А. К. Массив Хан-Тенгри — М.: 1907
- Фон Мекк А. К. Справочник Московскаго археологическаго института — М.: Тип. И. Н. Кушнерев, 1909, 27 с.
- Фон Мекк А. К. Лифляндско-русский дворянский род фон-Мекк, на правах рукописи, М., 1909
- Ардашев Н. Н., Соколова А. А., Фон Мекк А. К. Расходные книги и столпы Поместнаго приказа, 1626—1659 гг. — М.: Записки Московскаго Археологическаго Института, т.10, 1910
- Фон Мекк А. К. Путешествие А. Е. Соколова в Имеретию в 1802 г. — М.: Ежегодник Русского горного общества, т. 7, 1911
- Фон Мекк А. К. Прогулки в Альпах — М.: Ежегодник Русского горного общества, т. 8, 1911
- Фон Мекк А. К. Пик д’Ането — М.: Ежегодник Русского горного общества, т. 9, 1913
- Фон Мекк А. К. Мон-Монье — М.: Ежегодник Русского горного общества, т. 10, 1914
- Фон Мекк А. К. Корсика — М.: Ежегодник Русского горного общества, т. 11, 1915
Примечания
Комментарии
- Устав общества был утверждён 24 декабря 1900 г., а учредительное собрание состоялось 23 апреля 1901 г.
|
Метки: фон мекк |
12 цитат из дневников Сергея Прокофьева |
12 цитат из дневников Сергея Прокофьева
Поездки на дачу, погони за понравившимися духами, страсть к шахматам, поиск себя между сочинительством музыки и рассказов, наблюдение за звездами и поиск Бога. Рассказываем о композиторе Сергее Прокофьеве через цитаты из его дневников
Автор Екатерина Ключникова (Лобанкова)
Композитор, пианист и дирижер Сергей Прокофьев (1891–1953) обладал ярким литературным талантом. Он начал вести дневник, когда ему было 16 лет, во время учебы в Петербургской консерватории: «Начинаю такую запись, пожалуй что дневник. Я решил еще весною, что, мол, начну осенью, приехав в Петербург». Через два года, 20 ноября 1909 года, он пишет: «Моя жизнь очень богата впечатлениями и событиями, и я охотно заношу их в дневник. Но писать о романтических приключениях несравненно легче и приятней, чем о других, более сухих материях… Вот почему мои барышни заняли здесь столько места».
Он вел дневник с 1907 по 1933 год, используя собственную систему скорописи — без гласных. Последние уточняющие записи относятся к 1936 году, когда Прокофьев решил вернуться в Советскую Россию. Дневники он оставил в США, в сейфе, и больше их не вел — вероятно, чтобы не подвергать риску ни себя, ни близких. Впрочем, как и прежде, он фиксировал события, бытовые дела и мысли в записных книжках: они охватывают период с 1934 по 1945 год (сейчас хранятся в РГАЛИ Российский государственный архив литературы и искусства. и не расшифрованы).
1. Об играх
«<…> В Териоках Сейчас Зеленогорск, пригород Санкт-Петербурга. Боря Борис Захаров (1887–1943) — пианист, ученик Петербургской консерватории, друг Прокофьева. научил меня играть в теннис. Я очень увлекся этой прекрасной игрой. Научили меня играть и в „девятый вал“ Карточная игра.. Посадили так, от скуки, в дождливый день — играть по гривеннику и по пятачку. Я не ушел, но не хотел отказаться, ассигновал семьдесят копеек, высыпав всю мелочь из кошелька на стол. Игра мне готовила сюрприз: я встал из-за стола с восемнадцатью рублями в кармане, но с полным отвращением к игре. А специалист по этой части, доктор Хайкин, продул двадцать пять рублей.
В крокет я устроил „чемпионат“, правильней турнир, который до того увлек всю компанию, что целых два дня о нем только и говорили. Кавалеры снимали пиджаки, а дамы — корсеты, чтобы удобней было играть. Николай же Степанович, брат Бориса, сломал молоток, проиграв мне партию. Первый приз получил Боря, блестяще расколотив всех конкурентов. Второй приз достался мне».12 августа 1910 года
Сергей Прокофьев любил игры — карточные (бридж, «66») и спортивные (теннис, крокет). В основном он играл на деньги, что было распространенной практикой в довоенной России. В «Дневнике» он писал о своих «системах» ведения игры, которые позволяли выигрывать довольно регулярно. Нельзя сказать, что он отличался безрассудным азартом и терял голову во время игры. В 1917 году Прокофьев писал: «…Азартный клуб для меня довольно безопасен, так как я не проиграюсь. Происходит это потому, что мне слишком жалко проиграть деньги в карты и, кроме того, это слишком глупо. Поэтому, отправляясь в клуб, я предварительно решаю, сколько я могу ассигновать на сегодняшний проигрыш, и никогда больше этого не проигрываю. Если же выиграл, встаю и ухожу. Кроме того, я убежденно считаю игру в карты утомительной потерей времени». Он неоднократно играл в казино (например, на курортах Франции — в Руайя, Монте-Карло) и пришел к выводу, что казино, и особенно рулетка, в реальной жизни не вызывает того накала страстей, который описал Достоевский в романе «Игрок» (по его мотивам Прокофьев написал оперу).
2. О спорте
«Моя мама уже давно добивалась от меня поступления в „Сокол“ Сокольское движение (чеш. Sokol) — молодежное спортивное движение, основанное в Праге в 1862 году. Сокольские организации, позже открывшиеся в Кракове, Любляне, Загребе и России, являлись распространителями идей панславизма., находя необходимость физического развития. Я упирался: было некогда и лень. Но в августе, в Сонцовке, Д. Д. Сонцову Сонцовка (или Солнцевка) — село Бахмутского уезда Екатеринославской губернии, в котором родился Прокофьев. Сейчас село Красное Красноармейского района Донецкой области. Дмитрий Сонцов — помещик и владелец села. удалось доказать мне, насколько необходима гимнастика и насколько бодрей будешь себя после этого чувствовать. Тут он попал мне в жилку, ибо самое ужасное для меня, это когда я начинаю киснуть или недостаточно бодро себя чувствовать. А это иногда случается со мной, вследствие ли моего быстрого роста в последние годы или по каким-либо другим причинам, но только я ненавижу киснуть. Чем я бодрей, тем я счастливей. Идеал бодрости, по-моему, — муха в солнечный день. Это смешно, но я часто об этом думаю, глядя на них летом. Вот она, настоящая жизненность, а не вялое прозябание».
3 ноября 1910 года
Прокофьев любил активный образ жизни, много путешествовал и проделывал длинные пешие прогулки. В 1910 году он начал заниматься в известном спортивном гимнастическом обществе «Сокол». В следующих записях Прокофьев рассказывал, что он увлечен «Соколом» и даже написал для общества официальный марш, под звуки которого велись занятия. Вероятно, в сокольской гимнастике композитор ценил не только физическое развитие, но и эстетику и красоту движений. По мысли основателя этой системы Мирослава Тырша, красота тела должна соединяться с красотой духа. В обществе отрабатывались красивые коллективные построения, группировки, при исполнении упражнений тянули носок, как в балете, практиковались упражнения с кольцами, палками и пирамидами. В 1913 году Прокофьев отмечал в дневнике, что нашел «под глазами и над углами губ морщинки, решил, что лицо мое теряет свежесть, что вообще я себя чувствую вяло и надо заняться физическим развитием, и в первую очередь решил делать сокольскую гимнастику». Также композитор сообщал, что упражнения позволяли ему избавиться от нервного состояния, печали, отчаяния и беспокойства. После революции русское сокольство было запрещено, но появившиеся позже советские физкультурно-спортивные объединения во многом стали преемниками «соколов».
3. О характере и скрытности
«У меня есть свойство характера относиться к жизни легко, она меня не задевает глубоко, а скользит слегка по поверхности. Это — счастливое свойство, и как оно было кстати во время моих ennuis Огорчения, неприятности (фр.).! Кроме того, огромный запас жизнерадостного характера не мог истощиться, он всеми силами восстанавливал духовное равновесие, и мрачные минуты чередовались с самыми обычными жизнерадостными. Жизнь текла своим чередом, „мрачные“ минуты становились сначала светлее, потом реже, потом — исчезли. В моем дневнике я занимаюсь больше фактами, чем настроениями: я люблю самою жизнь, а не „витания где-то“, я не мечтатель, я не копаюсь в моих настроениях».
19 июня 1911 года

Сергей Прокофьев со второй женой Мирой Мендельсон. 1946 год © Российский национальный музей музыки
Современники и исследователи часто сравнивали Прокофьева с солнцем — из-за беззаботного, легкого характера, манеры общения, любви к шуткам, каламбурам, остротам. Впрочем, настроения у него, как и у всех, бывали разные. Он испытывал страсти, переживания, но показывал их только близким. В дневнике композитор часто рефлексировал о своем характере: о потребности в свободе и независимости и одновременно деспотизме, о редких, но интенсивных вспышках гнева, о «необыкновенно острой» природной обидчивости. Эти эмоции и переживания выбивали Прокофьева из бодрого, активного, действенного и радостного настроения — он пытался побороть их и прийти к душевному равновесию. К концу жизни его скрытность стала еще сильнее. Находясь под давлением советской власти, получая запреты на исполнения своих сочинений и в то же время пытаясь подстроиться под требования официального стиля, он все больше уходил в себя. О его отчаянии знала только жена Мира Мендельсон-Прокофьева, которая была и его сиделкой, и секретарем, и биографом.
4. О чудесных духах
«У Тонечки Поповой чудесные духи. Я ими восхищался еще перед Рождеством. Потом оказалось, что духи вышли, а марка неизвестна. Потом и сама Попова исчезла. Сегодня сразу выпорхнули и Тонечка, и духи. Я отнял у нее платок. Мама говорит, что духи пахнут свежей полынью, но я завтра узнаю название и покупаю себе. Я иногда очень восхищаюсь сильным ароматом. Помню, попав первый раз в Сухум, я до одурения впивался в гардении».
4 марта 1913 года
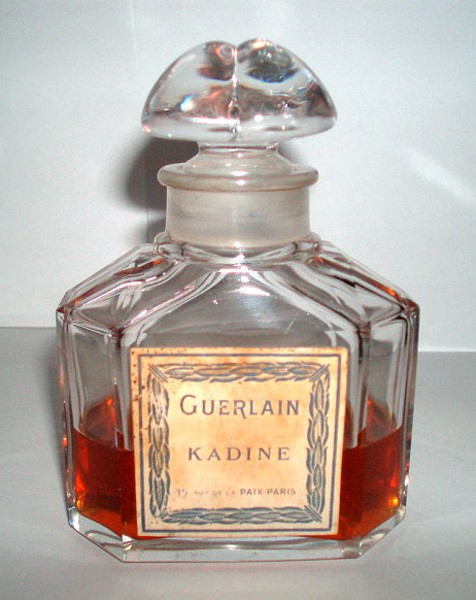
Флакон духов Kadine (Guerlain) 1911 года выпуска © Guerlain Perfumes
Прокофьев с юности любил стильно и ярко одеваться. Он носил желтые ботинки, полосатые брюки, трость и всевозможные головные уборы. Оказавшись в 1913 году в Париже, он записал в дневнике, что «заказал шикарный черный костюм с белыми с черной клеткой брюками, купил кляк Мужской головной убор, разновидность цилиндра., купил элегантное и дешевое белье». Этот элегантный вид дополняли духи. Прокофьев не просто любил ароматы, но испытывал к ним настоящую страсть — как к природным, так и «рукотворным». Как следует из дневника, композитор приложил массу усилий, чтобы узнать название духов Тонечки Поповой (оказалось, что это Guerlain Kadine) и найти их в магазине: «Я сейчас же пошел в соседние аптекарские и парфюмерные магазины, был в трех, но там такой марки не оказалось. Я опять решил, что Тонечка меня надула, но позвонил в большой магазин на Невском, и там Guerlain Cadine Прокофьев записывает название именно так — через «С». оказались. Я очень обрадовался. Душенки не из дешевых: десять рублей маленький флакон» Запись от 5 марта 1913 года..
5. О бритой голове
«Перед театром В тот вечер Прокофьев с компанией отправились в Малый театр, располагавшийся на Фонтанке, 65 (сейчас здесь располагается Большой драматический театр им. Товстоногова). я остриг голову под нулевой номер. Я всегда на лето стригусь гладко, теперь же сделал это на месяц раньше, потому что очень лезли волосы. В театре вся компания так и фыркнула при моем лысом виде и все время возмущалась и потешалась этой фантазией».
24 апреля 1913 года
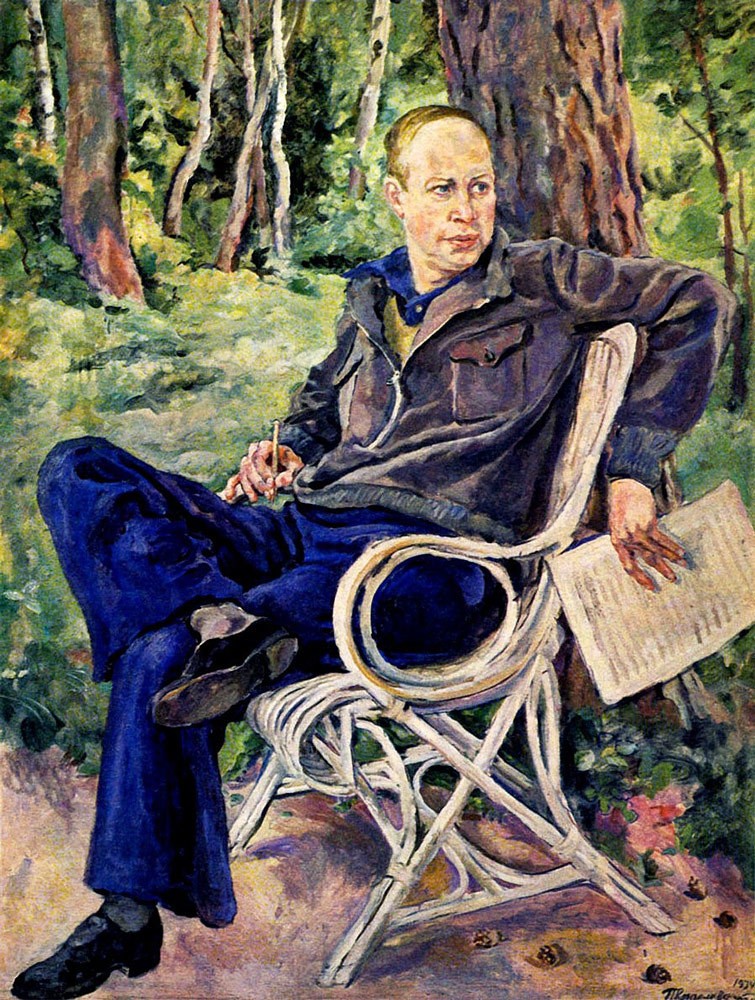
Петр Кончаловский. Портрет композитора Сергея Прокофьева. 1934 год © Петр Кончаловский / Государственная Третьяковская галерея
Прокофьев и впоследствии будет стричься чрезвычайно коротко — сначала для удобства, как он указывал, а затем чтобы скрыть лысину. Сергей Сергеевич любил не только производить впечатление, но и шокировать — отсюда его экстравагантные костюмы, манера общения и даже стиль игры на фортепиано, который, особенно в ранние годы, мог шокировать слушателей напором энергии и громкими диссонансами.
6. О шахматах
«В восемь часов поехал на открытие Шахматного конгресса и сразу попал в зачарованное царство. Невероятно оживленное царство во всех трех комнатах Шахматного собрания и еще в трех, уступленных нам Комитетом собрания. Устроен турнир парадно, во фраках, тут же маэстро, окруженные толпой народа. <…> Итак, я очутился в этом притягательном царстве и сразу был захвачен предстоящим состязанием. Начались речи, в которых особенно подчеркивалась небывалая важность предстоящего события ввиду исключительного подбора участников. Корреспонденты из Англии, Германии, Москвы, Киева, Вены, шахматисты из Германии, фотографы — все это увеличивало парадность. Завтра первый турнир!!!»
7 апреля 1914 года

Сергей Прокофьев за игрой в шахматы © Музей С. С. Прокофьева
Множество записей, сделанных весной 1914 года, отведены Международному шахматному турниру, одному из самых грандиозных соревнований в истории шахмат. Прокофьев был увлечен шахматами до конца жизни: для него это было не просто интеллектуальное развлечение, но «особый мир, мир борьбы, планов и страстей». Он посещал Петербургское шахматное собрание с конца 1907 года: играл с любителями и известными шахматистами, заводил знакомства (например, здесь он познакомился с режиссером Сергеем Радловым, будущим соавтором либретто для балета «Ромео и Джульетта»). В процессе игры Прокофьев эмоционально включался в поединок так, что уже ни о чем другом не мог ни думать, ни говорить. Он сравнивал шахматы с битвой, используя выражения «горячая резня», «страшный соперник», «жертва», «гибель»; писал, что игроки хотят «высечь» друг друга. Острые ситуации — например, когда под ударом оказываются все фигуры или игрок находится на грани гибели — приводили Прокофьева в восторг, а вероятность собственного проигрыша вызывала страх. Во время Международного шахматного турнира он трижды участвовал в сеансе одновременной игры Хосе Рауля Капабланки, кубинского чемпиона мира, и в третий раз его обыграл, что стало сенсацией.
7. О дачной жизни
«Меня очень забавляла роль петроградского дачника, ищущего дачу. Погода была восхитительна, и я был очень рад, зашагав среди зелени в Ушках. Прелестная комбинация из лугов, полей, реки, леса и группы деревьев сразу меня расположили в пользу Ушков. Уединенные, разбросанные дачки — да это совсем хорошо! Но найти дачу было тяжело. Во-первых, не знаешь, как искать: никаких объявлений нет, и все, по-видимому, занято. Дачки прелестные, элегантной публики — никого. Я расспросил кое-кого и убедился, что занято все. Один пустой какой-то верх, такой дешевый, что я цену за лето принял за недельную плату, но это не подошло. Я сел в поезд и перебрался в Саблино, ближе к городу, ровно час от Петрограда. Там мне тоже понравилось, потому что в лавочке у вокзала я сразу нашел мой любимый шоколад. Затем я бродил два часа и нашел очень славненькую дачку, новенькую, желтенькую, маленькую».
Июнь 1915 года
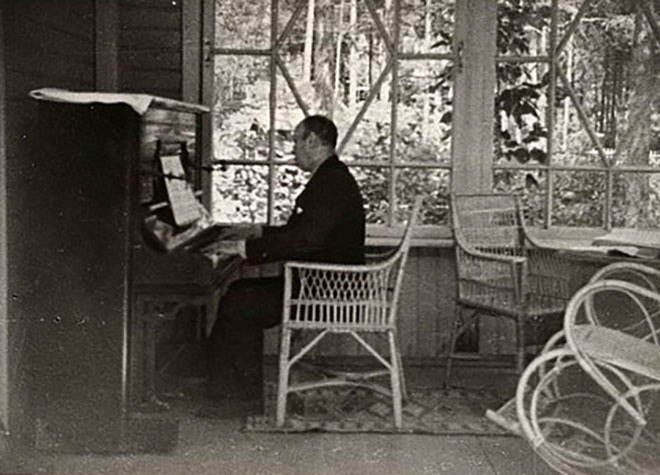
Сергей Прокофьев на даче в последние годы жизни© Голос публики
Прокофьев любил природу. Он трепетно относился к муравьям: навещал муравейники, «помогал» им, подкладывая палочки. Если в комнату залетали пчелы, Сергей Сергеевич, по воспоминаниям его жены Миры, «ни за что не разрешал трогать их, а сам бережно выпускает на вольный воздух». Он любил собирать грибы, пытаясь запомнить все их названия. Кроме того, Прокофьев не мог долго находиться в городе. В 1924 году он записал в дневнике: «Я же всегда предпочитал быть не в городе, а в деревне: лучше воздух и лучше работается». В юности он постоянно выезжал в пригороды Петербурга, а летом — в Крым. В 1921 году он снимал дачу на берегу Атлантического океана, в окрестности Нанта, летом 1929-го — средневековый шато Монверан, в восьми часах езды от Парижа. Вернувшись в СССР, он часто жил в государственных домах отдыха, которые предоставлялись для творческой работы. В 1946 году Прокофьевы купили дачу и участок на Николиной Горе. Бывшие хозяева запросили 300 000 рублей — огромную сумму. Прокофьев только что получил Сталинскую премию, но ее не хватало, и пришлось взять большой кредит у Музфонда. Зато давняя мечта о своем доме наконец сбылась.
8. О головных болях
«Когда я проснулся, то отвратительная головная боль начиналась откуда-то с затылка, ползла кверху, но, свернув около макушки, направилась к левому виску, грозя перекинуться на мою обычную невралгию с глазом, зубом и прочим. Словом — результат вчерашнего шахматного турнира. И я сегодня не сочинял, не ходил на орган Прокофьев учился игре на органе у Якова Гандшина в консерватории., а долго и упорно гулял».
3 марта 1916 года
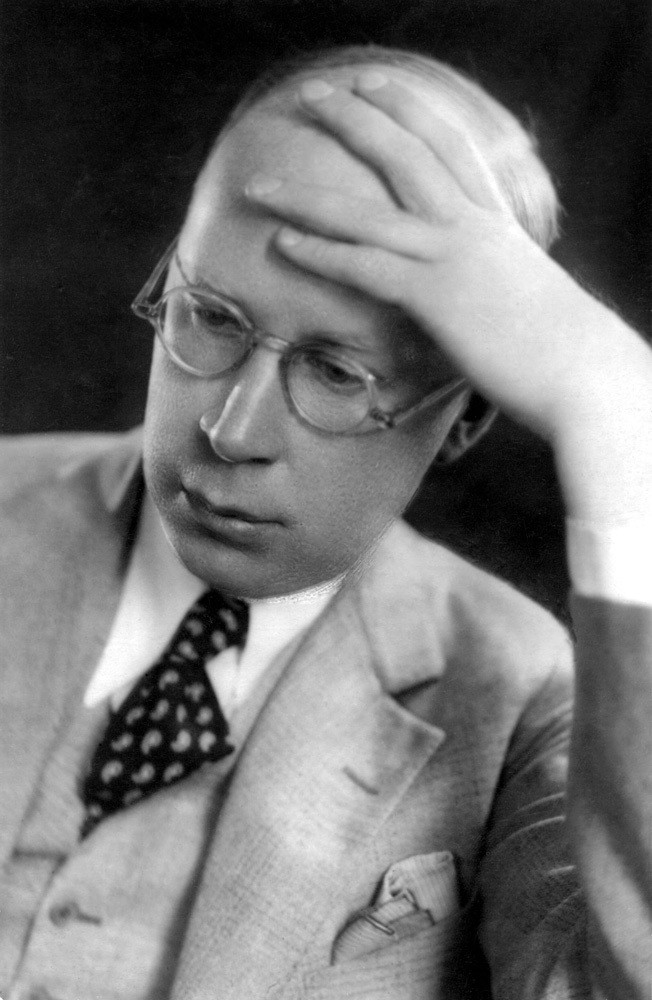
Сергей Прокофьев. 1938 год © Granger / Diomedia
Головные боли начали мучать композитора с 1907 года, когда он учился в консерватории. Со временем приступы становились сильнее и случались чаще — особенно в моменты интенсивной творческой работы и эмоционального напряжения. Прокофьев пытался их победить разными средствами — обезболивающими препаратами, гимнастикой, долгими прогулками и чтением книг. Познакомившись с религиозным учением Christian Science («христианская наука»), Прокофьев начал лечить себя самостоятельно — силой мысли, верой в превосходство добра и духовного над материальным и болезнью. Он неоднократно записывал в дневнике, что эти методы лечения ему действительно помогают и он справляется с болью без помощи лекарств. Однако головные боли не только не прекратились, но стали хроническими. В 1941–1942 годы Мира Мендельсон записывала, что он «жалуется на головную боль „под черепом“, дающую себя знать неожиданно, например если он споткнется». В начале 1945 года Прокофьев сильно упал, поскользнувшись на улице, и ударился затылком: это привело к первому инсульту. А в июле 1949 года он пережил очередной инсульт, после которого уже не смог вернуться к обычной жизни. 5 марта 1953 года Прокофьев умер от обширного кровоизлияния в мозг.
9. Об астрономии
«Мое астрономическое увлечение было так велико, что вечером, когда большие тучи неслись по небу и, кое-где раздираясь, вдруг открывали кусочек неба со случайно блеснувшей звездой, я спешил заметить эту точку и направлял туда телескоп, кутаясь в пальто и шарф и замерзая от холода, с тем, чтобы в случае, если в этом месте опять откроется небо, то чтобы успеть поймать звезду в мой трехдюймовый рефрактор. После ряда неудачных попыток я убрал телескоп и лег спать. Моя „первая ночь с телескопом“ прошла неудачно!»
Май 1917 года
Прокофьев любил изучать звездное небо — будь то в Париже в 1920-е годы или в Сочи в 1941 году. Пиком интереса к астрономии стал 1917 год, когда он приобрел собственный телескоп. Он его даже взял в Ессентуки в июле, куда сбежал из пыльного неспокойного Петербурга. О созвездиях Прокофьев разговаривал с Бальмонтом, который также проявлял интерес к небесным светилам. По-видимому, телескоп так и остался в революционной России. Прокофьев, уезжая, пытался спасти самое ценное — свои рукописи.
10. О себе-писателе
«Рождество, солнце, зелень и теплынь. Все утро с увлечением читал рассказы Куприна. Я и не знал, что у него такие отличные рассказы, и технически сделаны очень хорошо. Ах, отчего я бросил мои! Но я вернусь к ним. Честное слово, у меня большая любовь к писанию, но композиторство заело».
25 декабря 1920 года
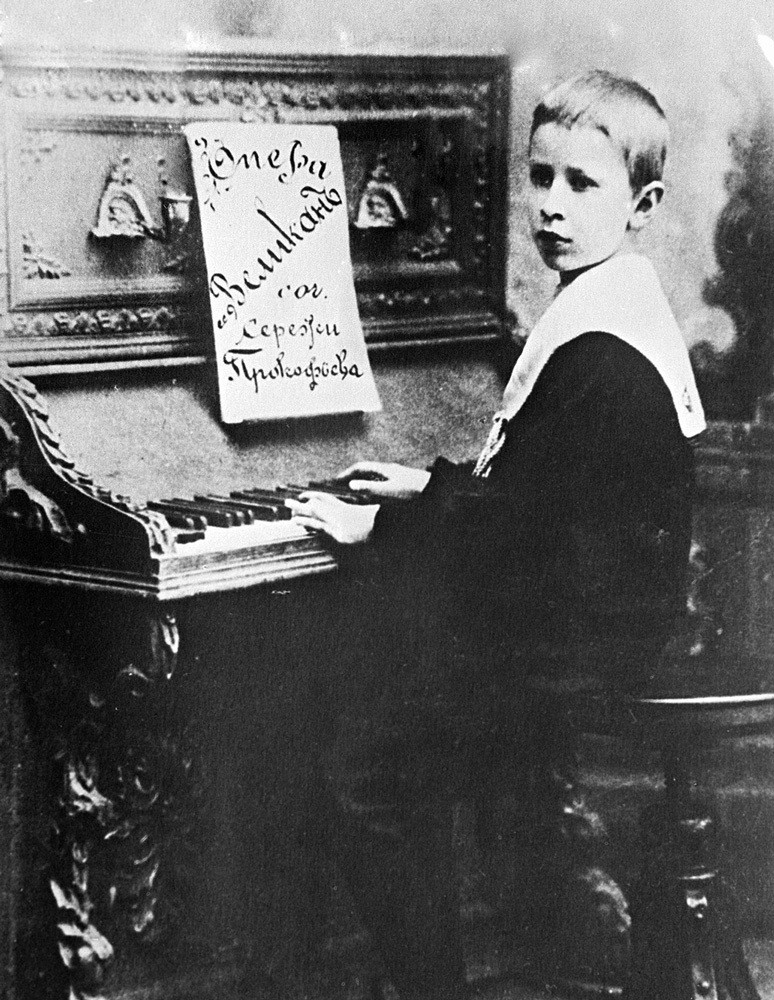
Сергей Прокофьев в возрасте 9 лет с либретто своей оперы «Великан». 1900 годWikimedia Commons
Первые размышления о своем писательстве появились у Прокофьева в 1917 году, когда он отметил в дневнике: «Если есть мысль, то стиль повинуется мысли. У меня есть мысль, значит, я пишу». Еще в детстве он сочинил либретто к собственной опере «Великан». С 1917 по 1919 год написал больше десятка рассказов. Не все они сохранились, но уцелевшая часть была опубликована в 2003 году (сейчас сборник можно прочитать на официальном сайте Фонда Прокофьева). В 1918 году он записал в дневнике, сам поражаясь своей писательской плодовитости: «Если буду писать так в течение сорока лет, то триста двадцать рассказов. Солидный писатель». Однако после 1919 года композиторство перевесило писательство, хоть и не полностью. Прокофьев всегда участвовал в подготовке либретто для своих опер, мастерски изменяя оригинал в соответствии с задачами музыкального искусства (оперы «Игрок», «Любовь к трем апельсинам», «Огненный ангел» и «Война и мир» в соавторстве с Мирой Мендельсон-Прокофьевой). Его вариант интерпретации «Игрока» высоко оценила Анна Достоевская, разрешив дальнейшие переделки. Сочинение балетов всегда шло параллельно с работой над либретто (в том числе «Ромео и Джульетты»). Текст музыкальной сказки «Петя и Волк» печатается в виде книги. Литературный дар Прокофьева отмечали многие. Сергей Эйзенштейн говорил, что «только Стендаль равен ему».
11. О бессмертии
«Читал и обдумывал Christian Science. Не все легко приемлется. Но я еще мало читал и не все охватил. Любопытная мысль (если я верно ее понял) проскальзывает несколько раз — что люди делятся на сыновей Божьих и сыновей Адама. Мне уже раньше приходила мысль, что люди, верящие в бессмертие, — бессмертны, а неверящие — смертны: те же, которые колеблются, должны родиться еще раз. К этой же последней категории, вероятно, относятся неверящие в бессмертие, но у которых духовная жизнь превышает материальную».
16 июля 1924 года
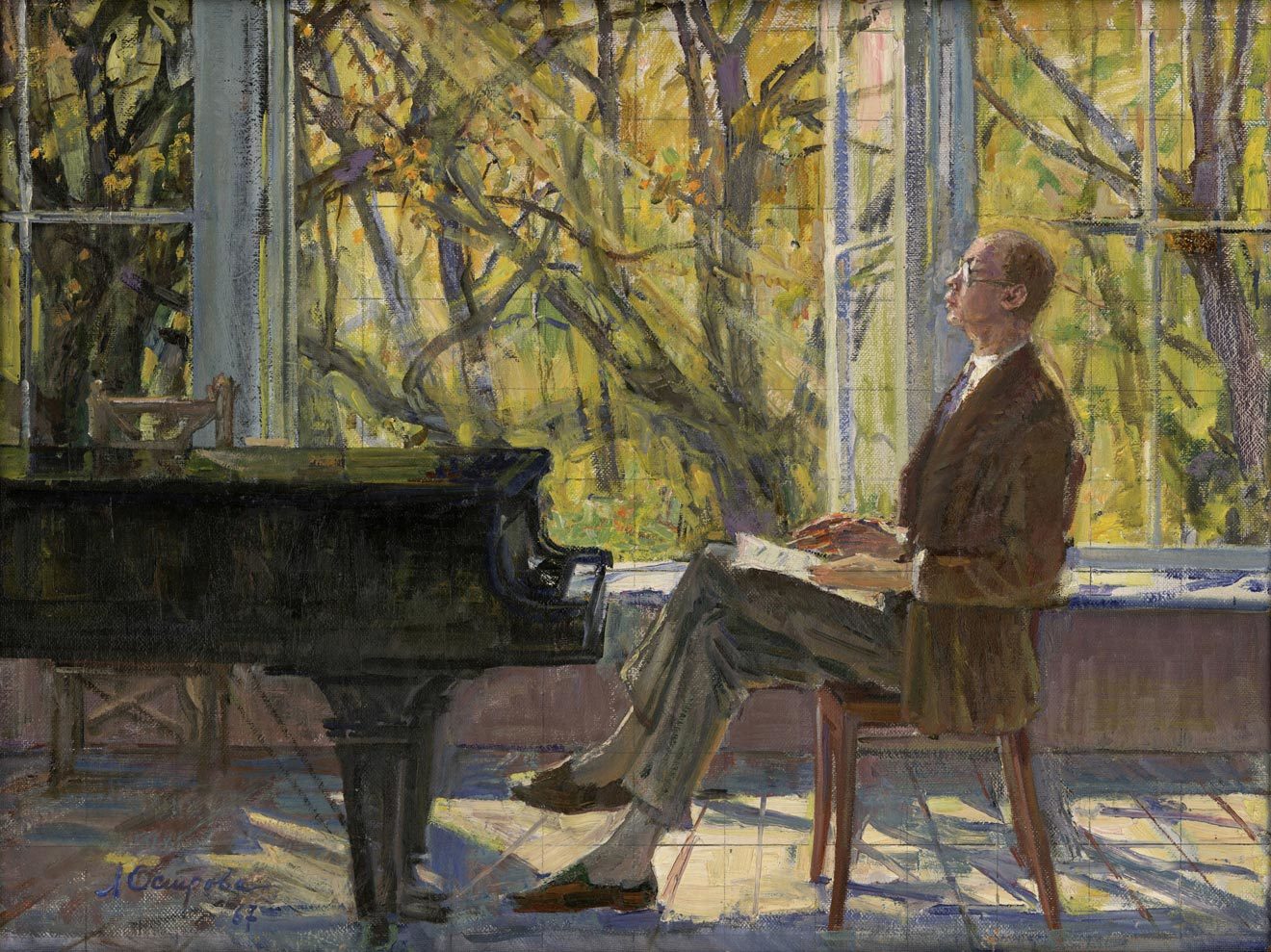
Лидия Острова. Портрет композитора Сергея Прокофьева. 1967 год © Лидия Острова / Российский национальный музей музыки
Christian Science считается маргинальной ветвью протестантизма. В основе учения — книга «Наука и здоровье», написанная Мэри Бейкер Эдди (1821–1910) и вышедшая в 1875 году. Учение развивалось в Бостоне, а затем получило институциализацию в США — у христианской науки есть своя церковь, печатные органы, библиотека и руководители разных рангов. Популярность учения была связана с его практической направленностью: Эдди считала, что от физических недугов лечит сила духа и вера в божественный разум. Прокофьев познакомился с учением в 1924 году в Париже, после того как к нему приобщилась его первая жена Лина. Композитор рос в нерелигиозной семье, но довольно рано начал задумываться о Боге: «Легче себе представить существование Бога как творца, чем полное безбожье в природе». Первоначально он пришел к христианской науке, чтобы излечиться от невралгии, которая мешала ему работать. Позже он полностью принял основные постулаты течения и придерживался их до конца жизни. Особенно Прокофьева волновала природа зла и возможные способы борьбы с ним. Он неоднократно писал, что зло — это ошибка, ложь, возникшие лишь в сознании человека: «Поворот человека к добру и отказ от зла есть симптом созревания его индивидуальности». Христианская наука помогала Прокофьеву справиться со страхом во время выступлений. Кроме того, под влиянием учения он решил отказаться от очков, которые рассматривались как медицинское вмешательство и противоречили идее самоврачевания. Оказавшись в 1945 году на грани жизни и смерти, композитор все-таки обратился к традиционной медицине и лекарствам.
12. Об автомобилях
«Сегодня состоялся мой первый урок управления автомобилем, в школе Versigny, там же, где учился Стравинский. С учителем мы выехали в Bois de Boulogne Булонский лес (фр.)., там он мне объяснял все рычаги, которых, к моему огорчению, оказалось гораздо больше, чем я думал. Все эти „дэбрэйажи“, перевод скоростей и прочее сбили меня с толку, да еще когда автомобиль поехал, я боялся наскочить на что-нибудь. Словом, урок прошел в крайнем напряжении, и я вернулся домой, озадаченный сложностью науки, впрочем, утешая себя тем, что очень часто девятнадцатилетние дуры отлично правят автомобилем, — чем же я хуже!»
13 декабря 1926 года
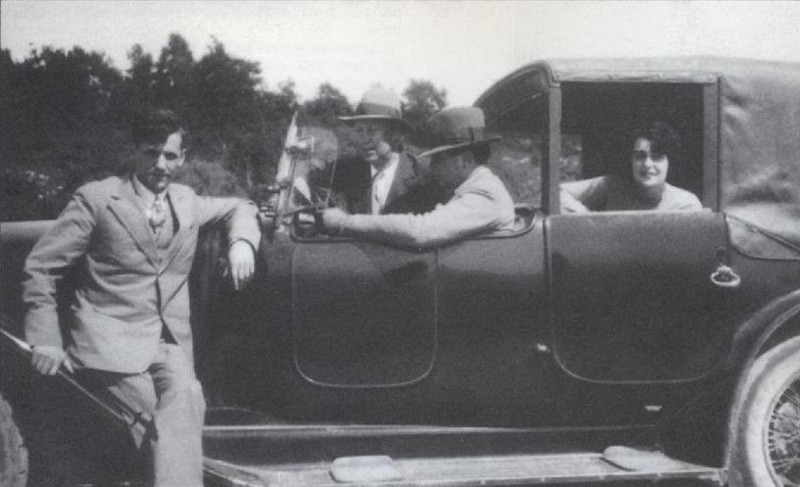
Сергей Прокофьев в компании друзей в автомобильном путешествии. Франция, 1927 год Слева направо: Владимир Софроницкий, Сергей Прокофьев, Владимир Дукельский и Лина Прокофьева bibliolore.org
Любовь к скорости, движению и постоянным путешествиям у Прокофьева проявилась еще в годы учебы в консерватории: он часто брал такси и мчался в пригород Петербурга или к своей возлюбленной Нине Мещерской. В Париже он решил сам научиться водить машину, стараясь не уступать в этом друзьям и соперникам Сергею Рахманинову и Игорю Стравинскому. В первое время самостоятельная езда вызывала «ряд малых аварий: помял крыло, выезжая из гаража, вонзился в автомобиль турецкого посольства», «вырвал зубы у шестеренок заднего моста вследствие толчка при демараже». Преодолевая «деморализацию» и робость, Прокофьев все больше радовался открывавшейся свободе передвижения. В мае 1927 года он записал: «Благодаря автомобилю я не потерял контакта с весною, ибо почти каждый день выезжал в поля и леса, что очень меня радовало». Впоследствии он вместе с женой Линой отправлялся в гастрономические туры по Франции. Один из участников таких поездок — композитор Владимир Дукельский — вспоминал, как они ехали по маршруту Париж — Биарриц — Монте-Карло — Париж в «допотопном, вечно страдающем автомобильными болезнями Ballot… вооруженные справочниками, путеводителями и волчьим аппетитом».
В СССР Прокофьев вернулся вместе с голубым «Фордом», который в начале Великой Отечественной войны был реквизирован, как и весь личный транспорт населения страны. После 1944 года Прокофьев иногда пользовался автомобилем и водителем Шостаковича, который тот часто давал болеющему коллеге. А в 1946 году благодаря свекру экономисту Абраму Соломоновичу Мендельсону, работавшему в Институте экономики АН СССР, у Прокофьева появился старый маленький «Опель», на котором тот ездил на Николину Гору.
Источники
- Вишневецкий И. Г. Сергей Прокофьев.
М., 2009.
- Мендельсон-Прокофьева М. А. О Сергее Сергеевиче Прокофьеве. Воспоминания. Дневники (1938–1967).
М., 2012.
- Прокофьев С. С. Дневник. 1907–1933.
Париж, 2002.
- Прокофьев о Прокофьеве. Статьи и интервью.
М., 1991.
- Сергей Прокофьев: Воспоминания, письма, статьи: к 50-летию со дня смерти.
М., 2004.
- Сергей Прокофьев: Письма, воспоминания, статьи: к 110-летию со дня рождения.
М., 2001.
- Savkina N. The Significance of Christian Science in Prokofiev’s Life and Work.
Three Oranges Journal. № 10. 2005.
Теги
https://arzamas.academy/mag/667-prokofiev?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
|
Метки: музыка мещерские прокофьевы |
Первая мировая в Никольском: помощь воинам и населению |
Первая мировая в Никольском: помощь воинам и населению
А.А. Бирюкова, участник Морозовского клуба
Первая мировая война, начавшаяся летом 1914 года, вызвала в российском обществе патриотический подъем и небывалый всплеск благотворительной и подвижнической деятельности на благо Отечества. В местечке Никольском, будущем Орехово-Зуеве, особенно отличились в этом женщины.

Дети с кружкой для пожертвований. 1-я мировая война
При фабриках Товарищества мануфактур Викула Морозова с сыновьями еще в 1910 году был создан «Клуб-Спорт». Во главе этой организации, основной целью которой было служить улучшению здоровья служащих Товарищества, а фактически для того, чтобы футбольная команда «морозовцев» могла участвовать в соревнованиях Московской Футбольной Лиги, стоял Гарри Горсфилд Чарнок, или, как его величали на фабрике, Андрей Васильевич.

Эмблема Красного Креста на павильоне Клуба-Спорт, 1916 год
Его жена, Анна Ивановна Чарнок, сразу же после начала Первой мировой войны получила письмо Покровского Управления Красного Креста с просьбой организовать отделение Красного Креста при «Клубе-Спорт». У «Клуба-Спорт» к этому времени уже был отстроен довольно большой одноэтажный дом, в котором помимо раздевалок и душа для футболистов, были комнаты с биллиардом, шахматами и пр., а также зал для заседаний, буфет с подачей горячих обедов. Этот павильон, как его называли, располагался на бывшем Дровяном складе В. Морозова (территория современного стадиона «Знамя труда»)

8 августа президент «Клуба-Спорт» А.В. Чарнок вынес этот вопрос на голосование общего собрания. Собрание единогласно решило открыть в помещении «Клуба-Спорт» местный комитет Красного Креста, избрав в его состав всех Старшин, а также Н.И. Щукину (жену доктора Щукина), Н.М. Куприянову (жену вице-президента), М.И. Свешникову (жену управляющего фабриками В. Морозова), К.А. Угрюмова (главного врача), М.И. Белицина (купца из с. Орехово), В.И. Карабанова (заведующего начальным училищем), С.И. Копякина, Л.В. Лесникова, П.А. Тихомирова, А.Т. Соколова и С.И. Дружинина (членов Клуба). Председателем же комитета была избрана А.И. Чарнок. На фронтоне павильона «Клуба-Спорт» была вывешена эмблема Красного Креста.
Жены, сестры и дочери членов Клуба начали широкую общественную деятельность по помощи воинам на фронте.

В палате лазарета при Морозовской больнице
Комитет занимался сбором пожертвований для помощи, как раненым воинам, так и гражданскому населению, семьям мобилизованных в армию, собирали посылки с подарками, одеждой воинам на фронт, шили белье для фронтовиков, дежурили в медицинских учреждениях. В краеведческой литературе можно встретить утверждение, что в павильоне был открыт госпиталь, я не думаю, что это верно, во всяком случае, упоминаний о госпитале в Протоколах «Клуба-Спорт» и в просмотренных мною архивных документах я не встречала.
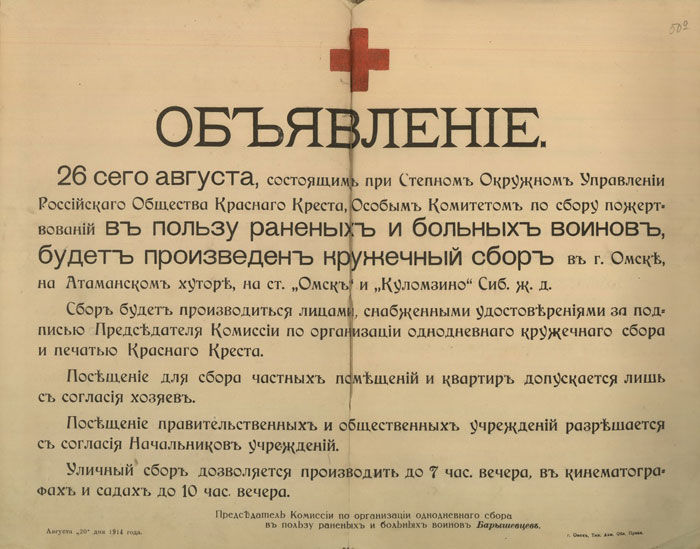
Кружечный сбор
Комитет проводил благотворительные лотереи, организовывал «кружечные» сборы на улицах, в учреждениях. Работу, конечно, в основном проводили женщины под руководством А.И. Чарнок. В отчете «Клуба-Спорт», опубликованном в 1915 году, говорится: «…переживаемый нашим Отечеством момент … отразился на деятельности Клуба…, захватив его порывом работать на пользу больных, раненых и воинов в действующей армии…». Общее собрание Клуба выразило благодарность «всем жертвователям и Дамскому Комитету в лице его председательницы А.И. Чарнок и всем ее сотрудницам за понесенные ими труды при отделе Красного Креста «Клуба-Спорт»…».
Труппа рабочих фабрик Товарищества Никольской мануфактуры «Саввы Морозова Сын и К?» под руководством П.Ф. Шарова также не осталась в стороне от благотворительной деятельности. С разрешения директора Никольской мануфактуры Ф.Г. Карпова в Зимнем театре и на других площадках показывались спектакли, средства от которых передавались на подарки воинам, а также в пользу Красного Креста. Раненые воины, находящиеся на излечении в Никольских больницах, могли посещать бесплатно спектакли в Зимнем театре.
Отдельно нужно сказать, что в городе проводились и специальные акции помощи больным, страдающим туберкулезом. Эта проблема была очень острой и в то время, да и после революции тоже. В майские дни по всей России проводились Дни белого цветка – ромашки (день помощи больным туберкулезом).
В этот день на улицах продавали сделанные своими руками ромашки, проводились благотворительные базары, учащиеся и учителя ходили по городу, собирали деньги, отдавая жертвователям цветки. День от базаров, от кружечных сборов передавались больницам для лечения туберкулезных больных.
Кстати, ныне этот День белого цветка в России возрождается, а средства направляются как противотуберкулезным санаториям, так и на лечение малоимущих больных. А это значит, что не очерствели наши души, и новое поколение продолжает дело благотворительности, которое заложили наши предки.
В статье использованы материалы Орехово-Зуевского городского историко-краеведческого музея
http://www.bogorodsk-noginsk.ru/fww/pervaya-mirova...moshh-voinam-i-naseleniyu.html
|
Метки: первая мировая война красный крест богородский уезд морозовы |
ДВОРЯНСКИЙ РОД ГОСПОД ТЕРНОВСКИХ |
Альманах"Богородский край" N 3 (96)
 http://www.bogorodsk-noginsk.ru/arhiv/31996/7.html
http://www.bogorodsk-noginsk.ru/arhiv/31996/7.html
Алексей Александрович Терновский с матерью Александрой Фёдоровной (р. Зыковой)
ДВОРЯНСКИЙ РОД ГОСПОД ТЕРНОВСКИХ
Алексей ТЕРНОВСКИЙ
Богородск никогда не считался городом дворян, здесь явно превалировало купечество и мещанство. Тем интереснее для нас рассказ одного из потомков богородских дворян о своих корнях. В материале А. Терновского, как и во многих воспоминаниях, достаточно и невероятных, и сомнительных случаев, в частности — почти все, что написано о Морозовых, о возникновении села Рогожи и пр. Мы оставляем их, поскольку они передают легендарную среду города, тот «воздух преданий», который и делает Москву Москвой, а Богородск Богородском.
...Истоки этого рода, как и каждого, должно быть, затерялись в тени веков. Первые скудные строки (написанные рукой одного из пра-пра-пращуров на листе желтой бумаги, уже полуистлевшей, и лежащие на еще более давних, почти коричневых клочках, даже рассыпающихся при прикосновении), датированные XVI веком, гласят о том, что, в силу каких-то обстоятельств (каких не разобрать), шляхтич из Краковского воеводства Казимир Любомирский вместе со своим сыном — отроком Зиновием 17 лет — пришел на Русь из Польского Королевства (Царства Польского).
Был Указ (или несколько слов) Алексея Михайловича Романова о том, что оба клялись на кресте служить Государю Всея Руси Большие, Белые и Малые. Где жили они, их дети, чем занимались — неизвестно. Известно только, что отрок Зиновий впоследствии принял православную веру и женился на подданной русской короны. Коротко сказано о их детях, внуках, правнуках и т.д. Это даты рождения и смерти, позже венчания.
Итак, вместе с принятием христианской православной веры Зиновий Казимирович, очевидно, сменил фамилию Любомирский на весьма распространенную на Руси — Тихомиров. Род, по-видимому, захирел. Более подробно в документах говорится об Афанасии Стефановиче Тихомирове — дьяконе села Житенино Владимирской губернии, который запечатлен на фотографии 50-летним мужчиной вместе с женой. Под фотографией четверостишье:
«...По пятьдесят годов нам Бог велел прожить,
И фотография о том гласит.
А сколько нам еще осталось жить?
Не знаем, видно, сколько Бог велит!..»
Эта фотография, присланная Афанасием Стефановичем Тихомировым своему сыну (моему прадеду) Александру Афанасьевичу, была найдена шесть лет назад в чулане мезонина вместе с некоторыми интересными документами. Из документов видно, что Афанасий Стефанович имел личное дворянство и еще одного сына, служившего полицмейстером где-то около г. Владимира. Основные документы, оставленные прадедом Александром Афанасьевичем, связаны с получением им потомственного дворянства и. изменением фамилии на Терновский.
Александр Афанасьевич Тихомиров, приехав в Богородск молодым человеком, после окончания Владимирской гимназии поступает на службу в Богородское уездное казначейство не имеющим чина младшим канцелярским служащим 2-го разряда. По службе он преуспевает. Исполнительный, воспитанный и относительно образованный молодой человек получает повышение за повышением. Приблизительно в 1840 г. Александр Афанасьевич построил в Богородске деревянный дом в три окна по фасаду. У него было 12 человек детей, но многие из них умерли в младенческом возрасте. Семья жила в достатке, и вскоре Александр Афанасьевич нанял рабочих для постройки нового большого дома с мезонином, рассчитанного на три семьи.
За безупречную и беспорочную службу, продолженную в классных чинах 35 лет, последовал Указ Императора Александра III, который жалует Александра Афанасьевича Терновского, Богородского уездного казначея, орденом святого равноапостольного князя Владимира 3-ей степени, а на основании оного — потомственным дворянством. И первый Тихомиров, ставший Терновским, становится потомственным дворянином, т.е., на ком бы он не женился — на мещанке, крестьянке или даже женщине податного сословия,— его дети, внуки и правнуки причисляются к дворянскому роду. Это, конечно, было заметной вехой в истории колена Тихомировых-Терновских.
Старшие сыновья Александра Афанасьевича Терновского — Николай и Александр (мой дед) — венчались в один день, и вскоре Александр Афанасьевич занимает верх (мезонин) только что построенного нового дома, а низ разделили сыновья. Чуть позже строится и другой дом, стоящий рядом — для квартирантов, который был продан после смерти Николая Александровича. Александр Афанасьевич Терновский, вышедший в отставку в чине коллежского советника (полковника), получивший потомственное дворянство и фамилию Терновский, кавалер орденов Станислава, Анны, Владимира и медалей, почетный гражданин г. Богородска, продолжает служить чиновником в страховом обществе. От Александра Афанасьевича Терновского и пошли Терновские. После Александра Афанасьевича осталось два десятка книг (большинство церковных), многое переписанное от руки, и месяцеслов за 1852 г., где рукой прадеда записаны события из жизни семьи чрезвычайной важности.
Старший сын Александра Афанасьевича Николай Александрович Терновский после окончания курса Богородской гимназии пришел служить в Богородское уездное казначейство не имеющим чина служащим 2-го разряда под начальство своего отца. В возрасте 32-х лет в чине титулярного советника (капитана) он умирает от туберкулеза, оставляя молодую жену и двух маленьких дочерей. После вторичного замужества вдовы за служащего фабриканта Морозова — Взорова, Александр Афанасьевич с Александром Александровичем (моим дедом) выплачивают ей деньги за принадлежащую ей третью часть дома, продав второй дом, как говорилось выше. Вскоре умирает и Александр Афанасьевич, и Александр Александрович Терновский становится единственным домовладельцем.
Александр Александрович Терновский также приходит служить в Богородское уездное казначейство не имеющим чина младшим государственным служащим 2-го разряда. У него от жены Зыковой Александры Федоровны было 13 детей. Многие из них умерли в младенчестве. По службе он преуспевал так же, как и его отец, но был вынужден перейти на такую же должность в казначейство г. Клина, дабы уступить свое (ближе к Москве) место кому-то со связями. Еще до перевода его в Клин дед уже является управляющим Богородского банка, имеет медали Станислава и чин коллежского асессора (майора). После возвращения через три года в г. Богородск Александр Александрович возвращается на должность казначея Богородского банка или управляющего и получает чин надворного советника (подполковника). К этому времени, т.е. к 1912—1913 гг., Государственный Богородский банк (Богородское уездное казначейство) планируют перевести в учреждение 1-го разряда. Но началась война. Правительству стало не до реформ, а скоро и революция. Дед, снявший дворянскую шпагу, ордена и вицмундир с петлицами, остается служить новой (Советской) власти до 1930 г.
Одна из его дочерей Екатерина Александровна Терновская (1901-1976 гг., по мужу Дмитричева) тоже прослужила в банке не менее 35—40 лет и получила орден Ленина. Вместе со своим отцом и дедом они, Терновские, прослужили в Богородском, а затем и Ногинском банке более 100 лет. Вот пример преемственности трех поколений в среде чиновников-служащих, представители которых получали от царя дворянство, от городских властей — «почетных граждан», а от советской власти — ордена, в частности, орден Ленина.
В советское время орден Ленина помогал так же, как до революции помогали дедам вицмундиры с орденами и дворянские шпаги.
Екатерина Александровна была умная и культурная женщина, но и в наше время встречают нередко по одежке, а одежка во время Отечественной войны, да и много позже после нее была не та, что надо. Когда же Екатерина Александровна как бы случайно скидывала платок и, чуть расстегнув пальто, показывала орден Ленина, в учреждениях сразу предлагали стул и решали все вопросы.
Но вернемся назад. Итак, Александр Александрович Терновский, управляющий Богородским уездным казначейством, потомственный дворянин, надворный советник, кавалер орденов Станислава и Анны, получал 150 рублей и содержал семью, состоящую из 10—12 человек (включая сестер, теток, прислугу и пр.). Сын мелкопоместного дворянина из служивого дворянства, живущего на государственное жалование, не имея никаких других доходов, дед женится на крестьянке д. Молзино — девице Зыковой Александре Федоровне. Она дочь фабриканта. Это, конечно, не Морозов или Елагин, но фабрикант! На него работают «на домах» крестьяне не только д. Молзино, но и многих других окрестных деревень.
В Москве у «Зыковых и К°» есть торговый дом, где продают шелка, бархат, парчу и атлас. Фирма награждена дипломом в Глазго (1912 г.), большой золотой медалью Реймс (1905 г.), большой серебряной медалью Н.Новгорода (1896 г.) и какой-то еще. Приданое за женой Александр Александрович взял приличное. Сохранился документ на трех больших листах, где наименование мелких вещей пишется в трех и двух дюжинах. К приданому причиталась и крупная сумма денег. Александр Александрович и Александра Федоровна жили в мире и согласии, а если когда-либо и ссорились, то ненадолго. Александра Федоровна была малограмотная женщина, но хорошая жена и прекрасная хозяйка. Хозяйство было большое. Во дворе в 10—15 метрах от дома находились огромные службы, где были хлевы для скота, каретный сарай, сараи для дров, сеновал, огромный погреб, выложенный крупным белым камнем и т.п.
Когда Александра Федоровна посылала кого-либо из детей к мужу в Казначейство (сейчас здание банка), то обязывала одеть ботинки, так как во дворе дети часто бегали босиком. Когда же Александр Александрович приносил домой жалование, Александра Федоровна, проверяя счета за прошлый месяц, хлопала себя рукой по колену и с негодованием изрекала: «Опять в 60—70 рублей не уложились!» Александр Александрович не пренебрегал рюмкою, но выпивал умеренно. Приходя с работы, он выпивал рюмку, иногда две и ложился отдыхать. Питались хорошо. Имели две коровы. Каждый вторник — блины, каждую субботу — пироги. Варенья и соленья заготовлялись бочками. К чаю у каждого присутствующего, не исключая детей, спрашивали, какого желает варенья? Довольно часто от родственников с пасеки (около Молзино) привозили ребятам мед. Его выливали в деревянное корыто, ставили на террасе, и дети, вооружась ложками, садились около него. Говорили, однако, что родители Александры Федоровны были скуповаты... Даже ленты, которые также вырабатывали у них, они привозили внучкам не часто. У Александры Федоровны было три брата и сестры — родня обширная, в основном состоящая из фабрикантов, крупных лавочников, купцов 2-ой и 3-ей гильдии и других деловых людей практического склада...
Богородск понемногу преображался. Открылась необходимость в проведении железной дороги. Только благодаря А.И. Морозову и частично другим, более мелким фабрикантам, тоже вошедшим в долю, была построена железнодорожная ветка Богородск-Фрязево. Поезда ходили три раза в сутки до Москвы и три раза обратно до Богородска. В составе был личный вагон А.И. Морозова, куда могли сесть только избранные. Этой чести всегда (по словам Анфисы Зыковой-Зеленкович) удостаивался сам Зыков, тесть моего деда, и дед, т.е. Александр Александрович как заметная личность г. Богородска и зять Зыкова. Причем, если они опаздывали, Морозов не разрешал отправлять поезд до получаса. Вообще же, ничего не говорится о близком знакомстве А.И. Морозова и А.А. Терновского. Видимо, такого и не было. Просто были знакомы, кланялись и изредка говорили. Своим служащим Морозов платил значительно больше, чем государство государственным чиновникам. Об этом говорит сам дед в письме к моему отцу, когда одна из его дочерей после окончания гимназии решила идти на службу к Морозову именно из-за этого. Деда, конечно, Морозов тоже бы взял и платил ему вдвое или втрое больше, но щепетильный дворянин не пожелал менять относительно скромное жалование государственного чиновника, получающего звания и кресты, на более высокое у миллионера-мужика, к тому же старообрядческого толка. Однако государственная власть в лице генерал-губернатора, изредка бывая в Богородске, судила по-иному. Так, найдя в том же чулане групповую фотографию (35—40 человек), я увидел своего деда лишь в 3-ем ряду, а в первом на стульях сидел генерал-губернатор Московской губернии князь С.Трубецкой, и через три стула от него миллионер-мужик Морозов. Александр Александрович, наверное, мог бы, будучи менее скромным, пробраться и во второй ряд, потеснив немало чиновников, а тем более сотников и подъесаулов казачьей сотни, но сесть в первый ряд на стул как Морозов — не мог.
Арсений Иванович Морозов очень много сделал для г. Богородска и Глухова. Это он построил первый родильный дом и школы в Глухове, казармы, магазины, фабрики, церкви, особнячки для своих мастеров. В Богородске им была построена гимназия (теперь школа № 2 имени Короленко), здание универмага, как дом одной из своих фавориток. Вообще, он делал очень много для рабочих, вследствие чего в Богородске не происходило никаких революционных выступлений.
У него также было много продовольственных магазинов и лавок. Интересен такой случай, рассказанный самим пострадавшим. Всех рабочих Морозов знал, по крайней мере, в лицо. «Вот перехожу я мост р. Клязьмы,— вспоминает рассказчик, — а навстречу идет А.И. Морозов в сопровождении двух дюжих «гайдуков». Морозов сразу понял, что на плечах несу мешок муки, взятый не в его магазине. Придержал коня, я — мешок на землю, шапку долой, поклонился. «Где брал муку? Почему не у меня?» — и мигнул «гайдукам». Те, отшвырнув меня, мешок через перила и в воду. Морозов вынимает блокнот, карандаш и пишет: «Выдать подателю сего 2 мешка муки бесплатно». Подал записку и погрозил нагайкой».
Еще один оригинальный случай. Одевался Морозов очень просто. Незнающие могли его принять просто за преуспевающего мелкого лавочника или церковного старосту. Однажды в Москве Арсения Ивановича грубовато толкнули выходящие из театра молодые чиновники с дамами, да еще впридачу, громко засмеявшись, отпустили колкую насмешку. Морозов, побледнев, взглянул на своих «гайдуков», но здесь был не Богородск, и тогда он, заплатив всем кучерам двойной пробег до городской черты, отправил их порожняком. Большая часть блестящей публики, разодетой в вечерние платья, фраки и вицмундиры, повалила под проливным дождем перебежками либо до ближайших парадных с козырьками, либо, чертыхаясь и уже промокнув, пешком несколько верст до дома.
До 1932—35 годов в учительской школы № 2 имени Короленко висел огромный, в золоченой раме, написанный масляными красками портрет А.И. Морозова. Он подарил здание городу и, даже спустя 15 лет после революции, портрет неудобно было снять. Морозова никто не тронул, встречая его, очень многие по-прежнему снимали шапки и заговаривали с ним.
Он часто спрашивал, почему кавардак на фабриках, куда он ходил беспрепятственно. И сам отвечал: «Уж очень много хозяев. Вы ведь теперь сами хозяева, а валяются под ногами и кирпичи, и гвозди, и початки, и вентиляция барахлит. Вот уж истинно говорит пословица: «У семи нянек дитя без глаза».
Воровство на фабриках у Морозова процветало. Морозов поставил один лишний комплект текстильных машин только для воров, но рядом построил лавки, продающие вино, и приказал лавочнику скупать по дешевке украденный материал. Так что 90% украденного возвращалось обратно за небольшое вознаграждение в виде водки и вина.
Один из сыновей Арсения Ивановича, окончивший чуть ли не Оксфордский университет, работал в торгпредстве СССР. При последней закупке ткацких машин он, закупив для страны Советов необходимое оборудование, подписал все контракты, торгуясь с англичанами как жид в пользу Советов, представителем которых был за рубежом. После этого, закончив свои коммерческие дела и честно передав оставшиеся деньги, остался в Англии. Благо, что в швейцарском банке была положена еще отцом приличная сумма на фамилию Морозовых. Но, главное, он честно выполнил поручение страны Советов, сумев вначале рассеять атмосферу недоверия к себе и, добившись разрешения, выехать в Англию, где и остался, все сделав как честный человек, не вспоминавший зла власти. Этот мужик (правда, с дипломом Оксфордского университета) поступил «по-рыцарски», что, конечно, делает ему большую честь.
Такими были Морозовы. Однако многие из детей подобных деловых людей, имея большие капиталы на книжках, в секретерах и сейфах отцов, даже не кончили гимназий, как двоюродные братья отца Зыковы, в частности, Леня Зыков. Он был барски красив, отлично одет, но когда вступал в беседу, то мог говорить лишь о собаках, лошадях и женщинах. «Черт возьми, собака высоких кровей; черт возьми, лошадь высоких кровей — родословная царская!» И подобный вздор мог нести весь вечер, если не напивался.
Двоюродные братья Зыковы не могли простить отцу его происхождения, воспитанности, порядочности и начитанности. Когда началась гражданская война и отец был призван в Красную армию, он, находясь в районе восстания белоказаков в г. Новохоперске на Дону, не сделал попытки перейти к белым и по приезде в Богородск попал под нападки двоюродных братьев. Отец отвечал им: «А вы, вы почему не у белых? Мне ваши капиталы защищать? Да, я присягал Императору, да! Но его нет, я был призван в Красную армию и присягал вторично, на верность народу. Вы хотите, чтобы я 10 раз присягал? Увольте!..»
Отец был старшим сыном. Когда ему исполнилось 8 лет, дед отдал его в 3-ий Московский кадетский корпус. У этому времени у отца уже было трое или четверо младших братьев и сестер. Поэтому, как сын многодетного дворянина, награжденного орденом, отец был принят на казенный счет (кошт).
На праздники и каникулы кадета забирали домой. После казармы, классных комнат, плаца и гимнастического зала мальчик, приезжая домой, бегал и резвился, как котенок, благо рядом не было строгих офицеров-воспитателей, а были лишь ласковые лица родителей. Да, в кадетских корпусах была строгая военная дисциплина, но учили там большему, чем в гимназии. В корпусе была столярная мастерская, танцевальный, фехтовальный, лекционный залы. В корпусе были хорошие офицеры-воспитатели и квалифицированные преподаватели-предметники. В корпусе изучалось три иностранных языка (английский, немецкий и французский). Благодаря офицерам-преподавателям, отец любил музыку (пел романсы, аккомпанируя себе на рояле и гитаре), много читал (пописывал сам), отлично владел столярным инструментом (которого у него было больше, чем у квалифицированного краснодеревщика-универсала), хорошо рисовал.
В частности, в кадетских корпусах хорошо преподавались танцы. Судя по дневникам отца, он недурно танцевал. Об этом свидетельствуют его иронически-критические замечания о танцах в период 1920-24 годов. После революции танцы в военных училищах и школах считались капиталистическим пережитком, как и галстуки, кольца и т.п. у гражданских лиц. Что прилично танцевать красному командиру не стыдно, впервые поняли, кажется, где-то в 30-х годах, т.е. примерно 18 лет спустя после революции. Это случилось после коронации английской королевы, когда Елизавета пригласила на танец... «первого красного офицера» К.Е. Ворошилова — наркома обороны, не умеющего танцевать. Сейчас в Суворовских и Нахимовских училищах это дело поставлено так же, как в бывших кадетских корпусах, а позднее в юнкерских училищах.
Примерно к этому времени относятся и другие благие начинания Советской власти. В частности, привлечение старых дипломатов на службу страны Советов или обучение людей новой формации правилам умения пользоваться ножом и вилкою на приемах.
С малых лет, как только он себя помнит, дома, а тем более в корпусе, отца воспитывали как религиозно-преданного престолу человека. Это, естественно, продолжалось и в юнкерском училище, куда он поступил после окончания кадетского корпуса.
Александровское юнкерское военное училище считалось лучшим по подготовке офицеров среди средних военных училищ не только в Москве. Оно считалось и самым старым училищем, и попасть туда было не легко.
Даже на парадах сводная рота Александровского училища ставилась впереди сводной роты Московского гренадерского полка, солдаты которого покрыли неувядаемой славой русское оружие в битве при Бородино. И когда командующему парадом было сделано замечание о расстановке рот, то он ответил принимающему парад Московскому генерал-губернатору, что гренадеры — действительно слава русского оружия, но александровцы — московская гвардия (см. «Юнкера». А.И. Куприн). К слову, это славное училище окончили в свое время писатель А.И. Куприн, маршал Советского Союза М.Н. Тухачевский, видные военачальники, члены ЦК ВКП(б) - С.С. Каменев, Н.В. Куйбышев и др.
Дисциплина в училище была на высоте. Строгость по отношению к юнкерам, нарушившим дисциплину, выходила далеко за рамки обыкновенной, даже в армии.
До сегодняшнего дня старые люди, знавшие моего отца, делают мне замечания по поводу сутуловатой фигуры, проводя параллель между мною и отцом, который был строен как тополь. Большое внимание уделялось в корпусе и литературе. После отца осталось несколько рассказов и даже повесть отнюдь не консервативного содержания. Интересен «дневник арестованного юнкера», который был написан отцом на гауптвахте и благодаря которому очень полно можно представить время, обстановку и отношение отца к происходящему. Именно благодаря статьям, рассказам и повестям, многие из которых были напечатаны в свое время, создается более полный облик моего отца, которого я не помню...
Несмотря на то, что все детство, юность и зрелость отца прошли в казармах, он тонко понимал и глубоко любил природу. Страстный охотник и художник-пейзажист, он все свое свободное время отдавал природе. Лес был его вторым домом. В возрасте 22 лет отец был выпущен офицером в 151 пехотный Пятигорский полк, а в армии прослужил до 1930 г. Вообще в строю он находился более 30 лет.
Удивительно, как в серых стенах казарм отец сумел остаться очень эмоциональным человеком, не потеряв при этом твердого характера и железной воли.
Первая жена отца рассказывала и удивлялась, как, уже будучи офицером, отец не мог сдержать слез, исполняя гимн или читая стихи о России. Учился он в Александровском училище посредственно, очень много времени уделяя живописи. Когда он однажды остался на 2-й год в одном из последних классов кадетского корпуса и красный от стыда приехал домой, дед, не сказав ни слова упрека, подарил ему хорошее ружье и отличную породистую охотничью собаку. Много позже отец признавался, что рыдал после этого два дня.
Однажды кадетский корпус посетил ответственный за кадетские корпуса и юнкерские училища Великий князь Константин Константинович Романов, и к нему привели неуспевающих кадетов, в числе который был и кадет Терновский. Когда подошла очередь отца, Великий князь спросил его: «Ты казак?»— имея ввиду его прическу... Последовал отрицательный ответ:
«Никак нет, Ваше Императорское Высочество!» «...Так.., ну, а на что же ты надеешься, имея неудовлетворительно по двум дисциплинам?»— «На милость Вашего Императорского Высочества!»— был ответ кадета. Великий князь улыбнулся, погрозил пальцем и сказал: « Моя милость не бесконечна, кадет!»
В те времена Богородск представлял из себя маленький уездный городишко, где зайцы бегали там, где сейчас ходят трамваи. Приезжая на каникулы домой, отец не мог не полюбить природы, охоты и собак. Очень часто кадетом он вместе с сестрами и братьями ездил в д. Молзино к родителям своей матери, дабы поиграть с двоюродными братьями. И, конечно, если уж Рогожская улица в то время была вся покрыта травой, то что из себя могла представлять деревня, а тем более дорога к ней и окрестность.
Кстати, Рогожская улица — самая старая в Богородске. От нее и пошло село Рогожи, упомянутое в начале XVI века. Когда Иван Васильевич IV (Грозный) шел на Казань, то, естественно, за войском шли торговцы-маркитанты. В частности те, кто торговал рогожей, которая в тех походах заменяла перины, одеяла, дождевики, скатерти и даже гробы. Поэтому спрос на нее был весьма велик. Часть мужиков с рогожей здесь осела и не пошла за войском. Вот так и появилось село Рогожи, центром которого стала Рогожская улица.
При въезде в Богородск стояла большая афиша, где было сказано, что в г. Богородске проживают столько-то душ мужского и столько-то душ женского пола. Кроме этого, здесь же были названы 6 фамилий наиболее знатных господ, в числе которых была и фамилия Терновских.
Когда проходило какое-либо торжественное собрание или мероприятие, на трибуне среди других стоял один из Терновских. Вначале это был Александр Афанасьевич, позже его сменил Александр Александрович.
Будучи причислен с 4-х лет к дворянскому роду, отец бегал со своими сверстниками босиком по лужам и сырой траве, а позже, уже в зрелом возрасте, став офицером, не чуждался своих бывших товарищей. Его младшая сестра, воспитанница института для благородных девиц Александра Александровна вспоминает, с каким восторгом отец рассказывал о каком-нибудь Ваське или Митьке из Молзино. Дворянин-офицер был очень рад встрече с бывшими товарищами по лужам, заборам, детским играм и т.п. Приходили к нему косые, грязные, а когда перепьют, то и грубые люди. Он сажал их в красный угол, словно дорогих гостей.
Все, что касалось фамилии Терновских, было для него свято, и если в его присутствии кто-то мог сказать о ком-то из Терновских плохо, он защищал фамилию Бог знает как...
Единственная дочь Николая Александровича Терновского (старшего брата моего деда) Мария Николаевна Терновская училась в Московском институте благородных девиц и очень часто встречалась с двоюродным братом, моим отцом, на балах либо в институте, либо в Александровском училище, а также на катке, в театрах. Они были очень дружны. Там же в институте училась и младшая сестра отца Надежда Александровна Терновская. Судьба этих двух близких и родных для отца женщин сложилась трагично. Мария Александровна вышла замуж за коммивояжера одной из крупнейших торговых фирм, который был старше ее чуть ли не вдвое. Муж любил ее безумно. Когда у нее был уже ребенок, она уехала с приезжим офицером, бросив мужа и только что отнятого от груди дитя. Прожив с этим офицером около года и «насладившись» жизнью с молодым и ветреным «дон-жуаном», она возвратилась к мужу, еще более старому после пережитого и, ползая на коленях у его ног, униженно просила прощения. Как ни странно, но муж простил ее, и в дальнейшем ни один упрек не сорвался с его губ. Она раньше его умерла, и связи с этой семьей порвались, тем более, что началась революция.
По-иному сложилась судьба сестры отца Надежды Александровны Терновской. По окончании Института благородных девиц, она — дворянка, в совершенстве владеющая иностранными языками, уже во время революции вышла замуж за путиловского рабочего. Многие всплеснули руками: вот мезальянс, возможный лишь в Советской России — стране чудес. В гостях у молодых были Александр Александрович с самым младшим сыном Борисом и мой отец, который тогда учился на курсах повышения комсостава при Ленинградской военной академии. Как бы там ни было, но в начале молодые жили как будто недурно. Прислугой или домработницей у них служила не менее молодая девушка. Роман мужа с прислугой потрясающе подействовал на хозяйку, она слегла в постель и больше не встала. Ходили упорные слухи, что ее отравили.
Семья Зыковых и Терновских. В центре сидит Фёдор Фёдорович Зыков.
|
Метки: терновские морозовы богородский уезд |
Последняя любовь Бунина, Галина Кузнецова, бросила его ради женщины |
Последняя любовь Бунина, Галина Кузнецова, бросила его ради женщиныhttps://zen.yandex.ru/media/zahodi_na_ogonek/posle...sciny-5ca1acf7d959dc00b319b71f
Когда Галю познакомили с Буниным, ей было 26 лет, Бунину - 56. (До этого была мимолётная и ничего не значащая встреча в Париже). Судьбоносная встреча произошла во Франции, на южном побережье. Они оба были несвободны. Для неё, начинающей писательницы и поэтессы, Иван Алексеевич был кумиром, она знала все его произведения. Он же нашёл в ней очаровательную незрелость, и тридцатилетняя разница в возрасте не помешала вспыхнувшему чувству. Кузнецова немедленно рассталась с мужем и сняла в Париже квартиру, где и встречалась с любимым. Когда встречи урывками стали невыносимы - о расставании с женой писатель и не думал - Бунин пригласил Галину на виллу "Бельведер" в Грасс в качестве ученицы, нимало не заботясь о том, как воспримет её появление там верная жена Вера Николаевна Муромцева. Так началась странная и всеми осуждаемая жизнь втроём: Бунин, Муромцева и Кузнецова.
Иван Бунин и его жена Вера Муромцева. Из открытых источников интернета
В эмигрантских кругах несчастной Вере вовсю перемывали кости, допустившей такое немыслимое положение вещей и покорно принявшей его. Впрочем, к осуждению Вере было не привыкать: она уже бросала вызов обществу, когда в 25 лет согласилась уехать с Иваном Алексеевичем без оформления отношений (он женился на ней лишь спустя много лет). Вера не мыслила жизни без Яна, как она называла Бунина. Она не верила и не хотела верить в серьёзность его чувств к Гале и даже пыталась вообразить себе, что Ян испытывает к Кузнецовой отцовские чувства, ведь его родной и единственный сын от первого брака умер в пятилетнем возрасте. Галина же начала писать свой "Грасский дневник", в котором описывала их жизнь на вилле "Бельведер", тактично обходя щепетильную тему жизни втроём. Сложности в отношения добавил начинающий литератор Леонид Зуров, которого пригласил пожить Бунин. Зуров влюбился в Веру Николаевну и уговаривал её уйти от мужа.
Вера чувствовала себя несчастной, нервный Леонид страдал от неразделённого чувства и умолял Веру бросить Бунина, Галя писала в своём дневнике, что чувствует, что "первая молодость прошла" и начинала тяготиться тиранической любовью Ивана Алексеевича. Плюс ко всему катастрофически не хватало денег, Бунин скандалил, видя, что Галя начинает от него отдаляться - совместная жизнь усложнялась всё больше.
Присуждение Бунину нобелевской премии решило вопрос с деньгами и принесло долгожданное мировое признание. На вручение премии Иван Алексеевич взял с собой обеих женщин. Возвращались в Грасс через Берлин, чтобы заехать к другу семьи Фёдору Степуну. В доме Степуна и произошла роковая встреча Гали и Маргариты Степун (Марги), сестры хозяина. Известная оперная певица Марга любила женщин, и Галя влюбилась в неё страстно и отчаянно.
Маргу пригласили в Грасс погостить, Галина всё время старалась проводить с ней. Бунин пока ещё ничего не понимал, он злился на Галю, которая его избегала, пытался вернуть её любовь, но властная Марга уже заняла его место в сердце Галины. Окончательно всё открылось, когда женщины вместе уехали в Германию.
Для Бунина это стало ударом. Ни понять, ни простить Галю он так и не смог. Последние свои годы великий писатель провёл в нужде и болезнях. До конца с ним была его Вера. Галина же обрела счастье с Маргой, пережив любовницу на пять лет.
|
Метки: бунины кузнецовы муромцевы |
Борх |
Борх
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 22 сентября 2015; проверки требуют 15 правок.

Перейти к навигации Перейти к поиску
У этого термина существуют и другие значения, см. Борх (значения).
| Борх | |
|---|---|
 |
|
 Три Галки |
|
| Описание герба
см. текст >>> |
|
| Девиз | «Omne trinum perfectum» (Всякая троица совершенна) |
| Титул | Графы |
| Губернии, в РК которых внесён род | Витебская |
| Часть родословной книги | V |
| Подданство | |
 Ливонская Конфедерация Ливонская Конфедерация |
|
 Речь Посполитая Речь Посполитая |
|
 Российская империя Российская империя |
|
| Дворцы и особняки | Сигулдский замок |
 Борх на Викискладе Борх на Викискладе |
|
Борх (польск. Borchowie) — графский и дворянский род, из многочисленных ветвей которого в XIII веке одна перешла в Померанию, другая в Лифляндию, третья в Польшу, где поселилась в воеводстве Краковском.
Из померанской ветви Борхов Станислав-Фабиан женат был на княжне Жоржете Померанской, дочери померанского князя Георгия и супруги его княгини Маргариты, рожд. маркграфини Бранденбургской и родной сестры владетельного князя померанского — Филиппа I.
Из лифляндской ветви Бернгард Борх был гермейстером Ливонского ордена с 1477 по 1485 г. Племянник его Симон был епископом Ревельским, папским легатом в Дании и в Швеции и основал в Ревельской епархии два города: Борхгольм и Фегфейер.
Из ливонской ветви Борх, переселившейся в Белоруссию, Фабиан Борх от брака с Сенявскою имел сына Гедеона-Симона, генерал-майора польских войск и сподвижника короля Иоанна Собеского. Гедеон Симон убит под стенами Вены в 1683 г. Он женат был на княжне Каролине Кетлер-Курляндской, дочери герцога курляндского Якова I.
Фабиан-Казимир Борх, генерал от артиллерии Литовского княжества, был послом польским в Москве при Петре I, который его очень любил и был в переписке с ним.
Племянник Фабиана-Казимира Иоанн-Андрей (1713—1780), государственный и дипломатический деятель Речи Посполитой, Канцлер великий коронный (с 1780) оставил от брака с Луизою Зиберг двух сыновей: Михаила и Иосифа-Генриха.
- Граф Михаил Иванович (31.07.1751—29.12.1810) был литовским великим обозным и генерал-лейтенантом и получил диплом на графское Римской империи достоинство 28 марта 1783 г. Он был женат на гр. Элеоноре Юрьевне Броун и оставил несколько сыновей и дочерей:
- граф Карл Михайлович (1798—1861), был витебским губернским предводителем дворянства,
- граф Александр Михайлович (Александр-Антон-Станислав-Бернгард) (18.02.1804—28.08.1867), действительный тайный советник и обер-церемонимейстер, вице-президент совета детских приютов в Петербурге. В 1863 −1867 гг. директор Императорских театров. Он был также вице-президентом капитула Росс. Орденов, Непр. Членом Совета Министров Иностранных дел, почетным опекуном. Женат был на графине Софье Ивановне Лаваль (11.5.1807—8.10.1871), знакомой Пушкина, дочери И. С. Лаваля
- граф Георгий (Юрий) Александрович (1836—1911) — русский военный деятель, генерал от инфантерии.
- граф Иосиф Иванович (1753—1835) был полковником польских гвардейских гусар и народовой кавалерии Великого княжества Литовского, а после присоединения Литвы к России — статский советник и витебский губернский предводитель дворянства. От брака с Анною Петровною Богомолец он оставил четырёх дочерей и одного сына, графа Михаила Осиповича, бывшего также в Витебской губ. предводителем дворянства.
Описание герба[править | править код]
по Долгорукову
Щит разделён на четыре части: 1-я часть разделена двумя линиями горизонтальными и двумя перпендикулярными на 9 квадратов: в 1 квадрате, в золотом поле обращённый влево чёрный гриф; во 2 квадрате, в голубом поле и в 3 квадрате, в серебряном поле, по одному красному грифу, вправо обращённому; в 4 квадрате, в серебряном поле, обращённый влево голубой гриф, имеющий на себе пять диагональных золотых полос; 5-й квадрат разделён горизонтально на две половины; нижняя половина шахматная, голубая с золотом; в верхней половине выходящий белый гриф, вправо обращённый; в 6 квадрате, в красном поле, обращённый вправо белый гриф, имеющий вместо двух задних лап рыбий хвост; в 7 квадрате, в золотом поле, обращённый влево чёрный гриф с серебряным крылом; в 8 квадрате, в золотом поле, диагонально положен красный крест. окружённый четырьмя красными розами; в 9 квадрате, в красном поле, серебряный крест. Во 2-й части герба, в голубом поле красная княжеская шапка.
В 3-й части герба, в голубом поле две шпаги с золотыми эфесами, крестообразно, остриями вниз. В 4-й части в красном поле белый гриф, вправо обращённый. 1-я и 2-я части герба отделены от 3-й и 4-й частей широкой серебряной полосой, на которой справа, золотыми буквами, написано: tres in uno, а слева положен золотой треугольник. Посреди полосы (и следственно среди герба), золотой щиток в коем три чёрных ворона(галки) вправо обращённые.
На среднем шлеме золотая городская корона, из коей выходят два орлиных крыла, и между ними сидит на короне чёрная галка, вправо обращённая; на правом шлеме корона графская, из коей выходит чёрный гриф, влево обращённый; на левом шлеме чёрная княжеская шапка, из коей выходит красный гриф, вправо обращённый.
Намёты: на правом шлеме красный; на среднем чёрный, на левом голубой, все подложены серебром. Щит держат: справа воин, с золотым крестом на панцире и в шлеме с красными перьями; имеет в правой руке две шпаги с золотыми эфесами и в левой руке голубое знамя, на коем изображён золотой крест. Слева щит держит чёрный орёл, с золотым клювом и золотыми лапами; имеет в левой лапе золотой жезл, а в правой лапе красное знамя, на коем изображены золотом буквы S-R. Девиз: omne trinum perfectum. Герб покрыт княжескою мантией, в память брачных союзов, заключённых Борхами со многими владетельными домами)[1].
Примечания[править | править код]
- ↑ Долгоруков П. В. Российская родословная книга. — СПб.: Тип. Э. Веймара, 1856. — Т. 3. — С. 83-84.
Литература[править | править код]
- Борхи, графы // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
- Борхи // Немцы России (энциклопедия) / Председатель ред. коллегии В. Карев. — М: Издательство «Общественная Академия наук российских немцев», 1999. — Т. 1: А—И. — С. 229. — ISBN 5-93227-002-0.
- Графы Борх
- Долгоруков П. В. Российская родословная книга. — СПб.: Тип. Э. Веймара, 1856. — Т. 3. — С. 80.
- Дипломное дело графов Борх Департамента Герольдии Правительствующего Сената по Витебской, Санкт-Петербургской и Саратовской губ. 1813—1882 гг. РГИА, ф.1343, оп.17, д.5661
- Gajl T. Polish Armorial Middle Ages to 20th Century. — Gdańsk: L&L, 2007. — ISBN 978-83-60597-10-1. (польск.)
Источник — https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Борх&oldid=96036926
|
Метки: борхи |
Почему фрейлину трех императриц, которая благодарила революцию, зауважали зеки на Соловках и прославила Церковь |
Почему фрейлину трех императриц, которая благодарила революцию, зауважали зеки на Соловках и прославила Церковь
- Подписаться
- Поделиться в Facebook
- Рассказать ВКонтакте
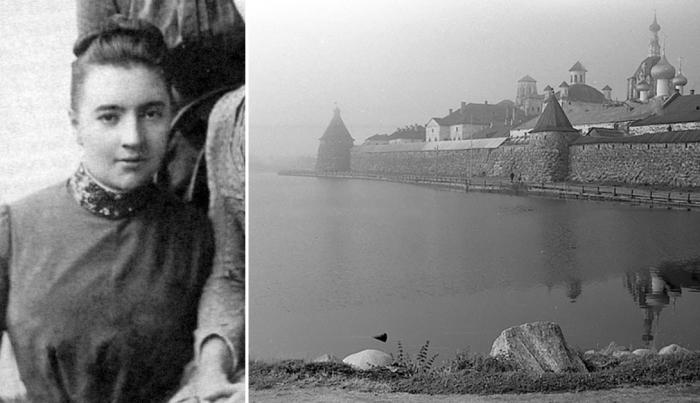
Известно, что испытания способны выявить настоящую сущность человека, дать возможность увидеть, кто есть кто. Наталия Модестовна фон Фредерикс на допросе в 1924 году призналась следователю: «К Советской власти отношусь безразлично. К Революции же с благодарностью, т. к. она освободила меня от имущественных и светских пут, от которых самой трудно было бы отказаться.»
Наталия Модестовна родилась в 1864 году в родовом имении семьи фон Фредерикс Знаменка под Екатеринославлем. Этот род был приближен к русским императорам еще начиная с Екатерины II, которая наградила за верную службу своего банкира баронским титулом. Молодая Наталия фон Фредерикс окончила гимназию в Санкт Петербурге и была представлена ко двору. Она стала фрейлиной еще при императрице Марии Александровне, отслужила ей и двум следующим правительницам – Марии Федоровне и Александре Федоровне. Замуж она так и пошла, отдавая все свободное время делам имения и приходского совета Сергиевского собора на Литейном проспекте. Во время Первой мировой войны работала хирургической сестрой в Царскосельском лазарете.
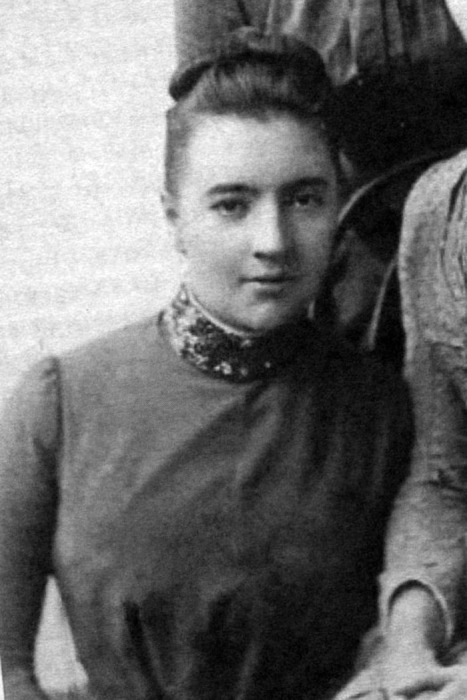
Баронесса Наталия Модестовна фон Фредерикс, фото 1887 года
В тот момент, когда над Россией разразилась гроза революции, престарелой фрейлине уже пошел шестой десяток лет. Большая часть ее жизни прошла при дворе. Она не знала тяжелого ежедневного физического труда, никогда не испытывала в чем-либо нужды, честно выполняя свой долг перед царской семьей и обществом так, как она его понимала. Вряд ли кто-нибудь в то время смог бы предсказать, что обрушившиеся на пожилую женщину несчастья выявят в ней душу настоящей святой подвижницы.
После 1917 года она не покинула Россию и честно попыталась найти свое место в новой стране, создаваемой на обломках ее мира. Пару лет Наталья Модестовна проработала в Петрограде библиотекарем в Педагогический институт дошкольного образования, затем давала детям частные уроки, хотя аресты начались практически сразу – сначала ее допрашивали как «бывшую баронессу», затем «за активную церковную деятельность», так как женщина продолжала активно заниматься делами приходского совета Сергиевского собора. Она очень сдержанно отвечала следователю, понимая, что каждое названное ею имя в свою очередь обрекает другого человека на такую же участь. Поэтому выходило, что родственников и знакомых у нее нет, она кроме церковных дел ничем не интересуется и ничем особенным не занимается:
«- Никаких политических убеждений не имею, т. к. я человек религиозный и политика для меня не существует…»
«- Родственников близких никаких не имею. (…) Знакомых, с которыми бы постоянно виделась, не имею. Я очень занята делами по Сергиевскому собору и поэтому никуда не хожу и ко мне никто не ходит…»
«- Церковь, по-моему, должна быть вне всякой политики и не должна реагировать абсолютно, на какие бы то ни было общественные и политические события…»
(Из показаний на допросах Наталии Модестовны фон Фредерикс 1924 года)
Почему-то эти допросы не убедили следователей в ее благонадежности, и осенью 1924 года 60-летнюю дворянку приговорили к заключению. Так она попала в Соловецкий лагерь особого назначения. О ее последних годах жизни сохранились уникальное литературное свидетельство. По невероятному стечению обстоятельств на Соловках в это же время отбывал наказание писатель Борис Ширяев. Ему удалось выйти на свободу, и в 1954 году он смог опубликовать в Нью-Йорке главную книгу своей жизни «Неугасимая лампада». Одну из глав он посвятил баронессе Наталии Модестовне Фредерикс.
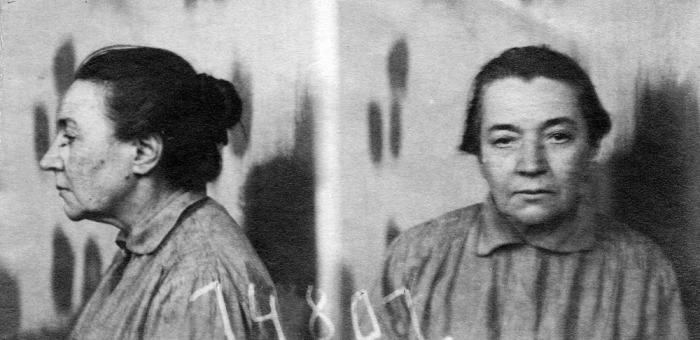
Баронесса Наталья Модестовна Фредерикс. Фото из следственного дела
Бывшей дворянке удалось прожить в одном из самых страшных лагерей всего два года. Сначала ей достался самый тяжелый вид женских работ – на кирпичном заводе. Таская двухпудовые мешки кирпича-сырца, даже молодые заключенные могли подорвать здоровье за пару месяцев. Затем повезло, бывшую фрейлину трех императриц выбрали уборщицей камеры. На самом деле, это была хорошая работа – более легкая. Так сокамерницы проявили теплоту, которую они, сами того не замечая, стали испытывать к баронессе. Пожилая женщина смогла, ничего не делая для этого специально, заслужить уважение, а затем и горячую любовь заключенных, из которых половина была уголовницами. Она просто работала, никогда не жалуясь, каждый день по вечерам приводила в идеальный порядок свою одежду и подолгу молилась. Ко всем относилась ровно и уважительно – как к преступницам, так и к женщинам своего круга, которых там тоже было немало. Дворянки держались обособленно, переговаривались друг с другом часто на французском, много говорили о Боге.

Соловки. В женском бараке
Закалка бывшей придворной позволила Наталии Модестовне не терять свое достоинство даже в самых тяжелых ситуациях. Постепенно женщины из совершенно чуждого ей класса, сначала пытающиеся унизить «баронессу» по любому поводу, стали советоваться с ней, прислушиваться к ее мнению. Многих она смогла привести к вере.
«Влияние баронессы чувствовалось в ее камере все сильнее. Это великое таинство пробуждения Человека совершалось без громких слов. Вероятно, и сама баронесса не понимала той роли, которую ей назначено было выполнить в камере каторжного общежития. Простота и полное отсутствие дидактики ее слов и действий и были главной силой ее воздействия на окружающих».
А на Страстной неделе 1925 года почти весь женский барак, уборщицей которого была баронесса Фредерикс, исповедался и причастился у местного лагерного батюшки, которого изобретательные каторжанки тайно провели в здание соловецкого «театра» и спрятали в костюмерной. Священные Дары батюшка пронес в солдатской кружке.» (Борис Ширяев, «Неугасимая лампада»)
Главное испытание в своей жизни Наталия Модестовна также встретила спокойно и приняла его как должное. В начале 1926 года на Соловках началась эпидемия сыпного тифа. Не хватало персонала. Начальница санчасти, понимая, что работа в тифозном бараке – это почти смертный приговор, пришла к заключенным женщинам, чтобы не приказать, а попросить их о помощи. Бывшая баронесса откликнулась сразу, не раздумывая. Вслед за ней согласились еще несколько бывших уголовниц. Ни одна из дам-дворянок не пошла на эту работу.
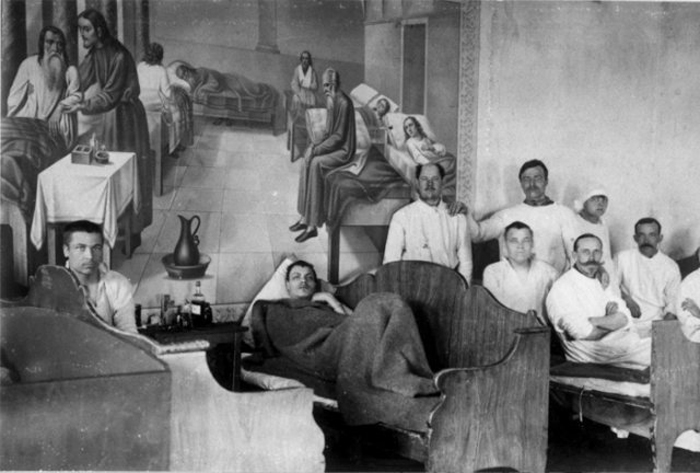
Лазарет Соловецкого лагеря
Так как из всех только Наталия Модестовна имела опыт работы сестрой милосердия, ее назначили в карантинном бараке старшей. Она могла бы просто руководить, но вместо этого, наравне с молодыми женщинами, каждый день ухаживала за больными, выгребала из-под них грязные опилки – лежали тифозники просто на полу, и уход за ними требовал огромных физических и моральных сил. 28 марта 1926 года начальница санчасти заметила на шее и руках сестры Фредерикс характерную сыпь.
«– Баронесса, идите и ложитесь в особой палате… Разве вы не видите сами?
– К чему? Вы же знаете, что в мои годы от тифа не выздоравливают. Господь призывает меня к Себе, но два-три дня я еще смогу служить Ему…»
Это служение продлилось еще ровно два дня. 30 марта 1926 года Наталия Модестовна фон Фредерикс умерла прямо у постели больного. В 1981 году Архиерейский собор Русской православной церкви заграницей прославил ее как исповедницу в Соборе новомучеников и исповедников Российских. А еще через 10 лет Наталия Модестовна Фредерикс была официально реабилитирована Прокуратурой Санкт-Петербурга.
|
Метки: фредерикс фрейлины |
Шуховская башня |
Образы России
Шуховская башня
Преддверием появления первой телебашни в одном из районов Москвы, стала многолетняя кропотливая работа десятков ученых, изобретателей-любителей, инженеров, длившаяся с конца XIX века. Начиная с изобретения русского физика А. С. Попова, которое сделало возможным беспроводную передачу радиосигналов на большие расстояния. Днем рождения российского телевидения выбрана условная дата, ознаменовавшаяся первым телеэфиром.
Фотогалерея
Скромное, по сегодняшним меркам, помещение Наркомата связи стало первой эфирной студией. Изображению на экране в те годы было еще далеко до сегодняшней четкости, оно позволяло различать лишь контуры предметов и силуэты людей.
История создания
Первую радиобашню на улице Шаболовка начали возводить по проекту выдающегося ученого, изобретателя и инженера В. Г. Шухова. Из-за нехватки материалов строительство шло с перерывами и затягивалось. Уникальным был процесс сборки, без использования строительных лесов и подъемных кранов. Все последующие секции собирались внутри первой и с помощью блоков и лебедок устанавливались наверху.
«Прессов для гнутья колец нет. Полок 4 дюйм х 0,5 дюйм нет. Тросов и блоков нет. Дров для рабочих нет ... В конторе холод, писать очень трудно. Чертежных принадлежностей нет ... Артель наша распадается. И. П. Трегубов полон негодования на малое вознаграждение. Он не скрывает своего насмешливого презрения ко мне как к лицу, не умеющему наживать и хапать... Неполучение пайка ставит в невозможные условия наши работы... Верхолазы получают один миллион в день. Считая на хлеб — это 7 фунтов (2,8 кг., — В.Ч.), или менее 25 копеек за работу на высоте 150 метров...» - отмечал в своих тетрадях В. Г. Шухов.
При подъеме четвертой секции устройства произошла авария. Объемная часть упала и повредила нижние ряды. Инженера и изобретателя Шухова за инцидент приговорили к расстрелу с отсрочкой до окончания строительства. К счастью, приговор был условный и в итоге был снят. Возведение пришлось начинать практически с нуля. Почти два года спустя монтаж конструкций окончили. Менее чем через две недели началась регулярная трансляция радиопередач с использованием уникальной антенной конструкции.
В Москве не было предела восторгам от инновационного и невероятного для тех лет изобретения. В дальнейшем на башне смонтировали антенны массовых радио и телевизионных станций.
Вскоре рядом построили два просторных здания, в которых разместили аппаратные, съемочное, техническое оборудование, студию в 100 кв. метров и передающие устройства. На Шуховской башне разместили телевизионные антенны. Передатчики обеспечивали качественный прием телевизионного сигнала на расстоянии до 60 км. Так начиналась эра отечественного телевидения.
Интересные факты
Первой трансляцией с Шуховской телебашни стал документальный фильм об открытии XVIII съезда ВКП(б). Следующие передачи показывали четыре раза в неделю по три часа. Изображение колец Шуховской башни в виде заставки на экранах телевизоров предвещало начало передач, среди которых был знаменитый «Голубой Огонек на Шаболовке».
Главной особенностью башни является сетчатая конструкция, за счет которой на сооружение приходится наименьшая ветровая нагрузка. Секции представляют собой зафиксированные в кольцевых основаниях прямые балки, которые образуют гиперболоиды вращения. Все детали смыкаются заклепками. Сквозная форма объекта имеет большую лёгкость по сравнению с Эйфелевой башней, но обладает не меньшей крепостью и устойчивостью.
Непростую проверку надежности пережила башня в 1941 году. Из-за неисправности киевский почтовый самолет задел крылом трос, расположенный в верхней части, а внизу намотанный на лебедку в бетонном фундаменте. В итоге лебедку вырвало, но башня получила незначительные повреждения. Экспертиза подтвердила, что необходимости в ремонте нет. Самолет потерпел крушение во дворе ближайшего жилого дома.
1-ый Московский телецентр на Шаболовке работал до начала Великой Отечественной Войны и после реставрации первый в Европе возобновил свою работу в мае 45-го. Уже спустя два года оборудование МТЦ перевели на стандарт 625 строк, а мощность передатчика возросла до 15 квт.
Спустя 13 лет после окончания войны, возникла необходимость перейти на двух программное телевещание. Рядом с Шуховской башней построили вторую – 110 метровую. Она имела типовую структурную форму тех лет, подобные устанавливались во многих местах СССР. После 30-ти лет эксплуатации на массово застроенной территории, ее разобрали с помощью вертолета типа МИ-10К.
Шуховская башня никогда не реставрировалась. Основной причиной аварийного состояния конструкции стала коррозия. Все металлические детали нуждаются в экспертизе и антикоррозийной защите.
Шуховская башня сегодня
Несколько лет назад, во время неудачной попытки установки крепежных болтов для придания прочности, был нарушен главный принцип проектирования башни. Подвижную часть забетонировали. Из-за этого снизилась ее маневренность и расстроилась самокомпенсация от внешних нагрузок. Шуховской башне, для придания первозданного вида, стала необходима серьезная реставрация. Несмотря на это, она до сих пор продолжает функционировать, но теперь в качестве ретранслятора со всевозможными передающими устройствами связи.
В 2003 году Госдума вынесла постановление, в котором написано: «Особенно важным представляется сохранение инженерных сооружений, построенных по проектам Владимира Григорьевича Шухова в городе Москве и других городах России, и принятие для этого необходимых мер».
Шуховская башня находится на территории с закрытым доступом. Туристы могут любоваться башней лишь на расстоянии. Также она является объектом подсветки ночной Москвы.
С момента своего возведения и до наших дней, башня считается памятником архитектуры и гениальным творением инженерной мысли. Последние несколько лет макеты башни украшают архитектурные выставки Европы. Конструкции Шухова детально изображаются во многих зарубежных книгах и учебниках по истории архитектуры.
https://www.culture.ru/institutes/11043/shukhovskaya-bashnya
|
Метки: шуховы |
10 фактов о Владимире Шухове |
10 фактов о Владимире Шухове

Владимир Григорьевич Шухов. Гениальный инженер, архитектор, изобретатель и ученый-новатор. Диапазон его интересов был необычайно широким – от нефтепереработки и судостроения до военного дела и реставрационной науки. Изобретения Шухова во многом определили будущее России в начале ХХ века, выведя ее в авангард мирового научно-технического прогресса, а также навсегда вписали имя ученого в историю науки. 93 года назад, 19 марта 1922 года была пущена в эксплуатацию знаменитая Шуховская башня.
1. Обучаясь в Петербургской гимназии, юный Володя Шухов доказал теорему Пифагора своим собственным оригинальным методом.
Лекция Юрия Волчка «Архитектоника Владимира Шухова
2. Известно, что Шухов очень любил велопрогулки, однажды он даже стал чемпионом Москвы по велогонкам. Сам изобретатель утверждал, что езда на велосипеде помогла ему победить чахотку.
3. На подмосковной даче Шуховых часто гостила Ольга Книппер, будущая жена Антона Чехова. Шухову было 32, а ей – 17. Это была их первая любовь. Роман длился два года, но потом по неизвестной причине влюбленные расстались.

4. Владимир Шухов стал первым инженером в мире, который применил гиперболоид в строительной механике.
5. Шухов изобрел метод крекинга в промышленности (перегонка нефти под воздействием высокой температуры и давления; при этом нефть распадается на фракции – бензин, лигроин, керосин, дизельное топливо и мазут).
До 1891 года в мире не существовало промышленного устройства для перегонки нефти.
В царской России аппарат не был востребован ввиду отсутствия автомобилей.
Первыми с необходимостью конструирования такого приспособления столкнулись американцы и изобрели свой крекинг.
Когда же западные коллеги узнали, что двадцать лет назад крекинг-процесс уже был смоделирован и запатентован русским инженером, они предложили ему немыслимые по тем временам деньги. Однако Шухов отказался, заявив: «Меня устраивает зарплата, которую я получаю от советского правительства».
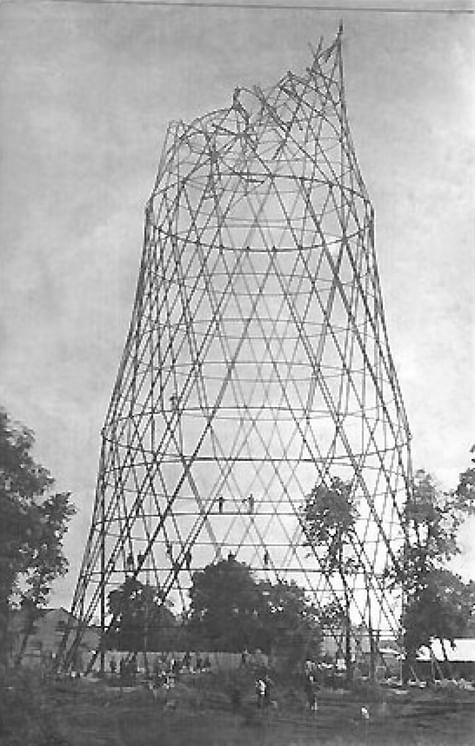
6. После инцидента с обрушившейся во время строительства секцией башни на Шаболовке, ВЧК приговорила инженера к «условному расстрелу». Шухов должен был достроить первую и самую высокую в России радиобашню во что бы то ни стало. Ему было 65 лет.
7. С Шуховым серьезно сотрудничал архитектор-авангардист Константин Мельников. Конструкция известного Дома Мельникова – это две соединенные цилиндрические кирпичные сетчатые оболочки, по аналогии с оболочками Шухова, обеспечившие прочность при минимальном расходе материала.
8. Шуховская башня на Шаболовке вдохновила советского писателя Алексея Толстого на создание романа «Гиперболоид инженера Гарина».
9. Мать инженера, Вера Капитоновна, всю жизнь любила роскошь, светскую жизнь и приемы. В семье Шухова восхищались Штраусом. Когда король вальсов приехал в Москву, на балу он встретил Веру Капитоновну. Композитор был настолько очарован ею, что посвятил ей вальс и преподнес в подарок партитуру с автографом.
10. Владимир Григорьевич увлекался фотографией, в его архиве более 1500 снимков, в частности вот такое «селфи».

https://www.culture.ru/materials/39166/10-faktov-o-vladimire-shukhove
|
Метки: шуховы книппер вчк-кгб инженеры |
Алексей Толстой |

Персона
Алексей Толстой
Годы жизни:
10 января 1883 — 23 февраля 1945
Страна рождения:
Россия
Сфера деятельности:
Писатель
Мать Алексея Толстого была талантливой писательницей и привила сыну любовь к литературному творчеству. С ранней юности он писал много и разнообразно: создавал фантастические и исторические романы, сказки для детей, повести в духе соцреализма, стихи и пьесы. Именно Алексей Толстой рассказал детям о приключениях деревянного мальчика Буратино, а взрослым — о любви землянина и марсианки Аэлиты.
«Я был неучем и дилетантом...» Первые рассказы и стихи

Алексей Толстой родился 10 января 1883 года в городе Николаевске Самарской губернии. Его мать, Александра Тургенева, была дочерью отставного военного, очень набожного и аскетичного человека, и приходилась внучатой племянницей декабристу Николаю Тургеневу. С ранней юности она много читала и сама занималась литературным творчеством: писала книги для детей и взрослых, печаталась в самарских газетах, а позднее и в петербургских журналах. Отец — граф Николай Толстой — был предводителем самарского дворянства, двоюродным братом историка Михаила Толстого и министра внутренних дел Дмитрия Толстого. Отец будущего писателя имел тяжелый характер, поэтому еще до рождения сына, в мае 1882 года, Александра Тургенева ушла от мужа к председателю уездной земской управы Алексею Бострому. Трое старших детей остались с отцом.
Детство Алексея Толстого прошло на хуторе Сосновка недалеко от Самары, в имении Бострома. Начальное образование он получал дома, под руководством приглашенного учителя. Позже Толстой вспоминал:
Оглядываясь, думаю, что потребность в творчестве определилась одиночеством детских лет: я рос один в созерцании, в растворении среди великих явлений земли и неба. Июльские молнии над темным садом; осенние туманы, как молоко; сухая веточка, скользящая под ветром на первом ледку пруда; зимние вьюги, засыпающие сугробами избы до самых труб; весенний шум воды, крик грачей, прилетавших на прошлогодние гнезда; люди в круговороте времени года, рождение и смерть, как восход и закат солнца, как судьба зерна; животные, птицы; козявки с красными рожицами, живущие в щелях земли; запах спелого яблока, запах костра в сумеречной лощине; мой друг Мишка Коряшонок и его рассказы; зимние вечера под лампой, книги, мечтательность (учился я, разумеется, скверно)… Вот поток дивных явлений, лившийся в глаза, в уши, вдыхаемый, осязаемый… Я медленно созревал…
Алексей Толстой
С детства мать прививала Алексею Толстому любовь к литературе. По ее совету 10-летний мальчик написал свой первый рассказ. «Много вечеров я корпел над приключениями мальчика Степки, — вспоминал писатель потом. — Я ничего не помню из этого рассказа, кроме фразы, что снег под луной блестел, как бриллиантовый. Бриллиантов я никогда не видел, но мне это понравилось. Рассказ про Степку вышел, очевидно, неудачным: матушка меня больше не принуждала к творчеству».
До 17 лет Алексей Толстой носил фамилию отчима — Бостром. Несколько лет его мать добивалась, чтобы Николай Толстой признал сына законнорожденным, однако фамилию и титул отца юноша получил только после смерти графа, в 1901 году.
В 1897–1898 годах Толстой учился в Сызранском реальном училище. После этого семья переехала в Самару, где будущий писатель продолжил обучение. Все предметы давались ему одинаково хорошо, трудности были только с иностранными языками. В 1901 году Алексей Толстой получил аттестат и уехал в Петербург, где поступил в Технологический институт на отделение механики.
В 1905-м Толстого направили на практику в уральский город Невьянск, на металлургический завод. Там он написал рассказ «Старая башня», основанный на местных легендах и посвященный главной достопримечательности Невьянска — «падающей» башне.
В то же время, вдохновившись поэзией Николая Некрасова и Семена Надсона, Алексей Толстой попробовал сочинять стихи. Первый поэтический сборник — «Лирика» — он издал за свой счет в 1907 году. Впоследствии, однако, писатель стыдился своих ранних стихотворных опытов, считал их неумелыми подражаниями и предпочитал не вспоминать о них вовсе. В 1911 году он выпустил книгу стихов по мотивам русского фольклора «За синими реками» и после этого к поэзии больше не возвращался.
Проза увлекла Толстого гораздо больше. Незадолго до защиты диплома он бросил университет и посвятил все свое время творчеству. Как вспоминал писатель, в ранних его рассказах преобладали сюжеты «об уходящем и ушедшем мире разоряющегося дворянства» — из таких произведений состоял выпущенный в 1911 году цикл повестей и рассказов «Заволжье». По-прежнему интересовали Толстого и фольклорные мотивы: одной из его первых изданных книг стал сборник «Сорочьи сказки». О творчестве писателя хорошо отзывались многие его современники: Максим Горький, Максимилиан Волошин, даже известный скептик Иван Бунин. Но сам автор не был доволен своими работами:
Я решил, что я писатель. Но я был неучем и дилетантом. Я хорошо не знал ни русского языка, ни литературы, ни философии, ни истории. Не знал ни своих возможностей, не знал, как наблюдать жизнь. К своему оправданию должен сказать, что все это я понимал и предчувствовал, что мне грозит.
До 1914 года Алексей Толстой написал несколько сборников сказок, роман «Хромой барин», 10 рассказов и повестей, 14 пьес, многие из которых шли в Малом театре. «Чтобы одновременно в течение года печататься в шестнадцати разных изданиях, нужно было работать, не разгибая спины».
«Трудился он тогда споро и весело», — вспоминал писатель Корней Чуковский. Однако Толстой не все время проводил за письменным столом: он успевал появляться на всех литературных встречах, театральных премьерах и других важных светских событиях Петербурга.
Когда началась Первая мировая война, Толстого освободили от службы из-за проблем со здоровьем и отправили на фронт военным корреспондентом от газеты «Русские ведомости». В 1916 году он побывал в Англии и Франции, создал несколько рассказов, пьес и военных очерков — «Касатка», «Прекрасная дама», «На горе».
«Марка падает, цены растут»: жизнь в эмиграции
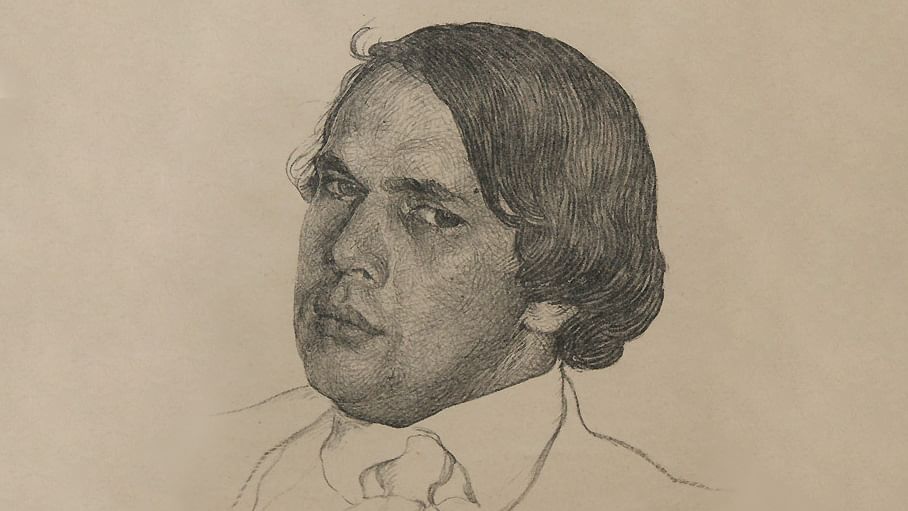
К революции Алексей Толстой отнесся враждебно. В июле 1918 года он переехал в Одессу, оттуда — в Константинополь, затем в Париж и наконец поселился в Берлине. «Час был тяжелый, — рассказывал он в письме Ивану Бунину об отъезде из Одессы. — Но тогда точно ветер подхватил нас, и опомнились мы скоро, уже на пароходе. Что было перетерплено — не рассказать. Спали мы с детьми в сыром трюме рядом с тифозными, и по нас ползали вши. Два месяца сидели на собачьем острове в Мраморном море. Место было красивое, но денег не было. Три недели ехали мы (потом) в каюте, которая каждый день затоплялась водой из солдатской портомойни, но зато все искупилось пребыванием здесь (во Франции)».
Однако и в этот период постоянных переездов писатель продолжал работать. Даже в трюме корабля до Константинополя он устроил себе подобие рабочего места: столом и стулом служили перевернутые ящики из-под консервов. Еще в Одессе Толстой написал повесть «Граф Калиостро» и комедийную пьесу «Любовь — книга золотая».
В 1922 году вышла автобиографическая повесть «Детство Никиты»: в ней Толстой рассказал о своей жизни в имении отчима, а прообразом матери главного героя стала мать самого писателя. В произведении сохранились также подлинные имена учителя Аркадия Ивановича и детского приятеля автора — Мишки Коряшонка. В том же году писатель выпустил роман «Сестры» — первую часть трилогии «Хождение по мукам».
Ни в Париже, ни в Берлине Толстому не нравилось. «Жизнь здесь приблизительно как в Харькове при гетмане, — писал он Ивану Бунину. — марка падает, цены растут, товары прячутся». В мае 1923 года писатель ненадолго приехал в СССР, а позже вернулся на родину навсегда.
Любимый писатель Иосифа Сталина: возвращение в СССР
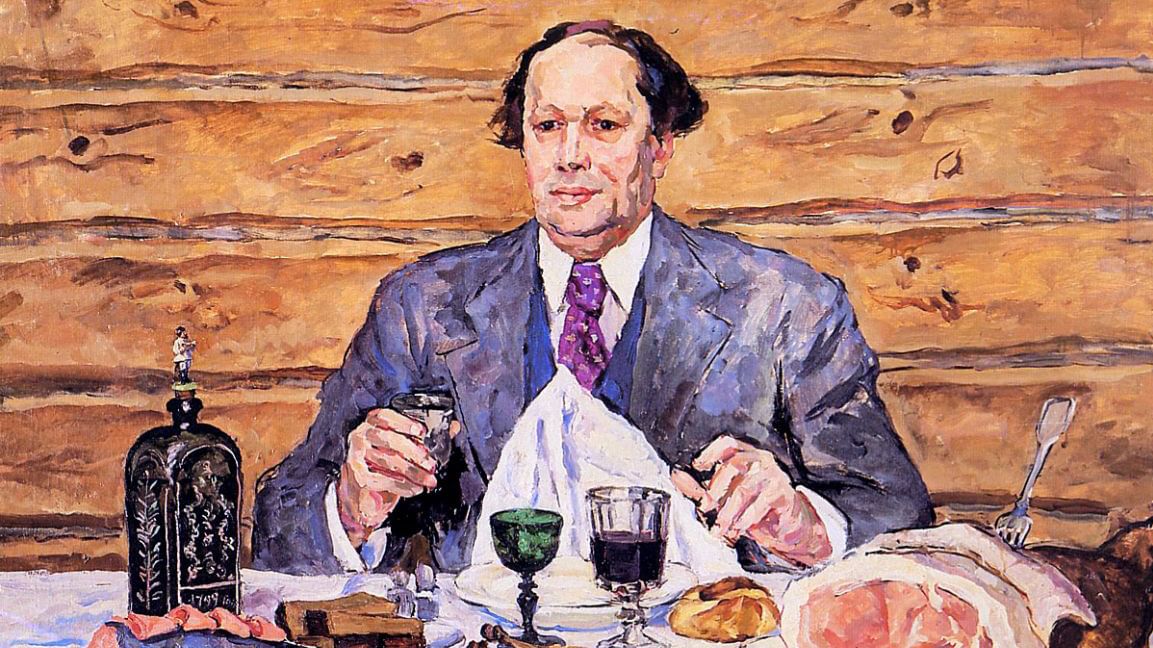
Приехав в Советский Союз, Алексей Толстой, по выражению Корнея Чуковского, «сразу же впрягся в работу, не давая себе никакой передышки».
Уже в 1923 году он выпустил свой первый фантастический роман «Аэлита», работу над которым начал еще в Берлине. В 1924-м вышли повесть «Похождения Невзорова, или Ибикус», сказка «Кот сметанный рот», пьеса «Бунт машин». Три года спустя Толстой вернулся к жанру фантастики и создал еще одно известное произведение — «Гиперболоид инженера Гарина». Современники, однако, не одобрили ни «Аэлиту», ни «Гиперболоид...». Хвалил эти произведения только Максим Горький, негативно же отзывались о них даже друзья Толстого — Корней Чуковский и Иван Бунин. «Без фантастики скучно все же художнику, благоразумно как-то... Художник по природе — враль, вот в чем дело!» — отвечал на критику писатель.
Постепенно Алексей Толстой наладил отношения с советской властью. Он стал депутатом Верховного Совета СССР и членом Академии наук, был одним из любимых писателей Иосифа Сталина.
До 1930-х годов Толстой писал преимущественно рассказы и работал над второй книгой трилогии «Хождение по мукам» — «1918 год». Затем он обратился к исторической тематике и в 1934 году выпустил два тома романа «Петр Первый». За это произведение он получил первую из трех своих Сталинских премий. Писатель планировал издать и третий том, однако он так и остался незавершенным.
Два года спустя, в 1936-м, вышла самая известная сказочная повесть Алексея Толстого — «Золотой ключик, или Приключения Буратино», литературная обработка сказки итальянского писателя Карло Коллоди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы». Изначально Толстой собирался просто перевести произведение на русский язык, но затем передумал: «… выходит скучновато и пресновато. С благословения Маршака пишу на ту же тему по-своему». Сказку впервые напечатали в газете «Пионерская правда», затем она вышла отдельной книгой. Одновременно писатель создал пьесу «Золотой ключик», которую поставили в Центральном детском театре, а в 1939 году написал сценарий для художественного фильма режиссера Александра Птушко.
Когда началась война, Алексея Толстого с семьей эвакуировали в Ташкент, который он сразу же окрестил «Стамбулом для бедных». В это время он писал множество патриотических статей, очерков и рассказов, призванных поднять боевой дух советского народа. В 1941 году писатель завершил трилогию «Хождение по мукам» романом «Хмурое утро». В 1943-м за это произведение Толстой получил еще одну Сталинскую премию.
Личная жизнь Алексея Толстого

Алексей Толстой был женат четырежды. Первой его супругой стала Юлия Рожанская. С ней писатель познакомился в Самаре, когда гостил у своей тетки Марии Тургеневой. Рожанская, дочь самарского врача, тогда училась в гимназии и играла в любительских театральных постановках. В письме матери Толстой рассказывал об отношениях с будущей женой:
Время проводим мы чудесно… отношения у нас простецкие, простота нравов замечательная, с барышнями я запанибрата, они даже и не конфузятся. <...> По утрам мы забираемся с Юлией на диван, я — с книжкой, она — с вышиваньем, ну, она не вышивает, а я не читаю.
Брак был ранним — на тот момент Толстому было всего 18 лет. Супруги прожили вместе всего шесть лет, у них родился сын Юрий, он умер в детстве.
В 1907 году Толстой влюбился в художницу Софью Дымшиц. Несколько лет они жили вместе, но не могли обвенчаться: оба не получили развода в своих первых браках, к тому же Дымшиц была иудейкой. Впоследствии, когда формальности с разводами были улажены, она приняла православие, чтобы вступить в законный брак с Толстым. В 1911 году у супругов родилась дочь Марианна, а в 1914-м они расстались.
Третьей любовью Алексея Толстого стала поэтесса Наталья Крандиевская. Она послужила прообразом Кати Рощиной из произведения «Хождение по мукам». В браке с Крандиевской писатель прожил 21 год, у них было двое сыновей — Никита и Дмитрий. Кроме того, Толстой принял и сына Натальи Крандиевской от первого брака — Федора Волькенштейна.
В августе 1935 года в доме Толстых появился секретарь — Людмила Крестинская-Баршева. Несмотря на большую разницу в возрасте, между Толстым и девушкой возникли взаимные романтические чувства, и уже в октябре того же года они поженились. С Людмилой Крестинской Толстой прожил до конца жизни. Детей у них не было.
Алексей Толстой умер в феврале 1945 года. В память о нем объявили государственный траур. В 1946-м ему посмертно присудили третью Сталинскую премию за пьесу «Иван Грозный». По мотивам произведений писателя сняли множество художественных фильмов — «Формула любви», «Похождения Невзорова», «Юность Петра», «Золотой ключик». «Аэлиту» экранизировали не только в СССР, но и в Венгрии.
Интересные факты об Алексее Толстом
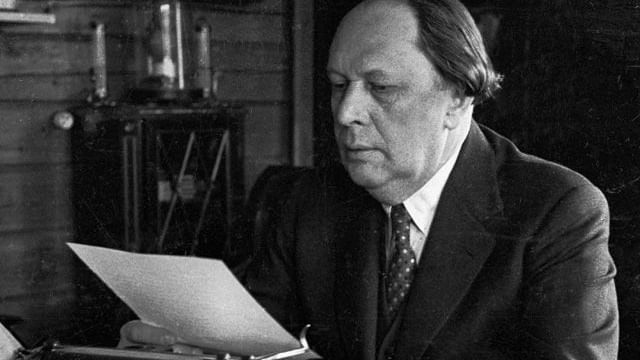
1. В СССР Толстому дали ироничное прозвище «красный граф»: будучи дворянином по рождению и не приняв революционную идеологию, он не только не попал под репрессии, но и занял довольно высокое положение в советском обществе.
2. На создание романа «Гиперболоид инженера Гарина» Толстого вдохновил ажиотаж вокруг строительства Шуховской башни в Москве — необычной для того времени конструкции из сетчатых металлических оболочек, которую изобрел архитектор Владимир Шухов.
3. В 1927 году журнал «Огонек» опубликовал коллективный роман-буриме «Большие пожары». Первую главу написал Александр Грин, впоследствии по одной главе к произведению добавляли другие писатели. 17-ю главу — «Бабочки» — создал Алексей Толстой.
4. В 1941 году Алексей Толстой получил письмо от Ивана Бунина, который находился тогда в эмиграции. Бунин просил помочь ему с выплатой гонораров за переиздание книг. Толстой обратился за поддержкой лично к Иосифу Сталину. «Дорогой Иосиф Виссарионович, — писал он, — обращаюсь к Вам с важным вопросом, волнующим многих советских писателей, — мог бы я ответить Бунину на его открытку, подав ему надежду на то, что возможно его возвращение на родину? Если такую надежду подать ему будет нельзя, то не могло бы cоветское правительство через наше посольство оказать ему материальную помощь. Книги Бунина не раз переиздавались Гослитиздатом». Сталин откликнулся на обращение и сразу поднял вопрос о возвращении Бунина.
5. Современная российская писательница Татьяна Толстая приходится Алексею Толстому родной внучкой: ее отцом был Никита Толстой, сын писателя и его третьей жены Натальи Крандиевской. В честь него Толстой назвал главного героя автобиографической повести «Детство Никиты».
Теги:
|
Метки: толстые |
Русский Берлин: литературная столица эмиграции |
Русский Берлин: литературная столица эмиграции
В начале 1920-х годов в Берлине жило около 300 тысяч эмигрантов из России. Среди них были политики и дипломаты, художники и музыканты. Но особенно много в городе было писателей: Берлин того времени даже называли «литературной столицей русской эмиграции». Читайте отрывки из их мемуаров вместе с порталом «Культура.РФ».
Андрей Белый — «Одна из обителей царства теней»

Поэт и прозаик Борис Бугаев, известный под псевдонимом Андрей Белый, приехал в Берлин в ноябре 1921 года. Он прожил в пансионе на Пассауэрштрассе до октября 1923-го, а затем, устав от жизни в «гибнущей Европе», вернулся в Москву. Эти два года литературоведы называют «берлинским Болдино Белого»: в Германии он создал множество стихотворений, прозаических произведений, очерков и статей. В то время Белый тяжело переживал разрыв с первой женой, Асей Тургеневой. Другой русский эмигрант в Германии, Владислав Ходасевич, писал об этом: «...весь русский Берлин стал любопытным и злым свидетелем его истерики».
В 1925 году, уже в России, писатель опубликовал очерк о жизни в Германии — «Одна из обителей царства теней».
Кого здесь вы не встретите! И присяжного поверенного из Москвы, и литературного критика вчерашнего Петрограда, и генерала Краснова, и весело помахивающего серой гривой волос бывшего «селянского» министра В.М. Чернова... <…>
А прибывающие из России здесь именно запасаются обувью, перчатками, шапками и зонтами; сюда появляются в диких, барашковых шапках, в потрепанных шубах Советской России, чтобы отсюда уйти европейцами... <…>
«Здесь русский дух: здесь Русью пахнет! ...
И — изумляешься, изредка слыша немецкую речь: Как? Немцы? Что нужно им в «нашем» городе?
Владимир Набоков — «Путеводитель по Берлину»

Рассказ «Путеводитель по Берлину» вышел в декабре 1925 года в газете «Руль», а в 1929-м стал частью сборника «Возвращение Чорба». Владимир Набоков подписал его псевдонимом «В. Сирин» — под этим именем он издал в Берлине несколько книг. «Путеводитель...» был создан в форме рассказа приятелю «о трубах, трамваях и прочих важных вещах», иначе говоря — о городе с быстрым темпом жизни, долгими дорожными работами, множеством забегаловок и особым укладом жизни.
— Это очень плохой путеводитель, — мрачно говорит мой постоянный собутыльник. — Кому интересно знать, как вы сели в трамвай, как поехали в берлинский Аквариум? <…>
— Неинтересно, — утверждает с унылым зевком мой приятель. — Дело вовсе не в трамваях и черепахах. Да и вообще... Скучно, одним словом. Скучный, чужой город. И жить в нем дорого...
Владимир Набоков прожил в Берлине более 15 лет. Он приехал туда после обучения в Кембридже вслед за своими родителями. Жизнь в Германии стала для писателя чередой переездов с квартиры на квартиру из-за нехватки средств. Набоков зарабатывал тем, что давал уроки английского и французского, много переводил — от «Алисы в Стране чудес» до коммерческих описаний кранов, подрабатывал тренером по теннису.
Но пока он жил в Берлине, «не познакомился близко ни с одним немцем, не прочел ни одной немецкой газеты или книги и никогда не чувствовал ни малейшего неудобства от незнания немецкого языка». В Германии Набоков написал свой первый роман — «Машенька», произведения «Король, дама, валет», «Защита Лужина», «Приглашение на казнь» и, конечно, «Дар». Сюжеты многих из них разворачиваются в Берлине.
Почти все, что могу сказать о берлинской поре моей жизни (1922–1937), издержано мной в романах и рассказах, которые я тогда же писал.
Из автобиографии «Другие берега», 1954
Илья Эренбург — «Письма из кафе»

Читайте, как Германия повлияла на русское искусство в разное время
Публицист и поэт Илья Эренбург попал в Германию в 1921 году: его выслали из Франции по обвинению в советской пропаганде. Он прожил в Берлине три года — сначала в пансионе на Прагерплац, а затем на Траутенштрассе. За это время он опубликовал 19 книг, вместе с художником Эль Лисицким создал международный художественно-литературный журнал о современном искусстве «Вещь», а также написал роман «Любовь Жанны Ней».
Первый очерк цикла «Письма из кафе» напечатали в 1923 году в московском журнале «Россия». Эренбург задумывал что-то вроде «гида по кафе Европы» — впечатления-советы незнакомому читателю с фотографиями автора. Первые рассказы были посвящены городам Германии: Берлину, Брокену, Хильдесхайму, Магдебургу, Веймару. Позднее Эренбург включил их в сборник «Виза времени».
Я не берусь тебе объяснить, что привлекает в Берлин табуны иностранцев. Я пишу это письмо из «Романишес-кафе». Это очень почтенное учреждение, нечто вроде генерального штаба фантастических бродяг, вселенских хлопотунов и просвещенных жуликов, исцеленных от узкого национализма. <…>
Я не знаю, почему все эти люди живут в Берлине. Валюта или визы? Эмигранты или экономные туристы? Во всяком случае, все они Берлином недовольны и не пропустят возможности его поругать. Особенно русские: это считается хорошим тоном.
Виктор Шкловский — «Zoo, или Письма не о любви»

Писатель и сценарист Виктор Шкловский бежал за границу, спасаясь от ареста: его обвиняли в антибольшевистской деятельности и связях с эсерами. Сначала он оказался в Финляндии, а затем в Германии. Шкловский жил в Берлине с апреля 1922 по июнь 1923 года, писал публицистические произведения, а иногда подрабатывал водителем такси. Здесь он общался с Ильей Эренбургом, Василием Немировичем-Данченко, Алексеем Толстым. «Немыслимо» влюбился в Эльзу Триоле — младшую сестру Лили Брик. Именно Триоле стала прообразом главной героини романа «Zoo, или Письма не о любви», который вышел в 1923 году.
«Первоначально я задумал дать ряд очерков русского Берлина, потом показалось интересным связать эти очерки какой-нибудь общей темой. Взял «Зверинец» («Zoo») — заглавие книги уже родилось, но оно не связало кусков. Пришла мысль сделать из них что-то вроде романа в письмах», — писал Шкловский в предисловии к книге. Он привязал сюжет произведения к конкретному месту — Берлинскому зоосаду в районе Тиргартен, поскольку многие русские эмигранты жили именно в этой части города.
Русские ходят в Берлине вокруг Старой кирки, как мухи летают вокруг люстры. И как на люстре висит бумажный шарик для мух, так и на этой кирке прикреплен над крестом странный колючий орех. <...>
По улицам ходят спекулянты в шершавых пальто и русские профессора попарно, заложив руки с зонтиком за спину. Трамваев много, но ездить на них по городу незачем, так как везде город одинаков. Дворцы из магазина готовых дворцов. Памятники — как сервизы. Мы никуда не ездим, живем кучей среди немцев, как озеро среди берегов. <...>
В сырости и в поражении ржавеет железная Германия, и ржавчиной срастаемся, ржавея вместе с ней, нежелезные мы.
Роман Гуль — «Жизнь на Фукса»

А здесь узнайте, куда еще, кроме Германии, выезжали русские писатели
Мемуары «Жизнь на Фукса» охватывают период с 1916 по середину 1920-х годов. Писателя и журналиста Романа Гуля занесло в Берлин волной «белой эмиграции». Он участвовал в «Ледяном походе» генерала Лавра Корнилова, попал в плен к петлюровцам в Киеве. Немцы освободили его и отправили в лагерь для переселенцев под Хельмштедтом. Там Гуль работал дровосеком, затем в 1920 году он переехал в Берлин, публиковался в изданиях «Жизнь», «Накануне», «Голос России», «Русский эмигрант».
В очерках он не только описывал повседневную жизнь, но и создавал галерею портретов «русского Берлина» — от эмигрировавших офицеров до художников и литераторов: «Русские писатели ходили по Берлину, кланяясь друг другу. Встречались они часто, потому что жили все в Вестене». Марина Цветаева, Юлий Айхенвальд, Игорь Северянин, Владимир Маяковский, Алексей Толстой, Сергей Есенин — всех их Гуль «разместил» на карте немецкой столицы.
Из Америки через Париж Есенин приехал один. Он был смертельно бледен. И не бывал трезв. Он не рассказывал о том, что брак с Дункан закончился вмешательством французской полиции. Он пил. <…>
Есенин обводил сидящих и уставлялся, всматриваясь. Бутылки. Руки. Стаканы. Стол. Цветы. Алексей Толстой. Кусиков с брюнеткой. Лицо Есенина. Все дробилось картиной кубиста.
Я сказал Есенину:
— Чего вы уставились?
Дальше должна была быть брань, драка, бутылкой в голову. Но Есенин улыбнулся тихо и жалобно. Качаясь, встал. И сказал, протягивая руку:
— Я — ничего. Я — Есенин, давайте знакомиться...
«Жизнь на Фукса» стала первым произведением Романа Гуля, которое издали в СССР. Помимо нее, в 1928 году московский Госиздат выпустил сборник «Белые по Черному. Очерки Гражданской войны». Другие книги Гуля — «Ораниенбург. Что я видел в гитлеровском концентрационном лагере», «В рассеянии сущие», «Конь рыжий» — выходили в издательствах Парижа, Берлина и Нью-Йорка.
Автор: Татьяна Григорьева
Теги:
ЛитератураПубликации раздела Литератураhttps://www.culture.ru/materials/254081/russkii-be...r=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
|
Метки: литераторы русское зарубежье эмиграция |
Пётр Ильич Чайковский 1840 - 1893-окончание |
Денежные затруднения Чайковского были, скажем прямо, весьма своеобразны. Например, он едет в Париж - и Надежда Филаретовна нанимает для него дорогущее жильё, причём такое, каким до неё он никогда не пользовался, и при этом интересуется, не нуждается ли Пётр Ильич ещё в чём- то. Его ответ: да, мол, истратился, и «если можно, вышлите мне ещё денег, я их обязательно верну, когда издатель Юргенсон оплатит мою работу». Она упрекает его: «Зачем вы просите денег у Юргенсона? Если появится нужда, Вы только скажите».
- Солидное состояние обеспечил ей супруг Карл Фёдорович? - спрашиваю я у Вайдман.
- Тут ещё вопрос - кто кому обеспечил.
В своих воспоминаниях их внук Георгий Алексеевич Римский-Корсаков пишет, что военный инженер-путеец Карл Фёдорович фон Мекк до поры до времени трудился на шоссейных дорогах и считался небогатым - семья в 10 человек, а ему в месяц на казённой службе платили полторы тысячи рублей. Как признавалась Чайковскому Надежда Филаретовна, в те времена она могла потратить в день на прокорм многочисленных чад всего 20 копеек. Но пытаясь выйти из незавидного положения, она со своим необычайно сильным характером убедила мужа заняться постройкой железных дорог. Да и момент выбрала весьма кстати: как раз в это время группа частных предпринимателей взяла у государства подряд на строительство железной дороги и получила от него ссуду.
Первой железной дорогой, построенной Карлом Фёдоровичем, стала Московско-Рязанская, связавшая Москву с черноземными губерниями. Дело у предпринимателей пошло настолько удачно, что Александр II разрешил своим сыновьям вложить в него часть собственных капиталов. Как один из учредителей общества, фон Мекк стал к тому же инженером-производителем работ, которые принесли ему немалые деньги. Завершив постройку Московско-Рязанской дороги, Карл Фёдорович принял деятельное участие в укладке железнодорожного пути от города Ромны Полтавской губернии до балтийского порта Любавы. Это открыло доступ украинскому хлебу за рубеж. Так или иначе, но, как писала Надежда Филаретовна позднее Чайковскому, эта железная дорога стала «собственностью семьи Мекк». Если верить внуку, дед оставил потомству имущества и денег на 20 миллионов рублей.
- Но Надежда Филаретовна помогала деньгами не только Чайковскому...
- Конечно, не только ему, но и другим музыкантам и художникам, - соглашается Полина Вайдман. - Хотя далеко не в такой степени, как Чайковскому. Например, когда за участие в коронационных торжествах композитор получил от государя Александра III бриллиантовый перстень, его тут же за три тысячи перекупила фон Мекк, зная, что Петру Ильичу опять нужны деньги.
Понимая, что любовные отношения между ними невозможны, фон Мекк задумала породниться с Чайковским через детей.
Надежда Филаретовна захотела познакомить поближе своих мальчиков с дочерьми сестры композитора Александры Ильиничны Давыдовой. Она засылала в её дом своих старших сыновей Николая и Александра. С той стороны «претендентками» были три племянницы Чайковского - Вера, Наталья, Татьяна. Коле же неожиданно приглянулась четвертая - Анна. Они поженились, С и их потомки нынче живут в России, Франции, Бразилии, США и Польше...
Неужели Петру Ильичу и Надежде Филаретовне так и не х суждено было встретиться друг с другом?
Это произошло только однажды, когда он гулял в лесу по соседству с её родным имением в Браилове. В тот день они нечаянно впервые встретились лицом к лицу. И он... извиняется перед нею!
Их переписка закончилась столь же внезапно, как и началась. Всех причин, несмотря на многочисленные домыслы исследователей, так и не удалось установить. Скорее всего, к этому Надежду Филаретовну подтолкнули и резко ухудшившееся здоровье, и существенно пошатнувшееся финансовое положение. В конце 1890 года Пётр Ильич получил последнее её письмо, в котором сообщалось, что в связи с финансовым крахом она больше не имеет возможности поддерживать композитора материально...
Скончалась фон Мекк 14 (26 января) 1894 года в Ницце, пережив Чайковского на два с половиной месяца.
6. "Спящая красавица" (1889)
До Чайковского к сюжету Шарля Перро обращался французский композитор Фердинан Герольд, сочинивший балет с таким же названием, однако уже в год премьеры версия Чайковского и Мариуса Петипа была признана выдающейся и заняла почётное место в ряду мировых шедевров балетного искусства.
В наше время почти каждый балетмейстер, осуществляющий новую редакцию "Спящей красавицы", создает и новый вариант её партитуры.
7. "Пиковая дама" (1890)
В 1887 году администрация Императорского Театра предложила Чайковскому написать оперу на сюжет, созданный Иваном Всеволожским на основе повести Пушкина. Композитор отказался по причине отсутствия в сюжете "должной сценичности", однако два года спустя всё же принял заказ и с головой погрузился в работу.
Скачать видео
Вскоре после российской премьеры опера "перекочевала" в репертуар многих театров Европы и Америки, где исполнялась на русском, чешском и немецком языках.
8. "Щелкунчик" (1892)
Новаторский балет по мотивам сказки Эрнста Теодора Гофмана "Щелкунчик и мышиный король" занимает особое место среди поздних произведений Чайковского и балетного искусства в целом.
С началом Первой мировой войны и ростом патриотических настроений сюжет балета русифицировался, и главная героиня Мари стала зваться Машей. Фрица при этом переименовывать не стали.
Скачать видео
В начале 1892 года Чайковский осуществил давнюю мечту - устроиться в деревне под Москвой, и переехал в Клин. Здесь он создал бессмертную Шестую симфонию. После её премьеры в октябре 1893 года он и скончался.
В 1921 году дом Чайковского был превращён в музей, а во время оккупации - разграблен и осквернён фашистами: мемориальные комнаты композитора были превращены в казармы на 100 солдат. Тотчас же после освобождения города 15 декабря 41-го были зафиксированы злодеяния европейских варваров, и начались работы по восстановлению Дома-музея.
Он снова был открыт уже в начале 1942 года. Сегодня это один из лучших музеев Подмосковья.
Похоронен в Александро-Невской лавре в Некрополе мастеров искусств.
Отправить по электронной почтеНаписать об этом в блогеОпубликовать в TwitterОпубликовать в FacebookПоделиться в Pinterest
Ярлыки: #Чайковский175, библиотека № 11 города Калуги
Место: улица Болотникова, 15, Калуга, Калужская область, Россия, 248018
iblioteka11kaluga.blogspot.com/2015/07/1840-1893.html
|
Метки: чайковские |
Пётр Ильич Чайковский 1840 - 1893 |
Пётр Ильич Чайковский 1840 - 1893
«Музыка – это самый сильный вид магии»
Чайковский родился в Предуралье, в городе Воткинске.
Пётр Ильич сошёл в могилу довольно молодым — в 53,5 года, и с самого 1893 года, когда на потрясённый мир обрушилось это известие, люди задаются вопросом: «От чего он умер?». Но, как ни парадоксально, на этот вопрос не может быть однозначного ответа. Загадка в том, что, с одной стороны, Чайковский панически боялся смерти. А с другой — были моменты, когда он страстно хотел уйти из жизни. «Я знаю, — исповедался он однажды своей сестре, — что рано или поздно не в силах буду бороться с трудной стороной жизни и разобьюсь вдребезги...». Не может ли разгадка этого трагического парадокса крыться в самом происхождении великого русского композитора? Не могло ли быть так, что могучие предки, дав композитору многое, чем-то и обделили его?
Происхождение. Семья
Близкие Петра Ильича считали основателем рода Чайковских запорожского казака Емельяна по прозвищу «Чайка». Жил он в селе Троицком (впоследствии — Николаевка или — по-украински — Миколаевка, затем Фрунзовка Глобинского района Полтавщины). Емельян будто бы умел подражать голосам птиц. В азовских казачьих походах он якобы зазывал чаек лететь за казацкими ладьями, а когда начинался шторм, птицы-чайки устремлялись к берегу показывая направление людям. Прозвище «Чайка» и Емельяновы способности передались родственникам казака, многие из них были мастера петь, танцевать, играть на бандуре. Теперь уже, видимо, точно не узнать, был ли в числе тех родственников казак Фёдор Афанасьевич Чайка (прадед Петра Ильича), но он тоже жил в Николаевке, хотя родился не там, а переселился с семьёй из села Манжелайки, отстоявшего от Николаевки на 12 вёрст. Можно предположить, что Фёдор Чайка был племянником Емельяна, хотя казаков по фамилии «Чайка» на Полтавщине было великое множество. Уж точно в Николаевке родился второй сын Фёдора Чайки Пётр, которому на роду было написано стать дедом гениального Петра Ильича и основателем дворянской династии Чайковских.
В Центральном государственном историческом архиве Украины хранится перепись хозяйства казака Фёдора Афанасьевича Чайки, произведённая по случаю его смерти. В ней со слов вдовы Анны Чайчихи указывалось, что звания мужа, переехавшего из города Омельницы, она не знает, сын же «Пётр находится в Киеве в училищах и школах латинских, [ему] 18 лет».
Краевед В.Пролеева нашла в Российском государственном архиве древних актов датированное 1769-м годом прошение на высочайшее имя императрицы Екатерины II. Студент Киевской академии Пётр Фёдоров сын Чайковский (в академии, куда Фёдор Афанасьевич отдал самого толкового из своих пятерых сыновей, тот стал зваться не «Чайкой», а благозвучнее — «Чайковским») просит определить его в обучение лекарскому делу.
Таким образом, наиболее вероятным представляется, что род Чайковских берёт начало в среде украинского казачества. Однако есть некоторые основания предполагать и польское происхождение рода тех Чайковских, к которому принадлежал Пётр Ильич, — этого не исключал, например, его брат Модест. В «Бархатной книге» с родословиями российских князей и дворян, начатой ещё в годы царствования Фёдора Алексеевича (1676-1682), сказано: «Чайковские родом из Польши, своё название приняли от выехавшего Ероша Чайковского». От этого поляка проистекло многочисленное потомство. В 1813-1894 годах в губерниях Малой и Белой Руси жило около сорока семей Чайковских. Сам Пётр Ильич, как никто другой из его родни, раздражался и сердился, когда заходила речь об украинских и особенно польских корнях их фамилии. Он впадал в довольно сильную ажитацию, доказывая, что в его музыке повсеместно присутствует «русское», и называл себя «русским в самом истинном смысле этого слова». Зачем он в такой гиперболизированной, категорической форме подчёркивал свою русскость, — Бог весть. Никто из наших других композиторов — Глинка, Римский-Корсаков, Прокофьев — подобными заявлениями не отметились. И это при том, что Пётр Ильич прекрасно знал о малороссийских корнях (польские он категорически отрицал) собственного рода по отцовской линии и о французских — по материнской. Вдобавок он систематически использовал в своих сочинениях украинские народные напевы, наследуемые по линии отца, а мать — обрусевшую француженку — любил трогательно и безоглядно. Наконец, видимо, Пётр Ильич всё-таки знал первородную фамилию (прозвание) прадеда: известны дарственные фотографии композитора с совсем не случайной, надо полагать, надписью: «от Чайки». Поэтому странноватым кажется утверждение Пётра Ильича, будто о своих предках со стороны отца знает лишь, кто был его дед, «а засим моё генеалогическое древо теряется во мраке неизвестности». Ещё гуще, по-видимому, был тот «мрак неизвестности», в котором терялось для Чайковского родословие его матери.
Дед
Пётр Фёдорович Чайковский (1745-1818) учился в Киевской академии. В 1769 году двадцати пяти лучшим выпускникам предоставили право обучаться «медико- хирургическим и фармацевтическим наукам», одновременно призвав в армию. Так «Пётр Фёдоров сын Чайковский» попал в Санкт-Петербургский генеральный военно- сухопутный госпиталь, а через два года в чине армейского подлекаря был направлен во Владимирский пехотный полк для участия в Русско-турецкой войне 1768-1774 годов. В 1777 году полк был передислоцирован в Пермь, и вскоре после этого Пётр Фёдорович вышел в отставку. «На гражданке» он обосновался сначала в Кунгуре Пермской губернии, работая там городовым лекарем, затем в городке Слободской Вятской губернии (ныне — Кировской области). В 1785 году по Указу императрицы Екатерины II «О дворянской книге» отставной штабс - лекарь и действительный городовой лекарь Чайковский как чиновник 8 класса был причислен к дворянскому сословию.
С 1795 года началась ответственная административная служба деда Чайковского — в этот год он вступил в должность городничего городка Слободской в 40 километрах от Вятки. «Здесь и сейчас» случилось событие даже не российского, а всемирного, планетарного масштаба: Чайковские — Пётр Фёдорович и его жена Анастасия Сте¬пановна (в девичестве — Посохова) 20 июля указанного года произвели на свет будущего отца нашего музыкального гения— Илью Петровича.
Через год для усиления управления городом Глазовом Петра Фёдоровича переводят туда городничим. К этому времени он уже обременён большой семьёй — у Чайковских было семеро детей и ожидался восьмой. Из архивных документов, отображённых в книге «Чайковский и Удмуртия» (2001 год), видно, что дед Чайковского был человеком хозяйственным, аккуратным, в финансовых делах соблюдал осторожность и честность, давал отпор жульническим проделкам, пьянству и кражам, перед начальством не прогибался, был нетерпим к обману и несправедливости, не¬изменно оставаясь честным на службе и скромным в быту. При Петре Фёдоровиче в Глазове была построена ратуша, первая больница, проведена детальная разметка улиц и кварталов.
Умер он, находясь в должности, в 1818 году.
То, что Пётр Ильич сказал о своём деде, а именно: «В точности решительно не знаю, кто были мои предки со стороны отца. Мне известно, что мой дед был врач и служил в Вятской губернии», — вызывает удивление. Как-то не верится, что внук даже не слыхивал о том, что дед занимал общественное положение значительно более высокое, нежели городской врач. Не слыхивал один из всей семьи? Странно... А на малой родине Петра Чайки, во Фрунзовке, чужие ему люди из поколения в поколение многие годы вспоминали сына казака Фёдора из их села, который «во всём толк имел, вышел в большие люди», и были положительно горды земляком.
Отец
Всем своим детям глазовский городничий дал превосходное по тем временам образование; они отличались отзывчивостью, приятными манерами, честностью.
Последний из пятерых сыновей городничего Чайковского Илья, 1795 года рождения, в 1811 году поступил в Санкт-Петербургский горный кадетский корпус. В 1817 году в возрасте двадцати двух лет окончил его с Большой серебряной медалью, был произведён в офицеры и принят на службу в Департамент горных и соляных дел. Энергичный и эрудированный горный инженер был незамедлительно кооптирован в члены Учёного комитета департамента и по совместительству преподавал горную статистику и горное законоведение в своей alma mater.
Четверть века спустя Илья Петрович возвратился в родной Вятский край, будучи уже довольно крупным профессионалом в горных делах. В 1837 году его назначили начальником Камско-Воткинского железоделательного завода общероссийского значения. Все 11 лет пребывания его на этом ответственном и трудном посту сын оставался достойным своего родителя талантливым инженером-новатором, неотступно внедрявшим новые научные и технологические идеи, умелым хозяином обширного «дворянского имения», каковым, по сути, был образованный ещё в 1828 году особый Камско-Воткинский горный округ. К чести Ильи Чайковского, он неустанно заботился о сохранении лесных угодий, о развитии культуры и образования населения в округе.
В 1827 году Илья Петрович женился на Марии Карловне Кайзер, а через два года они обзавелись дочерью Зинаидой. Однако семейное счастье оказалось очень недолгим: когда Зине было всего два года, её матери не стало. В 1833 году чадолюбивый Илья вновь вступил в брак. Его второй женой и матерью ещё семерых детей, в их числе и Петра Ильича, сделалась обрусевшая француженка Александра Андреевна Ассиер.
Когда Илье Чайковскому отцу перевалило за 50, он стал побаливать и в 1848 году написал прошение об освобождении от должности и выходе в отставку. К этому времени он уже был в чине полковника. Столичный департамент с неохотой удовлетворил прошение, назначив ему при этом генеральское содержание за заслуги перед Отечеством. Со всем своим семейством новоявленный генерал-майор переехал в Петербург. Но всего через год выяснилось, что пенсии недостаточно для более или менее достойной жизни вдевятером, и кормилец поступил на службу управляющим негосударственным Алапаевским заводом на Урале. Но в Алапаевске Чайковские пробыли недолго — всего четыре года. В1852 году всё ухудшавшееся здоровье Ильи Петровича вынудило семью навсегда оставить провинцию и вновь поселиться в Петербурге. В это время Пётр Ильич уже третий год «протирал штаны» за партой нелюбимого им Училища правоведения. Возможно, увеличенная сумма пенсии шесть лет позволяла семье жить вполне достойно, но расходы росли, и её главе опять пришлось вернуться к работе, на сей раз в качестве директора Петербургского технологического института. А с 1863 года и до самой смерти в 1880 году отец не работал, наслаждаясь покоем и радуясь успехам своих по-разному даровитых сыновей.
Знавшие Илью Петровича отмечали его необычайную чувствительность, мягкость и любвеобильность. Эти свойства отца передались всем его чадам, и в первую очередь — Петру. Своих жён и детей Илья Петрович любил самозабвенно.
Мать
Александра Андреевна Чайковская была француженкой. В дореволюционные времена русские мужчины с определённым весом в обществе довольно часто брали жён иностранного происхождения. Время показало, что отпрыски таких «интернациональных» браков делом своей жизни часто выбирали творчество.
Госпожа Чайковская родилась в 1813 году. Она была на 18 лет моложе мужа, и происходила из семьи осевших в России французских гугенотов по фамилии Ассье (Ассиер). Её рано умерший отец (мать скончалась ещё раньше, когда дочери было 3 года) Андрэ Ассье (Андрей Михайлович Ассиер) занимал видный пост в Таможенной службе. Чайковская получила вполне приличное образование в столичном Училище-интернате женских сирот (впоследствии — Патриотический институт), где в числе преподававшихся предметов были риторика, география, история литературы, элементарная математика, музыкальная грамота и педагогика. Ярко выраженных музыкальных склонностей у неё не было, но она хорошо играла на фортепиано простенькие мелодии и неплохо пела. Она прекрасно вела хозяйство большой семьи Чайковских (кроме своих детей, Илья Петрович и Александра Андреевна воспитывали двух племянниц главы семьи — рано лишившихся матерей дочку брата и дочку сестры. Деятельную помощь в воспитании детей оказывала «сестрица» — Наталия Васильевна Попова, племянница Ильи Петровича.
Высокая, ладно сложенная, с каждыми новыми родами полневшая Александра Андреевна пленяла всех добротой. Однако доброта её, в сравнении с постоянной приветливостью мужа была строгой, выражавшейся преимущественно в поступках, а не в словах.
Петра (Петечку, Пьера) и отец, и мать выделяли из всех: «наш общий любимец», «жемчужина семьи», «наше сокровище», «стеклянный мальчик». К сожалению, матери не довелось стать свидетельницей успехов обожаемого ею сына на композиторском поприще — Александра Андреевна скончалась в 1854 году от холеры в возрасте всего- навсего сорока лет.
Наследием предков в Петре Ильиче нужно признать необычайную нервность, доводившую его в молодые годы до припадков, а в зрелые — выражавшуюся в частых истериках. Ею он, вероятнее всего, обязан деду со стороны матери, который страдал нервными припадками, пограничными с эпилептическими. Если, по уверениям некоторых психоаналитиков, гений есть своего рода психоз, то, может быть, вместе с истеричностью Петру Ильичу передался и музыкальный талант французов Ассиеров, подкреплённый несомненной музыкальной наследственностью его малороссийских предков. Интересно, что в роду композитора нет имён, как-нибудь связанных с профессиональным музыкальным искусством (в отличие, скажем, от Моцарта или Штрауса). До этого в роду Чайковских были лишь дилетанты: дядя Михаил Андреевич Ассиер, который почти виртуозно играл на фортепиано, тётя Екатерина Андреевна (в замужестве Алексеева) — в своё время весьма известная в петербургских салонах самодеятельная певица, да мать Александра Андреевна, очень выразительно и тепло исполнявшая модные в то время арии и романсы.
Братья и сёстры
У Петра Ильича было четыре брата и три сестры.
Брат Николай (1838-1910) окончил тот же Горный кадетский корпус, что и отец Илья Петрович, и всю сознательную жизнь проработал инженером-железнодорожником в Харькове. По выходе в отставку жил либо в Петербурге, либо в своём имении Уколово Курской губернии. У него был приёмный сын Георгий (1883-1935).
Брат Ипполит, «Поля» (1843-1927) в одиннадцать лет был определён пансионером Петербургского морского корпуса. Стажировался на кораблях Каспийской флотилии, до 1867 года плавал на фрегатах «Пересвет», «Дмитрий Донской», корвете «Витязь». Затем мичман Ипполит Чайковский перевёлся на коммерческие суда Русского общества пароходства и торговли, а позже стал чиновником пароходных агентств в Одессе, Таганроге и Петербурге. В 1900-х годах вышел в отставку в чине генерал-майора. В 1919 стал сотрудником дома-музея своего брата-композитора в Клину. Издатель «Дневников П.И.Чайковского». Хорошо играл на скрипке, увлекался скульптурной резьбой по дереву. По характеру Ипполит, по отзыву Петра Ильича, был «вулкан, ежеминутно готовый к извержению». Этот гротескный образ можно приписать и самому Петру Ильичу и их брату Анатолию. Петр Ильич гостил у Ипполита в Таганроге два раза.
Брат Модест, «Модя» (1850-1916) — выпускник Училища правоведения, alma mater и Петра Ильича. Драматург, поэт, переводчик, писатель (автор трёхтомного труда «Жизнь Петра Ильича Чайковского»), либреттист (в том числе опер брата «Пиковая дама» и «Иоланта»). Как юрист работал следователем в Симбирске, Черкасске Киевской губернии и Петербурге. Был наиболее близок с Петром Ильичом.
Брат Анатолий, близнец Модеста (1850-1915) — тоже питомец Училища правоведения, юрист, прокурор. Службу чиновником начал в 1869 году. Жил в Киеве, Минске, Тифлисе и Петербурге. В 1890-х годах был вице-губернатором Ревеля (ныне — Таллин), Нижнего Новгорода, дослужился до должности сенатора в чине тайного советника. Характер у него был нервический, как у Петра. «Мы оба с тобой очень нервные и оба способны видеть вещи в более мрачной окраске, чем они на самом деле есть», — писал композитор брату.
Дочь Ипполита — Татьяна (1883 — ?), в трёх замужествах: Веневитинова, Унгерн-Штернберг, Кросс. Анатолий Ильич был наделён хорошим голосом — лирическим баритоном и часто певал в кругу родственников и друзей романсы. Пётр Ильич бывал в гостях у Анатолия в Тифлисе пять раз — ежегодно в период 1886 — 1890 годов.
У сводной сестры композитора Зинаиды (1829 — 1878), в замужестве Ольховской, было пять детей. Кроме того, она принимала посильное участие, увы, не всегда благотворное, в воспитании и обучении младших братьев и сестёр.
Сестра Александра (1841 —1891), в замужестве Давыдова. С Петром Ильичом на протяжении всей своей жизни была трогательно дружна и после отъезда с мужем в 1860 году в ныне знаменитую музеем Чайковского и Пушкина Каменку в Украине состояла с братом в интенсивной переписке, он довольно часто у неё гостил.
В семье Давыдовых было трое сыновей: Дмитрий (1870 — 1930), Владимир («Боб») (1871 — 1906), Юрий (1876 — 1965) и четверо дочерей: Татьяна (1861-1887), Вера (1862 —1888), в замужестве Римская-Корсакова, Анна (1864 — 1942), в замужестве Фон Мекк, Наталия (1868 — 1957), в замужестве Римская-Корсокова Александра Ильинична, скончавшаяся совсем ещё не старой, похоронена в Санкт-Петербурге. Её второй сын «Боб» (Владимир Львович Давыдов) был любимым племянником и любовником Петра Ильича. Учился всё в том же Училище правоведения. Основатель (совместно с Модестом Ильичом) Государственного дома-музея П.И. Чайковского в Клину. Покончил жизнь самоубийством в 1906 году — застрелился, незадолго перед тем передав авторские права дяди-композитора и управление его домом-музеем Модесту Ильичу. Мотивы самоубийства загадочны, но вполне вероятно, что они кроются в сфере тяжёлых мыслей, связанных с Петром Ильичом.
Таким образом, что бы там ни было, все сыновья Ильи Петровича Чайковского весьма заметного положения — каждый в своей области, а Пётр Ильич — положения особенного. К нему рано пришло осознание исключительного места в своём семействе и своего исторического предназначения в судьбе родственников. «Милый Модя, — писал Пётр Ильич брату в 1873 году, — вообще, близится время, когда и Коля, и Толя, и Ипполит, и ты, Модя, уже не будут Чайковскими, а только братьями Чайковского. Не скрою, это-то и есть вожделенная цель моих стараний. Своим величием стирать во прах всё окружающее — не есть ли это высочайшее наслаждение?». К этому времени Пётр Ильич накопил уже значительный творческий багаж (опера «Опричник», две симфонии, увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», десятки романсов), приобрёл репутацию одарённого композитора с большим будущим, и к нему пришло понимание того, что силою обстоятельств он выдвигается на роль главы рода Чайковских.
Итак
Его музыкальные способности были очевидны, но отец настоял на том, чтобы его отдали в Петербургское училище правоведения.
В училище Чайковский подружился с Андреем Апухтиным. Позже из этой дружбы родился творческий союз. Всем известны романсы Чайковского на слова Апухтина: «Ночи безумные», «День ли царит» и другие. Кумиром для юного Чайковского стал Глинка. Опера «Иван Сусанин» покорила его на всю жизнь, он мог часами слушать её с клавиром в руках.
В 1862 году в Петербурге открылась консерватория, и двадцатидвухлетний правовед был принят в неё.
Утром он спешил в канцелярию, а после обеда - в консерваторию. 30 августа 1865 года - знаменательный день в жизни Чайковского: под управлением знаменитого Штрауса в Павловске было впервые исполнено сочинение молодого композитора - «Характерные танцы» для оркестра.
Чайковский был модником и страстным, сказали бы сейчас, шопоголиком. Он испытывал неодолимое влечение к иллюминированным витринам европейских универмагов. Обожал магазины и тратил внушительные суммы на костюмы, скроенные с парижским изыском, перкалевые сорочки, перчатки, шляпы, галстуки, запонки.
Он был настоящим бонвиваном, единственным в своем композиторском роде.
А вот мундиры титулярный советник Петр Чайковский, несколько лет прослуживший в Министерстве юстиции, ненавидел. И был абсолютно равнодушен к золотым пуговицам, стоячим воротникам с шитьем, треуголкам и шпагам. Вот только жалованья на моду едва хватало. Петр Ильич получал всего 50 рублей, на которые можно было в лучшем случае заказать костюм-тройку у столичного портного средней руки.
Вероятно, такие руки и сшили Чайковскому те самые "воскресные" (то есть самые лучшие) костюмы, в которых он запечатлен на фотографиях 1860-х годов.
В тот период Чайковский носит темные однобортные вестоны (пиджаки, обшитые тесьмой), визитки (пиджаки для менее формальной обстановки) из тонкой шерсти и сюртуки, слегка мешковатые (по французской моде того периода) панталоны, а также шелковые бабочки с едва заметными галстучными булавками. Причем мнения современников о его нарядах кардинально расходятся. По уверениям Германа Лароша, Петр Ильич пользовался услугами "дорогого портного". По мнению других друзей, "будучи беден, он не мог элегантно одеваться". Справедливости ради заметим: не все наряды Чайковского начала 1860х годов безупречны по крою и посадке. На фотографии 1860 года он позирует в откровенно тяжеловесном, с морщинами, сюртуке, никак не гармонирующем с тонкой фигурой вечно голодного молодого чиновника.
Его любимым местом для прогулок был Невский проспект, центр притяжения "фешионабилей", "онагров", "кокодесов", как звали в те времена золотую молодежь. Частенько встречали Чайковского и в Летнем саду, ресторанах театрах: там била ключом светская жизнь, которая так манила будущего композитора. Юноша имел манеры изысканные, умел красиво кланяться и приподнимать шляпу, приветствуя записных щеголей. И втайне завидовал сверстникам, потому как "не мог сделаться вполне светским человеком".
Но в конце 1861 года Чайковский резко порывает со столичным светом. То, что с ним произошло в этот период, называют "перерождением". Он решает стать композитором, превращается в послушного студиоза и начинает учиться музыке фанатично и самозабвенно. Посещает классы Русского музыкального общества, в 1862 году поступает в только что открывшуюся Санкт-Петербургскую консерваторию...
Все, кроме музыки, перестало существовать для Чайковского. Он отпустил бородку и длинные волосы (предмет насмешек и порицаний). И стал одеваться, по словам брата Модеста, "в собственные обноски прежнего франтовства".
Впрочем, не только музыка повинна в этих переменах. Петр Ильич, ничего не смысля в политике, легко попал под влияние косматой студенческой братии, наряжавшейся с показной неряшливостью. Патлы и бороды считались признаком свободомыслия и принадлежности к народникам. Кроме того, новый образ позволял неплохо экономить. Лишенный финансовой поддержки отца (тот оставил в 1863 году пост директора Технологического института), Чайковский вынужден был строго ограничить траты и даже давать частные уроки.
В декабре 1865 года он окончил консерваторию, получил диплом "вольного художника", серебряную медаль за кантату к оде Шиллера "К радости" и, что более ценно, предложение от Николая Рубинштейна стать профессором гармонии в московском отделении Русского музыкального общества.
Менять пришлось и образ жизни, и внешний облик.
Чайковский работал в Русском музыкальном обществе много и старательно, но жалованье получал мизерное и продолжал экономить. Довольствовался комнаткой в квартире своего патрона, шумного и талантливого Николая Рубинштейна, скромно обедал в дешевых дурно пахнущих трактирах и носил "какое-то отрепье", по меткому выражению брата Модеста. Но в сентябре 1866 года Петр Ильич становится профессором только что открывшейся Московской консерватории, его ежемесячное жалованье увеличивается до ста рублей. И уже в ноябре композитор жалуется брату Анатолию: "Что пишешь: отчего у меня нет денег? Их у меня бывает много, но ведь и трат ужасно много! А Боксо? А новое платье и теплое пальто?"
Это уже не скромный, застенчивый, лишь музыкой живущий профессор. Это гений, соблазненный первыми гонорарами и предвкушающий грядущую славу.
В 1870-е годы автор опер "Опричник" и "Кузнец Вакула" стал зарабатывать больше и чаще бывать в обществе. Заметно увеличился его гардероб: хорошо сшитые шерстяные вестоны и черные двубортные сюртуки, репсовые галстуки-бабочки и шелковые в тонкую белую полоску галстуки-"регата". Густая борода в стиле "неорюс" уже аккуратно острижена, волосы тщательно зачесаны. В 1872 году Чайковский обзавелся новым аксессуаром - пенсне.
Чайковский много покупал в Париже - костюмы, шляпы, перчатки, трости. Небрежное русофильство уступило место безудержной галломании, превращавшей его в ловкого фланера с полотен Эдуара Мане. В дневниках, письмах родным и друзьям он регулярно упоминал свои "безудержные траты" - три галстука, дюжину рубашек, ботинки, пальто, платье, запонки, перчатки. Десятки нужных и не очень вещей и вещиц. Костюмы шил преимущественно за границей, но в списках "поставщиков" значатся и русские мастера. К примеру, превосходная фрачная тройка, в которой Чайковский не только дирижировал, но и позировал именитым фотографам, была "построена" известным петербургским портным Тедески, клиентами которого были многие известные щеголи, в том числе великие князья.
Был у композитора и самый любимый предмет гардероба, описанный во многих мемуарах и запечатленный лучшими фотографами России и Европы - темно-синий пиджак, называвшийся в бомонде "художественным". Еще в 1860е годы он стал необыкновенно популярен среди французских любителей изящной словесности и художников. Его прославили Альфонс Кар, Стефан Малларме и парижский портной Чарльз-Фредерик Ворт.
А еще композитор носил "циммермановские" шляпы, лаконичные и ловкие головные уборы, называвшиеся так по имени их создателя - петербургского мастера Карла-Фридриха Циммермана. Его салон располагался на Невском проспекте у церкви святых Петра и Павла. В Доме-музее Чайковского хранится удивительно элегантная круглая "циммермановская" шляпа со светло-серой окантовкой и репсовой лентой.
Наш экскурс в историю был бы неполным без упоминания еще одного - и престранного - аксессуара. Болезненно мнительный, Петр Ильич всерьез верил, что когда-нибудь непременно застудит уши и оглохнет, как Бетховен. Лечащий врач Василий Бертенсон предложил композитору простой, но действенный способ - затыкать уши ватой в холодные дни. Мы вряд ли узнали бы об этом мелком штрихе биографии русского гения, если бы не рассеянность Чайковского. С ватой он являлся на концерты, светские мероприятия и позировал лучшим столичным фотомастерам. Таким и вошел в историю...
Мировую музыкальную культуру сегодня невозможно представить без таких шедевров Чайковского, как оперы «Евгений Онегин», «Пиковая дама», балетов «Лебединое озеро», «Спящая красавица», Шестой симфонии. Пётр Ильич много жил и работал за границей, но горячо признавался: «Вследствие того, что я вырос в глуши, с детства, с самого раннего, проникся неизъяснимой красотой характеристических черт русской народной музыки, что я до страсти люблю русский элемент во всех его проявлениях, что, одним словом, я русский в полнейшем смысле этого слова».
За отведённые ему 53 года композитор написал более 80 произведений, в том числе 10 опер и три балета - настоящие сокровища мировой культуры и искусства.
http://biblioteka11kaluga.blogspot.com/2015/07/1840-1893.html
1. «Времена года»
«Времена года» — известный фортепианный цикл П. И. Чайковского, состоящий из 12 характеристических картин.
Идея цикла и заглавия пьес принадлежала Н. М. Бернарду, издателю журнала «Нувеллист», с которым Петр Ильич сотрудничал с 1873 года.
Примерно в ноябре 1875 года Бернард посылает Чайковскому заказ на фортепианный цикл. Письмо Бернарда не сохранилось, однако его содержание легко себе представить на основании ответа композитора от 24 ноября 1875 года: «Получил Ваше письмо. Очень благодарен Вам за любезную готовность платить мне столь высокий гонорарий. Постараюсь не ударить лицом в грязь и угодить Вам. Я пришлю Вам в скором времени 1-ю пьесу, а может быть и разом две или три. Если ничто не помешает, то дело пойдет скоро: я очень расположен теперь заняться фортепианными пьесками. Ваш Чайковский. Все Ваши заглавия я сохраняю». Следовательно, названия пьес, то есть сюжетов-картинок были предложены композитору издателем.
2. "Славянский марш" (1876)
Марш был написан Чайковским по просьбе дирекции Русского музыкального общества и был посвящён борьбе славянских народов Балкан против Османского ига в связи с событиями Русско-турецкой войны. Сам автор долгое время называл его "Сербо-русским маршем". В марше были использованы музыкальные темы, характерные для народной музыки сербов, а также отрывки из "Боже, царя храни!".
В 1985 году немецкая хэви-метал группа Accept использовала основную тему из марша для вступления к заглавной композиции своего альбома "Metal Heart".
3. "Лебединое озеро" (1877)
В основу сюжета были положены фольклорные мотивы, в том числе старинная немецкая легенда, повествующая о прекрасной принцессе Одетте, которую злой колдун Ротбарта превратил в белого лебедя. Широко распространено мнение о том, Чайковский написал музыку к балету после посещения озера, находящегося в предгорьях Альп в окрестностях города Фюссен.
С 1877 года партитура и либретто спектакля претерпели ряд изменений. На сегодняшний день из всех существующих редакций "Лебединого озера" едва ли найдутся хотя бы две, имеющие полностью одинаковые партитуры.
У наших современников балет вызывает прочную ассоциацию с Августовским путчем – "Лебединое озеро" демонстрировали по советскому телевидению 19 августа 1991 года, отменив все запланированные передачи.
4. "Детский альбом" (1878)
Популярный сборник, носящий авторский подзаголовок "Двадцать четыре лёгкие пьесы для фортепиано", Чайковский написал в мае-июле 1878 года и посвятил его своему племяннику Володе Давыдову.
По мнению известного специалиста по творчеству Чайковского Полины Вайдман, "Детский альбом", наряду с широко известными сочинениями Шумана, Грига, Дебюсси, Равеля и Бартока вошёл в золотой фонд мировой музыкальной литературы для детей и дал толчок к созданию ряда близких по характеру и тематике фортепианных опусов.
В 1976 году на студии "Союзмультфильм" была снята анимационная картина на музыку из альбома, а ещё через 20 лет поставлен балет, ставший лауреатом Международного фестиваля 1999 года в Югославии.
5. "Евгений Онегин" (1877)
В мае 1877 года певица Елизавета Лавровская предложила Чайковскому написать оперу на сюжет пушкинского романа в стихах. Композитор так загорелся этим предложением, что просидел все ночь без сна, работая над сценарием. К утру он принялся за написание музыки. В письме к композитору Сергею Танееву Чайковский писал: "Я ищу интимную, но сильную драму, основанную на конфликте положений, мною испытанных или виденных, могущих задеть меня за живое".
В июле композитор импульсивно женился на бывшей консерваторской студентке Антонине Милюковой, которая была младше его на 8 лет. Брак распался через несколько недель, что, по мнению критиков, оказало сильное влияние на произведение.
Бывшая ученица консерватории Антонина Милюкова стала атаковать Чайковского любовными признаниями, грозила самоубийством, если не найдёт в его сердце ответа, и 6 июля 1877 года композитор дрогнул и... состоялась их свадьба. Исследователь творчества Чайковского А. Альшванг писал о Милюковой: «Она была абсолютно чужда интересам, наполнявшим жизнь композитора». Через два месяца после женитьбы Чайковский сбежал от жены. «С того времени, - пишет Альшванг, - началась скитальческая жизнь Петра Ильича. Бывая за границей, он тосковал по родине, но и в России подолгу не засиживался». Благо, что средства у него появились.
Всем этим Чайковский поделился в очередном письме к Надежде Филаретовне, которая с самого начала не одобряла брак с Милюковой, резонно считая его неравным. Она пытается успокоить испытывающего угрызения совести композитора: «Мне очень больно, Пётр Ильич, что Вы так обвиняете себя и тревожитесь состраданием к Вашей жене...» А дальше, по сути, - объяснение в любви: «Я не знаю, можете ли Вы понять ту ревность, которую я чувствую относительно Вас, при отсутствии личных отношений между нами, знаете ли, что я ревную Вас самым неизвинительным образом, как женщина любимого человека. Когда Вы женились, мне < было ужасно тяжело. Мне казалось, что она отняла у меня то, что может быть только моим, на что я одна имею право, потому что люблю Вас...»
Надежда фон Мекк, богатая вдова, была меценаткой и большой поклонницей музыки Чайковского. Между ними завязалась переписка. Зная о материальных затруднениях Петра Ильича, Надежда Филаретовна предложила ему пенсион, который для неё не был слишком обременительным, а ему давал бы возможность работать, не думая о хлебе насущном. После некоторого раздумья он согласился. Чайковский нашёл в госпоже фон Мекк истинную ценительницу музыки. Сохранилась их переписка, искренность которой не вызывает сомнений. Она длилась почти десять лет, и всё это время оба избегали личной встречи.
Уже в первом письме к композитору, датированном 18 декабря 1876 года, фон Мекк пишет: «Говорить Вам, в какой восторг меня приводят Ваши сочинения, я считаю неуместным, потому что Вы привыкли и не к таким похвалам и поклонение такого ничтожного существа в музыке, как я, может показаться Вам только смешным, а мне так дорого мое наслаждение, что я не хочу, чтобы над ним смеялись, поэтому скажу только и прошу верить этому буквально, что с Вашею музыкою живётся легче и приятнее».
Кто же она, эта удивительная женщина, сумевшая не только уже при жизни Чайковского оценить его гениальность, но и взявшая на себя бремя все эти годы оказывать ему весьма существенную материальную помощь - шесть тысяч рублей в месяц?
Н. Ф. фон Мекк (урождённая Фроловская) родилась 29 января (10 февраля) 1831 года в небогатой дворянской семье в селе Знаменском Ельнинского уезда Смоленской губернии. Как писал Модест Ильич Чайковский, брат и биограф композитора, её отец был страстным любителем музыки, замечательно играл на скрипке. И сама Надежда Филаретовна прекрасно играла на рояле. Увлечение музыкой в конечном итоге и соединило ее с Чайковским, его творчеством.
Но не будем забегать вперёд.
В январе 1848 года 16-летней девушкой она вышла замуж за Карла Фёдоровича фон Мекк, потомка старинного рода лифляндских дворян, инженера путей сообщения по профессии. Замужество не повлияло на интерес Надежды Филаретовны к музыке, благо и супруг в полной мере разделял её увлечение.
- Будучи необычайно музыкально образованным человеком, она живо интересовалась всем новым, только что появившимся, - рассказывает Полина Ефимовна Вайдман. - Состояние позволяло ей приглашать к себе известных музыкантов, чтобы разучивать с ними трио Бетховена или Рубинштейна. Представляете себе даму, которая по памяти воспроизводит темы, структуру, тональность того или иного произведения!
В их доме музыка звучала постоянно. Здесь в разное время участвовали в домашних концертах выдающиеся музыканты того времени: французский пианист и композитор Клод Дебюсси, скрипачи Генрик Венявский, Иосиф Котек, пианист и композитор Генрих Альбертович Пахульский и многие другие. Один из них - Котек, друг и ученик Чайковского, и помог фон Мекк наладить «эпистолярный контакт» с обожаемым ею композитором.
К этому времени ей, недавно овдовевшей матери одиннадцати детей, было 45 лет.
От Котека она узнала о денежных проблемах композитора и тут же попросила его уговорить Петра Ильича сделать специально для неё переложения любимых ею произведений. Это, понятно, стало поводом заплатить Чайковскому необычайно щедро. Кстати, своё самое первое письмо она начинает со слов благодарности за то, что композитор очень быстро исполнил её
|
Метки: чайковские |
М. И. Чайковский. Из семейных воспоминаний |
Чайковский
Жизнь и творчество русского композитора
М. И. Чайковский. Из семейных воспоминаний
10 августа 1895 года, г. Клин
Глава 1
 Одной из оригинальнейших и характернейших черт Петра Ильича Чайковского было иронически недоверчивое отношение к благородству своего происхождения. Он не упускал случая поглумиться над гербом и дворянской короной своей фамилии, считая их фантастическими, и с упорством, переходящим иногда в своеобразное фатовство, настаивал на плебействе рода Чайковских. Это не являлось только результатом его демократических убеждений и симпатий, но также - щепетильной добросовестности и отчасти гордости, бывших в основе его нравственной личности. Он не считал себя столбовым дворянином потому, что среди ближайших предков ни по мужской, ни по женской линии не знал ни одного боярина, ни одного вотчинного землевладельца, а в качестве крепостных собственников мог назвать только своего отца, обладавшего семьею повара в четыре души. Вполне удовлетворенный сознанием, что носит имя безукоризненно честной и уважаемой семьи, он успокоился на этом и, так как заверения некоторых его родственников о древности происхождения фамилии Чайковских никогда документально не были доказаны, предпочитал идти навстречу возможным в том обществе, среди которого он вращался, намекам на его незнатность с открытым и несколько излишне подчеркнутым заявлением своего плебейства. Равнодушный к именитости предков, он, однако, не был равнодушен к их национальности. Претензии некоторых родственников на аристократичность рода Чайковских вызывали в нем насмешку недоверия, но подозрение в польском происхождении его раздражало и сердило. Любовь к России и ко всему русскому в нем коренилась так глубоко, что даже разбивала во всех других отношениях полное равнодушие к вопросам родовитости, и он был очень счастлив, что его отдаленнейший предок с отцовской стороны был из православных шляхтичей Кременчугского повета.
Одной из оригинальнейших и характернейших черт Петра Ильича Чайковского было иронически недоверчивое отношение к благородству своего происхождения. Он не упускал случая поглумиться над гербом и дворянской короной своей фамилии, считая их фантастическими, и с упорством, переходящим иногда в своеобразное фатовство, настаивал на плебействе рода Чайковских. Это не являлось только результатом его демократических убеждений и симпатий, но также - щепетильной добросовестности и отчасти гордости, бывших в основе его нравственной личности. Он не считал себя столбовым дворянином потому, что среди ближайших предков ни по мужской, ни по женской линии не знал ни одного боярина, ни одного вотчинного землевладельца, а в качестве крепостных собственников мог назвать только своего отца, обладавшего семьею повара в четыре души. Вполне удовлетворенный сознанием, что носит имя безукоризненно честной и уважаемой семьи, он успокоился на этом и, так как заверения некоторых его родственников о древности происхождения фамилии Чайковских никогда документально не были доказаны, предпочитал идти навстречу возможным в том обществе, среди которого он вращался, намекам на его незнатность с открытым и несколько излишне подчеркнутым заявлением своего плебейства. Равнодушный к именитости предков, он, однако, не был равнодушен к их национальности. Претензии некоторых родственников на аристократичность рода Чайковских вызывали в нем насмешку недоверия, но подозрение в польском происхождении его раздражало и сердило. Любовь к России и ко всему русскому в нем коренилась так глубоко, что даже разбивала во всех других отношениях полное равнодушие к вопросам родовитости, и он был очень счастлив, что его отдаленнейший предок с отцовской стороны был из православных шляхтичей Кременчугского повета.
Звали его Федор Афанасьевич. Он ходил с Петром Великим воевать под Полтаву и в чине сотника умер от ран, оставив двух сирот. Один из них, Петр Федорович, был дед Петра Ильича. О нем известно только, что он служил городничим сначала города Слободского Вятской губернии, а потом Глазова той же губернии. В качестве статского советника и кавалера ордена Св.Владимира 4-й степени, по представлению бывшего сначала Вятским, а потом Казанским губернатором Желтухина, его приписали к дворянам Казанской губернии. Скончался он в 1818 году. П Ф был женат на Настасье Степановне Посоховой, по фамильным преданиям, дочери Кунгурского гарнизонного начальника, в 1780 году, по фамильным преданиям, повешенного Пугачевым при осаде этого города.
Брак П Ф и Н Ст был очень плодовит. У них родилось двадцать душ детей, из которых шестеро дожили до преклонных лет, а трое до глубокой старости. Старший из сыновей, Василий Петрович, начал службу в Казанском артиллерийском парке, одно время находился ординарцем при князе Платоне Зубове, затем перешел в гражданскую службу при канцелярии принца Георга Ольденбургского в Твери и умер в чине статского советника. Второй сын, Иван Петрович, служил по выходе из Второго кадетского корпуса в Петербурге в двадцатой артиллерийской бригаде, принимая участие во многих походах против неприятеля. За храбрость в сражениях при Прейсиш-Эйлау получил орден Св.Георгия 4-й степени. Убит в 1813 году под Монмартром, в Париже.
 Третий сын, Петр Петрович, поступил на службу в 1802 году. Сперва служил в лейб-гвардии гренадерском полку, а потом в армии. В разное время и в разных должностях принимал участие в 52 сражениях с неприятелем: в турецких кампаниях 1804 и 1829 годов и во французских - в 1805, 1812 и 1814 годах. Из всей своей боевой службы вынес несколько тяжелых ран (считался раненым первого разряда) и орден Св.Георгия 4-й степени за храбрость. Впоследствии он был комендантом в Севастополе в 1831 году, затем директором Пятигорских Минеральных вод. Умер в глубокой старости в 1871 году в чине генерал-майора в отставке. Женат был на Елизавете Петровне Беренс и имел восемь человек детей. Мы вернемся к характеристике этого человека, потому что он и семья его играли большую роль в жизни Петра Ильича.
Третий сын, Петр Петрович, поступил на службу в 1802 году. Сперва служил в лейб-гвардии гренадерском полку, а потом в армии. В разное время и в разных должностях принимал участие в 52 сражениях с неприятелем: в турецких кампаниях 1804 и 1829 годов и во французских - в 1805, 1812 и 1814 годах. Из всей своей боевой службы вынес несколько тяжелых ран (считался раненым первого разряда) и орден Св.Георгия 4-й степени за храбрость. Впоследствии он был комендантом в Севастополе в 1831 году, затем директором Пятигорских Минеральных вод. Умер в глубокой старости в 1871 году в чине генерал-майора в отставке. Женат был на Елизавете Петровне Беренс и имел восемь человек детей. Мы вернемся к характеристике этого человека, потому что он и семья его играли большую роль в жизни Петра Ильича.
Четвертый сын, Владимир Петрович, служил в белостокском армейском пехотном полку. Впоследствии занимал должность городничего в г.Оханске Пермской губернии. Скончался в 1850 году. Женат был на Марье Александровне Каменской и имел трех сыновей и дочь Лидию, подругу детства П Иа.
Младшим из сыновей был Илья Петрович, отец композитора. Кроме сыновей, у Петра Федоровича было четыре дочери, по замужеству: Еврейнова, Попова, Широкшина и младшая из всех детей - Антипова.
Из краткого обзора деяний представителей в прошлом рода Чайковских, по мере сил честно исполнявших свой долг перед родиной, можно видеть, до какой степени Петр Ильич был прав, довольствуясь тем, что подлинно известно о его старейших родичах, и не гоняясь за геральдическими побрякушками, которые к доброй и безупречной памяти их ничего не прибавили бы.
По матери П И имел дедом Андрея Михайловича Ассиера, католика французского происхождения, но явившегося в Россию из Пруссии, куда отец его эмигрировал, кажется, во времена большой французской революции. Приняв русское подданство, А М, благодаря общественным связям и своему образованию, особенно замечательному по знанию языков, вскоре занял заметное положение. В последнее время жизни служил по таможенному ведомству и умер в чине действительного статского советника в двадцатых годах.
 Женат он был два раза. В первый раз на дочери диакона Екатерине Михайловне Поповой, умершей в 1816 году. От этого брака А М имел двух сыновей, получивших воспитание в Пажеском корпусе: Михаила, служившего в офицерах лейб-гвардии гренадерского полка, и Андрея, числившегося в рядах Кавказской армии. Первый умер молодым, а второй - в чине полковника в восьмидесятых годах. Кроме них, от этого же брака было две дочери: Екатерина, в замужестве за генерал-майором Алексеевым, и Александра, мать композитора.
Женат он был два раза. В первый раз на дочери диакона Екатерине Михайловне Поповой, умершей в 1816 году. От этого брака А М имел двух сыновей, получивших воспитание в Пажеском корпусе: Михаила, служившего в офицерах лейб-гвардии гренадерского полка, и Андрея, числившегося в рядах Кавказской армии. Первый умер молодым, а второй - в чине полковника в восьмидесятых годах. Кроме них, от этого же брака было две дочери: Екатерина, в замужестве за генерал-майором Алексеевым, и Александра, мать композитора.
Во второй раз А М был женат на Амалии Григорьевне Гогель и имел одну дочь, Елизавету, в замужестве за жандармским полковником Шобертом.
Оба дяди с материнской стороны не занимают никакого места в жизнеописании Петра Ильича, поэтому здесь будет кстати сказать только о старшем из них, что он унаследовал от своего отца, Андрея Михайловича, нервные припадки, очень близкие к эпилепсии, и еще, что был недурным дилетантом в музыке, а затем проститься с их именами.
Совсем другое дело - обе тетки. И Екатерина, и Елизавета были очень близки к П И, и поэтому нам часто прийдется возвращаться к их характеристике.
Интересно остановить внимание читателя на том факте, что в перечне родственников композитора по восходящей линии нет ни одного имени, которое как-нибудь было связано с музыкальным искусством. Между ними не только нет ни одного специалиста по этой части, но даже, по имеющимся сведениям, дилетантами музыки являются только три лица: Михаил Андреевич Ассиер (мило игравший на фортепиано), Екатерина Андреевна, прекрасная, в свое время известная в петербургском обществе любительница - певица, и мать композитора, Александра Андреевна, уступавшая сестре в силе голоса, но все же очень выразительно и тепло певшая модные в то время романсы и арии. Все остальные члены родов как Чайковских, так и Ассиеров не выказывали музыкальных способностей и даже питали полнейшее равнодушие к музыке.
Здесь уместно сказать, что среди родных одного с П И поколения, а также и нисходящего, составляющих в общей сложности приблизительно человек восемьдесят, едва можно насчитать десять с несомненною музыкальностью, хотя весьма поверхностного свойства; причем эти немногие лица принадлежат почти поровну как к родственникам с отцовской, так и материнской стороны. Таким образом, если музыкальные способности были унаследованы Петром Ильичом, то решительно невозможно сказать даже предположительно, по мужской ли или по женской линии. Огромное большинство остальных родных отличается каким-то исключительным индифферентизмом к музыке, почти соприкасающимся с отвращением к ней.
Единственным вероятным наследием предков у П И можно отметить его выходящую из ряда вон нервность, в молодые годы доходившую до припадков, а в зрелые - выражавшуюся в частых истериках, которую, весьма правдоподобно, он получил от деда Андрея Михайловича Ассиера, как уже сказано, почти эпилептика.
Если, по уверению некоторых современных ученых, гений есть своего рода психоз, то, может быть, вместе с истеричностью к Чайковскому перешел и музыкальный талант от Ассиеров.
Глава II.
 О детстве и юности отца композитора, Ильи Петровича Чайковского, не сохранилось никаких сведений. Сам он в старости не только почти никогда не говорил о ранних годах своей жизни, но и не любил, когда его о них расспрашивали. Ошибочно было бы заключить, что причиной этому были какие-нибудь тяжкие воспоминания. И П вообще избегал занимать других своей особой и, если поминал старину, то ради курьезности какого-нибудь происшествия да, разве, желая изредка поделиться с присутствующими давно минувшей радостью или тревогой, причем, как свойственно старикам, он делал это, предполагая, что все предшествующее рассказу и последующее хорошо известно слушателям. Когда же этого не обнаруживалось и его начинали расспрашивать, он выражал нетерпение и даже легкую досаду. Если, предположим, повествование начиналось: "Когда маменька поехала к сестрице Авдотье Петровне в Вятку..." - то остановить его, узнать, зачем в Вятку, кто был муж Авдотьи Петровны и проч., значило огорчить старичка; приходилось мириться с этим неопределенным указанием времени происшествия. К правильному же, последовательному рассказу не только всей своей жизни, но даже какой-либо отдаленной эпохи И П никогда не приступал. Однажды, впрочем, по просьбе сыновей, главным образом Петра Ильича, он принялся было за мемуары, но, написав краткий перечень предков и членов своей семьи, из которого я извлек начало предшествующей главы, остановился, когда дошел до своего имени, и далее продолжать не мог или не хотел. Скорее последнее, чем первое. И П прекрасно владел пером, и стиль его писем, простой, ясный, сжатый и картинный, не оставляет желать ничего лучшего. В подтверждение же того, что углубляться в воспоминания минувшего ему было тяжко без всяких к тому поводов в самих воспоминаниях, можно привести следующее. Года за четыре до кончины он встретился с неким Александром Александровичем Севастьяновым, приятелем настолько близким, что тот был шафером на его свадьбе с А А, с которым около пятидесяти лет не виделся. Радости Севастьянова не было границ. Он забросал Илью Петровича расспросами и вскоре перешел к воспоминаниям счастливой поры молодости. Приятели условились встречаться как можно чаще, и посещения Севастьянова стали чуть не ежедневными. И П со свойственной ему ласковостью обошелся при первых свиданиях со старинным другом, но когда после обмена рассказов о том, что с ними произошло во время разлуки, беседы перешли исключительно к воспоминаниям давно минувших радостей, Илья Петрович стал страшно тяготиться этими посещениями, они прямо причиняли ему какие-то страдания, он стал грустить. Всегда со всеми такой общительный, приветливый, он начал так тревожиться, чуть ли не бояться своего современника, что изменил себе и обошелся с ним столь холодно, что бедный Севастьянов, так радовавшийся взаимности коротать часы в пребывании воспоминаний отрадного прошлого, должен был расстаться с этим удовольствием. Приятели снова разошлись, но уже с тем, чтобы на земле более никогда не встретиться.
О детстве и юности отца композитора, Ильи Петровича Чайковского, не сохранилось никаких сведений. Сам он в старости не только почти никогда не говорил о ранних годах своей жизни, но и не любил, когда его о них расспрашивали. Ошибочно было бы заключить, что причиной этому были какие-нибудь тяжкие воспоминания. И П вообще избегал занимать других своей особой и, если поминал старину, то ради курьезности какого-нибудь происшествия да, разве, желая изредка поделиться с присутствующими давно минувшей радостью или тревогой, причем, как свойственно старикам, он делал это, предполагая, что все предшествующее рассказу и последующее хорошо известно слушателям. Когда же этого не обнаруживалось и его начинали расспрашивать, он выражал нетерпение и даже легкую досаду. Если, предположим, повествование начиналось: "Когда маменька поехала к сестрице Авдотье Петровне в Вятку..." - то остановить его, узнать, зачем в Вятку, кто был муж Авдотьи Петровны и проч., значило огорчить старичка; приходилось мириться с этим неопределенным указанием времени происшествия. К правильному же, последовательному рассказу не только всей своей жизни, но даже какой-либо отдаленной эпохи И П никогда не приступал. Однажды, впрочем, по просьбе сыновей, главным образом Петра Ильича, он принялся было за мемуары, но, написав краткий перечень предков и членов своей семьи, из которого я извлек начало предшествующей главы, остановился, когда дошел до своего имени, и далее продолжать не мог или не хотел. Скорее последнее, чем первое. И П прекрасно владел пером, и стиль его писем, простой, ясный, сжатый и картинный, не оставляет желать ничего лучшего. В подтверждение же того, что углубляться в воспоминания минувшего ему было тяжко без всяких к тому поводов в самих воспоминаниях, можно привести следующее. Года за четыре до кончины он встретился с неким Александром Александровичем Севастьяновым, приятелем настолько близким, что тот был шафером на его свадьбе с А А, с которым около пятидесяти лет не виделся. Радости Севастьянова не было границ. Он забросал Илью Петровича расспросами и вскоре перешел к воспоминаниям счастливой поры молодости. Приятели условились встречаться как можно чаще, и посещения Севастьянова стали чуть не ежедневными. И П со свойственной ему ласковостью обошелся при первых свиданиях со старинным другом, но когда после обмена рассказов о том, что с ними произошло во время разлуки, беседы перешли исключительно к воспоминаниям давно минувших радостей, Илья Петрович стал страшно тяготиться этими посещениями, они прямо причиняли ему какие-то страдания, он стал грустить. Всегда со всеми такой общительный, приветливый, он начал так тревожиться, чуть ли не бояться своего современника, что изменил себе и обошелся с ним столь холодно, что бедный Севастьянов, так радовавшийся взаимности коротать часы в пребывании воспоминаний отрадного прошлого, должен был расстаться с этим удовольствием. Приятели снова разошлись, но уже с тем, чтобы на земле более никогда не встретиться.
И П воспитывался в Горном кадетском корпусе, где кончил курс наук с серебряной медалью в 1817 году, 22 лет от роду, и 7 августа того же года был зачислен с чином шахтмейстера 13-го класса на службу по Департаменту горных и соляных дел. Карьера его с внешней стороны была не из самых блестящих, судя по тому, что он, проходя чины бергшворена 12-го класса, гиттенфервальтера 10-го класса, маркшейдера 9-го, гиттенфервальтера 8-го и обербергмейстера 7-го класса, только в 1837 году, т.е. двадцать лет после окончания курса, дослужился до полковника, но, судя по роду занимаемых им должностей, по тому, что тридцати лет он уже состоял членом Ученого комитета по горной и соляной части, а с 1828 по 1831 год преподавал в высших классах Горного корпуса горную статистику и горное законоведение, видно, что в своей специальности он был добросовестный и способный труженик.
 В других отношениях это был, как он сам говаривал, "интересный блондин с голубыми глазами", необыкновенно, по отзывам всех знавших его в то время, симпатичный, жизнерадостный и прямодушный человек. Доброта или, вернее, любвеобильность составляла одну из главных черт его характера. В молодости, в зрелых годах и в старости он одинаково совершенно верил в людей и любил их. Ни тяжелая школа жизни, ни горькие разочарования, ни седины не убили в нем способность видеть в каждом человеке, с которым он сталкивался, воплощение всех добродетелей и достоинств. Доверчивости его не было границ, и даже потеря всего состояния, накопленного с большим трудом и утраченного благодаря этой доверчивости, не подействовала на него отрезвляюще. До конца дней всякий, кого он знал, был "прекрасный, добрый, честный человек". Разочарования огорчали его до глубины души, но никогда не в силах были поколебать его светлого взгляда на людей и на людские отношения. Благодаря этому упорству в идеализации ближних, как уже сказано, И П много пострадал, но, с другой стороны, редко можно найти человека, который имел в своей жизни так много преданных друзей, которого столькие любили за неизменную ласку и приветливость обращения, за постоянную готовность войти в положение другого.
В других отношениях это был, как он сам говаривал, "интересный блондин с голубыми глазами", необыкновенно, по отзывам всех знавших его в то время, симпатичный, жизнерадостный и прямодушный человек. Доброта или, вернее, любвеобильность составляла одну из главных черт его характера. В молодости, в зрелых годах и в старости он одинаково совершенно верил в людей и любил их. Ни тяжелая школа жизни, ни горькие разочарования, ни седины не убили в нем способность видеть в каждом человеке, с которым он сталкивался, воплощение всех добродетелей и достоинств. Доверчивости его не было границ, и даже потеря всего состояния, накопленного с большим трудом и утраченного благодаря этой доверчивости, не подействовала на него отрезвляюще. До конца дней всякий, кого он знал, был "прекрасный, добрый, честный человек". Разочарования огорчали его до глубины души, но никогда не в силах были поколебать его светлого взгляда на людей и на людские отношения. Благодаря этому упорству в идеализации ближних, как уже сказано, И П много пострадал, но, с другой стороны, редко можно найти человека, который имел в своей жизни так много преданных друзей, которого столькие любили за неизменную ласку и приветливость обращения, за постоянную готовность войти в положение другого.
По образованию и умственным потребностям И П не выделялся из среднего уровня. Превосходный специалист, он, вне своего дела, удовлетворялся очень немногим. В сфере наук и искусств далее самого поверхностного дилетантизма он не заходил, отдавая преимущество музыке и театру. Играл в молодости на флейте, вероятно, неважно, потому что очень рано, до женитьбы еще, бросил это занятие. Театром же увлекался до старости. Восьмидесятилетним старцем он почти еженедельно посещал какой-нибудь из театров, причем почти каждый раз представлением до слез, хотя бы пьеса ничего умилительного не представляла.
 11 сентября 1827 года И П женился на Марье Карловне Кейзер. В 1829 году от этого брака у него родилась дочь Зинаида. В начале тридцатых годов он овдовел и в 1833 году 1 октября снова вступил в брак с девицей Александрой Андреевной Ассиер.
11 сентября 1827 года И П женился на Марье Карловне Кейзер. В 1829 году от этого брака у него родилась дочь Зинаида. В начале тридцатых годов он овдовел и в 1833 году 1 октября снова вступил в брак с девицей Александрой Андреевной Ассиер.
О детстве и ранней молодости А А столь же мало известно, как и о жизни этой же поры ее супруга. Родилась она . В 1816 году уже потеряла свою мать и в 1819 году 23 октября была отдана в Училище женских сирот (ныне Патриотический институт), где и кончила курс наук в 1829 году.
Судя по сохранившимся тетрадкам А А, образование в этом училище давалось очень хорошее. И содержание их, и стиль, и наконец безукоризненная грамотность ученицы доказывают это. Кроме того, заботливое хранение их говорит одинаково в пользу приемов преподавания, очевидно, оставивших в девушке отрадное впечатление, а также в пользу отношений последней к приобретенным познаниям.
 В тетради Риторики сохранились заметки А Аны о последних днях в институте: "1829 года 9-го генваря, в среду с 6-ти часов до 8-ми мы в последний раз брали урок истории у г-на Плетнева за 12 дней перед выпуском. Возле меня сидела Саша Висковатова с правой стороны, Мурузи - с левой.
В тетради Риторики сохранились заметки А Аны о последних днях в институте: "1829 года 9-го генваря, в среду с 6-ти часов до 8-ми мы в последний раз брали урок истории у г-на Плетнева за 12 дней перед выпуском. Возле меня сидела Саша Висковатова с правой стороны, Мурузи - с левой.
11-го генваря 1829 года утром, в пятницу, с 8-ми до 12-го часу мы в последний раз брали урок географии и арифметики у Постникова, после обеда в последний раз пели у Марушина, вечером же, когда мы были у Тилло, то пришли Ломон и Яковлев укладывать работы. 12-го генваря, в субботу, утром с 10-ти до 12-ти была в последний раз музыкальная генеральная репетиция уже в голубой зале. Г-н Плетнев также приезжал слушать наше прощание; когда мы кончили петь прощание, то г-н Плетнев сказал г-ну Доманевскому, сочинителю нашего прощания: "Очень рад, что вы умели дать душу моим словам". Ах! Это была последняя, последняя репетиция. Мы также пели тогда концерт с музыкой; но никогда не забуду я музыки "Да исправится".
После обеда мы были последний раз у Плетнева в классе литературы, а вечером в 6 часов последний раз у Тилло. 13-го генваря, в воскресенье, после обеда мы были в последний раз у Вальпульского, а вечером в 6 часов последняя репетиция была у Шемаевой, было десять музыкантов, и в том числе играли на несравненном инструменте, т.е. на арфе. 14-е - день экзамена, утром был Батюшка, и это было последний раз, что мы сидели в классах, последний раз в жизни!"
Так тщательно хранят только то, чем дорожат. Хорошей рекомендацией этого заведения служит и то обстоятельство, что А А покинула его с прекрасным знанием французского и немецкого языков. Очень может быть, что она его приобрела еще в детстве в доме отца, полуфранцуза, полунемца, но хорошо уже и то, что училище не заглушило этих знаний, как это бывает в современных учебных заведениях, где не только живым языкам не выучиваются, но и забывают их, если до поступления знали хорошо. Если прибавить к этому, что А А играла на фортепиано и очень мило пела, то в результате можно сказать, что для девушки небогатой и незнатной образование ее было вполне удовлетворительно. Во всяком случае, в общекультурном отношении она превосходила своего мужа если не по сумме знаний, то по умственным стремлениям и потребностям. Живя вдали от столиц, в глуши, она не переставала интересоваться литературой и искусством, выписывала французский журнал "Revue etrangere" и составила для женщины по тем временам хорошую библиотеку.
 По свидетельству лиц, ее знавших, это была женщина высокая, статная, не особенно красивая, но с чарующим выражением глаз и наружностью, невольно останавливающею внимание. Решительно все, кто видел ее, единогласно утверждают, что во внешности ее было что-то исключительно притягательное. Фанни Дюрбах, гувернантка ее старших детей, и поныне здравствующая в г.Монбельяре, во Франции, рассказывает, что, приехав в первый раз в Россию, 22 лет от роду, она очень нерешительно относилась к предлагаемым ей местам. Настолько, что без всяких особенно важных поводов отказывалась от блестящих в денежном отношении предложений, но увидав А А, с первого взгляда почувствовала такое доверие к этой благородной наружности, что, не справившись еще ни о жаловании, ни о занятиях, внутренне решила принять место. "Я не ошиблась, - говорила она мне, - благодаря тому, что я тогда послушалась внутреннего голоса, я провела самые счастливые четыре года жизни". Это в устах почтенной старушки не было пустым комплиментом мне, одному из членов семьи, потому что пятьдесят лет спустя она все еще также свято хранила мельчайшие воспоминания этого времени в виде ученических тетрадей своих учеников, писем, записочек и др. сувениров. Если бы она так же относилась к воспоминаниям других учеников (до сих пор еще на восьмом десятке почтенная старушка не перестает учительствовать), то с сороковых годов по настоящее время у нее набралось бы материалу, который не в состоянии было бы вместить ее скромное жилище.
По свидетельству лиц, ее знавших, это была женщина высокая, статная, не особенно красивая, но с чарующим выражением глаз и наружностью, невольно останавливающею внимание. Решительно все, кто видел ее, единогласно утверждают, что во внешности ее было что-то исключительно притягательное. Фанни Дюрбах, гувернантка ее старших детей, и поныне здравствующая в г.Монбельяре, во Франции, рассказывает, что, приехав в первый раз в Россию, 22 лет от роду, она очень нерешительно относилась к предлагаемым ей местам. Настолько, что без всяких особенно важных поводов отказывалась от блестящих в денежном отношении предложений, но увидав А А, с первого взгляда почувствовала такое доверие к этой благородной наружности, что, не справившись еще ни о жаловании, ни о занятиях, внутренне решила принять место. "Я не ошиблась, - говорила она мне, - благодаря тому, что я тогда послушалась внутреннего голоса, я провела самые счастливые четыре года жизни". Это в устах почтенной старушки не было пустым комплиментом мне, одному из членов семьи, потому что пятьдесят лет спустя она все еще также свято хранила мельчайшие воспоминания этого времени в виде ученических тетрадей своих учеников, писем, записочек и др. сувениров. Если бы она так же относилась к воспоминаниям других учеников (до сих пор еще на восьмом десятке почтенная старушка не перестает учительствовать), то с сороковых годов по настоящее время у нее набралось бы материалу, который не в состоянии было бы вместить ее скромное жилище.
В памяти Петра Ильича облик матери сохранился в виде высокой, довольно полной женщины с чудным взглядом и необыкновенно красивыми, хотя не маленькими руками. "Таких рук нет больше и никогда не будет! - часто говаривал он, - их целовать хотелось без конца!"
В противоположность своему супругу А А в семейной жизни была мало изъявительна в теплых чувствах и очень скупа на ласки. Она была очень добра, но доброта ее, сравнительно с постоянной приветливостью мужа ко всем и всякому, была строгая, более выказывавшаяся в поступках, чем в словах.
Когда сорокалетний человек по взаимной любви женится на молодой девушке, то естественно ожидать полного подчинения жены вступающему в тень старости мужу. Здесь было наоборот. Мягкосердечный, несмотря на годы увлекающийся, как юноша, доверчивый и слегка расточительный, И П совершенно подчинился во всем, что не касалось его служебных обязанностей, без памяти любившей его жене, которой природный такт и уважение к своему супругу помогали делать это так, что внешним образом, для посторонних, ее влияние не было заметно; но в семье все, трепеща перед нею, не страха, а любви ради, в отношении к главе семейства тоже питали огромную любовь, но с оттенком собратства. Для домашних нужно было совершить поступок в самом деле предосудительный, чтобы И П, изменяя своей обычной ласковости и приветливости, вышел из себя, и тогда, хоть и на короткое время, но он, как это бывает с очень мягкими людьми, становился грозен. Наоборот, нужно было очень много, чтобы заставить А А выйти из обычно холодно - строгого отношения к окружающим и вызвать ласку, и тогда не было пределов счастья лица, удостоившегося ее. Единственное исключение делалось для падчерицы Зинаиды Ильиничны . Опасение заслужить тень упрека в том, что она относится к ней как мачеха, вынуждало А Авну выказывать ей более ласки, чем родным детям. Первым ребенком этого брака была дочь Екатерина, скончавшаяся в младенчестве.
В 1837 году И П был назначен начальником Камско-Воткинского эавода и вместе с женою водворился там. Здесь 9 мая 1838 года у них родился сын Николай и 25 апреля 1840 года - сын Петр. Явился он на свет слабеньким, с каким-то странным нарывом на левом виске, который удачно был оперирован вскоре после рождения.
|
Метки: чайковские |
Столяровы-участники Гражданской войны |
Столяров Александр Ермолаевич, р. в Вятской губ. Поручик. В белых войсках Восточного фронта; в распоряжении
начальник. административного отдела Новониколаевского военного района, с 1 янв. 1919 в 5-м Новониколаевском
запасном полку. Взят в плен. На 1923 на особом учете в ПВО. /7–143,150; 24; 707–951/
Столяров Александр Николаевич, р. 1882, р. в Иркутске. Корнет 8-го пограничного конного полка. В белых войсках
Восточного фронта; с 23 июля 1918 в Оренбурге. Взят в плен. Летом 1921 в Якутском ГВК. /7–143; 26–3/
Столяров Алексей Сергеевич. В белых войсках Восточного фронта до эвакуации Приморья. В дек. 1922 — фев. 1923 выслан
с Дальнего Востока. /500/
Столяров Андрей Петрович. Поручик технических войск. В Вооруженных Силах Юга России. В эмиграции на 1922
в Югославии. /652–12/
Столяров Андрей Семенович, р. 1876 в Донской обл. Матрос, кок. Во ВСЮР и Русской армии до эвакуации Крыма.
Расстрелян большевиками 28 янв. 1921 в Ялте. /700/
Столяров В. Машинист Бессарабской земской управы. В эмиграции в Румынии. /674/
Столяров Василий Васильевич. Корнет. Участник белого движения. Взят в плен. В апр. 1921 передан из МВО в гражданские
учреждения Владимира. /7–103/
Столяров Василий Васильевич. Поручик. В Донской армии; 1920 в 10-м Донском казачьем полку, в Донском офицерском
резерве и Донском офицерском полку. /14–88/
Столяров Виктор Петрович, р. 1894 в с. Ровны Орловской губ. Прапорщик. В Вооруженных силах Юга России. Взят в плен.
С 1920 на особом учете в Харьковском ГПУ. /800/
Столяров Владимир Александрович, р. 26 июля 1893. В эмиграции в Германии. Коммерсант. Убит фев. 1945 в Познани.
Мать Адель (Штильмарк). /722/
Столяров Владимир Владимирович, р. 1894. Из крестьян Минской губ. Игуменского у. Корнет Заамурского запасного
конного полка. В Добровольческой армии. Участник 1-го Кубанского ("Ледяного") похода, затем в Митавском
гусарском полку. Взят в плен в Елисаветграде, к 1921 в Рязанском концлагере. /40; 742–66/
Столяров Владимир Ильич, р. в Рязанской губ. Чиновник военного времени. В белых войсках Восточного фронта. Взят
в плен. На 1 дек. 1922 на особом учете в МВО. /7–143,163,346/
Столяров Георгий Сергеевич, р. 21 апр. 1887 в Московской губ. Из крестьян. Экзамен на классный чин 1916. Чиновник
военного времени, инженерного управления Омского военного округа. В белых войсках Восточного фронта там же;
на 25 фев. 12 июня и осенью 1919 начальник отделения. Коллежский регистратор. Взят в плен дек. 1919 под
Красноярском, до 1923 в РККА. Жена Анна Васильевна, дети Виктор 1915, Николай 1918, братья Иван, Василий,
Алексей. /7–320,322; 650–1,11/
Столяров Григорий Николаевич. В белых войсках Северного фронта; 1918 призван в Архангельске как переводчик. /678/
Столяров Григорий Степанович, р. 1899. Младший фейерверкер. В Вооруженных силах Юга России. На 12 мар. 1920
в общежитии "Долма Бахча" в Константинополе. /4–107/
Столяров Евгений. В эмиграции 1923 прислал анкету в Центральный Комитет по обеспечению высшего образования
русскому юношеству за границей. /569–67/
Столяров Иаким Прокофьевич, р. 1924. В эмиграции в США. Ум. 1985 в Сан-Франциско. /760/
Столяров Иван Абрамович. Екатеринодарская школа прапорщиков 1916. Есаул Кубанского казачьего войска.
В Добровольческой армии. Участник 1-го Кубанского ("Ледяного") похода. /40/
Столяров Иван Александрович, р. в белых войсках Северного фронта. Взят в плен. До лета 1920 в концлагерях Москвы,
затем передан в РККА. 21 июля 1920 передан из резерва МВО на Западный фронт /698–9,42/
Столяров Иван Алексеевич, р. 1872 в Михайлове. Из мещан. Торговец. 1919 взят заложником, содержался в Рязанском
концлагере. /742–19/
Столяров Иван Яковлевич, р. 21 июля 1882. В эмиграции во Франции. Ум. 4 мая 1953. Жена ? Валерия Эдуардовна (26 окт.
1901 — 18 авг. 1992 там же). /177/
Столяров Иван. Из крестьян д. Загорье Устюженского у. В Северо-Западной армии. Ум. 7 июня 1920 в Нарве. /764/
Столяров Константин Николаевич, р. в Семиреченской обл. Подпоручик. В белых войсках Восточного фронта. Взят в плен.
На 1923 на особом учете в ПВО. /7–346; 707–951/
Столяров Корнилий Тимофеевич, р. 1892 в с. Алексеевка Уфимской губ. 2-я Ораниенбаумская школа прапорщиков 1916.
Поручик. В белых войсках Восточного фронта. Взят в плен. На 1 дек. 1922 на особом учете в МВО, затем
преподаватель Ветеринарного института. 8 июня 1933 осужден на 5 лет ИТЛ. Отбывал наказание в Соловецкой
тюрьме. Расстрелян 8 дек. 1937 в Ленинграде. /7–346; 545/
Столяров Лука Лукич, р. 1897 в Забайкальской обл. Образование: 4 класса. Поручик. В белых войсках Восточного фронта.
Взят в плен. Под арестом в Омске 24 июня — 22 сен. 1920. С авг. 1921 в резерве чинов МВО. /7–143; 572/
Столяров Николай Васильевич, р. в Симбирске. Участник белого движения. Взят в плен. С окт. 1921 на особом учете
в МВО. /7–103,143,150/
Столяров Николай Иванович, р. в Симбирской губ. Штабс-капитан. В белых войсках Восточного фронта. Взят в плен.
Весной 1921 на особом учете в СКВО. /7–163/
Столяров Николай Павлович, р. 1895 (1897). Поручик. Во ВСЮР и Русской Армии во 2-м Лабинском полку Кубанского
казачьего войска до эвакуации Крыма. Эвакуирован на корабле "Аю-Даг". В эмиграции во Франции. Ум. 5 мая 1983
в Ганьи. /4–53; 118; 540/
Столяров Петр Николаевич. Участник белого движения. Взят в плен. На сен. 1920 на особом учете в Заволжском ВО. /698–
45/
Столяров Сергей Васильевич. Поручик. В белых войсках Восточного фронта; с 2 авг. 1918, на апр. 1919
в Новониколаевском Сибирском стрелковом запасном батальоне (5-м Новониколаевском запасном полку). /24/
Столяров Сергей Георгиевич. В белых войсках Восточного фронта; к 9 мар. и окт. 1920 в комсоставе пулеметной команде
Владивостокской учебно-инструкторской школы. В дек. 1922 — фев. 1923 выслан с Дальнего Востока. /500; 639/
Столяров Сергей Петрович. В нач. нояб. 1920 на о. Антигона. После 1945 — в США. Ум. сен. 1951. /4–20,22; 101/
Столяров Сергей. Офицер. Взят заложником в сен. 1918 в Петрограде. /458/
Стр. 736 из 863
Столяров Трофим Константинович, р. 1877. В службе с 1899, офицером с 1912. Штабс-капитан по адмиралтейству. В белых
войсках Восточного фронта; 8 нояб. 1918 — авг. 1919 на Сибирской флотилии. Капитан (с 1 янв. 1919). В эмиграции
в Китае, к 1941 член Офицерского собрания в Шанхае. /59; 60; 270; 436; 570/
Столяров Федор Илларионович. Горийская школа прапорщиков 1916. Хорунжий Донского казачьего войска. В Донской
армии в Раздорском пешем полку, с 26 мая 1918 сотник, затем в составе 12-го Донского казачьего полка. Подъесаул.
Убит 9 авг. 1919. /716; 730/
Столяров Федор. Прапорщик. В белых войсках Восточного фронта; с 8 апр. 1919 (на сен. 1919) в 16-м Ишимском
Сибирском стрелковом полку; разжалован. /25/
Столяров. В Вооруженных Силах Юга России; дек. 1919 — начале 1920 старший офицер на бронепоезде "Гром Победы"
в Войсках Новороссийской области. Жена Лидия Владимировна. /13–397/
Столяров. Подпоручик. В белых войсках Восточного фронта; с 5 дек. 1918, на 1 апр. 1919 в Иркутской военно-
инструкторской школе. /21–23/
Столяров. Полковник. Летом 1920 в Русской Армии в Крыму. В нач. нояб. 1920 на о. Антигона. Жена Лидия Александровна
1886, сын Николай 1910 — эвакуированы в нач. 1920 из Новороссийска на Антигону и в Константинополь
на транспорте "Бриенн", летом 1920 на Принцевых о-вах. /4–20,21,22,68/
Столяров. Поручик. Во ВСЮР и Русской Армии в составе 7-го дивизиона ген. Хвостикова до эвакуации Крыма.
Эвакуирован из Севастополя на транспорте "Корнилов". /4–66/
Столяров. Поручик. В эмиграции в Германии, осенью 1921 в лаг. Шэйен, в сен. 1921 убыл из лагеря. /603–5; 611–9/
Столяров. Прапорщик. В белых войсках Восточного фронта. Участник Сибирского Ледяного похода. На 8 окт. 1920
в Воткинском стрелковом полку. /41/
Столяров. Штурман торгового флота. В белых войсках Восточного фронта; с 16 июля 1919 на пароходе "Кама" Каспийской
флотилии. /94–13/ https://погибшие.рф/arhiv/uchastniki-grazhdanskoj-...dvizheniya-v-rossii-sp-st.html
|
Метки: столяровы |
Стенбок-Фермор-участники Гражданской войны |
Стенбок Борис Александрович, р. 1897 в дер. Мансурова. Из дворян Таврической губ. Офицер 489-го пехотного полка.
В Вооруженных Силах Юга России в Закаспийской армии. Взят в плен во Владикавказе или в Баку, к 1921
в Рязанском концлагере. /742–43,66/
Стенбок Борис Николаевич. Подпоручик. 1927 лишен избирательных прав по Костроме. /717/
Стенбок граф Арвид Николаевич*, р. 21 апр. 1868. В эмиграции в Финляндии. Ум. 19 мая 1944 в Нивинге. Жена Анна
(Якобсон). /722/
Стенбок граф Герман Германович, р. 1897. Пажеский корпус 1916. Штабс-ротмистр л.-гв. Конного полка.
В Добровольческой армии и ВСЮР; с 24 мар., на 12 мая 1919 в эскадроне своего полка в Сводном полку
гвардейской кирасирской дивизии; в начале 1919 в госпитале в Моздоке. В Русской Армии; в мае 1920 ротмистр
в эскадроне л.-гв. Конного полка. Ротмистр (полковник). В эмиграции в Турции, Югославии (на 1938 представитель
полкового объединения в стране), затем в Англии. Ум. 1 мая 1977 в Оксфорде. /38; 118; 151; 165; 221; 285; 412/
Стенбок граф Петр Михайлович, р. 11 апр. 1869. Николаевское кавалерийское училище 1891. Командир 2-го гусарского
полка. Генерал-майор, директор Крестовского стрельбища. В эмиграции в Эстонии. Ум. 31 июля 1931 в им. Кольк.
Дочери В. (гр. Мусина-Пушкина) и И. (Шебеко). /75/
Стенбок граф Рейнгольд Николаевич*, р. 26 апр. 1878. В эмиграции в Швеции. Ум. 25 авг. 1946 в Зедертале. Жена Зири
(Вазаштерна). /722/
Стенбок граф Родриг Николаевич*, р. 25 июня 1869. Чиновник Эрмитажа. В эмиграции в Германии. Ум. дек. 1947
в Марбурге. Жена Матильда (фон Гиппиус). /722/
Стенбок графиня Елена Михайловна, р. 18 нояб. 1880 на Урале. В эмиграции в Эстонии. Ум. 12 июня 1944 в Ревеле. Мать
Мария (Перемыкина). /722/
Стенбок графиня Катарина Людвиговна, р. 25 авг. 1848. В эмиграции в Германии. Ум. 7 апр. 1945 в Данциге. /722/
Стенбок графиня Мария Григорьевна. В эмиграции в Эстонии. Ум. 1923. /400/
Стенбок графиня София Николаевна (ур. Швецова), р. 17 июля 1867 в Харькове. Дочь полковника. Вдова Всеволода.
В эмиграции в Германии. Ум. 22 янв. 1942 в Итцхое. /722/
Стенбок. (Герман Германович?) Поручик. В Добровольческой армии; с сен. 1918 во 2-м Черкесском конном полку. /104–6/
Стенбок-Фермор граф Андрей Владимирович. (1-й) Пажеский корпус 1916. Поручик л.-гв. Конного полка.
В Добровольческой армии и ВСЮР; с 24 мар., на 12 мая и летом 1919 в эскадроне своего полка в Сводном полку
гвардейской кирасирской дивизии, с весны 1920 — в эскадроне л.-гв. Конного полка в Гвардейском кавалерийском
полку Русской Армии. Штабс-ротмистр. Убит 13 июля 1920 у с. Щербаковки под Жеребцом в Сев. Таврии. /151; 165;
221; 513–18/
Стенбок-Фермор граф Владимир Васильевич. В эмиграции в Югославии. Ум. ок. 2 апр. 1950. /101/
Стенбок-Фермор граф Георгий Васильевич. Александровский лицей 1885. Елизаветградский предводитель дворянства.
В Вооруженных силах Юга России. На 1 июня 1921 в эмиграции в Югославии. Ум. 5 окт. 1925 в Орможе, Словения.
/4–181; 398; 400/
Стенбок-Фермор граф Иван Васильевич. Александровский лицей 1878. Действительный статский советник, камергер,
чиновник Главного управления землеустройства. Ум.. /398/
Стр. 691 из 863
Стенбок-Фермор граф Иван Иванович, р. 26 (28) фев. 1897. (2-й) Пажеский корпус 1917. Корнет л.-гв. Конного полка.
В Добровольческой армии и ВСЮР; с 24 мар. и 12 мая 1919 в эскадроне своего полка в Сводном полку гвардейской
кирасирской дивизии. Штабс-ротмистр. В эмиграции во Франции, затем в США. Ум. 24–25 сен. 1986 в Пало-Альто.
Жена, дети, мать Мария Илиодоровна (Шидловская; 1863–1945; окт. 1919 в Киеве). /38; 118; 131; 151; 165; 221; 412/
Стенбок-Фермор граф Николай Васильевич*, р. 1869. Кадетский корпус. В 1890-х служил в земстве, конозаводчик. После
революции проживал в Петрограде, затем в Москве. В сентябре 1921 арестован и заключен в Бутырскую тюрьму.
Ум. 1941. Жена Мария Сергеевна (Сомова; 1870 — 22 авг. 1938 под Берлином). /75; 575/
Стенбок-Фермор граф Сергей Александрович (Алексеевич). Александровский лицей 1894. Произведен в офицеры из
вольноопределяющихся 1895. Офицер л.-гв. Гусарского полка (1906–1914 в отставке). Ротмистр армейской
кавалерии. В эмиграции в Швейцарии. Ум. после 1929. /398/
Стенбок-Фермор граф Сергей Николаевич*, р. 20 мар. 1897 в Одессе. (3-й) Сергиевское артиллерийское училище 1915.
Штабс-ротмистр л.-гв. Конного полка. В Добровольческой армии и ВСЮР; с 24 мар. и 12 мая 1919 в эскадроне
своего полка в Сводном полку гвардейской кирасирской дивизии, летом 1919 ротмистр, командир эскадрона л.-гв.
Конного полка, затем командир того же эскадрона в Сводно-гвардейском кавалерийском полку. Убит 6 янв. 1920 под
Раповым, 2 фев. 1920 под Ростовом, 1 мар. 1920 у Кулишевки под Ростовом или Ум. от ран 6 мар. 1920 под
Ольгинской. /68–2; 151; 165; 201; 221; 352; 513–18/
Стенбок-Фермор граф. (Сергей Николаевич?) Штабс-ротмистр. В Добровольческой армии; нояб. 1917 дежурный офицер
на ст. Новочеркасск. С сен. 1918 командир 2-й сотни 2-го Черкесского конного полка. /88–25; 104–6/
Стенбок-Фермор граф. В Вооруженных силах Юга России. Эвакуирован 28 янв. 1920 из Одессы и Николаева на корабле
Баку. /4–70/
Стенбок-Фермор граф. В Вооруженных Силах Юга России; 1920 в Ялте. /256/
Стенбок-Фермор граф. Корнет л.-гв. Конного полка. Во ВСЮР и Русской Армии. Убит 22 июня 1920 у Каховки. /352–1/
Стенбок-Фермор графиня Мария Дмитриевна (ур. кн. Кропоткина), р. 1880. В эмиграции в Германии. Ум. 11 фев. 1958. /400/
Стенбок-Фермор графиня Ольга Николаевна. Сестра милосердия. В Добровольческой армии с июля 1919 в 1-м Марковском
полку. /16–12/ https://погибшие.рф/arhiv/uchastniki-grazhdanskoj-...dvizheniya-v-rossii-sp-st.html
|
Метки: стенбок-фермор |
граф Владимир Александрович Стенбок-Фермор |
граф Владимир Александрович Стенбок-Фермор


Matching family tree profiles for граф Владимир Александрович Стенбок-Фермор


Vladimir Alexandrovich Stenbock~Fermor в генеалогическом древе MyHeritage (Dreger)




|
Метки: стенбок-фермор |
Евдокия Владимировна Стенбок-Фермор |


Countess Евдокия Владимировна Стенбок-ФерморАнглийский (по умолчанию): Евдокия Владимировна Стенбок-Фермор |
|
| Дата рождения: | 1872 |
| Место рождения: | Russian Federation |
| Смерть: | 14 января 1898 (26) Russian Federation |
| Ближайшие родственники: |
Дочь графа Владимира Александровича Стенбок-Фермора и графини Евдокии Ивановны Стенбок-Фермор |
|---|---|
| Менеджер: | Private User |
| Последнее обновление: | 24 мая 2018 |
Ближайшие родственники
-
-
husband
-
son
-
son
-
mother
-
father
-
sister
-
sister
-
sister
-
stepmother
-
half brother
-
О Countess Евдокии Владимировне Стенбок-Фермор (русский)
Брак : ЦГИА СПб. ф.19. оп.127. д.396 кадр 17
Хронология Countess Евдокии Владимировны Стенбок-Фермор
| 1872 |
1872 |
Russian Federation |
|
| 1895 |
6 января 1895 Возраст 23 |
Birth of Иван Александрович Орлов ЦГИА СПб. Ф.19. О.128. Д.351 |
|
|
1895 Возраст 23 |
Birth of Alexeï Alexandrovitch Orlov Saint Petersbourg, Russie |
||
| 1898 |
14 января 1898 Возраст 26 |
Russian Federation |
|
Метки: стенбок-фермор орловы безобразовы |
Comte Wilhelm* Constantin Stenbock-Fermor |
Comte Wilhelm* Constantin Stenbock-Fermor
‹ Вернуться к фамилии Stenbock-Fermor
Ваша фамилия Stenbock-Fermor?
Исследование фамилии Stenbock-Fermor
Начните строить Ваше Генеалогическое Древо прямо сейчас
Geni профиль Comte Wilhelm* Constantin Stenbock-Fermor
Поделитесь своим генеалогическим древом и фотографиями с людьми, которых вы знаете и любите

- Стройте своё генеалогическое древо онлайн
- Обменивайтесь фотографиями и видео
- Технология Smart Matching™
- Бесплатно!


Comte Wilhelm* Constantin Stenbock-Fermor |
|
| Дата рождения: | 13 декабря 1863 |
| Место рождения: | Nitau |
| Смерть: | 1937 (73) |
| Ближайшие родственники: |
Сын Friedrich* Johann Graf Stenbock-Fermor и Gräfin Elisabeth Christina Augusta von Stenbock-Fermor |
|---|---|
| Менеджер: | Private User |
| Последнее обновление: | 12 мая 2018 |
Matching family tree profiles for Comte Wilhelm* Constantin Stenbock-Fermor


Villhelm Constantin Stenbock n:o 12 Tab 46 в генеалогическом древе MyHeritage (Susannes Web Site)


Wilhelm Constantin Stenbock-Fermor в генеалогическом древе MyHeritage (Jonasson Web Site)
Ближайшие родственники
-
-
wife
-
Comte Alexandre Stenbock-Fermor
son
-
son
-
Comte Frederic Magnus Wilhelm St...
son
-
Comtesse Olga Elisabeth Marie St...
daughter
-
Gräfin Elisabeth Christina Augu...
mother
-
Friedrich* Johann Graf Stenbock-...
father
-
Comte Magnus Alexander* Stenbock...
brother
-
Gräfin Ebba* Christine von Schu...
sister
-
Gräfin Barbara Margareta* Chris...
sister
-
Gräfin Christina Maria Stenbock...
sister
-
stepmother
-
Хронология Comte Wilhelm* Constantin Stenbock-Fermor
| 1863 |
13 декабря 1863 |
Nitau |
|
| 1902 |
17 января 1902 Возраст 38 |
Birth of Comte Alexandre Stenbock-Fermor Nitau |
|
| 1904 |
21 августа 1904 Возраст 40 |
Birth of Comte Nils Stenbock-Fermor Nitau |
|
| 1908 |
16 июня 1908 Возраст 44 |
Birth of Comte Frederic Magnus Wilhelm Stenbock-Fermor Dubbeln |
|
| 1911 |
1911 Возраст 47 |
||
| 1937 |
1937 Возраст 73 |
Genealogy Directory:
- © 2019 Geni.com
- О нас
- Каталог
- Фамилии
- Условия
- Конфиденциальность
- Блог
- Вики
- Всемирное генеалогическое древо
- Справка
English (US) eesti Svenska Español (España) Français עברית Norsk (bokmål) dansk Nederlands Deutsch »

Wilhelm Constantin Stenbock-Fermor
-
Коллекция:
-
Название сайта:
-
Владелец сайта:
-
Рождение:
13 дек 1863 - Nitau
-
Смерть:
1937
-
Родители:
Frederic Johann Stenbock-fermor, Elisabeth Christina Augusta Gräfin Von Stenbock-fermor (born Von Weymarn)
-
Родные брат/сестра:
...Marie Catharina Stenbock-fermor, Magnus Alexandre Stenbock-fermor, Christina Maria Stenbock-fermor, Ebba Nadesjda Christina Von Schubert ...

Villhelm Constantin Stenbock n:o 12 Tab 46
-
Коллекция:
-
Название сайта:
-
Владелец сайта:
-
Рождение:
1863
-
Родители:
Fredrik Johan Stenbock N:o 12 Tab 45, Elisabet Augusta Christina Stenbock N:o 12 (born Von Weymarn)
-
Родные брат/сестра:
... Marie Catharina Stenbock N:o 12, Magnus Alexander Stenbock N:o 12, Ebba Nadesjda Christina Von Schubert (born Stenbock N:o 12), Margaret...
|
Метки: стенбок-фермор |
ДВАЖДЫ графское |
ДВАЖДЫ графское
С середины XIX века до революции побережьем от Лахты до Лисьего Носа владели графы Стенбок-Ферморы.

Супруги Стенбок-Ферморы принимают в своем поместье делегацию лахтинских жителей. 1908 год

Праздник по случаю приезда владельцев имения. Граф и графиня проходят мимо Лахтинской пожарной дружины. 1908 год |
 Иван Вишняков. Портрет Сарры Элеоноры Фермор. 1750 год  Во время пребывания в замке хозяев поместья над башней поднимали флаг  Герб Стенбок-Ферморов  Церковь апостола Петра. Колокольню снесли в 1939 году и приспособили храм под кинотеатр, удлинив зрительный зал пристройкой. В 1980-е здание занимала мастерская по ремонту катеров. Службы возобновились в 1991 году   Вензель Стенбок-Ферморов на парадной лестнице особняка  В приходском доме размещались детский приют и больница. Здание не меняло своей функции на протяжении ста лет. Сегодня принадлежит хоспису № 1 |
|
Метки: стенбок-фермор |
Кропоткин, Дмитрий Николаевич |

Кропоткин, Дмитрий Николаевич
ЧиновникиГоды жизни:
10 февраля 1836 - 27 февраля 1879
русский государственный деятель, генерал-майор , губернатор Гродненской и Харьковской губерний
Князь Дмитрий Николаевич Кропоткин (29 января [10 февраля] 1836 — 15 [27] февраля 1879, Харьков, Российская империя) — русский государственный деятель, генерал-майор (1868), губернатор Гродненской (1868—1870) и Харьковской (1870—1879) губерний. Строитель Нового замка в Сигулде, почётный гражданин городов Пружаны и Гродно (1870), Славянск (1872). Убит в Харькове террористом-народовольцем Григорием Гольденбергом.
Биография
Семья
Из княжеского рода Кропоткиных (Рюриковичи). Владел родовыми имениями в Рязанской и Тульской губерниях.
Двоюродный брат астронома Александра Кропоткина и революционера-анархиста Петра Кропоткина; по воспоминаниям последнего, до ареста Николая Чернышевского читал демократическую литературу, высказывался о необходимости реформ. Ходатайствовал за Александра, сосланного в Сибирь за письмо, отправленное в Лондон одному из лидеров народничества Петру Лаврову.
В молодости князь Кропоткин был влюблен в среднюю дочь графа А. М. Борха, графиню Александру Александровну, и намеревался на ней жениться, но в 1859 году, проболев несколько дней тифозной горячкой, она умерла в 19 лет. Несколько лет спустя Кропоткин женился на её младшей сестре, графине Ольге Борх (1847—1898), и получил в приданое Сигулдскую усадьбу. В этом браке родились:
- Александра (1869— ?)
- Николай (1872—1937), вице-губернатор Курляндии, церемониймейстер, унаследовал от матери её родовой замок Зегевольд.
- Мария (1879—1958), с 1900 года жена графа Вильгельма Константиновича Стенбок-Фермора.
Служба
Воспитывался в школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. 17 (29) июня 1854 года из вахмистров школы был произведён в корнеты с назначением в конный полк.
В период Крымской войны 1853—1856 годов, с июня по июль 1854 года, находился в составе войск, охранявших окраины Санкт-Петербургской губернии и Выборгского уезда. С июня по сентябрь 1856 года находился в Москве в составе отряда гвардейских войск и гренадерского корпуса, собранных там по случаю коронации императора. В марте 1859 года был назначен на должность полкового адъютанта, в апреле произведён в поручики. В апреле 1860 года произведён в штабс-ротмистры, в апреле 1862 года — в ротмистры. 7 (19) марта 1864 года прикомандирован к инспекторскому департаменту Военного министерства. 4 (16) апреля 1865 года за отличную службу произведён в полковники, 13 (25) января 1868 года — в генерал-майоры с назначением в свиту императора и с зачислением в армейскую кавалерию. Одновременно указом Александра II от 13 (25) января 1868 года назначен военным и гражданским губернатором Гродно.
Пожертвовал в пользу Слонимского Преображенского братства, членом которого являлся с 22 марта (3 апреля) 1856 года, 10 рублей. В 1870 году пожертвовал городу Кобрину 200 рублей, на которые было решено приобрести материалы для постройки полкового цейхгауза.
15 (27) июля 1870 года переведён на должность харьковского губернатора. 9 (21) февраля 1879 года был смертельно ранен террористом-народовольцем Григорием Гольденбергом на углу Московской и Дворянской улиц Харькова.
-
Сигулда. Дворец Д. Н. Кропоткина
-
Харьков. Московская улица. Почтовая открытка конца XIX века
-
Григорий Гольденберг
<…> в Харькове был убит генерал-губернатор, мой двоюродный брат, Дмитрий Кропоткин, когда он возвращался из театра. Центральная тюрьма, где началась первая голодовка и где он прибег к искусственному кормлению, находилась в его ведении. В сущности, он был не злой человек; я знаю, что лично он скорее симпатизировал политическим; но он был человек бесхарактерный, притом придворный, флигель-адъютант царя, и поэтому предпочёл не вмешиваться, так как одно его слово могло бы остановить жестокое обращение с заключёнными.
Но теперь он одобрил поведение тюремщиков, и харьковская молодёжь до такой степени была возмущена обращением с заключёнными, что по нём стреляли и смертельно ранили. — Пётр Кропоткин
Награды
- Орден Святой Анны 3-й степени (1862)
- Орден Святого Владимира 4-й степени (1864)
- Орден Святой Анны 2-й степени (1866)
- Орден Святого Владимира 3-й степени (1869)
- Орден Святого Станислава 1-й степени (1871)
- Орден Святой Анны 1-й степени (1873)
- Орден Святого Владимира 2-й степени (1876)
- Бронзовая медаль «В память войны 1853—1856»
|
Метки: кропоткины стенбок-фермор борхи |
Усадьба А. В. Стенбок-Фермора. Охотничий замок |

Усадьба А. В. Стенбок-Фермора. Охотничий замок
На фото -Владелец лахтинских земель граф Александр Владимирович Стенбок-Фермор и его супруга
Лахта - небольшой поселок, расположившийся на северном берегу Финского залива, примерно в пятнадцати километрах к северо-западу от центра Петербурга. С запада к Лахте примыкает Ольгино, и оба поселка представляют собой по сути единое целое, так что иногда, называя один, имеют в виду другой, или же и тот, и другой одновременно.
История Лахты начинается с глубокой древности. Лахтинская низина - один из заливов существовавшего когда-то Литоринового моря, названного так по имени моллюска Littorina littorea, и поныне обитающего в водах Балтийского моря. Это море некогда покрывало всю территорию современного Петербурга.
Лахта (по фински - «залив», «бухта») - место обитания людей, живших здесь предположительно еще три тысячи лет назад. Первые поселенцы обосновались близ мелководного залива, в который впадали речки, ныне известные под названиями Юнтоловка и Глухая (Глухарка, Каменка).
Первое упоминание о небольшой деревне, положившей начало современной Лахте, относится к 1500 году. С семнадцатого века известны деревни Бобыльская (Бобылка) и Конная (Конная Лахта).
Впервые исследования остатков пребывания здесь доисторического человека проводились в 1880-е годы археологом В. Антоновичем, но результатов не дали, хотя ученый и был настроен оптимистично. Больше повезло другому археологу - С. Гамченко, который в 1905-1908 годах обнаружил в районе северного побережья Финского залива некоторое число железных изделий, осколков, глиняных горшков.
Случалось, что древние предметы находили совсем не те, кто их искал. Так, в 1915 году дети дачников копались в песке неподалеку от станции Разлив и извлекли какие-то непонятные вещицы, в которых взрослые заподозрили предметы утилитарного назначения, принадлежавшие глубокой древности. О находке был извещен археолог А. Штакельберг, который признал в предметах кремневые орудия.
Весной 1921 года неподалеку от железнодорожной станции Ольгино, на берегу залива, был найден небольшой кремневый скребок - и тоже случайно. Поиски были продолжены, и в сентябре 1922 года на валу Древне-Балтийского моря, проходившему по северной опушке Ольгинского леса (ныне почти не существующего), были впервые обнаружены кремневые орудия, явившиеся свидетельством пребывания человека каменного века в районе Лахты и ее ближайших окрестностей. Автором находки стала Валентина Виттенбург, жена академика П. В. Виттенбурга, о котором речь впереди.3
И в дальнейшем в этом районе не раз находили изделия из сланца, кварца, песчаника, гранита и других пород, а также керамическую посуду. Все говорит о том, что эта часть побережья Финского залива была с древних времен обжита людьми. Что это были за люди? Существует мнение, разделяемое многими, что «финский рыболов, печальный пасынок природы» поселился в этих краях задолго до основания Петром I северной столицы, отсюда и финское название местности. Впрочем, до нашего времени сохранились и старинные русские названия лахтинских примечательностей: Клин-болото, Завигонское болото, урочище Поляны, Дубки, «Три липы», Петровский пруд, «Семь лугов» и, конечно же, деревни Конная Лахта и Бобылка. Подчеркну: сохранились по большей части лишь названия.
Вот еще кое-что из истории местных названий: ближайшей к Петербургу части Финского залива (от острова Котлин до дельты Невы) моряки в память маркиза И.И. де Траверсе (морского министра в 1811-1828 годах) дали имя Маркизовой лужи. Де Траверсе удостоился чести войти в топонимику потому, что при нем дальние походы флота были прекращены, и учебные плавания ограничивались акваторией, прилегающей к острову Котлин. Название неофициально существует до сих пор.
Что издавна влекло людей на берега этой части залива? Наверно, прибрежное мелководье, богатое рыбой и водоплавающими птицами. С течением времени морская лагуна заросла и превратилась в болотистую низину; образовалось множество прудов, которые соединялись друг с другом небольшими речками. Самой природой здесь были созданы прекрасные условия для обитания рыбы и дичи.
Среди прудов с давних времен в этих местах стояли дубовые рощи. Дубравы скорее всего были почти уничтожены ледником, однако небольшими островками они все же уцелели. В начале XVIII века - именно с этого времени начинается новейшая история Лахты - здесь находилась усадьба Петра I «Ближние дубки», где в 1711-1712 годах был выстроен для царя деревянный домик (усадьба «Дальние Дубки» строилась близ Сестрорецка в 1719-1720-х годах). Среди древних дубов-великанов реликтового происхождения были высажены молодые дубки. Дубы петровского времени сохранились до нашего времени, и дотошный следопыт может и ныне среди зарослей отыскать рвы, которые некогда окружали усадьбу, круглый островок в центре пруда и остатки канала, идущего к взморью.
Гром-камень в лесу близ Лахты
Гром-камень в лесу близ Лахты
Но - увы! - не дожила до наших дней старая сосна, свидетельница доблестного поступка Петра I, на который отважится не каждый монарх. 5 ноября 1724 года царь, возвращавшийся в Петербург из Дубков, оказался свидетелем того, как плывший из Кронштадта бот с солдатами сел на мель близ чухонской деревни на берегу Лахтинского разлива. Петр велел приблизиться к судну и принялся помогать солдатам стаскивать бот с мели и спасать людей. Стоя по пояс в воде, он жестоко простудился и по возвращении в Петербург оправиться от недуга так и не смог. 28 января 1725 года он скончался от воспаления почек. В память о подвиге царя в одинокой сосне, стоявшей на берегу близ этого исторического места, на высоте двух-трех аршин от земли был укреплен киот (застекленный ящик), уставленный иконами разных размеров, перед которыми долгие годы светилась лампада...
В годы царствования Екатерины II (1762-1796) у окрестных земель появился именитый хозяин: им стал Григорий Григорьевич Орлов, получивший «мызу Лахту» в подарок от своей Августейшей покровительницы. Он здесь ни разу не бывал и особняков после себя не оставил, как ничего не осталось здесь и от другого лахтинского землевладельца - Якова Брюса, сподвижника Петра I. Зато другое событие, случившееся во время правления Екатерины и связанное с Лахтой, получило широкую огласку, эхо которой докатилось до нашего времени.
1767 году, когда скульптору Этьену Фальконе понадобился камень для пьедестала памятнику Петру I (будущему Медному всаднику), были снаряжены две поисковые экспедиции, которые, пробродив по лесам все лето, вернулись ни с чем. Вторая экспедиция, отправившаяся вслед за первой, нашла-таки камень - на острове Котлин.4
Неожиданно - раньше об этом не подумали - явилась трудность: как доставить в Петербург «кронштадтский» камень? Дело застопорилось, и тогда через газету «Санкт-Петербургские ведомости» было сделано обращение к частным лицам, которые пожелали бы «для постановления... монумента в гору выломать и привезти сюда, в Санкт-Петербург».
В начале сентября 1768 года на объявление откликнулся крестьянин Сергей Григорьевич Вишняков. Он был призван в Канцелярию от строения домов, которой ведал И.И. Бецкой (именно ему было поручено возглавить работу по сооружению монумента), и рассказал капитану Ласкари, руководителю по поиску камня, что в лахтинских лесах лежит гигантский Гром-камень; Вишняков утверждал, что лучшего камня для пьедестала не сыскать.
Назывался великан Гром-камнем потому, что по преданию во время грозы громом у него был отбит угол. В результате, образовалась трещина в 15 вершков; со временем она наполнилась черноземом, в котором выросло несколько березок. По словам крестьянина, Петр I не раз всходил на этот камень для обозрения окрестностей. По другой легенде, Петр наблюдал отсюда морские баталии.
Ласкари вместе с Вишняковым на следующий же день отправился в Лахту, дабы убедиться воочию, что это тот самый камень, который так долго искали. Произведя необходимые замеры и возвратившись в Петербург вместе с осколком камня, Ласкари 10 сентября докладывал Бецкому, что камень «сыскан на Выборгской стороне в даче его Сиятельства графа Якова Александровича Брюса близ деревни Конной... а везти оный надлежит сухим путем около шести верст до деревни Лахта, а оттуда на судно до означенного места...»
Вот как передал свое впечатление от лахтинского камня очевидец, И.-К. Бакмейстер, библиотекарь Академии наук: «Взирание на оный возбуждало удивление, а мысль перевезти его на другое место приводила в ужас».
У Фальконе явилась было мысль обработать камень на месте и таким образом доставить его в Петербург в «облегченном» виде, однако в дело вмешалась Екатерина, повелевшая перетащить Гром-камень, на зависть всей Европе, в целом виде.
Между тем размеры камня (параллелепипед около 13 м в длину, 8 м в высоту и 6 м в ширину) и его вес (около 1 800 т) внушали не только ужас, но и сомнения в том, что его можно сдвинуть с места, не говоря уже о перемещении по суше, а потом по воде - только так его можно было доставить на Сенатскую площадь.
Осознавая, сколь сложно переместить такую громадину к месту возведения будущего памятника, Екатерина назначила награду в семь тысяч рублей тому, кто придумает способ транспортировки. Поступило несколько предложений, но почти все из них были с теми или другими недостатками.
Тем временем решено было расчистить место вокруг камня и раскопать его. Неподалеку от Конной деревни командир сводного полка капитан Палибин собрал около пятисот человек, для которых к маю 1769 года были поставлены жилые избы и воинские казармы. В соответствии с планом место вокруг камня было расчищено от кустов и деревьев. Тогда же, в мае, Фальконе приступил к первой обработке исполина. Впрочем, скульптору не довелось много поработать в Лахте, ибо, как уже было сказано, по воле Императрицы «гора» должна была быть доставлена на Сенатскую площадь в целом виде.
Спустя четыре месяца камень был очищен от земли, после чего его обнесли лесами. На краю котлована установили блочные ворота, а затем вырыли и подъемный желоб длиною в сто саженей.
Не менее сложной задачей был выбор пути, по которому камень предполагали доставить к берегу Маркизовой лужи. Подпоручик Иван Шпаковский и землемер Иван Хозяинов наметили трассу, проходившую по Лахтинскому лесу, мимо Конной деревни, по дороге к усадьбе графа Брюса. Было выкорчевано много леса, укреплены (с помощью свай) дороги, а через один из многочисленных ручьев был перекинут каменный мост. На берегу залива весной 1769 года была устроена пристань.
Петровская сосна и часовня
Петровская сосна и часовня
Между тем под камень, в соответствии с принятым планом, были уложены параллельно два рельсовых бруса с литыми медными желобами, в которые были помещены, по 15 штук в каждый, бронзовые шары. В результате первого испытания «шаровой машины» было «ходу сделано на пол сажени», поскольку рельсы под тяжелым грузом просели. К ноябрю, как и водится в здешних краях, грунт окреп, и была предпринята очередная попытка передвинуть камень. На сей раз было преодолено расстояние в 23 сажени (49 м). Работы по перемещению исполина продолжались 21 ноября 1769 года, а затем в 1770 году - 16 января (20 января Лахтинский лес с намерением присутствовать при передвижении гранитной глыбы посетила Императрица Екатерина, в честь какового события была выбита медаль с надписью «Дерзновению подобно»), 21 февраля, 6 марта - эти даты отмечены в специальном журнале. В иные дни, не отмеченные особо, двигались весьма быстро; так, 9 января был проделан путь в 133 сажени. На камне во время его передвижения находились барабанщики, которые давали знать, когда начинать работу и когда ее заканчивать. На одном из краев великана была устроена караульня.
Слухи о том, что происходило в Лахтинском лесу, уже давно волновали петербуржцев. С того времени, как скала сдвинулась с места, началось подлинное паломничество. Люди приезжали в Лахту и часами наблюдали за тем, как движется «гора».
К 21 марта каменное чудище выползло из леса и оказалось на берегу, на подступах к пристани. От лесной стоянки камень отделяли 3 688 саженей (почти восемь километров), преодоленные исполином и сопровождавшими его (с неимоверными трудами) четырьмястами людьми за неполных пять месяцев. В начале августа 1770 года камень навсегда покинул Лахту и в сентябре был доставлен к месту назначения. Уже не одно столетие Гром-камень покоится на Сенатской площади, поддерживая конную статую Петра I. О его первоначальном виде, внушавшем когда-то ужас людям, уже ничто не напоминает. Он слился воедино с памятником, которому служит пьедесталом и вместе с ним вызывает восхищение многочисленных туристов. Но в Лахте осталась память о нем: Петровский пруд, хорошо знакомый местным старожилам, есть ни что иное, как котловина глубиной в четыре метра, продавленная Гром-камнем в болотистой почве. Южный конец пруда вытянут в широкую прямую канаву - это след, оставленный Гром-камнем. Со временем яма наполнилась водой, и пруд мало-помалу зарастает...
В то время, когда владельцем Лахты был гр. Григорий Орлов, здесь насчитывалось сорок шесть дворов с более чем двумястами тридцатью жителей.5 В летнее время население лахтинских деревень увеличивалось за счет дачников. Вообще петербургская дача появилась едва ли не одновременно с зарождением Петербурга. Когда Петр I помышлял о том, что центр северной столицы разместится на Васильевском острове, границей города должна была стать речка Мья (Мойка), и вдоль левого берега ее были нарезаны дачные участки. Спустя несколько лет эти последние оказались в городской черте, и границей города стала Фонтанка; позднее дачные участки стали выделяться вдоль Петергофской першпективы. Еще при Петре I под дачи были отданы большие петербургские острова - Каменный, Елагин, Крестовский, Петровский. Тогда же была введена так называемая «дачная повинность» - от владельцев дач требовалось обрабатывать землю, разбивать сады и прочее.
Перевозка Грома-камня
Перевозка Грома-камня
В начале прошлого столетия утвердилась и стала увеличиваться в числе новая разновидность дачников - то были городские жители, не владевшие землей и не имевшие загородного дома, но желавшие провести три летних месяца на природе. Первые лахтинские дачники появились в 1830-х годах6. Сюда, к песчаным берегам Маркизовой лужи, их влек чистый морской воздух и девственные леса, хотя купание тут всегда было сопряжено с длительным пешим переходом, ибо надо было брести по колено в воде едва ли не с версту, чтобы наконец окунуться (правда, прибрежные воды Финского залива в летнее время хорошо прогреваются). Тогдашние дачники, договорившись с хозяевами о плате и осмотрев помещение (к 1830-м здесь было около 70 дворов), добирались сюда морем, на барках и в лодках - так было удобнее перевозить мебель.
К середине девятнадцатого века появился многочисленный класс людей среднего достатка, которые с удовольствием съезжали на лето на дачи, обходившиеся дешевле городских квартир. К тому же петербургские набережные летом превращались в сплошные причалы, а в воздухе стоял дым, исходивший от фабричных труб. Весь город превращался в огромную строительную площадку (наезжали сезонные рабочие). Общественная жизнь замирала.
Постепенно сдача помещений на лето стала выгодным промыслом для лахтинских жителей. К середине прошлого столетия здесь среди дачников можно было встретить даже состоятельных горожан. В Финском заливе в изобилии водились осетры, навага, семга, камбала, макрель, «захожие сельди» и «салакушка», любимая пища чухонцев. Залив в летнюю пору был усеян лодками. Рай тут был и для охотников: в заросших камышами Лахтинских болотах в середине прошлого века насчитали сорок четыре вида птиц. Однако на причуды местного климата приходилось буквально закрывать глаза: сильные западные ветры гнали на Лахту тучи песка, и многие жаловались на рези в глазах. Вот еще одна неприятность, настораживавшая потенциальных дачников: при сильных ветрах со стороны залива огороды, луга, дворы, погреба и ледники заливались водой. Вода в колодцах была плохого качества, и ею поили только скот; один знаток петербургских дачных окрестностей уверяет, что лахтинские жители и приезжие пили морскую воду,7 хотя точнее будет сказать, что воду доставляли сюда в бочках. Пили и ключевую воду и, разумеется, все то, что не только утоляло жажду, но и помогало лучше переносить неудобства, сопряженные со своеобразными местными условиями.
С целью привлечения дачников некоторые дороги в Лахте были укреплены и расширены, по сторонам Конно-Лахтинской улицы выкопаны канавы для стоков воды, и потому она обыкновенно была сухой. В середине прошлого века через Лахтинский залив был наведен плавучий мост трехсот саженей длины, «который так устроен, что держась между двумя рядами вбитых поперек разлива свай, постепенно, по мере прибыли и убыли воды, поднимается». Последние две версты к Лахте «дорога на Сестрорецк» была поднята на сажень во избежание размыва весенними водами.
И все же, несмотря на разного рода неудобства, решающую роль при предпочтении Лахты как дачного места играли близость к городу и отсутствие фабрик и заводов (то есть свежий воздух, ради чего, собственно, и снимают дачи). Главными съемщиками во второй половине прошлого столетия тут были немцы и англичане, предпочитавшие здешнюю, патриархальную тишину модным и шумным дачным местам.
По административному делению в 1863 году (тогда это называлось «деление по особым управлениям») Лахта заключала в себе пять селений, составлявших так называемое «Лахтинское общество Старо-деревенской волости 1-го мирового участка Санкт-Петербургского уезда». К этому «обществу» были приписаны 249 крестьян. Дачники летом добирались сюда на дилижансах («опеки умершего купца Гаврилы Васильева» или «портного цеха мастера Алексея Шишова») до Новой Деревни, а потом на извозчике. В 1860-х годах в Лахте была частная пароходная пристань.
К 1880-м годам в деревне Лахте и селе Бобыльском было 72 двора. Большую часть населения (пять шестых) составляли финны, которые по-русски говорили плохо, но с дачниками общий язык они находили. Сдав свои дома на лето, сами они селились в сараях, где зимой помещался скот. Жили они, помимо сдачи своих жилищ, продажей молока, земледелием, извозом и «вывозкою из города нечистот»8.
Больницы в Лахте в прошлом веке не было, но известно, что примерно с 1884 до 1895 года в летнее время здесь работало «аптечное отделение провизора Томсона».
С постройкой в 1894 году Приморской железной дороги, которая связала Петербург с курортом Сестрорецк, Лахта стала доступнее для горожан и, можно даже сказать, ближе. За несколько лет до конца столетия к ней было привлечено общественное внимание и в силу следующего обстоятельства. Дачники и местные жители, задумав построить здесь приходской храм, вспомнили о том, что именно в Лахте был поражен смертельным недугом Петр I[]. Петровская сосна, единственный памятник в честь подвига царя, за многие годы лишилась зеленых ветвей, а сучья почти сгнили. Иконы почернели от времени.
Был организован сбор пожертвований на сооружение храма, которые принимались по адресу: «Васильевский остров, угол Малого проспекта и 12-й линии, контр-адмиралу Александру Ивановичу Петрову[*] в собственном доме».9 Комитет по сбору пожертвований распространил сообщение, в котором, в частности, говорилось: «Крепкие верою в Бога и любовию к своим монархам, великодушные сыны России! Сердце Ваше скажет, что это место должно быть незабвенно для отчизны и достойно может быть увековечено единственно храмом Божиим как памятником, наиболее соответствующим христианскому подвигу Императора Петра I».
С.-Петербург. Сенатская площадь. Медный всадник
С.-Петербург. Сенатская площадь. Медный всадник
29 июня 1893 года, в день апостолов Петра и Павла, в Лахту из Петербурга, из Колтовской церкви, пришел крестный ход, находившийся в пути более трех часов. Митрополит Палладий, в сослужении епископа Николая, заложил при большом стечении народа церковь св. апостола Петра. На церемонии закладки камня присутствовали: председатель Общества спасания на водах, член Государственного Совета генерал-адъютант Посьет, товарищ обер-прокурора Святейшего Синода тайный советник В.К. Саблер, временно управляющий губернией вице-губернатор, флигель-адъютант Косач и почетные гости. Митрополит на месте закладки вложил монеты и закладную доску, освятил молитвой и кроплением святой водой все четыре угла «новосозидаемого храма, на каждом углу крестообразно ударяя топором».
Проект деревянной, на каменном фундаменте, церкви с шатровой колокольней разработали академики архитектуры Василий Васильевич (1861-1934) и Василий Иванович Шаубы (1834-1905), местные жители.[**]
В тот же день в полутора верстах, на берегу залива, под гром салюта с судов местного Яхт-клуба была освящена чугунная, на гранитном основании часовня (архитектор В.И. Шауб). На часовне предполагалось повесить колокол «самозвон» для предупреждения о надвигающейся буре. Осуществилось ли это намерение, неизвестно, но колокол ко времени освящения был готов.
Лахтинский дачник, живописец-акварелист Адольф Иосифович Шарлемань (1827-1901), написал три образа: два висели снаружи, третий, в рост человека - «Христос спасает апостола Петра» - внутри.
По окончании обеих церемоний доктор Левицкий, помощник председателя комитета по сооружению храма, обратился от лица прихожан к митрополиту с просьбой дать благословение на устройство в Лахте часовни при местном обществе спасания на водах. Благословение было дано...
Часовня
Часовня
С 1860-х годов Лахта и окрестные селения (всего 4 143 десятины земли) принадлежали «наследникам графа Владимира Андреевича Стенбок-Фермора». Стенбок-Ферморы - старинный род[1*], и на истории их стоит остановиться поподробнее.
Стенбок - шведская фамилия, известная еще с XIII века. В 1651 г. род Стенбоков был возведен в графское достоинство. Шведский генерал Стенбок (граф Магнус, 1664-1717 г.) принимал участие в Северной войне и много содействовал победе шведов под Нарвою. Потомки его поселились в Эстляндии (нынешняя Эстония). В 1825 году графу Иоанну Магнусу, мать которого была единственной дочерью графа В.В. Фермора[1**], разрешено было именоваться, с потомством, графом Стенбок-Фермор.
В 1890-е годы владельцем мызы был граф Владимир Александрович Стенбок-Фермор (1847-1896; похоронен в Царском Селе). Это он пожертвовал для церкви землю, а кроме того двадцать тысяч рублей (средства на возведение храма собирали также жители Лахты и Ольгино). Работы по сооружению храма велись под руководством строительного комитета во главе с супругой обер-прокурора Св. Синода Е.А. Победоносцевой. Интерьер здания, поставленного на гранитном фундаменте и цоколе, был выкрашен «под мрамор». Иконостас (средства на него пожертвовал купец Овчинников) был выполнен в «малоохтенской мастерской Наумова», а часть икон для него подарил А.И. Шарлемань. Все иконы были исполнены на цинке с золотым чеканом.
12 июня 1894 года состоялось поднятие колоколов, а 31 июля митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Палладий вместе с о. Иоанном Кронштадтским освятили храм. При этом событии присутствовали епископ Назарий, настоятель церкви о. Алексей (А.П. Стефановский), обер-прокурор Св. Синода К.П. Победоносцев, Санкт-Петербургский начальник губернии егермейстер Высочайшего Двора граф Сергей Александрович Толь и Владимир Александрович Стенбок-Фермор. Услышанные собравшимися слова были изданы отдельной брошюрой, из которой извлеку одну лишь фразу: «Этот храм тем дороже и любезнее должен быть вашему сердцу, что он создан в память беспримерного христианского подвига незабвенного для России монарха Петра I, с опасностью для собственной жизни спасшего двадцать человек своих подданных...»
В престольный праздник местные жители шли от церкви св. апостола Петра к чугунной часовне с крестным ходом.
Рядом с храмом (Лахтинский пр., 94) было выстроено двухэтажное здание для помещения в нем приходской церкви и приюта, средства на которое выделил Стенбок-Фермор. В полуверсте от него, за железной дорогой, располагалось приходское Новое кладбище с Владимирской часовней, где были похоронены, среди прочих, историк А.С. Грачевский и живописец Михаил (Михай) Александрович Зичи (1827-1906; впоследствии прах художника был перевезен на его родину, в Венгрию).
1 сентября 1896 года на взморье была освящена деревянная часовня - Божией Матери Утешительницы всех страждущих и горем опечаленных. Она принадлежала Обществу спасания на водах, имевшему здесь отдел, который, как нетрудно догадаться, назывался Петровским.
Часовня была поставлена на средства «сочувствующих» и предназначалась для того, чтобы давать последний приют телам погибших в Неве, которых течение приносило к Лахте.
По окончании молебствия духовенство с крестным ходом прошло на пристань, где окропило святой водой новый спасательный буер».
Петровскому отделу спасательной станции Императорского Российского общества спасания на водах принадлежали восьмивесельная стальная спасательная лодка «с опускным килем», двухвесельная лодка, спасательные приборы, три маячных огня на станции во время навигации.
В поселке всегда была работа и для Лахтинского вольно-пожарного общества (устав утвержден 1 сентября 1883 года) - ведь большинство домов в округе было деревянными. В состав пожарной дружины в 1905 году входили: 60 лазалыциков, 69 качалыщиков, 5 водоснабжателей, 27 охранителей, 3 санитара и - какое же общество без них - 15 почетных членов.
На углу Юнтоловской и Колодезной улиц находилась еще одна часовня, Ольгинская (дату постройки установить не удалось). К истории Ольгино мы теперь и переходим.
Семейство Стенбок-Ферморов владело не только Лахтой, но также Лисьим Носом, Горской и Дибунами. Однако местопребыванием своим они избрали все-таки Лахту. На берегу залива по проекту архитектора Алексея Ивановича Кузнецова[2*] (1865 - после 1917) в 1890-х годах был выстроен каменный двухэтажный особняк, получивший название Охотничий замок (Лахтинский пр., 104). В нем был устроен большой двухсветный зал, на второй этаж вела беломраморная лестница работы скульптора Грациозо Ботта (1836-1898). Богатый камин был облицован голландскими кирпичами с отделкой из резного дерева работы художника Волховыского.
Очевидно, в начале нынешнего столетия был построен дом, в котором разместилась контора управляющего имением Стенбок-Фермора (дом сохранился до сих пор - это выкрашенное в розовый цвет сооружение с башенкой стоит на шоссе неподалеку от железнодорожной станции Ольгино).
К началу двадцатого столетия финансовое благополучие Стенбок-Ферморов пошатнулось. Причиной тому была расточительность нового владельца поместья Александра Владимировича (1878-1945). Дело дошло до того, что его мать[2**] была вынуждена просить об опеке над ним. Сохранилась телеграмма от 29 октября 1903 года2.
«Его Императорскому Величеству. Ваше Величество. Обращаюсь к Вам с невыразимо тяжелой для меня просьбой. Зная меня, Вы поймете, что действительно только крайность заставляет меня беспокоить Ваше Величество. Сын мой граф Александр Владимирович Стенбок-Фермор вступил в заведывание своими делами и имуществом три года тому назад. Подпав под вредное влияние женщины, он неразумными действиями довел свое состояние до полного разорения. Из капитала в 2 миллиона у него осталось 200 000. Заводы уже 6 лет не дают дохода, а имение Лахта почти ничего не приносит. Единственное спасение - это учреждение Высочайшей опеки над личностью и имуществом сына. Опекунами согласились быть генерал-адъютанты граф Воронцов-Дашков и барон Мейендорф. Назначить опеку необходимо немедленно телеграммой министру юстиции по особому указу Вашего Императорского Величества. Это нужно сделать немедленно по особо важным причинам, а то будет поздно. Тайна должна быть полной, а то все пропадет. Горячо верю, что Ваше Величество поймете и не осудите моей просьбы. Нужно спасти сына. Сделайте это в память его отца. Поддержите меня в нужную минуту, Вы одни можете помочь. Графиня Мария Александровна Стенбок-Фермор, рожденная графиня Апраксина».
Лахта. Храм св. ап. Петра
Лахта. Храм св. ап. Петра
На следующий день Высочайшее соизволение на опеку было получено. Близость семьи Стенбок-Ферморов к Императорской чете во многом определялась прошлой службой графа Владимира Александровича в царскосельском лейб-гвардии Гусарском полку. В 1890-е гг. одновременно с ним в полку официально числился и Великий Князь Николай Александрович. Сын графа Александр также служил в лейб-гусарах Его Величества. С начала русско-японской войны он поступает в Приморский драгунский полк. В 1905 году, в связи с обстоятельствами, изложенными в письме его матери, Александр Владимирович вышел в отставку.
В 1905 году Стенбок-Ферморы предприняли попытку поделить земли вокруг Лахты на участки и распродать их под дачи. Так возникли поселки Ольгино (назван в честь жены А.В. Стенбок-Фермора), Владимировка (в честь отца хозяина; ныне входит в поселок Лисий Нос) и Александровка (в честь тогдашнего владельца Лахты, Александра Владимировича).
Поселок Ольгино был распланирован среди разреженного соснового леса, в котором и расположился. С самого основания Ольгино тут было больше удобств для проживания и приятного провождения времени, чем в Лахте. Здесь был разбит парк, устроены летний театр, спортивная (гимнастическая) площадка на углу Лахтинского проспекта и Михайловской улицы, теннисный корт на Морской улице, еще один корт на Графском проспекте (о теннисе чуть дальше), яхт-клуб.
Одновременно со строительством домов протягивали электрические и телефонные кабели, прокладывали улицы. Название одной из новых улиц Ольгино напомнило о ее тесном соседстве с Лахтой[3*]. Конно-Лахтинская улица шла вдоль Ольгинской западной околицы к 1-й Конной Лахте.
Дача Нильсена в Лахте
Дача Нильсена в Лахте.
Фото 1910-х гг.
При строительстве Ольгино были разобраны остатки старых кирпичных заводов. Один из них в 1905 году принадлежал графине Стенбок-Фермор и находился по следующему адресу: «3 стан, деревня Лахта, имение Лахта» (уезд, в соответствии с полицейским делением территорий, делился на станы и сотни). На этом заводе было занято тринадцать рабочих. Был здесь и торфяной завод. Вплоть до недавнего времени от лахтинских кирпичных заводов оставались кое-где ямы для выемки глины, по которым специалисты и энтузиасты изучали слоистость так называемых ленточных глин.
Ближние Дубки оказались теперь ближе к Ольгино, чем к Лахте. К описываемому времени там находилось лишь несколько дворов, объединенных названием Верпелево (ныне не существует), против которого, весь заросший камышами, едва выступал над водой остров Верпер-Луды.13
Граф Александр Владимирович был покровителем научных начинаний или, говоря нынешнем языком, спонсором. Так, в 1909 году он снарядил экспедицию под началом геолога К.А. Воллосовича[3**] для изучения останков мамонта на Новосибирских островах в Ледовитом океане. Экземпляр мамонта был доставлен в Охотничий замок, где и препарировался в специально отведенном для этой цели Стенбок-Фермором помещении. То, что осталось от мамонта в результате его тысячелетнего нахождения под землей и последующего препарирования, было затем передано графом в дар Парижской Академии наук.
Центром науки, несмотря на этот неординарный эпизод, Лахта не стала, но зато про нее можно смело сказать, что это родина отечественного тенниса.
6 августа 1913 года местный Лаун-теннис Клуб отмечал четвертьвековой юбилей, который был отпразднован очередным состязанием. Лахтинскому клубу был вручен «серебряный кубок художественной работы» от Всероссийского Союза Лаун-теннис Клубов. И было за что. Лахтинский теннисный клуб «Клеверный листок» был одним из самых энергичных пропагандистов нового для России вида спорта. В 1912 году его членами были 120 человек; в другом местном клубе, называвшемся просто Лахтинским, состояло 97 человек. Из этих более чем двухсот человек около сорока процентов составляли женщины.
В Лахте и Ольгино было шесть площадок, которые редко пустовали. Некоторые местные соревнования вызывали большую прессу. Так, 27 мая 1912 года был разыгран «американский матч», победителями в котором вышли гости - г-жа Э. Сенксен и г-н Гибсон.
Председателем «Клеверного листка» в 1910-х годах был не кто иной как Василий Васильевич Шауб. Это по его предложению была построена еще одна, седьмая по счету площадка.
2 июня 1913 года состоялось поднятие флага и освящение нового здания Лахтинского Лаун-теннис Клуба, которое спроектировал его член, архитектор Лев Акселевич-Серк (1882-1955). После молебна для присутствовавших был сервирован завтрак, который, по сообщению прессы, носил «чисто семейный характер».17
За несколько лет до трагических событий 1917 года в Лахте было около 70 дворов и чуть больше трехсот жителей. В Ольгино построено было около ста пятидесяти дач, а в деревне Бобыльской домов насчитывалось совсем немного.18
По административному делению Лахта в начале нынешнего века составляла так называемое «Лахтинское сельское общество Стародеревенской волости Санкт-Петербургского уезда». В это «общество» в 1905 году входили: деревни Бобыльская (20 домохозяев, 122 жителя), Конная Лахта (33 домохозяина, 191 житель) и Лахта (72 домохозяина, 392 жителя). Самым крупным землевладельцем здесь был, разумеется, Александр Владимирович Стенбок-Фермор - ему принадлежали 5 758 десятин земли (более шести гектаров).
Застройка Лахты в конце прошлого века регламентировалась специальными распоряжениями, которые препятствовали хаотичному самовольному строительству, предусматривали противопожарные меры и так далее. Прежде чем приступить к постройке дома, жителям Стародеревенской волости предписывалось испросить на то разрешение Санкт-Петербургской Уездной Земской Управы и представить план. Чиновники из Управы изучали план в течение двух недель и возвращали его, оставив себе копию. Без плана всякая постройка приостанавливалась распоряжением местной полиции, виновных привлекали к ответственности, а постройки - по решению суда - приводились «в положение согласное с законами и правилами». Никто, впрочем, против подобных строгостей не роптал, да и не было такого, чтобы сносили выстроенный дом. Все осознавали разумность такого рода указаний, поскольку они были понятны и не преследовали цель кого-то ущемить в правах: крыши крыть соломой нельзя, дымовые трубы возводить на фундаменте, трубы должны быть выше конька на аршин, фасады домов следовало обращать на улицу, наиболее оживленную, и ставить в линию с другими домами, в соответствии с петербургской традицией.
К концу прошлого - началу нынешнего столетия в Лахте и Ольгино не было ни одной книжной лавки, библиотеки для чтения или народной читальни. Однако еще в 1860 году для финнов открылась школа, которая с 1874 года размещалась в отдельном здании (Лахтинский пр., 62); в нем, начиная с 1894 года, финские и немецкие пасторы проводили молитвенные собрания. В 1900 году лютеране задумали было поставить церковь, но не получили на то разрешения. Только в 1904 году по проекту архитектора Эрнста Федоровича Шитта (1864-1907) был построен молитвенный дом на 250 человек (Лахтинский пр., 64), который был приписан к столичной финской общине (кирха находилась по адресу: Большая Конюшенная ул., 6-а). Литургию в молитвенном доме служили только пять раз в году. (Летом 1939 года он был закрыт, а затем и снесен.) К 1906 году рядом со школой, известной как «евангелическо-лютеранское училище Финской церкви св. Марии», был выстроен приют; в 1898 году в «финской школе» числилось 47 учащихся.
В Лахте было к концу столетия два кладбища - Старое и Новое; постепенно они слились в одно, и прежние названия теперь принадлежат истории.
В летнее время в поселке работало почтово-телеграфное отделение. Летом было открыто и Временное аптечное отделение 1-й гильдии купца Меера Юделевича Гордона, где управляющим был Юстус Богданович фон-Вилель.
Охотничий замок
Охотничий замок
За общественным порядком в Лахте и Ольгино надзирали урядники 32-го полицейского участка.
В летнее время многие дачники по-прежнему добирались сюда водным путем. От Николаевской пристани в Петербурге в направлении Лахты курсировали небольшие суда Финляндского общества легкого пароходства. Был и другой способ: на конке от Михайловской площади (или на пароходе от Летнего сада) нужно было добраться до Новой Деревни, где у сада «Аркадия» находился вокзал, а оттуда до Лахты рукой подать. Здесь Приморская железная дорога разделялась на две линии, одна из которых (Приморско-Сестрорецкая) шла вдоль Финского залива до Сестрорецкого курорта. По обеим сторонам железной дороги тянулись сосновые и еловые леса, перемежаемые болотами, среди которых стояли березовые и ольховые деревья - вид из окна вагона отнюдь не однообразный. Железнодорожная станция «Лахта» до 1917 года находилась ближе городу. При ней был ресторан, носивший неофициальное название «Фарватер».
Ольга и Александр Стенбок-Ферморы на ступенях замка
Ольга и Александр Стенбок-Ферморы
на ступенях замка
В Новой Деревне, напротив вокзала, был пристань, к которой подходили пассажирские пароходы и баржи с грузом. К пристани был проложен железнодорожный путь. Вагоны, перевозившие пассажиров, были выкрашены в ярко-желтый цвет.
На станции железной дороги можно было нанять одноконного извозчика (в телеге или на дрожках). Пассажир с попутчиком и ручным багажом, желавший доехать от станции до деревни Бобыльской платил 25 копеек, до Конной Лахты - 35, причем в эту плату входил и «холостой» прогон извозчика назад.
В начале века в Лахте продолжалось строительство дач, что свидетельствовало о благополучии хозяев. Так, в 1910-1914 гг. Георгий Фердинандович Вольдт (1885-1937; погиб в сталинских лагерях) на участке, принадлежавшем купцу 3-й гильдии Сойтонену, построил дом из шлакоблоков, изготовленных по собственному рецепту (Хвойная ул., 16 - Ключевой пр., 20 - сохранился поныне). В 1914 году на Лахтинском пр., 115, была выстроена дача А.Ф. Ташейт (архитектор Сергей Осипович Овсянников, 1880-1937: погиб в сталинских лагерях). Привлекали внимание внушительностью форм построенные до 1917 года дача Польтрока на Надеждинской улице, 13, с многочисленными службами, дом Козинцевых на Колодезной улице, 31 (1912 год), дачи на Графском проспекте, 13 и Садовой улице, 15. В 1907 году А.В. Стенбок-Фермор подарил на свадьбу своему заведующему конюшней Михаилу Ивановичу Гололобову лес для постройки дома, каковой тот и поставил (дом сохранился - Пролетарский пр., 7).
Лахта. Дача Дрожжина. Фото 1910-х гг.
Лахта. Дача Дрожжина.
Фото 1910-х гг.
Начиная с 1915 года, в Лахту зачастил человек, который часами бродил в одиночестве вдоль залива. На него никто не обращал внимания, и если бы он после каждой прогулки по Лахте не оставлял в своем дневнике лаконичные записи, мы бы никогда не узнали, что этим человеком был Александр Блок.
Вот какие записи, среди прочих, оставил поэт в своем дневнике в 1915 году: «20 июня. ...на Лахте у моря. ... 23 июня. ... Лахта, море». Приехать сюда Блока вынудили тогда, по его признанию, «гнусные денежные дела и связанные с ними чувство отчаяния от людской подлости и собственной беспомощности». Но спустя год, 11 июня 1916 года, он снова на северном берегу Финского залива, а потом он приезжает сюда еще раз 15 июня и выносит этому тишайшему захолустному предместью вердикт: «Мрачная Лахта». Существуют и более поздние дневниковые записи, относящиеся к Лахте и Ольгино: «...Березы осыпают сережки, травы скошены и погрубели, холодный ветер, море в гребешках, скалу рассыпаются брызги, пусто, рано темнеет… Море так вздулось, что напоминает своих старших сестер. Оно прибивает к берегу разные вещи - скучные, когда рассмотришь их, грозные издали Клочья лазури. Ароматы природы. Темнеющий берег и лес. Обстановка чайной. Поля и огороды».22
В стране между тем назревали роковые события. С начала I Мировой войны проживавший в то время во Франции Александр Стенбок-Фермор поступил на службу в армию союзников. Не лишена патриотизма была и старая графиня. В духе времени она в кратчайшие сроки переоборудовала свою лахтинскую резиденцию под лазарет. В 1915 году в Охотничий замок заезжал женатый на дочери графини командующий Гвардейским корпусом генерал В.М. Безобразов. «Я застал ее за работой в устроенном ею в Лахтинском дворце госпитале.»23 В 1916 году графиня скончалась. Ее сын Александр вернулся, чтобы похоронить мать, и снова отбыл на французский фронт. После I Мировой войны и революций Александр и Ольга Стенбок-Ферморы в Россию не приезжали.
После трагического 1917 года объектом внимания новых властей (когда дело дошло до Лахты) стал прежде всего Охотничий замок. Уже весной 1919 года по распоряжению комиссариата Народного Просвещения в нем разместилась Лахтинская Экскурсионная станция.
Всего тогда в городе и в окрестностях Петрограда было открыто шесть станций, где учащимся прививали любовь к родной природе.
Музей, а также зоологическая и энтомологическая лаборатории размещались во втором этаже здания. На лестничной площадке, между первым и вторым этажами, были развешены планы местности, а также фотографии и рисунки, многие из которых были сделаны учащимися. Перед входом в музей висела картина художника И.И. Никифорова «Лахтинское взморье у Экскурсионной Станции с часовней». Над камином, на месте украденного большевиками гобелена, висела большая (2 х 1,6 м) картина архитектора и художника-акварелиста Альберта Николаевича Бенуа (1852-1936) «Северное побережье Невской губы»; она была подарена автором Виттенбургу. На картине, в частности, были видны остатки «братской могилы» времен русско-шведской войны. Картины Бенуа висели в каждом отделе музея. Художник создавал их специально (и безвозмездно) для этого учреждения, учитывая его направленность.
Исторический отдел украшала акварель Шарлеманя «Экскурсия к большому камню на фоне Петровской сосны и часовни» (1894 год). Картину подарил музею местный житель, домовладелец К.Ф. Грюнбуш.
Надобно сказать, что живописные лахтинские пейзажи не раз вдохновляли художников. Самый известный из них, И.И. Шишкин, запечатлел местные красоты в двух картинах - «Дубовая роща в Лахте» и «Дубки в Лахте» (1878 год). Что же до Никифорова, то этот художник-реставратор (живший в Лахте, на Вокзальной улице, 11), написал гораздо большее число картин с видами Лахты, но, в отличие от произведений Шишкина, его работы не сохранились или, во всяком случае, неизвестны.
Прежде чем перейти к рассказу о дальнейших событиях, вспомним о постигшем в 1924 году Ленинград бедствии - наводнении.
23 сентября вода затопила Лахту. Были снесены многие постройки, ветер (силой 40-42 метра в секунду) вырывал деревья с корнем, срывал крыши с домов. Рельсы отнесло с насыпи далеко в сторону, вследствие чего железнодорожное сообщение между Ленинградом и Сестрорецком было прервано. Жертв среди людей не было, но во время наводнения 1924 года погибла петровская сосна.
В 1930-е годы на Лахтинском болоте начались разработки торфа. Тогда же приступили к работам по осушению Лахтинского торфяника для использования этих мест под луга, огороды и пашни.
Но те же двадцатые-тридцатые годы отмечены в истории страны - и, разумеется, в истории Лахты и Ольгино - и варварством по отношению к памятникам культуры и старины, возводившимся вдохновенным трудом на радость людям. В 1938 году церковь св. апостола Петра была закрыта, и в ней в 1939 году устроили кинотеатр под названием «Звезда». Иконы были вывезены в помещение поселкового совета на Юнтоловской улице; дальнейшая их судьба неизвестна. Колокольня храма была снесена, главный корпус удлинен, и к нему приделали каменное крыльцо, служившее входом в кинотеатр.
Еще раньше, в двадцатых годах, была снесена часовня памяти Петра I. Видимо, в те же годы была разрушена и часовня на углу Юнтоловской и Колодезной улиц.
В 1930 году был закрыт местный любительский театр. Здание, в котором он находился, было снесено, и теперь уже ничто не напоминает о его существовании. В 1935 году большевиками был репрессирован финский пастор Корпола. Финская церковь была снесена, и на ее месте возвели жилконтору. В 1937 году была закрыта финская школа.
В 1938 году был образован «поселок городского типа Лахтинский», однако произошло это только на картах и не привело ни к фактическому изменению названия, ни к перемене статуса местного населения или образа его жизни. Основным промыслом здешних жителей по-прежнему оставалась сдача помещений внаем.
Уже через два месяца после начала войны вместе с Ленинградом Лахта и Ольгино оказались в кольце блокады. В ноябре 1941 - весной 1942 годов все жители Лахты и Ольгино с нерусскими фамилиями (преимущественно, финны и немцы) были выселены в 48 часов. Следы многих затерялись в Сибири и в Казахстане. В то суровое время чуть ли не все жители Лахты занимались сельским хозяйством, было здесь много мирных жителей, приезжавших из города. В районе Лахты стояли артиллерийские батареи, в поселке были развернуты полевые госпитали.
По окончании войны Лахту вместе с Ольгино передали в Курортную зону Ленинграда. В 1960-х гг. здесь открылся дом отдыха «Ольгино», были выстроены дома летнего отдыха композиторов и ветеранов театра драмы им. А.С. Пушкина (Александринского). В те же годы здесь открылись детские ясли и несколько детских садов. Вдоль железной дороги были снесены многие дома и проложено еще одно шоссе; движение на нем одностороннее - на запад; прежнее, идущее ближе к заливу тоже стало односторонним. Оно ведет в город. Вдоль него на семь километров от Ольгино до Лисьего Носа (на площади в 46 гектаров) протянулся Северо-Приморский лесопарк.
Лютеранская церковь в Лахте. Фото 1910-х гг.
Лютеранская церковь в Лахте.
Фото 1910-х гг.
С 1960-х гг. в Лахте стали вестись большие работы по намыву грунта. Неоднократно в советские годы выдвигались различные проекты, предусматривавшие исчезновение старой Лахты и превращения местности то в «жилищный массив с общественными зданиями», то в «крупный общественно-деловой центр общегородского назначения с выставочными и спортивными комплексами», то в «советско-канадский Центр развлечений, культуры и знаний» с гостиницами на четыре тысячи человек, океанарием и крытым развлекательно-оздоровительным центром... Начиная с 1976 г. здесь были безжалостно вырублены сотни гектаров соснового леса под очистные сооружения станции аэрации. Рядом была выстроена Северо-Западная ТЭЦ. Район Лахты, славившейся своими тетеревиными токами и бывшей местом обитания редких птиц и животных (каждую весну здесь останавливаются стаи перелетных птиц) стал планомерно деградировать, природная среда - уничтожаться.
Сейчас противоборство человека и природы здесь продолжается, и от людей зависит, не исчезнет ли Лахта без следа как это случилось ранее с другими пригородами Петербурга. Сегодня Лахта находится на перепутье, между прошлым и будущим.
О прошлом напоминает и Лахтинское кладбище где сохранились старинные надгробия с эпитафиями на русском и немецком языках, впрочем; оно не состоит под государственной охраной и не упоминается в «Петербургском некрополе».
Будущее Ольгина и Лахты неопределенно. Осталось сказать несколько слов об их настоящем.
В конце 1980-х годов был наконец закрыт кинотеатр в помещении церкви. Однако, некто устроил в нем кооператив по ремонту катеров и установил в деревянном здании сварочные аппараты.
Лахта. Церковь св. ап. Петра. Современный вид
Лахта. Церковь св. ап. Петра.
Современный вид
В марте 1991 года церковь св. апостола Петра была передана Санкт-Петербургской епархии (начнем отсчет настоящего с этого времени), однако еще раньше, 12 июля 1990 года, в Петров день, у стен храма, после долгих десятилетий безбожия, состоялось первое богослужение в честь святого апостола Петра. Первая служба в самом храме прошла на Пасху 1991 года, а Божественная литургия - в праздник Св. Троицы (Пятидесятницы). 12 июня 1994 года церковь была заново освящена епископом Тихвинским Симоном, а через месяц, 12 июля, торжественно отмечалось столетие храма.
Начиная с 1990 года, когда настоятелем церкви стал свящ. Георгий Артемьев (ныне - протоиерей), в ней шли восстановительные работы. В церкви не было крыши, сгнили простенки, разворована церковная утварь. За минувшие несколько лет сделано очень много, и ныне храм вновь служит людям. Приход у него небольшой, но постоянный и весьма активный. Церковь осуществляет духовное руководство над Лахтинским хосписом[4*], оказывает посильную помощь малоимущим. Усердием прот. Георгия с февраля 1992 года приходе возрождена воскресная школа, где он же является преподавателем.
В Лахте осталось совсем не много памятников старины, и их необходимо сохранить.
Место это значимо и памятно, пожалуй, всей России благодаря человеколюбивому подвигу Петра Великого, знаменитому Гром-камню, славной истории и святыням этой родной нам земли. Здесь наши корни, и если мы будем помнить об этом, у нас есть будущее.
С.-Петербург. Император Петр Великий, спасающий рыбаков
С.-Петербург. Император Петр Великий, спасающий рыбаков.
Памятник на Адмиралтепйской набережной. Фото 1900-х годов
Примечания:
[] Существуют и другие версии причины его смерти, но вряд ли уместно здесь их рассматривать.
[*] Адмирал А.И. Петров (1828-1899) в свое время был участником знаменитой Амурской экспедиции.
[**] На Лахтинском проспекте, 115 находилась выстроенная ими же в 1890-е годы дача.
[1*] Род Стенбок-Ферморов был внесен в пятую часть дворянской родословной книги Санкт-Петербургской губернии и утвержден указом Правительствующего Сената по Департаменту Герольдии от 12 декабря 1850 года за № 9965. 10
[1**] Фермор, граф Виллим Виллимович. Умер в 1771 году. Русский полководец. В 1738 году участвовал в войне с турками, в 1741 году - в шведской кампании. В Семилетнюю войну под начальством Апраксина взял Мемель. В 1758 году он принял главное начальство над армией, занял Кенигсберг и всю Восточную Пруссию. При Екатерине II был смоленским генерал-губернатором.
[2*] Возможно также участие Владимира Петровича Цейдлера (1857-1914), который известен, в частности, постройкой доходного дома А.А. Стенбок-Фермор в Петербурге на набережной Макарова, 12.
[2**] М.А. Стенбок-Фермор (1854-1916). В Петербурге она жила в собственном доме по адресу: Каменноостровский пр., 30.
[3*] Любопытно, что еще в 1877 году Лахтинская улица появилась и в Петербурге. Она названа именно в честь пригородного селения, а до того времени - около ста лет - именовалась Петровской, в честь здешнего домовладельца Андрея Петрова.
[3**] Воллосович провел также геологические исследования на Лахте, задачей которых было выяснить состав подпочв в заболоченных низинах имения. С этой целью было заложено около 120 буровых скважин на глубину от одной до четырех сажен, а местами и до двенадцати. В 1912 году он опубликовал в «Горном журнале» статью «Обзор главнейших гидрогеологических и почвенных элементов имения «Лахта».
[4*] С 1903 года неподалеку от залива стоял одноэтажный деревянный дом, в котором помещалась больница для бедных. После 1917 года здесь находилась районная клиника, потом стационар для одиноких стариков и инвалидов. В 1990 году в этом доме открылся первый в России хоспис (учреждение для безнадежных онкологических больных). Разместить хоспис в этом красивом месте предложил английский журналист Виктор Зорза (его дочь Джейн страдала раковым заболеванием и перед кончиной завещала отцу организовать систему подобных учреждений по всему миру). Среди учредителей хосписа в Петербурге были Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, академик Д. С. Лихачев и писатель Д. А. Гранин. Хоспис в Лахте имеет стационар на тридцать коек и выездную службу, обслуживающую больных на дому. Каждый год в дом милосердия госпитализируется около трехсот пациентов.
Оригинал стать на сайте http://www.mitropolia-spb.ru/vedomosty/n30/51.shtml
Стенбок-Ферморам лахтинское имение стало принадлежать с октября 1844 г., когда во владение вступил граф Александр Иванович Стенбок-Фермор. "Белый замок" построили в 1890-х гг. при графе Владимире Александровиче Стенбок-Ферморе. Авторами проекта называют петербургских архитекторов В. П. Цейдлера и А. И. Кузнецова. По мнению Николая Михайлова, авторство принадлежит Цейдлеру, построившему для Стенбок-Фермора доходный дом на Тучковой набережной, а Игорь Богданов придерживается противоположной точки зрения, считая автором дворца Кузнецова.
В фондах Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга сохранилось описание лахтинского дворца Стенбок-Ферморов, выполненное в 1909 г. Согласно ему, внутреннее убранство дворца отличалось роскошью: полы многочисленных террас и веранд были выложены мрамором. Автор отмечал мраморные камины, паркетные полы, обильную лепнину на потолках, дорогие обои и гобелены на стенах, наличие фарфоровых ванн, уборных, лифт и электрическое освещение.
После смерти В. А. Стенбок-Фермора в 1896 г. лахтинское имение перешло по наследству его сыну – Александру Владимировичу.
В 1912 г. над имением учредили дворянскую опеку, а затем А. В. Стенбок-Фермор пошел на акционирование поместья. Под конец он совсем разорился...
Когда началась Первая мировая война, во дворце разместился лазарет, а уже после Октябрьской революции, весной 1919 г., здесь, по распоряжению Народного комиссариата просвещения, разместилась Лахтинская экскурсионная станция, ставшая уникальным явлением в деле развития отечественного краеведения. Руководил станцией профессор Павел Владимирович Виттенбург, в том же 1919 году основавший при ней «Музей природы северного побережья Невской губы».
Деятельность станции была очень обширной и разносторонней, но год «великого перелома» (1929-й) не оставил ей ни малейшей надежды на существование. В этом музее не было пролетарской идеологии, а значит, музей являлся «классово чуждым». В 1930 г. арестовали П. В. Виттенбурга, вскоре музей закрыли, а коллекции расформировали и вывезли. В 1932 г. экскурсионная станция и музей окончательно прекратили свое существование.
Впоследствии, в 1930-х гг., в бывшем дворце Стенбок-Ферморов размещался детский дом (есть сведения, что он предназначался для детей репрессированных). Как сообщалось в июне 1938 г. в районной газете «Ленинское слово», здесь воспитывались 156 ребят. Одна из публикаций называлась в духе того времени – «Счастливая жизнь советских детей». «Наши дети живут на берегу моря, в бывшем доме барона Стенбок-Фермора, – говорилось в ней. – Они имеют уютные комнаты для игр и занятий, уютные спальни. В играх, на прогулках детей сопровождает песня «Легко на сердце от песни веселой»... Яркая, веселая, прекрасная жизнь наших детей не поддается описанию...».
Во время Великой Отечественной войны в здании действовал госпиталь, а с 1947 г. здесь разместился радиоцентр. Во времена СССР основной задачей радиоцентра являлось обеспечение трансляции 2-й («Маяк»), 3-й и 4-й общесоюзных программ на территории Ленинграда и Ленинградской области в ДВ- и СВ-диапазонах. Была и другая сфера деятельности: здесь глушили западные радиоголоса – «Голос Америки», «Радио «Свобода», Би-би-си и т. д.
В конце 1990-х годов на Радиоцентре № 1 построили современный автоматизированный комплекс, позволивший значительно расширить объем услуг по эфирной трансляции программ УКВ- и FM-радиостанций на территории Петербурга и близлежащей части Ленинградской области. В 2007 году здесь смонтировали центральную земную передающую станцию спутниковой связи (ЦПЗССС) «Лахта-5».
До наших дней от убранства дворца сохранилась мраморная парадная лестница, на решетке которой можно увидеть инициалы Стенбок-Ферморов. Лестница ведет из вестибюля на второй этаж, где расположен большой двухсветный зал, который также сохранился, хотя все его внутреннее пространство занято оборудованием. Согласно описанию 1909 года, зал украшал камин, облицованный голландскими кирпичиками с отделкой из резного дерева, а также «укрепленный к полу трон», представлявший «археологическую редкость».
© Copyright: Людмила Коншина, 2016
Свидетельство о публикации №216042701748
|
Метки: стенбок-фермор |
В тени царской короны |
В тени царской короны
Первый известный представитель рода Клейнмихелей, получивший российское подданство, - - генерал-лейтенант Андрей Клейнмихель если и походил на медведя (фамилия с немецкого переводится как «маленький мишка»), то никак не на маленького. Выросший в семье рижского пастора Андрей Андреевич был исполинского роста, грузный, с крупными чертами лица. Грозный облик сочетался с добрым сердцем и немецкой аккуратностью. Бравый вояка служил России верой и правдой, принимал участие в военных походах в Польше (1778—1779 гг), в Крыму (1783), бил Наполеона и с гордостью носил заслуженные кровью ордена св. Анны 1-й степени, св. Владимира 2-й степени, св. Александра Невского, св. Иоанна Иерусалимского и св. Георгия 4-й степени.
На службе России
Чтобы даже просто перечислить всех Клейнмихелей служивших верой и правдой своей новой родине – России, не хватит газетной полосы. «Усердие все превозмогает» - девиз этого славного рода. Так, один из Клейнмихелей – Петр, был военным министром, а в конце 1842 года стал главноуправляющим путями сообщений и публичными зданиями. Именно при его активном участии окончено строительство моста через Неву (Николаевский), выстроено здание нового Эрмитажа и проведена Николаевская железная дорога!
Еще один представитель героического рода - Владимир Константинович — унаследовал (1912) от отца вальцево-механическую мукомольную мельницу, молочную, свино- и птицефермы, расположенные на южной окраине Курска, а также Ивнянский сахаро-рафинадный завод. Бизнесмен новой формации, он старался одеваться так же просто, как и его рабочих, не гнушался физической работы: вместе с рабочими чистил речку Сейм, чинил лодки.
Но наступали времена, когда заслуги отмечались не орденами, а петлей или пулей. Граф спокойно встретил революцию, так как верил: работники ценят его. И все же во время грабительского налета на имение Владимира Константиновича убили…
Всех скорбящих радость…
Фамилия Клейнмихелей хорошо известна и в Крыму. Представители одной из ветвей этого рода приобрели небольшое имение в Кореизе. Екатерина Петровна Клейнмихель посвятила свою жизнь детям, управлению имениями и благотворительности. Вынужденная из-за туберкулеза подолгу жить в Крыму, вдова заботилась о неимущих больных. Екатерина Петровна была известна в Крыму и как основательница ялтинской Общины сестер милосердия «Всех скорбящих радость».
В кореизском имении графини Клейнмихель часто гостили родственники: Гончаровы, Карамзины, Шаховские, Озеровы. Здесь жил великий князь Николай Николаевич-старший, бывали великий князь Сергей Александрович и великая княгиня Елизавета Федоровна, сербская королева Наталья с сыном Александром, будущим королем Сербии. Сам Император Александр III с супругой приезжал на чай к Елене Петровне, и она часто бывала с детьми в царском имении «Ливадия».
В 1919 году Клейнмихели выехали в эмиграцию. Имение «Кореиз» национализировали и преобразовали в совхоз. Рабочим раздали хозяйственную утварь, самовары, дешевую мебель и сельскохозяйственный инвентарь. Дорогие вещи тоже обрели новых хозяев. Три больших бухарских ковра украсили стены квартиры заведующего административно-хозяйственным отделом Совета Народных Комисаров Крыма тов. Арутова. В 1922 году вещи из имения Клейнмихелей «Кореиз» передали Наробразу. Дальнейшая их судьба неизвестна.
Тем временем Клейнмихели обосновались в Париже. В России же навсегда остались оба сына Екатерины Петровны: Петр, убитый в апреле 1919 года в Сочи и Николай, расстрелянный в Евпатории.
Смерть героя
Подвиг и смерть Николая Клейнмихеля сложно измерить сегодняшними мерками. Грубо говоря, молодой человек служил не за бабло, не за чины – у него и так все было… Так за что же он сложил свою буйную голову? За какие такие понятия?
Шел 1917 год. Россия летела в пропасть. Будучи назначеным в маршевый эскадрон, Николай Владимирович участвовал в кратком походе - усмирял восставших чеченцев, после чего вернулся с эскадроном в Армавир. Из Армавира написал Александру Верховскому, бывшему тогда военным министром, письмо с изложением своих политических убеждений. Это письмо было вызвано размышлениями «толерантного» военного министра, который заявил о «нежелательности служения монархистов в армии» (интересно, а кто, как не монархисты, служили в императорской армии?- А.В.).
«…Я был и остался монархистом. –писал Николай. - Я верил и поныне уверен в том, что сильная власть, единая воля монарха, беззаветно любящего свою страну, стоящего по рождению выше партий и от колыбели приготовленного к несению бремени власти, может руководить судьбами такой страны, как Россия, что лишь такая власть может ее, неделимую, вести к славе, и дать возможность ее разноплеменным народностям постепенно устраивать свое счастье. Происходящее в России после падения Монархии убеждает меня в том еще более.»
Не дождавшись ответа, Николай Клейнмихель уехал к семье в Крым, где, узнав о подробностях тяжелой жизни Царской семьи в Тобольске, стал мечтать о поездке туда для вступления в состав охраняющих Государя красноармейцев. Когда же ему доказали, что своей аристократической наружностью он может возбудить подозрение и повредить царской семье, он начал стремиться к Корнилову. Но его мечтам не суждено было осуществиться.
23-го января во время обыска, произведенного у Клейнмихеля в Евпатории, матросами был найден черновик письма Верховскому. Конечно, Николай мог бы уничтожить письмо при обыске. Но нет -- по требованию полуграмотных матросов он прочел им это письмо сам, поясняя непонятные им места и доказывая силу и значение Веры и Царя для Отечества. Результат такой смелости сказался немедленно.
В тюрьме он все время громко исповедовал свои монархические убеждения. На вопрос комиссара Грубе в ту минуту, когда его уводили на расстрел: «Каковы же теперь Ваши убеждения?» он ответил:
- Я верую в Бога и умру убежденным монархистом.
Некоторые из матросов, пораженные речью Клейнмихеля перед самой казнью, в которой он им объяснял, почему погибает Россия, по их собственному признанию, плакали и просили своего начальника Федосеенко его не убивать, говоря: «Жаль такого убивать!» Но Федосеенко возражал:
- Такого мы все равно не переделаем.
24 января 1918 года Николай Владимирович Клейнмихель был расстрелян.
Крымчане помнят
В 2001 году одна из представительниц Клейнмихелей- - Ксения Михайловна- - посетила Ялту. Почти две недели провела она в Крыму, знакомясь с местами, связанными с памятью ее предков.
В 2004 году в Ялтинский историко-литературный музей поступили воспоминания графини Веры Владимировны Клейнмихель (1877 - 1948), сорок два года жизни которой были связаны с Южным берегом Крыма. Большая часть воспоминаний написана Верой Владимировной в эмиграции уже на склоне лет, но она поразительно хорошо помнила события, имена и названия мест, лишь изредка допуская неточности.
В сентябре 2005 года в Ялту приезжала Софья Владимировна Гудман - «последняя настоящая графиня Клейнмихель», как называет свою кузину Ксения Михайловна. Дочь графа Владимира Петровича Клейнмихеля, она стала последней носительницей этой славной фамилии.
… Сегодня у меня, как и у читателей «КВ», неравнодушных к нашей истории, есть замечательный шанс ознакомиться с подробностями жизни Клейнмихелей в Крыму. В издательстве «Бизнес-Информ» увидела свет великолепно изданная книга «В тени царской короны». Это воспоминания двух представительниц старинной русской аристократии: фрейлииы императрицы Александры Федоровны, графини Веры Владимировны Клейнмихель, и ее матери Екатерины Петровны.
Перед читателем предстает повседневная жизнь русской знати, обычно скрытая от чужих глаз. Вера Владимировна повествует о своей большой и дружной семье с любовью и легким юмором, особенно по отношению к себе. Главные герои «Воспоминаний» - она сама, ее братья Петр и Николай, сестра Мария и, конечно, мать Екатерина Петровна, урожденная княжна Мещерская, внучка историографа Николая Карамзина, хозяйка крымского имения «Кореиз».
Книга иллюстрирована редкими фотографиями из семейного архива Клейнмихелей и фондов Ялтинского историко-литературного музея, многие из которых публикуются впервые. К слову, материалы этой книги использованы и во время работы над этой статьей.
…Хочется верить, что истории, изложенные в книге, чему-то нас научат. А, может, нам еще посчастливиться жить в великой стране, и не за деньги, а по велению сердца служить ей старательно и с усердием. Не могли ведь ошибаться мудрейшие Клейнмихели, полагая, что усердие рано или поздно действительно все превозмогает.
***
Опубликовано в газете "Крымское время" в июне 2009г.
© Copyright: Алексей Алексеевич Васильев, 2012
Свидетельство о публикации №212010300103
|
Метки: клейнмихели |
Долгоруков, Сергей Алексеевич |
Долгоруков, Сергей Алексеевич
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Долгоруков; Долгоруков, Сергей.
| князь Сергей Алексеевич Долгоруков | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
 Художник Франц Крюгер, 1832 год |
||||||
|
||||||
| Предшественник | Иван Степанович Калкатин | |||||
| Преемник | Афанасий Александрович Радищев | |||||
|
||||||
| Предшественник | Афанасий Александрович Радищев | |||||
| Преемник | Сергей Николаевич Ермолов | |||||
|
|
||||||
| Рождение | 14 (26) сентября 1809 | |||||
| Смерть | 29 сентября (11 октября) 1891 (82 года) Санкт-Петербург |
|||||
| Род | Долгоруковы | |||||
| Дети | Альбединская, Александра Сергеевна, Долгоруков, Александр Сергеевич и Долгоруков, Николай Сергеевич[1] | |||||
| Образование | ||||||
| Награды |
|
|||||
Князь Серге́й Алексе́евич Долгору́ков (2 (14) сентября 1809 — 16 (29) сентября 1891[2], Санкт-Петербург) — действительный тайный советник (1872), глава Ковенской и Витебской губерний[2], член Государственного Совета.
Содержание
Биография
Князь Сергей Алексеевич родился в 1809 году в семье министра юстиции действительного тайного советника князя Алексея Алексеевича Долгорукова и его первой супруги Маргариты Ивановны Апайщиковой. Младший брат воронежского губернатора Юрия Долгорукова.
Окончил Пажеский корпус, был выпущен в Государственную коллегию иностранных дел. В 1828 году князь Долгорукий пожалован в камер-юнкеры и затем с 1829 года и по 1836 год служил в русских миссиях сначала во Франкфурте-на-Майне, а потом в Берлине. В 1834 году был пожалован званием камергера.
С. А. Долгоруков
С 1836 по 1843 год занимал различные должности по Министерству финансов. В 1843 году переведен в Министерство юстиции, с назначением обер-прокурором 5-го департамента Правительствующего сената.
Губернатор Ковенской (1848) и Витебской (1848—1849) губерний[2]. В 1864 году с пожалованием в статс-секретари он назначен статс-секретарём принятия прошений на Высочайшее Имя приносящих. С назначением членом совета министра финансов в 1871 году он назначен и членом Государственного совета, с оставлением в должности. В 1872 году назначен почётным членом Совета министров.
По свидетельству современника, «князь Долгоруков отличался набожностью, был очень начитан в Священном Писании, считал себя истинным сыном церкви, что не мешало ему, однако, проявлять на каждом шагу жестокосердие и необычайную алчность к деньгам; никогда не упускал он случая разорять людей, которые имели неосторожность вступать с ним в дела»[3]. Другой мемуарист пишет, что «выдающийся ум заменял князю не особенно выдающееся образование. Сердце у него горячностью не отличалось, а дела тем не менее были очень расстроены, при своём очень большом состоянии он с семьей жил сперва если не впрямь бедно, то довольно тесно и неряшливо[4].
С. А. Долгоруков скончался в Санкт-Петербурге и был похоронен в фамильном склепе князей Долгоруковых в Духовской церкви Александро-Невской лавры.
Семья
Княгиня Мария Александровна Долгорукова
Жена (с 1833 года) — Мария Александровна Апраксина (19.12.1816—02.05.1892), дочь графа Александра Ивановича Апраксина (1782—1848) от его брака с Марией Александровной Шемякиной (1794—1872), приходилась мужу двоюродной племянницей[5]. О помолвке фрейлины Апраксиной в декабре 1831 году писала А. Блудова[6]:
 |
Долгоруков помолвлен с графиней Апраксиной. Ей только пятнадцать лет, и потому их свадьба отложена, кажется, на два года. Говорят, что невеста очень хороша собой и сверх того будет богата, её тетка Баранова отдает ей своё имение. |  |
Княгиня Долгорукова была одной из первых красавиц Петербурга, по словам современницы, она имела «стройную фигуру, правильный профиль, лицо не особенно выразительное и несколько неопределенный взор»[7]. Была принята в интимном кружке Аничкова дворца, куда приглашалось особенное привилегированное общество и в продолжение многих лет была любимой дамой в танцах императора Николая I[8]. Позднее кавалерственная дама ордена Св. Екатерины меньшего креста. В браке имела четырёх сыновей и шесть дочерей[9], все они, по замечанию современника, отличались породистой красотой, они «были красивые до того, что нельзя было бы себе представить кого-нибудь из Долгоруких с заурядным лицом. Младшая дочь, княгиня Анюта Салтыкова, как звали её в свете, достигала в этом отношении апогея»:
- Александра Сергеевна (1836—1913), кавалерственная дама, фаворитка императора Александра II, супруга П. П. Альбединского
- Марфа Сергеевна (18.02.1838, Вена— ?)
- Маргарита Сергеевна (1839—1912), супруга графа Алексея Александровича Стенбок-Фермора (1835—1916)
- Николай Сергеевич (1840—1913), генерал-адъютант, генерал от инфантерии, член Государственного Совета
- Александр Сергеевич (1841—1912), женат на графине Ольге Петровне Шуваловой (1848—1927)
- Варвара Сергеевна (1844—1865)
- Мария Сергеевна (1846—1936), в первом браке была за князем Александром Васильевичем Долгоруковым (1839—1876), во втором (с 1897) — за Павлом Константиновичем Бенкендорфом (1853—1921)
- Алексей Сергеевич (1847—1915), по окончании образования, состоял ординарцем в 33-ем пехотном Елецком полку, принимал участие в русско-турецкой войне (1877—1878), после чего вышел в отставку; камергер двора (06.05.1910).
- Анна Сергеевна (1848?—1920), фрейлина, в замужестве за светлейшим князем Н. И. Салтыковым (1830—1901), их сын — генерал Иван Салтыков.
- Дмитрий Сергеевич (1850—1886), ротмистр Кавалергардского полка.
- Серафима Сергеевна (03.10.1859—20.09.1868), родилась в Веймаре, умерла от ангины в Париже.
|
Метки: долгоруковы апраксины стенбок-фермор альбендинские бенкендорф салтыковы шемякины |












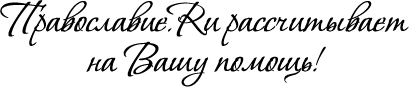

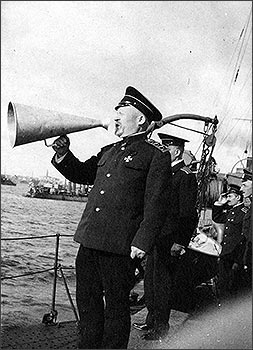


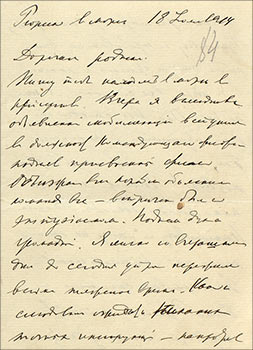


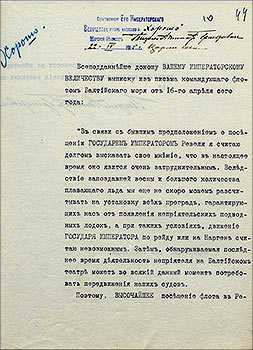
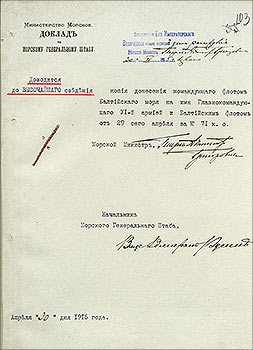
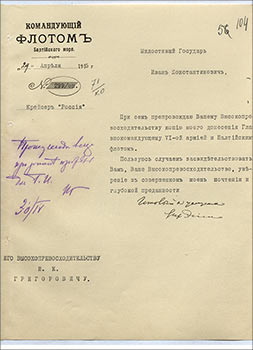
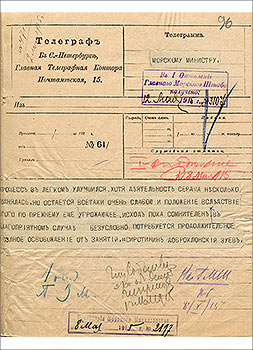

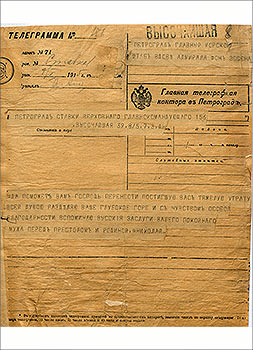
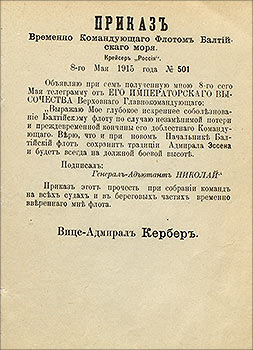


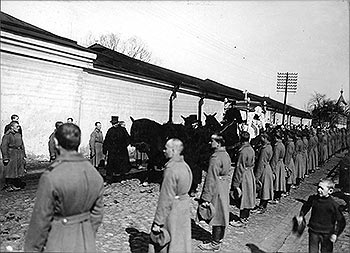

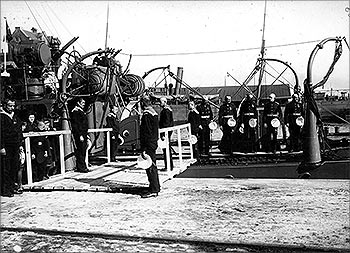


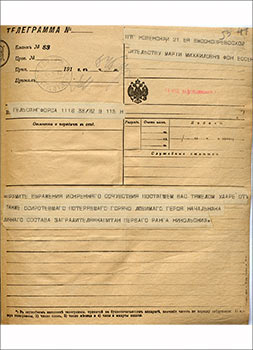
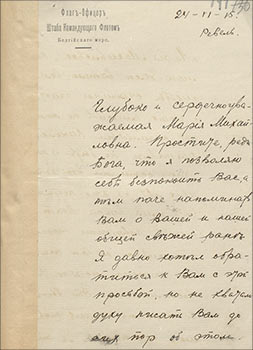
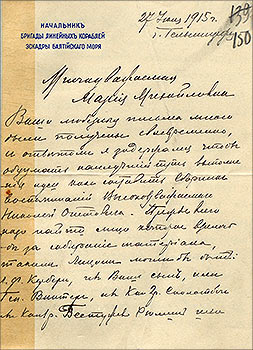
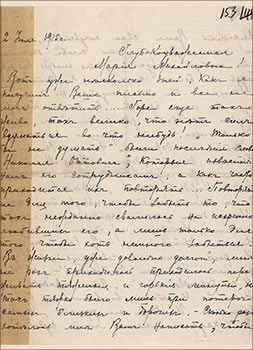

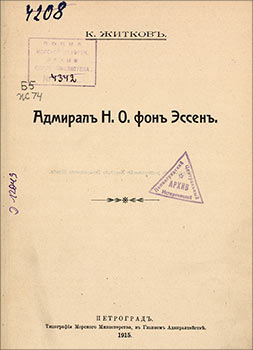












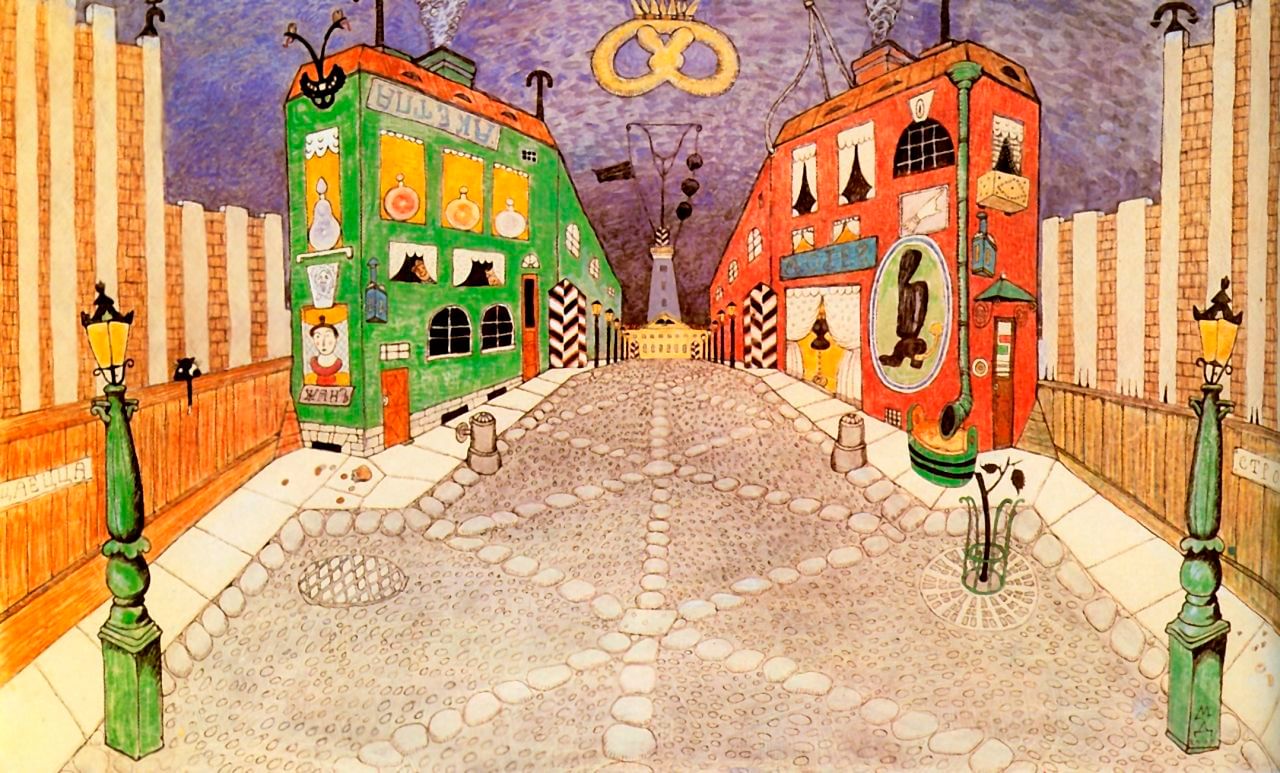


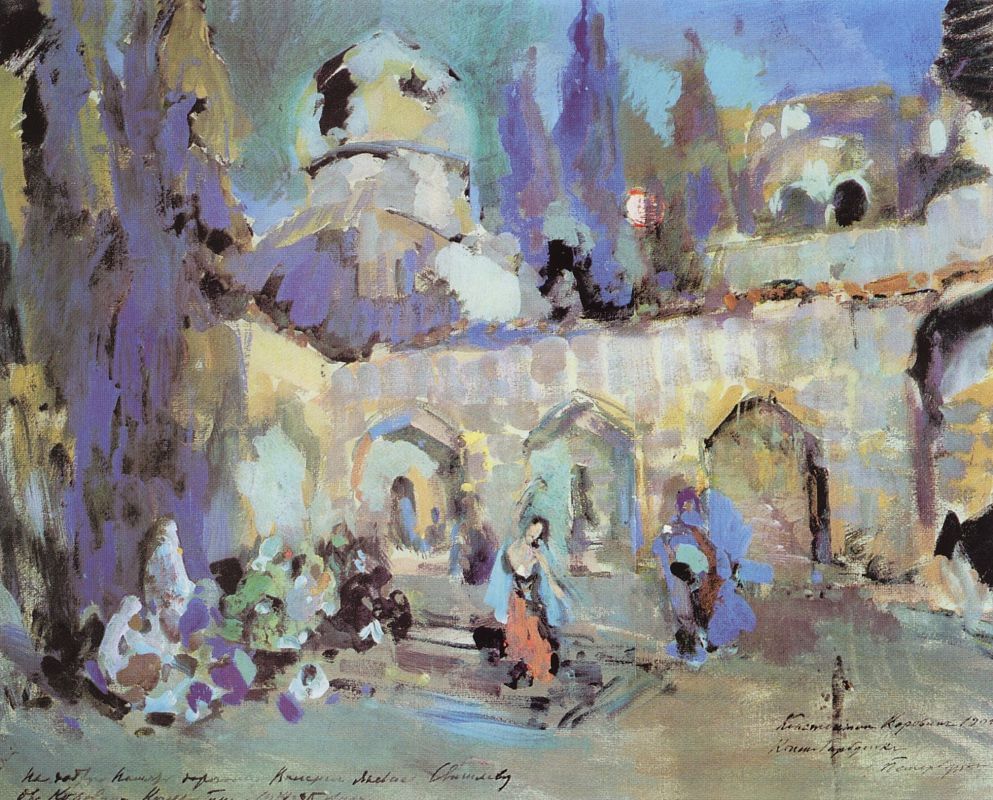
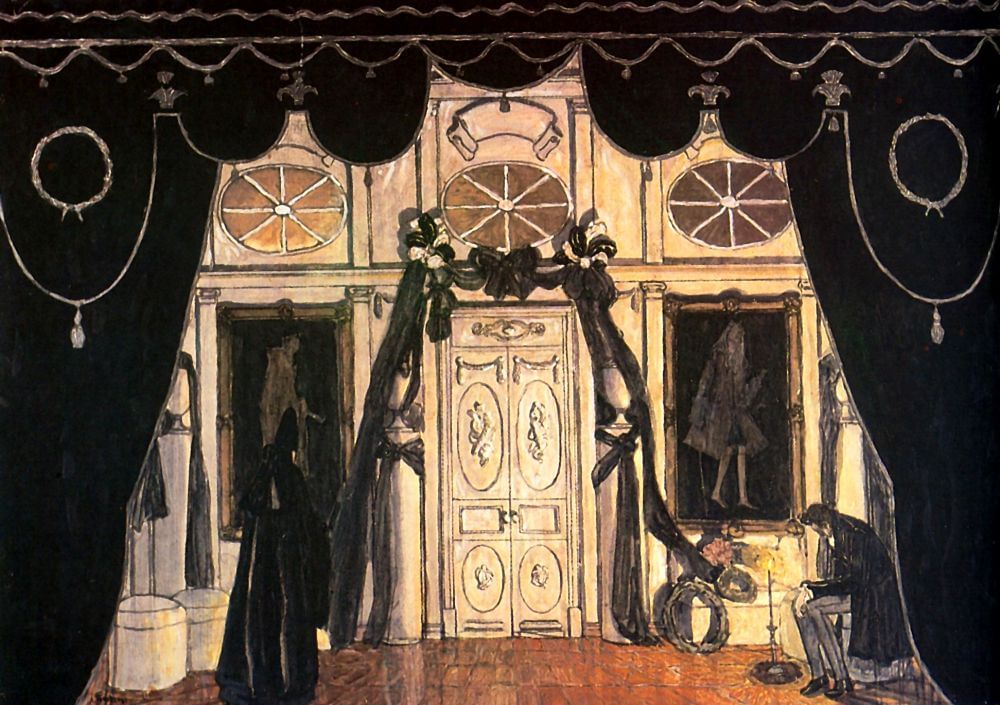






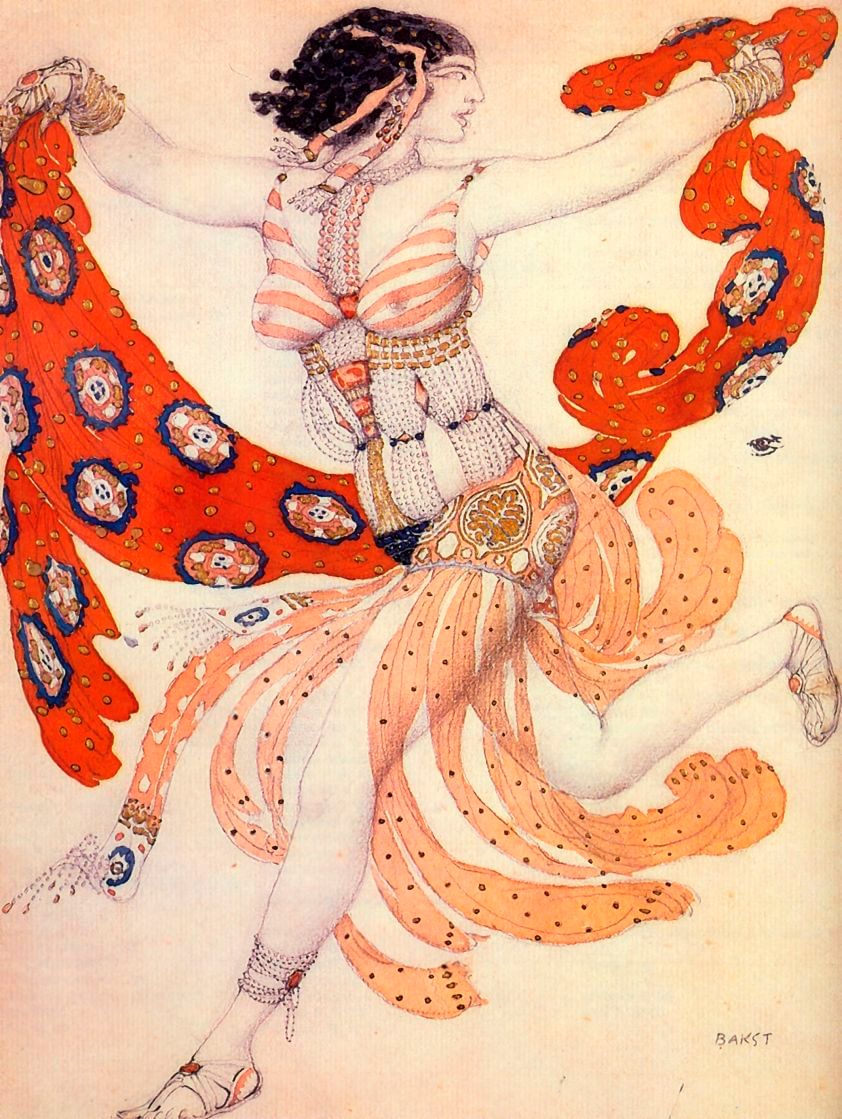




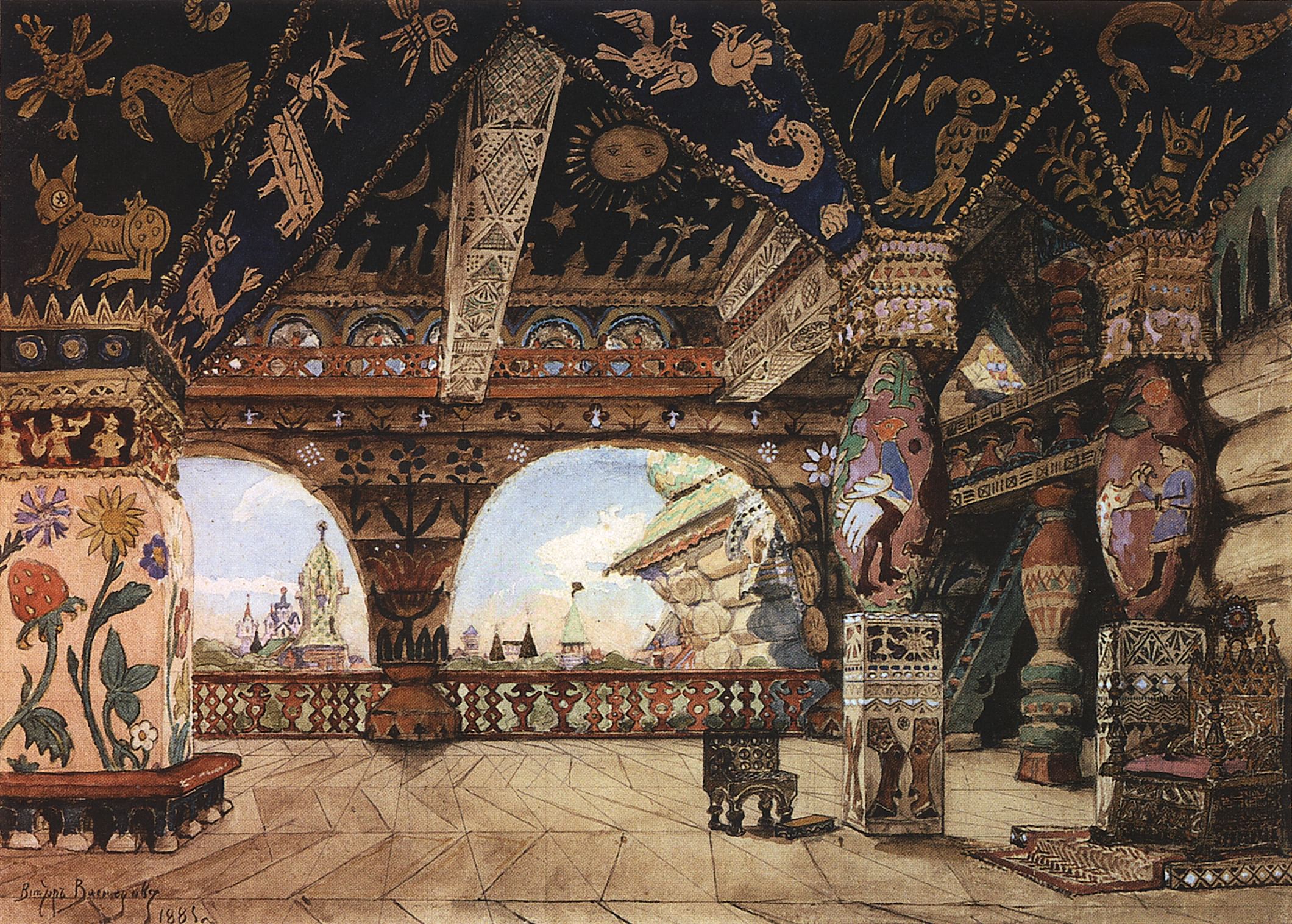




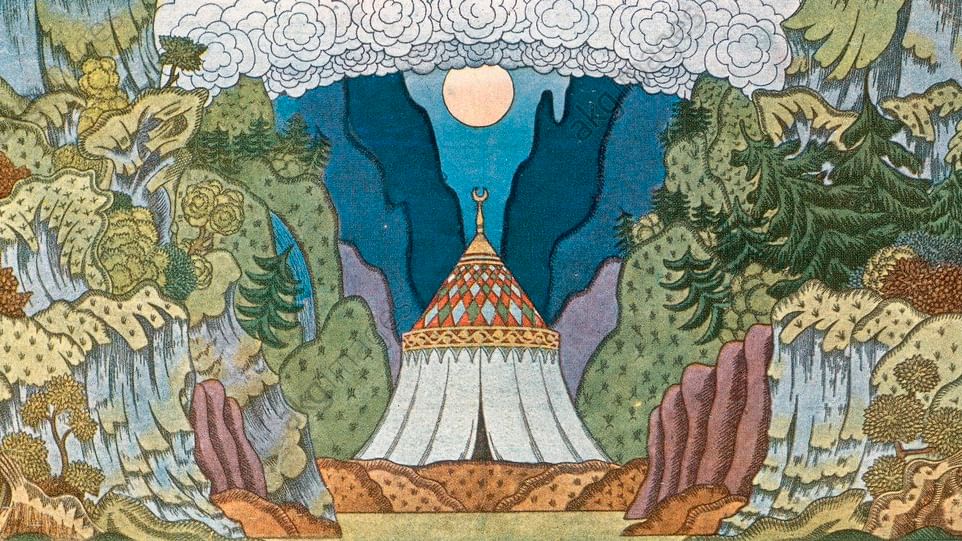









![[Карта колдуна Брюса] Географическая карта частей Великой Руссии, Понта Эвксинского или Черного моря, Малой Тартарии (Крым и северное Причерноморье) и пограничных областей Болгарии, Романии и Натолии. Нюрнберг: Картографическое заведение Хоманна, 1720-е гг.](https://img02litfund.ru/images/lots/155/cache/155-005-4440-3-V4241038_m_600x600.jpg)
![[Карта колдуна Брюса] Географическая карта частей Великой Руссии, Понта Эвксинского или Черного моря, Малой Тартарии (Крым и северное Причерноморье) и пограничных областей Болгарии, Романии и Натолии. Нюрнберг: Картографическое заведение Хоманна, 1720-е гг.](https://img02litfund.ru/images/lots/155/cache/155-005-4440-3-V4241039_m_600x600.jpg)