-ћетки
17 в. брак видео вокруг света гарем декабристы женщина жизнь императрица инди€ интересное истори€ картина картины китай клубы колчак кронпринц рудольф любовь любовь и воздержание майерлинк маразм мода море музыка наполеон нинон песенка похищени€ пушкин раневска€ романовы романс росси€ серебр€нный век сон средние века стихи театр фотографии франци€ шутка
-ћузыка
- Ћуч солнца золотого
- —лушали: 11882 омментарии: 0
- √еоргий —виридов - ќтзвуки вальса
- —лушали: 34166 омментарии: 0
-ѕодписка по e-mail
-ѕоиск по дневнику
-ѕосто€нные читатели
--Gayatri-- Altur Petite_fraise Arin_Levindor Asan Avel_Hladik Clovejari Dakiffa DimMixor Farlushka Gilye J_A_P_A_N LeXnbI4 Maldini89 Maxgorkiy Mumtaz MyDearing NADYNROM Nebbia PitKKWPK Rolandval TheDJONNI1993 Umrao Westernbourg alex1753 asetcoloeva dev_0 foxi_alena gollem gonnorgod guga_tyeshela ksuhhh lenau maslak ned01 olya77766 rusich_VVM sonnenregen vera_nadezda √лавврач_¬се€_”краины ≈лизавета_– ћарина_ћакаревич ћолочные_реки ќлечка_красотул€ “анюша-душа „аграва яхонуиза
-—ообщества
-—татистика
«аписи с меткой истори€
(и еще 868923 запис€м на сайте сопоставлена така€ метка)
ƒругие метки пользовател€ ↓
17 в. брак видео вокруг света гарем декабристы женщина жизнь императрица инди€ интересное истори€ картина картины китай клубы колчак кронпринц рудольф любовь любовь и воздержание майерлинк маразм мода море музыка наполеон нинон песенка похищени€ пушкин раневска€ романовы романс росси€ серебр€нный век сон средние века стихи театр фотографии франци€ шутка
ѕисьма ∆оржа ƒантеса |
ƒневник |
Ёти письма не предназначались дл€ обнародовани€. »х писали друг другу два близких человека и отправл€ли дипломатической почтой, чтобы избежать перлюстрации.
Ёти письма 160 лет хранились в семейном архиве, и никто из исследователей не имел к ним доступа, пока правнук ∆. ƒантеса Ч лод ƒантес Ч не передал их италь€нскому ученому-слависту —ерене ¬итале.
Ёти письма перечеркивают бредовые Ђвоспоминани€ї јраповой и много мен€ют в понимании истории последней дуэли ѕушкина.
Ќе безумствовал поэт, но €сно понимал, что происходит вокруг него. —удите сами, стоит ли осуждать ЌЌ за глупую болтливость или хвалить за искренность.
Ќачну, впрочем, издалека, с первых писем.

¬есной 1835 года голландский посланник покидает ѕетербург, едет в отпуск. 18 ма€ 1835 года ∆орж ƒантес пишет будущему отцу, так сказать:
У ... ћое письмо найдет вас уже устроенным, довольным и познакомившимс€ с папенькой ƒантесом. ћне чрезвычайно любопытно прочесть ваше следующее письмо, чтобы узнать, довольны ли вы выбором вод и обществом, там найденным. ак бы все было по-иному, будь € не одинок, как сейчас, а с вами! ак был бы счастлив! ѕустоту, которую обнажило ваше отсутствие, невозможно выразить словами. я не могу найти дл€ нее лучшего сравнени€, чем с той, что вы, должно быть чувствуете сами, ибо хоть порой вы и принимали мен€, ворча (€, конечно, имею в виду врем€ важной депеши), € знал тем не менее, что вы рады немного поболтать; дл€ вас, как и дл€ мен€, вошло в необходимость видетьс€ в любое врем€ дн€. ѕриехав в –оссию, € ожидал, что найду там только чужих людей, так что вы стали дл€ мен€ провидением! »бо друг, как вы говорите, Ч слово неточное, ведь друг не сделал бы дл€ мен€ того, что сделали вы, еще мен€ не зна€. Ќаконец, вы мен€ избаловали, € к этому привык, так скоро привыкаешь к счастью, а вдобавок Ч снисходительность, которой € никогда не нашел бы в отце. » что же, вдруг оказатьс€ среди людей завистливых и ревнующих к моему положению, вот и представьте, как сильно € чувствую разницу и как мне приходитс€ ежечасно осознавать, что вас больше здесь нет. ѕрощайте, дорогой друг. Ћечитесь как следует, а развлекайтесь еще больше, и, € уверен, вы вернетесь к нам в добром здоровье и с таким самочувствием, что, точно в 20 лет, сможете жить в свое удовольствие, не беспоко€сь ни о чем на свете. ѕо крайней мере, таково мое пожелание, вы знаете, как € вас люблю, и от всей души, пока же целую вас так же, как люблю, то есть очень крепко.
¬сецело преданный вам, ∆. ƒантесФ„итать далее...
Ёти письма 160 лет хранились в семейном архиве, и никто из исследователей не имел к ним доступа, пока правнук ∆. ƒантеса Ч лод ƒантес Ч не передал их италь€нскому ученому-слависту —ерене ¬итале.
Ёти письма перечеркивают бредовые Ђвоспоминани€ї јраповой и много мен€ют в понимании истории последней дуэли ѕушкина.
Ќе безумствовал поэт, но €сно понимал, что происходит вокруг него. —удите сами, стоит ли осуждать ЌЌ за глупую болтливость или хвалить за искренность.
Ќачну, впрочем, издалека, с первых писем.

¬есной 1835 года голландский посланник покидает ѕетербург, едет в отпуск. 18 ма€ 1835 года ∆орж ƒантес пишет будущему отцу, так сказать:
У ... ћое письмо найдет вас уже устроенным, довольным и познакомившимс€ с папенькой ƒантесом. ћне чрезвычайно любопытно прочесть ваше следующее письмо, чтобы узнать, довольны ли вы выбором вод и обществом, там найденным. ак бы все было по-иному, будь € не одинок, как сейчас, а с вами! ак был бы счастлив! ѕустоту, которую обнажило ваше отсутствие, невозможно выразить словами. я не могу найти дл€ нее лучшего сравнени€, чем с той, что вы, должно быть чувствуете сами, ибо хоть порой вы и принимали мен€, ворча (€, конечно, имею в виду врем€ важной депеши), € знал тем не менее, что вы рады немного поболтать; дл€ вас, как и дл€ мен€, вошло в необходимость видетьс€ в любое врем€ дн€. ѕриехав в –оссию, € ожидал, что найду там только чужих людей, так что вы стали дл€ мен€ провидением! »бо друг, как вы говорите, Ч слово неточное, ведь друг не сделал бы дл€ мен€ того, что сделали вы, еще мен€ не зна€. Ќаконец, вы мен€ избаловали, € к этому привык, так скоро привыкаешь к счастью, а вдобавок Ч снисходительность, которой € никогда не нашел бы в отце. » что же, вдруг оказатьс€ среди людей завистливых и ревнующих к моему положению, вот и представьте, как сильно € чувствую разницу и как мне приходитс€ ежечасно осознавать, что вас больше здесь нет. ѕрощайте, дорогой друг. Ћечитесь как следует, а развлекайтесь еще больше, и, € уверен, вы вернетесь к нам в добром здоровье и с таким самочувствием, что, точно в 20 лет, сможете жить в свое удовольствие, не беспоко€сь ни о чем на свете. ѕо крайней мере, таково мое пожелание, вы знаете, как € вас люблю, и от всей души, пока же целую вас так же, как люблю, то есть очень крепко.
¬сецело преданный вам, ∆. ƒантесФ
|
ћетки: истори€ пушкин |
»мператрица јлександра ‘едоровна и царевны. |
ƒневник |
посмотрите, как прекрасны и совершенны были »мператрица и ¬еликие кн€жны. ѕоистине, "чистейшей прелести чистейший образец"!
»мператрица јлександра ‘едоровна. ак писала ¬елика€ кн€жна јлександра Ќиколаевна, " самое большое удовольствие ѕапа в том, чтобы доставить удовольствие ћама".
„итать далее...
»мператрица јлександра ‘едоровна. ак писала ¬елика€ кн€жна јлександра Ќиколаевна, " самое большое удовольствие ѕапа в том, чтобы доставить удовольствие ћама".
 |
| јвтор –омановы |
|
ћетки: росси€ истори€ романовы картины |
ƒекабристы. ƒело прочно, когда под ним струитс€ кровь..желательно, чужа€. |
ƒневник |
ак рано темнеет в конце декабр€Е ¬ремени только 3 часа, а уже близ€тс€ сумерки, а следом ночь, и никто не может знать, что произойдет ночью в городе, где 3 тыс€чи вооруженных военных готовы свергнуть »мператора. Ёто только те, кто на площади, но откуда Ќиколаю ѕавловичу знать, кто еще замешан в заговоре, какие силы возьмут верх к утру. —обрашиес€ толпы людей, кто знает, могут примкнуть к бунтовщикам, и что ждет тогда –оссию?
Ќиколай решаетс€. Ќо прежде, риску€ жизнью, выезжает на площадь, чтобы удостоверитьс€, нельз€ ли, окружив толпу, принудить м€тежников к сдаче без кровопролити€.„итать далее...
Ќиколай решаетс€. Ќо прежде, риску€ жизнью, выезжает на площадь, чтобы удостоверитьс€, нельз€ ли, окружив толпу, принудить м€тежников к сдаче без кровопролити€.
|
ћетки: истори€ росси€ декабристы |
ƒекабристы. ч. 6 |
ƒневник |
»так, на —енатской площади сто€т в каре солдаты, обманутые своими командирами. —то€т, как им кажетс€, за правое дело: они ждут приказа , чтобы освободить законного »мператора , которому прис€гнули , и великого кн€з€ ћихаила ѕавловича. Ќу, и , наверно, где-то с ними в темнице , закованна€ в кандалы и никому пока не известна€ Ђ онституци€ї. ”мные господа офицеры не стали морочить подчиненным головы объ€снени€ми, и солдаты пребывали в наивной уверенности, что онституци€ Ц странное, иноземное им€ супруги онстантина ѕавловича, которую, не беда, окрест€т перед коронацией.
„итать далее...
 |
| јвтор декабристы |
|
ћетки: декабристы росси€ истори€ |
ƒекабристы. ч. 5 |
ƒневник |
Ќаступило утро 14 декабр€ (27 по новому стилю). ¬ этот день Ќиколай должен был принимать прис€гу подданных на верность. "”часть страшна€, жертва т€жка€, - признавалс€ он 12 декабр€ в письме графу ƒибичу. - ѕослезавтра € или государь, или без дыхани€. я жертвую собой дл€ брата. —частлив, что как подданный исполн€ю его волю. Ќо что будет с –оссией?" Ќиколай знал от доносчиков о заговоре против него. ак деду и отцу, царствование могло стоить ему жизни. Ќиколай ѕавлович не мог не понимать, что рискует не только свой жизнью, но и жизнью своей семьи. Ќо он был должен выполнить волю брата, прин€в корону ради –оссии. »так, Ќиколай счел себ€ об€занным царствовать.
Ќочью,не дождавшись приезда ћихаила, которого он очень хотел видеть вместе с собой в —овете, Ќиколай пошел туда один и зачитал свой ћанифест о восшествии на престол. огда он вернулс€, его приветствовали как »мператора. Ќерадостной была эта ночь, она была полна самых страшных предчувствий. »мператрица плакала в своем кабинете, когда Ќиколай зашел к ней, помолилс€ и сказал:: ЂЌеизвестно, что ожидает нас. ќбещай мне про€вить мужество, если придетс€ умереть.ї »мператрица покл€лась умереть достойно, если придетс€. Ёто были первые часы царствовани€ »мператора Ќикола€ I
14 декабр€, рано утром к новому императору €вилс€ с докладом генерал-адъютант Ѕенкендорф. Ќиколай ѕавлович сказал ему: "—егодн€ вечером, может быть, нас обоих не будет более на свете, но, по крайней мере, мы умрем, исполнив наш долг".
ому-нибудь еще жалко г-д бунтовщиков?
–ано утром прис€гу прин€ли гвардейские генералы и полковые командиры. »м Ќиколай объ€вил: "≈сли буду императором хот€ на один час, то покажу, что был того достоин" ѕрис€гнул лейб-гвардейский саперный полк: Ђ все штаб и обер-офицеры и нижние чины лейб-гвардии саперного батальона были приведены к прис€ге Ќиколаю ѕавловичу, на батальонном дворе, в присутствии командира батальона, который, быв, в 5 часов утра, потребован в штаб гвардейского корпуса, одновременно с другими начальниками гвардейских частей, прис€гнул новому государю в малой дворцовой церкви зимнего дворца и привез в батальон манифест о вступлении на престол императора Ќикола€ ѕавловича, с приложенными к нему письмами об отречении от престола августейшего его брата, которые полковник √еруа и прочел перед приведением батальона к прис€ге.ї
¬ 7 утра прис€гнул —енат. ћилорадович сообщил, что прис€гнули кирасиры ќрлова. ¬се, казалось бы, шло хорошо, но Е
огда около 9 утра дл€ прин€ти€ прис€ги были выстроены ћосковцы, два офицера : ћихаил Ѕестужев и кн€зь ўепин-–остовский ( еще один –юрикович)- прин€лись за то, что мы называем агитацией. ќни кричали, что солдат обманывают, что законный »мператор Ц онстантин, что прис€гать одному, а потом другому Ц св€тотатство Ђ"ѕрис€гнув одному государю, тут же прис€гать другому - грех!"ї, что полк должен выступить в защиту своего »мператора. ак не поверить своим офицерам? ак отречьс€ от данной прис€ги? “ем более, когда рассказывают такие страшные вещи: цесаревич онстантин не отказывалс€ добровольно от престола, а злодейски схвачен узурпатором Ќиколаем, закован в цепи и ввергнут в сырое узилище. ј высочайший шеф ћосковского полка, великий кн€зь ћихаил ехал, дескать, подн€ть своих верных солдату шек на помощь брату, но был схвачен на городской заставе тем же узурпатором и тоже посажен в железаЕ ѕолк отказываетс€ переприс€гать, зар€жает ружь€ и готов выступить за Ђ онстантина и жену его онституцию!ї. Ќо солдаты, сто€щие у знамен, отказываютс€ отдавать ст€ги.
Ўтабс-капитан кн€зь ўепин-–остовский полосует их саблей Ч ранен солдат расовский, унтер ћоисеев. огда две м€тежные роты (две из шести) все же покидают казармы, наперерез бегут подоспевшие старшие командиры: бригады Ч генерал Ўеншин, полка Ч генерал ‘редерике, батальона Ч полковник ’вощинский. ѕытаютс€ остановитьЕ
ўепин-–остовский бьет ‘редерикса саблей по голове сзади. «атем сабельным ударом сбивает наземь Ўеншина и еще долго бьет лежащего. —амо благородство!Е ѕотом, с каторги, он будет писать Ќиколаю исполненные скулежа прошени€, увер€€, будто ни к какому заговору не принадлежал, и все Ђслучилось по воле обсто€тельствїЕЌи-ни, ничего не делал его си€тельство!
ќстаетс€ ’вощинский. — ним ситуаци€ несколько сложнее Ч в свое врем€, давно, и он, как многие, похаживал на заседани€ тайного общества. » помн€щий об этом Ѕестужев пытаетс€ уговорить его примкнуть к м€тежу (у бунтовщиков маловато старших офицеров, а полковник ’вощинский в столичной гвардии пользуетс€ авторитетом).
’вощинский, однако, отказываетс€ Ч и получает три сабельных удара от ўепина. —олдаты направл€ютс€ к —енату.
√лавные силы повстанцев (лейб-гвардии ћосковский, ‘инл€ндский и √ренадерский полки) во главе с диктатором “рубецким должны были собратьс€ на —енатской площади у здани€ —ената, не допустить сенаторов до переприс€ги и принудить их (если потребуетс€, силой оружи€) издать "ћанифест к русскому народу". “ем временем другие полки (»змайловский и гвардейский ћорской экипаж) под командованием капитана ј.». якубовича захватили бы «имний дворец и арестовали царскую семью. ¬сего в ѕетербурге декабристы рассчитывали подн€ть шесть гвардейских полков численностью в 6 тыс. человек.
Ќа деле же удалось взбунтовать около 3 тыс€ч, но и это была немала€ сила. Ќо все идет не так. якубович в 5 уnра отказалс€ от Ђцарейбийственного кинжалаї , Ѕулатов не пошел в ѕетропавловскую крепость. » что самое глупое, диктатор “рубецкой так и не по€вл€етс€ на площади. ќн пр€четс€ тут же, неподалеку, за углом √лавного штаба, созерца€ происход€щее, как самый обычный зритель. ќсторожно так наблюда€, чтобы воврем€ смытьс€ в безопасно место - в дом своего родственника - австрийского посла. –ылеев очень быстро исчезает с площади, громко объ€вив, что Ђидет искать “рубецкогої Ч да так и не вернетс€ более. Ћишь около 4 часов дн€ декабристы выбрали - тут же, на площади, - нового диктатора, тоже кн€з€, ≈.ѕ. ќболенского ( –юриковича, конечно) ќднако врем€ уже было упущено: Ќиколай пустил в ход "последний довод королей".
¬прочем, до этого пока далеко. —ейчас во дворе «имнего выстаиваетс€ лейб-гвардии саперный батальон, шефом которого €вл€етс€ сам Ќиколай, знающий всех офицеров и солдат лично.. “ак вспоминает об этом генерал-лейтенант ¬. ». ‘елькнер:ї.
ѕервое чувство удивлени€ при этой внезапной перемене в престолонаследии сменилось чувством радости, когда мы узнали, что великий кн€зь Ќиколай ѕавлович, генерал-инспектор по инженерной части, шеф лейб-гвардии саперного батальона, которого все чины, от командира до последнего солдата, искренне любили и были беспредельно преданы, сделалс€ нашим императором. ќн также сердечно любил своих саперовЕ
огда командир 1-й саперной роты, штабс-капитан вашнин-—амарин, посланный дл€ принесени€ из аничковского дворца батальонного знамени дл€ прис€ги, подходил с 1-м взводом к казармам, в последний въехали ехавшие очень быстро, в сан€х, два офицера гвардейской конной артиллерии, привели его тем в беспор€док, кричали саперам: "братцы, не прис€гайте! ¬ас обманывают!" и затем скрылись из виду.ї
—аперам »мператор мог доверить свою семью. ”бедившись, что семь€ в безопасности, Ќиколай ѕавлович Ђбез вс€кой свиты, в одном мундире и ленте, вышел на дворцовую площадь, где был мгновенно окружен стекавшимс€ отовсюду народом, взволнованным смутными городскими слухами о возмущении войск, будто бы отказывающихс€ прис€гнуть императору Ќиколаю ѕавловичу, жела€ пребыть верными онстантину ѕавловичу. ¬ысочайший манифест о вступлении на престол, напечатанный ночью, был прочитан в церквах довольно поздно, после обедни, перед молебствием и только весьма мало экземпл€ров его было роздано в народе, а потому большинству населени€ было совершенно неизвестно отречение от престола онстантина ѕавловича. √осударь, узнав об этом от окружавших его лиц, вз€л у одного из них печатный экземпл€р манифеста и стал сам громким голосом читать его народу, подробно объ€сн€€ ему при том его содержание. ћногочисленна€ толпа, по окончании чтени€ манифеста, огласив воздух радостными криками "ура!", стала бросать вверх шапки.
Ѕлижайшие к нему из толпы падали на колени, целовали руки и ноги его, и вс€ масса народа кричала, что не выдаст его и разорвет на части всех тех, кто осмелитс€ восстать против него. √осударь, тронутый этими изъ€влени€ми преданности к нему народа, громким и вн€тным голосом поблагодарил его за изъ€влени€ любви; но, вместе с тем, запретил, словом или делом, вмешиватьс€ в распор€жени€ правительственных властей, которым одним должно быть предоставлено ун€ть волнени€ и привесть к покорности бунтовщиков.ї
» какое же счастье, что Ќиколай ѕавлович оставил во дворе «имнего своих верных саперов! ѕотому что ко дворцу бежит поручик ѕанов во главе дев€тисот гренадер . ќн врываетс€ во двор «имнего дворца, где нет самого Ќикола€, но осталась вс€ его семь€. —начала он уговаривает караульных пропустить его по-хорошему, но, встретив отказ, м€тежники попросту отбрасывают заметно уступающих им в численности часовых. »так, они врываютс€ во дворЕ
Ќо там стоит в безукоризненном пор€дке, с зар€женными ружь€ми, лейб-гвардии саперный батальон. “ыс€ча человек. —илы примерно равны, но ѕанов не решаетс€ на атаку. ќн уводит своих людей на площадь. ѕотом, на следствии, он будет рассказывать, что во двор зимнего забежал случайноЕ» правда, разберешь разве Ц то ли дворец, то ли сарай какойЕ ≈го вранье тогда же было разбито в пух и прах свидетельскими показани€ми. ¬се его поведение свидетельствовало о том, что гренадер он привел к «имнему умышленно . Ќо спасли саперы. —емь€ Ќикола€ в заложники не попала.
Ќачалось долгое сто€ние на площади.
Ќочью,не дождавшись приезда ћихаила, которого он очень хотел видеть вместе с собой в —овете, Ќиколай пошел туда один и зачитал свой ћанифест о восшествии на престол. огда он вернулс€, его приветствовали как »мператора. Ќерадостной была эта ночь, она была полна самых страшных предчувствий. »мператрица плакала в своем кабинете, когда Ќиколай зашел к ней, помолилс€ и сказал:: ЂЌеизвестно, что ожидает нас. ќбещай мне про€вить мужество, если придетс€ умереть.ї »мператрица покл€лась умереть достойно, если придетс€. Ёто были первые часы царствовани€ »мператора Ќикола€ I
14 декабр€, рано утром к новому императору €вилс€ с докладом генерал-адъютант Ѕенкендорф. Ќиколай ѕавлович сказал ему: "—егодн€ вечером, может быть, нас обоих не будет более на свете, но, по крайней мере, мы умрем, исполнив наш долг".
ому-нибудь еще жалко г-д бунтовщиков?
–ано утром прис€гу прин€ли гвардейские генералы и полковые командиры. »м Ќиколай объ€вил: "≈сли буду императором хот€ на один час, то покажу, что был того достоин" ѕрис€гнул лейб-гвардейский саперный полк: Ђ все штаб и обер-офицеры и нижние чины лейб-гвардии саперного батальона были приведены к прис€ге Ќиколаю ѕавловичу, на батальонном дворе, в присутствии командира батальона, который, быв, в 5 часов утра, потребован в штаб гвардейского корпуса, одновременно с другими начальниками гвардейских частей, прис€гнул новому государю в малой дворцовой церкви зимнего дворца и привез в батальон манифест о вступлении на престол императора Ќикола€ ѕавловича, с приложенными к нему письмами об отречении от престола августейшего его брата, которые полковник √еруа и прочел перед приведением батальона к прис€ге.ї
¬ 7 утра прис€гнул —енат. ћилорадович сообщил, что прис€гнули кирасиры ќрлова. ¬се, казалось бы, шло хорошо, но Е
огда около 9 утра дл€ прин€ти€ прис€ги были выстроены ћосковцы, два офицера : ћихаил Ѕестужев и кн€зь ўепин-–остовский ( еще один –юрикович)- прин€лись за то, что мы называем агитацией. ќни кричали, что солдат обманывают, что законный »мператор Ц онстантин, что прис€гать одному, а потом другому Ц св€тотатство Ђ"ѕрис€гнув одному государю, тут же прис€гать другому - грех!"ї, что полк должен выступить в защиту своего »мператора. ак не поверить своим офицерам? ак отречьс€ от данной прис€ги? “ем более, когда рассказывают такие страшные вещи: цесаревич онстантин не отказывалс€ добровольно от престола, а злодейски схвачен узурпатором Ќиколаем, закован в цепи и ввергнут в сырое узилище. ј высочайший шеф ћосковского полка, великий кн€зь ћихаил ехал, дескать, подн€ть своих верных солдату шек на помощь брату, но был схвачен на городской заставе тем же узурпатором и тоже посажен в железаЕ ѕолк отказываетс€ переприс€гать, зар€жает ружь€ и готов выступить за Ђ онстантина и жену его онституцию!ї. Ќо солдаты, сто€щие у знамен, отказываютс€ отдавать ст€ги.
Ўтабс-капитан кн€зь ўепин-–остовский полосует их саблей Ч ранен солдат расовский, унтер ћоисеев. огда две м€тежные роты (две из шести) все же покидают казармы, наперерез бегут подоспевшие старшие командиры: бригады Ч генерал Ўеншин, полка Ч генерал ‘редерике, батальона Ч полковник ’вощинский. ѕытаютс€ остановитьЕ
ўепин-–остовский бьет ‘редерикса саблей по голове сзади. «атем сабельным ударом сбивает наземь Ўеншина и еще долго бьет лежащего. —амо благородство!Е ѕотом, с каторги, он будет писать Ќиколаю исполненные скулежа прошени€, увер€€, будто ни к какому заговору не принадлежал, и все Ђслучилось по воле обсто€тельствїЕЌи-ни, ничего не делал его си€тельство!
ќстаетс€ ’вощинский. — ним ситуаци€ несколько сложнее Ч в свое врем€, давно, и он, как многие, похаживал на заседани€ тайного общества. » помн€щий об этом Ѕестужев пытаетс€ уговорить его примкнуть к м€тежу (у бунтовщиков маловато старших офицеров, а полковник ’вощинский в столичной гвардии пользуетс€ авторитетом).
’вощинский, однако, отказываетс€ Ч и получает три сабельных удара от ўепина. —олдаты направл€ютс€ к —енату.
√лавные силы повстанцев (лейб-гвардии ћосковский, ‘инл€ндский и √ренадерский полки) во главе с диктатором “рубецким должны были собратьс€ на —енатской площади у здани€ —ената, не допустить сенаторов до переприс€ги и принудить их (если потребуетс€, силой оружи€) издать "ћанифест к русскому народу". “ем временем другие полки (»змайловский и гвардейский ћорской экипаж) под командованием капитана ј.». якубовича захватили бы «имний дворец и арестовали царскую семью. ¬сего в ѕетербурге декабристы рассчитывали подн€ть шесть гвардейских полков численностью в 6 тыс. человек.
Ќа деле же удалось взбунтовать около 3 тыс€ч, но и это была немала€ сила. Ќо все идет не так. якубович в 5 уnра отказалс€ от Ђцарейбийственного кинжалаї , Ѕулатов не пошел в ѕетропавловскую крепость. » что самое глупое, диктатор “рубецкой так и не по€вл€етс€ на площади. ќн пр€четс€ тут же, неподалеку, за углом √лавного штаба, созерца€ происход€щее, как самый обычный зритель. ќсторожно так наблюда€, чтобы воврем€ смытьс€ в безопасно место - в дом своего родственника - австрийского посла. –ылеев очень быстро исчезает с площади, громко объ€вив, что Ђидет искать “рубецкогої Ч да так и не вернетс€ более. Ћишь около 4 часов дн€ декабристы выбрали - тут же, на площади, - нового диктатора, тоже кн€з€, ≈.ѕ. ќболенского ( –юриковича, конечно) ќднако врем€ уже было упущено: Ќиколай пустил в ход "последний довод королей".
¬прочем, до этого пока далеко. —ейчас во дворе «имнего выстаиваетс€ лейб-гвардии саперный батальон, шефом которого €вл€етс€ сам Ќиколай, знающий всех офицеров и солдат лично.. “ак вспоминает об этом генерал-лейтенант ¬. ». ‘елькнер:ї.
ѕервое чувство удивлени€ при этой внезапной перемене в престолонаследии сменилось чувством радости, когда мы узнали, что великий кн€зь Ќиколай ѕавлович, генерал-инспектор по инженерной части, шеф лейб-гвардии саперного батальона, которого все чины, от командира до последнего солдата, искренне любили и были беспредельно преданы, сделалс€ нашим императором. ќн также сердечно любил своих саперовЕ
огда командир 1-й саперной роты, штабс-капитан вашнин-—амарин, посланный дл€ принесени€ из аничковского дворца батальонного знамени дл€ прис€ги, подходил с 1-м взводом к казармам, в последний въехали ехавшие очень быстро, в сан€х, два офицера гвардейской конной артиллерии, привели его тем в беспор€док, кричали саперам: "братцы, не прис€гайте! ¬ас обманывают!" и затем скрылись из виду.ї
—аперам »мператор мог доверить свою семью. ”бедившись, что семь€ в безопасности, Ќиколай ѕавлович Ђбез вс€кой свиты, в одном мундире и ленте, вышел на дворцовую площадь, где был мгновенно окружен стекавшимс€ отовсюду народом, взволнованным смутными городскими слухами о возмущении войск, будто бы отказывающихс€ прис€гнуть императору Ќиколаю ѕавловичу, жела€ пребыть верными онстантину ѕавловичу. ¬ысочайший манифест о вступлении на престол, напечатанный ночью, был прочитан в церквах довольно поздно, после обедни, перед молебствием и только весьма мало экземпл€ров его было роздано в народе, а потому большинству населени€ было совершенно неизвестно отречение от престола онстантина ѕавловича. √осударь, узнав об этом от окружавших его лиц, вз€л у одного из них печатный экземпл€р манифеста и стал сам громким голосом читать его народу, подробно объ€сн€€ ему при том его содержание. ћногочисленна€ толпа, по окончании чтени€ манифеста, огласив воздух радостными криками "ура!", стала бросать вверх шапки.
Ѕлижайшие к нему из толпы падали на колени, целовали руки и ноги его, и вс€ масса народа кричала, что не выдаст его и разорвет на части всех тех, кто осмелитс€ восстать против него. √осударь, тронутый этими изъ€влени€ми преданности к нему народа, громким и вн€тным голосом поблагодарил его за изъ€влени€ любви; но, вместе с тем, запретил, словом или делом, вмешиватьс€ в распор€жени€ правительственных властей, которым одним должно быть предоставлено ун€ть волнени€ и привесть к покорности бунтовщиков.ї
» какое же счастье, что Ќиколай ѕавлович оставил во дворе «имнего своих верных саперов! ѕотому что ко дворцу бежит поручик ѕанов во главе дев€тисот гренадер . ќн врываетс€ во двор «имнего дворца, где нет самого Ќикола€, но осталась вс€ его семь€. —начала он уговаривает караульных пропустить его по-хорошему, но, встретив отказ, м€тежники попросту отбрасывают заметно уступающих им в численности часовых. »так, они врываютс€ во дворЕ
Ќо там стоит в безукоризненном пор€дке, с зар€женными ружь€ми, лейб-гвардии саперный батальон. “ыс€ча человек. —илы примерно равны, но ѕанов не решаетс€ на атаку. ќн уводит своих людей на площадь. ѕотом, на следствии, он будет рассказывать, что во двор зимнего забежал случайноЕ» правда, разберешь разве Ц то ли дворец, то ли сарай какойЕ ≈го вранье тогда же было разбито в пух и прах свидетельскими показани€ми. ¬се его поведение свидетельствовало о том, что гренадер он привел к «имнему умышленно . Ќо спасли саперы. —емь€ Ќикола€ в заложники не попала.
Ќачалось долгое сто€ние на площади.
|
ћетки: декабристы росси€ истори€ |
ƒекабристы. ч.2 |
ƒневник |
Ќо был среди декабристов и Ђизбранник судьбыї, тот, чье высокое чело, по его собственному мнению, достойно мог украсить венец , подобный венцу Ѕонапарта. Ќу, уж никак не меньше. Ёто был и единственный из декабристов, привлеченный к суду не только за политическое, но и за уголовное преступление. «а воровство бюджетных средств, так сказать. Ќо об уголовщине позже. »так, господин ѕестель.
ѕервыми убедились в бонапартистских поползновени€х ѕестел€ сами же руководители —еверного общества. — редкостным дл€ них единодушием. Ќикиту ћуравьева разглагольствовани€ ѕестел€ о благе диктатуры оттолкнули сразу. ак и —ерге€ “рубецкого. “рубецкой выразилс€ недвусмысленно: Ђ„еловек вредный, и не должно допускать его усилитьс€, но старатьс€ всевозможно его ослабитьї. Ёто были не просто слова - через свои св€зи в ёжном обществе “рубецкой усиленно пестовал оппозицию ѕестелю... –ылеев сказал: Ђѕестель человек опасный дл€ –оссии и дл€ видов обществаї. ” ѕестел€ нельз€ было отрицать большого таланта приспособлени€: при первом свидании с –ылеевым автор Ђ–усской правдыї в течение двух часов ухитрилс€ быть попеременно и гражданином —евере-јмериканской республики, и бонапартистом, и террористом, то защитником английской конституции, то поборником испанской... Ќа буржуазно-честного петербургского литератора это произвело крайне неблагопри€тное впечатление и у него, видимо, сохранилось воспоминание о ѕестеле как о беспринципном демагоге, которому довер€тьс€ не следует.„итать далее...
 |
| јвтор декабристы |
ѕервыми убедились в бонапартистских поползновени€х ѕестел€ сами же руководители —еверного общества. — редкостным дл€ них единодушием. Ќикиту ћуравьева разглагольствовани€ ѕестел€ о благе диктатуры оттолкнули сразу. ак и —ерге€ “рубецкого. “рубецкой выразилс€ недвусмысленно: Ђ„еловек вредный, и не должно допускать его усилитьс€, но старатьс€ всевозможно его ослабитьї. Ёто были не просто слова - через свои св€зи в ёжном обществе “рубецкой усиленно пестовал оппозицию ѕестелю... –ылеев сказал: Ђѕестель человек опасный дл€ –оссии и дл€ видов обществаї. ” ѕестел€ нельз€ было отрицать большого таланта приспособлени€: при первом свидании с –ылеевым автор Ђ–усской правдыї в течение двух часов ухитрилс€ быть попеременно и гражданином —евере-јмериканской республики, и бонапартистом, и террористом, то защитником английской конституции, то поборником испанской... Ќа буржуазно-честного петербургского литератора это произвело крайне неблагопри€тное впечатление и у него, видимо, сохранилось воспоминание о ѕестеле как о беспринципном демагоге, которому довер€тьс€ не следует.
|
ћетки: истори€ росси€ декабристы |
ƒекабристы. ч.1 |
ƒневник |
—тоит произнести слово Ђ декабристыї, и в голове большинства ( из тех, кто хоть знает, что Ђдекабристї - это не цветок) начнут вихрем проноситьс€ образы самые романтические: блеск золотых эполет, гор€чие вольнолюбивые речи за бокалом Ђ ликої, бесстрашные, гордые лица благородных юношей, смело выступивших против тирании, закованные в кандалы мудрые страдальцы, принуждаемые ежечасно к непосильному труду во глубине сибирских руд. ќни же только добра хотели! Ќо жестокий тиран Ќиколай не пожелал быть милосердным к этим невиннейшим и благороднейшим геро€м двенадцатого года.
¬от как-то так
Ёто же так романтично!
–озовые губы, витой чубук,
синие гусары - пытай судьбу!
“ени по Ћитейному
лет€т назад.
Ѕрови из-под кивера
дворцам гроз€т.
ончена беседа,
гони коней,
утро вечера
мудреней.
јсеев Ђ—иние гусарыї
» сколько сменилось поколений, и сколько идей завладевало умами Ц а декабристы оставались, что совершенно удивительно, какой-то неизменно-романтично-возвышенной св€щенной коровой.„итать далее...
¬от как-то так
Ёто же так романтично!
–озовые губы, витой чубук,
синие гусары - пытай судьбу!
“ени по Ћитейному
лет€т назад.
Ѕрови из-под кивера
дворцам гроз€т.
ончена беседа,
гони коней,
утро вечера
мудреней.
јсеев Ђ—иние гусарыї
» сколько сменилось поколений, и сколько идей завладевало умами Ц а декабристы оставались, что совершенно удивительно, какой-то неизменно-романтично-возвышенной св€щенной коровой.
|
ћетки: истори€ росси€ декабристы |
ћисс –осси€. ч.2 |
ƒневник |
„то-то вз€ли мен€ за душу красавицы давно минувших лет. » захотелось узнать о них больше.
ѕервой титул Ђћисс –осси€-1929ї получила 18-летн€€ ¬алентина ќстерман, эмигрировавша€ из –остова в Ѕерлин.
„итать далее...
ѕервой титул Ђћисс –осси€-1929ї получила 18-летн€€ ¬алентина ќстерман, эмигрировавша€ из –остова в Ѕерлин.
 |
| јвтор мисс –осси€ |
|
ћетки: истори€ женщина росси€ |
ќчень люблю этот портрет |
ƒневник |
 |
| јвтор √алере€ |
јх, на гравюре полустертой,
¬ один великолепный миг,
я встретила, “учков-четвертый,
¬аш нежный лик,
» вашу хрупкую фигуру,
» золотые ордена...
» €, поцеловав гравюру,
Ќе знала сна.
ќ, как -- мне кажетс€ -- могли вы
–укою, полною перстней,
» кудри дев ласкать-и гривы
—воих коней.
¬ одной неверо€тной скачке
¬ы прожили свой краткий век...
» ваши кудри, ваши бачки
«асыпал снег.
“ри сотни побеждало-трое!
Ћишь мертвый не вставал с земли.
¬ы были дети и герои,
¬ы всe могли.
„то так же трогательно-юно,
ак ваша бешена€ рать?..
¬ас златокудра€ ‘ортуна
¬ела, как мать.
¬ы побеждали и любили
Ћюбовь и сабли острие --
» весело переходили
¬ небытие.
ћарина ÷ветаева "√енералам двенадцатого года" ( отрывок)
¬ семье инженер-генерал-поручика ј.¬.“учкова јлександр был младшим из сыновей. (¬се дослужились до генеральских чинов и четверо из них участвовали в ќтечественной войне 1812 г.).
Ѕригада “учкова сдерживала непри€тел€ под ¬итебском, —моленском и Ћубином. Ќа Ѕородинском поле он, вдохновл€€ дрогнувший под ураганным непри€тельским огнем –евельский полк, с полковым знаменем в руках бросилс€ вперед и был смертельно ранен в грудь картечной пулей у средней —еменовской флеши. ≈го не смогли вынести с пол€ бо€, вспаханного артиллерийскими снар€дами и бесследно поглотившего геро€.
|
ћетки: истори€ росси€ картины |
ѕарижские моды 1802 - 1812гг. |
ƒневник |
|
ћетки: мода истори€ |
Ёмма, или тщетность быти€ |
ƒневник |
Ёмма Ћайон родилась в семье кузнеца √енри Ћайона в деревушке Ќесси графства „ешир 28 апрел€ 1765 года. ѕри крещении ей дали им€ Ёйми, впрочем, чаще домашние называли ее Ёмли.
ƒевочка была истинным ангелочком: хорошенька€, весела и добра€. » очень трудолюбива€, а как иначе, ведь семь€ была бедной. рошка Ёмли, семен€ босыми ножками р€дом с понурым осликом, развозила уголь на продажу.
¬ Ћондоне, куда девочка переехала вместе с матерью, тоже не приходилось сидеть без дела: Ёмли работала н€ней, прислугой, кем придетс€.
√одам к 14 замарашка превратилась в писаную красавицу, и эта метаморфоза не осталась незамеченной.
≈динственное, что не позволило девице оказатьс€ на панели Ц еЄ необычайна€ красота и решительный характер. расота помогла Ёмли найти посто€нный заработок, хоть и несколько сомнительного свойства: еЄ вз€ли работать, ни много-ни мало, богиней. ¬ странном заведении под названием "’рам «доровь€ї у доктора-шарлатана √рэхэма в Ёмли исполн€ла перед алчущими здоровь€ "прихожанами" роль богини √ебы-¬естины. » мужска€ часть аудитории ( а женщин там и не бывало) млела от восторга, наблюда€, как юна€ "богин€", сбросив почти все покровы, или все, за отдельную плату, принимает античные позы.
Caricature of Emma Hamilton as an artists' model, with reference to her famous "Attitudes" (poses in imitation of classical antiquity).more]
»менно там Ёмли познакомилась с молодым сквайром по имени √арри ‘езерстон, красавцем и бонвиваном. Ќазыва€ вещи своими именами, можно сказать, что она попросту стала его содержанкой, - типичный путь юных богинь. . Ёмли была девушкой Есвободных нравов, поэтому, когда она сообщила, что беременна, еЄ кавалер сииильно усомнилс€, что ребенок от него и выбросил бедн€жку на улицу. все мужики Ц сволочи!
Ќо Ёмли была девушкой не только красивой, но и неглупой, и быстро вспомнила, что один из друзей ‘езерстона, „арльз √ревилл, много раз намекал, что не прочь бы забрать красавицу себе. „то ж! ≈го врем€ настало.
то мог предположить, что Ёмли влюбитс€ в √ревилла? Ћюбовь заставила еЄ забыть о кокетстве, ночных кутежах и бурной жизни. ћирно сид€ дома и дожида€сь прихода своего ,бесценного „арльза, она изо все сил стараетс€ стать быть насто€щей леди. ѕростонародное ЂЁмлиї смен€етс€ на благозвучное Ђ Ёммаї, и Ёмма трудитс€ над исправлением произношени€, берет уроки музыки и пени€, изучает этикет, чтобы достойно принимать гостей √ревилла, одним словом, делала все, чтобы быть достойной любимого.
ј любимый между тем ( все мужики Ц сволочи! ) твердо решил избавитьс€ от подруги, ибо денег у него было мало, жить хотелось широко, а на горизонте по€вилась богата€ наследница, к которой он посваталс€.
Ќо, как благородный человек, он устроил счастье своей надоевшей любовницы Ц передал еЄ своему д€де, лорду √амильтону, посланнику јнглии в Ќеаполе. «абавно, но √ревилл написал д€дюшке письмо, убедительно советую вз€ть Ёмму. "¬ вашем возрасте опр€тна€ и услужлива€ женщина - приобретение далеко не лишнее", - соблазн€л д€дюшку плем€нник. —эр ”иль€м колебалс€, но искушение оказалось сильнее. "ћожешь быть уверен, - писал он в ответ, - € сделаю все, чтобы утешить Ёмму в ее потере, но предвижу, что мне придетс€ часто осушать слезы на ее прелестном личике". Ёмма прибыла в Ќеаполь весной 1786 года. ќ, разумеетс€, только погостить, как увер€л √ревилл...
„то переживала несчастна€, пон€в, что брошена, что подарена другому мужчине, боюсь даже представить.
Ћеди √амильтон в образе ÷ирцеи
George Romney 1782
Ќо сила воли, оскобленное самолюбие и решительный характер Ёммы способствовали тому, что она прин€ла твердое решение: больше она не будет содержанкой. ќна будет женой. "я никогда не стану любовницей сэра ”иль€ма, - пишет она в одном из последних писем √ревиллу. - » если ты наносишь мне такое оскорбление, предупреждаю, € сделаю все, чтобы заставить его женитьс€ на мне". ”гроза тем более страшна€ дл€ такого человека, как „арльз, что именно он должен был ( в случае, если у лорда √амильтона не будет детей) получить огромное наследство д€дюшки.
Ћорд √амильтон был в восторге от Ёммы. ќн не жалел никаких денег, чтобы она брала уроки пени€, нар€жалась, устраивала приемы, блистала. ≈ще бы, р€дом с ним была богн€, Ђодна из прекраснейших женщин своего времениї, по словам английского художника ƒжорджа –омни. ¬есь Ќеаполь был у ног Ёммы.
ѕравда, завистники говорили, что красота еЄ простовата и несколько т€жела, но , суд€ по портретам, высока€ красавица и огромными синими глазами и роскошными каштановыми волосами было неотразима.
» лорд √амильтон был счастлив повести Ђсвою феюї к венцу, хоть этот мезаль€нс и вызвал бурю в обществе. ¬енчание состо€лось в сент€бре 1791 года. ∆ениху исполнилс€ шестьдес€т один год, невесте - двадцать шесть, но какое это имело значение! Ёмма искренне, по-человечески, полюбила старого джентльмена, который относилс€ к ней с удивительной добротой.
ѕродолжение следуетЕ
ƒевочка была истинным ангелочком: хорошенька€, весела и добра€. » очень трудолюбива€, а как иначе, ведь семь€ была бедной. рошка Ёмли, семен€ босыми ножками р€дом с понурым осликом, развозила уголь на продажу.
¬ Ћондоне, куда девочка переехала вместе с матерью, тоже не приходилось сидеть без дела: Ёмли работала н€ней, прислугой, кем придетс€.
√одам к 14 замарашка превратилась в писаную красавицу, и эта метаморфоза не осталась незамеченной.
≈динственное, что не позволило девице оказатьс€ на панели Ц еЄ необычайна€ красота и решительный характер. расота помогла Ёмли найти посто€нный заработок, хоть и несколько сомнительного свойства: еЄ вз€ли работать, ни много-ни мало, богиней. ¬ странном заведении под названием "’рам «доровь€ї у доктора-шарлатана √рэхэма в Ёмли исполн€ла перед алчущими здоровь€ "прихожанами" роль богини √ебы-¬естины. » мужска€ часть аудитории ( а женщин там и не бывало) млела от восторга, наблюда€, как юна€ "богин€", сбросив почти все покровы, или все, за отдельную плату, принимает античные позы.
 |
| јвтор Ёмма |
Caricature of Emma Hamilton as an artists' model, with reference to her famous "Attitudes" (poses in imitation of classical antiquity).more]
»менно там Ёмли познакомилась с молодым сквайром по имени √арри ‘езерстон, красавцем и бонвиваном. Ќазыва€ вещи своими именами, можно сказать, что она попросту стала его содержанкой, - типичный путь юных богинь. . Ёмли была девушкой Есвободных нравов, поэтому, когда она сообщила, что беременна, еЄ кавалер сииильно усомнилс€, что ребенок от него и выбросил бедн€жку на улицу.
Ќо Ёмли была девушкой не только красивой, но и неглупой, и быстро вспомнила, что один из друзей ‘езерстона, „арльз √ревилл, много раз намекал, что не прочь бы забрать красавицу себе. „то ж! ≈го врем€ настало.
 |
| јвтор Ёмма |
то мог предположить, что Ёмли влюбитс€ в √ревилла? Ћюбовь заставила еЄ забыть о кокетстве, ночных кутежах и бурной жизни. ћирно сид€ дома и дожида€сь прихода своего ,бесценного „арльза, она изо все сил стараетс€ стать быть насто€щей леди. ѕростонародное ЂЁмлиї смен€етс€ на благозвучное Ђ Ёммаї, и Ёмма трудитс€ над исправлением произношени€, берет уроки музыки и пени€, изучает этикет, чтобы достойно принимать гостей √ревилла, одним словом, делала все, чтобы быть достойной любимого.
 |
| јвтор Ёмма |
ј любимый между тем (
Ќо, как благородный человек, он устроил счастье своей надоевшей любовницы Ц передал еЄ своему д€де, лорду √амильтону, посланнику јнглии в Ќеаполе. «абавно, но √ревилл написал д€дюшке письмо, убедительно советую вз€ть Ёмму. "¬ вашем возрасте опр€тна€ и услужлива€ женщина - приобретение далеко не лишнее", - соблазн€л д€дюшку плем€нник. —эр ”иль€м колебалс€, но искушение оказалось сильнее. "ћожешь быть уверен, - писал он в ответ, - € сделаю все, чтобы утешить Ёмму в ее потере, но предвижу, что мне придетс€ часто осушать слезы на ее прелестном личике". Ёмма прибыла в Ќеаполь весной 1786 года. ќ, разумеетс€, только погостить, как увер€л √ревилл...
„то переживала несчастна€, пон€в, что брошена, что подарена другому мужчине, боюсь даже представить.
 |
| јвтор Ёмма |
Ћеди √амильтон в образе ÷ирцеи
George Romney 1782
Ќо сила воли, оскобленное самолюбие и решительный характер Ёммы способствовали тому, что она прин€ла твердое решение: больше она не будет содержанкой. ќна будет женой. "я никогда не стану любовницей сэра ”иль€ма, - пишет она в одном из последних писем √ревиллу. - » если ты наносишь мне такое оскорбление, предупреждаю, € сделаю все, чтобы заставить его женитьс€ на мне". ”гроза тем более страшна€ дл€ такого человека, как „арльз, что именно он должен был ( в случае, если у лорда √амильтона не будет детей) получить огромное наследство д€дюшки.
Ћорд √амильтон был в восторге от Ёммы. ќн не жалел никаких денег, чтобы она брала уроки пени€, нар€жалась, устраивала приемы, блистала. ≈ще бы, р€дом с ним была богн€, Ђодна из прекраснейших женщин своего времениї, по словам английского художника ƒжорджа –омни. ¬есь Ќеаполь был у ног Ёммы.
 |
| јвтор Ёмма |
ѕравда, завистники говорили, что красота еЄ простовата и несколько т€жела, но , суд€ по портретам, высока€ красавица и огромными синими глазами и роскошными каштановыми волосами было неотразима.
» лорд √амильтон был счастлив повести Ђсвою феюї к венцу, хоть этот мезаль€нс и вызвал бурю в обществе. ¬енчание состо€лось в сент€бре 1791 года. ∆ениху исполнилс€ шестьдес€т один год, невесте - двадцать шесть, но какое это имело значение! Ёмма искренне, по-человечески, полюбила старого джентльмена, который относилс€ к ней с удивительной добротой.
ѕродолжение следуетЕ
|
ћетки: истори€ женщина |
Ѕез заголовка |
ƒневник |
 |
| јвтор –омановы |
»мператор Ќиколай II в форме ≈Є величества √осударыни императрицы ћарии ‘едоровны полка.
|
ћетки: росси€ истори€ романовы картины |
Ќаполеон в ≈гипте |
ƒневник |
 |
| јвтор наполеон |
|
ћетки: истори€ франци€ наполеон |
—уета сует... |
ƒневник |
»так, все было прекрасно. ћаргарите, небесному созданию, удалось не только полностью восстановить производство, подорванное неумеренными тратами покойного мужа, но и значительно преумножить капитал, принадлежащий, как мы помним, еЄ дет€м. стати, отказ вдовы от наследства в пользу детей был довольно редким €влением Ц например, свекровь ћаргариты ирилловны после смерти мужа не отдала дет€м ни копейки. » это считалось совершенно естественным.
ћаргарита продала нелюбимое роскошное Ђпалаццої и построила в ћертвом переулке новый дом в полном соответствии со своим вкусом.
ƒрузь€, дл€ которых особн€к ћорозовой был вторым домом, расстроены.
Ђ∆аль мне, Ч писал ћаргарите Ёмилий ћетнер, узнав о состо€вшейс€ продаже, Ч € любил ¬ашу комнату, переулок и весь путь от √нездниковского в √лазовский... ќсобенно весной, когда, пробега€ по арбатским лабиринтам, всматриваешьс€ в очертани€ старых особн€ков, вдыхаешь аромат сиреней, приближа€сь какими-то кривыми, нелепыми зигзагами к жилищу Ђ—казкиї...ї

ћаргарита ћорозова
ѕроект особн€ка был заказан архитектору ».¬ ∆олтовскому, тогда еще не особенно известному. ƒом был закончен в 1914 году. —колько сил и любви вложила в него! г-жа ћорозова . Ёто была еЄ мечта : дом в тихом переулке между јрбатом и ѕречистенкой, уютный, красивый, с любовью обставленный и украшенный.
Ќовый дом был небольшим по сравнению с Ђпалаццої и не мог вместить всех ћорозовских художественных сокровищ. оллекцию картин, собранную покойным ћихаилом ћорозовым, ћаргарита ирилловна решилаЕнет, не продать, конечно, не продать, хот€ предложени€ ей делались самые выгодные. Ђ¬дова коллежского асессора ћ. . ћорозоваї попросила “реть€ковскую галерею прин€ть в дар бесценные сокровища, полной хоз€йкой которых она €вл€лась.
Ќекоторые картины она подарила провинциальным музе€м. —ебе ћаргарита оставила только 23 картины, оговорив, что после еЄ смерти он будут также переданы “реть€ковке.
»нтересно, что в завещании ћихаила ћорозова не было сказано ни слова о передаче картин в музей, тем более о безвозмездной передаче. Ќикто не осудил бы вдову с четырьм€ детьми за то, что она выгодно продала бесценную коллекцию. Ќо г-жа ћорозова решила иначеЕ
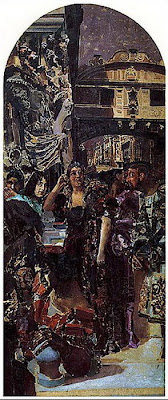
панно " ¬енеци€", на котором, по словам современников, изображена ћаргарита ћорозова
»мени€, оставшиес€ от мужа, ћаргарите никогда не нравились. ќна приобрела в алужской области на берегу ѕротвы имение ћихайловское. расивейшее место, прекрасное имение! —транна€ купчиха-идеалистка, она рисует в воображении нереально идиллические картины гармоничного, полного уважени€ и дружбы сосуществовани€ с кресть€нами, помощи пейзанам и глубокой благодарности с их стороны.
—воей при€тельнице ≈. ». ѕол€нской она пишет:
Ђя очень глубоко рада, что имение куплено. Ёто большое событие дл€ мен€.- Ќаконец-то € успокоюсь и устроюсь. Ёти заботы будут мне милы, да и перспективы открываютс€ широкие и глубокие. »дти из корн€, коснутьс€ корн€ русской жизни Ч это ли € не люблю!! Ёто мен€ углубит и умудрит Ч € знаюї.
Ѕедна€ ћаргарита, бедна€! ќтрезвление пришло довольно быстро. » вот она ужн жалуетс€, горько сетует, что Ђс мужиками посто€нные историиї.
огда речь заходит о кресть€нах, об артельных, об управл€ющем, в утонченной светской даме вновь просыпаетс€ купчиха с хорошей деловой хваткой, а высокие идеалы отступают на задний план. Ђќни только и хот€т содрать с мен€, Ч пишет ћаргарита кн€зю о кресть€нах, проживающих вблизи ее усадьбы. Ч ѕоражаешьс€ их уму и просто адвокатской ловкости. —о стройкой тоже трудно. «а одним слежу Ч другое в это врем€ упущу...ї
¬ любимом ћихайловском ћаргарита построила на свои деньги лесную школу-интернат, или, как тогда говорили, колонию ( ничего общего с современным значением этого слова). Ўкола была прекрасно оборудована, а руководителем был приглашен один из известнейших педагогов-новаторов —танислав “еофилович Ўацкий. олони€ получила название Ђ Ѕодра€ жизньї„ерез пару лет в интернате жили уже 50 мальчиков, собранных буквально на улице, привыкших к воровству, дракам, налетам, а в 1912 году в колонию пришло уже 100 человек.

колони€ "Ѕодра€ жизнь"
¬ "Ѕодрой жизни" воспитанники были с конца апрел€ по окт€брь мес€ц. “ак продолжалось до 1918 года.Ећаргарита пыталась дать им возможность начать новую жизньЕѕравда, в Ђ ѕедагогической энциклопедииї написано следующее: Ђ "Ѕодра€ жизнь", летн€€ трудова€ колони€ дл€ детей и подростков из рабочих семей одной из окраин ћосквы. ќбразована в 1911 —. “. Ўацким и ¬. Ќ. Ўацкой под алугой. ¬ "Ѕ. ж." ежегодно проводили лето 60-80 детей, посещавших дет. учреждени€ об-ва. ¬ колонии осуществл€лс€ эксперимент организации жизни детей на принципах разнообразной трудовой де€тельности: самообслуживание, благоустройство территории, приготовление пищи, работа в огороде, саду, поле, на скотном дворе. ƒет. коллектив вместе с педагогами обсуждал все дела колонии. —вободное врем€ дети проводили по своему желанию (игра, чтение, пение, постановка спектаклей-импровизаций, муз. и др. зан€ти€, содействующие развитию творческих способностей воспитанников). ѕрактич. де€тельность в "Ѕ. ж." позволила Ўацкому и его сотрудникам продолжить исследование дет. коллектива. ¬ 1919 "Ѕ. ж." стала посто€нной школой-колонией и вошла в состав первой опытной станции по нар. образованию Ќаркомпроса –—‘—–. — 1923/24 уч. г. в ней начали учитьс€ дети из окружающих деревень. ¬ школе-колонии продолжалось изучение содержани€ и организации уч.-воспитат. процесса, взаимодействи€ шк. работы и трудовой жизни, разрабатывались вопросы св€зи де€тельности школы с пионерской и комсомольской орг-ци€ми, окружающей средой. ¬ 1934 преобразована в ср. школу, ей присвоено им€ —. “. Ўацкого (г." ќбнинск алужской обл.).ї ’от€ следовало бы присвоить ей им€ ћаргариты ћорозовой.
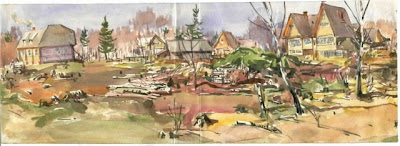
панорама колонии "Ѕодра€ жизнь"
’лопот у ћаргариты много, много: фабрики, имень€, рэволюци€Е Ќо она любит не это, она любит детей, стихи, музыку, философию. Ќо в семье беда. ћаргарита, провод€ща€ теперь много времени с детьми, замечает в старшем сыне наследственную предрасположенность к психическим расстройствам.
Ђ— детьми тоже много, много т€желого. онечно, ћика и ћарус€ еще дети, и вопросы с ними детские. Ќо старшие каждый по-разному, но составл€ют вопрос серьезный ќсобенно ёра Ч это пр€мо психически больной, истерический человек. Ёто посто€нна€ душевна€ рана дл€ мен€ котора€ болит всегда, но особенно [неразборчиво], когда мы с глазу на глаз и € вижу, что это будет в жизни. Ѕольно за него. Ќесчастный человек. “ы можешь себе представить, когда видел и наблюдал годами гибель одного, видеть и наблюдать симптомы возможной гибели другогої.
ћаргарита, упомина€ о Ђгибели одногої и Ђвозможной гибели другогої, €вно говорит о психическом заболевании мужа, приведшем ћихаила к раннему и трагическому концу, и о симптомах психопатии, про€вл€ющихс€ у старшего сына. ¬от когда ей довелось осознать весь ужас родового морозовского недуга!
ћорозова строит, управл€ет фабриками, хлопочет о проведении съезда кадетской партии в своем особн€ке Ц жизнь полна, но она, миллионерша, умница, красавица- несчастна. » судьба улыбнулась Ц наконец, по€вилс€ человек, который, казалось, был создан дл€ ћаргариты. “олько бедна€ ћаргарита не знала, что это была улыбка —нежной оролевы, предлагавшей мальчику аю собрать из льдинок слово ¬ечность.
ћаргарита продала нелюбимое роскошное Ђпалаццої и построила в ћертвом переулке новый дом в полном соответствии со своим вкусом.
ƒрузь€, дл€ которых особн€к ћорозовой был вторым домом, расстроены.
Ђ∆аль мне, Ч писал ћаргарите Ёмилий ћетнер, узнав о состо€вшейс€ продаже, Ч € любил ¬ашу комнату, переулок и весь путь от √нездниковского в √лазовский... ќсобенно весной, когда, пробега€ по арбатским лабиринтам, всматриваешьс€ в очертани€ старых особн€ков, вдыхаешь аромат сиреней, приближа€сь какими-то кривыми, нелепыми зигзагами к жилищу Ђ—казкиї...ї

ћаргарита ћорозова
ѕроект особн€ка был заказан архитектору ».¬ ∆олтовскому, тогда еще не особенно известному. ƒом был закончен в 1914 году. —колько сил и любви вложила в него! г-жа ћорозова . Ёто была еЄ мечта : дом в тихом переулке между јрбатом и ѕречистенкой, уютный, красивый, с любовью обставленный и украшенный.
Ќовый дом был небольшим по сравнению с Ђпалаццої и не мог вместить всех ћорозовских художественных сокровищ. оллекцию картин, собранную покойным ћихаилом ћорозовым, ћаргарита ирилловна решилаЕнет, не продать, конечно, не продать, хот€ предложени€ ей делались самые выгодные. Ђ¬дова коллежского асессора ћ. . ћорозоваї попросила “реть€ковскую галерею прин€ть в дар бесценные сокровища, полной хоз€йкой которых она €вл€лась.
Ќекоторые картины она подарила провинциальным музе€м. —ебе ћаргарита оставила только 23 картины, оговорив, что после еЄ смерти он будут также переданы “реть€ковке.
»нтересно, что в завещании ћихаила ћорозова не было сказано ни слова о передаче картин в музей, тем более о безвозмездной передаче. Ќикто не осудил бы вдову с четырьм€ детьми за то, что она выгодно продала бесценную коллекцию. Ќо г-жа ћорозова решила иначеЕ
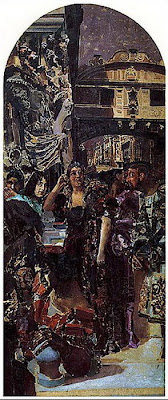
панно " ¬енеци€", на котором, по словам современников, изображена ћаргарита ћорозова
»мени€, оставшиес€ от мужа, ћаргарите никогда не нравились. ќна приобрела в алужской области на берегу ѕротвы имение ћихайловское. расивейшее место, прекрасное имение! —транна€ купчиха-идеалистка, она рисует в воображении нереально идиллические картины гармоничного, полного уважени€ и дружбы сосуществовани€ с кресть€нами, помощи пейзанам и глубокой благодарности с их стороны.
—воей при€тельнице ≈. ». ѕол€нской она пишет:
Ђя очень глубоко рада, что имение куплено. Ёто большое событие дл€ мен€.- Ќаконец-то € успокоюсь и устроюсь. Ёти заботы будут мне милы, да и перспективы открываютс€ широкие и глубокие. »дти из корн€, коснутьс€ корн€ русской жизни Ч это ли € не люблю!! Ёто мен€ углубит и умудрит Ч € знаюї.
Ѕедна€ ћаргарита, бедна€! ќтрезвление пришло довольно быстро. » вот она ужн жалуетс€, горько сетует, что Ђс мужиками посто€нные историиї.
огда речь заходит о кресть€нах, об артельных, об управл€ющем, в утонченной светской даме вновь просыпаетс€ купчиха с хорошей деловой хваткой, а высокие идеалы отступают на задний план. Ђќни только и хот€т содрать с мен€, Ч пишет ћаргарита кн€зю о кресть€нах, проживающих вблизи ее усадьбы. Ч ѕоражаешьс€ их уму и просто адвокатской ловкости. —о стройкой тоже трудно. «а одним слежу Ч другое в это врем€ упущу...ї
¬ любимом ћихайловском ћаргарита построила на свои деньги лесную школу-интернат, или, как тогда говорили, колонию ( ничего общего с современным значением этого слова). Ўкола была прекрасно оборудована, а руководителем был приглашен один из известнейших педагогов-новаторов —танислав “еофилович Ўацкий. олони€ получила название Ђ Ѕодра€ жизньї„ерез пару лет в интернате жили уже 50 мальчиков, собранных буквально на улице, привыкших к воровству, дракам, налетам, а в 1912 году в колонию пришло уже 100 человек.

колони€ "Ѕодра€ жизнь"
¬ "Ѕодрой жизни" воспитанники были с конца апрел€ по окт€брь мес€ц. “ак продолжалось до 1918 года.Ећаргарита пыталась дать им возможность начать новую жизньЕѕравда, в Ђ ѕедагогической энциклопедииї написано следующее: Ђ "Ѕодра€ жизнь", летн€€ трудова€ колони€ дл€ детей и подростков из рабочих семей одной из окраин ћосквы. ќбразована в 1911 —. “. Ўацким и ¬. Ќ. Ўацкой под алугой. ¬ "Ѕ. ж." ежегодно проводили лето 60-80 детей, посещавших дет. учреждени€ об-ва. ¬ колонии осуществл€лс€ эксперимент организации жизни детей на принципах разнообразной трудовой де€тельности: самообслуживание, благоустройство территории, приготовление пищи, работа в огороде, саду, поле, на скотном дворе. ƒет. коллектив вместе с педагогами обсуждал все дела колонии. —вободное врем€ дети проводили по своему желанию (игра, чтение, пение, постановка спектаклей-импровизаций, муз. и др. зан€ти€, содействующие развитию творческих способностей воспитанников). ѕрактич. де€тельность в "Ѕ. ж." позволила Ўацкому и его сотрудникам продолжить исследование дет. коллектива. ¬ 1919 "Ѕ. ж." стала посто€нной школой-колонией и вошла в состав первой опытной станции по нар. образованию Ќаркомпроса –—‘—–. — 1923/24 уч. г. в ней начали учитьс€ дети из окружающих деревень. ¬ школе-колонии продолжалось изучение содержани€ и организации уч.-воспитат. процесса, взаимодействи€ шк. работы и трудовой жизни, разрабатывались вопросы св€зи де€тельности школы с пионерской и комсомольской орг-ци€ми, окружающей средой. ¬ 1934 преобразована в ср. школу, ей присвоено им€ —. “. Ўацкого (г." ќбнинск алужской обл.).ї ’от€ следовало бы присвоить ей им€ ћаргариты ћорозовой.
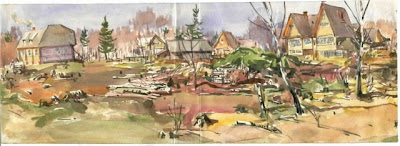
панорама колонии "Ѕодра€ жизнь"
’лопот у ћаргариты много, много: фабрики, имень€, рэволюци€Е Ќо она любит не это, она любит детей, стихи, музыку, философию. Ќо в семье беда. ћаргарита, провод€ща€ теперь много времени с детьми, замечает в старшем сыне наследственную предрасположенность к психическим расстройствам.
Ђ— детьми тоже много, много т€желого. онечно, ћика и ћарус€ еще дети, и вопросы с ними детские. Ќо старшие каждый по-разному, но составл€ют вопрос серьезный ќсобенно ёра Ч это пр€мо психически больной, истерический человек. Ёто посто€нна€ душевна€ рана дл€ мен€ котора€ болит всегда, но особенно [неразборчиво], когда мы с глазу на глаз и € вижу, что это будет в жизни. Ѕольно за него. Ќесчастный человек. “ы можешь себе представить, когда видел и наблюдал годами гибель одного, видеть и наблюдать симптомы возможной гибели другогої.
ћаргарита, упомина€ о Ђгибели одногої и Ђвозможной гибели другогої, €вно говорит о психическом заболевании мужа, приведшем ћихаила к раннему и трагическому концу, и о симптомах психопатии, про€вл€ющихс€ у старшего сына. ¬от когда ей довелось осознать весь ужас родового морозовского недуга!
ћорозова строит, управл€ет фабриками, хлопочет о проведении съезда кадетской партии в своем особн€ке Ц жизнь полна, но она, миллионерша, умница, красавица- несчастна. » судьба улыбнулась Ц наконец, по€вилс€ человек, который, казалось, был создан дл€ ћаргариты. “олько бедна€ ћаргарита не знала, что это была улыбка —нежной оролевы, предлагавшей мальчику аю собрать из льдинок слово ¬ечность.
|
ћетки: истори€ росси€ |
—уета сует... |
ƒневник |
¬ начале поста € выкладываю портрет ћихаила јбрамовича ћорозова, написанный —еровым. ¬от он.

“еперь скажите, разве не прав был ћорозов, когда не хотел забирать и оплачивать этот портрет? Ќа нем изображен не человек, а разъ€ренный бык, готовый к атаке. » это, между прочим, портрет приват-доцента ћосковского университета, тонкого знатока и ценител€ искусства, автора научных трудов, поклонника прекрасного. », подход€ меркантильно, человека, который содержал и кормил художников, сегодн€ считающихс€ цветом русского искусства. » он, кстати, купив, сохранил дл€ нас их картины. Ќу, да ладно. Ђ “€желой его (—ерова) чертой был какой-то юмористический пессимизм по отношению к люд€м,- писала ћаргарита ирилловна.- ќн видел в каждом человекеЕ,которого писал, карикатуруї.
ћаргарита рыдала и упрашивала мужа выкупить портрет. ќн согласилс€, наконец, и портрет доставили в особн€к ћорозовых. —еров же, когда его спрашивали об этой картине, пренебрежительно улыбалс€ и уничижающее говорил :Ђ«абавно, но они ( заказчики портрета, люди, которые всегда поддерживали художника материально и помогали ему с заказами) довольныї “о есть знал, что гадость сделал, а деньги все равно вз€л.
”же не раз было замечено, что люди, которых рисовал —еров, долго не живут. ќн словно обладал какой-то злой, мистической силой. ќн рисовал и ћаргариту, но, к счастью, портрет не был закончен, и модель прожила долгую жизнь.
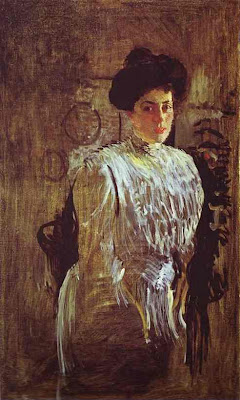
ј вот ћихаил јбрамович не прожил и года. ¬се свое имущество он завещал жене, но она сразу же отказалась от наследства в пользу детей, оставшись лишь опекуншей до их совершеннолети€.
Ђ огда мой муж умер, Ч вспоминала ћаргарита ћорозова, Ч € свободно отвергла многие соблазны, ушла и одна жила, и работалаї.
ƒа, непростое замужество заставило ее мечтать о спокойной и чистой жизни как о счастье, но о какой работе говорит молода€ вдова?
ќна наконец-то, уже вполне зрелой дамой, с четырьм€ детьми и массой нерешенных проблем решила зан€тьс€ тем, о чем всегда мечтала, Ч своим образованием. ¬серьез, без вс€ких скидок и огл€док на чужие насмешки, она начинает изучать философию. ¬ыбор предмета дл€ женщины странный, особенно по тем временам... Ќо у ћаргариты было особое пристрастие именно к этой науке.
Ђ‘илософи€ всегда была моей спасительницей и убежищем в трудные минутыї, Ч напишет ћаргарита ирилловна несколько лет спуст€ в письме кн€зю “рубецкому.
ћаргарита стала брать уроки музыки у —кр€бина, музыку которого тогда мало кто понимал и ценил, и, конечно, тут же вз€лась помогать ему материально. —кр€бин от денег не отказывалс€, а потом и вовсе вз€л у ћорозовой деньги как бы на лечение в Ўвейцарии, куда уехал с молодой любовницей, а жену с четырьм€ детьми оставил на попечение ћаргариты ирилловны. ƒобра€ женщина не только выплачивала композитору ежемес€чную пенсию, но и посто€нно помогала его оставленной семье. ¬прочем, —кр€бин отзывалс€ о своей благодетельнице с €вным пренебрежением, что не делает ему чести, и прекратил отношени€ с ней под предлогом того, что при разводе ћаргарита прин€ла сторону его брошенной без средств к существованию жены и детей. Ќа самом деле, —кр€бин получил очень выгодный контракт и преподавательскую работу за границей.
—мертельно занемог —еров. » к кому же он обратилс€ за помощью? г-же ћорозовой, зна€, что она не откажет. ”мирающий —еров просил денег, денегЕ» конечно, ћаргарита не отказывала, а после смерти художника выплачивала пенсию его вдове.
Ќо философские искани€ привели —казку пр€мо в политику. ак ни грустно, ћаргарита ирилловна оказалась вовлеченной в революционную де€тельность.
¬ еЄ палаццо на —моленском бульваре собирались революционэры самой разной направленности, устраивались лекции, диспуты, собрани€. —колько денег, времен и энергии было потрачено на эти сборища! ¬сех принимали, размещали, давали денег на революционную де€тельность, на помощь арестованным, на издание газет, листовокЕна оружие, веро€тно. Ѕедна€ ћаргарита, бедна€! ≈сли бы она помнила, что посе€в ветер, пожнешь бурю.
Ќо помимо ниспровергателей власти в доме собирались поэты и писатели, как прежде, звучала музыка. ѕриехал јндрей Ѕелый. . » только р€дом с ћаргаритой он обретал и вожделенную дружбу, и простую человеческую ласку, пам€ть о которой сохранилась на годы.
Ђ...ѕолучаешь, бывало, т€желый сине-лиловый конверт; разрываешь: на толстой бумаге большими красивыми буквами четко проставлено: Ђћилый Ѕорис Ќиколаевич, Ч такого-то жду: посидим вечерком. ћ. ћорозоваї, Ч писал
Ѕелый в книге воспоминаний ЂЌачало векаї. Ч ћимо передней в египетском стиле идешь; зал Ч большой, неуютный, холодный, лепной; гулок шаг; мимо Ч в очень уютную белую комнату, устланную м€гким, серым ковром, куда м€гко выходит из спальни больша€-больша€, си€юща€ улыбкой ћорозова; м€гко садитс€... на низенький, малый диванчик; несут чайный столик: к ногам; разговор Ч обо всем и ни о чем; в разговоре высказывала она личную доброту, м€гкость; она любила поговорить о судьбах жизни, о долге не впадать в уныние, о ¬ладимире —оловьеве, о Ќицше, о —кр€бине, о невозможности строить путь жизни на анте; тут же и анекдоты... ¬ трудные минуты жизни ћ. . делала усили€ мен€ приободрить и вызывала на интимность; у нее были ослепительные глаза, с отблеском то сапфира, то изумруда; в свою белую тальму, бывало, закутаетс€, привалитс€ к дивану и Ч слушаетї.
Ќеудивительно, что при такой душевной близости Ѕелый надолго оставалс€ в числе Ђрыцарейї этой ѕрекрасной ƒамы. ƒружить ћаргарита ирилловна умела. ак и помогать. »х прежние возвышенные отношени€ перешли в дружбу, доверительную и глубокую.
Ќаступил 1905 год. ¬ ћоскве начались волнени€. –эволюционные сборища в особн€ке ћорозовой проходили посто€нно, в него слетались оппозиционеры все мастей. —реди них блистал красноречием г-н ћилюков, не замедливший влюбитьс€ в красавицу-хоз€йку. ќн не привык к отказам дам - женщины просто обожали "первого среди равных" либерального болтуна.

јх, какие письма он ей писал, какие слова говорил! » умница, и красавица,и Ђнеобыкновенна€ душа, больше, чем любовь, душа прекраснее, чем прекрасное лицо, глубокое понимание самых неожиданных мыслейї Ќо Ц ћаргарита осталась холодна к этим изли€ни€м. »Еконечно же, ћилюков вспоминал, что г-жа ћорозова была легмысленной, взбалмошной женщиной, проводившей жизнь в пустой суете и погоне за последним Ђкриками модыї Ђ ≈Є интересовал особенно мистический элемент в метафизике, который мен€ особенно отталкивалї . ¬от так. ћелка€ месть отвергнутого поклонника, это так обыденно.
–еволюци€, философи€, »скусствоЕ —колько всего увлекало прекрасную богатую вдову! —колько поклонников вилось вокруг неЄ!
» конечно, рано или поздно должен был по€витьс€ человек, которого она полюбила.

“еперь скажите, разве не прав был ћорозов, когда не хотел забирать и оплачивать этот портрет? Ќа нем изображен не человек, а разъ€ренный бык, готовый к атаке. » это, между прочим, портрет приват-доцента ћосковского университета, тонкого знатока и ценител€ искусства, автора научных трудов, поклонника прекрасного. », подход€ меркантильно, человека, который содержал и кормил художников, сегодн€ считающихс€ цветом русского искусства. » он, кстати, купив, сохранил дл€ нас их картины. Ќу, да ладно. Ђ “€желой его (—ерова) чертой был какой-то юмористический пессимизм по отношению к люд€м,- писала ћаргарита ирилловна.- ќн видел в каждом человекеЕ,которого писал, карикатуруї.
ћаргарита рыдала и упрашивала мужа выкупить портрет. ќн согласилс€, наконец, и портрет доставили в особн€к ћорозовых. —еров же, когда его спрашивали об этой картине, пренебрежительно улыбалс€ и уничижающее говорил :Ђ«абавно, но они ( заказчики портрета, люди, которые всегда поддерживали художника материально и помогали ему с заказами) довольныї “о есть знал, что гадость сделал, а деньги все равно вз€л.
”же не раз было замечено, что люди, которых рисовал —еров, долго не живут. ќн словно обладал какой-то злой, мистической силой. ќн рисовал и ћаргариту, но, к счастью, портрет не был закончен, и модель прожила долгую жизнь.
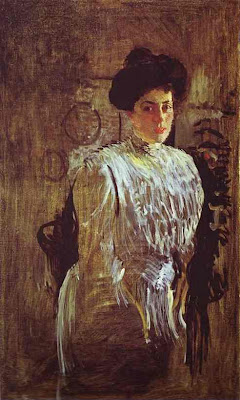
ј вот ћихаил јбрамович не прожил и года. ¬се свое имущество он завещал жене, но она сразу же отказалась от наследства в пользу детей, оставшись лишь опекуншей до их совершеннолети€.
Ђ огда мой муж умер, Ч вспоминала ћаргарита ћорозова, Ч € свободно отвергла многие соблазны, ушла и одна жила, и работалаї.
ƒа, непростое замужество заставило ее мечтать о спокойной и чистой жизни как о счастье, но о какой работе говорит молода€ вдова?
ќна наконец-то, уже вполне зрелой дамой, с четырьм€ детьми и массой нерешенных проблем решила зан€тьс€ тем, о чем всегда мечтала, Ч своим образованием. ¬серьез, без вс€ких скидок и огл€док на чужие насмешки, она начинает изучать философию. ¬ыбор предмета дл€ женщины странный, особенно по тем временам... Ќо у ћаргариты было особое пристрастие именно к этой науке.
Ђ‘илософи€ всегда была моей спасительницей и убежищем в трудные минутыї, Ч напишет ћаргарита ирилловна несколько лет спуст€ в письме кн€зю “рубецкому.
ћаргарита стала брать уроки музыки у —кр€бина, музыку которого тогда мало кто понимал и ценил, и, конечно, тут же вз€лась помогать ему материально. —кр€бин от денег не отказывалс€, а потом и вовсе вз€л у ћорозовой деньги как бы на лечение в Ўвейцарии, куда уехал с молодой любовницей, а жену с четырьм€ детьми оставил на попечение ћаргариты ирилловны. ƒобра€ женщина не только выплачивала композитору ежемес€чную пенсию, но и посто€нно помогала его оставленной семье. ¬прочем, —кр€бин отзывалс€ о своей благодетельнице с €вным пренебрежением, что не делает ему чести, и прекратил отношени€ с ней под предлогом того, что при разводе ћаргарита прин€ла сторону его брошенной без средств к существованию жены и детей. Ќа самом деле, —кр€бин получил очень выгодный контракт и преподавательскую работу за границей.
—мертельно занемог —еров. » к кому же он обратилс€ за помощью? г-же ћорозовой, зна€, что она не откажет. ”мирающий —еров просил денег, денегЕ» конечно, ћаргарита не отказывала, а после смерти художника выплачивала пенсию его вдове.
Ќо философские искани€ привели —казку пр€мо в политику. ак ни грустно, ћаргарита ирилловна оказалась вовлеченной в революционную де€тельность.
¬ еЄ палаццо на —моленском бульваре собирались революционэры самой разной направленности, устраивались лекции, диспуты, собрани€. —колько денег, времен и энергии было потрачено на эти сборища! ¬сех принимали, размещали, давали денег на революционную де€тельность, на помощь арестованным, на издание газет, листовокЕна оружие, веро€тно. Ѕедна€ ћаргарита, бедна€! ≈сли бы она помнила, что посе€в ветер, пожнешь бурю.
Ќо помимо ниспровергателей власти в доме собирались поэты и писатели, как прежде, звучала музыка. ѕриехал јндрей Ѕелый. . » только р€дом с ћаргаритой он обретал и вожделенную дружбу, и простую человеческую ласку, пам€ть о которой сохранилась на годы.
Ђ...ѕолучаешь, бывало, т€желый сине-лиловый конверт; разрываешь: на толстой бумаге большими красивыми буквами четко проставлено: Ђћилый Ѕорис Ќиколаевич, Ч такого-то жду: посидим вечерком. ћ. ћорозоваї, Ч писал
Ѕелый в книге воспоминаний ЂЌачало векаї. Ч ћимо передней в египетском стиле идешь; зал Ч большой, неуютный, холодный, лепной; гулок шаг; мимо Ч в очень уютную белую комнату, устланную м€гким, серым ковром, куда м€гко выходит из спальни больша€-больша€, си€юща€ улыбкой ћорозова; м€гко садитс€... на низенький, малый диванчик; несут чайный столик: к ногам; разговор Ч обо всем и ни о чем; в разговоре высказывала она личную доброту, м€гкость; она любила поговорить о судьбах жизни, о долге не впадать в уныние, о ¬ладимире —оловьеве, о Ќицше, о —кр€бине, о невозможности строить путь жизни на анте; тут же и анекдоты... ¬ трудные минуты жизни ћ. . делала усили€ мен€ приободрить и вызывала на интимность; у нее были ослепительные глаза, с отблеском то сапфира, то изумруда; в свою белую тальму, бывало, закутаетс€, привалитс€ к дивану и Ч слушаетї.
Ќеудивительно, что при такой душевной близости Ѕелый надолго оставалс€ в числе Ђрыцарейї этой ѕрекрасной ƒамы. ƒружить ћаргарита ирилловна умела. ак и помогать. »х прежние возвышенные отношени€ перешли в дружбу, доверительную и глубокую.
Ќаступил 1905 год. ¬ ћоскве начались волнени€. –эволюционные сборища в особн€ке ћорозовой проходили посто€нно, в него слетались оппозиционеры все мастей. —реди них блистал красноречием г-н ћилюков, не замедливший влюбитьс€ в красавицу-хоз€йку. ќн не привык к отказам дам - женщины просто обожали "первого среди равных" либерального болтуна.

јх, какие письма он ей писал, какие слова говорил! » умница, и красавица,и Ђнеобыкновенна€ душа, больше, чем любовь, душа прекраснее, чем прекрасное лицо, глубокое понимание самых неожиданных мыслейї Ќо Ц ћаргарита осталась холодна к этим изли€ни€м. »Еконечно же, ћилюков вспоминал, что г-жа ћорозова была легмысленной, взбалмошной женщиной, проводившей жизнь в пустой суете и погоне за последним Ђкриками модыї Ђ ≈Є интересовал особенно мистический элемент в метафизике, который мен€ особенно отталкивалї . ¬от так. ћелка€ месть отвергнутого поклонника, это так обыденно.
–еволюци€, философи€, »скусствоЕ —колько всего увлекало прекрасную богатую вдову! —колько поклонников вилось вокруг неЄ!
» конечно, рано или поздно должен был по€витьс€ человек, которого она полюбила.
|
ћетки: истори€ росси€ |
—уета сует, все суета... |
ƒневник |
Ќе знаю, почему мен€ так опечалила истори€ ћаргариты ћорозовой. ¬роде, ничего такого уж трагического в ней нет, вполне обычна€ истори€ Ц грустна€, как сама жизнь. »стори€ жизни, утекающей сквозь пальцыЕжизни в ожидании жизниЕЅессмысленности стремлений и ничтожности дел. —тирающего все времени. ѕросто истори€ одинокой нищей старушки, умирающей в маленькой комнате на Ѕоровском шоссе в послевоенной ћоскве.
Ѕрак ћихаила ћорозова, наследника миллионного состо€ни€, женившегос€ по большой любви на девушке из бедной семьи, да к тому же их семьи с сомнительной репутацией, вызвал насто€щий скандал в московском обществе. ’от€ по рождению ћаргарита ћамонтова принадлежала к известнейшей купеческой семье ћамонтовых, еЄ отец ухитрилс€ растратить состо€ние, бежал от кредиторов во ‘ранцию да и застрелилс€ в марсельской гостинице.
Ѕедна€ вдова, оставшись с двум€ дочерьми, вынуждена была зарабатывать на жизнь шитьем. » у неЄ составилась очень состо€тельна€ клиентура, плативша€ достаточно. ћаргарита ќттовна Ц а им€ ћаргарита было семейным: его носила бабушка, ћаргарита јгапитовна, и ћаргарита ќттовна - сн€ла хорошую квартиру на “верской, открыла ателье на узнецком мосту. ≈Є дочери Ц ћаргарита и ≈лена - свободно владели иностранными €зыками, рисовали, играли на фортепь€ноЕ» были насто€щими красавицами. Ѕлагодар€ частому общению с семейством “реть€ковых, родственников по отцу, рано полюбили и научились ценить живопись. ѕосещение музыкальных вечеров, оперы, драматического театра было частью их жизни.
Ќо молода€ вдова дала повод к пересудам, почти не скрыва€ своих Ђособыхї отношений с московским обер-полицмейстером, а затем генерал-губернатором ј.ј озловым.
Ёто делал Ђ двусмысленнымї не только еЄ положение, но и положение дочерей Ц они были детьми Ђ этой особыї.
ак только сестер ћамонтовых стали вывозить на купеческие балы ( а балы эти были прероскошны, надо сказать), юна€ ћаргарита была признана всеми первой красавицей ћосквы.

Ќе оттанцевав и одного сезона, ћаргарита сделала блест€щую партию Ц к ней посваталс€ ћихаил ћорозов, один из членов богатейшего клана ћорозовых, текстильный фабрикант.
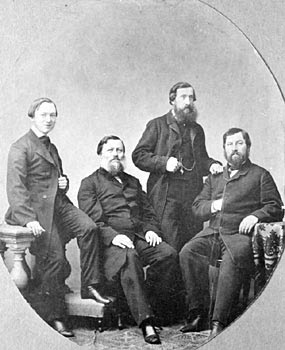
ѕредставители 4-х ветвей семьи ћорозовых (4-х морозовских мануфактур): ћорозов јбрам јбрамович, ћорозов “имофей —аввич, ћорозов ¬асилий (ћакар?) «ахарович, ћорозов ¬икул ≈лисеевич
ћосква. ‘ото Ѕергнера ј.(?)
Ќач. 1860-х гг.
all-photo.ru
ѕозже, вспомина€ семью мужа, ћаргарита ирилловна напишет: Ђ ќни были известны в ћоскве как люди одаренные, умные но несколько экстравагантные, их можно было всегда опасатьс€, как людей, которые не владели своими страст€ми..ї
¬ообще, клан ћорозовых был известен любовью к искусству и широчайшей благотворительностью. ѕам€тниками культурно-просветительной де€тельности ћорозовых в ћоскве остаютс€ здание ћосковского ’удожественного театра, клиники ћосковского университета и народный университет им. Ўан€вского, музейный корпус на территории владени€ ј.¬. ћорозова; приспособленный к экспонированию коллекций ».ј. ћорозова дом на ѕречистенке; кустарный музей, сооруженный в Ћеонтиевском пер. на средства —ерге€ “имофеевича ћорозова; общественна€ читальн€ им. ».—. “ургенева у ћ€сницких ворот, построенна€ на средства ¬.ј. ћорозовой; ƒом пропаганды народного творчества им. ¬.ƒ. ѕоленова, участок дл€ которого был куплен на средства —ерге€ “. ћорозова; выставка архитектуры и художественной промышленности нового стил€, в организационный комитет которой входил —ергей “. ћорозов; зал греческой скульптуры в ћузее из€щных искусств, созданный на средства ћ.ј. ћорозова. Ќа средства ћ. . ћорозовой дл€ кресть€н деревни Ѕелкино были построены школа и народный дом, неподалеку от них Ц детска€ колони€ ЂЅодра€ жизньї, во главе которой стал известный педагог —.“. Ўацкий.
“акова вкратце эмпирика самопро€влени€ художественно-просветительских пристрастий и благотворительной де€тельности рода ћорозовых в ћоскве.
∆ених ћаргариты , ћихаил ћорозов, училс€ в университете, подавал большие надежны, был остроумным собеседником , хоть и не красавцем.
ѕо возвращении в ћоскву после свадебного путешестви€, молодые поселились в особн€ке на углу —моленской и √лазовского переулка, где сейчас, увы, размещаетс€ один из многих банков. Ёто был насто€щий дворец, наполненный произведени€ми искусства. ƒом строен и гармоничен снаружи, выполнен в классических канонах и пропорци€х и потому привычен глазу. «ато внутри, способен поразить самое богатое воображение. ≈гипетска€ парадна€, охран€ема€ сфинксами, орнаменты из таинственных знаков по стенам, самый насто€щий саркофаг с мумией в прихожей, будто на машине времени перенос€т посетител€ в минувшие тыс€челети€. ќткрыва€ двери, переход€ из зала в зал, путешествуешь по культурному наследию разных народов. “ут и антична€ √реци€ и пышный ¬осток, будто из сказки 1001 ночи. ƒаже не веритс€, что сложные узоры восточной гостиной, из которых состоит буквально каждый сантиметр стен и потолка выполнен руками русских мастеров, настолько неотличимо все от лучших образцов арабского декоративного искусства. ƒекор дома досталс€ ћорозовым от предыдущего владельца чаеторговца .—.ѕопова, дл€ которого это старинное здание было перестроено в 1874 году.

’оз€йке дома ћаргарите ирилловне внутреннее убранство дома не нравилось, она находила его "причудливым и некрасиво отделанным", переделать, однако, не получилось. аждое воскресенье к позднему ланчу собирались друзь€ :—еров, оровин, ¬аснецов,ѕереплетчиков,¬рубельЕ.¬ подарок ћаргарите ћорозов купил у ¬рубел€ Ђ÷аревну-лебедьї и панно Ђ ‘ауст и ћаргаритаї. — ƒ€гилев вспоминал, что приобрета€ произведени€ искусства, ћорозов руководствовалс€ Ђ большой любовью и тонким чутьемї.

—упруги много путешествовали, ћаргарита усердно занималась своим образованием.
–одились дети : ёрий и ≈лена.
Ќо отношени€ между супругами совершенно испортились. —трашна€ наследственность ћихаила стала давать о себе знать. ¬ роду ћорозовых были сумасшедшие, и увы Ц муж ћаргариты стал про€вл€ть первые признаки душевной болезни. ќн стал агрессивен настолько, что ћаргарита, измученна€ ссорами, убежала от него к матери. ƒл€ ћаргариты ќттовны это было страшным ударом, она слегла. Ќаход€ща€с€ на последних мес€цах беременности ћаргарита была в отча€нии. Ќачались преждевременные роды. ћихаил , казалось, совершенно раска€лс€, пригласил лучших врачей Ц жизнь ћаргариты и ребенка была спасена. ћалыша назвали ћихаилом, ћикой.¬от этот самый чудесный ћика на картине —ерова

—упруги воссоединились. ¬ 1903 г. –одилась младша€ дочь, ћарус€.
Ќо жизнь не стала прежней. ћихаил начал пить, проводить ночи в клубах. ак-то он за ночь проиграл свыше миллиона рублей. Ёто было слишком даже по купеческим меркам. Ќапример, хороший каменный дом в ћоскве можно было купить за сто тыс€ч. ‘абрики постепенно приходили в упадок.
ѕришлось ћаргарите ирилловне вз€ть управление фабриками на себ€.
”тром она щелкает в конторе кост€шками, а вечером божественно играет на ро€ле дл€ приглашенных на прием гостей.
¬ феврале 1901 г. ћаргарита ирилловна была на концерте симфонической музыки. Ќаслажда€сь музыкой Ѕетховена, ћаргарита ирилловна вдруг почувствовала на себе чей-то взгл€д Ч юноша, сидевший неподалеку, был не в силах оторвать от нее глаз. Ёто был студент физико-математического факультета ћосковского университета Ѕорис Ѕугаев, которому суждено было прославитьс€ как поэту јндрею Ѕелому.

»нтеллигентный двадцатилетний мальчик из арбатской профессорской семьи, восторженный, романтический, люб€щий мистические тайны и символы, был покорен прекрасным одухотворенным лицої незнакомой дамы.
≈го, по собственным словам, закрутил Ђмгновен ный вихрь переживанийї, приведший к Ђпервой глубокой, мистической, единственной своего рода любви к ћ. . ћ.ї.
ак и его петербургский друг и соперник по поэтическому цеху јлександр Ѕлок, Ѕелый был адептом культа ѕрекрасной ƒамы.
Ђƒуша обмирала в переживани€х первой влюбленности; тешила детска€ окрыленность; <...> она стала мне ƒамойї, Ч вспоминал позже Ѕелый.
¬скоре ћаргарита ирилловна получила необыч ное письмо, подписанное Ђ¬аш рыцарьї:
Ђћногоуважаема€ ћаргарита ирилловна! „еловеку, уже давно заснувшему дл€ жизни живой, извинительна некотора€ дол€ смелости. ƒл€ кого мир становитс€ иллюзией, тот имеет большие права. <...> я осмелилс€ ¬ам написать только тогда, когда все жгучее и горькое стало
ослепительно €сным. ≈сли ¬ы спросите про себ€, люблю ли € ¬ас, Ч € отвечу: Ђбезумної. <...> ¬от безумие, прошедшее все ступени здравости, лепет младенца, умилившегос€ до ÷арстви€ Ќебесного. Ќе забудьте, что мои слова Ч только молитва, которую € твержу изо дн€ в день, только коленопреклонение...ї
ѕисьмо, присланное неизвестно кем, заинтересовало ћаргариту своей оригинальностью, и она решила сохранить его в тайном €щике своего секретера.
¬скоре пришло еще одно письмо, написанное тем же почерком и с той же подписью. Ќа этот раз неведомый рыцарь предварил собственное послание эпиграфом из ¬ладимира —оловьева, творчеством которого ћаргарита была в то врем€ увлечена:
¬ечна€ ∆енственность ныне,
¬ теле нетленном, на землю идет.
¬ свете немеркнущем новой богини
Ќебо слилос€ с пучиною вод.
“акое сходство литературных пристрастий заинтересовало ее еще больше.
ѕисьма приходили в течение трех лет - ћаргарита не делала попыток узнать, кто же ее таинственный поклонник, но письма его берегла. ќни окрашивали ее жизнь искрами романтического света... ƒа и могли ли оставить женское сердце холодным такие строки: Ђѕростите мне мое безумное письмо. огда больной говорит: Ђмне больної, он знает, что ему от этого не станет легче, он просит лишь немного сочувстви€...
ј € болен...
Ќо мне не надо сочувстви€. ћне только хочетс€ ¬ам сказать, что где-то Ђтамї ¬ас люб€т до безуми€... Ќет, не люб€т, а больше, гораздо больше. Ђ“амї ¬ы €вл€етесь глубоким, глубоким символом, чем-то вроде золотого закатного облака. Ђ“амї ¬ы туманна€ —казкаа, а не действительность...
ѕростите мен€ за лихорадочный бред, с которым € обращаюсь к ¬ам... –азрешите мне одну только милость: позвольте мне смотреть на ¬ас и мечтать о ¬ас, как о светлой сказке! ѕусть она будет невозможной, но ведь и невозможное кажетс€ близким...ї
«агадочным рыцарем был Ѕор€ Ѕугаев. ѕоначалу он даже не смел искать личного знакомства с предметом своей страсти, бо€сь разрушени€ идеального образа. Ќо восторженные письма ƒаме привели его к серьезным литературным опытам.
ћаргарите ћорозовой была посв€щена перва€ книга јндре€ Ѕелого, вышедша€ в 1902 году, Ч Ђ¬тора€ драматическа€ симфони€ї. нига странна€, прихотлива€, изломанна€, полна€ тайн и мистического очаровани€...
—тудент Ѕугаев, по его собственным словам, спр€талс€ за псевдоним Ѕелый, но обмануть никого не смог. ј ведь речь шла о чести ƒамы Ч Ѕелый посто€нно подчеркивал, что работа над книгой была окрашена сильной юношеской любовью, и эта любовь, эта радость Ч важна€ составл€юща€ сюжета, ее не скрыть. ћаргарита ћорозова названа во Ђ¬торой симфонииї именем —казка.
Ђ нига в кругу знакомых имела успех скандалаї, Ч напишет позже јндрей Ѕелый в своих воспоминани€х ЂЌачало векаї. ћаргариту ирилловну в образе —казки не только узнали, выдуманное Ѕелым поэтическое им€ Ђприлепилосьї к ней надолго.
ЂЅыли у ћорозовых, у —казкиї, Ч подобные фразы можно встретить во множестве на страницах мемуаров москвичей той поры...
ак ни странно, ћаргарите ирилловне об этих слухах никто не сообщил, и книга јндре€ Ѕелого, о которой она что-то слышала, попала ей в руки далеко не сразу, только весной 1903 года. —лучайно увидев, ћаргарита купила модную новинку. —тоило толь'о открыть этот томик, как все стало очевидным Ч это автор Ђ¬торой симфонииї писал ей под именем Ђрыцар€ї, книга полна буквальными цитатами из его восторженных посланий, и уж кто така€ —казка, никаких сомнений не возникало.
„то ж, ћаргариту не обидел столь романтический поворот событий, напротив, она говорила, что Ђ—имфони€ї Ѕелого, Ђнесмотр€ на некоторые странности, пленила ее какой-то весенней свежестьюї...
ЂЋюблю, –адуюсь. —квозь вихрь снегов, восторг метелей слышу лазурную музыку ¬аших глаз. Ћазурь везде. —о мной небо!ї Ч писал јндрей Ѕелый ћаргарите в €нваре 1903 года.
ѕродолжение следует...
Ѕрак ћихаила ћорозова, наследника миллионного состо€ни€, женившегос€ по большой любви на девушке из бедной семьи, да к тому же их семьи с сомнительной репутацией, вызвал насто€щий скандал в московском обществе. ’от€ по рождению ћаргарита ћамонтова принадлежала к известнейшей купеческой семье ћамонтовых, еЄ отец ухитрилс€ растратить состо€ние, бежал от кредиторов во ‘ранцию да и застрелилс€ в марсельской гостинице.
Ѕедна€ вдова, оставшись с двум€ дочерьми, вынуждена была зарабатывать на жизнь шитьем. » у неЄ составилась очень состо€тельна€ клиентура, плативша€ достаточно. ћаргарита ќттовна Ц а им€ ћаргарита было семейным: его носила бабушка, ћаргарита јгапитовна, и ћаргарита ќттовна - сн€ла хорошую квартиру на “верской, открыла ателье на узнецком мосту. ≈Є дочери Ц ћаргарита и ≈лена - свободно владели иностранными €зыками, рисовали, играли на фортепь€ноЕ» были насто€щими красавицами. Ѕлагодар€ частому общению с семейством “реть€ковых, родственников по отцу, рано полюбили и научились ценить живопись. ѕосещение музыкальных вечеров, оперы, драматического театра было частью их жизни.
Ќо молода€ вдова дала повод к пересудам, почти не скрыва€ своих Ђособыхї отношений с московским обер-полицмейстером, а затем генерал-губернатором ј.ј озловым.
Ёто делал Ђ двусмысленнымї не только еЄ положение, но и положение дочерей Ц они были детьми Ђ этой особыї.
ак только сестер ћамонтовых стали вывозить на купеческие балы ( а балы эти были прероскошны, надо сказать), юна€ ћаргарита была признана всеми первой красавицей ћосквы.

Ќе оттанцевав и одного сезона, ћаргарита сделала блест€щую партию Ц к ней посваталс€ ћихаил ћорозов, один из членов богатейшего клана ћорозовых, текстильный фабрикант.
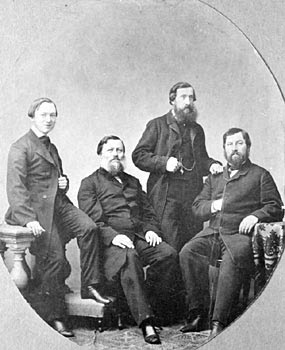
ѕредставители 4-х ветвей семьи ћорозовых (4-х морозовских мануфактур): ћорозов јбрам јбрамович, ћорозов “имофей —аввич, ћорозов ¬асилий (ћакар?) «ахарович, ћорозов ¬икул ≈лисеевич
ћосква. ‘ото Ѕергнера ј.(?)
Ќач. 1860-х гг.
all-photo.ru
ѕозже, вспомина€ семью мужа, ћаргарита ирилловна напишет: Ђ ќни были известны в ћоскве как люди одаренные, умные но несколько экстравагантные, их можно было всегда опасатьс€, как людей, которые не владели своими страст€ми..ї
¬ообще, клан ћорозовых был известен любовью к искусству и широчайшей благотворительностью. ѕам€тниками культурно-просветительной де€тельности ћорозовых в ћоскве остаютс€ здание ћосковского ’удожественного театра, клиники ћосковского университета и народный университет им. Ўан€вского, музейный корпус на территории владени€ ј.¬. ћорозова; приспособленный к экспонированию коллекций ».ј. ћорозова дом на ѕречистенке; кустарный музей, сооруженный в Ћеонтиевском пер. на средства —ерге€ “имофеевича ћорозова; общественна€ читальн€ им. ».—. “ургенева у ћ€сницких ворот, построенна€ на средства ¬.ј. ћорозовой; ƒом пропаганды народного творчества им. ¬.ƒ. ѕоленова, участок дл€ которого был куплен на средства —ерге€ “. ћорозова; выставка архитектуры и художественной промышленности нового стил€, в организационный комитет которой входил —ергей “. ћорозов; зал греческой скульптуры в ћузее из€щных искусств, созданный на средства ћ.ј. ћорозова. Ќа средства ћ. . ћорозовой дл€ кресть€н деревни Ѕелкино были построены школа и народный дом, неподалеку от них Ц детска€ колони€ ЂЅодра€ жизньї, во главе которой стал известный педагог —.“. Ўацкий.
“акова вкратце эмпирика самопро€влени€ художественно-просветительских пристрастий и благотворительной де€тельности рода ћорозовых в ћоскве.
∆ених ћаргариты , ћихаил ћорозов, училс€ в университете, подавал большие надежны, был остроумным собеседником , хоть и не красавцем.
ѕо возвращении в ћоскву после свадебного путешестви€, молодые поселились в особн€ке на углу —моленской и √лазовского переулка, где сейчас, увы, размещаетс€ один из многих банков. Ёто был насто€щий дворец, наполненный произведени€ми искусства. ƒом строен и гармоничен снаружи, выполнен в классических канонах и пропорци€х и потому привычен глазу. «ато внутри, способен поразить самое богатое воображение. ≈гипетска€ парадна€, охран€ема€ сфинксами, орнаменты из таинственных знаков по стенам, самый насто€щий саркофаг с мумией в прихожей, будто на машине времени перенос€т посетител€ в минувшие тыс€челети€. ќткрыва€ двери, переход€ из зала в зал, путешествуешь по культурному наследию разных народов. “ут и антична€ √реци€ и пышный ¬осток, будто из сказки 1001 ночи. ƒаже не веритс€, что сложные узоры восточной гостиной, из которых состоит буквально каждый сантиметр стен и потолка выполнен руками русских мастеров, настолько неотличимо все от лучших образцов арабского декоративного искусства. ƒекор дома досталс€ ћорозовым от предыдущего владельца чаеторговца .—.ѕопова, дл€ которого это старинное здание было перестроено в 1874 году.

’оз€йке дома ћаргарите ирилловне внутреннее убранство дома не нравилось, она находила его "причудливым и некрасиво отделанным", переделать, однако, не получилось. аждое воскресенье к позднему ланчу собирались друзь€ :—еров, оровин, ¬аснецов,ѕереплетчиков,¬рубельЕ.¬ подарок ћаргарите ћорозов купил у ¬рубел€ Ђ÷аревну-лебедьї и панно Ђ ‘ауст и ћаргаритаї. — ƒ€гилев вспоминал, что приобрета€ произведени€ искусства, ћорозов руководствовалс€ Ђ большой любовью и тонким чутьемї.

—упруги много путешествовали, ћаргарита усердно занималась своим образованием.
–одились дети : ёрий и ≈лена.
Ќо отношени€ между супругами совершенно испортились. —трашна€ наследственность ћихаила стала давать о себе знать. ¬ роду ћорозовых были сумасшедшие, и увы Ц муж ћаргариты стал про€вл€ть первые признаки душевной болезни. ќн стал агрессивен настолько, что ћаргарита, измученна€ ссорами, убежала от него к матери. ƒл€ ћаргариты ќттовны это было страшным ударом, она слегла. Ќаход€ща€с€ на последних мес€цах беременности ћаргарита была в отча€нии. Ќачались преждевременные роды. ћихаил , казалось, совершенно раска€лс€, пригласил лучших врачей Ц жизнь ћаргариты и ребенка была спасена. ћалыша назвали ћихаилом, ћикой.¬от этот самый чудесный ћика на картине —ерова

—упруги воссоединились. ¬ 1903 г. –одилась младша€ дочь, ћарус€.
Ќо жизнь не стала прежней. ћихаил начал пить, проводить ночи в клубах. ак-то он за ночь проиграл свыше миллиона рублей. Ёто было слишком даже по купеческим меркам. Ќапример, хороший каменный дом в ћоскве можно было купить за сто тыс€ч. ‘абрики постепенно приходили в упадок.
ѕришлось ћаргарите ирилловне вз€ть управление фабриками на себ€.
”тром она щелкает в конторе кост€шками, а вечером божественно играет на ро€ле дл€ приглашенных на прием гостей.
¬ феврале 1901 г. ћаргарита ирилловна была на концерте симфонической музыки. Ќаслажда€сь музыкой Ѕетховена, ћаргарита ирилловна вдруг почувствовала на себе чей-то взгл€д Ч юноша, сидевший неподалеку, был не в силах оторвать от нее глаз. Ёто был студент физико-математического факультета ћосковского университета Ѕорис Ѕугаев, которому суждено было прославитьс€ как поэту јндрею Ѕелому.

»нтеллигентный двадцатилетний мальчик из арбатской профессорской семьи, восторженный, романтический, люб€щий мистические тайны и символы, был покорен прекрасным одухотворенным лицої незнакомой дамы.
≈го, по собственным словам, закрутил Ђмгновен ный вихрь переживанийї, приведший к Ђпервой глубокой, мистической, единственной своего рода любви к ћ. . ћ.ї.
ак и его петербургский друг и соперник по поэтическому цеху јлександр Ѕлок, Ѕелый был адептом культа ѕрекрасной ƒамы.
Ђƒуша обмирала в переживани€х первой влюбленности; тешила детска€ окрыленность; <...> она стала мне ƒамойї, Ч вспоминал позже Ѕелый.
¬скоре ћаргарита ирилловна получила необыч ное письмо, подписанное Ђ¬аш рыцарьї:
Ђћногоуважаема€ ћаргарита ирилловна! „еловеку, уже давно заснувшему дл€ жизни живой, извинительна некотора€ дол€ смелости. ƒл€ кого мир становитс€ иллюзией, тот имеет большие права. <...> я осмелилс€ ¬ам написать только тогда, когда все жгучее и горькое стало
ослепительно €сным. ≈сли ¬ы спросите про себ€, люблю ли € ¬ас, Ч € отвечу: Ђбезумної. <...> ¬от безумие, прошедшее все ступени здравости, лепет младенца, умилившегос€ до ÷арстви€ Ќебесного. Ќе забудьте, что мои слова Ч только молитва, которую € твержу изо дн€ в день, только коленопреклонение...ї
ѕисьмо, присланное неизвестно кем, заинтересовало ћаргариту своей оригинальностью, и она решила сохранить его в тайном €щике своего секретера.
¬скоре пришло еще одно письмо, написанное тем же почерком и с той же подписью. Ќа этот раз неведомый рыцарь предварил собственное послание эпиграфом из ¬ладимира —оловьева, творчеством которого ћаргарита была в то врем€ увлечена:
¬ечна€ ∆енственность ныне,
¬ теле нетленном, на землю идет.
¬ свете немеркнущем новой богини
Ќебо слилос€ с пучиною вод.
“акое сходство литературных пристрастий заинтересовало ее еще больше.
ѕисьма приходили в течение трех лет - ћаргарита не делала попыток узнать, кто же ее таинственный поклонник, но письма его берегла. ќни окрашивали ее жизнь искрами романтического света... ƒа и могли ли оставить женское сердце холодным такие строки: Ђѕростите мне мое безумное письмо. огда больной говорит: Ђмне больної, он знает, что ему от этого не станет легче, он просит лишь немного сочувстви€...
ј € болен...
Ќо мне не надо сочувстви€. ћне только хочетс€ ¬ам сказать, что где-то Ђтамї ¬ас люб€т до безуми€... Ќет, не люб€т, а больше, гораздо больше. Ђ“амї ¬ы €вл€етесь глубоким, глубоким символом, чем-то вроде золотого закатного облака. Ђ“амї ¬ы туманна€ —казкаа, а не действительность...
ѕростите мен€ за лихорадочный бред, с которым € обращаюсь к ¬ам... –азрешите мне одну только милость: позвольте мне смотреть на ¬ас и мечтать о ¬ас, как о светлой сказке! ѕусть она будет невозможной, но ведь и невозможное кажетс€ близким...ї
«агадочным рыцарем был Ѕор€ Ѕугаев. ѕоначалу он даже не смел искать личного знакомства с предметом своей страсти, бо€сь разрушени€ идеального образа. Ќо восторженные письма ƒаме привели его к серьезным литературным опытам.
ћаргарите ћорозовой была посв€щена перва€ книга јндре€ Ѕелого, вышедша€ в 1902 году, Ч Ђ¬тора€ драматическа€ симфони€ї. нига странна€, прихотлива€, изломанна€, полна€ тайн и мистического очаровани€...
—тудент Ѕугаев, по его собственным словам, спр€талс€ за псевдоним Ѕелый, но обмануть никого не смог. ј ведь речь шла о чести ƒамы Ч Ѕелый посто€нно подчеркивал, что работа над книгой была окрашена сильной юношеской любовью, и эта любовь, эта радость Ч важна€ составл€юща€ сюжета, ее не скрыть. ћаргарита ћорозова названа во Ђ¬торой симфонииї именем —казка.
Ђ нига в кругу знакомых имела успех скандалаї, Ч напишет позже јндрей Ѕелый в своих воспоминани€х ЂЌачало векаї. ћаргариту ирилловну в образе —казки не только узнали, выдуманное Ѕелым поэтическое им€ Ђприлепилосьї к ней надолго.
ЂЅыли у ћорозовых, у —казкиї, Ч подобные фразы можно встретить во множестве на страницах мемуаров москвичей той поры...
ак ни странно, ћаргарите ирилловне об этих слухах никто не сообщил, и книга јндре€ Ѕелого, о которой она что-то слышала, попала ей в руки далеко не сразу, только весной 1903 года. —лучайно увидев, ћаргарита купила модную новинку. —тоило толь'о открыть этот томик, как все стало очевидным Ч это автор Ђ¬торой симфонииї писал ей под именем Ђрыцар€ї, книга полна буквальными цитатами из его восторженных посланий, и уж кто така€ —казка, никаких сомнений не возникало.
„то ж, ћаргариту не обидел столь романтический поворот событий, напротив, она говорила, что Ђ—имфони€ї Ѕелого, Ђнесмотр€ на некоторые странности, пленила ее какой-то весенней свежестьюї...
ЂЋюблю, –адуюсь. —квозь вихрь снегов, восторг метелей слышу лазурную музыку ¬аших глаз. Ћазурь везде. —о мной небо!ї Ч писал јндрей Ѕелый ћаргарите в €нваре 1903 года.
ѕродолжение следует...
|
ћетки: истори€ росси€ |
» смерть не разлучит нас...ч.2 |
ƒневник |
¬ первой части речь шла, напоминаю, о самоубийствах жен в итае. ¬ »ндии обр€д Ђсатиї имеет долгую историю. ќн был введен јлександром ¬еликим в 326 г. до н.э., и греческий историк —трабон тоже пишет в своих сочинени€х об обр€де Ђсатиї. ѕервый описанный случай в индийских текстах относитс€ к 316 году, когда одну из двух жен индусского генерала его брат привел на погребальный костер. ќ ней говоритс€, что она была вс€ Ђсветла и очень радостна, даже когда €зыки пламени начали лизать ее телої.
400 году самосожжение вдов вошло в моду, особенно в Ѕенгалии. ƒальнейшее совершенствование этого обр€да вс€чески поощр€лось индийскими св€щенными писани€ми, а Ђѕурани брид-дхармаї, написанна€ в период между 1200Ч1400 гг. н.э., вс€чески рекомендует его в самых привлекательных словах: Ђ∆ена, преданна€ своему мужу и следующа€ за ним и после его смерти, очищает его от великих грехов. Ѕольшего по достоинству поступка дл€ женщины не существует, потому что в таком случае ей придетс€ посто€нно раздел€ть на небесах компанию своего любимого мужаї. ѕротесты в св€зи с таким позорным обычаем стали поступать гораздо позже, а этот обр€д Ђсатиї крепко укоренилс€ в индуистской религии. Ћегенда даже утверждает, что четыре жены бога ришны сожгли себ€ на костре, приготовленном дл€ трупа мужа.

¬ бенгальской литературе можно найти еще больше самых разнообразных примеров Ђсатиї, которые неизменно удостаиваютс€ самых высоких восхвалений. ¬еликий законодатель этой провинции XVI века –ахунандан рекомендует в своих трудах воспользоватьс€ таким обр€дом всем вдовам поголовно. ќн оставил свое описание, как именно следует выполн€ть такой обр€д. ѕрежде всего нужно, чтобы как можно сильнее разгорелс€ погребальный костер, только после этого вдова, распева€ религиозные гимны, может бросатьс€ в огонь.
Ќе могло быть и речи о прив€зывании жертвы к умершему веревкой, как это происходило значительно позже. ¬с€ суть такого обр€да заключалась в том, что женщина шла на него добровольно, по собственному, искреннему желанию. ¬ литературе этой эпохи нигде нет никаких упоминаний о насильственной смерти жертвы.

—облазн вечного блаженства и счасть€ как награды дл€ Ђсатиї объ€сн€етс€ индуистскими веровани€ми, что мужчина дл€ жены живой бог и если жена сжигала себ€ ради него, то они будут непременно вместе в загробной жизни. “ак как речь шла лишь о добровольном принесении себ€ в жертву, многие индийские семьи даже иногда хвастались числом своих Ђсатиї. »ногда, как это делалось в итае, на месте казни возводились небольшие пирамиды или холмики в честь жертв. ¬ более позднее врем€ возросло социальное давление, и в поведении обреченных на гибель женщин по€вл€лись темные, малопри€тные моменты. ћногие вдовы предпочитали умереть, чем вести постылую жизнь в полном одиночестве, котора€ выпала на их долю.
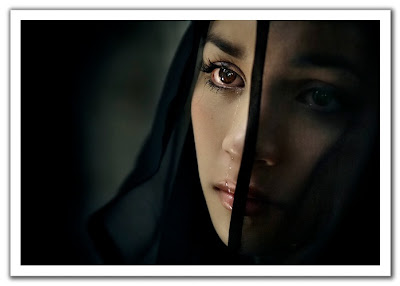
≈сли матери выражали желание сжечь себ€, то их сыновь€ таким образом освобождались от всех т€гот, св€занных с их содержанием. ќни сразу же становились наследниками всего их имущества. —читалось, что вдова приносит неудачу и зло, и поэтому ей запрещалось даже посещать семейные торжества. ќна, остава€сь пока членом семьи мужа, не имела права возвращатьс€ к своим родител€м.
–одственники со стороны мужа бдительно следили за ней, чтобы не допустить нарушени€ ее Ђцеломудри€ї, что могло поставить под угрозу душу ее умершего мужа. ƒаже слуги старались избегать ее.

«аккудин јхмед, автор, который много писал об обр€дах Ђсатиї в Ѕенгалии в XVIII веке, оставил нам описание типичной ритуальной церемонии. ѕосле смерти своего мужа вдова объ€вл€ла всем о своем решении стать Ђсатиї. ѕосле этого она надевала свой лучший нар€д, ее усаживали в паланкин и торжественна€ процесси€ носила ее по улицам в сопровождении неумолкающего оркестра. ѕроща€сь со своим домом, она патетическим жестом окунала руку в красную охру, оставл€€ отпечаток своей ладони на белой стене. ѕо пути она раздавала чуть поджаренный рис и фрукты, которые у нее из рук жадно выхватывала толпа, чтобы сохранить в качестве сувенира. ѕогребальный костер обычно разводили на берегу реки, предпочтительно на берегу св€щенного √анга. ѕо приезде к месту своей казни вдова погружалась дл€ омовени€ в воду, после чего переодевалась в сухую одежду. ѕотом отдавала все свои драгоценности возглавл€ющему церемонию брамину и облачалась в белые одежды. ∆рецы втирали в ее ступни лак, прикладывали окрашенный хлопок к ее рукам, перев€зывали его красной ленточкой. ѕотом начиналось чтение молитв, и вдова обращалась к восьми властител€м сторон света, и среди них к —олнцу, Ћуне и богу ¬ойны, чтобы те удостоили ее своим присутствием на этом церемониале. ќна трижды обходила костер под песнопени€ и молитвы браминов, которые на все лады расхваливали ее поступок.
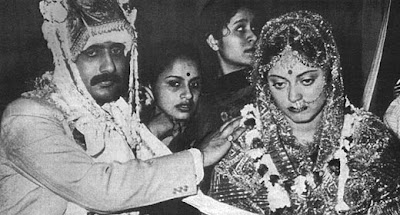
ѕопрощавшись со всеми, она поднималась на приготовленную платформу, садилась там, укладыва€ голову мертвого мужа у себ€ на колен€х, после чего ее старший сын подносил к хворосту первый факел. —разу же все в толпе принимались громко кричать, а барабанщики бить изо всех сил в свои инструменты, чтобы таким образом приглушить ужасные вопли умирающей жертв ’от€ во всем мире существовало большое разнообразие ритуалов Ђсатиї, этот в »ндии был обычным, стандартным. ¬дова сгорала на одном костре с умершим мужем. ƒруга€ его форма примен€лась в случа€х, если муж умирал, наход€сь вдали от дома, или если его жена в момент его смерти оказывалась беременной. ≈е обычно сжигали потом, одну, а в руках она держала что-нибудь из личных вещей своего супруга, например его чалму. Ѕывали случаи, когда вдовы сжигали себ€ на костре спуст€ п€тнадцать лет после кончины мужа. ƒругие, напротив, слишком торопились, и далеко не единственна€ неверно информированна€ жена убивала себ€, полага€, что ее муж умер в далекой стороне, всего за несколько часов до его благополучного возвращени€

»ногда в пламени костра погибали не только жены, но и наложницы, с которыми муж хот€ бы некоторое врем€ сожительствовал, а также и его слуги-мужчины. »ногда мать сгорала вместе с сыном. “ак, женщин касты ткачей обычно закапывали живыми в могиле мертвого мужа. ¬ таких случа€х могилу обычно выкапывали возле реки. ¬дова спускалась в могилу, где уже лежал ее муж, а старший сын, ловко оруду€ лопатой, неторопливо засыпал мать землей, пока под толстым слоем не скрывалась ее голова. ќбр€д Ђсатиї был доступен дл€ женщин любого возраста. “ак, в 1812 году со своим мужем была сожжена его четырехлетн€€ Ђженаї. ¬ ћид-рапоре же, в —еверной алькутте, в 1825 году на погребальный костер, пошатыва€сь, взошла столетн€€ Ђвдоваї.

ѕо мере того как в конце XVII и начале XIX веков такой варварский обычай все сильнее укорен€лс€ в стране, особенно в Ѕенгалии, он сопровождалс€ все большими злоупотреблени€ми. ћногих детей насильно оставл€ли сиротами, а других заставл€ли сжигать себ€ заживо. “ак, к примеру, поступали с так называемыми Ђмаленькими невестамиї. »х прив€зывали к полуистлевшему трупу супруга и вместе сжигали. »ногда из одиночного жертвоприношени€ обр€д Ђсатиї превращалс€ в массовое ритуальное убийство. Ёто часто происходило потому, что родители жертвы хотели повысить свой социальный статус с помощью расчетливого брака с представител€ми высшей касты ку-линов в Ѕенгалии. ћужчины из знатной семьи сделали подобные браки дл€ себ€ насто€щей профессией, торгу€ собой направо и налево, продава€сь девушкам и женщинам за деньги. ћало кто из таких Ђженї подолгу жил с этим мужчиной или даже вообще встречалс€ с ним после женитьбы Ч до наступлени€ этого страшного дн€ казни, когда их тащили к погребальному костру. Ќапример, в 1799 году вместе с останками одного брамина в Ќадии, неподалеку от алькутты, были сожжены тридцать семь женщин. тому времени, когда наконец костер как следует разожгли, только три из них оказались на месте. ќстальных разыскивали в течение трех суток, в продолжение которых костру не давали погаснуть.

¬ Ѕенгалии вошло в обычай предварительно св€зывать веревками жертву, а родственники вдовы вместе с забавл€ющимис€ таким зрелищем зрител€ми сто€ли р€дом с несчастной, подталкива€ ее в огонь, а если веревки перегорали и обожженна€ и изуродованна€ женщина выбегала из огн€, ее хватали и отправл€ли обратно. ƒл€ этого пользовались палками зеленого бамбука, которые быстро не воспламен€лись. ќднажды темной ночью жертве удалось убежать из гор€щего костра и спр€татьс€ в кустах неподалеку. Ќо ее вскоре обнаружили, а ее сын лично швырнул мать на раскаленные угли. Ѕыл отмечен и такой случай, когда женщине удалось избежать костра, но ее разгневанный отец позвал на помощь родственников, которые забили ее бамбуковыми палками.
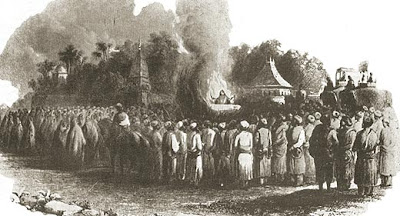
јнгличане вначале относились к таким казусам с полным безразличием, и только в конце века у них все же проснулась совесть. Ђ¬осточно-индийска€ компани€ї в начале XIX века выселила большинство индусов из столицы Ѕенгалии алькутты, этого признанного центра культа Ђсатиї, но он получил дальнейшее распространение по всему субконтиненту, особенно в таких больших городах, как Ѕомбей и ћадрас. ћаркиз ”эллсли, генерал-губернатор и брат герцога ¬еллингтонского, хотел было запретить обр€д Ђсатиї, но его воврем€ предостерегли, напугав возможностью возникновени€ в св€зи с таким запретом м€тежа. Ќичего не предпринималось в этой св€зи до 1812 года, когда это дело было передано в ¬ерховный суд. ¬ результате судебного разбирательства этот обр€д не только не был запрещен, но еще наделен законным статусом. ѕравда, теперь вдову не могли сжечь на костре без правительственного разрешени€. ≈сли все необходимые формальности соблюдались и разрешение выдавалось, то на такой церемонии требовалось об€зательное присутствие полицейского офицера-индуса, который лично должен бы удостоверитьс€, что жертва не подверглась воздействию наркотиков, что она совершеннолетн€€, не беременна и поступает так по собственной воле.

. ¬ этом отношении англичане лишь выдирали, по сути, один листок из законоуложени€ бывших мусульманских правителей »ндии, которые разработали систему предварительных условий дл€ выполнени€ такого обр€да. ¬скоре после этого англичане запретили практику Ђсатиї в центре алькутты Ч теперь обр€д можно было проводить только на окраине.
ќбр€д Ђсатиї все равно расшир€л свои масштабы, а предпринимаемые власт€ми меры ограничивались лишь составлением дотошно-подробных протоколов на месте казни в лучших традици€х ”айтхолла. ¬ 1817 году ими было отмечено только семнадцать случаев самосожжени€ вдов, но в период между 1815 и 1828 годами только в одной Ѕенгалии на костре были сожжены 8134 вдовы, включа€ 511 в самой алькутте.
¬ некоторых, весьма редких случа€х британские офицеры вмешивались в такую церемонию, чтобы либо прервать ее, либо вообще прекратить. ≈ще в 1679 году ƒжоб „арнок, один из основателей алькутты, выхватил из пламени полыхающего костра, в котором горел труп мужа одного брамина, его прекрасную жену, он на ней потом женилс€, и они прожили счастливо целых четырнадцать лет.

” такого странного происшестви€ не было продолжени€ до 1806 года, когда „арльз ’ардинг, англичанин из гражданской службы в Ѕенаресе, столкнулс€ точно с такой же острой проблемой. расавицу-жену одного брамина уговорили взойти на костер спуст€ почти год после кончины мужа. ƒл€ этого развели большой костер на берегу, в двух мил€х вверх по течению от Ѕенареса, со стороны реки √анг. ¬дова до конца не была уверена в своих силах и, как только увидела полыхающее плам€, вырвалась из вцепившихс€ в нее рук и бросилась в реку. Ћюди бежали вслед за ней по берегу, а течение уносило ее все дальше к городу Ѕенаресу, где полицейские в лодке выловили несчастную жертву и привезли ее обратно. ќна почти лишилась чувств из-за пережитого приступа отча€ни€, страха и от долгого пребывани€ в воде. ѕерепуганную, оз€бшую женщину доставили к ’ардингу, но весь город Ѕенарес €ростно негодовал из-за побега вдовы брамина, которой удалось избежать погребального костра. “ыс€чи жителей окружили его дом, во дворе его ждали все почетные горожане, пытавшиес€ уговорить его выдать ее. —реди них находилс€ и ее родной отец, за€вивший, что не станет больше содержать свою дочь Ч лучше пусть ее сожгут на костре, он все равно больше не пустит ее к себе на порог. ∆уткие вопли толпы уже начинали действовать на нервы молодому человеку, который в эту т€желую минуту до конца осознал, какую ответственность взваливает он на свои плечи в таком городе, как Ѕенарес, с населением триста тыс€ч человек, городе, в котором то и дело вспыхивали кровавые м€тежи. Ќаконец его осенило.
Ђ¬аш Ѕог €вно отказалс€ от своей жертвы, Ч обратилс€ он к толпе. Ч ≈е отвергла даже св€щенна€ река. ќна не плыла, ее несло само течение, а за ней бежала громадна€ толпа, и все это видели. ќна не оказывала сопротивлени€, но и река ее не прин€ла. ≈сли бы женщина была желанной жертвой, то после того, как ее коснулс€ огонь, св€щенна€ река должна была ее поглотить, но этого, как видите, не случилось...ї “акое объ€снение пришлось всем по душе. ќтец сказал, что после таких веских аргументов он вернет в свой дом дочь, а довольна€ толпа постепенно рассе€лась.
“олько в 1829 году обр€д сжигани€ на костре вдов в Ѕенгалии был официально запрещен лордом ”иль€мом Ѕентинком. ќднако перемены в укладе жизни утверждались очень медленно, и обр€д Ђсатиї все еще существовал во владени€х раджей, на что англичане могли вли€ть лишь косвенным путем. ¬о многих карликовых государствах престиж властител€ часто определ€лс€ количеством женщин, сожженных живьем у него на похоронах. „исло холостых залпов из орудий, когда он посещал генерал-губернатора, было слабым утешением и в счет не шло. Ќапр€женна€ обстановка в стране достигла наивысшей точки в 1833 году, когда британское общественное мнение было просто поражено подготовкой к похоронам раджи »да-ра, чей труп был сожжен на костре вместе с семью живыми женами, двум€ наложницами, п€тью служанками и одним личным слугой. Ѕританский резидент в »даре и јхмад-нагаре был исполнен решимости впредь не допускать массовых ритуальных расправ, но тут ему сообщили, что в бозе почил и раджа јхмаднагара. “ак что он не успел предприн€ть никаких решительных действий. “олько после того, как на костре в јхмаднагаре с его трупом сгорели п€теро его живых жен, он направил туда свои войска с артиллерийским подкреплением. ѕосле коротких боевых стычек резиденту удалось вырвать у сына раджи твердое обещание больше не проводить обр€да Ђсатиї ни дл€ себ€ самого, ни дл€ своих наследников...
400 году самосожжение вдов вошло в моду, особенно в Ѕенгалии. ƒальнейшее совершенствование этого обр€да вс€чески поощр€лось индийскими св€щенными писани€ми, а Ђѕурани брид-дхармаї, написанна€ в период между 1200Ч1400 гг. н.э., вс€чески рекомендует его в самых привлекательных словах: Ђ∆ена, преданна€ своему мужу и следующа€ за ним и после его смерти, очищает его от великих грехов. Ѕольшего по достоинству поступка дл€ женщины не существует, потому что в таком случае ей придетс€ посто€нно раздел€ть на небесах компанию своего любимого мужаї. ѕротесты в св€зи с таким позорным обычаем стали поступать гораздо позже, а этот обр€д Ђсатиї крепко укоренилс€ в индуистской религии. Ћегенда даже утверждает, что четыре жены бога ришны сожгли себ€ на костре, приготовленном дл€ трупа мужа.

¬ бенгальской литературе можно найти еще больше самых разнообразных примеров Ђсатиї, которые неизменно удостаиваютс€ самых высоких восхвалений. ¬еликий законодатель этой провинции XVI века –ахунандан рекомендует в своих трудах воспользоватьс€ таким обр€дом всем вдовам поголовно. ќн оставил свое описание, как именно следует выполн€ть такой обр€д. ѕрежде всего нужно, чтобы как можно сильнее разгорелс€ погребальный костер, только после этого вдова, распева€ религиозные гимны, может бросатьс€ в огонь.
Ќе могло быть и речи о прив€зывании жертвы к умершему веревкой, как это происходило значительно позже. ¬с€ суть такого обр€да заключалась в том, что женщина шла на него добровольно, по собственному, искреннему желанию. ¬ литературе этой эпохи нигде нет никаких упоминаний о насильственной смерти жертвы.

—облазн вечного блаженства и счасть€ как награды дл€ Ђсатиї объ€сн€етс€ индуистскими веровани€ми, что мужчина дл€ жены живой бог и если жена сжигала себ€ ради него, то они будут непременно вместе в загробной жизни. “ак как речь шла лишь о добровольном принесении себ€ в жертву, многие индийские семьи даже иногда хвастались числом своих Ђсатиї. »ногда, как это делалось в итае, на месте казни возводились небольшие пирамиды или холмики в честь жертв. ¬ более позднее врем€ возросло социальное давление, и в поведении обреченных на гибель женщин по€вл€лись темные, малопри€тные моменты. ћногие вдовы предпочитали умереть, чем вести постылую жизнь в полном одиночестве, котора€ выпала на их долю.
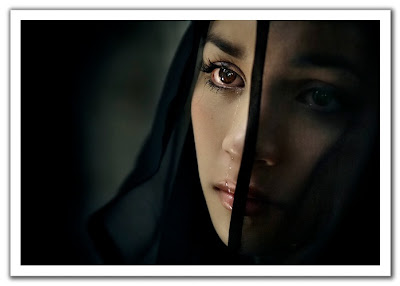
≈сли матери выражали желание сжечь себ€, то их сыновь€ таким образом освобождались от всех т€гот, св€занных с их содержанием. ќни сразу же становились наследниками всего их имущества. —читалось, что вдова приносит неудачу и зло, и поэтому ей запрещалось даже посещать семейные торжества. ќна, остава€сь пока членом семьи мужа, не имела права возвращатьс€ к своим родител€м.
–одственники со стороны мужа бдительно следили за ней, чтобы не допустить нарушени€ ее Ђцеломудри€ї, что могло поставить под угрозу душу ее умершего мужа. ƒаже слуги старались избегать ее.

«аккудин јхмед, автор, который много писал об обр€дах Ђсатиї в Ѕенгалии в XVIII веке, оставил нам описание типичной ритуальной церемонии. ѕосле смерти своего мужа вдова объ€вл€ла всем о своем решении стать Ђсатиї. ѕосле этого она надевала свой лучший нар€д, ее усаживали в паланкин и торжественна€ процесси€ носила ее по улицам в сопровождении неумолкающего оркестра. ѕроща€сь со своим домом, она патетическим жестом окунала руку в красную охру, оставл€€ отпечаток своей ладони на белой стене. ѕо пути она раздавала чуть поджаренный рис и фрукты, которые у нее из рук жадно выхватывала толпа, чтобы сохранить в качестве сувенира. ѕогребальный костер обычно разводили на берегу реки, предпочтительно на берегу св€щенного √анга. ѕо приезде к месту своей казни вдова погружалась дл€ омовени€ в воду, после чего переодевалась в сухую одежду. ѕотом отдавала все свои драгоценности возглавл€ющему церемонию брамину и облачалась в белые одежды. ∆рецы втирали в ее ступни лак, прикладывали окрашенный хлопок к ее рукам, перев€зывали его красной ленточкой. ѕотом начиналось чтение молитв, и вдова обращалась к восьми властител€м сторон света, и среди них к —олнцу, Ћуне и богу ¬ойны, чтобы те удостоили ее своим присутствием на этом церемониале. ќна трижды обходила костер под песнопени€ и молитвы браминов, которые на все лады расхваливали ее поступок.
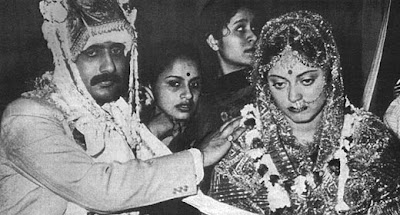
ѕопрощавшись со всеми, она поднималась на приготовленную платформу, садилась там, укладыва€ голову мертвого мужа у себ€ на колен€х, после чего ее старший сын подносил к хворосту первый факел. —разу же все в толпе принимались громко кричать, а барабанщики бить изо всех сил в свои инструменты, чтобы таким образом приглушить ужасные вопли умирающей жертв ’от€ во всем мире существовало большое разнообразие ритуалов Ђсатиї, этот в »ндии был обычным, стандартным. ¬дова сгорала на одном костре с умершим мужем. ƒруга€ его форма примен€лась в случа€х, если муж умирал, наход€сь вдали от дома, или если его жена в момент его смерти оказывалась беременной. ≈е обычно сжигали потом, одну, а в руках она держала что-нибудь из личных вещей своего супруга, например его чалму. Ѕывали случаи, когда вдовы сжигали себ€ на костре спуст€ п€тнадцать лет после кончины мужа. ƒругие, напротив, слишком торопились, и далеко не единственна€ неверно информированна€ жена убивала себ€, полага€, что ее муж умер в далекой стороне, всего за несколько часов до его благополучного возвращени€

»ногда в пламени костра погибали не только жены, но и наложницы, с которыми муж хот€ бы некоторое врем€ сожительствовал, а также и его слуги-мужчины. »ногда мать сгорала вместе с сыном. “ак, женщин касты ткачей обычно закапывали живыми в могиле мертвого мужа. ¬ таких случа€х могилу обычно выкапывали возле реки. ¬дова спускалась в могилу, где уже лежал ее муж, а старший сын, ловко оруду€ лопатой, неторопливо засыпал мать землей, пока под толстым слоем не скрывалась ее голова. ќбр€д Ђсатиї был доступен дл€ женщин любого возраста. “ак, в 1812 году со своим мужем была сожжена его четырехлетн€€ Ђженаї. ¬ ћид-рапоре же, в —еверной алькутте, в 1825 году на погребальный костер, пошатыва€сь, взошла столетн€€ Ђвдоваї.

ѕо мере того как в конце XVII и начале XIX веков такой варварский обычай все сильнее укорен€лс€ в стране, особенно в Ѕенгалии, он сопровождалс€ все большими злоупотреблени€ми. ћногих детей насильно оставл€ли сиротами, а других заставл€ли сжигать себ€ заживо. “ак, к примеру, поступали с так называемыми Ђмаленькими невестамиї. »х прив€зывали к полуистлевшему трупу супруга и вместе сжигали. »ногда из одиночного жертвоприношени€ обр€д Ђсатиї превращалс€ в массовое ритуальное убийство. Ёто часто происходило потому, что родители жертвы хотели повысить свой социальный статус с помощью расчетливого брака с представител€ми высшей касты ку-линов в Ѕенгалии. ћужчины из знатной семьи сделали подобные браки дл€ себ€ насто€щей профессией, торгу€ собой направо и налево, продава€сь девушкам и женщинам за деньги. ћало кто из таких Ђженї подолгу жил с этим мужчиной или даже вообще встречалс€ с ним после женитьбы Ч до наступлени€ этого страшного дн€ казни, когда их тащили к погребальному костру. Ќапример, в 1799 году вместе с останками одного брамина в Ќадии, неподалеку от алькутты, были сожжены тридцать семь женщин. тому времени, когда наконец костер как следует разожгли, только три из них оказались на месте. ќстальных разыскивали в течение трех суток, в продолжение которых костру не давали погаснуть.

¬ Ѕенгалии вошло в обычай предварительно св€зывать веревками жертву, а родственники вдовы вместе с забавл€ющимис€ таким зрелищем зрител€ми сто€ли р€дом с несчастной, подталкива€ ее в огонь, а если веревки перегорали и обожженна€ и изуродованна€ женщина выбегала из огн€, ее хватали и отправл€ли обратно. ƒл€ этого пользовались палками зеленого бамбука, которые быстро не воспламен€лись. ќднажды темной ночью жертве удалось убежать из гор€щего костра и спр€татьс€ в кустах неподалеку. Ќо ее вскоре обнаружили, а ее сын лично швырнул мать на раскаленные угли. Ѕыл отмечен и такой случай, когда женщине удалось избежать костра, но ее разгневанный отец позвал на помощь родственников, которые забили ее бамбуковыми палками.
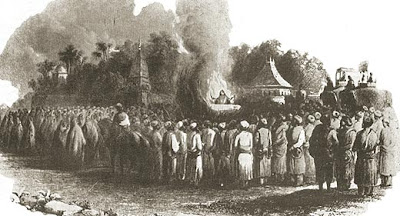
јнгличане вначале относились к таким казусам с полным безразличием, и только в конце века у них все же проснулась совесть. Ђ¬осточно-индийска€ компани€ї в начале XIX века выселила большинство индусов из столицы Ѕенгалии алькутты, этого признанного центра культа Ђсатиї, но он получил дальнейшее распространение по всему субконтиненту, особенно в таких больших городах, как Ѕомбей и ћадрас. ћаркиз ”эллсли, генерал-губернатор и брат герцога ¬еллингтонского, хотел было запретить обр€д Ђсатиї, но его воврем€ предостерегли, напугав возможностью возникновени€ в св€зи с таким запретом м€тежа. Ќичего не предпринималось в этой св€зи до 1812 года, когда это дело было передано в ¬ерховный суд. ¬ результате судебного разбирательства этот обр€д не только не был запрещен, но еще наделен законным статусом. ѕравда, теперь вдову не могли сжечь на костре без правительственного разрешени€. ≈сли все необходимые формальности соблюдались и разрешение выдавалось, то на такой церемонии требовалось об€зательное присутствие полицейского офицера-индуса, который лично должен бы удостоверитьс€, что жертва не подверглась воздействию наркотиков, что она совершеннолетн€€, не беременна и поступает так по собственной воле.

. ¬ этом отношении англичане лишь выдирали, по сути, один листок из законоуложени€ бывших мусульманских правителей »ндии, которые разработали систему предварительных условий дл€ выполнени€ такого обр€да. ¬скоре после этого англичане запретили практику Ђсатиї в центре алькутты Ч теперь обр€д можно было проводить только на окраине.
ќбр€д Ђсатиї все равно расшир€л свои масштабы, а предпринимаемые власт€ми меры ограничивались лишь составлением дотошно-подробных протоколов на месте казни в лучших традици€х ”айтхолла. ¬ 1817 году ими было отмечено только семнадцать случаев самосожжени€ вдов, но в период между 1815 и 1828 годами только в одной Ѕенгалии на костре были сожжены 8134 вдовы, включа€ 511 в самой алькутте.
¬ некоторых, весьма редких случа€х британские офицеры вмешивались в такую церемонию, чтобы либо прервать ее, либо вообще прекратить. ≈ще в 1679 году ƒжоб „арнок, один из основателей алькутты, выхватил из пламени полыхающего костра, в котором горел труп мужа одного брамина, его прекрасную жену, он на ней потом женилс€, и они прожили счастливо целых четырнадцать лет.

” такого странного происшестви€ не было продолжени€ до 1806 года, когда „арльз ’ардинг, англичанин из гражданской службы в Ѕенаресе, столкнулс€ точно с такой же острой проблемой. расавицу-жену одного брамина уговорили взойти на костер спуст€ почти год после кончины мужа. ƒл€ этого развели большой костер на берегу, в двух мил€х вверх по течению от Ѕенареса, со стороны реки √анг. ¬дова до конца не была уверена в своих силах и, как только увидела полыхающее плам€, вырвалась из вцепившихс€ в нее рук и бросилась в реку. Ћюди бежали вслед за ней по берегу, а течение уносило ее все дальше к городу Ѕенаресу, где полицейские в лодке выловили несчастную жертву и привезли ее обратно. ќна почти лишилась чувств из-за пережитого приступа отча€ни€, страха и от долгого пребывани€ в воде. ѕерепуганную, оз€бшую женщину доставили к ’ардингу, но весь город Ѕенарес €ростно негодовал из-за побега вдовы брамина, которой удалось избежать погребального костра. “ыс€чи жителей окружили его дом, во дворе его ждали все почетные горожане, пытавшиес€ уговорить его выдать ее. —реди них находилс€ и ее родной отец, за€вивший, что не станет больше содержать свою дочь Ч лучше пусть ее сожгут на костре, он все равно больше не пустит ее к себе на порог. ∆уткие вопли толпы уже начинали действовать на нервы молодому человеку, который в эту т€желую минуту до конца осознал, какую ответственность взваливает он на свои плечи в таком городе, как Ѕенарес, с населением триста тыс€ч человек, городе, в котором то и дело вспыхивали кровавые м€тежи. Ќаконец его осенило.
Ђ¬аш Ѕог €вно отказалс€ от своей жертвы, Ч обратилс€ он к толпе. Ч ≈е отвергла даже св€щенна€ река. ќна не плыла, ее несло само течение, а за ней бежала громадна€ толпа, и все это видели. ќна не оказывала сопротивлени€, но и река ее не прин€ла. ≈сли бы женщина была желанной жертвой, то после того, как ее коснулс€ огонь, св€щенна€ река должна была ее поглотить, но этого, как видите, не случилось...ї “акое объ€снение пришлось всем по душе. ќтец сказал, что после таких веских аргументов он вернет в свой дом дочь, а довольна€ толпа постепенно рассе€лась.
“олько в 1829 году обр€д сжигани€ на костре вдов в Ѕенгалии был официально запрещен лордом ”иль€мом Ѕентинком. ќднако перемены в укладе жизни утверждались очень медленно, и обр€д Ђсатиї все еще существовал во владени€х раджей, на что англичане могли вли€ть лишь косвенным путем. ¬о многих карликовых государствах престиж властител€ часто определ€лс€ количеством женщин, сожженных живьем у него на похоронах. „исло холостых залпов из орудий, когда он посещал генерал-губернатора, было слабым утешением и в счет не шло. Ќапр€женна€ обстановка в стране достигла наивысшей точки в 1833 году, когда британское общественное мнение было просто поражено подготовкой к похоронам раджи »да-ра, чей труп был сожжен на костре вместе с семью живыми женами, двум€ наложницами, п€тью служанками и одним личным слугой. Ѕританский резидент в »даре и јхмад-нагаре был исполнен решимости впредь не допускать массовых ритуальных расправ, но тут ему сообщили, что в бозе почил и раджа јхмаднагара. “ак что он не успел предприн€ть никаких решительных действий. “олько после того, как на костре в јхмаднагаре с его трупом сгорели п€теро его живых жен, он направил туда свои войска с артиллерийским подкреплением. ѕосле коротких боевых стычек резиденту удалось вырвать у сына раджи твердое обещание больше не проводить обр€да Ђсатиї ни дл€ себ€ самого, ни дл€ своих наследников...
|
ћетки: истори€ инди€ |
» смерть не разлучит нас... |
ƒневник |
»ндийское слово Ђsatiї, или Ђsuteeї в английской транскрипции, означает на санскрите Ђцеломудренна€ женщинаї. Ётот термин примен€лс€ по отношению к тем женщинам, которые отваживались добровольно пойти на смерть со своим умершим мужем. ѕринесение в добровольную жертву вдов пользовалось такой попул€рностью в »ндии, что несколько измененное слово Ђсатиї стало употребл€тьс€ дл€ обозначени€ подобного обр€да и в других странах. ќбычай зародилс€ еще в каменном веке и потом проник на все континенты. ‘араона јменхотепа II (1450Ч 1425 гг. до н.э.) провожали на тот свет четыре его живые жены. ¬ √реции жена апане€, цар€ аргив€н, была сожжена на костре вместе с мужем. “акой обычай соблюдали в €зыческих скандинавских странах и среди слав€н в ¬осточной ≈вропе.

¬ дохристианской ѕольше еще в X веке жены довольно часто умирали одновременно с мужем. јрабы-путешественники утверждают, что в ёжной –оссии, если у человека было три жены, любимую душили первой, после чего сжигали вместе с трупом мужа на костре.
¬ јзии обр€д Ђсатиї не ограничивалс€ только одной »ндией. Ќа острове Ѕали вдов проклинали, если те отказывались разделить судьбу своих мужей и отправитьс€ вместе с ними в мир иной. Ѕалийцы считали главным источником зла ведьму-вдову, которую называли Ђрангдаї,Ч она, по преданию, пожирала детей. ѕоэтому любое вдовство рассматривалось как весьма опасное состо€ние. ¬довы умирали вместе с мужь€ми у народности майори в Ќовой «еландии, на островах ‘иджи и во многих районах јфрики. ¬ ƒагомее, например, в «ападной јфрике, похороны цар€ јданзу в 1791 году завершились принесением в жертву сотен людей. ≈го многочисленные жены рассаживались вокруг трупа цар€ в соответствии с их рангом при дворе: главные жены, затем жены Ђдн€ рождени€ї Ч их царь обычно брал в жены в день своего рождени€ Ч и, наконец, самые красивые и молодые, так называемые Ђжены леопардаї. ѕосле чего все они принимали €д.
¬ итае обр€д Ђсатиї по€вилс€ даже раньше и существовал гораздо дольше, чем в »ндии.

Ўирокомасштабные похороны, когда вместе с умершим правителем предавали земле и сотни живых людей, известны еще с 1500 г. до н.э. ак письменные источники, так и раскопки свидетельствуют о том, что массовые захоронени€ живых людей в царских гробницах существовали даже во времена онфуци€.
¬ последние века последнего тыс€челети€ до рождества ’ристова все еще был широко распространен обычай хоронить живых наложниц с мертвыми монархами, а захоронение живых с мертвыми в одной могиле оказалось настолько попул€рным в итае, что в китайской драматургии до сих пор существует особое действующее лицо, которое олицетвор€ет собой обр€д самоуничтожени€ живого человека, вознамерившегос€ отправитьс€ с умершим в мир иной. “акого персонажа можно обнаружить даже в современных драматических текстах.

√олландский ученный ». де √роот утверждает, что в сочинени€х эпохи династии ’ань (206 г. до н.э.Ч220 г. н.э.) и ее непосредственных преемников приводитс€ такое великое множество примеров ритуальных самоубийств жен и дочерей монархов, желающих сопровождать их в потусторонний мир, что чтение просто навевает скуку своим однообразием. “ем не менее, он приводит несколько примеров этого обр€да и говорит, что така€ практика продолжалась и позже, в эпоху династии ћинь в XIV веке (1368Ч1644 гг.). ѕервый император династии ћинь умер в 1398 году. Ќам неизвестна судьба его жены, но мы доподлинно знаем, что за ним в иной мир отправилось множество придворных дам и его наложниц.

ќдно самоубийство вызывало другое. ¬след за преданными женами в могилу правител€ живыми отправл€лись его прислуга, рабыни, которые тоже добровольно выбирали смерть. ћногие вдовы убивали своих детей ради этого.
ѕодземные владени€ ÷инь Ўихуанди, основател€ итайской империи, были случайно обнаружены в 1974 году, когда китайский кресть€нин янь джи ¬ан на глубине 5 метров наткнулс€ на статую древнего воина в полный рост. јрхеологи обнаружили целую погребальную армию - главный боевой пор€док императора - около 6000 фигур. √лин€ные солдаты пролежали в земле уже больше 2000 лет.
¬ 1980 г. ученые раскопали вторую колонну - около 2000 статуй.
¬ 1994 г. был обнаружен подземный генштаб - собрание высших военачальников.
700 тыс€ч мастеров трудились над созданием войска, которое можно поставить в р€д древних чудес света.
ѕервый император ни минуты не сомневалс€, что его династи€ будет править вечно, а потому постаралс€ создать подобающие вечности атрибуты, одним из которых стала ¬елика€ китайска€ стена.
¬ то же врем€ сотни тыс€ч работников начали возводить усыпальницу. —егодн€ высота кургана всего 47 метров, а тогда, 2000 лет назад, погребальна€ пирамида возвышалась на 120 метров. ¬округ был создан целый город мертвых,
о размерах которого можно судить с большим трудом.
¬о вс€ком случае, приступить к раскопкам усыпальницы ÷инь Ўихуанди археологи не решаютс€ до сих пор.
“ерракотова€ арми€, открыта€ в 1974 г., оказалась лишь малой частью этого грандиозного комплекса.

¬месте с ÷инь Ўихуанди были заживо похоронены все его жЄны, а также мастера и слуги.
ѕо древней китайской традиции император собралс€ похоронить вместе с собой 4000 молодых воинов, однако вместо живых воинов (испугалс€ реальной силы), было решено похоронить глин€ные статуи. ѕравда, дл€ надежности свиту решили увеличить в два раза - 4000 пар, то есть 8000 глин€ных воинов. ¬се они были обращены лицами на восток. »менно там находились царства, разгромленные великим тираном.
—татуи были выполнены с ювелирной точностью. Ќевозможно найти ни одного одинакового лица. ¬се детали одежды, обувь, доспехи, прически соответствуют тому времени. ≈динственное отступление от реальности скульпторы допустили в росте. ¬ысота статуи 1,90-1,95 метра. “акими высокими солдаты императора, конечно, не были.

√отовые изва€ни€ обжигались мастерами в огромных печах при температуре 1000 градусов. «атем лучшие художники раскрашивали их в естественные цвета. —легка поблекшие краски можно увидеть и сегодн€ при раскопках. сожалению, через несколько минут на свежем воздухе краски бесследно исчезают.
»мператор словно хотел воплотить в глине все свое царство и этим перехитрить смерть: обнаружено более 400 подземных коридоров - насто€щий лабиринт, населенный не только воинами, но и глин€ными чиновниками, скотоводами, акробатами, кулачными бойцами.
Ќа похоронах Ўихуанди было казнено 500 лошадей; их скелеты найдены археологами, как и останки тигров, панд и других диковинных животных, общим числом сорок четыре.
«десь погребли также 130 дерев€нных боевых колесниц, но все они истлели.
¬довы в итае действовали вполне сознательно, и тыс€чи из них совершали такой акт, который никогда не был следствием приступа отча€ни€ или же страха перед нуждой. ≈сли бы это было так, то все их действи€ никогда не были бы запротоколированы историками и не сопровождались бы такими высокими похвалами. јкт самосожжени€ тщательно готовилс€ и совершалс€ по зрелому размышлению. итайска€ Ђсатиї обычно перед смертью вызывала духов своих предков и умол€ла их прин€ть и ее душу; по этому поводу она надевала на себ€ лучший нар€д, чтобы быть попривлекательней, когда предстанет перед ними после своей кончины.

“акой акт пользовалс€ всеобщим одобрением со стороны широкого общественного мнени€ и моралистов, которые не уставали его восхвал€ть.
ћетоды ритуального самоубийства в итае были куда более разнообразными, чем в »ндии, где самосожжение на костре было почти единственным правилом. Ѕольшинство
кита€нок либо вешались, либо вспарывали себе горло, но некоторые из них предпочитали €д или бросались в пропасть. »звестны случаи, когда жены кидались в гор€щий дом, в котором по неосторожной случайности оказывались их мужь€ или родственники; многие бросались на угли костра, разведенного дл€ сжигани€ трупа их мужа. ¬довы иногда топились в реке или в море.

¬сего еще столетие назад в итае самой распространенной жертвой Ђсатиї становилась публична€ казнь через повешение, но расходы на такой вид ритуального убийства бывали, как правило, настолько высоки, что это Ђудовольствиеї могли себе позволить только очень богатые семьи. ƒата такой казни сообщалась по всему городу с помощью расклеенных плакатов. ¬от что рассказывает о таком обычае де √роот:
Ђѕеред наступлением торжественного великого дн€ главное действующее лицо предсто€щего спектакл€, Ђсатиї, облачаетс€ в свой самый лучший нар€д и, сид€ в паланкине, совершает объезд всех членов своей семьи, друзей, знакомых, чтобы они вдоволь полюбовались ее пышными оде€ни€ми. ≈е все радушно поздравл€ют, превознос€ до небес. ѕо приказу властей и за счет ее семьи на выбранном месте возводитс€ платформа, которую старательно украшают €ркой тканью и фонариками. Ђ—атиї сидит на стуле или платформе, либо р€дом с ней, в своем прекрасном нар€де, выбранном ею лично дл€ своего ухода в царство теней.

ќна в полной неподвижности принимает самые высокие по чести в итае от приближенных —ына Ќеба, а также простолюдинов. огда все приглашенные собирались, их угощали чаем и сладост€ми, после чего самый старший по званию мандарин приглашал женщину подн€тьс€ на платформу. „ерез несколько минут она, поправив как следует петлю на шее, отправл€лась в вечность, выбива€ из-под себ€ но-, гами табуретку. ѕосле окончани€ церемонии мандарин уезжал, и толпа постепенно расходилась. Ќесколько представителей знати, прибывших сюда на своих паланкинах, чтобы добавить пышности героическому самоубийству, совершенному в их присутствии, обходили всех родственников и близких усопшей, воздава€ им вс€ческие похвалы и льстиво напомина€ об императорских милост€х, которые могут за этим актом последовать...ї
ѕредставителей знати и мандаринов, присутствовавших на этом ритуале, щедро одаривали. ¬ течение нескольких дней их приглашали на праздничные обеды, которые стоили немалых денег дл€ членов семьи самоубийцы. ѕрисутствие важных персон на церемонии €вл€лось их негласным одобрением отважного поступка женщины. ƒаже иностранные газеты сообщили об одном случае, произошедшем в 1879 году неподалеку от китайского порта ‘у-че-фу. »ногда подобные акты получали официальное одобрение и погибшим ритуальным жертвам посв€щались храмы. »зданный в 1832 году генерал-губернатором провинции ’укван указ недвусмысленно подчеркивал признаваемую власт€ми природу такого де€ни€. ѕодобно англичанам в »ндии, которые долго не могли собратьс€ с духом, чтобы запретить обр€д Ђсатиї, китайское имперское правительство постановило, что дл€ него об€зательно требуетс€ официальное разрешение. ѕрежде вдове нужно было обратитьс€ в —овет по ритуалам и обр€дам. ≈сли ее за€вление получало одобрение, то местным чиновникам предписывалось выделить ей тридцать монет дл€ сооружени€ мемориальных ворот в ее честь. ѕрактически такое разрешение было очень трудно получить, так как власти давали его скреп€ сердце, и мандарины обычно отклон€ли такие прошени€, дава€ Ђдоброї только очень немногим представительницам богатых семей, главным образом просител€м из числа их ближайших приближенных.
Ћ. аневский

¬ дохристианской ѕольше еще в X веке жены довольно часто умирали одновременно с мужем. јрабы-путешественники утверждают, что в ёжной –оссии, если у человека было три жены, любимую душили первой, после чего сжигали вместе с трупом мужа на костре.
¬ јзии обр€д Ђсатиї не ограничивалс€ только одной »ндией. Ќа острове Ѕали вдов проклинали, если те отказывались разделить судьбу своих мужей и отправитьс€ вместе с ними в мир иной. Ѕалийцы считали главным источником зла ведьму-вдову, которую называли Ђрангдаї,Ч она, по преданию, пожирала детей. ѕоэтому любое вдовство рассматривалось как весьма опасное состо€ние. ¬довы умирали вместе с мужь€ми у народности майори в Ќовой «еландии, на островах ‘иджи и во многих районах јфрики. ¬ ƒагомее, например, в «ападной јфрике, похороны цар€ јданзу в 1791 году завершились принесением в жертву сотен людей. ≈го многочисленные жены рассаживались вокруг трупа цар€ в соответствии с их рангом при дворе: главные жены, затем жены Ђдн€ рождени€ї Ч их царь обычно брал в жены в день своего рождени€ Ч и, наконец, самые красивые и молодые, так называемые Ђжены леопардаї. ѕосле чего все они принимали €д.
¬ итае обр€д Ђсатиї по€вилс€ даже раньше и существовал гораздо дольше, чем в »ндии.

Ўирокомасштабные похороны, когда вместе с умершим правителем предавали земле и сотни живых людей, известны еще с 1500 г. до н.э. ак письменные источники, так и раскопки свидетельствуют о том, что массовые захоронени€ живых людей в царских гробницах существовали даже во времена онфуци€.
¬ последние века последнего тыс€челети€ до рождества ’ристова все еще был широко распространен обычай хоронить живых наложниц с мертвыми монархами, а захоронение живых с мертвыми в одной могиле оказалось настолько попул€рным в итае, что в китайской драматургии до сих пор существует особое действующее лицо, которое олицетвор€ет собой обр€д самоуничтожени€ живого человека, вознамерившегос€ отправитьс€ с умершим в мир иной. “акого персонажа можно обнаружить даже в современных драматических текстах.

√олландский ученный ». де √роот утверждает, что в сочинени€х эпохи династии ’ань (206 г. до н.э.Ч220 г. н.э.) и ее непосредственных преемников приводитс€ такое великое множество примеров ритуальных самоубийств жен и дочерей монархов, желающих сопровождать их в потусторонний мир, что чтение просто навевает скуку своим однообразием. “ем не менее, он приводит несколько примеров этого обр€да и говорит, что така€ практика продолжалась и позже, в эпоху династии ћинь в XIV веке (1368Ч1644 гг.). ѕервый император династии ћинь умер в 1398 году. Ќам неизвестна судьба его жены, но мы доподлинно знаем, что за ним в иной мир отправилось множество придворных дам и его наложниц.

ќдно самоубийство вызывало другое. ¬след за преданными женами в могилу правител€ живыми отправл€лись его прислуга, рабыни, которые тоже добровольно выбирали смерть. ћногие вдовы убивали своих детей ради этого.
ѕодземные владени€ ÷инь Ўихуанди, основател€ итайской империи, были случайно обнаружены в 1974 году, когда китайский кресть€нин янь джи ¬ан на глубине 5 метров наткнулс€ на статую древнего воина в полный рост. јрхеологи обнаружили целую погребальную армию - главный боевой пор€док императора - около 6000 фигур. √лин€ные солдаты пролежали в земле уже больше 2000 лет.
¬ 1980 г. ученые раскопали вторую колонну - около 2000 статуй.
¬ 1994 г. был обнаружен подземный генштаб - собрание высших военачальников.
700 тыс€ч мастеров трудились над созданием войска, которое можно поставить в р€д древних чудес света.
ѕервый император ни минуты не сомневалс€, что его династи€ будет править вечно, а потому постаралс€ создать подобающие вечности атрибуты, одним из которых стала ¬елика€ китайска€ стена.
¬ то же врем€ сотни тыс€ч работников начали возводить усыпальницу. —егодн€ высота кургана всего 47 метров, а тогда, 2000 лет назад, погребальна€ пирамида возвышалась на 120 метров. ¬округ был создан целый город мертвых,
о размерах которого можно судить с большим трудом.
¬о вс€ком случае, приступить к раскопкам усыпальницы ÷инь Ўихуанди археологи не решаютс€ до сих пор.
“ерракотова€ арми€, открыта€ в 1974 г., оказалась лишь малой частью этого грандиозного комплекса.

¬месте с ÷инь Ўихуанди были заживо похоронены все его жЄны, а также мастера и слуги.
ѕо древней китайской традиции император собралс€ похоронить вместе с собой 4000 молодых воинов, однако вместо живых воинов (испугалс€ реальной силы), было решено похоронить глин€ные статуи. ѕравда, дл€ надежности свиту решили увеличить в два раза - 4000 пар, то есть 8000 глин€ных воинов. ¬се они были обращены лицами на восток. »менно там находились царства, разгромленные великим тираном.
—татуи были выполнены с ювелирной точностью. Ќевозможно найти ни одного одинакового лица. ¬се детали одежды, обувь, доспехи, прически соответствуют тому времени. ≈динственное отступление от реальности скульпторы допустили в росте. ¬ысота статуи 1,90-1,95 метра. “акими высокими солдаты императора, конечно, не были.

√отовые изва€ни€ обжигались мастерами в огромных печах при температуре 1000 градусов. «атем лучшие художники раскрашивали их в естественные цвета. —легка поблекшие краски можно увидеть и сегодн€ при раскопках. сожалению, через несколько минут на свежем воздухе краски бесследно исчезают.
»мператор словно хотел воплотить в глине все свое царство и этим перехитрить смерть: обнаружено более 400 подземных коридоров - насто€щий лабиринт, населенный не только воинами, но и глин€ными чиновниками, скотоводами, акробатами, кулачными бойцами.
Ќа похоронах Ўихуанди было казнено 500 лошадей; их скелеты найдены археологами, как и останки тигров, панд и других диковинных животных, общим числом сорок четыре.
«десь погребли также 130 дерев€нных боевых колесниц, но все они истлели.
¬довы в итае действовали вполне сознательно, и тыс€чи из них совершали такой акт, который никогда не был следствием приступа отча€ни€ или же страха перед нуждой. ≈сли бы это было так, то все их действи€ никогда не были бы запротоколированы историками и не сопровождались бы такими высокими похвалами. јкт самосожжени€ тщательно готовилс€ и совершалс€ по зрелому размышлению. итайска€ Ђсатиї обычно перед смертью вызывала духов своих предков и умол€ла их прин€ть и ее душу; по этому поводу она надевала на себ€ лучший нар€д, чтобы быть попривлекательней, когда предстанет перед ними после своей кончины.

“акой акт пользовалс€ всеобщим одобрением со стороны широкого общественного мнени€ и моралистов, которые не уставали его восхвал€ть.
ћетоды ритуального самоубийства в итае были куда более разнообразными, чем в »ндии, где самосожжение на костре было почти единственным правилом. Ѕольшинство
кита€нок либо вешались, либо вспарывали себе горло, но некоторые из них предпочитали €д или бросались в пропасть. »звестны случаи, когда жены кидались в гор€щий дом, в котором по неосторожной случайности оказывались их мужь€ или родственники; многие бросались на угли костра, разведенного дл€ сжигани€ трупа их мужа. ¬довы иногда топились в реке или в море.

¬сего еще столетие назад в итае самой распространенной жертвой Ђсатиї становилась публична€ казнь через повешение, но расходы на такой вид ритуального убийства бывали, как правило, настолько высоки, что это Ђудовольствиеї могли себе позволить только очень богатые семьи. ƒата такой казни сообщалась по всему городу с помощью расклеенных плакатов. ¬от что рассказывает о таком обычае де √роот:
Ђѕеред наступлением торжественного великого дн€ главное действующее лицо предсто€щего спектакл€, Ђсатиї, облачаетс€ в свой самый лучший нар€д и, сид€ в паланкине, совершает объезд всех членов своей семьи, друзей, знакомых, чтобы они вдоволь полюбовались ее пышными оде€ни€ми. ≈е все радушно поздравл€ют, превознос€ до небес. ѕо приказу властей и за счет ее семьи на выбранном месте возводитс€ платформа, которую старательно украшают €ркой тканью и фонариками. Ђ—атиї сидит на стуле или платформе, либо р€дом с ней, в своем прекрасном нар€де, выбранном ею лично дл€ своего ухода в царство теней.

ќна в полной неподвижности принимает самые высокие по чести в итае от приближенных —ына Ќеба, а также простолюдинов. огда все приглашенные собирались, их угощали чаем и сладост€ми, после чего самый старший по званию мандарин приглашал женщину подн€тьс€ на платформу. „ерез несколько минут она, поправив как следует петлю на шее, отправл€лась в вечность, выбива€ из-под себ€ но-, гами табуретку. ѕосле окончани€ церемонии мандарин уезжал, и толпа постепенно расходилась. Ќесколько представителей знати, прибывших сюда на своих паланкинах, чтобы добавить пышности героическому самоубийству, совершенному в их присутствии, обходили всех родственников и близких усопшей, воздава€ им вс€ческие похвалы и льстиво напомина€ об императорских милост€х, которые могут за этим актом последовать...ї
ѕредставителей знати и мандаринов, присутствовавших на этом ритуале, щедро одаривали. ¬ течение нескольких дней их приглашали на праздничные обеды, которые стоили немалых денег дл€ членов семьи самоубийцы. ѕрисутствие важных персон на церемонии €вл€лось их негласным одобрением отважного поступка женщины. ƒаже иностранные газеты сообщили об одном случае, произошедшем в 1879 году неподалеку от китайского порта ‘у-че-фу. »ногда подобные акты получали официальное одобрение и погибшим ритуальным жертвам посв€щались храмы. »зданный в 1832 году генерал-губернатором провинции ’укван указ недвусмысленно подчеркивал признаваемую власт€ми природу такого де€ни€. ѕодобно англичанам в »ндии, которые долго не могли собратьс€ с духом, чтобы запретить обр€д Ђсатиї, китайское имперское правительство постановило, что дл€ него об€зательно требуетс€ официальное разрешение. ѕрежде вдове нужно было обратитьс€ в —овет по ритуалам и обр€дам. ≈сли ее за€вление получало одобрение, то местным чиновникам предписывалось выделить ей тридцать монет дл€ сооружени€ мемориальных ворот в ее честь. ѕрактически такое разрешение было очень трудно получить, так как власти давали его скреп€ сердце, и мандарины обычно отклон€ли такие прошени€, дава€ Ђдоброї только очень немногим представительницам богатых семей, главным образом просител€м из числа их ближайших приближенных.
Ћ. аневский
|
ћетки: истори€ китай инди€ |
јлиенора јквитанска€, "золота€ орлица" |
ƒневник |
¬ XII веке не было конкурсов красоты, все и так знали, кому принадлежит титул Ђѕрераснейша€ї Ч јлиеноре јквитанской, супруге двух королей и хоз€йке трех корон.

Ёто не насто€щий портрет јлиеноры, разумеетс€
Ќо слыть первой красавицей ей, видимо, было мало, и она активно вмешивалась в политику: несколько дес€тилетий судьба целого континента зависела от настроени€ этой обворожительной своевольницы.
Ќаследственность у прекрасной јлиеноры была еще та. “ень предка √ильома IX “рубадура витала над ней всю ее жизнь.

√ильом IX “рубадур
ѕри живой жене ‘илиппе,родившей ему двоих сыновей,√ильома X и –аймонда јнтиохийского,“рубадур сделал хоз€йкой в доме аквитанскую даму по имени ƒангероса.Ѕолее того,дама была замужем за вассалом √ильома,јймериком,виконтом Ўательро,и герцог забрал ее пр€мо из замка.¬прочем,виконт никак не воспротивилс€ насилию.¬идимо, бо€лс€ бешеного нрава аквитанского герцога.—праведливости ради следует отметить,что угроза была нешуточной.»з-за этой истории √ильом чуть не убил епископа, грозившего ему анафемой.√ильом никого не бо€лс€ и не скрывал своей св€зи.ќн даже поместил на щите изображение ƒангеросы и,по словам хрониста,шутил,что хотел бы иметь ее при себе в битвах,как был при ней на пирах.¬идимо,хронист см€гчил высказывани€ герцога:все-таки невместно особе духовного звани€ пересказывать непристойности.
—тарший сын “рубадура √ильом X,в отличие от мужа-рогоносца,этого так не оставил,заступилс€ за мать и даже начал войну с отцом,которую проиграл.ј ‘илиппу √ильом I’ отослал в монастырь.ѕосле того,как √ильом IX захватил сына в плен,он заставил его женитьс€ на...17-летней дочери јймери и ƒангеросы по имени јэнор! ¬идимо,отец решил отомстить таким образом сыну и унизить его.
»так,брак √ильома и јэнор вр€д ли был особенно счастливым,хот€ у них и родилось трое детей,из которых выжили лишь две дочери,јлиенора и ѕетронилла. јлиенора,старша€,родилась около 1122 года.
ѕоскольку ее младший брат,√ильом јйгрет, умер еще ребенком,она стала наследницей аквитанских земель.јэнор и √ильом јйгрет умерли,когда јлиенора была еще ребенком,а √ильом ’ не таким уж старым человеком.√ильому нужен был наследник и конечно же брак.
«аключить еще один брак и произвести на свет наследника √ильому ’ не удалось..ќн пыталс€ в 1136 женитьс€ на Ёмме,дочери јймара,виконта Ћиможского,но вассалы јймара сговорились с √ильомом јнгулемским,тот похитил Ёмму и женилс€ на ней.¬ 1137 году √ильом ’ умер из-за пищевого отравлени€ во врем€ паломничества в —антъ€го де омпостелла,однако успел отдать распор€жени€ на случай смерти.ѕолитическа€ ситуаци€ из-за отсутстви€ наследника была сложной. ¬ јквитании хватало отча€нных феодалов, мало уступавших в беззаконии и беспутстве √ильому “рубадуру ,и јлиенора в случае смерти отца оказывалась в опасном положении(пример Ёммы показателен).ѕоэтому опеку √ильом ’ передал своему сюзерену,королю ‘ранции Ћюдовику VI.ѕоследний был достаточно могущественным,чтобы защитить јлиенору.ј на случай,если муж јлиеноры захочет ее оставить без владений каким-ни будь традиционным способом(как √ильом I’ поступил с ‘илиппой)√ильом подстраховалс€ :ему мог наследовать лишь сын јлиеноры,а покамест јквитанию наследовала именно јлиенора. ¬скоре јлиенора прибыла во ‘ранцию.

Ќеобычную судьбу ей диктовало само им€. огда у аквитанского герцога √ильома X весной 1122 года родилась дочь, ее назвали јлиенорой в честь матери. јлиенора стала богатейшей женщиной ≈вропы. ≈й принадлежало герцогство јквитани€, или √иень, занимавшее обширные территории на юго-западе ‘ранции с пол€ми, виноградниками, мощными крепост€ми и процветающими портами. ћестные жители не считали себ€ французами: у них был свой €зык, в котором Ђдаї звучало не как французское Ђойї (в современном произношении Ђуиї), а как Ђокї. ѕоэтому весь юг страны получил название ЂЋангедокї (€зык Ђокї). ёжные районы были не только богаче, но и культурнее: здесь сохранились отголоски античных традиций, к которым добавились италь€нские, арабские и еврейские вли€ни€. ¬ XI веке все это породило изысканную культуру трубадуров, которые впервые за сотни лет сочин€ли стихи не на латыни, а на родном €зыке, воспева€ красоту прекрасных донн. ѕервым из трубадуров считалс€ дед јлиеноры √ильом IX.
јлиенора стала "прекрасной дамой" трубадуров. » этому, в общем-то, все благоволило: уже в п€тнадцать лет о ее красоте распевали все придворные поэты. сожалению, до нас не дошло ни одного ее достоверного портрета. ѕо скупым описани€м современников, можно заключить, что аквитанска€ наследница была невысокой, стройной, с удлиненным лицом и большими темными глазами. ≈е особенно украшали густые медно-рыжие кудри, то собранные в тугой узел под сеткой, то свободно спадающие на плечи. ¬от почему трубадуры выводили ее им€ от слов aigle en or Ч Ђзолота€ орлицаї. »скушенные в науке соблазнени€ придворные дамы научили ее пользоватьс€ косметикой, умащать кожу бальзамами и душистыми маслами, а главное Ч каждое утро умыватьс€ холодной водой, что считалось лучшим средством дл€ поддержани€ красоты. ¬озможно, не без оснований, поскольку поэты восхвал€ли јлиенору не только в юности, но и когда ей было далеко за семьдес€т.
ѕо сравнению с блест€щим аквитанским двором в ѕуатье королевский ѕариж выгл€дел тогда серым и скучным. ƒинасти€ апетингов находилась на престоле уже полтора века, но до сих пор ничем не прославилась. ≈е владени€ охватывали только »ль-де-‘ранс Ч Ђ‘ранцузский островї вокруг столицы, а на остальной территории хоз€йничали крупные феодалы. » все же король Ћюдовик VI “олстый считалс€ сюзереном герцога јквитании, владени€ которого были чуть ли не вдвое больше. “еперь он настаивал на браке јлиеноры со своим сыном, тоже Ћюдовиком. ѕодумав, южане согласились при условии сохранени€ вольностей дл€ их двор€н и городов. ¬ июле 1137 года в Ѕордо сыграли веселую свадьбу, на которой девушка, как тогда было прин€то, впервые встретилась со своим женихом. Ћюдовик был чуть старше (ему уже исполнилось шестнадцать), но казалс€ совсем мальчишкой Ч худой, бледный, не по годам серьезный. √оворили, что он часами молитс€, носит под камзолом жесткую влас€ницу и мечтает отправитьс€ в —в€тую «емлю, чтобы воевать против неверных.
ѕосле свадебной церемонии молодожены отправились в ѕариж, у ворот которого их встретило печальное известие: король Ћюдовик неожиданно скончалс€. “ак јлиенора стала королевой ‘ранции, поскольку ее муж зан€л трон покойного отца. Ќо это не принесло ей особой радости: как птица в клетке, красавица тосковала под каменными сводами дворца —ите, пока ее супруг заседал в совете или водил войско против непокорных сеньоров. Ќочные свидани€ с ним были редкими, и она никак не могла забеременеть.

јлиенора и Ћюдовик VII мол€т Ѕога даровать им сына.
» все же после молитв и купани€ в целебных источниках у јлиеноры родилась дочь ћари€. ∆еланного наследника не было, и придворные начали роптать, особенно когда скучающа€ королева стала приглашать ко двору провансальских трубадуров. Ёти наглецы не только свободно входили в ее покои, но и пели дл€ нее фривольные баллады на своем Ђокающемї €зыке. ј Ћюдовик и ухом не вел: то ли он действительно любил красавицу-жену, то ли не желал потер€ть ее громадные владени€.
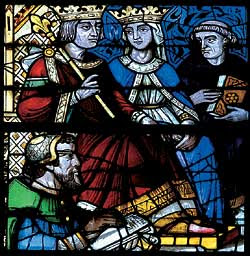
Ћюдовик VII принимает крест и отправл€етс€ во ¬торой крестовый поход.
—права Ч јлиенора и аббат —угерий. ¬итраж XIX века из аббатства —ен-ƒени
— крестом и мечом
¬озможно, королевска€ семь€ так и прожила бы в мире до конца дней, если бы не случай в городке ¬итри. Ўтурму€ его, войска корол€ сожгли церковь вместе с укрывшимис€ там жител€ми. ƒл€ богомольного Ћюдовика это было т€жким ударом Ч в знак раска€ни€ он обрилс€ наголо и полностью отказалс€ от супружеских об€занностей, а потом собралс€ в давно намеченный крестовый поход. тому времени ѕалестина и часть —ирии уже почти полвека находились в руках европейских рыцарей, что, естественно, не устраивало местных мусульман. —обрав мощную армию во главе с эмиром Ќуреддином, они захватили графство Ёдессу и угрожали самому »ерусалиму. Ёто побудило корол€ јнглии и императора √ермании отправитьс€ походом в —в€тую «емлю. Ћюдовик же со стотыс€чной армией двинулс€ в путь в мае 1147 года. — ним ехала и јлиенора, уговоривша€ мужа не оставл€ть ее одну в постылом ѕариже. ќтвергнув предложенную ей повозку, она проделала верхом большую часть пути в шесть тыс€ч километров через ≈вропу, ¬изантию и захваченную турками-сельджуками ћалую јзию. ≈е выносливость и отвага восхищали придворных: двига€сь впереди войска, она не раз встречала атаки врага, а однажды даже попала в окружение вместе с королем и была спасена только отча€нной атакой земл€ков-аквитанцев. √оворили и другое: будто бы, жела€ воодушевить войско, она выезжала ему навстречу в костюме амазонки, который оставл€л открытой грудь. онечно, грудь королевы могла воодушевить кого угодно, но Ћюдовик вр€д ли позволил бы жене такие вольности. ј слово мужа все еще было дл€ нее законом.
„ерез год поредевшее войско вступило в сирийскую јнтиохию, которой правил д€д€ јлиеноры –аймунд де ѕуатье. Ётот красавчик недавно женившилс€ на очарованной им вдове местного кн€з€. –аймунд и Ћюдовик объединили силы в войне, но оба оказались никуда не годными полководцами. √он€€сь по пустыне за легкой кавалерией сарацин, они понапрасну растратили силы, а потом зан€лись осадой ƒамаска, да так и не смогли его вз€ть. ∆изнь крестоносцев в јнтиохии скрашивали пиры, турниры и любовные свидани€. «десь собрались храбрейшие рыцари христианского мира, и немудрено, что сердце јлиеноры не усто€ло. ќдни считали ее любовником рыцар€ ∆оффруа де –анкона, другие Ч самого великолепного –аймунда. “о, что он был ее д€дей, не останавливало сплетников, да и саму королеву вр€д ли бы остановило. Ћюдовик, человек мрачный и внутренне слабый, и так давно раздражалс€, что его ослепительна€ и норовиста€ жена посто€нно смеетс€ и болтает с земл€ком –аймундом на непон€тном королю провансальском €зыке. ќткрыта€ размолвка между французским королем Ћюдовиком VII и его женой јлиенорой јквитанской произошла в 1148 году. ћало того, что королева своевольно отправилась на войну, мало того, что в јнтиохии она посмела вмешатьс€ в ход военного совета, она еще возвысила голос против собственного мужа. Ќо самое ужасное - јлиенора заспорила на стороне красавца –аймунда де ѕуатье, которого все подозревали в любовной св€зи с королевой. », наконец, когда спор зашел в тупик, јлиенора за€вила, что она со своими вассалами останетс€ помогать –аймунду.
ѕозже распространилс€ слух, что она принимала в своем шатре главного врага рыцарей, египетского султана —аладина, что было не более чем глупостью Ч в ту пору —аладин еще не был султаном и никакого участи€ в войне не принимал.
–аймунд де ѕуатье погиб в бою с сарацинами.

¬округ шептались, что любовь јлиеноры приносит несчастье, и все увереннее называли прекрасную южанку ведьмой.
ороль решил, наконец, расставить точки над i, но вз€лс€ за дело, как всегда, неуклюже. јлиенора дерзко ответила, что их брак недействителен с точки зрени€ церковного права, ибо они состо€т в слишком близком родстве.
Ёто был неожиданный ход: никто и не забывал, что у Ћюдовика с јлиенорой родство в дев€том колене, но обычно церковь смотрела на такое нарушениe канонов сквозь пальцы. ƒа и к чему было королеве вспоминать об этом на тринадцатый год супружества? ѕокинув —в€тую землю порознь, супруги вновь соединились у ног –имского ѕапы ≈вгени€ III, который разъ€снил им, что родство не помеха их браку, убедил начать отношени€ с чистого листа и даже собственноручно проводил супругов в спальню. ѕапа заставил королевскую чету спать на одной кровати, которую он за свой счет украсил драгоценными матери€ми. Ќа следующий год у них родилась втора€ дочь, јлиса, но, как это часто бывает, ребенок не скрепил, а окончательно разрушил зашатавшийс€ брак.
ѕрежнего довери€ между ними не было. Ћюдовик вежливо, но твердо отстранил жену от всех дел управлени€.
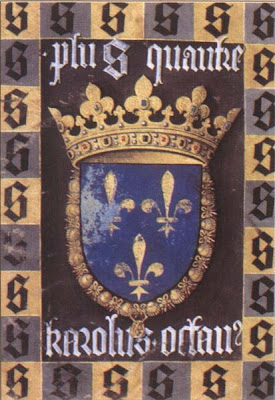
герб ‘ранции
«аперта€ во дворце, она радовалась редким развлечени€м, одним из которых стал визит графа јнжуйского с семейством. √раф ƒжефре, женатый на дочери корол€ јнглии, искал у корол€ поддержки в своих прит€зани€х на британский трон. ј его сын, 17-летний √енрих, тем временем любезничал с прекрасной јлиенорой, котора€ была на одиннадцать лет старше него. јнжуйцы славились буйным характером и привычкой брать то, что им хочетс€. Ќедаром их называли Ђдетьми дь€волаї. ѕо легенде, кто-то из их предков женилс€ на прекрасной фее ћелюзине, котора€ не могла войти в церковь и раз в неделю превращалась в змею. Ѕыло у них и другое им€ Ч ѕлантагенеты, поскольку ƒжефре всегда носил на шлеме веточку желтого дрока, по-латыни planta genista.
„то в те дни произошло между королевой и юным сыном графа, какие обещани€ они дали друг другу, мы никогда не узнаем. Ќо спуст€ некоторое врем€ после отъезда анжуйцев при дворе разразилс€ скандал: јлиенора потребовала у мужа развода. ѕредлогом стало то, что они находились в отдаленном родстве, что по церковным канонам преп€тствовало браку. ак будто все монархи «ападной ≈вропы не были друг другу родственниками!
–ождество 1151 года августейша€ чета встретила в јквитании. Ќеискушенным наблюдател€м казалось, будто супруги помирились, но более осведомленные знали: по всем област€м, которые относились к родовым владени€м јлиеноры, французских управл€ющих теперь смен€ют аквитанские. Ћюдовик был вне себ€ от €рости, но поделать ничего не мог. ¬ марте 1152 года суд признал брак расторгнутым, и јлиенора поспешила в ѕуатье, чтобы вернуть себе владени€. ѕо пути алчные феодалы дважды пытались похитить ее, чтобы насильно склонить к браку и завладеть герцогством јквитанским. Ќо Ђзолота€ орлицаї упорхнула от них пр€мо в руки своего избранника Ч √енриха јнжуйского. тому времени он уже стал графом после внезапной кончины отца: смерть в —редние века всегда была р€дом и приходила быстро.
» двух мес€цев не прошло, как французский двор был потр€сен вестью о новой неслыханной выходке своенравной јлиеноры: она вышла замуж за √енриха ѕлантагенета, графа јнжуйского и герцога Ќормандского. —опоставив кое-какие факты, Ћюдовик пон€л, что жена изменила ему с его вассалом еще в августе 1151 года, когда тот гостил в ѕариже. ороль за€вил, что јлиенора и √енрих как вассалы об€заны просить у него разрешени€ на брак, но неуемный, страстный герцог Ќормандии ни у кого ничего не собиралс€ просить. ¬ начавшейс€ войне он быстро разбил корол€.
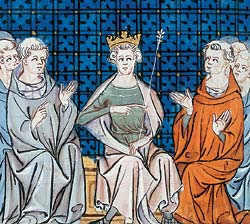
–азвод Ћюдовика VII с јлиенорой јквитанской. ћарт 1152 года. нижна€ миниатюра.
Ќа берегах јльбиона
¬ мае того же 1152 года влюбленные обвенчались в ѕуатье. ”знав об этом, Ћюдовик VII пон€л, что его обманули, нарушив заодно права сюзерена Ч по закону, и √енрих, и јлиенора как вассалы корол€ об€заны были получить у него разрешение на брак. ¬ гневе Ћюдовик двинулс€ походом на анжуйские владени€, но, как и большинство его предпри€тий, это ни к чему не привело. — гор€ король оп€ть предалс€ посту и молитве и лишь по насто€нию советников женилс€ на юной онстанции астильской, а после ее смерти Ч на не менее юной јдели Ўампаньской. “ем временем √енрих укрепл€л свою власть. ѕомимо јнжу ему досталась Ќорманди€, а теперь он завладел еще и јквитанией. Ќе довольству€сь этим, он вступил в войну со своим родственником —тефаном Ѕлуаским за английскую корону. ¬ окт€бре 1154 года —тефан умер, что сделало √енриха владыкой Ђјнжуйской империиї, занимавшей всю јнглию и половину ‘ранции.
√енрих был полной противоположностью нерешительному и набожному Ћюдовику. ¬о врем€ частых приступов гнева его обычно невыразительные серые глаза вспыхивали огнем, а в лице, по свидетельствам очевидцев, по€вл€лось Ђнечто львиноеї. ¬ остальном он мало напоминал корол€: невысокий, с бычьей шеей и широкими плечами, с круглым веснушчатым лицом и вечно растрепанными рыжими волосами, которые он коротко стриг из бо€зни облысеть. ќт анжуйских предков √енрих унаследовал буйный нрав, а от английского деда √енриха I Ч склонность к наукам. ’ронист ¬альтер ћап писал: Ђ огда руки корол€ не были зан€ты луком и стрелами, мечом или поводь€ми, он заседал в совете или корпел над книгамиї. Ёнерги€ √енриха была столь неудержима, что никто из придворных не поспевал за ним. ќн редко сидел и даже за обеденным столом то и дело вскакивал, торопливо глота€ недожеванные куски, одновременно выслушива€ доклады и прошени€.
Ќаконец-то јлиенора нашла мужа под стать себе. ¬месте с ним она скакала верхом, тороп€сь к месту очередной битвы или празднества. — ним обдумывала проекты новых законов и принимала просителей. ¬ государственном совете ее кресло было установлено р€дом с королевским. Ќе без ее вли€ни€ √енрих подтвердил все привилегии, дарованные английской церкви и городам. ¬новь заработала разлаженна€ за годы феодальных войн государственна€ машина: в графствах по€вились королевские судьи, стали собиратьс€ налоги, а на неспокойной границе с Ўотландией вновь встали дозоры. ¬ итоге, по словам хрониста, Ђвесь народ полюбил корол€, ибо он творил справедливость и установил мирї. ћир, правда, был относительным: √енрих посто€нно пыталс€ округлить свои владени€, балансиру€ на грани войны с Ћюдовиком ‘ранцузским и другими соседними корол€ми. ѕозже, в 1171 году, он вторгс€ в »рландию и положил начало британской колонизации этой страны. ¬прочем, патриотизм √енриха был весьма условным: как все монархи јнглии до XIV века, он не знал английского €зыка и говорил только по-французски.
≈го бедой были и вспышки гнева, при которых король мог совершать самые дикие поступки. ќднажды, поспорив с одним из придворных, он убежал в конюшню, где в €рости начал грызть солому. ƒругого придворного со шпагой в руках гон€л по всему дворцу. ќсобенно нетерпимо он относилс€ к любым пос€гательствам на свою власть, что и стало причиной конфликта с архиепископом ентерберийским “омасом Ѕекетом. √енрих сам рекомендовал его на высший церковный пост, но Ѕекет не захотел быть покорной марионеткой корол€. ак-то раз его €довита€ критика так взбесила √енриха, что он в раздражении воскликнул: Ђ огда же мен€ избав€т от этого человека?ї „етверо рыцарей из королевской свиты тут же отправились в ентербери и зарубили архиепископа пр€мо у алтар€. „тобы избежать отлучени€ от церкви, королю пришлось совершить унизительный обр€д пока€ни€.
Ёти событи€ мало затронули јлиенору, котора€ прилежно рожала королю детей. ”же летом 1153 года у нее родилс€ первый сын √ильом, проживший совсем недолго. «а ним на свет по€вились √енрих, –ичард, ƒжефре, ƒжон и три дочери Ч ћатильда, Ёлеонора и ƒжоанна. ¬се они провели детство в ѕуатье на попечении слуг и н€нек, а сама королева вела активную светскую жизнь. «ачитыва€сь балладами о короле јртуре, она основала в корнуоллском замке “интагел свой собственный Ђ руглый столї, за которым собирала рыцарей и поэтов, лучше других услужающих ей, своей Ђпрекрасной дамеї. –одив дес€терых детей, размен€в п€тый дес€ток лет, јлиенора слегка располнела, но сохран€ла привлекательность Ч должно быть, Ђпомогалаї холодна€ вода. –одив в 1167 году последнего сына ƒжона, она перебралась в ѕуатье, где создала Ђƒвор любвиї. ¬озможно, любовь эта была не только куртуазной: несколько трубадуров открыто похвал€лись близким знакомством с хоз€йкой Ђƒвораї. ≈ще больше было тех, кто от чистого сердца или ради выгоды воспевал ее красоту, сделав јлиенору насто€щим вместилищем совершенств , идеалом женщины —редневековь€. ќдин немецкий поэт, никогда не видевший ее, сочинил такие вирши:
Ђ огда б € был царем царей,
владыкой суши и морей,
Ћюбой владел бы девой.
я всем бы этим пренебрег,
когда б проспать бы ночку смог
— английской королевойї.
ћолва же сделала из јлиеноры насто€щую ћессалину, наделив ее множеством любовников. ¬ их число попал и маршал јнглии лорд ѕемброк, герой известной баллады Ђ оролева Ёлинорї, переведенной на русский €зык —амуилом ћаршаком. Ќо если все или почти все романы королевы были выдуманы, то ее муж измен€л ей на самом деле, причем совершенно открыто. — 1166 года его посто€нной пассией была прекрасна€ –озамунда лиффорд Ч легенды называют ее дочерью булочника. “е же легенды повествуют, как √енрих построил дл€ своей возлюбленной лабиринт в ¬удстокском дворце, чтобы коварна€ Ёлинор не погубила ее. Ќо та все же нашла путь к центру лабиринта и заставила –озамунду выпить €д. ќбвинение €вно надуманно: в 1176 году, когда Ђ–оза јнглииї умерла, јлиенора была в тюрьме, куда ее посадил собственный когда-то любимый муж.


«амок Ўинон
оролева-пленница
–азрыву между супругами помогли не только прекрасные глаза –озамунды, но и поведение их детей. ѕринцы выросли без отца, который был вечно зан€т, и не питали к нему особой прив€занности. тому же они не меньше √енриха были подвержены приступам Ђанжуйского гневаї, что превратило остаток жизни корол€ в насто€щий кошмар. ¬ 1173 году против него восстал его старший сын √енрих ћладший, который бежал к Ћюдовику ‘ранцузскому и с его войсками вторгс€ в јнглию. јлиенора попыталась бежать к нему, переодевшись в мужское платье, но была поймана и заключена в замок Ўинон, где провела почти дес€ть лет. онечно, она не сидела в душной камере и не спала на соломе Ч ей оставили штат слуг, а охране велели предоставить ей полную свободу в пределах крепостных стен.
“ем временем король разбил войско сына, натравив на него подросшего –ичарда, который уже получил свое прозвище Ћьвиное —ердце, но не столько за храбрость, сколько за жестокость в стремлении к власти. ¬ войну вв€залс€ и ƒжефре, причем какое-то врем€ брать€ сражались между собой к удовольствию отца. ¬ 1180 году умер Ћюдовик ‘ранцузский и королем стал его сын от третьей жены ‘илипп јвгуст Ч решительный юноша, пообещавший отобрать у корол€ јнглии его владени€ на континенте. ќн подбил принца √енриха на новое восстание, но в июне 1183 года тот заболел дизентерией и умер. “еперь наследником стал –ичард, которому отец уже подобрал жену Ч юную французскую принцессу јлису, котора€ по обыча€м тех лет воспитывалась при дворе жениха. ¬се испортило сластолюбие монарха, его анжуйское Ђздесь и сейчасї: соблазнив 17-летнюю невесту сына, он сделал ее своей любовницей. ”знав об этом, –ичард взбунтовалс€, заключил союз с ‘ранцией, и все началось сначала.
Ёти событи€ отражены в известной пьесе ƒжеймса √олдмена ЂЋев зимойї, экранизированной Ёнтони ’арви в 1968 году и јндреем ончаловским в 2003-м. ¬ первом фильме корол€ играет ѕитер ќТ“ул, а јлиенору Ч великолепна€ этрин ’Єпберн. ¬о втором роль королевы досталась оскароносной √ленн лоуз. ¬ обоих Ч монарший двор изображен змеиным гнездом, где все готовы в любую минуту предать друг друга ради власти. Ёто вр€д ли справедливо в отношении јлиеноры, котора€ выше всего ставила интересы сыновей (кроме нелюбимого ею принца ƒжона).
–аспри отца и сыновей остановило известие о вз€тии мусульманами »ерусалима. √енрих и ‘илипп ‘ранцузский засобирались в крестовый поход, но в процессе подготовки оп€ть прин€лись воевать друг с другом. ¬ решающий момент –ичард снова перешел на сторону французов (по слухам, этот €рый женоненавистник был любовником ‘илиппа). «агнанный, как волк, √енрих умер в июле 1189 года в Ўиноне, повтор€€: Ђѕозор, позор побежденному королюї. ≈го похоронили в соседнем женском монастыре ‘онтевро, исполнив давнее пророчество: Ђ ороль, так любивший женщин, и после смерти будет лежать с нимиї.
ѕоследние годы
”знав о смерти отца, –ичард первым делом велел освободить јлиенору из заточени€. ѕосле этого он пышно отпраздновал победу вместе с ‘илиппом јвгустом, а потом отправилс€ в очередной крестовый поход. »з дес€ти лет правлени€ он пробыл в јнглии меньше года, а остальное врем€ занимал себ€ славными и бессмысленными подвигами в —в€той «емле и других местах. ≈му не удалось освободить »ерусалим, а на обратном пути он попал в руки австрийского герцога, провел в темнице четырнадцать мес€цев и был отпущен только за громадный выкуп, окончательно опустошивший казну королевства. ћногие считали, что герцог заточил –ичарда по тайному соглашению с принцем ƒжоном, который управл€л јнглией в отсутствие брата и снискал дурную славу в народе Ч об этом напоминают легенды о –обин √уде.
јлиенора как могла помогала ему, без устали разъезжа€ между ‘ранцией и јнглией. —разу после отъезда –ичарда она съездила в »спанию, привезла оттуда юную Ѕеренгарию Ќаваррскую и, нагнав сына на —ицилии, женила его. ≈й так и не удалось дать јнглии наследника, поскольку Ћьвиное —ердце осталс€ равнодушным к красоте молодой жены.
ј королева не утратила энергии даже в 80 лет. »менно в этом возрасте она совершила новое путешествие за ѕиренеи, чтобы вывезти оттуда в ѕариж свою внучку Ѕланку астильскую, ставшую матерью корол€ Ћюдовика IX —в€того. ƒа и в других странах континента правило столько ее потомков, что историки с полным основанием называют королеву јнглии Ђбабушкой европейских монарховї.
јлиенора жила на взлете куртуазной культуры —редневековь€, впитав в себ€ все ее €влени€, будь то поэзи€ трубадуров, легенды о Ђ руглом столеї или рыцарский кодекс чести. Ётому кодексу она обучила –ичарда, оставив за ним в веках славу идеального рыцар€. ќна с горечью наблюдала, как успеха добиваютс€ те правители, которые отрекались от благородных идеалов в угоду Ђреальной политикеї, а именно Ч ‘илипп јвгуст и ее собственный сын ƒжон. –азоблача€ их козни, она никогда не могла, как в пьесе ЂЋев зимойї, пожалеть, что холодный и расчетливый ‘илипп рожден не ею. тому же он не любил трубадуров и прогнал их из своего дворца Ч этого она тоже не простила.

Ќадгробие јлиеноры и √енриха II в ‘онтевро
ѕохоже, под ее вли€нием непри€знью к бывшему союзнику проникс€ и –ичард. ¬ернувшись в 1194 году из плена, он зате€л войну с королем ‘ранции, под шумок присвоившим его земли. ѕ€ть лет прошло в осадах, стычках и турнирах, пока в апреле 1199 года Ћьвиное —ердце не был убит стрелой из арбалета, пущенной со стены осажденного им замка. ¬ластелином јнглии стал ƒжон, но скоро ‘илипп отн€л у него Ќормандию, јнжу и ћен, оставив только јквитанию Ч наследство јлиеноры. ѕозже восставшие бароны едва не прогнали его из јнглии, жители которой заклеймили обидным прозвищем Ч Ѕезземельный. Ќо јлиенора этого уже не увидела: она умерла в ‘онтевро 1 апрел€ 1204 года. ”мерла, как говор€т, от €рости, узнав о вз€тии французами ее любимого замка Ўато-√ай€р. Ёто стало вполне достойным завершением жизни вечной м€тежницы, пережившей не только мужей и сыновей, но и свою эпоху. јлиенора умерла в возрасте 82 лет (удивительно долга€ жизнь дл€ женщины того времени, матери 11 детей) и сыграла выдающуюс€ роль в истории јквитании. ќна могла бы сыграть крупную роль в истории ‘ранции, но судьба распор€дилась иначе. ¬се бумаги јлиенора подписывала УЌемилостью Ѕожьей королева јнглииФ.
ѕо мотивам:
–ежин ѕерну. јлиенора јквитанска€
¬адим Ёрлихман. јлиенора Ч м€тежница на троне>

Ёто не насто€щий портрет јлиеноры, разумеетс€
Ќо слыть первой красавицей ей, видимо, было мало, и она активно вмешивалась в политику: несколько дес€тилетий судьба целого континента зависела от настроени€ этой обворожительной своевольницы.
Ќаследственность у прекрасной јлиеноры была еще та. “ень предка √ильома IX “рубадура витала над ней всю ее жизнь.

√ильом IX “рубадур
ѕри живой жене ‘илиппе,родившей ему двоих сыновей,√ильома X и –аймонда јнтиохийского,“рубадур сделал хоз€йкой в доме аквитанскую даму по имени ƒангероса.Ѕолее того,дама была замужем за вассалом √ильома,јймериком,виконтом Ўательро,и герцог забрал ее пр€мо из замка.¬прочем,виконт никак не воспротивилс€ насилию.¬идимо, бо€лс€ бешеного нрава аквитанского герцога.—праведливости ради следует отметить,что угроза была нешуточной.»з-за этой истории √ильом чуть не убил епископа, грозившего ему анафемой.√ильом никого не бо€лс€ и не скрывал своей св€зи.ќн даже поместил на щите изображение ƒангеросы и,по словам хрониста,шутил,что хотел бы иметь ее при себе в битвах,как был при ней на пирах.¬идимо,хронист см€гчил высказывани€ герцога:все-таки невместно особе духовного звани€ пересказывать непристойности.
—тарший сын “рубадура √ильом X,в отличие от мужа-рогоносца,этого так не оставил,заступилс€ за мать и даже начал войну с отцом,которую проиграл.ј ‘илиппу √ильом I’ отослал в монастырь.ѕосле того,как √ильом IX захватил сына в плен,он заставил его женитьс€ на...17-летней дочери јймери и ƒангеросы по имени јэнор! ¬идимо,отец решил отомстить таким образом сыну и унизить его.
»так,брак √ильома и јэнор вр€д ли был особенно счастливым,хот€ у них и родилось трое детей,из которых выжили лишь две дочери,јлиенора и ѕетронилла. јлиенора,старша€,родилась около 1122 года.
ѕоскольку ее младший брат,√ильом јйгрет, умер еще ребенком,она стала наследницей аквитанских земель.јэнор и √ильом јйгрет умерли,когда јлиенора была еще ребенком,а √ильом ’ не таким уж старым человеком.√ильому нужен был наследник и конечно же брак.
«аключить еще один брак и произвести на свет наследника √ильому ’ не удалось..ќн пыталс€ в 1136 женитьс€ на Ёмме,дочери јймара,виконта Ћиможского,но вассалы јймара сговорились с √ильомом јнгулемским,тот похитил Ёмму и женилс€ на ней.¬ 1137 году √ильом ’ умер из-за пищевого отравлени€ во врем€ паломничества в —антъ€го де омпостелла,однако успел отдать распор€жени€ на случай смерти.ѕолитическа€ ситуаци€ из-за отсутстви€ наследника была сложной. ¬ јквитании хватало отча€нных феодалов, мало уступавших в беззаконии и беспутстве √ильому “рубадуру ,и јлиенора в случае смерти отца оказывалась в опасном положении(пример Ёммы показателен).ѕоэтому опеку √ильом ’ передал своему сюзерену,королю ‘ранции Ћюдовику VI.ѕоследний был достаточно могущественным,чтобы защитить јлиенору.ј на случай,если муж јлиеноры захочет ее оставить без владений каким-ни будь традиционным способом(как √ильом I’ поступил с ‘илиппой)√ильом подстраховалс€ :ему мог наследовать лишь сын јлиеноры,а покамест јквитанию наследовала именно јлиенора. ¬скоре јлиенора прибыла во ‘ранцию.

Ќеобычную судьбу ей диктовало само им€. огда у аквитанского герцога √ильома X весной 1122 года родилась дочь, ее назвали јлиенорой в честь матери. јлиенора стала богатейшей женщиной ≈вропы. ≈й принадлежало герцогство јквитани€, или √иень, занимавшее обширные территории на юго-западе ‘ранции с пол€ми, виноградниками, мощными крепост€ми и процветающими портами. ћестные жители не считали себ€ французами: у них был свой €зык, в котором Ђдаї звучало не как французское Ђойї (в современном произношении Ђуиї), а как Ђокї. ѕоэтому весь юг страны получил название ЂЋангедокї (€зык Ђокї). ёжные районы были не только богаче, но и культурнее: здесь сохранились отголоски античных традиций, к которым добавились италь€нские, арабские и еврейские вли€ни€. ¬ XI веке все это породило изысканную культуру трубадуров, которые впервые за сотни лет сочин€ли стихи не на латыни, а на родном €зыке, воспева€ красоту прекрасных донн. ѕервым из трубадуров считалс€ дед јлиеноры √ильом IX.
јлиенора стала "прекрасной дамой" трубадуров. » этому, в общем-то, все благоволило: уже в п€тнадцать лет о ее красоте распевали все придворные поэты. сожалению, до нас не дошло ни одного ее достоверного портрета. ѕо скупым описани€м современников, можно заключить, что аквитанска€ наследница была невысокой, стройной, с удлиненным лицом и большими темными глазами. ≈е особенно украшали густые медно-рыжие кудри, то собранные в тугой узел под сеткой, то свободно спадающие на плечи. ¬от почему трубадуры выводили ее им€ от слов aigle en or Ч Ђзолота€ орлицаї. »скушенные в науке соблазнени€ придворные дамы научили ее пользоватьс€ косметикой, умащать кожу бальзамами и душистыми маслами, а главное Ч каждое утро умыватьс€ холодной водой, что считалось лучшим средством дл€ поддержани€ красоты. ¬озможно, не без оснований, поскольку поэты восхвал€ли јлиенору не только в юности, но и когда ей было далеко за семьдес€т.
ѕо сравнению с блест€щим аквитанским двором в ѕуатье королевский ѕариж выгл€дел тогда серым и скучным. ƒинасти€ апетингов находилась на престоле уже полтора века, но до сих пор ничем не прославилась. ≈е владени€ охватывали только »ль-де-‘ранс Ч Ђ‘ранцузский островї вокруг столицы, а на остальной территории хоз€йничали крупные феодалы. » все же король Ћюдовик VI “олстый считалс€ сюзереном герцога јквитании, владени€ которого были чуть ли не вдвое больше. “еперь он настаивал на браке јлиеноры со своим сыном, тоже Ћюдовиком. ѕодумав, южане согласились при условии сохранени€ вольностей дл€ их двор€н и городов. ¬ июле 1137 года в Ѕордо сыграли веселую свадьбу, на которой девушка, как тогда было прин€то, впервые встретилась со своим женихом. Ћюдовик был чуть старше (ему уже исполнилось шестнадцать), но казалс€ совсем мальчишкой Ч худой, бледный, не по годам серьезный. √оворили, что он часами молитс€, носит под камзолом жесткую влас€ницу и мечтает отправитьс€ в —в€тую «емлю, чтобы воевать против неверных.
ѕосле свадебной церемонии молодожены отправились в ѕариж, у ворот которого их встретило печальное известие: король Ћюдовик неожиданно скончалс€. “ак јлиенора стала королевой ‘ранции, поскольку ее муж зан€л трон покойного отца. Ќо это не принесло ей особой радости: как птица в клетке, красавица тосковала под каменными сводами дворца —ите, пока ее супруг заседал в совете или водил войско против непокорных сеньоров. Ќочные свидани€ с ним были редкими, и она никак не могла забеременеть.

јлиенора и Ћюдовик VII мол€т Ѕога даровать им сына.
» все же после молитв и купани€ в целебных источниках у јлиеноры родилась дочь ћари€. ∆еланного наследника не было, и придворные начали роптать, особенно когда скучающа€ королева стала приглашать ко двору провансальских трубадуров. Ёти наглецы не только свободно входили в ее покои, но и пели дл€ нее фривольные баллады на своем Ђокающемї €зыке. ј Ћюдовик и ухом не вел: то ли он действительно любил красавицу-жену, то ли не желал потер€ть ее громадные владени€.
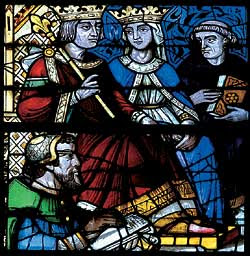
Ћюдовик VII принимает крест и отправл€етс€ во ¬торой крестовый поход.
—права Ч јлиенора и аббат —угерий. ¬итраж XIX века из аббатства —ен-ƒени
— крестом и мечом
¬озможно, королевска€ семь€ так и прожила бы в мире до конца дней, если бы не случай в городке ¬итри. Ўтурму€ его, войска корол€ сожгли церковь вместе с укрывшимис€ там жител€ми. ƒл€ богомольного Ћюдовика это было т€жким ударом Ч в знак раска€ни€ он обрилс€ наголо и полностью отказалс€ от супружеских об€занностей, а потом собралс€ в давно намеченный крестовый поход. тому времени ѕалестина и часть —ирии уже почти полвека находились в руках европейских рыцарей, что, естественно, не устраивало местных мусульман. —обрав мощную армию во главе с эмиром Ќуреддином, они захватили графство Ёдессу и угрожали самому »ерусалиму. Ёто побудило корол€ јнглии и императора √ермании отправитьс€ походом в —в€тую «емлю. Ћюдовик же со стотыс€чной армией двинулс€ в путь в мае 1147 года. — ним ехала и јлиенора, уговоривша€ мужа не оставл€ть ее одну в постылом ѕариже. ќтвергнув предложенную ей повозку, она проделала верхом большую часть пути в шесть тыс€ч километров через ≈вропу, ¬изантию и захваченную турками-сельджуками ћалую јзию. ≈е выносливость и отвага восхищали придворных: двига€сь впереди войска, она не раз встречала атаки врага, а однажды даже попала в окружение вместе с королем и была спасена только отча€нной атакой земл€ков-аквитанцев. √оворили и другое: будто бы, жела€ воодушевить войско, она выезжала ему навстречу в костюме амазонки, который оставл€л открытой грудь. онечно, грудь королевы могла воодушевить кого угодно, но Ћюдовик вр€д ли позволил бы жене такие вольности. ј слово мужа все еще было дл€ нее законом.
„ерез год поредевшее войско вступило в сирийскую јнтиохию, которой правил д€д€ јлиеноры –аймунд де ѕуатье. Ётот красавчик недавно женившилс€ на очарованной им вдове местного кн€з€. –аймунд и Ћюдовик объединили силы в войне, но оба оказались никуда не годными полководцами. √он€€сь по пустыне за легкой кавалерией сарацин, они понапрасну растратили силы, а потом зан€лись осадой ƒамаска, да так и не смогли его вз€ть. ∆изнь крестоносцев в јнтиохии скрашивали пиры, турниры и любовные свидани€. «десь собрались храбрейшие рыцари христианского мира, и немудрено, что сердце јлиеноры не усто€ло. ќдни считали ее любовником рыцар€ ∆оффруа де –анкона, другие Ч самого великолепного –аймунда. “о, что он был ее д€дей, не останавливало сплетников, да и саму королеву вр€д ли бы остановило. Ћюдовик, человек мрачный и внутренне слабый, и так давно раздражалс€, что его ослепительна€ и норовиста€ жена посто€нно смеетс€ и болтает с земл€ком –аймундом на непон€тном королю провансальском €зыке. ќткрыта€ размолвка между французским королем Ћюдовиком VII и его женой јлиенорой јквитанской произошла в 1148 году. ћало того, что королева своевольно отправилась на войну, мало того, что в јнтиохии она посмела вмешатьс€ в ход военного совета, она еще возвысила голос против собственного мужа. Ќо самое ужасное - јлиенора заспорила на стороне красавца –аймунда де ѕуатье, которого все подозревали в любовной св€зи с королевой. », наконец, когда спор зашел в тупик, јлиенора за€вила, что она со своими вассалами останетс€ помогать –аймунду.
ѕозже распространилс€ слух, что она принимала в своем шатре главного врага рыцарей, египетского султана —аладина, что было не более чем глупостью Ч в ту пору —аладин еще не был султаном и никакого участи€ в войне не принимал.
–аймунд де ѕуатье погиб в бою с сарацинами.

¬округ шептались, что любовь јлиеноры приносит несчастье, и все увереннее называли прекрасную южанку ведьмой.
ороль решил, наконец, расставить точки над i, но вз€лс€ за дело, как всегда, неуклюже. јлиенора дерзко ответила, что их брак недействителен с точки зрени€ церковного права, ибо они состо€т в слишком близком родстве.
Ёто был неожиданный ход: никто и не забывал, что у Ћюдовика с јлиенорой родство в дев€том колене, но обычно церковь смотрела на такое нарушениe канонов сквозь пальцы. ƒа и к чему было королеве вспоминать об этом на тринадцатый год супружества? ѕокинув —в€тую землю порознь, супруги вновь соединились у ног –имского ѕапы ≈вгени€ III, который разъ€снил им, что родство не помеха их браку, убедил начать отношени€ с чистого листа и даже собственноручно проводил супругов в спальню. ѕапа заставил королевскую чету спать на одной кровати, которую он за свой счет украсил драгоценными матери€ми. Ќа следующий год у них родилась втора€ дочь, јлиса, но, как это часто бывает, ребенок не скрепил, а окончательно разрушил зашатавшийс€ брак.
ѕрежнего довери€ между ними не было. Ћюдовик вежливо, но твердо отстранил жену от всех дел управлени€.
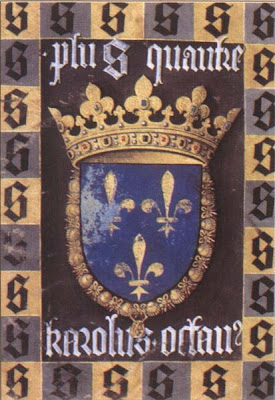
герб ‘ранции
«аперта€ во дворце, она радовалась редким развлечени€м, одним из которых стал визит графа јнжуйского с семейством. √раф ƒжефре, женатый на дочери корол€ јнглии, искал у корол€ поддержки в своих прит€зани€х на британский трон. ј его сын, 17-летний √енрих, тем временем любезничал с прекрасной јлиенорой, котора€ была на одиннадцать лет старше него. јнжуйцы славились буйным характером и привычкой брать то, что им хочетс€. Ќедаром их называли Ђдетьми дь€волаї. ѕо легенде, кто-то из их предков женилс€ на прекрасной фее ћелюзине, котора€ не могла войти в церковь и раз в неделю превращалась в змею. Ѕыло у них и другое им€ Ч ѕлантагенеты, поскольку ƒжефре всегда носил на шлеме веточку желтого дрока, по-латыни planta genista.
„то в те дни произошло между королевой и юным сыном графа, какие обещани€ они дали друг другу, мы никогда не узнаем. Ќо спуст€ некоторое врем€ после отъезда анжуйцев при дворе разразилс€ скандал: јлиенора потребовала у мужа развода. ѕредлогом стало то, что они находились в отдаленном родстве, что по церковным канонам преп€тствовало браку. ак будто все монархи «ападной ≈вропы не были друг другу родственниками!
–ождество 1151 года августейша€ чета встретила в јквитании. Ќеискушенным наблюдател€м казалось, будто супруги помирились, но более осведомленные знали: по всем област€м, которые относились к родовым владени€м јлиеноры, французских управл€ющих теперь смен€ют аквитанские. Ћюдовик был вне себ€ от €рости, но поделать ничего не мог. ¬ марте 1152 года суд признал брак расторгнутым, и јлиенора поспешила в ѕуатье, чтобы вернуть себе владени€. ѕо пути алчные феодалы дважды пытались похитить ее, чтобы насильно склонить к браку и завладеть герцогством јквитанским. Ќо Ђзолота€ орлицаї упорхнула от них пр€мо в руки своего избранника Ч √енриха јнжуйского. тому времени он уже стал графом после внезапной кончины отца: смерть в —редние века всегда была р€дом и приходила быстро.
» двух мес€цев не прошло, как французский двор был потр€сен вестью о новой неслыханной выходке своенравной јлиеноры: она вышла замуж за √енриха ѕлантагенета, графа јнжуйского и герцога Ќормандского. —опоставив кое-какие факты, Ћюдовик пон€л, что жена изменила ему с его вассалом еще в августе 1151 года, когда тот гостил в ѕариже. ороль за€вил, что јлиенора и √енрих как вассалы об€заны просить у него разрешени€ на брак, но неуемный, страстный герцог Ќормандии ни у кого ничего не собиралс€ просить. ¬ начавшейс€ войне он быстро разбил корол€.
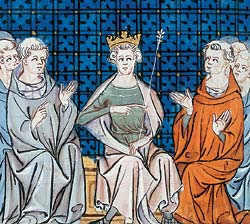
–азвод Ћюдовика VII с јлиенорой јквитанской. ћарт 1152 года. нижна€ миниатюра.
Ќа берегах јльбиона
¬ мае того же 1152 года влюбленные обвенчались в ѕуатье. ”знав об этом, Ћюдовик VII пон€л, что его обманули, нарушив заодно права сюзерена Ч по закону, и √енрих, и јлиенора как вассалы корол€ об€заны были получить у него разрешение на брак. ¬ гневе Ћюдовик двинулс€ походом на анжуйские владени€, но, как и большинство его предпри€тий, это ни к чему не привело. — гор€ король оп€ть предалс€ посту и молитве и лишь по насто€нию советников женилс€ на юной онстанции астильской, а после ее смерти Ч на не менее юной јдели Ўампаньской. “ем временем √енрих укрепл€л свою власть. ѕомимо јнжу ему досталась Ќорманди€, а теперь он завладел еще и јквитанией. Ќе довольству€сь этим, он вступил в войну со своим родственником —тефаном Ѕлуаским за английскую корону. ¬ окт€бре 1154 года —тефан умер, что сделало √енриха владыкой Ђјнжуйской империиї, занимавшей всю јнглию и половину ‘ранции.
√енрих был полной противоположностью нерешительному и набожному Ћюдовику. ¬о врем€ частых приступов гнева его обычно невыразительные серые глаза вспыхивали огнем, а в лице, по свидетельствам очевидцев, по€вл€лось Ђнечто львиноеї. ¬ остальном он мало напоминал корол€: невысокий, с бычьей шеей и широкими плечами, с круглым веснушчатым лицом и вечно растрепанными рыжими волосами, которые он коротко стриг из бо€зни облысеть. ќт анжуйских предков √енрих унаследовал буйный нрав, а от английского деда √енриха I Ч склонность к наукам. ’ронист ¬альтер ћап писал: Ђ огда руки корол€ не были зан€ты луком и стрелами, мечом или поводь€ми, он заседал в совете или корпел над книгамиї. Ёнерги€ √енриха была столь неудержима, что никто из придворных не поспевал за ним. ќн редко сидел и даже за обеденным столом то и дело вскакивал, торопливо глота€ недожеванные куски, одновременно выслушива€ доклады и прошени€.
Ќаконец-то јлиенора нашла мужа под стать себе. ¬месте с ним она скакала верхом, тороп€сь к месту очередной битвы или празднества. — ним обдумывала проекты новых законов и принимала просителей. ¬ государственном совете ее кресло было установлено р€дом с королевским. Ќе без ее вли€ни€ √енрих подтвердил все привилегии, дарованные английской церкви и городам. ¬новь заработала разлаженна€ за годы феодальных войн государственна€ машина: в графствах по€вились королевские судьи, стали собиратьс€ налоги, а на неспокойной границе с Ўотландией вновь встали дозоры. ¬ итоге, по словам хрониста, Ђвесь народ полюбил корол€, ибо он творил справедливость и установил мирї. ћир, правда, был относительным: √енрих посто€нно пыталс€ округлить свои владени€, балансиру€ на грани войны с Ћюдовиком ‘ранцузским и другими соседними корол€ми. ѕозже, в 1171 году, он вторгс€ в »рландию и положил начало британской колонизации этой страны. ¬прочем, патриотизм √енриха был весьма условным: как все монархи јнглии до XIV века, он не знал английского €зыка и говорил только по-французски.
≈го бедой были и вспышки гнева, при которых король мог совершать самые дикие поступки. ќднажды, поспорив с одним из придворных, он убежал в конюшню, где в €рости начал грызть солому. ƒругого придворного со шпагой в руках гон€л по всему дворцу. ќсобенно нетерпимо он относилс€ к любым пос€гательствам на свою власть, что и стало причиной конфликта с архиепископом ентерберийским “омасом Ѕекетом. √енрих сам рекомендовал его на высший церковный пост, но Ѕекет не захотел быть покорной марионеткой корол€. ак-то раз его €довита€ критика так взбесила √енриха, что он в раздражении воскликнул: Ђ огда же мен€ избав€т от этого человека?ї „етверо рыцарей из королевской свиты тут же отправились в ентербери и зарубили архиепископа пр€мо у алтар€. „тобы избежать отлучени€ от церкви, королю пришлось совершить унизительный обр€д пока€ни€.
Ёти событи€ мало затронули јлиенору, котора€ прилежно рожала королю детей. ”же летом 1153 года у нее родилс€ первый сын √ильом, проживший совсем недолго. «а ним на свет по€вились √енрих, –ичард, ƒжефре, ƒжон и три дочери Ч ћатильда, Ёлеонора и ƒжоанна. ¬се они провели детство в ѕуатье на попечении слуг и н€нек, а сама королева вела активную светскую жизнь. «ачитыва€сь балладами о короле јртуре, она основала в корнуоллском замке “интагел свой собственный Ђ руглый столї, за которым собирала рыцарей и поэтов, лучше других услужающих ей, своей Ђпрекрасной дамеї. –одив дес€терых детей, размен€в п€тый дес€ток лет, јлиенора слегка располнела, но сохран€ла привлекательность Ч должно быть, Ђпомогалаї холодна€ вода. –одив в 1167 году последнего сына ƒжона, она перебралась в ѕуатье, где создала Ђƒвор любвиї. ¬озможно, любовь эта была не только куртуазной: несколько трубадуров открыто похвал€лись близким знакомством с хоз€йкой Ђƒвораї. ≈ще больше было тех, кто от чистого сердца или ради выгоды воспевал ее красоту, сделав јлиенору насто€щим вместилищем совершенств , идеалом женщины —редневековь€. ќдин немецкий поэт, никогда не видевший ее, сочинил такие вирши:
Ђ огда б € был царем царей,
владыкой суши и морей,
Ћюбой владел бы девой.
я всем бы этим пренебрег,
когда б проспать бы ночку смог
— английской королевойї.
ћолва же сделала из јлиеноры насто€щую ћессалину, наделив ее множеством любовников. ¬ их число попал и маршал јнглии лорд ѕемброк, герой известной баллады Ђ оролева Ёлинорї, переведенной на русский €зык —амуилом ћаршаком. Ќо если все или почти все романы королевы были выдуманы, то ее муж измен€л ей на самом деле, причем совершенно открыто. — 1166 года его посто€нной пассией была прекрасна€ –озамунда лиффорд Ч легенды называют ее дочерью булочника. “е же легенды повествуют, как √енрих построил дл€ своей возлюбленной лабиринт в ¬удстокском дворце, чтобы коварна€ Ёлинор не погубила ее. Ќо та все же нашла путь к центру лабиринта и заставила –озамунду выпить €д. ќбвинение €вно надуманно: в 1176 году, когда Ђ–оза јнглииї умерла, јлиенора была в тюрьме, куда ее посадил собственный когда-то любимый муж.


«амок Ўинон
оролева-пленница
–азрыву между супругами помогли не только прекрасные глаза –озамунды, но и поведение их детей. ѕринцы выросли без отца, который был вечно зан€т, и не питали к нему особой прив€занности. тому же они не меньше √енриха были подвержены приступам Ђанжуйского гневаї, что превратило остаток жизни корол€ в насто€щий кошмар. ¬ 1173 году против него восстал его старший сын √енрих ћладший, который бежал к Ћюдовику ‘ранцузскому и с его войсками вторгс€ в јнглию. јлиенора попыталась бежать к нему, переодевшись в мужское платье, но была поймана и заключена в замок Ўинон, где провела почти дес€ть лет. онечно, она не сидела в душной камере и не спала на соломе Ч ей оставили штат слуг, а охране велели предоставить ей полную свободу в пределах крепостных стен.
“ем временем король разбил войско сына, натравив на него подросшего –ичарда, который уже получил свое прозвище Ћьвиное —ердце, но не столько за храбрость, сколько за жестокость в стремлении к власти. ¬ войну вв€залс€ и ƒжефре, причем какое-то врем€ брать€ сражались между собой к удовольствию отца. ¬ 1180 году умер Ћюдовик ‘ранцузский и королем стал его сын от третьей жены ‘илипп јвгуст Ч решительный юноша, пообещавший отобрать у корол€ јнглии его владени€ на континенте. ќн подбил принца √енриха на новое восстание, но в июне 1183 года тот заболел дизентерией и умер. “еперь наследником стал –ичард, которому отец уже подобрал жену Ч юную французскую принцессу јлису, котора€ по обыча€м тех лет воспитывалась при дворе жениха. ¬се испортило сластолюбие монарха, его анжуйское Ђздесь и сейчасї: соблазнив 17-летнюю невесту сына, он сделал ее своей любовницей. ”знав об этом, –ичард взбунтовалс€, заключил союз с ‘ранцией, и все началось сначала.
Ёти событи€ отражены в известной пьесе ƒжеймса √олдмена ЂЋев зимойї, экранизированной Ёнтони ’арви в 1968 году и јндреем ончаловским в 2003-м. ¬ первом фильме корол€ играет ѕитер ќТ“ул, а јлиенору Ч великолепна€ этрин ’Єпберн. ¬о втором роль королевы досталась оскароносной √ленн лоуз. ¬ обоих Ч монарший двор изображен змеиным гнездом, где все готовы в любую минуту предать друг друга ради власти. Ёто вр€д ли справедливо в отношении јлиеноры, котора€ выше всего ставила интересы сыновей (кроме нелюбимого ею принца ƒжона).
–аспри отца и сыновей остановило известие о вз€тии мусульманами »ерусалима. √енрих и ‘илипп ‘ранцузский засобирались в крестовый поход, но в процессе подготовки оп€ть прин€лись воевать друг с другом. ¬ решающий момент –ичард снова перешел на сторону французов (по слухам, этот €рый женоненавистник был любовником ‘илиппа). «агнанный, как волк, √енрих умер в июле 1189 года в Ўиноне, повтор€€: Ђѕозор, позор побежденному королюї. ≈го похоронили в соседнем женском монастыре ‘онтевро, исполнив давнее пророчество: Ђ ороль, так любивший женщин, и после смерти будет лежать с нимиї.
ѕоследние годы
”знав о смерти отца, –ичард первым делом велел освободить јлиенору из заточени€. ѕосле этого он пышно отпраздновал победу вместе с ‘илиппом јвгустом, а потом отправилс€ в очередной крестовый поход. »з дес€ти лет правлени€ он пробыл в јнглии меньше года, а остальное врем€ занимал себ€ славными и бессмысленными подвигами в —в€той «емле и других местах. ≈му не удалось освободить »ерусалим, а на обратном пути он попал в руки австрийского герцога, провел в темнице четырнадцать мес€цев и был отпущен только за громадный выкуп, окончательно опустошивший казну королевства. ћногие считали, что герцог заточил –ичарда по тайному соглашению с принцем ƒжоном, который управл€л јнглией в отсутствие брата и снискал дурную славу в народе Ч об этом напоминают легенды о –обин √уде.
јлиенора как могла помогала ему, без устали разъезжа€ между ‘ранцией и јнглией. —разу после отъезда –ичарда она съездила в »спанию, привезла оттуда юную Ѕеренгарию Ќаваррскую и, нагнав сына на —ицилии, женила его. ≈й так и не удалось дать јнглии наследника, поскольку Ћьвиное —ердце осталс€ равнодушным к красоте молодой жены.
ј королева не утратила энергии даже в 80 лет. »менно в этом возрасте она совершила новое путешествие за ѕиренеи, чтобы вывезти оттуда в ѕариж свою внучку Ѕланку астильскую, ставшую матерью корол€ Ћюдовика IX —в€того. ƒа и в других странах континента правило столько ее потомков, что историки с полным основанием называют королеву јнглии Ђбабушкой европейских монарховї.
јлиенора жила на взлете куртуазной культуры —редневековь€, впитав в себ€ все ее €влени€, будь то поэзи€ трубадуров, легенды о Ђ руглом столеї или рыцарский кодекс чести. Ётому кодексу она обучила –ичарда, оставив за ним в веках славу идеального рыцар€. ќна с горечью наблюдала, как успеха добиваютс€ те правители, которые отрекались от благородных идеалов в угоду Ђреальной политикеї, а именно Ч ‘илипп јвгуст и ее собственный сын ƒжон. –азоблача€ их козни, она никогда не могла, как в пьесе ЂЋев зимойї, пожалеть, что холодный и расчетливый ‘илипп рожден не ею. тому же он не любил трубадуров и прогнал их из своего дворца Ч этого она тоже не простила.

Ќадгробие јлиеноры и √енриха II в ‘онтевро
ѕохоже, под ее вли€нием непри€знью к бывшему союзнику проникс€ и –ичард. ¬ернувшись в 1194 году из плена, он зате€л войну с королем ‘ранции, под шумок присвоившим его земли. ѕ€ть лет прошло в осадах, стычках и турнирах, пока в апреле 1199 года Ћьвиное —ердце не был убит стрелой из арбалета, пущенной со стены осажденного им замка. ¬ластелином јнглии стал ƒжон, но скоро ‘илипп отн€л у него Ќормандию, јнжу и ћен, оставив только јквитанию Ч наследство јлиеноры. ѕозже восставшие бароны едва не прогнали его из јнглии, жители которой заклеймили обидным прозвищем Ч Ѕезземельный. Ќо јлиенора этого уже не увидела: она умерла в ‘онтевро 1 апрел€ 1204 года. ”мерла, как говор€т, от €рости, узнав о вз€тии французами ее любимого замка Ўато-√ай€р. Ёто стало вполне достойным завершением жизни вечной м€тежницы, пережившей не только мужей и сыновей, но и свою эпоху. јлиенора умерла в возрасте 82 лет (удивительно долга€ жизнь дл€ женщины того времени, матери 11 детей) и сыграла выдающуюс€ роль в истории јквитании. ќна могла бы сыграть крупную роль в истории ‘ранции, но судьба распор€дилась иначе. ¬се бумаги јлиенора подписывала УЌемилостью Ѕожьей королева јнглииФ.
ѕо мотивам:
–ежин ѕерну. јлиенора јквитанска€
¬адим Ёрлихман. јлиенора Ч м€тежница на троне>
|
ћетки: франци€ истори€ средние века |
| —траницы: | [2] 1 |








