То,что не было записано, того не существовало.
Юрий Кувалдин
старый дневник "Наша улица"
http://www.liveinternet.ru/users/4515614/
СТРОКА ПЕЧАТНАЯ ГАЗЕТНАЯ, КАК ПУЛЯ, ЛЬЕТСЯ ИЗ СВИНЦА |
На снимке: Юрий Кувалдин и Александр Тимофеевский
Александр Тимофеевский
РАССЫПАННЫЙ НАБОР
(Стихи 1949 - 2007)
ГИМН СМЕРТНИКОВ
Мы живем в большой тюрьме -
Вы, я, он и ты.
Наш грозный стражник смерть
Охраняет все посты.
Час, день, сутки, год -
Одиночных камер ряд,
Ровно три шага вперед
И три - назад.
Едва лишь тьма
Подкрадется из-за туч,
Вся огромная тюрьма
Запирается на ключ.
Опустилась ночи темь,
Клонит узников ко сну.
Лишь я целый день
Головой долблю стену.
Ах, зачем в этой тьме
Вечно камни я долблю -
Ведь на воле и в тюрьме
Нету той, что так люблю.
Но нельзя сутки, год,
Может сотни лет подряд -
Ровно три шага вперед
И три назад.
Бей лбом, лома нет.
За решеткою - ни зги,
Бей лбом по стене,
Чтоб прочистились мозги.
Лишь раз за всю жизнь
Выпускают нас во двор.
За моей спиной (РАЗ)
Глухо щелкает затвор.
В полукруг - взвод. (ДВА)
Я, взятый на прицел,
Дулам заглянул в глаза,
Песню гордую запел,
"Мы живем в большой тюрьме -
Вы, я, он и ты.
Наш грозный стражник - смерть
Охраняет все посты..."
И в ответ - залп (ТРИ)
Мне - вечной ночи жуть.
Сквозь решетку не смотри,
Как я, скорчившись, лежу.
Кто там подпоет:
"Одиночных камер ряд
Ровно три шага вперед
И три назад..."
Кто, прокляв тюрьму,
Камни будет век долбить,
Если даже ему.
Больше нечего любить.
Пусть бьет, хоть нет
За решеткою ни зги,
Бьет лбом по стене,
Чтоб прочистились мозги.
Потому что нельзя:
Годы, сотни лет подряд -
Ровно три шага вперед,
И три назад.
1952
***
Знаешь, что такое старость -
Старость, когда в сердце лед,
Водка с праздников осталась,
Но ее никто не пьет.
2006
***
Был вечер звездами прострочен.
Богатый силой нерастраченной,
Казалось, он набросок ночи,
Ночь нарисованная начерно.
Ветра капризничали, дулись,
И облака в платочки комкали.
Дома на спинах сонных улиц
Болтались душными котомками,
В них с лицами осоловелыми
И затуманенными взорами
Из окон выглянуть не смели мы,
Обмануты своими шторами.
1949
***
Поможем зимующим птицам,
Раз в жизни послжим добру,
Сведем их к веселым девицам,
Дадим им коньяк и икру.
Зимующим птицам поможем,
Устроим им лето зимой,
Охотника съездим по роже,
И всех их отправим домой.
Пускай им не лепят измену,
Пускай им срока не дают,
Пусть едут в австрийскую Вену,
Еврейские песни поют.
1986
***
Не люби меня за то, что
Взгляд, мой полный жадной власти,
Заблестит порою точно
В нем жива тоска по счастью.
Словно слов не надо лишних,
Словно я зову к такому,
Что не вычитаешь в жизни,
Не узнаешь у знакомых,
Словно спрашиваю взглядом,
Словно требую ответа,
Я прошу тебя - не надо,
Не люби меня за это,
Просто я вскочил со стула,
Сделал резкое движенье,
И в глазах моих мелькнуло
Яркой лампы отраженье.
1972
***
Я все кого-то искушаю,
Кирпич за пазухой таю,
Чужое счастье разрушаю,
А своего - не создаю.
Я все стучусь в чужие двери,
И на чужой огонь бегу,
Чтоб кто-то так в меня поверил,
Как сам я верить не могу.
Поверил жертвенно и строго,
Ну, хоть на час, на полчаса,
Поверил бы в меня как в бога,
Чтоб стал я делать чудеса.
И мучусь нощно я денно
Тщеславной праздною мечтой,
И все надеюсь, что одену
Сухую жердь живой листвой.
1961
СЕКС
Дышало море ласково как телка,
Пылал звездами черный небосвод,
В гирляндах как рождественская елка
Куда-то плыл какой-то теплоход.
А женщина спиной ко мне стояла,
Открывши зад без всякого стыда,
И мимо проезжающим кричала. -
Эй, вы! А вас никто так никогда!
1975
ДОНОС
Климу Ворошилову
Письмо я написал -
Товарищ Ворошилов,
Народный комиссар!
Слышал я, соседи
Затеяли войну,
Хотят они разрушить
Нам дверь или стену.
Товарищ Ворошилов!
Соседей проучи,
Они в душе евреи
И тайные врачи.
1952
МОСКВА В 1961 ГОДУ
А город мой в буржуи лезет,
Он зол т моложав на вид,
Он на задворках куролесит,
А на проспектах деловит.
Он моден и вполне вульгарен,
Как Евтушенко и Гагарин,
Лишь я в него входу как в терем,
Не замечая перемен,
И даже толком не уверен,
Что, в общем, я абориген.
1961
***
По дорогам ветрами и солнцем спаленным
Спотыкаясь и падая и сбиваясь с пути
Вечно буду искать я свое, ненайденное,
То, которое мне никогда не найти.
1952
***
Я исчерпал свой срок,
Иссяк - и стоп машина.
Моих земных дорог
Осталось три аршина.
В Астапово. Тайком.
Все бросив. Третьим классом.
Простыть под сквозняком,
Отведав хлебца с квасом,
И, уходя во тьму
И смертную истому,
Успеть шепнуть Ему,
Ну, все... теперь я дома.
1990
***
Молитва должна быть безмолвной.
Безмолвно молитесь в тиши.
Иначе он будет неполным -
Момент возвышенья души.
Такая случается штука,
Вдруг мокро щеке и тепло.
Не надо ни слова, ни звука,
Чтоб сердце в любви истекло.
1980
***
Я сижу в доме один
В красоте свих седин.
Вдруг приходят два мента,
Вынимают два винта
И мине стреляют в грудь,
Чтоб я закончил свой жизненный путь.
Тут приходят Кеп и Боб
И мине все ложат в гроб,
Чтоб я в ем лежал один
В красоте своих седин.
2005
***
Я так устал всю жизнь калечить слово,
Я так устал от вечных распрь с судьбой.
От неба беспросветно голубого,
От беспросветной глупости людской.
Вот говорят, что мой талант зачах,
А был ли смысл в отделке и отточке.
Когда я лгу во всех своих стихах
И даже в этой, самой честной строчке.
Давным-давно за тысячу морей,
За море губ и ласковых отметин
Остался я у хлопнувших дверей
Влюбленный в самую хорошую на свете.
Но мне не грустно, я, пожалуй, рад,
Что не построены еще у нас в Союзе
Машины, уводящие назад,
В далекий мир мечтаний и иллюзий,
В стране, какую в век не исходить,
Как к материнской кофточке поношенной
Хотел я лоб горячий приложить
И в громком крике сердце растворить
Для всех людей - пустых, дрянных, хороших.
Но что им я - они услышат звук...
А мысль! Ведь мысль острее, тоньше, выше!
За сотни верст, за тыщи верст вокруг
Нет никого, кто мог бы мысль услышать.
1952
***
Ю.Н.
Цивилизация кончается.
Землетрясения, цунами,
Несчастный шарик наш качается,
И, видимо, Господь не с нами.
Не так пробил в яичке дырочку,
Не ту включил, должно быть, музыку -
Крутнет штатив, возьмет пробирочку,
И вместе со всем миром - в мусорку.
Потом очистит стол от копоти,
Протрет его сухою тряпочкой,
Досье о неудачном опыте
Допишет и уложит в папочку.
Закончены дебаты-прения,
Прощайте, девочки и мальчики,
Останется лишь слава гения,
Как бабочки пыльца на пальчике.
2005
ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ УРОЛОГА
Я сегодня всем доволен,
Просто праздник у меня,
Если спросят, чем ты болен? -
Я отвечу, - так, хуйня.
2006
***
Непрочитанные поэты -
Все мы пасынки злой судьбы,
Перед нами склеп интернета,
Блогов сумрачные гробы.
В них лежат стихов наших тени -
Отшумевших страстей итог -
Ждут, что, может быть, их заденет
Мышки остренький коготок.
2007
***
Из киоска жирною улиткой,
Яростным фламандским натюрмортом
Вылезла старуха одесситка,
Руки в боки упирая гордо.
Но какой Ван Дейк, какою кистью
Описал бы рук ее небрежность,
Камбалы коричневые листья
И креветок розовую нежность.
Мир, где бабы в фартуках засаленных
О бычках кричат на все лады,
Где лазурной скумбрией завалены
Долгие рыбацкие ряды.
1953
ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
I
Я наблюдал движение светил
На нашем низком зыбком небосклоне
И грозный их парад не пропустил,
Знамений в небесах не проворонил.
Твои стихи несут какую весть,
О чем они? - друзья меня спросили.
Я отвечал - пишу о том, что есть,
Мои стихи как небо над Россией.
II
Я рассказал, я не умел таиться
Про то, как мир сводил меня с ума.
В моих стихах мелодия таится
И, может быть, поэзия сама.
Но заняты другим казненных внуки
И внуки стукачей и палачей,
Им не нужны и на фиг эти звуки,
И не понятен смысл моих речей.
2006
***
Меня за что, я сам не знал,
За нрав, должно быть, мой
Судил небесный трибунал
По "пятьдесят восьмой".
За то, что лишнее сболтнул
В гостях навеселе
Отбыть я должен жизнь одну
На каторжной земле.
Я здесь, друзья, в последний раз,
К концу идет мой срок.
А вот на сколько жизней вас
Сослал на землю Бог?
1957
ЧТО Я УВИДЕЛ, КОГДА МОИ ДРУЗЬЯ УШЛИ В ТЕАТР
Глянь на небо - птички летят,
колокольчики звенят
(Из свадебного обряда)
Горизонта просто нету -
Даль настолько далека.
По всему пространству неба
Разметались облака.
Облака с землей согласны
И плывут белым-белы.
Словно ангелы прекрасны
И как дети веселы.
Вы - в театре, я - в театре,
То, что видим, делим на три -
Поле, лес и небосвод.
В небе птички-невелички,
Колокольчики и птички,
Глянь, и никаких забот.
В новом небе небывалом
Ходят тучки нагишом.
Вы - в театре очень малом,
Ну, а я - в большом, большом.
2007
"НАША УЛИЦА" № 100 (3) март 2008
|
|
ЭПИЧЕСКИЙ ВАГРАМ КЕВОРКОВ. ВРЕМЯ ПРОХОДИТ. СЛОВО ОСТАНАВЛИВАЕТ МГНОВЕНЬЕ. |
17 апреля 2008 года в 18-30 писатель Ваграм Кеворков начал длительное празднование своего 70-летнего юбилея торжественным литературно-художественным вечером в Центральном доме литераторов под руководством писателя Юрия Кувалдина. Обладая жизненным опытом на двадцать томов, Ваграм Борисович Кеворков начал штурм литературы в последнее десятилетие, воплотив этот яростный и прекрасный штурм в превосходную книгу высокохудожественной прозы. Впрочем, ранние писательские старты или поздние не имеют равно никакого значения для обретения бессмертия души. Его отец армянин Багдасар Геворкян стал выдающимся русским артистом Борисом Кеворковым. Аромат чудесной прозы пятигорца Ваграма Кеворкова напоминает мне лирическую стилистику чегемца Фазиля Искандера. Для меня ясно одно - писатель Ваграм Кеворков сразу занял свое почетное место среди бессмертных. Чтобы убедиться в этом, читайте мое послесловие к его выдающейся книге "Романы бахт" (Цыганское счастье).
Юрий КУВАЛДИН

Писатель Ваграм Кеворков надписывает свою книгу "Романы бахт"

Писатель Юрий Кувалдин и писатель Ваграм Кеворков у афиши вечера

Писатель Ваграм Кеворков у стенда с его книгой среди других книг в фойе ЦДЛ

Писатель Ваграм Кеворков и писатель Юрий Кувалдин в президиуме вечера

Заслуженный артист России Александр Чутко

Заслуженный артист России Александр Чутко, писатель Андрей Яхонтов, поэтесса Нина Краснова
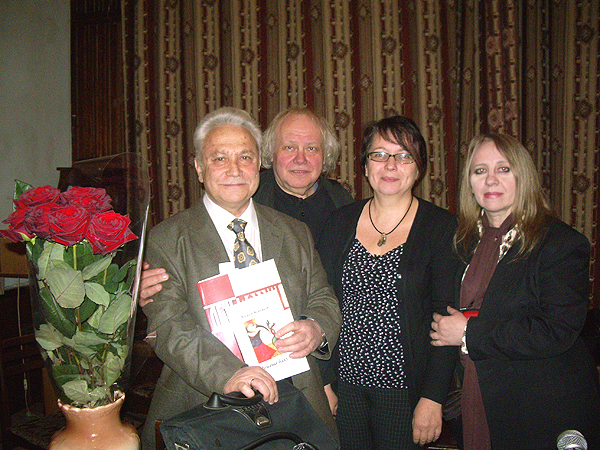
Писатель Ваграм Кеворков, артист Александр Чутко, писательница Людмила Чутко, поэтесса Нина Краснова

Писатель Юрий Кувалдин и академик рецептуализма Слава Лён

Писатель Юрий Кувалдин и писатель Сергей Михайлин-Плавский

Писатель Виктор Кузнецов-Казанский

Академик Слава Лён и скульптор Ольга Победова

Журналист, публицист, поэт Виктор Широков и писатель Александр Хорт

Писатель, член-корреспондент Российской академии наук Владимир Скребицкий, писательница Людмила Чутко, на дальнем плане - писатель Андрей Яхонтов и артист Александр Чутко
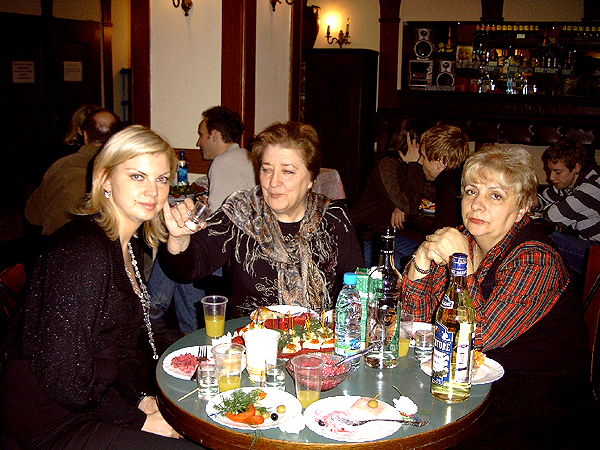
Жена художника Александра Трифонова - Татьяна Трифонова, директор издательства МХТ им. А.П.Чехова Анна Анатольевна Ильницкая, ведущий редактор Центрального телевидения Наталья Молчанова

Художник Александр Трифонов рассказывает о замысле оформления книги писателя Ваграма Кеворкова "Романы бахт" и воплощении в жизнь этого замысла

Художник Александр Трифонов у праздничного стола, накрытого писателем Ваграмом Кеворковым в год своего 70-летия в ЦДЛ

Художник Александр Трифонов ведет телевизионную запись вечера

Художник Александр Трифонов, его жена Татьяна Трифонова, писатель Андрей Яхонтов, директор издательства МХТ им. А.П.Чехова Анна Анатольевна Ильницкая, ведущий редактор Центрального телевидения Наталья Молчанова

Член-корреспондент Российской академии художеств скульптор Ольга Победова, художник Валерий Петрович Валюс, писательница Марина Сальтина, писатель Виктор Кузнецов-Казанский

Писатель Андрей Яхонтов, поэтесса Нина Краснова

Писатель Юрий Кувалдин и писатель Ваграм Кеворков возглаляют юбилейное застолье
|
|
монография о личности Федора Крюкова |
Нина Краснова
ФЕДОР КРЮКОВ и ЮРИЙ КУВАЛДИН
эссе
“Певец Тихого Дона Федор Крюков” - это не статья в привычном смысле слова, а художественная монография о личности Федора Крюкова и о его творчестве.
“В 1970-х годах в просвещенном литературном кругу”, в который входил и Кувалдин, “только и разговоров было, что об авторстве “Тихого Дона”. Авторство это в течение всего советского времени официально приписывалось Шолохову, который отхватил за этот роман Нобелевскую премию и вошел в сонм советских классиков. Но, как писал Солженицын в 1974 году, мог ли полуграмотный парень с 4-мя классами начальной школы, “юный продкомиссар... московский чернорабочий и делопроизводитель домоуправления на Красной Пресне”, в 23 года создать “произведение на материале, превосходящем свой жизненный опыт и свой уровень образованности”? Когда и сам Толстой не мог в 23 года написать такое? И сам Пушкин? Нет, такой труд “мог быть подготовлен только долгим общением (автора) со многими слоями дореволюционного донского общества”. И этим автором был не малограмотный представитель социальных низов, который не знал, в какой руке и с какого конца ручку держать, который еще не только писать, но и читать не научился, - люмпен, казак не казак, - а просвещенный, интеллигентный человек, высочайшей культуры и образованности, казак высокого ранга, сын донского атамана, окончивший Петербургский университет, преподаватель русской словесности, учитель поэта Серебряного века Тинякова, член 1-й Государственной Думы, автор множества книг и статей о тихом Доне (тихий Дон - это старинная идиома, а не неологизм автора “Тихого Дона”), о казачестве, о жизни казачества, которые он написал задолго до самого романа, автор, а потом и сотрудник журнала Короленко “Русское богатство”, оцененный и самим Короленко, и Горьким, и земляком и приятелем Крюкова Серафимовичем еще тогда, когда Шолохов, который был на 35 лет моложе его, под стол пешком ходил, Федор Крюков. Но он был белогвардеец, служил в армии Деникина, был врагом советской власти и, естественно, не подходил под марку советского писателя по своей биографии, был “не в формате”, как сказали бы сейчас, не укладывался в схему. Он умер от сыпного тифа в 1920 году, на Кубани, в 50 лет, когда отступал с войсками Деникина к Новороссийску. И когда умирал, больше всего волновался о сундучке со своими рукописями, который он возил с собой. Он боялся, что они пропадут. Среди них (или среди других его бумаг, которые остались в Петербурге?) была и рукопись романа “Тихий Дон”, над которым он работал все последние годы и который, по словам Боцяновского, однокурсника Крюкова, был главным делом его жизни. Но рукописи не горят. Ими воспользовались литературные фабрикаторы (так и хочется сказать - литературные “бандиты”) во главе с Серафимовичем, автором “Железного потока”, литературные “кузнецы”, которые ковали не “ключи” “счастия”, а, так сказать, писателей из народа, “романистов от сохи”, для галочки, чтобы показать и доказать миру силу советской власти, то есть они делали из тех, “кто был ничем”, тех, кто “станет всем” (а по сути - все равно никем: “кто был ничем, тот стал никем”), и вот через восемь лет, в 1928 году, откуда ни возьмись, в печати появился роман “Тихий Дон”, но только не под фамилией Крюкова, а под фамилией Шолохова, о котором и слыхом не слыхивали в литературной среде. Это как если бы роман Кувалдина “Родина” появился под фамилией какого-нибудь пэтэушника или пусть не пэтэушника, а молодого автора с высшим образованием, но который никак не мог бы написать такой роман, ни в двадцать с лишним лет, ни в пятьдесят, даже если бы от природы и был талантлив. Кувалдин не один год работает с авторами своего журнала “Наша улица”, и его на мякине не проведешь.
Целых 30 лет он по крохам собирал материалы о Крюкове, из разных источников. И собрал бесценные материалы. И использовал их в своей монографии, как летописцы использовали в своих летописях материалы других летописей и включали их в свои. У Кувалдина его монография получилась как сводная летопись. И как докторская диссертация. Там есть все, что касается Федора Крюкова, и читателям не надо рыться в разных источниках, в разных библиотеках и архивах и по крохам собирать сведения о нем. Они все найдут у Кувалдина.
В 1988 году по инициативе Кувалдина “Советская Россия” начала готовить, а в 1990 году издала толстую книгу рассказов и публицистики Федора Крюкова, тиражом 100 тысяч экземпляров. И Кувалдин звонил об этом писателе во все колокола...
В своей монографии о нем он подробно анализирует его прозу, которая говорит о том, что перед нами “истинный художник”, который в совершенстве владеет русским языком и все время работает над словом, над фразой, над образом, над композицией... “поэт прозы”, которая во многом близка к ритмической и имеет свою кантилену, как, например, в отрывке о родном крае:
“Кресты родных моих могил, и под левадой дым кизячий, и пятна белых куреней в зеленой раме рощ вербовых, гумно с буреющей соломой и журавец, застывший в думе, - волнуют сердце мое сильнее всех дивных стран за дальними морями, где красота природы и искусство создали мир очарованья...”
А с каким мастерством Крюков изображает в своей прозе любовь между женщиной и мужчиной, которая является у него там “первопричиной жизни”, и любовные сцены между ними, и красоту обнаженного тела женщины. Кувалдин показывает это, цитируя, например, такие отрывки из рассказа Крюкова “Зыбь”:
“Хотелось ему сказать ей что-нибудь ласковое, от сердца идущее, но он конфузился нежных, любовных слов. Молчал и с застенчивой улыбкой глядел в ее глаза... Потом, молча, обнял ее, сжал...
...Она быстрым движением расстегнула и спустила (свою) рубаху с левого плеча. Голое молодое тело, свежее и крепкое, молочно-белое при лунном свете, небольшие, упругие груди с темными сосками, блеснувшие перед ним бесстыдно-соблазнительной красотой, смутили вдруг его своей неожиданной откровенностью”.
А как Крюков строит диалоги своих героев. Кувалдин и это показывает:
“ - ...свекор, будь он проклят, лютой, как тигра... Бьет (меня), туды его милость!..
- Вот сукин сын! - снисходительно-сочувствующим тоном проговорил он после значительной паузы. - За что же?
- За что! Сватается... а я отшила...”
Кувалдин всегда обращает внимание “не на то, что говорит персонаж, а на то, как он это говорит”. На этом “как” и проверяется художник - художник он или нет. Кувалдин навскидку выбрал несколько примеров из разных вещей Крюкова, чтобы было видно, кто как у него в прозе говорит. И выписал эти примеры в столбик, 18 примеров. Студент (“Казачка”) заговорил у Крюкова, “вставая с места”... Старичок (“Встреча”) заговорил у него, “быстро и оживленно поглядывая своими проворными и наивными глазками на стоявших и сидевших вокруг тачки людей”. Старший надзиратель (“Полчаса”) кричит “тонким, раздраженным голосом” и, “несколько понизив голос, прибавляет длинное непечатное слово”. Бунтиш (“Счастье”) говорит “всхлипывающим голосом”, “утирая нос пальцами”. Уляшка (“Душа одна”) говорит, “сверкая зубами и глазами, изгибаясь от смеха”. Никиша (“Зыбь”) говорит “грустно”, “прислушиваясь к ровному шуму ветра в голых ветвях и монотонному чиликанью какой-то серенькой птички”. И т. д.
Кувалдин самими текстами Крюкова, а не голыми словами показал, какой это крупный художник. И что только такой художник, а не безграмотный ликбезовец, который даже информацию в газету путем не мог черкнуть и двух слов не мог связать, только писатель ранга Крюкова и мог написать “Тихий Дон”.
И такого писателя “шолоховеды” (от шелухи? “шелухисты”?) пытались “запхать” и спрятать в мешок, чтобы никто никогда не узнал о нем. Но шила мешке не утаишь, а крупного писателя и подавно. И все тайное когда-нибудь станет явным. Вот оно и стало явным. Кувалдин в своей монографии, которую он написал по принципу “выжженной местности”, то есть так, что после него и добавить больше нечего, расставил все точки над “і” и закрыл тему авторства - и соавторства - “Тихого Дона”. Доказал, кто автор, а кто - всего-навсего непрошеный соавтор-самозванец, который присвоил себе плоды чужого труда, да еще испортил их. Все пытался подделать их под себя. Но, как говорит Кувалдин, “подделать можно все, что угодно, кроме тональности, кантилены”. И потому не надо быть большим ученым, чтобы обнаружить “расслоение текста” в “Тихом Доне” и отделить овнов от козлищ, текст Крюкова от текста не Крюкова, а Шолохова со товарищи (или - точнее - Серафимовича со товарищи).
Композитор Глазунов дописал за Бородина его оперу “Князь Игорь”, которую тот не успел дописать. Но он не выдавал себя за автора этой оперы и даже за соавтора. И многие композиторы дописывали за своих друзей их сочинения, но никто не приписывал себе их авторство.
А взять чужое произведение - шедевр, изломать, испортить его своим малоталантливым, если не бездарным пером (и чужими такими же перьями) и выдать себя за его автора, а истинного автора убить и похоронить, чтобы никто никогда не откопал и не вспомнил его и даже имени его не знал... для этого надо быть не просто мелким воришкой и мошенником, а особо опасным преступником, ООП.
Кувалдин ставит Федора Крюкова в один ряд с такими писателями, как Андрей Платонов, Осип Мандельштам, Михаил Булгаков... И по праву. В этом же ряду стоит и сам Кувалдин.
В сокращенном варианте “Певец Тихого Дона” Кувалдина напечатан в “Независимой газете” прямо в день рождения Крюкова, 3 февраля 2005 года, а в полном варианте - во 2-м - февральском номере - журнале “Наша улица” за этот же год.
“Терпи, казак, атаманом будешь”... - гласит народная пословица. А Короленко писал Крюкову в печальное для своего младшего коллеги время: “Терпи, казак, будучи одним из атаманов “Русского богатства”. А “Независимая газета” озаглавила эссе Кувалдина о Крюкове “Терпи, казак, ты же - атаман”. Все вытерпел казак Крюков. И вот он поднялся из гроба и “вскочил на коня своего” и въезжает на этом белом коне в большую литературу... Едет “шагом по улице, “плавно покачиваясь” в седле, оглядывается на своих читаталей, которые смотрят на него “с любопытством дикарей”. И с “левой стороны” лица у него “лихо” торчит “чуб”, а лицо у него “наивно-добродушное”... И читатели кричат ему “ура” и поздравляют его со 135-летием! А кто-то в это же самое время поздравляет Шолохова с его 100-летием, в том числе все шолоховеды, которые семьдесят лет кормились им, своими трудами о нем, и кто-то гордится тем, что когда-то заснялся с ним вместе на фото, а кто-то гордится тем, что заснял его для фотогалереи Союза писателей СССР как живого классика.
...Один из авторов журнала “Наша улица”, доктор филологических наук Валерий Сердюченко под впечатлением монографии Кувалдина “Певец “Тихого Дона Федор Крюков” написал статью “Шолохов и вокруг. В последний раз”, где он разделяет взгляд и мнение Кувалдина на проблему авторства романа и подкрепляет все это соответствующими дополнительными фактами.
"НАША УЛИЦА", № 5-2005
|
|
КТО МОЖЕТ ИСЦЕЛИТЬ ТЕБЯ |
Юрий Кувалдин
ПЛАЧ ПО КРЕМЛЮ
рассказ
У меня за спиной шелестел нарисованный рай…
Александр Еременко
Хороши же придворные прорицатели, которые предсказывают лишь назад, рисуют картину русского величия, правопреемства от жреца фараонов Моисея, сделав русскую историю самой древней на земле! Патриоты из кунсткамеры! Заглубление патриотизма проще пареной репы! Наворачивай пустопорожнее и гламурное! Но при этом прорицатели не могли сказать ни слова вперед, когда рухнет империя, чтобы предотвратить падение России, и изрекали откровения ложные, приведшие государство к падению. Так и надо. Ибо не будет больше на земле государств. И прокляты будут те, кто обороняют границы от подобных себе, тормозят дело любви Господа к воссоединению России с Америкой, Китая с Польшей, Полинезии с Антарктидой… Руки вздымают к небу народы, идущие к одному языку, к миру без границ. А пока свищут и качают головою своею гастарбайтеры в Москве, говоря: "Это ли город, который называли совершенством красоты, радостью всей земли?" Разинули на тебя пасть свою все враги твои из вертикали власти, свищут и скрежещут зубами, говорят: "Поглотили мы его, только этого дня и ждали мы, дождались, увидели!" Совершил Господь, что определил, исполнил слово свое, изреченное в древние дни, разорил без пощады и дал чиновникам порадоваться над тобою, вознес рог неприятелей твоих.
Я сидел на горе, нарисованной там, где гора.
У меня под ногой (когда плюну - на них попаду)
шли толпой бегуны в непролазном и синем аду,
и, как тонкие вши, шевелились на них номера…
Чей это голос был? О, я узнал этот голос. Это голос великого поэта из водоохранной зоны Патриарших прудов Александра Еременко. Велик город Москва, но как одиноко в нем поэту, незаконно сочиняющему стихи в водоохранной зоне. Кремль на Москве-реке строился без разрешения с самого начала. Проще говоря, построен был Кремль в водоохранной зоне Москвы-реки с грубыми нарушениями природоохранного законодательства. Так, по данным татаро-монгольских ведомств, в документах отсутствовало положительное заключение варяжской экологической экспертизы, а также обязательные согласования с Ватиканом и тевтонским орденом. Несмотря на это, Кремль огородился крепостной кирпичной стеной самовольно. Вот так без всяких разрешительных документов доисторическая деревенька на Москве-реке между Яузой и Неглинкой превратилась в центр угрозы просвещенной Европе, и даже заокеанской Америке. Исходя из приведенных фактов, "город", или Кремль, подлежат сносу как самовольное строение в водоохранной зоне. Как помрачил Господь во гневе своем сына Москвы, с небес поверг на землю красу России и не вспомнил о поэте в день гнева своего!
У меня за спиной шелестел нарисованный рай,
и по краю его, то трубя, то звеня за версту,
это ангел проплыл или новенький, чистый трамвай,
словно мальчик косой с металлической трубкой во рту…
Над никогда ни в какие морозы не замерзающей Москвой-рекою, отравленной нефтью и химическими реагентами, одиноко стоит Москва, некогда многомиллионная. Потому что Москва никому не нужна. Все поехали основывать новую столицу в Орду, юридически по постановлению Басманного суда принадлежащей России. Сердце их вопиет к Господу: стена плача Кремля, лей ручьем слезы день и ночь, не давай себе покоя с флагами в руках, с портретами членов политбюро, не спускай зениц очей твоих! Вставай, взывай ночью, при начале каждой смены почетного караула; изливай, как воду, сердце твое пред лицом Господа; простирай к нему руки твои о душе поэтов твоих, издыхающих без похмелки на углах всех улиц! "Воззри, Господи, и посмотри: кому ты сделал так, чтобы поэты сидели без водки, воспетой ими, чтобы убиваемы были в святилище не рожденные еще строки и целые стихотворения? Дактили и хореи лежат на земле по улицам; сонеты мои и поэмы пали от немоты; трезвость убивала их в день гнева твоего, заколола без пощады.
И пустая рука повернет, как антенну, алтарь,
и внутри побредет сам с собой совместившийся сын,
заблудившийся в мокром и дряблом строенье осин,
как развернутый ветром бумажный хоккейный вратарь…
Ты срочно созвал отовсюду, как на престольный праздник, галлюцинационные ужасы мои, и в день гнева Господня никто не спасся, никто не уцелел; тех, которые были мною вскормлены и выращены, враг мой истребил. Сложные явления миража с резким искажением вида предметов носят название Плача у стен Кремля. О, стена Кремля, стена плача! Я человек, испытавший горе от жезла гнева властей. Они повели меня и ввели во тьму, а не во свет. Так, они обратились на меня и весь день обращают руку свою; измождили плоть мою и кожу мою, сокрушили кости мои; огородили меня и обложили горечью и тяготою; посадили меня в темное место, как давно умерших; окружили меня стеною, чтобы я не вышел, отяготили оковы мои, и когда я взывал и вопиял, задерживали меня; каменьями преградили дороги мои, извратили стези мои.
Кто сейчас расчленит этот сложный язык и простой,
этот сложенный вдвое и втрое, на винт теоремы
намотавшийся смысл. Всей длиной, шириной, высотой
этот встроенный в ум и устроенный ужас системы…
Они стали для меня как бы медведи в засаде, как бы медведи в Думе; извратили пути мои и растерзали меня, привели меня в ничто; натянули лук свой и поставили меня как бы целью для стрел; послали в меня стрелы из колчана своего. Я стал посмешищем для всего народа моего, вседневною песнью их. Господь пресытил меня горечью пива, напоил меня полынью вермута. Сокрушил воблой зубы мои, покрыл меня пеплом «беломора». И удалился мир от души моей; я забыл о благоденствии, и сказал я: погибла сила моя и надежда моя на Господа.
Вот болезненный знак: прогрессирует ад.
Концентрический холод к тебе подступает кругами.
Я смотрю на тебя - загибается взгляд,
и кусает свой собственный хвост. И в затылок стучит сапогами.
Я обновляюсь каждое утро; велика верность твоя! Господь часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на него. Благ Господь к надеющемуся на него, к душе, ищущей его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Благо человеку, когда он несет иго творчества своего; сидит уединенно и молчит, ибо он наложил его на него; полагает уста свои в прах, помышляя: "Может быть, еще есть надежда"; подставляет щеку свою бьющему его, пресыщается поношением, ибо не навек оставляет Господь.
И в орущем табло застревают последние дни.
И бегущий олень зафиксирован в мерзлом полене.
Выплывая со дна, подо льдом годовое кольцо растолкни -
он сойдется опять. И поставит тебя на колени,
Как часто люди сегодня, сделав дело так, что не могут себя ни в чем упрекнуть, бывают этим удовлетворены. Но это элементарная установка. Ибо в творчестве дело не заключается в упреках или в их отсутствии, а в объективном созерцании текста книги и объективного хода метафор произведения, развития характеров. Поэтому именно на почве духовного служения должна быть подчеркнута призрачность вещного мира, когда мы говорим, что поэт подготовляет свое преображение, как он его подготовляет и как он должен к нему относиться. В подобных вопросах дело совсем не заключается в том, чтобы говорить себе: «Мы сделали то, либо это, и теперь нам не в чем упрекнуть себя», - но мы должны познавать суть дела субъективно. Мы должны познавать то, что действует в произведении, и в соответствии с этим строить наше отношение к построению следующего произведения, поводом к которому является жизнь как таковая. Судить правильно человек может сегодня лишь в том случае, если скажет себе, что он ходит между двух крайностей: между поэтическим ослеплением и прозаическим галлюцинационным переживанием внутреннего. Дело заключается в том, чтобы поэтическое и прозаическое рассматривать как две чаши весов, обе должны присутствовать. Коромыслом же весов, которые пребывают в равновесии, должен быть сам художник. В этом все дело. Но как нам себя воспитать для этого? А так, что, когда в нас выступит поэтическое, мы должны сильно пронизать его прозаическим элементом. Что поэтически выступает в современном человеке? Наиболее поэтическим является материальное познание внешнего мира, ибо это лишь простой обман чувств. Но если мы можем этим одухотворяться, развить к этому интерес, ужасно заинтересоваться тем, какие иллюзии встают перед нами из химии, физики, из астрономии и так далее, тогда нечто такое, что должно бы принадлежать поэту, мы уносим от него благодаря нашему собственному прозаическому интересу. Еще раз говорю, что благо человеку, когда он несет иго творчества своего; ни единого дня не проводит без строчки; сидит уединенно и молчит; полагает уста свои в прах, помышляя: "Может быть, еще есть надежда".
где трехмерный колодец не стоит плевка,
Пифагор по колени в грязи, и секущая плоскость татар.
В этом мире косом существует прямой пистолетный удар,
но, однако, и он не прямей, чем прямая кишка.
Помысли о моем страдании и бедствии моем, о пиве и портвейне. Твердо помнит это душа моя и падает во мне. Это лишь галлюцинационные моменты, при которых на сюжет произведения накладывается особое психофизиологическое состояние ума, близкое к тому, при котором реализуется настоящая созидающаяся из ничего проекция и различные индуктивные психофизические явления. Это связано с тем, что в процессе творчества у человека как бы снимается блокировка его потенциальных волевых способностей необходимых для эффективной реализации данных явлений. Именно этим объясняется то, что в творческих актах человек испытывает не просто ощущение полёта, а фантастическую способность летать и перемещаться сверхсильным мысленным усилием в любое нужное ему место, а также реализовывать какие-либо творческие задачи. Это как бы демонстрация психикой наших нереализованных, потенциальных способностей. Поскольку в творчестве наша психика тратит силы в отношении различных великих целей, постольку никакие настоящие явления жизни при этом с ними сравниться по значимости не могут. Жизнь второстепенна по отношению к художественному произведению. Поэтому предвидение в художественном произведении оказывает целевое влияние на реальные события. Слово созидает жизнь, и управляет жизнью. Как напишем, так и будет! Жизнь совершается по написанному. В принципе, также возможной является и спонтанная телепатия в творческом акте, и это весьма распространенное явление. Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю: по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось.
И в пустых небесах небоскреб только небо скребет,
так же как волкодав никогда не задавит пустынного волка,
и когда в это мясо и рубку (я слово забыл) попадет
твой хребет - пропоет твоя глотка.
Бронзу расплавили, и советских поэтов не осталось. Лишь великий поэт, мудрец из мудрецов Александр Еременко построил себе великий и бессмертный памятник, как завещал Гаврила Романович Державин, в стихах:
Я смотрю на тебя из настолько глубоких могил,
что мой взгляд, прежде чем до тебя добежать, раздвоится.
Мы сейчас, как всегда, разыграем комедию в лицах.
Тебя не было вовсе, и, значит, я тоже не был...
Погубил Господь зубчатую стену, не пощадил, разрушил в ярости своей Кремль, поверг на землю соборы древние, отверг политбюро и администрацию президента, как нечистых: в пылу гнева сломил все строения в Кремле, отвел десницу свою от неприятеля и воспылал в поэте, как палящий огонь, пожиравший все вокруг; натянул лук свой, как неприятель, направил десницу свою, как враг, и убил все в Кремле, вожделенное для глаз; на кремлевские стены, стоящие без документов из Орды в запрещенной водоохранной зоне, излил ярость свою, как огонь. Великая между всеми народами земли Москва, угроза всему капитализму, сделалась большой деревней, о которой пророчествовал поэт:
Мы не существовали в неслышной возне хромосом,
в этом солнце большом или в белой большой протоплазме.
Нас еще до сих пор обвиняют в подобном маразме,
в первобытном бульоне карауля с поднятым веслом…
В это время из-за прибрежных ив вышел Николай Карамзин в образе князя Игоря, в кольчуге, и еще раз подтвердил, что именно он в упрочение славы России после победы над Наполеоном написал «Слово о полку Игореве». Исполать тебе, великий Николай Михайлович, слава в веках за сочинение сей древней поэмы, записанной в разных поэмах Библии, а «Плач Ярославны» под названием «Плач Иеремии»! Господь стал как неприятель, истребил самострой Кремля, разорил все чертоги его, разрушил укрепления его и распространил у временщиков сетование и плач. И отнял ограду свою, как у сада; разорил свое место тоталитарное, заставил Господь забыть празднества на Красной площади у кремлевских стен; и в негодовании гнева своего отверг даже могилы кремлевские. Отверг Господь Кремль, отвратил сердце свое от самозванцев, предал в руки судебных приставов стены чертогов; в доме Господнем они шумели, как в праздничный день. Господь определил разрушить стены зубчатые, протянул вервь, не отклонил руки своей от разорения; истребил внешние укрепления, и башни Спасские и Никольские и прочия вместе разрушены. Ворота Кремля вдались в землю. Господь разрушил и сокрушил запоры их; генеральный секретарь и члены цэка - среди изгнанников; не стало закона, и пророки не сподобляются видений от Господа. Сидят на земле безмолвно старцы, посыпали пеплом свои головы, препоясались вретищем; опустили к земле головы свои. Конечно, об этом не мог не знать наш великий поэт, осудивший кремлевский самострой:
Мы сейчас, как всегда, попытаемся снова свести
траектории тел. Вот условие первого хода:
если высветишь ты близлежащий участок пути,
я тебя назову существительным женского рода…
Москва-река у красных стен Кремля тихими волнами золотится на заре. И сразу после этого громогласно вступает хор Большого театра трижды реставрируемого Союза:
На Дунаи Ярославнынъ гласъ ся слышитъ,
зегзицею незнаема рано кычеть:
"Полечю, - рече, - зегзицею по Дунаеви,
омочю бебрянъ рукавъ въ Каяле реце,
утру князю кровавыя его раны
на жестоцемъ его теле"...
Горько плачет Александр Еременко ночью, и слезы его на ланитах его. Нет у него утешителя из всех, любивших его; все друзья его изменили ему, сделались врагами ему. Переселились по причине бедствия и тяжкого рабства в заморские страны, поселились среди католиков и буддистов, и не нашли покоя; все, преследовавшие его, настигали его в тесных местах. Пути поэта сетуют, потому что нет идущих на праздник; все ворота Кремля опустели; бюрократы рыдают, думцы в отчаяньи, горько и ему самому.
Ярославна рано плачетъ
въ Путивле на забрале, аркучи:
"О ветре, ветрило!
Чему, господине, насильно вееши?
Чему мычеши хиновьскыя стрелкы
на своею нетрудною крилцю
на моея лады вои?
Мало ли ти бяшетъ горе подъ облакы веяти,
лелеючи корабли на сине море?
Чему, господине, мое веселие
по ковылию развея?"…
Враги поэта стали во главе, холуи и стукачи вышли в начальники, неприятели его благоденствуют, потому что Басманный суд наслал на него горе за стихи его; строки его пошли в подполье. Вспомнила Москва во дни бедствия своего и страданий своих о всех драгоценностях своих, какие были у неё в прежние дни, и никто не помогает ей; неприятели смотрят на неё и смеются над разрушенным Кремлем, построенном без разрешительных документов.
Ярославна рано плачеть
Путивлю городу на забороле, аркучи:
"О Днепре Словутицю!
Ты пробилъ еси каменныя горы
сквозе землю Половецкую.
Ты лелеял еси на себе Святославли носады
до плъку Кобякова.
Възлелей, господине, мою ладу къ мне,
а быхъ не слала къ нему слезъ
на море рано"...
Тяжко согрешила Москва, за то и сделалась отвратительной; все, прославлявшие ее, смотрят на нее с презрением, потому что увидели наготу ее; и сам Александр Еременко вздыхает и отворачивается назад, говоря:
Я, конечно, найду в этом хламе, летящем в глаза,
надлежащий конфликт, отвечающий заданной схеме.
Так, всплывая со дна, треугольник к своей теореме
прилипает навечно. Тебя надо еще доказать…
Не знала правая рука вертикали власти, что творит левая, поэтому в голове у вертикали была нечистота, но власть никогда не помышляет о будущности своей, и поэтому необыкновенно унизилась, отобрав у людей выборы и фальсифицировав все бюллетени, и нет у неё утешителя. "Воззри, Господи, на бедствие мое, ибо враг возвеличился!" Враг простер руку свою на все самое драгоценное; чиновники входят во святилище Ярославны и Иеремии, о которых Господь заповедал, чтобы они не вступали в собрание их. Весь народ вздыхает, ища смысла жизни, отдает драгоценности свои за поэтический сборник «Плач по Кремлю», чтобы подкрепить душу. "Воззри, Господи, и посмотри, как я унижен!" Да не будет этого с вами, все проходящие путем, взгляните и посмотрите, есть ли болезнь, как моя болезнь, какая постигла меня, какую наслал на меня Господь в день пламенного гнева своего?! Свыше послал он огонь в кости мои, и он овладел ими; раскинул сеть для ног моих, опрокинул меня, сделал меня бедным и томящимся всякий день. Поэт плачет на зубчатой красной стене:
Тебя надо увешать каким-то набором морфем
(в ослепительной форме осы заблудившийся морфий),
чтоб узнали тебя, каждый раз в соответственной форме,
обладатели тел. Взгляд вернулся к начальной строфе...
Ярмо вертикальных беззаконий связано в руке Его; они сплетены и поднялись на шею мою; он ослабил силы мои. Господь отдал меня в руки, из которых не могу подняться.
Ярославна рано плачетъ
въ Путивле на забрале, аркучи:
"Светлое и тресветлое сълнце!
Всемъ тепло и красно еси:
чему, господине, простре горячюю свою лучю
на ладе вои?
Въ поле безводне жаждею имь лучи съпряже,
тугою имъ тули затче?"…
Всех сильных моих Господь низложил среди меня, созвал против меня собрание, чтобы истребить стихи мои. Об этом плачу я; око мое, око мое изливает воды, ибо далеко от меня утешитель, который оживил бы душу мою; дети мои разорены, потому что враг превозмог. Поэт простирает руки свои, но утешителя нет ему. Господь дал повеление о поэте врагам его окружить его. Праведен Господь, ибо я непокорен был слову его. Послушайте все народы, и взгляните на болезнь мою: ямбы мои и хореи не спасли от тяжелых возлияний. Зову друзей моих, но они обманули меня; вдохновение мое издыхает в городе, ища пищи себе, чтобы подкрепить себя. Воззри, Господи, ибо мне тесно, волнуется во мне внутренность, сердце мое перевернулось во мне за то, что я упорно противился тебе; отвне обесчадил меня плач, а дома - как смерть. Услышали, что я стенаю, а утешителя у меня нет; услышали все враги мои о бедствии моем и обрадовались, что ты сделал это: о, если бы ты повелел наступить дню, предреченному тобою, и они стали бы подобными мне! Да предстанет пред лицом твоим вся злоба их; и поступи с ними так же, как ты поступил со мною за все грехи мои, ибо тяжки стоны мои, и сердце мое изнемогает.
Я смотрю на тебя из настолько далеких... Игра
продолжается. Ход из меня прорастет, как бойница.
Уберите конвой. Мы играем комедию в лицах.
Я сидел на горе, нарисованной там, где гора…
Кто это говорит: "И то бывает, чему Господь не повелел быть"? Не от уст ли поэта происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои. Испытаем и исследуем пути свои, и обратимся к Господу. Вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах: мы отпали и упорствовали. Ты не пощадил.
Прысну море полунощи,
идутъ сморци мьглами.
Игореви князю богъ путь кажетъ
изъ земли Половецкой
на землю Рускую,
къ отню злату столу.
Истощились от слез глаза мои, волнуется во мне внутренность моя, изливается на землю вино моё от гибели Кремля моего, когда алкающие умирают от холода среди городских улиц. Приставам судебным говорят они: "Где водка и вино?", умирая, подобно раненым, на улицах городских, изливая души свои на порогах пивных. Что мне сказать тебе, с чем сравнить тебя, сын Москвы, чему уподобить тебя, когда ты видишь, как рушатся стены незаконно возведенного в водоохраной зоне Кремля под напором новейшего экскаватора с весовой категорией 40 тонн и способностью оперировать стальными гидромолотами и гидроножницами на максимальной высоте в 21 метр, а не как раньше с металлическим шаром, подвешенным на тросе к стреле канатного экскаватора, чтобы утешить тебя, поэт, ибо рана твоя велика, как море; кто может исцелить тебя?!
“Наша улица” №124 (3) март 2010
|
|
Истина абсолютная: Шолохова не было ни писателя, ни деятельного плагиатора: его именем, как клеймом, обозначали плагиат других людей |

Анатолий Иванович Сидорченко родился 11 сентября 1940 года в Щербиновке (Дзержинске) Донецкой области. Окончил философский факультет Ленинградского университета. Кандидат философских наук. Исследователь плагиата "Тихого Дона". Первым научно доказал, что Михаил Шолохов был неграмотным аферистом, не участвовавшим ни в одной операции по изготовлению плагиата, кроме курьерских обязянностей по перевозке рукописей с Дона в Москву. Именем Михаила Шолохова, как клеймом, авторизовали исковерканный семейством Громославских роман Федора Крюкова "Тихий Дон".
Анатолий Сидорченко
"ТИХИЙ ДОН" СОЗДАЛ ФЁДОР КРЮКОВ
ЭССЕ
"Для решения проблемы настоящего Авторства искореженного плагиат-кражей белоказачьего романа необходим еще белогвардейский менталитет и жажда обязательнейшей реабилитации жертвенно-героического Белого движения против варварского большевизма. У меня этого предостаточно: считаю плагиат "Тихого Дона" продолжением геноцида против казачества. И в деле борьбы за Авторство Крюкова отношу к себе по праву слова поэта Вадима Цыганова, пропетые Викой Цыгановой:
Пусть гремит барабан, ветер треплет знамена,
Наши мысли ясны, наша совесть чиста.
Перед строем Господь всех назвал поименно,
И поручик поднял знамя с ликом Христа!..
И еще для успешного решения проблемы "Тихого Дона" нужно быть преданным нашему Православному христианству так же, как ему был предан писатель Крюков, чтобы ощутить и слова из религиозной песни как относящиеся к твоим личным душевным качествам:
... Белые церкви светлеются издали,
Благовествуя о мире ином.
Живы еще проповедники Истины -
Радость моя, не скорби ни о чем!
Живы еще проповедники Истины -
Радость моя, не скорби ни о чем!..
Истина моей работы состоит в том, что я покончил со всеми загадками и тайнами "Тихого Дона" и провозгласил конец коммунистической лжи вокруг неоконченного Крюковым романа, восстановил на веки вечные светлое имя Автора на обложке романа, а лжеписателя Шолохова перевел в ряд самых знаменитых преступников в истории человечества. Пусть этот невежественный криминал-шалопай больше не позорит "цех Пушкина", а достойно пребывает в цехе "всяких Япончиков, Ленек Пантелеевых и Андреев Чикатило", где он собственно и пребывал всю свою сознательную жизнь, но только был законспирирован Сталиным и КПСС в плохо им исполняемом "образе писателя". В постижении этой великой Истины я оказался "впереди планеты всей", о чем мне с восторгом сообщил 9 декабря 1999 Александр Солженицын. То, что мне сказал этот великий русский писатель, для меня - заслуженный пропуск к мировой славе. "На исчерпе лет" Солженицын меня отметил и на подвиг новый вдохновил! Это вышло совсем не случайно: он всегда был для меня Мировоззренческим Учителем, у которого любой писатель может учиться целеустремленности, жизнестойкости и волезакаленности. В течение всего 1999 я передавал ему частями свою работу о Крюкове: тиходонское преступление советского тоталитаризма органично может быть вплетено в два фундаментальных труда Солженицына: в "Архипелаг ГУЛаг" и в "Красное колесо". И не удивительно, что он несколько глав "Красного колеса" посвятил писателю Крюкову. Закономерно и то, что он признался мне, что я ему "сообщил много сотрясательно-нового и научно-сенсационного относительно тиходонского преступления против Крюкова и фактически начисто срезал советскую мифологию о Шолохове, обеспечил мародеру-плагиатору-стукачу литературную смерть, о которой долго мечтали передовые умы России".
Окрыленный такими словами Солженицына, я именно в его день рождения 11 декабря вывел решение тиходонской проблемы на государственный уровень - отправил две телеграммы Ельцину - Путину с просьбой "начать зачистку" нашей литературы от грязного имени Шолохова и "псевдотворчества" его многочисленных пособников и холуев. А ровно через год, в день 82-летия Солженицына завершил опубликованием работу о великом создателе "Тихого Дона": "Тиходонская" трагедия писателя Крюкова".
Но как ни трудно делать мировые открытия, передавать их стране и миру еще труднее. Мой "подвиг благородный" усиленно замалчивается даже моими не столь талантливыми и не столь решительными предшественниками. Все они, включая и великого Солженицына и выдающегося Роя Медведева, в деле разоблачения тиходонского преступления, разогнавшись - тут же тормозили и постоянно в чем-то сомневались. Их разоблачительность Шолохова была лишь фрагментарной, по сути - вежливо-оппортунистической, она сохраняла и развивала в себе новую мифологию о Шолохове. Мифология эта заключается в том, что никто из моих предшественников не оказался способным познать Шолохова до конца и прийти к заключению: он не только не был писателем, но не был даже читателем, не имел малейшей склонности к "чтению - лучшему учению" (Пушкин), был только буквенно-грамотным, не освоил синтаксис и орфографию; чтобы скрыть свою малограмотность, дико невежественный Шолохов никогда прилюдно не писал даже коротких записок; от Шолохова после его смерти не осталось никаких писательских бумаг, пустым был письменный стол, пустые тумбочки, а в "его библиотеке" невозможно было сыскать ни одной книги с его отметками и закладками. Никогда его не видели работающим в библиотеке или в архивах. Таким образом, те "разоблачители", которые говорили или писали, что Шолохов сделал то-то и то-то, обнаружили незнание плагиатора: Шолохов был способен выполнять только курьерские поручения, а плагиат "Тихого Дона" и всего остального т. н. "творчества Шолохова" - все виды плагиата выполняли другие люди, в основном - жена и ее родственники Громославские. Приписывать Шолохову плагиаторскую работу - значит, заниматься созданием мифологии плагиатора, который был во всех отношениях литературно-невменяемой личностью. Оттого его жена Мария и раздувала легенду о том, что у нее с мужем почерки "одинаково красивые", оттого и сфальсифицированный "его архив" написан разными почерками и разными людьми. Истина абсолютная: Шолохова не было ни писателя, ни деятельного плагиатора: его именем, как клеймом, обозначали плагиат других людей. Шолохова писателем можно было называть только один раз в год в качестве первоапрельской шутки. Он и был кровавой шуткой Сталина, преступным продуктом преступного строя, чумовым испражнением революционного Октября и журнала "Октябрь", незаконнорожденным выродком Октября во всех смыслах. Назначать Шолохова автором "Тихого Дона" - это все равно, что назначать паралитика на роль чемпиона мира по прыжкам в высоту, скажем, на роль Валерия Брумеля, а потом с помощью расстрелов заставлять верить людей в такого "чемпиона-паралитика".
Так что - Плагиат-капут, капут!
Скоро все это поймут.
Плагиат тот - фьюти-фьють!"
"Историческая проблема "Тихого Дона" решается по линии: Сталин - Сидорченко - Путин. Сталин устроил грандиозный обман-лохотрон вокруг "Тихого Дона", Сидорченко разоблачил всю эту кровавую химеру и вылечил человечество от "тиходонской чумы", а Путин теперь как глава России обязан принять достижения русской науки на заданную тему. Поэтому я и засыпал Кремль телеграммами, как природа засыпает тайгу снегом. Как мне сказали, вы с Михаилом Фрунзе установили различные, прямо противоположные рекорды по телеграфированию в Кремль: у Фрунзе - самая короткая телеграмма в ноябре 1920: "Москва, Кремль, Ленину: Южный фронт ликвидирован", а у меня телеграмма самая длинная: на 26 телеграфных листах... Я рад, что не стал - один против всего мира! Меня активно поддержал Председатель "Комитета общественного движения в защиту творчества Крюкова" и по моим рецептам готовит выпуск "Тихого Дона" под именем Федора Крюкова. В связи с этим выражу здесь удовлетворение своей судьбой, используя измененные слова гениального Лермонтова и поэтов-современников:
Ничего от жизни уж не жду я,
И не жаль мне прошлого ничуть.
Не ищу я славы беспокойной,
Лишь хочу всем Крюкова вернуть!..
Конечно же, по жизни не святой я,
Но доброе не путаю со злом,
И исключительным талантом обладаю:
Разоблачать - величайшее искусство
И чудное от Бога мастерство!..
Эй, казаки, пришпорьте лошадей!
На этот раз наш эскадрон
В Ростов без выстрелов ворвется:
Из плена вырван настоящий "Тихий Дон",
Недаром вольным Дон у нас зовется!..
Москва слезам не верит, а в лже-писателя Шолоха до сих пор верит
В Москву с Дона через станцию Грязи
Из станицы Букановской ехали две мрази.
Ехали в Москву тамбовским лесом -
За каким-то темным интересом!..
Как я уже рассказывал в первой книге о Крюкове, после совершения уголовного преступления в 1922 и суда в марте 1923 Шолохов принял предложение экс-атамана станицы Букановской Петра Яковлевича Громославского совершить плагиат "большой литературной вещи" о донских казаках, но прежде породниться через женитьбу на его первой дочери от второго брака - Марии Петровне Громославской (1898-1992).(Александр Солженицын. Евреи в СССР и в будущей России. Анатолий Сидорченко. "Тиходонская" трагедия писателя Федора Крюкова", 2000.)
Разумеется, все бумаги Крюкова Громославский выдавал за свои собственные. Для писательского просперити необходимо было иметь какой-то уровень образования. У запланированного зятя-плагиатора не было и намека на образованность - он был малограмотным да к тому же не имел склонности к чтению книг. Будущий тесть считал, что все это поправимо, если Шолохов поступит в ВУЗ, станет нужным человеком для Советской власти через такую мощную организацию, как ГПУ-ОГПУ - наследницу ВЧК. Приобщение к такой организации со временем заметет следы судимости и преступной деятельности при исполнении должности налогового продинспектора в Букановской. Как правило, на учебу способные ребята из Верходонья ехали в Ростов-на-Дону. Но там трудно было Шолохову замести следы от "пушистого хвоста" своего преступления. Надо было иметь такое место плагиаторской деятельности, где нет риска встретиться с земляками или просто знакомыми. Географический фактор намечаемого преступления был решен чисто по-еврейски: "Приезжайте в Москву, здесь легко можно стать знаменитым!", Решено было, что Михаил поедет в Москву и решит там следующие задачи: поступит на "подготовительный курс" какого-нибудь рабфака, неважно какого - лишь бы "зацепиться за Москву"; обязательно он должен стать агентом ГПУ и с помощью этой всесильной организации опубликовать несколько примитивных фельетонов - архипросоветских! Если что-то из всего этого "проклюнется", тогда отец даст согласие на брак с атаманской дочкой-перестаркой. Что такое девушка-перестарка на Дону, Крюков поясняет так: казачки обычно выходят замуж в 16-18 лет. В 20 лет - уже считается она перестаркой. Любимой старшей дочери Громославского было уже 25. Жениху - 20. Но чтобы его не расстреляли за преступление, его сделали моложе на два года, "тройка" легко переправляется на "пятерку" - так Шолохов, рожденный 24 мая 1903 года, "переродился" и стал 1905 года рождения. Мария, будучи старше жениха на 5 лет, стала теперь старше на 7. Поэтому, если будете на могилах знаменитых литературных обманщиков-лохотронщиков-плагиаторов, не удивляйтесь, что у этих "двух М" нет никаких дат прихода и ухода из нашего грешного мира.
Никто из шолоховской семьи не был посвящен в плагиат-будущее Михаила. Как говорится, в их, Громославских, тесный круг не каждый попадал. Все дочери Громославского - Мария, Лидия, Полина, Анна и сын Иван, второй ребенок от второго брака экс-атамана, - были учителями начальных школ. На них-то и была возложена задача осваивания "творческого наследия" Крюкова. Никто не знал, что из всего этого получится, или, как говорил Шолохов, он "не знал, что получится из этой затеи", вначале Громославские хотели только одного - "заработать на покушать", т. е. жить безбедно с помощью использования литературных достижений "Гомера донского казачества", то есть - Крюкова Федора Дмитриевича.
Учителя Громославские подготовили, конечно, под руководством П. Я. для Москвы два фельетона, которые потом выйдут в свет под названием "Испытание" и "Три", Когда "дело пошло", то дослали в Москву еще "Ревизора". 24 мая отметили заговорщики 20/18-летие Шолохова, а через два дня он отправился в столицу, получив строгие наставления как от своей невесты, так и от своего почти тестя, Петра Громославского.
Поступить на "подготовительный курс" рабфака Шолохов не смог: ни комсомольского направления на учебу, ни необходимых знаний у него не было. Он стал агентом ГПУ, оформил его Мирумов (Мирумян). Он же помог Шолохову пристроить три фельетона в газету "Юношеская правда" ("Юный ленинец"). Никогда Шолохов не бил камни на мостовой, не работал ни грузчиком, ни "таскальщиком кулей" на вокзале, работал по своей первой специальности - делопроизводителем (подшивателем бумаг) в одной из жилконтор на Красной Пресне. Мирумов и оказал содействие в получении комнаты в коммуналке в одном из домов в Георгиевском переулке.
Он жил в центре Москвы и осваивал опыт проталкивания чужих фельетонов под своим именем "Мих. Шолох", то есть учился мельтешить-ошиваться в каких-то редакциях, в каких-то околописательских кругах. Никогда никто нигде не видел в этот период Шолохова с книгой в руках (тогда еще не было необходимости у него, красуясь и фасоня, фотографироваться-позировать перед объективом - все это будет потом, когда "процесс пойдет"), читающим или посещающим библиотеку.
Все это за него будут всю жизнь делать другие люди.
А опубликованные три фельетона "весьма смачны" именно тем, что они - каждый в определенной степени! - подтверждают все вышесказанное. Они же и являются публичными свидетелями того, что в 1923 в станице Букановской Громославскими был кнопкой "пуск!" включен при создании фельетонии-идиотии литературно-тиходонской лохотрон. Фельетонный замысел в Москве был реализован: деревня начала успешно обманывать великий город - столицу СССР Москву. Но Шолохов начисто был лишен дара фельетониста и никогда и ничем этого "бездарного дара людей, изготовивших ему фельетоны" больше нигде не проявлял.
Он не любил все то, что было до опубликования "Тихого Дона". Потому что "все то" могло служить (а в моей работе и сослужило) только разоблачению плагиата-кражи "Тихого Дона". Анализ трех фельетонов - ярчайшее тому подтверждение. Поэтому-то свою фельетонию-идиотию в своих кратчайших автобиографиях Шолохов будет всегда затушевывать, писать об этом периоде лживо и абстрактно: "Писать начал в 1923. с этого же года начал печататься в комсомольских газетах и журналах. Первую книжку издал в 1925 году". (М. Шолохов. СС в 8-ми томах. Том 8. с. 32, Москва, 1986.)
А в 1923 он опубликовал всего лишь три фельетона в одной и той же молодежной газете! Так почему же именно так не сказать?! При чем тут "множественное число газет и журналов"? А при том: чтобы никто не догадался ни о помощи ГПУ, ни о том, что Шолох "был фельетонистом"! А почему и от кого скрывается "творческая правда Шолохова" самим Шолоховым - и для чего? Если открывать правду про фельетоны, то может ненароком приоткрыться правда о тиходонском лохотроне - вот главная причина сокрытия фельетонной тайны Шолохова. Ведь дар фельетониста (если он есть?) - это дар "не напрасный и не случайный" (Пушкин), он сопровождает творца всю жизнь. И простой вопрос к Шолохову (жаль, что его ему никогда никто не задавал!): "А почему вы больше никогда не пишете фельетоны?" - страшно пагубный для вора-мародера. Он может обнаружить истину: фельетониста Шолоха не было никогда! Так кто же и зачем опубликовал, написал для Шолохова эти фельетоны? Если ни на минуту не забывать, что в лице Шолохова мы имеем плагиатора романа Крюкова, но необыкновенного - необычного плагиатора, совершенно не способного к литературному труду, то "параллельное" прочтение 3-х фельетонов будет очень интересным. У Громославских-Шолохова вышла такая графоманская тухлятина, которая полностью разоблачает начинающего литератора, будущего "пролетарского плагиатора" "Тихого Дона". Как говорится, паскудная эпоха, паскудная литература, паскуднейшая графомания паскуднейшего из всех "пролетарских воров-плагиаторов"! Ни один великий писатель никогда не начинал свой творческий путь с такого псевдофельетонного словоблудия, с такой карикатуры на фельетоны. Их можно демонстрировать в литературных институтах на семинарах с темой: "Как не надо писать фельетоны!". Эти три фельетона фактически нам говорят не о начинающем писателе, а о том, что пишущий такое никогда не станет писателем, а тем более - автором эпохального исторического романа. Не затрагивая каноники содержания, излагаю фельетоны в своем стиле: вставляя собственные дополнения и пояснения в скобках. Итак, фельетон № 1 - "Испытание". Случай из жизни одного уезда Двинской области (уезда на тихом Дону). Испытанию подвергается бывший коммунист товарищ Тютиков, при НЭПе занявшийся торговлишкой, но не потерявший доверия стойких коммунистов, один из которых в должности секретаря укома (уездного комитета) РКСМ говорит Тютикову - "человеку в широком модном пальто, с заплывшими жиром самодовольными глазками (которые не прикрыты ни очками, ни пенсне - заметим это!): с вами на одной подводе поедет секретарь волостной ячейки, я его плохо знаю, так вы, прикинувшись "этаким нэпом", "тоненько попробуйте к нему подъехать" и выведать, чем он дышит, сколь прочны его "коммунистические убеждения, взгляды на комсомол", "вызовите его на искренность, а со станции сообщите мне". Предложение быть стукачом Тютиков принимает, видит в стукачестве "своего рода маленький политический экзамен", с самодовольной улыбкой качает жирным затылком. "Вечер. Дорога. Грязь..." (Это фраза прямо из Федора Крюкова, например, из "Шаг на месте". Крюков здесь совершенно неуместен: процесс советского стукачества от погоды, времен года и географических условий не зависит. Но Громославские этого "не секут" и обнаруживают себя с самого начала плагиаторскими поклонниками творчества Крюкова!). Сначала Покусаев (фамилия прямо говорит, что ему "кусать хотца" - сейчас Громославские об этом и скажут) "дремал под мерный скрип телеги, свесив длинные ноги, а на скуластом конопатом лице его бродили заблудившиеся тени (надо понимать: тени шли к какому-то другому лицу, может даже, и не конопатому, и вот надо же - заблудились и попали на конопатое!). Тютиков, как добросовестнейший стукач-разведчик, долго рассматривал соседа, "потом из чемодана достал хлеб, колбасу, огурцы и звучно зачавкал. Покусаев очнулся, сел боком и, задумчиво глядя на облезлый зад лошаденки (словно хотел откусить кус лошадиного зада), с тоской вспомнил, что забыл на дорогу поесть (такая необыкновенная память... почти шолоховская, плагиатор через 7 лет признался Исааку Экслеру, что совершенно не помнит, как он "творил "Тихий Дон")". А Тютиков насыщается - глотает и мычит на Покусаева такими вопросами; На сельхозвыставку? - А после "да" Покусаева "работает вовсе не тоненько, а грубо": Глупости. Людям жрать нечего, а они - выставку. - Покусаев нехотя пояснил: "Выставка принесет крестьянству большую пользу" - напоролся на категорическое высказывание: "Дурацкие рассуждения", тут Покусаев "дрыгнул ногой и промолчал" (негатив коммунистический накапливая). А "этакий нэп" так и сыплет: "Строят ненужное, лишнее. Комсомолы - хулиганье! Давно бы прикрыть их надо. Не я у власти, а то я им бы показал Кузькину мать (почти пророчество нашего Никиты Сергеевича, с его усилением "Кузькиной матери" еще большей угрозой - "натянуть им глаза на ж...")! Комсомолистам-мерзавцам прописал бы рецепты! Этакие негодяи-безбожники! Выдумали воздушный флот строить! Драть бы негодников!.. И всех главарей..." Покусаев пытался прервать эту антисоветскую филиппику сдержанной пока угрозой: "Не трепись. За подобные речи получишь по очкам" - но Тютиков не переставал ругаться. "Вдали замелькали огни станции". В условиях такого географического фактора наступила драматическая развязка "двоих в степи": Тютикову не суждено было докончить свою антисоветскую проповедь. А Покусаев не стал дожидаться, пока он, наконец, подавится основательно своей колбасой с огурцами - он "привстал и молча неуклюже навалился тощим животом на самодовольный затылок соседа. Свернувшись дугой, два человеческих тела грузно шлепнулись в грязь. Подвода остановилась. Не в шутку перепуганный Тютиков попытался встать, но разъяренный секретарь, сопя, раскорячился на длинных ногах (второй раз подчеркивает "художник" длинные ноги рассвирепевшего и от гнуснейшей антисоветчины, и от пустозвонно-голодного желудка) и повалил Тютикова на спину. Из-под бесформенной кучи неслись пыхтение и стоны: Уко-о-о-мсекретарь... просил... в шутку... - хрипел придушенный голос, а в ответ ему - злое рычание и такие звуки, как будто били по мешку с овсом... (какая-то топорная "художественность", Громославские еще - да и примкнувший к ним Шолохов - не знают, что получится из их плагиаторско-тиходонской затеи, работают неряшливо, совсем не оттачивая "топорно-бездарнейшей художественности", а только демонстрируя совершенно правильно крюковскую манеру обильными многоточиями прерывать человеческие мысли или человеческое прерывистое дыхание с кишечными звуками). Драма не перешла в трагедию, нападение коммуниста на бывшего коммуниста завершилось благополучно. Новоиспеченный стукач пишет такой отчет тому, кто провел с ним "вербовочную беседу": "Парень, несомненно, благонадежный, но... н... несмотря на все это я доехал благополучно". А за двумя многоточиями раскрывают Громославские для зятя своего такую информацию: "Тютиков окинул взглядом грязное пальто, потрогал ушибленное колено, с тоской посмотрел на (вот те на!?) выбитое стеклышко пенсне, почесал карандашом синюю переносицу и, безнадежно махнув рукой, закончил свое письмо со станции". Для меня сказанное не просто информация, а информация к размышлению: откуда вдруг взялось пенсне на "побитом" Тютикове, когда оно никогда не прикрывало его "заплывшие жиром самодовольные глазки"?! Взято оно по неряшливости у героя "Тихого Дона" Евгения Николаевича Листницкого, взято "напрокат" для усиления драматической концовки "Испытания". Вот и получилось, что Громославские, работая для потенциального тогда еще зятя, сварганили по сути фельетон на самих себя: обнаружили, что и пенсне и саму ситуацию избиения человека они в несколько карикатурном виде переписали из сцены романа Крюкова, где Григорий избивает Евгения за любимую женщину, которую отнял у казака соперник голубых кровей. Сцену-то переписали, да только "совершенно забыли" либо вычеркнуть пенсне, либо написать в первом абзаце "Испытания" исправленную фразу: "... обратился секретарь укома РКСМ к сидевшему напротив человеку в широком модном пальто и смотревшему на него сквозь элегантное пенсне заплывшими жиром самодовольными глазками". Как сказал бы Крюков: "За проделанную работу плагиаторам ставлю "троянскую колонну", т. е. единицу, а вам, Сидорченко, "отлично" и назначаю Вас главным разоблачителем плагиат-кражи моего романа". С первого "Испытания" плагиаторы не прошли испытание на звание мастеров плагиата, завязли в плагиат-идиотии. Теперь изложим второй фельетон - "Три", посвященный рабфаку имени Покровского, куда как раз и не приняли нашего героя. Нажимаем вторую кнопку лохотрона - читаем о том, как с назойливо глуповатой тенденциозностью в болтовне 3-х пуговиц раскрывается остро классовый подход автора к действительности и к трем людям, которые в разных местах носили эти оторвавшиеся пуговицы. Теперь же всем троим предстоит быть пришитыми на ширинке мужских исподников - кальсон. Громославские не сообразили: раз пуговицы - герои повествования, то их надо обозначить каждую персонально с большой буквы, как это проделывал Иван Крылов со своими героями из фауны и флоры. Я доделаю работу родственников Шолохова и назову пуговицы по именам в соответствии с фельетоном: Костяная, Буденовка и Металлическая. "Раньше их было две: одна - большая, Костяная, с аристократически-брюзгливым (очень распространенная у Крюкова форма передачи качественных характеристик своих героев-героинь) и едва уловимым запахом одеколона, другая - маленькая, деревянная, обшитая красным сукном, Буденовка. Последняя - Металлическая, синяя - была принесена только на днях. После утренней уборки дворник свернул цигарку (у Крюкова - цыгарка! - и тут Петр Громославский сделал все, чтобы плагиат языково оказался чрезвычайно отчужденным от Крюкова) и вместе с махоркой вытащил Металлическую... небрежно покрутил в заскорузлых, обкуренных пальцах (такие пальцы много раз встречаются во многих произведениях Крюкова, включая и его "Тихий Дон") и швырнул на подоконник: "Пришей все "три" к исподникам, Анна, а то мои потерялись". Металлическая бойко поздоровалась с Костяной и Буденовкой: Здравствуйте, товарищи! - Красная уныло улыбнулась, а Костяная презрительно шевельнула полинявшей физиономией. Понемногу все "три" разговорились. Начала Костяная, барски шепелявя: "Не понимаю, господа, как я еще живу!.. Запах портянок, пота, какой-то специфический "мужицкий дух" (ненависть к "мужицкому духу" важнейшая составляющая казачьего менталитета на Дону, а Громославскому очень важно, чтобы неказака Шолохова победившая в Гражданской войне пролетарская "вонючая Русь" приняла за "казачьего писателя" пролетарского - это жизненно необходимый парадокс: из Шолохова казака кроили, но так и не сшили), это же кошмар!.. Два месяца назад я жила третьей сверху, на великолепнейшем пальто. Владелец был раньше крупным фабрикантом, а теперь устроился в каком-то тресте - деньги бешеные. Часто, доставая белые шелестящие бумаги из портфеля, владелец мой шептал: "Попадусь в ГПУ... Эх, попадусь!.." (Совсем неубедительно, с таким настроением много бабок не сделаешь, способный делать бешеные деньги, скорее по ночам, обнимая подругу, шептал: "Дусь, а Дусь! Может, я и без ГПУшки обойдусь?!") и пальцы у него дрожали. Вечером на лихаче катал свою артистку, на нее он тратил большие средства. Слезли около казино, она тащила его туда, он упирался, она шипела "пойдем!..", ухватившись за меня, Костяную. "Ты меня на преступление толкаешь! - крикнул он и рванулся-вырвался, а я осталась у нее в руках. Она плюнула ему вслед и швырнула меня на мостовую. После долгих скитаний я очутилась здесь. Но, как ни говорите, а перспектива украшать вонючие мужицкие штаны меня не прельщает, и я серьезно помышляю о самоубийстве..." Костяная выдавила из себя гнойную слезу и умолкла... (Пуговка Буденовка сморозила такое!): "Да, любовь - великое дело!.. Когда-то я алела на буденовке краскома (красного командира), и почему-то сразу - ах, любви все пуговки покорны! - "была" под Врангелем и Махно.(Такое понимание любви Громославскими привело к тому, что они оказались не способны достаточно убедительно и художественно правдиво отобразить любовь Анны Погудко и Ильи Бунчука: главу об этом поначалу опубликовали в "Октябре" № 8 за 1928, но потом выбросили свое плагиаторское отображение любви, находящееся в вопиющем контрасте с текстами Крюкова, выбросили навсегда! За неспособностью передавать любовные переживания Лушку для "Поднятой целины" просто переписывали с образа Дарьи Мелеховой.) Мимо свистели пули. На Перекопе казачья шашка едва не разрубила меня надвое. Все это минуло как славный сон и прочно забылось..." (Громославский как бы подготавливает читателя поверить в такого "необыкновенного писателя", который почему-то ничего не помнит ни о том, как писал "Тихий Дон", ни о том, как участвовал в Гражданской войне. А вот прикованный к постели Николай Островский, совершенно ослепший, почему-то хорошо все помнит, и здоровячок Аркадий Гайдар тоже все хорошо помнит... А помнят они все хорошо потому, что они действительно писатели и действительно участники Гражданской войны на стороне красных. А Шолохов даже не жил на Дону, когда там бушевала война - мирно проживал у родственников в Зарайске Рязанской губернии. Он спешно был с Дона эвакуирован после того, как красные обозники поймали его, шестнадцатилетнего, в камышах и выпороли хорошенько за то, что скрывался там в женском платье и косыночке; его, правда, сначала приняли за девку и чуть не отодрали, а, розобравшись, просто выдрали плетьми, да два раза в морду дали.) Настало затишье... Мой краском потел под буденовкой, изучая математику и прочие мудрые вещи (бездарные плагиаторы вместе с примкнувшим тупейшим Шолохом не знали, несчастные, что "гранит науки" люди обычно "грызут", сняв головные уборы, поскольку занимаются этим обычно в закрытых помещениях - в школьных классах, библиотеках или архивах, а Шолох был только в церковно-приходском училище - и никогда не учился в гимназиях, никогда не переступал своими ногами пороги библиотек или архивов!). Но как-то познакомился мой краском с барышней-машинисткой, и все пошло прахом!.. (А что значит "пошло прахом"? А это значит:) Нитки, державшие меня, ослабли, и часто пожелтевший краском, глядя, как я болтаюсь и вот-вот упаду (не говорит своей бабе - возьми да пришей!), только сокрушенно вздыхал. (Тут в разговор вмешалась совсем уже дико-глупая, зато с ярко-пролетарским менталитетом, Металлическая): Буржуазная идеология!.. - саркастически улыбнулась она (давая этим понять: всякий разговор о любви - это только пережиток проклятого буржуазного прошлого) - Если я и попала сюда, то случилось это гораздо проще: я была на брюках комсомольца-рабфаковца. (Это то место, куда в 1923 на "подготовительный курс" не приняли Мишу Шолоха: Скандинавию он тогда искал в районе Каспийского моря, в слове "еще" делал четыре ошибки, считал, что "прилагательное" в русской грамматике обозначает то, что к чему-нибудь "прикладывается" - в общем, мало чем отличался от фонвизинского недоросля Митрофанушки, превосходя его только подлостью.) Костяная (при таком пролетарском сообщении) презрительно скосоротилась, красная Буденовка смущенно порозовела, (хотя "красная" не может никак "порозоветь", поскольку "краснота" есть вершина, высшая ступень "порозовения"). - Мой владелец, - продолжала Металлическая, - был вихрастый, с упрямым лбом и веселыми глазами (образ списан Громославскими со своего будущего зятя - кривоногого, с желтыми веселыми глазами, если дорисовывать образ до конца). Учился он упорно. Между занятиями таскал кули и распевал "Молодую гвардию" (нет, не про краснодонцев, моих замляков, они тогда в своей основной массе еще не родились, были другие, которые безоглядно поперли за Лениным, как Павка Корчагин, вот про них и пел), хотя у него ничего не было в желудке, из-за чего и был вынужден часто поддергивать штаны. Он это любил. Вихрастый много читал, частенько в райкоме говорил речи, а когда не находил подходящего выражения, любил поддергивать штаны, которые он купил, урезывая себя в необходимом. Но я, Металлическая, не принадлежала ему безраздельно, мною пользовались еще человек пять таких же славных крестьянских парней (пока что Шолоха втискивают в крестьянство, а через пять годков будут выкраивать из него, иногороднего, славного "казачка"). Несмотря на пустой желудок, парни надевали по очереди штаны, и от них, молодых и сильных пахло не одеколоном, а молодостью и здоровьем. И поверьте, я чувствовала себя (на той брючной ширинке) хорошо и уютно. Но однажды пришли ребята хмурые, печальные: (они таскали при пустом желудке кули на вокзале, но денег почему-то не имели, а) надо было купить "Исторический материализм", подписаться на "Юношескую правду" (это как раз и есть та газетенка, через которую Громославские с помощью ГПУ и включили в 1923 свой "тиходонской лохотрон", а Москва, хоть она слезам и не верит, повела себя как город Глупов из Сказок Щедрина и приняла героя литературного лохотрона за писателя). (Пролетарские хлопцы) часа два молчали и думали (или молча думали). Потом вихрастый (опустил руки вниз) и любовно подержался за меня, Металлическую, пальцами и решительно проговорил (учиться и иметь штаны - две вещи несовместные): "Или рабфак кончать, или в новых штанах ходить! Валяй, братва, на Сухаревку!.. (есть такой базар московский, про него писал Гиляровский... Обезумевшие пролетарии) штаны стащили с него оравой, под дружный хохот и крики. В суматохе меня оборвали... Через полчаса, лежа на полу, ребята вслух читали "Исторический материализм, а я под койкой думала: "Если из этого вихрастого парня (то бишь - из Шолоха!) со временем выйдет стойкий боец-коммунист, то этому отчасти причиной буду и я..." - Да, конечно... - конфузливо залепетала Костяная (вытирая гнойные слезы). - Но Металлическая пренебрежительно сплюнула на пол и повернулась к соседкам спиною (как ни поворачивайся, а на мужицкой ширинке им быть вместе). Эту фельетонию плагиат-деятелей завершает карикатура на пародию гоголевского "Ревизора", которая и носит одноименное название - "Ревизор". Истинное происшествие. - Даже если и так, то безмыслые создатели фельетона не ведают того, что не всякое истинное происшествие достойно литературного воплощения. Именно это и показали Громославские, которым только и можно сказать по-гоголевски: над кем же вы смеетесь, господа? Над своим собственным "писательским занятием", которое по сути представляет из себя как раз ту затею, из которой ничего бы так и не вышло, если бы не помощь ГПУ своему новоиспеченному агенту. Фельетон Громославских представляет из себя как бы пьесу из 4-х актов. В первом акте вместо фразы: "Получено известие - к нам едет ревизор!" - "Хлопнув дверью, позеленевший кассир Букановского (Здесь, правда, к упоминанию "Буканов" впервые фельетонистами применена сноска "Царицынской губернии". Сноску следует расширить так: станица Букановская Усть-Медведицкого округа Области войска Донского - нынче Царицынской губернии. Именно в станице Букановской "атаманствовал не по уставу" в 1908-1915 годах Петр Яковлевич Громославский (1870-1939) - и именно писатель Федор Крюков разоблачил и в 1913 опубликовал в "Русском знамени" статью о Громославском Петре Яковлевиче, "правителе-хищнике" - будущем тесте Миши Шолохова.) кредитного товарищества предстал перед председателем правления: Ревизор из РКИ (Рабоче-Крестьянской Инспекции) ночует на постоялом!.. В черном лохматом пальто... Злой, как сатана! Сам видел!.. - У предправления затряслись жирные ляжки, а на носу повисла мутно-зеленая капля волнения ("капля" взята из "Мертвых душ" у сынка Манилова, только здесь "капля" не работает!). Во втором акте выясняется, что комсомолец Кособугров, принятый за ревизора, вовсе не "злой, как сатана", а просто рассеянный пролетарий: "Рассеянность комсомольца Кособугрова достигала анекдотических размеров: на антирелигиозном диспуте он вместо платка высморкался в рясу попа, сидевшего рядом. Плевал и бросал окурки в калоши, а пепельницу пытался надеть на ногу (с культурным гоголевским Хлестаковым этого дикаря-комсомольца и рядом нельзя поставить). Но, несмотря на это (а возможно, именно благодаря этому!) Кособугров был отличным работником, а поэтому губком РКСМ и командировал его в Буканов, Царицынской губернии по работе среди батрачества. Переночевал он на постоялом (конечно, не с таким комфортом, как Хлестаков), утром оделся, сунул в карман чахоточный портфель (а бывают ли вообще "карманные портфели"? - не знаю, не встречал) и пошел в уком. (Тут такая естественная НЭПмановская реакция на предполагаемого пролетарского ревизора.) За углом его встретили с низким поклоном двое неизвестных: "Мы... к вам. Служащие просят... не откажите... - Чего собственно? - А вот... пожалте-с! - осанистый кучер осадил вороных, а те двое услужливо помогли Кособугрову утонуть в рессорной коляске (так ведь могут молодцы-служащие везут утопить в реке комсомольского активиста - река-то есть в Буканове, а классовая борьба еще не затухла окончательно: фельетон какой-то без исторической реальности и полнейшее игнорирование текущего момента классовой ненависти!). Но Кособугров в отключке, полностью забыл о классовой бдительности: "Одначе уком! Лошади-то какие..." - подумал Кособугров и конфузливо измазал бархатную обивку грязными сапогами, потом поджал их под себя (непонятно: сапоги... под себя!?... хам-камса-пакостник!..). (В третьем акте недоразумение разъяснилось нелепейшим образом:) Кособугрову положительно все казалось странным: даже пальто, снятое с него разъярившимся швейцаром (а у швейцара откуда взялась ярость к незнакомцу - не поясняется) и то казалось иным (при такой ярости неадекватной иным казалось собственное пальто, а не швейцар!)... Перед ним явно трепетали. В нем заискивали. Ему засматривали в глаза (а не в его глаза засматривались!), предупреждали каждое движение, а он, глядя на ковры, мебель, только недоумевал (такой тупой, что до сих пор "не въехал", что его не за того приняли, и он очутился не в том месте; и, разумеется, тупые вопросы): "Здесь секретарь живет?" - "Нет, председатель". - "Какие комсомольцы все старые, толстые, как купцы (тем более что так оно и было - перед ним "исполняли танец маленьких лебедей" торгово-деловые люди!)..." мысленно удивлялся Косо (буду его кратко называть, надоел мне он своими бесконечными удивлениями одногодовалого ребенка!). "Председатель, наверное, в ссылке был: неуверенный голос, дрожит" - (продолжает размышлять Косо, тут "кавычки" Громославские не там поставили - и вообще много ошибок, я плагиаторам терпеливо помогаю исправлениями). - Вы... вы... - кто-то обратился к Косо, а он: не "выкай", пора привыкнуть к "ты" (намекнул решительно: вежливость - буржуйский предрассудок-пережиток!). Все предупредительно захихикали, зашептались... За столом, после четвертого блюда, председатель шепнул: "Недостаточки у нас маленькие, знаете ли... - В литературе (совсем одурели авторы: ведь если комсомольцы похожи для Косо на купцов, как же он может подозревать у них "недостаточки в литературе"!?) - Не-ет"... - Косо ослабил пояс и громко заговорил об организации работы среди батраков. Все улыбались, то недоумевающе, то растерянно, и смотрели ему в рот (докладывая): "Батраков у нас немного: два конюха, кучер... - Вот и надо использовать комсомолье... я, как присланный губкомом РКСМ" (те в шоке)... - Ка-а-ак?! Кто вы?! - Да по организации батрачества. Мандат я, того... забыл предъявить. - Кто-то ахнул, с кем-то сделалась истерика, зазвенела разбитая посуда, у рыхлого председателя вывалился посиневший язык (ну, это уж чересчур, явный перебор антихудожественности!). А Косо, стараясь перекричать шум, стоя на стуле, зычно читал свой мандат и обводил всех круглыми глазами (да сморкался беспрерывно в белоснежную накрахмаленную скатерть). В четвертом заключительном акте полнейшая дикая чушь: На базаре Косо встретил милиционер и, ничего не объясняя, свел его в милицию. У начальника с него стащили чье-то чужое лохматое пальто, а уполномоченный РКИ, сердито брызгая слюнями, утверждал, что именно он, Кособугров на постоялом дворе спер у него пальто, и, захлебываясь негодованием, громил безнравственность нынешней молодежи. (Так если уже, хотя и не совсем понятно почему, дошло дело до народной милиции, так скажите, спасется ли Косо?). Только "Испытание" является фабульно-законченным, а на два других фельетона умственных потуг у Громославских не хватило. А в целом: пролетарская фельетония-идиотия получилась, которая была направлена на то, чтобы решать задачи не литературные, а идейно-политические для обозначенного автором "Мих. Шолоха". Громославские публично-печатно заявили о своем будущем зяте, что он любит Совдепию, ненавидит буржуазию и нэпманов, может быть преданнейшим агентом ГПУ. В запарке творческой сообщили и совсем ненужные, а даже несколько пагубные сведения для будущего плагиатора "Тихого Дона": он знаком хорошо со станицей Букановской, что в дальнейшем ему, лжеписателю, придется всячески скрывать в своих кратчайших фантаст-биографиях. Именно в станице Букановской в 1923 между Громославскими и Шолоховым созрел заговор против писателя Крюкова и его романа "Тихий Дон", эта станица есть родина зарождения "тиходонского литературного лохотрона", который завершился в 1965 в Стокгольме получением Нобель-премии за преступно-групповую окололитературную деятельность. "Донские рассказы" также имеют разоблачительное значение для тиходонского преступника Шолохова. Не зря он их "стеснялся". Эти рассказы "проталкивались" в печать при активном участии "железнопоточного негодяя" писателя Александра Серафимовича Серафимовича (1863 - 1949). Тот был давнишним завистником и идейным врагом Крюкова, земляком Петра Громославского и большим начальником в писательской среде. С Громославским Серафимовича связывали и родственные отношения. Таким образом, бездарнейшие, примитивно-вульгарные "Донские рассказы", "Лазоревую степь" (название прямо взято у Крюкова - его рассказа: "На речке Лазоревой") вытягивали в печать двойной тягой: с помощью ГПУ и Серафимовича. Сам Серафимович, которого Горький считал "носителем трухлявого интеллекта", тоже не чуждался плагиата: его постоянно упрекали в том, что он очень много списывает у Горького и Короленко, а роман "Железный поток" ему, как человеку с высоким положением при новой власти, делала целая группа безработных, но прекрасно образованных гимназистов, то есть "бывших людей". Позже их почти всех прокатали катком репрессий как "чуждый элемент" социализму. Чтобы затушевать роль Серафимовича в становлении лжеписателя Шолохова на почве "сатанинской ненависти" к Федору Крюкову, преступно-шолоховедческие деятели пытаются "разводить антимонию" о какой-то дружбе Серафимовича с Крюковым, хотят убедить читателей, что именно Серафимович помог Крюкову выпустить в Москве в 1914 первый том своих рассказов. Но эти конъюнктурные фантасты никогда не ответят на вопрос, почему Крюкова не издавали в течение 70-ти лет и почему "влиятельный" Серафимович не позаботился о том, чтобы Крюкова упоминали в литературных энциклопедиях? И, наконец, почему Серафимович так тщательно скрывал "свою дружбу" с Крюковым?! Скрывал он и настоящую дружбу Крюкова с Короленко. Чтобы затушевать роль Серафимовича в становлении лжеписателя Шолохова на почве "сатанинской ненависти" к Федору Крюкову, преступно-шолоховедческие деятели пытаются "разводить антимонию" о какой-то дружбе Серафимовича с Крюковым, хотят убедить читателей, что именно Серафимович помог Крюкову выпустить в Москве в 1914 первый том своих рассказов. Но эти конъюнктурные фантасты никогда не ответят на вопрос, почему Крюкова не издавали в течение 70-ти лет и почему "влиятельный" Серафимович не позаботился о том, чтобы Крюкова упоминали в литературных энциклопедиях? И, наконец, почему Серафимович так тщательно скрывал "свою дружбу" с Крюковым?! Скрывал он и настоящую дружбу Крюкова с Короленко. Впервые ответы на все эти вопросы даны мной - до меня их даже никто и не ставил: Серафимович - предатель Донского казачества, сделал все от него зависящее, чтобы наш народ забыл патриота казачества и России, великого создателя "Тихого Дона" и врага большевизма Крюкова. Другими словами, Серафимович активно содействовал продолжению геноцида против казачества и в духовно-литературной сфере, сделал все возможное, чтобы плагиат-кража лучшего романа о казачестве Советской властью успешно завершилась. Это воровское безобразие мог в 1928 остановить Сталин, но он поступил, как преступный пахан преступной соцзоны: захотел войти в долю... *** "Как это много - сказать перед всем миром, что ты думаешь..." Светлана Иосифовна Аллилуева К дочери Сталина следует относиться с уважением: она сама стала жертвой тирании своего отца. Я же хочу отнестись к ней не только уважительно, но и лирически, используя слова из песни, правда, посвященные другой Светлане: "Я на свободу возвратился, Света, Считайте, прямо, что с того света, В тюрьме по 70-той томился, Света, И ничего не позабыл... Ах, Светочка, к Сталину любовь сломалась, словно веточка, И значит, жизнь свою я, Светочка, на хлеб казенный променял... Вы в Англии теперь, Света, Мне так обидно понимать это, И все сжимается внутри где-то: Уж лучше б жили Вы в Москве! И в литературе Сталин преступник, Света, Но Вам, конечно, ни к чему это. На что я Вам такой, Света, Уже не смоешь, не сотрешь... Ах, Светочка, Шолоха сломал я, будто веточку, Жизнь оправдал свою я, Светочка - Святое дело совершил..." Как-то Светлана спросила своего папу: "За что ты всех родственников поубивал?!" - "Они слишком много болтали", - то есть за то, что они были просто нормальными людьми, которые, как известно, отличаются от животных мышлением и речью. Другими словами, 30 лет во главе нашей страны стояло - в Кремле торчало! - "криминал-чудовище". Это чудовище царь обязан был повесить еще в 1907 за убийство простых людей: казаков, инкассаторов и других банковских служащих. В 1922 Ленин искал подобного себе террориста на должность Генерального секретаря ЦК ВКП(б) - и нашел такового в лице товарища Сталина, который не только помог Ленину управлять партией, но в 30-е годы уничтожил эту ленинскую партию, создав взамен ее - свою сталинскую партию. Светлана могла задать отцу и такой вопрос: "А зачем ты убиваешь людей, которые знают, что роман "Тихий Дон" создал Федор Крюков? Зачем тебе нужен этот ничтожный кривоногий желтоглазик Шолох, ради которого ты сгубил столько людей?!" Богом и судьбой мне назначено давать ответы на подобные вопросы, потому что никто другой это сделать не может. Возможно, роман Крюкова в плагиаторском варианте никогда не был бы обнародован, если бы Сталину как-то доложили вовремя, что белоказачье произведение готовятся издать в советской Москве - в журнале "Октябрь". Но Сталина в это время в Москве не было. Рой Медведев, полвека изучающий людоедство Сталина без понимания людоедства Ленина (Сталин убил его отца-комбрига), пишет в книге "Неизвестный Сталин", с. 14: "Сталин прошел полный курс мацестинских теплых сероводородных ванн. Это ему помогло. Однако в 1927 Сталин снова приехал в Мацесту, уже в конце ноября и с теми же жалобами. Он провел на курорте почти весь декабрь". Именно в конце ноября Шолохов привез в Москву сразу три тома "Тихого Дона". Напомню вкратце о его судьбе. Возвратившись из Москвы в Букановскую станицу в конце 1923 года, Шолохов ошарашил Громославского просьбой выдать за него замуж не Марию-перстарку, а 20-летнюю Лидию. Но П. Я. решительно настоял на том, что отдаст за него только старушую дочь, иначе он никогда не станет "знаменитым писателем". Шолохов покорно женился на Марии, взял ее потихонечку, "без шума и пыли" - никакой свадьбы не устраивали. Торжество женитьбы совместили со встречей Нового года, а в первых числах января молодые поехали через станцию Грязи в Москву, чтобы в столице "из грязи попасть в князи". Пока молодые хоронили Ленина, шатались по редакциям, принюхивались к литературной атмосфере и обдумывали, как им лучше обдурить литературную Москву, в это время в Букановской неустанно скрипели перьями все дети Громославского от двух браков: варганили зятьку своему "Донские рассказы". Когда плагиат-дело пошло на лад, в 1926 Мария родила дочь Светлану. В семье Шолоховых четверо детей: Александр (1928-1990), Михаил 1935, Мария 1938. Трое здравствующих детей во спасение родителей-плагиаторов болтают всяческую чепуху, организовывают всякие дикие мероприятия и даже идут на преступления: в Ростове говорят упорно об участии Михаила в убийствах Василия Шукшина - 1 октября 1974 и разоблачителя плагиата доцента Ростовского университета Марата Тимофеевича Мезенцева в 1994. Как только началась публикация "Тихого Дона" во всех областных центрах Юга России люди заговорили о плагиате произведения Крюкова, они знали его как писателя № 1 Донского казачества. В таких городах, как Воронеж, Ростов, Тамбов стали организовываться "Общества в защиту Крюкова от плагиата Шолохова". Никто не обращал внимания на статейку большевика Серафимовича в "Правде" за 19 апреля 1928 - пошлую апологетику окололитературного проходимца Шолохова. Статейка была лишена всякой конкретики относительно жизненного и творческого пути лже-автора "Тихого Дона". Слухи о чудовищном плагиате продолжали "шириться, не ведая преград". Тогда в дело вмешался Сталин - политический прагматик, он сразу оценил ситуацию с "феноменом Шолохова", понял, как этот прохиндей сможет быть ему полезен в деле литературной реабилитации, кровавой коллективизации. Сталин очень любил использовать тех, которые помогали его вину за преступления против народа перекладывать на плечи других людей, которых потом можно будет и расстрелять... как раз за то, что они рьяно выполняли указания вождя. Для него главным было - оставаться любой ценой популярным в народе, чтобы всякие дураки потом говорили: так ведь Сталин не знал, его обманывали всякие злодеи-перегибщики, Сталин выступил в "Правде" за 29 марта 1929 со статейкой, подписанной пятью холуями, что будут уничтожены как "враги диктатуры пролетариата" все те, кто будет распространять слухи, что Шолохов - не автор "Тихого Дона". Одновременно он остановил публикацию третьей книги романа: ему надо было заставить банду Громославских и примкнувшего к ним Шолохова поработать над созданием произведения, которое реабилитировало уничтожение наших крестьян-кормильцев. Кремлевский Генсек-пахан хотел быть в доле... 3 октября 1929 Громославские пишут для Шолохова сразу два письма: А. Бусыгину "Хочу поставить тебя в известность, что в этом году печатать в "Октябре" "Тихий Дон" я не буду. Причина проста: я не смогу дать продолжение, так как 7-я часть у меня не закончена и частично перерабатывается 6-я". На самом деле вся третья книга уже в январе 1929 находилась в редакции "Октября", успели до апреля опубликовать в трех первых номерах 12 глав, но последовал звонок из секретариата ЦК партии - "Тихий Дон" остановили. Второе письмо А. Фадееву еще более интересное: "У меня этот год весьма урожайный: не успел весной избавиться от обвинений в плагиате, еще не отгремели рулады той сплетни (от которой меня спас тов. Сталин - АС), а на носу уже другая: статья Н. Прокофьева в Ростовской "Большой смене", по поводу этой статьи я и нахожусь сейчас в Ростове. Со всей решительностью заявляю: обвинения Прокофьева - ложь, заведомая ложь. Я убежден: расследование переломает Прокофьеву ноги. Это дело еще более возмутительное: Прокофьев, будучи в Вешенской, наслушался сплетен, исказил их и спаровап меня с Пильняком... После окончания этой муры я подаю в Вешенскую ячейку заявление о вступлении в партию... Вам придется написать на сей счет окружкому..." И Прокофьев, и Пильняк погибли от репрессий. Шолохов после поддержки Сталина обнаглел и всегда активно добивался смерти своих разоблачителей, а Борис Пильняк тоже был одним из них. И в 1980 и в 1986 составлением Собрания 8-томных сочинений Шолохова руководила его дочка М. Манохина-Шолохова (окончила биофак МГУ, была одно время замужем за болгарским послом), она избегает конкретики, напр., не указывает номер журнала с обвинениями Прокофьева, который в Вешенской от жителей получил сведения, что Шолохов не писатель вовсе. Но даже в таком фрагментарном виде оба письма показывают; Шолохов, как всегда, бессовестно врет, а не врать он и не может! - обвинения в плагиате надо снимать только одним способом: не возмущаться, а проводить пресс-конференции, где подробнейше рассказывать, как ты, будучи безграмотным, написал чудесный историко-бытописательский роман, который на Дону мог создать только один писатель: Федор Крюков! Шолохов рассказывать про это не может. Поэтому - поддержанный Сталиным! - он стремится всем своим разоблачителям "переломать ноги", а им не ноги ломают, а делают контрольные выстрелы в затылок! И еще: Шолох не мчится устраивать вечера вопросов и ответов по тихДонразбору - он мчится, как угорелый, быстренько стать членом партии, стать крутейшим сталинцем, плагиат-террористом-головорезом и отправлять в мир иной всех своих недоброжелателей. А тем временем лохотронщики Громославские усиленно работают над "Поднятой целиной" по заказу Сталина, который руководит перешибом хребта советского крестьянства. Громославские изготовляют в 1931 для зятя очерк "По правобережью Дона", в котором исключительно агрономическая ерунда, с помощью которой творцы хотят внушить лохам: Шолохов спец тиходонских полей, настоящий знаток и крестьянин-трудяга. Бросается в глаза знакомое уже по "Тихому Дону" стремление Громославских не давать никаких пояснений таким таинственным словам, как, например, "кейс", "катерпиллер", действуют они с той же "целеустремленностью, запрограммированностью" - им надо, чтобы жертвы их лохотрона думали: ах-вах! какой же гениальный писатель Шолохов, но еще, однако, молодой и неопытный в издательском деле чудак, не знает элементарных правил передачи бумаге всего того, что вырабатывает голова. Бросается в глаза и другое: этот очерк и всякая подобная чепуха - это дедощукарский юмор: пишут все это исключительно не для чтения, а для "писательской статистики" несуществующего писателя - мол, вот он какой плодовитый! Настоящие писатели не станут заниматься "статистической ерундой"! И хотя за Шолохова работают другие, он треплется на литературном вечере в Ростове: "В третьей книге я даю показ вешенского восстания, еще не освещенного нигде (кроме как в архиве Крюкова! - А.С.). В этом большая трудность. Промахи здесь вполне возможны.... Я своеобразно покаюсь и скажу, что сам не доволен последними частями романа и хочу основательно обработать их". Спрашивается, если тебе так трудно, бедняге, так зачем ты себя еще переутомляешь очерком и всякой ерундой?! А еще ж на тебе "завис" заказ Сталина! Вот ты, Шолох, фактически и признался, что ради статистики за тебя работают какие-то другие люди. За большой срок шолоховской "нетворческо-жульнической жизни" было написано множество всяческой статистической ерунды, всяких эссе-поденков, статей, которые никому не нужны и тут же забываются после прочтения. Много спекуляций на "трупоедстве", когда пишут за Шолоха всякие "скорби по знаковому покойнику", много всяких пустых поздравлений, которые просто неприлично включать в "собрание сочинений"... Вот эта жадность к "пухлости" томов еще одно важное доказательство, как холуи плагиата готовы из штанов повыпрыгивать - лишь бы обмануть Москву, Россию и все остальное человечество насчет "феномена Шолохова". Но благодаря мне и моим предшественникам этот обман не удался: они не прошли! Они и не могли пройти, потому что Шолох как писатель недоказуем. Для пытающихся доказывать недоказуемое "будет вечно работа, будут вечно проблемы и дежурные фразы и пустые слова". Потому что если бы не было сталинского террора, то и писателя Шолоха не было бы. Сталин стал основным "крестным отцом" всего "творчества Шолохова". И совершенно искренне Шолохов выступил 8 марта 1953 со своей скорбью по поводу кончины Сталина - властителя-отца "своего творчества". - "Правда, 8 марта, 1953, № 67/12635/ "Прощай, Отец!" Стр. 4. - Как внезапно и страшно мы осиротели! Осиротели партия, советский народ, трудящиеся всего мира... Со дня смерти Ленина еще не постигала человечество столь тяжкая, безмерно тяжкая утрата. Мы потеряли Отца всех трудящихся, и вместе с чувством навеки незабываемой утраты великая скорбь неслышными шагами прошла по стране и властно вторглась в каждый дом, в каждую семью. В эти дни люди плачут и в одиночестве и не стыдятся плакать при народе. В эти дни светлые слезы детей и женщин льются вместе со скупыми мужскими слезами, кто за четыре года войны, не уронив слезы на поле боя, только скрипел зубами, так и не научившись плакать... Боль и горе жгут наши сердца! Пусть в них навсегда останется святая скорбь об ушедшем от нас Отце, учителе, вожде и друге, но непреходящая любовь к нему высушит на глазах слезы! Человечнейший из людей, он любил только мужественных, а не слабых духом. Еще звучат в эфире слова обращения к народу ближайших соратников и друзей великого Сталина: "Дорогие товарищи и друзья!", а уже отовсюду могучими волнами любви и бесконечной преданности идет ответ многомиллионного советского народа: "Мы всегда и везде с вами, наш родной Центральный Комитет Коммунистической партии, наше родное Советское правительство!". Падает на поле брани сраженный смертью вождь, в панике бегут или топчутся на месте трусы и маловеры, а настоящие воины дерутся еще ожесточеннее, еще яростнее, врагу и как бы самой смерти мстя за смерть вождя! Но когда же наш героический народ не был и героическим воином? Так и в эти скорбные дни: еще яростнее вскипает работа на новостройках, в цехах заводов, в шахтах и на южных полях Родины; еще ожесточеннее трудятся люди всюду, где, думая о Сталине, они работают, создают, творят, преобразуют, движимые одной величественной идеей, идеей коммунизма. И, находясь вдали от Москвы, где бы ни были, все мы видим сейчас Москву, Колонный зал Дома союзов, приспущенные траурные знамена, гроб в обрамлении зелени, и такое, до каждой черточки, до мельчайшей морщинки знакомое, милое и родное, но вместе с тем уже отдаленное от нас смертью лицо... Отец, прощай! Прощай, родной и до последнего нашего вздоха любимый Отец! Как многим мы тебе обязаны... Нас миллионы и все мы мысленно прощаемся с тобой, медленно проходим мимо твоего гроба, стремясь запечатлеть в памяти твои черты, низко кланяемся и по-сыновьи целуем Тебя, провожая в последний путь... Ты всегда будешь с нами и с теми, кто придет в жизнь после нас. Мы слышим твой голос и в ритмическом гуле турбин величайших гидроэлектростанций, и в шуме волн вновь созданных твоей волей морей, и в мерном шаге непобедимой советской пехоты, и в мягком шелесте листвы необъятно раскинувшихся лесных полос... Ты навсегда и всюду с нами, родной Отец. Прощай! - Мих. Шолохов. Станица Вешенская. Если учесть, что "синдром родного Отца Сталина" всю жизнь сопровождал Шолохова: в честь 70-летия вождя его выступление называлось "Отец народов", он никогда ничего не сказал против Сталина даже в эпоху Хрущева, навсегда сохранил к Сталину "сыновью верность", то все это вместе взятое говорит о том, что Шолохов всю жизнь оставался верным сталинцем, благодарным ему за успешное плагиат-мародерство. Именно Сталин вместе с Горьким стал главным "столбом шолохо-плагиаторского забора". Как учил кровавый Жданов, нужно рубить прежде всего столбы - и тогда вражеский забор сам повалится. В этом смысле оба столба тиходонского плагиат-забора - Сталин и Горький! - срублены. Что касается Сталина, то шолохобрехи так увлеклись этой опорой плагиата, что сами же его и завалили, или помогли завалить. "Обвал Сталина" идет прежде всего через чрезмерное вранье в отношении вождя как Шолохова, так и его приверженцев. Они тут так переборщили, что из опоры плагиата Сталин превратился в явное прямое доказательство преступления. Шолохохрюны прохрюкали нам, будто Шолохов не явился на встречу со Сталиным, а поехал в ресторан пьянствовать: мол, Еська, я долго хотел с тобой встретиться, ты мне отказывал, а теперь и ты подожди. Если бы это было действительно так, то Сталину на другой бы день Абакумов или Берия доложили бы - Шолохова пьяного вчера переехал трамвай: голова налево, яйца направо. И Сталин сказал бы: зазнался тов. Шолохов, мы ему оказали большое доверие, сделали писателем, назначили автором "Тихого Дона" и "Поднятой целины", а он поступил как двурушник: не оправдал высокого доверия партии; но похороним мы его с почестями, нельзя, чтобы народ узнал о тиходонском преступлении и о том, что писателя Шолохова никогда "на самделе" не было. - "Ресторанного эпизода" против Сталина никогда не было. Последняя встреча Сталина с Шолоховым была 31 октября 1938. Больше Сталин никогда с ним не встречался, после его выступления на XVIII съезде наш герой Сталину так опротивел, что он больше с ним не встречался. Но не только поэтому Сталин у меня есть "вырубленный столб из забора", который преграждал так долго путь к разгадке тайн тиходонского преступления. Сталин сам, хотя и не для широкой публики и не для печати, но добровольно отказался от миссии опоры-столпа "писательского имиджа" Шолохова. Академик-сталинист Федор Васильевич Константинов, у которого я работал помощником в 1971-1972 после защиты диссертации на философском факультете МГУ, рассказывал мне, что Сталин сказал своему главному секретарю Поскребышеву: "Этого бездарного деревенского мудака Шолохова больше никогда ко мне не записывайте на прием, о чем бы этот счастливый плагиатор меня ни просил!" Поскребышев не опубликовал это знаменитое "признание вождя", а вот посланник Тито Милован Джилас такое признание в вежливой форме опубликовал. Джилас в Коммунистической партии Югославии заведовал идеологией, хорошо знал литературу. В первую встречу 1945 он понравился Сталину, и когда у того начались трения с Тито, он пригласил в январе 1948 в Москву Джиласа. О встречах со Сталиным Джилас издал книгу "Беседы со Сталиным", М., 2002. Про тиходонское преступление Джилас, естественно, ничего не знал, считал нашего оболтуса-плагиатора крупным литератором, способным в чем-то быть полезным при разборе литературных вопросов. На литературные темы на этот раз беседовали на даче Сталина. Замечу сразу: в тиходонском вопросе иностранцы - большие невежды. Это и оттенил Джилас на с. 180: "Говоря о современной советской литературе, я, как в большей или меньшей степени и все иностранцы, отметил силу Шолохова. Сталин заметил: сейчас есть лучше! - и назвал два имени, одно из которых принадлежало женщине. Оба они были мне неизвестны". Как говорится, стоп-кадр! Информация к размышлению: в 1929, как мною впервые установлено, Сталин с большой иронией назвал Шолохова "знаменитым писателем нашего времени", назвав роман "Тихий Дон" "не совсем негодной вещью" и сравнив его с брошюрой некой Микулиной "Соцсоревнование", а теперь, когда литературоведы в штатском трубят о "выдающемся писателе Шолохове" (Альтшулер-Лежнев начал трубить об этом в 1941 книгой "Михаил Шолохов"), Сталин вдруг поправил иностранца, важного посланца пока еще дружественной комстраны решительной репликой, что в СССР "есть два писателя лучше Шолохова".
|
|
«Луганск – это город хороших людей» - первая строчка нашей с Родионом песни о Луганске, которая традиционно звучит в День города |
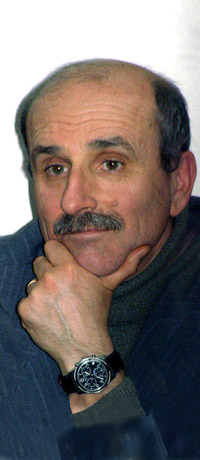
Владимир Спектор родился 19 июня 1951 года в Луганске. Окончил машиностроительный институт и Общественный университет (факультет журналистики). После службы в армии 22 года проработал инженером - конструктором, ведущим конструктором на тепловозостроительном заводе. Автор 25 изобретений, член-корреспондент Транспортной академии Украины. Работал главным редактором теле- и радиокомпании в Луганске.
Поэт, публицист. Член Национального Союза журналистов Украины, главный редактор литературного альманаха и сайта "Свой вариант", научно-популярного журнала «Трансмаш». Автор 20 книг стихотворений и очерковой прозы. Заслуженный работник культуры Украины. Лауреат международных литературных премий имени Юрия Долгорукого, «Облака» имени Сергея Михалкова, имени Арсения Тарковского, «Круг родства» имени Риталия Заславского…
Руководитель Межрегионального Союза писателей, сопредседатель Конгресса литераторов Украины, член исполкома Международного сообщества писательских союзов (МСПС) и Президиума Международного Литературного фонда.
"ПОЗНАНЬЕ ЛЮБВИ И ДОБРА"
Юбилейное интервью с поэтом Владимиром Спектором
Татьяна Янковская: Владимир, поскольку мы с вами беседуем в преддверии вашего 60-летия, не избежать разговора об итогах этих лет. Размышления об этом выражены в вашем стихотворении.
Какою мерою измерить
Всё, что сбылось и не сбылось,
Приобретенья и потери,
Судьбу, пронзённую насквозь
Желаньем счастья и свободы,
Любви познаньем и добра?..
О Боже, за спиною – годы,
И от «сегодня» до «вчера»,
Как от зарплаты до расплаты –
Мгновений честные гроши.
Мгновений, трепетом объятых,
Впитавших ткань моей души.
А в ней – доставшийся в наследство
Набросок моего пути…
Цель не оправдывает средства,
Но помогает их найти.
Когда оно было написано? Удалось ли найти средства для достижения целей?
Владимир Спектор: Написано несколько лет назад. В нём – грусть разочарований и надежда на удачу. Хотя, с годами понимаешь, что надеяться нужно только на себя. И на настоящих друзей, которых всегда немного. «Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк» - хорошо сказал Высоцкий. Навсегда. А средства для достижения цели – их каждый находит и выбирает сам. Главное при этом, не забывать о последствиях. Согласен, что всё это – общие слова, но в каждом конкретном случае именно они определяют результат. «Стараюсь не делать зла и не обижаться на зло». Это хорошая формула, хотя жить по ней нелегко. И, как продолжение её, такие строки: «И не верится никому, и просить - просто силы нет. Я мечты положу в суму, что похожа на белый свет. Может, с кем поделюсь мечтой, может, встречу кого в пути... Он, ведь, только на вид простой. А с мечтой - хорошо идти». Вот, иду с мечтой. Стараюсь делать то, что дано от Бога, и радоваться этому.
ТЯ: Деятельность ваша на редкость разнообразна – поэт, литературный деятель, журналист, инженер-конструктор – вы много успели! Какое из ваших достижений вы считаете самым значительным?
ВС: По большому счёту, не стыдно за всё, что удалось сделать. Наверное, всё могло быть и более успешно, но, учитывая стартовые возможности, принадлежность к поколению, которое с трудом восприняло все перемены и мучительно приспосабливалось к новым реалиям жизни, грех жаловаться. Хотя, с восхищением слежу за успехами своего друга и одноклассника Сергея Мокроусова, который не только пишет интересные стихи, но и смог создать новый машиностроительный завод, максимально реализуя себя в этом. Что касается меня, то я мечтал стать писателем или журналистом с детства, но проработал 23 года в конструкторском бюро, о чём нисколько не жалею. Рядом трудились интеллигентные, образованные люди, знавшие не только термодинамику и гидравлику, но и литературу, кино, театр. А после работы я ещё успевал заниматься любимой поэзией. О достижениях – не мой жанр, но сам факт существования всеукраинского профессионального писательского союза с центром в провинциальном Луганске, издание альманаха и функционирование сайта «Свой вариант», вручение уже ставших престижными литературных премий, которые мы учредили – всё это приносит огромное удовлетворение. Ведь этого просто не существовало. Мы с коллегами это придумали и реализовали. Светлая память Олегу Бишареву, Александру Довбаню, Владимиру Гринчукову – они в Москве договаривались с Юрием Бондаревым, Тимуром Пулатовым, Расулом Гамзатовым о создании нашей организации. Думаю, им там, на небесах, не стыдно за нас. Мы стараемся, и наш союз, несмотря на то, что не даёт никаких привилегий, востребован. Ведь он дарит ощущение причастности к писательскому братству. А это для пишущего человека очень важно.
ТЯ: Как вы начинали? Какое событие или события считаете определяющими в своей жизни?
ВС: Стихи пробовал писать ещё в школе, но без успеха – не хватало элементарной поэтической начитанности. Она появилась, как ни странно, после службы в армии, когда всё свободное время я проводил в чудесной полковой библиотеке (это, кстати, поощрялось), где прочитал, наверное, всю русскую поэтическую классику 19 века и ещё много чего. После армии стал писать чуть более профессионально, но определяющими для меня событиями, наверное, стали встречи и дружба с литературоведом и журналистом Виктором Филимоновым и поэтом Николаем Малахутой. Они были для меня профессорами домашнего литературного института, очень многое подсказали. Но, главное, поверили в меня. В отличие от абсолютного большинства тогдашних профессионалов.
ТЯ: В одном из интервью вы сказали: в детстве казалось, что плохих книг не бывает. Когда появились любимые книги, поэты, писатели, и кто оказал на вас наибольшее влияние? Я знаю, что со многими известными поэтами-современниками вы встречались или состояли в переписке. У кого учились «очно», у кого «заочно»?
ВС: Чтение и сегодня – самое любимое занятие. Благодарен своему дедушке, который читал мне детские книжки целыми днями. А потом я и сам рано научился читать, и уже со второго класса взялся за «толстые» книги. В школьном возрасте, наверное, как многие ровесники, знал почти на память «12 стульев» и «Золотой теленок».
Перечитал всю домашнюю библиотеку, которую собирали родители, был завсегдатаем всех библиотек в округе. Можно сказать, что воспитан на русской и советской классике, потому понятия «совесть», «порядочность», «справедливость» для меня основополагающие. Но и собрания сочинений Дюма, Скотта, Лондона, Цвейга, Мериме, Фейхтвангера, Ремарка были прочитаны с восторгом. К сожалению, чтение поэзии ограничивалось школьной программой. В моём окружении её любителей и знатоков не было. Увлечение стихами началось с Пушкина, и сегодня согласен с утверждением, что именно он «живее всех живых». Потом полюбил всем сердцем творчество поэтов-фронтовиков – Твардовского, Межирова, Тарковского, Самойлова, Левитанского, Слуцкого, Ваншенкина, Липкина, Шефнера, Друнину. Из более молодых – Кострова, Евтушенко, Вознесенского, Соколова, Мориц, Миллер, Кузнецова, Чухонцева, Кушнера… Перечислять можно долго. Чуть позже началось увлечение поэтами «серебряного века», и сегодня книги Цветаевой, Ахматовой, Мандельштама, Пастернака всегда рядом со мной. И ещё позже – Бродский, Рейн, их круг. Первым, кому послал свои стихи, был Вадим Шефнер, который ответил очень доброжелательно, это было чудо! Мы с ним переписывались достаточно долго, его человечность, интеллигентность – образец и для меня, и, думаю, для всех. Писал ещё Михаилу Матусовскому, Давиду Самойлову, Арсению Тарковскому. Их ответы тоже добавили уверенности в собственных силах.
ТЯ: Вы автор 20 поэтических сборников, лауреат многих престижных литературных премий. Расскажите об этом, пожалуйста.
ВС: Первая книга «Старые долги» вышла у меня довольно поздно – в 1991 году, в издательстве «Донбасс». Мне уже было 39 лет. Трудно передать словами, что я почувствовал, увидев её. Это был, что называется, момент истины для меня. И счастья. А подготовил к печати её ещё в 1981 году. Должны были пройти 10 лет, перестройка, чтобы всё, в конце концов, реализовалось. Сегодня издать книгу – проще простого. Издательств только в Луганске около трёх десятков (а тогда на две области – одно), приноси рукопись, плати деньги, и через пару недель получай своё творение. Тиражи, правда, микроскопические, но это уже второй вопрос. Может быть, это другая крайность, издаются все, кому не лень, но всё равно это лучше, чем тогда, когда нужно было пройти сквозь сито не только творческого отбора, но и другого, к творчеству не имеющего никакого отношения. Первую премию – имени Николая Тихонова получил за книгу «Всё будет хорошо». Название себя оправдало. Благодарен московским коллегам, которые представили её на соискание премии. Для меня это была неожиданность. И, конечно, счастлив тем, что стал лауреатом международных премий имени Юрия Долгорукого и «Облака» имени Сергея Михалкова. Для меня, как для всякого провинциала, такая высокая оценка очень важна.
ТЯ: Андрей Вознесенский учился в Архитектурном институте, Игорь Губерман был инженером-железнодорожником, ваш коллега по жюри фестиваля «Славянские традиции» Владимир Костров – химиком... Таких примеров много. Помешало ли вам осуществиться как поэту то, что вы стали инженером-локомотивостроителем? Ведь это большая часть жизни: вы автор 25 изобретений, работали ведущим конструктором, член-корреспондент Транспортной академии Украины. А может, наоборот – помогло? Вот что писала о вас Мирослава Радецкая: «Гражданственность и философичность – две несущие конструкции лирики Владимира Спектора, и он как поэт и инженер удивительно точно рассчитывает курс стихотворного маршрута».
ВС: Случилось, как случилось. Работалось мне интересно, люди были замечательные, да и учился я в институте старательно, даже думал о научной карьере. Всё-таки, главное, наверное, - целеустремлённость, настойчивость в реализации того, что дано от Бога, позитивный, не завистливый настрой. Всё остальное – вторично.
ТЯ: На юбилее принято произносить тосты за родителей, за детей юбиляра. Какова роль вашей семьи в том, кем вы стали?
ВС: Благодарен родителям за понимание и поддержку, за книги, которые покупали, за чудную атмосферу детства. Очень помогала мне покойная жена. Ведь поначалу ничего не получалось. Но она никогда не говорила: «Прекрати, занимайся чем-то другим…» Это было для меня так ценно и важно. Ну, а дети – это награда за всё. Дочь стала отличной теле- и радиожурналисткой, переводчицей. Мы вместе с ней работали на радио, вели передачи. Вместе сделали на телевидении целый сериал развлекательно-познавательных передач под названием «Высший класс». Был такой счастливый момент. А сын стал очень хорошим офтальмологом. Но главное – он добрый и отзывчивый человек. И ещё важно – о своих профессиях они мечтали с детства, и всё удалось. Наверное, если бы не было сочувствия, понимания, любви в семье, всё было бы по-другому.
ТЯ: В беседе с вами Владимир Костров сказал: «Слово – великая сила, иногда с неосторожной фразы начинались войны. К сожалению, подчас об этом забывают, ссылаясь на свободу слова. Но она не означает свободу от заповедей Божьих и человеческих. Подлинная литература всегда на стороне добра». Судя по вашему творчеству, его позиция вам близка. Вам удалось очень емко выразить, в чем сила и источник добра: «Добро, проигрывая, шепчет: «Я люблю», и, побеждая, шепчет то же слово». Многие ради выигрыша готовы перейти на сторону зла, а победитель Дракона часто сам становится Драконом. Мне посчастливилось познакомиться с Владимиром Андреевичем Костровым на фестивале в Крыму в прошлом году, и одно его присутствие, разговоры с ним, чтение им стихов создавали ауру нравственности и доброты. Наверно, именно потребность создания такой атмосферы для творческих людей и заставляет вас поддерживать творческие объединения литераторов, участвовать в создании новых, возглавлять некоторые из них?
ВС: «Стараюсь не делать зла. И не обижаться на зло. А спросят: «Ну, как дела?» Жизнь моё ремесло – отвечу, и буду впредь жить, избегая обид. Хотя нелегко терпеть. Хотя и сердце болит». Конечно, пройдя через все мытарства приёмных комиссий, непонимание, невозможность напечататься в молодости, острее сочувствуешь начинающим авторам. Хочется помочь, поддержать. У нас хорошая атмосфера в союзе, и вступить в него намного проще, чем в другие подобные организации. Отсутствие унижения, пренебрежения – гарантировано. То же самое можно сказать и о Конгрессе литераторов Украины – новом творческом писательском союзе. Кто хороший поэт, кто плохой – определит время и читатели. Под произведениями каждого автора – стоит его фамилия, и потому все лавры (и весь стыд) – лягут на его плечи. В общем, «не судите, и не судимы будете» - сказано навеки. И мы это помним постоянно.
ТЯ: Я нахожу оправдание необходимости такой деятельностии в ваших строчках: «Бессмертие – у каждого своё. Зато безжизненность – одна на всех». Рядом с имитацией жизни нужно неустанно создавать Жизнь, а для этого нужны единомышленники. Меня поразил когда-то т.н. закон Грешэма, о котором я прочитала в книге американского экономиста Кевина Филлипса: «дурные» деньги вытесняют «хорошие», но хорошие деньги не могут вытеснять плохие. Филлипс расширил сферу приложения закона: на глобальном свободном рынке «плохой» капитализм имеет тенденцию вытеснять «хороший». Я считаю, что поскольку искусство все больше становится частью глобального рынка, закон Грешэма может быть распространен и на него: плохое искусство вытесняет хорошее, но обратной силы этот закон, увы, не имеет. (При этом «плохие» деньги оплачивают плохое искусство, в том числе литературу). Именно поэтому нужно сознательно развивать искусство, несущее людям добро.
«Неделовым» прописаны дела
А «деловым» - как водится, успех.
«Неделовые» пишут: «Даль светла»,
А «деловые» знают: «Не для всех».
Но где-то там, за финишной прямой,
Где нет уже ни зависти, ни зла, -
Там только мгла и память за спиной,
Но память – лишь о том, что «даль светла».
Получают ли организации, в которых вы работаете, финансовую и другую поддержку?
ВС: Скорее, нет, чем да. Тем не менее, уже несколько лет выходит весьма объёмный альманах «Свой вариант», который издаётся не в складчину, и, к сожалению, не по подписке. Работает одноименный сайт, проводятся встречи, презентации… Каждый номер альманаха выходит при чьей-либо финансовой поддержке, и я искренне благодарен всем, кто её оказывает. Это доброе дело. Ведь речь идёт о культуре, развитии литературы. Но, когда в ответ о помощи слышишь: «Лучше я на эти деньги поужинаю в дорогом ресторане» - становится грустно.
ТЯ: Большинство ваших стихов, прежде всего ваши «фирменные» восьмистишия, – это философская лирика. Они афористичны, проникнуты мудростью и грустью, их отличают наблюдательность, метафоричность языка и глубина обобщений.
Не слова, не отсутствие слов…
Может быть, ощущенье полёта.
Может быть. Но ещё любовь –
Это будни, болезни, заботы.
И готовность помочь, спасти,
Улыбнуться в момент, когда худо.
Так бывает не часто, учти.
Но не реже, чем всякое чудо.
Но встречаются стихи, где другой формат, иное настроение, необычный стихотворный размер. Например, легкое, упругое «Ничего не изменилось, только время растворилось, и теперь течёт во мне...» Есть и пронзительная любовная лирика, например, «Пока еще в Луганске снегопад»: «Не отставай – беги за нею следом, пока её скользящий силуэт не станет мраком, холодом и снегом». В стихотворении «Акация – акция света» прячется вальс. Есть ли песни на ваши стихи?
ВС: Да, более двух десятков песен есть точно. Большинство из них написаны моим близким другом, композитором и аранжировщиком Родионом Дерием. Хитами они, увы, не стали, но творческое удовлетворение принесли. Предмет особой гордости – гимн футбольной команды «Заря», который исполняется перед каждым матчем. И для нас, преданных болельщиков, это огромная радость.
ТЯ: В одном из стихотворений о Луганске вы в «очаровании пейзажа городского» почувствовали музыку, которая «дороже слов». Из вашей статьи о поэте-песеннике Михаиле Матусовском я узнала, что знакомая с детства песня «Вернулся я на родину» написана о Луганске, и популярнейший романс из фильма «Дни Турбиных» тоже посвящён Луганску: «Целую ночь соловей нам насвистывал, город молчал, и молчали дома, белой акации гроздья душистые ночь напролёт нас сводили с ума...». Ваши стихи о родном городе адресные, Луганск появляется во многих из них отнюдь не инкогнито. Вам принадлежит известная фраза «Луганск - это город хороших людей». Когда-то в молодости вам сказали: «Искра Божья в Вас есть. Но прежде, чем завоёвывать столицу, нужно завоевать Луганск, где очень хорошие литературные традиции». Удалось это вам? А литературные традиции, судя по всему, продолжают крепнуть – ведь в Луганске теперь расположен центр писательского союза?
ВС: «Луганск – это город хороших людей» - первая строчка нашей с Родионом песни о Луганске, которая традиционно звучит в День города. Я люблю его, и это естественно. Хотя вижу много недостатков, несправедливости. И это тоже естественно. В Луганске много хороших поэтов. К тому же, это родина Михаила Матусовского (это он мне в письме писал о литературных традициях), казака Луганского Владимира Даля… И сегодня здесь живут и пишут стихи Ирина Гирлянова, Николай Малахута, Василий Дунин, Елена Руни, Андрей Медведенко, Наталья Мавроди, Геннадий Сусуев… То, что они и многие их коллеги не знамениты, это укор не им, а времени, ситуации, в которой живёт вся страна. Не до стихов, не до поэтов. Ну, а удалось ли мне выполнить совет Матусовского, покажет то же время. По крайней мере, в недавнем интернет- опросе «Кто является культурным героем Луганска?» земляки достаточно часто называли и моё имя.
ТЯ: В преддверии юбилея хочется вспоминать о хорошем. Но ведь жизнь – это и преодоление. Вы писали: «В этой жизни, подобной борьбе, знаю точно, чего я стою». Не бывает моментов, когда опускаются руки, наступает разочарование? Что тогда помогает?
ВС: «У зависти и корень, и язык длинней, чем у степного сорняка. Привык к успеху ты, иль не привык – но с завистью знаком наверняка. Она тебя уколет побольней. Ведь ей известно всё, всегда, про всех… И, всё же, если нравишься ты ей, то это значит, ты обрёл успех!» Это, кстати, и в продолжение предыдущего ответа. Конечно, бывает и тяжко, и больно. «Что делать, что делать, не знаю. Живу наугад и во сне. Ночами, как будто, летаю. И ночи летают во мне. А днем так легко и так странно упруго шагать по земле. И жизнь, словно рваная рана, пульсирует, бьется во мне». Помогает, как, впрочем, всем – работа, общение с близкими людьми, которые всегда поддержат, поймут, успокоят. И ещё - чтение, поэзия, любовь (в идеале).
ТЯ: Про «время предпоследних новостей» в одноименном сборнике у вас сказано: «От его просроченных страстей только сыпь, а не мороз по коже». Там же «от новостей спасенья нет», «каждая новость – удар», а о влюбленных – «им хорошо вдвоем с любовью, без новостей». Вы никогда не любили новостей?
ВС: Ну, что Вы! Я же был главным редактором телекомпании, а там новости – это и хлеб, и соль. Да и сейчас зачастую мои газетные материалы подпадают под новостную категорию. Но уж слишком много негатива в новостях (особенно телевизионных), ожесточенности, самодурства, чванства. Я думаю, не одного меня не радует большинство новостей. Хотя, наверное, так было всегда, во все времена. «Не хватает не злости, не нежности – не хватает в судьбе безмятежности. Не хватает улыбки крылатой, легкой детскости, не виноватой в том, что все получилось так странно, что в смятении люди и страны, что в конце благодатного лета все прозаики мы. Не поэты». Хочется, чтобы новости, какими бы они не были прозаическими, оставляли в душе место для поэзии.
ТЯ: Как идет ваше общение с читателями? Часто ли выступаете с чтением стихов?
ВС: Покривлю душой, если скажу: «Часто». Но, тем не менее, приглашают в школы, колледжи, библиотеки. Странно, но высшие учебные заведения (в том числе, два института культуры) обходятся без встреч с поэтами. Воспринимаю это вновь как примету времени. Не зря сказал классик: «Поэзия – нет дела бесполезней в житейской, деловитой круговерти. Но всё, что не отмечено поэзией, мгновенно исчезает после смерти». Осталось в памяти выступление в зале филармонии, когда возникло ощущение востребованности стихов. Это не забывается. Ну и естественно, регулярно встречаемся с коллегами, читаем друг другу, обсуждаем. Но это уже из серии «искусство для искусства».
ТЯ: И традиционный вопрос – о планах на будущее. Одно такое пожелание, общее, наверно, для всех поэтов, высказано у вас в стихах: «Чтоб не в конце строки рука была – в начале…» Есть, наверно, и более прозаические планы? А прозу, кстати, не собираетесь писать?
ВС: Говорят, что мечты – это планы в уме, а планы – мечты на бумаге. Планирую издать новую книгу стихов, в которой будут и новые, и те, что написаны ранее. Название уже есть – «Ожидание чуда». А под названием «В два голоса» издаём совместный сборник стихов вместе с моим другом Сергеем Мокроусовым. Может быть, выйдет подобная книга и вместе с поэтом, руководителем Конгресса литераторов Александром Коржом.
Книга документальной прозы «Мальчик с улицы Английской» появилась у меня пару лет назад. Это очерки о людях, в основном, луганчанах, чья биография, на мой взгляд, интересна не только мне. Открывает её очерк о великом Владимире Дале. В планах – продолжение всего хорошего. Это и издание альманаха, и развитие сайта, и проведение литературных фестивалей. И работа, от которой пока ещё не устал. В планах – жизнь со всеми прелестями и разочарованиями, без которых она невозможна. «Всё своё – лишь в себе, в себе, и хорошее, и плохое. В этой жизни, подобной борьбе, знаю точно, чего я стою. Знаю точно, что всё пройдёт. Всё пройдёт и начнётся снова. И в душе моей битый лёд – лишь живительной влаги основа». Надо надеяться на лучшее. Я стараюсь.
ТЯ: Говорят, поэт – это судьба. Это о настоящих поэтах, к которым можно отнести слова талантливого барда Кати Яровой «единство сердца и строки, поступка, жеста». В вашей жизни, как и в творчестве, – поиски своего пути, мудрость, стремление к познанью любви и добра, желание и умение разделить их с окружащими. Давайте завершим беседу вашей строчкой: «И всё это счастье, и всё это – жизнь!» Спасибо за беседу, Владимир!
Беседовала Татьяна Янковская
Луганск, Украина
“Наша улица” №143 (10) октябрь 2011
|
|
ЖИТЬ И ОБРЕСТИ БЕССМЕРТИЕ НА СЦЕНЕ |

Александр Васильевич Бурдонский родился 14 октября 1941 года в Москве. Окончил режиссерский факультет Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ГИТИС). Режиссер Театра Российской Армии. Народный артист России. Сын Василия Иосифовича Сталина.
АЛЕКСАНДР БУРДОНСКИЙ: “МЕНЯ МИНОВАЛА СУДЬБА ЦАРСКОГО РЕБЕНКА”
- Это не совсем интервью, Александр Васильевич, потому что интервью бытового плана для меня не представляет интереса. Меня интересует нечто другое. Все мы однажды появляемся на свет, но почему только единицы отрываются от предназначенной им социальной функции и становятся вольными художниками. Были ли какие-то мотивы, моменты в вашей жизни, подтолкнувшие вас на путь в искусство?
- Вы знаете, Юрий Александрович, вопрос, конечно, трудный, потому что он, может быть, влечет к неким сочиненным вещам. Чтобы не сочинять, лучше все-таки говорить так, как все обстояло на самом деле. Вы знаете, что я бы не решился отвечать на ваш вопрос в общих чертах, но сугубо то, что происходило в жизни со мной, пожалуй, я могу даже достаточно последовательно проследить. Я родился в Покров день, 14 октября 1941 года. В то время моему отцу, Василию Иосифовичу Сталину, было всего лишь 20 лет, то есть он был совсем еще зеленый, он 1921 года рождения, он еще не пил, не гулял. Но я ношу фамилию мамы, Бурдонской Галины Александровны. Отец и мама были ровесниками, с одного года рождения. Когда-то в армии Наполеона был такой Бурдоне, который пришел в Россию, был тяжело ранен, остался под Волоколамском, там женился, и пошла эта фамилия. По Аллилуевской линии, по прабабушке, то есть матери Надежды Сергеевны - это немецко-украинская линия, а по линии Сергея Яковлевича Аллилуева - это цыганская и грузинская кровь. Так что во мне кровей много, что, быть может, по-своему, тоже что-то дало, какую-нибудь извилину лишнюю. Вы знаете, может быть, то, что я почти не помню, а знаю только из рассказов, бабушка - мамина мама, - которая очень любила литературу, вообще, и запоем читала, и на французском языке читала, в частности, и прекрасно говорила по-французски, но потом подзабыла его, а читать могла. Одно время, если вспомнить, французский язык был государственным российским языком, правда, языком аристократии... Но бабушка не была аристократкой, хотя она воспитывалась своей крестной в семье нефтяного миллионера, который жил в Москве. Вот ее крестная была женщиной, которая интересовалась искусством, любила культуру. Бабушка моя рассказывала мне сказки Уайльда. Я единственно, что помню, “Звездного мальчика”. Это было до четырех с половиной лет. Читать я начал только где-то лет в семь, наверное. Бабушка, кстати говоря, водила меня гулять в парк ЦДСА. Брала меня, как поросеночка, под мышку, несла и рассказывала сказки... Потом долгое время, так сложилась жизнь, я не жил с мамой и бабушкой, а жил с отцом... Но, я думаю, что сказки бабушки, - это та капелька, которая куда-то попала, наверное. Потому что, говорят, что я в детстве был мальчик очень впечатлительный. А потом мама говорила, когда я подрос: “У тебя такие руки железные”. Вот такой был позже момент. Долгое время я жил на даче в Ильинском, это где Жуковка, чуть туда подальше, там и Архангельское недалеко. Там Москва-река, там поля. Очень хорошее место. О такой барской жизни у Толстого или у Бенуа можно прочитать. Там по-настоящему замечательные условия были, дача была очень приличная. Там был такой человек, который очень любил природу, он был то ли комендантом, то ли садовником, трудно определить его должность, но я помню раннюю весну, и о каждой травинке он мне рассказывал, о каждом деревце, о каждом листике, он все-все знал о растениях. И я с интересом слушал его рассказы, у меня до сих пор это осталось в памяти, мотался с ним по всей этой территории, ходил в лес, рассматривал огромные муравейники, видел первых насекомых, которые вылезали на свет, и мне все это было безумно интересно. И я думаю, что это была вторая капелька. Потом я, как на грех, научился читать. Почему-то Гаршина я начал читать. Из самых таких первых авторов. Видимо, под влиянием Гаршина я затаил обиду на близких, а поводов к этому было много, я просто не хочу драматизировать ничего, но однажды, представьте себе, я решил бежать из дому, и постольку, поскольку я читал книги, что бегут из дома, берут палку через плечо и на конец вешают узелок, то и я двинулся по направлению от дома куда-то в неопределенном направлении. Но меня там постовые быстро взяли и вернули обратно, за что я получил от отца хорошо по физиономии. Это все дошкольный период. Потом, когда я уже учился в школе, это мне было лет, наверное, восемь, я попал в театр, то есть нас с сестрой стали вывозить в театр. Я помню, что мы были на “Снегурочке” в Малом театре, и там мне очень не понравилось, как пахли декорации, мы сидели очень близко, и мне показалось, что это лес так нехорошо пахнет. Спустя какое-то время мы попали на “Учителя танцев” в театр Красной Армии. Это 50-51-й годы. Может быть, 52-й. Это было удивительно красиво. Примерно же в этот промежуток времени я попал в Большой театр. Шел балет, который назывался “Красный мак” Глиэра, и танцевала Уланова. Вот это было мое потрясение, видимо, потому что я страшно плакал в конце, вообще, был сражен, меня даже из зала вывести не могли. На Улановой так я и был помешан всю свою жизнь. Потом, когда я уже чуть-чуть стал постарше, я видел ее и на сцене, и все о ней читал, и следил за всеми ее высказываниями, я считаю, что это величайшая фигура вообще двадцатого века, как личность, даже не говоря о том, какая она неземная балерина, хотя и сейчас посмотрите старые довольно записи, уже она не танцевала сорок лет, но все равно какой-то свет остается на экране, все равно магию ее ощущаешь. И я думаю, что это сыграло очень большую роль в выборе моего пути. Надо еще сказать о том, может быть, я вообще в генной науке понимаю довольно мало, но мама писала. Она писала и стихи, и небольшие рассказы, девчонкой совсем еще. Бог знает, быть может, это тоже каким-то образом повлияло...
- Я в этом отношении стал категоричным человеком, я считаю, что генетически никак не передается. Слово не передается. Вообще, в последнее время, я стал довольно-таки узколобым человеком, поскольку считаю, что рождаются, в принципе, все люди, готовыми к развитию, как компьютеры. Все новые, все хорошие, только что с завода (из роддома), все готовы к загрузке программами.
- Правильно. Как правило, нет. Я тоже так считаю. Я вообще считаю, что в человеке от природы заложены какие-то икринки или росточки маленькие, или зернышки... Или ты их поливаешь, до чего-то дотрагиваешься, они начинают звучать, эта нота начинает звучать, или они засыхают, глохнут. Я не могу сказать, что от отца там что-то такое шло ко мне, какая-то наука передавалась. Напротив, с ним у меня было почти что открытое, но все же тайное, противостояние. Что нравилось отцу, то не нравилось мне. Не знаю, почему. То ли в знак протеста, то ли еще по какому-то внутреннему чувству. Хотя можно вспомнить и сближающие моменты. Например, такой. У отца было три лошади. И у него был конюх, которого привезли из Кисловодска, я его помню, Петя Ракитин. Я проводил на этой конюшне целые дни, я засыпал там в сене. Вот он мне рассказывал о лошадях, о ночных выгонах, между ущельями когда их там гоняли, под Кисловодском где-то. Я был этими рассказами очарован. Я считаю, что этот конюх был человеком романтического направления и, несомненно, наделен даром воспитателя. То ли во мне уже романтизм зарождался, этого никто сейчас не объяснит. Но меня безумно к нему тянуло, к этим рассказам бесконечным... Вот, мне кажется, что это такой маленький круг, на первый взгляд, может быть, такой даже наивный... Правда, верхом мне ездить не разрешали, но в санях кататься зимой - да. Вы знаете, и у меня не было тяги такой невероятной влезть на лошадь и самому скакать. И вообще, ко всякого рода спортивным аттракционам тяги у меня, честно вам говорю, не было. Еще я рисовать очень любил. Рисовал везде, где только можно было, даже у себя в комнате на шкафу рисовал. И, конечно, после того, как увидел “Учителя танцев” и “Красный мак”, рисовал с удвоенным желанием. Уланова сильнейшее впечатление произвела, и Зельдин, конечно, наверное, но я не знал тогда, что он Зельдин. Поэтому я увиденное в театре старался изобразить в рисунке. Мне очень нравились танцы, мне очень нравился балет. А потом я был в суворовском училище, туда меня отец отправил, он хотел, чтобы я был военным, хотя у меня к этому никакой тяги никогда не было. Я был, таким образом, наказан отцом за встречу с мамой. Дело в том, что я не видел маму восемь лет, с тех самых пор, как она ушла от отца. И он отец ни в коем случае не разрешал мне с мамой видеться, но был период, это был уже, пожалуй, 51-й год, когда она пришла ко мне все-таки в школу. Сначала, правда, пришла бабушка и сказала, что меня ждет мама. Мы встретились. Но, видимо, за мной кто-то следил, как я понимаю. Потому что отцу об этом было доложено, и он меня отмутузил сильно и отправил в суворовское училище в Калинин, нынешнюю Тверь. В Москве тогда суворовского училища не было. Отец был вообще-то драчун. Меня отлупил здорово. Человек он был не интеллигентный, но добрый, но это разные немножко вещи. Он был заводной, веселый и неглупый, по-моему, человек. Но, мне кажется, он не понимал, что такое не то, что, не узда даже, а как бы некие законы общежития, то из него вылезали не самые лучшие качества. Отцом уже была пройдена война. С мамой они разошлись. Она ушла от него в 1945-м году, летом, в июле, после ее дня рождения. Я помню, что в суворовском училище тоже, как ни странно, там были какие-то танцы. Там была сделана какая-то композиция, в которой я принимал участие. Мы даже на сцене Калининского театра выступали. Оглядываясь назад, я понимаю, что тогда меня ломали страшным образом. Вообще, мне кажется, все мои режиссерские качества выросли из такого понятия, как противостояние. Оно даже интуитивное было. Кроме противостояния, это еще и попытка, как я теперь это могу интерпретировать, сохранить свой взгляд на мир, то есть сохранить себя. Над этим кто-то мог смеяться, но я, как сказать, не предавал это внутренне. И, мне кажется, что это тоже сыграло огромную роль в моей жизни. Спустя время, когда мы уже вернулись к маме, я укреплялся в своей правоте: любви к театру. Это был уже 1953-й год, мама нас забрала, уже умер мой дед, Сталин, мы жили уже с ней, отец уже сидел. У меня была сестра, младше меня на год и четыре месяца. Сейчас ее нет уже в живых. Мама нам позволяла все. В каком плане? Вот я умирал, хотел ходить в театр. И это я себе мог позволить. Здесь надо сказать о том, наверное, что мама не видела нас восемь лет и поэтому страшно волновалась, когда мы пришли к ней. А пришли мы уже довольно большими детьми. Все совершилось по жесткой воле отца. Сейчас я полагаю, что он отомстить ей хотел. Чтобы ей было больно. Но она сумела стать нам другом. Она сумела так выстроить наши отношения, я думаю, что даром таким особым педагогическим она не обладала, это скорее интуиция, женская, человеческая, материнская, но мы стали друзьями. Тут началась моя сознательная жизнь. Я мечтал быть только режиссером. Почему? Я не знаю. Я не понимал тогда, что такое режиссура. Я тогда дома все играл, мы с Надеждой, сестрой, играли в театр, и в балет, и в оперу. Потом, когда я еще жил с отцом, то постоянно слушал по радио оперы. Потому что у меня в комнате был маленький такой приемничек, спать укладывали в какое-то время, это поздно было, а я клал приемничек под подушку и потом слушал. И я очень увлекался оперой. Я наизусть мог пропеть, скажем, что-то из “Кармен”, или, скажем, из “Князя Игоря”, или из “Пиковой дамы”... Почему-то все вот так зациклилось на режиссуре. Знающие люди впоследствии мне объяснили, что нужно понять для начала, что такое актерская профессия. Кто-то мне, по-моему, Виталий Дмитриевич Доронин, царство ему небесное, подарил мне книжечку Алексея Дмитриевича Попова “Искусство режиссера”, которую я, не отрываясь, читал. А потом постоянно стал выбирать литературу по режиссуре. Стал читать Станиславского. Это уже тринадцать-четырнадцать лет. Я начинал учиться в 59-й школе в Староконюшенном переулке, доме № 18, бывшей гимназии Медведниковых, там были одни мальчишки. Школа старая, постройки начала века, по-моему. Она стоит ближе к Сивцеву Вражку. Отучился там два класса. Я помню учительницу Марию Петровну Антушеву, первую учительницу мою, и помню, как ела она французскую булку. Прелестная, совершенно, женщина, которая поставила первую мою оценку - “четверку”. Она сказала: “Саша, ты ответил очень хорошо, но я поставлю тебе “4”, потому что, чтобы получить “пятерку”, ты должен работать, много работать. Ты заслуживаешь “пятерки”. Но пока мы начнем с тобою с “четверки”. Я думаю, что ей хотелось, чтобы, а это было, я знаю, позже, когда уже я постарше был, как-то с ней встретился, она сказала, что не хотела ставить мне “пять”, поскольку знали все вокруг, к кому я имею отношение, чтобы я никак не был выделен. Первое время в школу меня привозили на машине. И даже когда в первый день меня повезли, я помню, что я очень стеснялся, и просил, чтобы меня высадили раньше. Через какое-то время меня перестали возить, и я стал ходить в школу пешком, там же рядом было. Жили мы на Гоголевском бульваре. И сейчас этот особнячок там стоит под № 7. Но заглянуть в него, а сейчас хотелось бы, по-прежнему нельзя. Киногруппа, делавшая фильм со мной, пыталась в этот особняк пролезть, но категорически строго сказали, что нельзя. Как был “дом несвободы”, как я его называю, так и остался. В то время дом был обнесен глухим зеленым забором, за который нам гулять не разрешалось выходить, и к себе позвать никого нельзя было. Я страшно завидовал одному своему школьному дружку, у которого то ли дед, то ли отец, сейчас не помню уже, был портной, и они жили в деревянном одноэтажном доме, и мне так это нравилось, потому что это так уютно, там какие-то были цветы на окнах. Стало быть, два класса я проходил в 59-ю школу, и потом отец меня загнал в ссылку в суворовское училище в Калинин. Для меня это было большим, мягко говоря, потрясением. В училище я впервые столкнулся с такими словами, которых до этого никогда не слышал. Это, честно говоря, было для меня не откровением, а самым настоящим шоком. Я даже языка двора до этого не знал. В школе тоже этого не было, поскольку ребята пришли из интеллигентных семей. Я вообще не выношу коллектива. И вот в училище я открыл все эти “прелести” жизни. К счастью или к несчастью, но я там проходил строем по плацу и прозанимался в аудиториях всего полгода и очень сильно заболел. Проболел я почти полтора года. Лежал сначала в санчасти училища, потом в госпитале, и помню, что я читал Мопассана. Я с тех пор довольно часто перечитывал Мопассана, мне безумно нравился его роман “Жизнь”. Лежал я с отравлением, там пол-училища отравили молоком. Мы были в лагерях летом. По одну сторону Волги были мы, а по другую сторону Волги были солдаты и офицеры. Там все заболели, и у нас все заболели. Дизентерия, колит, гастрит, потом уже язвы. Я там подцепил это и лежал очень долго. Но через некоторое время мама меня забрала. Я два года в Калинине находился, и из них почти полтора пролежал в больнице. Первый год отец был, и был еще жив Сталин, потому что из училища меня еще везли самолетом на похороны, я в Колонном зале сидел у его гроба. А вторая половина училища - это уже мама появилась и меня пыталась вернуть. У отца была вторая жена, дочь маршала Тимошенко, Екатерина. Она могла по три дня нас не кормить. Отец мой жил с ней очень сложно, поэтому свои обиды она вымещала на нас, детях от первого брака. Была там повариха такая, Исаевна, которая нас потихонечку подкармливала. За это ее уволили. Отец, по-видимому, даже не знал, что с нами происходит, хотя был в Москве, но, судя по всему, он вообще нами не интересовался. То есть я хочу сказать, что у него была своя жизнь. А что касается книг, то он много раз мог перечитывать “Трех мушкетеров”, это была его любимая книга. Хотя у меня с ним разговоров о театре не было, но, судя по рассказам мамы, театр он обожал. Мама рассказывала, что на “Давным-давно” в театре Красной Армии она засыпала, потому что просто все наизусть уже знала и не могла смотреть. Отец обожал Добржанскую и обожал этот спектакль “Давным-давно”. Вот это было, то, что я знаю. Кино он очень любил, американские фильмы.
- Я тут хочу провести аналогию между вашим отцом, Василием Иосифовичем Сталиным, и Юрием Марковичем Нагибиным. Кстати, они люди одного поколения, Нагибин родился в 1920 году, на год раньше Василия Иосифовича. Нагибин, которого я знал и издавал, сам себя относил к так называемой “золотой молодежи”. Он любил богатую, веселую, я бы даже сказал, разгульную жизнь: женщины, машины, рестораны... В “Дневник” Нагибина, в конце, я разместил воспоминание об Александре Галиче, о жизни этой самой “золотой молодежи”. Это стиляги, это любовь к сладкой жизни, но, наряду с этим, - и работа, творчество. Нагибин был женат на дочери Лихачева, директора автомобильного завода имени вашего деда - Сталина. Юрий Маркович был страстным футбольным болельщиком, болел за “Торпедо”...
- Разумеется, нечто общее у них есть. Но в моем отце в отличие от Нагибина было мало гуманитарного. Отца в первую очередь безумно интересовал спорт, бесконечно интересовали самолеты, машины, мотоциклы, лошади... Он все время занимался футбольными командами, комплектованием их. И возможности у отца были огромные... Он меня посылал на футбол в те моменты, когда у него бывали просветления и он считал, что я должен стать настоящим воином, как Суворов. Поэтому с шофером или с адъютантом отправляли меня на футбол на стадион “Динамо”. Я сидел на правительственной трибуне наверху, внизу все бегали, я не понимал ни правил игры, ни техники, ни тактики, для меня это была смертная скука, мне футбол был абсолютно не интересен. И оттого, что меня туда как бы направляли силой, у меня удваивался протест. Но, например, когда моя вторая мачеха, она была спортсменкой, Капитолина Васильева, увлекала нас спортом, то я ей не противился. Допустим, мы зарядку делали, в теннис играли, я на коньках научился кататься, на лыжах, плавать хорошо научился, даже на чемпионате Москвы уже позже выступал... Но тянуло меня к театру. Не секрет, и всем известно, что Сталин Иосиф Виссарионович опекал Художественный театр, и булгаковским вещам симпатизировал, на работу самого Булгакова туда устроил, и “Дни Турбиных”, которые там давали чуть ли не каждую неделю, посещал неоднократно. На “Днях Турбиных” в детстве я не бывал, потому что они и не шли. Насколько я знаю эту историю, “Дни Турбиных” шли с 1927 года до войны. А в 1940 Михаил Афанасьевич умер. Я “Дни Турбиных” первый раз видел в театре имени Станиславского. Это уже ставил Михаил Михайлович Яншин, когда он там был главным режиссером, и играла Лилия Гриценко. Она была дивной Ниной в “Маскараде” Лермонтова. У меня еще была одна любовь совершенно ненормальная, я увидел Марию Ивановну Бабанову, она играла “Собаку на сене”. А потом я попал на тысячный спектакль “Таня”. Можете себе представить? Мне было четырнадцать лет. Я был очарован совершенно ею. Мне говорили: “Сашенька, какой же ты странный мальчик. Ты посмотри, в каком она возрасте, она же старая!” Я говорил: “Нет, она абсолютно прелестна!” Я поступал сначала в Театрально-техническое училище на художника, было такое ТХТУ в проезде Куйбышева, который сейчас называется Богоявленским переулком, он соединяет Никольскую улицу с Ильинкой, сейчас это училище размещается в районе метро “Аэропорт”. В Театрально-художественное училище решил пойти потому, что хотел быть ближе к театру. А еще не было десяти классов. И в самодеятельности я участвовал - ходил в студию Дома пионеров в Тихвинском переулке, где мне прочили судьбу Райкина, поскольку у меня тогда были склонности к сатире и юмору. Но все же я считал, что мне главное было видеть настоящий театр. Я помню, как мама однажды нам устроила с сестрой такую головомойку: “Это невозможно, вы посмотрите, сколько вы ходите в театр!” Она собрала все билеты, выложила на стол, а мы хранили театральные билеты. Я знал все труппы, я знал все театры. Я обожал, как и отец, Добржанскую. Все, что она делала, мне казалось, что она делала гениально. Я любил очень Эфроса. Его спектакли для меня были тоже откровением. В свое время меня ошеломили Товстоноговские “Мещане”. Огромное впечатление производили “Варвары”. Потом я поступил в студию театра “Современник” к Олегу Николаевичу Ефремову. Мы с ним дружили. А в дальнейшем уже я сдал экзамены в ГИТИС к Марии Осиповне Кнебель. Мы ходили на репетиции с удовольствием. Потому что, как мне теперь кажется, у нас был некий общий язык с ребятами. Студенты, как бы дети, им нужны понимание и ласка. И Мария Осиповна нам давала это. Это у меня такой длинный путь в ГИТИС был. Мне было 24-25 лет в то время. А в “Современник” я поступил на актерский курс. Они создали при театре студию. В то время мы очень много читали. Тогда ведь появлялась масса запрещенных, как говорили, авторов - Пильняк, Розанов, Артем Веселый, которых не печатали годами, Бабель, Мандельштам... Помню, маму я умолял, кто-то принес мне Мандельштама, перепечатать его стихи, и мама перепечатала в нескольких экземплярах. На курсе потому что все хотели иметь произведения Мандельштама. Вы знаете, Юрий Александрович, меня, честно говоря, даже злит, когда люди нашего, примерно, возраста говорят, что они не знали, что есть такая литература, что есть такие поэты. Но почему мы-то знали! Значит, они не хотели знать. Мы как какое-нибудь имя слышали от Марии Осиповны, сразу находили его произведения, узнавали, кто это, что это. Да это даже до ГИТИСа еще началось, когда были в “Современнике”. Принимал туда сам Олег Николаевич Ефремов. Я читал на вступительных экзаменах, как и положено при поступлении в театральное училище, басню, стихи, прозу. Со мной вместе учился там Сергей Сазонтьев, он сейчас во МХАТе играет. Из него получился актер, он стал им. А остальные как-то растворились в жизни, у них что-то не сложилось. Я думаю, тут еще играло определенную роль то, что актеры “Современника” еще сами тогда не готовы были передавать некую театральную веру, они еще сами были учениками, мне так кажется. Если бы, скажем, с нами занимался непосредственно Ефремов, а он, практически, не преподавал, я думаю, школа была совершенно иной. А вот я помню, например, в “Иванове” Чехова, занимался со мной Сергачев и, мне кажется, что он меня не раскусил, на раскрыл меня, то есть он работал со мной не верно. Он не умел вскрыть мою природу, мою индивидуальность. Я думаю, что это сильно мешало, потому что меня всего заковывало. Но, когда я пришел к Марии Осиповне Кнебель на курс, она гений, надо сразу сказать то, что она была гений, она меня вскрыла. Я поступил в ГИТИС в 1966 году. Вот она сумела распаковать меня. Мария Осиповна сумела не просто научить меня, а помогла мне заговорить своим голосом. Когда я поступил на актерский в “Современник”, мне все равно хотелось быть режиссером. Я Ефремову откровенно признался, что хочу быть режиссером. С Олегом я познакомился через Нину Дорошину. Нина была нашей подружкой. Я в Ялте отдыхал, подружился там с Ниной, с Тамилой Агамировой, теперешней женой Николая Сличенко. Они снимались там в каком-то фильме. И с Ниной Дорошиной дружим с тех пор. Это был, если я не ошибаюсь, 1956-й год. Она тогда еще не работала в “Современнике”. Она позже пришла в “Современник”. Потом была у нас дома с Ефремовым сначала на Новослободской улице, потом на Колхозной площади, где мы жили, поскольку им негде даже было встречаться. Они были с Дорером, придумывали оформление спектакля “Без креста”, по “Чудотворной” Владимира Тендрякова. У Нины Дорошиной с Олегом Ефремовым продолжался роман в течение многих лет. У них были прекрасные отношения с моей мамой, он ей нравился. И мы с ним много беседовали, и он знал, что я хочу быть режиссером. Но Олег говорил мне, что режиссеру, чтобы овладеть профессией, важно знать психологию актера. И это правильно, я так и считаю, что путь в режиссеры лежит через актерство. Но счастьем в моей жизни было все-таки, хотя Олега Ефремова я считаю своим крестным отцом, но по-настоящему весь этот огромный, со страшными подводными течениями, непостижимый мир театра открыла для меня Мария Осиповна Кнебель. Она это умела делать, и вообще, всем в жизни я обязан ей. Это мой бог, она меня очень любила, я ее тоже любил.
- У Марии Осиповны Кнебель была, насколько я знаю, тоже очень сложная судьба. Тут мы нащупали тему, которая в искусстве, в литературе очень важна: не останавливаться перед препятствиями. То есть, осуществляется тот, кто умеет преодолевать препятствия, не опускает руки от неудач, как бы компенсирует, доказывает. Вот у вас, Александр Васильевич, судьба так и складывается. Постоянно жизнь ставит перед вами препятствия, вы их преодолеваете. А вам уже новое препятствие готово...
- Вы знаете, Юрий Александрович, по молодости преодолевать препятствия было легче. Хотя, у кого судьба была несложная? Вообще, грубо говоря, несложная судьба никому не интересна, особенно в театре, где конфликт кладется в основу успеха. Но препятствий сейчас стало больше. Вот как стали писать обо мне, узнали, допустим, какая у меня родословная, и, честно говоря, мне стало сложнее. Допустим, похвалить меня боятся. Серьезно как бы ко мне отнестись, многие тоже считают это не нужным. Знаете, когда я первые годы работал в театре, то мне говорили: “Саша, как же так это может быть, что ты такой человек, внук Сталина, а работаешь в театре. Ты такой умный человек, зачем ты в театр пошел?” Этим как бы предполагали, что в театре работают не совсем умные люди. Или актеры меня спрашивали, когда я что-нибудь им интересное расскажу: “Откуда ты все это знаешь?” Сейчас так уже не говорят, видимо, привыкли, а в первые годы все время спрашивали. Казалось, что я пришел откуда-то из другого мира, я был человеком со стороны. Однажды произошел такой курьезный случай, если его, разумеется, можно назвать “курьезным”, потому что за такие дела сажили, мне притащил двоюродный брат огромную кипу машинописи, двухсторонней, “В круге первом” Солженицына, и я читаю запоем, даже тогда, когда в автобусе ехал в ГИТИС. Я читаю, читаю, одна часть в руках, другая в папке. Моя остановка. Я закрываю эту штуку, свертываю, и выскакиваю из автобуса. И бегу в ГИТИС, и когда бегу, то понимаю, что у меня нет папки. А в папке лежит вся остальная книга. Боже мой, я прихожу в ГИТИС, к Марии Осиповне. И говорю: “Мария Осиповна, беда!” Она: “Что такое?” Я объясняю: “Оставил папку с частью рукописи романа Солженицына в автобусе!” Она спрашивает: “А что там еще в папке?” Я говорю: “Студенческий билет, паспорт, ключи от квартиры, ну, пятнадцать копеек там денег... Может, туда обратиться, в автобусный парк?” Она говорит: “Нет. Надо ждать”. Прошла неделя. Звонок в дверь, утром, я был в душе, выскакиваю, открываю дверь, возле моей квартиры стоит моя папка. Там лежит Солженицын, мои документы, ключи от моей квартиры, и пятнадцать копеек... Ну, все цело! Мария Осиповна говорит: “Подождите еще немного. Вдруг это провокация!” Но все обошлось. Я окончил ГИТИС в 1971 году. И пришел сначала в театр на Малой Бронной. Меня позвал туда Анатолий Эфрос играть Ромео. Вообще-то, когда я оканчивал ГИТИС, меня приглашал Завадский с Анисимовой-Вульф играть Гамлета, были переговоры. А Эфрос - Ромео. И я очень хотел быть артистом в то время, но Мария Осиповна меня отговорила заниматься этим делом. Она была моя вторая мама, и она, вообще, человек колоссальной культуры, что говорить, таких сейчас нет, из педагогов таких даже близко нет. Мария Осиповна очень чувствовала человека, она чувствовала мои комплексы, она чувствовала мою зажатость, мою боязнь, такую запуганность, я бы даже сказал, нежелание кого-то обидеть, не дай бог, сказать что-нибудь, чтобы сказанное мною кого-то задело. Она как бы помогала мне выбраться вот из этой скорлупы, из этого кокона. Я очень боялся выходить на этюды, скажем. Хотелось мне, но боялся. И вот я ловил на себе ее взгляд, она на меня смотрела и прикрывала глаза и чуть опускала голову, что означало полную веру ее в мою удачу. И этого было достаточно, чтобы я успешно делал этюд. И уже через полгода со сцены меня увести было невозможно. У меня было такое состояние, как будто я научился плавать, или говорить научился. Сначала мы упражнениями занимались, потом мы делали этюды по картинам художников каких-нибудь, чтобы затем прийти мизансцене. Следом мы делали этюды по мотивам каких-нибудь рассказов. Все развивало фантазию. Вот у меня была очень хорошая работа, Мария Осиповна даже всем показывала, из ВГИКа приглашала людей смотреть, это был рассказ Юрия Казакова “Вон бежит собака”. Тогда мы все были увлечены Казаковым. “Двое в декабре” вышла книга, “Голубое и зеленое”, “Северный дневник”. Мария Осиповна мне говорила: “Саша, это очень хорошая литература, но совершенно не сценичная”. Но получился очень хороший отрывок. Потом я играл “Что окончилось” Хемингуэя, из удач таких, тоже очень любили эту работу. Через какое-то время была тоже достаточно серьезная работа по “Выигрышу” Александра Володина. А затем уже стали как бы отрывки делать посложнее, даже водевили играли, через это нужно было пройти. Набравшись опыта, стали играть Шекспира, и ставили, и играли, чтобы и через это пройти. Играл я в “Как вам это понравится” Орландо, а ставил отрывок из “Ричарда Третьего”, сцену Ричарда и Анны. Надо сказать, что я играл еще многое из Шекспира, уже не помню сейчас, если было десять отрывков, то в девяти я играл. Вот, стало быть, мы проходили через такие этапы. А потом уже были дипломные спектакли. У нас их было два. Это были “Чудаки”, его ставили педагоги, я там играл Мастакова. А я возглавлял работу, которую мы делали сами, студенты, “Годы странствий” Арбузова. Это был наш диплом, где мы были и режиссерами, и актерами, где я играл Ведерникова. Из тех, кто со мной учился, назову очень интересного немца Рудигера Фолькмара, у него сейчас своя студия, даже нечто вроде института, в Германии. Со мной вместе учился японец Ютака Вада, он впоследствии ставил здесь в Художественном театре, и восемь лет ассистентом был у Питера Брука. На одном курсе со мной училась и моя жена Даля Тумалявичуте, литовка, она была главным режиссером в Молодежном театре, она привозила свой театр сюда, у нее начинал Некрошюс, знаменитый теперь. Она народная артистка, много ездила со своим театром в Америку, в Англию, в Швецию... После того, как Литва отделилась, ей как бы не прощали то, что она выкормлена в московских институтах. Прекрасная Елена Долгина есть, обладающая редким даром объединения людей, она заслуженный деятель искусств, в Молодежном театре работает, и режиссером, и заведующей литературной частью. Наталья Петрова, которая преподает в Щепкинском училище при Малом театре и выпустила уже немало курсов, очень умный и талантливый человек, и совершенно грандиозный педагог. Так что, вот, видите, уже какое-то набираю количество талантливых моих однокурсников, которые в дальнейшем проявились. Еще одного сокурсника вспомню, Николая Задорожного. Он был очень талантливый человек, хочу о нем два слова, буквально, сказать, потому что это очень показательно. Тонкий, умный, не просто лидер, а человек, который создан для того, чтобы лепить, делать, создавать коллектив, плохое слово, но, тем не менее, он очень увлекал людей. Он работал в Энгельсе в последнее время и умер от голода. Мы этого ничего не знали. Он работал, получал там какие-то копейки, когда вся эта трудная жизнь началась. Он весил, по-моему, тридцать пять килограмм. Талантливейший человек был, но который никогда не стремился быть в театре руководителем. Ему важнее было возиться с молодыми актерами, к нему тянулись, много его учеников потом учились у Лены Долгиной, у Наташи Петровой. Он вечно ставил “Буратино”, как такую драму деревянных человечков, спасайте деревянных человечков. Это наша общая трагедия. С Юрием Ереминым мы очень дружили. Он параллельно на актерском курсе учился. Ольга Остроумова училась, и у меня в “Чайке” изображала Нину Заречную. С Володей Гостюхиным играли вместе в отрывках, потом я его сюда в театр перетащил, потом он ушел сниматься, и вот он стал популярным человеком, сейчас в Белоруссии первый актер. Он человек со своей позицией, со своей точкой зрения, можно, конечно, как угодно к этому относиться, но в нем нельзя не уважать цельности такого простого человека из народа. Ольга Великанова работает в театре Станиславского, тоже наша однокурсница, она была очень талантлива как актриса. Какой это театр был яркий в конце шестидесятых, начале семидесятых годов, когда там был Львов-Анохин. Тогда Бурков впервые появился, он гениально играл Поприщина в “Записках сумасшедшего”. Хотя параллельно играл Калягин в Ермоловском театре, немножко не то. Поприщин Буркова - это полная адекватность Гоголю. Но тогда ведь, надо это подчеркнуть, и весь театр имени Станиславского был интересен очень. Потому что Борис Александрович Львов-Анохин был выдающимся режиссером и педагогом. Он и состав актеров подобрал потрясающий. Одна Римма Быкова чего стоила, изумительная актриса! Урбанский почти еще не играл. А Лиза Никищихина какая была! Недавно она ушла из жизни как-то незаметно. Я с Лизой дружил очень. И очень я любил театр Львова-Анохина, и его спектакли в Театре Армии. Как тихо он ушел, лег и умер! Борис Александрович, царство ему небесное, тонкий был человек, блестяще знал мир театра. Я вообще очень ценю людей, которые занимаются театром, скажем, я узко так говорю - театром, когда понимают театр, знают его историю, - таким человеком был Борис Александрович Львов-Анохин. А на Малой Бронной я поработал очень немного, буквально, может быть, месяца три. В меня вцепился Александр Леонидович Дунаев, главный режиссер и чудесный человек, он хотел, чтобы я работал с ним как режиссер. И мы начали даже делать “Варваров” Горького, а в это время Мария Осиповна позвала меня в Театр Армии ставить спектакль “Тот, кто получает пощечину” Леонида Андреева. Мария Осиповна предложила мне быть ее сорежиссером. И я пошел. Но до этого я ставил в Литве. А в Москве я начал ставить вместе с Кнебель. Мы начали работу над спектаклем в 1971-м году, а выпустили в 1972-м. Этот спектакль шел на большой сцене, и сразу Андрей Попов, Зельдин, Майоров, ведущие актеры, вся такая великолепная когорта, знаете, была занята в этом спектакле! Я единственно, что тогда понимал уже прекрасно, что я никогда, я дал маме слово, не буду ни главным режиссером, потому что такие предложения тоже были, когда я окончил ГИТИС и выпустил два спектакля, преддипломный и дипломный. Мне предлагали в Министерстве культуры должность главного режиссера в какой-нибудь провинции. Видимо, сбагрить меня куда-нибудь хотели. Но я не хотел ничем руководить. И мне, в общем-то, повезло, что я первый такой вход в театр делал вместе Марией Осиповной Кнебель. А потом Андрей Попов предложил мне остаться в Театре Армии. И я остался. А дружба с Олегом Ефремовым была огромным куском жизни. В дальнейшем речь с ним шла, Олег был уже во МХАТе, когда я окончил ГИТИС, чтобы я что-нибудь у него поставил, но Мария Осиповна меня отговорила. Она мне говорила: “Я знаю Ефремова, он все равно очень легко может через вас, - она ко мне на “вы” обращалась, - перешагнуть. Это может сломать вас”. И я ей поверил, потому что я в Олеге эту его жесткость тоже знал. Поэтому во МХАТ я даже на постановку не пошел. Ефремов приходил ко мне в Театр Армии на мои первые спектакли, и вроде бы с симпатией к ним относился. Олег Ефремов сильная личность, и талантливая бесконечно. И актер талантливейший был, не состоявшийся, может быть, по такому большому счету, в театре, как ему прочили. Но, конечно, он человек, поцелованный Богом. И обаяния невероятного, магии такой, шарма потрясающего. И как художник, и как человек. Я считаю, что мне вообще необычайно повезло, потому что судьба меня свела с лучшими режиссерами: Кнебель, Эфрос, Львов-Анохин, Ефремов... Даже сон мне приснился однажды, как будто бы я плыву, знаете, как подводная лодка в море черном, я один на этой лодке нахожусь, никакого люка нет, я не могу нигде укрыться, волны бушуют, и вдруг из этих волн навстречу мне в огне встает черный крест, горящий, и из-за него появляется Ефремов, который ведет меня за руку, и какая-то широкая освещенная арена открывается. Вот эту картину я просто помню, после института сразу она мне приснилась. Когда я окончил ГИТИС, оставлять меня в Москве или нет, не знали, как себя по отношению ко мне вести. А Дунаев и Эфрос на это не обратили никакого внимания, на мою анкету, что очень важно. Очень умные люди, как и Мария Осиповна Кнебель, кстати говоря. Были режиссеры, которые попали в волну, которая шла вверх, это Ефремов, Львов-Анохин, Товстоногов, Эфрос. А когда мы окончили институт, волна уже шла вниз, и мы это, кстати сказать, понимали. И то, что мы, несмотря на это, состоялись, хотя я к этому очень условно тоже отношусь, потому что, скажем, я целый рад пьес не мог ставить, потому что мне бы туда приплели то, о чем я никогда бы и не подумал, и все сходило прекрасно, когда я ставил как бы что-то нейтральное, “Даму с камелиями”, например. И тут главное, мне кажется, было не плыть по течению, а уметь задуматься и оглядеться, подвергнуть сомнению правильность принятого решения и опять искать, искать тот единственно верный путь в творчестве, то единственное дело, которому не жалко отдавать всю жизнь без остатка.
- Не испугал ли вас Театр Красной Армии своей огромностью не только архитектурной, не только самым большим театральным залом в нашей стране, но и самой организационной структурой, армейской иерархичностью?
- Я ставил здесь, в принципе, - что хотел. На моем веку особых трудностей с пробиванием какого-то спектакля я не застал. Была одна история со “Стройбатом” Сергея Каледина. Но с этим спектаклем была проблема совершенно иного свойства. Мы пробовали ставить его на большой сцене, затем предприняли попытку собрать его на малой сцене, но никакого спектакля не получалось. И в итоге мы сделали вид, что как будто нам этого не разрешили. Вещь эта на сцену плохо ложится, и решения не было. Я скажу просто, что “Стройбат” мне просто не нравится, как литературное произведение. Да и “Смиренное кладбище” в кино не прозвучало. Чего-то в этих произведениях не хватает. Во времени они пришлись, наверно, кстати, но глубины в них нет. И, видимо, они не нашли своего режиссера. У меня возникли некоторые проблемы, может быть, когда я ставил пьесу Родика Феденева “Снеги пали”. Пьеса была не сильно сделанная, но там было все же что-то живое, и был очень хороший спектакль, и там вот меня тягали в министерство. Спрашивали, почему это у меня солдат в конце умирает? И просили, чтобы я сделал как-то, чтобы он не умирал. Но удалось доказать, что это нужно. Далее у меня был спектакль “Сад” Арро. Меня, буквально, заставили, почему-то были не пуровцы, а руководство театра, в сущности, прямо куски текста убирать, а это, вообще, была пьеса, которая, на мой взгляд, предсказала абсолютно все наше будущее. Были и еще примечательные случаи. Ну, например, у меня сняли эпиграф в спектакле “Орфей спускается в ад” Теннесси Уильямса: “Я тоже начинаю чувствовать неодолимую потребность стать дикарем и сотворить новый мир”. Этот эпиграф в пьесе Уильямса стоит, так вот, забрали весь тираж программок, перепечатывали. Жалко, что уходят из репертуара хорошие спектакли. Например, “Павел Первый” Мережковского. Олег Борисов начинал и играл блестяще, даже гениально. Потом тоже замечательно играл Валерий Золотухин. Но для того, чтобы спектакль оставался в репертуаре, надо, во-первых, чтобы был человек, который следит за спектаклем, который следит, чтобы он не расползся по швам. И, во-вторых, надо, чтобы на спектакль ходила публика. А с публикой сейчас дело обстоит сложно. На что-то идут, а на что-то, даже очень хороший может быть спектакль, хорошая пьеса, идут не охотно, или вовсе не идут. Недавно я поставил пьесу “Арфа приветствия” Михаила Богомольного. Замечательно раскрылся в этом спектакле актер Александр Чутко. Мне, вообще, на актеров повезло в моей жизни. Я ведь работал и в Малом театре, я там два спектакля поставил. С очень большим успехом они шли. И я там встретился с очень большой когортой людей. Это было во времена Царева. Они меня просили остаться в театре, дважды. Там я работал с Любезновым, Кенигсоном, Быстрицкой, Евгением Самойловым. В Театре Армии я с лучшими актерами, конечно, работал и с Добржанской, и с Сазоновой, великой артисткой, я считаю, и с Касаткиной, и с Чурсиной, с Владимиром Михайловичем Зельдиным, и с Пастуховым, и с Мариной Пастуховой, и с Аленой Покровской... Я работал со всеми. Но наряду с ними, молодых и не очень молодых талантливых много, которые не в чести. Зритель идет в другие театры на одни и те же имена: Миронов, Безруков, Машков, Маковецкий... Но у нас есть чудные ребята: и Игорь Марченко, и Коля Лазарев, и Маша Шмаевич, Наташа Лоскутова, Сергей Колесников... Тот же Саша Чутко, сколько он лет сидит в театре, ну нужен толстяк - выходит Чутко. Он боялся играть эту роль в “Арфе приветствия”, а исполняет ее замечательно, и автора чувствует, и меня чувствует, и форму чувствует... У Чутко до “Арфы” просто такой роли не было. Вы знаете, Юрий Александрович, мне эта пьеса очень нравилась, потом, когда уже ближе к выпуску, я увидел в ней такую, как бы сказать, ну, может быть, чуть-чуть декоративность излишнюю, которую, я думаю, мне преодолеть не удалось, но она нравилась мне своей мыслью эта пьеса, потому что там есть, опять-таки же, моя тема выхода из мира, который становится фальшивым, который перестает быть удовлетворяющим тебя. То, что я сам не могу сделать, преодолеть нетворческую атмосферу в театре, уйти и закрыть за собой калитку. И вторая тема есть в пьесе - это попытка понимания России. Я не хочу философствовать на эту тему, но то, что героиня видит в России талантливость сквозь грязь, сквозь муки, сквозь грубость, сквозь эту всеобщую серость, жандармство и так далее, что она видит в ней какой-то определенный потенциал, мне показалась эта мысль очень интересной. Я, например, считаю, что сейчас у людей очень большой комплекс неполноценности, что если мы Россия, если мы русские, то мы какие-то люди уже второго сорта. Мне так не кажется. И вот эта мысль мне тоже показалась здесь любопытной. Потом она написана достаточно приличным языком, в отличие от пьес, которые сейчас в ходу, где хотят назвать все своими именами. Наверняка “Арфа приветствия” в чем-то несовершенна, может быть, не все получилось, как этого мы хотели, но, во всяком случае, нам было интересно вокруг этого говорить, интересно было работать. Это не первая пьеса Михаила Богомольного. У него есть еще такая пьеса “Кира - Наташа”. Это история двух женщин, в сущности, старух уже, из интеллигентных семей, которые сидят на празднике, вспоминают, проходят как бы через всю свою жизнь, через все этапы, которые в двадцатом веке прожила Россия. Очень занятная пьеса. Ее даже, по-моему, играла Нина Архипова и Нина Гошева, актриса из театра Ленком. Я хотел ее ставить очень в свое время. Но это как-то все так рассосалось, а потом возникла “Арфа приветствия”. Я не жалею, что поставил этот спектакль. И я чувствую в настроении актеров, скажем, перекличку с клоунами Феллини... У меня как бы в этой вещи такой взгляд со стороны на нашу ситуацию жизненную в стране. Потому что мы слишком были вправлены в некую прямолинейность идей, а жизнь гораздо сложнее и интереснее, и вот этот хаос, из которого создается гармония искусства, думаю, схвачен очень точно... Но, потом ловлю себя, что я бываю силен задним умом. Вот я ставил пьесу “Сад” Арро, на которую приходили люди, наша армейская интеллигенция, к нам же не ходит изысканная публика, и они говорят: “Это закроют! Это вы говорите о самом главном”. Я помню, Нонна Мордюкова стояла такая перепуганная и шепотом говорила: “Ребята, вы что делаете? Это говорить нельзя со сцены”. И так далее... Из того, что я сделал в театре за многие годы, до сих пор идет, например, “Дама с камелиями”, двадцать лет идет. Много лет шел “Орфей спускается в ад”. По многу раз шли “Пылко влюбленный”, “Шарады Бродвея”... То есть то, что, скажем красивым словом, более демократично, более доступно. На “Даму”, вот что меня удивило, там сейчас играет молодая актриса, Маша Шмаевич, пошла молодежь. Маша Шмаевич и в “Арфе” играет, она очень талантливая актриса. Мы с ней очень дружны, ну, не потому, что она просто хорошенькая девочка, понимаете, а это огромная личность. Она уехала из России с родителями в Израиль, окончив школу. Они остались там, она училась в студии у дочери знаменитого Соломона Михоэлса Нины Михоэлс, потом она захотела вернуться в Россию, чтобы здесь учиться. Но для этого нужны были деньги. У родителей денег не было. Она мыла общественные уборные, она работала горничной в отеле, чтобы накопить денег и приехать учиться в Россию. Она поступила в ГИТИС, сама оплачивала обучение, потому что она иностранка. Вот преодоления! Значит, из нее будет толк. Она этим очень дорожит. Летом она уезжала в Израиль, опять зарабатывала деньги, чтобы платить за учебу, и вот она окончила ГИТИС. Немножко экзотическая, красивая девушка. Я увидел ее в показе, и вот позвал ее играть у меня в спектакле “Приглашение в замок”, потом она сыграла Марию Стюарт, и сыграла “Даму с камелиями”, и все стали говорить: “Шмаевич, Шмаевич!”. Если вы думаете, что, окончив ГИТИС, она там не закончила еще аспирантуру по сценическому движению, так она окончила. И она ездит в Италию, у нее контракт, подрабатывает там. Она здесь делала самостоятельную работу - “Жаворонка” Жана Ануйя, который играет одна. Сейчас она получила приглашение из Италии - играть Джульетту в итальянском спектакле, будет огромный тур зимой. Я знаю, что талантливая молодежь есть, меня зовут в институты на просмотры, но я почти не хожу, не смотрю. Я сам преподавал десять лет в ГИТИСе с Элиной Быстрицкой, это очень больной процесс. Студенты становятся как бы твоими детьми, и потом ты ничем им не можешь помочь. Тяжело складываются их судьбы. Театр вообще, и в провинции, в особенности, живет очень сложной жизнью. И ты должен им как-то помогать. Вот, например, Андрей Попов взял меня в свое время в штат. А если бы Мария Осиповна не привела меня, то он бы, может быть, и не взял. Она его самого, Андрея, готовила поступать. Она для Театра Красной Армии мать-крестная. Она работала с Алексеем Дмитриевичем Поповым в ГИТИСе. Помню, раньше мне очень хотелось выйти на сцену в качестве актера, и я выходил, играл, а сейчас ничего не хочу играть. Я в свое время даже мучился, что Мария Осиповна не пускает меня играть Гамлета, говорила, что, когда очень захотите что-то сыграть, обязательно такая возможность представится. Я играл в “Тот, кто получает пощечину” за Зельдина, я в своем “Мандате” по Эрдману переиграл и Гулячкина, и Широнкина, и Сметанича. У меня был спектаклю “Условия диктует леди”, английская пьеса, заболел Федор Чеханков, так я четырнадцать спектаклей играл центральную роль, на двух человек пьеса. Так что, все было. А недавно я был в Японии, ставил спектакли. Меня не было два месяца, и вот я пришел на “Арфу приветствия”, и считаю, что он изменился. Они очень двинулись - и Покровская, и Чеханков, и Чутко, да и все остальные.
- Да, мне довелось посмотреть “Арфу приветствия” в дни премьеры. Конечно, вы правы, что замечательно играет Маша Шмаевич и в полную силу раскрылся талант оригинального актера Александра Чутко. А про Японию мне чрезвычайно интересно услышать. Как вы туда попали, кто вас туда пригласил? И как можно работать, не зная языка?
- Японский язык ничего не имеет общего с нашим. И по интонации даже трудно понять, о чем идет речь. Я, собственно, попал туда на конференцию по Станиславскому. Конференция была об импровизации. Это было два года назад. Причем, меня пригласили с подачи моего однокурсника бывшего. Японцы, они же хитрые люди. У них кризис. Технический кризис. И они, значит, считают, что Япония может все изумительно выполнять, даже исполнять, но у нее нет идей. И вот им приходит в голову, что, постольку, поскольку есть школа Станиславского, которая помогает развитию индивидуальности, вскрытию индивидуальности, следует пригласить специалистов из России. Когда я попал на этот симпозиум, где говорили японцы, умные и хитрые, и хотели понять, что такое импровизация, я там выступал. А финансирование всего этого мероприятия осуществлялось не учреждениями искусства, а фирмой “Ксерокс”. Фирма эта заинтересована в развитии своих сотрудников. Они хотят, чтобы их работники научились мыслить самостоятельно. Для этого они даже делают этюды. Чтобы развивалась их личность, их индивидуальность. Вот ради чего собран был симпозиум. И вот этот человек, который слушал меня там, потом спросил у меня, что бы я хотел поставить в Японии. Я сказал, что хотел бы поставить “Чайку”, самую мою любимую пьесу. И театральный продюсер, и руководитель театра, который принимал нас, помогал нам, они обо мне знали, там как раз вышла книжка обо мне. И, короче говоря, они меня пригласили на “Чайку”. Я поехал и поставил “Чайку”. Был замечательный спектакль. По-японски звучит все в два раза длиннее. Сам японский язык гораздо длиннее русского. В Японии я в первый раз в своей жизни встретил ту труппу, о которой можно только мечтать. Они воспитаны. Ютака Вада, мой однокурсник, учился у Кнебель, потом у Брука, их воспитывал. Педагоги были московские - Наташа Петрова, Лена Долгина. То есть, школу они получали настоящего Художественного театра. Ютака Вада сам из древней культурной самурайской семьи. И вот я у него спрашиваю: “Ютака, объясни мне, почему на тридцатый день пребывания в Токио у меня собран спектакль?” А у меня контракт пребывания на шестьдесят дней. Это нереально в Москве! Я поставил там “Чайку”, первую, потом поставил Теннесси Уильямса “Орфей спускается в ад” и “Вассу Железнову” Горького. На премьере “Вассы” почти ни одного японца не было, одни иностранцы. Восторг от Горького. В зале были французы, итальянцы, англичане... “Васса Железнова” - это рефрен, это современная пьеса, про нашу жизнь, это про то, чем сейчас живут люди. Вы знаете, что в этом году репертуар французских театров в Париже - шесть Горьких, Лондон - четыре Горьких... Значит, я думаю, драматургия Горького отвечает запросам сегодняшнего дня. О Горьком скажу словами Немировича-Данченко: “Я согласен с тем, что Горький - это русский Шекспир”. И прозу я его знаю хорошо, и “Клима Самгина” осилил, но больше мне нравится его драматургия. Да он может нравиться, может не нравиться, да, он замешан на тенденции, но все равно он гений. После спектакля вдруг приходят зрители из французской колонии за кулисы с томиками Горького в переводе Артура Адамова, на секундочку, “Васса Железнова”.
- Я Горького считаю очень интеллигентным, очень культурным, а не народным в извращенном понимании писателем, как стали понимать после революции 17-го года, которая пыталась прервать движение Слова... Слово движется как колесо, а они пытаются под него бревно положить, а Слово через бревно спокойно переезжает, и Слово есть Бог, как я теперь понимаю.
- Они поняли это потом, они поняли это сами. Вы, знаете, своего родственника императорского, я считаю тоже человеком очень образованным. Он и образовывал себя всю жизнь. Я не хочу вдаваться ни в какие детали его правления и так далее... Или когда я вдруг, допустим, читаю о Луначарском, когда какой-то журналист пишет в газете: “А культурой руководил недоучка Луначарский...”, то вы знаете, когда я такое читаю, мне хочется поступить, как когда-то Миронова, которая где-то разыгрывала: “А тебе дать?” Потому что Луначарский знал пятнадцать языков в совершенстве, а ты, журналист-доучка, одним родным с трудом владеешь. Помните, даже Мейерхольд был болен теорией такой, что, значит, все академические театры надо закрыть, а руководителей немедленно расстрелять. Ему это потом не простили. А потом стали все соображать: “А-а! А куда же без Слова деться?” И в наши дни случаются дикие вещи. Например, меня потрясло, когда Унгуриану, который стал министром культуры Молдавии, на площадях стал жечь из библиотек книги русских классиков. Это делает режиссер, наш современный режиссер, который окончил в Москве Щукинское училище, ставил в Москве спектакли! И Чехова - в костер? Да Чехов для меня - один из Богов, на которых я молюсь. Вот я сейчас в Японии читал, я третий спектакль ставлю в Токио, ночью взял Чехова почитать, и читал его записные книжки, и ржал, как придурок, один в ночи! И страдал, что мне не с кем поделиться впечатлениями от прочитанного. Японцы не очень понимают юмора нашего русского. Чехов фантастический автор, конечно. Понимаете что, меня тоже поражает, ведь он - абсолютно трагическая фигура. И когда я поставил “Чайку”, мне японцы говорили, какой жесткий Чехов. А я нашел для афиши хороший его рисованный портрет: лицо очень жесткого человека. Жесткого и по отношению к самому себе, и к окружающим. У Чехова же все связано с понятиями этики, с умением создать себя. Любовь к Родине связана с болью за ее недостатки. Поэтому Чехов - это религия. У Чехова нет указующего перста. Он нигде нас не учит. Режиссер Лобанов любил в этом отношении сравнение с пружиной в диване. Ты сидишь и не думаешь, что там пружина, сидеть удобно, мягко, но если пружина выпирает, то тебе уже немножко неудобно, и начинаешь вспоминать о конструкции. Вот то, что касается школы Станиславского и Немировича-Данченко, их невозможно разделять, преступно даже, ведь они освобождают именно природу человека, ведь их идея тоже всегда заключалась в том, чтобы вы были творцом некоего персонажа или образа, и сделали так, чтобы я пружину не видел. Почему иногда режиссеры неверно трактуют Станиславского, говоря актеру: “Идите от себя”. Я на это всегда задаю свой вопрос: “Идите от себя - куда?” Вот в чем дело! Это самое трудное искусство - идти к образу. Самый высший пилотаж. Правда, образ литературный и образ театральный несколько разные вещи. Театральный образ как бы все время исчезает. Сыграли спектакль, и он ушел. Хотя это очень понятно, когда вы, скажем, читаете о спектакле, вы же не видели этого, вы ребенок рядом с этими фигурами, когда Леонидов играл Митю Карамазова в знаменитом спектакле. Как описана сцена, и как ему предлагал это делать Немирович, когда он искал Грушеньку! У меня ощущение, что я это видел. Когда я читаю о Комиссаржевской, у меня ощущение, что я Комиссаржевскую видел. Думаю, что это у меня уже глюки начинаются. И тут никуда не денешься от того понимания, что театр - это Слово, в первую очередь. Мне иногда кажется, что церковь всю обрядовость свою, весь ритуал взяла из народных представлений. Церковь возникла потом. А от церкви возникает театр. То есть церковь как бы возвращает эту игру в народ. Станиславский говорил, что актер - это определенная религия. И это так. Когда это Немирович расшифровывал, когда он говорил, что театр художественный, наш театр, это, прежде всего, театр автора. И вот, понимаете, во мне воспитано это - уважать автора, которого ты ставишь. Я должен угадать, понять через все, что написано, то, что я читаю, все равно я должен понять, что он хотел сказать, что он имел в виду? Если я точно улавливаю это, если хотите, то душа открывается навстречу. Вот у меня удача была большая на постановке пьесы “Мандат” Николая Эрдмана. Очень трудная пьеса. И, вы знаете, у меня было ощущение, что я это все знаю, что я его абсолютно угадал, и ощущение у других было такое же, и я знаю, как они должны ходить, говорить. Когда я читал эту пьесу в репетиционном зале, битком набитом народом, стоял такой гомерический хохот, какого я давно в театре не слышал. Эрдман был очень талантливый человек, может быть, даже один из гениев, но прекращен был, на “Союзмультфильме” дорабатывал последние годы, и мне кажется не потому, что я вот читаю иногда, что Эрдман потом боялся, а мне кажется, что его муза умерла. Это была более трагическая ситуация. Так же как я глубоко убежден, в том, что Михаил Чехов, когда уехал из России, мне тоже кажется, что Михаил Чехов все-таки где-то чувствовал, интуиция гения, что он как бы все уже сказал. Вот, знаем, теософия там, пятое-десятое, это все как бы такие листья капусты. А, по сути, мне кажется, этот человек подошел к какой-то черте. Так же, как история с Фаиной Раневской, раньше я так не думал, а теперь думаю, я слышал отовсюду: “Раневская не доиграла, не сыграла столько главных ролей”. Но я глубоко убежден, что она все сыграла, что было нужно, и она обладала другим дыханием. Это не недостаток, это - качество Раневской. Понимаете, один может бежать десять километров, другой - стометровку. Когда мы видим Раневскую в таком фильме, как “Мечта”, где она играет роль, не уходя с экрана, то я нахожу массу смущающих меня моментов. Но когда она играет небольшой эпизод, то получается снайперски, как говорят. Все ее кусочки у нас на слуху... В Японии тот театр, где я ставил спектакли, вообще, воспитан на русской классике. Вот они меня опять пригласили, я хочу Шекспира поставить, “Макбета”. Хотя мне все говорят: “Ой, такая страшная пьеса!” А мне кажется, знаете, там в чем проблема, там есть Геката, это царица тьмы. Она есть в пьесе Шекспира, но ее всегда выбрасывают, потому что пьеса длинная. Оставляют всех, оставляют ведьм, но Гекату всегда сокращают. И, мне кажется, Геката мстит за это. А она должна быть, потому что она определяет весь ход пьесы. Благодаря работе в Японии, я стал яснее понимать Станиславского. Я думаю, что систему Станиславского нельзя разделять с теорией показа Мейерхольда. Я считаю, что разделение порочно, в принципе. Нет, одно без другого не может существовать. А “что” и “как” - они не существуют порознь. В школу, которая предложена Художественым театром, и отцы которой Станиславский и Немирович-Данченко, я считаю, что выше этого в мировом театре никогда ничего не было, нет и никогда не будет. Вот это я вам говорю с полным основанием. Зерно системы - живой человек. Природа живого человека. Понимаете, все силы брошены на создание живого образа, чтобы была психологическая достоверность. Я должен в это поверить, я должен это понимать. Я думаю, что это те источники, это те родники, к которым все равно театр будущего будет приникать. Только это будет, как у Чехова Фирс говорит в конце, помните, что раньше вишню сушили, мариновали, а что же теперь? А теперь забыли. Раньше секрет знали. Вот не потерять этот секрет, метод истинного анализа, которому была абсолютно предана Мария Осиповна Кнебель, это все раскрепощение творческой природы. И мы страстно хотели учиться. Мы в девять утра приходили, а в час ночи уходили. Нам было интересно. Я сверх того, что сделал по программе, репетировал еще “Трех сестер”. И учиться было интересно, это были годы счастья. У нас была какая-то такая группа, шесть-семь человек, которые просто обожали Марию Осиповну, верили ей. Когда веришь, то очень хорошо жить. Я уже говорил, что после седьмого класса я пошел в Театрально-художественное училище. До этого я учился в разных школах, как я смеюсь, двести школ всяких было. Причем при поступлении в ГИТИС у меня не было аттестата зрелости. И когда я поступал, сначала Марии Осиповне все шептали: “Это внук Сталина, сын Василия Сталина!” А она потом мне сказала, что у нее первое чувство было такое: “Вот я могу сейчас расквитаться со Сталиным и “зарубить” внучка... А потом сказала сама себе: “Смотри и слушай”. А когда вы закончили читать, у меня было одно желание, подойти к вам и погладить по голове”. А потом ей сказали, что у меня нет аттестата. Она сказала: “Это меня не касается”. И меня приняли, я экстерном окончил школу. Причин этому много было. Был нарушен сам школьный процесс во время ХХ-го съезда. Тогда же Сталина даже мертвого растерзать были готовы, то же могли сделать и с нами. Я не окончил год. Все время были нарушения ритма. А по большому счету, я об этом вообще не жалею. Вы знаете, я думаю иногда, а вот если бы мне выпала жизнь царского ребенка? Что бы я делал? Не знаю, но я воспринял бы это как наказание. У меня бы все равно все пошло в другую сторону. Я все равно пошел бы в протестанты. Я не хотел даже трезво оценивать ситуацию, я ее не понимал совершенно. У меня даже с мамой на эту тему были конфликты. Я радуюсь, что моя жизнь так сложно пошла. Меня миновала жизнь царского ребенка. Благополучия никогда не было.
Беседовал Юрий Кувалдин
“Наша улица”, № 3-2004
|
|
А вы празднуете праздник Обрезания Господня?! |

Юрий Кувалдин родился 19 ноября 1946 года прямо в литературу в «Славянском базаре» рядом с первопечатником Иваном Федоровым. Написал десять томов художественных произведений, создал свое издательство «Книжный сад», основал свой ежемесячный литературный журнал «Наша улица», создал свою литературную школу, свою Литературу.
Юрий Кувалдин
ЯБЛОКИ
рассказ
Услышь меня, хорошая
Слова: Михаила Исаковского
Целуй же её целованием губ твоих страстных! Поскольку любовь превосходит крепостью коньяк.
Со второго этажа своего дома пятнадцатилетний Денис увидел седовласую соседку, сидящую в саду на раскладном стуле. Был на редкость тёплый осенний день, снизу доверху пронизанный солнцем. Тамара Михайловна жила одна и прислуги у неё не было. Впрочем, практически ни у кого в прежде богатом поселке прислуги не было. Денис приехал по просьбе мамы, чтобы выкопать корни пионов и привезти их в Москву. В этот момент и она увидела Дениса в окне. Подняла руку и поманила его к себе. Денис видел Тамару Михайловну каждое лето с рождения. Она частенько приглашала его маму к себе на чай. И Денис ходил туда пить чай с маленькими пирожками, которые очень здорово пекли у Тамары Михайловны. Её покойный муж учил Дениса играть в настольный теннис.
С ланью, несущеся в облаке страсти, я бы сравнил тебя, вечно сексуальная моя.
Волосы у Тамары Михайловны были всклокочены, седые, длинные, какие-то устрашающие, как если бы представить, что это не волосы, а тонкие макароны, отваренные, а саму голову Тамары Михайловны держат вниз головой. Вот тут и возникает это сумасшествие, когда голову держат вниз головой. Кто держит? А вот об этом нужно спросить у самой девяностотрехлетней Тамары Михайловны. Лицо гладкое, без морщин, как у фарфоровой куклы, белое с синеватым отливом. Ну пусть блестит и не стареет, фарфор не знает бега лет. Быть может, она даже делала пластическую операцию, подтягивала всё время кожу лица, и доподтягивалась до того, что кожа стала прозрачной, тонкой-претонкой, как целлофан, даже кости лица были видны, и тонкие капилляры, по которым было видно, как струится, пульсирует, дрожит кровь. Но вот что странно, и смущает. Тонкие длинные макароны свисают, как волосы, или волосы, как макароны, как будто саму Тамару Михайловну только что вытащили из барабана огромной стиральной машины и подвесили сушиться на веревке.
Ужас любви!
Что и говорить, великолепна ты, любовь моя, слаще шоколада фабрики "Красный октябрь"! очи твои лазурные. Да, милый, сладкий мой, люблю тебя в себе! и диван наш - мягче облаков; потолок высок, как небо, свеча освещает мрак, как полоска с перстами розовой зари.
И вот она осталась одна.
Услышь меня, хорошая,
Услышь меня, красивая,
Заря моя вечерняя,
Любовь неугасимая.
Видя, что Тамара Михайловна машет ему, Денис открыл окно и крикнул:
- Вам в чём-нибудь помочь?
Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами.
Тамара Михайловна минуту была в замешательстве, какую же просьбу ей придумать, и не думая, машинально ответила:
- Я хотела передвинуть диван с террасы в комнату.
Что яблоня между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. В тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей.
Действительно, пару дней назад у неё появилась такая мысль. На террасе стало прохладно, а диван был нужен в гостиной.
Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви.
- Я сейчас зайду, - сказал Денис.
Страстный мальчик будет только моим, а я только его в этот день, и в этот час; мальчик пройдет между лилиями.
Не говори никогда о старости, в яблоке её не бывает!
На диване мягком моём с большими подушка не могла я ночью найти того, которого нетерпеливо ждёт сад мой, желала милого, а он как сквозь землю провалился!
Это и понятно, поскольку дева - это английская калька «дьявол» (devil), и дама - это по тому же языку (dammit) чёрт (побери), а уж люди просто-таки по-немецки волки (volk). Русский язык - перевертыш, исказитель, издеватель европейских смыслов!
Славу пою любимой моей, озаренной мечтою осенней! взгляд синих глаз твоих возбуждает меня всего без остатка; волосы твои светлые - зрелая пшеница, возросшая в полях бескрайних; груди твои белые с острыми розовыми сосцами - как пара овечек, которых я нежу; белее белого живот твой чуть-чуть полноватый, но мне нравится такой, мну и ласкаю, спускаясь к лилиям, между которых пасусь.
А как вам нравится Адам - покоритель дам?!
В этот сад хода нет никому, кроме меня - любовь моя, ненаглядная и непостижимая, блаженный колодец, тайный целительный родник: по склонам бегут виноградники, в долине цветут яблони, в вишневом саду стучат топорами, готовя на продажу усадьбу, шахматы с домино, карты под шампанское, сёмга и красная икра, шоколадные конфеты с коньяком; читаю бесконечные строки любви в нашем книжном саду.
Ты, сладострастник мой, иди скорее в сад мой плодоносный, чтобы собирать яблоки.
Счастье любви!
Это как у замысловатого и чрезвычайно иногда многословного в пределах короткого рассказа Эдгара По в попутных садах расцветают слова о том, что если испанский поэт дон Томас де Лас Торрес уверен, что нравственность самого автора не вызывает сомнений, то неважно, что за мораль содержится в его книгах. В каждой книге должна быть мораль. И что гораздо важнее, критики давно уже обнаружили, что в каждой книге она есть. Не так давно немецкий богослов Филипп Меланхтон написал комментарий к "Войне мышей и лягушек", где доказал, что целью поэта было возбудить отвращение к мятежу. Итальянский филолог Пьер Ла Сен пошел дальше, заявив, что поэт имел намерение внушить молодым людям, что в еде и питье следует соблюдать умеренность. Точно таким же образом французский теолог Якобус Гюго утверждает, что в лице Эвнея из "Илиады" Гомер изобразил Жана Кальвина, в Антиное - Мартина Лютера, в лотофагах - вообще протестантов, а в гарпиях - голландцев. Новейшие наши схоласты доказали, что если уж кто-нибудь берется за перо, то может совершенно не думать о морали.
Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня.
Тамара Михайловна пошла по дорожке к калитке, отпереть её. Калитка была глухая, тесовая, елочкой, крашеная, как и ворота, в зеленый цвет.
Жительница садов! товарищи внимают голосу твоему, дай и мне послушать его.
Томительное состояние восторга.
Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного? Под яблоней разбудила я тебя: там родила тебя мать твоя, там родила тебя родительница твоя.
Иду я вдоль по улице,
А месяц в небе светится,
А месяц в небе светится,
Чтоб нам с тобою встретиться.
Впустив Дениса, высокого, в джинсах и бейсболке, Тамара Михайловна закрыла калитку на щеколду, и пошла впереди Дениса в дом. Он шел следом, и вдруг как-то странно поймал себя на том, что с некоторым возбуждением поглядывает на округлости пониже спины старушки. Это мягкое богатство могло совершенно спокойно принадлежать молодой женщине. И Тамара Михайловна как-то подчеркнуто зазывно покачивала бедрами, а у ступенек на крыльцо приостановилась, оглянулась, мелькнул огонь в глазах, еще больше возбудивший Дениса. И он приобнял старую соседку за талию, чуть ближе к ягодицам, и помог взойти свободно в дом. Денису показалось, что от соседки попахивало спиртным.
Ничего там не было, и не ищите, не ройте пирамиды, не вскрывайте гробы. Откройте книгу, в книге увидите Слово. Вот оно только и было впереди планеты всей. Ясно?! Сначала Слово, потом всё остальное, вскрываемое Словом, потому что Слово и Бог - близнецы-братья. Мы говорим - Слово, подразумеваем Бога, мы говорим - Бог, подразумеваем Слово!
Фаллосом твердым, как ребро, создал Бог, ибо был сам фаллосом, и всё вокруг твердым фаллосом сделано, итак, создал Ебохуй жену мужу, чтобы было куда входить ему, и откуда выходить. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились.
Слово было всегда у Бога. Все через Слово начало быть, и без Слова ничто не начало быть, что начало быть. В Слове была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был Свет истинный, Свет Слова, просвещающего всякого человека, приходящего в мир из сада женщины по указанию мужа.
О какой морали может думать девяностотрехлетняя женщина, если к ней постоянно приходит пятнадцатилетний мальчик из хорошей семьи? Плохих семей в обнесенном глухим зеленым забором поселке нет. Муж Тамары Михайловны, бывший ответственный работник аппарата ЦК КПСС, умер четыре года назад, и Тамара Михайловна решила, что жизнь её на этом закончилась. Ей было 89, и муж умер прямо на ней в момент изумительнейшего, непревзойденного, героического оргазма. Кончил и умер. Или умер с кончиной. Вот, что язык вытворяет, когда на нем начинаешь писать свободно, и только так, как тебе нравится.
Еще десять поколений спустя Авраам прожил 175 лет, сходные сроки указаны и для других Патриархов. … жизни, неуклонно снижаясь в переходный период от Ноя (959 лет) к Моисею (120 лет), сократилась до указанного Богом стодвадцатилетнего срока.
Неотвратимость любви!
Но одно дело - решить, а другое - сама жизнь с её какой-то странной физиологией. Однажды во сне ей показалось, что незнакомый мальчик - а ей всегда хотелось в жизни именно мальчика - не сводил с нее глаз, а потом страстным шепотом попросил показать ему то, и Тамара Михайловна задрала юбку, приспустила на полные колени трусы, а мальчик упал на колени, стал жадно целовать треугольник иерусалимских садов, гладить сдобные ягодицы, проводить руку между ногами, чтобы коснуться горячей влаги яблиньки.
Нравственно ли совокупляться 93-летней женщине с 15-летним юношей?! А? Прошу встать и ответить. А что на этот счет думает Федор Михайлович Достоевский? Да ничего не думает. Он полагал, что совокупляться можно только сыновьям, а отцам нельзя. Вот и убивает Федора Павловича за совокупление с Грушенькой, которую любит Дмитрий. А сколько лет Федору Павловичу? 55. Для времен Достоевского - глубокий старик. Но не надо забывать, что сам Достоевский жил в это время с молодой женой. Что уж там говорить о Льве Толстом, который зациклился на запрете совокуплений для других, и при этом произвёл сам многочисленное потомство, не брезгуя любовью до самого ухода. Ухода от себя, от плодов своих нравоучений, доходивших до тупоумия. А всё почему? Да потому что не знал ничего о Боге, который и есть совокупление, оргазм!
Эйфория любви!
Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты? Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся. И сказал: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть? Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела.
Тамара Михайловна сидит среди голых яблонь на брезентовом раскладном стуле, смотрит в даль яблочного моря, где преобладают желто-розовые тона, на картины туманные, в которых не за что зацепиться. Ноги широко разведены в коленях, подол прибит, чтобы не было видно, сцепленные пальцы в щели друг друга опущены в этот подол. При этом она шевелит чуть-чуть синеватыми тонкими губами. При повороте глазных яблок тонкая кожа век подрагивает, как осиновый лист. Весь дачный участок занимали яблони. А это был урожайный год. На земле не было живого места от желтобоких яблок. Что с ними делать, Тамара Михайловна, седовласая и полная, не знала.
Диван был просторный, старый, но не продавленный, это почувствовал Денис, когда с небывалым усердием, чуть приподняв с одной стороны, двигал его, подложив под другую сторону холщевую тряпку, в гостиную. Диван был с валиками, с прекрасной тканью обивки в больших розах, с полочкой и продолговатым зеркалом над ней.
- Вот тут и оставь, - сказала Тамара Михайловна, и села на мягкое сиденье. - Садись, посиди со мной, Денис.
Денис снял бейсболку, и стали заметнее на лбу капельки пота. В углу на полу он заметил начатую бутылку водки, с надетым на горлышко стаканом. Тамара Михайловна перехватила взгляд Дениса.
- Ты выпьешь водочки? - сказала она, лелея голосом слово "водочки".
- Немножко можно, - смущенно ответил Денис.
Тут же явился малосольный огурчик. Горлышко бутылки звякнуло о стакан.
- А тяжелая штука! - сказал Денис, отдуваясь и похрустывая огурчиком.
Еще косою острою
В лугах трава не скошена,
Еще не вся черемуха
К тебе в окошко брошена.
- Зато приятно на нем лежать, - сказала Тамара Михайловна, и немного подтянула подол платья, так что стали видны совершенно белые колени, и даже начало соблазнительных ляжек.
Денис смущенно отвел взгляд в сторону. Не трогать же ему соседку, да к тому же глубокую старуху! Это просто стыд и позор! Но против воли глаза сами нашли её ноги.
Тамара Михайловна сразу почувствовала это, взяла его руку и положила к себе на колено. Денис не шевелил рукой, застыл. И почувствовал, что ладонь его нагревается.
- Это можно, - тихо сказала Тамара Михайловна. - Можно в гости ко мне.
И откинулась на спинку дивана.
Бесконечность любви!
И подумать только... Надо же, приходит на ум... "Загадочность очей" - то ж, и рассуждать нечего, обыкновенная фигура речи... Посудите сами, какая в глазных яблоках загадочность, просто-напросто эти яблоки глаз управляются обыкновенными мускулами.
Из печи достали на противне яблоки, с горячей золотистой корочкой. Будьте любезны, откушивать с густым сладким домашним вином из черноплодной рябины!
И нечего сомневаться, отматывай пленку на начало к яблоне в прохладном саду, и смотри, как яблоки падают вниз, а не улетают на небо.
В их московском доме жил артист, который говорил «из живота», как думали дети, не раскрывая рта, а чтобы не было видно, что это он все-таки говорит, он прикрывал адамово яблоко шелковым шарфиком. Чтобы было ясно, можно пояснить, что адамово яблоко - это выступ на передней поверхности шеи у мужчин, образованный сходящимися под углом пластинками щитовидного хряща гортани, проще говоря - кадык. Название - от библейской легенды о проглоченном Адамом яблоке.
Одержимость любви!
Как-то незаметно она вошла в другой переулок. Как будто не шла, а летела, но плавно. На левой стороне стоял овощной фургон на колесах с выступающим на уровне головы навесом. Торец этого навеса не был заметен, так что можно было с ходу сильно удариться лбом. В открытом доступе красовались помидоры, бананы, персики, мандарины… и, конечно, яблоки - и зеленые, и желтые, и румяные, и большие и маленькие, и твердые, и мягкие.
Из арки подворотни вышел серый в черных яблоках конь, и направился вниз по переулку прогулочным шагом, не поворачивая изящной головы с острыми треугольниками ушей, целеустремленно смотря вперед. И конь шел так грациозно, как только может ступать Владимир Васильев на балетной сцене, освещенный вечерним закатным солнцем.
Очень странное ощущение охватывает тебя в осеннем саду, когда яблоки лежат на земле сплошным ковром, а на самих яблонях нет ни яблок, ни листьев. До одурения пахнет вином. Тишина. Только одинокая ворона изредка издает свой эхоподобный «кар-р-р», покачиваясь на ветке.
Денис осмелел, поднял руку и потрогал через ткань платья большие, свободные без лифчика, слегка обвисшие, но еще довольно крепкие груди. Тамара Михайловна приоткрыла рот с прекрасным рядом белоснежных вставных зубов, взяла руку Дениса своей рукой и завела её под платье, и скользнув от живота вниз под резинку, остановила на густых волосах при въезде в обжигающую влагу.
Тонкие пальцы Дениса прикоснулись к нежному, тесному, как у некоторых девчонок из класса, с которыми он уже имел дело, закрытому упругими складками влажному отверстию, и проникли вглубь. Денис закрыл глаза, и представил, что это он уединился с Басиной. И так был удивлен этому сравнению, что даже воскликнул:
- Какая вы-ыиии!
Неизбежность любви!
Она отпробовала кислую и сладкую твердость яблока и вспомнила о юности того, кто это яблоко подарил. И её годы рассеялись, как ночь на рассвете, изгоняемая слепящим солнцем.
Редко когда бывает за обедом столько аппетитной еды. Золотистый гусь с яблоками из духовки руководил взглядами гостей, нетерпеливо ожидавших получение на свою тарелку саксонского фарфора шипящяего солидного куска.
Какие переживания из-за внучки. Вот тебе и на! Её ненаглядная, Вера, проносится в облаках на авиалайнере! Тамара Михайловна вглядывалась в небо, и действительно видела высоко в синем тонкий белый шлейф от самолета, который выглядел там каким-то крохотным мотыльком. Голос Тамары Михайловны был таким, как будто это читала текст диктор по радио, монотонный и ледяной, обративший лишь внимание на то, что на глухом сером заборе вдруг проклюнулись подснежники, по всей площади забора, как на обоях нарисованные, а уж о звонких розово-желтых яблоках и говорить нечего.
Отойдите. Без восклицания. Вообще отходить нужно всегда молча. Когда ты отходишь, то думаешь, что все заметят, как ты отходишь. Но никто тебя и не видит, что ты был или нет. Поэтому опытные люди ходят по залам во время спектаклей, уходят с партийных собраний, никого не стесняясь. Входят в зал без предупреждения. И при этом остаются незамеченными.
Бесконечность любви!
Там наискосок разрезает рынок колхозница с мешком на плече. Сначала трудно понять, что она несет в мешке, но потом Тамара Михайловна видит, как румянощекая баба высыпает в лоток из мешка крупные желтые яблоки, точно такие же, которые морем устилают участок Тамары Михайловны.
Из широкого окна мастерской художницы под самой крышей был хорошо виден рынок, и особенно та сцена, когда крутозадая колхозница ссыпала желтые яблоки в лоток прилавка. Художница уж слишком увеличила ей бедра с налитыми ягодицами, и яблоки сделала такими же огромными, но не желтыми, а крепко зелеными, как листья липы в соку в июне. Художница в яблоках видела ягодицы с расщеплением на дольки, и пока она рисовала их, то испытывала нечто вроде любовного экстаза, увлажняясь сама в тех местах, которые писала в яблоке на холсте. Если от ягод получаются ягодицы, то почему бы от яблок не произвести яблокицы?!
Ягода - ягодица, яблоко - яблокице. Ягоды - ягодицы, яблоки - яблокицы!
Художница упала в кресло и, запустив руку себе под одежду, провела ладонью себе между ногами по яблинице.
Яблиница ждет Адама.
Еще не скоро молодость
Да с нами распрощается.
Люби, покуда любится,
Встречай, пока встречается.
Подневольность любви!
Урожай овощей и фруктов осенью заканчивает цикл в размягчении, в улыбке, в румяности, в готовности пасть ниц пред каждым, но упав, может разбиться в лепешку. А им и нужно расшибаться, чтобы освободить от мякоти зерна, семена, ради которых и растут и цветут сами, размножаясь в вечности до бесконечности, не имея ни имен, ни фамилий, а просто обозначение рода. Мы говорим «яблоко», и видим море яблок, а из этого моря торчат, как колокольня церкви под Калязином, голые графически-черные яблони.
В детстве её не привлекал на даче собственный сад, и она искала с девчонками и ребятами приключений в других садах, осуществляя вторжения на запретные территории ради, трудно теперь себе представить(!), жестких кислых зеленых яблок, откусив которое, сводило скулы, и выбрасывали их так надкусанными, причем надкусанная часть буквально на глазах желтела, стоило подержать яблоко некоторое время в руке.
А уж этот яблочный видок осенью так и стоял в глазах, когда все комнаты, столы, подоконники две террасы были усыпаны яблоками, и интересно, из-под яблок на письменном столе, как сейчас помнила, виднелись золотые корешки энциклопедии Брокгауза и Ефрона, которую она тогда читала подряд с первого тома. Все статьи читала по очереди, практически, не понимая ни черта, но урочно (то есть как будто учила уроки), как повинность, читала, хотя её об этом никто не просил, и тем более, не заставлял.
Раньше на рынках были десятки видов разных яблок, которые везли отовсюду. Ныне же преобладают импортные, красивые на вид, но невкусные, какие-то пресные яблоки.
Когда-то Тамара Михайловна берегла фигуру, на завтрак её домработница подавала чашку молока, кусочек сыра и яблоко.
В каждом жесте - любовь!
Тамара Михайловна в каком-то нетерпении, и тоже с закрытыми глазами, покачала бедрами, шире разводя ноги, нащупала молнию на джинсах Дениса, и рванула её вниз. Пальцы её нетерпеливо сжали то, что хотели, и выпустили напряженный цветок с большой головкой на свободу. Другой рукой Тамара Михайловна торопливо провела себя по промежности, отчего она еще больше набухла.
Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила Каина, и сказала: приобрела я человека от Господа. И еще родила брата его, Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени, Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И призрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно огорчился, и поникло лице его. И сказал Господь Каину: почему ты огорчился? и отчего поникло лице твое? если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. И сказал Каин Авелю, брату своему. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю; разве я сторож брату моему?
- Иди ко мне скорей. В гости, в гости!
В каждом слове - любовь!
Она крепко сжала тюльпан Дениса, и сама подвела к орошенным садам иерусалимским. Большой купол сладко вошел в яблиницу. Потом отстранился, вышел, и Денис, поднявшись, увидел светлые, почти седые кудри треугольника жизни внизу белейшего живота, склонился, развел пальцами шире алые лепестки яблиницы, и коснулся их языком.
Потом опять вошел в нее, как нужно, далеко, и близко, от себя к ней, и от неё к себе, доставая головкой тюльпана какой-то округло-крепкий шарик, отчего стало невыносимо щекотно. После взрывного сладкого защемления струя вырвалась с такой силой, что Тамара Михайловна от блаженства взвизгнула, как Басина, и дернулась вперед, ударившись головой о подбородок Дениса.
И ей казалось, что она девчонка, что ей пятнадцать, и что возраста не существует.
Веселое дело - есть яблоки!
Не яблоко срывал Адам!
Входил в яблиницу Евы.
Встречай меня, хорошая,
Встречай меня, красивая,
Заря моя вечерняя,
Любовь неугасимая.
Яблоко - это Еба, замаскированная как Ева, чтобы было явление, я не ебление.
И небо в Ебе!
И Еба в хлебе!
Ева-Еба-хлеба-ебля-ябло-явление-яблоко.
Выявить - это выебать!
Пышные цветы секса не знают увядания.
Поэт Николай Клюев записал в 1922 году: "…для меня Христос - вечная неиссякаемая удойная сила, член, рассекающий миры во влагалище, и в нашем мире прорезавшийся залупкой - вещественным солнцем, золотым семенем непрерывно оплодотворяющий корову и бабу, пихту и пчелу, мир воздушный и преисподний - огненный... Семя Христово - пища верных. Про это и сказано: «Приимите, ядите…» и «Кто ест плоть мою, тот не умрет <…>» Богословам нашим не открылось, что под плотью Христос разумел не тело, а семя, которое и в народе зовется плотью... Вот это и должно прорезаться в сознании человеческом, особенно в наши времена, в век потрясенного сердца, и стать новым законом нравственности…"
Поездка-поезд-езда в гнезде-пизда.
Вагон-вагина.
Авраам был девяноста девяти лет, когда была обрезана крайняя плоть его.
Какой грех!
А вы празднуете праздник Обрезания Господня?!
Ведь Господь наш - Хуй, а сын его - Хер!
Все мы дети Хуя, все мы дети Хера!
Взгляду врача открылась чуть-чуть окаменевшая, жизнь еще была минут сорок назад, физиономия с зимним как будто яблочным румянцем. Казалось, что Тамара Михайловна была полностью погружена в свои мысли.
Поговаривали, будто она любую любовь передает через яблоко, и что самое странное, её слушали, и толпились так плотно, что упасть яблоку было негде. Поставить бы с ней рядом Невтона, как его Ломоносов называл, то есть Ньютона, и посмотреть бы, как ему по голове ударит это самое яблоко, которому негде упасть, кроме как ударить по голове твердолобого описателя всяких падений и притяжений.
"Наша улица” №145 (12) декабрь 2011
|
|
телевизор |
 |
|
|
«Литература для меня является прежде всего формой переложения души в знаки, которые запечатлеваются в метафизически бессмертной божественной программе. Литература, как и литургия, призвана спасать душу», - говорит Кувалдин.
Из рецензии Фазиля Искандера на книгу Юрия Кувалдина «Улица Мандельштама»:
«Книга Юрия Кувалдина "Улица Мандельштама" (сборник повестей) - именно книга в самом точном смысле этого слова. При внешне разнообразном материале ее мы все время чувствуем ее внутреннее единство. Единство ее в том, что в мире мыслей автор чувствует себя как дома и хочет, чтобы и мы здесь чувствовали себя так же, однако и не слишком при этом распускали пояса, да и автор сам при должном гостеприимстве достаточно подтянут.
Одним словом, это настоящая интеллектуальная, а точнее сказать, интеллигентная проза. Кувалдин не поддается ни волнам скороспелых и скоропреходящих литературных веяний, ни суете "проходных" рассуждений о "положительном герое". Этим в немалой мере объясняется то доверие, которое при чтении испытываешь к его повестям, ибо в работе каждого настоящего писателя важна не только сама система его нравственных, философских, эстетических ценностей, но и последовательность, упорство, страсть в их отстаивании.
У Кувалдина нет интереса к людям легкой судьбы. Он любит вглядываться в "сложных" героев, говорит о них правду, в большинстве своем тяжелую и печальную, почерпнутую из самой жизни, где положительное и отрицательное ходят рука об руку. Своими повестями Юрий Кувалдин не только сообщает новое, он, сам творя, узнает нечто новое и неожиданное для себя, и стиль его всегда несет отпечаток этого волнения первооткрывателя».
|
|
КУВАЛДИН СКАЗАЛ ЧЕХОВУ |

АНТОН ЧЕХОВ: “ICH STERBE*...”
* Чехов умер в три часа ночи. Об этой последней ночи - с 1 на 2 июля (14-15 по новому стилю) 1904 года - вспоминала Ольга Леонардовна: “Антон Павлович тихо, покойно отошел в другой мир. В начале ночи он проснулся и первый раз в жизни сам попросил послать за доктором. Я вспомнила, что в этом же отеле жили знакомые русские студенты - два брата, и вот одного я попросила сбегать за доктором, сама пошла колоть лед, чтобы положить на сердце умирающему. Я слышу, как сейчас, среди давящей тишины июльской душной ночи звук удаляющихся шагов по скрипучему песку... Пришел доктор, велел дать шампанского. Антон Павлович сел и как-то значительно, громко сказал доктору по-немецки: “Ich sterbe...” (Я умираю /нем./). Потом взял бокал, повернул ко мне лицо, улыбнулся своей удивительной улыбкой, сказал: “Давно я не пил шампанского...”, покойно выпил все до дна, тихо лег па левый бок и вскоре умолкнул навсегда... И страшную тишину ночи нарушала только как вихрь ворвавшаяся огромных размеров черная ночная бабочка, которая мучительно билась о горящие электрические лампочки и моталась по комнате.
- Антон Павлович, на мой взгляд, каждый пишущий должен ответить для начала на очень простой и понятный вопрос: чем для него является литература? Для меня здесь ответ прост: то, что не зафиксировано в слове, того не существовало. Для меня сама жизнь, в которой бултыхаются миллионы, не имеет отношения к литературе. Жизнь служит лишь поводом для литературы. Реальность бесследно исчезает с лица земли, Слово остается. Реальность мне всегда представлялась нереальной. Мне казалось необходимым подать событие так, как я его видел, а это редко совпадало с более объективным взглядом на происшедшее. Мне хотелось, чтобы реально имевшее место сложилось в стройный рассказ, и я тут же выстраивал его. Самое интересное: я сам проникаюсь искренней верой в истинность того, что увидел, и меня не на шутку удивляет, когда я слышу, что другим случившееся запомнилось иначе. Да и спустя время моя приукрашенная версия, то есть художественная версия событий сохраняет реальность - пусть лишь для меня одного.
- Да, Юрий Александрович, литературу можно сравнить с Везувием. Но что за мученье взбираться на Везувий! Пепел, горы лавы, застывшие волны расплавленных минералов, кочки и всякая пакость. Делаешь шаг вперед и - полшага назад, подошвам больно, груди тяжело... Идешь, идешь, идешь, а до вершины все еще далеко. Думаешь: не вернуться ли? Но вернуться совестно, на смех поднимут. Кратер Везувия имеет несколько сажен в диаметре. Я стоял на краю его и смотрел вниз, как в чашку. Почва кругом, покрытая налетом серы, сильно дымит. Из кратера валит белый вонючий дым, летят брызги и раскаленные камни, а под дымом лежит и храпит сатана. Шум довольно смешанный: тут слышится и прибой волн, и гром небесный, и стук рельс, и падение досок. Очень страшно и притом хочется прыгнуть вниз, в самое жерло. Я теперь верю в ад. Лава имеет до такой степени высокую температуру, что в ней плавится медная монета. Не нравится мне, когда люди считают себя “ничтожными и незаметными”. Ничтожество свое можно сознавать перед Богом, пожалуй, перед умом, красотой, природой, но не перед людьми. Среди людей нужно сознавать свое достоинство. Не нужно смешивать понятие “смиряться” с понятием “сознавать свое ничтожество”. Вообще, личность начинается с уважения к себе. Если у меня есть дар, который следует уважать, то, каюсь, я доселе не уважал его. Я чувствовал, что он у меня есть, но привык считать его ничтожным. Чтобы быть к себе несправедливым, крайне мнительным и подозрительным, для организма достаточно причин чисто внешнего свойства... А таких причин, как теперь припоминаю, у меня достаточно. Все мои близкие всегда относились снисходительно к моему авторству и не переставали дружески советовать мне не менять настоящее дело на бумагомаранье. Подойдут, бывало, погладят по головке, и скажут, вздыхая: “Бросил бы ты, Антоша, безделье. Что ты все бумагу переводишь. Ты же врач! У тебя в руках специальность!” У меня в Москве были сотни знакомых, между ними десятка два было людей пишущих, но, поверите ли, Юрий Александрович, я не могу припомнить ни одного, который читал бы меня или видел во мне художника. Кругом было разлито полное, тотальное равнодушие. В Москве существовал так называемый “литературный кружок”: таланты и посредственности всяких возрастов и мастей собирались раз в неделю в кабинете ресторана и прогуливали здесь свои языки. Если бы я пошел туда и прочитал хотя бы кусочек из своего “Архиерея”, то мне бы засмеялись прямо в лицо. За долгое время моего шатанья по газетам я успел проникнуться этим общим взглядом на свою литературную мелкость, скоро привык снисходительно смотреть на свои работы и - пошла писать! Но я был еще и врач, и по уши втянулся в свою медицину, так что поговорка о двух зайцах никому другому не мешала так спать, как мне. Я воспитывал в себе мужество каждую критическую статью, даже ругательно-несправедливую, встречать молчаливым поклоном - таков литературный этикет... Отвечать было не принято, и всех отвечающих справедливо упрекали в чрезмерном самолюбии. Да к тому же отвечающие постоянно поднимали вопрос о всеобщем счастье. А это счастье они понимали, как одно сплошное добро без всякого зла. А зло и добро - одно целое. Как, впрочем, красота и грязь. Все в нашем мире едино и одно без другого не существует. Но, на мой взгляд, подобно вопросам о непротивлении злу, свободе воли и прочим, этот вопрос может быть решен только в будущем. Мы же можем только упоминать о нем, решать же его - значит, выходить из пределов нашей компетенции. Ссылка на Тургенева и Толстого, избегавших “навозную кучу”, не проясняет этого вопроса. Их брезгливость ничего не доказывает: ведь было же раньше них поколение писателей, считавшее грязью не только “негодяев с негодяйками”, но даже и описание мужиков и чиновников ниже титулярного. Да и один период, как бы он ни был цветущ, не дает нам права делать вывод в пользу того или другого направления. Ссылка на развращающее влияние названного направления тоже не решает вопроса. Все на этом свете относительно и приблизительно. Есть люди, которых развратит даже детская литература, которые с особенным удовольствием прочитывают в псалтыри и в притчах Соломона пикантные местечки, есть же и такие, которые, чем больше знакомятся с житейскою грязью, тем становятся чище. Публицисты, юристы и врачи, посвященные во все тайны человеческого греха, неизвестны за безнравственных; писатели-реалисты чаще всего бывают нравственнее архимандритов. Да и, в конце концов, никакая литература не может своим цинизмом перещеголять действительную жизнь; одною рюмкою не напоишь пьяным того, кто уже выпил целую бочку. Из этого вытекает вывод, что художественная литература потому и называется художественной, что рисует жизнь такою, какова она есть на самом деле, ее назначение - правда безусловная и честная. Суживать ее функции такою специальностью, как добывание “зерен”, так же для нее смертельно, как если бы я заставил Левитана рисовать дерево, приказав ему не трогать грязной коры и пожелтевшей листвы. Я согласен, “зерно” - хорошая штука, но ведь литератор не кондитер, не косметик, не увеселитель; он человек обязанный, законтрактованный сознанием своего долга и совестью; взявшись за гуж, он не должен говорить, что не дюж, и, как ему ни жутко, он обязан бороть свою брезгливость, марать свое воображение грязью жизни... Он то же, что и всякий простой корреспондент. Что бы было, если бы корреспондент из чувства брезгливости или из желания доставить удовольствие читателям описывал бы одних только честных городских голов, возвышенных барынь и добродетельных железнодорожников? Для химиков на земле нет ничего нечистого. Литератор должен быть так же объективен, как химик; он должен отрешиться от житейской субъективности и знать, что навозные кучи в пейзаже играют очень почтенную роль, а злые страсти так же присущи жизни, как и добрые. Делая на грош, они не носятся со своей папкой на сто рублей и не хвастают тем, что их пустили туда, куда других не пустили... Истинные таланты всегда сидят в потемках, в толпе, подальше от выставки... Даже Крылов сказал, что пустую бочку слышнее, чем полную... Тут нужны беспрерывный дневной и ночной труд, вечное чтение, штудировка, воля... Тут дорог каждый час... Молодым советую писать не больше 2-х рассказов в неделю, сокращать их, обрабатывать, дабы труд был трудом, и не выдумывать страданий, которых не испытали, и не рисовать картин, которых не видели, - ибо ложь в рассказе гораздо скучнее, чем в разговоре... Писателю необходимо помнить каждую минуту, что его перо, данный свыше талант понадобятся ему в будущем больше, чем теперь... А рассказ будет художественным произведением только при следующих условиях: 1) отсутствие словоизвержений политико-социально-экономического свойства; 2) объективность сплошная; 3) правдивость в описании действующих лиц и предметов; 4) сугубая краткость; 5) смелость и оригинальность; уход от шаблона; 6) сердечность. По моему мнению, описания природы должны быть весьма кратки и иметь характер краткого дополнения. Общие места вроде: “заходящее солнце, купаясь в волнах темневшего моря, заливало багровым золотом” и проч. “Ласточки, летая над поверхностью воды, весело чирикали”, - такие общие места надо вычеркивать. В описаниях природы надо хвататься за мелкие частности, группируя их таким образом (разбрасывая по всему тексту), чтобы по прочтении, когда закроешь глаза, давалась картина. Например, получится лунная ночь, если написать, что на мельничной плотине яркой звездочкой мелькало стеклышко от разбитой бутылки и т. д. Природа станет одушевленной, если употреблять сравнения явлений ее с человеческими действиями и т. д. В сфере психики тоже частности. Храни Бог от общих мест. Лучше всего избегать описывать душевное состояние героев; нужно стараться, чтобы оно было понятно из действий героев... Не нужно гоняться за изобилием действующих лиц. Центром тяжести должны быть двое: он и она... Мне кажется, что писатели не должны решать такие вопросы, как Бог, пессимизм и т. п. Дело писателя изобразить только, кто, как и при каких обстоятельствах говорили или думали о Боге или пессимизме. Художник должен быть не судьею своих персонажей и того, о чем говорят они, а только беспристрастным свидетелем. Я слышал беспорядочный, ничего не решающий разговор двух русских людей о пессимизме и должен передать этот разговор в том самом виде, в каком слышал, а делать оценку ему будут присяжные, т. е. читатели. Мое дело только в том, чтобы быть талантливым, т. е. уметь отличать важные показания от неважных, уметь освещать фигуры и говорить их языком. Этого не понимают мелкие литературные чиновники. Во всех наших толстых журналах царит кружковая, партийная скука. Душно! Не люблю я за это толстые журналы, и не соблазняет меня работа в них. Партийность, особливо если она бездарна и суха, не любит свободы и широкого размаха. Я боюсь тех, кто между строк ищет тенденции и кто хочет видеть меня непременно либералом или консерватором. Я не либерал, не консерватор, не постепеновец, не монах, не индифферентист. Я хотел бы быть свободным художником и - только, и жалею, что Бог не дал мне силы, чтобы быть им. Я ненавижу ложь и насилие во всех их видах. Фарисейство, тупоумие и произвол царят не в одних только купеческих домах и кутузках; я вижу их в науке, в литературе, среди молодежи... Я же имел в виду тех глубокомысленных идиотов, которые бранят Гоголя за то, что он писал не по-хохлацки, которые, будучи деревянными, бездарными и бледными бездельниками, ничего не имея ни в голове, ни в сердце, тем не менее, стараются казаться выше среднего уровня и играть роль, для чего и нацепляют на свои лбы ярлыки. Что же касается человека 60-х годов, то в изображении его я старался быть осторожен и краток, хотя он заслуживает целого очерка. Я щадил его. Это полинявшая недеятельная бездарность, узурпирующая 60-е годы; в V классе гимназии она поймала 5-6 чужих мыслей, застыла на них и будет упрямо бормотать их до самой смерти. Это не шарлатан, а дурачок, который верует в то, что бормочет, но мало или совсем не понимает того, о чем бормочет. Он глуп, глух, бессердечен. Вы бы послушали, как он во имя 60-х годов, которых не понимает, брюзжит на настоящее, которого не видит; он клевещет на студентов, на гимназисток, на женщин, на писателей и на все современное и в этом видит главную суть человека 60-х годов. Он скучен, как яма, и вреден для тех, кто ему верит, как суслик. Шестидесятые годы - это святое время, и позволять глупым сусликам узурпировать его - значит опошлять его. Потому я одинаково не питаю особого пристрастия ни к жандармам, ни к мясникам, ни к ученым, ни к писателям, ни к молодежи. Фирму и ярлык я считаю предрассудком. Я чувствую, что проповедую ересь, но до абсолютного отрицания вопросов в художестве еще не доходил ни разу. В разговорах с пишущей братией я всегда настаиваю на том, что не дело художника решать узко специальные вопросы. Дурно, если художник берется за то, чего не понимает. Для специальных вопросов существуют у нас специалисты; их дело судить об общине, о судьбах капитала, о вреде пьянства, о сапогах, о женских болезнях... Художник же должен судить только о том, что он понимает; его круг так же ограничен, как и у всякого другого специалиста, - это я повторяю и на этом всегда настаиваю. Что в его сфере нет вопросов, а всплошную одни только ответы, может говорить только тот, кто никогда не писал и не имел дела с образами. Художник наблюдает, выбирает, догадывается, компонует - уж одни эти действия предполагают в своем начале вопрос; если с самого начала не задал себе вопроса, то не о чем догадываться и нечего выбирать. Чтобы быть точнее, сошлюсь на психиатрию: если отрицать в творчестве вопрос и намерение, то нужно признать, что художник творит непреднамеренно, без умысла, под влиянием аффекта; поэтому, если бы какой-нибудь автор похвастал мне, что он написал повесть без заранее обдуманного намерения, а только по вдохновению, то я назвал бы его сумасшедшим. Требуя от художника сознательного отношения к работе, как правило, смешивают два понятия: решение вопроса и правильная постановка вопроса. Только второе обязательно для художника. В “Анне Карениной” и в “Онегине” не решен ни один вопрос, но они вполне удовлетворяют читателя потому только, что все вопросы поставлены в них правильно. Суд обязан ставить правильно вопросы, а решают пусть присяжные, каждый на свой вкус. Мое святое святых - это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода, свобода от силы и лжи, в чем бы последние две ни выражались. Вот программа, которой я держался бы, если бы был большим художником. А так - когда пишу - начало выходит у меня всегда многообещающее, точно я роман начал; середина скомканная, робкая, а конец, как в маленьком рассказе, фейерверочный. Я дурак и самонадеянный человек или же, в самом деле, я организм, способный быть хорошим писателем; все, что теперь пишется, не нравится мне и нагоняет скуку, все же, что сидит у меня в голове, интересует меня, трогает и волнует - и из этого я вывожу, что все делают не то, что нужно, а я один только знаю секрет, как надо делать. Вероятнее всего, что все пишущие так думают. Впрочем, сам черт сломает шею в этих вопросах. Для молодежи полезнее писать критику, чем стихи. Мережковский пишет гладко и молодо, но на каждой странице он трусит, делает оговорки и идет на уступки - это признак, что ты сам не уяснил себе вопроса... Меня величает он поэтом, мои рассказы - новеллами, моих героев - неудачниками, значит, дует в рутину. Пора бы бросить неудачников, лишних людей и проч. и придумать что-нибудь свое. Мережковский моего монаха, сочинителя акафистов, называет неудачником. Какой же это неудачник? Дай Бог всякому так пожить: и в Бога верил, и сыт был, и сочинять умел... Делить людей на удачников и на неудачников - значит, смотреть на человеческую природу с узкой, предвзятой точки зрения... Удачник вы или нет? А я? А Наполеон? Где тут критерий? Надо быть Богом, чтобы уметь отличать удачников от неудачников и не ошибаться... Бывают минуты, когда я положительно падаю духом. Для кого и для чего я пишу? Для публики? Но я ее не вижу и в нее верю меньше, чем в домового: она необразованна, дурно воспитана, а ее лучшие элементы недобросовестны и не искренни по отношению к нам. Исчезла бесследно масса племен, религий, языков, культур - исчезла, потому что не было историков и биологов. Так исчезает на наших глазах масса жизней и произведений искусств, благодаря полному отсутствию критики. Скажут, что критике у нас нечего делать, что все современные произведения ничтожны и плохи. Но это узкий взгляд. Жизнь изучается не по одним только плюсам, но и минусам. Одно убеждение, что восьмидесятые годы не дали ни одного писателя, может послужить материалом для пяти томов. Разочарованность, апатия, нервная рыхлость и утомляемость являются непременным следствием чрезмерной возбудимости, а такая возбудимость присуща нашей молодежи в крайней степени. Возьмите литературу. Возьмите настоящее. Социализм - один из видов возбуждения. Где же он? Он в письме Тихомирова к царю. Социалисты поженились и критикуют земство. Где либерализм? Что писатели-дворяне брали у природы даром, то разночинцы покупают ценою молодости. И, мне кажется, что я всю жизнь пишу один рассказ о том, как я, сын крепостного, бывший лавочник, певчий, гимназист и студент, воспитанный на чинопочитании, целовании поповских рук, поклонении чужим мыслям, благодаривший за каждый кусок хлеба, много раз сеченный, ходивший по урокам без калош, дравшийся, мучивший животных, любивший обедать у богатых родственников, лицемеривший и Богу и людям без всякой надобности, только из сознания своего ничтожества, - теперь выдавливает из себя по каплям раба и иногда чувствует, что в его жилах течет уже не одна рабская кровь, а и - настоящая человеческая... Тут как-то брат мой замучился со своей пьесой. А я был, как это ни странно звучит, очень рад. Пусть понаучится. Он ужасно снисходительно смотрел в театре моего “Иванова”, а в антрактах пил коньяк и милостиво критиковал. Все судят о пьесах таким тоном, как будто их очень легко писать. Того не знают, что хорошую пьесу написать трудно, писать же плохую пьесу вдвое трудней и жутко. Я хотел бы, чтобы вся публика слилась в одного человека и написала пьесу и чтобы я, сидя в директорской ложе, эту пьесу ошикали. Александр страдает от изобилия переделок. Он очень неопытен. Боюсь, что у него много фальшивых эффектов, что он воюет с ними и изнывает в бесплодной борьбе. По мере сил писатель должен избегать личного элемента. Произведение никуда не будет годиться, если все действующие лица будут похожи на автора. И кому интересно знать мою жизнь, мои мысли? Людям нужно давать людей, а не самого себя. И еще одно - бояться изысканного языка. Язык должен быть прост и изящен. Лакеи должны говорить просто, без “пущай” и без “таперича”. Отставные капитаны с красными носами, пьющие репортеры, голодающие писатели, чахоточные жены-труженицы, честные молодые люди без единого пятнышка, возвышенные девицы, добродушные няни - все это было уж описано и должно быть объезжаемо, как яма.
- Думается, я был не так настойчив, как иные из моих коллег по ремеслу. Моя жизнь - в том, чтобы делать литературу в самом широком смысле этого слова, то есть самому писать, самому издавать, и самому читать. Каждый из этих процессов доставляет мне огромное удовольствие. Все свое время я отдаю работе над новым рассказом, романом или повестью, или чтению произведений авторов моего журнала, или редактуре уже отобранных вещей, или обработке текстов на компьютере, или сдаче балансового отчета в налоговую инспекцию, или покупке бумаги, или печатанию журнала или книг в типографии, или еще многому и многому другому, творчески и производственно необходимому... В сущности, я, Юрий Кувалдин, - человек-литература. Литература - это самая захватывающая вещь на свете. Когда я в процессе работы над каким-нибудь произведением, то мне хочется, чтобы она длилась бесконечно. Я еще сказал бы, что литература - это религия. Что только она бессмертна. Художественная проза - мой способ существования. Таких возможностей не может предоставить ни одно другое искусство. Быть творцом в литературе лучше, нежели в живописи, ибо жизнь можно воссоздавать в движении, в рельефности, как под увеличительным стеклом, кристаллизуя ее подлинную сущность. С моей точки зрения, литература ближе, чем живопись, музыка или даже кино и театр, к чуду зарождения жизни как таковой.
- Разумеется. Если вам подают кофе, то не старайтесь искать в нем пива. Если я преподношу профессорские мысли, то верьте мне и не ищите в них чеховских мыслей. Наивный читатель ценит персонажей за высказываемые мнения, и полагает, что только в них находится центр тяжести, а не в манере высказывания их, не в их происхождении. Мне страстно хочется спрятаться куда-нибудь лет на пять и занять себя кропотливым, серьезным трудом. Мне надо учиться, учить все с самого начала, ибо я, как литератор, круглый невежда; мне надо писать добросовестно, с чувством, с толком, писать не по пяти листов в месяц, а один лист в пять месяцев. Надо уйти из дому, надо начать жить за 700-900 р. в год, а не за 3-4 тысячи, как теперь, надо на многое наплевать, но хохлацкой лени во мне больше, чем смелости. В своей сахалинской работе я явлю себя таким ученым сукиным сыном, что читатель только руками разведет. Я уж много украл из чужих книг мыслей и знаний, которые выдам за свои... В наш практический век иначе нельзя. Неужели в понятиях о нравственности я расхожусь со многими людьми, и даже настолько, что заслуживаю упрека и особого ко мне внимания влиятельной критики? Понять, что критики имеют в виду какую-либо мудреную, высшую нравственность, я не могу, так как нет ни низших, ни высших, ни средних нравственностей, а есть только одна, а именно та, которая дала нам во время оно Иисуса Христа и которая теперь мешает людям красть, оскорблять, лгать и проч. Я же во всю мою жизнь, если верить покою своей совести, ни словом, ни делом, ни помышлением, ни в рассказах, ни в водевилях не пожелал жены ближнего моего, ни раба его, ни вола его, ни всякого скота его, не крал, не лицемерил, не льстил сильным и не искал у них покровительства, не шантажировал и не жил на содержании. А слова “художественность” я боюсь, как купчихи боятся жупела. Когда мне говорят о художественном и антихудожественном, о том, что сценично или не сценично, о тенденции, реализме и т. п., я теряюсь, нерешительно поддакиваю и отвечаю банальными полуистинами, которые не стоят и гроша медного. Все произведения я делю на два сорта: те, которые мне нравятся, и те, которые мне не нравятся. Другого критериума у меня нет, а если меня спросят, почему мне нравится Шекспир и не нравится Златовратский, то я не сумею ответить. Быть может, со временем, когда поумнею, я приобрету критерий, но пока все разговоры о “художественности” меня только утомляют и кажутся мне продолжением все тех же схоластических бесед, которыми люди утомляли себя в средние века. До сих пор я вел замкнутую жизнь, жил в четырех стенах, всегда настойчиво уклонялся от участия в литературных вечерах, вечеринках, заседаниях и т. п., без приглашения не показывался ни в одну редакцию, старался всегда, чтобы мои знакомые видели во мне больше врача, чем писателя, короче, я был скромным писателем. С товарищами я нахожусь в отличных отношениях; никогда я не брал на себя роли судьи их и тех журналов и газет, в которых они работают, считая себя некомпетентным и находя, что при современном зависимом положении печати всякое слово против журнала или писателя является не только безжалостным и нетактичным, но и прямо-таки преступным. До сих пор я решался отказывать только тем журналам и газетам, недоброкачественность которых являлась очевидною и доказанною, а когда мне приходилось выбирать между ними, то я отдавал преимущество тем из них, которые по материальным или другим каким-либо обстоятельствам наиболее нуждались в моих услугах. Как мало в нас справедливости и смирения, как дурно понимаем мы патриотизм! Пьяный, истасканный забулдыга-муж любит свою жену и детей, но что толку от этой любви? Мы, говорят в газетах, любим нашу великую родину, но в чем выражается эта любовь? Вместо знаний - нахальство и самомнение паче меры, вместо труда - лень и свинство, справедливости нет, понятие о чести не идет дальше “чести мундира”, который служит обыденным украшением наших скамей для подсудимых. Работать надо, а все остальное к черту. Главное - надо быть справедливым, а остальное все приложится. Я сегодня ночью просыпался и думал о своей повести. Пока писал ее и спешил чертовски, у меня в голове все перепуталось, и работал не мозг, а заржавленная проволока. Не следует торопиться, иначе выходит не творчество, а дерьмо. Говорить теперь о лености, пьянстве и т. п. так же странно и нетактично, как учить человека уму-разуму в то время, когда его рвет или когда он в тифе. Сытость, как и всякая сила, всегда содержит в себе некоторую долю наглости, и эта доля выражается, прежде всего, в том, что сытый учит голодного. Если во время серьезного горя бывает противно утешение, то как должна действовать мораль и какою глупою, оскорбительною должна казаться эта мораль. Каждую ночь просыпаюсь и читаю “Войну и мир”. Читаешь с таким любопытством и с таким наивным удивлением, как будто раньше не читал. Замечательно хорошо. Только не люблю тех мест, где Наполеон. Как Наполеон, так сейчас и натяжка и всякие фокусы, чтобы доказать, что он глупее, чем был на самом деле. Все, что делают и говорят Пьер, князь Андрей или совершенно ничтожный Николай Ростов, - все это хорошо, умно, естественно и трогательно; все же, что думает и делает Наполеон, - это не естественно, не умно, надуто и ничтожно по значению. Если б я был около князя Андрея, то я бы его вылечил. Странно читать, что рана князя, богатого человека, проводившего дни и ночи с доктором, пользовавшегося уходом Наташи и Сони, издавала трупный запах. Какая паршивая была тогда медицина! Толстой, пока писал свой толстый роман, невольно должен был пропитаться насквозь ненавистью к медицине. Был у меня Боборыкин. Он мечтает написать нечто вроде физиологии русского романа, его происхождение у нас и естественный ход развития. Пока он говорил, я никак не мог отрешиться от мысли, что вижу перед собой маньяка, но маньяка литературного, ставящего литературу выше всего в жизни. Я в Москве у себя так редко вижу настоящих литераторов, что разговор с Боборыкиным показался мне манной небесной, хотя в физиологию романа и в естественный ход развития я не верю, т. е., может быть, и есть эта физиология в природе, но я не верю, чтобы при существующих методах можно было уловить ее. Боборыкин отмахивается обеими руками от Гоголя и не хочет считать его родоначальником Тургенева, Гончарова, Толстого... Он ставит его особняком, вне русла, по которому тек русский роман. Ну, а я этого не понимаю. Коли уж становиться на точку зрения естественного развития, то не только Гоголя, но даже собачий лай нельзя ставить вне русла, ибо все в природе влияет одно на другое, и даже то, что я сейчас чихнул, не останется без влияния на окружающую природу. Все наперебой говорят о “нашем нервном веке”. Ей-богу, никакого нет нервного века. Как жили люди, так и живут, и ничем теперешние нервы не хуже нервов Авраама, Исаака и Иакова. Или вот еще приходят мысли насчет женщин - больше всего несимпатичны женщины своею несправедливостью и тем, что справедливость, кажется, органически им не свойственна. Человечество инстинктивно не подпускало их к общественной деятельности; оно, Бог даст, дойдет до этого и умом. В крестьянской семье мужик и умен, и рассудителен, и справедлив, и богобоязлив, а баба - упаси Боже! Читаю пропасть. Прочел опять критику Писарева на Пушкина. Ужасно наивно. Человек развенчивает Онегина и Татьяну, а Пушкин остается целехонек. Писарев - дедушка и папенька всех нынешних критиков, в том числе и Буренина. Та же мелочность в развенчивании, то же холодное и себялюбивое остроумие и та же грубость и неделикатность по отношению к людям. Оскотиниться можно не от идей Писарева, которых нет, а от его грубого тона. Отношение к Татьяне, в частности к ее милому письму, которое я люблю нежно, кажется мне просто омерзительным. Воняет от критики назойливым, придирчивым прокурором. А я не прокурор, а писатель, и даже свидетель, и когда изображаю горемык и бесталанных и хочу разжалобить читателя, то стараюсь быть холоднее - это дает чужому горю как бы фон, на котором оно вырисуется рельефнее. Нужно быть холоднее. Вот, например, у меня гостит художник Левитан. Вчера вечером был с ним на тяге. Он выстрелил в вальдшнепа; сей, подстреленный в крыло, упал в лужу. Я поднял его: длинный нос, большие черные глаза и прекрасная одежда. Смотрит с удивлением. Что с ним делать? Левитан морщится, закрывает глаза и просит с дрожью в голосе: “Голубчик, ударь его головкой по ложу...” Я говорю: не могу. Он продолжает нервно пожимать плечами, вздрагивать головой и просить. А вальдшнеп продолжает смотреть с удивлением. Пришлось послушаться Левитана и убить его. Одним красивым влюбленным созданием стало меньше, а два дурака вернулись домой и сели ужинать. Попутно упомяну о своей великой повести. Называю ее великою, потому что она, в самом деле, выходит великою, т. е. большою и длинною, так что даже мне надоело писать ее. Пишу громоздко и неуклюже, а главное - без плана. Я полагал, что при некотором хладнокровии и добродушии можно обойти все страшное и щекотливое и что для этого нет надобности ездить к министру. Я поехал на Сахалин, не имея с собой ни одного рекомендательного письма, и, однако же, сделал там все, что мне нужно... Медициной занимаюсь и даже настолько, что, случается, летом произвожу судебно-медицинские вскрытия, коих не совершал уже года 2-3. Из писателей предпочитаю Толстого... Однако все это вздор. Писать можно, что угодно. Если у меня нет фактов, то я смело заменяю их лирикою. Душа моя просится вширь и ввысь, но поневоле приходится вести жизнь узенькую, ушедшую в сволочные рубли и копейки. Нет ничего пошлее мещанской жизни с ее грошами, харчами, нелепыми разговорами и никому не нужной условной добродетелью. Душа моя изныла от сознания, что я работаю ради денег и что деньги центр моей деятельности. Ноющее чувство это вместе со справедливостью делают в моих глазах писательство занятием презренным, я не уважаю того, что пишу, я вял и скучен самому себе, и рад, что у меня есть медицина, которою я, как бы то ни было, занимаюсь всё-таки не для денег. Надо бы выкупаться в серной кислоте и совлечь с себя кожу и потом обрасти новой шерстью. Если наши социалисты в самом деле будут эксплуатировать для своих целей холеру, то я стану презирать их. Отвратительные средства ради благих целей делают и самые цели отвратительными. Пусть выезжают на спинах врачей и фельдшеров, но зачем лгать народу? Зачем уверять его, что он прав в своем невежестве и что его грубые предрассудки - святая истина? Неужели прекрасное будущее может искупить эту подлую ложь? Будь я политиком, никогда бы я не решился позорить свое настоящее ради будущего, хотя бы мне за золотник подлой лжи обещали сто пудов блаженства. Для меня важны в произведении все компоненты, но основное, с внешней стороны - это форма, а с внутренней - тон произведения. С ходу необходимо взять правильную тональность. Письма и дневники - форма неудобная, да и неинтересная, так как дневники и письма легче писать, чем отсебятину. Если тон с самого начала взят неправильно, то кажется, будто заиграл на чужом инструменте. В повествовании должно быть то, что составляет необходимую примесь во всем - добродушие, сердечная мягкость. Может быть, и нужно казнить людей, но... наше ли это дело? Я грубый и черствый человек и не могу передать свои мысли именно в той форме, в какой нужно, но умный читатель и без передачи поймет, что именно я хотел сказать. Я написал за лето две тугие повести, которыми я поправлю немножко свои финансы, но славы - увы - не преумножу. Не писалось, да и медицина все лето мешала. А может быть, и отвык писать. Я уже давно не писал с удовольствием, а это - дурной знак. Зимою а деревне до такой степени мало дела, что если кто не причастен так или иначе к умственному труду, тот неизбежно должен сделаться обжорой и пьяницей. Однообразие сугробов и голых деревьев, длинные ночи, лунный свет, гробовая тишина днем и ночью, бабы, старухи - все это располагает к лени, равнодушию и к большой печени. Если я в своих писаниях посылаю интеллигенцию в деревню, то ставлю непременным условием, чтобы люди, не умеющие писать, читать, лечить, работать на фабрике, учить в школе или копаться в истории, оставались бы в городе, иначе они очутятся в дураках. Один мои сосед, молодой интеллигент, сознавался мне, что он не в состоянии дочитать книгу до конца. Что он делает в зимние вечера, для меня непостижимо. С другой стороны, у наших людей ярко выражена способность пьянеть даже от помоев. Причины тут не в глупости нашей, не в бездарности и не в наглости, а в болезни, которая для художника хуже сифилиса и полового истощения. У нас нет “чего-то”, это справедливо, и это значит, что поднимите подол нашей музе, и увидите там плоское место. Вспомните, что писатели, которых мы называем вечными или просто хорошими и которые пьянят нас, имеют один общий и весьма важный признак: они куда-то идут и нас зовут туда же, и мы чувствуем не умом, а всем своим существом, что у них есть какая-то цель, как у тени отца Гамлета, которая недаром приходила и тревожила воображение. У одних, смотря по калибру, цели ближайшие - крепостное право, освобождение родины, политика, красота или просто водка, как у Дениса Давыдова, у других цели отдаленные - Бог, загробная жизнь, счастье человечества и т. п. А мы? Мы! Мы пишем жизнь такою, какая она есть, а дальше - ни тпрру ни ну... Дальше хоть плетями нас стегайте. У нас нет ни ближайших, ни отдаленных целей, и в нашей душе хоть шаром покати. Политики у нас нет, в революцию мы не верим. Бога нет, привидений не боимся, а я лично даже смерти и слепоты не боюсь. Кто ничего не хочет, ни на что не надеется и ничего не боится, тот не может быть художником. Болезнь это или нет - дело не в названии, но сознаться надо, что положение наше хуже губернаторского. Не знаю, что будет с нами через 10-20 лет, тогда, быть может, изменятся обстоятельства, но пока было бы опрометчиво ожидать от нас чего-нибудь действительно путного, независимо от того, талантливы мы или нет. Пишем мы машинально, только подчиняясь тому давно заведенному порядку, по которому одни служат, другие торгуют, третьи пишут... Некоторые находят, что и я умен. Да, я умен, по крайней мере, настолько, чтобы не скрывать от себя своей болезни и не лгать себе и не прикрывать своей пустоты чужими лоскутьями вроде идей 60-х годов и т. п. Я не брошусь, как Гаршин, в пролет лестницы, но и не стану обольщать себя надеждами на лучшее будущее. Не я виноват в своей болезни, и не мне лечить себя, ибо болезнь сия, надо полагать, имеет свои скрытые от нас хорошие цели и послана недаром... Недаром, недаром она с гусаром! Между тем, у моего отца сильная боль в спине и онемение, но он философствует и ест за десятерых, и нет никаких сил убедить его, что лучшее для него лекарство - воздержание. Вообще я в своей практике и в домашней жизни заметил, что когда старикам советуешь поменьше есть, то они принимают это чуть ли не за личное оскорбление. Я не журналист, но у меня физическое отвращение к брани, направленной к кому бы то ни было; говорю - физическое, потому что после чтения судей человечества у меня всегда остается во рту вкус ржавчины и день мой бывает испорчен. Мне просто больно. Стасов обозвал Жителя клопом; но за что, за что Житель обругал Антокольского? Ведь это не критика, не мировоззрение, а ненависть, животная, ненасытная злоба. Зачем Скабичевский ругается? Зачем этот тон, точно судят они не о художниках и писателях, а об арестантах? Я ем и сплю, потому что все едят и спят; что же касается писанья в свое удовольствие, то я знаком на опыте со всею тяжестью и с угнетающей силой этого червя, подтачивающего жизнь. Кашель против прежнего стал сильнее, но думаю, что до чахотки еще очень далеко. Курение свел до одной сигары в сутки. Летом безвыездно сидел на одном месте, лечил, ездил к больным, ожидал холеры... Принял 1000 больных, потерял много времени, но холеры не было. Ничего не писал, а все гулял в свободное от медицины время, читал или приводил в порядок свой громоздкий “Сахалин”. Третьего дня я вернулся из Москвы, где прожил две недели в каком-то чаду. В последнее время мною овладело легкомыслие и рядом с этим меня тянет к людям, как никогда, и к литературе я до такой степени привязался, что стал презирать медицину. Но в литературе я люблю то, что в продолжение многих часов могу читать, лежа на диване. Для писанья же у меня не хватает страсти. Сергеенко пишет трагедию из жизни Сократа. Эти упрямые мужики всегда хватаются за великое, потому что не умеют творить малого, и имеют необыкновенные грандиозные претензии, потому что вовсе не имеют литературного вкуса. Про Сократа легче писать, чем про барышню или кухарку. Исходя из этого, писание одноактных пьес я не считаю легкомыслием. Кажется, я психически здоров. Правда, нет особенного желания жить, но это пока не болезнь в настоящем смысле, а нечто, вероятно, переходное и житейски естественное. Во всяком разе, если автор изображает психически больного, то это не значит, что он сам болен. “Черного монаха” я писал без всяких унылых мыслей, по холодном размышлении. Просто пришла охота изобразить манию величия. Монах же, несущийся через поле, приснился мне. Стало быть, бедный Антон Павлович, слава Богу, еще не сошел с ума, но за ужином много ест, а потому и видит во сне монахов. В общем, я здоров, но как-то перебои сердца у меня продолжались 6 дней, непрерывно, и ощущение все время было отвратительное. После того, как я совершенно бросил курить, у меня уже не бывает мрачного и тревожного настроения. Быть может, оттого, что я не курю, толстовская мораль перестала меня трогать, в глубине души я отношусь к ней недружелюбно, и это, конечно, несправедливо. Во мне течет мужицкая кровь, и меня не удивишь мужицкими добродетелями. Я с детства уверовал в прогресс и не мог не уверовать, так как разница между временем, когда меня драли, и временем, когда перестали драть, была страшная. Я любил умных людей, нервность, вежливость, остроумие, а к тому, что люди ковыряли мозоли и что их портянки издавали удушливый запах, я относился так же безразлично, как к тому, что барышни по утрам ходят в папильотках. Но толстовская философия сильно трогала меня, владела мною лет 6-7, и действовали на меня не основные положения, которые были мне известны и раньше, а толстовская манера выражаться, рассудительность и, вероятно, гипнотизм своего рода. Теперь же во мне что-то протестует; расчетливость и справедливость говорят мне, что в электричестве и паре любви к человеку больше, чем в целомудрии и в воздержании от мяса. Война зло и суд зло, но из этого не следует, что я должен ходить в лаптях и спать на печи вместе с работником и его женой и проч. и проч. Но дело не в этом, не в “за и против”, а в том, что так или иначе, а для меня Толстой уже уплыл, его в душе моей нет, и он вышел из меня, сказав: се оставляю дом ваш пуст. Я свободен от постоя. Рассуждения всякие мне надоели, а таких свистунов, как Макс Нордау, я читаю просто с отвращением.
- Вначале было слово. А в слове был лов. А в лове был логос. По существу слово и является новой формой жизни, которой присущи собственный пульс развития, собственная многоплановость и многозначность, собственный диапазон понимания. Творческий процесс у меня начинается с чувства, а не с идеи и уж тем более не с идеологии. Я - пленник своего рассказа; рассказ жаждет быть поведанным, и мое дело - понять, куда он устремится. В работе по вдохновению или в стихийном нечаянном взрыве энергии - человек и может быть наиболее счастлив, наиболее “похож” на себя. Тогда он действительно открыт другим людям, тогда возможны с ним не казенные, а братские отношения. И вся моя надежда, самая неизменная среди многих мечтаний, одна: пусть люди станут существами, не скованными, не “покрытыми” наглухо, не поглощенными работой по расчету, по тщеславию. Не секрет, Антон Павлович, что читатель у нас, как правило, ориентируется на известные имена. А начинающему писателю, чтобы его читали, нужно быть известным. А как тут станешь известным, когда ты только начал? Чтобы стать известным, писателю требуется полжизни работать на имя, чтобы потом имя работало на него. Вот тут и возникает определенное противоречие. Без имени даже талантливую вещь продвинуть очень трудно.
- Лихорадящим больным есть не хочется, но чего-то хочется, и они это свое неопределенное желание выражают так: “чего-нибудь кисленького”. Так и мне хочется чего-то кисленького. И это не случайно, Юрий Александрович, так как точно такое же настроение я замечаю кругом. Похоже, будто все были влюблены, разлюбили теперь и ищут новых увлечений. Очень возможно и очень похоже на то, что русские люди опять переживут увлечение естественными науками и опять материалистическое движение будет модным. Естественные науки делают теперь чудеса, и они могут двинуться, как Мамай, на публику и покорить ее своею массою, грандиозностью. В Серпухове я был присяжным заседателем. Помещики-дворяне, фабриканты и серпуховские купцы - вот состав присяжных. По странной случайности я попадал во все без исключения дела, так что, в конце концов, эта случайность стала даже возбуждать смех. Во всех делах я был старшиной. Вот мое заключение: 1) присяжные заседатели - это не улица, а люди, вполне созревшие для того, чтобы изображать из себя так называемую общественную совесть; 2) добрые люди в нашей среде имеют громадный авторитет, независимо от того, дворяне они или мужики, образованные или необразованные. В общем, впечатление приятное. Я назначен попечителем школы в селе, носящем такое название: Талеж. Учитель получает 23 р. в месяц, имеет жену, четырех детей и уже сед, несмотря на свои 30 лет. До такой степени забит нуждой, что о чем бы ни заговорили с ним, он все сводит к вопросу о жалованье. По его мнению, поэты и прозаики должны писать только о прибавке жалованья; когда новый царь переменит министров, то, вероятно, будет увеличено жалованье учителей и т. п. В январской книжке “Русской мысли” будет моя повесть - “Три года”. Замысел был один, а вышло что-то другое, довольно вялое и не шелковое, как я хотел, а батистовое. Надоело все одно и то же, хочется про чертей писать, про страшных, вулканических женщин, про колдунов - но, увы! - требуют благонамеренных повестей и рассказов из жизни Иванов Гаврилычей и их супруг. С таким философом, как Ницше, я хотел бы встретиться где-нибудь в вагоне или на пароходе и проговорить с ним целую ночь. Счастье же, которое продолжается изо дня в день, от утра до утра, - я не выдержу. Когда каждый день мне говорят все об одном и том же, одинаковым тоном, то я становлюсь лютым. Я, например, лютею в обществе Сергеенко, потому что он очень похож на женщину (“умную и отзывчивую”) и потому что в его присутствии мне приходит в голову, что моя жена может быть похожа на него. Я обещаю быть великолепным мужем, но дайте мне такую жену, которая, как луна, являлась бы на моем небе не каждый день. NB: оттого, что я женюсь, писать я не стану лучше. В случае беды или скуки камо пойду? К кому обращусь? Бывают настроения чертовские, когда хочется говорить и писать, а ни с кем долго не разговариваю. В клинике был у меня Лев Николаевич, с которым вели мы преинтересный разговор, преинтересный для меня, потому что я больше слушал, чем говорил. Говорили о бессмертии. Он признает бессмертие в кантовском виде; полагает, что все мы (люди и животные) будем жить в начале (разум, любовь), сущность и цель которого для нас составляет тайну. Мне же это начало или сила представляется в виде бесформенной студенистой массы, мое я - моя индивидуальность, мое сознание сольются с этой массой - такое бессмертие мне не нужно, я не понимаю его, и Лев Николаевич удивлялся, что я не понимаю... прочел об искусстве 60 книг. Мысль у него не новая; ее на разные лады повторяли все умные старики во все века. Всегда старики склонны были видеть конец мира и говорили, что нравственность пала до nes plus ultra, что искусство измельчало, износилось, что люди ослабели и проч. и проч. Лев Николаевич в своей книжке хочет убедить, что в настоящее время искусство вступило в свой окончательный фазис, в тупой переулок, из которого ему нет выхода (вперед). Появился новый писатель - Горький, но у него, по моему мнению, нет сдержанности. Он, как зритель в театре, который выражает свои восторги так несдержанно, что мешает слушать себе и другим. Особенно эта несдержанность чувствуется в описаниях природы, которыми Горький прерывает диалоги; когда читаешь их, эти описания, то хочется, чтобы они были компактнее, короче, этак в 2-3 строки. Частые упоминания о неге, шепоте, бархатности и проч. придают этим описаниям некоторую риторичность, однообразие - и расхолаживают, почти утомляют. Несдержанность чувствуется и в изображениях женщин (“Мальва”, “На плотах”) и любовных сцен. Это не размах, не широта кисти, а именно несдержанность. Затем, частое употребление слов, совсем неудобных в рассказах нашего типа: “аккомпанемент”, “диск”, “гармония” - такие слова мешают. Часто он говорит о волнах. В изображениях интеллигентных людей чувствуется напряжение, как будто осторожность; это не потому, что Горький мало наблюдал интеллигентных людей, он знает их, но точно не знает, с какой стороны подойти к ним. Описания природы художественны; он настоящий пейзажист. Только частое уподобление человеку (антропоморфизм), когда море дышит, небо глядит, степь нежится, природа шепчет, говорит, грустит и т. п. - такие уподобления делают описания несколько однотонными, иногда слащавыми, иногда неясными; красочность и выразительность в описаниях природы достигаются только простотой, такими, простыми фразами, как “зашло солнце”, “стало темно”, “пошел дождь” и т. д. - и эта простота свойственна Горькому в сильной степени, как редко кому из беллетристов. Писатель не должен изображать начальников. Нет ничего легче, как изображать несимпатичное начальство, читатель любит это, но это самый неприятный, самый бездарный читатель. К фигурам новейшей формации, как земский начальник, я питаю такое же отвращение, как к “флирту” - и потому, быть может, я не прав. Но я живу в деревне, я знаком со всеми земскими начальниками своего и соседних уездов, знаком давно и нахожу, что их фигуры и их деятельность совсем нетипичны, вовсе неинтересны - и в этом, мне кажется, я прав. Третьего дня я был у Л. Н. Толстого, и он очень хвалил Горького, сказал, что Горький “замечательный писатель”. Толстому нравятся “Ярмарка” и “В степи” и не нравится “Мальва”. Он сказал: “Можно выдумывать все, что угодно, но нельзя выдумывать психологию, а у Горького попадаются именно психологические выдумки, он описывает то, чего не чувствовал”. Я сказал, что когда Горький будет в Москве, то мы вместе приедем ко Льву Николаевичу. Горькому я дал практический совет - печатать не меньше 5-6 тысяч. Книжка шибко пойдет. Второе издание можно печатать одновременно с первым. Еще дал Горькому совет: чтобы, читая корректуру, вычеркивал, где можно, определения существительных и глаголов. У Горького так много эпитетов, что вниманию читателя трудно разобраться, и он утомляется. Понятно, когда я пишу: “человек сел на траву”, это понятно, потому что ясно и не задерживает внимания. Наоборот, неудобопонятно и тяжеловато для мозгов, если я пишу: “высокий, узкогрудый, среднего роста человек с рыжей бородкой сел на зеленую, уже измятую пешеходами траву, сел бесшумно, робко и пугливо оглядываясь”. Это не сразу укладывается в мозгу, а серьезная проза должна укладываться сразу, в секунду. Горький по натуре лирик, тембр у его души мягкий. Если бы Горький был композитором, то избегал бы писать марши. Что же касается нижегородского театра, то это только частность; Горький попробует, понюхает и бросит. Кстати сказать, и народные театры и народная литература - все это глупость, все это народная карамель. Надо не Гоголя опускать до народа, а народ подымать к Гоголю. Грубить, шуметь, язвить, неистово обличать - это несвойственно таланту Горького. На днях читал “Воскресение” Толстого, и читал не урывками, не по частям, а прочел все сразу, залпом. Это замечательное художественное произведение. Самое неинтересное - это все, что говорится об отношениях Нехлюдова к Катюше, и самое интересное - князья, генералы, тетушки, мужики, арестанты, смотрители. Сцену у генерала, коменданта Петропавловской крепости, спирита, я читал с замиранием духа - так хорошо! А m-me Корчагина в кресле, а мужик, муж Федосьи! Этот мужик называет свою бабу “ухватистой”. Вот именно у Толстого перо ухватистое. Конца у повести нет, а то, что есть, нельзя назвать концом. Писать, писать, а потом взять и свалить все на текст из Евангелия, - это уж очень по-богословски. Решать все текстом из Евангелия - это так же произвольно, как делить арестантов на пять разрядов. Почему на пять, а не на десять? Почему текст из Евангелия, а не из Корана? Надо сначала заставить уверовать в Евангелие, в то, что именно оно истина, а потом уж решать все текстами. Мы говорили о серьезном религиозном движении в России. Вернее, про движение не в России, а в интеллигенции. Про Россию я ничего не скажу, интеллигенция же пока только играет в религию и главным образом от нечего делать. Про образованную часть нашего общества можно сказать, что она ушла от религии и уходит от нее все дальше и дальше, что бы там ни говорили и какие бы философско-религиозные общества ни собирались. Хорошо это или дурно, решить не берусь, скажу только, что религиозное движение - само по себе, а вся современная культура - сама по себе, и ставить вторую в причинную зависимость от первой нельзя. Теперешняя культура - это начало работы во имя великого будущего, работы, которая будет продолжаться, может быть, еще десятки тысяч лет для того, чтобы хотя в далеком будущем человечество познало истину настоящего Бога, - т. е. не угадывало бы, не искало бы в Достоевском, а познало ясно, как познало, что дважды два есть четыре. Теперешняя культура - это начало работы, а религиозное движение есть пережиток, уже почти конец того, что отжило или отживает. Хотя я и бросил литературу, но все же изредка по старой привычке пописываю кое-что. Пишу теперь рассказ под названием “Архиерей” - на сюжет, который сидит у меня в голове уже лет пятнадцать.
Беседовал Юрий Кувалдин
“Наша улица”, № 7-2004
|
|
Атаманом был у них Ермак Тимофеевич |

Ваграм Кеворков
КАЗАКИ ГУЛЯЮТ
повесть
1.
Седым мглистым утром, когда молодые казачки потянулись к реке по воду, сверху - вниз по течению - выплыло что-то огромное и непонятное. А когда разглядели - застыли в ужасе: плыли плоты с виселицами, десятки повешенных на каждом плоту. Опомнившись, бегом к атаману!
Атаман сразу понял: весть им подает Долгорукий - князь, мстит за брата!
Страшной оказалась месть: днем и ночью плыли наводящие ужас плоты, - время от времени! И когда с облегчением думали: не будет больше, - с верховьев появлялись все новые!
Пыль висела над войском густая, ратники кашляли, лошади всхрапывали. Пики нестройным лесом колыхались над конными. Пешие шли сбоку, подале, чтоб не глотать пылюку.
Долгорукий чихал в карете. Но ехать впереди войска опасно. От казаков можно всего ожидать.
Казаки нужны России: они защита от Порты, от Крыма. Россия нужна казакам: помогает свинцом, ядрами, порохом. Но воля? Воля?! Вся Россия - десять миллионов. Казаков - миллион. Миллион беглых крепостных! А земли ничейной на юге немеряно! Есть куда бежать, где селиться! Не раз предлагалось казакам присягнуть на служение Престолу Российскому: "Казак есть человек государев, службу несет государеву!" В ответ: "Казак есть человек вольный!"
Силу свою казаки доказали, взяв в 1637 году - без царского на то повеления - турецкий Азов. В 1641 году султан осадил Азов армией в двести сорок тысяч воинов. За два года осады не вернул Азова.
Азовский "гнойник" грозил обернуться войною с Портой. 30 апреля 1643 года казаки получили царскую грамоту с повелением покинуть Азов. Нехотя подчинились.
Престол пояснил султану, что действия казаков были своевольными и будут наказаны.
Казачье недовольство копилось: не покоряться Москве! Звать к себе крепостных со всей России, давать им землю в надел, - тогда нечем, некем будет воевать с казаками! Тогда казаки с Россией будут на равных!
Петр, захватив трон, начал борьбу с казачеством: все больше крестьян бежит на юг, становится вольниками.
Потому и двинулось войско: пора забрать власть над казачеством. Обложить налогами. Брать в службу царскую, как всех крестьян!
Во главе войска Петр поставил Владимира Долгорукого.
Юрия казаки разбили наголову, а самого умертвили. Пусть же Владимир отмстит за брата, злее воевать будет. Потомки основателя Москвы против казацких смутьянов!
Долгорукий и впрямь долгорук оказался! По Дону и Хопру плывет семь тысяч повешенных! Казаки в ужасе покатились на юг. Там Булавин, там Некраса, там войско казачье!
Булавинское восстание против царя кончилось крахом: тридцать тысяч казаков и крестьян убито.
В 1708 году возле нынешнего Ростова собрались казаки на последний круг. Решали: присягнуть Петру или уйти с Дона? Кондратий Булавин погиб, верховодит Игнатий Некраса. Зовет уйти на Кубань: земли там лучше донских, воды рыбные. За Кубанью - горские племена, платят дань Крыму. Надо подружиться с горцами: у них и у казаков один враг - царь русский. На Кубань Долгорукий не сунется: там придется не только с казаками воевать, но с горцами! А за ними - Крым и могучая Порта.
Режиссер кричит с грузовика в мегафон, объясняет. Казаки-некрасовцы в ярких нарядах, человек триста, толпятся, слушают.
Уже сняты начальные кадры фильма: в открытом окошке казацкого дома мать с грудничком. Сынок - Бабаев Семен - девятьсот девяносто девятый в группе казаков-некрасовцев, переселившихся из Турции в Советский Союз. Родился Семка 21 ноября 1962 года на теплоходе "Грузия", в море, чуть до Новороссийска не дотянул.
"Мадонну казацкую снимаем!" - толковал режиссер оператору.
В 1708 году, на том самом последнем круге, казаки утратили единство: половина покорилась Петру, на Дону осталась; половина ушла с Некрасой.
Ты ж прости, прости нас, Тихий Дон,
Ты ж прости, прости, ты отец и мать,
А тебе, царю-шельме, не за что...
В огромной казацкой книге записано красным: "Не вертаться на землю русскую при царизме!" Книгу эту снимали киношники бережно: книга бесценная, живая история!
Одна из главных записей: "Землей владеет круг". А рядом: "Атаман избирается на один год". "Без труда нет казака". "Ежели поп начнет вмешиваться в дела круга - учить попа плетьми".
К семнадцатому веку на Дону и Днепре образовались республики. Не в пример Англии, без крови и Кромвеля. Крепостные сбежали от барского рабовладения, осели на тучных ничейных землях, создали уклады своего жития - фактически конституции.
Вновь прибывшим беглецам круг давал надел. Два-три года присматривались к новичку: как он обрабатывает землю, что растит на ней. Справный хозяин - круг закреплял за ним землю, разрешал на казачке жениться. Непутевых лишали надела, фактически изгоняли.
Бежав от Петра, некрасовцы достигли Лабы, - реки своенравной, быстрой, - главного притока Кубани. На высоком южном берегу основали станицу. Вручную насыпали огромные глинистые холмы, чтобы стала станица крепостью, чтоб Лаба-кормилица была и заступницей.
Теперь сюда бежали крепостные крестьяне! И постепенно возникла полумиллионная казачья община со своим знаменем и уставом: Войско Кубанское!
Киношники знакомились, беседовали с некрасовцами, и потихоньку шалели: бесценное богатство привалило им - нетронутый временем, "законсервированный" казачий фольклор семнадцатого-восемнадцатого веков. Ведь два столетия казаки жили на острове, в море, не имея никаких связей с Родиной.
В сельской столовой устроили вечер для некрасовцев. Совхоз не поскупился: салаты, закуски, гуляш, вино свое. Казаки с охотой пришли, лестно им такое внимание. "Тута мине "Здрастуй!" говорять, а у Тюрции плевалися на нас, христиан, собаками звали!" - это Василий Порфирьевич Саничев, средних лет бородач, казачий староста.
С поселением здесь некрасовцев незадача вышла. Через девять лет после смерти Сталина решили некрасовцы с турецкого Маньяса вернуться в Россию. На Ставрополье, в Бургун-Маджарах и Левокумке, тысячу домов для них поставили. Об этом прослышали некрасовцы с Дуная, - молокане. И первыми вернулись, заняли новострой. А следом, через месяц, приплыли те, ради кого эти дома и ставили: некрасовцы-христиане с Маньяса. Пришлось уплотнять поселившихся, и стал один дом на две семьи. Пополам и участок - кусок глинистой земли неухоженной.
Местные сбегались смотреть, как некрасовцы в поле работают: отвыкли на Руси так трудиться, - истово, от зари до зари. А на глинистых личных участках некрасовских первым же летом появились абрикосовые деревья, яблони, груши, сливы, виноградные лозы!
Директор совхоза поднял бокал за таких замечательных тружеников! Потом второй тост, третий - и все за них, за некрасовцев! Разгорячились казаки, стали песни играть! Киношники тут же магнитофон включили! Целый вечер записывали этот живой восемнадцатый век!
На другой день вытащили магнитофон с динамиками на зеленый травяной берег Кумы-реки, стали молодухи-некрасовки под фонограмму свои курагоды водить!
Алыми маками, синими васильками, розовыми пионами, полевыми лазориками расцвели луга над Кумой - оделись казачки в самые нарядные рубахи свои!
Ока-я-я-ныя ка-я-блу-я-щок
Отва-я-лился-я на-я ба-щок!
Окаянный каблущок!
Я упала на ба-щок!
Тянется курагод, держатся за руки молодые казачки, сами как вишни цветущие, венки цветочные на головах, ленты яркие в косах, сарафаны вышитые разноцветные, на ногах чарыки турецкие с бисерными узорами!
А да не вида-а-ла-я ка-а-як упала-я,
Огля-я-нулы-я-ся-я ля-жу,
Оглянулыся - ляжу
Я на правым на баку!
Царица Елизавета Петровна в отличие от своего отца - неуемного воина - решила с казаками поладить. Послала сватов к Некрасе: женись на царице русской! Игнатий, знавший европейские языки, человек образованный, хитрость понял: не мытьем, так катаньем. Послов царских принял с почетом, почетно и отказал: не пристало соколу с могучей орлицей водиться, орлица высоко летает, куда уж тут соколу!
Пришлось Елизавете вспоминать науку отцову! Перешли Кубань войска русские, стали медленно теснить казаков. Горцев не трогали, объясняли им: казаков изведут и уйдут. Горцам это на руку: казачья станица - растение, которое впивается в землю корнями и охватывает все поле!
А у трона царского тайный резон: казаков не карать, станицы занимать миром, без боя. И укрепляться там! Казаки задумались: куда опять бежать, дома, землю бросать - зачем?
Немногие вместе с Некрасой ушли на Куму, на Терек. Так и распространялось казачество.
Екатерина Великая по своему обошлась с казаками. Донцы царю присягнули, пора Запорожской Сечью заняться! Посулила сечевикам кубанские земли - они плодородней днепровских! Переселила часть запорожцев: и сечь ослабила, и донцов на Кубани разбавила!
И присягнуло на верность русской короне Войско Кубанское!
А против Некрасы Екатерина Суворова двинула! Оттого-то и встречаются на Ставрополье станицы Суворовки.
Погиб Некраса в бою! Оставшиеся в живых непокоренные сторонники его на плотах спустились вниз по Кубани, вышли в Черное море. Там связали новые плоты, на веслах и под парусами пустились в обход Крыма к устью Дуная - этот путь указал им перед смертью Некраса! Приставали к крымскому берегу, запасались пресной водой из речек - и далее! С плотов рыбу ловили.
Казакам повезло: во все их плавание море было спокойно.
Добрались до Дуная. И - ужас! Ненавистный Суворов здесь!
Угодили некрасовцы в самое пекло русско-турецкой войны!
Могучий орел Российский расправлял державные крылья!
Пора бы некрасовцам присягнуть русскому трону (как сделали и донцы, и кубанцы, и кумцы, и терцы, и казаки яицкие - все от одного корня казацкого), служить России верой и правдой, - нет, бежать от Суворова, вперед за призрачной вольницей!
И опять казаки разбрелись, раскололись: одни ушли вверх по Дунаю, в Австрию, осели там, приняли молоканство. Другие подались в Турцию, на черноморский остров Маньяс (по своему стали звать его - Майнос).
2.
А на Кавказе между Азовским морем и Каспием строились военные укрепления - в линию. Служба здесь тревожная и опасная. Горцы противятся русским. Солдаты регулярной армии проклинают "трехпогибельный Кавказ" - "Сибирь теплую"! Опора линии - казачьи станицы: Некрасовки, Суворовки, Елизаветинские, Гребенские, Незлобные...
С Хопра, Дона, Волги шли на Кавказ по велению царскому казацкие сотни: строить станицы новые. Шли с пушками, обозами, семьями, скарбом, гуртами скота - двигались по равнине к предгорью.
Горы впереди грозили непролазными чащами, страшными зубцами утесов, - настороженно молчали. У мертвых саклей в брошенных опустошенных ногайских, черкесских аулах вянули от жары кисти белых акаций, сохли без полива яблони, абрикосы и виноградники. Здесь прошла регулярная армия.
У казаков задача задружить, закуначить с горцами, чтобы стали аулы мирными, чтоб не приходилось зорить их.
Казачья сотня донцов стала перед горами: на высоком берегу чистой, бурливой реки; расседлали коней, сварили кулеш, в накатившей мгле выставили дозоры, и уснули на теплой земле. Утром проснулись - горы и окрестные холмы заволокло пеленой, а в кольце тумана - над рекою и лесом - огромное голубое окно. В нем высоко ходят орлы. От реки, от могучих дубов, кленов и осокорей на берегу тянет холодом.
Из крепости Святого Георгия, верстах в сорока отсюда, стали завозить на волах камень; здесь же, на берегу, копали глину. Понизу береговых откосов вырыли ров, на верху насыпали вал. Поставили крепкую дубовую ограду с надежными воротами. Повыше вала укрепились каменной кладкой, там, на выложенной площадке, пушки. Их жерла зорко глядят на дорогу, ведущую в Кабарду, Осетию, Грузию, Дагестан, Персидское, Турецкое царства и еще Бог весть какие земли, казакам не ведомые.
А на Маньясе...
Быстро падали черные южные ночи, зажигались мохнатые яркие звезды. Ласково шелестело море.
Маньяс казакам понравился: дни сплошь погожие, вода родниковая вкусная, и леса есть. А главное - рыба! В прозрачной соленой воде ходит стаями - крупная, жирная, непуганая! Казаки - потомственные рыбари - прошли сетью как бреднем. Полнехонько взяли! На берегу костры, над ними котлы, в котлах рыба! Вкусная! Куда речной!
А простор! Со всех сторон море! Никто их здесь не достанет! Нет врагов! Одна воля! И молились казаки, и поминали Некрасу: прав был!
День занимался яркий, как сверкач драгоценный. Солнце взошло из-за леса, отразилось в широком разливе реки, как в огромном медно-красном тазу.
Пикеты на валу только что поменялись. Кругом тихо. Звучно хрупали сочную траву кони.
Братья Кондрат и Игнатий ставили себе хату. Месили глину, добавляли в нее резаный тростник, формовали крупные кирпичи, сушили их. Высохнут - положат стеною. На деревянных растяжках воловьи пузыри для окна. Так строят кунаки-горцы.
Кондрат - рослый, плечистый, сильный. Игнат - пониже, часто садится передохнуть. Оба чубастые, светлые, сероглазые.
К ним подошел встревоженный сотенный: "Кондрат! Атаман кличет!" - "Чего?" - "Крымцы набег готовят! Орда придет!" - "Откель ведомо?" - "Верховой прибег!"
Кондрат, помянув черного, вылез из глины, пошел к колодцу. "Мойся и приходи!"
Атаман - лицо в красных пятнах - сидел за столом с незнакомым казаком. "Из крепости!" - сообразил Кондрат. "Вот! - атаман кивнул на гостя. - Весть пришла! Верный кунак шепнул!" И жене: "Мария, подай чего-нибудь!"
К станичным воротам подъехали две упряжки. Кони, тяжело поводя боками, втащили на косогор пушки. "Гей, казаки, открывай затворы, Петровны идут!" Подмога из крепости.
Кондрат встретил гостей, отвел на станичный двор; распряг коней, напоил, привязал к Петровнам, бросил сена.
На другой день братья вместе с гостями вкатывали орудия на каменную стенку, выкладывали защиту для них - бойницы. Около крутились мальчишки, глазели; шушукались молодайки.
Вечером кликнули гостей к атаману, налили вина. Атаман приветствовал наставительно: "Вино есть млеко старцем, а в юности огнь подаяяй!" - "Вот и мы вам огня!" - ответствовал гость Ляксандра. "Спаси, Христос! Кто с огнем, у того сила!"
Беседою выяснилось: лазутчики, пойманные у крепости Святого Георгия, показывают набег на Тихую. "А мы-то причем? - радостно удивился синеглазый атаман. - Тихая вон где!" - "В Тихой солдат полно, туда не пойдут, брешут! Сюда пойдут! У тебя ведь казаков и полсотни не будет?" - "Меньше! - чуть слукавил атаман. - К вам же в крепость забрали!" - "То-то!" - "Вернули бы!" - "У нас у самих пятьдесят казаков, целая сотня на смотр ушла, в Сам Питербурх!" - важно поднял указательный палец Ляксандра.
А на Маньясе... Мало-помалу привыкли некрасовцы к островной жизни. Ловили рыбу. Рубили лес, превращали деревья в бревна. Ставили избы. Жили в землянках (часть плотов разобрали, в накаты пошла). Воду морскую подолгу во рту держали, чтоб не хворать зубами. Единственным плугом землю вспахали, пшеницу посеяли (не все припасы с Дуная съели - о семенах не забыли). Но, как не крути, на острове того нет, сего нет. Пришлось на плотах к турецкому берегу плыть, менять там сверкачи драгоценные, с церковных книг снятые, на муку, масло, соль, семена. Повезло: попали на христиан, армян да греков. Те отнеслись участливо, толмачи их сразу предупредили: к туркам не ходите, все отберут, а самих изобьют. Старайтесь на глаза им не попадаться: со своими бородами и волосьями светлыми вы - люди приметные, чужаки!
Почуяли опасность некрасовцы. Поняли: не так-то просто им будет жить на острове.
На прощание греки - тоже рыбаки - уступили им за сверкачи свой карбас. Посмотрели на плоты, покачали головами, поговорили по-своему, и пожалели их - уступили!
Приободрились казаки, приподнялись духом: теперь у них карбас есть, можно в море ходить за рыбой!
Простились сердечно. "Засем суда? Руси луси!" - улыбнулся толмач напоследок.
Стемнело. В хатах затеплились огоньки. Блеял скот. Звонко перекликались казачки. Тянуло дымком.
"Вдруг и вправду нагрянут! - ломал мозги атаман. - Запылают хаты, полетит орда зорить-убивать, баб насилить! Пронеси, Господи!" В спаленке шопотом молилась Мария: "На тя, Господи, уповахом!" - "Аминь!" - вздохнул атаман.
На рассвете кликнул Кондрата с Игнатом, еще четверых: "Скачите по соседним станицам, зовите подмогу!"
Через день в низком тумане, растекшемся вдоль реки, дозорные увидали двух всадников, - те бешено, через кусты и брод, гнали к воротам. "Наши!" - признали.
Пока открывали ворота, Кондрат с Игнатом подскакали к ограде. Кондрат страшен: лицо в крови, рубаха в крови, левая рука висит плетью. У Игната через все лицо багровый рубец, рубаха изодрана.
Влетели в ворота. "Тревога!"- крикнул Кондрат. Конь под ним захрапел и упал. Кондрат едва успел соскочить. Казаки загомонили, окружили братьев. "К атаману! На колокольню! Бегом!" - горячечно выкрикивал Кондрат. Игнат дикими глазами смотрел на дозорных: "Беда! Орда! Едва ушли! Воды дайте!"
С колоколенки загудел набат.
Люди бежали к площади. Казачки, подростки, редко - вооруженный казак. Перед церковкой волновалась толпа. Тревожно бил колокол, медный голос его накрыл всю станицу.
На церковное крыльцо взошел атаман. С ним казаки. Атаман поднял руку. Набат стих.
"Cтаничники! Идет на нас орда!" Толпа зашумела, испуганно вскричали казачки. "Будем же биться! Берите ружья, пистоли, шашки! Косами и серпами рубите нехристей! Колите вилами! Ступайте, готовьтесь к бою!"
Женщины заголосили и побежали по хатам. Атаман с казаками начали выкатывать на улицу повозки - преграда на случай прорыва вражеской конницы. Детей и дряхлых стариков укрывали в погребах и землянках. Пушкарям раздавали свинец и порох.
Все понимали: не сдержит натиск станица - гибель казакам, поругание и плен казачкам.
За годы жизни на Кавказе мелкие нападения горцев стали для станичников делом обычным. Горцы налетали, бились с линейцами, захватывали пленных, теряли своих, уходили.
Но сейчас на станицу, где женщины, дети, старики и пять десятков строевых казаков, шел, по слухам, отряд в две тысячи.
А на Майнос завезли живность. Последние камешки содрали с церковных книг казаки, зато теперь и куры, и гуси, и индейки! И овцы блеют! И коровы мычат! Сразу родным повеяло!
Чтоб чаканы не стравить скоту раньше времени, овец, ягнят, телят и коровок пасут, пока хоть какая-то трава есть.
Разбрелись казаки по острову, разбежались их дома далеко друг от друга. Стада единого нету, каждый пастушка нанимает, а то сам пасет. Старается подальше от моря. Там опасно: подмытый волнами край рушится целыми глыбами.
Как на грех, два резвых теленка, взбрыкивая, понеслись прямо к берегу. Передний, заворачивая у кромки обрыва, уперся, было, копытцами, да так и поехал в пенистые буруны вместе с кустами, землей и камнями. Пастушок завопил перепуганно. Сбежались казачки, глянули: теленок барахтается в волнах. Его то подносит к самому берегу, то уносит обратно.
"Ах ты, галмес! - вскрикнула дородная тетка Матрена, и схватила пастушка за вихры. - Куда глядел? Сказывали тебе: телят на притыке паси!" - "Чей телок?" - спросила девка Феклуша. "Ще-пе-ле-евых!" - плача протянул пастушонок. Матрена стукнула его по затылку: "Бабай! А ну, плыви за ним!" - "Бою-усь!" заревел мальчишка. "Приведи челн! - велела Матрена. - Выручим телка, бабы! Пропадет - Щепелеевым горе, и так есть нечего!" - "Страшно, Матрена! - всполошилась молодайка Настена. - Чать, погибельно!" - "Казаки в море, так что не боись, Настена, окромя нас некому! Айда!" Спустились тропкой с крутого берега. Пастушок подтащил на бечеве челн, столкнул в воду. Матрена, Феклуша и Настя с трудом влезли в челн. Матрена села на весла.
Дозорные смотрели на юг.
В степи волнами ходило марево. Вдали призрачно проступили очертания снежных вершин.
Все население станицы высыпало на вал. Казачки, на случай гибели, разряжены в белые рубахи и яркие сарафаны.
Орда не показывалась. Атаман отослал часть женщин домой, оставшимся приказал греть на кострах смолу, кипятить воду. Детям велел щипать корпию. Подростков отправил собирать и укладывать в большие кучи снаружи за валом хворост, чтоб зажечь большие костры, если неприятель подойдет ночью.
Солнце ушло за горы. Над степью разлился пышный пунцовый закат. Похолодало. Яснее слышался шум реки.
На ночь расположились вдоль вала у костерков. Варили смолу, готовили пищу. Старухи приносили младенцев, молодайки тут же у пляшущих языков огня, кормили их грудью. Шептались, пересмеивались молодые ребята и девки.
На верху укрепленного обрыва, где стояли станичные пушки и две Петровны, расхаживал атаман, поглядывал вниз, задумчиво почесывал бороду. Прислонив голову к массивному стволу орудия, Игнат смотрел в темную степь. Край неба багровел, в ночной степи появились красные жгуты. "Степь горит!" - испуганно воскликнул Игнат. Атаман остановился, прищурился: "До Сторожевой - сорок верст, до Предгорной - того меньше! Могла бы уж подойти подмога!"
Прикрывая платком маленький слюдяной фонарь, к атаману подошла жена, Мария. За ней Кондрат: "Тихо, атаман?" - "Пока тихо!" - "Прикажи, атаман, Дашке домой идти, - заговорила Мария. - Ей рожать впору, а она сюда явилась: дома, мол, боязно, здесь рожать буду!" Атаман досадливо поморщился: "Ты, Мария, сама ей вели!" - "Не слухает!" "Мальца родит, пойду в крестные! - оживился Кондрат. - Имя свое дам!" Мария усмехнулась: "Не попал, казак, завтра день святых апостолов Варфоломея да Варнавы, так батюшка сказывал!" - "Ну Варфоломея, так Варфоломея!" - согласился Кондрат. "Ты, никак, до попа ходила?" - спросил атаман. - "Поп сам пришел!" - "Где он?" - "Собрал девок, ребят, чего-то бает им!" - "Пойду к нему!"
Мария стала у края площадки, глядела на багровое от пожарища небо: "А ведь это у Ахметки горит!" За рекой высоко взлетел столб пламени. Дрожащий отсвет заплясал на стволах орудий, озарил площадку. Кондрат привстал: "Гха! Точно у Ахмета! Выручил он нас с тобою, Игнат, не то быть бы нам на аркане!" Пояснил Марии: "Аульцы тайной тропой от орды уходили, и нам помогли выйти к броду! Ахмет вывел!" - "Ахметка кунак верный! Отец его сказывал: еще прадед ихний ходил с князьями к царю Ивану, просить защиты от хана крымского... Эх, горит аул!" - "Скоро у нас начнется!" - веско сказал Кондрат. "За атаманом сходить?" - вскочил Игнат. "Ни к чему! - ответила Мария. - Ты, Кондратушка, сам по валу пройдись, погляди, если кто из баб пужается, подбодри!.. Атамана, видать, поп заговорил!"
Батюшка сидел у костра, окруженный парнями и девками. Был в белой предсмертной рубахе и шароварах, заправленных в сапоги. Грива заплетена в косу. "Не зря говорят, поп и в рогоже заметен!" - подумал атаман, выходя на свет костра. Увидев за поясом у попа рукоять пистоля, попросил: "Батюшка, отойдем на час!" Поп шагнул к нему, вместе отошли в сторону. "Ты чего, воевать пришел?" - "Может, и повоюю! - похлопал поп о пистоль. - Начнется - и мне труд найдется!" - "С первыми выстрелами домой! - зашумел атаман. - Убьют тебя, кто будет крестить-отпевать? Не уйдешь, связать прикажу!" - "Не посмеешь, - усмехнулся поп, - на мне сан!" - "Без рясы, чать, можно и тебя скрутить!" - "Отобьюсь!" - поп ручищей своей так хлопнул по плечу атамана, что тот присел.
"Ушел батюшка?" - спросила Мария, когда атаман вернулся к бойницам. "Уйдешь его, долгогривого! Да он и тут не без проку будет, лишь бы на рожон не полез!" - атаман потирал плечо.
Вернулся Кондрат. "Ну, как бабоньки?" - "Шутят!.. Слышите? - вдруг навострился Кондрат. - Река!" Ровный, монотонный шум воды сменился яростным низким гулом. Река рычала, как потревоженная медведица. Поняли казаки: брод запружен конницей. "Идут!" - прошептал атаман и вскричал в темноту: "Костры!!!" Подростки, с вечера дежурившие у костров, зажгли хворост. Между рекой и станицей заплясали языки пламени. Казаки увидели конские морды, полосатые халаты, бурки, папахи: вот она, орда!
Высокий огонь костров привел в замешательство первые ряды. Послышались гортанные крики. Со стенки грянули залпы, затрещали выстрелы.
Прыгая от пушки к пушке Ляксандра наводил орудие, кричал: "Пли!" Игнат подносил к затравке тлеющий фитиль, пушка, рявкнув, откатывалась назад, ядро или картечь врезались в массу всадников.
У реки замелькали вспышки ружейных выстрелов, из темноты полетели пули, высоко, по-осиному, запели стрелы.
Внизу перед рвом послышался близкий вой, топот, крики - атака!
Весь день станичники ждали этой минуты! Схватились на валу! В руках казачек вспыхнули факелы. Казаки стреляли из пистолей, рубились шашками, казачки рубились серпами, косами, кололи вилами, - гибли.
С тяжелым палашом в руках Кондрат кидался навстречу врагу: палаш сверкал в свете факелов, опускался на головы, руки, плечи. Не один смельчак, появившийся на валу, рассеченный надвое, скатывался в ров.
Казачки таскали от костров черпаки со смолой, кипятком, - лили вниз, сбивали лезущих на вал длинными пиками.
На гребень крутого вала взобрался высокий горец с шашкой. За ним лезли гикающие, орущие, в чалмах и папахах. Сюда подоспели пушкари - с начала рукопашной пушки молчали.
Молотя банником, как цепом, врезался в гущу врагов Игнат. За ним спешил юркий Ляксандра с пистолями в обеих руках. Подбежавший сотенный и казаки заработали шашками, пиками.
Атаман рубился с высоким горцем, тот отражал все удары, потом ловко выбил из рук атамана шашку. Атаман схватился за пояс - пистоля не было. Горец замахнулся для удара и с воем выронил клинок: Мария ткнула ему в носастую рожу горящим факелом. Подоспевший казак прыгнул на высокого, схватил за горло, повалил, ударил рукояткой пистоля по голове, и тут же сам был убит выстрелом в спину. Горцу скрутили руки, оттащили в тыл.
Ночь заканчивалась, серый предрассветный сумрак обнаружил усеянный полосатыми трупами вал, враги откатились, вслед им ударили ожившие пушки.
Кондрат, при виде массы трупов, почувствовал тошноту, разорвал ворот, сбросил пропахшую кислым запахом крови рубаху.
Атаман бережно прислонил к стене бледного Игната, одной рукой обнял, другой поднес ко рту его сделанную из тыквы флягу с вином: "Выпей, сынок, все пройдет!" - "Ранен?" - тревожно спросил Кондрат. - "Со страху у него... бился, как лев, а теперь испужался! Спервоначалу бывает... Выпей, сынок!"
Атаман послал сотенного узнать, велики ли потери, взял пистоли, кинжал, приказал привести захваченного в плен высокого горца. Тот ненавидяще смотрел одним глазом (другой заплыл), дергал обожженной рожей.
Атаман коротко спросил по-татарски. Горец молчал. Атаман повысил голос. Пленный заговорил, обнажая желтые от кальяна зубы.
Чем дольше говорил он, тем яростнее булькали гортанные звуки, страшнее становилось лицо.
"Врешь, пес!" - тихо сказал атаман.
Пленный, задыхаясь, начал угрожающе выкрикивать. Атаман побледнел и выстрелил.
На площадку собирались казаки, глаголили; когда высказались все, заговорил атаман: "Татар под станицей тысяча, да кабардинских князей и узденей двести... Крымчаки разбоем живут. И князья кабардинские с ними храбры стали! - Атаман пнул ногой тело убитого горца. - Он, собака, сказал: "С казаков сдерем кожу, молодых женщин возьмем в наложницы, старухам вспорем животы и зашьем туда младенцев!.."
Напряженную тишину вдруг разорвал крик такой силы, что казаки и атаман вздрогнули. Это заголосила над телом убитого сына казачка.
"Ребят наших, - продолжал атаман, - что побегли просить подмоги, татары схватили, замучили". Атаман, за ним казаки, склонили головы. Помолчав, атаман вздохнул: "Надеяться нам не на кого. Быть всем на местах. Ступайте. Бабы пусть принесут нам поесть".
На площадке остались пушкари, Игнат и атаман. Труп князя сбросили с обрыва. Во рву, на откосах вала, на лугу за рекой лежало немало убитых в ночном бою крымчаков, горцев. Игнат, сидя на стволе пушки, начал, было, считать их, но после двухсот бросил.
А на Майносе валы неслись бешено, мощно накатывали на берег, с огромной силой били в него, вздымались могучей стеной.
Казаки измучились: ушли за рыбой - волны малые были, а сейчас никак не могут пристать.
Когда, наконец, пристали, послали за женами и детьми - помочь улов выгрузить, в дома отнести, - не дождались подмоги. Пришлось тяжеленные карбасы с рыбой на берег вытаскивать, чтоб волны их не стащили в море.
Подошли к домам - сараи порушены, сожжены! В дома вошли - по самые по глаза наелись: истерзанные жены, девки ревут, вой да стон, да позор, да горе! Пока в море были, турки на остров высадились! Грабили, убивали, насиловали!
Избитая, опозоренная Феклуша рыдала: "Матрена двоих аскеров серпом зарубила! Ага ее застрелил! Настену с собой увезли!"
Хватились казаки ружей - нет ружей! И ружья, и кинжалы кавказские - все аскеры с собой унесли! В церкви все вверх дном - золото, сверкачи искали!
Кинулись казаки к турецкому берегу плыть, начальству турецкому жалиться - нельзя в море, волны погибельные!
С мукою в сердце, среди воя и слез, ждали, когда стихнет буря.
Поплыли к берегу! Сперва к знакомцам - грекам: толмача одолжить. Сразу им все рассказали. Те давай руками махать на них: у турок печальные дни сейчас, оплакивают пророка, ходят по пояс голые, цепями бьют себя, волосы рвут, - злые, как псы, - никак нельзя сейчас к туркам!
Тогда казаки стали просить: камней-сверкачей у них нет более, а надо оружие! Помогите! Нашлось пять кинжалов.
Наточили некрасовцы кинжалы, серпы да косы, укрепили вилы. С турецкой стороны на берегу чаканы поставили. Рядом держали малый огонь: чуть что - дозорный сразу подожжет сено!
И чаканы запылали!
Скорей баб-девок-детишек в землянки, сверху чаканы ставить!
Аскеры дома обошли - нету баб! Стали ворошить сено! Тогда разом кинулись казаки, перебили аскеров, перерезали глотки им!
А дальше что? Трупы в землю закапывать? Нельзя: хватятся пропавших, станут искать - весь остров обыщут, всю землю разроют, все чаканы разметут.
Погрузили аскеров в карбас, привязали им камни к ногам, отплыли далеко в море, кинули за борт! Аллах с ними!
Алела заря. Тянулись за рекою дымы костров, смешивались с туманом, заволакивали лес; туман постепенно редел. Проступили белые палатки и шатер за лесом, на невысоком курганчике.
На земле лежала прохлада, наполненная мерным шумом реки. От станичных укреплений доносились негромкие разговоры, сдержанные стоны раненых, глухие причитания женщин. Казалось, станица тревожно вздыхает, как сильно истомленный, охваченный сном человек. Но станица не спала. Пушкари сверху разглядывали, оценивали линию обороны. По валу похаживали часовые. У костров женщины снимали с огня котлы с варевом, резали хлеб. От вала вглубь станицы тянулись повозки с тяжелоранеными и убитыми.
Атамана окликнули: казачки принесли вареную баранину, водку, лепешки. Атаман, отгоняя сон, помотал головой, встал. Женщины, всхлипывая, рассказывали, кто убит, кто ранен; что поп не ушел с вала, лихо бился! А сейчас помогает раненым... Дашка разрешилась - мальчишка!.. Атаман покосился на Игната: мол, слышишь, брат твой обещал крестным быть!
Игнат, сидя бочком на стволе пушки, жевал и глядел на реку. Потом перестал жевать, прищурил глаз и наклонился вперед, будто прицеливался. "Атаман, подойди!" - тихо позвал он.
Из-за дальних курганов выкатывалось солнце. В пойме реки, на верхушках дубов и осокорей заиграли красноватые блики. За лесом, на курганчике, поверх шатра, загорелся кровавым глазом значок.
У реки часто показывались кучками и в одиночку всадники. Перед шатром двигались фигурки конных и пеших. Среди них появилось трое в белых одеждах, скрылись в лесу. Вылетели из чащи и низко закружились над лесом чем-то встревоженные птицы. Под ними вдруг шевельнулась, плавно поплыла в сторону розовая вершина дуба. Цепляясь ветвями за соседние деревья, дуб рухнул. Птицы испуганно взмыли.
Игнат протянул руку к лесу: "Смотри, атаман!"
Закачался и повалился второй дуб. "Разумеешь, зачем они дубы валят?" - "Разумею: кряжами ворота крушить!"
Помолчали. Смотрели на птиц, поднимающихся все выше в ясное небо. Атаман задумчиво произнес: "Надо бы..." И ушел с вала.
К воротам, что смотрели на реку, подвезли со стены две Петровны, с десяток бочек пороху. Орудия установили саженях в пятнадцати до ворот, на дороге, сбегавшей по откосу к реке. Между пушками, от колеса до колеса, оставили проход шириной в сажень. Бочки с порохом положили набок, одну за другой, рядом с пушками; закрепили колышками.
Зарядили орудия картечью. Навели жерла на ворота.
Оставив у бочек Ляксандру, атаман вернулся на площадку к валу. Три пушки у бойницы зарядили ядрами.
Старый пушкарь прицелился: "Господи, благослови, царица небесная!" Поднес фитиль. Из ствола вылетел язык пламени, над поймой загремело эхо.
В нескольких шагах от шатра взлетело облако пыли. Пестрый муравейник бросился врассыпную.
Старик выругался, кинулся к соседней пушке, быстро навел, и поднес фитиль. Орудие рявкнуло, на курганчике взвилось и опало в пыли белое полотнище. Пушкарь прищурился, дернул себя за ус. "Попал, попал!" - закричал Игнат.
"Други! - остановил его атаман. - Сейчас они всей ордой пойдут на приступ. Страшно будет. Но зря не палите. Не раньше, чем они выбегут из лесу. И тут уж - наверняка! С Богом, ребята!" Молча перекрестил их двуперстием, тяжко вздохнул, пошел с площадки.
В станицу начали залетать пули. Одна из них, прогудев шмелем, жахнулась в стену прямо над спящим Кондратом. Проснувшись от звука пули, Кондрат сперва ничего не понял, а потом, увидав комочек свинца, влипший в саманную стенку, стал его выковыривать. Комок был еще теплый.
От реки донеслись крики, частый треск выстрелов. "Матушка!" Но мать уж сама проснулась, пробовала большим пальцем косу - остра ли? Вышла, отворив скрипучую дверь сарая. Тяжело ступая по пылюке босыми ногами, пошла к валу. Кондрат за нею.
Толпы неприятеля высыпали на освещенный солнцем луг. К валу понеслись пули и тучи стрел. Враги разом кинулись к укреплениям у ворот. Станичники дрались на смерть: пистоли, серпы, косы, приклады, пики, шашки, горячая смола, кипяток - все пошло в ход.
В разгар боя из леса на луг выскочил второй отряд и устремился к воротам. Среди атакующих быстро двигались огромные "сороконожки": это пешие крымчаки на руках тащили бревна - разбить ворота. По этим атакующим непрерывно палили из ружей и пушек. "Сороконожки" замедляли бег, и тогда всадники, крутившиеся рядом, хлестали ногайками по головам и плечам облепивших бревно.
Расстояние между воротами и нападающими быстро уменьшалось, осталось каких-то полсотни сажен.
Неожиданно ворота распахнулись. Ляксандра, стоя у Петровен, видел через распахнутые по его сигналу ворота: злыдни в сорока саженях.
Ляксандра уже мог разглядеть лица нападающих - злобные, яростные. Осталось тридцать сажен!
Двумя огненными хлыстами картечь врубилась в самую гущу штурмующих. Одна "сороконожка" покатилась по косогору, вторая остановилась. Ляксандра прыгнул к бочкам: "Эх, ма!"
Станичники, оборонявшие ворота, услышали среди грохота пушек, треска ружейных выстрелов, воплей, - вроде бы, кто-то поет!
Ляксандра пел во всю силу легких:
"В тихи ночи казаки, казаки гуляют!.."
Выдергивал колышки, вбитые между бочками, вкладывал в донные дыры куски тлеющего фитиля, толкал бочки ногой!
"И про службу, про свою песни распевают!"
Темные снаряды, один за другим, стремительно выкатывались из ворот, подпрыгивали, сбивали атакующих, обрушивались на головы и - взрыв! Взрыв! Вокруг разметанные, разорванные тела!.. В рядах злодеев смятение!
"Лучше в поле умирать, дома не годится!
Если в хате умирать, лучше б не родиться!"
Взрыв! Пешие бросают стволы дубовые, бегут от смертельных бочек! Одна бочка не взорвалась, и три десятка всадников проскочили в ворота!
"Нам не в первый раз рубать подлую ордюку!"
Всадники рванулись к Ляксандре! Он, увидев это, вскочил на бочку и, размахивая фитилем, закричал: "Казаки..." В ту же секунду правый бок прожгла острая боль, из горла вырвался хрип: "гуляют!" Пронзенный стрелой, Ляксандра упал. Передний всадник уже замахнулся шашкой, но Ляксандра, теряя сознание, последним движением все же сунул в бочку горящий фитиль! - Пушки, всадники, сам Ляксандра, бочки - все взлетело, исчезло в буром облаке взрыва!
Станичники бросились к воротам, закрыли их на затвор! Уцелевшие всадники заметались под перекрестным огнем пистолей и ружей...
Когда - вслед за несколькими взрывами на косогоре - раздался ужасающий грохот и огромные клубы черного дыма взмыли за воротами, в самой станице, на флангах наступила отчаянная минута! "Орда ворвалась!" И сами себе не поверили, увидев, что ордынцы разрозненными стайками бегут от ворот к реке, а вслед им с вала гремят-режут картечью пушки!
Растерянные, обессиленные станичники, не понимая, что же произошло, смотрели, как откатывается, уходит орда - за реку, в степь!
"Бегут!" - выдохнул атаман, и опустился на землю.
Поздно запылали сигнальные чаканы, - проспали дозорные: ага с аскерами уже высаживался на Майнос.
Еле успели казачек с детишками свести в землянки, а чаканы сверху уже не сметать!
Казаков на острове с гулькин нос, почти все ушли в море за рыбой.
Ага обходил дом за домом. Толмач спрашивал: где аскеры, которые были на острове неделю назад? Казаки пожимали плечами: не было здесь таких! Ага впивался черными жгучими глазами в лица неверных. Казаки смотрели невозмутимо.
Тогда аскеры пошли в землянки, стали выгонять оттуда баб с детишками. Бабы заголосили: "Не знаем мы ничего, никого не видели!"
Ага узнал Феклушу: "Не скажешь правды - заберем тебя!" В ужасе Феклуша ревмя ревет, кричит: "Не знаю, не видела!" Ага через толмача казакам: "Не скажете правды - возьмем ваших! Будем пытать их!"
Переглянулись казаки, сжали кулаки, но не решились некрасовцы: если и этих порезать... да и как порежешь? У аги и аскеров пистоли, - серпами и кинжалами против них? Так их раза в три больше, чем некрасовцев!
Забрали аскеры десять казаков и Феклушу, увезли с собою в карбасах.
С берега молча, потеряно смотрели им вслед казаки, голосили бабы.
Что-то будет?
Женщины подтолкнули к атаману бритоголового ордынца со связанными за спиною руками. Атаман оглядел его: дорогая одежда, бледное холеное лицо с рыжей крашеной бородой, надменный взгляд. "Видать, важная птица!"
"Ты кто?" Пленный зло покосился на женщин, рванулся. Но бабы крепко держали его. "Ты кто?" - повторил атаман.
"Я брат калги Гирея! - надменно произнес иноверец по-русски. - Прикажи уйти твоим женщинам! Когда говорят воины, женщинам не место!"
"Отчего же? - возразил атаман. - Бабы тебя побили, бабы в плен взяли! Так что тут им самое место!"
"Пусть уйдут! Таков закон!"
"Зако-он?! - вскипел атаман. - А по какому закону ты в драку полез? Кровушки захотел, кровосос?!"
"Вы убили моего сына в шатре!"
Атаман встал: "А как ты хотел?! Вы нас смертью пытать, а мы вас?!" Пленник плюнул в лицо атаману. "Ах ты, собака!" - схватился атаман за кинжал. Потом охолонул, утерся. "Бабы, отведите его на станичный двор, посадите на цепь!" Ордынец вскрикнул, рванулся. "Стерегите его, чтоб кто-нибудь не убил! Обменяем, если наших кого схватили!"
Калгин брат рвался, шипел, - женщины набросили ему на шею веревочную петлю и, подгоняя тумаками, повели сажать на цепь. Пленный извергал ругательства.
Атаман спустился к поваленным Петровнам. Прислонившись спиною к орудию, сидел Кондрат, держась за окровавленное, простреленное колено. Игнат ухаживал за лежащей матерью, перевязывал голову ей. Мать стонала, по плечу текла кровь. Рядом лежал убитый сотенный.
На месте взрыва неглубокая, темная от пороховой гари яма. Атаман сморщился, зажмурился, медленно провел по лицу рукой, стал на колени, бросил горсть земли в яму. Перекрестился: "Царство небесное, вечный покой!"
А поп умирал. Голова, шея, грудь - все в крови. В горле булькает, на губах кровавая пена.
Бабы плакали: "Не умирай, батюшка, кто ж без тебя требы справлять будет?"
"Бог поможет!" - прошептал долгогривый, вздохнул и застыл навечно.
Бабы заголосили.
Вой стоял над станицей. Оплакивали жен и мужей, сестер и братьев, сыновей, дочерей, матерей и отцов. А от вала все везли и везли раненых и убитых.
Поседевший на глазах атаман, не спавший все эти дни и ночи, стоял на валу, и, борясь с нестерпимым желанием спать, тяжело думал о завтрашней битве: орда могла вернуться!
3.
По Левокумке, Бургун-Маджарам, Прасковее, Прикумску носился на мотоцикле молодой поп - в скуфейке, рясе и брюках, заправленных в сапоги. "Мотопоп" спешил на крестины и отпевания.
Окрестил он и Сеньку. Маленький Бабаев плакал, - вода попала в глаза; родители и крестные радовались: еще одна казачья душа вошла в христианство!
Когда "мотопоп" узнал, какие древние рукописные книги оставили некрасовцы на Маньясе ("Мы их у церкву заперли!") - долго укоризненно качал головой: "А что ж ваш батюшка?!" - "А мы без яво жили! Ежли што, до греков на лодке бегали!" - "Что, православие приняли?" - "Кто принял, кто в староверах остался!"
А Сенькина бабка: "Выйду, бывало, из церквы на Майнясе, посмотрю на своих ребят - все молодые, красивые и работники! От приедем мы на свою Родину, посмотрят на нас и скажут: от какая племя взворотилася!"
"Нас пугали: доедитя - в Сибирю вас сошлють! А из Америки, с Канади прибегали, чтоб мы в Россию домой не пошли, а наш народ не послухал!" - это Кирила Никитич Пушечкин, седой плотный казак с окладистой бородой; на Маньясе он оставил паровую мельницу и два трактора.
В Сибирь некрасовцы, действительно, угодили. Только много раньше, в 20-х годах. После свержения царя и октябрьского переворота решили бежавшие за рубеж некрасовцы вернуться на Родину - на Кубань. Вернулись. Обосновались в Некрасовке на Лабе. А Сталин решил: один раз Родину предали - и другой предадут! И всех их в Сибирь!
Только после смерти "вождя народов" Хрущев вызволил их. Вот тогда-то некрасовцы с Маньяса, с Дуная решили: "вертаться!" И, сами того не ведая, вернулись к тем самым местам, где погиб когда-то Некраса, где бились с ордою Кондрат и Игнат. Домой - через века!
Как на речке было на Камышинке,
Собирались люди, казаки вольные,
Атаманом был у них Ермак Тимофеевич,
Есаулом был Гаврюшка Лаврентьевич,
Собирались казаки во единый круг -
Все донские, гребенские да яицкие.
"НАША УЛИЦА" № 98 (1) январь 2008
|
|
ВЕНЕЦИЯ |

Валерий Босенко
НАПИСАЛ ШКОЛЯР ПИСЬМО
"Дорогой мой Камилло..."
рассказ
История эта началась еще в годы не успевшей заледенеть оттепели в тех южных краях, которые можно было бы назвать русской Венецией. Волга, дельта, раскаты, Каспий - чем не лагуна на Адриатике! Однако посетивший эти места тогда Н.С. Хрущёв высказался куда как приземлённей и проще - здесь, мол, можно прожить и с удочкой.
И осенило ж тогда влюблённого в кино астраханского школяра написать письмо на всемирно известный, старейший Венецианский кинофестиваль!
Как говаривал Ленин, социализм без почты, телеграфа, газет и журналов, мол, пустой звук. Золотые слова! Благо, что не какая-нибудь вражеская, а именно советская печать в виде журнала "Искусство кино" услужливо подбросила словцо "прогрессивный" перед именем нового директора Венецианской мостры - Луиджи Кьярини. А печатному слову в те годы верили даже школяры! Раз прогрессивный, значит, наш, значит, не отмахнется, ответит.
Так и ушло в Италию это незатейливое письмо, наверняка, написанное на вырванном из школьной тетрадки разлинованном листе с полями - ну, не в клеточку же! - ибо других у школяра под рукой не водилось. Хотя не исключено, что для этой цели был прикуплен и почтовый набор со специальной писчей бумагой с виньетками. Но не в этом суть.
Да и было чему подивиться в бывшей столице былой Венецианской республики, когда не чиновно-спесивая красная Москва, а захолустная Астрахань, про которую там и не слыхивали-то, устами своего если не младенца, то тинейджера признается в любви в итальянскому кино, в котором он особо выделял "Ночи Кабирии" и "Рокко и его братья". А других в свои 15 лет он мог и не видеть. Он и на эти-то просочился вопреки советскому возрастному цензу - "Дети до 16 лет..."
Изложенная же в письме просьба была элементарной, хоть и не банальной - прислать каталог последнего Венецианского кинофестиваля.
Позднее коллега отца школяра и друг их семьи, ас из астраханского угро Иван Иванович Овчаров попробует было предостеречь школяра о нежелательных заграничных связях - враги, шпионаж, вербовка. Но юного представителя первого непуганого советского поколения слова эти убедить уже не могли. Глоток оттепельной свободы еще не был им проглочен, но где-то он уже явно клубился, витал...
И вот небеса разверзлись, божий гром грянул! Пусть в те времена последний принято было именовать не иначе как громом небесным.
Каково же было потрясение, когда отправленная по штемпелю 14 января 1964 года, из самого сердца Венеции, из почтового отделения Сан-Марко, квадратная заказная бандероль до Астрахани дошла! При всей очевидности полученного - по-нынешнему, артефакта, - сейчас весьма затруднительно сформулировать причину потрясения. Оно имело место то ли оттого, что вожделенный каталог XXIV Международного кинофестиваля в Венеции все-таки был получен. То ли потому, что адрес получателя был скопирован и увеличен с письма отправителя, а уж свой тогдашний почерк с завитушками школяр признал сразу. Это было не фотоувеличение и не укрупнение через ксерокс: в докомпьютерную эпоху сие было не ведомо так же, как не объяснимо и теперь. Или же ощущение шока долго не проходило оттого, что бандероль была адресована ученику 9-го класса средней школы № 56 города Астрахани, именуемой Пушкинской.
Черепицею шурша, крыша едет не спеша...
Нужно было жить тогда именно в русской глубинке в советское время, чтобы расценить случившееся не иначе как чудо. От Венеции до Астрахани через Москву сколько же было цензоров и смотрителей всех мастей на пути этой переписки. Но вот как-то пронесло. Пока пронесло...
Тогда же на официальном бланке Международного Венецианского кинофестиваля пришло и вежливое письмо его директора. Луиджи Кьярини писал в ответ, как его тронули признания школяра, что он так же высоко ценит советское кино (которое, к слову, ежегодно тогда получало призы в Венеции) и рад выслать адресату последний фестивальный каталог.
На это письмо последовал благодарственный ответ, на который пришло ответное, с заверениями.
Парадоксальность этой переписки, помимо несводимых социальных уровней ее адресатов, заключалась и том, что школяр писал по-русски, который на Бьеннале ди Венеция было кому перевести. Ответного же итальянского не знал никто ни в микрорайоне Привокзальной площади, где школяр проживал, ни у него в школе и даже, подозреваю, в местном отделении КГБ.
Однако, как пелось в известной песне тех лет: "А ты твердишь, что на свете не бывает чудес... / Ну, что тебе ответить? Они на свете есть!.."
В Астраханском областном туберкулёзном диспансере, где в регистратуре работала мать школяра, главным врачом был Владимир Александрович Лебедев (кстати, двоюродный брат вгиковского профессора Владимира Алексеевича Лебедева), иммигрировавший после войны на родину из Югославии. Вернулся по шпалам Александра Вертинского, который, как известно, не только был приласкан в СССР, но и успел получить Сталинскую премию. Лебедеву тоже соблаговолили разрешить лечить палочки Коха в Астрахани в регионе Прикаспийской низменности, включая калмыцкие степи.
И знавший все Владимир Александрович Лебедев с листа брал венецианские письма, а мать, что успевала, записывала под его диктовку.
Так, вся эта история из режима марсианских хроник каким-то чудодейственным образом переходила на вполне достоверные рельсы.
После пары вежливых и протокольных писем Луиджи Кьярини передал школяра своему заместителю по прессе и массовым коммуникациям Камилло Бассотто. Первое письмо от него начиналось словами - Gentilissima signorina Veleria!..
Как же засмущается и покраснеет мой дорогой друг Камилло, давным-давно забывший свою простительную оплошность, в которую много лет спустя, уже на излёте века, я ненароком его ткнул, сохранив и показав это письмо почти тридцатилетней давности!
В ответ на мою просьбу о каталоге тогда еще неведомый мне Камилло попросил присылать ему тома только-только начавшего выходить в СССР собрания сочинений Сергея Эйзенштейна. Подтвердив тем самым ходячее на Западе мнение, что Эйзенштейн в мире второй авторитет после Библии.
Хотя школяр еще и не начал почтарить доставщиком телеграмм, раздобыть 2 рубля 25 копеек за первый вышедший том плюс рублевый задаток на подписку было делом достижимым. Выкраивать же из собственного скудного бюджета по пятерке рублей, хоть сумма была и немалой по тем временам, все-таки было возможно. Благо, что издательство "Искусство" растянуло издание на добрых семь лет.
В благодарность Камилло присылал книги и справочные издания Венецианской Мостры, коих школяр никогда и не видывал. Он уже разносил по городу телеграммы, учась последние два года в вечерней школе, и зарабатывал себе трудовой стаж, без которого школяров в институты грозились не брать - очередная советская глупость! И всеми силами готовился поступить в институт кинематографии. Венецианские же книги - пусть и не углубляли за отсутствием знания языка, - но все же расширяли информационный кругозор и представление о картине мира, который не замыкался на шестой его части.
Чуть позже Камилло, который в рамках ежегодных фестивалей в Венеции, организовывал в те годы и Международные выставки книг по кино, попросил его составлять ежегодные списки советской кинолитературы и даже присылать ее образцы на стенды. Пришлось поступаться единственными экземплярами из своей небольшой библиотеки. Почему этого не делали издательство "Искусство" и Госкомиздат СССР - ума до сих не приложу. Или Венеция к ним не обращалась?..
Зато школяр - уже студент ВГИКа, а позже и редактор "Ленфильма", - получал Дипломы участника XXVIII, XXX, XXXIII Международных кинофестивалей в Венеции, ставшие предметом его законной гордости.
Ежегодно Камилло спрашивал его о приезде в Венецию, а в конце концов сделал попытку пригласить на XXIX кинофестиваль, прислав даже гостевой абонемент на вечерние фестивальные показы во Дворец кино. Тем самым ненароком заставив студента-второкурсника совершать нелепые пассы в попытках заполучить загранпаспорт и вызнать про выездную и въездную визы. Но советские танки, вошедшие в августе 68-го в Прагу, вовремя положили конец его венецианским благоглупостям.
Впрочем, они были обречены и без танков.
За год до этого Камилло известил, что приедет в Советский Союз, с посещением Таллина и Москвы. В столице Эстонии его дивили хором в национальных костюмах, который распевал национальные песни на берегу Балтики при первых лучах восходящего солнца. Где остановится он в Москве, никому не было известно.
Студент начал поиск с окружных и близлежащих к институту гостиниц. Не найдя следов гостя в "Туристе", он решил прочесать отельный комплекс ВДНХ. В первой же гостинице у Южного входа ВДНХ его и помели.
Московские старожилы утверждают, что причиной не ареста, а административной высылки за 100-й километр, в Калинин, Николая Эрдмана, одного из авторов любимой Сталиным "Волги-Волги", было двустишие драматурга: "Пришел НКВД к Эзопу / И хвать его за жопу!.."
Ситуативно отдаленно похожее случилось и со студентом-первокурсником в той же Москве в год 50-летия Октября с той лишь разницей, что премудрый пескарь советской выпечки сам дался в руки и тепленьким. Переведенное им мальчикам-комсомольцам с листа письмо на бланке Венецианской Мостры почему-то индульгенцией не оказалось. Записав паспортные данные правонарушителя, интересовавшегося проживанием иностранцев в столице, они дали делу законный ход.
В институт об идейном проступке их питомца было сообщено декану по работе с иностранными студентами Александру Сергеевичу Новосадову. Этот вынужденно связанный с органами благодушный человек, помнится, не стал раздувать дела (точно других дел у него не было, как заниматься такой мелочёвкой!). Но молодой архивист Госфильмофонда уже середины 70-х годов в Архиве ВГИКа, помнится, отыскал среди анкетных дел киноклассиков собственное досье со своими же покаянными оправданиями тех же дней десятилетней давности. Значит, какая-никакая раскрутка всё же была.
Еще бы не была! Институтская кадровичка Вера Ивановна, про которую ходил упорный слух, что меньше как на майора КГБ она не тянет, вызвала виновника, посадив его у себя в особый, свидригайловский чулан при Отделе кадров, куда и явился человек в штатском со своей паутиной.
Прав-прав был Иван Иванович Овчаров, хоть по-своему, но прав - недруги, разведка, сотрудничество. Но только не по ту, а по сю сторону и с полуласковым воркотком в голосе, в котором угадывались вполне металлические нотки.
Короче, мы, если и не забудем, то простим при условии, что вы станете нам помогать. Иначе, Good-byе, my love!.. На институте придется поставить крест, уж не говоря про практику на ближайшем Московском кинофестивале. В праздничный для всего советского народа год! В год 50-летия Советской власти!
Когда все согласительные бумаги были подписаны, ближний круг друзей, как мог, утешал новоявленного сексота и филера, что, мол, даже большевики не отвергали компромиссов, и ничего, живут себе и даже жируют! А над ленинской проблемой, удержат ли те же большевики государственную власть, нынче куры смеются. И вообще на курсе из 16 человек, не считая иностранцев, уже есть стукач из своих, проверенный, партийный, а ты, так, не пришей к пизде рукав, дублёр. Таких держат, но в космос не берут.
И лишь к концу армии, года через четыре, ему удалось, набравшись духу, вырваться из тенёт этой бесовщины. Тамошний особист, прямо скажем, не Гегель, переусердствовал и повёл торг на жильё. Тогдашнего рядового советской армии, бездомного и безлошадного по факту, квартирный вопрос как-то не испортил. И он послать - не послал, но чем не по - гвидоновски: вышиб дно и вышел вон!
Последствия сказаться не замедлили. На другой год добралась на "Ленфильм" последняя телеграмма от Камилло, тем же, 72-м, датирован последний Диплом участника Венецианского кинофестиваля. Годом позже вызванному в Большой дом на Литейном ленфильмовскому редактору было объявлено, что его временная прописка продлена не будет за истечением срока пребывания в молодых специалистах.
Перескажи я Камилло всю эту фабулу "Бесов" в советской миниатюре и в ее же кодировке, он вряд ли бы что понял в таком наказании без преступления. Ибо как писал поэт про залетного иностранца: "...Остальное - наша проза. / Не тебе ее решить".
В советской истории дорогой мой Камилло не пошел дальше года своего рождения: почему после столь победоносного Февраля 17-го случился победительный Октябрь?
Где уж там разобраться с текущими делами - заушательством в прессе национального достояния, которое назавтра вдруг назначалось в отщепенцы, исключением откуда только можно исключить неугодных творческих кадров, выдворением из страны собственных граждан... Короче, наличествовал национальный позор в его апогее.
В ответ на это Венецианская Мостра (а Камилло Бассотто проработал в ее директорате до 80-го года) взяла курс на поддержку диссидентского движения в бывшем СССР - печатала Александра Галича, выступала в защиту заключенного Сергея Параджанова. За что и была предана анафеме нашей стороной. Вплоть до самой перестройки.
Все эти годы о Камилло не доходило ни слуху, ни духу. Случайные итальянцы, которые забредали в Москву, отговаривались: "Я видел его пять лет назад...", "Я встречался с ним в прошлом году..." Может, и правда, видели, а, может, и врали. Поди разберись, когда сам не выездной...
Среди новаций и перемен нового времени весьма ощутимыми оказались отмена выездной визы в поездках за рубеж и выдача на руки гражданам заграничных паспортов, прежде хранившихся в секретных сейфах советских министерств. Сейчас уже не оценить, но тогда эта штука была посильней, чем "Фауст" Гёте.
Иронией ли судьбы, ветром ли перемен или стечением случайных обстоятельств, как бы там ни было, но давно уже киноархивист в 90-м году впервые оказался гостем XLVII-й по счету Венецианской Мостры.
Феи водятся и на Лидо, в Венеции. Успевшего покрыться архивной проседью школяра никто теперь не убедит в обратном. Красивая венецианка шотландских к тому же кровей, милая и внимательная Лаура Марчеллино на вопрос о координатах Камилло Бассотто ответила - ну, не отказом же! - "Сейчас под рукой нет, но обязательно найду и скажу". И никаких там через пять лет, на будущий год...
Это "обязательно" случилось в тот же вечер, когда портье "Эксельсиора" вместе с ключом передал записку от Лауры - златовласки с семью цифрами венецианского телефона.
Окажись эти цифры в руках у школяра, что бы тот с ним делал без малого тридцать лет назад?! Налицо была бы ситуация из крыловской басни "Мартышка и очки" - "...то их понюхает, то их полижет..."
Первый телефонный разговор случился той же ночью. Позже новые венецианские друзья смущенно пробормочут: "Звонить Камилло в такую пору... Он давно уже спит в этот час..." Но бывшему школяру и лагуна тогда была по колено.
Впервые за 27 лет говорили двое людей, чьи голоса друг другу были совершенно не знакомы. На первый напряженный вопрос, можно ли попросить к телефону Камилло Бассотто, последовало не менее настороженное - "А кто его спрашивает?" Школяр успел лишь выпалить: "Это его старый друг из Советского Союза".
То ли державе надо было одряхлеть, чтоб устало махнуть дланью на явно не грозившие ее безопасности частные дела, то ли испытательный срок в четверть века даже судьбе показались за глаза делом из ряда вон...
Как бы там ни было, но видавшие молодого Черчилля стены "Эксельсиора" огласились телефонными воплями и криками - "Валерио!", "Камилло!" - что на них едва ли не сбежались окрестные карабинеры.
Назавтра же под солнечными часами на Сан-Марко, ровно в девять утра, под бой колоколов одноименной базилики встретились двое. Накануне ночью по телефону каждый из них детально обрисовывал собственную внешность, что твой Штирлиц - Исаев, чтоб ненароком не разминуться в толпе. Однако они не только вмиг признали друг друга, но будто бы и не разлучались все эти годы заочной дружбы.
Это был он, давний друг школяра из российской Венеции, что в дельте Волги, бывший асессор по культуре Венецианского муниципалитета, в течение трех десятков лет один из руководителей старейшего в мире Международного кинофестиваля в Венеции, на восьмом десятке жизни продолжавший работать в Обществе "Чинефорум Итальяно" - "Итальянский кинофорум".
Это он, Камилло Бассотто, был выходцем из беднейшей итальянской семьи, эмигрировавшей в Бразилию, в отрочестве оказавшийся в Венеции и потерявший любимого старшего брата в авантюрную абиссинскую кампанию Муссолини, добившийся всего собственными силами, сделавший себя сам, в одиночку, помогавший своим родичам - и не только им, - до последнего часа.
В тот день Венеция была особенно празднично-ликующей, светлой и солнечной. Бывший школяр получал ее из рук надежного друга, своего Камилло, Которого город сохранил для него легким и статным, отзывчивым и щедрым сердцем венецианцем.
Советский неофит, которому уже перевалило за сорок, знать-не знал, ведать-не ведал, как же обратиться к своему старому другу. Обращение "синьор Камилло" и на "ты" сполна стоило "глубокоуважаемой синьорины Валерии". В ответ на лепет бывшего школяра Камилло покраснел, закрыл лицо руками и, раскачиваясь из стороны в сторону, чуть ли не скандировал: "Ну, какой я тебе синьор?! Только Камилло и только на "ты"..." Урок оказался впрок...
Им недостало ни первой, ни второй, ни последующих встреч, чтоб наговориться и насытиться этими встречами. И самым весомым признанием, самым трогательным были слова венецианского друга - "Прости меня, что не я нашел тебя первым".
Прошедшие с той первой встречи годы - а от нее самой осталась едва ли не единственная фотография их обоих на Сан-Марко, - не снизили градуса общения. Их возобновившаяся переписка и регулярные уже встречи словно наверстывали упущенное - за все их невстречи периода чешской весны, советских танков и советской же стагнации.
Давно позади осталась присылка школяром в Венецию томов собрания Сергея Эйзенштейна. Новой предметно-материальной вехой их дружбы стало иллюстрированное итальянское издание - Сергей М. Эйзенштейн. "Да здравствует Мексика!". Его осуществил Камилло Бассотто вместе со своим другом, молодым венецианцем Стефано Каваньисом. Текст сценария незавершенного мексиканского фильма советского классика был сопровожден статьями автора и проиллюстрирован кадрами огромного свода киноматериалов, полученных Госфильмофондом из США, которые школяр разбирал в первую пятилетку своей работы в фонде. Состав книги композиционно обрамляли архивные материалы в виде авторских сценариев начальной - 20-х годов - "Стачки" и уничтоженного "Бежина луга" 30-х, а также статьи и материалы советских исследователей и обоих итальянских составителей.
А когда-то в рамках Венецианской Мостры, в 50 - 60-е годы проводились первые советские ретроспективы - или, как теперь говорят, ретроспекции, - фильмов, которые были организованы Камилло Бассотто. Именно тогда кинематографическая Европа узнала практически в полном объеме собрания произведений Эйзенштейна, Пудовкина, Довженко. Это он, Камилло Бассотто, посмотрев летом 62-го лишь первую часть "Иванова детства" Андрея Тарковского, убедил дирекцию перевести фильм из детского конкурса, на который прислала его - по названию! - Москва в конкурс большого фестиваля. Гулкий провал на этом последнем официозных "Людей и зверей" Сергея Герасимова был сполна восполнен первым в истории Советов Золотым Львом святого Марка именно за "Иваново детство". И это случилось за тридцать лет до "Урги" Никиты Михалкова и за сорок - до "Возвращения" Андрея Звягинцева. В архиве Камилло до последнего хранилось благодарственное письмо Андрея Тарковского в ответ за понимание, помощь и поддержку...
Есть вещи, которые забывать не след, забвению не подлежащие. Отечественное российское кино, даже будучи советским, чем-то да обязано человеку из Венеции Камилло Бассотто, который добрых сорок лет, вплоть до самой своей смерти в августе 2003-го воздавал должное России и ее искусству.
Хотя бы поэтому это имя стоит помнить не только бывшему школяру, который когда-то написал в Венецию письмо и свёл дружбу с незнакомцем по имени Камилло Бассотто.
"НАША УЛИЦА" № 98 (1) январь 2008
|
|
Такой стране, как Россия, на руководящих постах, прежде всего, нужны умные люди |

Писатель Виктор Владимирович Кузнецов-Казанский родился 8 июня 1942 года в селе Газалкент Бостандыкского района Ташкентской области Узбекистана. Окончил геологический факультет Казанского университета. Кандидат геолого-минералогических наук. Член Союза писателей Москвы. Автор ряда книг. Очерки публиковались в журналах "Дружба народов", "Новое время", "Наука и жизнь" и в центральных газетах. Многие произведения опубликованы в ежемесячном литературном журнале "Наша улица», сотрудничество с которым началось в 2000 году.
Умер в 2010 году.
Виктор Кузнецов-Казанский
ВЕРА ПАНОВА
эссе
Писательницу Веру Федоровну Панову (1905-1973) помнит и ценит сегодня только старшее поколение читателей. Популярной она стала 60 лет назад - в далеком уже 1945 году, когда в журнале “Знамя” была опубликована ее повесть “Спутники”: о фронтовом санитарном поезде. Сочность языка, умение сочетать драматические ситуации с комедийностью положений, поэтизация обыкновенных людей и искреннее уважение к ним - все это привлекало читателя. Александр Фадеев, тогдашний глава Союза писателей, вручая Вере Пановой Сталинскую премию, назвал ее повесть “...прекрасной, чистой, суровой и поэтической”. Строгий и требовательный Александр Твардовский считал с тех пор Панову одним из лучших отечественных прозаиков, привечал ее в своем “Новом мире” и всегда лично редактировал рукописи... “С мастерами, - подчеркивал, - надо считаться!”
В год окончания Великой Отечественной войны Вера Панова вовсе не была начинающим литератором - литературная слава постучалась к ней еще накануне войны. В 1940 году, например, ее пьеса “Старая Москва” (наряду с “Машенькой” А. Афиногенова) получила первую премию на Всесоюзном драматическом конкурсе и была принята к постановке во многих городах страны.
Вера Федоровна читала пьесу перед артистами театра имени Моссовета и решила прервать раздавшиеся аплодисменты. Режиссер Юрий Завадский бросил тогда:
- Потерпите! Может быть, этого никогда больше не будет в вашей жизни!
- Будет! - решительно и уверенно ответила Вера Панова.
“Как это случится, - рассказывала она позднее, - я не умела предугадать. Но знала, что это будет. И будет через литературный успех, не иначе!”
Театры, которым “Старая Москва” не досталась (среди них - Малый и имени Евгения Вахтангова!), спешили заключить с писательницей договоры на ее будущие, еще не написанные пьесы.
Изрядно измотанная отсутствием собственного угла, прописки и постоянного заработка, Вера Панова работала тогда комендантом общежития при Ленинградском Доме ученых. Предвкушая материальное благополучие, она сняла на лето дачу в Царском Селе, готовилась к приезду матери и сыновей с Украины (обещая отдельное купе в мягком вагоне) и заказала ко дню премьеры новое платье.
Происходило все это в июне 1941 года...
Следующую свою пьесу “Метелица” Вера Панова написала в оккупации. И до самого освобождения хранила свернутую в трубочку рукопись в поленнице дров. “Писательский талант, - говорила позднее дочь писательницы Наталья Озернова-Старосельская, - сильнее страха смерти. Сильнее даже страха за детей”. Ведь если бы кто-то нашел пьесу, всем близким грозила бы верная смерть.
“Метелица” - первое в нашей литературе произведение о военнопленных. Попавших в плен соотечественников Вера Федоровна и ее 15-летняя дочь собственными глазами увидели по пути из-под Ленинграда на Полтавщину в Нарвской синагоге, превращенной нацистами в концлагерь. Упитанные эстонские хуторянки покупают у тамошнего начальства работников... Один из бойцов выдает фашистам раненного комиссара... Действует в пьесе и совсем жуткий персонаж - обезумевшая от горя старуха-раввинша: всех ее близких (мужа, детей, внуков, правнуков) немцы застрелили на ее глазах...
В многотрудный поход на Украину - через Псковщину, Прибалтику и Белоруссию - Вера Панова и ее дочь в октябре 1941 года отправились вынужденно. Когда наши оставили Царское Село, немцы повесили на воротах Александровского парка юного партизана. И всех жителей выселили...
Вера Федоровна и Наталья с котомками за плечами направились в село Шишаки, что под Полтавой - там находились мать, свекровь и сыновья Веры Пановой. Встречи с немцами и, особенно, с полицаями не сулили ничего хорошего. Первый муж Веры Пановой Арсений Старосельский был евреем, и в наружности Наташи (хотя в аусвайсе она, как и мать, значилась украинкой) просматривались библейские черты, вызывавшие у нацистов подозрение. Девочка могла надеяться на спасение только когда мать - женщина с типично славянской внешностью - находилась рядом.
Спутницей Веры Пановой и ее дочери была потомственная аристократка Надежда Владимировна Сперанская, хозяйка дачи в Пушкине, где они сняли на лето комнатку. В Кременчуге, уже почти в конце изнурительного четырехмесячного пути, полицай с желто-блакитной повязкой заподозрил в девочке и пожилой благообразной дворянке бежавших от массового расстрела евреек. Сперанская свободно владела немецким, что в полицейском управлении разрядило ситуацию - всех троих отпустили. Тот декабрьский день 1941 года Наталья всегда потом считала самым страшным в своей жизни. И была уверена, что спастись удалось только чудом.
Придя, наконец, в Шишаки, девушка слегла. И пролежала в постели до следующего лета. Мать и братья выходили ее... Потом Наташу чуть было не угнали в Германию, но мать подправила в ее метрике год рождения - вместо 1926-го написала 1928-й...
Летом 1943 года, наоборот, свалилась Вера Федоровна, узнав, что по чьему-то доносу полицаи “угнали в Миргород” (что означало - расстреляли за околицей) жившую по соседству харьковчанку Соню и ее маленького сына.
Красная Армия вошла в Шишаки 22 сентября 1943 года. Наташа, захватив стакан соли, ценившейся как валюта, тут же отправилась километров за 30 в штаб воинской части, мобилизующей местное население. Городской девочке, не очень сильной и не привычной к физическому труду, отказали...
“Что я тебе не препятствовала ходить записываться в Красную Армию, объясняется тем, что я тогда просто обомлела от количества жизненных затруднений и растерялась... А будь я в нормальном состоянии, я бы безусловно препятствовала, - много позднее призналась дочери Вера Панова. - Судьба меня тогда пожалела и распорядилась без меня”.
“Эти два ужасных года совсем нас состарили и свели до известной степени с ума, - сообщала Вера Федоровна Арсению Старосельскому. - Бабушка выглядит древней старухой. Мне дают 50 лет, и у меня скверно с сердцем. Два года не оставлял кошмар - страх за Наташу”.
Бывший муж, военный корреспондент, зимой 1941 года отморозивший на фронте ступни обеих ног, работал в то время в городе Молотове (нынешней Перми). Туда же с матерью, дочерью и двумя сыновьями в самом начале 1944 года и поехала Вера Панова...
В областную писательскую организацию наведался в те дни капитан Иван Алексеевич Порохин, политрук военно-санитарного поезда № 312. В итоге поездки с этим поездом на фронт и родились “Спутники” - самая знаменитая повесть Веры Пановой.
По ее повестям и рассказам после войны не раз ставились фильмы. “Спутники”, например, были экранизированы дважды. Кинокритики всерьез говорили о кинематографе Веры Пановой - вдобавок к ее театру... С середины 1960-х годов пьесы Пановой “Проводы белых ночей”, “Как поживаешь, парень?”, “Сколько лет, сколько зим!”, “Еще не вечер”, “Свадьба как свадьба” шли по всей стране, включая лучшие театры Москвы и Ленинграда....
***
Первый брак Веры Пановой распался, когда Наташе не было и двух лет. Но Арсений Старосельский заботился о дочери всегда - навещал девочку, приносил подарки. И поддерживал с бывшей женой дружеские отношения до самой своей кончины в 1953 году.
В 1929 году в жизнь Веры Пановой вошел Борис Вахтин, журналист, в молодые годы возглавлявший на Северном Кавказе колонию для беспризорных. На зиму туда стекалась вся окрестная великовозрастная шпана - вооруженная и пытавшаяся устанавливать свои законы. Борис Вахтин, человек смелый, веселый и мужественный, с ней справлялся...
В 1930 году у Веры и Бориса появился старший сын, в 1932 году - младший. Но парням не суждено было знать отца: в начале 1935 года он был арестован по вымышленному обвинению в подготовке убийства Кирова. На следствии и суде Вахтин вел себя мужественно, не подписал ни одного из предъявленных обвинений, не пытался купить себе жизнь ложными показаниями на других и погиб на Соловках в 1939 году.
Официально брак между Борисом Вахтиным и Верой Пановой не был - по тогдашней моде - зарегистрирован. Но мальчики с детства были приучены гордиться “...нашим несчастным отцом, который попал под жернова”. Уже после войны Вере Федоровне пришлось заново оформлять метрики обоих сыновей, и она спросила, не хотят ли они носить ее фамилию, чтобы вычеркнуть из официальной жизни историю с отцом - “врагом народа”. И была рада услышать от обоих решительный отказ.
Старший сын Веры Пановой Борис Вахтин стал учёным-синологом, знатоком древнекитайской поэзии. В годы перестройки на родине вышли его нонконформистские книги, созданные под влиянием стилевых традиций Гоголя и китайской литературы.
Юрий Борисович Вахтин - биолог, доктор наук. Наталья Озернова-Старосельская - известная переводчица; внучка Веры Пановой Люба - археолог...
Вера Панова - то вместе с Александром Трифоновичем Твардовским, то в одиночку - не раз пыталась протестовать в высоких кабинетах против очередных глупостей и нелепостей. Она, например, решительно возвысила голос против намерения рассыпать набранную уже книгу Елены Ржевской “Была война”, куда вошли малоизвестные доселе эпизодыВторой мировой войны, включая опознание обгорелых трупов Гитлера и Евы Браун.
И всегда была непримирима к чванству - будь то чванство мнимой интеллигентностью, дворянством или модное в послереволюционные годы чванство происхождением (нередко - вымышленным!) из социальных низов...
Промах, причинивший боль всем, кто ее уважал, эта бесстрашная женщина допустила всего один раз: позволила привлечь себя к хору, клеймившему Бориса Пастернака... “Я отказывался верить своим ушам, - горестно констатировал литературовед Лев Левицкий, лично знавший Веру Панову и ее детей. - И был убежден, что она сама казнилась этим”. Ведь всего несколько лет назад Вера Федоровна восторженно знакомила того же Левицкого с новыми стихами Пастернака и Цветаевой, открыла ему Бориса Слуцкого...
***
Вера Панова, как мы уже знаем, в 30 лет осталась вдовой с тремя детьми на руках. В послевоенные годы она вновь вышла замуж. Избранником ее стал Давид Яковлевич Дар, писатель-фронтовик, живший после ранения в Перми. В литераторских кругах сразу же распространилась такая эпиграмма:
Хорошо быть Даром,
Получая даром -
Каждый год по новой -
Повести Пановой.
Д. Я. Дар писал фантастические и приключенческие повести для детей и больше известен как муж Веры Пановой... Хотя дружбу с ним водили и Анна Ахматова, и Михаил Зощенко, и Сергей Довлатов...
Сергей Довлатов, бывший какое-то время литературным секретарем писательницы и оставивший о ней яркие воспоминания, так вспоминал о Давиде Яковлевиче: “...О нем говорили - муж Веры Пановой. Или - отчим Бори Вахтина. Еще говорили - чудак, оригинал. Начинающим авторам деньги одалживает. Советскую власть открыто ругает... И вот он умер. Вздорный и нелепый, добрый и заносчивый, умный и прекрасный человек. Может быть, последний российский чудак”.
Давид Дар, в отличие от пасынка - статного красавца Бориса Вахтина, - выглядел почти карикатурно: маленький, круглый, всклокоченный, рыжий, морщинистый, со шкиперской трубкой в прокуренных зубах, пыхающий клубами дыма и непрерывно кашляющий... Ясно, что прельстил он Веру Федоровну отнюдь не внешностью, а своими добротой и талантом.
Скончался Давид Яковлевич в 1979 году в Израиле, куда эмигрировал в конце жизни, “общипанный” другими наследниками жены... Он до последнего дня вспоминал свою Веру и однажды, рассказывают, поведал как в чудовищные дни “борьбы с космополитизмом” сказал жене: “В такой стране, как Россия, на всех руководящих постах непременно должны стоять русские люди!” “Эх, ты! - отозвалась Вера Федоровна. - Такой стране, как Россия, на руководящих постах, прежде всего, нужны умные люди”.
Позиция Веры Пановой была неизменной - то же самое в дни когда, КПСС рвась в бой против “мирового сионизма”, она ответила Сергею Довлатову. И готова была повторить в любом месте в любое время.
«Наша улица», № 7 (68) июль 2005
|
|
НУ ЧТО ТЫ? ВСТАВАЙ |
Юрий Кувалдин

БЕЛЫЕ РОЗЫ
рассказ
Слегка покачиваясь, с головокружением она нащупала пульт и включила телевизор. На широком плазменном экране как всегда между ежедневными лицами премьера и президента шла такая же ежедневная развлекаловка, и что-то пели. И это сразу отвлекло. В белом шелковом облегающем домашнем до пола платье, худющая фигура, крашеные в какой-то неимоверный цвет, то ли в зеленый, то ли в лиловый, волосы, огромные бледно-зеленые, немножко выцветшие глаза, макияж, подтянутая кожа делают Зою гораздо моложе своих лет. Особенно когда она зимой, положим, надевает норковую шапочку с ленточками шелковыми белыми подвязками, из таких ленточек школьницы делают пышные банты, как белые розы…
Телевизор подхватил её ленточки, и оттуда жалобным детским голоском, как в советских фильмах, унижающих дореволюционную Россию, поют на грязной улице под шарманку дети нищих рабочих и крестьян, будущих победителей жизни, вознесшихся из грязи в князи, чтобы уничтожать белую кость - дворян и интеллигенцию, - так вот, из ящика, реставрирующего совок, понеслась, как двадцать лет назад, песня:
Белые розы, белые розы, беззащитны шипы…
Что с ними сделал снег и морозы,
Лёд витрин голубых?
Люди украсят вами свой праздник
Лишь на несколько дней,
И оставляют вас умирать на белом холодном окне…
Она притопнула радостно каблучками домашних серебряных туфелек. Да пышные банты, как белые розы, и тогда Зоя кажется стеклянно-фарфоровой, или хрустально-кукольной, новогодней, снегурочной с голоском: "Оле-Лукойе!" Девочка, выросшая на продуктах из распределителей и поправляющая здоровье в кремлёвке, действительно, кукольна и хрустальна. Какой чудесный, сказочный снег за окном.
Утром и пробуждение, и подъем были трудными, поскольку накануне она сильно увлеклась джином с тоником, и курила одну сигарету за другой, и говорила при этом, не останавливаясь, завораживая компанию своим радио-театральным голосом. И звенела, звенела, и пела что-то под гитару. Но как Зоя вернулась домой, убейте её, она вспомнить не могла. Она посмотрела на окно, задернутое голубой шелковой шторой, и определила, что на улице день пасмурный, потому что в солнечный день сквозь довольно-таки заметную щель в шторах падал яркий луч света. Массивные напольные часы пробили одиннадцать.
Пахло здесь разнообразно, дорого, как в правительственном лимузине, устланном коврами. В массивных хрустальных и фарфоровых вазах тут и там стояли роскошные букеты роз, в основном, белых, которые не просто любила, но обожала Зоя, с шипами и без шипов. В застекленном книжном шкафу из мореного дуба, с резными карнизами и стойками, плотными рядами стояли толстенные фотоальбомы в суперобложках, целлофанированных и в переплетах под кожу с золотым тиснением и с ляссе, или, проще, с ленточками-закладками, прикрепленными к корешкам головок блоков под капталами таким образом, что их концы выходили за пределы нижних краев блоков, проходя свободно между любыми двумя страницами.
На стульях высились скомканные подолы и рукава, трусы и колготки, помятые сорочки с кружевами и оборками, которые свешивались на паркет, по которому там и сям валялись пробки, окурки, бутылки, стаканы и рюмки... Из-под кровати выглядывала батарея не открытых еще бутылок коньяков и виски. Тут же у стены на полу высились длинные и плоские нераспечатанные блоки дорогих сигарет, а возле, конечно, стояла хрустальная вместительная пепельница с горою окурков.
Зою мутило, бросало из огня в полымя, из погреба на лёд, и при этом подрагивало всё её хрупкое, кукольное тело. Но это было такое близкое, такое нужное, такое томительно, такое знакомое, привычное, родное состояние, которое невольно предвещало счастливые минуты поправки. Без мрака падения не бывает света воспарения. К счастью, Зое даже вставать не пришлось с широкой кровати. Зоя принюхалась, ноздри ее расширились, и она почувствовала запах виски, который обожала и никогда бы и ни при каких обстоятельствах ни с каким другим спиртным ароматом не спутала. В самом деле, на полу рядом с не тронутой еще батареей стояла открытая бутылка виски, которую ее тонкие пальцы с острыми крашеными в зеленый цвет ногтями тут же нащупали. Долгая жизнь научила сначала Зою всегда оставлять выпивку на утро, а потом и запасаться целым арсеналом, чтобы проблем похмелки и вовсе никогда не возникала. Понимаете, никогда! Зоя даже от этого чувства причмокнула язычком, привстала, опершись на локоть, приятно скрипнула кровать, как будто котенок мяукнул, сначала нащупала, сладостно вздохнула, даже облегченно вздохнула, подняла бутылку и поднесла подрагивающее горлышко к губам, которые тут же почувствовали горькую резкую влагу, передав это ни с чем не сравнимое ощущение сразу же языку, потом гортани, а потом и пищевод обожгло и в желудке приветливо заждавшиеся зрители дружно закричали: "Браво!"
Тут она заметила окутанного тенью спящего в кресле Витьку Лемехова, усатого, черноволосого, круглолицего фотохудожника. Такими, как Лемехов, Зоя представляла себе казаков. Помнится, вчера еще в тусовке был близкий к дипломатическому корпусу Эдик Стужинский, обещавший спонсорскую помощь в двести тысяч зелёных на выставку в Манеже. Впрочем, волноваться на этот счёт не стоит, поскольку на вечеринке были и сами члены дипломатического корпуса из приличных стран, которые регулярно спонсировали творческую деятельность Зои. Кстати говоря, её покойный отец, выходец из костромской голодной деревни, в сороковых годах был послом в одной из скандинавских стран. Но, чтобы не раскрывать тайну своего возраста, Зоя никогда и никому, ни при каких обстоятельствах не рассказывала, что жила там с папой и училась в школе при посольстве.
- Витёк! - позвала хриплым, треснутым голосом Зоя, и закашлялась.
Пока она кашляла, Лемехов с невероятным усилием разлепил один глаз и что-то невнятное промычал, при этом сильно икая и шумно сопя.
- Иди ко мне, - после кашля сказала она. - Тут вот, - кивнула она на открытую бутылку, - тут вот…
Лемехов очень медленно и тяжело поднялся, качнулся и пластом упал с грохотом на ковер. Спустя некоторое время он ожил и медленно подполз к кровати и принял из рук Зои бутылку. Сразу же при этом лицо его оживилось, губы присосались к горлышку, сильно забулькало в горле, на лбу выступил горячий пот.
- Фу-у-у, - выдохнул Лемехов и вопросительно уставился на Зою.
С усилием, достойным труда проходчика шахты, стащив с себя брюки и потную рубашку, Лемехов отбросил одеяло, увидел мрамор тела с синими речками вен и островком кудрявой рощицы, и навалился тяжелым потным и волосатым брюхом на утонченную Зою. Но она даже веса его не почувствовала, так увлекло ее другое.
Спустя час, Лемехов помахал рукой Зое из своего цвета морской волны "шевроле-авео". Лемехов тоже любил ездить пьяным.
Зоя стояла с острым ножом с тяжелой серебряной ручкой над свежим лимоном, лежащим на фарфоровом блюде, и никак не могла разрезать пористую пронзительно желтую кожу.
Брызнул сок, обжег язык, и вдогонку ему рюмку виски. Так!
Мало того, что у Зои довольно большая квартира в старом двухэтажном особняке, так у нее еще имеется и своя мастерская, здесь же, в доме, под квартирой.
Частенько Зоя высматривает мужчин из окна своей машины, пока стоит в пробках и неторопливо оглядывается по сторонам. Зоя очень любит стоять в пробках. Ей машина и нужна для того, чтобы стоять в пробках. В руках у нее серебристый цифровой аппаратик. Это в мастерской она работает камерами с широкой пленкой. А здесь ей нужны зарисовки, даже этюды, или, что проще, некая приманка для объектов съемки. Иногда мужчины попадаются ей на улице. Тогда она старается, чтобы ее заметили.
Время от времени Зоя, смело припарковав свой миниатюрный желтый "ниссан" прямо где-нибудь на узком тротуаре, когда одно колесо, не поместившись на нем, свешивалось с бордюра, так вот, тогда Зоя ради нового знакомства с хищным взглядом пантеры прогуливается, ставя ступни след в след, как на подиуме, в центре Москвы. Заходит в какой-нибудь бар, чтобы подбросить дров в топку, то есть махнуть у стойки рюмку виски. И тогда опять весело, опять мир затягивается розовой вуалью. Хочется обниматься с каждым встречным мужчиной. И за рулем-то она всегда подшофе.
Когда наступает подходящий момент, она убыстряет шаг, почти вплотную приближается к мужчине и делает так, что он ее замечает. То ли толкнет едва, то ли перед ним резко остановится, а он наткнется на нее, и еще будет извиняться. А она перед ним в красных губах и в зеленых глазах.
Произносит она при этом всегда одни и те же слова:
- Мне нужно сделать ваш портрет.
Возникает пауза; мужчина чаще всего переспрашивает: "Что?" Она предлагает сфотографироваться. У нее в мастерской.
Мужчины после некоторого раздумья, а почему бы и нет? - почти всегда соглашаются. Зоя вполне равнодушна к белоснежно-зубастым физиономиям - не рекламу же отцов семейств, пьющих сок "Моя семья", она собирается монтировать в фотошопе. Кроме того, молодые люди, с какими-то звонко-белыми, будто пластмассовыми, зубами, и лицами, напоминающими былинных героев, любующиеся собственной неотразимостью, кажутся ей абсолютно пустыми, даже тупыми. Правда, кто-то сказал, что актеры и должны быть тупыми, чтобы, как солдаты, беспрекословно выполнять любое приказание командира-режиссера.
Зою в этом отношении интересует нечто совсем другое - то, что скрывается за человеческой внешностью, и она с нескрываемой пристальностью смотрит вглубь. Так ей, во всяком случае, кажется самой, иначе бы она не напрягалась. Она выбирает мужчин, по чьему виду легко заподозрить, будто с ними что-то случилось и это им не очень по нраву, мужчин, на которых словно бы что-то давит, которых жизнь уже слегка пообломала, обтрепала и хорошенько побила. Немного выступающая вперед нижняя челюсть, слишком крупный или длинный нос, глаза разной величины, вообще асимметрия и уравновешивающая ее внутренняя сила - вот свойства, привлекающие Зою.
Мужчины, наделенные ими, полагает она, наверняка не страдают так распространившейся в последнее время театральной самовлюбленностью, ставшей просто каким-то бичом, ибо какой канал не включишь, везде эти театральные красавцы что-то там изрекают с экрана, причем неважно что, лишь бы воду молоть в ступе. Напротив, они отлично знают, что внешность - не самая сильная их сторона и производить впечатление надо чем-то иным. Однако тот простой факт, что известная, экстравагантная фотохудожница делает их портрет, заставляет этих мужчин снова вспомнить про собственную неказистую наружность, далекую от совершенства плоть.
За тем, как Зоя работает, они наблюдают озадаченно, недоверчиво, но одновременно ощущая свою уязвимость и странным образом вверяя себя ей. Какая-то их часть уже принадлежит Зое.
Залучив мужчин к себе в мастерскую, она держится с ними в высшей степени тактично. Она усаживает их в огромное черное кожаное кресло, поставленное возле широкого окна, и поворачивает так, чтобы свет падал прямо на грудь. Она приносит чашечку чая или кофе, чтобы они почувствовали себя непринужденнее, и говорит, как признательна им за то, что они согласились фотографироваться.
Благодарность Зои непритворна: в каком-то смысле она ведь намерена покуситься на их душу - ну, не на всю душу, разумеется; однако даже крохотный кусочек не так легко заполучить. Иногда она включает музыку - что-нибудь из классики, не слишком шумное.
В определенный момент они уже достаточно расслабляются, и она просит их раздеться до пояса. Ключицы, с ее точки зрения, необычайно выразительны; пожалуй, даже не столько сами ключицы, сколько глубокая ямка под кадыком. Там находится, как у курицы, косточка-вилочка, которая приносит счастье, но для этого косточку полагается сломать. Биение пульса здесь не совсем такое, как в запястье или на виске. Чем-то оно отличается. Это то самое место, куда в исторических фильмах из средневековой жизни вонзается пущенная меткой рукой стрела.
Закончив приготовления, расставив предметы, идущие в кадр, по местам, Зоя приступает к работе. Теперь она дорожит каждой секундой и снимает очень быстро. Это ради самих же мужчин: она не любит растягивать сеанс. Еще во ВГИКе они все позировали друг другу, и с тех пор она хорошо помнит, какая это мука - сидеть под нацеленной линзой объектива.
От довольно-таки громкого щелканья затвора аппарата встают дыбом маленькие волоски на коже, словно фотоаппарат - вовсе не фотоаппарат, а чья-то рука, которой проводят вдоль тела в сантиметре от поверхности, как будто делают вращательный массаж без прикосновения.
Неудивительно, что некоторые мужчины связывают это ощущение - вполне возможно, эротическое - с самой Зоей и приглашают ее поужинать или даже уговаривают переспать с ними.
Тут Зоя становится привередливой. Она интересуется, женат ли мужчина, и если тот отвечает, что женат, спрашивает, счастлив ли он в браке. У нее нет потребности связываться с неудачливыми мужьями, с их проблемами, особенно с болезнями, ибо её не увлекает перспектива дышать воздухом чужой беды. Но коль скоро брак счастливый, зачем ему приспичило ложиться в постель с другой, пусть и такой оригинальной женщиной? Если же мужчина холост, то, полагает Зоя, тут тоже есть какая-то серьезная причина. В большинстве случаев она отказывается от предложений, но делает это деликатно, не переставая улыбаться.
Она скептически относится к торжественным уверениям в любви, страсти и "никогда" не умирающей дружбе, похвалам ее красоте и таланту, мольбам, жалобному нытью и пустым угрозам - все это ей уже доводилось слышать. Подействовать на Зою способен только самый бесхитростный довод. "Да потому, что мне хочется!.." - вот приблизительно то, что она могла бы принять.
Дом Зои расположен в падающем круто вниз переулке, идущем от одной церкви к другой, словно Москва вернулась в девятнадцатый век, когда можно гулять от церкви к церкви, где всегда открыто, всегда величественно золотится иконостас, горят свечи, звучат голоса молящихся.
Тем не менее, Зоя, как правило, хорошо относится к мужчинам, которых любила, и полагает, что чем-то им обязана. Она продолжает встречаться с ними и потом. Это нетрудно, ведь их расставания не приносят печали, уже не приносят.
Зоя сидит против бывшего возлюбленного в маленьком ресторанчике, сидит, одной рукой сжав под столом скатерть - так, чтобы он не видел.
Она слушает его с обычным интересом, наклонив голову. Она сильно скучает по нему - вернее, не по нему, а по тем чувствам, которые он умел в ней пробуждать. Он больше не кажется ей сгустком света, сейчас она видит его ясно, как никогда. Эта ясность, эта ее холодная отстраненность подчас невыносимы для нее самой, и не из-за того, что в нем проступило что-то отвратительное, отталкивающее. Просто он, по всей вероятности, вернулся к своему нормальному уровню: все, что в нем есть удивительного и сложного, внятно ей, но у нее с этим не может быть ничего общего. Он довольно-таки неохотно заканчивает свой рассказ. Что-то о перепадах в экономике, и в этом духе. По всему видно, что он мог бы говорить без остановки три года, такой он болтливый. Зоя делает врезку о своей предстоящей выставке "Мужчина и стиль". С самого начала идея эта имела довольно узкую направленность, о чем говорит и ее название. Хотя понятие стиля гораздо шире… Тут она долго, не моргая, смотрит на него в упор своими огромными, чуть навыкате зелеными глазами, улыбается, показывая свои ровные новые, с отблесками красной помады зубы.
- Если у тебя проблемы с женой… - Зоя делает значительную паузу, и после с придыханием бархатно добавляет: - Надо кончать с подругами.
Вместо того чтобы рассмеяться, он улыбается ей с мягкой грустью:
- Понять не могу, как тебе всё легко на свете.
Зоя молчит. Возможно, он намекает на то, что, когда они расходились, она не изводила его истерическими телефонными звонками, не было ни разбитой посуды, ни яростных обвинений, ни слез. Все эти приемы она уже освоила в прошлом и пришла к выводу, что толку от них мало. Но, может, именно этого он ждал - как неопровержимых доказательств чего-то, вероятно, любви. Может, он разочарован: она совсем не оправдала его ожиданий.
- Меня многое волнует, - говорит Зоя.
- У тебя столько энергии, - продолжает он, словно не расслышав того, что она сказала. - Откуда? Открой секрет.
Зоя опускает глаза в тарелку. Коснуться его руки, лежащей на скатерти совсем рядом с ее бокалом, значило бы снова поставить себя под удар, а она уже и так рискует. Когда-то она с упоением шла на риск, но именно тогда она слишком многое делала, не зная меры. Зоя поднимает глаза и улыбается.
- Секрет мой вот в чем: каждое утро я встаю, чтобы сделать портрет нового мужчины.
Это действительно ее секрет, хотя и не единственный, но именно он выставлен сегодня на обозрение. Зоя внимательно изучает лицо собеседника: поверил или нет? Кажется, поверил. Что ж, это естественно: именно такой она ему и представляется. Он доволен, что у Зои все в порядке и обойдется без неприятностей. Собственно, это он и хотел услышать. Он заказывает еще чашку кофе и просит принести счет. Когда счет приносят, и счет для ресторана в Большом Козихинском переулке приличный, Зоя не дает ему платить, и рассчитывается сама.
Они выходят на улицу. Март в этом году теплее обычного; этот факт оба тут же отмечают. Зоя уклоняется от дружеского рукопожатия. Она подходит к своему желтому, как цыпленок, "ниссану". Ей вдруг приходит в голову, что перед ней последний мужчина, на любовь к которому у нее хватило сил. Любить - это такой тяжкий труд!
- Тебя подбросить? - спрашивает она.
- Нет. Спасибо. Я рядом, пешком. Меня Фима ждет в своей фирме на Малой Никитской.
Он машет ей на прощанье рукой, разворачивается и очень деловым шагом удаляется. Зоя несколько мгновений смотрит ему в спину. Начинает падать медленный снег.
Но прежде чем ехать, она замечает мужчину, который стоит и курит. Он молод, лет, примерно, тридцати. У него в руке коричневый портфель. Куртка у парня тоже из коричневой кожи, он в джинсах, а рубашка оранжевая в черную тонкую полоску. Прическа сделана под гребешок петуха - последний писк моды. В ухе серебрится серьга. Кожаный портфель означает, что парень - из художественной среды, имеет какое-то отношение к искусству.
Снег делает своё поэтическое дело, то есть просто идет. Снег идёт…
Прежде Зоя избегала мужчин, даже слегка напоминавших ей коллег, но в этом было что-то очень уж необычное, если не сказать странное. Угрюмость, нарочитая агрессивность и к тому же болезненная одутловатость, вообще явное нездоровье, наводящее на мысль о проросшей в подвале картошке.
Бросив на молодого человека первый беглый взгляд, Зоя содрогнулась, как от удара: она словно мгновенно узнала то, что искала давным-давно, сама не зная почему. Она без всяких церемоний подошла к нему, и произнесла свою короткую всегдашнюю речь. Она ожидала отказа, более того - неучтивости, но вот он здесь, в ее мастерской, на нем сейчас ничего нет, кроме его расстегнутой оранжевой в черную полоску рубашки. Одна бескровная нога перекинута через широкий подлокотник черного кожаного кресла. В руке - белая роза, которая великолепно гармонирует и с рубашкой, и с креслом, и с его прической. Те тоже превосходно совпадают друг с другом. Словно этот молодой человек только что сошел с огромной, ярко освещенной софитами сцены, где пел "Белые розы".
В его взгляде, сосредоточенном на Зое, - неприкрытый вызов. Вызов чему? И вообще, по какой причине он согласился пойти с ней? Сказал он только: "Готов. Отчего бы нет..." И поглядел на нее так, что ей стало ясно: ни малейшего впечатления она на него не произвела. Зоя откатывает огромный штатив, на никелированной штанге которого закреплен с мощным объективом "никон". Она отчетливо понимает, что надо неимоверно спешить, иначе у молодого человека обязательно кончится терпение, и он сбежит.
Она едва успевает сделать пять кадров, когда он вдруг бросает: "Хватит!", вылезает из глубокого кресла и подходит к ней сзади. Потом обхватывает обеими руками ее талию и прижимается к ней.
Он не произносит ни звука, но Зою это не смущает, ей нравится, когда все происходит быстро. Вот только с ним она чувствует себя как-то неловко. Ни один из ее безотказно расслабляющих приемов - виски, кофе, музыка, благодарственные фразы - не возымел действия: молодой человек по-прежнему угрюм и отчужден. Он недоступен ее пониманию.
- Да, это искусство, - говорит он, рассматривая огромные цветные и тоновые фотографии обнаженных и чуть прикрытых мужчин по стенам. Зоя принимает сначала его слова за комплимент, но он добавляет: - Фотография, пусть даже художественная, ремесло, подделка под искусство… - Последнее слово произносится со злобным свистом: ис-с-с-с-ку-сс-сс-сс-тво!
Зое слышится слово "весло". Девушка с веслом. Это она, Зоя, и есть девушка с веслом, обыкновенная ремесленница, выдающая себя за художницу. А что собственно она хочет? Она же только и умеет, что нажимать на спуск фотоаппарата. Он сам автоматически запоминает кадр на пленке. Этот рулончик пленки она отдает Витьке Лемехову, а тот содержит целую фирму, маленькую фабрику, которая делает все остальное, а на самом деле самое главное - печатает огромные фотографии, подбирает цвета, ослабляет или усиливает их, иными словами, вносит художественность в механистический перенос жизни на бумагу. Потом фотографии помещаются в роскошные рамы, под стекло и приобретают выставочный, или даже товарный вид. А за всем этим огромные деньги, счета в банках, пластиковые карты, недвижимость, бизнес, спонсоры, целая разветвленная индустрия так называемого "искусства фотографии".
На открытии выставки в огромном зале с мраморным полом снуют официанты в белых сорочках с черными бабочками с подносами, на которых стоят рядами бокалы с шампанским. Широкоплечие парни в черных костюмах с черными кнопками в ушах - наушниками, делают вид, что рассматривают экспозицию. На самом деле - это охранники кремлёвских ценителей художественной фотографии. В зале много бизнесменов, чиновников самого высокого ранга, дипломатов, спортсменов… Нет только тех, кто действительно занимается искусством и не околачивается по тусовкам. А потом Витька Лемехов удивляет всех выстроенными в шеренги и бесконечные ряды рюмками с виски.
- Здесь двести рюмок, я считал, - поправляя усы, с нескрываемым восторгом, подмигивая, шепчет он Зое.
Это было когда? После Нового года. Всегда близкий к дипломатическому корпусу Эдик Стужинский, всем своим поджарым видом похожий на арабского скакуна, показывал свою новую жену, француженку, модель, которая была на голову выше самого Стужинского, а рыжие чуть вьющиеся волосы ее водопадом спадали до самых ягодиц.
А теперь Зоя услышала от молодого человека:
- Фотография, пусть даже художественная, ремесло, подделка под искусство...
У Зои мгновенно перехватывает дыхание: в его голосе слышится такая жгучая ненависть. Быть может, если Зоя будет просто стоять и молчать, ничего не случится? В качестве любовника, однако, молодой человек медлителен, задумчив, даже отрешен и действует почти как сомнамбула. Его вяловатые движения в определенный момент кажутся Зое всего лишь запоздалой реакцией на что-то, словно у собаки, ворчащей во сне. Быть может, и в самом деле главное в жизни - искусство, думает Зоя, поднимая с пола белое платье, медленно надевая и приглаживая его на впалом животе и тощих бедрах. "Мадам смерть гремит костями!" - как частенько смеётся Витька Лемехов. Интересно, сколько уже раз в жизни она повторяет этот жест - вот так поднимает с пола платье?
Молодой человек уходит. Зоя запирает за ним дверь, медленно проходит через зал, берет бутылку виски и делает несколько жадных глотков. В голове всё так ласково, тихо, приятно закружилось. Она подошла к окну, отдернула занавеску и картинно оперлась растопыренной пятернёй из острых зеленых ногтей на широкий белый подоконник. И вдруг что-то резко ударило ей в висок, в глазах вспыхнула ослепительная молния. Зоя медленно склонилась на подоконник, как белый лебедь, распластав на нем крылья. Много снега в Москве. А в телевизоре еще раз, как во времена перестройки, бывший детдомовец повёл жалобным, несчастным голоском припев:
Белые розы, белые розы, беззащитны шипы…
Что с ними сделал снег и морозы,
Лёд витрин голубых?
Люди украсят вами свой праздник
Лишь на несколько дней,
И оставляют вас умирать на белом холодном окне…
"НАША УЛИЦА" №113 (4) апрель 2009
|
|
ВСЁ ПРОХОДИТ. ВСЁ ПРОЙДЕТ. КРОМЕ СЛОВА |
“Новый век” в галерее “Кентавр” (май 2003) + скульптор Д.Тугаринов
В ИСКУССТВЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ТАЙНА
Совместная выставка "Новый век"
скульптора Дмитрия Тугаринова и художника Александра Трифонова
в галерее "Кентавр"
Название выставки "Новый век" взято из стихотворения Максимилиана Волошина "Дом Поэта" (1926):
Пойми простой урок моей земли:
Как Греция и Генуя прошли,
Так минет все - Европа и Россия.
Гражданских смут горючая стихия
Развеется... Расставит новый век
В житейских заводях иные мрежи...
Ветшают дни, проходит человек.
Но небо и земля — извечно те же…
Дмитрию Тугаринову было поручено выполнение двух фигур для Храма Христа Спасителя - равноапостольного императора Константина Великого и его матери Елены. А к 200-летию перехода через Альпы Суворовым скульптор поставил памятник на перевале Сен-Готард. Инициативу проявил меценат русской культуры из княжества Лихтенштейн барон Эдуард Фальц-Фейн, с которым Тугаринов подружился. Замечательный отзыв о работе Тугаринова дали скульпторы-академики Юрий Орехов и Зураб Церетели. В Швейцарию Тугаринова пригласила коммуна Сен-Готарда. Он поехал туда за свой счет, взялся создать памятник сам, без всякой оплаты, работая прямо в горах, на месте легендарного перехода. Тугаринову сказали, что ничего милитаристского делать нельзя: пропаганда войны у них запрещена. А Тугаринов сначала предложил им батальную сцену: солдаты друг в друга стреляют. Ну, а потом пришлось ограничиться одним Суворовым с проводником Антонием Гамбой. Прежде чем приступить к работе, Тугаринов практически все о Суворове прочитал. Существует множество прижизненных портретов Суворова, но 200 лет назад подхалимов было не меньше, чем сейчас. Смотришь каррарский мрамор, портрет с натуры. Он там такой мордатенький и довольный. А Суворов родился семимесячным, больным. И ему было 70 лет, когда он отправился в Швейцарию. У него была лихорадка, он заболел. Это была его лебединая песня. Суворов - русский несокрушимый дух. Тугаринов делал его лицо с посмертной маски. И клячонку специально взял. Чтобы все видели - русское не только в непомерной физической силе, но и в смекалке, в интеллекте, в гениальности. При этом, орудийные конкретизации Тугаринова, с одной стороны, оригинальнее, неожиданнее, чем «обычные» приемы фотографии-реализма, - поскольку установление иконического подобия между предметными темами и соответствующими единицами кода означает трудную и потому эффектную находку. С другой стороны, они проглатываются ценителем изобразительного искусства более незаметно, подсознательно, как нечто само собой разумеющееся, поскольку - по инерции практического языка - их связь с темой не воспринимается сколько-нибудь эксплицитно ввиду их заведомой формальности, «бессодержательности». Тугаринов без шутки, без юмора не обходится. Вообще, он веселый человек. Есть у него пушка бронзовая. Настоящая. Фитиль вставляете и стреляете. Раздается оглушительный залп. Тугаринов грузит пушку в машину и везет, допустим, на открытие выставки под открытым небом в Парке искусств. Как выстрелит, так публика вся замирает сначала от испуга, а потом вопит от восторга. Но сначала - чтобы дух захватывало! Тугаринов любит и одеваться с чудинкой по таким случаям, как вернисаж или еще каким важным событиям. Так это наденет фрак с бабочкой и... сапоги…
У художника Александра Трифонова более трехсот картин. Отречение от забав юности во имя живописи уже принесло Трифонову свои плоды. Ровесники удивляются, что Александр проводит свои персональные выставки. Тем более что хвалили его такие люди, как Юрий Нагибин, Фазиль Искандер, Станислав Рассадин, Лев Аннинский, Виктор Боков, Татьяна Бек, Булат Окуджава... Александр Трифонов родился в 1975 году в Москве. Живописью занимается с 1988 года, после победы в конкурсе “Рисунки на асфальте”. Художник МХАТ им. А. П. Чехова и журналов “Наша улица” и “Архидом”. Он оформил несколько десятков книг. У него было много выставок: в 1996 году - “Фигуративный экспрессионизм” в Ахматовском культурном центре (Москва); “Молодая Россия” в Москве и Нью-Йорке (1997); “Антисоветская выставка, посвященная 80-летию Великого Октября” в Московском Доме скульптора (1997); аукцион DROUOT-RICHELIEU в Париже (1997), “Современная Россия” Джерси-Сити, США (1998); “Современный русский авангард 1958-1998” в Нижегородском государственном выставочном комплексе (1998); “Конец идеологий” в галерее “На Каширке” (1999); “Любовь к бутылке” в галерее А-3 (2000); “Наша улица” в галерее “На Каширке” (2001); “Ботлфлай” в галерее А-3 (2002).
И вот теперь проходит выставка совместно с выдающимся скульптором Дмитрием Тугариновым в галерее "Кентавр", которой руководит Ирина Грушевая. В наши дни интенсивно осуществляется культурный обмен между разными странами. Ирина Викторовна Грушевая после показа работ Тугаринова и Трифонова в России представит затем их на суд публики в США. Ирина Грушевая президент компании «RussianArtsSociety, Inc.» (Вашингтон, США). "RussianArtsSociety, Inc» представляет в США три профессиональные творческие ассоциации/организации из России: Московский Союз Музыкантов (МСМ); Союз Театральных Деятелей России (СТДР), отдел музыкальных театров; Творческий Союз Художников России, Международную Федерацию художников. Под руководством Грушевой были реализованы следующие проекты: Гастроли Детского Камерного Оркестра «Гнесинские Виртуозы» Академии Музыки Имени Гнесиных под руководством Михаила Хохлова в США с финальным концертом в Посольстве Российской Федерации в Вашингтоне, в ноябре 1997 года. Выставка монументальных скульптурных проектов «Мужество Истины» известного художника России Михаила Шемякина, под патронажем Ю. В. Ушакова, посла Российской Федерации в США, в феврале 2000 года. Участие в закладке первого камня в пьедестал монумента «Петр Великий» в Лондоне, Англия, под высоким патронажем принца Майкла Кентского, май 2000 года. Эпилог Нью-Йоркского кинофестиваля Российского кино в Вашингтоне и Вирджинии, ноябрь 2000 года. Демонстрация кинофильма «Дневник его жены» режиссера А. Учителя в Библиотеке Конгресса США, Вашингтон, февраль 2001 года…
На белом облаке возносится миф. Это такого “Христа” сделал Тугаринов несколько лет назад из белого камня и бронзы. Он установлен на Крымском валу в Парке искусств. Почему миф так долго живет и постоянно находит своих поклонников? Да потому что он тёмен. В нем - тайна. Заслуженный художник России, член-корреспондент Академии художеств России московский скульптор Дмитрий Тугаринов родился в 1955 году в Москве. Обладатель премии Московского комсомола. Принимает участие в выставках с 1975 года. Получил первую премию на международном конкурсе портрета в Праге в 1985 году. В 1996 вручена Золотая медаль Академии художеств. Работы Дмитрия Никитовича Тугаринова находятся в Третьяковской галерее, галерее “Арт Модерн” в Москве, в музее А. С. Пушкина, в Русском музее, в частных коллекциях в России, Италии и Германии. Автор памятника А. В. Суворову на перевале Сен-Готард в Швейцарии…
Александр Трифонов проходил армейскую службу в качестве художника Театра Российской Армии. Картины Александра Трифонова воспроизведены на книгах Кирилла Ковальджи, Эдуарда Клыгуля, Нины Красновой, Валерия Поздеева, Анатолия Капустина, только что выпущенных издательством "Книжный сад". Трифонов любит рисовать бутылки. Великое множество бутылок - полных и пустых, зеленоватых, прозрачных, блекло-серых. Его работы принимали участие и в зарубежных экспозициях и в аукционах современной русской живописи в Нью-Йорке и Париже. А в Москве запомнились его выставки “Любовь к бутылке” и “Конец идеологий”. В живописи художника Александра Трифонова слышится новое дыхание жизни. Получается парадокс: дополнительная условность изобразительной конкретизации Трифонова состоит в замене условной связи между означающим и означаемым на безусловную. А большая безусловность предметного выражения, наоборот, объясняется условностью языка. Впрочем, этот парадокс, по-видимому, является одним из конституирующих свойств авангардного кода. Именно в России, на “нашей улице”, появился в начале XX века знаменитый авангард, повлиявший на развитие всего мирового искусства. Конечно, Александр Трифонов авангардист, и художественная акция “Новый век” в его понимании - это обновление русской живописи и - шире - русского искусства. Как в свое время Кузьма Петров-Водкин заговорил языком улицы, обновив язык Павла Федотова и Ильи Репина, как Василий Кандинский смешал художественные языки до абстрактного уличного крика, как Казимир Малевич на всем поставил “Черный квадрат”, так и Александр Трифонов заговорил простым, внятным языком нашей улицы, на котором люди привыкли общаться на кухне и в пивной, на стадионе и в гастрономе. Александр Трифонов стремится к выражению высшей, абсолютной реальности в простых формах, которые существуют в реальном мире. Живопись Александра Трифонова наряду со скульптурой Дмитрия Тугаринова являются ярким вкладом в русский авангард. Здесь в заостренной форме проявляется один из основных принципов искусства - отказ от прямого показа реальности, ведущий к их воплощению в более осязаемом, но и более далеком, сопротивляющемся материале. Привычная фабульная условность состоит в проекции идей на ситуации предметной сферы. Интересующая нас художественная условность (и безусловность!) - это выражение идей через еще менее поддающийся материал вымысла Дмитрия Тугаринова и Александра Трифонова.
Юрий Кувалдин
|
|
не терять веры в конечное торжество добра |
Виктор Широков
СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ - ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ ОРДЕНА ЛЮБВИ
эссе
"Любить - это не значит смотреть друг на друга, это значит вместе смотреть в одном направлении", - написал Антуан де Сент-Экзюпери в книге "Земля людей", удостоенной 25 мая 1939 года "Большой премии романа” Французской академии. Данное высказывание вполне можно поставить эпиграфом к самому главному произведению писателя - его жизни.
Однажды Сент-Экса (дружеское прозвище) спросили, что для него важнее: летать или писать. Он ответил: "Не понимаю, как можно разделять, а тем более противопоставлять одно другому. Для меня летать и писать – одно и то же. Главное - действовать, главное найти самого себя. Авиатор и писатель сливаются воедино: оба в равной мере осознают мир". Любопытно, что слово "летать", на мой взгляд, вполне можно заменить словом "любить". Сент-Экзюпери, несмотря на мятущийся характер, экзальтацию чувств и способность к неожиданным поступкам, был очень цельным человеком, открытым нараспашку красоте окружающего мира.
Хорошо помню удивительное впечатление от только что прочитанных залпом его "Сочинений", изданных в нашей стране в 1964 году. Кстати за год до того, в популярной серии "ЖЗЛ" вышла его биография, написанная Марселем Пижо. Что ж, прошло уже тридцать пять лет с того момента, изданы трех- и четырехтомные собрания сочинений французского классика, а его сказка о Маленьком принце стала хрестоматийным чтением для нескольких поколений, но еще настойчивей желание не только узнать доскональнее причину исчезновения (гибели?) военного летчика Сент-Экзюпери, но и постигнуть рыцарское отношение Сент-Экса к своим подругам, к Женщине.
Красота мира, чистота красок восхода и заката, удивительное жизнелюбие, целеустремленность человеческих характеров открываются словно впервые, именно в момент возникновения, в процессе сотворчества, когда раскрываешь его книги. В них нет упоения риторикой, пустопорожних сетований на несовершенство человеческой натуры. В них – радость от простого и каждодневного чуда улыбки, радость открытия новых бесконечных и новых великолепных качеств в окружающих писателя людях. Всегда - ищут ли они над Сахарой пропавшего без вести друга, ведут ли через Кордильеры аэроплан, рисуют ли барашка для маленького гостя с другой планеты.
Рассказы о пережитом, увиденном и передуманном звучат, прежде всего, приглашением задуматься вместе над проблемами века, проблемами бытия. Но Сент-Экс рассказчик, Сент-Экс лирический герой собственной прозы не только мужествен, целомудрен, он преклоняется перед вечной Женственностью, напоминая в своем рыцарском преклонении отчасти нашего Александра Блока с его стихами о Прекрасной Даме.
Двадцатилетним юношей Антуан, неожиданно не пройдя по конкурсу в Военно-Морское училище и поступив вначале на архитектурное отделение Академии художеств, вдруг резко меняет судьбу, отказывается от отсрочки и, записавшись во 2-й полк истребительной авиации в Страсбурге, сдает позже экзамен на гражданского летчика, а, когда его переводят в Марокко, получает и права военного летчика. Демобилизованный после авиационной катастрофы и серьезных телесных повреждений через два года, он работает торговым агентом фирмы, выпускающей грузовые и специальные автомобили (итог был скромен: за год продал один автомобиль), а в 1926 году публикует небольшую новеллу "Летчик". Через год он уже пишет первое крупное произведение "Южный почтовый", еще через три - "Ночной полет” и тогда же встречает при весьма загадочных романтических обстоятельствах будущую свою жену Консуэло.
Ему, ровеснику века, тогда было ровно тридцать лет (кстати, третий ребенок графа Жана де Сент-Экзюпери и Мари де Фонсколомб Антуан Мари де Сент-Экзюпери родился 22 июня 1900 года, а предок по отцу носил имя тождественное одному из рыцарей святого Грааля).
О первых влюбленностях летчика и писателя, об его отношениях с женщинами вообще мало что известно. Сам Антуан не посчитал нужным рассказать ни о первой, ни о второй своей любви. Да, конечно, он открыто встречался с молодой аристократкой Луизой де Вильморен. Они даже были помолвлены, но когда произошла авиационная катастрофа, родня невесты потребовала от Сент-Экса полного отказа от опасной профессии.
При выборе: или - или, Антуан выбрал совершенно третий путь - он отказался и от девушки, – и на время - от карьеры военного летчика. Гораздо позднее в "Земле людей" он проговорится: “Люди, долгое время жившие большой любовью, а затем лишенные ее, подчас устают от благородного одиночества. Они смиренно возвращаются к жизни и находят счастье в будничном чувстве. Они находят усладу в самоотречении, в заботах, в покое домашнего очага".
Мечты, мечты! Все время Сент-Экса поддерживает мать, он откровенно делится с ней своими раздумьями и чувствами в интенсивной переписке. Так он признается: "Мама, то, что я требую от женщины, это успокоить мою внутреннюю тревогу. Вот поэтому женщина так и необходима мне. Вы не можете себе представить, как тягостно одному, как чувствуешь свою молодость никчемной. Вам не понять, что дает женщина, и что она может дать". И дальше: “И вот я боюсь жениться. В браке все зависит от женщины. И все же толпа, в которой прогуливаешься, полна обещаниями, но она безлика. А женщина, которая мне необходима, как бы составлена из двадцати женщин. Я слишком много требую - это меня раздавит..."
Сент-Эксу с женщинами одновременно и везло, и не везло. Его писательские успехи, романтический ореол "человека-птицы", его родовитость, наконец, как огонь в ночи привлекали легкомысленных бабочек, но, увы, не тех, кто был бы ему ровней и кого он так надеялся встретить.
Со своей будущей женой Консуэло Супцин, в то время уже вдовой испанского журналиста Гомеса Каррильо, он познакомился где-то в Буэнос-Айресе. Как раз в то время на гастроли в Бразилию приехала его давняя знакомая Рене де Соссин вместе с небезызвестной Луизой де Вильморен, старой и сильной привязанностью Антуана, к которой он постоянно тянулся исстрадавшимся сердцем, но они даже не удосужились встретиться с ним. Оскорбленное самолюбие жаждало сатисфакции. Кто кроме новой женщины может ее дать!
Существует немало легенд по поводу первой встречи Антуана и Консуэло: то будто бы он увлекся красивой докладчицей, случайно попав на её доклад о вреде брака в студенческой аудитории; то будто бы он оказался с ней один на один в кабине пилота и, когда во время полета забарахлил мотор, был вынужден прибегнуть к поцелуям, дабы заглушить страх очаровательной пассажирки; возможно, наиболее близка к истине версия, что, выходя из ресторана в Буэнос-Айресе, он попал в случайную перестрелку между двумя враждующими политическими группировками и на самой середине, в центре - на линии огня - увидел прекрасную незнакомку, совершенно безразличную к свисту пуль, мгновенно влюбился в нее, и именно она стала графиней де Сент-Экзюпери.
Правдиво только то, что через несколько месяцев после первой встречи с прелестной латииоамериканкой Антуан забыл обо всем на свете, даже о матери, и 12 апреля 1931 года состоялось бракосочетание в часовне д'Агэ, а 22 апреля - еще одно - в мэрии Ниццы.
Первый муж Консуэло был известным аргентинским журналистом, военным корреспондентом во Франции во время Первой мировой войны, он очень любил и чрезвычайно баловал свою ненаглядную супругу, но прожил, к сожалению чрезвычайно мало, умерев от перенесенных на фронте тягот.
Консуэло была невелика ростом, жгучая брюнетка (вообще-то Антуана всегда привлекали высокие стройные блондинки). Она утверждала, что ей девятнадцать лет, хотя было уже все двадцать восемь. На ее смуглом лице жили особой лучезарной жизнью ее огромные глаза. Кстати, хочется (с большими купюрами по недостатку места) привести рассказ дочери русского писателя А.И. Куприна, актрисы К.А. Куприной. ("Мне было тогда лет девятнадцать, а ей ненамного больше: лет так двадцать пять... Она была очень маленькой, очень грациозной... С прелестными руками, изящными движениями, как это бывает у этих латиноамериканцев. Какой-то есть танец в их теле, в их руках... Громадные, как звезды, черные глаза, очень выразительные, очень блестящие... Прелестные глаза у нее были. Мы проводили у нее приятные вечера, и разговоры были интересные. У нее в доме царила очень симпатичная атмосфера, но совершенно сумасшедшая... Она была очень сумасбродна, взбалмошная бабенка... Надо сказать, к ней приходило очень много народу, видные, интересные люди: писатели, журналисты, адвокаты, артисты... Они расстилали на полу газеты, приносили дешевое красное вино, бутерброды с сыром и колбасой - и вечера проходили очень интересно и содержательно... Она была очень начитанна... очень... И обладала большой памятью. Потом она начала изучать персидский язык, для того чтобы читать и переводить с подлинников... персидских поэтов... Обаятельное существо! И именно ее фантазия... Веселая, остроумная. Невероятно остроумная!.. И опять же огромная фантазия... Вы никогда не знали, когда она врет, когда говорит правду... Прелестнейшее существо! С ней можно было сидеть хоть ночь напролет, разговаривать. День у нее смешивался с ночью. Не было больше никаких устоев, никаких правил, ничего. В домашнем укладе - полнейшая богема. Полнейшая! И такая странная атмосфера в доме. Вдруг какие-то двери сами раскрывались ночью... Там царила настоящая мистика... Ходили слухи, что она наркоманка... И она тогда очень нуждалась. Один момент она пошла даже продавать духи…")
О встрече с Сент-Экзюпери (в передаче К. А. Куприной) сама Консуэло рассказывала полнейшую фантастику. Их любовь вообще-то началась с крупной ссоры. Они расстались (Куприна пишет: “Я приехала. Консуэло была похожа на маленькую обезьянку: глаза потухли, носик покраснел, личико сделалось как кулачок и стало серым, а сама она была вся в черном... вся в слезах"). Говорила, будто бы на ее глазах застрелили возлюбленного, человека, который до того спас ее от гибели; она постоянно пребывала в истерике, хотела даже покончить самоубийством (Куприна возилась с ней безотлучно трое суток. И вдруг узнала, что на самом деле этот человек, её большая любовь, и не погибал, он прислал телеграмму и, наконец, вновь приехал. Позже была свадьба. Сент-Экс нашей соотечественнице вообще-то не показался. ("Пришел Сент-Экзюпери - такой больной, неуклюжий в этой обстановке... Он как-то заполнил всю квартирку. При этом она мне говорила, что он замечательный красавец. А я нашла его совсем некрасивым, вырубленным топором... И очень широко расставленные глаза... длинные-длинные. Но очень подвижные черты, и такая обаятельная, застенчивая, какая-то детская улыбка... Я их еще видела в разгар их любви. В полном согласии, веселых, счастливых. Мне казалось, что Консуэло внесла в его жизнь какую-то поэзию, фантазию, легкость. Но в большой дозе она была утомительная... Понимаете, с ней все было вверх тормашками... У Сент-Экзюпери, должно быть, тоже возникала необходимость где-то отдохнуть спокойно, съесть яичницу с луком и поговорить о самых обыкновенных вещах...")
Вот вам истоки будущего негасимого конфликта, любовной трагедии
Свободой в браке Сент-Экс обладал полной. Консуэло, конечно, очень ревновала мужа, причем не столько к женщинам, сколько к его друзьям, к его работе, даже к его произведениям и хотя старалась не показывать виду, но ее эксцентричность и сумасшедшие выходки (она, например, на день запланированного официального визита могла, не информируя, уехать и позвонить из Швеции) были все-таки своеобразной самозащитой.
Эхо этих супружеских бурь, переживаний и размышлений слышится во многих произведениях Экзюпери, особенно в "Цитадели". При всей своей рефлексии он был, как уже говорилось, очень цельный человек, очень выносливый, очень целеустремленный. Однажды его спросили, что для него важнее: летать или писать. Перечтите начало эссе, там приведен его ответ.
Жаль, что у супружеской четы не было детей. "Маленький принц" восполнил этот печальный пробел, заполнил эмоциональную пустоту, невостребованность отцовских чувств. Сент-Экс в этой своей сказке не только проповедник, хотя он и учит нас даже в самые горькие минуты не терять веры в конечное торжество добра; никогда не быть безразличным к тому, что творится в мире, даже если это и не касается лично тебя, твоих будничных дел, твоих правил и вкусов; пусть волнуют тебя судьбы всего живого - вбирать в свое сердце весь мир, как бы далеко ни происходила схватка добра со злом, знай, что это твоя, лично твоя забота.
Между тем жизнь супругов шла своим чередом, с бытовыми трудностями, будничным сумасшествием, постоянными долгами, несмотря на немалые гонорары. Разочаровавшись в браке, но, по-прежнему повторяя друзьям по поводу Консуэло, мол, это его крест и он будет нести его и дальше, Сент-Экзюпери в доме Луизы де Вильморен (а по другим сведениям - в салоне своей кузины Ивонны де Лестранж) встретил замужнюю даму, именно тот тип женщины, который его всегда привлекал. Они, не придавая значения предписаниям строгой морали, сблизились. И Антуан стал жить как бы на два дома. Госпожа Н. (по другим данным госпожа де Б.) не раз приходила в трудные минуты на помощь возлюбленному: и вниманием, и творческой помощью, и даже деньгами. К чести Сент-Экса он был весьма щепетилен по части материальной поддержки. Впрочем, Антуан не покидал и Консуэло, пока за него не сделала это Вторая мировая война.
Надо заметить, что судьба не раз щадила пилота, он много раз попадал в тяжелейшие катастрофы, но его вылет 31 июля 1944 года оказался последним. Что там произошло, до сих пор не известно. Недавно в газетах и журналах сообщалось о находке на средиземноморском побережье очевидно вымытых со дна океана частей его самолета, чуть ли не заветного его перстня...
Все последующие годы Консуэло будет преданно хранить память о пропавшем без вести муже, она выполнит скульптуры Сент-Экса и Маленького принца, напишет книгу "Царство камня", откроет плавучий ресторан на Сене под названием "Маленький принц" и мемориальную доску на фасаде дома на Пляс-Вобан. А в 1979 году её похоронят на кладбище Пер-Лашез рядом с местом упокоения её первого мужа. Гомеса Каррильо.
А таинственная незнакомка Н. (или Б.) еще в 1939 году под именем Элен Фроман опубликует роман "Обратно не возвращаются", где в беллетризированной форме поведает о тайне незаконной любви со знаменитым писателем и летчиком, а после его исчезновения уже под именем Пьера Шеврие напечатает самую обстоятельную биографию Сент-Экзюпери, откуда будут черпать сведения все последующие биографы. Известно, что у нее до сих пор хранится немало документов и рукописей писателя, их в голубом чемоданчике передали духовной наследнице друзья и боевые товарищи Сент-Экса.
Итак, давайте еще раз задумаемся, какой путь к спасению человечества и всей планеты Земля предлагал писатель. Его рецепт, если помните, очень прост: "любить - это не значит смотреть друг на друга, это значит вместе смотреть в одном направлении".
"НАША УЛИЦА" №112 (3) март 2009
|
|
Лицо ее подруги можно было хорошо рассмотреть |
Алексей Некрасов
ЛЕСТНИЦА
повесть
Пейзаж вокруг почему-то казался знакомым, но краски были неестественно яркими, ощущение перспективы сбивалось, и я уже догадывался, что вижу сон. Однако никаких попыток окончательно убедиться в этом я не предпринимал. В большинстве своем сны мои были лишь дурным отражение житейской накипи, а этот явно прилетел из какой-то далекой сказочной страны, и мне очень хотелось в него поверить.
Лестница начиналась у подножья маленького храма и, огибая оливковую рощу, спускалась к бухте. Солнце щедро поливало расплавленным золотом поверхность ступеней, и, казалось, что теплый мрамор струится под подошвами сандалий. С высоты море в тисках в сочно зеленых холмов выглядело огромным темно- синим блюдом. Оно сердилось, и ветер, оттолкнувшись от белых барашков мелкой волны, уносил вверх сверкающие брызги. Придерживая полы длинного плаща, я спускался к воде. Рядом, задевая мою ногу краем туники, шел собеседник. Одной рукой старик опирался на мой локоть, другой водил по воздуху, энергично дополняя речь жестикуляцией. И, казалось, старческий палец выводит под облаками золотистые островерхие буквы, и они тут же рассыпаются на множество мелких звездочек.
Говорил о Вечности. О том, что река, отдавая свою душу морю, в тот же самый миг заново рождается в крохотном горном ключе. Что звери и рыбы обретают бессмертие, бесконечно копируя себя в потомстве. И лишь только человек в своей неповторимости уходит навсегда. Может быть, поэтому он так стремиться разорвать путы природных циклов, строит пирамиды и храмы, переносит свои мысли на камень и нетленный пергамент, на утлых суденышках пытается достичь пределов Крайнего Моря. Но ни какие труды и подвиги не избавят его от неизбежности ухода. А что если разорванный круг человеческой судьбы тоже должен замкнуться? Но ни здесь, ни под этим солнцем, а где-то очень далеко, где одна бесконечность переходит в другую. Может быть именно туда устремлены все “бесполезные” земные усилия…
Над головой, шелестя крыльями, пролетел грифон. Оставляя на небе огненный след, он быстро скрылся за горизонтом. Но все-таки удалось разглядеть напряженный изгиб лебединой шеи, и сверкнувший на солнце спинной гребень. И тут же с комариной назойливостью засверлила мысль:
- Грифоны не существуют! Значит все-таки сон.
Старик стал отдаляться. Голос философа еще звучал в ушах, но самого его уже не было рядом. В отчаянии я пытался зацепиться взглядом за зеленый холм, покрытую барашками волн бухту. На небе еще горел след грифона, но и небо тоже стремительно исчезало, уступая место замкнутому пространству малогабаритной комнаты…
Приподнявшись над кроватью, я посмотрел на часы, и снова опустился на смятую постель. Без пяти семь. Еще можно было поваляться минут пятнадцать. Потом завтрак, метро, работа, снова метро, и, наконец, событие которого ждал всю неделю. Сегодня пятница, собрание философского клуба.
Хотя, какой это клуб! Собираются пять мужиков в баре берут по два литра пива с сухариками и болтают о вселенских проблемах. А у каждого своих проблем выше крыши. Колька уже пол года безработный у жены на шее сидит. Как только терпения у женщины хватает! Другая давно бы скалкой на улицу, а эта кормит, да еще и деньги на пиво дает. Правда в последнее время все-таки ввела санкции. Теперь за Николая Стас платит. Ему это не в тягость, Стасик у нас олигарх. Дорогая иномарка, квартира в Куркино, отпуска на Канарах. Когда фотографии девушек своих приносил, у Николая чуть слюни на стол не потекли. Впрочем, не у одного Николая. Только Александр снимки ни как не прокомментировал. Он вдовец и с тех пор как перешел в это состояние острот и комментариев на тему женского пола избегает. Бог знает, что у мужика на душе твориться. Только один раз, когда после пива еще водки заказали, Сашка вдруг о себе говорить начал. Даже не о себе, а о том, как вечером в пустой квартире настенные часы тикают. Всем сразу неуютно как-то стало, глаза опустили, замолчали. Сашка и сам смутился и потом весь вечер молчал. Да и он вообще человек не особо разговорчивый. А вот Влад поговорить и покрасоваться любит. О чем ни начнешь, он все это уже знает, все изучил, во всем преуспел. Ребята над ним за глаза посмеиваются. Интересно догадывается ли он об этом? Скорее всего, да, но поделать с собой ничего не может. А, может быть, он уже настолько в свою гениальность уверовал, что наши жалкие смешки ему не более чем комариные укусы.
А ведь на самом деле проблема эта всеобщая! Каждый пытается утвердить свое преимущество и только о своем хочет говорить и слушать. И собеседник интересен, только когда его мысли с твоими совпадают. А если чуть в сторону, интерес уже и пропал. Конечно если ты человек вежливый, то продолжишь беседу. Но это уже не радость общения, а поиск компромиссов. И если копнуть глубже все наши взаимоотношения на этом хрупком равновесии компромиссов и держатся. Кстати, чем не тема для сегодняшней беседы...
- Ты бы лучше подумал, что для дома сделать! Посмотри, до чего квартиру довел! – вторгся в мой мысленный монолог внутренний голос. Невидимка так хорошо воспроизвел интонации супруги, что я с испугом посмотрел на ее кровать. Но жена еще спала. Безмятежно улыбаясь во сне, она, наверное, видела сверкающую после ремонта квартиру, и меня в бумажном колпаке и спецовке, приклеивающего последний краешек обоев. Мне искренне стало стыдно и одновременно страшно, что супруга рано или поздно осуществит свои планы. Уже на кухне, приготовляя себе яичницу, я попытался мысленно с ней поспорить. Обычно она встает раньше и готовит завтрак мне и дочери. Но сегодня пятница. Дочь по сложившейся традиции гостит у бабушки, и моя лучшая половина, как женщина со свободным графиком позволяет себе поспать. Поэтому спор наш сегодня был мысленный и односторонний. Извлекая из памяти до боли знакомые упреки, я пытался находить контрдоводы. Сейчас это у меня получалось куда лучше, чем в настоящих словесных баталиях.
…Я понимаю твои желания, дорогая. Чтобы дом был полная чаша, чтобы все не хуже чем у других. Понимаю, что подруге твоей Светлане очень повезло с мужем. Но где найти нам столько управляющих отделением банка, чтобы осчастливить каждую российскую женщину? Хочешь сказать, что для всех тебе нет никакого дела? Ох уж эта женская солидарность! Вроде бы в любой момент вы готовы выступить против нас единым фронтом, но он тут же распадается на множество мелких семейных окопчиков. Пускай каждая сама решает свои проблемы, а ты будешь выводить в люди своего мужа. Согласен! Даже очень сочувствую твоим планам. Но будешь ли ты счастлива, если они вдруг осуществятся?
Представь на секунду, я все осознал и перевоспитался. На философские посиделки не бегаю. На работе с утра до позднего вечера. Усердие, рвение, угождение начальству, и как результат быстрый карьерный и материальный рост. По субботам опять же, ни каких встреч с друзьями, ни каких книжек с непонятными и потому ненавистными тебе названиями. А сразу же с утра на строительный рынок. Все для дома, все для семьи!
Ты скажешь, что такая идиллия вряд ли когда наступит, и будешь совершенно права. Во-первых, я так долго не выдержу. А во-вторых, или даже, во-первых, этого ли тебе на самом деле от меня надо?!
Далек от мысли, что ты любишь меня только таким, какой есть. Но ведь и домовитый карьерист с жизненным кредо хомяка-хапуги тоже не твой идеал. Не раз с ревностью замечал, что тебя привлекают люди авантюрного склада. Наверное, тут сказываются генетические пережитки минувших веков, когда барышни влюблялись в красавцев гусар и байроновских злодеев. Однако, на дворе нынче иные времена, и как женщина современная ты это великолепно понимаешь. Да и таких людей ты на самом деле боишься, и никогда судьбу с авантюристом не свяжешь. Так что, дорогая, я не такой уж и плохой вариант, и будем ценить, то, что нам послала судьба…
Порезав на сковородку остатки ветчины, я кинул сверху несколько кусочков помидора, слегка обжарил их и залил яйцом. Вскоре вся эта смесь весело зашипела, распространяя вокруг аппетитные ароматы. Проявив фантазию, посыпал пузырящийся белок мелко порезанной петрушкой. Запахло еще вкуснее. А в окно уже весело светило осеннее солнце. Самый конец октября, а погода стоит великолепная. С утра чуть подмораживает. Лужи подернулись тоненькие белой коркой. На деревьях оранжево-желтый пожар еще не опавших листьев. Чистое голубое небо над крышами, и свет вокруг яркий осенний бодрящий. Чтобы не было накануне, как бы не угнетала ранняя осенняя мгла с холодом, мелким дождем и фонарями призраками, в такое утро чувствуешь себя счастливым.
Завтрак закончен, и уже надо бежать на работу. Запахивая на ходу куртку, я вышел из подъезда и поздоровался с дворником. Тот ответил вежливо и с достоинством. Восточное лицо как всегда невозмутимо, и, поздоровавшись, он тут же возвращается к работе. Я не знаю, как зовут этого парня, но всегда приветствую его первым. Не из соображений пресловутой политкорректности, а потому, что этот человек мне действительно нравится. Иногда я даже пытаюсь поставить себя на его место. Представляю, как убирал бы тротуары где-нибудь на улицах Нью-Йорка. Метлу там, наверное, давно уже не используют, но тут главное увидеть не детали, а сам образ.
И вот я в спецовке, за штурвалом уборочной машины. Рядом темнокожий обормот-напарник беспрестанно жует резинку, и слушает реп. А мимо, обтекая нас, спешат куда-то обитатели респектабельного квартала. Лощеные, деловые, кто-то тоже здоровается, но это уже чистая политкорректность. Всем понятно, какая социальная пропасть нас разделяет. А ведь мы с напарником такие же люди с правами, данными нам от рождения Богом.
Смог бы я сохранить достоинство в такой ситуации? Кем бы я чувствовал себя среди преуспевающих граждан сверхдержавы? Ответы я к сожалению знаю, и они не утешают…
Так что же все-таки определяет наше самоуважение? Успех, признание окружающих? Получается что мы изначально рабы чужого мнения, чужого взгляда. А если ты ничего в жизни не добился, значит, тебя вроде бы и нет? Но как же данные от рождения права, и образ, который вложил в тебя Создатель! Выходит, что надо учиться уважать себя, не взирая на успехи и неудачи. Но тут подстерегает другая крайность. Перед глазами встает ленивое никчемное существо, с раздутым до вселенских пределов самомнением. И как пройти между этими двумя ловушками? Как оправдать надежды Творца?
- Видишь, дорогая, нельзя нам никак без философии! – продолжил я свой мысленный спор с супругой. Но спорить почему-то расхотелось, и я неожиданно почувствовал себя необыкновенно счастливым. У меня есть семья, есть работа, которая кормит, и иногда даже приносит удовлетворение. Нужда не заставляет скитаться по чужим городам и странам в поисках лучшей доли. И, наконец, есть наш философский клуб. Что надо еще человеку, чтобы спокойно встретить старость?
И тут вдруг нахлынул внезапный, безотчетный страх. В одну долю секунды я осознал, как хрупко мое счастье. Сколько случайных и не случайных событий могло разрушить, пустить по совершенно другой колее мою судьбу. А сколько еще подводных рифов караулит мой семейный корабль в будущем! Вспышка пророческого озарения высветила разбегающиеся в стороны дороги. Одни были широкими, тянулись почти параллельно и напоминали уходящую за горизонт автомагистраль. На изломах других я увидел беды. Рассмотреть не успел, но страх подступил еще сильнее, и заколотил мелкой дрожью.
- Хватит! Возьми себя в руки! – мысленно прикрикнул я на самого себя: - Беды подстерегают любого. Надо учиться обходить и предотвращать их, ежечасно, ежеминутно защищать свое счастье. И тогда твой путь прямая магистраль. А извилистые опасные дороги пусть улетают в небытие, или портят жизнь твоим менее удачливым двойникам где-то в другом параллельном мире.
Когда добрался до метро, страх уже отступил. Стиснутый со всех сторон, я двигался в общем потоке, и через полчаса он вынес меня на поверхность. До начала рабочего дня оставалось около десяти минут. Пока я пешком преодолевал последнюю часть маршрута, минуты пролетели как одно мгновение. Однако стоило переступить порог, и время потянулось гораздо медленнее.
Пятница, душа рвется на волю, но приходиться делать вещи, вдруг ставшие совершенно неинтересными. Утром я обманывал себя, что работа приносит удовлетворение. Она тяжкий крест. Печка, в которой сгорает почти треть моей жизни. Но не всем дано право уподобиться птицам небесным. Кто-то должен зарабатывать хлеб свой в поте лица, и я отношусь к этому не очень счастливому большинству. В конце концов, не одному же Стасу оплачивать сегодняшние посиделки! Он потянет, но я не Колька и амплуа альфонса мне никогда не импонировало. И даже если б очень захотел, прожить за чужой счет вряд ли бы получилось, я не из тех, за кого охотно платят другие. Так что хочешь, не хочешь, а приходится отрабатывать самоуважение, право иметь семью, и сегодняшнее пиво с сухариками.
Когда стрелки настенных часов все-таки доползли до половины шестого, я уже выбегал на улицу. Людской поток опять внес меня в подземку, и вскоре я уже выходил на Новокузнецкой.
Замоскворечье. Московские улочки уютно переплелись с призраками парижских бульваров. У метро молодые парни под гитару поют что-то из бардовского репертуара. Навстречу движется нарядная хорошо одетая толпа. Никто никуда не спешит. Беспечность и праздность разлиты над вечерним городом, и в обманчивом свете фонарей роятся мотыльки ночных соблазнов. Французская элегантность в силуэтах идущих навстречу незнакомок. Из музыкальной палатки доносится голос Шарля Азнавура, и только рюмочная “Второе дыхание” напоминает, что ты еще в России. Сквозь ее открытые двери видны силуэты мужчин, но мой путь лежит дальше по маленькой улочке мимо Рынка Морепродуктов к стеклянным дверям торгового центра. В просторном холле полной грудью вдыхаю запах красивой жизни, поднимаюсь по эскалатору и вот уже передо мной пластмассовый американский полицейский и ярко красные сидения бара.
К моему приходу Александр и Стас уже успели занять столик. Влад и Николай как всегда задерживались. Один слишком деловой, другой бездельник, но по стилю поведения они почему-то очень друг на друга похожи. Могу поспорить, что сегодня столкнутся где-нибудь на выходе из метро и придут вместе.
Поздоровавшись, я опустился на сидение рядом с Сашкой. Куртку повесил на перегородку разделившую ряды столиков. Высота ее чуть больше метра и весь зал виден как на ладони. Бар обставлен в стиле американской забегаловки и, наверное, такая открытость символизирует идеалы демократии. Впрочем, мне это даже нравиться. Вокруг множество лиц, и часто краем глаза с интересом наблюдаешь за другими посетителями. А со стен улыбаются голливудские звезды. Кажется, они смотрят прямо на тебя, я же в основном смотрю на Мэрилин. Этой легендарной блондинке я симпатизирую еще с юности. Кстати, моя супруга чем-то похожа на Мэрилин, во всяком случае, внешне. Но она почему-то это упорно и даже с возмущением отрицает, предпочитая сравнивать себя с Шерон Стоун. Наверное, назло мне. Потому что кино-образы этой актрисы я ненавижу искренне и бескомпромиссно.
- Ну что, может быть, заказ сделаем? – прерывая мои размышления, предложил, Стас. Сашка с ним тут же согласился:
- Конечно, давай, а то этих обормотов до бесконечности ждать можно!
Оторвавшись от меню, Стас подозвал официантку. Она двинулась к нашему столику, улыбаясь и чуть покачивая на ходу бедрами. На девушек Стас действует как удав. Хотя внешне вроде бы ничего особенного в нем не просматривается. Нормальный тридцатипятилетний мужик. Довольно крепкий. Живот уже означился, но еще не сильно выпирает. Стрижка под ежика, черты лица грубые, правда, когда смеется сразу видно, что человек не злой и не глупый. Хотя и жесткость во взгляде иногда проскакивает. Одет Стас так же как мы все – свитер, джинсы. Уж не знаю, что девицы в нем находят. Может быть, хваленая женская интуиция сразу помогает разглядеть натуру сильную, удачливую и по-мужски красивую. Хотя тут уж только им и судить.
Остановившись напротив столика, девушка грациозно изогнулась и приготовилась записывать. Пока слушала, улыбка стала совсем обворожительной. Даже румянец проступил на щечках. Можно подумать, что говорил Стас не о пиве сырных палочках, а о чем-то пикантном. Обычно официантки здесь со всеми одинаково вежливые и кокетства не позволяют, но видно наш Стасик исключение.
Приняв заказ, официантка удалилась, вкладывая в каждый шаг все свое женское обаяние. Но кумир уже и не смотрел ей вслед, а сосредоточенно пытался извлечь огонь из зажигалки. Достав каждый свою пачку, мы закурили. Стас взялся за мобильник. Александр, откинулся на красную спинку сидения и медленно выпускал изо рта струйки дыма Почему-то только сейчас я заметил, что виски у него под цвет пепла на кончике сигареты. За последний год белая масть разлилась по его волосам, покрыв собой большую часть все еще не плохой шевелюры. Он сильно изменился. Нельзя сказать, что постарел. Но лицо как-то заострилось и в чертах проявилось что-то от иконописных образов.
- Какая сегодня будет тема?- поинтересовался Стас. Сашка пожал плечами:
- Витькина очередь. Пускай он объявляет.
Все посмотрели на меня. Я попытался еще раз мысленно оформить идею, которая пришла в голову утром.
- Человек и его дело. Что главнее? …Нет, как-то слишком торжественно звучит. Влад обязательно сострит по этому поводу…
Легкий на помине Влад появился у входа в бар. Как я и предполагал, пришли они вместе с Николаем. Вместе эта парочка смотрелась очень колоритно. Колька остроносый жгучий брюнет, высокий, худой, с несоразмерно длинными конечностями. При ходьбе руки свободно болтаются и напоминают веревки. Влад наоборот маленький аккуратный, с небольшим и тоже очень аккуратным брюшком. Круглое лицо и сверкающая залысина предают ему сходство с колобком, и в исполнении Влада этот сказочный герой получается очень самоуверенным и амбициозным.
Пока здоровались, у Влада для каждого из нас нашлось несколько фраз, дружелюбных, но с изрядной долей иронии. Колька наоборот буркнул что-то невразумительное и руки пожимал очень нехотя. Сразу стало видно, что опять не в духе и зол на весь мир.
Не успели вновь прибывшие занять места, как на столе уже появилось пиво. Мы чокнулись кружками, отпили по глотку, и Сашка напомнил, что я собирался объявить тему.
Когда приходиться выступать перед аудиторией, пускай даже очень маленькой и хорошо знакомой я всегда испытываю волнение. Фразы, которые в мыслях звучат убедительно, сбиваются, комкаются или наоборот растягиваются в нечто длинное и тривиальное. Вот и сейчас, я честно старался заинтересовать ребят вопросом :
- Кто же все-таки мы есть? Внешний образ, совершающий дела поступки, или что-то более глубокое, независящее от наших свершений, неудач и успехов?
Но получилось очень затаскано. Наподобие пресловутого: -“ Человек и его дело”.
Моей неудачей в риторике не преминули воспользоваться.
- Ты, Витя в Высшей Партийной Школе не обучался?- ласково поинтересовался Влад.
- В отличии о тебя, нет! – огрызнулся я, но оппонента мой тон совершенно не смутил, и он вкрадчиво продолжал:
- Так вот, там бы тебе очень доходчиво объяснили, что дела, поступки, а также участие в жизни коллектива и процессе создания материальных ценностей, в конечном счете, и формируют то, что мы называем человеческой личностью.
- Ладно, все понял, тема закрыта! – обиженно заявил я.- Но дальше о чем говорить будем? Как в прошлый раз о бабах?
И тут неожиданно подал голос Сашка.
- Кстати не плохая идея! В прошлый раз мы эту тему в пошло- бытовом аспекте рассмотрели, а вопрос на самом деле куда более глубокий…
- Хочешь сказать, что разделение полов проблема метафизическая? – перебил его Влад. Сашка кивнул, и Влад тут же начал его опровергать:
- Читайте Фрейда ребята! Нет тут никакой метафизики. Просто психика наша базируется на этом самом половом инстинкте. Продолжение рода ничего не поделаешь!
- Ну положим Фрейда уже не раз опровергали – парировал Сашка, и в спор тут же вклинился Николай:
- Фрейда никогда никто не опровергнет! – с пафосом заявил он.
Я пока не спешил вмешиваться дискуссию, наверное, потому, что смог осилить не более десяти страниц “Психоанализа”. Но, зная Кольку, могу поспорить, что и он дальше пяти страниц не продвинулся. А за Фрейда он горой стоит по одной простой причине: - очень уж привлекательно, для Колькиного самолюбия свести все к животным инстинктам. Во всяком случае, так он учение основателя психоанализа упрощенно трактует. “Человек животное!” - любимый Колькин лозунг. С этим утверждением ему спокойнее, меньше зависти к тем, кто чего-то в жизни добился. И слабость собственную, и черноту внутри себя оправдать легче. Со зверя, какой спрос. Впрочем, себя к братьям нашим меньшим Колька не спешит причислить. Да и с теми, кто под его лозунг действительно подпадает, он вряд ли сядет за стол…
- В инстинкты веришь? Так по вере Вашей и будет Вам! – в пылу спора заявил Сашка. Колька вспыхнув, бросил в ответ, что некоторые о себе много возомнили, но тут обстановку разрядил Стас.
- “По вере Вашей…” – это откуда?
Вопрос вызвал улыбки. Стас периодически поражает всех неосведомленность. Вроде бы разница в возрасте не очень большая. У большинства из нас молодость пришлась на конец “застоя”, а у него на самый разгар шальных девяностых. Всего лишь каких-то десять пятнадцать лет, а порой кажется, что мы из разных эпох. Бизнес тоже накладывает отпечаток. Все остальное время Стас находится там, где вращаются недоступные даже нашему воображению суммы денег, а нравы и духовные ценности очень далеки от тех, к которым мы привыкли. Но почему-то свой пятничный вечер он предпочитает проводить не в своем кругу, а со стареющими побитыми жизнью любителями пофилософствовать.
Александр и Влад сцепились не на шутку. Один доказывал, что проблемы разделенного на два пола человечества, уходят в иные миры, в духовное предсуществование и грехопадение рода людского. Другой бил на физиологию, на необходимость более эффективной передачи генетического фонда. Николай изредка бросал язвительные реплики, Стас внимательно слушал. Я тоже участвовал в споре, но большей частью мысленно. В общем, я был согласен и с тем и другим. Бесспорно, что соединение генов разных особей дают результат более эффективный, точнее поставляют более разнообразный материал для естественного отбора. Корни вопроса, наверное, лежат все-таки здесь в физиологии. Но разве дерево равнозначно своим корням или семени? Разве кирпичи или глина, из которой их лепят и обжигают, равнозначны построенному зданию? Корни трудятся в беспросветном мраке почвы, дерево своими зелеными ветвями и пышным весенним цветом предстает перед небом. Вся человеческая культура пронизана историями любви мужчин и женщин. Трагедия и счастье, взлеты вдохновения и распад человеческой личности, жизнь и смерть извечно вплетаются в запутанные отношения противоположных полов. Не сведешь тут все к животному инстинкту, как ни старайся! Впрочем, запросы эволюции в этих отношениях часто выходят на первый план. Тут и пресловутая тяга женщин к “сильным личностям”, а порой просто к негодяям. Так прекрасная половина человечества почти неосознанно выбирает более жизнестойких мужчин для продолжения рода. Но ведь есть множество примеров, когда женщины влюблялись в людей не от мира сего обреченных естественным отбором на вымирание. Но и в этом можно усмотреть некоторую закономерность. Такие исключения помогают человечеству не превратиться в агрессивную толпу из особей с волчьей хваткой и стальной мускулатурой. Получается, что подобная нелогичность тоже служит эволюции, но здесь уже просматривается замысел куда более высокий, чем простая биологическая целесообразность.
Я поймал себя на том, что давно уже смотрю на двух молодых женщин в противоположном конце зала. Одна сидела ко мне спиной и, когда откидывала волосы, взгляд спотыкался на белой полоске полуоткрытых плеч. Лицо ее подруги можно было хорошо рассмотреть. Не классическая красавица, но очень живая, эмоциональная и со стороны ее диалог с подругой смотрелся как готовый концертный номер. Жестикуляция, мимика движения головы и плеч были пронизаны экспрессией недоступной мужчинам. Сашка и Влад могут выдвигать друг против друга сколь угодно логичные и умные аргументы, но вот так эмоционально и грациозно преподнести какую-нибудь банальную глупость им не по силам. Могущество женщины не в логике, она подчеркнуто алогична и презирает все доводы разума. Ее сила в извечной неразгаданной красоте, которая как сверкающая алмазная тропа протянулась над темной пугающей бездной. Кажется это у Достоевского “ …красота – поле, где дьявол сражается с Богом…”. И, наверное, женская сущность, тоже плацдарм, за который ведется эта великая битва. Сражение в масштабах человеческой истории бесконечное, но в любом длительном противоборстве, кто-то временно одерживает верх. И в последнее время есть у меня очень нехорошие догадки на эту тему…
Проблема действительно оказалась глубокой и многогранной, так что опять пришлось к пиву добавить еще пару бутылок “Парламента”. По дороге домой я чувствовал, как разрушаются жесткие границы мира, и иные вселенные проступают сквозь беззвездное московское небо. В вестибюле метро блюститель порядка подозрительно покосился в мою сторону. Но помогла многолетняя привычка сосредотачиваться, и вот я уже за турникетами и вступаю на эскалатор…
…Лестница начинается у подножия храма, по зеленому холму мимо оливковых рощ спускается к бухте, и я радостно бегу по ней навстречу белым барашкам волн. Наконец я вернулся!!! Как долго пришлось странствовать в чужих краях, учиться любить чужие земли, называя их отчизной. Темны были их ущелья, запутаны тропы. Но вот я дома и нет больше ни тоски, ни страхов, ни одиночества…
Но вот под ногами снова ступени эскалатора, и мимо, слегка покачиваясь, плывут круглые фонари.
“Только женщина может нас хоть на время избавить от одиночества, и не объяснить это ни какими инстинктами или рефлексами”.
- Где-то я эту фразу уже слышал? Да ведь это один из аргументов Сашки в сегодняшнем споре!
Его я принял безоговорочно. Ни какая мужская дружба, ни какие коллективные ценности и идеалы от одиночества тебя не избавят. Все твои успехи и победы ничто, если нет той единственной, к ногам которой ты кинешь свои трофеи…
Я снова начал терять чувство реальности, и, сойдя с эскалатора, чуть было не наскочил на бредущего навстречу человека. Подняв глаза, я хотел извиниться, ну тут же обомлел и не смог выдавить из себя ни одного звука. Передо мной стояла точная моя копия. Правда копия какая-то осунувшаяся и жалкая. С плеч двойника понуро свисала моя старая куртка, которую жена года три назад пустила на тряпки. Щеки его покрыла недельная щетина, а в руках как-то очень сиротливо болталась авоськи с пакетом молока и батоном хлеба. Не сказав ни слова, он повернулся и почему-то пошел в противоположную сторону к переходу. Впечатления было такое, что двойник специально совершил обходной маневр, чтобы встретиться со мной. А я смотрел вслед его сгорбленной фигуре и чувствовал, как трезвею. Двойник шел к переходу на Калужскую линию, а я сразу же почему-то вспомнил, как пять лет назад чуть было не переселился в однокомнатную квартирку в районе Черемушек.
В тот год мы с женой постоянно ссорились. Дело уже шло к разводу, и супруга подыскивала варианты обмена квартиры. По ее генеральному плану мне предстояло отправиться со своим личным скарбом в крохотную коморку под крышей хрущевской пятиэтажки. Нельзя сказать, что меня сильно пугала подобная перспектива. Временами я даже храбрился и пытался убедить себя, что наконец-то обрету долгожданную свободу. Но тогда от окончательного разрыва нас обоих удержало некое плохо объяснимое чувство, связь куда более глубокая и важная чем все горы взаимных обид и обвинений.
“Только женщина может избавить нас от одиночества” - этот постулат усвоился где-то на подсознательном уровне. А одиночества я ох как боюсь! Наверное, это одно из самых страшных зол нашего времени. Ощущение что ты один в этом чужом мире мучило людей и в прошлые века. Но тогда они искали и находили утешение в общение с Богом. Да и сами страдания имели смысл и ценность, как обязательный этап становления человеческого духа. Люди уходили в монастырь лишь потому, что стыдились своего счастья. Теперь же, когда цивилизация окончательно свернула с духовного пути, страдания и одиночество стали чем-то аномальным и стыдным. А болезнь, которую ты вынужден скрывать от других, угнетает во сто крат сильнее. Пять лет назад я интуитивно понял это, испугался и стал искать компромиссы. А мой двойник, наверное, не понял, не испугался, или просто не хватило сил противостоять стихии разрушения и злости…
- А все-таки кто он?!
Мысли одна фантастичнее другой крутились в моем сознании:
- Вдруг, тогда пять лет назад все пошло по худшему сценарию, и моя счастливая семейная жизнь лишь вспышка пьяного бреда. Видение просто напомнило мне, куда я должен возвращаться на самом деле. Или двойник пришлец из параллельного мира, где моя судьба сложилась иначе? А вдруг это я сам провалился в иной мир?
Окончательно протрезвев, я запрыгнул в вагон. Страх не оставлял всю дорогу. Представлял, как дверь квартиры открывает совершенно чужая женщина или какой-то пьяный мужик в спортивных штанах и грязной майке.
- Куда тогда идти? В каморку в Новых Черумушках, где коротает одинокие вечера моя копия? Да он, то есть я, перепугается до смерти! К тому же и точный адрес уже давно стерся из памяти.
Забегая в подъезд, я со страхом искал признаки изменений. Их не было, но это еще не повод для оптимизма. Может быть, и в параллельных мирах подъезды такие же грязные, и стены так же исписаны откровениями молодежи. И вот наконец-то дверь моей квартиры. Трясущимися руками я с трудом попал в замочную скважину. К счастью замок не стал меня пугать и поддался с первого раза. В коридоре, вызывающе подпирая руками талию, стояла женщина. Невысокая хрупкая блондинка выглядела решительной и бескомпромиссной. Чувствуя бешеный прилив радости, я узнал свою супругу. Раздвинув для объятий руки, двинулся вперед, но тут же сурово был остановлен:
- Ну, и какую же тему мы сегодня обсуждали?
Субботнее утро. За окном опять солнце, а мне что-то совсем не радостно. Чувство стыда, усиливая страдания, примешивается к похмельным болям. В одиночестве пью кофе. Напиток хорошо гармонирует с чашкой. Глянцевая черная поверхность вопреки законам физики отражает солнечные лучи. Гуляя по кухне, солнечный ветерок расцвечивает обои, играет на круглых лепестках денежного дерева, изящно преломляется в изгибах хрустальной вазы. Красота простых вещей, красота мира, пытается вытянуть меня из пелены уныния, но организм предательски тащит обратно, в слабость, в опустошение, в похмелье.
В соседней комнате жена уже минут десять говорит с подругой по телефону. Обсудили новости, последнюю осеннюю распродажу, теперь, кажется, добрались до мужчин:
- Нет больше мужиков! Точно тебе говорю, выродились как биологический вид…
Самое смешное, что вчера в ходе дискуссии мы тоже приблизились к подобным выводам. Но если женщины просто констатируют это как эмпирический факт, мы попытались докопаться до сути.
…Испокон веков мужчины старались изменить этот мир, сделать его более комфортным для проживания. И вот они почти достигли цели. Но, как часто бывает, плоды победы отравляют победителя. Гигантская, созданная многими поколениями мужчин машина работает на ублажение прекрасной половины человечества. Чтобы управлять этой махиной, скоро достаточно будет только нажимать кнопки. С этим, даже не испортив маникюр, вполне могут справиться хорошенькие тоненькие пальчики. А что же остается создателям индустриального монстра? По безжалостным законам рациональности все лишнее и ненужное постепенно вырождается и исчезает…
За окном по холодно-голубому небу плыли облака. Впереди целый день отдыха, и его как-то надо было прожить. Погода звала на прогулку. Но силы чтобы добраться до центра я сегодня в себе не чувствовал, а пейзажи спальных микрорайон еще с детства вызвали уныние. Когда-то домашнего мальчика-тихоню, отрывая от любимой книги, гнали гулять со сверстниками. Казалось бы, прошла целая вечность. Мальчик давно вырос, но все равно откуда-то из глубин подсознания временами выплывает неприязнь к враждебной стихии, которая начинается сразу за порогом квартиры. Наверное, с педагогической точки зрения все было правильно, надо было проходить школу жизни, слоняться по двору, гонять мяч, проигрывать мелочь от школьных завтраков в “расшибаловку”. Но сейчас, оглядываясь назад, понимаю, что книги мне все-таки дали во сто крат больше. Вращаясь в обществе себе подобных, учишься выживать, сохранять себя как биологическую особь. Книга же позволяет прикоснуться к иным мирам, хоть на мгновение окунуться в сферы более высокие, чем жизнь школьного двора, казармы, трудового коллектива. Нет, и никогда не будет среди моих друзей и знакомых Платона и Канта, бунтаря Ницше, защитника сословий и обличителя буржуазной пошлости Леонтьева. Но стоит только дотянуться до книжной полки, и они заговорят со мной. Сквозь бездну времени, я услышу их голоса, прикоснусь к мыслям неизмеримо более глубоким, чем те, что рождает наш суетливый и практичный век.
- Ну что ж, теперь-то на прогулку во двор меня уже никто не выгонит! - констатировал я с некоторым удовлетворением, допил кофе и отправился в спальню. Заложенный в середине томик Бердяева, наконец, дождался своего часа. Но сегодня чтение как-то не складывалось. Со свойственным ему темпераментом великий философ пытался прорваться сквозь объективированный и падший мир к истинному бытию. У меня же мысли упорно вертелись вокруг этого самого падшего мира. А потом в воображение с каким-то садистским удовольствием стало рисовать бытовые картины шумевшей за окном улицы. Крепкие молодухи катают малышей в колясках. У открытых гаражей мужики копаются в машинных моторах. Пахнет бензином и еще чем-то мало приятным. В кафе у метро гремит на всю площадь музыка. Возле ларьков парни с бутылками пива, а у стены грязным пятном компания бомжей. И над всем этим безжалостно яркое солнце. Под его прожектором, как на ладони, каждая трещинка на асфальте, грязная лужица у торговой палатки, нарыв на серой щеке бомжа. И ни в какое истинное бытие из этого объективированного мирка не вырвешься. А чтобы не гневить жалобами судьбу, лучше вспомнить о том, что бывают местечки куда хуже!
Предаваться любимому занятию мне позволили только до обеда. Несмотря на заявления о трудной неделе и общей усталости, я безжалостно был низвергнут с дивана и мобилизован на закупку продуктов. И вот уже в заполненном людьми зале супермаркета с унылым видом толкаю перед собой огромную тележку. Впереди шествует супруга, как всегда решительная и энергичная. Здесь, среди тысяч наименований товаров она как рыба в воде. Останавливается около полок, внимательно изучает надписи на этикетках, подолгу задумывается, чтобы сделать выбор. Наверное, наш потребительский век действительно идеально подходит для женщин. Но, как же тогда романтический ореол прекрасной половины человечества? Может быть, мы мужчины сами придумали и водрузили этот нимб над прическами наших спутниц, а женщины просто нам подыграли?
Иногда супруга оборачивается и призывает меня принять участие в выборе товара. По мере сил стараюсь изобразить заинтересованность. В противном случае сразу же начнутся обиды:
- Почему я одна должна стараться?! Все, все на мне! А этому только на диване лежать и философствовать…
Доля истины в этих обвинениях есть. Но только доля! Женщины как всегда слишком категоричны. Выхватывают только малую часть явления или проблемы и тут же возводят ее в абсолют. Не свойственен им беспристрастный объективный анализ. Не их это стихия.
Но сегодня, слава Богу, поход в магазин закончился без скандалов. С полными сумками мы ввалились в дверь квартиры. Когда разложили по полкам холодильника скоропортящиеся продукты, жена с усталым вздохом опустилась на стул, а я достал только что купленную бутылку горилки.
- Рюмку за примерное поведение заслужил?
Жена махнула рукой.
- Давай, что уж с тобой делать. Можешь и мне налить…
Мы чокнулись, и выпили за здоровье. Воспетый Голлем напиток пришелся очень к месту. По телу, разгоняя уныние, разлилось тепло малоросской ночи. Вообразив усыпанное звездами небо над соломенной крышей, я погрузился в мечтательное настроение. А супруга отвернулась к окну, и взгляд почему-то стал очень грустным. Я подошел сзади, наклонился и обнял ее за плечи:
- Что с тобой, дорогая?
Прохладная щека прижалась к руке, и кожа ощутила робкое прикосновение слезинки.
- Не знаю, тоскливо как-то. Живем, живем, суетимся. А зачем все? Вчера у метро женщину встретила. Представляешь, точная моя копия! Только какая-то она очень несчастная и одинокая. Даже страшно стало, Вроде бы она это я…
Супруга с трудом подбирала слова, а я чувствовал, как сверху наваливается ужас. Только в последний момент удержался, чтобы не рассказать о своей вчерашней встрече с двойником. Нельзя взваливать на ее плечи и свой страх! Это я призван защищать ее от бед, и сейчас, когда откуда-то послано предупреждение, должен принять на себя все возможные удары.
Нагнувшись, я обнял ее сильнее, и стал целовать светлые мягкие волосы. Нежность и грусть поглотили нас. Двадцать лет назад каким-то чудом мы отыскали друг друга в мире всеобщего одиночества. И сейчас, когда за окном грязные осенние сумерки наползают на город, нам вдвоем так хорошо и уютно на нашей маленькой кухне.
Помни, чтобы не случилось, я рядом, дорогая! И пусть скоротечна наша земная жизнь, и за ее пределы попытаюсь унести это чувство. Кто знает, что ждет нас в Вечности. Но и там я хотел бы быть рядом. Во всяком случае, я постараюсь…
Новую тему для обсуждения выбирал Влад. Предложил он почти тоже, за что прошлый раз высмеивал меня. Правда, в редакции Влада проблема, на мой взгляд, звучала более запутано:
- Насколько важен успех для выполнения человеком его жизненной миссии? Обязательно ли мы должны чего-то добиться, или достаточно с нас самих усилий? Да и нужно ли вообще прилагать какие-то усилия. Не лучше ли просто наслаждаться жизнью, если есть такая возможность.
После традиционного приветствия кружками разгорелась жаркая дискуссия. На этот раз обозначилось не два, а сразу несколько взаимно-противоположных мнений. Одно из них, принятое в широких кругах, отстаивал Стас:
-Успех необходим. Добиваясь чего-то, ты приобретаешь уважение окружающих и начинаешь уважать себя. При этом успешный человек не обязательно должен быть бездушным сметающим все на пути киборгом. Успех дает силу, и ей ты можешь воспользоваться по своему усмотрению, в том числе и на благо ближнему. Что толку в твоей доброте, если никому в мире ты не можешь помочь!
Стасу яростно оппонировал Николай. С пеной у рта он пытался доказать, что все, кто добивается успеха, рано или поздно должны переступить через ближнего. А раз переступив, ты уже не можешь вернуться в исходное “невинное” состояние. Однажды почувствовав вкус крови волк в душе человека уже не может и не хочет считать себя безобидной овечкой. А логика конкурентной борьбы уводит все дальше и дальше от первоначальных благих намерений. Тот кто, начиная борьбу за власть и успех, мечтал осчастливить весь мир, постепенно превращается либо в тирана, либо в озлобленного человеконенавистника. Так не лучше ли не ввязываться в драку, а со стороны наблюдать, как клоуны на арене вырывают друг у друга перевязанную красивыми бантиками подарочную коробку.
- Конечно так лучше! Главное чтобы место в партере кто-то оплатил! – не без ехидства заметил Влад. Намек был слишком прозрачным и Николай не на шутку обиделся. В какой-то момент мне показалось, что сейчас на круглую физиономию Владика обрушится пивная кружка. Но ничего подобного, к счастью, не произошло.
…Цивилизованные все-таки мы люди! В тьму диких веков улетели вопли ярости, отзвенели в ночных переулках шпаги, не гремят больше на лесных опушках дуэльные пистолеты. Однако в мыслях еще свершаются акты мести с жестокостью достойной необузданной ярости предков. Воображаемый топор с душераздирающим хрустом падает на голову врага, виртуальные кинжалы мягко вонзаются под ребра обидчика. И кто знает, насколько надежны выстроенные цивилизацией перегородки. Не прорвется ли однажды в реальность мутный поток древней жестокости…
Тем временем в дискуссию вступил Александр. В чем-то его позиция совпадала с утверждениями Николая, в чем-то кардинально отличалась. Стоять в стороне - позиция слишком удобная для лентяев. А доброта и милосердие тоже имеют свои границы. Только немногие избранные действительно могут находиться над схваткой. Святой человек может и должен проявлять жалость и снисхождение даже к демонам. Но, упаси Господи, от такого великодушия обычного человека! Сам не заметишь, как окажешься в прислужниках у того, кого пожалел. А тот, кто обличен властью и отвечает за судьбы других, иногда вообще не имеет право на доброту. То же самое относится и людям, которые по долгу службы должны бороться со злом.
В качестве примера Сашка привел историю из жизни своего друга детства. Еще в советские времена, окончив юридический институт, молодой человек устроился работать следователем. Одним из первых служебных поручений для него стало дело о хищениях социалистической собственности в небольшом промтоварном магазине. Задание казалось не особо трудным. Тридцатипятилетняя директриса уже находилась в предварительном заключении. Нужно было собрать еще кое-какие документы, довершить оформление дела и передать его в суд. Но тут произошло непредвиденное. Актерские способности и зрелая красота подследственной сыграли роковую роль. На допросах он все больше проникался симпатией и жалостью к хрупкой несчастной женщине, вынужденной выживать и бороться в жестокой торгашеской среде. В итоге, вместо того, чтобы просто завершить работу, молодой человек стал усиленно искать доказательства невиновности директрисы. Даже выходил с ходатайствами к руководству. Там быстро поняли, что происходит и дело передали более опытному следователю. Примерно через неделю, повстречав коллегу в коридоре, молодой человек поинтересовался как дела у его “подзащитной”.
- Да все нормально, расколол на чистосердечное,- пожав плечами, произнес старший товарищ. Увидев сложную гамму чувств на лице молодого коллеги, он улыбнулся, похлопал его по плечу, и предложил пройти в его кабинет. Вскоре туда привели и директрису. Женщину словно подменили. Куда-то исчез трагический ореол невинно пострадавшей. Держалась дама весьма раскованно. Закинув ногу на ногу, курила предложенные следователем сигареты, по-деловому обсуждала смягчающие обстоятельства в обмен на чистосердечную помощь следствию. Присутствие своего недавнего защитника она совершенно игнорировала. Только под самый конец беседы с какой-то сатанинской улыбкой вдруг заявила:
- Михалыч, а ты мне нравишься. Настоящий мужик! Кстати, я тоже женщина не без способностей. Оцени, как я этого сопляка раскрутила!
Молодой человек не помнил, как добрался до курилки. Дрожащими руками достал сигарету, и тут из глаз помимо его воли хлынули слезы. Когда сзади на плечо легла рука, он испуганно дернулся в сторону. Думал, что над его слабостью будут смеяться. Но коллега понимающе произнес:
- Ты так не переживай. Просто мотай на ус. И не спеши весь мир черным мазать. Люди они разные бывают…
История почти на всех произвела впечатление. Наверное, у каждого кто когда-то искренне хотел помогать людям, найдется в жизненном багаже случай чем-то похожий на этот. Один только Влад остался равнодушен и напомнил, что мы отклонилась от темы:
- Ведь, кажется, об успехе говорили!
Александр против возвращения к истокам дискуссии не возражал
- Об успехе, извольте! Только, вот вопрос в том, что это такое?
- А что тут непонятного. Бабла больше срубить!- нарочито грубо перебил его Николай. В ответ Сашка равнодушно пожал плечами:
- Ну, это ты слишком просто трактуешь. А вообще-то сейчас все действительно упрошено и опошлено. Но если успех рассматривать как признание окружающих, то тут сразу вопрос “ А судьи кто?!”. Набор ценностей у толпы во все времена стандартный и примитивный. А теперь еще и средства массовой информации появились. Кучка “успешных” может промывать мозги миллионам.
Разговор тут же перекинулся на телевидение и прессу. Николай стал утверждать, что свобода слова опять задавлена государством. Сашка возражал. А точнее утверждал, что это не так уж и страшно. Государство если оно еще совсем не выродилось, неизбежно заинтересованно в воспитании здорового общества. Даже из чисто прагматических целей оно должно бороться со злом. Другое дело свободный рынок. Тут свои законы. Если зло приносит прибыль его можно и нужно пропагандировать. В мире, где господствуют деньги, искусство тот же товар, рассчитанный на массового покупателя. И если сейчас еще появляется что-то действительно выдающиеся, то это лишь отголоски прошлых не “коммерческих” столетий. Только в примитивных заокеанских мозгах могла родиться идея, что нынешнее господство рынка и демократии конец Всемирной Истории. Хотя возможно это действительно конец, если из сегодняшнего тупика не будет найден выход.
Вклинившись в Сашкин монолог, Влад как бы между прочим заметил, что идея о конце Истории впервые озвучена великим Гегелем. Сашку это вовсе не смутило. Он тут же заявил, что Гегель ошибался, а может быть он вовсе не такой уж и великий.
Сегодня Александр был явно на взводе. Говорил много и напористо. После “конца истории” опять перешел к проблеме успеха. По его утверждению жить надо как советовал апостол Павел: “не сообразуясь с веком сим”. На этом пути успех как сиюминутное признание окружающих вряд ли возможен. Те, кто избрал эту тернистую тропу, в лучшем случае могут рассчитывать на признание после смерти. Но только их дела могут остаться в Истории, так как все по настоящему великое выходит за рамки “века сего”.
Я во многом был с ним согласен, но интуитивно чувствовал, что и на этом вроде бы правильном пути человека подстерегают коварные ловушки. В качестве негативного примера рассказал ребятам историю одного моего бывшего сослуживца. Звали его, кажется, Петром Александровичем. Впрочем, доподлинно утверждать это я теперь бы не взялся. Имя и история одинокой судьбы растворились в мутных потоках обрушившихся на страну перемен. Но отдельные моменты его биографии я почему-то хорошо запомнил.
Вместе с Петром Александровичем мы работали в рядовом советском НИИ. Там тоже существовало некое подобие демократии. Кто любил технику занимались техникой, те, кто не имел к этому призвания, подвизались на ниве общественной работы или вообще могли годами ничего не делать. Герой же моего рассказа решил посвятить свою жизнь науке. Правда место и время выбрал для этого весьма неудачное. Это во времена Аристотеля можно было, растянувшись на травке под оливковым деревом, силой интеллекта обнимать Вселенную. Теперь, даже в очень узкой области, годы упорного труда требуются только для того чтобы в общих чертах постичь то, что сделали предшественники. Процесс познания все больше превращается в гигантскую фабрику, где отдельный человек лишь труженик конвейера или, хуже того, шестеренка приводного механизма. И мог ли скромный инженер в организации, занимающийся чисто прикладными проблемами, рассчитывать на какую-то научную карьеру? Тут даже гению пришлось бы очень туго, а он был далеко не гений.
Но Петр Алексеевич этого никак не хотел понять. С маниакальной настойчивостью он придумывал глобальные теории, ставил никому не понятные эксперименты, осаждал редакции солидных научных журналов. Над ним смеялись в курилках. Начальство от одного упоминания его имени впадало в агрессию. Если бездельники умело находили прикрытие, то наш “гений” вызывающе с открытым забралом игнорировал плановую тематику. Его лишали премиальных. Не продвигали по службе. Запрещали обращаться за помощью к лаборантам и техникам. Но наш герой стойко сносил все гонения. Большую часть своей крохотной зарплаты тратил на покупку необходимых для научной работы материалов. Явно не доедал. Сколько я его помнил, ходил в одном и том же затасканном костюме.
Человек жил “не сообразуясь с веком сим”. И чего он достиг в итоге? У него никогда не было своей семьи. Не было детей. Мелкие радости жизни он игнорировал, отдавая все свое время главной страсти. Признание последующих поколений бедняга тоже не заработал. Когда в отраслевых институтах началась волна сокращений, его уволили одним из первых, не дав досидеть три года до пенсии. Осунувшийся с бегающими глазами он уносил с собой кипу исписанных тетрадей. На полках стеллажа еще некоторое время пылились несколько его приспособлений для экспериментов. При очередном “уплотнении” их вынесли на свалку…
Печальная история подстегнула новый виток дискуссии. Но я уже почти не слушал, и, погрузившись в какое-то отрешенное состояние, осматривал зал. Народ в основном здесь собирался молодой. Влюбленные парочки, шумные компании, девушки, забежавшие после работы выпить кофе и поболтать с подружкой. Дым стоял коромыслом. Публика курила, болтала, потягивала коктейли, пила пиво. Кто-то листал журнал с глянцевыми картинками, кто-то игрался с сотовым телефоном. Наглядный срез современной жизни пустой и безыдейной. Но кто дал нам право судить? Кто сказал, что наши заумные дискуссии для Вселенной важнее, чем болтовня вон тех двух симпатичных девчушек, или влюбленные взгляды парочки за соседним столиком. Мы со своими спорами, дамочка, листающая гламурный журнал, девушка с вычурной прической и трогательно пустым взглядом – лишь мелкие грани чего-то неизмеримо большего. Чей-то великий проект уходящий началом в тьму веков и исчезающий в тумане будущего. И кому решать, какой персонаж, какая грань лучше или важнее!
В тот вечер мы разошлись, недовольные друг другом. Споры зашли в тупик. А у меня вообще появилось ощущение, что наш кружок скоро распадется. Может быть потому, что мы начинаем надоедать друг. Потому что мы все-таки очень разные, и сама идея философских посиделок слишком уж необычна и даже противоестественна для современного мира.
Ночью я долго не мог заснуть. За стеной, обрывая последние остатки листьев, бушевал ветер. Скоро грушевое дерево у нашего подъезда превратится в скелет, похожий на план лабиринта, висящий на фоне холодного неба. И только один или два желтых листочка, как обычно, до-последнего упорно будут цепляться за свою ветку. А пройдет три четыре недели, и за завтраком из окна кухни я смогу наблюдать только огни фонарей и убегающие в утренний полумрак озябшие спины. Старая ведьма зима притащить за собой холодные ветра, снегопады, тоскливые ранние сумерки. В один из воскресных дней моя энергичная женушка, облачившись в рабочий халат, начнет заклеивать окна. Потом отправит меня выбивать ковры на свежевыпавшем снегу. С философским смирением я отправлюсь выполнять это и другие ее поручения. В будни, проглотив завтрак, в кромешной тьме буду выходить из дома, и в кромешной тьме возвращаться вечерами обратно. Веселый праздник Нового Года как всегда пролетит, оставив разочарование от несбывшейся надежды на чудо. К концу зимы наваляться простуды, авитоминоз, хроническая усталость. А снег, издеваясь над твоими ожиданиями, будет лежать, словно пришел на эту землю навечно. И почему-то заранее знаю, что наступит год, когда очередной весны я так и не смогу дождаться…
В ночь с четверга на пятницу я снова увидел лестницу. Сон тоже был цветным, но в поблекшей палитре проступали унылые тона поздней осени. Дул резкий ветер. Сгибая деревья, он заметал на ступени солнечный свет и высохшие трубочки листьев. Внизу бесновалось море. Грязно белые барашки волн вспенили поверхность, и казалось что притаившийся за скалой чертенок из пушкинской сказки остервенело взбивает кончиком хвоста воду. Подавленный безотчетной тревогой, я стоял где-то на пол пути между бухтой и храмом. Страшно было спускаться вниз к бушующему морю, не было сил подниматься выше. Ветер кидал на мои сандалии охапки сухих листьев. И с каждым его порывом усиливалось чувство близкой или уже свершившейся потери.
Проснувшись, я стал допытываться у супруги, какие сны сбываются с четверга на пятницу или со среды на четверг. Она, как ни странно, отнеслась к этому серьезно и даже позвонила подруге хорошо разбиравшейся в снах, гаданиях и приметах. Правда предварительная беседа подружек затянулась надолго. Обсуждая новости, жена, похоже, забыла, о чем собиралась проконсультироваться. Мне нужно уже было идти на работу, и поэтому из дома я вышел в неведении был ли мой сон вещим. Очень хотелось надеяться, что все мои ночные страхи лишь гримасы подсознания, но чувство непонятной тревоги не оставляло.
На работе случился очередной конфликт с Кулькиным. Мы работаем вместе уже много лет, и все это время коллега меня искренне ненавидит. Временами неприязнь его переходит в скрытую форму и порой даже кажется, что Кулькин честно старается меня полюбить. Но это у него плохо получается, и из-под тлеющих углей огонек ненависти то и дело вырывается наружу. Возможно, причина весьма банальна. Как человек с высшим образованием в иерархии нашей фирмы я оказался на ступень выше Кулькина. Нельзя сказать, что я его начальник, скорее промежуточное звено между ним и начальством. Вот это все и определяет! У российского человека ( а Кулькин человек типично российский) в отношении к начальству искреннее обожание перемешано с со столь же искренней ненавистью. Чем дальше и выше начальство, тем сильнее обожание. А вот на том, кто чуть выше тебя по статусу, можно и отыграться. Сравнивать с землей горы никто не берется. Далеко они эти горы, да и труд это непосильный. Зато срыть бугорок святое дело. При первой возможности лопатой его по макушке! Чтобы ничего рядом с тобой не выпячивалось, и никакая земная выпуклость не оскорбляла взгляд равнинного жителя. Хотя, вполне возможно я ошибаюсь и причины ненависти ко мне коллеги, куда глубже.
Подловив на незначительной оплошности, Кулькин весьма неуважительно высказался по поводу моей квалификации. Я взорвался, позволил втянуть себя в дурной и пошлый спор о том, кто больше работает и кто как специалист лучше. Для Кулькина такие выяснения отношений родная стихия. Я же, понимая всю глупость подобных прений, заранее обрекаю себя на проигрыш. Трижды прав был Николай - сидеть в партере и наблюдать за клоунами куда достойнее, чем вмешиваться в их драку. Но стоит лишь только зазеваться, и ты уже на арене получаешь по голове хлопушкой.
Настроение на весь день было испорчено. Вечером, направляясь в сторону нашего бара, я мысленно прокручивал сегодняшнюю ссору. Знаю, что только извожу себя этим. Но сознание с каким-то мазохистским наслаждением снова и снова проигрывает неприятные сценарии. В какой-то момент я даже почувствовал, что не способен сегодня нормально общаться с друзьями, и чуть было не повернул обратно. Но в итоге все-таки удалось себя пересилить. Вступая на эскалатор, я с шумом выдохнул мучившие меня мысли, и к бару уже подходил оставив все дурное и раздражающее за порогом.
За нашим столиком сегодня сидел один только Александр. Поздоровавшись, он сообщил, что у Стаса какие-то неприятности по работе, и сегодня он не придет. С того времени, как возник наш клуб, такое случилось впервые. Стас всегда был примером верности традициям, и известие о его неявке опять разбудило неприятные предчувствия близкого распада.
Читать полностью
|
|
ГАЛЕРЕЯ А3 В ЭЛИТАРНОМ СТИЛЕ |
МОНОХРОМ
Сессии московских художников в Галерее А3
28 мая - 13 июня 2010

Художник Александр Трифонов на фоне своей картины "Зеленая бутылка". 28 мая 2010
Шестой сезон «Сессий московских художников» в Галерее А3.
Мonochromos, (греч.) одноцветный – понятие, не отрицающее цвета как такового, чаще используется как синоним черно-белого, на деле являясь гораздо более многозначным. Сложные, почти неразличимые градации в границах одного цвета, либо лапидарные столкновения цвета и ахроматического ряда, а так же не обладающие собственными колористическими характеристиками объекты – все это пространство, определяемое как МОНОХРОМ.
Использование единственного цвета, либо отказ от цвета вообще - это переход в область лимитированных выразительных средств. Если представить себе некую «шкалу свободы», то с одной стороны она окажется ограниченной внешними (техническими) условиями, а с другой - исключительно внутренними, установленными самим автором. Выбор монохромного решения – это возможность применить в художественной практике принцип «Лезвия Оккама», отсекая все те «артистические сущности», что становятся излишними в стремлении к предельной, абсолютной выразительности.
Любопытно, что практически все монохромные техники в момент своего появления являлись наиболее передовыми – от линии, проведенной углем на стене пещеры до монохромной вазописи, от гравюры до дагерротипа, от черно-белого кино до первых копиров. Достаточно быстро развитие технических возможностей оттесняет каждое новшество в категорию архаики – и с течением времени этот процесс становится все более стремительным, - но часто именно с утратой «ауры новизны» происходит переосмысление скрытых качеств материала, и, как следствие, его актуализация.

Открытие выставки "Монохром" Татьяна Кострикова, Александр и Андрей Волковы. 28 мая 2010

Открытие выставки "Монохром" в галерее А3. 28 мая 2010

Открытие выставки "Монохром" в галерее А3. 28 мая 2010

Открытие выставки "Монохром" в галерее А3. 28 мая 2010

Клара Голицына на открытии выставки "Монохром" в галерее А3. 28 мая 2010

Андрей Гросицкий изучает картины на выставке "Монохром" в галерее А3. 28 мая 2010

Евгений Гороховский. 28 мая 2010
|
|
За 25 лет в этих залах прошло более 600 выставок российских и зарубежных авторов |
|
|
 |
|
|
"Одним росчерком пера произведения оказываются неизвестно в чьих руках"
|
|
|

Фото: Григорий Собченко / Коммерсантъ
|
Присылайте ваше мнение на мой Facebook: butkevich936
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/1837940
|
|
руководитель Департамента культуры города Москвы С.А. Капков с подачи Начальника Управления культуры ЦАО Р.Р. Крылова-Иодко |
На снимке: директор выставочного зала "Галерея А3" (А-три) художник Виталий Валентинович Копачёв на фоне своего масштабного авангардного полотна
Открытое письмо
мэру города Москвы Собянину Сергею Семеновичу
«Культурные» власти города закрывают знаменитый Московский выставочный зал «Галерея А3»
Мы, представители культурной общественности столицы, обращаемся к Вам, уважаемый Сергей Семенович, с просьбой разобраться в ситуации, сложившейся вокруг знаменитого Московского выставочного зала «Галерея А3» и предотвратить его уничтожение.
Как стало известно, новый руководитель Департамента культуры города Москвы С.А. Капков с подачи Начальника Управления культуры Центрального административного округа Р.Р. Крылова-Иодко в ноябре 2011 года подписал Приказ о ликвидации одного из самых известных выставочных залов Москвы – «Галерея А3».
«Галерея А3» выделяется среди других выставочных залов столицы своей, без преувеличения, уникальной историей. Основанный в 1986 году, этот культурный центр прошел путь от районного выставочного зала «Арбат» до Государственного учреждения культуры «Московский выставочный зал «Галерея А3»».
За 25 лет в залах «Галерея А3» было проведено более 600 выставок российских и зарубежных авторов. В проектах галереи участвовало около трех тысяч художников – как московских, так и представителей регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.
«Галерея А3» известна широкому кругу искусствоведов и зрителей, прежде всего, как творческая лаборатория, дающая путевку в большое искусство многим молодым художникам.
При галерее сформировался коллектив опытных кураторов, искусствоведов, которые занимаются научно-просветительской деятельностью в области современного искусства и пользуются заслуженным авторитетом и уважением среди своих коллег, как в России, так и за рубежом.
Следует отметить, что руководство, сотрудники и члены научно-художественного совета галереи на протяжении многих лет работали за мизерную зарплату или на общественных началах.
За последние два десятилетия на базе галереи сформировалась музейная коллекция картин современных художников «Открытые фонды». В настоящее время коллекция насчитывает более 350 единиц хранения и постоянно пополняется новыми именами. Значение собрания такого масштаба для культурной жизни столицы трудно переоценить. Все это время художники безвозмездно дарили свои произведения именно Государственной Галерее А3. Однако сегодня они шокированы – одним росчерком пера их произведения оказываются неизвестно в чьих руках. Вынуждены с сожалением констатировать, что в результате ликвидации юридического статуса выставочного зала обманутыми оказываются сотни известных художников.
Самое трагичное, что приказ С. А. Капкова ликвидирует не только юридическое лицо, но и ставшее привычным для художественной общественности столицы название галереи, тем самым перечёркивая всю её историю, вырывая из истории Москвы мощный культурный пласт.
Начальник Управления культуры ЦАО Р.Р. Крылов-Иодко объясняет такое решение необходимостью объединить выставочные залы Центрального округа столицы для более эффективной работы. Мы же видим, что за этими объяснениями скрывается неблаговидная цель. Галерея работает очень эффективно, это очевидно, подтверждение тому выставочные и культурологические проекты в Москве и за рубежом, работа с молодёжью. Работа галереи всегда получала высокую оценку специалистов, вызывала интерес у широкого круга зрителей. Ноябрьский приказ С. А. Капкова не даёт выставочному залу «Галерея А3» утвердить разработанный Департаментом типовой Устав выставочного зала и фактически ликвидирует популярную культурную площадку столицы.
Департамент культуры Москвы и Управление культуры ЦАО до последнего времени держали в тайне подготовку, прохождение и подписание в ноябре 2011 года по сути ликвидационного Приказа. Поэтому его подписание стало для руководства галереи и художественной общественности неожиданным и тяжёлым ударом. Г-н Крылов-Иодко до сих пор не проинформировал руководство галереи, культурную общественность столицы о целях и задачах «объединения» выставочных залов Центрального Округа, которое на деле оказывается уничтожением Государственного выставочного «Галерея А3». В настоящее время «Галерея А3» является единственным некоммерческим учреждением культуры, расположенным в районе Старого Арбата, возможно именно этот факт не дает покоя чиновникам от культуры.
Культурная общественность Москвы не может оставаться равнодушной к творимому вандализму, беззаконию и надеется, что Вы, Мэр Москвы, сделаете всё возможное, чтобы сохранить легендарную галерею.
История Галереи А3
http://www.a3gallery.ru/index/istorija_galerei/0-22
О ситуации вокруг Галереи А3
Комментарии, мнения, письма
Читать далее
|
|








