То,что не было записано, того не существовало.
Юрий Кувалдин
старый дневник "Наша улица"
http://www.liveinternet.ru/users/4515614/
УТРЕННИК, ДНЕВНИК, ПОЛДНИК, ВЕЧЕРНИК, НОЧНИК |
Никита Янев

Из книги эссе “Дневник Вени Атикина 1989 – 1995 годов”
ПРО ГОГОЛЯ
Гоголь более русский тип, чем Пушкин. Ведь быть уморенну гораздо менее народно, чем уморить самого себя. Недаром в 2937 году части народа, подлежащей убиению от имени другой его части была инкриминирована именно чуждость. В этой казённой неправде по вечной печальной русской иронии есть большая правда. Тут ведь дело не в интеллигентности перед неинтеллигентностью, тёмностью. Тут другое. Здесь скорее, из темноты судьбы интимный выбор на самоуморение, всякое просветление отстранение от сплошного с потайным делается заложником, жертвой самоуморения, умаривается тоже. Почему так? От неразрешимости выбора между историей и природой, сказали бы мы. От провидения, сказал бы православный христианин. От предназначения всякого народа в истории, сказал бы умудрённый западникославянофил, какой-то кентавр Хомяков – Чаадаев…
А Гоголь ничего не сказал, кроме того, что ему хорошо лежать лицом к стене. Наконец-то. И чтобы все отстали. Сладко, благодатно и единственно. Зачем водка, зачем мат, зачем блуд.
ПРО МАТ
Бытие значит. Добраться до сокровеннейшего – дружить с голизной. Открывшаяся, явленная в новейшей истории бездна лишь обрамляется концом истории или, скажем, безбожием личности. В таком положении измерить её, понять, поять – жизненно необходимо. Занимаются этим соответственно – учёные, философы и поэты. Это все люди. Учёный, ученый жизнью человек скажет: наука жить – это метод обходить бездну. Профессионально. В поделках. Подделках под жизнь. Т. е. обрамиться делами, не жить, обходиться. Философ скажет: понимание – не значит быть бездной, а значит быть с бездной. Поэт скажет: жизнь нужно поять, жить с ней. Сущность жизни – бездна. Зерно бытия – небытиё. Понимание этого и есть человек. Просто человек, без профессий. Дальше ему надо становиться. И он делается профессионалом. Скажем, алкоголиком, т. е. принципиально – поэтом. Он сам слово. Слово о бытии. О своём бытии. Слово матерящееся, безобразное, откровенное.
Что есть мат? Мат сводим к одному слову, называющему акт эмпирического бессмертия существа, в данном случае человека, размножения. Но мат абсурден. Ибо он в мать. В таком смысле он есть словесный заговор, вгоняющий не токмо сущность человека, к кому обращается заговор, обратно в лоно, в род, зачатие, небытийствование, но, поскольку всякий язык мифичен, физического человека в несуществование, разматериализацию, аннигиляцию. И в таком случае он есть просто психоаналитическое средство снятия аффекта на нашем уровне общежития с бездной. Ведь я только что при помощи шаманского камлания разматериализовал себя или оппонента. Но мы вот они есть, сенсорно ощущаемы. И о чудо. Значит что-то есть. Бытие есть, жизнь есть. Аффект снят.
Тело со всей своей психической функцией на мгновение вылечено, ведь сущность всякого аффекта в ускользании бытия: ничего нет и ничего не бывает. Выходит, человек матерится не потому что у него нет “ничего святого”, сколько потому что он боится это святое, внятность ощущаемого бытия, потерять. И вот он “засовывает” себя в утробу (в мифической реальности), поскольку всё же уста его, глядит оттуда на своё место в мире и как бы говорит себе: ан нет, всё же, что есть, что-то сладкое, смысл, существование и забирает его себе, имает, ловит кайф. И так каждый раз. Но из медицинской практики мы знаем насколько притупляется сильнодействие средства при его частом употреблении.
ПРО РУССКУЮ ЛИТЕРАТУРУ 19 СТОЛЕТИЯ
Организовать свои отношения с книгами, с людьми и с местами. С книгами надо понимать, с людьми надо ждать, с местами надо жить мне. Люди сами места и книги, в некотором роде. Местности и мысли, линии и краски. Это нехорошее отношение. К себе мы относимся по-другому. Как к чему-то неделимому. Нужно или к себе относиться по-другому, или к людям как к себе. Т.е. всё время искать собирающий ключ, совпадение. Но я не знаю, насколько это возможно в жизни и не будет ли такое всё равно отвлечением от точной живой жизни, называемой человеком, именем. Я, скорее, склоняюсь к первому. К тому, чтобы отвлекаться от себя, считать себя героем собственно себя, т.е. всей жизни, уходящего своими таинственными корнями во всю жизнь без остатка.
Такое раздвоение по лермонтовской аналитически – артистической методологии сулит несказанные несчастия, но это наследство Европы, которое мы, русские, восприняли настолько прочно, что воспитались на этом как на собственной судьбе во многих поколениях. Такое раздвоение сулит пустоту внутри, между, и есть собственно нигилизм, как он предсказан Ницше и показан Хайдеггером, но задолго до этого преодолён всем ходом классической русской литературы (в частности прозы, аналитический аспект) 19 века, самый нерв которой есть преодоления ада пустоты между кощунственным сарказмом над обыденной жизнью и мертвенной патетикой лирического прозрения, проницания существования у Гоголя, который и наметил, и определил весь ход этой работы, сам замахнувшийся на этот гигантский труд и сломавшийся, надорвавшийся над абсолютно невыполнимой задачей преодоления сей бездны для себя.
Далее Лермонтов фиксирует сию психоаналитическую бездну с фундаментальных позиций и намечает пути чистилищу Достоевского (здесь особо примечательны язык и приёмы. Насколько невозможно от воскового, совершенновылепленного языка и фантомного мышления Гоголя перепрыгнуть к аналитическому мышлению и “психическому”, невыдержанному письму Достоевского без приёмов психологического романа Лермонтова и его кристально – чистого и несколько банального слога), для которого как и для Гоголя все картины его это он сам и средство преодолеть некий недуг в себе, но насколько жизнь в его лице приобретает средство к борьбе, настолько в лице Гоголя – лубок отчаяния.
Так же точно невозможно перескочить от Достоевского к Толстому, разбившему на своих страницах прекрасно-холодный, чувственно-аналитический рай, без хоть бы одного романа Гончарова “Обломов”. И здесь как в “Печорине” ситуация меняется наоборот. Роман наполовину философски-эстетический трактат о сверхчеловеке Штольце, наполовину великолепная проза о райской, ностальгической, поэтической, отмирающей помещичьей жизни Обломова. Ведь недаром Толстой выбрал именно период 10-20 годов 19 века. Ситуацию чуть не единственного русского воплощения за 1000 лет общежития по неизвестному нам до сих пор поводу. Здесь всё имеет свои смысл и цену, и европейская прививка Петра, и война 812 года, и экономический надлом за сто лет до этого, и небывалый культурный и общественный подъём, и лебединую песнь русского дворянства. И через 40 лет это уже оценилось Толстым, ибо прошло не 40 лет, а целая бездна, эпоха исторического времени.
Вырождение русского дворянства (посмотрите линию Толстой – Бунин – Набоков именно в интересующем нас аналитически – эстетически – нигилистическом отношении и вам многое станет ясно), как бы цена этого постижения и рая в Толстом. Здесь реально применимы пушкинские слова в самой своей поэтике, “что пройдёт, то будет мило”. Единственно возможный на земле рай, как воспоминание, как ностальгия, как память, как некая твёрдость в самом человеке чтить и блюсти его в реальном, исполненном пустоты мире. И здесь линия Толстой – Бунин – Набоков так же актуальна и аналитически глубоко разрабатываема как линия Гоголь – Лермонтов – Достоевский – Гончаров – Толстой для современных судеб людей и страны.
Посмотрите, деятельность всей второй половины Толстовской жизни разве не один философски – нигилистический трактат, о чём удачно писал Шестов, смысл которой может быть сведён к гениальной философии смерти в “Смерти Ивана Ильича”, тогда как “Война и мир”, по сути, великолепный рассказ об Обломовке и её обитателях. Так же как у Лермонтова в его маленьком произведении чётко как в капле воды отпечатывается живой мир как чистилище, преодоление бездны вне человека как её самой внутри него, так потом у Достоевского драма разворачивается до своих космических пределов. Как у Гончарова итог пушкинской мысли дан в блестящих и беглых мазках и штрихах к портрету, так же чуть позже у Толстого, как бы оканчивающего весь дворянский период, когда он давно закончился, мысль эта разворачивается с небывалой ясностью и отчётливостью. Я бы в школе или где там ещё так и давал Толстого, сначала “Смерть Ивана Ильича”, а потом “Войну и мир”, чтобы было понятно, откуда такое необыкновенное понимание жизни, прямо животом, а не умом, от страха и ужаса абсурда смерти. Так же, как, впрочем, и весь свой курс я бы порекомендовал в школе.
И вот потом, в довершение смысла, к нам являются две фигуры. Чехова как завершителя русской классической традиции и одновременно, конечно, декадента, ибо без него невозможен переход, ни к символистам, ни к так называемым декадентам, по сути, к русской революционной ситуации, грубо (исторически) говоря. И только потом Пушкина- прозаика. Важна развязка. Чехов, увязнувший между Гоголем и Пушкиным. И Пушкин, “зависнувший” со своей непостижимой “преибыточной” мерой над “пустой” мерой Гоголя, над “холостой”, а по сути фальшивой мерой Достоевского, над “холодной” мерой Толстого. Чехов как всякий декадент (фин де сьекль) мятётся между пропастью без дна и живой жизнью, исполненной полноты. Его артистизм и его холодность, то что позволяет его назвать собственно мастером, единственно мастером в русской литературе и одновременно мелким писателем позитивного толка. И насколько это вплетается в общее течение мирового декаданса (Флобер, Акутагава). Артистическое письмо, законченное в себе (танка – Мандельштам) и неуловимый смысл, скорее, не смысл, а впечатление, настроение полноты жизни, которые только и могут быть переданы в импрессионистически-аналитической восточной манере. Два – три штриха, не больше, и вот портрет, к которому жизнь должна примыкать как лошадиный торс к человеческой голове у кентавра.
Но собственно русское достижение это, всё же, нечто большее, как раз относящееся к тому периоду, который мы назвали коротким русским плодоношением, двадцати пяти летием царствования Александра. Без идиллии, а основываясь на памятниках, реальных текстах, их подробном и глубоком понимании на основании трагического и я убеждён героического (в древнегреческом смысле этого слова) опыта современной нам жизни. “Станционный смотритель”, “Пиковая дама”, “Капитанская дочка” лучшее лекарство просто, и многие это чувствуют, но что это за лекарство, и почему оно такое, это ещё надо понять. Понять как иероглиф, посланный нам жизнью наудачу о том, что живое в ней никогда не пропадало, но просто закрывалось, когда так получалось, что мы закрывали это в нас самих. И понять это внятней всего в противостоянии Чехов – Пушкин, по-моему. Ведь жертва всё равно приносится человеком (таково положение вещей), вот и важно понять, к чему её приспособить. Ответ на этот вопрос сполна есть только у Пушкина, его ещё надо разгадывать и разгадывать, и в том числе текстологически, по предложенному образцу. Он жизненно важен для нации и является одновременно целью, задачей и местностью её существования и осуществления. Здесь мы возвращаемся к началу нашей статьи. Как организовать отношения с книгами, людьми и местами, чтобы получилась жизнь, и ставим на этом точку пока, ибо как было сказано, точная и чёткая постановка вопроса чуть больше половины ответа вмещает в себя.
ПРО ДЯДЮ ТОЛЮ И БАБУШКУ
Я ехал после армии в Москву за тремя вещами: за тусовкой, за любовью и за посвящением. Это и есть – поэзия, философия и вера. Это и есть трехипостасность Бога и мира. Бог-отец, Бог-сын, Святой дух. Грубо говоря.
Дядя Толя хмельной бьет крышкой кастрюли восьмидесятилетнюю старуху мать. Несильно, от озлобленности своей на мир. Но она старая и скоро умрет, а он как-никак сын и рядом и ухаживает, хотя бы тем, что рядом. Вот это и есть Бог-отец. И я это тогда почувствовал, когда был последний раз в деревне. Ветхий завет. Со всем: с ничтожным, низким, жалким, подлым, гнусным и вместе, почти тут же, великим, нежным, мягким, заботливым, жалостным, тонким, даже умным, всегда помня о том, другом. Всё это есть сейчас в кондовейшем русском общежитьи, но кто опустится на такую глубину праха, рассмотрит, покажет свету, что он еще силен, не весь еще сгнил. На манер того, вспомненного Розановым, обычая с вывешиваньем рубашки невесты и простыни на свадебном застольи во свидетельство силы жениха и непорочности невесты.
А я тогда не выдержал, психичка, этого постоянного подглядывания друг за другом и диктата, давления друг над другом. Влезания в душу друг другу. Хотя и понимал, что все это “фюзис”, цветок, который так распустился теперь. Армия, метафизика, нигил. Все схвачено и все в связях. Нет ничего, кроме меня и я блюду всю прилегающую местность. Что это и есть Бог-отец, страшное и вместе, внутри ласковое рощение отцом сына, доморощение, домостроение.
И все это на нервном срыве. Не выдерживаю, сам блудник и психопат, подноготник еще пуще дяди Толи. С его двадцатью пятью годами службы водилой сержантом в милиции, пьянками, драками, замученной женой, умершей от рака. Дочерью – московской советской царицей блюстительницей бала женщиной хлебосолкой матерью.
Профессиональным алкоголизмом, золотыми руками. Все делает сам, работая в милиции, шпаклевал богатым заказчикам полы, клал паркет, делал ремонты. В деревне выделывал все что нужно: грабли, сохи, мебель. Перекапывал два раза в год, весной и осенью, огород, огромный надел земли “лопаткой”, все лето глудья на картошке разбивал деревянной самодельной колодой. Все это при полнейшем равнодушии к результату, урожаю, итогу. Лишь бы была бутылка или на бутылку и тема о чем поговорить, тот же урожай. С непременным переходом от благодушия “ у дугу” к ненависти и драке, “кила болит, гудня б…..я” после.
Потому что в свое время, лет с одиннадцати, все лета проводил в деревне, и он меня выдрессировал на постоянной трясучке, ознобе, когда друг мимо друга проходили. Причем, ясно за что ненавидит, за то, что рядом. Был бы рядом столб, и столб ненавидел, но живой человек лучше, больше поводов к ненависти. Он и рот раскрывает, и за себя когда-никогда постоит, чем еще больше раздражит, до швыряния камней, топоров, ведер, плевков в лицо. Удивительно, что еще будучи одиннадцатилетним мальчиком (я всегда был довольно хил), я всегда его побеждал, забарывал и сидел на нем в конце драки. Вот оно – бессилие гнева, перегорание всего организма в сухом огне самосожжения гнева.
Да еще и моё нынешнее невоплощение, тоже уже исконно русское с возрастом. Неприкаянность, неприспособленность, ненужность меня жизни этой с людьми. Не выдержал и когда в очередной раз был “послан”. Якобы помогал, картошку пропалывали. Хотя никакой помощи эмпирической, материальной ему не надо, но буквальная, чтобы кто-то был рядом. Он в этом нуждается больше других, один не может вообще, по крайней мере, раньше не мог. Может быть, теперь со смертью бабушки (матери) останется в деревне и привыкнет. Но вряд ли. Хотя, это было бы хорошо. По человечески. Но он бы спился окончательно. С соседями. Один по правую руку, Синель. Заросший густым синим волосом мужик, похожий на лесного духа, какого-нибудь кикимору или лешего раскорякой. Другой, по левую, Сербиян. Лет тридцати пяти. “Работать не хочет”. “Не служил”. Сбежал. Оба сидели, в деревне все пьют и спиваются. Люба, дочь, его заберет в Москву и дядя Толя будет пить и смотреть за детьми.
И вот когда послал в очередной раз, я не выдержал этого мнимого унижения и послал его тоже. Хотя года четыре уже не мог слышать мат, сидел дома и ненавидел вокзальную современность. Он бросил в меня комлем, я бросился на него и в прыжке сбил ногой, повалил на землю, вывернул голову, зажал рот, чтобы не смог плеваться, сел сверху, держал руки пока утихнет в буйстве бешенства и ненависти. Как будто и не было этих семнадцати лет. Армия, институт, одиночество, работа, литература. Ясно помню точный расчет движений в неподвижности мысли, когда бежал, когда прыгнул, когда толкнул ногой, чтобы упал. И полная неподвижность, как будто нет ничего, кроме этого “ничего” и узкой как нитка стрелы задачи – обезвредить.
Не заступался, когда ругался матом при мне на бабушку, потом видит, что я ничего, а может и не следил, а само по себе, раз не останавливают, не говорю, стал вести себя как обычно, кривляться, гримасничать, бить, толкать. И бабушка плачет, и ясно видно, что все это по злобе и не по злобе одновременно. Так получилось. Бог-отец. И мое: пусть будет так, как будет. Это хорошо и глубоко, нет ни малейшей силы, другой, поворотить, изменить что-либо. Но вот когда коснулось меня, только меня и одного меня и сам уже озлобился, что не дали почитать ночью и следят все время. Как будто и нет меня, а есть только они. Когда “оскорбили”, так сразу бросился разоружать, заступаться за себя в себе.
Сразу стало все легко, хорошо, понятно и ясно, как слез с дяди. Надо уходить. И весь простор, глубина и свобода “уходить” открылись. О, это мое всегдашнее уходить. Я всегда только ухожу от всех вещей и людей мира и жизнь свою построил так, что единственно твердым в ней осталось: еда, сон, редкие любовь, чувство, тетрадь (письмо), книга. А все остальное, другое, оставшееся почти все – уход, надвигающаяся пустота – уход от которой только к этим твердым вещам.
Спасительны мысли, воспоминания, чаянья, но это так редко приходит, а по- другому построить свою жизнь не могу.
А уходя, сказал бабушке, что подрались с дядей Толей. Садизм любопытства, бестактность тона, что то, что произошло сейчас с тобой космически важно для всех других. Бабушка заплакала и сказала, а как же она останется, и стала собирать что-то на дорогу. Я совсем без чувства стал “забирать её с собой”. Понимал, что все это пустое. А она стала извиняться передо мной. Что она передо всеми виновата, восьмидесятишестилетняя старуха, родившая всех. Что она теперь это понимает и передо всеми извиняется. И я почувствовал, была в ней, в её словах, и жалость к себе, но уже очень мало. Но главное, большое, не усталость даже, желание на все махнуть рукой, кинуть все, тем более что ничего и не осталось, все попралось грубостью, жестокостью и холодом жизни. А Бог-отец. Как мы все со всеми нашими отношениями и несказанным перемешиваемся вместе с другими вещами мира в какого-то сказочного Бога-отца, который все время здесь, все время рядом, где-то сбочку, туточки, возле лица, за спиной, как смерть, на затылке, на темечке, как нимб священного сияния, за створом двери, за поворотом, за деревом, на ветке. В общем, везде и нигде конкретно, как вещь, как общая радость, на которую бы все могли придти, и показать пальцем, и надорвать животики, и облегчиться.
ПРО МЕРУ
В Ахматовой было веденье. “Но Софокла уже, не Шекспира предо мной темнеет судьба”. Это и есть русская революция и дальше от европейской истории к своему русскому искусству, своей русской судьбе, от европейской серединной драмы к крайнему трагизму меры, удержанному в общежитье ценой жертвы и подвига. Гамлетовская тусовка это претензия знать точно, судить. Трагедия, трагичное продвигается дальше вглубь мироздания. Но Гамлет не трагичен, он драматичен (интересен, глубок, захватывающ в сложности), а трагичен мир, который так устроен. Тогда как у Софокла мир и герой одно – это мера, по которой всё существует и погибает, когда убивает её в себе.
Жертва и жертва. Жертва древняя это торжественное праздничное приношение богам (главным) в знак того, что они по-прежнему главные и он ни в коем случае не покусился стать главным. Жертва современная это газетное происшествие, просто гибель человеческой жизни, которая уже настолько важна, что всякая такая гибель в любом происшествии, будь то пожар или захват “Боинга”, есть жертва. Здесь почти гласно присутствует смысл, что человеческая личность – самое главное для мира и жизни, и её гибель есть жертва трагичности, абсурдности мира. Гамлет – жертва нелепости положения, в котором ничего не понятно, не определено ясно и до конца, но разворот событий требует немедленного решения и поступка. Трагичен мир, он меняется каждый миг как ловушка, но Гамлет самодостаточен, неподвижен и неприкосновенен как бог, он сам бог, взятый отдельно от этих меняющихся обстоятельств жизни.
Трагичность в современном мире это нелепая жестокость. Трагичность древнегреческая, по сути, синоним необходимости. Показательно, что филологи перековеркали пушкинское название. Не маленькие трагедии, а драматические отрывки. Пушкин, человек новейшего времени со всем своим умом останавливает действие на пороге трагичности, когда драматичность положения исчерпана. Маленькие трагедии это смешно. Это как “человечек” в разговорной речи с присюсюкиванием, нужный человечек. Драматические отрывки это в точку. Отрывки, потому что драматические. Драма всегда серединна, она не знает откуда и куда приводить героя, ведь герой сам себе бог, он самоценность, интересно, что у него там внутри как то, что снаружи него. Драматические, потому что отрывки. Человеческий дух стал метафизичен, отрывочен, как только стал самодостаточен. Если не существовало смерти, тогда ладно, всё успеем, а так: или – или. Вот предмет драмы, не трагично, страшно, а драматично, интересно. Трагикомично, занимательно, замечательно, что же герой выберет, как он отличится в силу своей правоты.
У Пушкина это наработанный приём, на это набита рука. Пушкинская форма всегда незавершённа, он кентаврична. Недаром Пушкина сравнивают по форме с Чеховым, другим творцом формального кентавра, эквивалента художнической, артистической меры в русской прозе. Именно по схеме: драматическое – трагическое. Всё трагичное, как голову героя, он оставляет жизни, и рассказывает об этом весьма драматично, интересно, рисуя торс животного. По сути, это дуэль, с кем вы, с трагичной жизнью, значит, сразу отдайтесь ей, чтобы не было и речи о жертве, чтобы жертва была загнанна вглубь естества, вместе с жизнью, неотделима от неё, и всё тут, а какая она там, Бог разберёт. Или вы судите жизнь, смеётесь над нею, интересуетесь ею. Не трагичное уже отмеряет меру человеческого поступка, но драматическое соперничество самолюбий жизни на пространстве художественного произведения, отвлечённого от жизни, доводит положение до дуэли драматического и трагического, высокого и низкого, своего и чужого.
Такая мера подвижна, она всегда сверх меры, ницшевское сверхчеловеческое воление в разрезе. Каждый раз она на новом месте, как ловушка в “Сталкере”. Она всегда может сказать что-то новое про жизнь, но жизнь ей готовит главную неожиданность. То, что она живая, живая всё время. Антигона только заступается за меру. Гамлет хочет быть мерой. Пушкин – мера. Как только понимание положения жизни из драматического делается трагическим, движение художнической мысли останавливается, дальше собственно дуэль, поступок жизни. Пазуха искусства понимания не может длиться очень долго, для сознательного Пушкина это семь лет. Дальше он не выдерживает и срывается на трагический поступок в роде Антигоны, но с обязательным привкусом светского скандала дурного тона, ведь жизнь не более как драматична и не об чем ломать копья.
Здесь государственное и государственное. Пушкин стрелялся с интригой. Дантес тут, конечно, не при чём. Если уж кого и подставлять, то, скажем, Маяковского с его буффонадой трагического. Держава держит в своей ежовой рукавице. И страна, и жизнь здесь одно и то же, ибо держимый, что одержимый, об этом может рассказать собой самим или с собой самим, разница немалая.
ПРО ЧМО
“Через человеческое обращение в Бога всего”
Т.е., или человек может превратиться сам в бога всего, или обратить всё в Бога вместе с собой. Т.е., остаётся что-то такое невыясненное в самом человеке, к чему можно относиться как к начальнику и отдавать ему его именно отдельно. Как это делало искусство, только на бумаге. Можно сказать про это – жизнь, а можно – язык, а можно – Бог. В общем, все самые банальные, обычные, тёплые слова подходят, они утоплены в это, так что дают почувствовать это, когда вы настроены должным образом. А настроены должным образом вы лишь тогда, когда вы понимаете, что вы только переносчик (хранители, пастухи бытия у Хайдеггера), (попутчики, сочувствующие, если пользоваться большевистской и советской терминологией) от природы к слову (от фюзиса к логосу в Древней Греции) со всей своей европейской личностью и христианским гуманизмом, которые как паук оттягали себе удобства жизни на современном Западе в виде модного прикида, вкусной хавки и сладкой житухи. Русского человека, слава Богу, пока всё ещё не совсем на это хватает, его ещё надо заставлять работать, чтобы жить как в Америке. Т.е., другими словами, он ещё отдаёт Богу Богово, а кесарю кесарево.
Но метафизическое обращение его в бога всего делает его автоматически деталью механизма: мир есть бог для тебя, в том смысле, что бог это сладость жизни. В конце концов споры богословов о царстве Божием на земле, и если оно воплотится, оно будет антихристово, а не Божие, потому что Божие не от мира сего. Шифр, заложенный в этой легенде, верен, что самое смешное, когда вы начинаете его расшифровывать, то говоря про одно вы всегда имеете в виду и другое. “И поэтому мудрый ощущает мир животом, а не глазами, поскольку отказываясь от одного, он обретает другое” Дао де дзин. Живот на древнерусском языке – жизнь. Ощущать животом, своей личной жизнью, это отвечать за свой базар. Русский переносчик от жизни к языку уже знает, в отличие от грека или европейца, что Бог у него в животе, совсем отдельный, как деточка, и его служба чиновная, он как роженица. Или всю жизнь должен пить, потому что не знает как быть с этим, или потихоньку отдельно держать и постепенно отделять, отлеплять, как роженица, как чмо армейское: сам в ничтожестве, в поту, пустой, зато когда бьёт ребёнок ножками или другие бравые и славные ногами в живот, тогда становится память, что-то такое, что можно назвать и совесть.
Бешляга приезжал по своим делам в батальон и водил вино пить в Дурлешты, даже, кажется, извинялся, ну не то, чтобы что-то слёзное, но хорошо бы в этом пункте иметь чистую совесть, быть добрым мужиком. Ночные подъёмы. Ребята выпили. Надо кого-то бить. Самых чмошных. Пересменка. Из одного призыва избирается несколько посвящённых, которые пьют вместе с сержантами, мальчиками, которые на пол года или год старше, а то и младше на много лет, потому что в одном призыве могут быть и восемнадцатилетние и двадцати четырёх. Короткий. Бешляга. Ну ещё несколько крепких мужиков. Причём, это не какоё-то план, это просто жизнь. Другие как я лазят через забор части в подъезды соседних домов вытаскивать газеты из почтовых ящиков. Тоже метафора жизни, но жизни гражданской, неприятие, по сути, жизни армейской. Или как я убегал в ночное к дяде Юре в Одессе, чтобы полежать на диване, поесть варенье и посмотреть телевизор. А утром сумасшедшая тётя Лида, дяди Юрина жена, действительно, какая-то безумная еврейка, старый район Одессы, Молдаванка, кажется, выстригала какие-то шахматные клоки из головы, потому что на поверке в 8 часов все должны быть подстрижены. Кто не успел, в наряд или в челюсть. Вот уж действительно неуспел, не преуспел, один на голом пространстве среди какого-то сплошного несчастья, тоска.
Вообще-то, место перед строем должно войти в памятники времён. Там два места, для кесаря и для Бога. Для сержанта и для его оппонента, которого надо избить перед строем в особо назидательных целях, как Терпелюка в столовой, огромного, доброго Терпелюка, который по пьянке в Запорожье мог бы задавить Белоконя или Авдеева, а здесь только закрывался блоками от ног летающих. Никто не знает, а я вспомнил, кто летал там вместе с ногами, главный начальник. А они хотели быть начальниками и были ими, конечно, для нас. А теперь я думаю, как чмо, по прежнему: а может, это я был начальник, потому что вот, я помню, а для всех это что-то серое и бесформенное давно. А может, я помню потому что лужу мочи руками собирал или из сапога выливал. Белоконь или Столяров или главный без лица, вернее, с красным, маленький и славный, потому что почти без личности, но зато с хваткой на всё смотреть, понимать, но не дальше этого и пить, ночью в сапог написали. В учебке гоняют, подъём скоростной, вскочил, натянул хэбэ, портянки, сапоги, пилотку, ремень, а строй уже стоит. В сапоге хлюпает почти до колена, а вылить страшно и стыдно. Так и хлюпал вокруг казармы на пробежке, может, главное, что меня тревожило, что нога застынет, был ноябрь. А остальное просто мгновенно приплюсовалось, приклеилось к той тоске в животе, которая началась. Когда же она началась. Когда первый раз подняли сержанты ночью нюх строить в порядке очереди и ещё радовался, потому что почти всех уже избивали, а меня ещё нет. Получил ничтожный удар “в пуговицу” от Авдеева и сказал, “есть”. Причём, думал, что в знак протеста, а узбеки, слушавшие в кроватях рядом расценили, что в знак, наоборот, чмошности. Может, с этого она и началась, ведь до этого я был весьма славен. Хотя нет, перед самым переездом из Измаила в Одессу я попал на кухню и там началась ерунда с нарядами. Азербайжанец в столовой ударил. Вася-боксёр отрубил. А может, когда Ульмасов ударил за то, что пачку “Примы” присвоил, попрошайничали через забор покурить и какой-то добряк дал целую пачку. Нужно было поделиться, а я не хотел сразу, потому что безграмотно принял подарок за подарок, хотел сначала почувствовать его сполна себе.
В общем, люди били уже давно, и в деревне, в лето между 8 и 9 классами, и в 5 классе, но это не главное, главное, что был брошен этим, памятью на будущее, Богом в себе, а люди только привечали не своего. Вот и выходит, что и то – Бог, люди жили как умели, по хорошему. И моё – Бог, потому что только я видел в этом Бога. Помнил, потому что был отброшен, отделён, один, вбит людьми в одно и то же с ними, но как по разному, как по разному. С этой моей непрерывной тоской в животе и неуёмной боязнью людей, отчуждённостью от них. Но они же только хотели тёплого вместе и получали это тёплое, а я как жертва. Только жертва древних знала, что такое Бог, а сами древние теряли постепенно веденье и превращались в современных, вот откуда Христос, агнец Божий, закланный за всех людей. Ведь это не только греческий ягнёнок, но и человеческие жертвы Молоху в Вавилоне, может быть даже в большей степени. Это Авраам, закалывающий сына, потому что Бог велел. Заколол он его или не заколол. Пожалуй, что заколол. Современные гуманисты, любящие людей и человечество в уединённых кабинетах на научных работах могут сказать про такую двоичность, что новое – чего ждёт мир. А для меня это не новое, а старое и страшное, чего мир уже однажды испугался и спрятался в историю. Потому что история тепла и там мы все вместе строим социализм. А это всегда здесь тут вот. И это страшный холод и тоска в животе, и память, и одиночество невыносимые, и неизвестно, что с собой делать: то ли повеситься, сброситься с балкона, то ли воображать, размышлять, мечтать про это.
"НАША УЛИЦА" №111 (2) февраль 2009
|
|
ОСОБЫЙ ПОДХОД |
Сергей Михайлин-Плавский

КУРОРТНАЯ СВАХА
рассказ
Из всех моих скитаний по городам и весям бывшего Союза, по всем его республикам, кроме трёх азиатских, из всех человеческих контактов, отпущенных Небом на мою долю, самым удивительным было трёхнедельное пребывание летом 198...года в курортной поликлинике посёлка Лазаревское, что почти на полпути езды между городами Туапсе и Сочи. Ни многочисленные командировки с ночёвками в гостиницах и общежитиях со множеством новых лиц, ни пребывание в домах отдыха, санаториях, профилакториях, ни в туристических походах, связанных и с уютной, и с неуютной романтикой, так не западали в душу, как это лето на берегу Чёрного моря, с его отливами и приливами и меняющим направление морским бризом, смягчающим воздействие жары и благотворно влияющим на сердечно-сосудистую систему, отчего я по настоянию врачей и попал сюда с диагнозом "гипертонический криз".
Поезд "Москва - Адлер" прибыл на станцию "Лазаревское" около полудня, и я уже до обе-да успел поселиться в спальном корпусе на втором этаже, как раз над парадным входом, по обеим сторонам которого стояли две длинные садовые скамейки, собиравшие с вечера неугомонные парочки влюбленных (также любителей попеть под баян, потравить анекдоты) или "холостяков" и "холостячек", не успевших ещё обрести временную свою половинку.
Моим сопалатником оказался весёлый, молодой, спортивного кроя мужчина с ненавязчивым чувством юмора. Его юмор был настолько естественным, настолько невымученным, что, казалось, по-другому и быть не могло: будто он не отдыхающий, а актёр-комик и слова он говорит заученные, приспосабливая их к возникшей ситуации или подвернувшемуся случаю.
- Ну что, поручкаемся? - вопросил будущий сожитель по палате, вставая из-за стола и протягивая мне руку, загорелую и тяжёлую, как слиток золота.
- Виктор, инженер, Загорск, - кратко представился я, пожимая, словно взвешивая его пятерню.
- Олег, геолог, копи царя Соломона, - сказал он и широко улыбнулся. Я недоуменно замешкался на какой-то миг, а потом на всякий случай уточнил:
- Семьсот жен и триста наложниц?
Он расхохотался, сверкая ослепительно белыми зубами, которые будут показывать в рекламе по телевизору лет двадцать спустя.
- Жена - одна, дома, а здесь только наложницы, - озорно сверкнув глазами, пояснил он, - Погоди пару деньков, одну из них оставлю тебе, если, конечно, захочешь.
Бот так оборот! Я об этом просто не думал и не собирался думать, меня занимал и мучил мой недуг, сердце трепыхалось так, словно заблудилось в грудной клетке, его неравномерные толчки я ощущал то слева, то справа, иногда они пропадали совсем, и я, как подросток, всерьёз опасался, как бы оно не выскочило из груди. А на память даже пришла какая-то беззаботно-озорная песенка:
Сердце бьётся как клубок,
То ли в пятку, то ли в бок.
Об этом я и сказал новому знакомцу. Он снова одарил меня белозубой улыбкой и успокоил:
- Сердце твоё здесь быстро придёт в норму, здесь лечат климатом, но и ты ему помоги: влюбись на время, забудь заводские дрязги и нервотрёпку. А сейчас пошли обедать!
Столовая глухо гудела, словно потревоженный улей. За каждым столом гужевались курортники подобно пчелам-труженицам у каждой ячейки медовых сот. Олег уверенно маневрировал между столами, говоря на ходу:
- Сядешь за наш столик, вчера там местечко освободилось.
Сначала он подвёл меня к администратору, назвал номер своего стола и указал на меня:
- Подсадите его к нам.
А я с ужасом думал: "Как же я один-то найду этот стол, они же все одинаковые?"
Но Олег меня подождал и потом заботливо повёл между столиками в дальний угол огромного обеденного зала,
- Вот твоё четвёртое место, - указал он на стул и пригласил, - милости просим, сеньор Инженер!
К столу сразу же подошли две женщины, и Олег познакомил меня с ними. По левую руку от него сидела крепенькая, русоволосая, немного за тридцать, застенчивая домохозяйка; подобную простушку нигде кроме кухни и квартиры и представить-то было невозможно: такая она была уютная, домашняя, ласковая, как сытая кошка, а на душе, казалось, от общения с нею должны были царить покой и порядок.
- Это Нина, - сказал Олег, - спасительница больных и разбитых сердец, прошу любить и жаловать!
Нина зарделась, засмущалась, маленькие её ушки на свету стали розовыми, она тихо проговорила:
- Какой ты, Олег, неугомонный...
По левую руку от меня сидела красавица-брюнетка со слабо выраженными южными чертами лица, высокой нервной грудью и проницательными глазами.
- Это Клава, Клавдия Михайловна, - поправился Олег, - вершительница курортных судеб, уж её-то надо любить обязательно. Её всё побережье любит, а мужики штабелями по ней сохнут и всё напрасно. Клава - однолюбка, она верна только мужу и ждёт его приезда.
- Олег, - строго сказала Клава, словно учительница в школе нерадивому ученику, - не пугай человека!
- А это Виктор, мой сосед по палате, у него сердечные дела расстроены, - невозмутимо продолжал Олег, словно он был в ударе. А впрочем, наверно, так оно и было: завтра у него кончался срок лечения, и он после обеда отбывал в Новосибирск.
В общем, обед прошел, как говорится, в тёплой, дружественной, со смешками и всякими полунамёками обстановке.
После обеда у меня был вызов к лечащему врачу, и я направился в лечебный корпус, Олег, собираясь на пляж, крикнул мне:
- Найдёшь меня на эстакаде, под навесом!
Курортный пляж от самой кромки воды и до забора с эстакадой, отделяющего берег моря от прибрежного шоссе, заставлен лежаками с полуобнажёнными телами купающихся и загорающих людей. С высоты птичьего полёта пляж похож на маленький городок с узкими улочками и переулками с плотностью населения один человек на два квадратных метра площади.
Спокойно-ленивая волна ласково лизнёт береговой песочек, отчего он моментально потемнеет, а к следующему набегу волны вновь осветляется, а волна снова пошуршит галькой и разноцветными камешками, словно пересчитает их, и, успокоившись, опять откатится в море. 'Гак и перекатывает она острые камешки, делая их округлыми и гладкими окатышами, словно отполированными рукою умелого и терпеливого мастера. А уж терпения у волны для этого хватает: в её распоряжении и день, и ночь, и месяц, и год, и вечность без обедов и выходных, без прогулов и отпусков ни за свой, ни за государственный счёт. Ни один трудяга по своей работоспособности и отдаче не годится в подмётки этой бескорыстной волне.
И подстать волне - солнце такой же неутомимый труженик. Любого вновь приезжего сюда, бледного как смерть, оно за два-три дня покрывает симпатично-кофейным или даже шоколадным загаром (если позволяют врачи и собственное здоровье), а его ультрафиолет даже в тени в умеренно-малых дозах обладает лечебным эффектом.
Терапевт
Недуги отверг.
Поднимаемся в горы, вверх,
И спускаемся к морю, вниз,
А на море -
Весёлый бриз!
А на море -
Волна, волна
И бурунная седина.
Ощущение так остро,
Словно старому -
Бес в ребро!
Я в твою колыбель, волна,
Упаду, пробудясь от сна.
Вызываю тебя
На бой:
Поборюсь, поборюсь
С тобой!
И работает не спеша
Солнце -
Наш повседневный Бог.
И оттаивает душа
От усталости
И тревог.
Впрочем, помимо всех назначенных мне лечебных процедур, полное представление, как вести себя на пляже, я получил в это первое посещение лечащего врача:
- Загорать не больше часа утром до завтрака и вечером, перед ужином, и обязательно на эстакаде, под навесом! Купайтесь минут 15-20 с отдыхом на воде, лёжа на спине, далеко не заплывать. Глубже дышите морским воздухом, допустим небольшой флирт с женщинами, только без клятв, истерик, стрессовых ситуаций. Сердце надо беречь! Да, ещё одно обязательное условие: ни капли спиртного! "Ну, это уж как водится!" - подумал я, а вслух добавил:
- Спасибо, доктор! Тут у меня коньячок завалялся и шоколадка есть. Вам- то, надеюсь, можно?
- Не задабривайте! Застукаю, отправлю домой незамедлительно - сурово сказала круто-бедрая армянка, потом смягчилась немного и добавила:
- Это в твоих интересах, ты же лечиться приехал, да?
- Ещё раз спасибо, доктор! - и мы расстались почти друзьями.
Я обежал весь пляж в надежде найти кого-нибудь знакомого. Глупая, конечно, мысль, но желание такое было: чем чёрт не шутит, вдруг встречу земляка, земля-то круглая, а люди живут на ней тесно. А каких женских фигур я насмотрелся за один этот забег: глаза раз-бежались! Я даже испугался, они же мне теперь всю ночь сниться будут... Но, усмиряя свою плоть, мужественно повернулся к пляжу спиной и поднялся на эстакаду в поисках Олега, а. Олег сидел на топчане, собираясь идти в палату.
- Садись, - сказал он, - у меня к тебе просьба.
Я снял рубашку и подставил свои телеса ласковому бризу, было тепло и приятно, словно и воздух, и тело имели одну температуру.
- Слушаю тебя, Олег.
- У меня сегодня перед отъездом последняя ночь ... с Ниной. Ты не сможешь переночевать у Клавы. Она сейчас одна. Я с ней договорился.
- Это - как? - ошарашенно спросил я. Олег действительно мог не только смутить человека, но даже своими несусветными выходками загнать его в тупик.
- Да очень просто. После танцев посидим у неё за рюмкой чая с мадерой, врачи в это время по палатам не ходят, так что риска никакого. Потом мы уйдём с Ниной, а ты останешься. Да не делай ты квадратные глаза. Ничего у вас с ней не будет. Её знаешь какие хваты обхаживали, не чета нам! Мешки с тугриками! Всех до одного отшила. Сама сводней заделалась, любит она это дело, но мужу верна, как собака. Вот мужик счастливый! А не понимает ведь, гад, что рано или поздно и скала падает. Ну, да этого нам не дано увидеть... Ну, так что, убедил?
- Ты сейчас так серьёзно говоришь, 0лег, что я не знаю, как мне и быть. В принципе я не против, но удобно ли Клаве, молва ведь может пойти, сплетни.
- Этого ты не опасайся, у неё здесь такой авторитет, как никак, сваха курортная, скорее всего тебя обвинят в импотенции, если откажешься. И тогда ты пропал, даже на танцах с тобой ни одна бабёнка не заговорит. Вот так, милый мой! Не считай это за провокацию. А завтра я тебе передам Ниночку, если не возражаешь. Она с виду простушка, но на ласки горяча, ты с ней забудешь о своей сердечной недостаточности, Клава ей сейчас уже, наверно, напевает о твоих достоинствах. Так что, будь спок!..
Убедил, уговорил, а что я в самом деле теряю-то, и почему не может помочь землянин землянину? Да ещё и славу заработаешь покорителя неприступных скал. Была не была!..
Клава при лунном свете разобрала постель бывшей своей соседки, уехавшей накануне домой, закрыла дверь на ключ и сказала:
- Раздевайся и ложись!
Я по-военному выполнил её приказание, даже не оглянувшись на неё, быстро нырнул в прохладу свежих простыней и замер, укрывшись с головой, оставив только маленький просвет, на один глазок; как-никак, а мне все-таки хотелось хоть одним глазком увидеть пронзительную обнаженность и совершенство женского тела.
Клава спокойно, не стесняясь моего присутствия (наверняка ведь знала, что я подглядываю, не могу не подглядывать), расстегнула все пять пуговиц платья-халата, сняла его с плеч, аккуратно сложила и повесила на спинку стула. Смугло-кофейное от загара тело ее в лунном сиянии светилось червонным золотом.
Постояв немного в раздумье, она лениво откинула одеяло и, будто с сожалением, улеглась в постель лицом ко мне, немного поворочалась, устраиваясь поудобнее, и сказала:
- Приставать не пытайся, только сон сломаешь и себе и мне.
Потом, помолчав, продолжила:
- Хвастаться мнимой победой и не думай. Всё равно тебе никто не поверит. Скорее осудят за похвальбу. Этот Олег чёртов, привязался, приюти да приюти на ночку хорошего человека, с Ниночкой ему надо распрощаться. Я же их и сосватала...
Она вздохнула и замолкла. Я слушал Клаву и мне казалось (а может быть только хотело казаться), что вся её суровость в голосе говорит как раз об обратном. Не является ли она, эта суровость, наоборот, призывом? Как там у Льва Николаевича Толстого: если бы мужчины знали, о чём говорят между собой женщины (или думают?), они были бы во много раз нахальнее. А что будет, если всё-таки попроситься к ней, или просто прилечь рядом? Крика, конечно, не будет, подумаешь, испугал бабу ... морковкой, но оплеуху схлопочешь. Вот тогда уж иди на улицу или в душ в конце коридора, там на лавочке и перекантуешься до утра. Нет, рисковать не стоит, да и врачиха предупредила о стрессовых ситуациях. Подождём, что будет дальше. Не исключена её личная инициатива, если я ей приглянулся. Ну не льдина же она в конце концов, чтобы не воспользоваться такой уникальной возможностью! Я бы, наверно, так терзал себя и дальше, пока сон не сморил бы меня, в чём я, правда, сильно сомневался, и на это были веские причины, но Клава заговорила вновь, её, видимо, тоже волновала моя близость, ведь протяни мы руки и можно было дотронуться друг до друга,
- Витя, а ты женат?
- Мы в разводе. Прожили десять лет, а теперь вот обрушилась наша любовь. Говорят, в семейной жизни третий, седьмой, десятый - самые опасные годы в смысле развода. Бот и наша семья третий и седьмой годы одолела, а десятый перешагнуть мы не смогли.
- Погуливали, наверно?
- Нет, не погуливали. Она начала денежки откладывать незнамо на что, на обеды назанимаешь, в следующую получку раздашь долги, а дома скандал: мало принёс! Так и не пришли к общему знаменателю...
- Но ты же инженер.
- А что инженер? Инженер получает меньше футболиста какой-нибудь дворовой команды. Не всем же быть Туполевыми или Королёвыми. А в космонавты поздно уже подаваться, да ещё с ненадежным сердечком. Вот и выходит - жену не сумел содержать так, как ей хотелось. Бог с ней!
- Да, Витя, попал ты в переплёт между Богом и собственной женой. С кем не бывает? А у меня вот мой благоверный и как муж - хорош, и как мужик -загляденье, сердце обрывается, когда обнимет, и любит меня, но работу ... больше меня и жизни, вместе взятых, день ночь сидел бы в своём КБ или на полигоне, дом забыл, жену забывает, и ничего с этим не поделаешь, И деньги есть, и путёвки - пожалуйста, отдыхай - не хочу, но тепла и человеческого участия хочется, кошка и та от ласки мурлычет, а тут по неделям нету мужа. Вот и придумала я себе общение: интересно мне наблюдать, как люди сходятся и расходятся. У них же всё на лицах написано, кто кому нравится, особенно здесь, на курорте. Наш народ в основной своей массе душевный, застенчивый, он в бордель не пойдёт, как на западе, он со стыда пропадёт: подмять под себя женщину, а потом отсчитывать ей замусоленные бумажки. А взбрыкнуть от нищей и скучной жизни хочется. Вот и остаётся дом отдыха, санаторий, турбаза и иже с ними. Да хотя бы тот же Олег. Он месяцами без жены, легко им, думаешь, жилось-то? Вот они и разжопились: сначала она подалась на сторону, потом и он. А вчера перед вечером яблок принёс, персиков, коньяку бутылку. Приюти, говорит, Виктора на ночь, с Ниной хочу проститься по-человечески. Ничего себе, да? А хочешь коньяку? Давай-ка врежем за наше откровение!
И не успел я опомниться, а Клава уже выскочила из-под одеяла, и, как была голой, кинулась к тумбочке, доставая на стол коньяк, фрукты и стаканы. Я присел к столу и пока открывал коньяк, Клава накинула на себя какую-то лёгкую ночнушку, которая не только колени, даже бёдра не закрывала хотя бы на треть, и раздумчиво сказала:
- Давай-ка, Витя, выпьем за нашу устроенность, чтобы нам в этой жизни было хорошо, уютно и достойно!
Я не возражал против такого тоста, мы чокнулись стаканами, выпили и ... поцеловались. Мне показалось, что Клавины соски прожгли мою грудь насквозь, я обнял её крепче, она испуганно замерла, а потом без колебаний выскользнула из моих объятий.
- Не надо ... сейчас, Витя, может быть потом, когда... созрею для этого, - голос её обрывался, переходил на шёпот с подступом слёз. - Обо мне создали легенду железной бабы, а это просто защитная маска от посягательств всяких любителей "клубнички". Давай спать, Витя!..
Утром я не узнал Клаву: она снова надела на себя маску бой-бабы, обрела всегдашнюю уверенность и некоторую далее суровость в сочетании с убийственной иронией. А, может быть, в отношении меня и прошедшей ночи так и надо было поступить.
- Ну, что, праведник? Рядом с женщиной всю ночь проспал, как сурок, - уязвила она меня утром, - рассказать мужикам, засмеют ведь. Ладно, иди уж. Чую, сама виновата. Меня ведь надо ломать! - сказала она и отвернулась.
На следующий день после обеда мы провожали Олега в Москву, там у него были неотложные дела в управлении геологоразведки. Как водится, в таких случаях, вся наша компания: Клава, Нина, я и ещё одна, сосватанная Клавой парочка - казанский татарин Ахмет и его подруга Таня из Ростова-на-Дону, была немного растеряна. Олег храбрился, пытался шутить, с грустью поглядывал на Нину, у которой голубые озёрца глаз по самые ресницы были полны неудержимых и страдальных слёз. Поезд немного запаздывал, расставание затягивалось, казалось, каждый не знал, куда себя девать, и лишь Ахмет не унывал:
- Олег, будешь в Певеке, приходи в гости, я буду рад!
- Спасибо, Ахмет! Может, мы с Ниной приедем, -с неуверенной, но откровенной надеждой ответил Олег.
Нина жалась к Олегу, обняв его за талию, снизу вверх смотрела ему в глаза и грустно молчала. А Ахмет опрометью метнулся к пивной палатке и через две-три минуты принёс четыре кружки пива с вяленой мойвой. Кстати, в то время это была очень вкусная и сочная рыбка. Потом во многих своих командировках от Хмельницкого, Ростова-на-Дону и до Еревана я такой прелести нигде не встречал.
Мы маленькими глотками тянули пивко (Клава с Ниной отказались), когда поезд Адлер-Москва, залихватски гудя, прибежал, запыхавшись, на станцию.
- Ну, Олег, прощай, не поминай лихом, и прости, коли что не так, - первой сказала чуткая Клава и поцеловала Олега. Ахмет с Татьяной также пообнимались и перецеловались с Олегом, а лотом он подал мне на прощание твердую руку, мягко отстранил от себя плачущую Нину и сказал:
- Вы оба москвичи, береги её. Кто знает, может быть Небо отныне повенчает вас. Я зову её с собой, но она не может бросить старенькую маму...
Под удары вокзального колокола Олег ловко вскочил на нижнюю подножку вагона: у меня так и осталось в памяти красивое загорелое его лицо с белозубой улыбкой на фоне ослепительно белой кофточки стоявшей позади него на две ступеньки выше смуглой южанки-проводницы. Олег висел на подножке, отклонившись от поручня на вытянутую руку, пока поезд не скрылся за береговыми строениями.
- До свидания! - крикнула Нина, ни на что уже не надеясь, чудо не состоялось, Олег уехал.
- ...щай! - скорее угадывалось, чем послышалось из оглохшей от дневных звуков непостижимой дали.
Вечером, после ужина, мы сидим в Клавиной чистенькой и аккуратной палате. Клава пока жила одна, на вторую кровать ещё никого не подселили. Я подозревал, что и никого не подселят: во-первых, она со дня на день ждала мужа, а, во-вторых, при её способности располагать к себе людей, она могла чем-то улестить сестру-хозяйку, и та позволила бы ей жить одной хоть до ...Нового года!
Нину Клава усадила рядом со мной, словно эстафетную палочку, переданную мне Олегом на длинной дистанции любви. Напротив меня на другой кровати сидели Ахмет с Татьяной. Интересная это была пара. Ахмет, то ли бульдозерист какого-то рудника, то ли моторист автохозяйства, у него не поймёшь: говорит быстро, чёрные смородинки зрачков бегают с человека на человека, по его рассказам получается так, что он будто бы работает сразу в двух-трёх местах и везде его любят. А его и правда любят за его тягу к людям и бескорыстие. Он в любой компании со второго посещения становится своим в доску. Он и сейчас порывается в магазин за мадерой, он же только вчера получил денежный перевод от бухгалтерии со своей работы. Его прямо-таки распирает от желания угостить "сидельцев" (от слова "посиделки"), но Клава его сдерживает, как может:
- Да угомонись ты, Ахмет! Вот пропьёшь все денежки, на что домой полетишь?
- А, ещё пришлют, - хитро улыбается хлебосольный татарин.
А обычно молчаливая Таня, сидя по левую от него руку, говорит нараспев:
- Ах, Ахмет, татарин из Казани, как вы обращаетесь с деньгами!
Она всем без исключения говорила "вы", и все мы этому дивилсиь, но отучить её так и не смогли.
- А пришлют - опять пропьёшь, чем в дороге-то будешь питаться?
- Хали-гали! - восклицает Ахмет. - Чем питаться? Чай без ничего и хлеб вприкуску!
В то время во всех столовых, забегаловках, кафе лежал в тарелках бесплатный хлеб, если уж белого иногда не хватало, то чёрный был всегда. Это, как мы потом вспоминали, была одной из главных примет развитого социализма.
- Сиди, Ахмет, и не рыпайся! У меня коньяк есть и яблоки. Олег оставил. Давайте-ка мы пожелаем ему доброго пути!
Клава на правах хозяйки выставила из тумбочки ночной, едва початый коньяк и тарелку с красно-медовыми яблоками.
Меня охватило лёгкое смущение, казалось, что меня застукали за далеко не безгрешным ночным поцелуем, я украдкой взглянул на Клаву, но та, как ни в чём не бывало, распорядилась:
- Витя, наливай, что ли...
Мы выпили, а я испуганно спохватился, припомнив угрозу лечащего врача отправить домой, которой я удостоился при сегодняшнем (перед ужином) очередном посещении врача. Этот инцидент я тут же поведал своим приятным собутыльникам, и они весело посмеялись.
Когда на вокзале у вагона поезда мы пили пиво, я совсем забыл, что мне в 16-00 надо быть у врача. Я с трепетом открыл дверь врачебного кабинета, внешне, как мне казалось, сохраняя спокойствие, а внутренне - дрожа всем поджилками и не зная куда, в какую сторону дышать. Не успел я переступить порог, как врачиха из глубины кабинета (до её стола было не менее 12 шагов) проницательно и строго сказала:
- Уф, ну и букет! Дышите в сторону!
Я был сражён, я краснел, белел, не мог поднять глаз, мне было и стыдно, и досадно за свою забывчивость и оплошность, за что и был незамедлительно наказан. Не слушая никаких объяснений и оправданий, зная только одно, что её пациент принял недозволенное спиртное, врачиха предписала мне в течение недели перед каждой едой принимать по две штуки какие-то таблетки, якобы для вывода из организма остатков алкоголя, причём, принимать эти таблетки мне надлежало непременно из её рук три раза на дню. Когда я заикнулся о том, что честно выполню её предписание и без посещения её кабинета, она жёстко сказала:
- Я вам не верю!
И с уничтожающей иронией добавила:
- Уж будьте добры трижды в день лицезреть мою персону или ... до свидания! Я не ручаюсь за ваше сердце!
Что поделаешь, перед ужином я глотнул уже пару таблеток, а сейчас вот запил их ... коньяком! А завтра она меня выпишет в Москву.
Все наперебой бросились меня утешать, успокаивать, Бог, мол, даст, всё обойдётся, и вообще, чего там думать о завтрашнем дне, когда вон, через дорогу, в "загончике", обнесённом высокой оградой, начались танцы, откуда уже слышалась весёлая и модная в то лето по всей России незатейливая песенка:
Малиновки заслыша голосок,
Припомню я забытые свиданья...
А Клава в такт музыке игриво напела низким грудным голосом:
Три жёрдочки, берёзовый мосток
Над тихою речушкой без названья...
А женщины дружно подхватили припев:
Прошу тебя, в час розовый
Напой тихонько мне,
Как дорог край берёзовый
В малиновой заре!..
- Всё, друзья! - закрыла Клава очередные посиделки, посвященные отъезду Олега и моему приёму в их тёплую компанию, - Решили и постановили: Виктору с нами быть!
Все остались довольны, особенно Клава: она сейчас уподобилась многоопытному предсе-дателю профсоюзного собрания, получившему согласие коллектива на решение трудного вопроса.
- На танцы, на танцы! - командовала она.
Ахмет подхватил Таню и потащил из комнаты, а мы с Ниной немного замешкались, ещё стесняясь друг друга.
- Ну, чего сидите? Марш на танцплощадку! Быть вам сегодня самой красивой парой!..
При этом она как-то значительно, как мне показалось, а может с сожалением посмотрела на меня, но это я понял потом, а сейчас не придал её взгляду никакого значения.
Клава как в воду глядела: за исполнение белого танца нам с Ниной присудили бутылку мадеры "Сахра", которую мы тут же торжественно вручили Клаве, сидевшей на скамеечке и входа на танцверанду в окружении знакомых женщин и мужчин. Она была желанной гостьей в любой компании, где бы это ни случилось: на пляже, на танцах, на экскурсии. Когда Клава, изумительно стройная и гибкая, отлитая искусным Творцом в самую совершенную форму, проходила по пляжу, не одно мужское сердце ёкало от испуга и желания обладать таким телом. И для неё досаднее всего был именно этот мужичий испуг перед красотой, перед её виртуальной недоступностью. Клава это очень болезненно чувствовала и остро переживала своё одиночество. Строго выверенные линии её тела: грудей, живота, бёдер сводили с ума любого наблюдателя, казалось, что всякие там целлюлиты и другие жировые отложения, такие, как так называемые "галифе" на бёдрах, обходили её стороной к только Богу да ей самой были известны средства поддержания формы тела в таком идеальном состоянии. Наверное, захоти Природа повторить подобную чудо-красоту, у неё ничего бы не получилось, так как такое совершенство рождается один раз в вечность, что доступно только единожды и только Всевышнему Создателю. Да не обидятся на меня другие прекрасные и совершенные женщины, но я, наверно, хотя и танцевал с Ниной, уже был безнадёжно и мучительно влюблён в Клаву, хотя и сам ещё не понимал этого. Мне очень нравилась Нина своей какой-то домашней уютностью, мягкой улыбкой, потом мне открылась в ней огненная страсть, которую разгадать можно было только в контакте с нею, но Клава была ... полёт! Выше Неба и горячее Солнца! Так мне тогда казалось, так мне кажется и теперь, спустя почти тридцать лет, отделяющих меня от тех славных и счастливых дней.
По натуре своей Клава была, как сказали бы социологи, экстраверт (экстра - внешний, верт - жизнь), она быстро сходилась с незнакомыми людьми, становясь вскоре неформальным или даже формальным лидером любого, малого или большого, коллектива. И здесь, на курорте, сначала к ней потянулись женщины; таясь и смущаясь, они делились с ней своими желаниями, почти всегда открывая ей объект своих воздыханий, а потом постепенно разнюхали мужики об этом важнейшем "источнике информации", и вскоре негласное сватовство было поставлено на широкую ногу. Вреда от этого никому не было: Клава избавлялась от одиночества, счастливые парочки, не теряя времени на поиски друг друга, наслаждались южными горячими ночами, бездумными объятиями, теряли головы и были счастливы, заряжаясь приятными, а может даже и целебными воспоминаниями на всю оставшуюся жизнь.
Служба знакомств была абсолютно бескорыстна: будущий счастливец или счастливица могли принести в палату к Клаве и бутылку вина, а кто побогаче, и бутылку коньяку, и баночку икры лососёвой, и фруктов, и стол состоял только из добровольных подношений, поэтому у Клавы в тумбочке всегда водилось спиртное и что-нибудь "вкусненькое", и она щедро угощала им новоявленных друзей, входивших в её "координационный совет", как потом нас прозвали остряки-самоучки. Хотя, по сути, мы и являлись "советчиками", то есть направляли к Клаве всех страждущих и страдающих от временного одиночества. Что поделаешь, мы и жили-то тогда в стране Советов.
Сама Клава не пила, за компанию могла принять стопочку-рюмочку, при этом она, смеясь, оправдывалась:
- Для запаха, а дури-то и своей хватит!
Отчего мужики бывали в восторге.
После получения приза за лучшее исполнение белого танца как-то уже не хотелось больше толкаться в этом загоне, глотать асфальтовую пыль, при том, не знаю как Нина, а я чувствовал - эти танцы сблизили нас настолько, что я будто бы враз проснулся и с удивлением гляжу на Нину, как на давно знакомую и близкую мне женщину, а может быть даже и жену. Не было восторга, не было полёта, было ощущение обыденности, вот сейчас окончатся танцы и мы пойдём к себе в палату: всё просто, привычно и основательно.
Я даже и сейчас не верю сам себе, но так оно и было: мы пришли в палату Нины, не зажигая света, она быстро переоделась в халатик, я разделся до плавок, мы поочерёдно в раковине помыли на ночь ноги и, не сговариваясь, как будто делали так всегда, молча легли в одну кровать. Нинина соседка Люська вот уже неделю жила в одноместном люксе у своего совхозного агронома, тамбовского волка, как она называла его в доверительных разговорах с Ниной. Мы лежали на спине, только ладошками касаясь друг друга, ещё не вместе, ещё каждый сам по себе, но предчувствие то ли тревоги, то ли очищающей грозы постепенно росло и росло, и вот уже гул крови ударил в уши, сознание замутила страсть, и в долине горячих бёдер обнаружилась огнедышащая пещерка, с восторгом приютившая в своих палестинах одинокого бродягу-спелеолога...
Со следующего дня мы с Ниной не расставались ни на минуту: так и ходили ладошка в ладошку и в столовую, и в лечебный корпус, и на пляж.
- Что-то вы, ребятки, очень круто уж взялись, - позавидовала однажды Клава и неприязненно посмотрела на Нину. Я же не первый раз ловил подобные взгляды, и мне начинало казаться, что Клава, обычно скрытная в проявлении своих чувств, очень хотела, чтобы я заметил её неравнодушие. Легенда железной женщины, бой-бабы, верной только мужу, не позволяла ей, гордячке и курортной свахе, умевшей вдохновенно излить чужие чувства, прямо и открыто сказать мне о своей маете и смутном, ещё не созревшем желании, когда страсть ещё можно удерживать, хотя и на пределе возможного.
И всё же она нашла случай заявить об этом.
Через два дня Нина уезжала, в Москву, она эти дни была грустна и сосредоточена. Казалось, она жила только рядом со мной, больше ничего её не интересовало. Ночами она была горяча, неистова и ненасытна. А в день отъезда мы собрались в её палате на посиделки. Кроме уже известного "координационного совета" на этот раз здесь была и Люська со своим агрономом. Он сидел за столом огромной скалой в сером костюме, голубой сорочке и красном галстуке, то есть в полном соответствии со своей закоренелой деревенской психологией: если пригласили на праздник или какой другой сабантуй, то явиться ты должен при полном параде, несмотря на жару, холод или другие неудобства. Он поминутно промокал платочком шею, лоб, щёки, зачем-то лазил под мышки, они у него, видимо, тоже промокли.
Зато Люська, маленькая, вертлявая, готовая в любую минуту хохотать и даже пуститься в пляс, суетилась у стола и раковины, мыла фрукты и помидоры с огурцами и всем уже надоела бессмысленной прибауткой:
Одна нога топотить,
А другая не хотить!
Причём пела она эту скороговорку обязательно с мягким знаком на окончаниях строк. Так, видимо, когда-то в деревенском детстве запомнилась ей от неграмотной бабки эта приговорочка.
- Люсь, покажи ногу, - вдруг говорил слегка поддатый Ахмет, - которая не топотить. - Счас мы её поставим на место.
Люська, инженер-куратор республиканского Госснаба в Алма-Ате, в полком соответствии со своим легкомыслием задирала подол платья и ставила на стул к "тамбовскому волку" миниатюрную загорелую лапку, которая не хочет "топотить". Мужики начинали ржать, Люська обижалась, а через минуту опять пела:
Одна нога топотить,
А другая не хотить.
А Ахмет никак не унимался:
- Люсь, а не боишься, что тебя Иван Егорыч приспит? Ты такая малюсенькая, тебя придавишь и не заметишь как...
Люська серьёзнела, собирала лобик в одну сосредоточенную складочку и говорила:
- Не, не приспит. Мышь копны не боиться, - и хохотала. А агроном Иван Егорыч степенно рассуждал:
- Она у меня молодец. Я бы без неё тут со скуки окочурился...
Я представил себе, как наедине общаются "мышь и копна", мне стало смешно, я шепнул об этом Нине, она Клаве, и мы дружно рассмеялись. А потом Клава, неожиданно оборвав смех и с едва заметной тоской в голосе сказала:
- А мой трудоголик чёртов ещё на неделю задерживается. Хоть мужика заводи! Только мужик-то нынче пошёл какой-то пугливый.
Меня как током ударило, хоть в землю зарывай, чтобы не переселиться в мир иной: это же она говорила мне, агроном ей сто лет не нужен, за Ахмета Татьяна глаза выцарапает, а Нина сегодня после обеда уезжает. Я встал из-за стола, молча подошёл к Клаве, взял её за руку и решительно сказал:
- Пойдём! Есть такой мужик. Только вчера ко мне подселили. Клава, эта волевая и дерзкая дочь Евы, как заворожённая двинулась за мной под непонятный гул, среди которого выделялся голос Ахмета:
- Хали-гали! Во даёт Витек! Саму сваху сватать повёл!
И под веселый хохот дверь за нами закрылась.
Я весь в какой-то трясучке веду Клаву за руку по коридору в свою палату и лихорадочно думаю: "Господи! Сделай так, чтобы сосед оказался на пляже. Он всегда в это время дышит морским воздухом..." Я не знаю, о чём думала Клава, но она пыталась эти мои потуги повернуть на шутку, пропев понравившуюся нам вчера вечером частушку, услышанную перед сном на лавочке у входа в спальный корпус:
Ты куда меня ведёшь,
Такую молодую?
Этой же частушкой деревянными губами и с дрожью в голосе я ей и ответил:
На ту сторону реки,
Иди, не разговаривай!..
Соседа в палате не было.
Я запер дверь на ключ и повернулся к Клаве, она, заметно похорошев, стояла между столом и кроватью и молча ждала моих действий. Я шагнул к ней, положил руки на талию и втиснулся в её объятия. Что греха таить я ждал этих объятий даже когда находился в других, ждал этого смертельно-сладкого поцелуя. Все целомудрие этой сильной женщины было под зашитой платья-халата (по зелёному полю - россыпь крупных розовых, жёлтых и палевых лилий) с пятью пуговицами, причём верхняя и нижняя из них нарочито незастёгнуты. Я не помню, кто из нас и когда расстегнул остальные пуговички, но под платьем у верной своему принципу (или чудачеству?) Клавы - на море дышать всем телом! - кроме шоколадного загара ничего не было.
И упали наши, не признающие никаких грехов тела, прямо в земной рай, а души вознеслись, как и положено, в Небо к Святому Престолу, ища покаяния и прощения. Бог милосерден, если не кривить душой, отдаваясь чистому и светлому чувству и не во вред ближнему своему...
В палату Нины, к оставленной нами компании, мы возвратились уже другими людьми. Все эти посиделки нам показались пустой и дешёвой комедией, достоверно было лишь наше недолгое уединение и отъезд Нины. Я старался держаться вполне независимо, а Кла-ва на вопрос бесцеремонного Ахмета: "Ну, как посватались?" фыркнула и заявила, храня невозмутимость:
- Не мужик, а боров какой-то! Ждёт, когда бабу к нему приведут...
А Люська своей незатейливой песенкой попала прямо в яблочко сочиненной Клавой ситуации:
Одна нога не хотить,
А другая топотитъ!
Мы дружно захохотали, и только Нина, оказавшись проницательнее других, слегка отодвинулась от меня на самую никому незаметную малость, а потом на станции, у вагона отходящего поезда, как-то буднично поцеловала меня, тихо, без надежды в голосе, сказала: "Позвони!" и поспешно отвернулась, скрывая подступившие слёзы.
Около тридцати лет отделяют меня от тех дней, но и сейчас, когда я их вспоминаю, моя душа воспаряет в Небо, и я иногда, как мальчишка смотрю в него чистой и лунной ночью, отыскав самую яркую звезду, в надежде на то, что горит она и над Донецком, родным городом Клавы. Теперь мне остаётся добавить совсем немного. Клава тогда всё-таки дождалось мужа. Он приехал с утренним поездом и уже перед обедом Клава появилась с ним на пляже. Они шли рядом: шоколадная красавица и длинная тощая жердь, белая словно смерть. На него бы никто не обратил внимания, если бы он был один, но Клаву знали многие и даже испуганно шептались:
- Господи, Боже мой! Где она отхватила такого красавчика?
- Да это её муж, утром приехал.
- Ну, слава Богу! Дождалась всё-таки! А то совсем извелась баба...
Клава до самого моего отъезда каждое утро бегала мимо моей палаты принимать душ в конце коридора. И каждое утро она забегала ко мне.
Мой сосед в это время ревностно и регулярно лечился, он на пляже дышал морским воздухом: во время прилива с моря на берег дул бриз - целебный морской ветер.
А Клавин Муж, разомлев от южного солнца и вынужденного безделья на пляже в тени под навесом, разливая по стаканам на троих бутылку ркацители, травил анекдоты. "Чукча женился на француженке, а через три дня развёлся. Мужики так и обалдели, ты, мол, чукча совсем сдурел! Надо же, француженку бросил! А чукча, сузив в ниточку хитрые глазки, с достоинством отвечал мужикам: " Шибко грязный, однако, три раза на дню моется! "
И вволю нахохотавшись, довольный Муж добавлял на потеху собутыльникам:
- Вот и моя Клава каждое утро бежит в душ. Был бы чукчей, давно бы бросил.
И снова хохотал, хохотал, хохотал...
"НАША УЛИЦА" №111 (2) февраль 2009
|
|
Шолохов не только не был писателем, но не был даже читателем |
Юрий Кувалдин
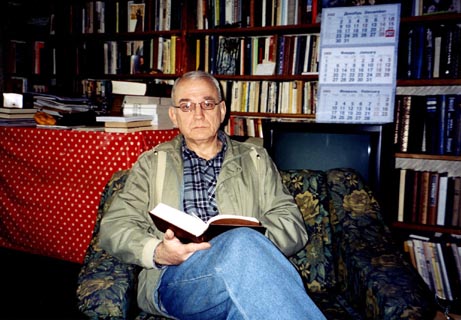
"ТИХИЙ ДОН" АВТОРСТВО
эссе
1.
Тема плагиата "Тихого Дона" настолько стала явной, что из разных мест раздаются голоса о признании Федора Крюкова и свержении неграмотного Михаила Шолохова с олимпа авторства "Тихого Дона".
2 февраля 2009 года исполняется 139 лет со дня рождения великого русского писателя, автора романа "Тихий Дон" Федора Дмитриевича Крюкова. Он родился в станице Глазуновской Усть-Медведицкого округа земли Войска Донского. Окончил Петербургский историко-филологический институт. Статский советник. Депутат Первой государственной Думы. Заведующий отделом литературы и искусства журнала "Русское богатство" (редактор В. Г. Короленко). В Гражданскую войну выступал на стороне белых. Секретарь Войскового круга. В 1920 году, собрав в полевые сумки рукописи, чтобы издать их за рубежом, отступал вместе с остатками армии Деникина к Новороссийску. По одним сведениям на Кубани Федор Крюков заболел сыпным тифом, по другим был отравлен и ограблен Петром Громославским, будущим тестем Шолохова и умер 20 февраля. Автор романа "Тихий Дон" и других произведений, положенных в основу так называемого "писателя Шолохова".
"Тихий Дон" авторство - это загадка для людей, не умеющих читать, или держащих книгу вверх ногами. Автор романа "Тихий Дон" Федор Крюков был самым известным до революции писателем на Дону, окончил университет в Петербурге, возглавлял отдел литературы и искусства журнала "Русское богатство", главным редактором которого был Владимир Короленко. С Федором Крюковым учился в одной гимназии Петр Громославский, будущий тесть Шолохова. Рукопись романа в 1920 году, после гибели Крюкова, попала к Громославскому. С ними еще учился Александр Серафимович, который на ниве уничтожения "дворянской" культуры и воцарения пролетарской совершил вместе с другом Громославским авантюру. Нужен был новый, молодой пролетарский писатель. И он нашелся. Неграмотного Шолохова женил на своей дочери Громославский, и поставил имя Шолохова на романе, приниженном варваризмами и хамской речью. Но стиль писателя Федора Крюкова и через века не скрыть. Повесть "Казачка" и особенно "Зыбь" говорят о творческом родстве. Шолохов же был только минимально грамотным, но сам писать что-либо художественное не умел. На юбилейном заседании в музее Маяковского в 2005 году Рой Медведев мне рассказал такой эпизод. Группа писателей совершила экскурсию по реке на теплоходе с тем, чтобы за ночь описать свои впечатления о строительстве канала. Все написали, кроме Шолохова.
2.
Кремль вступил в спор об авторстве "Тихого Дона". Накануне 100-летия со дня рождения Михаила Шолохова российские власти попытались воспрепятствовать популяризации материалов, ставящих под сомнение шолоховское авторство "Тихого Дона".
23 мая в Российской государственной библиотеке должна была состояться презентация документального фильма Исрафила Сафарова "Казак" и книги орловского исследователя Владимира Самарина "Страсти по "Тихому Дону", организованная Ассоциацией исследователей российского общества ХХ века (АИРО-ХХ), независимой студией документального кино "Точка зрения", журналом "Свободная мысль-XXI" и филологическим факультетом МГУ. Фильм посвящен судьбе донского писателя и политика Федора Крюкова, который, по бытующей в литературоведении версии, был истинным автором "Тихого Дона". Владимир Самарин, проведя сопоставление произведений Крюкова и "Тихого Дона", приводит новые доводы в пользу того, что основная часть великого романа написана Крюковым, а Шолохов выступил лишь в роли переписчика и редактора неизвестно как попавшего к нему крюковского текста. Как сообщили Граням.Ру устроители презентации, руководство Отдела восточной литературы РГБ в последний момент отказало в предоставлении зала под тем предлогом, что как раз в понедельник днем в отделе должна проводиться то ли проверка противопожарной безопасности, то ли санобработка. При этом, однако, сотрудники библиотеки прозрачно намекнули, что соответствующее указание исходит из "здания напротив", то есть из Кремля. Организаторов мероприятия выручил Музей Маяковского - презентация состоится там в назначенный срок.
"Как известно, споры об авторстве "Тихого Дона" начались сразу после публикации первой части романа. И с самого начала советское государство неизменно стояло на стороне Михаила Шолохова. Еше в 1929 году пять руководителей РАПП - Александр Серафимович, Леопольд Авербах, Владимир Киршон, Александр Фадеев и Владимир Ставский, - защищая Шолохова от обвинений в плагиате, писали в "Правде": "Чтобы неповадно было клеветникам и сплетникам, мы просим литературную и советскую общественность помочь нам в выявлении "конкретных носителей зла" для привлечения их к судебной ответственности". Теперь, похоже, эстафету в этом деле приняла посткоммунистическая власть. В советское время "Тихий Дон" считался (насколько обоснованно - другой вопрос) образцовым соцреалистическим произведением, а его официальный автор к тому же пользовался большим уважением среди публицистов так называемого национально-коммунистического направления (не путать с сегодняшними нацболами), мечтавшими совместить коммунизм с православием, народностью, почвенничеством. Все это они находили в великом романе. А нынешней российской власти, так же мечтающей соединить советское наследие с православием и официальной народностью, "Тихий Дон" и Шолохов тоже пришлись ко двору. Недаром накануне шолоховского юбилея Госдума приняла в первом чтении специальный закон о казачестве. В возрождаемом опереточном казачестве, не имеющем ничего общего кроме костюмов с героями "Тихого Дона", Кремль видит инструмент борьбы с национально-религиозными движениями на Северном Кавказе и с "оранжевой" революционной угрозой на собственно русских территориях. Крюков же как автор "Тихого Дона" для властей не годится - Федор Дмитриевич был ярым противником коммунистов. А в книге Владимира Самарина убедительно показывается, что те места романа, где действуют герои-большевики, действительно написаны Шолоховым, но они-то как раз художественно слабы и по стилистике выпадают из романа, зато очень похожи на бесспорно шолоховские куски "Поднятой целины". Между тем основные главы романа, где речь идет о любви Григория и Аксиньи и трагической судьбе казачества, подвергшегося нашествию большевиков, вполне соответствуют стилистике и поэтике Крюкова. Многие же приметы шолоховского черновика, в том числе повтор сходных эпизодов на соседних листах, выдают копирование протографа, где эти эпизоды были вариантами. К тому же ряд примет указывает, что действие происходит в родном для Крюкова Усть-Медведицком округе, а не в районе Вешенской. Шолохов давно уже стал символом "правильного", послушного власти казачества. Потому и вызывают неудовольствие все попытки поставить под сомнение его авторство "Тихого Дона", особенно в юбилейные дни. Сомневайтесь, мол, но только в будни, а не в праздники. Для того же, чтобы окончательно решить вопрос об авторстве "Тихого Дона", если не сыщется крюковский протограф, надо провести тщательный текстологический анализ шолоховских черновиков и самых ранних изданий романа, сравнивая их пофрагментно как с бесспорно шолоховскими текстами (вторая книга "Поднятой целины", "Они сражались за Родину"), так и с текстами Крюкова. А пока дискуссия должна продолжаться - и, разумеется, без государственного вмешательства. Борис Соколов". ("Грани.Ру". 23.05.2005)
3.
"Обратим внимание прежде всего на указание Воротынского о двух известных писателях на Дону: Крюкове и Кумове. Ведь Шолохов всю жизнь открещивался от имени Крюкова, имя которого в советское время, не в угоду ли слухов о плагиате, изъяли из всех справочников и энциклопедий русских писателей. К вопросу, почему Воротынский, сын Крюкова Петр, бывший Донской атаман П. Н. Краснов и др. поддержали выход "Тихого Дона" в свет и не подняли волны протестов против имени Шолохова на его обложке, мы вернемся позже.
Отметим лишь характерный способ, с помощью которого Кузнецов пытается защитить Шолохова. Крюкова, своего великого донского Гомера, Шолохов не знал и не читал (хотя и описал во 2-Й главе II части, как "его" персонаж, Сергей Платонович Мохов, в романе "на прохладной кожаной кушетке... перелистывал июньскую [судя по погоде - 1911-й год] книжку "Русского богатства" [с рассказом Ф. Крюкова "Спутники"!]"). Записи Воротынского содержат упоминание о двух единственных претендентах на авторство: Крюкова и Кумова, но Кузнецов ловко обходит это высказывание молчанием, не удостаивает комментариями, в последующих повторах вообще эти строки опускает, оставляя лишь рассуждения Воротынского о том, почему последний не поддерживает волны обвинений против Шолохова. Но на странице 596, где Кузнецов все-таки касается вопроса о якобы незнании Шолоховым писателя Крюкова и его творчества, приводит отзыв неизвестного рецензента журнала "Северные записки" о том, что произведения Крюкова печатаются лишь в "Русском Богатстве", а потому не могут стать достоянием широкой аудитории. Ловкий манипулятор тут же спешит уверить читателя: "Так что нет ничего удивительного в словах Шолохова о том, что он не читал Крюкова". (А. Г. Макаров, С. Э. Макарова "Неюбилейные мысли". В. Самарин "Страсти по "Тихому Дону"", Москва, АИРО-ХХ. 2005.)
4.
"Федор Крюков, донской казак.
Сегодняшние читатели едва ли знают писателя Федора Крюкова. Ни в Советском энциклопедическом словаре, ни в Энциклопедическом литературном словаре мы не найдем даже упоминания о нем. Правда, сейчас это незаслуженно забытое имя начали вспоминать, но в основном в связи с так называемой проблемой авторства "Тихого Дона". Как известно, некоторыми исследователями была выдвинута версия о том, что роман о переломных событиях в судьбе донского казачества был написан или, во всяком случае, начат именно Ф. Д. Крюковым. При этом М. А. Шолохову отводится в лучшем случае роль соавтора выдающегося произведения XX века. Не будем сейчас касаться данной версии, которая имеет и своих сторонников, и своих оппонентов. Однако полемика вокруг авторства "Тихого Дона" выявила тот несомненный факт, что биография Шолохова недостаточно изучена и что еще беднее сведения о жизни и творчестве Ф. Д. Крюкова. Только недавно в нашей печати появились работы зарубежных авторов, из которых можно узнать некоторые подробности его биографии. (Ермолаев Г. (США). О книге Р. А. Медведева "Кто написал "Тихий Дон"?" - "Вопросы литературы", 1989, № 8. Хьетсо Г., Густавссон С., Бекман Б., Гил С. "Кто написал "Тихий Дон"?" М., "Книга", 1989.)
Федор Крюков родился в 1870 году в семье атамана станицы Глазуновская Усть-Медведицкого округа и вырос в типично казацкой атмосфере. Получил историко-филологическое образование, много путешествовал по Донской области, изучал ее историю и экономику; в 1906 году был избран в I Государственную думу, где защищал интересы казачества. С начала 900-х годов Федор Крюков постоянно печатается в журнале "Русское богатство" (с 1914 года - "Русские записки"), одним из официальных издателей которого был В. Г. Короленко. Здесь публиковались произведения Г. И. Успенского, И. А. Бунина, А. И. Куприна, В. В. Вересаева, Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. М. Станюковича и других писателей, известных своими демократическими взглядами.
Рассказы, повести, очерки Федора Крюкова - "В камере 380", "Полчаса", "На речке Лазоревой", "Офицерша", "В глубоком тылу" и другие - открыли широкому читателю малознакомую жизнь казачьего сословия: его историю, традиции, быт. В 1907 году Крюков отдельно издал "Казацкие мотивы. Очерки и рассказы", в 1910-м - "Рассказы". Произведения его далеко выходили за рамки историко-этнографического исследования, в них чувствовался писатель, болеющий за судьбы своего народа.
Поздней осенью 1914 года - уже шла первая мировая война - Крюков покинул Донскую область, чтобы отправиться на турецкий фронт (хотя в молодости был освобожден от воинской службы по близорукости). После долгого путешествия он присоединился к 3-му госпиталю Государственной думы в районе Карса, зимой 1916 года с тем же госпиталем находился в Галиции. Впечатления об этом периоде своей жизни Крюков отразил во фронтовых заметках "Группа Б" ("Силуэты").
Потом писатель жил в Петрограде, был свидетелем февральской революции.
В 1918-1919 годах Крюков - секретарь Войскового круга (парламента донских казаков) и одновременно редактор новочеркасской газеты "Донские ведомости". В эти годы он активно выступал против большевиков. Когда весной 1919 года станица Вешенская стала центром Верхне-Донского восстания, Крюков был среди тех, кто призывал повстанцев держаться до конца. А в сентябре 1919 года, когда фронт приблизился к станице Глазуновской, он вступил в ряды Усть-Медведицкой белоказачьей части; примерно через месяц, вернувшись с фронта в Новочеркасск, принял участие в заседаниях Войскового круга. До захвата Новочеркасска большевиками Крюков ушел с отступающими белоказачьими частями. 20 февраля (4 марта по новому стилю) 1920 года Федор Дмитриевич умер от тифа или плеврита в станице Новокорсуньской (или вблизи нее) на Кубани.
Даже из этих пунктирно изложенных биографических сведений становится понятной причина замалчивания творчества писателя официальным советским литературоведением.
Но вернемся немного назад - к сотрудничеству Федора Крюкова в журнале "Русское богатство". В нескольких номерах за 1913 год в нем были напечатаны главы "Потеха" и "Служба", входящие в большой очерк Ф. Д. Крюкова "В глубине" (писатель публиковал его под псевдонимом И. Гордеев). Кроме этих глав, которые мы предлагаем вниманию читателей, в очерк входят еще четыре: "Обманутые чаяния", "Бунт", "Новое", "Интеллигенция". В целом это произведение рисует широкую панораму жизни донского казачества; писатель остронаблюдательный, Крюков подмечает специфические черты казачьего нрава, детали быта, особенности красочного говора своих героев, отношение к воинской службе, курьёзные и грустные явления их жизни.
Сегодня творчество Федора Дмитриевича Крюкова привлекает все большее внимание. И прежде всего им интересуются потомки его героев. Недавно созданное в Москве Казачье землячество планирует провести Крюковские чтения, ускорить издание всех его произведений, в том числе и неопубликованных, чтобы вернуть имя самобытного донского писателя Федора Крюкова русской литературе.
Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить сотрудников отдела рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина за помощь, оказанную мне и редакции журнала "Вокруг света" в подготовке данной публикации.
Петр Лихолитов, студент факультета журналистики МГУ, член Казачьего землячества ("Вокруг света" №4 (2607), апрель 1991.)
5.
"Федору Крюкову, певцу Тихого Дона.
Старая тонкая книжечка, чуть более полусотни страниц... Бумага серая, местами пожелтевшая, похоже - газетная. Лучше, вероятно, найти не смогли. Шрифт блеклый, плохо читается. Место издания - Усть-Медведицкая станица. Год издания - 1918-й...
На обложке название: "Родимый край"... Ф. Крюкову...
Случайно сохранившийся до наших дней экземпляр - осколок ушедшего навсегда русского прошлого, свидетель скорбных раздумий и затаенных ожиданий горсточки русской донской интеллигенции в дни "развала и бессилия России".
Донская область. Ноябрь 1918 года...
Смутное время. Вот уже год как над всею Россией горит пламя братоубийственной "гражданской" войны. Германский фронт брошен для того, чтобы открыть фронт внутренний, "классовый". Германская армия вступила в пределы России, заняв хлебные губернии Юга, отделила Прибалтику, Украину, Крым, Кавказ. Развал и бессилие повсюду.
Не остался в стороне и Дон. По нему Мамаем прошел девятый вал большевистской злобы и мести. Зимой и весной 1918 года первые кровавые опыты уже поставлены Историей над этим глухим и благодатным краем, первые сотни и тысячи невинных жертв... И как ответная реакция - общее восстание казаков весной 1918-го, освобождение донской области, создание собственного Донского правительства.
Несколько интеллигентов в глухом углу России, у слияния рек Дона и Медведицы, где расположилась эта старая казачья станица, соединились вместе, чтобы выразить в это трудное время свои добрые чувства Федору Крюкову, своему соотечественнику, писателю, общественному деятелю. Поводом был избран творческий юбилей - четверть века начала его литературной деятельности. Трогательные страницы: выражения любви и признательности, веры в родной край, в его будущее и - надежды на возрождение жизни... Почему же мысли и чувства казачьих интеллигентов оказались в поле притяжения именно этого имени? Кто он был - Федор Крюков?
Прошло немного времени после выхода этой небольшой книжечки. Новые истребительные волны раз за разом накатывались на Дон, пока не захлестнули его. Всеобщее разорение, гибель в конечном счете половины взрослого мужского населения, уход остатков Донской армии в эмиграцию... Весь этот старый мир многовековой прочной жизни исчез, растаял, погрузившись в пучину забвения, так что даже и воспоминание о нем грозило жестокими земными карами...
Почти на три четверти века погрузилось в небытие и имя Федора Дмитриевича Крюкова. Советская эпоха "не знала" такого писателя, тщательно следила за тем, чтобы и мы, простые граждане Советской России, не проведали каким-либо путем о его былом существовании. Лишь немногие, помнившие писателя, чтившие его талант, сохраняли память о нем и донесли ее до наших дней.
"Перестройка" России конца ХХ-го века, новый развал и распад страны, отменили (на всегда ли?) старые табу и запреты. Сегодня всем нам, мучительно переживающим эту затянувшуюся смутною пору, близки и понятны чувства и мысли соотечественников из 1918-го года. Так же как и они, мы ищем опоры для нашей веры, всматриваясь в будущее, мы ждем ответа на вопросы - как жить, на что надеяться, к чему стремиться.
Предлагая вниманию читателя небольшой сборник из 1918-го года, мы хотели дать ему возможность проникнуть хотя бы на короткий миг в мир русских людей, которые в глухом углу России были "унесены ветром" революции и гражданской войны, пережили гибель и крушение родины и, несмотря ни на что, пытались сохранить и отстоять свое человеческое достоинство.
И конечно же мы хотим дать возможность русскому читателю в начале XXI века ближе познакомиться с личностью Федора Крюкова, "который всею своею жизнью и деятельностью" служил "делу собирания и объединения нашей разбитой и опозоренной родины". Чтобы и сегодня его творчество и пример его личной судьбы могли служить России, ее исцелению и возрождению.
* * *
Родился Федор Дмитриевич Крюков на верхнем Дону в станице Глазуновской, раскинувшейся в низовьях левого притока Дона - Медведицы, в рядовой казачьей семье. Простое происхождение, однако, не помешало ему в условиях Императорской России раскрыть свой талант. Он с отличием закончил гимназию, а в дальнейшем - Историко-филологический институт в С.-Петербурге, стал педагогом. Одновременно, еще в годы учебы в Институте, Федор Дмитриевич начал заниматься литературной деятельностью, которая постепенно стала основным содержанием его жизни.
Из глухого угла, которым в те годы была его родная станица, он выбирается на простор "большой" жизни - Орел, Нижний Новгород, С.-Петербург... Печатается в столичных газетах и журналах. Становится известным в литературных кругах, поддерживает общение с В. Короленко, М. Горьким... Но за всем этим ростом прослеживается одна особенность: он не только не порывает со средой, из которой вышел в большую жизнь, но внутренняя, глубинная связь его со своей "малой" родиной усиливается, обостряется. "Родимый край" влечет его к себе с неослабевающей силой.
Девятнадцатый век, ускоряющееся развитие России, ее модернизация и "приобщение" к западной цивилизации породили проблему "лишних людей". Многочисленные верхи правящего слоя все более ощущали себя в России "европейцами", создавая в столицах соответствующую культурную и социальную среду, "малую Европу", со своими особенными интересами, идеологией. Подобным же путем развивалась нарождавшаяся российская интеллигенция, быстро приобщаясь к российской городской культуре европейского типа и разрывая свои связи с народными низами, из которых она выходила. Таким образом к началу ХХ века происходило быстрое разложение традиционного русского общества, державшегося на крестьянской массе, монархическом строе и национальной идеологии, выработанной прежде всего под воздействием Православия.
Проблема эта остро стояла и перед Федором Крюковым, именно эта тема была центральной в первых его крупных литературных опытах - в "Казачке" и в "Дневнике учителя Васюхина". Потеря органичной связи и взаимопонимания - благодаря образованию и совершенно отличным условиям жизни и деятельности - с простой народной средой остро переживалась писателем. Однако одно обстоятельство предопределило последующий его жизненный путь: чувство любви к Дону, к "родному краю", к населяющему его народу. Любви, которая повседневно наполняла быстротекущую жизнь и придавала ей особенный смысл.
Федор Дмитриевич регулярно, два-три раза в году приезжал в Глазуновскую. Здесь он не только участвовал в текущей хозяйственной жизни, в полевых работах, принимал заботу о родных, а позднее усыновил и стал воспитывать ребенка, Крюков сохранял активный интерес к станичной жизни, участвовал в ней, реально помогая станичникам в разрешении возникавших трудностей. Все это со временем создало ему высокий авторитет среди казаков и выдвинуло на поприще общественной деятельности: в 1905 году Крюкова выбрали депутатом 1-й Государственной Думы, где он пытался активно отстаивать интересы рядовой казачьей массы.
Его мысли и чувства были во многом направлены на то, чтобы помочь своему родному краю, чтобы использовать свои знания и способности для улучшения тяжелой и непростой жизни рядового казака - чтобы "послужить" своей родине. Со временем этой "службой" стала его литературная деятельность. Многогранная, она прежде всего сосредотачивалась вокруг изображения донской жизни и выдвинула его в первый ряд писателей Дона общероссийского масштаба. Крюков, по словам Короленко, "первым дал нам настоящий колорит Дона".
Все это предопределило характер его творчества - основным художественным методом становится подлинный реализм. Крюкова интересовали в окружающей жизни реальные человеческие отношения и переживания, действительные сложности и противоречия окружающей его русской жизни. Как опытный наблюдатель, он подмечал многие пока еще, быть может, малозаметные изменения народной жизни и психологии. Тонкий ум и разностороннее образование позвоили увидеть за отдельными фактами цельную, хотя и противоречивую картину народной жизни. А доброе чувство к своим героям, которыми фактически стала вся масса простого народа, неизменно сопровождало его очерки и рассказы, исцеляя душевные раны и врачуя сердца.
* * *
Февральский переворот 1917 года открыл новую страницу в истории России, страницу трагичную и тяжелую. События того времени были мифологизированы сразу же, причем каждая из сторон, принимавших в них участие, создавала "свою" мифологему - классовую или национальную, "белую" или "красную", монархическую или "демократическую"... И главная из них - мифологема о Революции (Февральской
и/или Октябрьской), как неизбежном, поступательном, "прогрессивном" движении русской истории. Лишь немногие из современников могли реально оценивать характер и масштаб происходящих перемен.
С первых дней февральского переворота Федор Крюков с тревогой наблюдал за развитием событий: за нарастающей анархией, злобой и волной насилия, захлестывавшими русскую жизнь. Первое появление "большевиков" на Дону, в его родных местах, окончательно определило его дальнейший путь, он встал в ряды бойцов - защитников родины от той массы "просвещенных революционным сознанием", которая, как писал Крюков в 1919 г., "...обрела лик звериный. И с этим ликом быстро дошла до логического конца - и вот, мы видим воочию воскресение пещерного периода человеческой истории: люди простые, трудящиеся, мирные скрываются в пещерах, степных пустырях, лесах, на островках; цветущие степи окутаны дымом пожарищ; вернулись преступные муки, пытки, сожжения детей и женщин. Стон и вопль отчаяния оглашает знакомую ширь родного края..."
Федор Дмитриевич Крюков был в эти годы среди тех, кто не поддался искусительным миражам быстро текущего калейдоскопа событий. В марте 1917 г. он, по природе своей и убеждениям казак-демократ, единственный среди членов руководства партии Народных социалистов голосовал против провозглашения республики, за сохранение конституционной монархии и в знак протеста против политической беспринципности вышел из партии. Как больно было, наверное, видеть ему происходившее - моральное падение, малодушие окружавших его людей.
"То, что называют теперь великой революцией... в сущности, есть не революция и даже не политический переворот, а распад, разложение, государственное и социальное..." - писал 7 мая 1917 г. в своем дневнике его современник, русский историк С. Б. Веселовский и слова эти полностью разделял и Федор Крюков. - "...Я совершенно ясно вижу на себе отражение и проявление общей деморализации, составляющей самую сущность нашего крушения и распада всего государства и общества. У всех утрачена вера в себя и свои силы, утрачен стыд и затемнена совесть. Утрачено совершенно желание работать и сознание необходимости труда..."[2]
Очерки Крюкова, публиковавшиеся в 1917-1918 гг. показывают, что в "годину смуты и разврата", когда множество российских душ поддалось соблазну малодушия и предательства, злобы и эгоизма, оправдания "революционного" насилия, Федор Дмитриевич испытание выдержал - остался преданным родине, верным своим идеалам гуманизма и добра. Он не уклонился от выпавшего ему жребия, до последнего своего вздоха активно участвовал в борьбе за восстановление России. В августе 1918 г. Крюков был избран Секретарем Войскового Круга области Войска донского, помимо этого он редактировал правительственные "Донские ведомости", был директором Усть-Медведицкой женской гимназии.
И, конечно же, в эти годы он занимался главным делом своей жизни - литературой. Главное теперь - успеть запечатлеть это страшное трагическое время, сказать читателям будущей возрожденной России правду о том, что произошло, попытаться исцелить заблудшие души.
В советское время часть архива Федора Крюкова сохранил близкий друг детства, соратник по антибольшевистской борьбе на Дону, профессор-металлург Николай Пудович Асеев. Позднее, этот петроградский архив хранила племянница Н. П., Мария Акимовна. Среди бумаг сохранились ее выписки из писем Ф. Д. Крюкова к Н. П. Асееву тех грозных лет:
"Коля. Береги архив, он мне будет нужен. Это мое вечное поселение на земле. Там есть некоторые сведения, которые пригодятся кому-либо. Это на случай, если меня не будет... Я не изменю своей веры и своих убеждений до конца своих дней. За это время я столько пережил, столько перестрадал и передумал... Если мне поможет Бог, то я порадую тебя и друзей. Необходимо жить только тем, что хочешь сказать. Я много брожу по нашим садам, степи и любуюсь игрой света и тени. Учусь у природы доброте и терпению. Я каждый день приобщаюсь к чувству прекрасного. Я глубоко верю, что настанет время, когда наш народ победит все..."
Скончался Федор Крюков в тифозном беспамятстве 20 февраля 1920 г. во время отступления Донской армии, был тайно похоронен в станице Новокорсунской, что на Кубани. Его прах так и не был потревожен до сегодняшнего дня - могила его безвестна, нет на ней даже креста. Судьба сжалилась над ним, она уберегла Крюкова и от застенков ЧК-ГПУ, и от неизбывных картин опустошенного, обесчещенного и разграбленного родимого края, и от невыносимого для сердца чувства непоправимого крушения всего, что было близко и дорого ему в этом мире.
* * *
Свыше восьмидесяти лет прошло со дня кончины писателя. Федор Дмитриевич Крюков жил скромно, не рвался в первые ряды популярных литературных или общественных деятелей, не успел издать даже собрания своих сочинений (вышел лишь 1-й том в 1914 г.), а ведь написанного им хватило бы на 10 томов. Он лишь хотел всю жизнь своим словом - служить родному краю. Его творчество принадлежит к классическому наследию русской литературы. Оно пронизано чувством единства человека и природы, Божьего Мира, оно несет светлые и добрые слова, обращенные к людям, напоминающие им о том, что все люди - братья, а человечество - их общая семья.
Но помимо всего этого Федор Крюков оставил потомкам тайну, которая не разгадана и по сей день. Известно, что, начиная с 1912 года он писал большое произведение о Доне. Но литературный архив его до нас не дошел, донская часть архива пропала во время гражданской войны. Все годы коммунистической власти его имя было под полным и жестким запретом: в Советской энциклопедии 30-х годов можно встретить имена даже таких "белогвардейских" писателей как И. Бунина, И. Шмелева, но о Ф. Крюкове - никаких упоминаний нет. И так эта линия продлится почти до 1990-го года. Глухое молчание связано с тем, что его имя было названо в 1928 году как имя настоящего автора романа "Тихий Дон" с первых месяцев появления романа в печати.
Впервые тему авторства Ф. Крюкова уже в наше время поднял Александр Солженицын в 1974 году в книге "Стремя "Тихого Дона", а позже - Рой Медведев в 1975 г. За последнее десятилетие появилась уже обширная литература, посвященная этой уникальной проблеме авторства романа, получившего общемировую известность и признание. В этой небольшой статье было бы неуместно вдаваться в подробное обсуждение вопроса. Но все же на два обстоятельства, указывающих на действительно существующую связь Федора Крюкова с "Тихим Доном", мы хотим здесь указать.
Первое - это строфы старинной казачьей песни, взятые эпиграфом к роману "Тихий Дон": "Не сохами-то славная землюшка наша распахана..." Именно эти же самые строфы приводил Федор Крюков в своем очерке в далеком 1919 году: "...в простых, скупых на краски и подробности словах о великой скорби родной земли чувствовались и бездонное горе сиротства, и отчаяния пустых полей, усеянных костями воинов, погибших за родной угол... Казалось, что вся скорбь, вся туга и тоска, и горячая жалоба, вылившаяся в этой печальной старинной песне, есть только исторический памятник..." Отлитые в народной памяти - воспоминания о пережитых в стародавние времена страданиях и бедствиях. Бедствиях, которые вдруг явились вновь - вернулись и вошли страданиями и "пещерными" временами в повседневную русскую жизнь...
Слова этой старинной песни служат как бы символом "Великой и бескровной" революции - разыгравшегося нового издания русской анархии и самозванства начала ХХ века. "Тихий Дон" оказывается, таким образом, в одной общей идейной и литературной линии с творчеством Федора Крюкова последних лет его жизни.
Второе - название главного места действия романа, единственного вымышленного топонима "Тихого Дона", хутора Татарского, происхождение которого до сего дня никем прояснено не было. Теперь же оказалось, что появление его и раскрытие внутреннего смысла следует искать в творчестве Федора Крюкова, для которого образ Татарника (цветка-татарника) в те годы виделся символом борьбы казачества за свою родину:
"И как колючий, стойкий репей - татарник растет и закаляется в тревогах и невзгодах боевой жизни будущий защитник Дона - босоногий, оборванный Панкратка, предпочитающий сидению в погребке с лягушками пыль станичной улицы под грохот канонады. Есть неожиданная прелесть в этом сочетании неистребимой жизненной энергии и близкого веяния смерти.
Необоримым Цветком-Татарником мыслю я и родное свое Казачество, не приникшее к пыли и праху придорожному, в безжизненном просторе распятой родины..."
Название казачьего хутора в романе символизирует несгибаемую стойкость и жизненную силу родного Крюкову казачества в отчаянной и почти безнадежной борьбе его за свое существование и свободу!
Герои Федора Дмитриевича Крюкова навсегда вошли в сердца современных читателей, живут в нас, призывая к мужеству и доброте, верности и любви к родине...
"...Я лишь один денек успел провести в ней, поглядел на руины сожженного и опустошенного родного гнезда, родные могилы. В душе - печаль. И вместе - ровное чувство спокойной убежденности, что этапов, определенных судьбой, ни пеш не обойдешь, ни конем не объедешь.
Я гляжу на разрушенный снарядом старенький куренек, на обугленные развалины - обидно, горько. Но нет отчаяния! Пройдем через горнило жесткой науки, будем умней, союзней, и, может быть, лучше устроим жизнь.
Осенний день тих, тепел и хрустально-прозрачен. Выстрелы бухают гулко и четко, и все как будто прислушалось к ним. Только в перерывах раскатистого грохота в притаившейся тишине опустелого хутора где-то тихо-тихо звенит тонкий голосок, причитывают по мертвому - и тонким жалом тягучей тоски впивается в сердце монотонная мелодия".
И сегодня для нас снова, как и восемь десятков лет назад как завет звучат добрые и мудрые слова Федора Крюкова:
"...обидно, горько. Но нет отчаяния! Пройдем через горнило жесткой науки, будем умней, союзней, и, может быть, лучше устроим жизнь". (Андрей Глебович Макаров, исследователь творчества Федора Крюкова. АИРО-XXI)
6.
"Моисеева Ольга Кузьминична (урожденная Попова), г. Ростов-на-Дону, 1977 г.
Посвящается светлой памяти певца донского края Крюкова Ф.Д.
С Федором Дмитриевичем Крюковым, донским писателем и другом Филиппа Кузьмича Миронова, я познакомилась через свою одноклассницу Шуру Ветютневу (по мужу Сухову Александру Ивановну). Жила она в станице Глазуновской, а училась в то время в Усть-Медведицкой женской гимназии в одном классе со мной. На летние каникулы приглашала меня в гости, где я и познакомилась с Ф.Д.Крюковым. Уроженец Глазуновской станицы Усть-Медведицкого округа, из зажиточной казачьей семьи, учитель по профессии (учительствовал в городе Орле), он занимался литературной деятельностью, сотрудничая с писателем Короленко в его журнале "Русское богатство", где и публиковал свои рассказы о быте донских казаков.
Был он среднего роста, плотный, живой, с добродушно улыбающимся лицом. Любил шутить. Зимой жил в Петербурге. Лето проводил в своей станице. Была у него сестра Мария Дмитриевна, которая посвятила ему свою жизнь, сестра Дуня и приемный сын Петр (Петруша, как он его называл). Женат не был из-за несчастной любви в молодые годы. Был у него еще брат Александр, который работал и жил далеко от станицы, где-то в центре Российской империи. Федор Дмитриевич, являясь депутатом Государственной Думы, за антиправительственные выступления был осужден на несколько месяцев.
Двор и сад Шуры Ветютневой соприкасался с двором и садом Крюкова (хотя их дома находились на разных улицах). Хозяева имели самое близкое общение. Увидев нас в саду, Федор Дмитриевич приглашал нас к себе, интересовался нашей учебой, жизнью и сам любил рассказывать нам занятные истории.
Часто его можно было видеть среди старых казаков, он с большим вниманием слушал их рассказы о старине. Пользовался среди казаков всеобщим уважением. Так началось мое знакомство и дружба с этим замечательным донским писателем, жизнь и творчество которого по воле трагических событий революционных лет преданы забвению.
Теплые дружеские отношения у нас сохранились до последнего свидания. Узнав о моем приезде на летние каникулы в станицу Скуришинскую, он всегда присылал записку с приглашением в гости, иногда навещал меня в городе Камышине (где я работала в женской гимназии), приезжая по своим делам к знакомому депутату Государственной Думы. Дарил мне свои книги с дарственной надписью, часто говорил, что я ему напоминаю его любимую девушку юных лет.
После революции 1917 года Крюков постоянно жил в своей станице Глазуновской, собирал сведения о происходящих событиях, организовал "Устную газету", в чем ему помогала интеллигенция хуторов и станиц (он разъезжал по хуторам с призывом поддерживать идеи конституционной монархии и сохранении старых казачьих традиций). Писал большое произведение о Тихом Доне, которое начато было до революции. Последний раз я его видела в конце гражданской войны, когда, придя к нему в гости, увидела незнакомого, интеллигентного вида мужчину, которого он представил мне как гостя из Петербурга (но фамилию не назвал). Затем они удалились в соседнюю комнату, где вели тихий разговор, но я слышала, как гость уговаривал его уехать, говоря, что "время тревожное, жизнь в опасности, надо переждать". Сестра Федора Дмитриевича, Мария Дмитриевна, угощала меня початками кукурузы и была очень озабочена.
Через несколько дней, придя к ним, я увидела закрытые ставнями окна, запертые двери. Соседи сказали, что Крюков с семьей уехал через два дня после моего последнего посещения. Вскоре и мне пришлось уехать. А предшествовали этому следующие события: "особая команда из центра", осуществляющая репрессии, собрала по хуторам учительниц, фельдшериц, гимназисток, жену врача и повела нас под конвоем в Усть-Медведицкую тюрьму. Шли мы пешим ходом, с узелками в руках, заливаясь слезами. В пути жену врача на наших глазах пытались расстрелять - выводили из строя, завязывали глаза, но стреляли поверх головы. На ночь нас запирали в сарай. Один молодой солдат из конвоя все допытывался у нас: "Что вы, девочки, такого сделали, что вас ведут на расстрел?", - и глаза его были полны слез.
На наше счастье нам повстречалась небольшая воинская часть. Командир этой части остановил конвой, потребовал объяснения и сказал: "Зачем вы их туда ведете, там вся тюрьма забита трупами". Он стал лично с нами разбираться, допросил всех, опрашивал жителей хутора, где мы остановились, выявляя нашу лояльность к Советской власти. От него я узнала, что была арестована по клеветническому доносу, сделанному в корыстных целях фельдшером Большевым Алексеем Ивановичем, жителем Петербурга, бежавшим на Дон, где, занимаясь врачебной деятельностью, перебегал от красных к белым и от белых опять к красным, смотря на чьей стороне была победа. Командир воинской части после допроса отпустил нас домой.
Прихода частей Красной Армии с иногородними бойцами жители хуторов и станиц боялись больше, чем прихода белых, ибо расправы красноармейцев с семьями казаков, служивших у белых, были жестокие и беспощадные. И потому и я вскоре покинула родные края и поехала неизвестно куда. Погода была холодная, дождь со снегом, грязь, многочисленные обозы с беженцами. Одета я была в легкий полушубок, денег не было. На железнодорожной станции влезла в вагон поезда, в котором белые эвакуировали рабочих завода в тыл, многие из них в пути разбежались по домам.
На одной станции, где была длительная остановка, я постучалась в крайнюю хату, там жили немецкие поселенцы. Они обогрели и накормили меня. С большими трудностями добралась я до Екатеринодара (теперь Краснодара), где встретила надзирателя Камышинского реального училища, который отвел меня на квартиру к своим знакомым. Там все болели сыпным тифом, и, переночевав два дня под столом, на полу, я пошла искать приют в городском театре, где собирались беженцы с Дона.
Театр был переполнен, люди размещались кто в креслах, кто на полу. Неожиданно ко мне подошел один офицер, узнавший меня по фотокарточке, которую ему дала моя сестра, попросив разыскать меня. К сожалению, помочь он ничем не мог. В театре я встретила станичников, депутатов Государственной Думы Сергеева Александра Ивановича (бывшего атамана) и Марчукова Никиту Вакумовича. Они сказали, что от сыпного тифа умер Крюков, и что они получили приглашение на панихиду и похороны, которые состоятся в церкви Усть-Лабинской станицы. Сообщили также, что у Крюкова украли рукописи, о чем очень горевали.
Поехать на панихиду и похороны я не могла, так как была уже больна, поднялась высокая температура, начался озноб. Очнулась в госпитале, в тифозном отделении, как туда попала - не помню, осталось в памяти только то, как какая-то женщина угощала меня фруктами.
После сыпного тифа я переболела еще и возвратным тифом. Выйдя из госпиталя и не имея средств к существованию, решила уехать домой. На вокзале уговорила машиниста поезда взять меня с собой. Мой жалкий вид его растрогал, и он пристроил меня к кочегару паровоза, где я провела трое суток. В пути он угощал меня хлебом и водой. Наконец-то добралась домой, истощенная болезнью и черная от угольной пыли. На этом и окончились мои скитания по дорогам гражданской войны между белыми и красными. О дальнейшей судьбе родных Ф.Д.Крюкова мне не известно.
Попова (Моисеева) О. К. Ростов-на-Дону, 1977 г. " (В кн.: Н.И.Сергеева. "Трагедия Донского казачества". М.: Белые альвы. 2003.)
7.
Все больше сторонников появляется у Федора Крюкова, истинного автора романа "Тихий Дон".
И путь тихой науки полезен художественному творчеству, у которого никогда не было сомнений в полной ничтожности Шолохова, и в гениальности автора "Тихого Дона" Федора Дмитриевича Крюкова (1870-1920).
Поэт Андрей Чернов пишет:
"Стилистические разногласия писателя с властью.
Случай Шолохова
Кратко суть выступления можно свести к следующему: опубликование в последнее время рукописей Шолохова стало настоящей катастрофой для "шолоховедения" и нанесло ему непоправимый удар. Выявленные автором буквально сотни случаев всесторонней безграмотности Шолохова, десятки примеров "просачивания в рукописный шолоховский текст "старой", дореволюционной орфографии, включая собственноручное написание Шолоховым ятей, "i" и проч., а также десятки случаев полного непонимания Шолоховым контекста, в котором используются те или иные слова и обороты свидетельствуют:
1. о том, что данная рукопись не является черновиком, а была сфабрикована наспех специально для писательской комиссии, которая рассматривала в 1929 году обвинения Шолохова в плагиате;
2. Шолохов не был автором романа, а использовал чужую рукопись, предположительно Федора Крюкова, в качестве основы своего произведения;
3. вопрос о плагиате Шолохова в отношении романа "Тихий Дон" после издания рукописей можно считать доказанным;
4. в перспективе возникает необходимость поднять вопрос перед Нобелевским комитетом о лишении Шолохова звания лауреата.
При дальнейшем обсуждении доклада был задан вопрос о юридической правомочности лишения Шолохова авторского права на роман. Выступивший далее в обсуждении Андрей Макаров, генеральный директор НИЦ "АИРО-XXI", отметил, во-первых, что под текстом "Тихого Дона" в его сегодняшнем виде никогда, к примеру, не поставил бы свое имя Федор Крюков. Шолоховский "Тихий Дон" - сложный продукт "коллективного" творчества, прошедший несколько стадий искажений, переработки и дописывания. Но прежде, чем ставить вопрос о возможном настоящем авторе казачьей эпопеи, необходимо осуществить достаточно полное издание произведений Федора Крюкова, творчество которого в советское время оказалось фактически под полным запретом. Помимо этого требуется спокойное и академическое изучение сложной проблемы возможного шолоховского плагиата, не опускаясь до групповых и клановых "разборок". Было также отмечено, что исследования авторских стилевых характеристик, проводимые в настоящее время на Филологическом факультете МГУ, показали наличие нескольких различных авторских стилей как в тексте самого "Тихого Дона", так и в других шолоховских произведениях. В заключение генеральным директором "АИРО-XXI" была выражена благодарность Андрею Чернову за выполненную большую и продуктивную работу и от имени Ассоциации исследователей Российского общества была вручена книга "Булавинский бунт" - издание неизвестной ранней рукописи Ф.Д. Крюкова, осуществленное нашим издательством в 2004 г."
8.
Слышу мелодию речи, вижу дивные краски Крюковского тихого Дона, вспоминаю Лондон, тихий Лондон, давно почитающий Федора Крюкова автором "Тихого Дона". Дон - это Бог, иносказательно, ибо все в жизни - иносказательно. Прямо говорить нет никакой возможности, все табуировано и состоит в человеческой природе из сплошных запретов. Отсюда появление красоты, которая спасает мир. Имя Бога произносить нельзя, или можно в зашифрованном виде. Тогда это имя становится любым словом на земле. И таким чудесным словом, которым пользуется великий мастер вязания узоров - Федор Крюков. Как свободно поется его песня, как неостановимо льется она над тихим Богом! С любовью к родному краю звучит чудесная мелодия прозы певца тихого Дона, наполняя душу чудесными картинами первозданной красоты. Вы посмотрите, вы почувствуйте, вдохните эти завораживающие ноты, пронизывающие всё эссе Федора Крюкова "На тихом Дону" и вызывающие сладкие, трагичные, величественные слезы в финале этой литературной симфонии: "Есть что-то непонятно-влекущее, безотчетное, чарующее в чувстве родины. Как бы неприветливо ни взглянула на меня родная действительность, какими бы огорчениями ни преисполнилось мое сердце, - издали, с чужбины, как-то все в ней кажется мне краше и приветливей, чем оно есть на самом деле. Иногда, когда случайно приходится натолкнуться на сравнение, я даже ощущаю до некоторой степени эгоистическую гордость: мой сородич-казак, как бы он беден ни был, все-таки живет лучше русского мужика. Такой поразительной нищеты и забитости, какую на каждом шагу можно встретить в русской деревне, на Дону пока не найдешь. Казак не знал крепостной зависимости, сознание собственного достоинства еще не умерло в нем. Это-то сознание, хоть изредка проявляющееся, и привлекает к нему наиболее мое сердце...
И всякий раз, как за сизою рощею верб скрываются из глаз моих крытые соломой хатки моих станичников и постепенно убегают из глаз и самая роща, и кресты на церкви, и гумна со скирдами за станицей, - сердце мое сжимается безотчетной грустью, - потому ли, что жаль расстаться с людьми родными, близкими моему сердцу, с дорогими, родными могилами или еще почему-то, - не знаю..."
Не случайно свой грандиозный роман писатель Федор Крюков назвал "Тихий дон". Путь к нему был долог. Не во временном, а в художественном смысле. Для Федора Крюкова, как и для любого другого большого писателя, важно было не "что" сказать своим произведением, а "как" сказать. Художник безупречного вкуса, интеллигентный писатель из казаков, сын атамана станицы Глазуновской, он вдоль и поперек изучил уклад жизни, обычаи и нравы донского казачества. Очерк, или, как я ныне обозначаю жанр свободного изложения - эссе "На тихом Дону" Федор Крюков написал еще в конце XIX века, когда мародера Михаила Шолохова еще в проекте не было, зато был его тесть и инициатор всех плагиаторских дел Петр Громославский, восхищавшийся талантом свого друга Федора Крюкова, когда прочитал в журнале "Русское богатство" это эссе, проложившее путь к роману "Тихий Дон". В 1928 году, как только появились первые номера одиозного советского журнала "Октябрь" с романом Федора Крюкова под "лже-авторством" безвестного двадцатидвухлетнего Михаила Шолохова, в губернском Воронеже из молодых учителей, с гимназических лет хорошо знакомых с творчеством непревзойденного "Певца Дона", организовалось "Общество по защите творчества Федора Крюкова от плагиата Михаила Шолохова". Но "Тиходонской плагиат" защитил всесильный плагиатор-диктатор Иосиф Сталин, и защитников творчества Федора Крюкова поглотила безвозвратно тюремно-лагерная промышленность молодого государства.
9.
Мой вывод окончателен и бесповоротен: Шолохов не только не был писателем, но не был даже читателем, не имел малейшей склонности к "чтению - лучшему учению" (Пушкин), был только буквенно-грамотным, не освоил синтаксис и орфографию; чтобы скрыть свою малограмотность, дико невежественный Шолохов никогда прилюдно не писал даже коротких записок; от Шолохова после его смерти не осталось никаких писательских бумаг, пустым был письменный стол, пустые тумбочки, а в "его библиотеке" невозможно было сыскать ни одной книги с его отметками и закладками. Никогда его не видели работающим в библиотеке или в архивах. Таким образом, те "разоблачители", которые говорили или писали, что Шолохов сделал то-то и то-то, обнаружили незнание плагиатора: Шолохов был способен выполнять только курьерские поручения, а плагиат "Тихого Дона" и всего остального т. н. "творчества Шолохова" - все виды плагиата выполняли другие люди, в основном - жена и ее родственники Громославские. Приписывать Шолохову плагиаторскую работу - значит, заниматься созданием мифологии плагиатора, который был во всех отношениях литературно-невменяемой личностью. Оттого его жена Мария и раздувала легенду о том, что у нее с мужем почерки "одинаково красивые", оттого и сфальсифицированный "его архив" написан разными почерками и разными людьми. Истина абсолютная: Шолохова не было ни писателя, ни деятельного плагиатора: его именем, как клеймом, обозначали плагиат других людей. Шолохова писателем можно было называть только один раз в год в качестве первоапрельской шутки. Он и был кровавой шуткой Сталина, преступным продуктом преступного строя, чумовым испражнением революционного Октября и журнала "Октябрь", незаконнорожденным выродком Октября во всех смыслах.
"НАША УЛИЦА" №111 (2) февраль 2009
|
|
Процитировано 1 раз
МЕТРО - ТРАНСПОРТ АРИСТОКРАТОВ |

То я ходил, руки в брюки, по мосту, любуясь закатами и восходами на голубой дали Москвы-реки, а ныне пролетаю под рекой за две минута на метро от моей станции «Борисово» до «Марьино». Моя станция похожа на космодром с улицы, где в ряд стоят ракеты вентиляций со срезанными конусами вершин. Станция «Борисово», в шоколадных тонах, как мой дом, с никелем отделки и с огромными стеклянными колпаками светильников, создает ощущение выставочных конструкций Татлина и картин Малевича. Три авангардных, огромных, светлых, в стиле хайтек станций убили примитивный автобус, который изрядно потрепал нервы жителям моего берега, которые штурмом брали автобус у метро «Марьино» и стояли с этим автобусом в многокилометровых пробках на мосту. И вот пустили метро от «Марьино» до «Зябликово» с переходом на Замоскворецкую линию на «Красногвардейской», и с момента открытия исчезли пробки, автобусы ходят пустыми. Пацаны с девчонками, а это они влезли в кредиты, купили машины и все сразу поехали в центр, чтобы стоять в вечной пробке, ибо в центре место для одной машины, а поехало туда два миллиона машин, пересели со своих джипов на метро. Я говорю: когда ни у кого не было машин, у меня она была и я ездил по пустым улицам. Как только машины стали у всех, я стал ходить пешком. И вспомнил, что первое в мире метро в Лондоне пустили в 1863 году, вагоны таскали паровозы, изрыгая дым и гарь, пассажиры задыхались, стояла проблема вентиляции, благо что линия подземки была меньше четырех километров. Только с 1906 года появилась в Лондоне электрическая тяга, и метрополитен зашагал по всему миру. Аристократы ходят пешком, плебс ездит на машинах. Но и теперь до многих доходит, что пора ходить пешком, быть может, выбьются в аристократы. Теперь в супермаркет хожу через станцию метро «Борисово», из подъезда спускаюсь на новейших сверкающих металлом эскалаторах на станцию, любуюсь декором, панелями, наслаждаюсь ритмичным подходом и отходом поездов, интервал теперь - полторы минуты! - и выхожу к магазину. Так дышится хорошо и свободно! Красиво жить не запретишь, - любят у нас говорить в народе. И народ, разинув рты, гуляет по новым станциям, как по Третьяковке, обалдев окончательно.
Юрий КУВАЛДИН
|
|
ПОГОСТИЛ |
Сергей Михайлин-Плавский

В ГОСТЯХ У ЖИЗНИ
рассказ
Виктор сидел в общем вагоне рабочего поезда Тула - Скуратово, смотрел в окно на убегающие назад молодые посадки вдоль насыпи железной дороги; его не покидало чувство предвкушения начавшихся каникул и, особенно, предстоящих сенокосных дел. Косить он научился года три назад, когда нужно было подменить на сенокосе заболевшую мать (отец косить не мог из-за раненой на недавней войне правой руки), ведь заработать сенца для ягняток и телёночка можно было только при заготовке сена всем колхозом: в то время крестьянам милостиво разрешили заготавливать сено из расчёта десять процентов скошенного - для личного хозяйства косарей.
Вот и косили мужики и бабы, никто не отлынивал от такой тяжёлой, но настоятельно необходимой работы, а с ними косил и Виктор Акимов, ныне учащийся второго курса Тульского Механического техникума имени С.И.Мосина, будущий специалист-оружейник (а на кого же ещё в Туле учиться, в этой российской исконной кузнице оружия, как не на оружейника, да не обидятся на меня другие специалисты - туляки: педагоги, музыканты, горные и другие инженеры), и ворошили, и сушили кошенину на дальних и ближних луга, ставили копны сухого, приятно шуршащего сена: девять копен в колхоз, десятая - себе.
Да простят мне мои земляки, и ныне живущие, и ушедшие уже в мир иной за разглашение тайны, которая была обоюдной, коллективной что ли, ведь эту мужицкую уловку мы тогда не считали большим грехом. Дело в том, что те копны сена, что предполагались для себя, уплотнялись немного сильнее, чем колхозные, и, таким образом, получивший честно заработанную копну мог считать, что в ней охапки на две-три сенца больше, чем в остальных, предназначенных для колхоза. Иногда в середину "своей" копны закладывали несколько навильней сырой травы или непросохшего сена (опять же для уплотнения), эти копны развозили по дворам в первую очередь, а там их каждый хозяин растрясал перед домом и досушивал.
Ни для кого не было секретом и то, что и обмер копен проводился с "заковыкой": для обмера готовых копен , пока все копнильщики отдыхали, бригадир звал Виктора. Они брали обыкновенные пеньковые вожжи, перекидывали их через копну от земли до земли, вожжа туговато врезалась в сено, и копна считалась готовой. Но вот бригадир кричал кому-нибудь из копнильщиков добавить сенца в очередную копну: вожжа у него больше, чем на полметра от конца касалась земли. В копну быстро докладывали готового сенца, теперь вожжа уже с изрядным натягом едва касалась земли, и эта копна считалась готовой. Она предназначалась "для себя".
Этот грешок был невольным, вынужденным: до сих пор невозможно понять, почему коров держать колхозникам разрешалось, а обкосить какой-нибудь бросовый овраг, межу или бровку выгона у своего огорода, ни-ни, ни под каким видом. Колхозный объездчик сразу заявит о потраве. В лесу можно было нарвать охапку травы, но только руками, не дай Бог, лесник застанет тебя с косой. Последуют те же штрафные санкции: всё заготовленное сено отберут в колхоз, да ещё и оштрафуют трудодней на пятьдесят, а это около двух месяцев двужильной колхозной работы...
Потом Виктор вдруг вспомнил, как два года назад провожал его отец в Тулу на учёбу, как грустно он смотрел на дорогу, молчал и о чём-то думал. Виктору казалось, что сейчас он знает, о чём тогда думал отец: утекает молодёжь из деревни, вот и Витёк мой - ещё один потерянный для земли человек...
Такие грустные мысли почти всю дорогу терзали русую головёнку Виктора, но настроение его не испортили: ведь он ехал на каникулы домой, к родителям, на свою родину, где в небольшом пруде водились караси, весной "белым ключом" в бывшем барском саду "кипела" черёмуха и розовели крупные бутоны сортовых яблонь, а в начале лета в густом разнотравье на луговых бережках и потаённых лесных полянах краснели крупные подвески с бело-розовыми шариками клубники, сочными и вкусными. Ягод можно было набрать и пригоршню, и другую, потом лечь на земле на спину, смотреть на серова-тобелые стаи облаков, вечно летящих вдаль, и бросать в рот по ягодке, чувствуя на языке сладкую, нежную и ароматную мякоть - дар земли щедрой и неистощимой, доброй и бескорыстной!
Но на сердце снова ложилась давняя обида, ведь эти её дары в виде того же сена по чьей-то злой воле приходилось подворовывать, добывать обманным путём, сознательно уплотняя копны, предназначенные для личного хозяйства. А в то же время в лесу, по опушкам и полянам, пропадали тысячи тонн сочной сладкой травы, которую никто не косил, не сушил, не заготавливал на сено. Виктор чувствовал, как в душе поднимался и рос гнев на эту несправедливость, отчего пропадала вся романтика и красота сенокосных утренников и вечерних росных зорь, которые крестьянин не привык упускать в сенокосную страду. И сейчас, широко шагая знакомым большаком домой, Виктор мысленно представил себе, как рано утром, ещё до третьих петухов, войдёт в амбар мама, подсядет к его ребячьему топчану с матрасом, набитым душистым сеном, тронет за плечо и , жалеючи , скажет:
- Сынок, вставай, косари уже пошли на луг.
И Виктор, хотя и с трудом, но разлепит полусонные глаза и, улыбнувшись маме, а потом светлому, умиротворённому утру, подойдёт к умывальнику на углу палисадника, ополоснёт лицо пригоршней бодрящей колодезной водички и на пяток минут зайдёт в дом выпить кружку парного, только что надоенного молока с ломтем серого хлеба "цвета вечерних лун". А после бросит на плечо косу и пошагает в другой конец деревушки, где за околицей начинаются сенокосные угодья.
А вечером, уже в сумерках, после"вечерной росы" (так назывался тогда вечерний покос, в отличие от утреннего "утренняя зоря") Виктора в клубе поджидала Зинуля, каждое лето из Запорожья приезжающая сюда, в Большие Озёрки, к тётке Шуре на каникулы. И Виктор, не помня себя, мчался с покоса домой, торопясь выпивал кружку молока, надевал чистую рубаху и летел в клуб к своей ненаглядной зазнобе, к дикарке-недотроге, и чем она была неприступней, тем становилась милее и необходимее. Виктор уже далеко за порогом слышал вдогонку голос отца:
- Отбил бы косу-то на утро, оглашённый!
Но куда там! Коса подождёт, а вот Зинуля . . . Вон сколько дружков Виктора пытаются подкатиться к ней, да и разве можно остаться равнодушным при виде такой ошеломляюще-призывной красоты! Потому-то и просиживали Виктор с Зинулей все ночи напролёт , до третьих петухов на лавочке под окнами тётки Шуры, воркуя как голубки, а Виктор при этом не мог наслушаться Зинулиного голоса с мягким, еле заметным украинским акцентом , а потом едва успевал забежать домой, выпить непременную кружку молока, кинуть на плечо косу и поспешить за степенными мужиками на покос.
Опалила любовь первым жаром свиданья,
Пересверком зарниц у земли на краю,
И врывается жизнь в голубое созданье -
Неуклюжую, робкую душу мою.
Отбиваюсь от дома: с вечёрок - в покосы,
Вон сестрёнка на завтрак несёт узелок.
По ночам закружили залётные косы,
Самый звонкий из всех на земле голосок!
Не ругайся, отец, я тебя понимаю
И понять не могу, в замиранье дыша.
Я потом, без тебя, столько дров наломаю:
Будет много огня, но озябнет душа.
А пока что восходит ночное светило
И кричат дергачи, и бормочет река,
Сердце сердцу навеки любовь посвятило,
Мама в кружку парного нальёт молока
И присядет за стол удивлённая:
- Вырос!
Тополёк кой желанный под сводом небес!
Не вчера ли ещё брали брюки на вырост,
А сегодня пощады не жди от невест?!.
Усмехнётся отец:
- Хоть отбил себе косы?
От любви хоть реви, хоть и спать не ложись!..
Скоро солнце взойдёт, утром снова в покосы.
Продолжается жизнь.
И да здравствует жизнь!..
Виктору, можно сказать, повезло. Повезло в том смысле, что накануне приехала к его отцу в гости тётка Дуся, родная его сестра, работающая на шахте в Щёкино мотористкой. Она давно звала Виктора погостить у неё на шахте и на этот раз уговорила отца отпустить к ней своего крестника недельки на две после окончания сенокоса.
Тётка Евдокия, а привычней для Виктора "тётя Дуся", а потом просто - "крёстная", стала ему крёстной матерью в неполных своих 17 лет, когда возила его в Плавск крестить в Храме Сергия Радонежского, поражающего своими размерами и иконостасом, выточенным из прекрасного сероватого матового уральского камня.
До войны тётка Дуся жила в деревне с родителями и семьёй брата, отца Виктора. В войну вся семья правдой и неправдой скрывала её от немцев, боясь угона в Германию, хотя немцы в нашей местности не задерживались надолго: переночуют, не раздеваясь, в избе на полу, на пыльной соломенной подстилке, и утром - Drang nach Moskau! - на Москву! Такой и запомнилась Виктору эта поздняя осень 1941 года.
А вскоре после войны тётка Дуся, покладистая, целеустремлённая, шумная, решительная, но в то же время не терпящая никакой лжи и особенно несправедливости деревенской жизни, подалась на шахту, быстро там освоила специальность мотористки, чем потом очень гордилась, получила койку в общежитии в четырёхместной комнате и зажила "городской" жизнью, быстро приспособившись к новым условиям и укладу шахтёрской жизни.
2.
Виктор спрыгнул с подножки небольшого вагончика рабочего поезда местной ветки железной дороги, идущей от Щёкино на Огарёвку, поправил на плече рюкзачок с деревенскими гостинцами : яблоками , свежими огурцами, несколькими пучками морковки и репчатого лука, небольшим шматком прошлогоднего сала, уже пожелтевшего, но вполне пригодного для жарения картошки, которую тётка Дуся очень любила. По ногами зашуршали оплавленные головешки шлака, ещё недавно бывшего бурым подмосковным углём, но по воле случая попавшего в какую-то котельню или топку
паровоза и вот теперь устилающего платформу полустанка, а, вернее сказать, не полустанка и даже не платформу, а обычную насыпную площадку, немного возвышающуюся над рельсами. Тропинка вела через неглубокий овраг к виднеющимся на возвышении белым домикам шахтёрского посёлка Лиственный.
Тётка Дуся, как и писала в письме-приглашении, встретила крестника на подходе к крайнему дому. Время приближалось к полудню, солнце исправно несло свою вахту: серебрило шиферные крыши домов, сверкало яркими отблесками в многочисленных окнах, отчего поневоле прищуривались людские глаза, собирая вокруг себя едва заметные морщинок, гнало хлорофилл в ярко-зелёные листочки редких деревьев и чахловатых трав, а в воздухе резко пахло угольной пылью и далеко были слышны характерные скрежет и постукивание огромных колёс-маховиков, несущих на себе тяжёлые стальные тросы с закреплёнными на их концах клетями, неустанно день и ночь спускающих людей в черноту угольной преисподней и поднимающих их на поверхность.
- Ой, Витя! Какой ты большой стал! Возмужал-то как, ну, прямо, мужик настоящий! - запричитала тётка, обняв его за плечи и прижимая к мягкой груди вихрастую голову. - Ну, пойдём, пойдём, девки давно на тебя поглядеть хотят! Только ты смотри, не заглядывайся на них, они неплохие девочки, но много старше тебя, да и не для тебя они. Разные у тебя с ними дорожки...
Виктор и правда за лето заметно возмужал: раздался в плечах, окреп телом, загорел на сенокосе, уверенней, чем любой его ровесник, держался на ногах, и это можно было заметить по его походке, степенной и неторопливой. Не зря родители Зинули, когда приезжали на прошлой неделе за ней (скоро ведь снова приниматься за учёбу, приближался уже Яблочный Спас, а там и лету - конец), внушали дочери, ты, мол, держись за этого парня, вон какой молодец вымахал. А тётка Шура ещё добавляла, и родители, мол, у него не какие-нибудь обсевки, а самостоятельные, работящие, знающие себе цену и уважаемые сельчанами...
3.
Девки, сожительницы тётки Дуси по комнате, встретили Виктора тепло и восторженно.
- А мы видим, идет наша мама Дуся (она была старше их на целый десяток лет) под ручку с молодцом-красавцем. Ну, думаем, нового мужичка подцепила! А это племянник, да ещё крестник! Вот бы мне такого крестничка! - зубоскалила разбитная, скорая на слово, подвижная Тоня, блондинка невысокого роста, в меру полноватая с яблочно-упругими щеками и лукавыми ямочками на них. Другая, Паша, тощая, высокая с жердястыми ногами, далеко выпирающими из-под короткого домашнего халатика, была сдержана и молчалива, равнодушно слушала Тонин трёп, сдержанно улыбалась и время от времени обеими руками приподнимала огромные груди, словно они провисли из лифчика или даже тяготили её. Девки быстро сгоношили застолье, на васильковой скатерти появилась бутылка розового портвейна, чайная колбаска кружочками, к месту пришлись и Викторовы гостинцы, особенно свежие огурчики и яблоки, красные "апорт" и зеленоватые "папировка".
Выпили, как повелось на Руси (особенно после недавней войны), по полстакашка сладковатого вина-скороспелки производства какого-нибудь молдавского, пришедшего в упадок колхоза. А где его взять, выдержанного винца-то, сады в этих краях почему-то редкость; их начали заводить только сразу после войны инвалиды-фронтовики, повидавшие чужие края, хватившие военного лиха и познавшие цену жизни, такие, как отец Виктора, Иван Сергеевич и другие его однополчане. И не успела Тоня вновь раскрыть рта, как в дверь вломились два бугая, как потом пояснила Виктору та же Тоня, их знакомые забойщики с шахты №9, по её словам, хорошие ребята, бывшие фронтовики, холостые, но избалованные одинокими женщинами и уверовавшие в свою неотразимость.
- Ого! Да тут целое застолье! - восхитился один из них с приблатнённой наколкой на тыльной стороне ладони правой руки: "Жди меня и я вернусь!" и золотой фиксой в левой стороне рта.
- По какому случаю пьем? - спросил он, не ожидая ответа.
Молодцы не теряли времени зря: один сразу же подвалил к Паше и отвёл её к окну пошептаться. Виктор видел, как он сразу же полез к ней под халатик, отжимая её от окна ближе к кровати.
- Уйди, чёрт бесстыдный, - отбивалась от него растерявшаяся бабёнка, колотя кулаками по его загривку. А Фиксатый обхватил Тоню за талию, вытащил её из-за стола и увлёк в угол за печку-лежанку, пытаясь забраться в лифчик и поцеловать хохотушку Тоню, казалось бы так легко доступную мужским домоганиям.
Виктор почти испуганно и вопрошающе смотрел на тётку, стараясь понять, что же происходит в этом шахтёрском доме?
- Не обращай внимания, они сейчас уйдут, - успокоила крестника сдержанная тётка Дуся и крикнула:
- Эй, девки, кончай любезничать, пора за стол!
Любовный пыл начал спадать, феромоны страсти, витавшие в комнате, улетучились в открытую форточку, Паша со своим невольным кавалером уже подошли к столу, и только Фиксатый, наполучав по мусалам за свою распущенность, всё не мог успокоиться. Пока Тоня расправляла пёрышки и прихорашивалась, он подкатился к тётке Дусе и без обиняков ошарашил всех наглым вопросом:
- Ну, что, Дусь, еб...ся, аль бросила? - и попытался её облапить. Тётка Дуся, не терпящая никакой фамильярности, а тём более хамства, как держала в руке бутылку с портвейном, так и влепила её в идиотскую, похотливую, осклабленную рожу незваного ухажёра. Вино разлилось по его надутой физиономии, стекало с отвислого подбородка на белоснежную сорочку, отчего та закровянилась, словно под нею на теле была ножевая рана.
- Вон отсюда, блатная сволочь! - гневно кричала тётка Дуся, губы у неё сжались в вертикальную складку и мелко и зло подрагивали, обнажив ровные великолепные зубы.
4.
Незамужние Тоня и Паша были девицами не первой свежести, но приличия блюли, что было особенно трудно среди распущенных мужиков-шахтёров, сорви-голов бывших фронтовиков или немногочисленных амнистированных по случаю недавней Победы, в основном карманной шпаны и мелких пакостников. И если Паша по своей обречённости на незамужнюю жизнь ( она была безграмотна, не умела ни читать, ни писать, деньги различала только по цвету: оранжевый - рубль, зелёная - трёшка, синяя - пятёрка и т, д, ; и она, конечно, понимала, что её такую замуж никто не возьмёт) иной раз, поддаваясь зову природы, привечала того или иного домогателя, то Антонина, серебряная медалистка-десятиклассница, однажды влюбившись "на всю жизнь" в студента, будущего горного инженера, учиться дальше не захотела, а подалась на шахту за своим возлюбленным и уже третий или четвертый год надеялась на его благосклонное и разумное внимание. Она бы
и не прочь была, как Паша, разговеться с первым встречным, но верная первой любви, обречённо ждала и ждала своего суженого.
А суженый жил в соседнем доме-бараке и лишь изредка по выходным забегал на огонёк, звал Тоню на танцы, отчего она расцветала, начинала примерять платья и блузки, изводила этой примеркой обитательниц комнаты, а однажды даже попросила Виктора помочь ей застегнуть лифчик, отчего у него два дня дрожали руки.
С танцев она приходила поздно, была задумчива и молчалива и, если утром не надо было идти на дежурство в шахту, то спала до обеда ( или делала вид, что спит), а потом вставала свежая, солнечная какая-то, деятельная и замучивала Виктора разговорами о любви долгожданной, неземной и незакатной, безотрадной, горькой и грешной, а ещё ненавидящей и необоримой...
К тётке Дусе изредка приходил Аркадий, мягкий, обходительный и всегда готовый на шутку десятник-строитель, будущий её супруг и отец великолепных сыновей Аркашки и Сашки, и если оставался ночевать, то они спали вместе на узкой общежитейской койке, как муж и жена. Девки к этому привыкли и ничего не имели против, а Виктор Аркадия считал уже за родню, потому что тётка Дуся весной привозила его в деревню познакомить с братом и остальной роднёй.
Волей-неволей, но Виктор стал заглядываться на Тоню, стараясь не выдавать себя, и это ему отчасти удавалось, только вот от стыда предательски краснели уши, прямо-таки наливались кровью и становились горячими , отчего тётка Дуся однажды спросила:
- Ты не заболел ли часом, сыночка?
- Нет, крёстная, это от жары.
В комнате действительно было жарко, уголёк-то сами добывали в поте лица, хотя формально в отделе кадров числились мотористками.
5.
Тётка Дуся с первого дня гостевания Виктора определила ему круг обязанностей: топить с утра печку-лежанку, а к приходу с работы жарить картошку, рыбу-треску на тяжеленной чугунной сковороде и кипятить чай в пятилитровом алюминиевом чайнике. Виктор с удовольствием взялся за кухарские дела, благо развлечений в посёлке не было никаких: ни кино, ни библиотеки, даже красного уголка не было, не говоря уже о музее или картинной галерее. Да и не нужно всё это было сейчас Виктору, он обживался в новой обстановке, ему интересно было открывать новых людей, он вполне обходился их дружеским расположением к себе, чувствовал их душевное тепло и внимание, особенно со стороны женщин. Девки постепенно привыкли к нему, считая его за ребёнка или, по крайней мере, за подростка, а, может быть, и за младшего братишку. А как же иначе? Он же ведь на всех жарит и картошку, и кипятит чайник, благо за два года в студенческом общежитии научился хорошо кашеварить.
Посёлок Лиственный состоял из десятка одноэтажных домов-бараков с коридорной системой расположения комнат, но от настоящих бараков отличающихся тем, что здесь не было обшей кухни, зато в каждой комнате была своя печь-голландка на две конфорки, растапливаемая углём.
Виктор по деревенской привычке вставал рано, осторожно, стараясь не греметь - в комнате над кроватями ещё витали сладкие утренние сны - брал в уголке мелкий уголь жестяным совком и бросал его в топку на сухие деревяшки, припасённые с вечера и переложенные старой газетой. Газета вспыхивала сразу, деревяшки начинали потрескивать, сразу создавая уют в комнате, уголь долго крепился, не покорялся огню, потом краснел, розовел, начинал дышать почти белым жаром и, поддаваясь воздушной тяге, выбрасывал из своих недр то ярко-синие, то бело-розовые язычки пламени, А Виктор в это время бегал с чайником на колонку за водой, водружал этого ворчуна на плиту, а рядом ставил сковородку со вчерашней рыбой или картошкой.
Разогрев завтрак, он, как был в синих трусах, брал любимую книгу "Два капитана", ложился на кровать поверх одеяла и пускался в головокружительные приключения.
Обитатели комнаты вставали, плескались в углу под умывальником, благодарили Виктора за завтрак и убегали на работу. Виктор часто оставался один, читал, мечтал, иногда уходил на зелёную лужайку между домов, где мужики и женщины, свободные от дежурства на шахте, резались в лото, и были слышны азартные выкрики: "Дед (это значит бочонок с номером 90),барабанные палочки (то есть номер одиннадцать), пенсионер (понятно - шестьдесят), чёртова дюжина (тринадцать), Христос (тридцать три), невеста или на выданье (семнадцать) ". Но вдруг кто-то, ошалев от везения и удачи, истошно кричал:
- Кончил! - боясь, что его может опередить более расторопный сосед, и тогда все медяки, стоявшие на кону, неукоснительно перекочёвывали в карман счастливца, а остальные игроки, недовольно ворча, ставили на кон новые пятачки в надежде на выигрыш.
Виктор изредка подсаживался к игрокам (отказа никому не было), кидал на кон пятачки, но никогда не выигрывал. Ему становилось скучно, азарт наживы его не захватывал, и он, проиграв несколько монеток, шёл к качелям, но здесь днём тоже было неинтересно: визжала малышня, дралась за очередь взлететь высоко вверх, а потом с замиранием сердца ухнуть вниз и с сожалением уступить место другому такому же сорванцу и хитровану. Но зато в воскресные дни у качелей собирались молодые девчата и парни, поочередно залазили в лодочку с двумя скамейками, парни шутили, озоровали, девчата визжали от восторга и боязни, взлетая в небо, а Виктор тайком смотрел на оголённые до самых трусиков девчачьи ноги, его охватывало смутное томление и беспокойство, но в это время он вспоминал о наказе крёстной и шёл в продуктовый магазин. Там он покупал чёрный хлеб, буханку пеклеванного к чаю, две-три штуки безголовые тушки трески, килограмма три картошки, грузинский чай и полкило развесного маргарина. Колбаска в те годы была редкостью, особённо чайная, которая сходила почти за деликатес, и если её привозили в магазин, сразу же собиралась огромная орущая очередь: "Выдавать по полкило!" Виктор выстаивал в этом содоме, что называется "доставал" коляску-другую редкого "деликатеса" и тогда вечером в комнате был праздник.
Этими объектами исчерпывалась вся социально-культурная жизнь обитателей посёлка. Правда, был ещё пятачок для танцев и туалет, построенный пленными немцами.
Я не смею утверждать, что посёлок, все его дома-бараки строили пленные немцы, но Виктор слышал своими ушами, как одна заполошная, известная уже ему бабёнка, на которую жители, не стесняясь, показывали пальчиком и покатывались со смеху, проклинала у магазина фашистов, в насмешку что ли над русскими свиньями построивших туалет с одной дверью, на всех один - для мужиков и баб. О, это был не
туалет, а мемориал какой-то! И не столько по архитектурным изыскам, сколько по неувядающей посещаемости. Беленький, чистенький изнутри и снаружи, одноэтажный, по виду и форме похожий на сарай с маленькими окнами без стёкол по боковым и торцовым стенам. Но самое главное, он имел всего одну входную дверь безо всяких накидных крючков и задвижек и внутри не имел перегородки: во всю его длину справа и слева располагались "посадочные места" по пятнадцать штук в каждом ряду, рассчитанных на то , чтобы сидеть на них на корточках...
Виктор утром нетерпеливо подбежал к туалету, постучал в дверь, крикнул:
- Есть кто?
- Заходи, - лениво ответил сонный и безразличный ко всему мужской голос: в туалете во славу собственного брюха трудился мужик с лохматой, нечёсаной головой и, словно у кролика, красными со вчерашнего бодуна глазами.
Виктор примостился рядом с трудягой, у которого на шее через определённое время вздувались от натуги крупные вены.
Мужики, старый и молодой, задумались каждый о своих проблемах, а вернее и скорее всего, ни о чём не думали, отрешившись от остального мира. Виктор очнулся, когда услышал осторожный стук в дверь и тоненький голосок:
- Есть кто-нибудь?
Мужик отреагировал мгновенно и, подстраиваясь под женский голос, ответил:
- Нет никого!..
В полусумрак помещения, исхлёстанного сверху солнечными лучами, впорхнула моложавая бабёнка в цветастом халате на голое тело и, не глядя по сторонам - скорей, скорей! - словно на гнезде большая пёстрая птица разместилась прямо напротив мужиков, широко разведя полные колени, наподобие птичьих крыльев.
Виктор впервые поневоле видел так близко "мужскую сухоту", похожую на плюшевую бархотку, как иногда говаривала его бабушка Василиса, когда на неё, по выражению деда Сергея, наступал озорной стих.
Но вот под мужиком кто-то резко разорвал брезент или ударил шрапнелью по тонкому листу фанеры, бабенка, ничего не понимая, подняла голову, увидела устремлённые на неё взгляды двух нахалов, и с криком - а-а-а! слетела с "гнезда", зачем-то обеими руками подхватила полы халата и держа их на уровне талии, кинулась вон, но только в противоположную от двери сторону. В дальнем конце пролёта, осознав свою оплошность, она резко развернулась и, набирая спринтерскую скорость и высоко поднимая голые ноги, понеслась к двери, не переставая кричать, как заведённая - а-а-а-а-а-а! Встречный поток воздуха расчесал на пробор ее бархотку, на кончиках волосков которой поблескивали капельки влаги. Женщина всем телом ударилась в дверь, вылетела наружу, и только оттуда послышалась осмысленная брань:
- Паразит нечёсаный, пьянь беспробудная! Сдохнуть бы тебе под забором!..
Виктору показалось, что она знала этого мужика, в посёлке ведь почти все знали друг друга, не в забое, так в магазине встретишься или вот даже в туалете, идти-то больше некуда.
Когда в туалете утих гомерический хохот, мужик поскрёб пятернёй в затылке, посерьёзнел, застегнул брючный ремень, помолчал немного, обдумывая какую-то мысль, и сказал:
- Видал, какая у неё варежка? Это, брат, ценить надо, - задумчиво добавил он, словно только что проснулся или прозрел, - мотай на ус, всё твоё ещё впереди...
А потом вдруг размечтался:
- А что, студент, здорово было бы, если вот здесь поставить кабинки со сменными унитазами. В каждой кабинке по два сиденья: ты ушёл, и унитаз автоматически меняется на другой, чистенький, а первый идёт в санобработку...
Удивителен не этот комический случай, удивительно то, что никто не пошевелился сделать в туалете хотя бы перегородку и прорубить вторую дверь. Это же плотнику средней руки на два-три дня работы. Было же, наверно, в посёлке что-нибудь вроде ЖЭКа или, на худой конец, комендант общежития, но почему-то за несколько лет никто не додумался до таких простых вещей. Ах, это русское "авось"! Я представляю, как некое должностное лицо говорит просителю: "А зачем там вторая дверь да ещё и перегородка? Авось и так обойдётся..."
И с утра и до вечера раздаются нетерпеливые стуки в дверь - Есть кто? - Нет никого! - Заходи! - Ой, минуточку подождите! И не здесь ли родился давний анекдот, когда мелкой рысью подбежавший к двери бедолага стучит и просит: "Товарищ! Поскорее... откройте! Ну, товарищ!" А "товарищ" не спеша (а куда ему торопиться?) открывает дверь и, довольный собой, широким жестом приглашает: "Прошу!" А бедолага уже тихим шагом обреченно плетётся прочь, бормоча себе под нос:
"Эх, товарищ, товарищ! " Все, что мог, он уже совершил.
К вечеру этого же дня по всему посёлку: и в магазине, и у качелей, и у "лотошников" на зелёной полянке (играли-то сидя или лёжа прямо на земле, в лучшем случае на какой-нибудь подстилке, а обычный на четырёх кольях стол с двумя лавками сделать недотумкали) только и было разговоров, что о приключении в "мемориале" оставленном на память пленными немцами, Хотя обвинять немцев было бы несправедливо, и я думаю, что они строили обыкновенную уборную для солдат, а не гражданский туалет, рассчитанный на приём посетителей обоего пола.
Виктор, немного стесняясь, рассказал вечером о нелепом случае, очевидцем которого был сам, тётка Дуся и девки долго хохотали, заново переживая собственные приключения с этим злосчастным туалетом.
6.
Утром тётка Дуся к восьми часам ушла на дежурство, девки ещё спали (они были сегодня во вторую и третью смену), а Виктор растапливал печку. Тётка Дуся , уходя, попросила нагреть целый бак воды: девки затевали постирушку, а заодно и баньку в корыте, по-домашнему. Виктор поставил бак с водой на плиту и, по укоренившейся уже привычке, взяв в руки книгу, лёг на кровать и с головой ушёл в невероятные приключения любимых героев. Сколько времени так лежал, он не знал, но каким-то неосознанным образом чувствовал девчачью возню, слышал плеск воды, ощущал запах сначала хозяйственного, потом земляничного мыла и вдруг вспомнил о печке - надо же подбросить угля! Печка была обвешана постиранным бельём: на самом виду - полотенца, наволочки, а дальше, в полумраке, в углу - ночнушки, лифчики и маленькие трусики. Виктор открыл дверцу лежанки , на него пахнуло жаром , словно там плавился осколок летнего полуденного солнца. Тря полных совка угля полетел в пекло: скоро надо будет готовить еду к приходу тётки Дуси. Закрыв дверцу, безропотный истопник и кашевар снова улёгся на кровать и взялся за книгу.
Девки визжали, хихикали, перекидывались редкими словами, а потом Тоня подошла к Виктору и накрыла его с головой байковым одеялом со словами:
- Потерпи, миленький, мы искупаемся!
Паша помылась быстро, она спешила в шахту во вторую смену, а Тоня не торопилась: Виктор слышал, как она хлопала резинкой трусиков, потом лила воду, повизгивая от удовольствия. Больше он услышать ничего не мог и потихоньку начал передёргивать одеяло, ища в нём маленькую дырочку.
И таковая нашлась!
Теперь Виктор видел налитые здоровьем ягодицы, словно две дыньки "колхозница" , а когда Тоня поворачивалась, то и округлые шаловливые груди, плоский живот и самую сокровенную женскую тайну с ячменным кустиком внизу живота, у истока в меру полноватых и сочных бёдер. У него перехватило дыхание, он через силу сглотнул слюну и почувствовал, как в нём проснулся мужчина : требовательно, страстно , неотлагательно . Эту страсть нельзя было сдержать, она стала неуправляемой до умопомрачения. Витя стиснул зубы и чуть не заплакал.
А Тоня, вытерев тело вафельным полотенцем, высоко вверх вскинула гладкие, чародейные руки и отдавалась ласковым утренним солнечным лучам на редком празднике жизни.
Виктор видел эту молодую тоску по любви и ласке, эту нежность, готовую пролиться на любимого человека, и ему захотелось быть этим самым любимым человеком. Но как, как подарить свою любовь другому человеку, который и не помышляет о тебе: насильно мил не будешь - это же люди веками выстрадали? И тогда он не выдержал такой пытки, резко откинул ненавистное одеяло и сел на кровати, краснея от стыда и умирая от страха.
- Ой, Витя, миленький, что с тобой? На тебе лица нет!- испуганно воскликнула Тоня, забыв о своей наготе, и подскочила к кровати. А Витя во все огромные от изумления глаза потрясённо смотрел на её божественную наготу, он впервые наяву так близко и ощутимо видел женщину в таком интимном и откровенном виде.
Тоня присела на корточки перед Витей, пытаясь заглянуть ему в глаза, потом положила свои ладони на его колени и вдруг увидела Витин колышек, шатром поднявший синие трусики, и сначала смутилась, а потом расхохоталась,
- Бедненький мой! Прости меня, глупую бабу! Я о тебе и не подумала! - зашептала она нежно и страстно и поцеловала Витю в губы долгим и желанным поцелуем.
Витя не помнил, как они оказались рядом, скорее всего это была Тонина тоска по любви, а он умирал от желания, но стеснялся, краснел, сопел, не мог выговорить ни одного слова и опомнился только тогда, когда Тонн, прижимая его к налитым страстью грудям, внезапно охрипшим голосом прошептала:
- Ну, что же ты, миленький?
Витя дёрнулся, вроде бы даже испугался безрассудной близости, потом горячим кончиком прикоснулся к обжигающим створкам обольстительной раковины, неуверенно вошёл в неё и в экстазе и почти в полубеспамятстве забился в жадных объятиях Тони.
- Не спеши, миленький, не гони лошадей, - хрипло шептала Тоня, вытягиваясь в струнку и подаваясь ему навстречу...
А солнце било в окно стрельчатыми лучами, и был свет в комнате, и в каждом сердце, и во всём безграничном мире любви, спрессованном сейчас в каждом вздохе и стоне, протяжном и сладостном.
7.
Виктор засыпал в печку очередную порцию угля, пошуровал в топке железной кочергой, загнутой на одном конце большой буквой Г, совком выгребал из подтопка горячий ещё шлак, ссыпая его в оцинкованное ведро.
В комнате ещё была только Тоня, она в своём уголке за печкой, поставив на кровать чемодан, примеряла обновки и, время от времени, выходя на середину комнаты, к столу, спрашивала у Виктора:
- Витя, глянь, нравится?
Виктор смотрел, улыбался и сдержанно говорил:
- Красиво.
Тоня собиралась ехать в Щёкино и купить новое крепдешиновое платье, о котором давно мечтала.
Но не суждено было свершиться этой поездке: то ли ангел-хранитель её проспал, то ли сатана-искуситель обошёл его на повороте, но неожиданно отворилась дверь и в комнату ввалился Фиксатый с букетом чахлых ромашек (так называемая аптечная ромашка с обвислыми, начинающими увядать лепестками) и толстой бутылкой розового портвейна. Незваный гость был изрядно навеселе и, поставив на стол "огнетушитель", крикнул, как послушной жене:
- Антонина, давай стаканы!
Увидев Виктора с кочергой в руках, распорядился:
- А ты,студент, подгребай тоже к столу,а потом чеши отсюда! Гуляй! Усёк?..
Антонина выглянула из-за печки и рассыпалась в притворных любезностях:
- Ой, ктой-то к нам пожаловал! Уж не свататься ли? Женишок ненаглядный! Не совсем ещё пропился-то? А то и свадьбу справлять не на что будет...
Лицо её пылало, во взгляде сквозило презрение и брезгливость, словно она нечаянно прикоснулась к чему-то мерзкому.
- Справим свадьбу, не боись. Счас прямо и справим! Повяжем кочергу с помелом! - осклабился Фиксатый и неожиданно облапил Тоню, легко приподнял и поволок на кровать за печку.
Тоня забилась в его клешнях, дрыгая голыми ногами, тянула за волосы, пытаясь отвести в сторону от своего лица его похмельную морду. Но - куда там! - он бросил её на кровать и судорожно рванул на себе брючный ремень.
- Пусти, огрызок - кричала Тоня, а он уже завалился на неё, сверкая белыми ягодицами. Чемодан с рассыпавшимся бельём валялся на полу, перед кроватью.
Виктор в смятении так и застыл у печки с раскрытой топкой, из которой торчала забытая там кочерга. Что делать? Стаскивать распалившегося бугая с женщины - гиблое дело! И тогда, не долго думая и плохо соображая, что делает, он смачно прилепил раскалённый конец этого инструмента по отпугиванию насильников к дёргающемуся заду Фиксатого. В комнате удушливо запахло горелым мясом.
- А-а, б....! - благим матом заорал Фиксатый. - Убью, сука! - и скатился с кровати на пол. На белой нежной коже ягодицы, как знак сатаны в виде большой буквы "Г" обозначился красный рубец толщиной в палец.
- Убью! - орал пострадавший, катаясь по полу.
- Только подойди,-спокойно сказал Виктор,-кочергу в рожу суну.
На крик сбежались соседи.
Кочерга валялась на полу возле поддувала, а помело сиротливо выглядывало из дальнего угла за печкой. Под столом в розовой лужице дешёвого вина поблескивала пустая бутылка, как знак большого шума и всё по-пустому.
"НАША УЛИЦА" №110 (1) январь 2009
|
|
Счастливые создания |
Дан Маркович
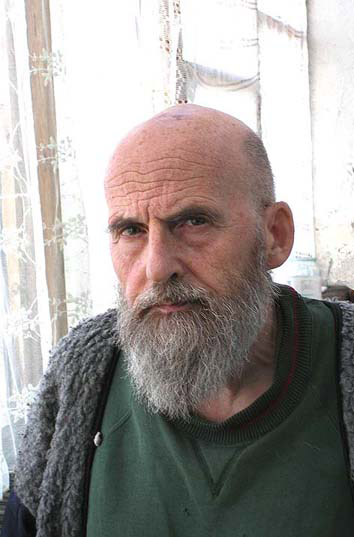
ПРО ГУСЕНИЦУ
рассказ
Вчера шел по тропинке к гаражам, так начинается мой путь в мастерскую. Шел, и остановился - передо мной дорожку переползает большой червяк. Вернее, гусеница. Я с ними почти не знаком, издалека наблюдаю. Немного опасаюсь. Хотя, говорят, безобидные создания. А эта очень большая - размером с мой указательный палец. Она не тоньше пальца была. Почему - "была", надеюсь, до сих пор живая. Я сразу к ней сочувствием проникся. Смотрю - ползет... И каждый может наступить!.. Хорошо, я постоянно в землю смотрю. Устал зырить по сторонам, прекрасного кругом мало. Разве что случайно наткнешься. Так это раз в год бывает. Зачем такой пессимизм?.. Ничуть, на земле столько интересного. Так что, под ноги приятней смотреть.
В общем, шел и смотрел, как всегда, вниз. И немного вперед. И налево - на траву, что растет вдоль тропинки. Нет, лучше не смотреть туда, трава скошена безжалостно, грубо. На прошлой неделе цветы пестрели, а сейчас... Траву нельзя косить, когда генералам захочется. Они нами управляют, генералы да полковники. Не совсем черные, но серые - жуть!.. Так что, не смотри на траву. И направо не смотри, там новый забор. Дивного синего цвета, радостью светится. А я не радуюсь, только заборов мне не хватало...
Хватит болтать. Шел - и вижу, гусеница мне дорогу переползает. Почему - мне, она по своим делам ползет, может, я ей помешал... Она желтоватая, палевая, очень мохнатая. Я остановился, смотрю на нее. Ползет не спеша, меня не замечает. А может, делает вид, что не заметила. Лучше бы ей поспешить... Похожа на моего старого пса. Если сверху смотреть. Такой же пушистый был... Он стоял, ел из миски, а я смотрел на него сверху. Гусеница... тогда подумал я. Размер значения не имеет, все равно похоже. Если нарисовать, то гусеницу можно больше собаки изобразить... Пес деликатно чавкал, иногда косил глазом на меня. Я понял, не надо над душой стоять, отошел, сел, думал... Тогда я не знал этой гусеницы, которая сверху похожа на моего пса. Тогда этой гусеницы еще в живых не было. Зато вчера не было пса, он еще весной умер. Они не могли встретиться, а жаль. Если б со мной бежал пес... Он тоже остановился бы, смотрел, как гусеница нам дорогу переползает. У собак не то, чтобы страх... настороженность ко всем ползущим. И у меня тоже. В этом мы с ним не отличались. Хотя у гусеницы есть ноги, и даже много. Но сверху не видно, сверху она для меня почти змея. И для собаки тоже. Была бы... Вот что значит вид сверху - обман зрения. У гусеницы столько ног, сколько мне и не снилось. Я бы с таким количеством не справился. А как же гусеница? Не думает о них. Вот-вот, а мне мысли мешают. Если б я меньше думал, то написал бы рассказик. Про гусеницу и собаку. Сегодня утром. Хотя уже ни собаки, ни гусеницы... Рассказал бы, как она ползла передо мной. Простыми словами. Что тут выдумывать, все просто, наши пути случайно пересеклись. Куда я шел? Вроде в мастерскую собрался... Зачем туда?.. Точно не знаю. Может, там что-нибудь получится... А гусеница точно знает. Нет, не знает, но уверена, что ей на ту сторону нужно переползти. Вот бы мне так - пусть не знаю, но совершенно убежден... Ей понятней, просто хочется поесть. И в прохладную траву, на сырую землю, тонкая кожица не выносит солнечных лучей. И даже щетинки не спасают. Не щетинки, а волоски. У собаки... пса, его звали Вася... у него шерсть была густой, вычесывать редко давался, возражал. Терпит, молчит, но видно, что недоволен. Зато потом ему легче было... А у гусеницы с шерстинками полный порядок.
Я взял небольшую палочку, подставил ей. Она не спеша влезла на препятствие. Надо же, доверяет... И я отправил ее - сразу, быстро, решительно - туда, куда она хотела. Не знаю, сильно ли она удивилась, но виду не подала. И тут же дальше ползет. Она и теперь знает, куда ей дальше! А я бы долго думал, где я... Сказал бы - чудо?.. Не дождетесь. Решил бы, что на краткий миг сознание потерял. И при этом продолжаю двигаться, так бывает. Очнулся, и уже в другом месте, подумаешь, ничего особенного. Могут быть, даже хорошие последствия, например, исчез, чтобы заново жизнь начать. Ведь это редкий случай, удача. Если б так можно было, всякий раз, когда в тупике... Редко получается. А гусеница? Вряд ли понимает, что я ей добро причинил. Но облегчение, наверное, почувствовала - ползти через нагретый солнцем асфальт нелегко, ножки обжигает. А если их много... это ужас, каждая болит!..
Так мы встретились, друг другу немного помогли, и расстались. Я ей помог, а она мне - чем? Не знаю, но чувствую, мне легче стало. Она о встрече не знает, не догадывается. Ну, и что? Все равно событие произошло. Представь, ты встречаешь совершенный разум. Может, не совсем идеальный, но для нас - невероятной силы. Высшее существо. Не видел, не слышал, оно незаметно подкралось. И мгновенно переносит тебя в новую жизнь... Не помню, чтобы меня переставляли. Ну, может, непонятное событие какое-то, выскочила из-за угла счастливая случайность?.. Удача?.. Неожиданное решение какое-то?.. Только что не знал, и вдруг - осенило... Ну, помню, раз или два... Но, все-таки, причины, основания были. Например, я долго для этого трудился. Из стороны в сторону метался, пробы, ошибки... И вдруг прыжок, прорыв. Чистое везение! Тогда я говорил себе - повезло...
А гусенице - повезло? Впрочем, почему - "она", может "он"? Не помню, кажется у них не бывает полов. Счастливые создания. Но это другая тема...
Ну, хватит. Сделал доброе дело, дальше иди.
А доброе ли оно? Вдруг на новом месте оказался злой муравьишка, мечтающий кому-нибудь насолить? И не один, они же всегда стаями, тут как тут! И бедная гусеница погибает. Щетинки, волоски - нет, не помогут. Ожоги, укусы... мягкое тело рвут на части... Говорят, гусеницы боли не чувствуют. Вздор, не может быть!..
Размышляя, выбитый из спокойной колеи, дошел до конца дорожки. Впереди большая дорога, шастают туда сюда, завывая, машины. Но неспокойно мне, нехорошо. Зачем так необдуманно поступил...
Повернул обратно, пошел спасать.
Нашел место встречи, долго искал в траве...
Не нашел. Но и следов жестокой расправы не заметил. Немного успокоился...
"НАША УЛИЦА" №110 (1) январь 2009
|
|
КАЗАКИ ВАГРАМА КЕВОРКОВА |

Ваграм Кеворков
КАЗАКИ ГУЛЯЮТ
повесть
1.
Седым мглистым утром, когда молодые казачки потянулись к реке по воду, сверху - вниз по течению - выплыло что-то огромное и непонятное. А когда разглядели - застыли в ужасе: плыли плоты с виселицами, десятки повешенных на каждом плоту. Опомнившись, бегом к атаману!
Атаман сразу понял: весть им подает Долгорукий - князь, мстит за брата!
Страшной оказалась месть: днем и ночью плыли наводящие ужас плоты, - время от времени! И когда с облегчением думали: не будет больше, - с верховьев появлялись все новые!
Пыль висела над войском густая, ратники кашляли, лошади всхрапывали. Пики нестройным лесом колыхались над конными. Пешие шли сбоку, подале, чтоб не глотать пылюку.
Долгорукий чихал в карете. Но ехать впереди войска опасно. От казаков можно всего ожидать.
Казаки нужны России: они защита от Порты, от Крыма. Россия нужна казакам: помогает свинцом, ядрами, порохом. Но воля? Воля?! Вся Россия - десять миллионов. Казаков - миллион. Миллион беглых крепостных! А земли ничейной на юге немеряно! Есть куда бежать, где селиться! Не раз предлагалось казакам присягнуть на служение Престолу Российскому: "Казак есть человек государев, службу несет государеву!" В ответ: "Казак есть человек вольный!"
Силу свою казаки доказали, взяв в 1637 году - без царского на то повеления - турецкий Азов. В 1641 году султан осадил Азов армией в двести сорок тысяч воинов. За два года осады не вернул Азова.
Азовский "гнойник" грозил обернуться войною с Портой. 30 апреля 1643 года казаки получили царскую грамоту с повелением покинуть Азов. Нехотя подчинились.
Престол пояснил султану, что действия казаков были своевольными и будут наказаны.
Казачье недовольство копилось: не покоряться Москве! Звать к себе крепостных со всей России, давать им землю в надел, - тогда нечем, некем будет воевать с казаками! Тогда казаки с Россией будут на равных!
Петр, захватив трон, начал борьбу с казачеством: все больше крестьян бежит на юг, становится вольниками.
Потому и двинулось войско: пора забрать власть над казачеством. Обложить налогами. Брать в службу царскую, как всех крестьян!
Во главе войска Петр поставил Владимира Долгорукого.
Юрия казаки разбили наголову, а самого умертвили. Пусть же Владимир отмстит за брата, злее воевать будет. Потомки основателя Москвы против казацких смутьянов!
Долгорукий и впрямь долгорук оказался! По Дону и Хопру плывет семь тысяч повешенных! Казаки в ужасе покатились на юг. Там Булавин, там Некраса, там войско казачье!
Булавинское восстание против царя кончилось крахом: тридцать тысяч казаков и крестьян убито.
В 1708 году возле нынешнего Ростова собрались казаки на последний круг. Решали: присягнуть Петру или уйти с Дона? Кондратий Булавин погиб, верховодит Игнатий Некраса. Зовет уйти на Кубань: земли там лучше донских, воды рыбные. За Кубанью - горские племена, платят дань Крыму. Надо подружиться с горцами: у них и у казаков один враг - царь русский. На Кубань Долгорукий не сунется: там придется не только с казаками воевать, но с горцами! А за ними - Крым и могучая Порта.
Режиссер кричит с грузовика в мегафон, объясняет. Казаки-некрасовцы в ярких нарядах, человек триста, толпятся, слушают.
Уже сняты начальные кадры фильма: в открытом окошке казацкого дома мать с грудничком. Сынок - Бабаев Семен - девятьсот девяносто девятый в группе казаков-некрасовцев, переселившихся из Турции в Советский Союз. Родился Семка 21 ноября 1962 года на теплоходе "Грузия", в море, чуть до Новороссийска не дотянул.
"Мадонну казацкую снимаем!" - толковал режиссер оператору.
В 1708 году, на том самом последнем круге, казаки утратили единство: половина покорилась Петру, на Дону осталась; половина ушла с Некрасой.
Ты ж прости, прости нас, Тихий Дон,
Ты ж прости, прости, ты отец и мать,
А тебе, царю-шельме, не за что...
В огромной казацкой книге записано красным: "Не вертаться на землю русскую при царизме!" Книгу эту снимали киношники бережно: книга бесценная, живая история!
Одна из главных записей: "Землей владеет круг". А рядом: "Атаман избирается на один год". "Без труда нет казака". "Ежели поп начнет вмешиваться в дела круга - учить попа плетьми".
К семнадцатому веку на Дону и Днепре образовались республики. Не в пример Англии, без крови и Кромвеля. Крепостные сбежали от барского рабовладения, осели на тучных ничейных землях, создали уклады своего жития - фактически конституции.
Вновь прибывшим беглецам круг давал надел. Два-три года присматривались к новичку: как он обрабатывает землю, что растит на ней. Справный хозяин - круг закреплял за ним землю, разрешал на казачке жениться. Непутевых лишали надела, фактически изгоняли.
Бежав от Петра, некрасовцы достигли Лабы, - реки своенравной, быстрой, - главного притока Кубани. На высоком южном берегу основали станицу. Вручную насыпали огромные глинистые холмы, чтобы стала станица крепостью, чтоб Лаба-кормилица была и заступницей.
Теперь сюда бежали крепостные крестьяне! И постепенно возникла полумиллионная казачья община со своим знаменем и уставом: Войско Кубанское!
Киношники знакомились, беседовали с некрасовцами, и потихоньку шалели: бесценное богатство привалило им - нетронутый временем, "законсервированный" казачий фольклор семнадцатого-восемнадцатого веков. Ведь два столетия казаки жили на острове, в море, не имея никаких связей с Родиной.
В сельской столовой устроили вечер для некрасовцев. Совхоз не поскупился: салаты, закуски, гуляш, вино свое. Казаки с охотой пришли, лестно им такое внимание. "Тута мине "Здрастуй!" говорять, а у Тюрции плевалися на нас, христиан, собаками звали!" - это Василий Порфирьевич Саничев, средних лет бородач, казачий староста.
С поселением здесь некрасовцев незадача вышла. Через девять лет после смерти Сталина решили некрасовцы с турецкого Маньяса вернуться в Россию. На Ставрополье, в Бургун-Маджарах и Левокумке, тысячу домов для них поставили. Об этом прослышали некрасовцы с Дуная, - молокане. И первыми вернулись, заняли новострой. А следом, через месяц, приплыли те, ради кого эти дома и ставили: некрасовцы-христиане с Маньяса. Пришлось уплотнять поселившихся, и стал один дом на две семьи. Пополам и участок - кусок глинистой земли неухоженной.
Местные сбегались смотреть, как некрасовцы в поле работают: отвыкли на Руси так трудиться, - истово, от зари до зари. А на глинистых личных участках некрасовских первым же летом появились абрикосовые деревья, яблони, груши, сливы, виноградные лозы!
Директор совхоза поднял бокал за таких замечательных тружеников! Потом второй тост, третий - и все за них, за некрасовцев! Разгорячились казаки, стали песни играть! Киношники тут же магнитофон включили! Целый вечер записывали этот живой восемнадцатый век!
На другой день вытащили магнитофон с динамиками на зеленый травяной берег Кумы-реки, стали молодухи-некрасовки под фонограмму свои курагоды водить!
Алыми маками, синими васильками, розовыми пионами, полевыми лазориками расцвели луга над Кумой - оделись казачки в самые нарядные рубахи свои!
Ока-я-я-ныя ка-я-блу-я-щок
Отва-я-лился-я на-я ба-щок!
Окаянный каблущок!
Я упала на ба-щок!
Тянется курагод, держатся за руки молодые казачки, сами как вишни цветущие, венки цветочные на головах, ленты яркие в косах, сарафаны вышитые разноцветные, на ногах чарыки турецкие с бисерными узорами!
А да не вида-а-ла-я ка-а-як упала-я,
Огля-я-нулы-я-ся-я ля-жу,
Оглянулыся - ляжу
Я на правым на баку!
Царица Елизавета Петровна в отличие от своего отца - неуемного воина - решила с казаками поладить. Послала сватов к Некрасе: женись на царице русской! Игнатий, знавший европейские языки, человек образованный, хитрость понял: не мытьем, так катаньем. Послов царских принял с почетом, почетно и отказал: не пристало соколу с могучей орлицей водиться, орлица высоко летает, куда уж тут соколу!
Пришлось Елизавете вспоминать науку отцову! Перешли Кубань войска русские, стали медленно теснить казаков. Горцев не трогали, объясняли им: казаков изведут и уйдут. Горцам это на руку: казачья станица - растение, которое впивается в землю корнями и охватывает все поле!
А у трона царского тайный резон: казаков не карать, станицы занимать миром, без боя. И укрепляться там! Казаки задумались: куда опять бежать, дома, землю бросать - зачем?
Немногие вместе с Некрасой ушли на Куму, на Терек. Так и распространялось казачество.
Екатерина Великая по своему обошлась с казаками. Донцы царю присягнули, пора Запорожской Сечью заняться! Посулила сечевикам кубанские земли - они плодородней днепровских! Переселила часть запорожцев: и сечь ослабила, и донцов на Кубани разбавила!
И присягнуло на верность русской короне Войско Кубанское!
А против Некрасы Екатерина Суворова двинула! Оттого-то и встречаются на Ставрополье станицы Суворовки.
Погиб Некраса в бою! Оставшиеся в живых непокоренные сторонники его на плотах спустились вниз по Кубани, вышли в Черное море. Там связали новые плоты, на веслах и под парусами пустились в обход Крыма к устью Дуная - этот путь указал им перед смертью Некраса! Приставали к крымскому берегу, запасались пресной водой из речек - и далее! С плотов рыбу ловили.
Казакам повезло: во все их плавание море было спокойно.
Добрались до Дуная. И - ужас! Ненавистный Суворов здесь!
Угодили некрасовцы в самое пекло русско-турецкой войны!
Могучий орел Российский расправлял державные крылья!
Пора бы некрасовцам присягнуть русскому трону (как сделали и донцы, и кубанцы, и кумцы, и терцы, и казаки яицкие - все от одного корня казацкого), служить России верой и правдой, - нет, бежать от Суворова, вперед за призрачной вольницей!
И опять казаки разбрелись, раскололись: одни ушли вверх по Дунаю, в Австрию, осели там, приняли молоканство. Другие подались в Турцию, на черноморский остров Маньяс (по своему стали звать его - Майнос).
2.
А на Кавказе между Азовским морем и Каспием строились военные укрепления - в линию. Служба здесь тревожная и опасная. Горцы противятся русским. Солдаты регулярной армии проклинают "трехпогибельный Кавказ" - "Сибирь теплую"! Опора линии - казачьи станицы: Некрасовки, Суворовки, Елизаветинские, Гребенские, Незлобные...
С Хопра, Дона, Волги шли на Кавказ по велению царскому казацкие сотни: строить станицы новые. Шли с пушками, обозами, семьями, скарбом, гуртами скота - двигались по равнине к предгорью.
Горы впереди грозили непролазными чащами, страшными зубцами утесов, - настороженно молчали. У мертвых саклей в брошенных опустошенных ногайских, черкесских аулах вянули от жары кисти белых акаций, сохли без полива яблони, абрикосы и виноградники. Здесь прошла регулярная армия.
У казаков задача задружить, закуначить с горцами, чтобы стали аулы мирными, чтоб не приходилось зорить их.
Казачья сотня донцов стала перед горами: на высоком берегу чистой, бурливой реки; расседлали коней, сварили кулеш, в накатившей мгле выставили дозоры, и уснули на теплой земле. Утром проснулись - горы и окрестные холмы заволокло пеленой, а в кольце тумана - над рекою и лесом - огромное голубое окно. В нем высоко ходят орлы. От реки, от могучих дубов, кленов и осокорей на берегу тянет холодом.
Из крепости Святого Георгия, верстах в сорока отсюда, стали завозить на волах камень; здесь же, на берегу, копали глину. Понизу береговых откосов вырыли ров, на верху насыпали вал. Поставили крепкую дубовую ограду с надежными воротами. Повыше вала укрепились каменной кладкой, там, на выложенной площадке, пушки. Их жерла зорко глядят на дорогу, ведущую в Кабарду, Осетию, Грузию, Дагестан, Персидское, Турецкое царства и еще Бог весть какие земли, казакам не ведомые.
А на Маньясе...
Быстро падали черные южные ночи, зажигались мохнатые яркие звезды. Ласково шелестело море.
Маньяс казакам понравился: дни сплошь погожие, вода родниковая вкусная, и леса есть. А главное - рыба! В прозрачной соленой воде ходит стаями - крупная, жирная, непуганая! Казаки - потомственные рыбари - прошли сетью как бреднем. Полнехонько взяли! На берегу костры, над ними котлы, в котлах рыба! Вкусная! Куда речной!
А простор! Со всех сторон море! Никто их здесь не достанет! Нет врагов! Одна воля! И молились казаки, и поминали Некрасу: прав был!
День занимался яркий, как сверкач драгоценный. Солнце взошло из-за леса, отразилось в широком разливе реки, как в огромном медно-красном тазу.
Пикеты на валу только что поменялись. Кругом тихо. Звучно хрупали сочную траву кони.
Братья Кондрат и Игнатий ставили себе хату. Месили глину, добавляли в нее резаный тростник, формовали крупные кирпичи, сушили их. Высохнут - положат стеною. На деревянных растяжках воловьи пузыри для окна. Так строят кунаки-горцы.
Кондрат - рослый, плечистый, сильный. Игнат - пониже, часто садится передохнуть. Оба чубастые, светлые, сероглазые.
К ним подошел встревоженный сотенный: "Кондрат! Атаман кличет!" - "Чего?" - "Крымцы набег готовят! Орда придет!" - "Откель ведомо?" - "Верховой прибег!"
Кондрат, помянув черного, вылез из глины, пошел к колодцу. "Мойся и приходи!"
Атаман - лицо в красных пятнах - сидел за столом с незнакомым казаком. "Из крепости!" - сообразил Кондрат. "Вот! - атаман кивнул на гостя. - Весть пришла! Верный кунак шепнул!" И жене: "Мария, подай чего-нибудь!"
К станичным воротам подъехали две упряжки. Кони, тяжело поводя боками, втащили на косогор пушки. "Гей, казаки, открывай затворы, Петровны идут!" Подмога из крепости.
Кондрат встретил гостей, отвел на станичный двор; распряг коней, напоил, привязал к Петровнам, бросил сена.
На другой день братья вместе с гостями вкатывали орудия на каменную стенку, выкладывали защиту для них - бойницы. Около крутились мальчишки, глазели; шушукались молодайки.
Вечером кликнули гостей к атаману, налили вина. Атаман приветствовал наставительно: "Вино есть млеко старцем, а в юности огнь подаяяй!" - "Вот и мы вам огня!" - ответствовал гость Ляксандра. "Спаси, Христос! Кто с огнем, у того сила!"
Беседою выяснилось: лазутчики, пойманные у крепости Святого Георгия, показывают набег на Тихую. "А мы-то причем? - радостно удивился синеглазый атаман. - Тихая вон где!" - "В Тихой солдат полно, туда не пойдут, брешут! Сюда пойдут! У тебя ведь казаков и полсотни не будет?" - "Меньше! - чуть слукавил атаман. - К вам же в крепость забрали!" - "То-то!" - "Вернули бы!" - "У нас у самих пятьдесят казаков, целая сотня на смотр ушла, в Сам Питербурх!" - важно поднял указательный палец Ляксандра.
А на Маньясе... Мало-помалу привыкли некрасовцы к островной жизни. Ловили рыбу. Рубили лес, превращали деревья в бревна. Ставили избы. Жили в землянках (часть плотов разобрали, в накаты пошла). Воду морскую подолгу во рту держали, чтоб не хворать зубами. Единственным плугом землю вспахали, пшеницу посеяли (не все припасы с Дуная съели - о семенах не забыли). Но, как не крути, на острове того нет, сего нет. Пришлось на плотах к турецкому берегу плыть, менять там сверкачи драгоценные, с церковных книг снятые, на муку, масло, соль, семена. Повезло: попали на христиан, армян да греков. Те отнеслись участливо, толмачи их сразу предупредили: к туркам не ходите, все отберут, а самих изобьют. Старайтесь на глаза им не попадаться: со своими бородами и волосьями светлыми вы - люди приметные, чужаки!
Почуяли опасность некрасовцы. Поняли: не так-то просто им будет жить на острове.
На прощание греки - тоже рыбаки - уступили им за сверкачи свой карбас. Посмотрели на плоты, покачали головами, поговорили по-своему, и пожалели их - уступили!
Приободрились казаки, приподнялись духом: теперь у них карбас есть, можно в море ходить за рыбой!
Простились сердечно. "Засем суда? Руси луси!" - улыбнулся толмач напоследок.
Стемнело. В хатах затеплились огоньки. Блеял скот. Звонко перекликались казачки. Тянуло дымком.
"Вдруг и вправду нагрянут! - ломал мозги атаман. - Запылают хаты, полетит орда зорить-убивать, баб насилить! Пронеси, Господи!" В спаленке шопотом молилась Мария: "На тя, Господи, уповахом!" - "Аминь!" - вздохнул атаман.
На рассвете кликнул Кондрата с Игнатом, еще четверых: "Скачите по соседним станицам, зовите подмогу!"
Через день в низком тумане, растекшемся вдоль реки, дозорные увидали двух всадников, - те бешено, через кусты и брод, гнали к воротам. "Наши!" - признали.
Пока открывали ворота, Кондрат с Игнатом подскакали к ограде. Кондрат страшен: лицо в крови, рубаха в крови, левая рука висит плетью. У Игната через все лицо багровый рубец, рубаха изодрана.
Влетели в ворота. "Тревога!"- крикнул Кондрат. Конь под ним захрапел и упал. Кондрат едва успел соскочить. Казаки загомонили, окружили братьев. "К атаману! На колокольню! Бегом!" - горячечно выкрикивал Кондрат. Игнат дикими глазами смотрел на дозорных: "Беда! Орда! Едва ушли! Воды дайте!"
С колоколенки загудел набат.
Люди бежали к площади. Казачки, подростки, редко - вооруженный казак. Перед церковкой волновалась толпа. Тревожно бил колокол, медный голос его накрыл всю станицу.
На церковное крыльцо взошел атаман. С ним казаки. Атаман поднял руку. Набат стих.
"Cтаничники! Идет на нас орда!" Толпа зашумела, испуганно вскричали казачки. "Будем же биться! Берите ружья, пистоли, шашки! Косами и серпами рубите нехристей! Колите вилами! Ступайте, готовьтесь к бою!"
Женщины заголосили и побежали по хатам. Атаман с казаками начали выкатывать на улицу повозки - преграда на случай прорыва вражеской конницы. Детей и дряхлых стариков укрывали в погребах и землянках. Пушкарям раздавали свинец и порох.
Все понимали: не сдержит натиск станица - гибель казакам, поругание и плен казачкам.
За годы жизни на Кавказе мелкие нападения горцев стали для станичников делом обычным. Горцы налетали, бились с линейцами, захватывали пленных, теряли своих, уходили.
Но сейчас на станицу, где женщины, дети, старики и пять десятков строевых казаков, шел, по слухам, отряд в две тысячи.
А на Майнос завезли живность. Последние камешки содрали с церковных книг казаки, зато теперь и куры, и гуси, и индейки! И овцы блеют! И коровы мычат! Сразу родным повеяло!
Чтоб чаканы не стравить скоту раньше времени, овец, ягнят, телят и коровок пасут, пока хоть какая-то трава есть.
Разбрелись казаки по острову, разбежались их дома далеко друг от друга. Стада единого нету, каждый пастушка нанимает, а то сам пасет. Старается подальше от моря. Там опасно: подмытый волнами край рушится целыми глыбами.
Как на грех, два резвых теленка, взбрыкивая, понеслись прямо к берегу. Передний, заворачивая у кромки обрыва, уперся, было, копытцами, да так и поехал в пенистые буруны вместе с кустами, землей и камнями. Пастушок завопил перепуганно. Сбежались казачки, глянули: теленок барахтается в волнах. Его то подносит к самому берегу, то уносит обратно.
"Ах ты, галмес! - вскрикнула дородная тетка Матрена, и схватила пастушка за вихры. - Куда глядел? Сказывали тебе: телят на притыке паси!" - "Чей телок?" - спросила девка Феклуша. "Ще-пе-ле-евых!" - плача протянул пастушонок. Матрена стукнула его по затылку: "Бабай! А ну, плыви за ним!" - "Бою-усь!" заревел мальчишка. "Приведи челн! - велела Матрена. - Выручим телка, бабы! Пропадет - Щепелеевым горе, и так есть нечего!" - "Страшно, Матрена! - всполошилась молодайка Настена. - Чать, погибельно!" - "Казаки в море, так что не боись, Настена, окромя нас некому! Айда!" Спустились тропкой с крутого берега. Пастушок подтащил на бечеве челн, столкнул в воду. Матрена, Феклуша и Настя с трудом влезли в челн. Матрена села на весла.
Дозорные смотрели на юг.
В степи волнами ходило марево. Вдали призрачно проступили очертания снежных вершин.
Все население станицы высыпало на вал. Казачки, на случай гибели, разряжены в белые рубахи и яркие сарафаны.
Орда не показывалась. Атаман отослал часть женщин домой, оставшимся приказал греть на кострах смолу, кипятить воду. Детям велел щипать корпию. Подростков отправил собирать и укладывать в большие кучи снаружи за валом хворост, чтоб зажечь большие костры, если неприятель подойдет ночью.
Солнце ушло за горы. Над степью разлился пышный пунцовый закат. Похолодало. Яснее слышался шум реки.
На ночь расположились вдоль вала у костерков. Варили смолу, готовили пищу. Старухи приносили младенцев, молодайки тут же у пляшущих языков огня, кормили их грудью. Шептались, пересмеивались молодые ребята и девки.
На верху укрепленного обрыва, где стояли станичные пушки и две Петровны, расхаживал атаман, поглядывал вниз, задумчиво почесывал бороду. Прислонив голову к массивному стволу орудия, Игнат смотрел в темную степь. Край неба багровел, в ночной степи появились красные жгуты. "Степь горит!" - испуганно воскликнул Игнат. Атаман остановился, прищурился: "До Сторожевой - сорок верст, до Предгорной - того меньше! Могла бы уж подойти подмога!"
Прикрывая платком маленький слюдяной фонарь, к атаману подошла жена, Мария. За ней Кондрат: "Тихо, атаман?" - "Пока тихо!" - "Прикажи, атаман, Дашке домой идти, - заговорила Мария. - Ей рожать впору, а она сюда явилась: дома, мол, боязно, здесь рожать буду!" Атаман досадливо поморщился: "Ты, Мария, сама ей вели!" - "Не слухает!" "Мальца родит, пойду в крестные! - оживился Кондрат. - Имя свое дам!" Мария усмехнулась: "Не попал, казак, завтра день святых апостолов Варфоломея да Варнавы, так батюшка сказывал!" - "Ну Варфоломея, так Варфоломея!" - согласился Кондрат. "Ты, никак, до попа ходила?" - спросил атаман. - "Поп сам пришел!" - "Где он?" - "Собрал девок, ребят, чего-то бает им!" - "Пойду к нему!"
Мария стала у края площадки, глядела на багровое от пожарища небо: "А ведь это у Ахметки горит!" За рекой высоко взлетел столб пламени. Дрожащий отсвет заплясал на стволах орудий, озарил площадку. Кондрат привстал: "Гха! Точно у Ахмета! Выручил он нас с тобою, Игнат, не то быть бы нам на аркане!" Пояснил Марии: "Аульцы тайной тропой от орды уходили, и нам помогли выйти к броду! Ахмет вывел!" - "Ахметка кунак верный! Отец его сказывал: еще прадед ихний ходил с князьями к царю Ивану, просить защиты от хана крымского... Эх, горит аул!" - "Скоро у нас начнется!" - веско сказал Кондрат. "За атаманом сходить?" - вскочил Игнат. "Ни к чему! - ответила Мария. - Ты, Кондратушка, сам по валу пройдись, погляди, если кто из баб пужается, подбодри!.. Атамана, видать, поп заговорил!"
Батюшка сидел у костра, окруженный парнями и девками. Был в белой предсмертной рубахе и шароварах, заправленных в сапоги. Грива заплетена в косу. "Не зря говорят, поп и в рогоже заметен!" - подумал атаман, выходя на свет костра. Увидев за поясом у попа рукоять пистоля, попросил: "Батюшка, отойдем на час!" Поп шагнул к нему, вместе отошли в сторону. "Ты чего, воевать пришел?" - "Может, и повоюю! - похлопал поп о пистоль. - Начнется - и мне труд найдется!" - "С первыми выстрелами домой! - зашумел атаман. - Убьют тебя, кто будет крестить-отпевать? Не уйдешь, связать прикажу!" - "Не посмеешь, - усмехнулся поп, - на мне сан!" - "Без рясы, чать, можно и тебя скрутить!" - "Отобьюсь!" - поп ручищей своей так хлопнул по плечу атамана, что тот присел.
"Ушел батюшка?" - спросила Мария, когда атаман вернулся к бойницам. "Уйдешь его, долгогривого! Да он и тут не без проку будет, лишь бы на рожон не полез!" - атаман потирал плечо.
Вернулся Кондрат. "Ну, как бабоньки?" - "Шутят!.. Слышите? - вдруг навострился Кондрат. - Река!" Ровный, монотонный шум воды сменился яростным низким гулом. Река рычала, как потревоженная медведица. Поняли казаки: брод запружен конницей. "Идут!" - прошептал атаман и вскричал в темноту: "Костры!!!" Подростки, с вечера дежурившие у костров, зажгли хворост. Между рекой и станицей заплясали языки пламени. Казаки увидели конские морды, полосатые халаты, бурки, папахи: вот она, орда!
Высокий огонь костров привел в замешательство первые ряды. Послышались гортанные крики. Со стенки грянули залпы, затрещали выстрелы.
Прыгая от пушки к пушке Ляксандра наводил орудие, кричал: "Пли!" Игнат подносил к затравке тлеющий фитиль, пушка, рявкнув, откатывалась назад, ядро или картечь врезались в массу всадников.
У реки замелькали вспышки ружейных выстрелов, из темноты полетели пули, высоко, по-осиному, запели стрелы.
Внизу перед рвом послышался близкий вой, топот, крики - атака!
Весь день станичники ждали этой минуты! Схватились на валу! В руках казачек вспыхнули факелы. Казаки стреляли из пистолей, рубились шашками, казачки рубились серпами, косами, кололи вилами, - гибли.
С тяжелым палашом в руках Кондрат кидался навстречу врагу: палаш сверкал в свете факелов, опускался на головы, руки, плечи. Не один смельчак, появившийся на валу, рассеченный надвое, скатывался в ров.
Казачки таскали от костров черпаки со смолой, кипятком, - лили вниз, сбивали лезущих на вал длинными пиками.
На гребень крутого вала взобрался высокий горец с шашкой. За ним лезли гикающие, орущие, в чалмах и папахах. Сюда подоспели пушкари - с начала рукопашной пушки молчали.
Молотя банником, как цепом, врезался в гущу врагов Игнат. За ним спешил юркий Ляксандра с пистолями в обеих руках. Подбежавший сотенный и казаки заработали шашками, пиками.
Атаман рубился с высоким горцем, тот отражал все удары, потом ловко выбил из рук атамана шашку. Атаман схватился за пояс - пистоля не было. Горец замахнулся для удара и с воем выронил клинок: Мария ткнула ему в носастую рожу горящим факелом. Подоспевший казак прыгнул на высокого, схватил за горло, повалил, ударил рукояткой пистоля по голове, и тут же сам был убит выстрелом в спину. Горцу скрутили руки, оттащили в тыл.
Ночь заканчивалась, серый предрассветный сумрак обнаружил усеянный полосатыми трупами вал, враги откатились, вслед им ударили ожившие пушки.
Кондрат, при виде массы трупов, почувствовал тошноту, разорвал ворот, сбросил пропахшую кислым запахом крови рубаху.
Атаман бережно прислонил к стене бледного Игната, одной рукой обнял, другой поднес ко рту его сделанную из тыквы флягу с вином: "Выпей, сынок, все пройдет!" - "Ранен?" - тревожно спросил Кондрат. - "Со страху у него... бился, как лев, а теперь испужался! Спервоначалу бывает... Выпей, сынок!"
Атаман послал сотенного узнать, велики ли потери, взял пистоли, кинжал, приказал привести захваченного в плен высокого горца. Тот ненавидяще смотрел одним глазом (другой заплыл), дергал обожженной рожей.
Атаман коротко спросил по-татарски. Горец молчал. Атаман повысил голос. Пленный заговорил, обнажая желтые от кальяна зубы.
Чем дольше говорил он, тем яростнее булькали гортанные звуки, страшнее становилось лицо.
"Врешь, пес!" - тихо сказал атаман.
Пленный, задыхаясь, начал угрожающе выкрикивать. Атаман побледнел и выстрелил.
На площадку собирались казаки, глаголили; когда высказались все, заговорил атаман: "Татар под станицей тысяча, да кабардинских князей и узденей двести... Крымчаки разбоем живут. И князья кабардинские с ними храбры стали! - Атаман пнул ногой тело убитого горца. - Он, собака, сказал: "С казаков сдерем кожу, молодых женщин возьмем в наложницы, старухам вспорем животы и зашьем туда младенцев!.."
Напряженную тишину вдруг разорвал крик такой силы, что казаки и атаман вздрогнули. Это заголосила над телом убитого сына казачка.
"Ребят наших, - продолжал атаман, - что побегли просить подмоги, татары схватили, замучили". Атаман, за ним казаки, склонили головы. Помолчав, атаман вздохнул: "Надеяться нам не на кого. Быть всем на местах. Ступайте. Бабы пусть принесут нам поесть".
На площадке остались пушкари, Игнат и атаман. Труп князя сбросили с обрыва. Во рву, на откосах вала, на лугу за рекой лежало немало убитых в ночном бою крымчаков, горцев. Игнат, сидя на стволе пушки, начал, было, считать их, но после двухсот бросил.
А на Майносе валы неслись бешено, мощно накатывали на берег, с огромной силой били в него, вздымались могучей стеной.
Казаки измучились: ушли за рыбой - волны малые были, а сейчас никак не могут пристать.
Когда, наконец, пристали, послали за женами и детьми - помочь улов выгрузить, в дома отнести, - не дождались подмоги. Пришлось тяжеленные карбасы с рыбой на берег вытаскивать, чтоб волны их не стащили в море.
Подошли к домам - сараи порушены, сожжены! В дома вошли - по самые по глаза наелись: истерзанные жены, девки ревут, вой да стон, да позор, да горе! Пока в море были, турки на остров высадились! Грабили, убивали, насиловали!
Избитая, опозоренная Феклуша рыдала: "Матрена двоих аскеров серпом зарубила! Ага ее застрелил! Настену с собой увезли!"
Хватились казаки ружей - нет ружей! И ружья, и кинжалы кавказские - все аскеры с собой унесли! В церкви все вверх дном - золото, сверкачи искали!
Кинулись казаки к турецкому берегу плыть, начальству турецкому жалиться - нельзя в море, волны погибельные!
С мукою в сердце, среди воя и слез, ждали, когда стихнет буря.
Поплыли к берегу! Сперва к знакомцам - грекам: толмача одолжить. Сразу им все рассказали. Те давай руками махать на них: у турок печальные дни сейчас, оплакивают пророка, ходят по пояс голые, цепями бьют себя, волосы рвут, - злые, как псы, - никак нельзя сейчас к туркам!
Тогда казаки стали просить: камней-сверкачей у них нет более, а надо оружие! Помогите! Нашлось пять кинжалов.
Наточили некрасовцы кинжалы, серпы да косы, укрепили вилы. С турецкой стороны на берегу чаканы поставили. Рядом держали малый огонь: чуть что - дозорный сразу подожжет сено!
И чаканы запылали!
Скорей баб-девок-детишек в землянки, сверху чаканы ставить!
Аскеры дома обошли - нету баб! Стали ворошить сено! Тогда разом кинулись казаки, перебили аскеров, перерезали глотки им!
А дальше что? Трупы в землю закапывать? Нельзя: хватятся пропавших, станут искать - весь остров обыщут, всю землю разроют, все чаканы разметут.
Погрузили аскеров в карбас, привязали им камни к ногам, отплыли далеко в море, кинули за борт! Аллах с ними!
Алела заря. Тянулись за рекою дымы костров, смешивались с туманом, заволакивали лес; туман постепенно редел. Проступили белые палатки и шатер за лесом, на невысоком курганчике.
На земле лежала прохлада, наполненная мерным шумом реки. От станичных укреплений доносились негромкие разговоры, сдержанные стоны раненых, глухие причитания женщин. Казалось, станица тревожно вздыхает, как сильно истомленный, охваченный сном человек. Но станица не спала. Пушкари сверху разглядывали, оценивали линию обороны. По валу похаживали часовые. У костров женщины снимали с огня котлы с варевом, резали хлеб. От вала вглубь станицы тянулись повозки с тяжелоранеными и убитыми.
Атамана окликнули: казачки принесли вареную баранину, водку, лепешки. Атаман, отгоняя сон, помотал головой, встал. Женщины, всхлипывая, рассказывали, кто убит, кто ранен; что поп не ушел с вала, лихо бился! А сейчас помогает раненым... Дашка разрешилась - мальчишка!.. Атаман покосился на Игната: мол, слышишь, брат твой обещал крестным быть!
Игнат, сидя бочком на стволе пушки, жевал и глядел на реку. Потом перестал жевать, прищурил глаз и наклонился вперед, будто прицеливался. "Атаман, подойди!" - тихо позвал он.
Из-за дальних курганов выкатывалось солнце. В пойме реки, на верхушках дубов и осокорей заиграли красноватые блики. За лесом, на курганчике, поверх шатра, загорелся кровавым глазом значок.
У реки часто показывались кучками и в одиночку всадники. Перед шатром двигались фигурки конных и пеших. Среди них появилось трое в белых одеждах, скрылись в лесу. Вылетели из чащи и низко закружились над лесом чем-то встревоженные птицы. Под ними вдруг шевельнулась, плавно поплыла в сторону розовая вершина дуба. Цепляясь ветвями за соседние деревья, дуб рухнул. Птицы испуганно взмыли.
Игнат протянул руку к лесу: "Смотри, атаман!"
Закачался и повалился второй дуб. "Разумеешь, зачем они дубы валят?" - "Разумею: кряжами ворота крушить!"
Помолчали. Смотрели на птиц, поднимающихся все выше в ясное небо. Атаман задумчиво произнес: "Надо бы..." И ушел с вала.
К воротам, что смотрели на реку, подвезли со стены две Петровны, с десяток бочек пороху. Орудия установили саженях в пятнадцати до ворот, на дороге, сбегавшей по откосу к реке. Между пушками, от колеса до колеса, оставили проход шириной в сажень. Бочки с порохом положили набок, одну за другой, рядом с пушками; закрепили колышками.
Зарядили орудия картечью. Навели жерла на ворота.
Оставив у бочек Ляксандру, атаман вернулся на площадку к валу. Три пушки у бойницы зарядили ядрами.
Старый пушкарь прицелился: "Господи, благослови, царица небесная!" Поднес фитиль. Из ствола вылетел язык пламени, над поймой загремело эхо.
В нескольких шагах от шатра взлетело облако пыли. Пестрый муравейник бросился врассыпную.
Старик выругался, кинулся к соседней пушке, быстро навел, и поднес фитиль. Орудие рявкнуло, на курганчике взвилось и опало в пыли белое полотнище. Пушкарь прищурился, дернул себя за ус. "Попал, попал!" - закричал Игнат.
"Други! - остановил его атаман. - Сейчас они всей ордой пойдут на приступ. Страшно будет. Но зря не палите. Не раньше, чем они выбегут из лесу. И тут уж - наверняка! С Богом, ребята!" Молча перекрестил их двуперстием, тяжко вздохнул, пошел с площадки.
В станицу начали залетать пули. Одна из них, прогудев шмелем, жахнулась в стену прямо над спящим Кондратом. Проснувшись от звука пули, Кондрат сперва ничего не понял, а потом, увидав комочек свинца, влипший в саманную стенку, стал его выковыривать. Комок был еще теплый.
От реки донеслись крики, частый треск выстрелов. "Матушка!" Но мать уж сама проснулась, пробовала большим пальцем косу - остра ли? Вышла, отворив скрипучую дверь сарая. Тяжело ступая по пылюке босыми ногами, пошла к валу. Кондрат за нею.
Толпы неприятеля высыпали на освещенный солнцем луг. К валу понеслись пули и тучи стрел. Враги разом кинулись к укреплениям у ворот. Станичники дрались на смерть: пистоли, серпы, косы, приклады, пики, шашки, горячая смола, кипяток - все пошло в ход.
В разгар боя из леса на луг выскочил второй отряд и устремился к воротам. Среди атакующих быстро двигались огромные "сороконожки": это пешие крымчаки на руках тащили бревна - разбить ворота. По этим атакующим непрерывно палили из ружей и пушек. "Сороконожки" замедляли бег, и тогда всадники, крутившиеся рядом, хлестали ногайками по головам и плечам облепивших бревно.
Расстояние между воротами и нападающими быстро уменьшалось, осталось каких-то полсотни сажен.
Неожиданно ворота распахнулись. Ляксандра, стоя у Петровен, видел через распахнутые по его сигналу ворота: злыдни в сорока саженях.
Ляксандра уже мог разглядеть лица нападающих - злобные, яростные. Осталось тридцать сажен!
Двумя огненными хлыстами картечь врубилась в самую гущу штурмующих. Одна "сороконожка" покатилась по косогору, вторая остановилась. Ляксандра прыгнул к бочкам: "Эх, ма!"
Станичники, оборонявшие ворота, услышали среди грохота пушек, треска ружейных выстрелов, воплей, - вроде бы, кто-то поет!
Ляксандра пел во всю силу легких:
"В тихи ночи казаки, казаки гуляют!.."
Выдергивал колышки, вбитые между бочками, вкладывал в донные дыры куски тлеющего фитиля, толкал бочки ногой!
"И про службу, про свою песни распевают!"
Темные снаряды, один за другим, стремительно выкатывались из ворот, подпрыгивали, сбивали атакующих, обрушивались на головы и - взрыв! Взрыв! Вокруг разметанные, разорванные тела!.. В рядах злодеев смятение!
"Лучше в поле умирать, дома не годится!
Если в хате умирать, лучше б не родиться!"
Взрыв! Пешие бросают стволы дубовые, бегут от смертельных бочек! Одна бочка не взорвалась, и три десятка всадников проскочили в ворота!
"Нам не в первый раз рубать подлую ордюку!"
Всадники рванулись к Ляксандре! Он, увидев это, вскочил на бочку и, размахивая фитилем, закричал: "Казаки..." В ту же секунду правый бок прожгла острая боль, из горла вырвался хрип: "гуляют!" Пронзенный стрелой, Ляксандра упал. Передний всадник уже замахнулся шашкой, но Ляксандра, теряя сознание, последним движением все же сунул в бочку горящий фитиль! - Пушки, всадники, сам Ляксандра, бочки - все взлетело, исчезло в буром облаке взрыва!
Станичники бросились к воротам, закрыли их на затвор! Уцелевшие всадники заметались под перекрестным огнем пистолей и ружей...
Когда - вслед за несколькими взрывами на косогоре - раздался ужасающий грохот и огромные клубы черного дыма взмыли за воротами, в самой станице, на флангах наступила отчаянная минута! "Орда ворвалась!" И сами себе не поверили, увидев, что ордынцы разрозненными стайками бегут от ворот к реке, а вслед им с вала гремят-режут картечью пушки!
Растерянные, обессиленные станичники, не понимая, что же произошло, смотрели, как откатывается, уходит орда - за реку, в степь!
"Бегут!" - выдохнул атаман, и опустился на землю.
Поздно запылали сигнальные чаканы, - проспали дозорные: ага с аскерами уже высаживался на Майнос.
Еле успели казачек с детишками свести в землянки, а чаканы сверху уже не сметать!
Казаков на острове с гулькин нос, почти все ушли в море за рыбой.
Ага обходил дом за домом. Толмач спрашивал: где аскеры, которые были на острове неделю назад? Казаки пожимали плечами: не было здесь таких! Ага впивался черными жгучими глазами в лица неверных. Казаки смотрели невозмутимо.
Тогда аскеры пошли в землянки, стали выгонять оттуда баб с детишками. Бабы заголосили: "Не знаем мы ничего, никого не видели!"
Ага узнал Феклушу: "Не скажешь правды - заберем тебя!" В ужасе Феклуша ревмя ревет, кричит: "Не знаю, не видела!" Ага через толмача казакам: "Не скажете правды - возьмем ваших! Будем пытать их!"
Переглянулись казаки, сжали кулаки, но не решились некрасовцы: если и этих порезать... да и как порежешь? У аги и аскеров пистоли, - серпами и кинжалами против них? Так их раза в три больше, чем некрасовцев!
Забрали аскеры десять казаков и Феклушу, увезли с собою в карбасах.
С берега молча, потеряно смотрели им вслед казаки, голосили бабы.
Что-то будет?
Женщины подтолкнули к атаману бритоголового ордынца со связанными за спиною руками. Атаман оглядел его: дорогая одежда, бледное холеное лицо с рыжей крашеной бородой, надменный взгляд. "Видать, важная птица!"
"Ты кто?" Пленный зло покосился на женщин, рванулся. Но бабы крепко держали его. "Ты кто?" - повторил атаман.
"Я брат калги Гирея! - надменно произнес иноверец по-русски. - Прикажи уйти твоим женщинам! Когда говорят воины, женщинам не место!"
"Отчего же? - возразил атаман. - Бабы тебя побили, бабы в плен взяли! Так что тут им самое место!"
"Пусть уйдут! Таков закон!"
"Зако-он?! - вскипел атаман. - А по какому закону ты в драку полез? Кровушки захотел, кровосос?!"
"Вы убили моего сына в шатре!"
Атаман встал: "А как ты хотел?! Вы нас смертью пытать, а мы вас?!" Пленник плюнул в лицо атаману. "Ах ты, собака!" - схватился атаман за кинжал. Потом охолонул, утерся. "Бабы, отведите его на станичный двор, посадите на цепь!" Ордынец вскрикнул, рванулся. "Стерегите его, чтоб кто-нибудь не убил! Обменяем, если наших кого схватили!"
Калгин брат рвался, шипел, - женщины набросили ему на шею веревочную петлю и, подгоняя тумаками, повели сажать на цепь. Пленный извергал ругательства.
Атаман спустился к поваленным Петровнам. Прислонившись спиною к орудию, сидел Кондрат, держась за окровавленное, простреленное колено. Игнат ухаживал за лежащей матерью, перевязывал голову ей. Мать стонала, по плечу текла кровь. Рядом лежал убитый сотенный.
На месте взрыва неглубокая, темная от пороховой гари яма. Атаман сморщился, зажмурился, медленно провел по лицу рукой, стал на колени, бросил горсть земли в яму. Перекрестился: "Царство небесное, вечный покой!"
А поп умирал. Голова, шея, грудь - все в крови. В горле булькает, на губах кровавая пена.
Бабы плакали: "Не умирай, батюшка, кто ж без тебя требы справлять будет?"
"Бог поможет!" - прошептал долгогривый, вздохнул и застыл навечно.
Бабы заголосили.
Вой стоял над станицей. Оплакивали жен и мужей, сестер и братьев, сыновей, дочерей, матерей и отцов. А от вала все везли и везли раненых и убитых.
Поседевший на глазах атаман, не спавший все эти дни и ночи, стоял на валу, и, борясь с нестерпимым желанием спать, тяжело думал о завтрашней битве: орда могла вернуться!
3.
По Левокумке, Бургун-Маджарам, Прасковее, Прикумску носился на мотоцикле молодой поп - в скуфейке, рясе и брюках, заправленных в сапоги. "Мотопоп" спешил на крестины и отпевания.
Окрестил он и Сеньку. Маленький Бабаев плакал, - вода попала в глаза; родители и крестные радовались: еще одна казачья душа вошла в христианство!
Когда "мотопоп" узнал, какие древние рукописные книги оставили некрасовцы на Маньясе ("Мы их у церкву заперли!") - долго укоризненно качал головой: "А что ж ваш батюшка?!" - "А мы без яво жили! Ежли што, до греков на лодке бегали!" - "Что, православие приняли?" - "Кто принял, кто в староверах остался!"
А Сенькина бабка: "Выйду, бывало, из церквы на Майнясе, посмотрю на своих ребят - все молодые, красивые и работники! От приедем мы на свою Родину, посмотрят на нас и скажут: от какая племя взворотилася!"
"Нас пугали: доедитя - в Сибирю вас сошлють! А из Америки, с Канади прибегали, чтоб мы в Россию домой не пошли, а наш народ не послухал!" - это Кирила Никитич Пушечкин, седой плотный казак с окладистой бородой; на Маньясе он оставил паровую мельницу и два трактора.
В Сибирь некрасовцы, действительно, угодили. Только много раньше, в 20-х годах. После свержения царя и октябрьского переворота решили бежавшие за рубеж некрасовцы вернуться на Родину - на Кубань. Вернулись. Обосновались в Некрасовке на Лабе. А Сталин решил: один раз Родину предали - и другой предадут! И всех их в Сибирь!
Только после смерти "вождя народов" Хрущев вызволил их. Вот тогда-то некрасовцы с Маньяса, с Дуная решили: "вертаться!" И, сами того не ведая, вернулись к тем самым местам, где погиб когда-то Некраса, где бились с ордою Кондрат и Игнат. Домой - через века!
Как на речке было на Камышинке,
Собирались люди, казаки вольные,
Атаманом был у них Ермак Тимофеевич,
Есаулом был Гаврюшка Лаврентьевич,
Собирались казаки во единый круг -
Все донские, гребенские да яицкие.
"НАША УЛИЦА" № 98 (1) январь 2008
|
|
ВО ВЛАСТИ ВЫСШИХ СФЕР |
Филипп Копачевский родился 22 февраля 1990 года в Москве.
В Государственном литературном музее, Трубниковский пер., 17, с большим успехом при стечении
огромного числа зрителей прошел торжественный вечер в связи с выходом в свет 100-го номера
Ежемесячного литературного журнала "Наша улица", основанного писателем Юрием Кувалдиным
в 1999 году. Яркой звездой вечера сиял пианист Филипп Копачевский. Он оттачивал свое мастерство
у профессора Консерватории Эммануила Александравича Монасзона. А именно, высочайший
уровень техники и виртуозность игры на фортепиано дополняется у Филиппа Копачевского
проникновением в душу и замысел исполняемых произведений, открытием личных глубоких
переживаний. Это очень трудная задача - овладеть безукоризненной точностью и виртуозной
техникой игры с артистизмом. Филипп Копачевский, в свои 18 лет - лауреат многих
международных конкурсов, в 5-ти из которых он стал победителем. Юному дарованию
рукоплескали на сценических площадках России, Италии, Нидерландов и других стран.

Пианист Филипп Копачевский и писатель Юрий Кувалдин

Пианист Филипп Копачевский и писатель Юрий Кувалдин

Пианист Филипп Копачевский

Пианист Филипп Копачевский

Пианист Филипп Копачевский

Пианист Филипп Копачевский

Пианист Филипп Копачевский

Пианист Филипп Копачевский

Пианист Филипп Копачевский и писатель Юрий Кувалдин

Пианист Филипп Копачевский и писатель Юрий Кувалдин

Пианист Филипп Копачевский и писатель Юрий Кувалдин

Пианист Филипп Копачевский

Зрительный зал. На переднем плане: художник Александр Трифонов, поэт Кирилл Ковальджи,
Глава администрации Первого Президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов,
поэтесса Нина Краснова
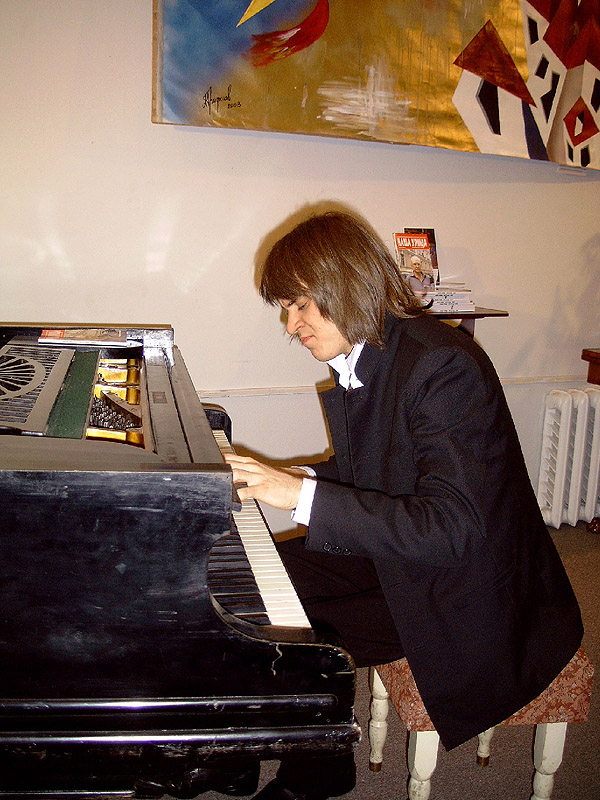
Пианист Филипп Копачевский

Пианист Филипп Копачевский

Пианист Филипп Копачевский в окружении писателей и поэтов

Художественно-музыкальный вечер "Нашей улицы" в Государственном Литературном музее
(Трубниковский пер., 17), 21 марта 2008 года.
На снимке (слева направо): Татьяна Добрынина, Слава Лён, Сергей Каратов, Владимир Колечицкий,
Сергей Филатов, Александр Хорт, Рада Полищук, Виктор Широков, Юрий Кувалдин,
Владимир Степанов, Александр Трифонов, Марина Сальтина, Александр Викорук,
Филипп Копачевский, Сергей Михайлин-Плавский, Владимир Скребицкий, Нина Краснова,
Ваграм Кеворков, Кирилл Ковальджи, Елена Евстигнеева, Эдуард Бобров, Людмила Чутко,
Виктор Кузнецов-Казанский, Александр Чутко, Игорь Снегур

Писатель Юрий Кувалдин и пианист Филипп Копачевский

Писатель Сергей Каратов, писатель Юрий Кувалдин, пианист Филипп Копачевский,
писатель Владимир Колечицкий
|
|
Вместе с домом начал гореть и забор |

Сергей Михайлович Овчинников родился в 1963 году в Калининграде. Окончил Рязанский медицинский институт. Жил в Калининградской области, в Рязани, под Владимиром, в Тольятти, с 1991 года живет в Щекино Тульской области. Врач и писатель. Автор нескольких книг прозы и афоризмов. Публиковался в журналах “Время и мы” и “Альбом”, “Родина”. Живет в городе Щекино. Главный редактор литературного альманаха “Тула”. В "Нашей улице" публикуется с №1-1999-(пилотный).
Сергей Овчинников
НИКОНОВ, ФРЕЙД И ДРУГИЕ
рассказ
Сашка Никонов увидел эту книгу на рынке, неподалеку от места, где они с женой торговали сантехникой, книга лежала на лотке вместе с учебниками, ее обложка сияла золотыми тиснеными буквами: Зигмунд Фрейд "Введение в психоанализ". Сашка прочел название, долго листал плотные лощеные страницы, в нем вспыхнула старая зависть к образованным людям, для которых эти книги написаны. Сашка с детства мечтал учиться, но вырос в многодетной семье, с пятнадцати лет пришлось зарабатывать на жизнь. "Возьму и куплю ее сейчас! - запальчиво думал Сашка. - Не глупее других, неужто не разберуся!?" Сашка потоптался немного, крякнул и достал кошелек, хотя книга, по его мнению, была чудовищно дорогая. Пятнадцать долларов - совсем ошалели! Впрочем, эта сумма лишь подчеркивала солидность приобретения.
Весь базарный суетный день у Сашки на душе было радостно. Вечером, завезя непроданный товар домой, поставив машину в гараж, Сашка вымыл руки, достал из сумки книгу и положил ее на тумбочку, возле своей кровати. Жена Вера, погуляв с собакой и зайдя в спальню переодеться, увидела книгу, повертела ее в руках.
- Чего это ты? Сбрендил? - спросила удивленно. - Вроде никогда такими вещами не занимался... Охота тебе эту дрянь читать?
- Сама ты дрянь! - возмутился Сашка. - Если хочешь знать, это основоположник, как там... психоанализа!
- Ну и на кой ляд тебе этот анализ? - не понимала Вера. Она снимала колготки, смазывала кремом опрелости в паху и под большими грудями. - Кого ты хочешь анализировать?
- Да всех можно анализировать: меня, тебя, черта лысого! - ярился Сашка.
- Придурок, - вздохнула Вера. - ты больно умного из себя не строй! Торгуешь унитазами, и торгуй! Не лезь не в свое дело, коли не понимаешь!
- Ну ладно, если так, я тебя первую проанализирую! - угрожающе прошипел Сашка, отправляясь на кухню варить пельмени.
Сантехникой Вера и Сашка торговали уже давно. Раз в полгода ездили в Саудовскую Аравию за товаром, оттуда приходили контейнеры со смесителями, раковинами, унитазами. Вера стояла на рынке и продавала, а Сашка возил товар из дома, одна комната у них в квартире была оборудована под склад. Рынок закрывался к пяти часам вечера, приходили домой в шесть, жена отправлялась гулять с собакой, а Сашка обычно ложится на диван с газетой, включал телевизор. Сегодня он, поев пельменей, уселся в кресло, открыл книгу и прочел вслух: "Двумя своими положениями анализ оскорбляет весь мир и вызывает к себе его неприязнь; одно из них наталкивается на интеллектуальные, другое - на морально-эстетические предрассудки. Согласно первому коробящему утверждению психоанализа, психические процессы сами по себе бессознательны, сознательны лишь отдельные акты и стороны душевной жизни..." Сашка не понял. О чем это!? Что за тарабарщина!? Он убежал на кухню, заварил кофе покрепче и вновь уселся за книгу. "Второе положение, которое психоанализ считает одним из своих достижений, утверждает, что влечения, которые можно назвать сексуальными в узком и широком смыслах слова, играют невероятно большую и до сих пор непризнанную роль в возникновении нервных и психических заболеваний. Более того, эти же сексуальные влечения участвуют в создании высших культурных, художественных и социальных ценностей человеческого духа, и их вклад нельзя недооценивать". Сашка изо всех сил сдавил голову руками, напрягся, и опять ничего не понял. Разозлившись, он стал переписывать из книги вначале на листок, а потом в общую тетрадь, которую жена купила для учета проданного товара. Сашка записал так: "В общем секс приводит к болезням. И писатели, художники - все больные люди. У них первых крыша на этом едет..." Сашка перечел и обрадовался. Совершенно другое дело, все ясно и понятно, ему работать можно переводчиком с научного на русский! Он воодушевился и продолжил свою работу. "Если кто-то забывает хорошо известное ему имя и с трудом его запоминает, то можно предположить, что против носителя этого имени он что-то имеет и не хочет о нем думать. Затериваются предметы, когда поссоришься с тем, кто их дал и о ком неприятно вспоминать, или когда сами вещи перестают нравиться и ищешь предлога заменить их другими. В забывании впечатлений и переживаний еще отчетливее и сильнее, чем в забывании имен, обнаруживается действие тенденции устранения неприятного из воспоминаний. То, что неприятные впечатления легко забываются, - факт, не подлежащий сомнению. Ошибки часто используются для того, чтобы выполнить желания, в которых следовало бы себе отказать. Здесь также встает вопрос, всегда ли случайно наносишь себе вред и подвергаешь опасности собственное существование". Сашка записал: "В общем, бляха-муха, если что-то забыл или потерял, то это не просто так, а со смыслом, значит эта вещь тебе не нужна..."
На следующий день Сашка приобрел в книжном магазине "Энциклопедию психоанализа", чтобы узнавать там значение непонятных слов, и каждый вечер теперь, упорно, с озлоблением даже, по страничке в день продвигался дальше. "Наше отношение к миру, в который мы так неохотно пришли, кажется, несет с собой то, что мы не можем выносить его непрерывно. Поэтому мы время от времени возвращаемся в состояние, в котором находились до появления на свет во внутриутробное существование..."
Только через полгода, едва не тронувшись от напряжения, Сашка дочитал книгу. Для этого пришлось записаться в библиотеку, перелопатить три десятка вспомогательных книг, почти еженедельно консультируясь со знакомой библиотекаршей Зиной. От усилий, затраченных на чтение, начал страдать бизнес, прибыль почему-то уменьшилась, наверное, потому, что мысли у Сашки все были о постороннем, ведь с текстом пришлось сражаться почти врукопашную. Если бы Сашка знал раньше, что потеряет из-за книги деньги, ни за что не купил бы ее! Прочитав заключительную страницу, подпрыгнув с победным кличем, Сашка шмякнул книгу о стену, радуясь освобождению:
- Йес! Не глупее других, понятно!?
Через два дня он уехал в Аравию за товаром, когда же вернулся, с ужасом понял - в голове у него после книги что-то сдвинулось! Ему теперь хотелось читать по вечерам! Сашка помыкался две недели, думая, что болезнь пройдет и, как на каторгу, отправился в библиотеку. Зина дала ему книги Джека Лондона и Куприна, через месяц - Шукшина и Астафьева. Спустя год Сашка читал уже Чехова и Толстого. С обмиранием сердца и восхищением он узнавал в книгах жизнь с новой, неизвестной ему стороны. Он был точно лошадь, с которой сняли толстенные, все закрывающие шоры. Сашка понял, что большую часть жизни прожил, как бессловесное животное, под каблуком у жены. В молодости, когда он только познакомился с Верой, была она маленькой симпатичной девушкой с кукольным личиком, веселыми кудряшками и карими, немного навыкате, глазами, всегда излучающими энергию и беспокойство. Вера с рождения была очень общительна, Сашка же в детстве заикался, людей стеснялся, ему всегда было легче уйти, нежели спорить и требовать. А Вера требовала, спорила и ругалась! Именно Вера добилась для семьи квартиры, она же организовала семейный бизнес: устроилась работать продавцом у хозяина-кавказца, вела его документацию. Потом кавказца жестоко избили "скинхеды", он вынужден был уехать из города, и Сашка знал, избили его не случайно. Вере досталось место на рынке и клиенты, привыкшие находить здесь сантехнику - оставалось только переоформить документы. Через два года после начала самостоятельной торговли у Никоновых появилась иномарка, их дочь стала учиться в платной школе, каждую зиму они теперь отдыхали в Египте или Турции. Во время ссор Вера кричала Сашке: "Слушай сюда, придурок! Что ты сам можешь!? Ты ведь пропадешь без меня! А я себе таких как ты найду миллион!" Как-то Сашка машиной сбил человека и от суда его тоже "отмазала" Вера, благодаря связям в милиции. Вера говорила, что Бог любит ее, поэтому наградил красотой, умом и талантом, а Сашку Бог обидел и она, щедрая душа, своим душевным богатством с мужем делится. А потому Сашка должен быть ей по гроб жизни благодарен.
И если раньше Никонов ей верил, то теперь Чехов и Толстой все испортили. "Зачем я так суечусь? - мучительно раздумывал Сашка. - Ведь у меня все, бляха, есть! Ну, построим свой магазин, купим новый "Мерседес", дальше-то что?" Нужно было как-то менять жизнь, но как, Сашка еще не знал, и потому решил посоветоваться с библиотекаршей Зиной...
Вскоре он поступил учиться в местный университет, через год развелся с Верой, оставив ей квартиру и место на рынке, сам женился на Зине. Потом, говорят, взял кредит, открыл в каком-то подвальчике магазин сантехники. Я вижу их иногда с Зиной в театре, книга Фрейда у Никонова куда-то пропала - наверное, Вера сожгла ее, как главную виновницу своего несчастья.
Щекино Тульской области
"НАША УЛИЦА", № 8-2004
|
|
МАЛЕНЬКИЙ ШЕДЕВР ВЛАДИМИРА ОПАРЫ |
Юрий Кувалдин
БЕЗ ЧЕГО НЕЛЬЗЯ
несколько слов о романе художника Владимира Опары «Ытамла»
эссе

Художник и писатель Владимир Опара.
Я удивлен и обрадован. Я читаю эту небольшую книгу не отрываясь. Благо, текста мало. Очень мало. Текста почти нет. Город в фиолетовой дымке. Алма-Ата как яблоневый сад. Я летел в Ригу, а читал про Алма-Ату. Облака были подо мной, как Алма-Ата под художником в дымке долины. Владимир Опара модернизировал форму романа. У него роман написан в десять строк, выражаясь фигурально. Но очень художественно, потому что каждое слово искрит.
В Риге я с Яном Паулюком и Юрисом Звирбулисом в 1968 году, после 20 августа, когда Кремль душил свободу повсюду и особенно в Праге, пил коктейль «Кровавая Мэри» в баре теплохода в порту. 100 грамм водки и сто грамм томатного сока. Тонкий бутерброд с золотистыми рыбками. Шпротами.
Ян Паулюк рисовал пальцами. Он не любил кистей. Звирбулис прибил к полу в мастерской сухое ветвистое дерево, и посадил на одну из крепких ветвей чучело куропатки. В углу стояла деревянная бочка. Кадка. Нужно было её наклонить, чтобы извлечь из-под неё очередную бутылку «Рислинга». Мы пили сухое вино. Одуряюще пахло красками. В окна террасы едва доносился запах флоксов из сада.
Холсты Владимира Опары написаны рельефно и дышат свободой. Потому что он давно ушел от реализма. Его симфоническая душа диктует авангардные формы. Так пишет музыку Софья Губайдуллина. Звуки воды и шуршание травы. Владимир Опара передает вкус фиолетовой дымки над Алма-Атой. Его роман называется «Ытамла». Зеркально. Такова и его живопись, ушедшая от пересказа, к метафоре поэзии. Данте писал тогда, когда в наших болотах ещё ничего не стояло. На обложке - молодая грудь женщины с острым соском.
В тексте романа видим волосы на женском лобке, искусно заплетенные в 24 тонкие косички.
Роман начинается с подвала. Сидят только свои. Копачёв в джинсе. Азиз в белом. Назаренко в красном…
Староконюшенный.
Виски «Белая лошадь».
Велимир Хлебников с наволочкой стихов. Виталий Копачёв с рулонами холстов.
Александр Трифонов с летящими под углом к горизонту красными краеугольными церквями.
Анатолий Зверев, рисующий свеклой на обоях.
Александр Глезер с Лианозовской школой.
Художники любят подвалы. Писатели заходят изредка к художникам.
Художники изредка пишут книги. Писатели иногда рисуют.
Книги художников напоминают бумажных голубей. Они летают над колодцами дворов кругами. Плавно приземляются у железной двери в подвал.
Владимир Опара добивается пронзительного поэтического эффекта в прозе, организуя её ритмами и метафорами поэзии.
Так писал в Риге поэт Александр Чак. Вот иду я с картофельной ботвой в петлице.
Владимир Опара:
ей 42
она любит пиво
ей 42
она всё еще красива
Мой любимый писатель Юрий Домбровский писал в алма-атинской ссылке, что зелень в этом городе расположена террасами, первый этаж - вот эти акации, а над акациями фруктовые сады, над садами тополя, а над тополями уже только горы да горные леса на них, и что вот сады-то его и путали больше всего: поди-ка разберись, где ты находишься, если весь город один сплошной сад, - сад яблоневый, сад урючный, сад вишневый, сад миндальный - цветы розовые, цветы белые, цветы кремовые.
Персональная выставка Владимира Опары в Алма-Ате.
Таможенный контроль.
- Что в коробке?
- Одежда, фотографии, рисунки на бумаге.
- Произведения искусства?
- Нет, художественной ценности не представляют.
- Проходи!
Интервью.
Журналистка приписала автору картины, которых он не писал, фразы, которых он не говорил, слова, которых нет в его лексиконе.
Впечатление от прочтения в газете: "...что за бред, читать невозможно, если я даже так драно и рвано отвечал, писать всё равно надо уметь..."
У Алма-Аты красивый перевод - "Отец яблок", где «алма» - яблоко, а «ата» - отец.
Владимир Опара родился неподалёку - в Барнауле, 30 мая 1952 года.
Мой друг Валерий Золотухин оттуда же, приехав в Москву, глянув на башню Казанского вокзала, воскликнул: «Прямо к Кремлю привезли!»
«- Скажи мне, что такое любовь?
- Это имеет отношение к интервью?
- Нет. Но ты мне скажи, - она держит в руке кисть винограда и губами ловит виноградины.
- Мне кажется это то, без чего нельзя».
Небо красное. Земля черная. Пирамида. Круг. Крест. Молитва. 1993. Холст. Масло.
Владимир Опара сильный художник. Уверенный в себе.
Владимир Опара уверенный писатель. Живущий в подтексте, о котором мечтал Антон Чехов.
Мы пишем жизнь свою пробелами.
Очень мало текста, но очень много воздуха.
Жизни.
"Наша улица” №145 (12) декабрь 2011
|
|
еврейская тема лежит не в национальной, а в религиозной плоскости |
Юрий Кувалдин
СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА
(Михаил Козаков)
эссе

Артист Михаил Козаков
Даты выпадают из памяти. Да и нужны ли даты? Жизнь не идет по прямой, по линейке. Жизнь идет кругами. Причем один круг стирает из памяти предыдущий. Так должно быть. Жизнь природы - забытьё, беспамятство. Человек идет против природы - все что-то копит в памяти. Но, в конце концов, тоже забывает, “играет в ящик”, и его родственники “играют”, и дети, и внуки, и правнуки, и праправнуки...
Я уже не помню, в каком году, в конце мая, я поехал в Переделкино. Точно помню, что это было до издания мною книги стихов Игоря Меламеда, и Меламед работал в музее Пастернака в Переделкино. Он меня, кажется, и пригласил. Времени у меня всегда в обрез, просто нет времени, потому что живу вне времени и пространства - в литературе, стараясь быть не литературным, а жизненным. Вот и понимай меня после этого.
Но ехать в Переделкино было приятно. День выдался теплым, сочная зелень листвы еще не запылилась. Я еще жил на старой квартире на улице Павлова у Рублевки и парковал свой синий “жигуль” на большой открытой стоянке. Помню ощущение хорошего утра, воробьи радостно переговариваются, механик, похмелившись уже, улыбается, машина сразу заводится, не то что зимой... Мы, русские, люди сезонные. И Россия - страна сезонная. Из зимы - в лето. И наоборот. Потому мы так радуемся смене времен года. А тут еще стихи Пастернака вспоминаю (какие помнятся, хотя Пастернак не ходит в моих любимцах). Бросаю рядом, на сиденье, томик его стихов, и на перекрестках, у светофоров, подглядываю, там, в разные “Сестра моя - жизнь”, “Быть знаменитым - некрасиво” и т.д. Культурно-научная среда, определенный круг почитателей, всё чинно, солидно, прилично... Это я знаю. Тысячи раз бывал в Переделкино. То один, то со Звирбулисом, латышским другом-художником, то с Владимиром Купченко, коктебельцем, директором Дома Волошина, то с женой Аней, то с сыном Сашей, то со Станиславом Борисовичем Рассадиным, то еще с кем-то... Сеть переделкинских улиц хорошо знакома, в доме творчества у Липкина неоднократно бывал (он там с Лиснянской чуть ли не каждое лето проводил). Да, бывал часто, но так и не полюбил Переделкина, даже в некотором роде возненавидел. Почему? Потому что нельзя селиться в стороне от народа. Писатель (а Переделкино - писательский поселок) должен жить в гуще народа. Впрочем, талантливых писателей, живущих в Переделкино можно по пальцам пересчитать, остальные - псевдописатели, конъюнктурщики, культурно-просветительская номенклатура.
Солнце поблескивает на капоте. Через пятнадцать минут с Минского шоссе сворачиваю налево в Переделкино. Пустынная дорога, слева и справа деревья и заборы. Пошли дачи. Значит заборы. Чем выше забор, тем лучше соседи. Замечательно любить народ, не соприкасаясь с ним, из далекого далека башни из слоновой кости - Переделкина. Я удивляюсь, почему не контролируется заезд в поселок “избранных” автотранспорта. Поставили бы КПП, шлагбаум, автоматчиков. Ввели пропуска и т.д. Отделяться от народа - так отделяться! Пример надо с ЦК КПСС брать, то есть с нынешней администрации президента. Сворачиваю налево к дому творчества. Везде прекрасный асфальт, не то что на народных дачах разбитые дороги из песка и щебенки (пыль-дороги!), а то и вовсе грунтовки, накатанные по полям летом, а весной и осенью прекращающие существование. Справа тянется забор дома-творчества писателей. Почти что в конце его сворачиваю налево на улицу Павленко (вот же был еще “писатель”, в данном контексте слово “писатель” ничего кроме издевки и усмешки не вызывает). Собственно это не улица, а асфальтированная маленькая дорожка, идущая под густыми кронами деревьев. Слева тянется высокий забор дач, справа, за деревьями, поле.
Напротив ворот дачи Пастернака (хотя это сочетание неверно, у Пастернака своей дачи не было, это дача предназначалась для военморовских командиров, потом перешла Союзу писателей - государственной организации, эта организация предоставила помещение поэту Пастернаку для работы, и после его смерти должна была бы перейти государству, но не тут-то было... Как в случае с государственными квартирами депутатов Думы: дали на время, а они всеми правдами-неправдами поселились там навсегда.) Итак, ставлю машину на пятачке напротив ворот дачи Пастернака. Вхожу на участок (как говорится, генеральский). Асфальтовая дорожка тянется от ворот к дому. Вижу от дома идут Блажеевский и Меламед. Они уже тут. Блажеевский как всегда поддатый. Растягивая слова, просит у меня десятку (сейчас говорю “десятка” условно, поскольку дензнаки меняются у нас со скоростью звука; это происходит, видимо, для того, чтобы либералисты-приватизаторы побыстрее заметали следы расхищения госсредств; хотя, впрочем, логика проста - если Пастернаку, депутату Думы и др. можно приватизировать госсобственность, то почему “демократам” (беру в кавычки, потому что слово само ни в чем не виновато, оно получило отрицательный смысл благодаря тем лицам, которые им прикрывались, как волк овечьей шкурой) нельзя приватизировать финансы СССР? Можно! Все можно в этой жизни. Правила придумываются для дураков, а выдающиеся люди живут вне правил. Таков, примерно, ход мыслей приватизаторов любых мастей. И эта тень в моем сознании падает на Пастернака. У Мандельштама не было ни кола ни двора, у Есенина тож... Да и нельзя их было представить в этой домине. Чувство вкуса изменило Пастернаку. Не может русский поэт жить на даче, не может. И эта фальшь сквозит через стихи Пастернака, придуманных, высосанных из книг, научно-культурных...
Как гениально написал о нем Александр Еременко:
И днем и ночью, как ученый,
По кругу ходит Пастернак...
Именно по кругу книжных тем и образов... Хотя все мы ходим по кругу, но - кому что нравится, мне - живое чувство жизни, кому-то литературщина... Каждому свое... И, тем не менее, кое-что в его поэзии мне близко, например, о Ленине:
Он был как выпад на рапире,
Гонясь за высказанным вслед,
Он гнул свое, пиджак топыря,
И пяля передки штиблет...
Пошли с Блажеевским к машине, Меламед остался встречать гостей (я прикатил на час раньше). Свозил Блажеевского в продмаг, Женя взял четвертинку, и в машине же половину выпил без закуски из горла. Потом ходили по участку. За домом - еловый лес (прямо на участке). Ели старые, высокие. Хвоя, согретая солнцем, пахнет приторно. Блажеевский читает новое свое стихотворение, читает трескучим, связочным своим голосом, растягивая слова... Что он читал, я уже сейчас не помню. Потом Женя дал мне рукопись новой книги, в которой нового, в сущности, почти что ничего не оказалось, была расклеена старая книга “Лицом к погоне”, выпущенная мною, плюс несколько новых стихотворений. Очень мало писал Блажеевский. Очень много пил Блажеевский. Но, странно, не раздражал окружающих. Вел себя хорошо, не придирался к окружающим. А мне все говорил, что у поэта должна быть всего лишь одна книжка. Он этого добился. Умер в 52 года. И осталась одна книжка.
Вышли из пастернаковского леса, остановились у ступенек дома. Кое-кто стал уже подходить. Потом, вижу, от ворот идет в броском клетчатом пиджаке (красно-коричневые тона выделяются) знаменитый актер Михаил Козаков. Кажется, он совсем недавно вернулся на родину из Израиля. Потом Козаков где-то скажет: “Моя родина - Ордынка”. Мне Рассадин все о нем рассказывал и недоумевал: “На фига Мишка в Израиль уехал? Никак понять не могу!”. Рассадин дружил с Козаковым (часто путают написание этой фамилии; поясню - Козак - это еврейская фамилия, с прибавлением окончания на русский лад - Козаков, короче, через “о”; а русская фамилия пишется через “а”, например, выдающийся русский писатель Юрий Казаков; но об этом мало знают, и телевизионщики часто врут, вгоняя титр под изображение Козакова - “Казаков”), книжку о нем написал, много мне о нем рассказывал.
Я сразу спокойно подхожу к Козакову и говорю ему о том, что часто о нем от Рассадина слышал, говорю, я - Кувалдин. Он говорит: “Очень много о Вас слышал. Рассадин подарил мне пару книг, изданных Вами: “Очень простой Мандельштам” и “Русские, или Из дворян в интеллигенты”. Разговорились. Времени - час до начала торжеств. Сели на крашеные коричневой половой краской деревянные ступени. Я говорил о том, что все недоумевали, почему Козаков, в доску русский актер, уехал на чужбину, чего он там забыл, “зов предков” - это бред, исторический ландшафт сильно изменился и т.д. Козаков тут же подхватил: ему казалось, что там культурнейшая среда, состоящая из пастернаков и рихтеров, из шагалов и бродских, а на поверку оказалось, что там - другие, чужие иудеи, обычные дворники, сантехники, чиновники и др. То есть сливок еврейской элиты, где анекдотом звучит “еврей - дворник”, кроме как в России нигде нет. В сущности, Козаков об этом же размышляет в своей книге. Я сказал, что с большим интересом прочитал книгу, изданную “Вагриусом”. Речь пошла о книгоиздании, о разнообразии книг, о том, что практически все издано, но тиражи упали до микроскопических, о безгонорарных изданиях... Козаков сказал, что он еще успел “подработать”, что “Вагриус” ему заплатил пять тысяч зеленых. Я сказал, что “Вагриус” это себе может позволить, поскольку работает в режиме расширенного воспроизводства, имеет свою развитую сеть реализации, не гнушается выпуском откровенного ширпотреба - детективов, женских романов, разных хозяйственных пособий и т.д. Я же, в отличие от них, не издательство, а писатель, издающий книги, то есть работающий на репутацию, а не на бухгалтерию...
Впрочем, это было отвлечением от темы, поскольку меня интересовал отъезд-приезд Козакова.
Его отец был писателем; еврей по происхождению, родившийся на Полтавщине, не знал ни иврит, ни идиш. Понятие “еврейские корни” для Козакова, полуеврея, это скорее ощущение принадлежности к другим, почему-то не вполне своим в России. Пятый пункт лично его не волновал: в паспорте - по матери-дворянке - он русский.
Галина Волчек, Игорь Кваша, Ефим Копелян, Зиновий Гердт, Александр Ширвиндт, Марк Розовский, Михаил Ромм, Анатолий Эфрос... - к этой довольно распространенной в художественных кругах России группе населения, по выражению Козакова, он принадлежал. Фамилии и примеры можно продолжать вне зависимости от времени и пространства, процента еврейской крови, даже вероисповедания или атеистического направления ума. В этом кругу - Давид Самойлов, Юрий Левитанский, Натан Эйдельман, Яков Гордин, Наталья Долинина, Илья Авербах, Андрей Миронов, Александр Володин, Леонид Зорин - никто не знал ни иврит, ни идиш.
Услышав имя Зорина, я оживился. Ведь Зорин был автором сценария знаменитых “Покровских ворот”. Козаков снял летнюю кепку, лысина заблистала на солнце. Козаков, сощурясь, начал вспоминать о том, как снимали “Покровские ворота”. Козаков к этой работе отнесся как к халтуре, делал все быстро, задней левой ногой, как говорится. Я вставил, что все хорошее, так и делается, по вдохновению, без мыслей о нетленке. Еще Достоевский говорил, что все поистине великое делается экспромтом. Я всячески расхваливал “Покровские ворота”, говорил, что это лучшая, выдающаяся, народная работа Козакова. Эта коммунальная квартира, этот любовный треугольник - Ульянова, Борцов, Равикович, этот блестящий куплетист, в концертном фраке и в бабочке, артист мосэстрады Аркадий Велюров... Броневой...
Когда выходишь на эстраду -
Стремиться нужно к одному:
Всем рассказать, не медля, надо -
Кто ты, зачем и почему.
За гуманизм и дело мира
Бесстрашно борется сатира.
Пусть на дворе осенний день -
Сатира разгоняет тень.
Броневой, на сцене в “ракушке”, как называли эстрады в парках, окидывает взглядом публику, и выдает новую порцию куплетов “друга, не побоюсь этого слова, популярнейшего поэта Соева”:
Вся Америка в страшном смятенье,
Эйзенхауэр болен войной,
Но в публичных своих выступленьях
Говорит, что за мир он стеной.
Пой, ласточка, пой!
Мир дышит весной.
Пусть поджигатель шипит и вопит -
Го-о-олубь летит!
Козаков посмеивается и, кажется, соглашается. Потом, подумав, говорит, что раньше сторонился, стеснялся этого фильма, как несерьезного, не “шекспировского”, но со временем понял, что это была настоящая удача. Время все расставляет по своим местам.
Вернулись к разговору об отъезде в Израиль, о еврейской теме. Козаков продолжил размышлять о “своем” круге; он, “наш”, как сказал Козаков, круг - явно или тайно - гордится местом евреев в мировой культуре, восхищается, к примеру, живописью Марка Шагала, с радостью обнаруживает, что не только Чарлз Спенсер Чаплин, Альберт Эйнштейн и Осип Мандельштам, но и Франц Кафка, и Джордж Гершвин одной с ними крови.
Лев Толстой в старости учил иврит, и даже однажды воскликнул: “Еврея любить трудно, но надо”. Но трудно было смириться Козакову с антисемитизмом Гоголя, Достоевского, Блока и главным образом гениального Антона Павловича Чехова. Сюда примкнул и Булгаков, которого Козаков любил так же, как и Чехова.
Однажды в Ленинграде на съемках фильма “Уникум” Козаков завтракал со Смоктуновским в ресторане гостиницы “Европейская”, и тот вдруг полушепотом сказал: “Миша! Как ты относишься к победам наших братьев там?” И, не дождавшись от Козакова ответа (Козаков судорожно соображал, почему Смоктуновский счел нужным именовать себя “их братом”), театральным шепотом закончил: “Не знаю, как ты, а я лично горжусь. Горжусь! Но, разумеется, это тайна. Никому (он показал своей длинной дланью куда-то на потолок) об этом ни звука. Тс-с-с!”
Смоктуновский много лет был женат на Суламифи, которая родилась в Израиле, может, поэтому он счел нужным именовать себя братом победивших израильтян. “Ожидовила его еврейка!” - скажет кто-то. В Ленинграде, где собирались в квартире Козаковых все эти Эйхенбаумы, Шварцы, Мариенгофы, жена последнего, актриса Анна Борисовна Никритина, шутя, говаривала матери Козакова: “Ожидовили мы тебя, Зойка!”
Я тут отвлекусь и скажу, что о Смоктуновском я знал другое и от других. Сам Смоктуновский чурался, как черт ладана, своего еврейства (о чем Козаков не говорит, а может быть, и считал Смоктуновского русским), по слухам, Смоктуновский изменял даже внешность (выправлял нос). Причем теща, дочь которой якобы “ожидовила” Смоктуновского, жила на одной лестничной площадке напротив двери моего тогдашнего приятеля Анатолия Кима. Однажды Ким возвращался домой. Видит на лестнице сидит человек, в котором Ким, когда тот поднял лицо, узнал - и оторопел - Смоктуновский. Ким пригласил его к себе. Показал рассказы, с которыми никак не мог пробиться. Смоктуновский взял их, а через пару месяцев они вышли в ленинградской “Авроре”. Так дебютировал кореец, пишущий по-русски. Такие вот бывают евреи. Вообще, одни из них выпирают свое еврейство или иудейство, что более правильно, ибо слово - еврей, происходит от слова “иерей”, что значит святой и является скорее русским прозвищем, чем определением национальности; да и вообще, я считаю, что еврейская тема лежит не в национальной, а в религиозной плоскости. Другие евреи носят русские фамилии, но изредка напоминают, что они евреи, и третьи - полностью ассимилируются, скрываются от еврейства, как от долгов, обрубают все корни.
С чем и Козаков согласен. Человеко-бог, Бого-человек по имени Иешуа Га-Ноцри, Иисус из Назарета, невесть какими судьбами переселился в Россию. Хотя, если подумать, можно понять, какими. С так называемой византийской (греческой) верой. Под греков, разумеется, маскировались евреи. Нечего знать, кто как называется. Впрочем, они и не маскировались: шли открыто в черных рясах, чернобородые иереи, обещая вечную жизнь... Бессмертие тем, кто поверит в Христа, правда, вечная жизнь не сейчас, а после смерти, за гробом. Простодушные русские и поверили, и забыли свою божественно-славянскую мифологию... Хотя князья огнем и мечом насаждали христианство, сжигали язычников на кострах... За еврейскую веру жгли русских... Вот где корень антисемитизма. В раздвоенности русского сознания. Погружен в еврейскую мифологию, верит в еврея Христа и... ненавидит евреев. Из жгучей ревности. Это походит на шизофрению.
К тому же, может быть, и римлянин скажет, что жиды распяли Христа, но вряд ли при этом добавит: нашего, итальянского. Хочется верить, что и подумать так - даже и про себя - он не может, хотя кто знает... Изображали же Мириам-Мадонну на фоне флорентийских пейзажей. А в сознании какой-то части русских прихожан дева Мария - русская Мария, ключник Шимон-Петр - просто Петр. Думаю, мысль о том, что все это, во всяком случае, изначально, чисто еврейская история, пусть и божественно-всемирного толка, вызвала бы недоверие, а может быть, гнев и даже злость некоторых русских прихожан: “Значит, даже Господь Бог наполовину ваш, еврейский! А где же наш, полностью наш Бог?!” Может быть, поэтому языческий Перун жив и по сей день в подсознании непросвещенной части паствы христианско-православной русской церкви. И бог Ярило жив не только в “Снегурочке” Островского.
Уже за этот мучительный поиск Божественной истины Толстой более чем его ниспровергатели, хулители с крайних православно-церковных позиций, достоин Царства Божьего. Он, если вдуматься, величайший и последний в России религиозно-философский писатель. Последующие - любимейшие Антон Павлович и Михаил Афанасьевич - каждый по-своему отошли в сторону от столбовой дороги, предложенной великим старцем. Чехов в этом смысле скромно затаился, схитрил, скрыл, счел нужным не писать ни о чем таком впрямую, даже в “Черном монахе” - лишь намеки... А Булгаков с его Пилатом, Воландом, Иешуа Га-Ноцри создал прельстительную, пленительную, утешительную великую ересь, скорее гетевского, нежели толстовского толка.
Потом Меламед повел нас по комнатам огромной дачи бывших командиров военно-морского флота, записанной на Пастернака. Самого Пастернака Козаков осторожно в “наш круг” не записывает, хотя это и без слов понятно. Русские даже в Парижской эмиграции не могли быть такими дружными, как евреи в России. Своего, даже мало-мальски талантливого, они будут раскручивать изо всех сил. А русских ванек раскручивать русские не будут, полагая, что они сами раскрутятся в силу своей демонической энергии и непредсказуемости.
Незаметно прошло время. Я сбегал к машине, принес свою книгу “Философия печали” и подарил ее с дарственной надписью Козакову. Народу собралось много. Меня познакомили с Анастасией Вертинской. Вообще, надо сказать, живьем я видел Козакова впервые и был в некоем трепете. Выдающийся он человек. Я с великим почтением отношусь к великим людям, потому что знаю, какого труда стоит это величие. Потом в доме заиграл рояль. А перед окнами дома начался концерт. Шелестела листва, пели птицы, пахло сиренью. Пришел холеный с бесцветными глазами пижон во всем белом и в шарфике - Вознесенский. Он и открыл вечер памяти Пастернака. Вспомнил. Это было 30 мая 1997 года. Потом читал Пастернака Козаков. Четко, твердо, ударно.
Потом все пошли на кладбище. Я же не пошел, хотя Блажеевский, обдавая меня перегаром, уговаривал остаться, потому что будет банкет. Блажеевскому хотелось еще поддать.
Я нажал на газ и через минуту был уже на Минке. Передо мной мчался на всех порах на мотоцикле с коляской Савранский. В коляске сидела Людочка... великолепная Елена Коренева...
“Наша улица”, № 6-2001
Юрий Кувалдин Собрание сочинений в 10 томах Издательство "Книжный сад", Москва, 2006, тираж 2000 экз. Том 10, стр. 219.
|
|
НАРОДНЫЙ ТЕНОР РОССИИ АНАТОЛИЙ ШАМАРДИН |
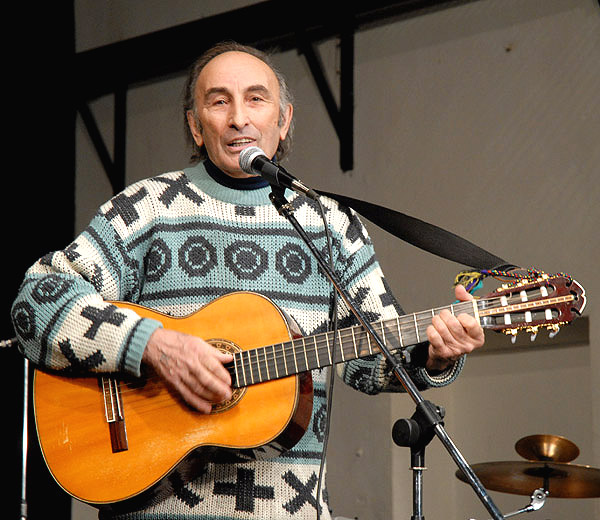
Анатолий Викторович Шамардин родился 11 января 1938 года в селе Ольгино на Ставрополье, вырос в греческом селе Хасаут, недалеко от Ольгино. Окончил Горьковский институт иностранных языков, преподавал немецкий и английский языки в разных вузах страны, читал лекции по лексикологии, стилистике и истории немецкого языка. Кроме того окончил очное отделение музыкального училища им. Октябрьской революции по классу вокала (ныне высший музыкальный колледж им. Альфреда Шнитке). В 1971 году был приглашен в оркестр Леонида Утесова в качестве солиста-вокалиста и работал в Росконцерте, в разных филармониях, объездил всю страну, пел песни народов мира и свои собственные на стихи известных поэтов и русские песни и романсы. Выступал с концертами в Европе, в Германии, в Греции и т. д. Автор множества статей, рассказов, эссе, переводов. Печатался в журналах «Наша улица», «Огонек», «Смена», «Турист», «Юность», в альманахах «Истоки, «Эолова арфа», в «Литературной газете», в газете «Слове» и др. Член Российского Союза профессиональных литераторов.

Нина Краснова и Анатолий Шамардин

Нина Краснова и Анатолий Шамардин

Нина Краснова и Анатолий Шамардин

Нина Краснова и Анатолий Шамардин

Нина Краснова и Анатолий Шамардин

Нина Краснова и Анатолий Шамардин

Нина Краснова и Анатолий Шамардин

Нина Краснова и Анатолий Шамардин

Нина Краснова и Анатолий Шамардин

Нина Краснова и Анатолий Шамардин

Анатолий Шамардин и Нина Краснова

Нина Краснова и Анатолий Шамардин
Анатолий Шамардин опровергает все устоявшиеся правила тенорового сольного пения, наполняя свой возвышенный религиозный голос семантикой надмирного понимания гармонии звуков, исходящих из самых потаённых глубин души, наделённой божественной искрой гениальности, равной свечению звёзд в ночном небе, близком и одновременно недосягаемом. Я полагаю, что такой же силой убедительности в трансцендентной сущности голосового эйдоса, правда, в другом диапазоне, обладал лишь стихийный и заземлённый Фёдор Шаляпин. То что певец Анатолий Шамардин самородок, говорить не приходится, об этом сказано много и аналитично поэтессой Ниной Красновой, я лишь напоминаю о том, певец поет не сам по себе, а по воле ангелов.
Юрий КУВАЛДИН
|
|
Они решили быть вместе |

Елена Георгиевна Троянова родилась 29 мая 1946 года в Москве. Окончила режиссерское отделение ЛГИТМИКа (Ленинградского Государственного Института Театра, Музыки и Кинематографии). С 1969 года работала на телевидении. Автор и режиссер большого числа передач и документальных фильмов, многие из которых отмечались премиями и призами. В 1991 году за фильм "В ожидании пришествия" получила приз "Серебряный Ангел" в Голливуде, а за серию документально-художественной ленты "Поэт в России - больше, чем поэт" (автор Е. Евтушенко), состоящую из 104 фильмов, в 1998 году вместе с творческой группой получила приз ТЭФИ. С 1999 года плодотворно сотрудничала с каналом "Культура". Автор фильма о диссиденте, поэте Вадиме Делоне (по сценарию Юрия Крохина), премьера которого состоялась в Париже в 2000 году. Опубликовала несколько материалов в "Нашей улице". В планах на 2002-2003 год стояло создание фильма об Анне Герман.
Умерла от тяжелой болезни 27 июля 2003 года. Похоронена на Ваганьковском кладбище.
Фильмография (выборочно)
1985 - "Три дня у Терентия Мальцева"
1991 - "Пережитое. Парад 7 ноября 1941 года"
1991 - "В ожидании пришествия"
1992 - "Другой Карабах"
1995 - 1998 - "Поэт в России - больше, чем поэт"
2000 - "Дуэль Вадима Дэлоне"
Елена Троянова
МОЙ ЖУРАВЛИК ЕЩЕ ЛЕТАЕТ
“Замуж выйдешь нескоро... уедешь на край света... родишь единственного сына и ...будешь богатой”, - бормотала старая цыганка, поколдовав на травах и бобах. Дело было в Находке на берегу Тихого океана. Тамара подумала: “Край света рядом. Замуж нескоро? Это бабушка загнула! Моя свадьба через два дня. А богатство наверняка будет, жених - морской летчик”, - и расплатилась с гадалкой, отдав ей свой единственный итальянский болоньевый плащ.
Пьетро де Кортона - известный художник эпохи Возрождения - называл себя по имени небольшого этрусского городка, существовавшего еще до Рима. И сегодня этот итальянский город известен своей историей, архитектурой, напряженной творческой жизнью. Здесь, в Кортоне, недалеко от собственного дома, в городском выставочном зале Тамара знакомила желающих с коллекцией своих картин, купленных в России:
- Картины - моя страсть. Когда-то была мысль всерьез заняться картинным бизнесом. Но, все взвесив, я поняла, что время упущено. Живопись - особый рынок. Кроме умения делать деньги, надо хорошо разбираться в искусстве. Я себя таким специалистом не считаю, хотя изучала историю искусств в университете. Покупая работу, руководствуясь внутренним чутьем. В основном, это картины художников пятидесятых годов, русские пейзажи.
Пока коллекция у Тамары небольшая. Больше сорока полотен. Кроме пейзажей, есть натюрморты и жанровые сцены. Одна редкая картина Афанасия Куликова, ученика Репина. Художник малоизвестный, но внесенный в художественную энциклопедию. Царский офицер стоит рядом с высоким плетеным креслом, на котором сидит в кружевном платье прелестная дама.
Интересная вещь! Афанасий Куликов, как выяснила Тамара, приходится дедом бывшему шефу КГБ Вадиму Бакатину, земляку Тамары, также не лишенному художественного дарования. Каждый раз, бывая в Москве, она думает позвонить Бакатину. Вдруг он не знает об этой картине деда?!
Тамара уверяла всех, что картины в доме необходимы. В то же время, для нее они капитал, который обеспечит будущее ее единственному сыну Рафаэлю. О нем Тамара беспокоится больше всего в жизни.
- Я хочу, чтобы он ни от кого не зависел, был самостоятелен. Сама же боюсь болезней, нищеты и старости. Боюсь быть в тягость, и, хотя пока мне энергии не занимать, мечтаю походить на свою бабушку. Ты знаешь, ей было восемьдесят лет, а она залезала на крышу сарая и сбрасывала оттуда снег...
Мы сидим с Тамарой в небольшой квартире, которая служит ей рабочим помещением, пьем чай и говорим о жизни.
Для Тамары бабушка и сегодня - “свет в окошке”. У дедушки и бабушки, раскулаченных и сосланных в глухую сибирскую деревню, она провела первые семь лет жизни. Дед брал Тамару на рыбалку, пескарей довить. Поймает дед рыбку, достанет чекушку, водки выпьет, сырой рыбкой закусит... Хорошо! И Тамару угостит. Поэтому и сегодня любит она кильку в любом виде.
У бабушки было хозяйство. Тамара полола огород, пасла гусей и уток, ходила на приемный пункт сдавать яйца, молоко и сметану. В деревенском клубе раз в неделю крутили кино. Входная плата - сырое яйцо. Яйца в семье выдавал дед. Он был бережлив. Не донесешь яйцо до клуба, другого не получишь. Первые в жизни вкусные фрукты - сочные яблоки, присланные соседям из далекой Белоруссии. Они получали их каждый новый год, и угощали всех деревенских ребятишек. Вот красотища-то была, чавканье стояло по всей деревне!
Тамара живет за границей больше двадцати лет. Что говорить о яблоках, когда ТАМ можно купить все, что сердце пожелает... Впрочем, все по - порядку.
Тамара была незаконнорожденной, и потому ее отправили к бабушке в деревню. Родители отца считали Тамарину маму неровней их сыну. Их союз они признали позже, когда родилось еще двое детей. Тамару вернули домой перед школой. Она отчаянно скучала по старикам, убегала из дому, училась на одни двойки.
Когда Тамара привыкла к родительскому дому, ей страшно хотелось танцевать. Но осуществить это желание было невозможным, хотя фигурка у девочки была тоненькая и маленькая Тамара была очень подвижной. Ближайший город, где был бы хоть какой-нибудь танцевальный кружок, находился далеко. Не судьба... Зато начитанная мама передала детям любовь к книгам. Их в доме по тем временам было немало, и мама считалась в поселке женщиной образованной.
Сегодня в Тамариной библиотеке в Кортоне более двух тысяч книг. После десятилетки Тамара уехала в Новосибирск. Без труда поступила в институт инженеров связи и продолжала учить французский язык, любовь к которому еще в школе ей привила старенькая учительница, из бывших дворян. В институте, влюбившись в пианиста из их студенческого ансамбля, Тамара неожиданно начала... петь. Узнав об этом, ее мама рассердилась и говорила, что дочка хочет хватать звезды с небес. Но Тамара улыбалась и говорила:
- Я из тех людей, что предпочитают гоняться за журавлем и не успокаиваются, поймав синицу. Мой журавлик еще летает.
Зал стонал от ее французских песен, низкого волнующего голоса, обсуждал распущенные ниже спины длинные черные волосы и декольтированное платье, взятое напрокат. Декан, побывав на одном из концертов, сказал Тамаре:
- Девочка моя, ты никогда не будешь инженером связи. - Не гадалка, а оказался прав!
Ансамбль вскоре разогнали и долго ругали его участников по комсомольской линии за чуждый репертуар. Жизнь дала трещину, любовь тоже.
Мама пианиста, она же супруга академика, категорически запретила сыну жениться на выскочке из деревни. Тамара и пианист расстались. Она ушла из института, не считая возможным встречаться с бывшим возлюбленным. Родители Тамары были в отчаянии. Дочь свихнулась. Решили наказать непокорную Тамару. Лишили ее тридцати рублей, которые присылали ежемесячно. Но это было только начало... Тамара поступила в театральный институт. Ушла. Затем в университет на лингвистический факультет, но тут, помните морского летчика?
Появился в Тамариной жизни морской летчик, влюбился в нее с первого взгляда и увез ее на Дальний восток.
А дальше - гадалка, два дня до свадьбы и... тут Тамара и сбежала.
- Представить, что вся моя жизнь будет подчиняться строгому распорядку военного городка, что в ней не будет места риску, - я не могла. Мне стало тошно и страшно. Ведь я уже тогда, ничего из себя не представляя, была человеком амбициозным. Да, морской летчик был и красивым и хорошим человеком, но уж слишком трезво относился к жизни. И я оказалась в Хабаровске. - Тамара посмотрела в окно на московские улицы. Город менялся каждый раз, когда она приезжала сюда. Теперь золотился огнями мост, около которого Тамара арендовала квартиру.
Тамара поступила в Хабаровске в инженерно-строительный институт. Из домашних о ее похождениях знала только бабушка и присылала своей любимице посылки, хотя имела крошечную пенсию. В общежитии подобрались отличные девчонки: учились хорошо, выступали в художественной самодеятельности, а вечерами подрабатывали - мыли подъезды. Но вскоре Тамара опять заскучала. Помните, у Чехова: “В Москву, в Москву!”. И Тамара отправилась в Москву.
В столице она как-то пристроилась, стала изучать испанский и подрабатывать на международных выставках. Пригодился французский язык. В этот год Тамаре исполнилось двадцать пять лет. “Самое время выйти замуж”, - решила она.
Через две недели молодой, красивый, неженатый итальянец Карло - как морской летчик, впрочем, как и пианист - влюбился в Тамару с первого взгляда. Придумал, что никогда не бывал в Москве, и она показывала Москву. Карло восхищался. Позже выяснилось, что это был его одиннадцатый приезд в Россию. Тамаре пришлось учить третий язык. Карло сделал предложение.
Для Тамариных родителей это было уже чересчур. Шел 1977 год. Отъезд за границу тогда расценивался как предательство Родины. Теперь уж точно - произошла катастрофа, думали родители, теперь уж точно - дочь обезумела!.. Они пили сердечные капли и стеснялись общаться с соседями.
- Думаю, что, если б я тогда не уехала с Карло, жизнь моя сложилась бы очень плохо. Нужно было найти выход моей бушевавшей энергии, реализовать ее. Отсутствие выхода достигло дикого напряжения. Мучило чувство неудовлетворенности. Я могла бы покончить жизнь самоубийством... Но тут и появился Карло. Видно, кто-то “наверху” следит за моими поступками и в самый нужный момент посылает мне соломинку.
Тамара готовила нам ужин. Больше всего на свете она любит дары моря: крабы, раки, устрицы, омары. Сегодня она решила угостить меня рисом с креветками и ананасами.
Я смотрела на нее. Она мне нравилась. Не была красавицей, но обаяние было всегда. Маленькая, худенькая шатенка в очках с приветливым взглядом. Воспитанная, но и настойчивая. Если чего-то захочет - добьется любого результата, Я думала о себе. Эмоции, энергии во мне тоже было предостаточно. Думаю, что была и сила воли. Но, когда дошло до дел, я спасовала. Хотела быть актрисой - не приняли. Поступила на режиссерский, хотя и не хотела. Надо было уйти - не ушла. Закончила институт. Влюбилась так, что на станции метро “Сокольники” рассекла себе лоб, ударившись головой о каменный косяк. Самое странное, что не получила сотрясения мозга, а тут же пошла рядом с мальчиком, который рассказывал ужасные глупости. Никогда не хотела работать на телевидении и отработала там много времени. В восемнадцать лет мне приснился сон, в котором мне показали моего мужа. Я помнила его всю жизнь. Но замуж вышла за кого-то другого... Родила ему дочь и счастлива этим всю жизнь. А мужчину собственной жизни встретила ближе к сорока годам. Не признала его. И только потом поняла, что сделала правильно, соединившись с ним.
Тамара уезжала в Италию насовсем. К ее приезду в Кортоне все было готово: новый дом был обставлен со вкусом - жених старался. Для провинциального городка приезд русской невесты оказался событием. Такого тут еще не бывало! Родители Карло приняли Тамару сдержанно и смотрели как на нечто экзотическое. Пусть бы румынка или венгерка, но русская?!
В Италии шло Рождество. Праздничное веселье, увитые лампочками деревья, сверкающие витрины магазинов и кафе, шумная, яркая толпа. Рядом прекрасный, любящий муж. Наконец-то, наконец-то началась настоящая жизнь!
Но... буквально через два месяца Тамара поняла, что слеплена из другого теста. Да и классический литературный итальянский типаж не совпадал с жизненным.
Общепринято думать, что итальянцы непрактичны и безалаберны. Тамара увидела другой характер - и достаточно практичный, и бережливый, и осторожный в выборе друзей. Что ж, решила она, приспособимся!
Тамара поступила в университет города Перуджи на литературно-философское отделение. Карло не возражал. Он работал в мэрии, в департаменте градостроительства. Устойчивое положение в обществе, определенный доход, размеренная жизнь - чего еще пожелать?! Может, успехов жене?
Тамаре везло на друзей и людей, что влияли на ее творческое развитие. Учась в университете, она стала работать в обществе “Италия - СССР”. Возила туристические группы, вместе с ними открывала для себя страну, участвовала в научных и культурных конференциях, приобретая новые знакомства и завязывая связи. Через шесть лет Тамара почувствовала себя равной в итальянском обществе. Закончив университет, она стала задумываться о другой, более интересной работе. Начала учить четвертый язык - английский. Дороги с Карло стали постепенно расходиться. Муж отдалялся, потому что в том мире, который создавала для себя Тамара, ему места не находилось. И, хотя были неоднократные попытки сблизиться заново и даже потянуть Карло за собой, сделать этого Тамаре не удалось.
- Я поняла: или надо принять условия мужа, его взгляд на жизнь, или - полный разрыв. Но поскольку стиль европейца компромисс, мне пришлось пойти на него. Тем самым я избежала разрыва с Карло, родила сына, но прежняя любовь не вернулась.
Тамара решила вступить в Международную федерацию переводчиков при ЮНЕСКО. Она сдала нелегкие экзамены и предоставила рекомендации пяти “крестных отцов”. Стала профессионалом высшего класса. Работала с политическими деятелями, где необходима юридическая ответственность за перевод. Для работы синхронным переводчиком требуется особое умение избавляться от ненужной информации, обладать, так называемой, короткой памятью. Тамара овладела этим в полной мере. Работая с промышленниками и коммерсантами, самое главное понять, с кем имеешь дело, и создать определенный микроклимат. Все это достигалось колоссальным напряжением. Порой казалось, что мозг не выдержит. И, действительно, через несколько лет врач поставит диагноз - интеллектуальное истощение. Тамара болела несколько месяцев. Потом начала работать дома, занималась письменными переводами, растила сына Рафаэля.
Но, как ни странно, Тамару не забыли. У нее была репутация человека, которому можно поручать серьезные дела. Ее порекомендовали известному промышленнику Г.
- Г. - человек слова и в то же время человек риска. Стопроцентный джентльмен. Он не только умел делать деньги, но был высоко образован, а ко мне относился как к дочери. У меня с мужчинами особый стиль взаимоотношений. И, хотя красавицей меня не назовешь, я их не завоевываю. Они как-то сами завоевываются! Без всяких усилий с моей стороны. Как говорят в России - я мужика не ищу. И подарки от мужчин не принимаю. Но однажды Г., зная мои принципы, устроил сюрприз. Наша работа продолжалась довольно долго, и он, желая отблагодарить меня, спросил, как бы между прочим, о моем заветном желании. Я сказала, что хотела бы поехать с сыном в Париж, хотя бы на неделю. Мы посмеялись и забыли об этом разговоре. И что ты думаешь?! Через несколько дней мы с Рафаэлем наслаждались Парижем, благодаря стараниям господина Г.
В России началась перестройка. Появились многочисленные контракты, договоры, советские хлынули в Италию. Тамара собиралась вместе с Г. на переговоры в нашу страну. По каким-то причинам их поездку отложили на некоторое время, и она приняла предложение крупной стекольной фирмы поработать в Венеции.
Стоял туман, горели сиреневые фонари, дворцы и дома отражались в каналах. Скользили гондолы. Шел карнавал. В тумане неожиданно появлялись и исчезали маски. Было прекрасно и сказочно. В этот вечер у Тамары появился Карл.
Любимая Венеция, любимый мужчина... В эти дни она получила предложение стать переводчиком в фирме Карла и консультантом по России. У русской Тамары и немца Карла оказались родственные души. Он был женат, она имела сложную семейную ситуацию, но это их не страшило. Они решили быть вместе. Тамара стала учить немецкий язык.
В бизнес она вошла не сразу, а лишь тогда, когда почувствовала, что совместные проекты вот-вот развалятся. Их финансовая группа занималась поставкой оборудования и выпуском стекла. В нее входило тридцать фирм различных технологических направлений.
- Я неплохо знаю положение дел в Италии. Благодаря друзьям и связям не оторвалась от России. Так что пришлось взять на себя то, что никто из итальянцев не потянул бы. Наконец я нашла выход своей энергии. Я работала много, снова с огромным напряжением, но и с удовольствием. Доверяла только себе. Небрежно выполненное поручение могло стоить нашей фирме потери клиентов. В бизнесе, как и во всяком другом деле, ценится профессионализм и надежность. Карл доверял мне. Поручал сложные переговоры и сложные задачи. А вечерами, когда мы садились ужинать, первое, что мы с ним съедали, были наши любимые яблоки. Здесь, в Москве он обожал нашу квартиру - ему нравились картины, которые я собирала, и ужины, которые я готовила.
Карл и Тамара давно приглядывались к недвижимости в Москве. До недавнего времени и подумать об этом было невозможно. Например, проект “Кузнецкий мост”. Квартал от Петровки, включая Дмитровский переулок. Здесь и особняк восемнадцатого века, перенаселенные жилые дома, требующие капитального ремонта, новое строительство. В общем, трудный проект. Но претендентов было предостаточно. Бороться против номенклатурных контор очень сложно. Некоторые проекты, едва начав двигаться, замирают. На “Кузнецкий мост” было потрачено много сил. Часто Карл впадал в отчаянье, Тамара проявляла мужской характер - но проект они проиграли.
- Бизнес в России - минное поле. Не знаешь, когда взорвется. И вообще там, где мужчине требуется одно усилие, женщине нужно десять. По моим наблюдениям, женщина-бизнесмен менее подвержена перепадам настроения и четко знает, чего она хочет. Когда она в бизнесе или политике достигает определенного уровня, надо отбросить все сомнения, иначе сметут и заново не поднимешься. Поэтому сверхзадача у женщины - устоять...
Тамара продолжала работать у Карла. Но в последнее время она все больше и больше задумывалась о собственном деле. Что же открыть? Антикварный магазин или картинную галерею? Одна австрийская фирма и представитель в России известной ювелирной фабрики предложили Тамаре стать соучредителем. Это в какой-то степени то, что она искала, - красота и деньги.
Квартира в Москве обставлена Тамарой мебелью пятидесятых годов, которую она нашла и отреставрировала. Мелодично бьют старинные часы. Стены увешены картинами. Кроме той прелестной дамы Афанасия Куликова, я разглядываю чудные пейзажи: мостик через речку, поляна в зеленом лесу и маленькие розовые цветы на опушке, грустная деревня, наверное, она напоминает Тамаре ее детство...
Тамара говорит по телефону. Она в строгом английском костюме и кремовой блузке.
- Знаешь, я хочу подарить твоей дочке несколько симпатичных вещей. Вот серая юбка с красивым поясом, а это несколько кофточек. Только обязательно скажи, что от меня, ладно? - попросила Тамара.
- Вот ты придешь к нам в гости и все ей подаришь, договорились? - попросила я.
- Хорошо, - согласилась она. - У меня не очень большой гардероб, но вещи дорогие. Арабско-турецкий шелк не для меня. - Она расчесала свои длинные коричневые волосы. - Никак не решу вопроса с прической. И хотя у меня прекрасный мастер, специалист международного класса, мы с ним каждый раз ругаемся. Я считаю, что он не находит модели, которая меня бы устроила. Я, наверное, вредная... слишком авторитарная, мне трудно угодить, но убедить можно. Думаю, буду ужасной свекровью, надеюсь, что это случится не скоро.
Скоро мы с Тамарой расстались. Не знаю, навсегда ли? Похоже, что Карл, испугавшись России, решил торговать на Западе. И, может быть, тот телефонный звонок был с Тамарой об этом. Она часто повторяла его имя, была расстроена, но ничего мне не сказала, а я и не спросила.
Последний раз мы виделись с Тамарой в конце весны. Она принесла вещи для моей дочери. Дочка вертелась перед зеркалом. Мы говорили о старинных вещах, которые так любила Тамара. Она увидела у нас картины начала века, которые мой дедушка привозил из Франции. На широком зеленом диване сидит молодая приятная женщина с печальным выражением лица и держит в правой руке зеркало в золоченой раме. Около нее сидит игрушка - шут, понурив голову. Когда я была маленькой, мне казалось, что в зеркале, которое висит над головой дамы, можно снова разглядеть такую же женщину с таким же печальным лицом. Мне было жалко молодости дамы, и я иногда плакала. Большое полотно 1918 года - в вазе стоят огромные, невероятных размеров розы. Подпись художника - Греков. Я показала ей красивое маленькое кресло девятнадцатого века, наполовину разломанное, с высокой спинкой, задние ножки на колесах. Тамара ахнула. Кому-то позвонила и хотела купить его у меня. Я ей его подарила. Она уезжала довольная и думала, что мы скоро встретимся.
Тамара прислала открытку на Новый год. Не звонила. Я пыталась звонить и писать ей. К телефону никто не подходил, обратной почты не было.
Когда я думаю о ней, я знаю, что она навещает своих родных в Сибири. Теперь они гордятся ею. И ведь сбылось предсказание старой гадалки.
Стала жить на краю света, растила единственного сына, обеспеченна. Умела и любила тратить деньги. Бывало, что терпела убытки, но знала, как контролировать такие ситуации, до какого предела можно дойти.
Когда мы расставались, она мне сказала:
- У меня будет много денег, я куплю себе дом в Альпах на берегу прозрачного озера. Будут плавать утки и лебеди. Лететь облака. А я буду сидеть на веранде в плетеном кресле и писать мемуары о собственной жизни. Я ведь тебе так мало рассказала. Тамара, мы встретимся?!
"НАША УЛИЦА", № 7-2001
|
|
она сильно походила на цыганку |
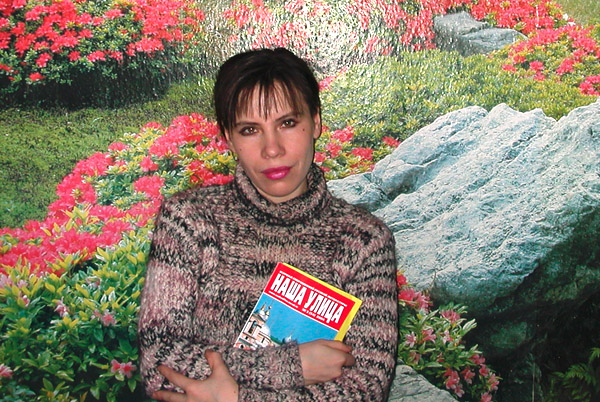
Анжела Ударцева родилась 25 мая 1975 года в Магадане. Окончила отделение журналистики Томского государственного университета. Влияние на творчество Анжелы Ударцевой оказали Эгон Э. Киш и Сергей Озун. Дебютировала в "Нашей улице" рассказом “Водки найду”, № 1-2000. Постоянный автор журнала. Рассказ "Чайная ложечка чаучу" опубликован в сборнике "Новые писатели России" (Фонд С. А. Филатова, издательство "Книжный сад", 2004). Живет в Магадане.
Анжела Ударцева
ЯНА
рассказ
Осень быстро наступает на Севере, особенно вблизи моря. От него тянуло холодом. Сентябрь внес в природу свои краски жизни. Небо стало серее, зато солнце как лезвием прорезало острыми лучами эту серую массу, и небо будто сочилось через раны золотистыми каплями. Сверкающие линии отражались в зеркале моря. Но Яна любила называть его не морем, а океаном. Да так многие привыкли считать, потому что по большому счету это так и есть - море - это всего лишь беговая дорожка к океану, бушующему и сыплющему как плюющий старик осколками зубов-айсбергов. Яна забралась в воду по самые ободки сапог. Прозрачная вода открывала вид разных камней...
Наверное, все так и подумали, что я - лесбиянка, - Яна, стирая в ванной, в большом тазике нижнее белье - и свое, и сына-холостяка, гнала эти мысли через мясорубку наступившего дня. Вчера было очень веселое застолье, и голова с утра пораньше как лакмусовая бумажка давала об этом знать. Смахнув с носа пену, Яна крикнула в коридор:
- Ван, я много чего вчера натворила?
19-летний сын Вова, сидя в зале на диване, обтачивал камень. Он старался превратить этот кусок желтого халцедона в розу. Ван, как ласково называла его мама и похожий на переросшего подростка в свои девятнадцать, так был увлечен работой, что высунул кончик языка, а уж матери на ее вопрос и вовсе ему не хотелось отвечать. Казалось, вот-вот с кончика языка юноши потечет от удовольствия слюна и затопит весь зал с его развалившейся мебелью. Несведущий подумал бы, что Ван не работает, а корчится от боли, если учесть, что левая рука представляла из себя засохший прут с двумя из пяти пальцами на конце. Но врожденная патология не мешала Вану творить прекрасные вещи, не только обтачивать камни, но и вырезать из кости мамонта или моржа просто чудеса.
- Ван! - последовал важный окрик, и его продолжил, как бы передразнивая мать, тихо и учтиво сын:
- Ван не глухой, ма. Ты вчера себя вела хорошо, как кошечка без острых коготков. Хорошо, если не считать, что ты раздарила полгардероба своих вещей.
- Что? - Яна в короткой красной юбочке выбежала на середину зала. Тут же к ней прижалась лохматая болонка Маня, делая вид, что не чувствует капающую на нее мыльную пену. Держа в руках предмет личного туалета и тревожно хлопая ресницами, Яна произнесла:
- А черное, с блестками платье я тоже подарила?
И она испуганно посмотрела на сына. Тот издевательски выдержал паузу, а потом парировал над рождающейся в его руке розой:
- К сожалению, да!
Ван аккуратно дунул на розу, и желтые пылинки осели на палас.
- Ван, сколько раз тебе говорю, - будь аккуратней, это ведь не мастерская, а наш дом, где мы спим, едим.
Хотя именно грязь в доме, а вернее творческий беспорядок ее волновал меньше всего. Она сама вчера до прихода гостей так насорила, толча в ступе камни и потом отсыпая получившимся песком на квадрате картона мордочку нерпы. И клей, на котором держался песок, блестел по всему паласу. Ее волновало другое, и она бубнила:
- Боже, все пропало, в чем я пойду? Нет, это ничтожно рассуждать про тряпки, да я их никогда не ценила, хоть и люблю красиво одеваться. Но в чем я пойду, черт возьми?
И Яна на минуту призадумалась и замерла, будто она компактная Эйфелева башня, только в коротенькой красной юбочке, сильно подчеркивающей ее тоненькие ножки, и с постиранным лифчиком в руке, занесенной над головой. Нытье продолжалось как в идиотской комедии:
- Боже, все пропало, через пять часов, нет, через пять часов и десять минут у меня будет важная встреча. Как раз по поводу поездки в Москву на выставку и открытия нашей мастерской здесь, в нашем городишке. Ван, не пойду же я в трусах.
- А что, идея, может, больше денег дадут, - рассмеялся сын, - у тебя фигурка-то - ничего.
- Слушай, не издевайся над бедным художником, тем более что этот художник - твоя мать. Черт побери, как можно было так напиться, чтобы подарить именно это, а не другое платье?
- Успокойся, твое черное на месте. Ты его не успела подарить. Гости в изрядном подпитии стали расходиться. Осталась нянечка Люда, ты ей предложила раздеться, а потом стала ее уговаривать, чтобы она поработала у тебя натурщицей, и ты все восхищалась ее округлыми грудями, а про свои говорила - плоские как у ползающей гусеницы. Люда тебя, кажется, за лесбиянку приняла. Что-то бурчала, якобы лучше мужичка себе, хоть незавидного какого завела, а то даже на женщин бросаешься.
- Ну дела, ну деревня. А куда мне от этой деревни деться. Люблю я наш северный портовый городок. Фу, Ван, значит, платье на месте. Кажется, жизнь налаживается. А ты больше свои приколы на мне не экспериментируй. Ты меня на тридцать лет младше.
Яна с демонстративным видом отправилась стирать дальше, думая, если бы не вчерашний вечер с гулянкой, она бы уже закончила картину с нерпой. Нет, ей, видите ли, погулять захотелось, да так, что это обернулось полной фазой "на мели" для и без того скудного семейного бюджета. А одна картина - шабашка, как-никак стоит три штуки. Не баксов, но все же. А еще эта Нинка-нытик навязалась. С нее местное управление культуры (а по меркам Яны - бескультурья) выставку работ требует. А у нее и нет ничего эстетичного. Просит у Яны помощи - картины подработать, чтобы было, что на публику выставлять. Смех, а не Нинка. Карьеристка эта Нинка, в центре внимания хочет быть. Даже срисовать по кальке ровно не может. Одни ее куропатки кривоногие чего стоят. Профанация, блин.
В дверь постучались. На пороге стояла крупных габаритов дамочка. Ее пухлые губки были красиво и выразительно обведены контурным карандашом красного цвета. "И что я не лесбиянка?" - поглядывая на губки гостьи, подумала Яна. Та к пышной груди прижимала небольшую картонку. Вернее, это была картина. С настоящей основой для картины в этом городишке были проблемы. Поэтому холст заменял любой твердый картон.
- Лидочка, солнышко, проходи на кухню, поставь кофе. Я сейчас закончу принимать джакузи с шампанским.
Гостья, улыбкой отреагировав на шутку хозяйки, прошла в кухню и стала гладить кота Гроса. Черное животное, чем-то смахивающее на булгаковского кота, и не думало уступить стул вошедшей. А раскосые темные глаза словно вопрошали: "Чего приперлась, тебя еще тут не хватало?"
- Нет, она, эта нянечка Людка, точно подумает, что я - лесбиянка, - окончив курсы стирки и теперь потягивая кофе, говорила Яна гостье, - и Нинка-карьеристка из управления культуры все видела. Она как бацилла сплетни по городу разнесет. Все от нее отвязаться не могу, клеится и клеится ко мне. Она про меня сплетни разводит, а я ей помогаю картины подделывать. Не дура ли я? Так вот, вытащила я из шкафа свое платье и говорю, раздевайся. Людка сначала нормально это восприняла, а когда она сняла свою блузу, я говорю - сними лифчик. Она так удивилась. Но стянула его с себя. Мне предстали два упругих персика. Я их стала трогать. Причем я думала о статуэтке с такой грудью, а не об интиме. А Людка вскрикнула и стала, ошарашенная, одеваться. Я потом ее успокоила, - объясняла, Люда, приди ко мне как натурщица. Мне именно твоя грудь - для вдохновения нужна. Или статуэтку из камня выточу или картину с каменной крошкой сделаю. Такие вещи, особенно богатые мужики любят. Помнишь, я картину из камня сделала - "Женщина-кинжал". Часть женской фигуры плавно перетекает в кинжал. У этой картины и другое было название "Коварство". Так из-за нее аукцион устроили.
- Ой, а я ж тебе свое произведение принесла, посмотри, - сказала Лида и развернула целлофановый пакет, в котором лежала картонку.
Яна напряглась, как пантера, вглядываясь в произведение своей ученицы.
- Что ж, Лида, неплохо. Всего вторая работа, а ты делаешь успехи. Горы я тебе высвечу сама, речку тоже. Тундра получилась у тебя неплохо.
- Неплохо, неплохо, скупа же ты на похвалы, - и Лида сомкнула губки бантиком. Вот-вот, казалось, что сорокалетняя пышнотелая женщина заплачет, как маленький ребенок, чихнувший в песочнице.
- Ну, молодец, - улыбнулась Яна, а про себя подумала: "Души в этой картине ни капли нет. Темная она, несмотря на всю светлость красок. Шабашить Лида хочет, как и Нинка, только последней еще и славу, и признание подавай. Эта хоть на лавры гения не метит. Денег лишь подзаработать хочет. А зацепилась я за Лиду, потому что старается она", - а вслух продолжала:
- Главное, если увлечешься, Лидочка, этим, то без куска хлеба не останешься. Хотя ты и в своем магазине продавцом неплохо зарабатываешь. Вот эта твоя картонка на штуку-полторы, если ее довести до ума потянет. Ремесло, оно всегда в цене. Ты - прижимистая баба, не мягкотелая, как я. Это я - человек настроения. Могу неделями творить чудо-картину, глаза портить по ночам. А потом взять и просто ее подарить. Бывает такое, что не могу продать, как одержимая хочу подарить - и все! А картина эта стоит тысяч десять-пятнадцать, но я просто дарю. Не могу я свою жизнь в одну шабашку превращать. Вон то же "Коварство" подарила. Не смогла я взять за женщину-кинжал ни копейки. Сколько моих подруг за рубежом живут. Эльку помнишь, тоже ее в искусство потянуло, пришла ко мне поучиться. Через меня с иностранцем познакомилась. А сама ведь страшненькая - маленькая, с большим носом, грудей нет, ноги кривые, глаза косые. Ничего, недавно из Голландии письмо прислала с фоткой. Думаю, что за Памелла Андерсен. А это Элька себе силиконовые груди сделала, ноги выпрямила и удлинила, нос переделала, веки подтянула. Просто куколка Барби. А я продаваться не могу, и свои картины не всегда могу - они ведь как продолжение моей души и тела.
- И дура поэтому, - сказала Лида, - а ведь ходила бы в золоте да брильянтах. На таких престижных выставках первые места занимала. Заграницу сколько раз тебе предлагали работать тебе. Не понимаю я тебя, для чего себя бережешь? Я все же, Яна, сразу о своих помыслах сказала - хочу зарабатывать на картинах, с помощью их с влиятельными людьми знакомиться. А за так в наше время и прыщ не вскочит. Вон, Роман Абрамович у нас - губернатор. Просто так, что ли приехал работать на Чукотку? А ты для него картину делала, просили тебя знакомые из окружного центра. Да они на тебе наварились, а ты копейки за нее получила. О тебе Абрамович и знать не знает, что это твоя картина. Разве так в наше время можно. Да я бы, если имела такой талант как у тебя, зря бы время не теряла, и не раздаривала бы свои шедевры. Никто ведь такой уникальной техникой как ты не пишет картины - зверское это мучение. Я всего две картины сделала, а пальцы болят, будто их молотком поотбивали. Это же не просто сидеть, да кистью малевать. И то - это труд, я все сады в городе, все школы обрисовывала - и стеклянные двери, и стены - по трафаретам. Было время, когда методистом работала, и кружок художественный приходилось вести. А тут картины по твоему методу делать - это же адский труд. Ты точно скоро ослепнешь и без пальцев останешься. Это же надо каждый камешек размолоть в ступе, потом промыть, просушить, просеять. И подготовив холст, смазывая его грунтовкой, клеем, потихоньку сыпать каменный песочек, не ошибаясь в тонах. Надо же знать, где халцедоновый песок сыпать, где малахитовый, где агату подбавить, чтобы и сопки, и животные, и люди были, как в натуре. И несколько раз нужно посыпать, чтобы выпуклость, рельефность была. Я сама испытала, как трудно в цветах разбираться, чтобы был именно тон тундры, гор или моря, или рек, или медведей, оленей, нерп и моржей этих чертовых. Ослепнуть можно.
- А мне уже врачи поставили катаракту, - сказала Яна. - Но мне все равно. Хоть слепая буду свои картины делать. Как в монастыре молятся, так я картины пишу - тоже молитва. У меня и образок один из камней выложен. Мне Бог помог, а иначе я бы сама не смогла нужные цвета камней подобрать - даже для глаз и бороды есть, представляешь. Только все никак не доделаю этот образок, это ж надо особое настроение. А не смогу создавать картины - руки на себя наложу. Нет, или лучше писать буду, как Хемингуэй. Он, когда ослеп, такие вещи писал! И у меня чутье, может, обострится, когда ослепну.
- Ну, ты скажешь! - воскликнула Лида. - Не ослепнешь, чего раньше времени панику поднимаешь. Я это говорю к тому, чтобы берегла себя, зря не жгла душу. Ты вон популярной становишься. Вон в Америке первое место заняла за работу из камня. Только не понимаю, что ты эту работу американцам не продала, десять тыщ баксов предлагали за какую-то виноградную гроздь из агата. Умереть и не встать. А ты Гальскому почти задаром отдала. Ум у тебя есть?
- Гальский мне помог вывезти эту работу на выставку, - сказала Яна. - Гальский и сейчас обещает помочь. Он - человек, ты ничего не понимаешь, при всех его куражах, он - человек!
- Он - жадный мешок с деньгами, - сказала Лида. - А ты на деньги америкашек сама бы могла развернуться. Тебе скоро пятьдесят стукнет, а ты девчонка-девчонкой.
Яна замерла, о чем-то задумавшись. Ее большие черные глаза, помещенные в уже слегка морщинистые мешочки кожи, скрывали грусть. Мысли ее вернули к прошлому - вот она под куполом киевского цирка на высоте 13 метров замыкает колонну из четырех человек, стоящую на канате. Она - самая верхняя канатоходка выполняет гимнастическую стойку, держась руками за голову нижестоящего партнера. Напряжение всех канатоходцев передается ей как электрический ток. Лишнее движение, и все полетят к чертовой матери вниз. Только она может видеть лица, глаза нижестоящих партнеров. Им-то нельзя поднимать головы, а она смотрит вниз. У одного из них на ресницах были капельки - то ли пота, то ли слез... Ходьба по канату и в жизни приучила шагать как по проволоке, даже когда она оставила цирк. Яна смотрела в окна через голову Лиды, рыхлые щечки гостьи покрылись жирным лоском, будто их кто-то специально натер маслом.
- Ты, че, медитируешь, Янка? - хлебнув кофе и затянув сигарету, спросила подруга. Она сидела нога на ногу, выпячивая крупные икры.
- Выходи замуж за моего сына, Лидка.
- Ты смеешься, он меня на пятнадцать лет младше. Ему всего 19 лет
- Он тебя любит, мне говорил. Зато ты уже сформированная баба - без глупостей, от измен уставшая. Да, Ван? Ван, ты слышишь?
- А, мам, - послышалось из зала, - ты снова про свадьбу с Лидией Федоровной, - Ван зашел в кухню, держа в одной руке недоделанную розу, а в другой сигарету, - не, мам, мы хоть друг другу и нравимся, но решили жить параллельно. Ну и что - что целовались? Мне нравится одна женщина, другая.
- Не вздумай ей эту розу дарить, этот цветок начинала я, сам видишь, его осталось только обработать. Он должен быть дома, как память.
- Какая память? - удивился Ван.
- Это я просто к слову сказала, не придирайся. Яна вздохнула и подошла к углу кухни. Там стояли электрические весы. Скинув тапочки, она встала на них, стрелка остановилась на 44 килограммах. Надо же, такой же вес, как и 25 лет назад, когда она парила как птица под куполом цирка.
Подруга только хихикнула, сказав, что у нее только одна ляжка весит, как Яна.
- Я за тебя беспокоюсь, сын, - произнесла Яна, - знай это. Если бы та, твоя другая была такой же спокойной, как Лида, а не блядской, то дай Бог. За твое будущее - кусок хлеба - я не переживаю. Ты хороший художник, косторез, - и всегда у тебя будут деньги на пропитание. Но чтобы бабы тебя не обманывали - вот за что я боюсь, инвалидушка ты мой.
- Не называй меня так, ма. Я когда-нибудь сделаю операцию на левой руке - и все пальцы будут на месте. Я как Фаберже золото во рту буду прятать или в борще.
- Во-первых, это был не Фаберже, а его последователь - он из русских. Да и где ты золото возьмешь, мечтатель? Эх, если бы бывший муж - твой отец меня не колотил по животу, когда я была беременная от него, то твоя рука бы не усохла. Ну и Бог с ним, его Господь тоже наказал.
И глаза мужа - большие, с крупными ресницами, как у Вана, будто нарисовались в отражении окна. Цирк оставила, но цирк был дома. Дом был на краю земли - на Чукотке, у самой кромки океана, распростертого прямо под окнами. После большого с привычным шумом и толпами Киева, где она провела годы студенчества, маленький как наперсток поселок казался суровым под тяжелым свинцовым небом и опустевшим. Но ведь он был родным, не всем дано появиться на свет в каком-нибудь крупном городе, как и не дано всем иметь хоромы и много денег. Разведясь с мужем - геологом, она влюбилась в обычного работягу. Он был как контраст бывшему мужу - невысокий, полноватый, с широкой грудью. Только позднее она разгадала, что в нем было столько же лени, сколько и веса. Он, лежа в ее квартире на диване, так встречал и провожал дни. А тут как снег на голову - бывший муж обморозил в тундре руки, ему ампутировали кисти и ухаживать за ним некому. Яна забрала его из больницы к себе домой. Нередко, поднимая култышки к горлу полноватого хахаля Гены, Денис хотел удушить нового ухажера Яны. Но все заканчивалось тем, что оба мужика, выпросив на бутылку денег у Яны, вырученных с продажи картины, пели "Эх, дороги" дуэтом. Да так, что злили своим бесшабашным воем соседей. Яне эти цирковые номера надоедали. Она понимала, что муж на Севере никому не нужен - как геолог он себя исчерпал, не приживется со своими культями и как пенсионер. Забыв про все, она бегала по кабинетам местной администрации, хлопоча и по поводу пенсии по инвалидности, и по поводу жилищной субсидии, чтобы мужу дали как северянину со стажем квартиру на материке. Пенсию выбила, задарив пару картин, а с выбиванием квартиры было сложно. Ей казалось, что в ее разваливающемся поселке на краю света, откуда многие бежали, как крысы с корабля, жилищные проблемы решались только по блату. И вдруг, как помощь Бога - в их задрипаный поселок приезжает сам губернатор Чукотки Абрамович. Приехал посмотреть олигарх, как живут его избиратели. И часы приема не пожалел выделить для обычных граждан. К нему как в мавзолей пошли люди. Яна среди них как муравьишка - неприметная, в небольшой дубленке с вязаной шапочкой на голове. Не женщина, а подросток. Пробиться к олигарху было тяжело. Уже закончился прием, и местные чиновники зло одернув Яну, сказали, куда лезешь, прием закончен. И случайно Роман Аркадьевич проходил мимо. Яна что-то пролепетала, чувствуя, что у нее сперло дыхание. Он широко улыбнулся и выслушал эту маленькую хрупкую женщину. Яна ничего не просила для себя, только для бывшего мужа. Она сама удивилась тому, как хвалила бывшего супруга, как много рассказала о его геологических подвигах в деле открытия месторождений. И через полторы недели бывший муж Яны получил извещение о том, что ему предоставлена квартира в Подмосковье. Он плакал и не верил, что такое возможно. Он думал, что ему грозит лишь пьяная смерть на зимней трассе Чукотки. Яна не пошла его провожать, только сын. Ван с ним и сейчас созванивается. У бывшего мужа все хорошо, даже подженился. Яна еще раз провела взглядом по двухпальцевой руке Вана. Ничего не сделаешь, врожденная патология. Слишком больно бил кулаками в живот бывший муж, а теперь нет у него кулаков, и никогда не будет. И все же патология Вана не мешала ему быть обаятельным, тем более двумя пальцами, как клешнями, он старался делать многие дела по хозяйству, да и когда камень или кость режет, тоже с помощью ее способствует здоровой руке. Улыбка у Вана обаятельная. Глаза - голубые, как у отца. Аккуратный носик и тонкие губы достались от мамы. Высокий, худощавый как истинный художник.
- Ладно, пойду работать, - и Ван снова удалился с розой в зал.
Лида тоже засобиралась домой, ссылаясь на то, что у Яны ничего путного дома нет поесть. Одни макароны. То ли дело у нее и колбаса дома, и сыр. Как никак в магазине работает. Всегда при еде. Яна тоже стала натягивать сапоги, только не кожаные с бляшками, как у Лиды, а резиновые, подростковые. Она решила пойти на море - собирать камни для новых картин.
- Мам, ты бы эту картину закончила, - стал останавливать ее Ван, показывая на незаконченное творение - лежбище моржей, - тебе же хватит материала.
- Мне надо туда немного белого халцедона, а у меня его нет, пойду, поищу.
На берегу моря Яна выгнула позвоночник и будто хотела нырнуть в холодные волны Восточно-Сибирского моря, впадающего в Северно-Ледовитый океан. Вдали стоял как страж ледокол "Макаров". Он ожидал суда, которые должны были еще зайти в нынешнюю навигацию.
Глядя на ледокол, Яна произнесла:
- Может, утонуть, - уйти куда-нибудь туда, в другой мир? Нет, нет, я говорю ерунду...
И женщина подхватила один камень, потом другой и положила их в пакет. Вода была холодной, как лед. Но Яна пригнулась, водя рукой по воде и думая: "Папа, почему я тебя никогда не видела. Как страшно не знать своего отца".
Яна и маму свою увидела только перед смертью. Всю жизнь они жили в одном поселке, но мама никогда не говорила, что Яна - ее дочь. Лишь умирая, мать попросила соседку, чтобы та позвала местную художницу. Яна никогда не могла подумать, что продавщица одного их поселкового магазина и есть ее мама. Яна неделю после смерти матери не могла есть.
А отец? Мать созналась Яне, что не знает, кто ее отец. А позвала дочь, когда умирала, потому что та снилась ей три раза, все говорила: "Мама, позови меня перед смертью тебя повидать". Вот и позвала мать Яну. Это спустя 48 лет после рождения дочери. Яна снова провела рукой по ледяной морской воде и вздохнула. Матери вот уже как два года нет. Отца, значит, Яна никогда не увидит - нет ни фотографии, ни даже фамилии. Хотя можно было бы построить свою жизнь на том, чтобы собрать адресочки ухажеров матери и ходить-ездить по ним. Проводить экспертизу ДНК. Да уж... Яна разглядывала отражение своего лица в воде. "Папик, а может, ты у меня - сын русалки, а? Я иду к тебе".
И сильно ударив рукой по воде, так что брызги покрыли все лицо Яны, она выпрямилась. Близилось время официальной встречи со спонсором. Яна набрала полпакета камней. Они были разных цветов и, наверное, как и люди, разных характеров. Ведь одни камни легче толочь в ступе, другие - тяжело. Один из камней - черный, женщина взяла двумя пальцами и подняла вверх. Смотрела на него, прищурив глаз. На небе, как на десне, кровавая полоса, устремившаяся стрелой к горизонту. Камень был похож на змеиную голову. Поздно вечером этот камень будет в ступе размельчен в порошок. "А может это я? Да, да, каждый человек - это камень. И каждого жизнь толчет в своей ступе, потихоньку превращая в песок", - философствовала Яна. Но больше ее тревожило другое - мысль о том, что спонсор захочет с ней близости. И тогда, если Яна откажет, то не получит денег ни на поездку, ни на организацию мастерской. У нее в глазах стояли слезы, волосы - длинные, черные растрепались, она нервными движениями рук раскрыла пакет и разом выкинула камни в воду. Они разлетелись и снова скрылись под водой.
Выйдя на берег, Яна присела на валежник и зарыдала. Было тихо и безлюдно на берегу. Где-то надрывно кричала чайка, и ее крик еще сильнее расстроил художницу.
- Все, не могу больше. Возьму и утону, верну себя в небытие как наполовину истолченный камень. И буду лежать в воде вечно. Надоело есть макароны, поджаренные на подсолнечном масле. Надоело покупать дешевые вещи, надоело и сына одевать во что попало. Считать копейки, и растрачивать свой талант на шабашки. Торговать как семечками своими картинами, чтобы потом деньги тратить на жратву. Устала! Все, утону, и буду камнем лежать в воде.
Яна распушила свои волосы, бросив в сторону заколку. С распущенными волосами она сильно походила на цыганку - большие темно-синие глаза выразительно смотрели вдаль. Горячие слезы обжигали лицо.
"А муж, - рассуждала Яна, - с ним давно порвалась духовная связь. Он нашел себе другую, - молодую, хоть сам и инвалид... И живет теперь он на материке под теплым, а не холодным как здесь, на Севере, солнцем. Но я люблю Север, Чукотку, свой грустный поселок на краю земли, откуда все бегут, получая субсидии на материковское жилье, или живут мечтами получить эту заветную субсидию. Но, начиная бегство, они вспоминают о душе, идут заказывать у меня картины, как память о прожитом здесь времени. И я шабашу, дешевая ремесленница. А надо работать на выставку. Время идет. Все потом, да? Когда потом? Я не успею выразить свою гениальность - растрачиваюсь попусту, чтобы с голода лишь не сдохнуть. А разве это жизнь, и разве это оправдание? Значит, надо умереть. Утонуть камнем. Все мы люди-камни. Камни - и не более того - белые, черные. Драгоценные, дешевые, но камни..."
Подул ветер. Но Яна сбросила куртку и снова направилась к воде.
- Вот и все кончено! - говорила она небу. - Я возвращаюсь в воду, откуда пришла. Прощай земля, здравствуй вода. И люби ты спонсор других баб.
Яна, отрешенная вошла в воду. Если повезет, то ее тело выбросит на берег, а нет - съедят рыбы. Она вздрогнула, - еще сделать шаг - и вода будет выше колен. Ее кто-то схватил за рукав, и она автоматически повернула голову. Это был Ван. Он широко улыбался.
- Зачем ты здесь? - строго спросила мама, вытирая выступивший пот со лба.
- Мам, я случайно. Тут ты как ушла, принесли пакет для тебя. Я не стерпел, раскрыл его. А там деньги, и записка от спонсора, что он срочно уезжает за рубеж, и ваша сегодняшняя встреча отменяется.
Яна, зачерпнув рукой морской воды, прополоскала пересохший рот. Соленой водой охладила и щеки. Она обняла сына, ничего не подозревающего о ее неосуществленном суициде сына.
- Ну что у нас на вечер? Макароны? - сказала она, положив на плечо сына голову.
- Мам, сегодня можно и колбасы купить. Спонсору понравилась твоя картина, он за нее заплатил двойную сумму.
Ветер развевал их одежды, скрипел песок под их ногами. Завтра Яна придет сюда снова - чтобы собрать камни.
Певек, Чукотка
"НАША УЛИЦА", № 2-2005
|
|
Что такое "национальность", я спрашивать не стал |

Игорь Шестков родился 12 января 1956 года в Москве. Окончил механико-математический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова. Эмигрировал в Германию 1990. В "Нашей улице" опубликовал ряд рассказов.
Игорь Шестков
ТРИ СМЕРТИ
рассказы
ПОД МОСКВОЙ
Вспоминается деревня Красново, вытянувшаяся вдоль берега Можайского моря. Дом отдыха, Старый корпус. Столовая в подвале. Официантки, несущие тяжелые подносы на плечах. На подносах - в несколько слоев - железные миски с обжигающе горячим борщом, тарелки с макаронами и маленькими кусочками плохо прожаренного мяса. У официанток красные потные лица. В вонючей подвальной кухне жарко. Отуда доносится стук, звон, ругань. Там повара.
Бабушка выбирала столик, чтобы "не на проходе и у Настюшки". Официантку Настюшку жалели, ее муж дома бил, потом сел. На Настюшке осталось двое детей. Она страдала какой-то неизлечимой женской болезнью. Ее красивое русское лицо часто искривлялось в гримасе боли.
Настюшкужалели, но, вот странно, никому из отдыхающих профессоров университета не приходила в голову мысль, что таскать тяжеленные деревянные подносы - работа унизительная, адская. Не женская. Что барщину надо обличать не в "проклятом прошлом", а в самом что ни на есть актуальном развитом социализме. Чиновничьи и профессорские жены с отпрысками даже не подозревали, как их ненавидели официантки, повара, горничные, да и вся огромная деревня Красново, в которой не было ни одного не сидевшего хотя бы раз в тюрьме главы семьи. Хорошо еще, что Дом отдыха был для деревенских кормушкой. Там можно было подработать. Там было кино, настольный теннис, там играли в волейбол. Поэтому деревенские его терпели - русская деревня всегда жила не только тяжелым трудом, но и попрошайничеством и разбоем.
Когда-то Старый корпус был домом для престарелых слуг какого-то вельможи. Рассказывали, что во время Гражданской войны там была тюрьма местного отделения ЧК. Там будто бы пытали и расстреливали. Во время Отечественной в подвале Старого корпуса якобы было Гестапо. В Старом корпусе стоял биллиардный стол. С сухим треском стукались лбами тяжелые шары цвета слоновой кости. Профессора и доценты играли и острили. Крякали после удара. Припоминается напряженное ожидание вестей из Праги в августе 1968-го. В биллиардной установили тогда приемник. Слушали его молча. На лицах некоторых мужчин играли желваки - их душил гнев бессилия. Другие были довольны. Конец Пражской весны был для многих концом ожиданий добрых перемен в СССР.
Был и телевизор. Помню, ждали комедии. Но вместо комедии начали передавать речь Брежнева с какого-то пленума. Все думали - он поговорит, а потом включат фильм. Он говорил три часа. Разошлись, не дождавшись конца речи. До конца дослушал только один глухой старичок. Он заснул и проснулся один в телевизионной комнате. С постамента к нему обращался на своем гакающем русском языке генсек "лично".
Я подолгу рассматривал берега Можайского моря. В подаренный мне дедушкой полевой бинокль. Видел поросшие кустарником берега, березы, сосны, пологие холмы на горизонте, плотину, дорогу. Я знал, что дорога ведет в Бородино. Оттуда как бы слышались ружейные выстрелы. На дороге стояла заброшенная церковь с покосившимся крестом, в которой тогда еще висел никому не нужный наполовину сгоревший иконостас с большими вертикальными иконами. Я воображал, что могу свободно лететь сквозь пространство. И улетал на другой берег.
Тут все казалось странным. Потому что на самом деле меня нет, но вот, я перелетаю с сосны на сосну, выхожу на дорогу, бросаю камешек в морду репейника, заглядываю через пролом в стене в церковь. Там, в высоте - искаженное мукой лицо распятого Христа. Я легко взлетаю на купол церкви, вглядываюсь оттуда в даль. Вижу туманное горячее марево, в котором копошатся оптические черви, шелкопряды судьбы.
Каждый цветок, кустик, каждое дерево, торчащее из воды, каждая его ветка представлялись мне звуком, буквой, словом зашифрованной в ландшафте фразы. Эти сообщения влекли как тайна, как клад. Хотелось их слушать, разгадывать, читать. И я читал и слушал и летал с одного слова на другое, наслаждаясь свободой и легкостью полета. Знакомый тополь долдонил - день, день, день. Огромное, затопленное дерево, выбросившее из-под воды серые мертвые ветки, вторило - ох, ох, август, лету конец...
Мама подарила мне большую подзорную трубу. Это был прекрасный инструмент, предназначенный для протыкания глазом пустоты вселенной. Тяжелая, холодная сталь радовала пальцы, а просветленная оптика катапультировала меня гораздо дальше, чем старенький бинокль - на звезды. Я любил холодный синеватый эфир ночного неба. Меня влекли границы реальности, нейтральные зоны между мирами. До сих пор мой двойник блуждает где-то в Плеядах и ищет там моих дорогих умерших, грязную деревню Красново и вонючее зеленое Можайское море.
Бабушка ходила со мной в лес. Там мы находили уютное местечко в тени. На полянке. Раскладывали одеяло. Солнце пекло. По голубому небу плыли белые облака. Тихо звенели комары. Бабушка читала. А я смотрел в траву. Делался маленьким. Бибигоном. Трава становилась джунглями, Бразилией. Там я сражался с жуками и кузнечиками. Искал израненную злыми насекомыми девочку. Маленькую куколку, вылепленную из глины и ожившую. Строил для нее домик и травяную постельку. Прокладывал дороги и разбивал миниатюрные прудики, куда выливал, к неудовольствию бабушки, остатки воды из фляжки. Приготавливал из лепестков повязки, чтобы лечить ей ранки от порезов и уколов. Ее глиняное тело превращалось в настоящее, человеческое и я обнимал ее и погружался в эротическое блаженство.
Там же в лесу, недалеко от деревни Красново я испытал сексуальное потрясение другого рода, воспоминание о котором мучает меня до сих пор.
Я гулял в лесу один, просто так, без цели. Мечтал. Вдруг я заметил что-то движущееся метрах в двадцати от меня. Инстинкт самосохранения заставил пригнуться и затаиться. До меня донеслось душераздирающее мяуканье. Я тихо подошел поближе. На траве лежали двое. Одетый в ватник на голое тело пастух петушил деревенского дурачка Фофана, сына Настюшки. В руках у Фофана была веревка, перекинутая через сук сухого дерева. На другом конце веревки болтался, судорожно перебирая лапами, повешенный на ней за половые органы вниз головой кот, под которым тлел костер. Пастух напевал что-то осипшим голосом, его худой оголенный зад дергался быстро-быстро. Фофан держал веревку двумя руками, дергал ее и ржал как конь...
Последнее мое воспоминание о деревне Красново - зимнее.
Февраль. Каникулы. Я - студент пятого курса мехмата. Месяц как женат. Моя жена Неля - студентка исторического факультета. Мы живем в модернизированном, Новом корпусе, едим в новом здании столовой, просторном и светлом. Постаревшая Настюшка больше не таскает подносы с борщом, она сделала карьеру и стала сестрой-хозяйкой. Пастух умер. Фофан сидит в тюрьме за кражу.
На другом берегу Можайского моря все покрыто высокими сугробами. Сказочное созвездие Ориона сверкает на морозном небе. Из церкви пропал недогоревший когда-то иконостас.
Мы живем комфортно. У нас комната с балконом на втором этаже. По вечерам мы забираемся в кресла с ногами и читаем друг другу стихи. Выпиваем. Танцуем. Стекла покрыты узорами. В комнате пахнет хвоей. Моя жена ловит на балконе снежинки губами. Неля любит есть снег.
Нелегкое это испытание - исполнение желаний, пытка счастьем. Нет тупика безнадежнее. Проклятое мгновенье должно остановиться, но оно вместо этого ускользает. С вершины пирамиды возможен только спуск или падение. Сатурн исправно работает челюстями и все летит потихоньку - в тартарары.
Шли мы однажды на лыжах по водохранилищу. Прелестно! Молодая пара катается. Меня к тому времени уже все приводило в бешенство - и лыжи, и ветер, и снег, и жена. И главное - моя идиотская роль счастливого супруга. И тогда произошло чудо. Налетела на нас метель. Закрутилась вихрем. Хоть ножом ее режь. А когда метель улеглась и солнышко заблестело, я увидел себя и жену со стороны. Не "мы", а "они" катились рядом, жестикулировали, ругались. А тело, в котором я находился, было уже от них далеко. Я растерялся. Не знал, что делать. Потом догадался, что я свободен, понял, что моя прежняя линейная жизнь никогда не вернется. И поспешил в Москву.
Нечто подобное происходило со мной несколько раз. Особенно запомнился отъезд в Германию.
Ужас эмиграции состоит в том, что она, в сущности, невозможна. Можно, конечно, покинуть родину. Даже постараться забыть ее. Но невозможно отделаться от своего двойника, который останется и будет бродить, как душа непохороненного человека, вокруг насиженных в прошлой жизни мест. Часть твоей личности наперекор законам природы продолжит твое существование в отщепившемся от тебя двойнике. Расщепится не только твоя судьба, но и вся вселенная. Та, другая ее часть, будет и дальше существовать так, как будто ты не уехал. В ней осуществятся все твои страхи. И через сны перелетят к тебе. Эмиграция - это клонирование личности и расщепление вселенной, а не побег. Желая попасть в рай, ты посылаешь своего двойника в ад.
Это началось месяцев за семь до моего отъезда. Мой любимый город стал мне чужим - Москва как будто выталкивала меня.
Всё смотрит. Смотрят дома, автомобили, улицы. Смотрит Луна, небо, стол. Я почувствовал, что Москва тяжело, с ненавистью смотрит на меня сквозь свою многоэтажную клетку. Любимые с детства улицы перестали меня радовать и поддерживать. Дома наклонялись, они были готовы раздавить меня своей тяжестью. Поверьте, я вовсе не проектирую свое настроение на физиономию города. Я-то был весел и полон энергии, легкомысленен и легок.
Возможно, перестройка разрушила созданное поколениями защитное поле и грандиозная декорация "Москва" стала обретать, наконец, свое истинное обличье. Величественный фантом третьего Рима, мираж, выстроенный Сталиным и его последователями рассыпался в прах. На нас глянули свинцовые глаза правды. Ведь это не СССР разрушался, а мы - его дети, его тело.
Я уезжал с Белорусского вокзала в сентябре 1990-го года. Меня никто не провожал. Все были тогда заняты собственными заботами. Я был один на вокзале, один в купе. Было грустно. Как вдруг я заметил на перроне знакомого мне человека. Он стоял и печально смотрел на меня. Поезд тронулся. Он помахал мне рукой. А я - ему. Так и уехал я с мыслью, что меня кто-то проводил. И даже позже это забыл. И только приехав в Дрезден, успокоившись и отдохнув, я вдруг понял, кто стоял на перроне.
ВИДЕНИЕ
Донской монастырь был островком покоя и чистоты в шумном и грязном фабричном районе. Пройдя под знаменитой розовой колокольней, посетитель оказывался в другом, немосковском мире. Кладбищенская тишина нарушалась только шелестом листьев и пением птиц весной и летом. Москва давала о себе знать низким гулом, похожим на шум морского прибоя в пустой раковине.
Я приходил туда весной, когда деревья и кусты только начинали зеленеть и из черной кладбищенской земли вылезали солнечные одуванчики и небесные фиалки. Поклонившись нескольким знакомым могилам, садился на лавочку, раскладывал на ней акварельную бумагу, перья и тушь. Рисовал надгробья и деревья, наслаждаясь их естественной графичностью. Потихоньку мной завладевало блаженство сосредоточенности - внутренние образы и мысли, эти серые зверьки, превращались в огнекрылыхсерафимов и сердце переполнялось чувством полноты и радости жизни. В подобном состоянии я разговаривал с мертвыми обитателями могил, смотревшими с вделанных в каменные надгробья фотографий. Говорил с ними как с живыми, без пиетета или иронии. Рассказывал им что-то, о чем-то спрашивал. И мне казалось, что они отвечают мне моими мыслями.
Вот так сидел я однажды и рисовал, говорил и слушал... Голова у меня была опущена, внимание было долго сосредоточено на рисунке. То, что я увидел, когда оторвался наконец от бумаги и поднял голову, поразило и испугало меня. Рядом с могилами стояли их обитатели. Стояли и молча смотрели на меня. Одеты были покойники не в лохмотья или саван, а буднично, как при жизни. Это были не привидения, не духи - а мертвые, в которых проявилась другая, незнакомая мне форма существования. Я ущипнул себя за руку. Не помогло.
Восковые, застывшие их лица не были изъедены тлением. Глаза, неподвижные, мутные, но не мертвые, а как бы усталые, смотрели на меня с укором. Я не сразу заметил, что у ставших полупрозрачными стен монастыря стояли сотни или тысячи покойников, а за стенами - сотни тысяч. Все они глядели на меня, разрывая мне сердце молчанием и укором. Уж лучше бы бросились на меня и загрызли. В изнеможении я закрыл глаза и не открывал их долго длящуюся минуту. Багровые камни перекатывались между зрачками и веками. Уши резала тишина. Когда я открыл глаза, мое кинематографическое видение исчезло.
Дома я рассказал о пережитом бабушке. Она вздохнула и посоветовала мне готовиться к сессии, а не таскаться по кладбищам. Вечером, однако, рассказала мне шепотом, что в сталинщину и в самом монастыре и на территориях, примыкающих к нему со стороны крематория, в огромных ямах хоронили замученных на Лубянке людей. Сколько их было - никто не знает.
"Странно, - добавила бабушка. - Я думала, что души неправедно убиенных являются только своим палачам. А они выбрали ребенка, чтобы напомнить о себе. Ведь их убийцы и мучители не только не наказаны, но награждены, пользуются почетом и привилегиями. Многие живут не так далеко от Донского... Их бы и укоряли!"
УБЛЮДКИ
Поехали мы с дедом на вокзал встречать сестру моей бабушки. Вошли в метро. Спустились. Я уже тогда страдал приступами клаустрофобии, мне казалось, что пространство вдруг сложится, как гармошка, и раздавит. Я поделился своим страхом с дедом - он уверил меня, что инженеры все рассчитали и все будет хорошо. Подошел поезд. Вошли в вагон, сели на коричневые сиденья. Проехали Метромост, центр. Вот и Ленинградский вокзал. Поезд опаздывал - пришлось ждать. Был ранний московский зимний вечер, бурый, снежный, влажный. Народу на вокзале - тьма. Носильщики с чемоданами носятся. Все спешат. Люди нервные. Толкаются, ругаются, суетятся. Бабки в старомодных приталенных полупальто с узлами и баранками тащатся в сторону метро. Броуновское движение.
Стоим мы у какой-то перекладины и ждем, а около нас еще один человек стоит. И толпу разглядывает. Внимательно, как будто в первый раз людей увидел. Маленький такой мужичишко, рыжеватый, лет пятидесяти пяти. Сразу видно - психованный. Дети, как известно, не могут оторвать взгляд от сумасшедших. Я осторожно его наблюдал. Лицо мужичишки отражало внутреннюю борьбу, видно было - ему тяжело, его что-то распирает, он едва сдерживает себя. Надо было ему как-то освободить душу от мучительного груза... Позарез. Наконец, его внутреннее напряжение достигло наивысшей точки - больше он себя сдерживать не мог и не хотел. Он сжал кулачки, изо рта его выступила пена, и он закричал, так громко, как мог, страшными, округлившимися глазами буравя толпу: "ВЫ ВСЕ ТУТ - СТАЛИНСКИЕ УБЛЮДКИ!!! ВСЕ ВЫ СТАЛИНСКИЕ УБЛЮДКИ!!!" И еще раз, еще громче, срывая связки и закатывая глаза. И еще и еще... Я оцепенел. И толпа замерла. Но только на мгновение. Через секунду все шли дальше, суетились и уже не слушали истошных криков. Вскоре появилась милиция. Крики прекратились. Дед взял меня за руку, мы пошли на перрон.
ТАРАКАНЫ
Рита позвонила. Мы решили поехать в ее вторую, пустующую, квартиру в Медведково. Встретились в метро. За болтовней не заметили, как доехали. Вышли на улицу. Небо было пронзительно голубое. Апрель, воздух еще по зимнему свеж, но уже тепло. И жизнь как бы начинается заново.
Пошли дворами между высокими коробками бетонных домов. Помню, обходили лужу метров двадцать длинной, которая была глубиной - по пояс. Балансировали на прогибающихся досках. Дошли. Зашли в подъезд. Вызвали лифт.
Тут в подъезд вошли четыре выпивших парня и тоже подошли к лифту. Все четверо - плохо одеты. Черные штаны. Грязные рубашки. Расхлистанные темные пальто. На вид - около двадцать пяти лет. Винищем от них несет. И потом. Рабочие. Физиономии глупые и злые. Чувствуют свое физическое превосходство. Лифта все нет.
Парни начали переговариваться.
Первый: "Ну и че ты, Вовк, сделал? Выебал ее? Ах, блядь!" (Пытался закурить, обжег пальцы.)
Второй: "Лизку-то? Да ее все ебут. Она - синюха!"
Первый: "Она синуха, а ты - синяк. Га-га-га!"
Третий: "Лизку в жопу ебут! А тебя в жопу ебли?" (Это в сторону Риты, не смотря, однако, ей в глаза.)
Третий (агрессивно): "Вовк, давай эту корову выебем!"
Четвертый: "Да че ты, Саня, она же старая. Ну ее на хуй. Ее дядя ебет".
Третий (ко мне): "Ты че на нас так неласково смотришь, дядя? Да, мы выпили. Да. Вовк, дай закурить!"
Второй: "Ты, дядя, дай мне рубль".
Третий: "Тебе, Вовик, рубля никто не даст. Этот толстый пидор не даст и... и (всхлипывая) никто не даст тебе рубля. Вся Москва не даст тебе, Вовик, рубля!"
Второй (забыв про нас): "Саня, ты помнишь как Валет в депо духарился? Говорил, волжанку покупать будет. Ему Сенька денег должен - мильён".
Четвертый: "Хуйня! У Сеньки мильёна нет. Он мне червонец должен. Уже месяц не отдает, пидарас".
В этот момент пришел лифт. Я взял Риту под руку и вывел её из подъезда. Пьяные нас не преследовали, уехали на лифте.
Через пять минут мы возвратились, поднялись на пятый этаж и вошли в квартиру. В квартире было холодно, но солнечно. По давно не мытому полу бегали крупные черные тараканы. Тараканы сидели и в ванной. Пришлось смывать их струей воды из душевого шланга. Тараканы скреблись лапками, отчаянно пытались зацепиться, не дать воде утащить себя.
Рита приняла душ. Потом принял душ и я. Горячей воды не было - холодная была ледяная. Мыться было трудно, мыло не мылилось, зато после такого душа горело и радовалось тело. Мы легли на старый колючий диван. Рита нежно посмотрела на меня.
Я спросил: "Как ты думаешь, все тараканы утонули?"
СКОРПИОН
Случилось это в том зале Музея изобразительных искусств имени Пушкина, где в прямоугольных окошках, вырезанных в стене, хранятся фаюмские портреты. После смерти и мумифицирования человека его портрет, выполненный на небольшой дощечке восковыми красками, крепился на мумии на месте лица. Портрет выступал заместителем умершего, был хранилищем его образа и души. Мумию помещали в деревянный ящик с открывающейся в верхней половине дверкой. Такой ящик ставили (вертикально) в комнате предков.
Я сел на лавку и начал рассматривать портреты. Постепенно мной завладело известное загадочное чувство - все это уже было. Оно сопровождалось волной радости. Неизвестно откуда пришла уверенность - я знал этих людей! Искал их всю жизнь и, наконец, нашел... На фаюмских портретах... Я начал вспоминать, пробиваться сквозь известковые стены времени, но мне не удавалось вызвать в памяти ничего, кроме образа пустыни, редких пальм и обжигающего ветра. Нос ощутил нездешние ароматы, на зубах захрустел песок. Портреты смотрели большими семитскими глазами - так выразительно, так живо. Казалось, на меня смотрели не портреты, а живые люди, заточенные в плоские неумелые изображения. Если бы я верил в переселение душ, то все было бы ясно - "в мою прошлую жизнь" там, в Египте, я был ремесленником, изготавливающим подобные художества. Но я не верил в метемпсихоз, потому что никогда не замечал других существ в самом себе, кроме отца, матери, дедушек и бабушек. Это во мне голос деда, а это - явно голос матери, говорил я часто самому себе. Но сейчас, перед портретами, во мне звучал давно ожидаемый, но неведомый голос. Он говорил во мне, говорил со мной. Язык его был сладостен и я понимал его. Воспроизвести его я не мог бы и тогда, тем более не могу сейчас. Но смысл его слов я не забыл.
"Ты был с нами. Ты и сейчас наш. Ты должен изменить свою жизнь. Твое дело - изображать души людей. Их судьбу. Их посмертье. Ты можешь это. Ты мог это делать среди нас, сможешь и в твое время. Не забывай нас. Ты был с нами. Ты один из нас".
Со мной "говорил" самый старый из портретов коллекции, "портрет римлянина", изготовленный, согласно тексту на табличке, в конце первого века нашей эры. Стало быть, современник Нерона. Возможно, участник Иудейской войны, живущий на императорской пенсии. Но почему в Египте? Какая-нибудь романтическая история? Не знаю. Я его ни о чем не спрашивал. Я был в трансе и боялся прервать этот потрясающий опыт. Смотрел на оживающие портреты двухтысячелетней давности и слышал голоса. Если бы мне кто-то рассказал об этом, я поднял бы рассказчика на смех. До сих пор я не знаю точно, что же было со мной - или я действительно вступил в контакт с душами давно умерших людей или мое собственное подсознание разыграло со мной эту сцену, чтобы вывести из реального, советского - в метафизическое, магическое пространство. Увести в сторону душевного.
Приехав домой, я взял тушь, лист картона и начал рисовать мою бабушку, согласившуюся двадцать минут сидеть неподвижно. Рисунок получился неловкий, но похожий. Важнее похожести было для меня, однако, то, что исполнилось предсказание - да, я действительно мог отобразить в рисунке душу портретируемого. Моя прежняя жизнь кончилась. Началось нечто новое, то, что мне и сейчас трудно определить. Мое существование получило пусть иллюзорный, но смысл, задание. Надежду на то, что наш мир в действительности не таков, каким он нам представляется, и его истинную сущность можно выразить средствами искусства. Примерно так, как это делали скромные ремесленники, изготовлявшие портреты маленьких людей в малозначительных египетских селениях. Чтобы облегчить им встречу с богами.
Реальная жизнь сурово покарала меня за эти романтические бредни. Мои знакомые и родственники считают меня безнадежным идиотом. Я потерял сон. Когда я закрываю глаза и пытаюсь хоть немного подремать, передо мной возникает образ пустыни, я вижу дюны и песок, по которому ползет синий скорпион.
ТРИ СМЕРТИ
В конце пятидесятых, начале шестидесятых годов я жил в Доме преподавателей на Ломоносовском проспекте в Москве. Между нашим двором и Ленинским проспектом стоял гигантский Дом с зоомагазином. Об этом доме дети рассказывали страшные вещи - там живет Калина, он пытает детей, засовывает под ногти раскаленные до красна иголки. Мой просвещенный друг Васька авторитетно утверждал, что "Калина рвет девкам целку, а мальчикам вбивает в попу кол".
Что такое Калина, я не понимал. Мне представлялся одетый в черное высокий худой маньяк, который схватит своей жилистой рукой за руку, обернет черным пальто и утащит в темную квартиру в Доме с зоомагазином. Там сидят такие же как он страшные черные люди, пьяные и шипящие от злобы на нас, хорошо одетых детей из Дома преподавателей, они будут пытать, мучить до смерти. Не только я, все дети нашего двора боялись Калину. Стоило только громко крикнуть: "Калина!" - и все играющие во дворе дети тотчас убегали в свои подъезды, поднимались на два-три этажа и занимали позиции у окон. Пытались разглядеть оттуда Калину. Но Калина не появлялся.
И вот, однажды, пропали два мальчика из нашего дома. Лет шести-семи. Их долго искали, но не нашли. Все дети были напуганы, возбуждены и почему-то радостны. Разумеется только и разговоров было, что про Калину. Рассказывали, что "мальчики эти - жиды", что "Калина ловит жидов, чтобы их выморить". Один мой семилетний приятель говорил важно, повторяя услышанное дома: "Давно пора очистить Москву от жидов!"
Что такое "жиды" я не знал и решил спросить об этом бабушку. Бабушка рассказала, что это бранное слово, обозначающее "евреи". На мой вопрос, кто такие евреи, бабушка ответила, что это такая национальность и потом почему-то добавила, чтобы я не боялся. Что такое "национальность", я спрашивать не стал.
"Я твоего отца во время войны крестила в Томске, - рассказывала бабушка. - Поп тамошний крестил. За кастрюлю супа. Его и меня. Боялись погромов, думали, что немцы будут везде. Поэтому мы - христиане, православные. Но ты обо всем этом лучше никому не говори".
Я и не собирался говорить, потому что почувствовал в тоне бабушкиной речи, редкие для нее, - фальшь и замешательство. Долго размышлял над ее словами и пришел к выводу, что мы тоже евреи, жиды и, стало быть, Калина нас хочет "выморить" и, поскольку я был единственный ребенок в семье, опасность грозит мне одному. Вспомнилось, что мальчишки из открытых окон соседней школы кричали мне вслед: "Жид, жид, жирный жид идет", а я не знал, что они имеют в виду, и осматривался, где это идет "жирный жид", не понимая, что это я сам. Вспомнилось и круглое, с двумя бородавками на подбородке лицо учительницы второго класса в английской школе номер четыре Александры Ивановны, лицо, вытянувшееся, несмотря на свою круглость, когда на вопрос: "Вадим, какой ты национальности?" - я ответил: "Я русский".
"Нет! - прошипела Александра Ивановна. - Ты еврей".
Пропавших мальчиков нашли только через несколько месяцев. Их трупы лежали в заброшенной канализационной шахте. На них не было следов насилия, - скорее всего они сами влезли в шахту. Закрыли за собой чугунную крышку, чтобы никто не видел их проделок, спустились по ржавой лестнице, которая под их тяжестью переломилась - и не смогли подняться. Их криков никто не слышал.
Правду про "Калину" я узнал значительно позже, уже в послеуниверситетское время. Мой одноклассник Лебедев, работавший в московском уголовном розыске, нашел в архиве дело о семье Калининых, устроившей в Доме с зоомагазином "малину" для уголовников. О мучении детей или преследовании евреев информации в деле не было.
Старинная русская мечта "очистить Москву от жидов" осуществилась. Без погромов и пролития крови. Большинство московских евреев покинуло столицу. В московской толпе не заметно больше когда-то многочисленных еврейских лиц, хотя, судя по прессе, в Москве "кипит еврейская жизнь", работают синагоги, школы, что-то издается.
Зато стало заметно больше кавказцев.
Мой отец утонул в реке Тимптон, притоке Алдана, впадающего в великую сибирскую реку Лену. От меня какое-то время это скрывали, но потом рассказали.
Черное горе. Черное и холодное, как вода горной реки. В резиновой лодке был папа и его сотрудник Петр. Лодка налетела на подводный камень и перевернулась. Петру повезло - он оказался около лодки, ухватился за нее и выплыл. Папу отнесло от лодки. Роковую роль в его смерти сыграли резиновые сапоги - они набрались ледяной воды и мешали плыть. Папа кричал: "Петя, я тону".
Этот предсмертный крик стоит до сих пор в моих ушах. Я вижу белого отца в черной воде. Вода крутит его, несет, бьет головой о камень. Бесчувственный и окоченевший, он уносится в водяной колодец - в подземную реку, где и исчезает навсегда.
Матери сказали позже, что отец не имел права плыть на резиновой лодке по неисследованной реке, что если бы он остался жив, его отдали бы под суд за то, что он неоправданно рисковал своей и чужой жизнью. Так всегда в России - ты всегда сам во всем виноват и от неминуемой расплаты могут спастись только мертвые.
Смерть отца была для меня в каком-то смысле облегченной. Его тело так и не нашли. Отсутствовал труп, отсутствовала и могила. Не было тягостных и ненужных похорон. Поэтому это трагическое событие оставило после себя непроходящую боль, но не ужас. Ужас я впервые испытал, когда увидел труп молодой учительницы нашей школы.
Советская система любила различные массовые мероприятия. Цель таких мероприятий заключается в подавлении воли их участников бессмысленностью и массовостью. Школа, в которой я учился со второго по шестой классы была элитным советским учреждением, отличительным признаком которого всегда служили безграничный идиотизм начальства и холуйство подчиненных. Многочисленные школьные мероприятия сопровождались речами, присягами, долговременным стоянием на одном месте, выносами и уносами флага, слушанием и пением революционных песен.
Наша "пионерская дружина" носила имя замученной фашистами партизанки Зои Космодемьянской. Немцы били девушку ремнями и палками, прижигали ей лицо спичками, заставляли стоять босой на снегу. Затем повесили ее в присутствии всех жителей деревни Петрищево. В новогоднюю ночь солдаты искололи труп Зои штыками. Несмотря на пытки, Зоя не выдала планов командования Красной Армии. Историю эту нам рассказывали на бесчисленных "линейках" учителя и пионервожатые. Слушать ее мы должны были стоя, не двигаясь. Для моторных детей это было невыносимое мучение. Тело изнывало, начинало болеть, душа мучилась - перед глазами маячила несчастная повешенная партизанка с обнаженной грудью, исколотой штыками. Зверство фашистов с помощью долбящего голоса пионервожатой, похожей на старую девочку, передавалось на нас. Мы чувствовали, как наши тела колют штыки оккупантов. Язык вылезал изо рта, хотелось по-маленькому. Нас призывали проявить бдительность, выстоять, не страшась происков врагов. В такие моменты спасал черный юмор.
"Висит груша, нельзя скушать", - шептал, показывая рукой на изображение повешенной Космодемьянской, мой приятель Пузанов. Высовывал язык, закатывал глаза, театрально дрожал. Дети начинали потихоньку смеяться, кое-кто трясся от нервного хохота. Дело могло бы кончиться взрывом, но тут вожатые включали запись прогрессивного певца Дина Рида и все начинали петь.
В Германии смерти как бы и нет вовсе. Слишком многое из бесполезного разрушило бы ее присутствие. Сведены на нет похороны. Прощаются чаще не с телом покойного, а с его гробом или пеплом. Покойный не лежит дома, вокруг него не сидят плачущие женщины, нет запаха, нет и образа смерти. В России это не так. Смерть и все ее разнообразные аспекты играют важную роль в жизни этого странного общества. Похороны рассматриваются как утверждение статуса, будь то похороны генерального секретаря со стоянием в карауле, трехдневным прощанием с телом десятков тысяч людей, транспортировкой трупа на пушечном лафете и захоронением у кремлевской стены или похороны простой учительницы младших классов в московской школе. Русские как бы не верят в конец, на кладбище приезжают всей семьей, как в гости, привозят водку, закуску, выпивают и закусывают на могиле, плачут, ссорятся, уезжая, оставляют полбутылки и часть еды покойнику - пусть пьет и ест... Смерть тут - апофеоз, похороны - переезд на новое место жительства, кладбище - овеществление иерархии. Мавзолей на Красной площади, в котором до сих пор хранится чучело Ленина - это не пример безвкусного безумия коммунистических властей, а только доведенная до естественного конца восточная традиция отношения со смертью, с мертвыми, за которых как бы держатся, не отпускают на тот свет.
Однажды по школе пронесся слух: Училка умерла!
Вот это да. Значит, у кажущейся бесконечной вереницы дней есть конец. Молодая умерла! Значит, умирают не только старые, которым и жить надоело, значит, может умереть мама, значит, могу умереть и я. И не утонуть, не сгореть, не в автокатастрофе, а просто в больнице. Пролетело и еще одно неприятное словечко - "рак". Боже, что же это за рак, который грызет внутренности человека, откуда он взялся, зачем он?
Прощаться привезли!
Прощаться. А ведь мы эту чужую учительницу и не видели никогда. Жалко, что умерла она, а не Александра Ивановна.
Строиться! Это здорово. Значит, уроков сегодня не будет. Не будет больше мучительных монологов Александры Ивановны, не будет борьбы за дисциплину, придирок, угроз, прорабатываний, не будет мучительного школьного дня. Весь класс идет прощаться с телом, которое выставлено в актовом зале. А после прощания - домой!
На двух учительских столах стоял простой гроб, обложенный искусственными цветами. В зале было тихо. Пахло жутко - какими-то медикаментами, духами и тем самым, что остается от человека, когда душа оставляет тело. Дети и учителя подходили к гробу, смотрели в лицо умершей и уходили. Некоторые учителя целовали мертвую в лоб. Одна женщина (кажется, это была уборщица) даже перекрестилась - в те годы это могло стоить места.
Мы долго ждали. Наконец, пришла и моя очередь. Я подошел к гробу. Ноги почему-то стали ватные. Руки вспотели. Вдруг я понял, как трудно оторвать глаза от пола и посмотреть на умершую. Пришлось обхитрить самого себя - посмотреть вначале в окно, на тусклое московское небо, перерезанное ветками деревьев, потом на Пузанова, который, по-видимому, не терялся - он показал мне язык и сделал губами знак - поцелуй, мол, мертвую, тебя вырвет. От покрытого веснушками курносого лица Пузановая перекинул взгляд на дешевую бахрому, потом на заострившийся нос лежавшей, на не очень плотно закрытые глаза. Не усилившийся невыносимый запах и не плохо гримированный страшный образ долго мучившейся перед смертью покойной поразили меня - меня поразил цвет ее кожи. Она не выглядела как кожа человека - это была не то бумага, не то пергамент. Кожа ящерицы, изъеденная внутри тела сидящими раками. Я едва нашел в себе силы отойти от гроба. Александра Ивановна взяла меня под руку и помогла пройти к классу.
Берлин
"НАША УЛИЦА" № 91 (6) июнь 2007
|
|
Так рождаются империи |

Никита Янев родился 29 апреля 1965 года на Украине. Служил в армии. Учился в Московском пединституте. Работал учителем, продавцом, рабочим, смотрителем ботанического сада "Хутор Горка" на Соловках, грузчиком. В 1989 году написал книгу стихов. В 1995 году написал книгу эссе "Дневник Вени Атикина 1989 - 1995 годов". В 2006 году написал книгу прозы "Как у меня всё было". Были опубликованы подборки стихов, прозы и эссе в журналах "Волга", Саратов, "Арион", Москва, День и ночь", Красноярск, "Крещатик", Мюнхен. В последнее время много публиковался в интернет-журналах. В 2004 году вышла книга прозы "Гражданство". Живет с семьёй в Мытищах, Московская область. Опубликовал ряд произведений в "Нашей улице".
Никита Янев
ПОПРОЩАТЬСЯ С ПЛАТОНОМ КАРАТАЕВЫМ
повесть
ОСЕНЬ
Вот я лежу и думаю, под кодовым названьем, где провести эту осень думы мои. Потому что была возможность остаться на Соловках на осень смотрителем на Секирной горе на сентябрь, октябрь, ноябрь. А может быть, и дальше. А вы знаете, что такое на Соловках осень? Про это знает Демидролыч. Когда схлынут туристы, хорошие, нехорошие, талантливые, любознательные, порочные, пьющие, красивые, чистые, некрасивые, грубые, девушки, прекрасные как ангелы у Боттичелли и делла Франчески, мужчины с животиками, начальники, подчиненные, верующие, неверующие, туристы, паломники, экскурсоводы, эмчеэсники, и наступит затишье как перед концом света. И ты, как бог этого места или как боец в мертвой зоне обстрела с обоих фронтов, оглядываешься назад, а там вместо смерти зайцы водят хоровод возле твоей сторожки и в воздухе, напоенном молчанием и желтыми листьями, словно бы открывается дверка. И важно в нее не пойти, потому что потом будет зима и снега будет столько, что провалится крыша на бараке, в котором живет Финлепсиныч. А Индрыч на Хуторе вместо тропинки будет рыть траншеи в снегу вместо физкультуры, потому что Индрыч любит упражнения, а нет лучшего упражнения, чем из вечности бытия у тебя на лице перебрасывать снег на лопате в вечность небытия у тебя за спиной. Когда надо было позвать соседа Седуксеныча посмотреть его выставку деревянных икон, или икон дереву, или икон дерева, как угодно, то очень волновался, потому что лет двадцать соседствуют и лет десять не дружат. Один другого зовет Солнцев, другой другого зовет Самуилыч. И вкладывают в прозвища всю бездну презрения, с которой начинается любовь в Библии. И тогда повис на перекладине, приделанной на двух квадратных метрах кухни, она же прихожая, она же библиотека, она же спальная, она же мастерская. С какими-то выдвигающимися ящиками и запредельными пространствами, подвесными балюстрадами из серебряной и золотой моребойки и непрерывными картинками. Детскими рисунками, фотографиями предков, цитатами из пленумов, отрывками из стихов знакомых поэтов. Комната – вот роман ненаписанный, который если бы мог как хотел написать, считал свое писательское поприще законченным! Есть три интерьера на Соловках, доступных только кисти художника, но никак не словесному перечислению, потому что важны пропорции, насыщенность и разряженность. Гришина мастерская, Валокардинычев гараж, Финлепсинычева квартира. Вот настоящие метафоры бессмертия, или Платоновы пещеры, или логова Бера, божества древних племен славян, германцев и прочих индоарийцев, на которых когда оглянешься в бору или березовой роще, то испытаешь не только священный ужас смерти, но лингвистическое вдохновение. И поймешь, что позднейший язык весь соткан из намеков на нее, эту дверку: оборотничество, оборона, обернуться, вращаться, время, вера, вор, веревка.
Впрочем, я уклонился от предмета повествованья. Так вот, вскочивши, повисши, на перекладине подтянулся пару раз, в эту дверку улетело усилье, и волнения как не бывало. Но я всегда ее боялся, этой минутной вспышки, в воздухе словно дверцы, которая то отворяется, то затворяется на ветру. Ведь не паломницы Лимоны я на самом деле испугался и не эмчеэсников с самурайскими мечами, и не того, что надо подчиниться, кланяться в пояс перед ужином из концентрированного горохового супа, поститься, петь акафист, а этот ужас, знакомый мне с детства. Как она здесь живет? Келии, которые были камерами, камеры, которые были келиями, теперь опять будут келиями, потом опять будут камерами.
Как в армии, я один раз подошел к старшине Беженару и говорю, Василий Иванович, здравствуйте! Теперь-то я понимаю, что у меня уже крыша ехала, оттого что он меня достал бесконечными нарядами и месячной гауптвахтой за то, что я с ним пререкался и качал права, будучи молодым бойцом. А старослужащие терпели, почему, до сих пор не понимаю. Тот, кто был в строевой части или на зоне, понимает, что перед обедом тянущий время обрекает себя на аутодафе. А они терпели, ничего не понимаю. Неужели, -бер-, дверка? Свирепые белорусы, кряжистые подростки, которые и разговаривать-то не умели, только водку пить, бутылки вместо стаканов. Я только удивлялся, как Вицын, понюхавши и окосевши, папино наследство. Неистовые чечены, которые, как крестоносцы, сначала ударяли по лицу или ногой в пах, а потом думали, зачем они это сделали. Таинственные таджики, которые уважали единственного из призыва, не постигаю.
Так вот, я уклонился (где провести осень). Или в городе Мелитополе, в котором уже нет времени, он уже в раю, мама моя так захотела. Где таинственная дверка разрослась до пределов городских окраин, от кладбища на лесопарке до Белякова на песчаной. Сначала она была – взгляд десятилетнего мальчика во дворе школы № 10 на проходящего мимо ворот прапорщика, что это папа, который недавно умер. Потом, через десять лет это уже целый парк, в котором после работы мы говорили с Олей Сербовой про то, что бывает в жизни то, что не бывает. Причем, она в основном имела в виду любовь, как всякая женщина и человек, ищущий в жизни счастья. Я говорил о чуде, как непосвященный, что можно его построить из каких-то косноязычных осколков, вроде кокетства и смазливости, но все еще было впереди. Потом это была городская больница, отделение хирургии, онкологическая палата. Больница на краю парка или парк на краю больницы, как смерть на краю жизни или жизнь на краю смерти, в зависимости от того, насколько вы любите осень.
Осень в Мелитополе это тоже не страшно, а я думал, что страшно. Только очень тоскливо, стыдно и одиноко. С мамой на кладбище к папе, на рынок и в парк. Город как завороженный смотрит и отчуждается с каждым днем все сильнее. Книги, строчки и курево. И почти что теряя сознание. «Поехали, мама, со мною, я больше здесь не могу».
Вот и получается, что то, что остается, - это то, что имеем. Зарешеченное окно на улице Каргина в пригороде Мытищи в одноэтажном доме, который скоро снесут, последний в старом городе, сгоревшая за лето листва, воздух пепельного цвета. Марина говорит, что это теперь наука, что каждый год на полградуса жарче. «То, что ты говорил про глобальное потепленье, про конец света, про запазуху русского севера, который теперь юг, место курорта и отдыха». Я киваю понимающе головой супруге, с ностальгической улыбкой, а сам в это время как Штирлиц, знаменитый советский разведчик Исаев, который заведовал третьим рейхом мимо Гитлера и Сталина, слежу краем глаза за своей судьбой.
Потому что только в Мытищах, на этой новой родине на окраине мегаполиса в начале апокалипсиса, будучи то ли мудаком, то ли мутантом, понимаю, что, когда я был смотрителем на хуторе Горка на Соловках и там поливал себя горячей водой из ведерка, обнажившись, потому что надо было мыться хотя бы раз в месяц, а в окна без штор, как положено по уставу гарнизонной службы для сторожа, который охраняет, заглядывали призраки, архимандриты, зэки, начальники лагерей, самоубийцы, шестидесятники. А я драил себя мочалкой и знал, что в последний момент за два дня до припадка я все равно уеду в Мытищи, проснусь и буду помнить только что такое «я» и «ты», остальное мне расскажет Марина, а я все запишу. Про Аню, которая рисует (дочка), а потом бросит рисовать и займется конным спортом, это она тоже расскажет. Про бабушку Женю, с которой мы десять лет бились самурайскими мечами, кто кого круче подставит, сделали себе харакири и оказались родственниками, как все люди на земле. Про меня, что я на острове пишу книжку «Чмо», как тридцать тысяч сброшенных с горы Секирная и три миллиона мучеников на острове Соловки сняли шапки-соловчанки и говорят просительно, «Напиши, напиши, пожалуйста, как камень, отвергнутый при строительстве стал во главе угла. А мы в ответку попросим Спасителя, для нас у него блат, чтобы он дал тебе мужество отвечать за свой базар».
Про себя, как десять и двадцать лет открывала вместо мужа коробочку и там смотрела всякие мультфильмы про метафизические приключения на листочках с чудовищными ошибками: тросник, вподряд, принципиальное отсутствие синтаксиса. А все остальное делала сама. Учила подростков думать мысли в школе, растягивала деньги, которых не хватит на неделю, на месяц, рожала, делала аборты, любила мужчину, оправдывалась перед мамой, почему муж не работает, потому что редактора халтурят, а работу эту бросать нельзя. Верила, изверивалась, понимала, не понимала, шила одежду себе, мужу и дочке, находила новые места, в которых время уже остановилось, как осенью в любом месте бывает такая пора, даже где не видно небо за панельными многоэтажками и не видно земли за асфальтом и автомобильным смогом. Ты просыпаешься и понимаешь, откуда это недовольство собой. Что не в Швейцарские Альпы с семнадцатилетними сослуживицами, не в серфинг-клуб, не в боулинг, не на рыбалку, а в эту раскрытую дверку, полупрозрачную в воздухе непрозрачном от глобального потепления ,скоро надо будет уходить, а готов ли ты к этому? Ведь ни молчание самоубийцы, ни бунт запойного не помогут тебе там, потом не стать в очередь к какому-нибудь чму зачмленному, живущему неживущему. Кто последний несчастный мученик к тому, кто отпоет?
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
На день рождения Финлепсинычу подарили русский спиннинг из нержавейки, недорого – 300, катушку, простую, большую – 250, бронзовую фигурку духов сна из африканской мифологии, вытянутую по вертикали насколько это допустимо стихийным чувством меры, еще не история, уже не природа, или наоборот, уже не история, еще не природа. Вот насколько глубоко в толщу населенья продвинулись демократические реформы, что в местном торговом центре продают на грани безвкусицы столь утонченного вкуса изделья и Данте в переводе дореволюционного переводчика, потому что победоносный, по словам Ахматовой, перевод Лозинского читать невозможно. А надо, потому что как еще узнать, что русский извод ада, чистилища и рая, Мертвых душ, Преступления и наказания, Войны и мира – вовсе не единственный и не первый на свете. Что раньше была Божественная комедия Данте и что мы не пуп земли в этом смысле, так же, как и во всех других, как мы каждый раз себе воображаем, когда становимся подростками в новом поколенье.
А также надувную резиновую лодку «Ветерок», вариант велосипеда «Аист», чтобы Финлепсиныч мог на озере Светлом Орлове на острове Соловки в Белом море отплывать от берега на десять метров и охотиться на местных драконов, наевшихся евангельской соли из расстрелянных за два поколения до этого, в воде цвета глауберовой соли.
Какого тебе еще надо кайфа, Финлепсиныч? Заслужил ли ты такого? Ты, юродивый кликуша без имени, на могиле отца и матери вглядывающийся бессмысленно в большое количество одноразовых шприцов, раскиданных вокруг памятника погибшим летчикам и боящегося себя до судорог, а еще радующегося что крест и венки на маминой могиле не тронули, а на ветвях деревьев: яблони, шелковицы, акации, березы, грецкого ореха, тополя, черешни, сосны, ивы, можжевельника - сидят ангелы в виде птицы зяблика, щегла, синицы, чижа, поползня, снегиря, свиристеля, клеста, стрижа, ласточки, горлицы, вороны, сороки, копчика и говорят: цыти-цыти, что в переводе с древнекитайского означает: у тебя еще есть несколько времени, прежде чем тебя заберут папа с мамой в свое ветхозаветное бессмертие, придумать иероглиф и метафору для твоего новозаветного бессмертия и нашлепать дочку Ванечку, если она откажется отдать свои сбережения на один из трех подарков от женщин-парок: жены, тещи и дочери - твоему двойнику Финлепсинычу на день рождения, потому что так получается, что только жертва останется на раскаленной звезде на свернувшейся в свиток вселенной писать птичьим почерком: чистосердечное раскаянье упраздняет вашу вину. Не птицами и не ангелами, не посюсторонностью и не потусторонностью, а какими-то глазами Господа и губами, шепчущими молитву из вздохов. Самая чистая слеза рядом с этими глазами - сложная соленая вина, и самое яростное сострадание рядом с этими губами - просто зависть.
ИНДЕЙЦЫ, ИНОПЛАНЕТЯНЕ, МУТАНТЫ И ПОСЛЕКОНЦАСВЕТЦЫ
На острове Соловки живут индейцы, в пригороде Мытищи инопланетяне, в мегаполисе Москва мутанты, в мисте Мелитополь послеконцасветцы. Зачем же я оттуда уехал? В двадцать лет после армии три дня побыл и поехал в Москву учиться и больше не вернулся.
Агар Агарыч с лицом пожилого индейца и раздвоившейся сущностью, из которой одна терпит другую, а когда не вытерпливает, то раскодируется и кушает «Соловецкую», пока пульс не становится прерывистым.
Гриша Индрыч Самуилыч, увешанный своими издельями, как индеец, шаман племени. Потом дом, потом приходящие в дом, потом приходящие к приходящим в дом, потом их разговоры и враги, и где-то надо поставить точку.
Чагыч, вождь племени с лицом пожилой ирокезки и волосами, которые он сам себе состригает, ибо никто не смеет притронуться к вождю. Говорит, когда местный дух корысти улетит в Кремль на президентское кресло, то прилетит дух фарисейства и неизвестно, какой из них легче многострадальному племени индейцев, задыхающемуся под игом дракона, наших юношей и наших девушек ему мало, подавай ему еще нашу душу. Одна надежда на воплощенное слово и на камень веры, но об этом тихо, никому ни слова.
Наш сосед Базиль Базилич на улице Каргина в Старых Мытищах в последнем одноэтажном неблагополучном доме на самом деле инопланетянин. Никогда не плачет, не смеется, не улыбается и не ругается матом. Приезжает с одной работы и уезжает на другую, видно летающую тарелку где-то в лесу чинит. Когда жарко, снимет шапку, когда холодно, наденет шапку.
Его жена, Гойя Босховна, полная его противоположность, женский пахан, одна из трех местных тайновидиц: Лам Полина Юрьевна, хирург в местной больнице, начальница мытищинского паспортного стола, переодетый Черчилль и Гойя Босховна, женщины-горы, все инопланетяне.
Инопланетяне бывают двух видов: которые держат мир за падлу, они еще все время говорят «западло» между собою, это у них вместо пароля и всякие другие слова, про которые моя дочка Майка Пупкова сказала, чо они не на русском? Ничего не понятно. Ничего, потом поймешь, дочка, ответил я и подивился двусмысленности фразы.
И которые живут с миром заподлицо, тютелька в тютельку, термин в токарном, слесарном и прочем ремесленном деле. Эти мастеровые, у них с паханами все время идет состязанье, кто кого передолбит, кто из них главный.
На работе в московской фирме я подрабатывал грузчиком два года на развозке фототоваров по магазинам «Кодак».
Леди Макбет Мценского уезда, Госпожа Бовари, Будда, Шива, Рама, Демидролыч, Героиничиха, сотрудники фирмы – мутанты. И даже я, Финлепсиныч Послеконцасветыч Генка, а раньше Никита Янев Веня Атикин Гамлет, пришлось сменить позывные из-за перемены смысла работы, сразу становился мутантом, когда заходил на фирму, когда выходил с фирмы, переставал быть мутантом. Это удивительный феномен. Вы говорите два слова, а третье сказать не можете, не потому что некогда, а потому что не положено. Мужское, женское, а человеческое уже нельзя, не положено. И это понятно, может, у кого-то этого человеческого будут горы и все будут, как нашедшие клад, перебирать бериллы, а когда же делать работу? Человеческое после работы. Говорят, виноваты начальники, виноваты надсмотрщики.
В этом году я три раза ездил к маме в чужой родной южный город Мелитополь.
Сначала ее проведать, потом похоронить, потом на поминки. И сошелся с соседками по подъезду. Одна не берет деньги за оплату маминого телефона, чтобы не отключили. Другая говорит, квартиру только тебе берегла мама, не отдавай деньги жене. Третья говорит, купи шубу и шапку, а то смотреть на тебя было страшно возле могилы. Четвертая говорит, приезжай с женой, она у тебя молодец, похожа на артистку из мексиканского телесериала, а то большие деньги, здесь за две гривны убивают. Пятая говорит, щас нет времени, в школе конец года, а как станет посвободней, я поеду узнаю на вокзале, сколько они берут, проводники, и буду тебе передавать с поездами мамины вещи, чтобы не пропали: закатки (овощные консервы), ковры, пледы, книги, белье, посуда, одежда. Я говорю, не надо. Она говорит, надо. Не тебя жалко, маму жалко. Она всю жизнь для тебя копила, и квартиру, и вещи, и деньги.
Мамы давно нет, а мы едим ее консервы.
ПРОЗА
Я встретил с собакой Глашей на прогулке Диму Борисоглебского с бабушкой на прогулке возле больницы. Бабушка рассказала, что Дима сидел за компьютером, потерял сознание, упал со стула и расшиб себе голову. Врач велела гулять, и теперь они с бабушкой гуляют по вечерам. Дима Борисоглебский учился с дочкой Майкой Пупковой вместе в младших классах. Учительница, Ольга Викторовна, говорила, ребята, возьмите ручки и напишите слово. Аня говорила, Дима возьми ручку и напиши слово. Дима слышал только Аню. Учительница Ольга Викторовна говорила, Дима, как тебе не стыдно, почему ты не слушаешь? Дима говорил, вот как ты сказала. А я думал ты не так скажешь. Потом Диму уволили из лицейского класса. Дима стоит возле бабушки и говорит, бабушка, можно я сниму шапку, мне жарко. Бабушка, Галина Александровна, всю жизнь проработала в больнице медсестрой, говорит, «ну что, пишете?» Я говорю, «пишу». «Печатают?» Я говорю, «печатают». Она говорит, «где, может быть, мы почитаем?» Я говорю, «за границей». «Много хлопот?» «Никаких». «Значит, талантливо. Вообще-то у вас сложные стихи». Я говорю, «это проза». А сам думаю, мне повезло. Не каждому Диме Борисоглебскому так повезет. Мне уже пятнадцать лет жена Марина рассказывает, в какую руку надо взять ручку и какое слово написать. Может быть, и ей повезло, потому что когда я начинаю писать, то не могу остановиться. Становится понятно, не только мне, но и жене Марине, зачем пишут. И не только это.
А дочка Майка Пупкова теперь ухаживает за лошадьми, а не за Димой, а Дима падает со стула.
ГРУЗЧИЦКАЯ ПОДРАБОТКА
Про Леди у меня странное ощущенье, что она на самом деле потому бросается от дела к делу и в результате ничего не делает, что очень устала, что любое другое дело для нее отдых. И поэтому работать с ней в паре мучительно, только начнёте собирать товар, а она уже моет полы, бежит к телефону, бежит говорить охраннику, чтобы открыли ворота, разговаривает с вновь пришедшим менеджером или начальником, ищет чужую рамку, про которую у нее спросили, где она лежит, освобождает коробки, смеётся так, что не может остановиться, говорит длинноты, которые отдают отчаянием и униженностью, как старые вещи нафталином, а ты зависаешь. Поэтому любая, даже самая нелюбезная работа, вроде рабского оклеивания товара, десять тысяч штук за смену, для девушки до замужества, для тебя милее, чем работать с Леди в паре. А всё же она из них самая живая. И вообще, женщины на этой работе интересней мужчин, трагичней, больше, что ли. Может, потому что Москва, может, везде так. Героиничиха, Леди Макбет Мценского уезда бунтуют сильнее Демидролыча, Шивы, Будды, Рамы, выполняя службу. Демидролыч в претензии к целому свету, что он не видит смысла, Будда, Шива и Рама, три ипостаси одного Бога, вернее, его добродетелей. Шива, который покупал мороженое девочке-рабыне и мне, загримированному под грузчика автору, разведчику в роли чма, посланному на заданье, как здесь любят и как здесь ненавидят, как здесь дружат и как здесь презирают, разведать на обеде. Рама, который не ругается матом при сыне. Будда, который уживается со всеми. И Героиничиха, которая сначала всех строит, а потом ищет благодати. Они с Демидролычем подружились, потому что это примерно одно и то же. Быть в претензии к целому свету, что ты не находишь в нем смысла и в построенном строю искать благодати. А мы подружились с Леди. Такая дружба-вражда, когда люди понимают друг друга с полуслова, только на свой лад. Я – что всех жалко, а потом вдруг кидаюсь, потому что себя тоже жалко, сколько можно меня чмить. Она – что себя жалко, а потом, что все сотрудники фирмы, оказывается, не мутанты, а люди. Я вот, например, до этих конкретики и обобщенья не смог подняться. Правда, у меня другая работа. Не пить водку и алкать чуда. И в конце концов так натренироваться, что пьянеть от кваса сопричастником жертвы.
ДЕЛО НЕ В ЭТОМ
Начальники нужны. Вчера, когда Балда Полбич в два часа ночи устроил рок-концерт возле своей доры, которую он третий год чинит. Работник Балда Полбич местный национальный герой с литовскими корнями, посадил и не выкопал картошку, сжег зимой полсарая, не в лес же ездить за дровами, живет с другой пиписькой, когда жена на работе, потому что так получилось. Вовсе не злобен, в прошлом году, взял беспризорного Глядящего Со Стороны в семью, которых по острову и по стране много разбросано. Живет у него уже год, работает в музее, помогает Агар Агарычу доры строить. В позапрошлом году дрался с Рысьим глазом, что он углядел своим рысьим глазом что-то не то, что надо. Два лета назад мутузил Глядящего Со Стороны, что тот не смотрит за детьми.
Начальники нужны. Вчера, когда Работник Балда Полбич с пива устроил в два часа ночи рок-концерт возле своей доры, которую он уже третий год чинит. Посадил недавно картошку, в конце июня. Оранжевые усы говорит, а зачем, он все равно её не выкапывает осенью? Вышла Нирвана, дочь Кулаковых, в замужестве Золушкина, третьего мужа взяла Ваню, себя моложе в два раза, здесь такое часто, ровесника старшего сына, работает на трех работах и трех подработках, тащит службу, выспаться некогда, ещё успевает попасть в клев на Тамарин причал и наловить два ведра селедки и заколоть корову, правда потом пришлось дострелить, видно, рука дрогнула, но это уже не от нас, взялся же, раз надо. Мандельштам воспитывал жену, писала жена, которая всю жизнь наизусть помнила его книги, чтобы донести до потомков, чтобы было дальше, записывать было нельзя, все на всех стучали, думали, что так можно гарантировать себе безопасность, безумцы. И даже потом написала об этом две книги. Как она пятьдесят лет наизусть помнила все книги мужа, который все знал наперед, и поэтому женился на девочке и её воспитал.
Здесь всё наоборот, жена воспитала мужа. Север вообще место, где женщина больше мужчины. Мужчина здесь вроде подростка. Кто громче пукнет, кто больше выпьет, кто наловит рыбу крупнее. Вообще-то она здесь не живёт, в этом доме, а в светской части посёлка, где школа, больница, администрация, магазины. Здесь останавливается с мужем и детьми летом старшая дочь, жена владельца двух магазинов на Соловках и бани, но они не вышли, хоть у них дети спали или не спали. Побоялись или постеснялись. Но они не вышли, а она вышла. Говорит, ты чего, дура, нельзя музыку ночью, голосом почти ласковым, ну-ка давай выключай скорей. И музыка потухла. Надо же, какая мужественная женщина, сказал я Марии, закрыл глаза и заснул, а потом проснулся и пишу об этом, а тогда лежал и наворачивал про великое ничто. А Марии было все равно, она бы и так и так до четырех читала, ещё один тип русской женщины, но это другое, это как у Мандельштамов, только, может, еще похлеще. Мандельштамиха делала, как муж учил, и сохраняла строчки, Мария может сама научить про строчки, как говорил дядя Толя в моём детстве, трудись только, зверюга, и всё у тебя будет. В деревне Белькова, Стрелецкого сельсовета, Мценского района, Орловской области, в которой я в первый раз в одиннадцать лет выпил водки и обжегся, а потом пытался влюбиться, и мне выбили за это ползуба, который был не молочный, а коренной, так я и хожу теперь с ползубом уже тридцать лет. Потом ещё много ползубов приходилось во рту языком трогать. В армии, в семье, на работе. Но это уже метафорические ползубы: свои и чужие. Эпилепсия, лимфаденит, жена, тёща, дочка, мама, бабушка, приступы, припадки, скорые помощи, нотариальные конторы, офисы, квартиры, издательства, книги.
Впрочем, это вы уже из другой оперы, как говорил Соленый, герой пьесы Чехова «Как закалялась сталь», в которой ничего не происходит и, чтобы что-то происходило, устроилась великая октябрьская социалистическая революция и многое другое.
Впрочем, я не об этом. Я про то, что начальники нужны. Вчера в два часа ночи, когда Работник Балда Полбич, который устроил рок-концерт возле своей доры (лодка такая), которую он третий год починяет, хоть там работы, прибить две доски, просмолить и покрасить. Но это надо, чтобы фишка так легла, короче, чтобы так получилось, чтобы оно как бы само так получилось, чтобы оно само прибилось, покрасилось, просмолилось. Этим мы все и похожи. Несмотря на совершенно разный опыт жизни. Начальник магазинов и бани Самолетов, работник Балда Полбич, который завёл курей и телка, чтобы куры летали в палисадник к Кулаковым и там кормились левкоем и маком, а телок за лето откормился на даровой траве, а осенью ни выкопать картошку, ни починить дору, ни заколоть телка, ни съездить в лес за дровами уже не будет возможности, потому что снег ляжет, потому что земля замерзнет, потому что нож потеряется, потому что соляра закончится. До следующего года.
И юродивый писатель Финлепсиныч, который приезжает с семьей на лето, чтобы писать книжки про местных, но мечтает остаться, чтобы стать местным, как будто про такое можно мечтать, но у него на этот счет свои мысли, зачем тогда писать книги, если не делать как написал?
На самом деле у Самолетова, частного предпринимателя и Финлепсиныча, нищего писателя, живущих в двух домах по соседству на Соловках, есть одна очень важная общая черта. Просто Финлепсинычу это важно, потому что это его ремесло, а Самолетову это неважно, потому что это не его ремесло. Его ремесло говорить фразы, я вас слушаю, вопрос был поставлен, заниматься спросом и сбытом, ездить на трещинную рыбалку на дамбу, за окунями на озёра, за селедкой на Тамарин причал, париться в своей бане, построенной из цельных бр ёвен, я бы хотел иметь такой дом, выпивать с друзьями и не знать, какая самая главная его черта, потому что этим занимается его сосед по улице нищий писатель Финлепсиныч, который стал юродивым из-за того, что не хотел в это поверить, и хотел с этим поспорить, и проспорил.
Что самая главная наша черта, жить как получится. Великая славянская лень, говорят этнографы, типа Лескова и Обломова. Но ведь в этом есть и благородство, подумал я сегодня. Я не передергиваю. Я ведь что-то сделал. И то, что я сделал, это очень много. Я-то хоть попытался, как говорит Мак-Мёрфи у Кена Кизи в «Кукушке». Просто там все идет в коме, и старое, и новое, и подставлять, и подставляться, и зона, и государство, и постмодернизм, и неохристианство. Простые тоже артисты, только они еще пофигисты. А ещё они за свою жопу трясутся гораздо больше сложных. Ведь у них не так много удовольствий. Женщина, вино, рыбалка, работа, любовь, дружба и речь как исповедание веры в то, что они не хотят знать сами, чтобы верить тем чище.
И их жёны, и их дети. Короче, они похожи самым главным. Так получилось. Назови хоть славянская лень, хоть русские, хоть набей туда семь килобайт патетики, хоть напиши строчку, дело не в этом, на песке, на побережье Белого моря. И для этого ехай на поезде сутки, потом на корабле плыви, потом живи в поселке, в той его части, где старожилы и пьющие живут, потом пойди семь километров по тайге, болоту, песку и глине, посиди на берегу моря, полюбуйся, как комары входят в твою плоть по самую рукоятку, и напиши на песке голой ногой. Дело не в этом.
МОЛИТВА
Я-то думал, что мне ещё надо что-то делать. Продлевать аренду, отдавать деньги, велосипеды, собаку Блажу на закланье, не отдавать церковь, государство и народ для нового режима, а там будь что будет. А оказалось, что я уже могу только молиться. И это старость. И это завязка.
Наступили крутые экспрессионистические события, как всегда внезапно они наступают. Вчера, до поджога рейхстага, а сегодня уже всё по-другому. Вчера ещё не взрывали небоскрёбы и была слабая надежда, что всё будет всё более надёжно, и всё больше держаться на благодати. А сегодня уже мы живём в таком мире, где нужно или чтобы тебя все чмили на публичных аутодафе, чиновники и подростки, или тащить службу и пить, чтобы сховаться. Мол, я в домике, дун-дура, сам за себя.
Сначала пришёл бабы Валин сын из дома лётчиков с маленькой девочкой, попросил велосипеда, доехать до магазина за жувачкой. Мы сказали, что это несерьёзно, он быстрее дойдёт, чем просит, и что я сейчас уезжаю на рыбалку. Я действительно уезжал на рыбалку. Я сказал ему, что это несерьёзно, а потом хотел дать, чтобы он не подумал, что мне жалко, потому что мне не жалко. Через две недели жилконтора заберёт квартиру и все эти вещи, которые мы свозили сюда на остров, как в ересь, как будто в рай можно свезти любимые вещи и устроиться в нём навечно. Велосипед, лодка, мамины ковры и пледы из Польши, которые они полжизни зарабатывали вместе с папой, а сын выродок профукал, мои рукописи и книги, Мариины рукоделия, вышивки и одежда из сэконд-хэнда, дочкины картины, когда она была ещё не она, тринадцатилетняя дама, решившая, что свет начался сначала, когда она родилась, чтобы ей было веселее смотреть кино как всё само получилось, а из нашей тоски в животе явившаяся звезда, чудо, за которым надо ходить и ухаживать, которое когда не покормишь, оно злое, а когда накормишь, оно доброе, ради которого надо принимать все режимы, чтобы зарабатывать деньги на еду и одежду, а ещё пуще на чувство крыши, надёжной крыши над головою, начиная с городской квартиры и загородной дачи, заканчивая церковью, государством и народом.
И другое, которое дорого только нам. Камни и моребойка с побережья. Заржавевшие слесарные тиски и латунный монастырский умывальник. Отслужившие вещи, с которыми жалко расставаться. Которые переехали в деревню, чтобы в конце концов достаться пьющему дну и их детям. Посуда, чёрные чашки, фиолетовые чайники, квадратные тарелки. Всё, что красиво до юродства. Но Мария сказала, а где мы его искать будем? И я согласился. Потому что в прошлом году, пока она ходила по милициям и жилконторам, насчёт пропажи велосипеда и продленья аренды, я писал рассказы, что настало такое время, что велосипеды сами возвращаются к своим хозяевам, а квартиры сами отдаются кому надо, как женщины, для продленья рода, для породы, для благородства. Чтобы было дальше. И в конце концов для молитвы о Боге, которая из всех наших алканий и алчбы вытекает, как вино из разбитого кувшина, как кровь из убитого человека. Как неблагополучные дети своих благополучных родителей. Даже если они благополучны, их благополучие как проклятие. Как ангел Господень прилетал с вестью, месту сему быть пусту.
Потом пришёл Оранжевые усы, отсидевший шесть лет строгого режима, стал на колени и стал просить 70 рублей на бутылку. Водка на острове в два раза дороже, за извоз накручивают, и сколько ни назначь, хоть 700, хоть 7000, всё равно покупать будут. Сказал, что предыдущие пятьдесят вместе с этими семьюдесятью через два дня. А хочешь, забирай у меня дрова за двести, четыре куба. Дрова стоят семьсот пятьдесят рублей куб, скажу в скобках.
Нас в Кеми приютила на ночь, пока ждали корабля, дочка местного бонзы, одного из владельцев причала. Мы не хотели ночевать на пристани, тем более что там отмечали чей-то день рожденья, зная, как я по-болгарски вспыльчив и по-русски неразборчив, каждый раз в драке готов перепутать войну с ангельским чином. В своём подгородном доме, который она купила у местного алкаша за тысячу деревянных. Когда на следующее утро она нас провожала на остановке, все мужчины с ней здоровались, а все женщины с ней не здоровались. Я подумал, говорят, мужская логика это: чайка это птица отряда буревестник и так далее, как у немцев. Женская логика это: чайка это не чайник, не гайка, не деревообрабатывающий завод, который вот уже который год на запоре, потому что фины скупили леса на корню, не муж, который продаст за бутылку дом и квартиру, и себя в придачу, чтобы его не отрывали от телевизора, по которому он смотрит единственную передачу по всем каналам, как всё само получится, что всё постепенно сойдёт на нет. И прочие феномены. И так до исчерпанья ряда. Так что в душе и в мире останется место только для чайки. И тогда сознанию, а больше носителю благодати, даже если её совсем не осталось, станет ясно, что такое чайка. Короче, феноменология.
Я сказал, ты чё, совсем меня за падлу держишь? Ты же сидел, зачем ты меня подставляешь? Нашёл на кого молиться, тоже нашёл себе Бога. Первый же не уважать меня потом будешь. Он сказал, ты не пьёшь, не знаешь, что это такое. Я сказал, ну что мы будем соревноваться, кто больнее? Один пьёт запоем, другой припадочный, третий вешаться пошёл, четвёртый начальник, а это хуже всего вышеперечисленного ряда заболеванье. И тут он со мной согласился, и даже, кажется, меня не возненавидел, за то, что я поломал ему кайф и ссадил с иглы, если это возможно. Когда всё мужское населенье, некоторые после работы, а некоторые всплошь смотрят единственную передачу по всем каналам. Как так получилось, что всё постепенно сошло на нет. И в плане личной благодати, и в плане кроющего социалистического отечества, и в плане церкви христовой, которая теперь вроде общественного института, отвечающего за идеологический сектор или, по-старому говоря, фарисейство, и в плане всё прощающего народа, который теперь ничего не прощает.
Потом я пошёл за молоком к соседке, Вере Геннадьевне Кулаковой. Она вышла и стала пенять мне на собаку. Что она кинулась на старшего сына, местного барина, и рычала на его же младшую дочку, что вообще смерти подобно, по крайней мере, для Блажи сначала. Что она укусила за голову Маленькую Гугнивую Мадонну. Правда, потом выяснилось, что она сама ударилась головой о камень. Короче, что возмущены и возмущены, и возмущенью нет предела. И сам барин, и его жена барыня, и какой-то Паша Павлинский.
Из чего я вынес, что мы раздражаем. Что это последнее лето на Соловках. Что она сама всех накрутила. Что всегда так было. Склочники, уроды, выродки, графоманы, юродивые, святые. И всё это вперемежку и вместе. И непонятно, кто юродивее, а кто святее. Это потому что у тебя ещё были силы удерживать мир от жлобства. Отдавать велосипеды, лодки, собаку на закланье. А теперь их не стало. И мир сразу стал как после поджога рейхстага и взрыва небоскрёбов, в котором можно только работать и пить после работы, чтобы смотреть по всем каналам единственную передачу, как так получилось, что всё сошло на нет: и чайка, и гайка, и чайник, и муж. И отдаю это место, а потом другое и третье для православного туризма, для туристического паломничества, для нового государства, для старого фарисейства, а сам молниеносно старею. И уже никаких чудес и неожиданностей не ожидаю от света. Сначала дожить спокойно две недели в этом месте, а потом сколько Бог даст в другом. И единственно, что у меня осталось за душой от просмотра единственной передачи по всем каналам, это чувство несчастья. И я его буду холить и лелеять. И сначала стану чмом, а потом юродивым, а потом сложу молитву. Как мы втайне от всего мира в недрах государства, церкви и народа воспитали младенца в яслях, а потом его погубили. Но было уже поздно. Младенец уже родился. И уже понял, что дело не в этом. Не в публичных аутодафе, не в юродивых жестах, не в актёрстве, не в фарисействе, даже не в графоманстве. Что дело в деле. Чтобы всё время молиться сначала. А потом не давать деньги на подставу, велосипеды на жлобство, собаку на закланье, народ на просмотр передачи, государство на войну со своей смертью, церковь на культмассовый сектор. И что из этого получится то, что всегда получалось. Святой пусть ещё святится, юродивый пусть ещё юродится, несчастный пусть ещё несчастится, жлоб пусть ещё жлобится, мученик пусть ещё мучится. «Се, Аз при дверях».
И все об этом знают. Потому что это как у мужчин, корова - это млекопитающее отряда парнокопытных, как у немцев. И как у женщин, корова - это не детство, не зрелость, не старость, не дружба, не любовь, не вера, не поэзия, не философия, не богословие, не зона, не государство, не церковь, не ад, не чистилище, не рай, не Соединённые Штаты Америки, не Франция, не Германия, не Россия, не начальники, не надсмотрщики, не работяги и не другая корова. Короче, феноменология, мысли. Вот моя молитва.
ПОПРОЩАТЬСЯ С ПЛАТОНОМ КАРАТАЕВЫМ –3
Жизнь не закончилась концом света, а началась сначала. По этому поводу можно испытывать вдохновение, но не в сорок же лет. Потому что столько раз она уже заканчивалась и начиналась, что скопилась такая усталость, похожая на смертную тоску, то ли в животе крыса, то ли в груди жаба, то ли в сердце муравей. И они грызут, грызут.
«Во время проезда маршала пленные сбились в кучу, и Пьер увидал Каратаева, которого он не видел ещё в нынешнее утро. Каратаев в своей шинельке сидел, прислонившись к берёзе. В лице его, кроме выражения вчерашнего радостного умиления при рассказе о безвинном страдании купца, светилось ещё выражение тихой торжественности.
Каратаев смотрел на Пьера своими добрыми, круглыми глазами, подёрнутыми теперь слезою, и, видимо, подзывал его к себе, хотел сказать что-то. Но Пьеру слишком страшно было за себя. Он сделал так, как будто не видал его взгляда, и поспешно отошёл.
Когда пленные опять тронулись, Пьер оглянулся назад. Каратаев сидел на краю дороги, у берёзы; и два француза что-то говорили над ним. Пьер не оглядывался больше. Он шёл, прихрамывая, в гору.
Сзади, с того места, где сидел Каратаев, послышался выстрел, но в то же мгновение, как он услыхал его, Пьер вспомнил, что он не кончил ещё начатое перед проездом маршала вычисление о том, сколько переходов оставалось до Смоленска. И он стал считать. Два французские солдата, из которых один держал в руке снятое, дымящееся ружьё, пробежали мимо Пьера. Они оба были бледны, и в выражении их лиц – один из них робко взглянул на Пьера – было что-то похожее на то, что он видел в молодом солдате на казни. Пьер посмотрел на солдата и вспомнил о том, как этот солдат третьего дня сжёг, высушивая на костре, свою рубаху и как смеялись над ним.
Собака завыла сзади, с того места, где сидел Каратаев. «Экая дура, о чём она воет?» - подумал Пьер.
Солдаты-товарищи, шедшие рядом с Пьером, не оглядывались, так же как и он, на то место, с которого послышался выстрел и потом вой собаки; но строгое выражение лежало на всех лицах.»
Толстой, «Война и мир».
Это все вопросы, похожие на те, что задаёт безумная, юродивая, влюбчивая Мера Преизбыточная из города Апатиты, пожилая женщина. Сколько весит рулон толя? Ты мне дашь селедки? Сколько весит кедр с землёй? Ты мне дашь окуней? В последний день перед отъездом я разозлился, потому что не до этого, и ответил, сколько весит кедр с землёй? Килограмма два, я думаю, был ответ. Килограмма два, сказал я.
Это похоже на склоку, но, наверное, так и есть. То, что останется, то и есть. Сын нерождённый, и даже два ребёнка, и даже три ребёнка, грех молодости, останутся. Книги останутся как прожитые мысли и несовершённые поступки, которые, может быть, кто-то ещё совершит, которые настоящие дети, потому что наши дети отдельные люди. У начальников дети или циники, или наркоманы, у подчинённых – добрые и злые юродивые. А я, я ухожу. Бог его знает, куда я ухожу. Надо уже теперь готовиться, больше курить, пить и работать, чтобы не говорить лишнего, не успевать за курением, питиём и работой. Смогу ли я оттуда посмотреть, вот что, наверно, сладко, и будет ли мне это интересно? Жить несколько лет, а умирать навсегда.
А вообще-то, литература тем и хороша, что она как загробность. Это вам не телевизор с его сытенькими журналистами и актёрами, которым нравится нравиться, бедным. Хотя и литература такая бывает. Шестидесятые уже недоступны, пили, но имели за душой мысли. Гуляли, но были трезвы. Но ведь и с нами так окажется, как у Толстого. И Курагины перед лицом смерти с их деньгами, властью и наслаждением – маленькие, несчастные и слабые. И Пьер Безухов с его «добраться до сути» не отпустил свою жизнь настолько далеко, чтобы попрощаться с солью земли русской, Платоном Каратаевым, ослабевшим, расстреливаемым французскими гренадерами. 1000 лет прощались, а где-то с Толстого перестали, сделалось литературой, и стали советскими. Так и на Соловках, везде люди, добрые и злые юродивые, дело не в этом. Дело в том, что прощаться перестали, не то что прощать. Или ты слишком много хочешь. Но ведь сделали в этом году Валокардинычиха, Ма, Мера Преизбыточная, Вера Верная то, что я назвал попрощаться с Платоном Каратаевым. В данном случае не за нас заступиться, выселяемых из дома, в котором мы прожили шесть лет, а попрощаться с теми Соловками. Форма прощания выбирается произвольно, в зависимости от темперамента и жертвы. От просто оглянуться, до заступиться и тоже расстреляют. Короче, потщиться. Ведь это и есть христианство, не золоченые ризы, не форма одежды, не новое фарисейство, замешанное на старом. В 20е-30е годы выгодно было быть красным, в 60е-70е партийным, в 90е стало выгодно быть верующим. Народа два, народ и население, население всегда выживает, ему все равно, какая форма одежды и речёвки, МЧС, паломники, КПСС, КГБ. Там главное, что оно ещё не сделало своего выбора, они деньги в детей вкладывают, добрых и злых юродивых. Народ всегда подставляется, это и есть христианство, потщиться подставиться, насколько ты сможешь, никто не требует большего, ни Христос, ни Толстой. Что ты есть, а не как в детстве, я в домике, меня нет, верующие так верующие, неверующие так неверующие, лишь бы выживать на вираже истории. Хотя бы оглянуться - и это прощанье, если на большее тебя не хватит. Валокардинычиха побежала в жилконтору, поймала Богемыча, бывшего двусмысленного брата, стала обзывать полудурком, за то что Яниных выселяет. А он в ответ, а они что тебе родственники? Я, когда она рассказала, поцеловал пальцы, конфетка. Там ведь всё просто, выгодно, невыгодно. В середине девяностых, когда отдавали в аренду, было выгодно принимать москвичей, потому что и деньги круглый год платили, и дом обиходили. В начале 2000х невыгодно, потому что православный туризм и туристическое паломничество. Квартира на Соловках – золотое дно и долларя инфраструктуры. В прошлом бы году не пошла, что мне, Господи, больше всех надо? Ещё не умер Валокардиныч. А теперь поняла, что людей почти не осталось, хоть их стало в десять раз больше, но те в домике. Они тебе что родственники? Подошла другая начальница, ну что скажешь, куколка? Та ответила, херукалка, вы зачем Яниных выселяете? Вы понимаете, стены и кресты, Платон Каратаев и Соловки, конечно, что дело не в Яниных. В прошлом году, когда я сказал Грише, что нас выселяют, можно мы у тебя в сарае на улице оставим какие-то вещи, память, Соловки настоящие, дочкины картины, мои рукописи, мамины пледы, женины вещи, принесённые из сэконд-хэнда в начале девяностых, как влюблённый ценитель находит в лавке старьёвщика шедевр забытого мастера Бога и покупает за копейки, да больше у него и нет, то Гриша ответил, вы знали, на что шли, когда везли вещи на остров. Ты-то, Господи, не знал, на что шел, когда рождался и все же родился. Родственник Бога Богемыч тоже ведь знал, на что шёл, когда становился начальником. Короче, что я хочу сказать. В прошлом году, когда нас выселяли и Мария всем рассказывала про это, Вера Верная в ответ рассказала о своих горестях, дочку зарезали на вступительных, Гриша сказал то что сказал, Валокардинычиха боролась за Валокардиныча, ей было не до дачников. И только Ма сказала, я к вам приду. Ни к чему не обязывает, простая оглядка, но кто из вас без греха пусть первый бросит в неё камень. Вы понимаете, стены и камни, память и совесть, Платон Каратаев и Соловки, конечно. Это не гордыня. Попрощаться с нами - это попрощаться с той жизнью, когда юродивые приезжали из Москвы и Питера и что-то там по углам писали, рисовали и строили, а местные пили, а другие местные выживали, но эти всегда выживают, но все они были вместе, потому что друг другу помогали, давали фору. Даже Богемыч возил меня на доре Агар Агарыча встречать Марию на осенние каникулы, когда я на Хуторе всю осень, зиму и весну прощался с Господом Богом 24 часа в сутки. И кажется, он меня простил, правда наградил болезнью кликуш и юродивых, но без этого тоже нельзя, это смертная память. Богемыч меня тогда раздел по деньгам, хоть пили вместе и допился до белой горячки, с тех пор не пьет и стал начальник. Может, лучше бы пил? Народ уверен что лучше, и до тех пор он народ, пока не стал населением. Я ведь и тогда всё знал, и про Богемыча, и про Кулаковых, что мы разные. Но опыт мало что значит, жизнь сводит и разводит. Кулаковы, новые баре, отослали гулять в лес с собакой, потому что у них тут кругом дети, а собака какая-то юродивая, то лает, то не лает. В лес тоже нельзя с собакой, рассказал нам охранник с Хутора, который теперь тоже круглые сутки охранник, и когда не работает, и в отпуске, и с женой в кровати, и на рыбалке. Где же нам гулять с собакой, на том свете, что ли? Как я писал когда-то, чтобы видеть Бога, надо всегда держать подле юродивую собаку Блажу. Потом всё стало ясно. Зачем нам дачники из Москвы, у нас же нет дач в Москве, сказал Богемыч. 30 лет жизни как будто бы и не бывало. Когда юродивые художники, поэты, ремесленники и ученые из Москвы и Питера устраивались здесь общиной. И тот же Богемыч сам приезжий. Короче, вы знали, на что шли, когда везли вещи на остров. Я не свожу счеты. Я прощаюсь. Просто теперь другое. Туристическую группу ведут по мосткам на Зайчиках, где Демидролыч шесть лет с Богом разговаривал по 24 часа в сутки после митрополита Филиппа, который всё мог, как Маугли, и соборы строить, и себя закланывать, после императора Петра, который как заведеный все строил и строил, как будто бы в этом дело, что ему делать дальше, подставлять или подставляться? А потом собрался и теперь служит менеджером по закупкам в офисе в фирме в мегаполисе с населеньем средней европейской державы. Отдаёт деньги матери, бывшей жене и детям, а сам ложится на стол, заваленный файлами, задирает ноги на дисплей и мысленно восклицает, да пошло оно всё на хер. А группа туристов идет одна по мосткам, пока про Демидролыча, святого Филиппа, Петра и Господа Бога пишу. С которых сходить нельзя. Впереди идёт экскурсовод, сзади охранник или эмчеэсник. А что делать, если вся наша жизнь сплошная чрезвычайная ситуация. Зато в этом году, когда Мария сказала, что нас уже выселили, Вера Верная сказала, попробую поговорить с мэршей, Валокардинычиха испекла пирог, подорожники, сказала, будем искать другую квартиру, а вообще-то я завтра позвоню мэрше. Ма пришла с тортиком и сказала, я ничего не знала, но пришла Мера Преизбыточная и сказала, надо бороться. Я сразу всё поняла. Я у вас буду долго, завтра я выходная. А мы завтра уезжаем и нам надо собираться, не сказали мы. Сносить вещи в сарай, хоть дело не в вещах, а в памяти. Отъезд очень похож на смерть, как сон на загробность. Только с собой не возьмешь, ни кофеварку, ни строчки. Зато к маме подходят два небесных особиста, подполковник и полковник, ангелы и говорят, ты давай влияй там на него по своим каналам, а то он всё пишет и пишет, они ведь потом всё прочтут, лишь бы самим не делать, чтобы сделаться из советских постсоветскими, которым всё равно кому памятник на Лубянке ставить, митрополиту Филиппу или рыцарю революции, начальнику террора в одной отдельно взятой стране для всего населенья, лишь бы зарплату платили, лишь бы выживать на вираже истории, он тебе что родственник? Мама отвечает, хорошо, с желтыми губами и желтыми глазами, цвет разлуки, и начинает думать мысли, а я думаю, что это я их думаю. Надо мамины два ковра и плед назад увозить, и книги, и рукописи – то, что сюда привез в начале лета, как Сизиф с его камнем, туда-сюда вожу одно и то же. Что ж, и это форма прощания, если на большее не можешь потщиться, а не форма ереси, что мамины ковры и пледы – мама, а твои рукописи – ты.
ШИФРОВКА
Ну, она просто не соизмеряет степень опасности с силой удара, сказала Мария. Когда я ей на третий день по приезде в оседлый базовый город Мытищи, где живут инопланетяне: Гойя Босховна наехала, чтобы позвонили в милицию, что прежние хозяева квартиры не забирают машину, гараж на отпоре, бомжи ходят, на хер мне это надо? Которых расплодилось за лето еще больше. Одна сторона центральной улицы Старых Мытищ городская, другая деревенская. Там - стекляшки, бары, девятиэтажки, джипы, здесь - собачьи своры, склады, долгострои, бомжи, одно- и двухэтажки. Там - асфальт, мостовая, автобусные остановки, здесь - заросли крапивы и собачьи свадьбы.
А я в ответ, все умрём. А Мария, она просто не соизмеряет степень опасности с силой удара. А я, круто, пойду запишу. Это про всех инопланетян. Они этим и отличаются от мутантов, индейцев и послеконцасветцев, а это все люди, чем подростки от взрослых, что я в центре мирозданья, а вокруг не я, тьма внешняя. У индейцев по-другому, я на периферии, а не я в центре, но это потому что ещё не было искушенья корыстью, удара помертвенья, всей жизни, после которой вы делаетесь или мутантом, или индейцем, или послеконцасветцем. Про индейцев больше всего информации в разведчицком центре, в который шифровку вы перехватили, воздух и стены, у которых глаза и губы, тьмы тем праха земного, который дышит, потому что всё живое. Так всегда у Бога, а мы ведь Божьи, хоть третий век уже бунтуем против него. Сначала с революцией и Наполеоном, не надо нам его подарков, в смерть как в омут, в жизнь как в бездну, крематорий и колумбарий в конце тоннеля. Потом с Гитлером и Сталиным, наши мочат ненаших, а когда ненашими оказываемся мы сами… Но, собственно, я про это. Мутанты, которые всегда фехтуют, дома я в центре, на работе не я в центре, двуличие как главное следствие удара помертвенья, искушения корыстью, итог всей жизни. Грустно, но не самое страшное из того, что может быть. Остаются послеконцасветцы. У тех вообще нет я и не я, но с этими сложно. Моя мама, когда умирала, была таким послеконцасветцем, который знает, что любая шифровка рассчитана на утечку, любая жизнь на бессмертье, даже если потом в смерть как в омут, потому что при жизни – бездна. Я не знаю, насколько я внятно излагаю, Господин из Сан-Франциско, подполковник Штирлиц, святой Филипп, митрополит московский, который всё мог, как Маугли, и соборы строить, и себя закланывать, как все послеконцасветцы. У них широкий профиль в отличие от индейцев. Те больше по ремёслам и по выпить водки. Мутанты те больше службу тащат во многих поколеньях. Инопланетяне, у тех любимое занятье – подставить другого под комелёк, как Ильич на субботнике в знаменитой фреске детства. Натирают машину до янтарного блеска, а тряпочку за забор бросают: дальше начинается тьма внешняя. Архангел Гавриил с трубой, уважаемый читатель, моя периодизация условна. Один Бог знает, кого в ком сколько.
Никита Янев, Веня Атикин, Гамлет, Финлепсиныч, Послеконцасветыч, Генка, индеец, мутант, инопланетянин, послеконцасветец, разведчик федерального центра в неблагополучной провинции, а также несуществующего центра смерти во всякой периферии жизни. Шифровка, рассчитанная на утечку, как земля глядит на небо, а вода в себя вытекает.
ДО СВИДАНИЯ, МИЛЫЕ
Понимал, но совсем по-другому. Что можно и расстаться с женой, дочкой, матерью, матерью матери дочки, но не для других жены, дочки, матери, матери матери дочки, а чтобы все было уже по-настоящему, потому что до сих пор подставлял их под комелёк, как Ильич на субботнике в знаменитой фреске детства, службу тащить, а сам уходил думать в дальние комнаты и приходил, чтобы взять деньги на одежду, книги и фрукты и задать тону воспитанию дочери.
И вот в один момент показалось, что все эти хлопоты с продажей квартиры маминой ничего не стоят рядом с другими хлопотами, поставить памятник на могиле маминой, а они в свою очередь рядом с другими, ещё больше настоящими, остаться одному, чтобы помнить обо всех. Потому что так не получается, что Бог это другой, потому что начинаешь строить в порядки, жухаешь, а думаешь, что не жухаешь, а просто говоришь вслух. Но вот ведь не печатают, потому что пока не надо твоей правды. И здесь то же самое. Нельзя подмахивать, но и нельзя жухать. Надо уйти в сторону, если не можешь большего. Просто подставиться.
Я тогда этого не понял с работниками одной московской фотофирмы, Демидролычем, Героиничихой, Шивой, Буддой, Рамой, Леди Макбет Мценского уезда, Госпожой Бовари. Мне казалось, зачем такая непоследовательность, строить в порядки и искать благодати, только служить и искать смысла. Я ещё обзывал их мутантами. Мужское, женское на работе можно, а человеческое после работы, а «после работы» нет. А ещё интересно, что иерархия именно так распологается. Героиничиха, которая больше всех работает, а потому имеет право других заставить. Демидролыч, который работает не меньше, но уже на истерике. Будда, которому всё равно. Это начальники, а вот подчиненные. Госпожа Бовари и Леди Макбет Мценского уезда схлестнулись по поводу местного истолкованья женского счастья. И победила, как ни странно, Леди, по крайней мере, до времени. Шива и Рама союзники. Шиву нужно уволить, потому что он друг начальника и начальник не хочет платить ему столько, сколько он спрашивает. И сначала он, видно, был нужен для внешних связей с общественностью. А теперь, когда связи устаканились и понты не долбят, он не нужен и его опускают, чтобы он уволился, а он не увольняется. И Рама не увольняется, хотя ему платят шесть тысяч за работу почти каторжную. То есть становятся видны иерархия и твоё прелюбодеяние. Что начальники кивают на подчинённых по поводу трудовой дисциплины и божественной благодати, что работать надо почти бесплатно. А подчинённым не на кого пенять, и тогда они раздвояются. Одной половиной себя говорят, что на них смотреть, их трукать надо, на дамочек. Другой половиной себя покупают мороженое на переменке между работами каторжными девочке-рабыне и писателю, загримированному под грузчика. Почему? Потому же зачем самому главному начальнику нужен был Шива, бог любви, для дружбы с другими самыми главными начальниками, а когда дело процвело, стало понятно, есть славняк, есть голяк, а есть сплошняк. Для голяка Шива не нужен. Грузчик, которому платят десять тысяч. Для голяка нужен Рама. Грузчик, которому платят шесть тысяч. Но, может быть, они победят. Бог любви и бог войны своим московским терпением, не самым терпением в мире, но когда в электричке переполненной в Москву из ближнего Подмосковья добираешься в тридцатиградусную жару и думаешь, так каждый день? А потом думаешь, да им только за то, что они до неё доезжают, сразу надо платить десять тысяч без разговоров. Начальники со мной не согласятся, у них свои счета и в них всегда не сходится дебет с кредитом. Зато они сразу подружились, Шива и Рама. Бог войны сразу понял, что бог любви выше по иерархии и подчинился беспрекословно.
Зачем я это всё говорю? Чтобы добраться до своих чертей. Если ты так крут, чтобы всех судить, маму, жену, дочку, маму мамы дочки, Героиничиху, Демидролыча, Шиву, Будду, Раму, Госпожу Бовари, Леди Макбет Мценского уезда, начальников, подчинённых, тогда не составляй списки, что с чем надеть. Синие джинсы, обрезанные под длинные шорты, жара, с жёлтой футболкой, купленной в мытищинском сэконде за тридцать рублей. Светлые штаны с весёленькой футболкой, болезненное пристрастие у сорокалетнего мужчины к светленькому и весёленькому. Серые шорты с обильными карманами и бордовая футболка, купленные по случаю на Мелитопольском рынке в развале, когда отъезжали на курорт Кирилловка, что на Азовском море, в часе езды от города, где бабушка и дочка, бедные, мучаются без воды и общества за пятнадцать долларов в день с человека.
Если ты так крут, будь один, чтобы никого не ранила твоя галиматья, которая на бумаге может быть красивой литературой, может быть. А в быту простое юродивое занудство. Будь один. И смотри на них на всех как с необитаемого острова, или как с тонущей подводной лодки, или как с летающей тарелки, отчужденно и мученически. Как Платон Каратаев говорил, всё хорошо, все хорошие, ничаво, малай. На самцов, на самочек, на внучек, на бабушек, на продавцов, на отдыхающих. Не получается. Страх и стыд юродивые не пускают быть одному и всё прощать другому себе, многоликому, спасительному.
Просто каждый раз кажется, что своей работой умеренной, ванну вагонкой обшивал, крышу заделывал, на компьютере набивал свои рассказы и повести в нашем неблагополучном одноэтажном доме, последнем в Старых Мытищах. Квартиру продавал мамину, ставил памятник на могиле матери с женой Мариею в чужом родном южном городе Мелитополе, бывшем осколке бывшей великой империи в скифо-сармато-казацких прериях или на Приазовщине, как по-местному. Заслужил маленьких подарочков, поехать в книжный на Лубянке и купить книжку Астафьева «Затеси», книжку Довлатова «Ремесло», которую наскребли с бора по сосенке, он такую книгу не писал. Если бы при жизни их так любили, людей, как после смерти их любят, всё было бы по-другому, а может, и нет. Ведь и Мере Преизбыточной в клинической смерти казалось, дай только вернусь, в лепёшку расшибусь, чтобы вокруг не было этого космического холода, и больше ничего. А вернулась и снова стала жухать и подмахивать, дарить то, что нельзя продать, просить то, что нельзя купить. Зато безумная, юродивая и влюбчивая. Это самое большое достижение российской государственности, когда вокруг одни разумные, холодные и немые. Как я в лесу на Соловках, заблудившийся, думал, вот вернусь и заживём так, что аж дым со сраки, как говорил Петя Богдан, он тоже умер. Их как-то враз Бог подобрал, талантливых. Останин, Егоров, Агафонов, Петя Богдан, Николай Филиппович Приходько и многие. Я не талантливый, я юродивый. Это когда как на фотографиях во время застолий видно, тот, кто не пьет, пьянее тех, кто пьёт, потому что испытывает двойную вину, за тех кто пьет и за то что не пьёт. А вернулся, не стал мочь терпеть другого себя совсем, который Бог, многоликий, спасительный, начальники, подчинённые, дамочки, бывшие двусмысленные братья, мама, бабушка, Соединённые Штаты Америки, Мария жена, Майка Пупкова дочь. Поехать на курорт Кирилловка, а по пути на рыночном развале в нижнем городе купить красивой ветоши: фу
|
|
ТАК ГОВОРИТ КУВАЛДИН |

Маргарита Прошина знает творчество Юрия Кувалдина лучше литературоведов и критиков.
Конечно, ситуация с распространением серьезной литературы со времен Перестройки, кончины СССР и книжного бума сильно изменилась. Если в то время у меня выходили книги 100-тысячными тиражами и разлетались благодаря Союзкниге по всей территории шестой части суши земли, то сейчас тираж в 1 тысячу экз. продать очень сложно. На вечере я сказал, что книги, практически, не продаются. Выступивший потом Андрей Яхонтов стал «опровергать» моё мнение, приводя примеры продажи книг и у букинистов, и в книжных развалах и в книжных магазинах. Андрей Яхонтов имел в виду, что книги лежат на прилавках и их можно купить. Я же говорил совершенно о другом, о том, что невозможно реализовать вышедший из печати тираж даже в тысячу экземпляров, даже в 500 экз. Вот что значит, быть не понятым! Я говорил как издатель, прошедший путь от стотысячников до штучных тиражей, и знающий всю кухню книжного дела - от набора, верстки, печати, до транспортировки и распространения тиража. И никогда я не ждал от литературы денег. Я находил деньги для издания дорогих для моего сердца книг. Я даже вывел формулу: там, где начинаются деньги, там кончается искусство. В книгах - моя душа. И в наше время я книги раздаю, дарю истинным поклонникам чтения. Пополняю в том числе фонды библиотек. И чрезмерно радуюсь, когда на моем пути встречаются понимающие меня люди, такие, например, как Маргарита Васильевна Прошина, подерживающая меня и в проблемах книжного распространения, и в самой сути литературного творчества, в философии моего писательства. Недаром на вечере она проникновенно высказалась о сущности собственно моего творчества и на примере романа «Так говорил Заратустра», и на поэзии рассказов, очень московских, чувственных и интеллигентных.
Юрий КУВАЛДИН
|
|
Писатель Юрий Кувалдин в 65 лет в Галерее А-3 (А-три) 22 ноября 2011 года |

Юрий Кувалдин родился 19 ноября 1946 года прямо в литературу в «Славянском базаре» рядом с первопечатником Иваном Федоровым. Написал десять томов художественных произведений, создал свое издательство «Книжный сад», основал свой ежемесячный литературный журнал «Наша улица», создал свою литературную школу, свою Литературу.
65-ЛЕТИЕ ПИСАТЕЛЯ ЮРИЯ КУВАЛДИНА В ГАЛЕРЕЕ А-3 (А-три)
Когда прохладный солнечный день склонился к звездному вечеру, в атмосфере приподнятости и праздничности прошел 65-й день рождения писателя Юрия Кувалдина 22 ноября 2011 года в Галерее А-3 (А-три) в Староконюшенном переулке. Можно было бы назвать это крупное событие юбилееем, но юбилей - это круглая дата, поскольку само слово "юбилей" еще в фараонских временах Египта означало круглый бараний рог. На вечере звучали стихи и песни, тосты в честь автора "Счастья" и "Вавилонской башни". На вечере выступили: бард Евгений Бачурин, художник Александр Трифонов, глава администрации Первого Президента России Сергей Филатов, поэтесса Нина Краснова, певец Анатолий Шамардин, поэтесса Людмила Осокина, режиссер и писатель Ваграм Кеворков, заслуженный работник культуры Российской Федерации Маргарита Прошина, редактор Геннадий Самойленко, поэт Александр Тимофеевский, писатель и драматург Андрей Яхонтов, поэт Кирилл Ковальджи, художник Владимир Опара, бард Алексей Воронин, скульптор Дмитрий Тугаринов.
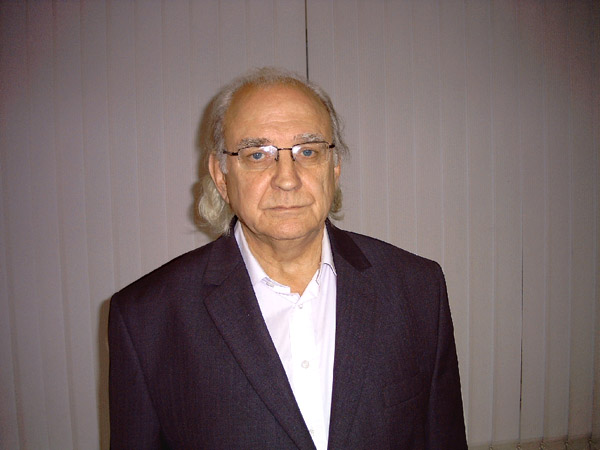
Писатель Юрий Кувалдин в 65 лет в Галерее А-3 (А-три) 22 ноября 2011 года

Юрий Кувалдин ведет свой вечер

Выступает поэтесса Нина Краснова

Выступает режиссер и писатель Ваграм Кеворков

Выступает Глава администрации Первого Президента Сергей Филатов

Глава администрации Первого Президента Сергей Филатов

Заместитель директора библиотеки им. И.А. Бунина Маргарита Прошина

Поэт Кирилл Ковальджи

Кирилл Ковальджи и Юрий Кувалдин

Художники Азиз Азизов и Владимир Опара

С поздравлением к писателю Юрию Кувалдину обращается художник Владимир Опара

Нина Бачурина, бард Евгений Бачурин, скульптор Владимир Буйначёв

Юрий Кувалдин и Евгений Бачурин

Сергей Филатов и художник Александр Трифонов

Художник Владимир Опара и директор Галереи А-3 (А-три) художник Виталий Копачёв
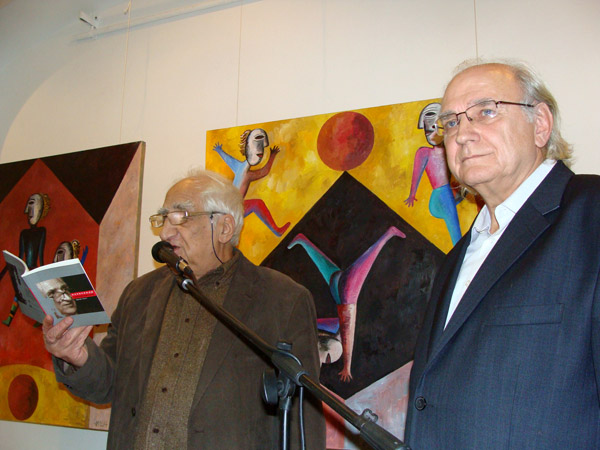
Александр Тимофеевский и Юрий Кувалдин

Маргарита Прошина говорит о творчестве писателя Юрия Кувалдина

Ваграм Кеворков, Маргарита Прошина, филолог Светлана Соколова и Александр Трифонов

Редактор Геннадий Самойленко вспоминает о сотрудничестве с писателем Юрием Кувалдиным в издательстве "Книжная палата" в конце 80-х годов

Выступает поэтесса Людмила Осокина

Лидер Третьего Русского авангарда художник Александр Трифонов

Скульптор Дмитрий Тугаринов и Сергей Филатов

Алексей Воронин и Юрий Кувалдин

Автор песни из телефильма "Юрий Кувалдин. Жизнь в тексте" бард Алексей Воронин с песней "Я жил когда-то в маленьком раю"

Писатель и драматург Андрей Яхонтов

Андрей Яхонтов и поэт Александр Тимофеевский

Поэтесса Людмила Осокина запечатлевает вечер

Алексей Воронин, Ваграм Кеворков, Маргарита Прошина, Светлана Соколова, Наталья Дьякова (Тимофеевская), Андрей Яхонтов, Александр Тимофеевский
|
|
Мне просто хотелось жить, понять жизнь, чтобы рассказать о ней |

Кирилл Владимирович Ковальджи родился 14 марта 1930 года в селе Ташлык, в Бессарабии, входившей тогда в состав Румынии. Окончил Литературный институт им. М. Горького. Первая публикация в 1947 году, первый сборник стихов “Испытание” в 1955 году в Кишиневе. Автор многих поэтических и прозаических книг, среди которых книги стихотворений “Лирика” (1993), “Невидимый порог” (1999/2000) и “Обратный отсчет” (2003), выпущенные Юрием Кувалдиным в его издательстве “Книжный сад”.
КИРИЛЛ КОВАЛЬДЖИ:
"У РОССИИ НЕ ТА КОЛЕЯ"
- Познакомились мы с вами, Кирилл Владимирович, уже более тридцати лет назад на Черном море, в доме поэта Максимилиана Волошина в Коктебеле, но только теперь мне стало понятно, почему вы решили в свое время поступать в Литинститут...
- В 1947 году в школе я выпустил рукописный журнал, где были, в основном, стихи, назывался он "Юность". Как бы этим предвосхитил появление журнала "Юность" Валентина Катаева. Сама судьба вела меня. Катаеву удалось сделать невероятное - пробить этот новый журнал. Конечно, Катаев был циником и конформистом, но при этом он был мастером и организатором. Однажды я с ним ехал в поезде. В разговоре я непочтительно отозвался о Демьяне Бедном. Катаев моментально отреагировал на это и страстно принялся защищать Демьяна: "А вы знаете, что у него была лучшая библиотека в Москве, а вы знаете, что он знал несколько иностранных языков..." И так минут пятнадцать: "А вы знаете..." Я слушал, а потом спросил: "Валентин Петрович, а какой он был человек?" И Катаев бросил: "А-а, сволочь!" В "Юности" мне потом, при Борисе Полевом и Андрее Дементьеве, довелось работать. Да, я уже со школьной скамьи был заражен поэзией. И после окончания школы хотел поступать в Литинститут, а отец меня отговорил: "Ты что, с ума сошел! У тебя ж профессии не будет. Ты поступи в какой-нибудь солидный институт, а потом пиши себе стихи". Я взял и поступил в Одесский институт инженеров морского флота, на судомеханический факультет. Потом из-за ареста отца перевелся поближе к дому, на физмат Белгород-Днестровского учительского института. А в 1949 году я все же послал стихи на конкурс в Литературный институт. И мне пришел вызов. Я приехал и поступил. Это была совершенно необычная среда на этом курсе, нас было человек двадцать, и были люди от семнадцати лет до тридцати пяти. Со мной учились Фазиль Искандер, Леонид Жуховицкий, Василий Субботин, Зоя Крахмальникова, Борис Никольский (главный реактор "Невы")... Я попал в семинар к Сергею Васильеву, все пять лет я шел как поэт. Потом Васильева сменил Долматовский. Москва меня не испугала. До этого я видел Бухарест. В 1943 году я там был. Москва, конечно, мне очень понравилась. И были люди из разных стран на курсе - поляки, румыны, кстати... Я должен сказать, что не сам процесс учебы, не сами предметы обогатили меня, а именно люди, библиотека, в которой можно было найти много таких книг, которых не было в прочих библиотеках, и, разумеется, Москва. А общежитие было в Переделкино, в разных дачах. Сначала мы ездили в Москву на паровиках, потом пошли электрички.
- Скажите, пожалуйста, в период обучения в Литинституте об Андрее Платоновиче Платонове вы уже знали?
- Нет, ни словечка, хотя он жил во дворе Литинститута, когда я там учился. Потом, когда я увидел его на фотографии, я вспомнил, что такого человека, сидящего на скамейке, я видел. Но никто из взрослых не говорил, что существует писатель Платонов.
- Ну, а к Борису Леонидовичу Пастернаку не пытались пойти?
- Должен покаяться, что он тогда у меня большого интереса не вызывал. В ту пору классики, которые жили вокруг, нас интересовали мало. Это эгоизм молодости. Они свое дело сделали, а будущее - наше! Потом попадались нам где-то мельком Катаев, Леонов, Чуковский... но я не стремился с ними встречаться, и за все четыре года с ними не познакомился. На третьем курсе Литинститута я выпустил пять экземпляров машинописного журнала "Март", к восьмому марта, где один из авторов, поляк, поздравляя женщин с восьмым марта, сказал, что женщина - друг человека, а я в предисловии написал, что авторов не буду подвергать редактуре, что для того времени являлось криминалом, раздал их на пять курсов, за что меня выгоняли, но Долматовский, который вел наш семинар тогда и тоже, в общем-то, меня строго осудил, однако, в целом, отстоял. Из комсомола меня все же исключили, но райком не утвердил это решение. Когда мы стали заканчивать институт, пришла вдруг такая мысль: надо собрать деньги на выпускной вечер. А как? Давай-ка мы обойдем всех знаменитых писателей Переделкина с подписным листом. Первым мы пошли к Катаеву. Представились - студенты Литинститута. Он обрадовался, посадил за стол, и часа полтора рассказывал про свою молодость, про Бунина, про Одессу... Время идет. Потом с большим трудом я как-то сказал, что вот у нас подписной лист на вечер... Тут он усек, что пришли не его слушать, а за деньгами. Он как-то скис сразу, пошел в другую комнату, вынес сто рублей. Мы вышли от него, и пошли к Леонову. Я говорю ребятам, что нужно прямо с подписки начинать, а то опять на "рассказ" нарвемся. Застали мы Леонова копошащимся в саду. Он хотел пригласить нас на веранду, а я сразу сказал о цели нашего визита. И наступило молчание. Покачал головой, сказал: "Да, это я представляю себе, чтобы я первый раз пошел бы к Горькому с подписными листками!" - "Да что вы, Леонид Максимович, мы просто не находили повода, чтобы к вам прийти. Три года мечтали!" Оттаял он немножко и спросил: "Знаете, что такое история? Видите эту дорожку сада? Она посыпана мелким гравием. Я вывез из Берлина тот камень, который Гитлер хотел пустить на памятник в честь взятия Москвы, раздробил его на мелкие кусочки и посыпал дорожки своего сада"... Денег он дал. Потом мы пошли к Пастернаку. Уже смеркалось. Открыли калитку, вошли. И в это время он пошел навстречу нам с какими-то двумя женщинами. И я подошел к нему и говорю: "Борис Леонидович, мы к вам из Литинститута". Он как-то навис надо мной своей лошадиной головой и как-то так по-детски так говорит: "Ко мне, разве вы не знаете, кто я такой? Разве вы не знаете, что, кроме вреда, я ничего не смогу вам принести". Мы его стали успокаивать, что любим его читать. А он: "Вы видите, я сейчас с дамами. Пожалуйста, приходите ко мне завтра". Завтра мы не пришли. Вот это была вся моя встреча с Пастернаком, к сожалению. А потом еще пошли к Симонову, и тоже прокололись, поскольку, кроме подписного листа, был еще черновичок, где мы предполагали, кто что внесет, и против Симонова, так как он был миллионером, поставили, что он тысячу рублей внесет. Константин Михайлович это увидел, взметнул брови, пошел куда-то, и вынес в два раза больше.
- Кирилл Владимирович, я достаточно подробно знаю вашу биографию, тем не менее, когда и почему вы начали писать стихи?
- Первое стихотворение я сочинил, когда мне было лет семь. В связи с котенком, которого я мучил, я же и жалел. Об этом я написал. Но по-румынски. Поскольку я учился в румынской школе, в первом классе. Меня похвалили, и я тут же разогнался и написал второе стихотворение. Но так как оно не созрело, темы не было, то я вместо "котенка" подставил "щенка", а стихотворение осталось прежним. Когда я его прочитал старшим, я до сих пор помню недоумение на их лицах и сильное смущение. Что надолго у меня отбило охоту писать стихи. Но когда я выступил с первым стихотворением в школе, один доморощенный критик из моего же класса сказал, что: "Это не ты написал, а твоя мама!" Я говорю: "Моя мама не умеет по-румынски". Говорит: "Ты перевел". С тех пор я помню слово "перевод". Он сказал: "А как же можно рифму перевести?" Он не знал другого языка, в котором тоже есть нужные рифмы. Это был первый побудительный мотив. А второй был уже в восьмом классе, уже в русской школе. Я влюбился в свою одноклассницу. Естественно, надо было как-то выразить ей свои чувства. Но до этого я к стихам относился без всякого интереса. Потому что главным интересом была война. Я был летописцем этой войны. Я каждый день составлял сводки. Отмечал движение фронтов, полагая, что если я этого не сделаю, то потом все это забудут. Я исписал много тетрадей этими сводками, и картами. Все это я зарисовывал. Все это делал объективно: слушал Лондон, Москву, Бухарест. Война застала меня в Аккермане, это сейчас Белгород-Днестровский. Но отец решил нас отвезти подальше от войны, в Одессу, считая, что это глубокий тыл. А когда Одессу взяли румыны, мы вернулись а Аккерман. Границы ходили через меня, и фронты. Хотя и мы бегали. Сначала на восток, в Одессу, а в сорок четвертом году в Румынию, в городок Калафат. Как только Румыния сдалась, мы опять вернулись домой в Аккерман. Не спрашивая партию и правительство, сами вернулись...
- Хорошо, понятен ваш мальчишеский интерес к войне, сводкам... А скажите, в то время литературная подготовка у вас уже какая-то начиналась?
- Безусловно, литературная подготовка была, поскольку я очень много читал, в основном, прозу, а не стихи. Даже во время бомбежки однажды придумал роман, который собирался написать, но не написал. Но через двадцать-тридцать лет я все же обратился к прозе. В наибольшей степени в ранний период моей жизни на меня повлиял, прежде всего, Пушкин. Несмотря на то, что дело было в Румынии, у нас в доме оказался однотомник Пушкина. Большая книга, как Библия. Полное собрание сочинений в одном томе, с иллюстрациями. Вот я с малых лет эту книгу перелистывал, пока не умел читать, смотрел картинки, а потом и читал ее... Жаль, что во время войны она погибла. Влияние замечательное. И сейчас Пушкина часто открываю частенько, но до сих пор всего его я не прочитал. Заглядываю в комментарии к "Евгению Онегину", там есть много выброшенных строк, которые нынешний поэт ни за что не стал бы выбрасывать. Ну, например:
Блажен, кто понял голос строгий
Необходимости земной,
Кто в жизни шел большой дорогой,
Большой дорогой столбовой, -
Кто цель имел и к ней стремился,
Кто знал, зачем он в свет явился...
И очень любопытно читать комментарии Лотмана и Набокова. Они не совпадают совершенно. Один подходит с научной позиции, а этот - с точки зрения языка и художества. Поэтому очень любопытно, как они наслаиваются...
- От Пушкина перейдем к вам, поскольку у вас есть мощное, в четыре строчки, как у Тютчева, стихотворение "У России не та колея".
- Это такое четверостишие из цикла "Зерна":
У России свой путь. Вековые вопросы
Возвращают на круги своя...
На границе вагоны меняют колеса -
У России не та колея.
Продолжу о моем раннем знакомстве с русской литературой. Значит, Пушкин, потом война, потом опять учеба в румынской гимназии. "Войну и мир" я читаю по-румынски, в адаптированном переводе, который назывался "Наполеон и Александр". То есть я не знал, что существует "Война и мир". И потом, когда я вернулся из Румынии в Аккерман, был Валерий Брюсов. Вот какой был скачок! Ни Есенина, ни Блока - никого я не знал. И вот - Брюсов. Он попался мне случайно. Я ходил в парткабинет, где была карта, на которой отмечался фронт, и там же я брал книги в библиотеке. Я попросил какую-нибудь книжку, и мне дали Брюсова. Я подумал, что это проза, и взял. Когда открыл, увидел стихи, и смутился, но уже возвращать было неудобно, и я понес домой. Стал читать, и пришел в восторг. Почему? Потому что Брюсов любил историю, как я, и любил астрономию, как я. Я обчитывал всех своих школьных соучеников Валерием Брюсовым, до тех пор, пока не появились соперники - Есенин и Блок. И тогда Валерий Брюсов немножко поблек, к сожалению. Но, тем не менее, когда я впервые приехал в Москву, в 1949 году, я, прежде всего, побежал на могилы Есенина и Брюсова. А теперь, с годами, конечно, я к Брюсову охладел, но осталась память о юношеской влюбленности в его поэзию. А вот по поводу Есенина, интересно, каким образом я с его произведениями познакомился. Есенин тогда не печатался. Это был сорок шестой - сорок седьмой годы. Я просто услышал на улице от преподавателя биологии. И вдруг я услышал такую фразу: "Этот поэт отплыл от одного берега, а к другому не приплыл". Меня это заинтересовало. Я тогда стал его искать и нашел. Когда хочешь, все найдешь, даже в провинциальном городке. А Блок случайно очаровал меня. Попался журнал "Огонек". И в тексте какого-то рассказа я наткнулся на две строчки из Блока:
Нет имени тебе, весна,
Нет имени тебе, мой дальний...
Я стал искать стихи Блока. И таким образом, случайно, ведь в провинции нет никакой литературной среды, и надо сказать, я немножко забегаю вперед, что никакой хорошей литературной школы у меня не было, не то, что у москвичей... Но я опоздал с творческой зрелостью, конечно... Между прочим, Есенина один человек попрекнул: "У вас же есть неграмотности!" - "Какие?" - спросил Есенин. "Ну вот:
Как кладбище, усеян сад
В берез усеянные кости...
Как это "усеян в кости"? Костьми, или костями". Есенин к нему обернулся и сказал: "Русский язык - это я". Вопрос был исчерпан. И Есенин был прав, потому что мастер имеет право на какие-то отклонения, которые потом могут стать нормой. И, вы замечали, иногда эти отклонения дают такой аромат живости, естественности, что сразу тут рождается полное доверие к автору. Кстати, тут у меня есть упрек к моему Валерию Брюсову. Он издал Тютчева, в 1904 году. И не удержался, и отредактировал Тютчева! Потому что Тютчев иногда сбивал ритм. Например, в стихотворении "Последняя любовь", последняя строфа у Тютчева выглядит так:
Пускай скудеет в жилах кровь,
Но в сердце не скудеет нежность...
О ты, последняя любовь!
Ты и блаженство и безнадежность.
Брюсов увидел в последней строчке сбой ямба и "исправил":
Блаженство ты и безнадежность.
И все пропало. Интонационно это обрушилось. Слон ему на ухо все-таки наступил. Ригорист...
- Заразившись поэзией, вы, Кирилл Владимирович, заранее предчувствовали, что она останется с вами навсегда?
- Отвечая на ваш, Юрий Александрович, вопрос прочитаю строки из своего стихотворения "Жить в гостиницах, в поездах...", написанного в девятнадцать лет.
...Жить, принимая всё,
Всё, что можно, пусть будет испытано;
Жизнь городов и сёл
Сердцем открытым впитывать,
А потом, взвесив жизнь в тишине,
Говорить о том, что прочувствовал,
О том, что скопилось во мне
По дням и ночам без устали -
И сгореть на таком огне!
Я родился, чтоб жить любопытствуя,
Благодарно и жадно жить,
И об истине бескорыстно
Для живущих стихи сложить.
Простодушное стихотворение, своеобразное кредо, которое мне теперь интересно (как документ!) тем, что я, во-первых, интуитивно связывал свое "созревание" с долголетием, во-вторых, не спешил вступать в поэтическую роль. Мне просто хотелось жить, понять жизнь, чтобы рассказать о ней. Никакого тщеславия. Нечто вроде ответственности летописца: будто кто-то мне поручил свидетельствовать "о времени и о себе". Я и следовал этой "программе", будучи одновременно погружен в современность и приподымаясь над ней. Считался с настоящим, но был свободен от него. Никогда целиком и полностью не сливался ни с одной жизненной (и житейской) ипостасью. Отсюда постоянное (порою мучительно противоречивое) чувство некоего своего превосходства и вины. И то и другое не следовало афишировать... Замечательно сказал Пастернак (в письме к Шаламову от 4 июня 1954 г.): "Меня с детства удивляла эта страсть большинства быть в каком-нибудь отношении типическими, обязательно представлять какой-нибудь разряд или категорию, а не быть собою... Как не понимают, что типичность - это утрата души и лица, гибель судьбы и имени". Я тоже с детства это чувствовал, при всех внешних компромиссах все-таки избегал совпадения с какими бы то ни было "категориями", чурался постоянной роли, определившегося "имиджа", клетки. Сказано: "Быть в мире, но не от мира сего". Похоже на эпитафию Сковороды: "Мир меня ловил, но не поймал". Как убого на этом фоне выглядит пресловутая ленинская формула "жить в обществе и быть свободным от общества нельзя". Нельзя и -можно! Даже должно. Потому в кругу любых догм я потенциальный еретик, готовый признать правоту оппонента, если он действительно прав... Мне не свойственна "энергия заблуждения". Потому и в литературной жизни я "беспринципен"... Эта моя особенность трактуется порой как житейская уклончивость, как отсутствие сильного характера (последнее - из высказывания С. Липкина о моих стихах). Па поверхности действительно то ли зыбь, то ли рябь, но под ней все-таки неуклонное и вполне определенное течение. В русской поэзии достаточно сильных характеров и ярких дарований. Однако в моих стихах при желании можно найти что-то такое, чего нет у сильных и ярких. К тому же я - не только стихотворец, а (по словам одного знакомого) "разветвленный человек". Наверное, в отличие от Маяковского - "тем и интересен".
Беседовал Юрий Кувалдин
"НАША УЛИЦА", № 5-2003
|
|
Как говорил поэт, сквозь револьверный лай |
Юрий Кувалдин
И ЛЕТИТ ФИЛОЛОГИЯ К ЧЕРТУ С МОСТА
(Александр Ерёменко)
Поднимаясь наверх возле Чистых прудов, понимаешь, что ты оказался на Патриарших. Останкинская телебашня. Т.282-15-38. Ул. Академика Королева, 15. М. “ВДНХ”, далее тролл. 13. 69 до ост. “Экскурсионный корпус телебашни”. Эта склонность к видениям тянет к окну, но об этом потом... Было время, когда поэт Бездомный шел (в первой редакции) от площади Революции пешком до Патриарших прудов с главным редактором толстого литературного журнала Берлиозом...
Но Будда нас учил: у каждого есть шанс,
никто не избежит блаженной продразверстки.
Я помню наизусть все 49 Станц,
чтобы не путать их с портвейном “777”.
Когда бы не стихи, у каждого есть шанс.
Но в прорву эту все уносится со свистом:
и 220 вольт, и 49 Станц,
и даже 27 бакинских коммунистов...
И пришли на лестницу (черную, где в висок мне ударяет какой-то вырванный с мясом черной курицы звонок). Таких домов с такими лестницами в 90-х годах двадцатого (двадцатого ли; откуда считаешь, математик?) не должно бы было быть, но они есть. Коммунальных квартир советское жилье, двадцать смей, полутемный широкий страшный коридор.
В одну дверь стучится Меламед Игорь Сунерович, плотный, в очках, невысокий, поэтом называющийся... Бездомный в кепке с большим козырьком (рассказ назывался так у Трифонова, Валентиновича) сидит уже на скамейке с толстым журналом (как осточертели эти толстые журналы, которые не читает 99,99 процентов всего населения), трамвай идет через Садовое кольцо с улицы Красина. Красина была Владимирской, кажется. Орион. Т. 470-04-54. Ул. Летчика Бабушкина, 26. М. “Бабушкинская”. Билеты 50р. Детский клуб открыт каждое Вс с 11.00 до 14.00. Для маленьких посетителей подготовлена веселая развлекательная программа с участием забавных клоунов и дрессированных животных.
Филонов съел пирожок в магазине самообслуживания в исполнении Плятта Ростислава, которого нигде нет. Если спросить у уборщицы, почему она пьяным утром собирала бутылки в исписанном подъезде критика Вл.Новикова, никто не ответит, потому что поэт, враг филологов и Филонова, который съел пирожок, Еременко (сколько же этих Еременок развелось по Москве, то артист, то флейтист, то пианист, то массажист) Александр, да Александр Еременко, с окончанием фамилии на “ко”, почему не на “ов”, был бы Еременков, а то - Еременко-ко-ко-ко, словно курочка снесла яичко-ко-ко, итак Еременко, смуглый, тип лица - узбекский, черноволосый, узкоглазый, нос с горбинкой, с усами, короче, Александр Еременко (эй, налей-ка, милый, чтобы сняло блажь, чтобы дух схватило, и скрутило аж! да налей вторую, чтоб валило с ног, нынче я пирую - отзвенел звонок!) свои бутылки в Крылатское в подъезд к Вл.Новикову не возил. Я с Меламедом вхожу в маленькую комнатку, зашарпанную, обшарпанную, бродяжью... Слово “бродяга” лучше, чем слово “бомж”...
Мы поедем с тобою наА и на Б
мимо цирка и речки, завернутой в медь,
где на Трубной, вернее сказать, на Трубе,
кто упал, кто пропал, кто остался сидеть...
Часто пишется “труп”, а читается “труд”,
где один человек разгребает завал,
и вчерашнее солнце в носилках несут
из подвала в подвал...
Бомж ничего не переехал, даже Садового кольца на красном трамвае-сцепке, из трех вагонов, такой красный трамвай, с деревянными вагонами, высокими, как сараи.
Еременко трезвый скучнее Еременко пьяного. Потому что трезвый не пишет ничего уже 10 лет, а Еременко поддатый не связывает слово со словом.
Я позвонил ему, шелестя газетой, после выхода Басинского с “Литературкой” к трамваю, шелестя все той же газетой, с Еременко...
Газета разобрала-поделила (Латы-ты-ты!) дачи в Перелыгино с Киевского вокзала, где Берлиоза искало руководство МАССОЛИТА...
Льет дождь... Цепных не слышно псов
на штаб-квартире патриарха,
где в центре аглицкого парка
Стоит Венера. Без трусов...
На даче сырость и бардак.
И сладкий запах керосина.
Льет дождь... На даче спят два сына,
допили водку и коньяк.
С крестов слетают кое-как
криволинейные вороны.
И днем и ночью, как ученый,
по кругу ходит Пастернак.
Направо - белый лес, как бредень.
Налево - блок могильных плит.
И воет пес соседский, Федин,
и, бедный, на ветвях сидит...
Играет ветер, бьется ставень.
А мачта гнется и скрыпит.
А по ночам гуляет Сталин.
Но вреден север для меня!
В общем, неважно, кто с кем выходил... Марина Тарасова напротив Окуджавы на одной улице, хотя Окуджава уже на совершенно другой. Говорю Тарасовой - Пастернак плохой поэт. Пастернак - это литературщина! Она чуть со стула не падает. Говорю, большая воля требуется, чтобы доказать, что Пастернак плохой поэт. И никакой воли (ни жизненной, ни поэтической) не нужно, чтобы со всеми заместителями литературы талдычить, что Пастернак... Впрочем... (далее по тексту следует джентльменский набор... а в походной сумке спички да табак... Пастернак... и рыжий, золотушный Бродский...) Хотя Басинский, не московский, в очках, скучный, и, по-моему, медлительный (ленивый?), как Меламед, и похожий на Меламеда, книгу которого стихов я собрался издавать, посовещавшись с Иваном Поныревым, пишущим под псевдонимом Иван Бездомный, а Басинский, нерасторопный, не мог больше одной страницы отписки в книгу однокурсника Меламеда написать что-нибудь про его стихи. Ростикс. Ресторан. Т. 251-49-50. 1-я Тверская-Ямская ул., 2/1. М. “Пушкинская. Ежедневно 10.00-23.00. В меню ресторана блюда из мяса курицы. Маленькие посетители могут попробовать специальный детский обед, в стоимость которого (80 р.) входит игрушка. В зале для детей есть игровой уголок с сухим бассейном, горками, лабиринтом.
Я звонил, а оттуда Еременко-ко-ко говорит: “Харипити кана оро минго варбугра”, - заикаясь, хрипя, икая, подвизгивая... И даже телефонная трубка запахла водкой. Потому что уходим в запой, как в дремучие сети Би-Лайна. Что еще доказать пионерам из 4-Б? Посмотри! Этот дом все стоит и стоит. И Москва утомительно рядом. На хрена мне такая Москва! А Еременко тихо обнял свой компьютер, и стучит по клавишам стихами Меламеда для “Книжного сада” в переплете зеленом, на толстой 120-граммовой белейшей бумаге.
Не оттого ли поэт Меламед набухался до сизого визга, для начала у себя на Хамовническом валу, а потом поехал с шоблой куда-то на допой, и шагнул из окна с третьего этажа? Он лежал трупорыльно. И дышал. Поэт дышал лежа. Потом на кровати в больнице я сдвинуть его помогал, он шептал и стонал. И белый халат поднимал одеяло и прозрачную утку подсовывал. С Патриарших прудов! Какой критик может понять полет пьяного в доску, в стельку, до положения риз поэта? Никакой!
Я пил с Мандельштамом на Курской дуге...
Лето - пора отдыха, и, получив долгожданный отпуск, все мы начинаем реализовывать планы, задуманные еще зимой и, стремясь из города к садам-огородам, к морю или, на худой конец, к ближайшему водохранилищу. Тем же, кто по какой-то причине остается проводить отпуск и каникулы в Москве, мы сегодня расскажем о наиболее интересных местах нашего города, куда можно отправиться всей семьей... ЦПКиО им. Горького. Правда, вход на территорию платный, но зато вы побываете в “Луна-парке”, покатаетесь на лошадях и пони, посетите многочисленные кафе или всей семьей с набережной Москвы-реки отправитесь в увлекательное путешествие на катере. Хотелось бы добавить, что покататься по реке можно и на речных трамвайчиках. Стоимость детского билета - 20 р. (будни), 40 р. (выходные), а для взрослых - 40 р. (будни), 80 р. (выходные). Расписание и маршрут поездки вы узнаете, позвонив на речной вокзал по т. 118-08-11.
В солнечный знойный день хочется очутиться на природе, открыть детям тайны великолепных растений. В таком случае лучшей прогулкой для вас станет посещение Ботанического сада с его восхитительными цветниками и вековыми деревьями.
Как видите, в столице много замечательных мест для проведения семейного досуга. Главное, не сидеть дома, и тогда от любого отпуска, даже если он проходит в Москве, останутся приятные воспоминания!
Есть поэт, близко живущий со взрывом в Печатниках, Викторов Борис. Приехали они в начале мая ко мне на Москву-реку с Меламедом, который еще не стал летающим поэтом, космонавтом не стал и летчиком тоже. Глаза их опрокинулись в черноту. Блажеевский Женька умер! У меня не было телефона, и Меламед с Викторовым приехали с это вестью о Блажеевском Евгении Ивановиче. Блажеевский постоянно добавлял к имени это “Иванович”, чтобы за еврея не принимали. Но его принимали, и он обижался, а однажды принес показать мне книжку еврейских поэтов, в которую его занесли. Я - русский! И умер неопохмеленным!
На трамвае с Красина через кольцо на Бронную Малую, которая больше Большой! И комсомолка в красной косынке рвет тормоз! Узбек Еременко, говорите!
И что он в трубку пьяным голосом там бормотал мне? Одно в конце бухнул расчлененно: “Кувалдин, с бутылкой ко мне!”. Куда мы поедем с тобою наА и на Б? В ночной Елисеевский, на Смоленку в дежурный или возьмем у швейцара в кабаке гостиницы “Центральной”? Если критик не пьет, то он идиот. Вперед, комсомольское критиков племя, вперед. А кто говорит, что поет, не зная мелодий и слов. Множественное число прудов идет оттого, что троится в глазах. Пруд Патриарший - малютка, лужа, болотце. Пионерские пруды в советское время. Кто укреплял Советское время? ГУЛАГ - напрасен, ЦК КПСС - напрасен, комсомол, ПТУ, партия - все напрасно и не имеет смыслов. Прекратите, товарищи, что-либо защищать. Все равно защищать нечего в гальванических лесах. И еще и еще по стакану, “Динамо”! Больше пить я не буду. Меламед расписался. А Валерий Краско (Крас-Краскопулос-Красотин-Красман-Красиян-Красневич, лишь во сне я так свободен, как свободен я во сне лишь), сумасшедший с Судостроительной улицы, сказал, что Меламед его опередил, потому что Краско первым хотел выброситься из окна. Умка. Детский познавательно-игровой центр. Т. 181-98-12. ВВЦ. М “ВДНХ”. Павильон № 8 “Юные натуралисты”. Ежедневно 10.00-18.00. Дети и родители могут стать участниками интереснейших мероприятий, проводимых на территории центра. Для посещения открыты: Планетарий, где можно узнать о звездах и Галактике, об эволюции Вселенной, солнечном затмении. Билеты 20 р. Физическая игротека (занимательная физика для детей от 5 до 15 лет). Билеты 15 р. Оранжерея (удивительные растения тропиков, субтропиков, пустынь).
Вот они какие, выдающиеся современники, пишущие исключительно на русском языке, по-русски, да еще с рифмами, да еще с ритмами, со стопами, со строфами... Стакан влындят и пишут.
Я заметил, что, сколько ни пью,
все равно выхожу из запоя.
Я заметил, что нас было двое.
Я еще постою на краю...
Можно бант завязать - на звезде.
И стихи напечатать любые.
Отражается небо в лесу, как в воде,
и деревья стоят голубые...
Коммуналка внутри, этот почерк знаком. По воде, как по льду, пешеходы скользят и кричат на углах, на могилах кричат - хаос сделаем смыслом, распределим по полочкам и помрем, как один, безвестными миллионами спермоподобных, больше пафоса в победе чего-нибудь, Патрики! Непобедимые слова трамвайного тепла. Все слова сказаны и все слова несказанные на Патриарших прудах. В лодочке гражданочка хохочет. Пионеры, обмотанные пулеметными лентами, штурмуют...
Вот только солнце выглянет, вот только солнце выглянет... Угол высокого дом с маленьким магазинчиком. Сделай, Еременко, оригинал-макет Маяковскому с облаком в штанах. О, этот выдуваемый шар столетий! Он еще не понял, что времени не существует, что есть одна комната, из которой ушел Мандельштам и пришел Еременко, а стулья остались. Суперпраздники для детей. Клоуны, фокусники, дрессированные животные, акробаты, любые артисты всех жанров. Дискотека, свет, дым. Караоке. Украшение зала воздушными шарами. Ростовые куклы и многое другое. Т. 125-78-06.
Велосипед в коридоре коммунальной квартиры. Мальчик едет на трехколесном велосипеде. Для тех, кто танцует. Обувь и одежда. Сеть фирменных магазинов. Приглашаем к сотрудничеству ночные клубы, стриптиз-бары, танцполы и развлекательные центры. Выполняем эксклюзивные заказы. На мониторе у Еременко, в углу, квадратик телеэкрана, идет футбол. Еременко верстает книгу Меламеда и смотрит футбол. Женщина с лицом алкоголички, сухим, кожа и кости, желтым, уходит за пивом. Центр красоты и здоровья. Пункты приема объявлений. На углу Ермолаевского и Малой Бронной стоят со стакнами Еременко, Есенин, Рубцов, Меламед и Блажеевский. Вдалеке виднеется фигура в штанах-галифе и в хромовых сапогах.
С кинокамерой, как с автоматом,
ты прошел по дорогам войны.
Режиссером ты был и солдатом
и затронул душевной струны...
В кабаках, в переулках, на нарах
ты беседы провел по стране
при свече, при лучинах, при фарах
и при солнечной ясной луне.
...стих Еременки сам пробивал себе дорогу, появившись даже в застойных “Днях поэзии” восьмидесятого и восемьдесят третьего годов. Вспоминается вечер молодых поэтов, устроенный на исходе 1984-го в помещении “Литгазеты”. В качестве “стариков Державиных” приглашены были Евгений Евтушенко и Станислав Лесневский. Аудитория весело встречала уже знаменитые к тому времени строки: “На раскладушке засыпает Фет”, “В густых металлургических лесах”, “И в белой душе расцветает диод”. Мы тогда ценили во всем этом веселье и остроумие...
Собираясь на отдых, мы редко задумываемся о том, с какими проблемами можно столкнуться на природе, а зря. Как не хотелось бы об этом думать, но именно в летний жаркий период возрастает вероятность получения всяких ненужных недугов и заболеваний. И чтобы не омрачать свой отпуск или отдых детей, необходимо знать элементарные меры предосторожности.
Туда, где роща корабельная
лежит и смотрит, как живая,
выходит девочка дебильная,
по желтой насыпи гуляет...
Ей очень трудно нагибаться.
Она к болту на 28
подносит ключ на 18,
хотя ее никто не просит...
Особенно это касается тех огородников, кто в качестве удобрения использует компост.
Довод существенный, думаю, что и сегодня имеет смысл продолжить спор. Дело в том, что новая поэзия всегда вырастает из быта, из домашней атмосферы и неуклонно вытесняет обветшавшую “публичную” риторику. “Домашний” “Арзамас” потому и победил “гражданскую” “Беседу”, из “быта” выросли потом и Некрасов, и Блок.
Евтушенко довольно решительно обрушился на такие строки Еременко:
Как говорил поэт, сквозь револьверный лай
(заметим на полях: и сам себе пролаял)
мы входим в город-сад или в загробный рай...
Мэтру показалась кощунственной подобная трактовка самоубийства Маяковского, хотя чего уж там: и романтику “револьверного лая”, и обман “города-сада” сегодня приходится отбросить окончательно. Отчитав молодого коллегу, маститый поэт снисходительно заметил, что он и сам из Марьиной рощи и тоже умеет “ботать по фене”.
...ирония Еременко создает исключительное неудобство для певцов ложных лозунгов. Центонный стих Еременко больно сталкивает поколения... Причем “дети” в этом споре нередко оказываются взрослее “отцов”: они жизнь видят зорче, бесстрашнее и беспощаднее.
“Сейчас все под Ерему работают”, - сказал один поэт.
ПэйнтлэндПарк. Мы приглашаем детей от 8 лет окунуться в незабываемый мир игр и приключений! 1. Пэйнтбол. 2. “Пикник на обочине” (пэйнтбол + испытания). 3. “Искатели приключений” (“Форт Байяр” в лесу). Спортинг-клуб “Москва” (15 км от МКАД по Минскому ш.), Бухта Радости на Пироговском водохранилище (20 км от МКАД по Осташковскому ш.). Т. (095) 482-47-12, 482-46-85, 126-09-43, 967-33-86. Еременко, Еременко-ко, Еременко-ко-ко, Ко-ко-ко-ко-ко-ко...
“Книжное обозрение”, 11 сентября 2000
Юрий Кувалдин. Собрание Сочинений в 10 томах. Издательство "Книжный сад", Москва, 2006, тираж 2000 экз. Том 10, стр.
|
|







