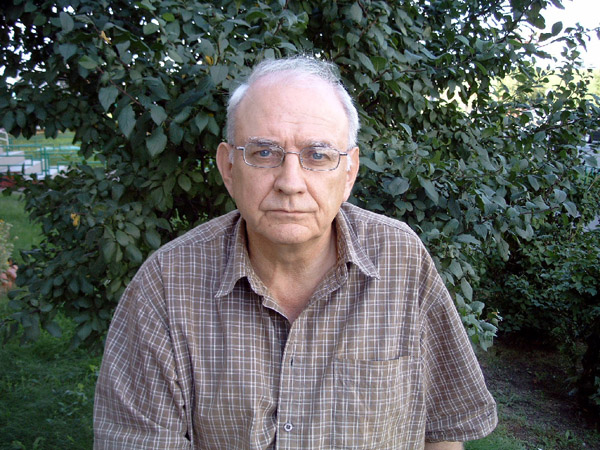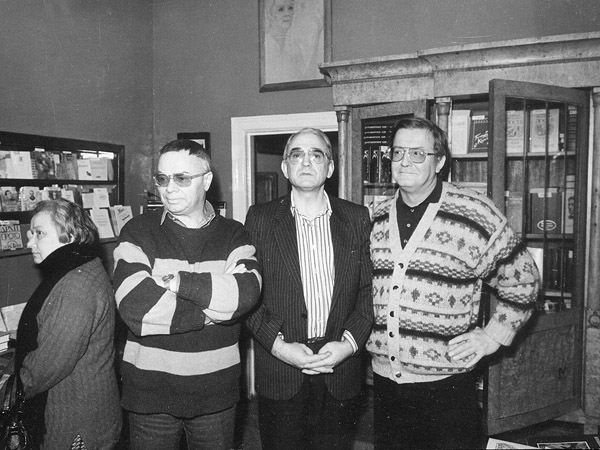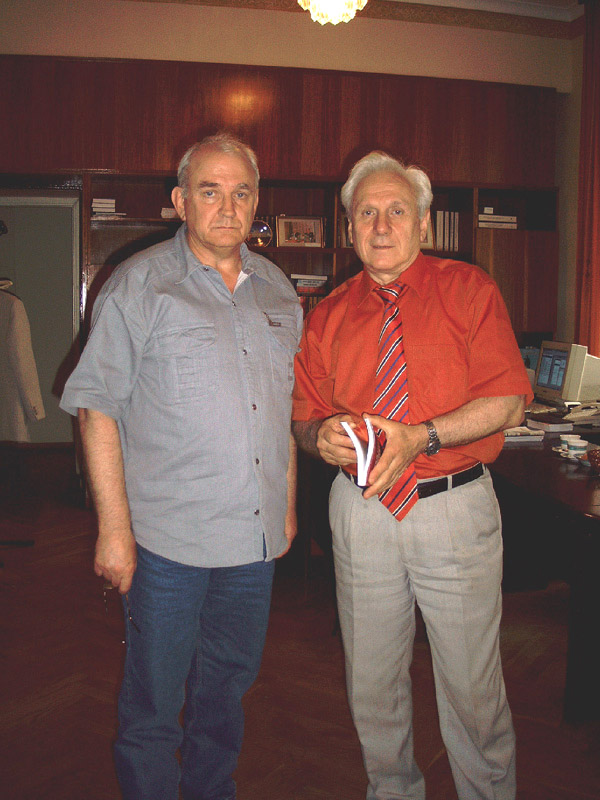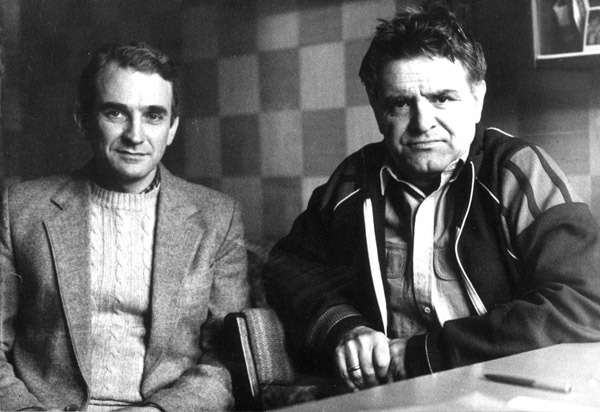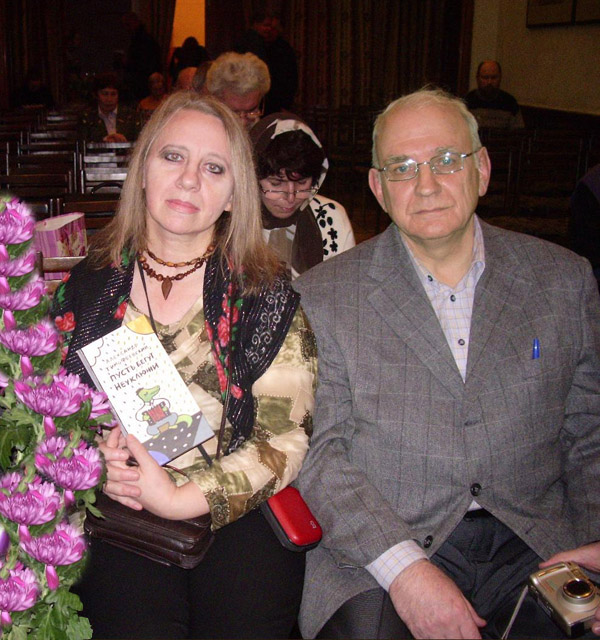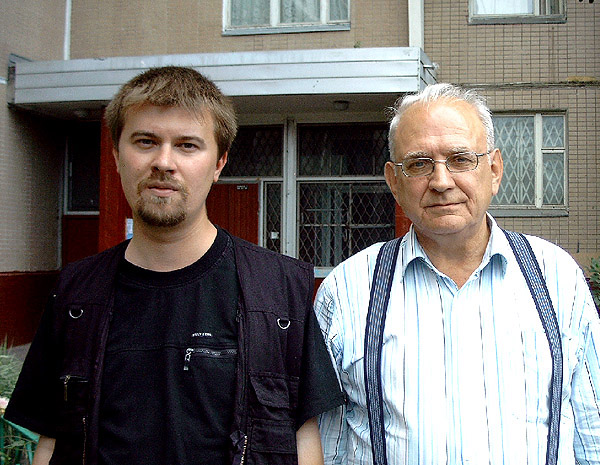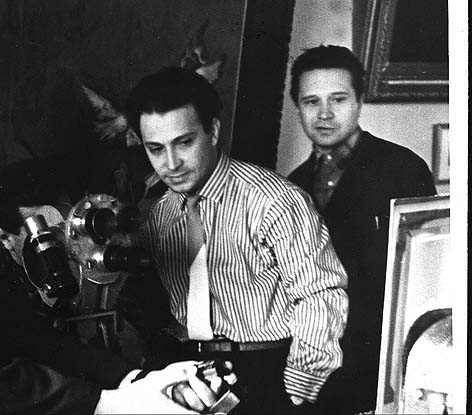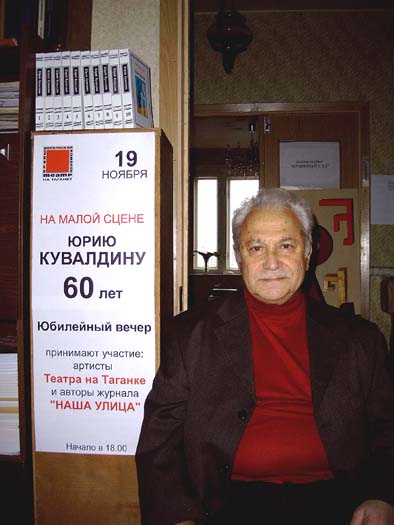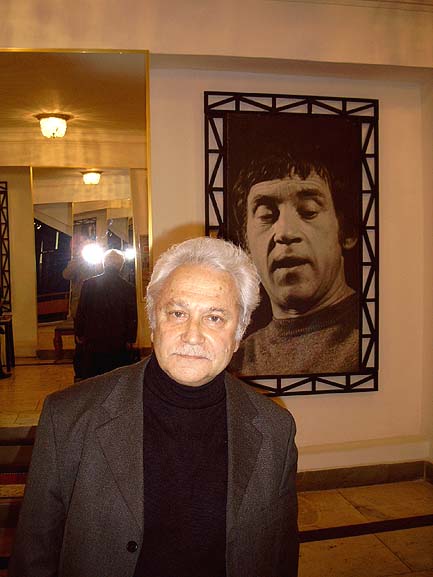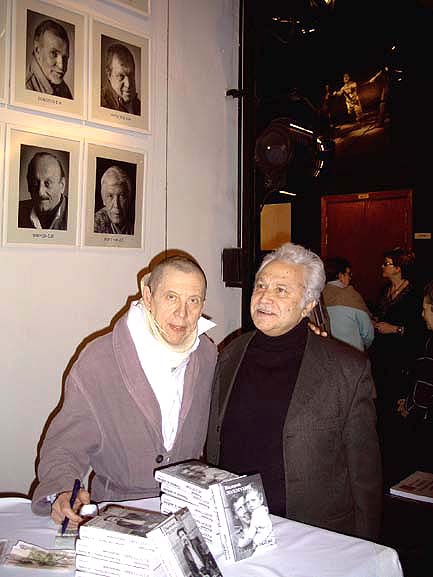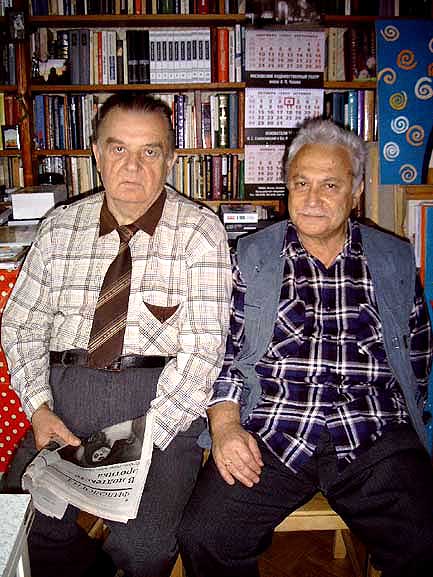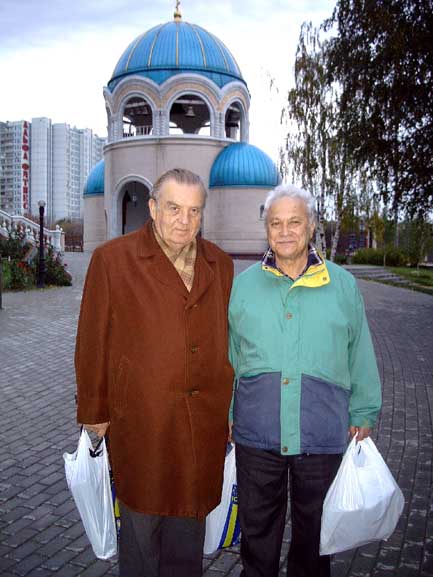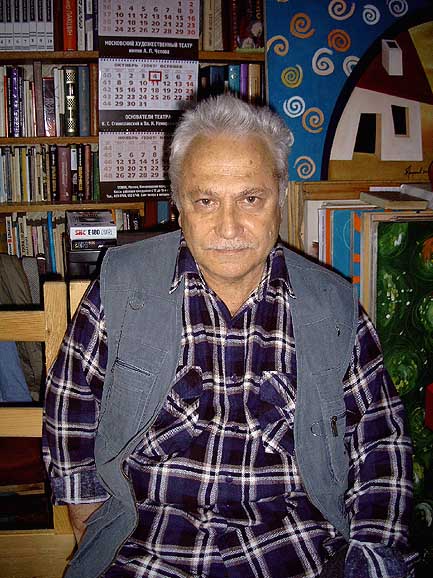То,что не было записано, того не существовало.
Юрий Кувалдин
старый дневник "Наша улица"
http://www.liveinternet.ru/users/4515614/
Юрий Кувалдин "Фёдор Крюков и Фёдор Достоевский" |
Юрий Кувалдин
ФЁДОР КРЮКОВ И ФЁДОР ДОСТОЕВСКИЙ
миниатюрное эссе


Фёдор Дмитриевич Крюков (1870-1920) и Фёдор Михайлович Достоевский (1821-1881)
Нужно быть Фёдором Достоевским, чтобы, пройдя публичную смертную казнь, отсидев 10 лет в тюремных батальонах, написать своих "Бесов". Так уж повелось, в России нужно сильно пострадать, чтобы стать писателем. Я всю свою жизнь, с детства, знал, что роман "Тихий Дон" написал белогвардеец Фёдор Крюков. В 1974 году жадно мы проглатывали книгу "Стремя "Тихого Дона" Ирины Медведевой-Томашевской с предисловием Александра Солженицына. В 1984 году я написал это миниатюрное эссе. Мало кто из нас верил в то, что красная чума будет уничтожена. Великий русский писатель Фёдор Крюков выходит из тени и уверенно занимает место среди классиков. Писатель Федор Дмитриевич Крюков родился 2 февраля 1870 года в станице Глазуновской Усть-Медведицкого округа земли Войска Донского. Окончил Петербургский историко-филологический институт. Статский советник. Депутат Первой государственной Думы. Заведующий отделом литературы и искусства журнала "Русское богатство" (редактор В. Г. Короленко). В Гражданскую войну выступал на стороне белых. Секретарь Войскового круга. В 1920 году, собрав в полевые сумки рукописи, чтобы издать их за рубежом, отступал вместе с остатками армии Деникина к Новороссийску. В дороге Федор Крюков заболел сыпным тифом и умер 20 февраля. Автор романа "Тихий Дон" и других произведений, положенных в основу так называемого "писателя Шолохова".
Юрий КУВАЛДИН
Федор Достоевский и Федор Крюков, два гения русской литературы, ведут своих героев к красоте, которая спасет мир, через мрак преступлений. В романе Федора Крюкова "Тихий Дон", если смотреть широко, изображение тяжелых, иногда безысходных противоречий достигает напряженного накала в образе Григория Мелехова. В эпизодах "Тихого Дона", рисующих развитие восстания против большевистской нечисти во многих донских станицах, и в том числе в родной станице Григория Мелехова, Глазуновской, проходит множество разных фигур по ту и по эту сторону баррикад. Картина развертывается широкая и хотя не многоплановая, но за нею чувствуется вся страна "от финских хладных скал до пламенной Колхиды". Иногда как будто вскользь, бегло, а в то же время ярко, отчетливо передано ощущение большого, борющегося за независимый Дон казачества. Не всегда можно отдать себе отчет в том, как, какими художественными средствами достигнуто это непрерывное ощущение. Но задача эта особая, и решать ее нужно не здесь. И если зашла о ней речь, то лишь для того, чтобы повторить сказанное уже не раз и многими о романе Федора Крюкова, что героем его является казачество Дона. Если бы этого не было, то нельзя было бы решить тему, которая в последней книге романа, и чем дальше к концу, тем больше, становится важнейшей для автора и которую можно было выразить словами Григория Мелехова: "А главное - против кого веду? Против народа... Кто же прав?"
Григорий Мелехов становится такой фигурой, в которой сходятся все нити сюжета. Гениальный художник Федор Крюков ставит перед собой задачу нарисовать личное и общее в образе Григория Мелехова - идея одета, так сказать, в местную казачью форму, что придает ей особую, несравненную выразительность с художественной стороны, но содержание ее - борьба с иногородними. Во время восстания Григорий Мелехов получает повышение по службе, он командует дивизией. К победам против иногородних, ранее записанным на его счет, каждый его "подвиг" прибавляет все новые. Чем больше разъедает его душу сомнение в правоте той борьбы, в которой он участвует на стороне белых, тем исступленнее расправляется он со своими братьями по земле и труду. Он весь в крови, - Федор Крюков не находит нужным хоть в чем-то уменьшить или не столь явственно показать вину своего героя перед народом, чтобы не лишить его совсем сочувствия читателя. А сочувствие все же есть, и к концу романа оно даже возрастает. В чем же тут дело?
После того как своей рукой Григорий зарубил четырех матросов-большевиков, он "...кинул на снег папаху, постоял, раскачиваясь, и вдруг скрипнул зубами, страшно застонал и с исказившимся лицом стал рвать на себе застежки шинели. Не успел сотенный и шага сделать к нему, когда Григории - как стоял, так и рухнул ничком, оголенной грудью на снег. Рыдая, сотрясаясь от рыданий, он, как собака, стал хватать ртом снег, уцелевший под плетнем. Потом, в какую-то минуту чудовищного просветления, попытался встать, но не смог и, повернувшись мокрым от слез, изуродованным болью лицом к столпившимся вокруг пего казакам, крикнул надорванным, дико прозвучавшим голосом:
- Кого же рубил!.. - И впервые в жизни забился в тягчайшем припадке, выкрикивая, выплевывая вместе с пеной, заклубившейся на губах: - Братцы, нет мне прощения!.. Зарубите, ради бога... в бога мать... Смерти... предайте!..
Сотенный подбежал к Григорию, со взводным навалились на него, оборвали на нем ремень шашки и полевую сумку, зажали рот, придавили ноги. Но он долго еще выгибался под ними дугой, рыл судорожно выпрямлявшимися ногами зернистый снег и, стоная, бился головой о взрытую копытами, тучную, сияющую черноземом землю, на которой родился и жил, полной мерой взяв из жизни - богатой горестями и бедной радостями - все, что было ему уготовано".
Как же дорого даются Григорию эти короткие минуты "чудовищного просветления", по выражению Федора Крюкова! Так же дорого давались минуты просветления Родиону Раскольникову Федора Достоевского. Два гениальных Федора решают одну и ту же проблему, если Бога нет, то все дозволено?
1984
"Наша улица” №135 (2) февраль 2011
|
|
ДИАЛОГ |
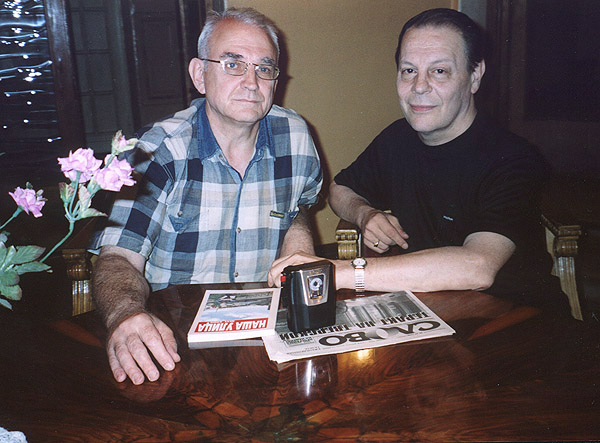
Юрий Кувалдин и сын Василия Иосифовича Сталина Александр Бурдонский (2003)
- У Марии Осиповны Кнебель была, насколько я знаю, тоже очень сложная судьба. Тут мы нащупали тему, которая в искусстве, в литературе очень важна: не останавливаться перед препятствиями. То есть, осуществляется тот, кто умеет преодолевать препятствия, не опускает руки от неудач, как бы компенсирует, доказывает. Вот у вас, Александр Васильевич, судьба так и складывается. Постоянно жизнь ставит перед вами препятствия, вы их преодолеваете. А вам уже новое препятствие готово...
- Вы знаете, Юрий Александрович, по молодости преодолевать препятствия было легче. Хотя, у кого судьба была несложная? Вообще, грубо говоря, несложная судьба никому не интересна, особенно в театре, где конфликт кладется в основу успеха. Но препятствий сейчас стало больше. Вот как стали писать обо мне, узнали, допустим, какая у меня родословная, и, честно говоря, мне стало сложнее. Допустим, похвалить меня боятся. Серьезно как бы ко мне отнестись, многие тоже считают это не нужным. Знаете, когда я первые годы работал в театре, то мне говорили: “Саша, как же так это может быть, что ты такой человек, внук Сталина, а работаешь в театре. Ты такой умный человек, зачем ты в театр пошел?” Этим как бы предполагали, что в театре работают не совсем умные люди. Или актеры меня спрашивали, когда я что-нибудь им интересное расскажу: “Откуда ты все это знаешь?” Сейчас так уже не говорят, видимо, привыкли, а в первые годы все время спрашивали. Казалось, что я пришел откуда-то из другого мира, я был человеком со стороны. Однажды произошел такой курьезный случай, если его, разумеется, можно назвать “курьезным”, потому что за такие дела сажили, мне притащил двоюродный брат огромную кипу машинописи, двухсторонней, “В круге первом” Солженицына, и я читаю запоем, даже тогда, когда в автобусе ехал в ГИТИС. Я читаю, читаю, одна часть в руках, другая в папке. Моя остановка. Я закрываю эту штуку, свертываю, и выскакиваю из автобуса. И бегу в ГИТИС, и когда бегу, то понимаю, что у меня нет папки. А в папке лежит вся остальная книга. Боже мой, я прихожу в ГИТИС, к Марии Осиповне. И говорю: “Мария Осиповна, беда!” Она: “Что такое?” Я объясняю: “Оставил папку с частью рукописи романа Солженицына в автобусе!” Она спрашивает: “А что там еще в папке?” Я говорю: “Студенческий билет, паспорт, ключи от квартиры, ну, пятнадцать копеек там денег... Может, туда обратиться, в автобусный парк?” Она говорит: “Нет. Надо ждать”. Прошла неделя. Звонок в дверь, утром, я был в душе, выскакиваю, открываю дверь, возле моей квартиры стоит моя папка. Там лежит Солженицын, мои документы, ключи от моей квартиры, и пятнадцать копеек... Ну, все цело! Мария Осиповна говорит: “Подождите еще немного. Вдруг это провокация!” Но все обошлось. Я окончил ГИТИС в 1971 году. И пришел сначала в театр на Малой Бронной. Меня позвал туда Анатолий Эфрос играть Ромео. Вообще-то, когда я оканчивал ГИТИС, меня приглашал Завадский с Анисимовой-Вульф играть Гамлета, были переговоры. А Эфрос - Ромео. И я очень хотел быть артистом в то время, но Мария Осиповна меня отговорила заниматься этим делом. Она была моя вторая мама, и она, вообще, человек колоссальной культуры, что говорить, таких сейчас нет, из педагогов таких даже близко нет. Мария Осиповна очень чувствовала человека, она чувствовала мои комплексы, она чувствовала мою зажатость, мою боязнь, такую запуганность, я бы даже сказал, нежелание кого-то обидеть, не дай бог, сказать что-нибудь, чтобы сказанное мною кого-то задело. Она как бы помогала мне выбраться вот из этой скорлупы, из этого кокона. Я очень боялся выходить на этюды, скажем. Хотелось мне, но боялся. И вот я ловил на себе ее взгляд, она на меня смотрела и прикрывала глаза и чуть опускала голову, что означало полную веру ее в мою удачу. И этого было достаточно, чтобы я успешно делал этюд. И уже через полгода со сцены меня увести было невозможно. У меня было такое состояние, как будто я научился плавать, или говорить научился. Сначала мы упражнениями занимались, потом мы делали этюды по картинам художников каких-нибудь, чтобы затем прийти мизансцене. Следом мы делали этюды по мотивам каких-нибудь рассказов. Все развивало фантазию. Вот у меня была очень хорошая работа, Мария Осиповна даже всем показывала, из ВГИКа приглашала людей смотреть, это был рассказ Юрия Казакова “Вон бежит собака”. Тогда мы все были увлечены Казаковым. “Двое в декабре” вышла книга, “Голубое и зеленое”, “Северный дневник”. Мария Осиповна мне говорила: “Саша, это очень хорошая литература, но совершенно не сценичная”. Но получился очень хороший отрывок. Потом я играл “Что окончилось” Хемингуэя, из удач таких, тоже очень любили эту работу. Через какое-то время была тоже достаточно серьезная работа по “Выигрышу” Александра Володина. А затем уже стали как бы отрывки делать посложнее, даже водевили играли, через это нужно было пройти. Набравшись опыта, стали играть Шекспира, и ставили, и играли, чтобы и через это пройти. Играл я в “Как вам это понравится” Орландо, а ставил отрывок из “Ричарда Третьего”, сцену Ричарда и Анны. Надо сказать, что я играл еще многое из Шекспира, уже не помню сейчас, если было десять отрывков, то в девяти я играл. Вот, стало быть, мы проходили через такие этапы. А потом уже были дипломные спектакли. У нас их было два. Это были “Чудаки”, его ставили педагоги, я там играл Мастакова. А я возглавлял работу, которую мы делали сами, студенты, “Годы странствий” Арбузова. Это был наш диплом, где мы были и режиссерами, и актерами, где я играл Ведерникова. Из тех, кто со мной учился, назову очень интересного немца Рудигера Фолькмара, у него сейчас своя студия, даже нечто вроде института, в Германии. Со мной вместе учился японец Ютака Вада, он впоследствии ставил здесь в Художественном театре, и восемь лет ассистентом был у Питера Брука. На одном курсе со мной училась и моя жена Даля Тумалявичуте, литовка, она была главным режиссером в Молодежном театре, она привозила свой театр сюда, у нее начинал Некрошюс, знаменитый теперь. Она народная артистка, много ездила со своим театром в Америку, в Англию, в Швецию... После того, как Литва отделилась, ей как бы не прощали то, что она выкормлена в московских институтах. Прекрасная Елена Долгина есть, обладающая редким даром объединения людей, она заслуженный деятель искусств, в Молодежном театре работает, и режиссером, и заведующей литературной частью. Наталья Петрова, которая преподает в Щепкинском училище при Малом театре и выпустила уже немало курсов, очень умный и талантливый человек, и совершенно грандиозный педагог. Так что, вот, видите, уже какое-то набираю количество талантливых моих однокурсников, которые в дальнейшем проявились. Еще одного сокурсника вспомню, Николая Задорожного. Он был очень талантливый человек, хочу о нем два слова, буквально, сказать, потому что это очень показательно. Тонкий, умный, не просто лидер, а человек, который создан для того, чтобы лепить, делать, создавать коллектив, плохое слово, но, тем не менее, он очень увлекал людей. Он работал в Энгельсе в последнее время и умер от голода. Мы этого ничего не знали. Он работал, получал там какие-то копейки, когда вся эта трудная жизнь началась. Он весил, по-моему, тридцать пять килограмм. Талантливейший человек был, но который никогда не стремился быть в театре руководителем. Ему важнее было возиться с молодыми актерами, к нему тянулись, много его учеников потом учились у Лены Долгиной, у Наташи Петровой. Он вечно ставил “Буратино”, как такую драму деревянных человечков, спасайте деревянных человечков. Это наша общая трагедия. С Юрием Ереминым мы очень дружили. Он параллельно на актерском курсе учился. Ольга Остроумова училась, и у меня в “Чайке” изображала Нину Заречную. С Володей Гостюхиным играли вместе в отрывках, потом я его сюда в театр перетащил, потом он ушел сниматься, и вот он стал популярным человеком, сейчас в Белоруссии первый актер. Он человек со своей позицией, со своей точкой зрения, можно, конечно, как угодно к этому относиться, но в нем нельзя не уважать цельности такого простого человека из народа. Ольга Великанова работает в театре Станиславского, тоже наша однокурсница, она была очень талантлива как актриса. Какой это театр был яркий в конце шестидесятых, начале семидесятых годов, когда там был Львов-Анохин. Тогда Бурков впервые появился, он гениально играл Поприщина в “Записках сумасшедшего”. Хотя параллельно играл Калягин в Ермоловском театре, немножко не то. Поприщин Буркова - это полная адекватность Гоголю. Но тогда ведь, надо это подчеркнуть, и весь театр имени Станиславского был интересен очень. Потому что Борис Александрович Львов-Анохин был выдающимся режиссером и педагогом. Он и состав актеров подобрал потрясающий. Одна Римма Быкова чего стоила, изумительная актриса! Урбанский почти еще не играл. А Лиза Никищихина какая была! Недавно она ушла из жизни как-то незаметно. Я с Лизой дружил очень. И очень я любил театр Львова-Анохина, и его спектакли в Театре Армии. Как тихо он ушел, лег и умер! Борис Александрович, царство ему небесное, тонкий был человек, блестяще знал мир театра. Я вообще очень ценю людей, которые занимаются театром, скажем, я узко так говорю - театром, когда понимают театр, знают его историю, - таким человеком был Борис Александрович Львов-Анохин. А на Малой Бронной я поработал очень немного, буквально, может быть, месяца три. В меня вцепился Александр Леонидович Дунаев, главный режиссер и чудесный человек, он хотел, чтобы я работал с ним как режиссер. И мы начали даже делать “Варваров” Горького, а в это время Мария Осиповна позвала меня в Театр Армии ставить спектакль “Тот, кто получает пощечину” Леонида Андреева. Мария Осиповна предложила мне быть ее сорежиссером. И я пошел. Но до этого я ставил в Литве. А в Москве я начал ставить вместе с Кнебель. Мы начали работу над спектаклем в 1971-м году, а выпустили в 1972-м. Этот спектакль шел на большой сцене, и сразу Андрей Попов, Зельдин, Майоров, ведущие актеры, вся такая великолепная когорта, знаете, была занята в этом спектакле! Я единственно, что тогда понимал уже прекрасно, что я никогда, я дал маме слово, не буду ни главным режиссером, потому что такие предложения тоже были, когда я окончил ГИТИС и выпустил два спектакля, преддипломный и дипломный. Мне предлагали в Министерстве культуры должность главного режиссера в какой-нибудь провинции. Видимо, сбагрить меня куда-нибудь хотели. Но я не хотел ничем руководить. И мне, в общем-то, повезло, что я первый такой вход в театр делал вместе Марией Осиповной Кнебель. А потом Андрей Попов предложил мне остаться в Театре Армии. И я остался. А дружба с Олегом Ефремовым была огромным куском жизни. В дальнейшем речь с ним шла, Олег был уже во МХАТе, когда я окончил ГИТИС, чтобы я что-нибудь у него поставил, но Мария Осиповна меня отговорила. Она мне говорила: “Я знаю Ефремова, он все равно очень легко может через вас, - она ко мне на “вы” обращалась, - перешагнуть. Это может сломать вас”. И я ей поверил, потому что я в Олеге эту его жесткость тоже знал. Поэтому во МХАТ я даже на постановку не пошел. Ефремов приходил ко мне в Театр Армии на мои первые спектакли, и вроде бы с симпатией к ним относился. Олег Ефремов сильная личность, и талантливая бесконечно. И актер талантливейший был, не состоявшийся, может быть, по такому большому счету, в театре, как ему прочили. Но, конечно, он человек, поцелованный Богом. И обаяния невероятного, магии такой, шарма потрясающего. И как художник, и как человек. Я считаю, что мне вообще необычайно повезло, потому что судьба меня свела с лучшими режиссерами: Кнебель, Эфрос, Львов-Анохин, Ефремов... Даже сон мне приснился однажды, как будто бы я плыву, знаете, как подводная лодка в море черном, я один на этой лодке нахожусь, никакого люка нет, я не могу нигде укрыться, волны бушуют, и вдруг из этих волн навстречу мне в огне встает черный крест, горящий, и из-за него появляется Ефремов, который ведет меня за руку, и какая-то широкая освещенная арена открывается. Вот эту картину я просто помню, после института сразу она мне приснилась. Когда я окончил ГИТИС, оставлять меня в Москве или нет, не знали, как себя по отношению ко мне вести. А Дунаев и Эфрос на это не обратили никакого внимания, на мою анкету, что очень важно. Очень умные люди, как и Мария Осиповна Кнебель, кстати говоря. Были режиссеры, которые попали в волну, которая шла вверх, это Ефремов, Львов-Анохин, Товстоногов, Эфрос. А когда мы окончили институт, волна уже шла вниз, и мы это, кстати сказать, понимали. И то, что мы, несмотря на это, состоялись, хотя я к этому очень условно тоже отношусь, потому что, скажем, я целый рад пьес не мог ставить, потому что мне бы туда приплели то, о чем я никогда бы и не подумал, и все сходило прекрасно, когда я ставил как бы что-то нейтральное, “Даму с камелиями”, например. И тут главное, мне кажется, было не плыть по течению, а уметь задуматься и оглядеться, подвергнуть сомнению правильность принятого решения и опять искать, искать тот единственно верный путь в творчестве, то единственное дело, которому не жалко отдавать всю жизнь без остатка.
Беседовал Юрий Кувалдин
“Наша улица”, № 3-2004
|
|
У ПОДЪЕЗДА |

Критик Михаил Эдельштейн и Юрий Кувалдин, 31 марта 2010 года.
|
|
У КАЖДОГО ЕСТЬ ШАНС |
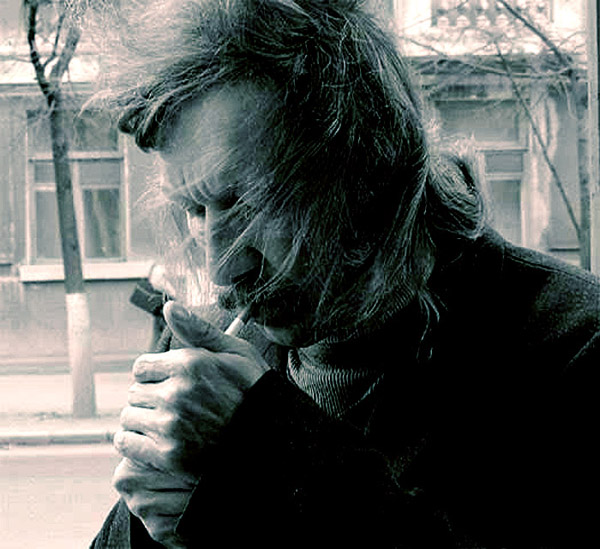
Александр Викторович Ерёменко родился 25 октября 1950 в деревне Гоношиха Алтайского края в крестьянской семье. Окончил школу в алтайском городе Заринске. Работал литературным сотрудником в районной газете, каменщиком. В 1977 приехал в Москву и поступил в Литературный институт им. А.М.Горького (не окончил курса). Входил в московский клуб «Поэзия». В конце 1970-х – начале 1980-х годов часто выступал на формальных и неформальных встречах вместе с И.Ф.Ждановым и А.М.Парщиковым, и критики пытались объединить творчество этих поэтов разными терминами: «метареализм», «метафоризм», «метаметафоризм» и т.п. В периодике Еременко начал печататься в 1986, первая книга вышла в 1990. В 1990-е годы почти не писал стихов, однако на протяжении всего десятилетия воспринимался как активный участник литературного процесса, что во многом объясняется появлением большого количества подражателей его «интертекстуальной» («цитатной», «центонной») поэтической техники. Юрий Кувалдин написал эссе о творчестве Александра Ерёменко, и опубликовал в "Нашей улице" лучшую подборку его стихов.
Александр Еременко
У КАЖДОГО ЕСТЬ ШАНС
***
В. ВысоцкомуЯ заметил, что, сколько ни пью,
все равно выхожу из запоя,
Я заметил, что нас было двое.
Я еще постою на краю.Можно выпрямить душу свою
в панихиде до волчьего воя.
По ошибке окликнул его я, -
а он уже, слава Богу, в раю.Я заметил, что сколько ни пью -
В эпицентре гитарного боя
словно поле стоит силовое:
"Я еще постою на краю..."Занавесить бы черным Байкал!
Придушить всю поэзию разом.
Человек, отравившийся газом,
над тобою стихов не читал.Можно даже надставить струну,
но уже невозможно надставить
пустоту, если эту страну
на два дня невозможно оставить.Можно бант завязать - на звезде.
И стихи напечатать любые.
Отражается небо в лесу, как в воде,
и деревья стоят голубые...
***
Туда, где роща корабельная
лежит и смотрит, как живая,
выходит девочка дебильная,
по желтой насыпи гуляет.Ее, для глаза незаметная,
непреднамеренно хипповая,
свисает сумка с инструментами,
в которой дрель, уже не новая.И вот, как будто полоумная
(хотя вообще она дебильная),
она по болтикам поломанным
проводит стершимся напильником.Чего ты ищешь в окружающем
металлоломе, как приматая,
ключи вытаскиваешь ржавые,
лопатой бьешь по трансформатору?Ей очень трудно нагибаться.
Она к болту на 28
подносит ключ на 18,
хотя ее никто не просит.Ее такое время косит,
в нее вошли такие бесы...
Она обед с собой приносит,
а то и вовсе без обеда.Вокруг нее свистит природа
и электрические приводы.
Она имеет два привода
за кражу дросселя и провода.Ее один грызет вопрос,
она не хочет раздвоиться:
то в стрелку может превратиться,
то в маневровый паровоз.Ее мы видим здесь и там.
И, никакая не лазутчица,
она шагает по путям,
она всю жизнь готова мучиться,но не допустит, чтоб навек
в осадок выпали, как сода,
непросвещенная природа
и возмущенный человек!
ПЕРЕДЕЛКИНОГальванопластика лесов.
Размешан воздух на ионы.
И переделкинские склоны
смешны, как внутренность часов.На даче спят. Гуляет горький
холодный ветер. Пять часов.
У переезда на пригорке
с усов слетела стая сов.Поднялся вихорь, степь дрогнула.
Непринужденна и светла,
выходит осень из загула,
и сад встает из-за стола.Она в полях и огородах
разруху чинит и разбой
и в облаках перед народом
идет-бредет сама собой.Льет дождь... Цепных не слышно псов
на штаб-квартире патриарха,
где в центре англицкого парка
Стоит Венера. Без трусов.Рыбачка Соня как-то в мае,
причалив к берегу баркас,
сказала Косте: "Все вас знают,
а я так вижу в первый раз..."Льет дождь. На темный тес ворот,
на сад, раздерганный и нервный,
на потемневшую фанерку
и надпись "Все ушли на фронт".На даче сырость и бардак.
И сладкий запах керосина.
Льет дождь... На даче спят два сына,
допили водку и коньяк.С крестов слетают кое-как
криволинейные вороны.
И днем и ночью, как ученый,
по кругу ходит Пастернак.Направо - белый лес, как бредень.
Налево - блок могильных плит.
И воет пес соседский, Федин,
и, бедный, на ветвях сидит -И я там был, мед-пиво пил,
изображая смерть, не муку,
но кто-то камень положил
в мою протянутую руку.Играет ветер, бьется ставень.
А мачта гнется и скрыпит.
А по ночам гуляет Сталин.
Но вреден север для меня!
***
Бессонница. Гомер ушел на задний план.
Я Станцами Дзиан набит до середины.
Система всех миров похожа на наган,
работающий здесь с надежностью машины.Блаженный барабан разбит на семь кругов,
и каждому семь раз положено развиться,
и каждую из рас, подталкивая в ров,
до света довести, как до самоубийства.Как говорил поэт, "сквозь револьверный лай"
(заметим на полях: и сам себе пролаял)
мы входим в город-сад или в загробный рай,
ну а по-нашему - так в Малую Пралайю.На 49 Станц всего один ответ,
и занимает он двухтомный комментарий.
Я понял, человек спускается как свет,
и каждый из миров, как выстрел, моментален.На 49 Станц всего один прокол:
Куда плывете вы, когда бы не Елена?
Куда ни загляни - везде ее подол,
Во прахе и крови скользят ее колена.Все стянуто ее свирепою уздою
куда ни загляни - везде ее подол.
И каждый разговор кончается - Еленой,
как говорил поэт, переменивший пол.Но Будда нас учил: у каждого есть шанс,
никто не избежит блаженной продразверстки.
Я помню наизусть все 49 Станц,
чтобы не путать их с портвейном "777".Когда бы не стихи, у каждого есть шанс.
Но в прорву эту все уносится со свистом:
и 220 вольт, и 49 Станц,
и даже 27 бакинских коммунистов...
***
Идиотизм, доведенный до автоматизма.
Или последняя туча рассеянной бури.
Автоматизм, доведенный до идиотизма,
мальчик-зима, поутру накурившийся дури.Сколько еще в подсознанье активных завалов,
тайной торпедой до первой бутылки подшитых.
Как тебя тащит: от дзэна, битлов - до металла
и от трегубовских дел и до правозащитных.Я-то надеялся все это вытравить разом
в годы застоя, как грязный стакан протирают.
Я-то боялся, что с третьим искусственным глазом
подзалетел, перебрал, прокололся, как фраер.Все примитивно вокруг под сиянием лунным.
Всюду родимую Русь узнаю, и противно,
думая думу, лететь мне по рельсам чугунным.
Все примитивно. А надо еще примитивней.Просто вбивается гвоздь в озверевшую плаху.
В пьяном пространстве прямая всего конструктивней.
Чистит солдат асидолом законную бляху
долго и нудно. А надо - еще примитивней.Русобородый товарищ, насквозь доминантный,
бьет кучерявого в пах - ты зачем рецессивный?
Все гениальное просто. Но вот до меня-то
не дотянулся. Подумай, ударь примитивней.И в "Восьмистишия" гения, в мертвую зону,
можно проход прорубить при прочтенье активном.
Каждый коан, предназначенный для вырубона,
прост до предела. Но ленточный глист - примитивней.Дробь отделения - вечнозеленый остаток,
мозг продувает навылет, как сверхпроводимость.
Крен не заметен на палубах авиаматок,
только куда откровенней простая судимость.Разница между "московским" очком и обычным
в том, что московское, как это мне ни противно,
чем-то отмечено точным, сугубым и личным.
И примитивным, вот именно, да, примитивным.Как Пуришкевич сказал, это видно по роже
целой вселенной, в станине токарной зажатой.
Я это знал до потопа и знать буду позже
третьей войны мировой, и четвертой, и пятой.Ищешь глубокого смысла в глубокой дилемме.
Жаждешь банальных решений, а не позитивных
С крыши кирпич по-другому решает проблемы -
чисто, открыто, бессмысленно и примитивно.Кто-то хотел бы, как дерево, встать у дороги.
Мне бы хотелось, как свиньи стоят у корыта,
к числам простым прижиматься, простым и убогим,
и примитивным, как кость в переломе открытом.
"Наша улица", № 9-2000
|
|
Юрий Кувалдин, Пит и Евгений Бачурин (2002) |

Юрий Кувалдин, Пит и Евгений Бачурин (2002)
|
|
ДОМ ПОЭТА |
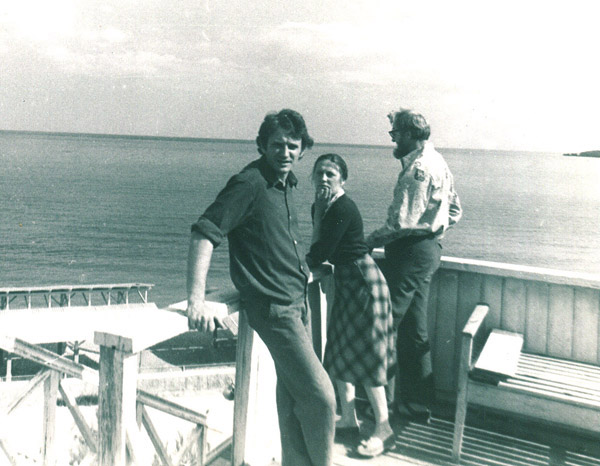
Юрий Кувалдин, Роза и Владимир Купченко на башне дома Волошина в Коктебеле (1979)
|
|
ДОСТОЕВСКИЙ - ВЕНИЧКА - КАЧЕНОВСКИЙ – КУВАЛДИН |
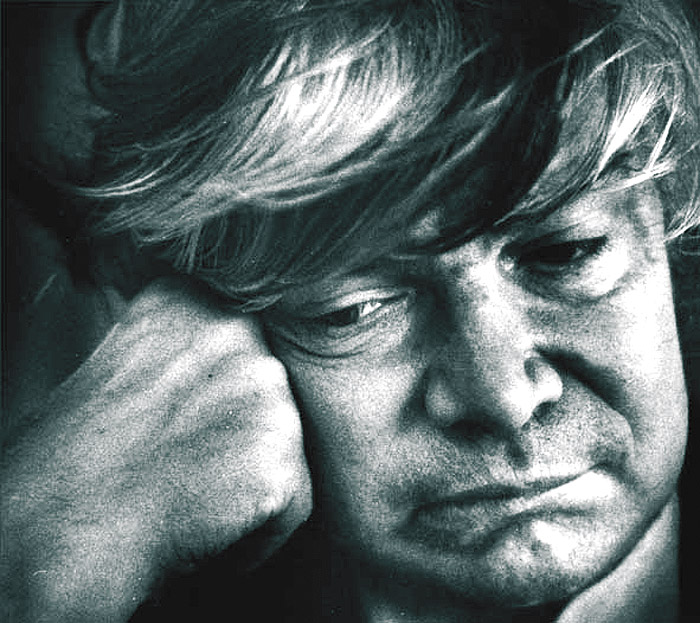
Венедикт Васильевич Ерофеев родился 24 октября 1938 на ст.Пояконда Мурманской обл. Отец - начальник железнодорожной станции, в 1939 был репрессирован. Школьные годы Ерофеев большей частью провел в детском доме г.Кировска Мурманской обл. Окончив школу с золотой медалью, в 1955 поступил на русское отделение филологического факультета Московского университета. Отчисленный в феврале 1957 за демонстративное непосещение занятий, до конца жизни оставался разнорабочим.
Неустроенность была для Ерофеева жизненным принципом и стимулом его писательства, которое постепенно приобретало характер религиозного поиска, причем основным средством поиска было культурно насыщенное слово, сопоставленное с советской действительностью. Это превращение словесного творчества в религиозный опыт очевидно на примере первого юношеского произведения Ерофеева Записки психопата, создававшегося в 1956-1957, впервые напечатанного (в сокращении) в 2000 и вызвавшего читательский интерес и критический отклик.
Самое значительное из произведений Ерофеева, написанное в 1969 и получившее с начала 1970-х годов широчайшее хождение в "самиздате" (машинопись и фотокопии), - прозаическое сочинение Москва - Петушки. Это было весьма насыщенное литературными и, в частности, поэтическими аллюзиями повествование от первого лица о злополучном путешествии в электричке за 125 километров от Москвы в городок Петушки. Путешествие это, включающее псевдосерьезные и откровенно комические размышления и признания, гротескные бытовые зарисовки, видения, фантасмагории и откровения и как бы адекватное целой жизни, является по сути дела целостным осмыслением советской действительности в религиозно-христианском ключе. В конце концов повествователь становится мучеником этой действительности; он опознан как "чужак", приговорен без суда и следствия и подвергнут линчеванию на советско-уголовный манер. Но прежде он выказывает себя тонким и внимательным наблюдателем и остроумным соучастником абсурдистских перипетий, складывающихся в узнаваемый на бытовом уровне образ советского существования людей, рабов и сынов Божиих. В "поэме" нет ни обличительности, ни отстранения от действительности; вероятно, поэтому она приобрела популярность во всех читательских слоях.
Написанной случайно и по заказу и вместе с тем глубоко закономерной, суммирующей его постоянную работу над словом, очевидную в записных книжках, явилась его Проза из журнала "Вече", перепечатывавшаяся под не-авторским заглавием Василий Розанов глазами эксцентрика. Это большой рассказ о религиозном озарении, достигнутом с помощью чтения Уединенного и Опавших листьев В.В.Розанова, - озарении, дающем силы и способность весело переносить абсурд советского существования.
Этот дикий абсурд с особой выразительностью и полнотой представлен в комической "трагедии в пяти актах" Вальпургиева ночь, или Шаги командора (1985), где действительность ограничена палатой психиатрической лечебницы, а действующие лица исполняют социально мотивированные роли визионеров-пациентов, изуверов-врачей и садистов-надзирателей. Действо имитирует действительность и постепенно превращается в пляску смерти, призванную "внести рассвет в сумерки этих душ, зарешеченных здесь до конца дней". Безысходно мрачный конец трагедии несет, однако, религиозный катарсис - освобождение, и не случайно одна из театральных постановок трагедии завершалась символическим восхождением пациентов к небесам.
Опубликованный в 2000 канонический состав творческого наследия Ерофеева со всей очевидностью свидетельствует о религиозной направленности и христианской подоплеке его творчества. В 1985 Ерофеев принял католическое крещение, перед смертью исповедовался и причастился согласно обрядам римско-католической церкви.
Умер Ерофеев в Москве 11 мая 1990.
Юрий Кувалдин
ДОСТОЕВСКИЙ - ВЕНИЧКА - КАЧЕНОВСКИЙ – КУВАЛДИН
рассказ
Академия Рецептуализма - Искусства Третьего Тысячелетия
(Рецептуализм - управление будущим на основе Золотого, Серебряного и Бронзового веков русской культуры)
Основатель и Президент Академии рецептуализма
академик Юрий КУВАЛДИН
Бронзовый век русской культуры (1953-1987)
ОБОСНОВАНИЕ ДАТИРОВКИ
1953
5 марта - смерть Сталина
1987
Полет немецкого летчика Матиаса Руста над СССР в мае 1987 года. Тогда пилот-любитель преодолел многочисленные кордоны ПВО и сел прямо на Красной площади. Молодой человек утверждал, что его полет не имел никакого политической подоплеки, а москвичи назвали главную площадь страны "Шереметьево-3" и рассказывали, что у фонтана в ГУМе поставили специальный милицейский пост, опасаясь, что оттуда выплывет американская подводная лодка.
5 февраля 1987 года совет министров СССР принял судьбоносное постановление, разрешающее гражданам советского союза создавать кооперативы. Событие по настоящему революционное. В стране, строящей коммунизм, власть после семидесяти лет своего существования признала, что человек обязан работать не только на государство, но может трудиться и на самого себя.
1.
Вместо того чтобы из метро "Савеловская" сразу идти по указателю к торговому центру на Станколите подземным переходом, тесным, узким, с торговыми ларьками, возле которых постоянно толпятся небритые типы, стоящие в проходах, мешающие движению остальных, и с поблескивающими пустотой выпученными глазами дураки, ибо умных тут не бывает, а если и попадется умный на миллион, то он мышью проскочит все эти двери, лестницы, переходы, дабы поскорее выскользнуть в уединение. В проходах стоят только дураки. Я продрался сквозь липкую толпу, поднялся, проклиная бестолковщину обывательской московской жизни, поглядывая с ненавистью по сторонам на стоящих на лестнице и, разумеется, мешающих, раздражающих торговок зеленью, квашеной капустой, солеными огурцами и семечками, на площадь Савеловского вокзала. И наперекор толпе решил отправиться туда, куда толпа не ходит.
Наступила весна, такая же сырая и грязная, как и прошлогодняя. И особенно она грязна в местах дикого скопления людей. Эскалатор вытаскивает из-под земли нескончаемый поток этих безвестных мучеников жизни, пустых, никому не нужных существ, осуществляющих свои материальные потребности. Колбаса, водка, селедка... ну, для разнообразия, стул, компьютер, "мерседес", гроб... ну, еще для ассортимента коттедж с видом на реку, квартира на Арбате и вилла в Монако... Особой популярностью пользуются среди толп прямоходящих гробы. Теперь в морге, как на выставке, десятки моделей гробов, от простых, затянутых красным сатином, до полированных из красного дерева, с открывающейся дверью, как на дорогом автомобиле.
На улице стояло серое, постоянно московское слезливое утро. Русские земли - это непригодные для жизни земли изгнанных за варварское поведение из цивилизованных стран людей. Поэтому всегда была и есть для нас сверхзадача возвыситься до культурной Европы, подавить в себе зверя... Темно-серые со свинцовым отливом, точно грязью вымазанные, облака всплошную заволакивали небо и своею неподвижностью наводили тоску. Казалось, не существовало солнца, ибо оно в продолжение нескольких месяцев ни разу не взглянуло на толпы серых в черных куртках и в черных вязаных шапочках, все на одно лицо, вернее, безликих пешеходов, на бесконечные пробки из чумазых иномарок и обляпанных глиной "жигулей", на московский грязный с черным снегом асфальт, как бы боясь испачкать свои лучи в жидкой грязи...
Дождевые капли со снегом и градом барабанили по распахнутому зонту с особенной силой, ветер плакал в подворотнях и выл, как собака, сбежавшая с прекратившего существование завода "Станколит"... Что этот "Станколит" лил? Да как и вся страна под свинцовым шинельным тоталитарным небом отливала в аду литейных цехов танки, чтобы броня была крепка, и эти танки, которые грязи не боятся, были быстры, и чтобы в строю стояли советские танкисты... Не видно было ни одной физиономии, на которой нельзя было бы прочесть либо шопинговой лихорадки, говорящей, что этот тип рожден лишь для того, чтобы что-то постоянно покупать, либо отчаянной скуки тех, кто уже сегодня что-то купил, хотя бы бутылку пива, чтобы пить ее прямо из горла посреди потока, заслоняя путь остальным. Я увидел как бы себя со стороны в развевающемся сером плаще с погонами, в черной вельветовой кепке, сдвинутой на глаза, в золотистых узких очках, с вечным издательским коричневым с двумя медными замками портфелем, и подумал, что лучше сама шопинговая одержимость или даже отчаянная скука, чем та непроходимая философская печаль, которая светилась в это утро на лице Юрия Кувалдина. Вот так и пишу спокойно о себе в третьем лице. Я и авторам моего журнала бубню постоянно, что мы лишь приспособления для изготовления текстов, мы подобны загружаемым новыми программами компьютерам.
Шлепая по жидкой грязи, Кувалдин и я в одном лице отправились на Миусское кладбище. Я знал, что там похоронен всего-навсего один известный человек - Каченовский. Огромное количество людей, отшагавших по жизни, зарыты там, а знаем одного. Для чего же шагали остальные? Для фона, для того, чтобы стали предметом моего исследования и изображения. А так они ничего не знают. Идет какой-нибудь гражданин в шляпе, в черной кожаной куртке на "молнии", с опухшим красным лицом, а я ему задаю вопрос:
- Скажите, любезный, как раньше называлась Складочная улица?
Он лупит на меня ничего не понимающими стеклянными красными глазами и недоуменно дрожащим баском спрашивает:
- А где это?
- Ну, там, где "Динамо" на "Станколите"? - поясняю я вежливо, с надеждой услышать что-либо содержательное.
- Это - туды! - отбрехивается он и машет рукой в сторону Останкинской башни.
Я вежливо придерживаю его за локоть и разъясняю:
- Складочная улица раньше называлась Филаретовской, а улица Двинцев, на которой мы стоим, именовалась 1-й Новотихвинской.
- Да хуй с ней! - бросает мне пешеход, отдергивает руку и спешит по своим делам, по-видимому, за бутылкой (что может быть важнее для живущего один раз человека похода за бутылкой!?).
А Кувалдин о каком-то Каченовском вспомнил! Подумаешь! Умник нашелся. Давить таких надо, чтобы не мешали колупаться смертным в их кратком веселом, разноцветном, как конфетные фантики, цыганистом смертном времени, не препятствовали их шопингу, бля!
В эту минуту я даже имя-отчество Каченовского не вспомнил. Но как радостно стало на душе, что я иду не туда, куда все, а туда, куда боятся заглядывать простые смертные - на кладбище. На кладбище не страшно только бессмертным.
2.
Имя Каченовского запало мне в душу с тех пор, как я в юности по дореволюционному изданию впервые познакомился с "Историей государства Российского" Карамзина (в СССР Карамзин был под запретом), а потом одним из первых издал "Историю" (12 томов в 6 книгах) в начале 90-х. А Каченовский в "Вестнике Европы" выступал с критикой "Истории государства Российского". Он отверг мнение Карамзина о высокой степени развития Киевской Руси. В полемике с последним и определялись взгляды Каченовского на предмет исторической науки и методы работы с источниками. В своих лекциях он отстаивал точку зрения Шлецера о подложности "Слова о полку Игореве". По этому поводу между ним и Пушкиным, отстаивавшим подлинность древнерусского эпоса, вспыхнул спор. В адрес историка Пушкин направил ряд язвительных эпиграмм.
К "Слову о полку Игореве" я тоже приложился, издав книгу скульптора Владимира Буйначева, который дал свой перевод и назвал автором самого князя Игоря. Честно говоря, сам я считаю, как и Каченовский, "Слово" прекрасной по мастерству исполнения подделкой. А Буйначев изваял маленького Пушкина, который притулился незаметно на Крымском валу у Дома художников.
На кладбище стояла тревожная, вздрагивающая тишина, только едва доносился шум с Сущевского вала, ставшего частью Третьего автомобильного кольца. В глубине кладбища, у одной из могил, священник в черном с серебряными вкраплениями одеянии, в очках, лицо молодое, с жидкой бородкой, читал заупокойный текст среди старушек на одной из могил. Могильщик в грязной робе и в резиновых сапогах опирался на лопату, которой только что закопал урну с прахом. Среди голых ветвей просматривалась желтая церковь "Вера, Надежда, Любовь". На мемориальной табличке сообщалось, что она построена в 30-40-х годах XIX века. Я снял кепку и вошел в церковь...
Тихие уголки, навевающие элегическое настроение, найдутся на каждом кладбище, но на многих там рядом царят пышные мавзолеи, известные имена покойников невольно наводят на иные мысли. Ничего этого нет на небольшом Миусском кладбище, оно все олицетворенная элегия. Здесь всюду слышится -
...говор зеленых ветвей:
Устал ты и ищешь покою!
Усни здесь и мы над могилой твоей
Раскинемся тенью густою.
Налево от главной дорожки, там, где кладбище разбито на небольшие аллейки плакучих берез, где могилы еще не громоздятся одна на другую, там тихо и спокойно. Там не только слышится говор зеленых ветвей, там чувствуется и неуловимое приглашение к себе уже ушедших в вечную беспробудную тишину.
Я стоял у могилы Каченовского, как вдруг ко мне подошел человек в морской черной форме с прищуренным одним глазом. И золотисто-черный кортик в ножнах на цепочке сбоку. Я даже немного испугался столь неожиданному появлению офицера.
Он кротко приветствовал меня и достаточно естественно, как бывает только на кладбищах, разговорился.
Возник Каченовский, у которого было другое преимущество: он был невидим. Но именно Каченовский, по словам черного морского человека, стал причиной появления великого поэта. Не было бы Каченовского, не было бы и Пушкина. Дело в том, что Каченовский тайно разрабатывал одну трансцендентную тему по выращиванию неких поэтинов, способных из обычного новорожденного создавать гения. Поэтины, поселившиеся на наиболее утонченных частях нейронов мозга, в течение суток давали, приблизительно, столько же поколений этих поэтинов, сколько мировая история числила за человечеством на протяжении всей нашей эры; таким образом, обладая более, как выразился морской офицер, компактным временем, Каченовский, выступивший в роли, так сказать, метафизического родителя великого поэта, мог, постепенно меняя термические и химические воздействия, добиться в мире поэтинов тех результатов, какие при опытах, скажем, с прирученными животными потребовали бы тысячелетий.
Короче, ему удалось вывести особый вид расцветающих в мозгу микроорганизмов, названных им поэтинами. Поэтины, введенные Каченовским особой инъекционной иглой под мозговые оболочки новорожденного Пушкина, тотчас же, стремительно множась, нападали, как пчелы на цветы вишневого сада, на разветвления выводящих нервов, скучиваясь, главным образом, у места их выхода из-под мозговой коры.
Смотришь на нагробия далеких веков в окружении кремлевских циферблатов; и почти на каждом - семьдесят семь минут сорокового. Пробовал не смотреть, но золотые стрелы, внутри черных - черных - золотых обводов, тянулись к глазу черными остриями, а проклятые диски ударяли лаковой чернотою по глазам все тем же цифросочетанием. И я прятался от улиц в туннелях метро или за оградами кладбищ.
Я достал папиросу и закурил.
Но и там, даже во снах, не было забвения: из ночи в ночь мне снилось мертвое безлюдье улиц. Забиты досками окна. Погашены огни. Пуст тротуар; и только я иду от Тихвинской к Складочной один, среди сотен, тысяч черных дисков, облепивших стены, и на каждом диске одни и те же цифры; и между одних и тех же цифр под одним и тем же углом вправо скошенные стрелки; и у остриев их - всюду-всюду - семьдесят семь минут сорокового - семьдесят семь минут сорокового - сорокового семьдесят семь минут.
- Да, - прервал я живо, - и мне бы хотелось знать как вы объясняете это?
Но собеседник не отвечал, он стоял, еще глубже запрятав голову в плечи, видимо, отдаваясь воспоминаниям.
Предутренний ветер качнул тенями деревьев и снова положил их на место, у наших ног. Каченовский вышел из забытья:
- Да, все это осталось там, позади. Вскоре порог моей низкой и тесной лаборатории, со всей ее жалкой утварью и книжными методами, тоже отошел назад. Я сдернул с себя потолок и стал приучать мысль покрываться одним лишь небом. Проблема ставилась так: у моря свои отливы, и у бытия - тоже. Чувство бытия может быть дано двояко: как есмь и есть. "Я" знает себя как есмь. "Не-я" известно ему как некое есть. Скажите, не были ли вы, хоть раз за всю жизнь, в трех примкнутых друг к другу моментах. Первый: есмь и есть. Второй: есмь. И только. Третий: есть в есмь. Путано? Разве Пушкин не писал - "из моей души вышел другой человек, сочиняющий стихи". Он был поэтом и не знал, что это больше чем метафора. И если бы...
Каченовский вдруг оборвал на полуслове и резким движением протянул руку вперед.
- Взгляните.
Уйдя в слушание, я и не заметил: ночь отошла. Заря проступала узкою алою дугой между землей и небом. Медленно-медленно ширилась. Звезды втягивали в себя свои лучи. И ночь, ища укрытий под сводами и нависями, уже разорвалась на черные лоскутья теней.
С шумом пролетела ворона, держа в клюве пакет из-под молока.
Поэтины не были, в точном смысле этого слова, ни вдохновителями, ни гасителями творчества Пушкина, - пробираясь внутрь нейронов, крохотные пчелки эти собирали не материю, а энергию, то есть питались энергетическим разрядом нервных клеток: заполняя все выходы нервной энергии, застив мозгу все его окна в мир, поэтины эти как бы перехватывали мозговые сигналы и разряды, перерабатывая вибрации нервных волн в движенья своих крохотных телец. Открытие это давало возможность Каченовскому приступить, наконец, к опыту, к которому он готовился всю жизнь.
Надо вам знать, что человек этот всю жизнь лелеял мысль дать опытное обоснование давно, казалось бы, схороненной и забытой философической легенде о "врожденных идеях". "Стоит двинуть на новорожденный мозг в обгон первым ощущениям армию моих поэтинов, - думал Каченовский, - и они, не повреждая материальной субстанции мозга и его ответвлений, не пустят, перехватят мир, втекающий по нервным приводам в мозг - тогда душа расскажет нам свои врожденные идеи. Что и случилось с Пушкиным. Он сразу стал большим и бронзовым!"
Я оглянулся, офицер исчез.
Спокойно мы в могилах наших тлеем.
Нам не восстать из них на голос суеты,
И о тебе мы, бедный, сожалеем:
Еще волнуешься, еще страдаешь ты?
Миусское кладбище бедно во всех отношениях, поэтому нельзя претендовать и на его благоустройство. Содержится оно все же в полном порядке, несмотря на очень плохой сырой и глинистый грунт, делающий дорожки при малейшем дожде грязными и скользкими. Это, пожалуй, главное неудобство, впрочем, оно отчасти устраняется проложенными по аллеям досками.
Немного не доходя до церкви по центральной дорожке, налево, близко от края, находится могила историка, критика и издателя "Вестника Европы" - М. Т. Каченовского. На ней невысокая гранитная колонна, перерезанная кубом, с надписями:
Здесь погребено тело
Михаила Трофимовича
КАЧЕНОВСКОГО
заслуженного профессора
Императорского Московского университета
действительного статского советника и кавалера
родился 1 ноября 1775 года
скончался 19 апреля 1842 года.
И возвратися перст в землю
яко же бе и дух возвратися
к Богу иже даде его.
Не строгим Господи ему будь судией,
но суд Твой сотвори по милости твоей.
Праху незабвенного супруга
и чадолюбивого отца
признательное семейство.
Как историк, Каченовский был основателем русской скептической школы, возникшей в противовес Карамзину и другим его подражателям. Каченовский не принимал на веру то, что считал неубедительным для его разума, и в этом, несомненно, заслуживает признательности потомства. Как издатель "Вестника Европы" и журналист, Каченовский подвергался нападкам Пушкина, преследовавшего его злыми эпиграммами. Всем известна его ядовитая эпиграмма:
Как, жив еще курилка-журналист? -
Живехонек! все так же сух и скучен,
И груб, и глуп, и завистью замучен;
Все тискает в свой непотребный лист
И старый вздор, и вздорную новинку. -
Фу! надоел курилка-журналист!
Как загасить вонючую лучинку?
Как уморить курилку моего?
Дай мне совет. - Да... плюнуть на него.
Иван Александрович Гончаров, автор "Обломова", слушатель Каченовского, так рисует его образ: "Это был тонкий аналитический ум, скептик в вопросах науки и, отчасти, кажется, во всем. При этом - строго справедливый и честный человек... Особенно обширны были его познания в истории и во всем, что входит в ее сферу - археологии и пр. Когда он касался спорного в истории вопроса, щеки его, обыкновенно бледные, загорались алым румянцем и глаза блистали сквозь очки, а в голосе слышался задор редактора "Вестника Европы". Он мысленно видел перед собой своих ученых противников и поражал их стрелами своего неумолимого анализа. И всю историю так читал, точно смотрел в нее глубоко, как и бездну, сквозь свои критические очки..."
Из всех городских кладбищ, сохранившихся до нашего времени, Миусское пострадало от сознательного разрушения и времени больше всех. В 1930-х годах кладбищенский храм был закрыт, колокольня снесена, разрушено большинство могил, на месте которых выстроены различные постройки. Старые могилы одиноки среди новых, их немного. Основная масса старых погребений второй половины XIX - начала XX в. в виде небольших мраморных саркофагов, все поросшие мхом. Сложно указать на Миусском кладбище погребения известных деятелей науки и культуры, поскольку большинство могил новые и людей малоизвестных.
Памятник Кочановскому сохранился почти полностью, если не считать отсутствия креста, обычного для такого типа памятников (4-й уч.).
3.
Каченовский Михаил Трофимович - журналист и профессор, родился 1 ноября 1775 г. в Харькове. Отец его, Трофим Демьянович Качони, был грек, выселившийся из Балаклавы и приписавшийся к мещанскому обществу города Харькова. Рано лишившись отца, Каченовский, при помощи добрых людей, был пристроен в Харьковский коллегиум, в 13 лет окончил курс в этом среднем учебном заведении и поступил урядником в Екатеринославское казачье ополчение. Пять лет спустя он перешел в Харьковский губернский магистрат канцеляристом, но через два года (1795) опять вернулся в военную службу. Получив (1798) должность квартирмейстера, Каченовский попал под суд по обвинению в недочете казенного пороха, но был оправдан. В 1799 и 1801 годы он выступил в журнале "Иппокрена" с несколькими оригинальными и переводными статьями, написанными в духе тогдашнего сентиментализма. Сидя под арестом во время следствия, Каченовский прочел сочинения Болтина (Иван Никитич Болтин (1735-1792) - историк, государственный деятель), возбудившие в нем мысль о критической разработке источников русской истории. Вскоре по оставлении военной службы (1801) Каченовский сделался известен графу Алексею Кирилловичу Разумовскому и поступил к нему библиотекарем. Получив место попечителя Московского университета, граф Разумовский привез с собой Каченовского в Москву и сделал его правителем своей личной канцелярии. С этих пор Каченовский начинает усиленно работать для журналов. Из "Новостей русской литературы" (1803) он переходит в "Вестник Европы" (1804), только что оставленный Карамзиным для исторических занятий. Фактически, а с 1805 г. и формально, Каченовский становится редактором-издателем "Вестника Европы", которым и заведует до его прекращения (1830 г.). В 1805 г. отставной квартирмейстер получает ученую степень магистра философии, в следующем году становится доктором философии и изящных искусств, в 1810 г. экстраординарным, а в 1811 г. - ординарным профессором. До 1821 г. Каченовский преподавал теорию изящных искусств и археологию, затем перешел на кафедру истории, статистики и географии и оставался на ней до введения устава 1835 г. (в 1830-1831 гг. преподавал, сверх того, российскую словесность, а также всеобщую историю и статистику). Последние семь лет своей жизни Каченовский занимал кафедру истории и литературы славянских наречий. Ясный и трезвый природный ум и деловитость, приобретенная на службе, не могли заменить Каченовскому школьной подготовки. При всей своей разнообразной начитанности он не мог сделаться самостоятельным ученым ни в одной из тех отраслей знания, которых ему так много пришлось переменить в течение своей профессорской карьеры. Тоже приходится сказать и о занятиях Каченовского русской историей, его любимым предметом, к которому он всего охотнее возвращался. До назначения на кафедру русской истории его исторические статьи не носят никаких следов самостоятельного изучения предмета; он просто популяризирует Шлецера и прилагает его общую точку зрения к суждениям о частных вопросах. Как последователь критического направления Шлецера, он является противником националистического взгляда Карамзина и восстает против изображения прошлого в чертах современности. В 20-х годах Каченовский начинает специально заниматься источниками русской истории. Под влиянием Нибура, он ставит своей целью освободить историю от тех черт, которые внесены в источники позднее изображаемого в них периода и поэтому недостоверны. Древний период истории представляется Каченовскому состоянием полной дикости. Вслед за Шлецером, он подозревал и прежде, что древнейшая Русь не знала ни письменности, ни торговли и денежных знаков; но, исходя из этой мысли, Каченовский идет теперь гораздо дальше Шлецера. Свои собственные оригинальные рассуждения он основывает на догадке, что денежные знаки, упоминаемые в наших древних юридических и исторических памятниках ("Русская Правда" и "Летопись"), перешли на Русь только в XIII в., от более цивилизованной Ганзы ("О кожаных деньгах"). Из этой догадки Каченовский делает смелый вывод, что и самые источники, употребляющие эту денежную систему, составлены не ранее XIII в. Попытку доказать этот вывод ученым образом Каченовский сделал в другом своем исследовании, о "Русской Правде". Здесь он доказывает, что ни законов, ни городских общин, которые могли бы издавать законы, не существовало до XIII-XIV вв. не только в России, но и в остальной Европе. Окончательных своих заключений Каченовский не решался договорить в названных ученых работах; но он излагал эти заключения на лекциях студентам. Вся древняя русская история баснословна, потому что источники этой истории подделаны не ранее XIII в. Выводы Каченовского совпали с новыми идеями исторической и философской критики. Молодое поколение с жадностью ухватилось за эти выводы; слушатели развили его положения в ряде статей, напечатанных Каченовским; имя Каченовского на несколько лет сделалось чрезвычайно популярным. Популярность эта, однако, скоро прошла, так как по форме лекции Каченовского были довольно сухи и монотонны, а по содержанию далеко не были тождественны философским идеям, которыми увлекалась молодежь. Наиболее талантливые из временных последователей Каченовского печатно отметили разницу между "формальной" критикой Шлецера, на которой остановился их учитель, и "реальной" критикой, вытекавшей из современного им мировоззрения. С той и другой точки зрения летопись можно было признать недостоверной; но "формальная" критика Каченовского доказывала это тем, что летопись есть подлог, сделанный в XIII столетии, а "реальная" критика лучших последователей Каченовского выводила недостоверность памятника из самых свойств младенческого миросозерцания его автора. Летописные легенды они считали не "выдумкой", которую надо обличить, а "мифом", который требует объяснения. Некоторые из противников Каченовского отвергали его выводы не только во имя науки, но и во имя патриотизма. В глазах Каченовского составитель летописи был обманщиком. Во имя авторитета седой старины должен был замолкнуть свободный голос критики. Замена научного вопроса вопросом о благонадежности отразилась на самом положении Каченовского в университете: при введении нового устава министр Уваров перевел Каченовского на кафедру славянских наречий, а кафедру русской истории отдал Погодину. Такой поворот дела обеспечил Каченовскому покровительство просвещенного попечителя Московского университета, графа Строганова; молодые профессора 30-х годов также относились к нему с почтительным сочувствием, но сочувствие это оставалось платоническим. Служебные привычки Каченовского делали его совершенно неподходящим к общественной атмосфере 30-х годов, а по складу своих воззрений он оставался чужд новым литературным и философским идеям. Каченовский умер 19 апреля 1842 г., сильно опустившийся и почти одинокий.
4.
***
Словесность русская больна.
Лежит в истерике она
И бредит языком мечтаний,
И хладный между тем зоил
Ей Каченовский застудил
Теченье месячных изданий.
НА КАЧЕНОВСКОГО
Бессмертною рукой раздавленный зоил,
Позорного клейма ты вновь не заслужил!
Бесчестью твоему нужна ли перемена?
Наш Тацит на тебя захочет ли взглянуть?
Уймись - и прежним ты стихом доволен будь,
Плюгавый выползок из гузна Дефонтена!
Эпиграмма вызвана статьей Каченовского ("Вестник Европы", 1818, № 13), направленной против Карамзина. Пушкин напоминает "зоилу" о давнишней эпиграмме на него И. И. Дмитриева, "Ответ" (1800):
Нахальство, Аристарх, таланту не замена;
Я буду все поэт, тебе наперекор!
А ты - останешься все тот же крохобор,
Плюгавый выползок из гузна Дефонтена.
Наш Тацит. - Пушкин так называет Карамзина - по имени древнеримского историка I-II вв. Аббат Дефонтен-один из литературных врагов Вольтера. Концовка стихотворения Дмитриева, процитированная в эпиграмме Пушкина, является буквальным переводом стиха Вольтера из его сатиры "Le pauvre diable" ("Бедняга").
НА КАЧЕНОВСКОГО
Хаврониос! ругатель закоснелый,
Во тьме, в пыли, в презренье поседелый,
Уймись, дружок! к чему журнальный шум.
И пасквилей томительная тупость?
Затейник вол, с улыбкой скажет глупость,
Невежда глуп, зевая, скажет ум.
Эта эпиграмма вызвана, вероятно, враждебными рецензиями на "Руслана и Людмилу" в "Вестнике Европы". Пушкин предполагал, что он автор этих статей. Первое слово эпиграммы, переделанное на греческий лад, намекает на греческое происхождение Каченовского (он был родом из семьи Качони).
НА КАЧЕНОВСКОГО
Клеветник без дарованья,
Палок ищет он чутьем,
А дневного пропитанья
Ежемесячным враньем.
5.
Владимир Михайлович Каченовский (1826-1892), литератор, мемуарист, сын известного историка М. Т. Каченовского, учился вместе с Достоевским в Москве в пансионе Л. И. Чермака с 1834 г., когда и состоялось их знакомство, до 1837 г., хотя виделись они еще раньше, совсем маленькими мальчиками в Мариинской больнице для бедных в Москве. "Мы, дети, спешили в тенистый сад больницы и вмешивались в группы играющих детей местных медиков и служащих, - вспоминал Каченовский. - Как теперь помню в числе их двух белокурых мальчиков, один из них был немного старше меня, другой - лет на пять. Для игр они выбирали себе более подходящих к ним по возрасту товарищей и становились их руководителями. Авторитет их между играющими был заметен и для меня ребенка. Это дети были Федор и Михаил Достоевские... Прошло года два, в течение которых я ближе сошелся с обоими братьями, которые мне и сообщили, что они уже учатся в пансионе.
Из опасения быть не точным, я не определяю годов этих детских воспоминаний, которые становятся точными лишь с 1834 года. В этот год я поступил в пансион Леонтия Карловича Чермака, пользовавшийся лучшею репутацией как по бдительному надзору за учащимися, так и по составу преподавателей. Достаточно сказать, что в числе их были Д. М. Перевощиков, А. М. Кубарев, К. М. Романовский, лучшие учителя того времени.
В первый же день поступления, когда я, оторванный от семьи, окруженный чужими для меня лицами и, как новичок, даже обижаемый ими, предавался порывам детского отчаяния, во время рекреации послышался в среде резвившихся вокруг меня детей знакомый голос... Это был Федор Михайлович Достоевский, который, увидев меня, тотчас же подошел ко мне, прогнал шалунов-обидчиков и стал меня утешать, что ему скоро и удалось вполне. С тех пор он часто приходил ко мне в класс, руководя моими занятиями, а во время рекреаций облегчал занимательными рассказами тоску мою по родительском доме. Он был ко мне очень приветлив и ласков.
В это время Федор Михайлович был вместе с братом уже в старших классах: это был серьезный, задумчивый мальчик, белокурый, с бледным лицом. Его мало занимали игры: во время рекреаций он не оставлял почти книг, проводя остальную часть свободного времени в разговорах со старшими воспитанниками пансиона - А. М. Ломовским, Ф. и Ал. Мильгаузенами, Д. и А. Шумахерами и П. Перевощиковым..."
После окончания в 1843 г. 2-й московской гимназии Каченовский поступил в Московский университет, но в 1845 г. был сослан рядовым на Кавказ за то, что во время выступления балерины Е. И. Андреевой бросил ей на сцену дохлую кошку. Оставив военную службу в 1859 г. в чине штаб-ротмистра, Каченовский после службы в различных учреждениях вышел в отставку. Печататься начал в 1862 г.
"Прошли десятки лет и, вот, прибыв в Москву в 1874 году, - помнится по расчетам за свои издания с книгопродавцами, - и узнав от кого-то из чермаковцев, что я состою здесь на службе, - вспоминал Каченовский, - Достоевский приехал ко мне на квартиру... Это было часа в два дня. Не сказав прислуге своей фамилии, он просил доложить о себе, что желает меня видеть, и вошел в зал. Перед мной стоял худощавый, бледный, болезненный господин с бородою. Я долго всматривался в его умное, выразительное лицо, в его приветливо устремленные на меня глаза, и не узнавал стоявшего предо мною, хотя в чертах его припоминалось мне что-то знакомое, как бы родное. Когда объяснилось, кого я вижу, мы уселись, и около двух часов прошло в оживленной беседе. Посвятив несколько времени воспоминаниям о далеком прошлом и расспросам о старых товарищах, Федор Михайлович отвечал на мои расспросы о нем. С тихим, ясным чувством говорил он мне о своем семейном счастии: "Хорошо и как хорошо жилось бы мне, - сказал он, - если бы не злые недруги, которые часто меня беспокоят". При прощании мы товарищески с ним обнялись. Вообще как в разговоре, так и в письмах, он любил употреблять слово "старый товарищ" и был очень сердечен.
Между тем весть о том, что у меня в гостях Достоевский, распространилась по всему дому, в котором поблизости от него 2-й гимназии и Технического училища квартировало много учащейся молодежи, и потому когда Федор Михайлович, сопровождаемый мною, стал сходить с лестницы на крыльцо, он увидел ряды техников и гимназистов, которые при появлении его почтительно ему кланялись. Федор Михайлович приветливо отвечал на их поклоны. С того времени я уже не видал его... Во время Пушкинского юбилея я был у него, не застав в номере. На празднествах, данных Москвою в честь Пушкина, на которых он занимал такую выдающуюся роль, я по разным обстоятельствам быть не мог; когда же получил возможность снова посетить Федора Михайловича, его уже не было в Москве.
В конце истекшего лета представилась мне необходимость хлопотать в Петербурге по одному существенному для меня делу. Не имея ни материальной, ни физической по болезни глаз возможности туда ехать, я, вспомнив сказанные мне некогда Федором Михайловичем слова, чтобы в случае какой-либо надобности я обращался к нему, и зная, что у него слова нераздельно с делом, я написал ему в Петербург письмо, обстоятельно изложив мою просьбу. Долго не получал я ответа и считал уже мое письмо потерянным - другой причины предполагать я не мог, - как вдруг получил ответ. Дело в том, что он, не предполагая пробыть в Старой Руссе, где лечился, долее известного времени, не распорядился о пересылке адресуемых на его имя в Петербург писем. "Мне очень жаль, старый товарищ, - пишет он, - если вы думаете, что я отнесся к вашему письму холодно и невнимательно".
За дело мое он принялся с энергией. Отрываясь от трудов, он ездил неоднократно к тому лицу, от которого зависело решение интересовавшего меня дела. Между нами возникла целая переписка, и в тех случаях, когда Федору Михайловичу писать было некогда, он поручал писать мне своей супруге - его, как он выражается, "всегдашнему секретарю и стенографу". Смерть Федора Михайловича помешала ему довести дело мое до конца.
До чего покойный был предупредителен ко всякому даже намеку на какую-либо просьбу, видно из следующего. Я ему писал как-то, между прочим, что кончившая в прошлом году курс учения дочь моя не читала из его сочинений "Подростка", и он мне отвечает: " "Подростка" вышлю милой читательнице моей, дочери вашей". И выслал книгу с собственноручной надписью по первой же почте.
В газетах смерть Федора Михайловича относят к разрыву сердца или легочных артерий. Так ли это? Предчувствуя свою кончину, он в письме от 16 октября писал мне: "Я человек весьма нездоровый, с двумя неизлечимыми болезнями, которые очень меня удручают: падучею и катаром дыхательных путей, так что дни мои, сам знаю, сочтены. А между тем беспрерывно должен работать без отдыха".
Кроме отличной библиотеки, после Федора Михайловича осталась большая коллекция автографов наших замечательных писателей, художников и общественных деятелей. Это я знаю из написанного по поручению покойного А. Г. Достоевской письма ко мне от 18 октября, которым просил доставить для его коллекции какое-либо письмо моего отца, Михаила Трофимовича, "если возможно характерное, если же нельзя, то хотя записку или подпись".
Я тотчас же выслал письмо. Вот рассказ о моих отношениях к почившему товарищу детских лет..."
После смерти Достоевского Владимир Каченовский прислал его вдове А. Г. Достоевской письмо 18 февраля 1881 г.: "... Печальное событие, как Божий гром поразившее всю мыслящую Россию, потрясло меня донельзя. Первою мыслию моею было писать вам, но разве существует на языке человеческом слова для утешения вас в вашем горе? Если что и может несколько облегчить вашу великую скорбь, то это сознание, что вы были в течение многих лет истинным счастием и радостию великого человека, мученика правды..."
6.
Леонтий Иванович Чермак (1770-1849), чех, известен тем, что содержал пансион в Москве, на Новой Басманной улице, в котором Федор Михайлович Достоевский и его брат Михаил Достоевский учились с осени 1834 по весну 1837 года, а позже там учился их младший брат Андрей Достоевский, который вспоминал:
"Пансион Леонтия Ивановича Чермака был одним из старинных частных учебных заведений в Москве, по крайней мере в то уже время он существовал более 20 лет... В заведение это принимались дети большею частью на полный пансион, то есть находились там в течение целой недели, возвращаясь домой (ежели было куда) на время праздников.
Подбор хороших преподавателей и строгое наблюдение за исправным и своевременным приходом их и в то же время - присутствие характера семейственности, напоминающего детям хотя отчасти их дом и домашнюю жизнь, вот, по-моему, идеал закрытого воспитательного заведения. Пансион Л. И. Чермака был близок к этому идеалу... Сам Леонтий Иванович, человек уже преклонных лет, был мало или совсем необразован, но имел тот такт, которого часто недостает и директорам казенных учебных заведений. В начале каждого урока он обходил все классы, якобы для того, чтобы приветствовать преподавателей, если же заставал класс без преподавателя, то оставался в нем до приезда запоздавшего учителя, которого и встречал добрейшей улыбкой, одною рукою здороваясь с ним, а другою вынимая свою золотую луковицу, как бы для справки. При таких порядках трудно было и манкировать! Но, главное, наш старик был человек с душою. Он входил сам в мельчайшие подробности нужд вверенных ему детей, в особенности тех, у которых не было в Москве родителей или родственников и которые жили у него безвыездно... Отличных по успехам учеников, т. е. каждого получившего четыре балла (пятичная система баллов тогда еще не существовала), он очень серьезно зазывал к себе в кабинет и там вручал ему маленькую конфетку. Случалось иногда, что подобные награды давались и учеником старших классов, потому что всякий знал, что Леонтий Иванович - старик добрый и что над ним смеяться грешно!
Пища в пансионе была приличная. Сам Леонтий Иванович и его семейство (мужского пола) постоянно имели стол общий с учениками. По праздникам же, вследствие небольшого количества оставшихся пансионеров, и весь женский персонал его семейства обедал за общим пансионским столом.
Чермак содержал свой почти образцовый пансион более чем 25 лет; ученики из его пансиона были лучшими студентами в университете, и в заведении его получили начальное воспитание люди, сделавшиеся впоследствии видными общественными деятелями. Помимо двух Достоевских (Федора и Михаила Михайловичей) я могу указать на Губера, Геннади, Шумахера (впоследствии сенатора), Каченовского (литератора, сына проф. М. Т. Каченовского) и Мильгаузена (бывшего потом профессором Московского университета).
Я слышал впоследствии, что Л. И. Чермак в конце 40-х годов принужден был закрыть свой пансион и умер в большой бедности".
Слова А. М. Достоевского подтверждаются внуком Чермака: "Вероятно, расходы по пансиону превышали доходы, и Леонтий Иванович вынужден был его передать, вероятно в начале сороковых годов, вскоре после чего он умер".
Переселение Чермака из Вены в Россию было связано с происшествием периода оккупации Вены войсками Наполеона, когда Чермак вступился за ограбленного крестьянина и ему удалось освободиться из-под стражи с условием покинуть Вену. Перед вступлением братьев Достоевских в пансион Чермака в нем было 68 учащихся, а к первой половине 1836 г. - уже 90.
В. С. Нечаева справедливо отмечает, что "атмосфера пансиона Чермака способствовала их [братьев Достоевских] любви к книге, так как там они встретили юношей, несомненно начитанных, одаренных и в дальнейшем выдвинувшихся научной деятельностью". Учившийся вместе с братьями Достоевскими А. Д. Шумахер вспоминал о пансионе Чермака: "По окончании домашнего учения, под руководством отца, я поступил в средние классы одного из лучших в Москве частных пансионов с полным гимназическим курсом и даже обоими древними языками, именно в пансион, содержавшийся чехом Чермаком. Там я имел сверстниками несколько воспитанников, получивших впоследствии более или менее громкую известность". В. М. Каченовский, учившийся вместе с Достоевским в пансионе Чермака, отмечал в своих воспоминаниях: "В первый же день поступления, когда я, оторванный от семьи, окруженный чужими для меня лицами и, как новичок, даже обижаемый ими, предавался порывам детского отчаяния, во время рекреации послышался в среде резвившихся вокруг меня детей знакомый голос... Это был Федор Михайлович Достоевский, который, увидев меня, тотчас же подошел ко мне, прогнал шалунов-обидчиков и стал меня утешать, что ему скоро и удалось вполне. С тех пор он часто приходил ко мне в класс, руководя моими занятиями, а во время рекреаций облегчил занимательными рассказами тоску мою по родительском доме.
Он был ко мне очень приветлив и ласков. В это время Федор Михайлович был вместе с братом уже в старших классах: это был серьезный, задумчивый мальчик, белокурый, с бледным лицом. Его мало занимали игры: во время рекреаций он не оставлял почти книг, проводя остальную часть свободного времени в разговорах со старшими воспитанниками пансиона..."
Дочь писателя Л. Ф. Достоевская, вероятно, со слов своей матери, свидетельствует: "Когда старшие сыновья закончили обучение в пансионе Сюшара, дед поместил их в подготовительное училище Чермака, одно из лучших частных учебных заведений Москвы, относительно дорогое, в котором учились сыновья московских интеллигентов. Он отдал их туда на пансион, чтобы они могли делать уроки под присмотром учителей; домой они приходили только в воскресенье и праздничные дни. Дворяне Москвы в те времена предпочитали отдавать своих детей в частные школы, так как в казенных учебных заведениях применялись довольно жестокие телесные наказания. Училище Чермака сохраняло патриархальный характер, там стремились создать подобие семейной жизни. Сам Чермак питался вместе с учениками и обращался с ними по-доброму, как с собственными сыновьями. Для преподавания в своем училище он пригласил лучших учителей Москвы, и занятия там велись очень серьезно".
Сама же жена писателя А. Г. Достоевская в 1876-1877 гг. записывает: "Сначала у Драшусова, потом у Чермака. Кормили дурно" жена немка пекла удивительные пироги по воскресеньям, сладкие. У них дочь Тина Леонтьевна разливала чай всем, вышла замуж за профессора математики. Другая, Анна Леонтьевна, за Ломовского. Провизия хорошая, но приготовлена дурно". 16 октября 1880 г. Достоевский писал В. М. Каченовскому: "Да, наших чермаковцев немного, а я всех помню. В жизни встречал потом лишь Ламовского и Толстого. С Шумахерами никогда не пришлось увидеться, равно как и с Мильгаузенами. С Анной Леонтьевой Чермак (Ломовской) встретился с большим удовольствием. Бывая в Москве, мимо дома в Басманной всегда проезжаю с волнением. И Вас очень помню. Вы были небольшого росту мальчик с прекрасными большими темными глазами".
Впечатления о жизни в пансионе Чермака отразились в замысле романа "Житие великого грешника" и в романе "Подросток". В пансионе Достоевский знакомится со старшими воспитанниками: французом Евгением Ламбертом - его имя Достоевский дает персонажу романа "Подросток", Николаем Брусиловым, встречается с Алексеем Альфонским. Все они упоминаются в подготовительных материалах к романам "Житие великого грешника" и "Подросток". Двоих из гувернеров пансиона, К. Тайдера и Манго, Достоевский упоминает в записях к "Житию великого грешника".
7.
Тут я для полного и объективного объединения времен "Житие великого грешника" по-своему преподнесу, через бронзовую фигуру Венички Ерофеева. На Савеловском вокзале в 1970-м году мы с ним оказались случайно. Шли на завод "Станколит" за червонцем к редактору заводской газеты, а тот нас не дождался, укатил в типографию на Чистые пруды. А Веничка не любил Савеловский вокзал. Все время мне повторял: "Юрик (он меня все время Юриком называл), пойдем на Курский. Там Кремль стоит на перроне". Мы отошли в сторонку, до Бутырского рынка. Там Веничка почувствовал себя попросторнее, со стакана пылинку сдул, и выпил элегантно сто пятьдесят вермута розового, на который у нас только и хватило. Я в то время писал какой-то роман. Было поветрие у молодых писателей: писать романы. Ну, как "Мастер и Маргарита", к примеру. Рассказы, считалось, писать не по чину. А Веничка о какой-то женщине повел рассказ, сказав мне, что он пишет рассказ. Я так поразился этому, что даже не спросил, мол, почему не роман? Между тем, Веничка плавно пьянеющим голосом рассказывал: "Видите - четырех зубов не хватает?" - "Да где же зубы-то эти?" - "А кто их знает, где они. Я женщина грамотная, а вот хожу без зубов. Он мне их выбил за Пушкина. А я слышу - у вас тут такой литературный разговор, дай, думаю, и я к ним присяду, выпью и заодно расскажу, как мне за Пушкина разбили голову и выбили четыре передних зуба..."
Тут к нам подошла какая-то бабка и уставилась на бутылку вермута. Мы срочно допили и отдали ей пустую бутылку. В голове наступала романтическая ясность. Даже не думали о тех, кто неподалеку сидит в Бутырской тюрьме. Веничка смахнул челку на правый от него бочок, а от меня на левый, и сказал: "Юрик, представляешь, она принялась вдумчиво рассказывать, и вот каков был стиль ее рассказа...
- Все с Пушкина и началось. К нам прислали комсорга Евтюшкина, он все щипался и читал стихи, а раз как-то ухватил меня за икры и спрашивает: "Мой чудный взгляд тебя томил?" Я говорю: "Ну, допустим, томил..." Тут он схватил меня в охапку и куда-то поволок. А когда уже выволок - я ходила все дни сама не своя, все твердила: "Пушкин-Евтюшкин-томил-раздавался". "Раздавался-томил-Евтюшкин-Пушкин". А потом опять: "Пушкин-Евтюшкин"...
И вот как-то однажды я уж совсем перепилась. Подлетаю я к нему и ору: "Пушкин, что ли, за тебя детишек воспитывать будет? А? Пушкин?" Он, как услышал о Пушкине, весь почернел и затрясся: "Пей, напивайся, но Пушкина не трогай! Детишек - не трогай! Пей все, пей мою кровь, но Господа Бога твоего не искушай!" А я в это время на больничном сидела, сотрясение мозгов и заворот кишок, а на юге в то время осень была, и я ему вот что тогда заорала: "Уходи от меня, душегуб, совсем уходи! Обойдусь! Месяцок поблядую и под поезд брошусь! Уходи!" А он все трясется и чернеет: "Сердцем, - орет, - сердцем - да, сердцем люблю твою душу, но душою - нет, не люблю!"
И как-то дико, рассмеялся, проломил мне череп и уехал во Владимир-на-Клязьме. Да! А через месяц он вернулся. А я в это время пьяная была в дым, я как увидела его, упала на стол, засмеялась, засучила ногами: "Ага! - закричала. - Умотал во Владимир-на-Клязьме! а кто за тебя детишек..." А он - не говоря ни слова - подошел, выбил мне четыре передних зуба и уехал в Ростов-на-Дону, по путевке комсомола..."
Веничка замолк и внимательно посмотрел на меня. Я бодро сказал: "У меня есть рубль". Веничка ответствовал: "Юрик, смотри, и у меня сейчас будет". Он воодушевленно встал с подвальной решетки, на которой мы выпивали, сделал три шага и преградил путь прохожему в фетровой шляпе со словами, которые я легко расслышал: "Альбом мюнхенской пинакотеки 35 рублей стоит. А у нас, - Веничка кивнул в мою сторону, - тридцать два. Не субсидируете молодых литераторов троячком?!" - и ведь произнес это таким убедительным тоном, что солидный гражданин, сначала было замешкавшийся, извлек из внутреннего кармана твидового пиджака толстую пачку сложенных красных, с Лениным, десяток, отлистнул одну и пришлепнул ее на протянутую ладонь будущего автора поэмы "Москва-Петушки".
Некоторое время спустя, мы шли, обнявшись и сильно покачиваясь, в сторону стадиона "Автомобилист" и пели на всю Вятскую улицу:
Горит в сердцах у нас любовь к земле родимой...
8.
Бронзовый памятник автору поэмы "Москва-Петушки" Венедикту Ерофееву стоит на площади Борьбы, которая до переворота семнадцатого года называлась Александровской площадью. Так что в редакцию "Нашей улицы" следует ходить так: метро "Новослободская" - ул. Достоевского (памятник Достоевскому работы Меркурова, который снимал посмертную маску с Михаила Афанасьевича Булгакова) - площадь Борьбы, Веничка - Тихвинская улица, 37/7 (Вадковский пер. 7/37) Представительство Святого Престола /Посольство Ватикана/, - подземный переход на Сущевском валу - Миусское кладбище, Каченовский Михаил Трофимович - ул. Двинцев (бывшая 1-я Новотихвинская), Складочная улица (бывшая Филаретовская) - "Наша улица", Юрий Кувалдин.
"НАША УЛИЦА", № 76 (3) март 2006
Юрий Кувалдин Собрание сочинений в 10 томах Издательство "Книжный сад", Москва, 2006, том 8, стр. 278.
|
|
ЮРИЙ КУВАЛДИН - РОМАН ЩЕПАНСКИЙ Радиостанция "Говорит Москва", 24 мая 2006 г. |
ЮРИЙ КУВАЛДИН - РОМАН ЩЕПАНСКИЙ
Радиостанция "Говорит Москва", 24 мая 2006 г.
"Русские в поисках смысла" с Романом Щепанским.
Тема передачи: "Жизнь в тексте"
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
17 часов в Москве... Добрый вечер. У микрофона ведущий Роман Щепанский. А в гостях у меня писатель, философ Юрий Александрович Кувалдин. Добрый вечер.
Юрий КУВАЛДИН:
Здравствуйте. Мне особенно приятно находиться в студии с Романом Щепанским, постольку-поскольку мы с ним лет пятнадцать назад вели блестящие передачи, еще с улицы Качалова.
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
Это было в прошлой жизни, в другом мире. А тема у нас сегодня такая - "Жизнь в тексте". Это очень любопытно. Ну, все мы знаем, что жизнь нам дается только один раз", и так далее и тому подобное...
Юрий КУВАЛДИН:
Да, кстати, вы цитируете, как я понимаю...
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
...Николая Островского...
Юрий КУВАЛДИН:
Да, Николая Островского. Но, на мой взгляд, та бригада, которая работала за Николая Островского, взяла этот фрагмент из повести Антона Чехова "Рассказ неизвестного человека". А я в своей повести "Аля", ранней, об этом говорю. У Чехова что-то было, да: "Жизнь дается человеку один раз, и нужно прожить ее красиво, содержательно...", и что-то в чеховском ключе.
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
Итак - "Жизнь в тексте"... Вне текста жизни нету у Романа Щепанского.
Юрий КУВАЛДИН:
Да, вы знаете... Ну и у Романа Щепанского может быть жизнь в тексте, если он начнет писать тексты, причем тексты художественные, высокого качества...
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
...философские...
Юрий КУВАЛДИН:
...философские, да. Вот философ и поэт Максимилиан Волошин... У него строки такие есть:
Здесь полки книг возносятся стеной,
Где по ночам беседуют со мной
Философы, поэты, богословы.
И здесь их голос - звучный, как орган...
И вот этот "голос - звучный, как орган", выходящий из текста... Вы понимаете, какая метаморфоза? Книги - живее, чем голоса живущих рядом с ними (с нами) людей.
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
Это я понимаю.
Юрий КУВАЛДИН:
Вот что имеется в виду, когда мы говорим о жизни в тексте. То есть, на мой взгляд, человек рожден, ну, не будем говорить - вообще человек, а - писатель рожден для того, чтобы жизнь свою воплотить в знаки, в тексте, чтобы сохраниться в памяти людей, в метафизической программе, как я говорю. Это та программа, которая есть Божественная программа, которая и управляет людьми, вновь появляющимися на свет.
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
То есть я понимаю, что Юрий Кувалдин, писатель и философ, останется в памяти людей, а миллионы и миллионы наших сограждан - нет.
Юрий КУВАЛДИН:
Ну, здесь с вашей стороны - некая провокация... Я так о себе не думаю, и вообще не нужно думать о том, останешься ты или не останешься. Нужно воплощаться в тот текст, над которым ты сейчас работаешь, нужно воплощаться в ту роль, над которой ты сейчас работаешь. Нужно философски подходить к освещению тех проблем, если у тебя это идет философский текст, чтобы в нем выложиться, а не думать, как тебя оценят, потому что...
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
Любой гений, наверное, думает.
Юрий КУВАЛДИН:
Не-е-ет, здесь нужно делать поправку на сиюминутное. Сиюминутная оценка - это вот на экране телевизора. Ты туда выскочил, все тебе похлопали: "Ой, мы тебя видели, ты такой знаменитый и известный..." А назавтра мы его забыли, его нет, не существует. Недавно я программу посмотрел по телевизору, такая ностальгическая программа: вот были дикторы, Валя, Нина, Зина... там, я не знаю, кто еще... Но они абсолютно ничем не подкреплены. Они - картинка, та, которая была в памяти тех людей, которые жили с ними в одну эпоху. И вот я кстати вспомнил еще эту мысль... Когда я смотрю хронику по телевизору, или в кинотеатре, хронику старую, вот, скажем, начала двадцатого века, событийную хронику: идут люди, толпы людей, ораторы выступают...
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
...митинги там...
Юрий КУВАЛДИН:
...митинги, буря, шквал оваций, восторги... И меня гложет постоянно мысль: а ведь их нет никого в живых, они все исчезли.
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
А зачем об этом думать?
Юрий КУВАЛДИН:
Роман, вы знаете, это мысль, которая присутствует у каждого художника, у каждого философа, ибо он бы тогда не был философом. Философ начал думать о смысле жизни именно тогда, когда он понял, что он исчезнет, - не другой исчезнет, не вы, не он, а я исчезну...
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
Это эгоизм, эгоизм...
Юрий КУВАЛДИН:
Так эгоизм - это блестящее качество, которое подвергалось сомнениям в советский период. Нужно воспитать себя, а не воспитывать соседа, и тогда все будет хорошо, делать себя, лучше - по системе Станиславского - работать над собой постоянно, как, скажем, вот работает поэтесса Нина Краснова. Человек работающий совершает мужественный поступок. Он вырывается из атмосферы повседневности и выходит к вершинам совершенства. В России это связано со столицами. Скажем, Нина родилась в Рязани, а приехала в Москву, потому что понимала, что в Москве можно получить хорошее образование в Литинституте. И вот замечательные строчки (я потом хочу еще о Москве сказать) у Нины есть:
Ах, Москва! Она неповторима!
Понимаю это все ясней
И, как сахар быстрорастворимый,
Растворяюсь, растворяюсь в ней.
Вот так же автор должен растворяться в тексте, как актер растворяться в роли. Вот еще пример - Валерий Золотухин - замечательный. С Алтая приехал... Это надо же, на Алтае рос, в какой-то дере-е-вне, приехал в Москву, не зная, куда пойти. И у него... вы знаете, что человек воплощается в тексте... Вы знаете, что Золотухин написал несколько томов дневников, помимо художественной прозы.
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
Не каждый способен на это, даже на Алтае...
Юрий КУВАЛДИН:
А, Роман, Роман...
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
Юрий Александрович, многие ничего не хотят - ни писать, ни философствовать, ни думать.
Юрий КУВАЛДИН:
Дорогой, вы как-то начинаете сразу обо всех... Ну это по-ру-у-усски - надо обо всех думать. В поисках смысла жизни кто находится? Русский человек, русский мыслитель, русский философ. Но у каждого человека, даже если, как вы говорите, что он не поставил перед собой большой задачи - воплощения себя в тексте или философского понимания мира, все-таки, нет-нет, а возникает момент, когда он думает: вот жизнь уходит, вот она истончается, вот нет близких, вот я один... И тогда он берет в руку карандаш и записывает то, что с ним было.
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
Сто сорок миллионов россиян записывают то, что с ними было...
Юрий КУВАЛДИН:
Ну, я не говорю о ста сорока миллионах россиян...
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
Я забыл, что вы эгоист, да?...
Юрий КУВАЛДИН:
Да. Я скажу... Я скажу, например, вот есть замечательный телевизионный режиссер Ваграм Кеворков, который так же прожил интересную жизнь, на телевидении, жизнь сумбурная, жизнь художественная... а когда она подходит к концу, то он задумался: а где она? как ее пощупать? И он начал писать тексты, воплощаться в текстах. Скажем, сейчас его текст, с которым познакомятся многие читатели (он напечатан в журнале "Наша улица", в 6-м номере 2006 года - Примеч. ред.), - "За экраном телевизора"... там он как раз рассказывает о той кухне, в которой были те дикторы, те известные нам по картинке люди, которые исчезают постепенно, исчезают, удаляются... То есть я хочу сказать, что самая твердая память о себе остается в тексте, ибо текст, слово, слово, повторяю, Логос, есть Бог, это понимали древние. Поэтому религиозные тексты, которые поставлены вообще во главу угла, они написаны, они именно тексты... но написаны так... они же не прямыми мыслями написаны. Они выражены через о-о-бразы, когда сам Госпо-о-одь появляется, когда он семью хлебами кормит целые селения, когда он воскрешает умерших... Вот что такое литература, Логос... совершается невозможное.
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
А философия?
Юрий КУВАЛДИН:
Философия в том числе. Вы посмотрите...
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
Образы - это литература. А философия - это все-таки мысль в первую очередь...
Юрий КУВАЛДИН:
Так, давайте разделим, так сказать, вот литература и вот философия. Так, литература - "мышление в образах", Белинский это сказал, я это всецело поддерживаю, "мышление в образах": мы создаем живых людей, они живут, переживают, их мучат страсти, вопросы...
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
Философия - это идеи.
Юрий КУВАЛДИН:
Философия... это...
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
Идея, идеи...
Юрий КУВАЛДИН:
Философия это - изъяснение прямыми мыслями. Поэтому прямые мысли воспринимаются очень немногими, очень элитарным кругом продвинутых, как ныне говорят, людей, интеллектуалов. Философы, которые понимали, что образный пример действует гораздо сильнее логических построений, пользовались приемами художественными. На мой взгляд, вообще нельзя разделять философию и литературу.
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
Можно. Хороший философ - плохой писатель. - Вольтер.
Юрий КУВАЛДИН:
Вольтер - это наиболее... он, так сказать, наиболее четко воплощает в себе именно единство философа и писателя. Вспомним его знаменитого "Кандида", который изъездил весь мир...
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
...много стран, да...
Юрий КУВАЛДИН:
...да, много стран... И в конце концов пришел к тому, что нужно остановиться, сесть за стол у себя дома и "возделывать свой сад". Вольтера я здесь понимаю так, как: нужно записывать свою жизнь.
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
В России философия есть? философы есть? Если нет, когда это все закончилось?
Юрий КУВАЛДИН:
С 1922 года, с "философского парохода" (на который погрузили всех русских философов и выслали их из России за границу. - Примеч. ред.), философии в России нет. Вспомню недавно почившего в бозе Александра Зиновьева, кстати, у которого учился Слава Лён, с которым мы сейчас разработали, не разработали, а как бы несколько обобщили идею... теорию искусства нового тысячелетия, Рецептуализма, направления - от слова рецепт. Рецепт мы даже в несколько ироническом смысле взяли, постольку-поскольку Слава Лён был близким товарищем выдающегося писателя, автора поэмы "Москва - Петушки" Венедикта Ерофеева, в просторечье - Веничка. Вот Веничка придумывал рецепты - "Слеза комсомолки"! Вот, от этого, собственно, создается Рецептуализм. То есть в нашем понимании это - нелинейное мышление. Вы понимаете, вот традиционное мышление заключается в том, что мы как бы познаем предшественников, а потом добавляем к ним что-то свое. А Рецептуализм заключается в том, что... первый пункт у нас - всё отменить!
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
Вот так вот... - всё вообще, вообще всё...
Юрий КУВАЛДИН:
Всё отменяется! - Восклицательный знак. Рецептуализм - искусство Третьего тысячелетия! Рецептуализм... причем - искусство второй рефлексии, само из себя творчество, и одновременно - само в себе истолкование творчества... Да здравствует двуликий Янус! То есть - не нужно думать, для кого ты пишешь. Ты сам творишь, сам себя печатаешь, издаешь и сам себя читаешь. Замкнутый прекрасный круг. Кто заинтересуется этим, подключится к этому и прочитает тебя.
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
Что ж хорошего-то? Такой полупроводник. Я не знаю, кто меня будет читать, не знаю отзывов (о моем творчестве. - Примеч. ред.), рецензий...
Юрий КУВАЛДИН:
Ну, пишущий - он всегда... творец всегда подразумевает, что сосед по лестничной клетке его не оценит. Потому что существует понятие Гамбургского счета, если уж на то пошло, - что даже те, кто хотят быстрой славы... ну, это, как правило, попса, мы их сейчас называем... Вот попса - они да. Вот сейчас она (какая-нибудь певица) спела, дайте ей бабки, колбасы, цветов, машину, дачу, сразу! немедленно! не отходя от кассы!
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
Потише, пожалуйста... Не надо забывать, что писатель, философ говорит громко...
Юрий КУВАЛДИН (понижая голос):
А писатель, философ не стремится к тому, чтобы здесь и сейчас. Его этот вопрос если и занимает, то он стоит на десятом месте. Его занимает воплощение. А поэтому я вспоминаю Виктора Шкловского и его гениальную работу - "Гамбургский счет". Это когда борцы в Гамбурге... вот чтобы по-честному бороться, не так вот, на публике, а по-честному, вот кто кого уложит... закрывались в четырех стенах, чтобы их никто не видел, и боролись. Вот так же и в искусстве, в философии и вообще везде - счет настоящий предъявляется к творцам тогда, когда все уже почили, все ушли с лица земли. Исчезли, остались плоды их творчества. Чехов говорил на этот счет совершенно замечательно: трудно судить о современнике? конечно, трудно, но очень легко - когда книга закрыта, больше он ничего не напишет, мы знакомимся с его текстами, и мы складываем определенное мнение об этом авторе. И тогда уже появляется определение - великий он, известный он, всемогущий он. Но и то... автор должен выдержать испытание, ну, это я говорю банальные, прописные истины, временем. Вся советская история заключалась в нетерпении - здесь и сейчас оцените нас. Мы самые передовые, вот самые передовые семьдесят лет.
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
А вы не думаете, что Пушкин хотел оценки такой современииков?
Юрий КУВАЛДИН:
Вы знаете, я часто думаю над этим и в общем-то прихожу к мысли, что Пушкина занимала эта проблема, и она так или иначе проскакивает у него в стихотворении "Желание славы", вот, кстати, пожалуйста. Дело в том, что, не замахиваясь (на что-то большое)... не выстраивая себе некую высшую точку, к которой ты стремишься, в общем-то и не стоит марать бумагу, как говорится. Потому что мне кажется, творчество начинается с момента сопереживания, когда на тебя очень сильное влияние оказал другой автор, великий. Я еще сформулировал такую мысль: если хочешь быть великим, дружи с великими. Вот я не пошел в юности в редакции в какие-то - обивать пороги, чтобы меня там... в братскую могилу рукопись мою укладывали. Я начал стремиться, как пройти к Твардовскому, или как пройти к тем авторам, которые меня (заинтересовали и потрясли. - Примеч. ред. )... к Искандеру...
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
Твардовский вас не принял, это я знаю.
Юрий КУВАЛДИН:
Ну, Твардовский, там просто секретарша сказала мне: это кто такой еще пришел? пацан какой-то тут там с папкой? нет-нет-нет, вы идите в отдел, отнесите свою рукопись туда... Да не отдел даже, Роман, вы знаете, там же была целая машина в каждой редакции... - консультация! Ты отдаешь сначала свою рукопись на консультацию консультантам, консультанты какие-то там делают эпикрис... и решают, возможно ли с тобой дальше вообще (иметь дело. - Примеч. ред. )... рецензенту твою рукопись отдавать. Вот как было. Поэтому, разумеется, здесь у автора, конечно, конечно, должна быть уверенность в себе. Если нет уверенности, то тут, конечно...
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
Больше всего уверены в себе графоманы. Вот один хороший совет всем: пишите, пишите, философствуйте и добьетесь успехов. Ах, говорят они, какой хороший человек Кувалдин.
Юрий КУВАЛДИН:
Вы знаете, я действительно люблю графоманов, но не когда они меня осаждают... Дело в том, что сейчас для графоманов - великолепная почва для деятельности. Ведь мы переживаем эпоху революционную, революционную эпоху в смысле технологий. У нас великолепный Интернет, где каждый графоман...
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
А вот продолжим, продолжим...
Юрий КУВАЛДИН:
...продо-о-лжим...
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
...продолжим мы (нашу беседу) после выпуска новостей. Напомню, что у меня в гостях писатель, философ Юрий Кувалдин...
Юрий КУВАЛДИН:
Спасибо.
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
Оставайтесь с нами!
(После Последних известий)
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
В Москве 17.35. Еще раз добрый вечер. У микрофона ведущий Роман Щепанский. А в гостях у меня писатель и философ Юрий Александрович Кувалдин.
Юрий КУВАЛДИН:
Добрый вечер еще раз.
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
Добрый вечер. Давайте искать смысл. Русские слишком часто ищут смысл. Они все время в поисках. И выходит так: "Все время поиск, и никакой жизни" - Сомерсет Моэм.
Юрий КУВАЛДИН:
Совершенно гениально сказано, и действительно - о русских. За нами и закрепилось такое сравнение, что мы постоянно что-то ищем. А ведь дело в том, что чтобы воплотиться полностью в произведение, нужно жертвовать чем-то, нужно уединиться и нужно перекладывать свою душу в слова. В буквы, в текст. Тогда, конечно, получается, что люди, ищущие смысл жизни, немножко не от мира сего. И можно представить себе... ну, скажем, Канта вспомнить, да? Ведь он вообще истязал себя абсолютно ограничением всего, что присуще, так сказать, человеку. Он постоянно сидел у себя в кабинете, он писал трактаты, он ел один раз в сутки, там, манную кашу какую-то. Или вот взять Марселя Пруста, "В поисках утраченного времени", вот философия на стыке литературы, который вообще обил свою комнату пробкой, чтобы не слышать шума мира. То есть - да, Сомерсет Моэм правильно говорит, что здесь... особенно это присуще нам. Ну, взять нашего философа, я считаю, первое и литературное произведение, и философское - это протопоп Аввакум. Вы посмотрите, какая энергия, какая страсть ради воплощения своей идеи. Или, скажем, у нас такие оригинальные, парадоксальные философы были, как Григорий Сковорода... Это - поискать, на Западе таких нет. На Западе к нему приближаются, к таким парадоксолистам, это, скажем, Ницше. Вот Ницше абсолютно, на мой взгляд, воплощает образ философа, когда он не делит литературу и философию, то есть он не только теоретические мысли излагает, последовально логически выводы - он соединяет это с художественным, с образным, а образность наиболее восприимчива людьми. Ведь, понимаете, Роман, скажем, религиозные тексты, они же в Логосе разрабатывались, в Слове. Но тогда все население практически было неграмотным. Вот для неграмотного населения сделали что? - образ, то, что мы называем иконой. Неграмотный человек приходит в храм и поклоняется иконе - образу. Образ легче воспринимается и сильнее воздействует здесь и сейчас. Поэтому у нас главенствует телевидение, поэтому у нас главенствовал кинематограф, а литература - на втором плане, философия тем более. Там, говорят: люди сейчас мало читают. Так чтение - это самый трудный процесс, нужно это объяснять в школе, с младых ногтей: чтение - самый трудный при видимой простоте процесс, потому что здесь работают все отсеки мозга, здесь мы преобразуем знаки в слова, в смыслы, в картины, через слово мы передаем все, что угодно. Экрану не под силу передать то, что передает слово. Это понимал наш блестящий писатель Андрей Платонов... Кстати говоря, вот в советский период, я говорю так, нет философии, а у нас философия ушла в подполье и выражалась через слово литературное... я считаю великим русским философом Андрея Платонова.
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
Да, "Джан", "Чевенгур"... абсолютно точно.
Юрий КУВАЛДИН:
Его гениальный "Котлован"... В одной повести он выразил весь маразм социалистической идеи: один котлован для жизни всех. Вот где философия. То есть - дух живет везде, где возможно. Притушили официальную философию, то есть, конечно, прибили табличку на кафедру: "Философия". У нас все студенты, как от чумы, бежали от этих кафедр, потому что там работали примитивные люди, которые вообще ничего не читали и не умели ничего и не понимали ничего в жизни, не знали религиозных текстов, никаких текстов, тем более, там, философию жизни западную, ни Хайдеггера, ни Ясперса, никого не знали. Вот в чем дело.
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
Давайте вернемся к Ницше: "Падающего подтолкни". Я так понимаю, что это касается человека бездарного, который идет в искусство. Или я ошибаюсь?
Юрий КУВАЛДИН:
Нет, у Ницше здесь, конечно, нельзя воспринимать все прямо, я скажу.
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
Падающего подтолкни.
Юрий КУВАЛДИН:
Это же образ. Он говорит о том, как я понимаю, это метафора, говорящая о том, что ты должен воспитать самого себя, а не помогать падающим. Представьте себе, вы пойдете по Москве и будете помогать каждому пьяному лежащему. Вы не сделаете свои дела...
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
Я буду святым.
Юрий КУВАЛДИН:
Будете святым, но ничего не сделаете. Что такое святой? У нас это тоже неправильная трактовка. Святой - значит всем помогающий и исчезнувший, не оставив никакого следа. Святой у нас Федор Достоевский, который написал десять томов. Святой у нас Лев Толстой, который написал "Войну и мир" и "Анну Каренину" и "Воскресенье". Святой у нас Чехов, который не написал ни одного романа.
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
Святой - Серафим Саровский.
Юрий КУВАЛДИН:
Серафим Саровский... Это образы святых людей, не воплощенных в тексте. Это есть такой вид памяти, памяти по брэндам - это памяти, скажем... если там оперируют именами, то начинают именами, которые в принципе подтверждены лишь легендами, но собственным творчеством они себя никак не воплотили. Дело в том, что мы подменяем философию социологией. Вот чем, собственно, и Зиновьев покойный занимался, социологией. А любви к мудрости там не было. Там не было нелинейного мышления. Там не было понятия бесконечности. Он не задумывался о том, что считать можно только до семи, а восемь уже не надо, уже все сказано, восемь - это знак бесконечности, и остальное - это повторение идет. Почему семерка и взята за основу, там, неделя, семь дней в неделе? До семи посчитал, всё, дальше не нужно считать. Поэтому...
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
Давайте еще раз вернемся к Ницше: "А Бог мертв". Как это понимать?
Юрий КУВАЛДИН:
Бог мертв - это тоже его, скажем, провокативная такая, демонстрация, демонстративная провокация...
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
Зачем?
Юрий КУВАЛДИН:
Для того, чтобы привлечь к себе внимание. Автор, любой, философ, историк, художник, писатель, поэт, полжизни работает на имя, чтобы его имя, его брэнд впечатался в сознание живущих и будущих поколений. Брэнд дает возможность привлечь к себе внимание. И твоего одного слова достаточно будет, квалифицированного, нравственного слова, чтобы, скажем, успокоить целую толпу. Тебя послушают, у тебя есть имя. Если человек без имени, там, скажет: нехорошо это делать! - Ему скажут: да пошел ты куда подальше, тут будешь говорить, кто ты такой? У нас же в русском, так сказать, сленге есть выражение: а ты кто такой? а кто ты? а кто ты такой? Вот и весь разговор. И тот - никто, и этот - никто. Поэтому... Вообще-то это вещь, конечно... в этом есть некий ужас такой - холодок... Как Мандельштам писал: "Холодок бежит за ворот...". Это в песне трасформировалось. А у него:
Холодок щекочет темя,
И нельзя признаться вдруг,
Как меня срезает время,
Как скосило твой каблук.
Жизнь себя перемогает,
Понемногу тает звук,
Все чего-то не хватает,
Что-то вспомнить недосуг....
Вот. "Что-то вспомнить недосуг". Потому что не было запечатлено в слове. Страшное дело. Х1Х век. Мы смотрим на Х1Х век, и мне он кажется абсолютно безлюдным. Вот это я иногда думаю: ну почему? ну где люди? Вот Достоевский стоит, вот Пушкин...
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
Толстой, Тютчев... много имен.
Юрий КУВАЛДИН:
Толстой, Тютчев... А где остальны-ы-ые? И вот так представить себе человечество... по Тейяру де Шардену... вот гениальный философ был... вспомнить... то человечество то шло таким образом, что провидение остановилось именно на вот этой двуногой обезьяне, которая, совершенствуясь, стала человеком, не на птиродактилях, не на ящерах, не на гигантских каких-то мамонтах, а вот этот человек. И сейчас понимаешь, почему как бы сама природа, сам Бог на этом остановился. Компьютор к нам пришел. Вы помните, когда мы учились, были какие-то неимоверные шкафы с лампами, какие-то целые комнаты, то есть не туда развивалось. И пока у нас... Мы жили в стране Нельзя. То есть, там, сын мой, художник Александр Трифонов, смеется надо мной постоянно, говорит: "Пап, а вас - что, сажали за то, что вы книжки читали?". Я говорю: "Да. Да. Мною занимались, потому что я распространял письмо 1У писательскому съезду Солженицына. Пришли и забрали: "Нельзя-а (этого делать)". Я говорю: "Почему?" - "Нельзя". Вот. Мы жили в стране Нельзя. Поэтому о какой тут философии можно говорить? И философы у нас были либо абсолютно сумасшедшие, либо те, кто, ведь если так, по большому счету говорить... Андрей Дмитриевич Сахаров - кто это? Философ.
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
Я не согласен. Он - не философ, а политик.
Юрий КУВАЛДИН:
Опять ведется размежевание... Здесь для великих людей нет перегородок по жанрам и видам. Он может быть и политиком. И я политик в своих вещах. И я философ. И - "Я - раб, и царь, и червь, и Бог"... вспомнил Державина. Надо вот чтобы слушатели... послушайте Гаврилу Романовича Державина:
Река времен в своем стремленье
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы.
Но тут я настолько возгордился, что не согласен и с Гаврилой Романовичем.
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
Да что вы?
Юрий КУВАЛДИН:
Почему? Он говорит, что все исчезнет. Не-е-ет. Все исчезнет, кроме слова, которое я сейчас прочитал. Гаврила Романович жив, раз живо его слово, потому что слово - это Бог.
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
Знаете, вот в Вене есть библиотека великих графоманов. Туда приходят люди и знают их по именам. То есть самые великие графоманы тоже остаются в памяти, тоже живут в текстах.
Юрий КУВАЛДИН:
Дело в том, что, да, они осуществляют жизнь в тексте. Вы как-то, Роман, всегда хотите обобщить и поговорить обо всех. Но, к сожалению, культура такова, что она говорит о немногих...
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
Вы обвиняете меня в советском воспитании.
Юрий КУВАЛДИН:
Нет, абсолютно нет. Но я, тут вы правы, и я такой же, и я, кстати, приветствую всех, пусть пишут, мы прочитаем - если хорошо, будем печатать. И вспоминаю постоянно Анну Ахматову, которая говорила:
Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда...
Вот, "из какого сора". Графоман. Кстати, я первые свои вещи, стихи, давал Юнне Мориц. Она их очень одобрила. И там публикация моих стихов была в "Литературной учебе"... И она мне тогда сказала, и многие говорили: "Юра, не слушайте, вот говорят: графоман, много пишет. Пишите как можно больше...", - сказала она. И я понял. Я пишу как можно больше. Я уж десять томов написал. И пишу и проповедую принцип: ни дня без строчки. И - никаких сомнений. Вы правильно, так сказать, подвергаете сомнению: а вот все вот графоманы, а что случится (если все будут писать. - Примеч. ред. )... Да не случится (такого. - Примеч. ред.). Потому что графоман - это понятие исключительное.
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
Каждый, кто нас сейчас слушает, графоман подумает: буду я писать шедевры...
Юрий КУВАЛДИН:
Правильно.
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
Брось работу, забудь о жене, о детях... Я - новый Пушкин.
Юрий КУВАЛДИН:
Как крайний случай...
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
Я беру крайний случай.
Юрий КУВАЛДИН:
Графоман - это удивительный человек. Он так или иначе где-то проявится. Не может быть того, чтобы он работал в пустоту, как вы говорите, абсолютно опустившись. Дело в том, что это мы так же метафорически говорим, что нужно закрыться в келью и писать. Нет, ничто человеческое нам не чуждо. Просто...
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
Уж Пушкин в келье явно не закрывался.
Юрий КУВАЛДИН:
Ну, Пушкин - это наиболее общее место в нашей литературе. Как что - так Пушкин. За свет кто будет платить? Пушкин. О Пушкине вспоминали те люди, которые действительно видели его на светских раутах, на балах, на вечеринках, в застольях. Понимаете? Но ведь Пушкин - человек кабинетный. И кто знает литературу, тот понимает, ведь Пушкин работал каждый день фактически. Пусть это не выражалось в записанном слове. Я должен пройти пять километров, прежде чем у меня родилось какое-то, так сказать, начало рассказа или начало статьи. Вот "Жизнь в тексте", кстати, последняя моя работа, где я и говорю о том, что цель жизни писателя - сохранить себя в тексте.
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
Он же не знает, сохранится это или нет.
Юрий КУВАЛДИН:
Опять возвращаемся на круги своя. Кстати, важно понять... многие не понимают, что такое бесконечность. Говорят: вот бесконечность, что это такое?
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
А вы понимаете?
Юрий КУВАЛДИН:
А я понимаю и говорю всем, как понимать. Все идет по кругу, ничего нет прямого. Все круглое, все вращающееся. В том числе литература. Все вращается, и все - круглое. Пойдешь прямо, ничего не добьешься. Марина Цветаева сказала: "Прямая угробит, кривая спасет".
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
Еще одна цитата. Известный английский философ Бертран Рассел: "Думающий человек в России всегда хочет изобрести русский паровоз, как будто европейский не так идет по шпалам, мало им нашей мысли".
Юрий КУВАЛДИН:
Ну, эта цитата - елей на душу просто. Конечно, русские, мы и отличаемся некоторым, я бы не сказал, самомнением, но - пренебрежением к авторитетам. Конечно, а так и нужно в принципе, ну что там ссылаться: запад, восток... Бери и сам изобретай паровоз. Ну потом, конечно, будет разочарование... Вот тут нужно быть готовым к разочарованию... что ты изобрел, а это уже есть, и есть в лучшем виде. Но вот это стремление сделать самому и отвергнуть на какой-то хотя бы краткий миг авторитеты, он, я считаю, очень положителен. И это люди, мне кажется, не делающие... вот "хомо фабер" - это человек работающий, замечательно. Я люблю человека делающего. И я, кстати, человек делающий. Ведь слово и есть дело. Многие забывают, что есть дело. Слово написать очень трудно. Многие говорят: ах, вот у меня интересная, содержательная жизнь, я щас сяду и напишу о ней, старик, все, берегись, щас я принесу тебе трактат. Время проходит, нет ни этого трактата, ни этого человека. Почему? Объясняю. Писать очень трудно. Запал хорош - ты напишешь, там, так сказать, одно слово а потом... а как к этому слову добавить другое, и какая получится фраза, и как это все разместить на бумаге, а что из этого будет? да, может быть, потом надо мной будут смеяться? да зачем я суюсь в это дело? Червь сомнения если начал точить автора, автора не получится.
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
Графомана никогда не точит червь сомнения, никогда. Вы говорите: ни дня без строчки. А кто может не писать? - Хороший писатель. А кто не может не писать? - Графоман.
Юрий КУВАЛДИН:
Замечательно. У меня даже есть повесть "Графоман". Человек пишет стихи, работает прорабом, пишет стихи и не знает, что он графоман, он считает себя великолепным поэтом, но о сча-а-астлив в своей ауре, он сча-а-астлив в этом своем многодействии, что помимо всего социума, который его окружает, у него есть окошко - его творчество, где никто на него не влияет. Вы поймите, здесь очень важен момент твор-чес-тва. Что такое творчество? Абсолютная свобода. Я ни с кем не советуюсь, я пишу только так, как хочу. У Пришвина есть замечательная в дневниках мысль. Он сидит, пишет, такой дедушка, к нему там мальчик подходит, говорит: "Дед, а ты че все пишешь-то? Кому это нужно, че ты пишешь?" А он говорит: "А я вот пишу, вот сейчас дам вот соседу, он прочитает и другому расскажет, а тот - третьему..." - "А-а, понятно..." Вот суть творчества.
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
Я напомню, что тема у нас сегодня такая: "Жизнь в тексте". Конечно, для меня Пушкин живее моего соседа дедушки Васи, который каждое утро идет забивать в домино. Потому что в Пушкине я себе всегда открываю нечто новое. В пятнадцать лет одного Пушкина открыл, и далее, далее, сейчас - другого. А дядя Вася сидит и забивает себе домино... Банально же на самом деле, но Пушкин - живее всех живых.
Юрий КУВАЛДИН:
Ну, разумеется, тут как бы... скажем о том, что человечество настолько разнообразно, если уж говорить, так сказать, большим порядком цифр, настолько многозначно, многослойно, многосодержательно, что, разумеется, все ячейки социума заняты - от бомжа, который собирает бутылки, до гения, который пишет откровения. Так устроен Бог.
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
Мир...
Юрий КУВАЛДИН:
Бог. Все люди вместе, в движении, в развитии, это и есть Бог, это есть его тело. А те тексты, те творческие эманации, которые совершаются всеми вместе людьми, это и есть эманация Бога, это есть создание той метафизической программы, которая неизменна и которая управляет вновь родившимися людьми. Это легко очень понять сейчас, в эру компьюторизации. Что такое компьютор? Вот условное сравнение, с натяжкой...
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
Я не хочу знать, что такое компьютор.
Юрий КУВАЛДИН:
Ну я не хочу никого обидеть, что вот Кувалдин сравнивает человека с компьютором. Ну предположим, родился человек, вот он чистенький, как новый компьютор. Чем он будет загружен? Достоевским он будет загружен или порнухой какой-нибудь загружен или домино? Вот в чем вопрос, понимаете? И человек настолько существо внушаемое, что переубедить его в дальнейшем невозможно. Вот со Славой Леном мы как раз философствуем на эту тему. А Слава Лен, он, кстати, с Бродским создал Академию Русского стиха, вот, мало кто об этом знает. Бродский понимал вершину творчества как полную самоотдачу в творчестве. И поэтому эта Академия есть некая, как сейчас говорят, виртуальная Академия. Потому что в социальном плане академия - это понятно. Туда нужно избраться, там у тебя будет оклад, там у тебя будет должность. Но дело в том, что должности в вечность не берутся. У нас даже императоров путают. У нас одних Александров три. И сейчас дети в школе, да и некоторые взрослые... не знают, кто Александр Первый, кто Второй, кто Третий и кто что делал, кто крестьян освобождал, а кто Наполеона крушил...
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
Я так понимаю, что у вас призыв к нашим слушателям: пишите, пишите, пишите... Тем более помните, что у Чехова вообще не было сюжета.
Юрий КУВАЛДИН:
О, вот это, Роман, вы замечательно, так сказать, вспомнили о том, что не сюжет важен, не фабула важна, важна сама художественная ткань. И особенно это относится к философским текстам. Ведь у нас из рук вон плохо пишут, деревянными словами. А нужно учиться писать хотя бы... вот недавно мы 150 лет отметили со дня его рождения... у Василия Васильевича Розанова, у нашего парадоксолиста, гениального философа и литератора, учиться у Ницше писать, учиться у Григория Сковороды писать... парадоксально, образно... и прямыми мыслями в философском трактате, что недопустимо в художественном творчестве, потому что тот же Чехов... почему он остается Чехов? Чехов - это тройное дно... Чехов писал пробелы между словами... У него всегда существует глубокий подтекст. То есть мы понимаем, что по части можно составить представление о целом. Не надо пить океан, достаточно попробовать, чтобы понять, что он соленый.
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
Конечно. Я напомню, что у меня в гостях писатель и философ Юрий Кувалдин. А Бог дал вначале людям один язык?
Юрий КУВАЛДИН:
Я полагаю даже, что не язык, а две палочки, которые скрестились. И символ христианства замечателен тем, что он сразу дает понимание вечного и преходящего. Крест - это вечное. Распятый на нем - преходящий, вознесшийся и постоянно воскрешающий... воскрешающий в каждом рождении, с каждым новым человеком. То есть здесь соединяется метафизика с физикой. Метафизика, чтобы также поняли очень просто, метафизика - это то, что над физикой, то, что не изменяется. Раскольников, написанный в "Преступлении и наказании" у Федора Михайловича, неизменен. Кант неизменен. Кстати, Канта я читал в юности, я всем рассказываю, я полстраницы не понимал...
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
Я тоже не понимал.
Юрий КУВАЛДИН:
Но я чита-а-ал, я чита-а-ал...
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
Я тоже не понимал... И не понимаю, кстати говоря...
Юрий КУВАЛДИН:
И читал... И потом я понял, что нужно воспитывать в себе волю к чтению. Не обязательно... вы знаете... некоторые (если не понимают какого-то слова), сразу лезут (за ним) в словарь и отвлекаются от контекста... Нет, не нужно за ним лезть в словарь. Вы как бы это слово пропускаете и идите, идите по тексту и постепенно все поймете, потому что этот термин будет повторяться еще раз, и вы поймете, и вы поймете. У Хайдеггера идет "дассейн"... "дассейн", раз "дассейн", два "дассейн", три "дассейн", и мы уже понимаем, что это "присутствие". И я трактую у Хайдеггера это так, что присутствие в тексте, то есть бессмертие. "Дассейн" - это мое бессмертие в моих произведениях.
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
А у философа и писателя могут возникать мысли: а тем ли я занимаюсь?
Юрий КУВАЛДИН:
Абсолютно всегда. Дело в том, что мысли-сомнения, они раскладываются не напрямую на автора, а переносятся... в данном случае у меня как у писателя... на персонажа. У меня рефлексирующий персонаж появляется, который задает себе те же самые вопросы. Ведь писатель это как бы многозначная фигура, полисемичная, которая включает в себя все те персонажи и все те мысли, которыми он нагрузил своих персонажей. То есть он многогранен, он раб... того же Державина я вспомнил... он - "раб, и царь, и червь, и Бог"... Вот что такое. В пределах своего произведения он - Бог, он создает живых людей. Он создает те коллизии, над которыми люди слезами обливаются. Как Пушкин говорил: "Над вымыслом слезами обольюсь". Вот что это такое. Поэтому вот со Славой Леном мы заключаем, что Рецептуализм утверждает три фундаментальных закона нелинейной теории искусства: первое - развитие искусства непреложно, второе - развитие искусства необратимо, третье, главное - искусство, как и Бог, бессмертно. Вот мы пришли к чему. Бессмертие, обретенное в тексте.
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
"Искусство неинтересно пятидесяти процентам людей", - писал Ницше. Вот я вспомнил.
Юрий КУВАЛДИН:
Я с этим не согласен. Опять провокатор Ницше... он замечателен тем, что всегда раздражитель очень хороший, и ты начинаешь тут же, так сказать, включаться и полемизировать с ним. Дело в том, что это кажущаяся вещь. Вы знаете, не надо так ограничивать людей, что им неинтересно. Бывают моменты... вот наша деревенская проза, кстати, как работала... у Виктора Астафьева, скажем, да, в его прозе? судьба простого солдата, а какие размышления идут. Это философия. Ведь Виктор Астафьев - колоссальный, как бы нутряной, от природы философ, который приходит к своим умозаключениям. Поэтому не нужно ограничивать как-то кого-то рамками: вот это только философ, это только историк, это только писатель. У нас, да и во всем мире, это нечто, это комплексная фигура, крупная, монолит.
Роман ЩЕПАНСКИЙ:
Ну что же, наше время подошло к концу. И я напомню, что у меня в гостях был Юрий Александрович Кувалдин, который дает вам совет: пишите, пишите, чтобы остаться в истории. Спасибо вам.
Юрий КУВАЛДИН:
Ни дня без строчки.
Стенограмма подготовлена Ниной Красновой
"НАША УЛИЦА" № 7-2006
|
|
АНАТОЛИЙ КАПУСТИН НАРОДНЫЙ ХОР |

Анатолий Алексеевич Капустин родился в 1937 году в г. Куровское Московской области. Окончил Всесоюзный заочный машиностроительный институт (ВЗМИ). Работал корреспондентом городской газеты «Лобня», главным режиссёром Управления культуры г. Долгопрудный и ведущим эстрадных программ ансамбля «Русский сувенир». Академик Международной Академии наук экологии, безопасности человека и природы (МАНЭБ). Лауреат премий: «Золотое перо Московии», имени Николая Гумилёва, Московской областной имени Роберта Рождественского и Всероссийской литературной премии имени Николая Рубцова. Отмечен Почётным дипломом имени Кондратия Рылеева. Кавалер золотой Есенинской медали, юбилейные медали: 50 лет МГО СП, 70 лет Союзу писателей СССР и его правопреемнику МСПС. Член Союза писателей России, член Союза журналистов России, Академик Международной Академии наук экологии, безопасности человека и природы (МАНЭБ). Все свои прозаические произведения напечатал в журнале Юрия Кувалдина "Наша улица". Книгу рассказов Анатолия Капустина "Куровское-Лобня" издал Юрий Кувалдин в своём издательстве "Книжный сад" в 2003 году.
Анатолий Капустин
НАРОДНЫЙ ХОР
рассказ
Об этих легендарных женщинах не говорить нельзя. Это первое поколение нашего революционного государства - участники и ветераны Великой Отечественной войны. Это им, их таланту и мастерству рукоплещет сейчас Москва и вся Московская область.
Это они восславили и возвеличили своим хором, который удостоен звания Народного коллектива, небольшой городок Подмосковья - Лобню. Это перед этими женщинами, прошедшими горнило войны, стоящими во фронт со всеми орденами и медалями в строгих концертных костюмах, встает и рукоплещет зал, вытирая слезы.
Это их, женщин с нашей улицы, за высокий уровень исполнительского мастерства, самобытный талант, жизненную стойкость и оптимизм, департамент администрации Московской области награждает дипломом лауреата фестиваля народного творчества. Самой младшей из них под 70.
А все начиналось с кипучей энергии бывшего председателя городской организации ветеранов, сегодня директора музея боевой и трудовой славы города Лобня, полковника в отставке Прокопия Яковлевича Колычева. На редкость интересная личность; чуткий, внимательный, делающий людям добро, большой любитель песни, особенно военной. Ко дню рождения ветерана всегда найдет теплое слово, изыщет возможность отметить его, договорившись с администрацией города, сфотографирует на память, поможет в установке телефона, напишет статью в газету, соберет всех вместе, поделится впечатлениями, поговорят о жизни. Одним словом, этот человек, как пример доброты, оптимизма, жизнелюбия, и стал создателем профессионального городского хора ветеранов.
Вначале, с 1980 года это был кружок любителей песни, затем клуб боевых подруг и, наконец, с 1 октября 1984 года - городской хор ветеранов, которому и суждено было стать народным коллективом.
Пионерами признаны 8 человек: М. А. Горкавенко, А. Н. Гукова, А. Т. Костюкович, Н. П. Кузнецова, И. И. Прудникова, Л. М. Болышева, К. И. Филатов, П. Я. Колычев. Постепенно собралось до 30. Многие уже покинули этот мир. Вместо ушедших приходят живые. Жизнь продолжается. Первой старостой единогласно избрали М. А. Горкавенко. Художественным руководителем коллектива назначили педагога школы искусств, окончившую Московское музыкальное училище им. Октябрьской революции, Е. Б. Кащееву. Елена Борисовна послушала участников, разделила их по голосам и предложила разучить песню Г. Пономаренко на слова М. Агашиной “Растет в Волгограде березка”, аккомпанировала Н. Н.Фролова. Всех это очень обрадовало. Музыка оказалась по душе, хотя вещь и трудно давалась. Настроились. Так и пошло. Боевое крещение хора состоялось 12 января 1985 года. Ему поручили открыть вечер встречи ДОСААФ женщин - участниц войны и трудового фронта. Волновались, конечно, но выступили безошибочно, с большой помпой. Нам дружно аплодировали. Солистка Валентина Бормотова исполнила песню “Для вас”, дочь А. И. Кашинцевой Любовь прочитала поэму о матери “Горсть земли”. Были еще песни, рассказы. Девчата познали вкус выступления перед публикой, аппетиты разгорались. Решили более серьезно готовиться к праздникам. О хоре заговорили. Его стали приглашать на различные мероприятия: отчетно-выборные конференции, праздники 8 Марта, выступать перед участниками торжественных собраний по случаю знаменательных дат в кинотеатр “Чайка” и в микрорайоны города. О нем узнают за пределами Лобни - Долгопрудный, Мытищи, войсковые части Чашниковского гарнизона. Прокопий Яковлевич знакомится с земляком - поэтом-песенником П. Н. Черняевым. Он специально для нашего хора на военную тему написал песню о лобненках “Вальс боевых подруг”, которая до сих пор с большим успехом поется по всей России. Музыку к ней написал известный композитор Виктор Темнов. Коллектив набирал силу и пополнялся хористами.
Разве забудется выступление солистки А. Н. Гуковой, завораживающей слушателей своим звонким, задорным голосом. Она выходила на сцену в концертном, длиной до пола платье, украшенном с особым вкусом, и покоряла всех своим пением. Это была любимица публики. О ней говорили - наша Русланова. Даже когда по недомоганию она не имела возможности петь, но приходила в клуб, ее стоя приветствовали аплодисментами. Анна Николаевна была одной из первых в 1946 году строителей микрорайона “Москвич”. Трудно даже поверить, что всю войну и до приезда в Лобню она работала трактористкой в колхозе на Рязанщине, насколько интеллигентно и артистично держалась на сцене эта женщина.
Шло время, разрастался коллектив, повышался профессионализм самодеятельных артистов, а соответственно, и требования к себе. Как-то на одном из занятий завели разговор о костюмах. Тон задала М. В. Булатова, все ухватились за эту идею. П. Я. Колычев, надеясь заполучить форму, написал письмо на имя начальника управления бытового обслуживания В. Снимщикову, зарегистрировал его, звонил, надоедал, упрашивал. Однако старания оказались тщетными, письмо осталось без ответа. Что делать? А девчата (как они себя называют) загорелись, уже видят себя в новой одежде на сцене, а тут и Новый год на носу. Сам Бог велел. В общем решили на свои деньги закупить одинаковый материал, сшить костюмы. И завертелись: Лобня, Москва, Долгопрудный, наконец, на Гранитном поселке нашли нужное по цвету и деньгам. Сняли с каждой мерку, скроили платья. По длине они были до пола, в русском стиле, книзу расклешенные, с длинным рукавом и галстуком из той же материи, ворот стоечкой. Помнится, - говорит Прокопий Яковлевич, - к нам в хор пришла Е. Кузнецова. Ей пришлось сразу же индивидуально купить такой же материал и в ателье пошить для себя платье по этому же фасону. В своих нарядах хор выступал три года.
Мы держались только на энтузиазме. Жили сами по себе. Ни руководство, ни отдел культуры города не обращали на нас никакого внимания, хотя вовсю уже использовали наш коллектив на всех мероприятиях. С нами не считались. У нас отбирали помещение. Мы оказывались выброшенными на улицу. Нами играли, как картами. Порою запланированный 50-минутный концерт сокращали наполовину. Случалось, что вокально-инструментальные оркестры выживали нас со сцены. В конце концов терпение лопнуло. Наш идейный и духовный организатор Прокопий Яковлевич обратился к председателю исполкома А. И. Сенченко. Нам назначили встречу, на которую пригласили и начальника отдела культуры Т. М. Козлову. Здесь были высказаны все жалобы и претензии. Мы добились баяниста. Теперь можем в любую минуту давать концерты на выезде, не увязывая это с наличием рояля или пианино. Нам установили 2-часовое занятие два раза в неделю. Наши выступления будут афишировать, отмечать в прессе. Мы становимся пропагандистами добрых традиций исполнения русских народных, патриотических и песен военных лет. Сцена и песня уже неотъемлемая часть жизни коллектива. Это кусочек счастья, дающий нам возможность интересно проводить время, самоутверждаться, сознавать, что мы еще что-то можем и наше творчество нужно людям. И это действительно так.
Нас награждают грамотами, благодарственными письмами, дипломами, ценными подарками.
В 1993 году заносят в Книгу Почета городского музея боевой и трудовой славы. Меняются художественные руководители: Рамазанов Т. К., Круглев А. Н., Кобзев В. И., Кистенев Е. Н., переизбираются старосты: Казакова А. Д., Шевкопляс Т. Г., Ридевская М. М. На смену одним аккомпаниаторам приходят другие: Фролова Н. Н., Ханина Т. Л., Кобзев В. И. И только с завидной постоянностью на высоком профессиональном уровне, с неиссякаемым задором, вдохновенно и торжественно продолжает петь наш замечательный хор.
Украшением его всегда были и остаются солисты. Одна из них Тамара Васильевна Колпакова, в хоре ветеранов с 1989 года. С художественной самодеятельностью связана вся ее жизнь. Она пела во всероссийском хоровом обществе. Наставницей ее была Зара Долуханова, а голос - лирическое сопрано - ставил брат И. О. Дунаевского Борис Осипович. Тамара Васильевна закончила факультет теории и музграмоты всероссийского заочного университета искусств. Поет она потрясающе, берет необыкновенно высокие ноты.
Зал замирает, слушая ее сильный, красивый голос. В пении она очаровательна и неподражаема.
Это дочь полка, 10-летней девочкой приняла она присягу в 226 отряде 3-й ударной армии. Вместе с мужчинами несла нелегкую солдатскую службу и победила. Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени. “Самое запоминающееся событие в моей жизни, - говорит ветеран, - вручение медали “За Победу над Германией”. Полковник перед строем поднял меня на руках, а я сияющая и счастливая отрапортовала: “Служу Советскому Союзу!” Так и продолжает служить искусству и, уверен, никогда не изменит песне эта талантливая певица хора ветеранов.
А хор уже основательно утверждается в области. Ему аплодируют: Катуар, Марфино, Одинцово, Крюково, Дмитров, Ступино и др. Он становится частым гостем дворцов культуры Долгопрудного, Мытищ. На каких бы подмостках ни появлялся этот фантастический коллектив, ему сопутствовал успех, радушный прием, всеобщее признание заслуг.
Заслуги каждой из них перед отечеством неоценимы. Шла война. 18-20-летние девчонки вместе со своими сверстниками-ребятами уходили на фронт.
Их нежным рукам были послушны не только вата и бинты, шприцы и скальпели, но и сложная аппаратура связи, техника. В них просыпалась титаническая сила, и они, вопреки чисто женским возможностям, громадным усилием воли вытаскивали с поля боя тяжело раненных воинов.
Лечили искалеченных бойцов. Лечили не только заботливыми руками, отзывчивым сердцем, но и хорошей песней. Всмотритесь, пожалуйста, в их лица.
Афанасьева Анна Васильевна - рядовая, служила матросом на катере минно-торпедной дивизии на Северном флоте, шофером автомашин по заправке самолетов горючим.
Булатова Мария Васильевна - младший сержант, телефонистка артиллерийской части, награждена медалью “За отвагу”.
Варламова Наталья Георгиевна - старший сержант, командир отделения взвода, контужена. Награждена медалью “За отвагу”.
Горкавенко Мария Андреевна - рядовая, санитар санвзвода, тяжело ранена, награждена медалью “За отвагу”.
Дробышева Мария Захаровна - рядовая, разведчик в артполку.
Жарова Анна Ивановна - рядовая, санитар медсанбата. Имеет ранения.
Казакова Анна Дмитриевна - старшина медслужбы, санинструктор батареи, ранена, награждена медалями “За боевые заслуги”, “За отвагу”.
Кашинцева Анастасия Ивановна - сержант медслужбы, санинструктор роты, контужена, награждена медалями “За боевые заслуги”, “За отвагу”.
Кочнева Александра Даниловна - младший сержант медслужбы, медсестра эвакогоспиталя.
Кузнецова Нина Петровна - сержант медслужбы, санинструктор роты, медсестра эвакогоспиталя, ранена, донор, награждена медалью “За отвагу”.
Мещерякова Александра Васильевна - старшина медслужбы, медсестра, фельдшер части.
Радан Матильда Иосифовна - партизанка, связная в партизанском отряде на Украине.
Щербакова Любовь Григорьевна - рядовая, санитарка в эвакогоспитале. Суморина Ольга Алексеевна - рядовая, телефонистка артиллерии, награждена орденом Победы 2-й степени и серебряной медалью,
Вместе с ними в тылу суровые годы войны делили и девчонки - участники трудового фронта: Елизавета Георгиевна Кузнецова, Зинаида Алексеевна Кирсанова, Анна Петровна Картошкина, Нина Тимофеевна Лермонтова, Валентина Николаевна Матынкина, Лидия Петровна Назарова, Екатерина Михайловна Стрельцова, Тамара Гавриловна Шевкопляс, Валентина Егоровна Бормотова, Валентина Ивановна Калмыкова, Надежда Федоровна Сорокина, Людмила Владимировна Андреева, Лидия Ивановна Бородина.
Это героические женщины. И те из них, кто еще в строю, продолжают ревностно служить Его Величеству Искусству.
Самая озорная из них, самая разбитная - Валентина Бормотова. Бог наделил ее приятным голосом. Она совершенно свободно держится на сцене, так и кажется, будто чертенок вселился в ее душу, а глаза искрятся, сияют, горят каким-то фантастическим светом, зажигая публику.
Был случай. Она опаздывала на концерт. Конферансье объявляет ее номер, а Валя только что влетела в зал. Мгновенно бросает сумочку, поднимается на сцену, и в этот момент у нее слетает туфля. Попытка быстро надеть обувку не увенчалась успехом. Она, не раздумывая, берет ее в руку и с босой ногой, с прибаутками, улыбаясь подбегает к микрофону. Хохот гомерический. На одном из фестивалей в Ступино затягивалось начало выступлений. Участники нервничали, волновались, сгорали от напряжения. И вдруг Валентина Егоровна энергично выходит на сцену и начинает занимать артистов шутками да песнями. Минут 40 развлекала зал. Хлопали ей неудержимо. Она не только всех уморила, но и сняла предстартовую скованность каждого выступающего. Просто чудо, а не женщина.
И вот такими самородками пополнялся коллектив. Его зауважали. С ним стали считаться. Теперь уже на каждом концерте хор - желанный гость города. Администрация всячески помогает и опекает бывших фронтовиков, устраивает им вечера отдыха со столиками, чествует именинников, юбиляров. На выездные концерты предоставляют просторные автобусы. Одним словом, стала проявлять заботу и внимание.
А хор рос. Гастролировал. В него влились способные певцы: В. С. Ларина, А. А. Гуськова. Разучивались новые песни, ставились монтажи, расширялся репертуар. На фоне выступлений прекрасно проявила себя солистка хора Валентина Матынкина, Ее красивое и очень теплое сопрано захватывает зрителей сразу же с первых нот. Чистота звучания, необычная манера донесения мелодии песни завораживает зал. Она словно колокольчик заливается на сцене, и, когда слушаешь, затаив дыхание эту солистку, поражаешься неповторимости ее удивительного голоса.
Как-то незаметно в творческих поисках, в репетициях, смотрах, конкурсах и выездных выступлениях летело время. Первое десятилетие своего существования встречал в 1994 году Лобненский хор ветеранов. Юбилей застал в его рядах 30 исполнителей, среди них 14 участников Великой Отечественной войны, 8 - трудового фронта. Более 70 концертов было дано за эти годы. Бесспорно, вклад хора в дело пропаганды русской народной песни, нравственного воспитания молодежи - большой. Заслуги его огромны. Об этом неоднократно писали газеты. Окрыленный своими успехами коллектив совершенствовался и оттачивал мастерство. Ряды его пополнились еще одной солисткой - Марией Ридевской - оригинальной, грациозной певицей с высоким голосом, незаурядными способностями. Зрители полюбили ее. Она умеет неожиданно и красиво вплести свое пение в многоголосие хора, оттеняя основные особенности песни композитора. В 1996 году руководителем хора стал Владимир Васильевич Коростелев.
Он обратил внимание на особенность исполнения Марии Михайловны, использовал ее данные в совокупности с другими солистами при взятии высоких нот в заключительных аккордах произведений. И финал превосходил все ожидания.
Надо отдать должное таланту Владимира Васильевича - лауреату международного конкурса, члену Союза композиторов России, прекрасному педагогу.
В короткое время он сумел подготовить литературно-музыкальную композицию на тему песен о войне. Требовал, репетировал, добивался, и результат налицо. В 1997 году хор был удостоен звания “Народного коллектива”. Заслуга руководителя в этом великая. Это только благодаря его усилиям, опыту, планомерной подготовке, личным качествам вожака были достигнуты такие высоты. Выступая теперь уже в ином качестве, хор встречает свое 15-летие. Он покорил Московскую область, Москву, его показывают по Центральному телевидению, о нем с восторгом отзывается пресса, в честь его слагают стихи. Бывший мэр города С. В. Кривошеин одевает коллектив в новые наряды. Юбилей отмечается в КДЦ “Чайка” пышно и с размахом. “Огонек” (Слова М. Исаковского, музыка М. Блантера) радует, ласкает слух:
На позиции девушка
Провожала бойца,
Темной ночью простилася
На ступеньках крыльца.
И пока за туманами
Видеть мог паренек,
На окошке на девичьем
Все горел огонек.
Парня встретила славная
Фронтовая семья.
Всюду были товарищи,
Всюду были друзья.
Но знакомую улицу
Позабыть он не мог:
Где ж ты, девушка милая,
Где ж ты мой огонек!..
Хор торжествует. Только беспристрастное время накладывает свою печать. Уходят ветераны. Сегодня их 22 человека. Осталось всего 7 участников Великой Отечественной войны, 12 - трудового фронта. Им тяжело подниматься и спускаться со сцены, работать и выстаивать время концерта. Некоторые выходят на подмостки с палочкой, но женщины полны оптимизма, поют и не сдаются. Их беззаветной любви к песне, их неиссякаемой силе воли можно только восхищаться и завидовать. Это “последние из Могикан”.
Смотрите и слушайте их.
Перед вами уходящая гордость поколения - достояние республики.
|
|
Дан Маркович "Сон предпочитаю..." мысли и афоризмы |
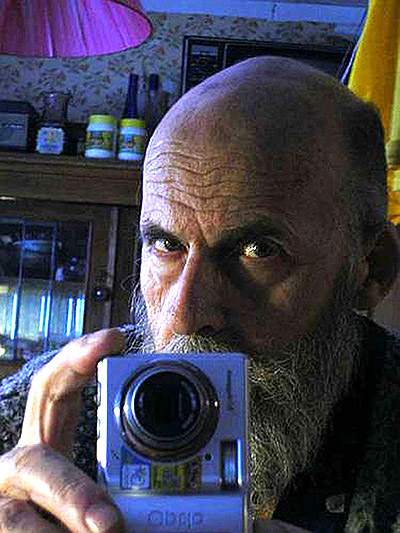
Дан Семенович Маркович родился 9 октября 1940 года в Таллинне. По первой специальности биохимик, биофизик, энзимолог. С середины 70-х годов профессиональный художник. Писать прозу начал в 80-е годы. С 1997 года редактор электронного литературно-художественного альманаха "Перископ". С 1966 года живет в городе Пущино Московской области. В "Нашей улице" печатается с № 94 (9) сентябрь 2007.
Дан Маркович
СОН ПРЕДПОЧИТАЮ…
мысли и афоризмы
Если бы…
Если б смолоду смотрел по сторонам, видел, сколько умного, красивого делать умеют... ну, пусть немногие, но довольно их всегда было... определенно замолчал бы, и никогда б не выражался.
Но не смотрел, не слушал, не читал, своими увлечениями жил.
Под старость оглянулся... у-у-у... Какой был сон!..
Но, увидев, наконец, как живут, зачем живут, на чем строится обыденная жизнь кругом - понял: свой образ жизни предпочитаю.
Страх страху рознь…
Если одолевает страх среди бела дня перед наступающей на пятки реальностью, это нормально, значит Вы не скурвились окончательно. А если страх одолевает во снах, это признак тревожный: значит, надо вернуться в светлый день, изменить свою жизнь…
Или реальность.
Опыт неудач…
Как-то мне сказал один старик, давно было – «падать простительно, только надо быстро вставать...»
Студентом был…
Тогда ел кое-как, любил укромные места, забегаловки, чтобы никто не видел, не заговаривал, и находил такие. Однажды ко мне подсел старик, я думаю, рабочий.
Он не смотрел на меня, выпил пива, а, уходя, говорит – «Хоть раз в день горячего ешь, сынок...»
То, что я ел, горячим не назовешь, хотя еда тогда была неплохая в самых захудалых местах.
Прошло полвека, а я помню его, почему? Столько всяких слов бесследно пролетело, а эти - помню...
Год 1963-й…
В Ленинграде, бежал за трамваем, на Стрелке В.О., успел кое-как схватиться, да левой рукой. Дернуло, и меня отнесло к стенке трамвая, одной ногой на подножке, упал бы под второй вагон... Набежал какой-то парень сзади, толкнул в спину, я выправился, встал второй ногой, а он рядом висит, но правильно держится, смеется – «ну, ты даешь...»
Передних нескольких зубов не было у него, зато рядом золотые. Шпана, веселый малый... Соскочил на Дворцовой, и был таков.
О частной жизни…
После войны отцу поставили телефон, он был главврачом.
Это было до «дела врачей», потом у нас телефон сняли.
Звонили, мать подходила, - «кто говорит?» Иногда спрашивали учреждение какое-то, мать отвечала – «это частная квартира».
До войны они жили в буржуазной эстонской республике. В новой для них стране, СССР, частной собственности не было, она по привычке говорила.
А я частную собственность презирал всю жизнь, но само понятие частной жизни с детства привилось. Можно собственности не иметь, но частную жизнь оберегать.
Я приехал в Россию из Эстонии в 23 года, многое в Ленинграде меня обрадовало и по-хорошему удивило... кроме отношения к частной жизни.
С детским воспитанием ничего не сделаешь. Моя жизнь - частная квартира.
Ответ читателю…
Приятно и даже трогательно, что Вы так верите словам. Для меня всё начинается с изображений. Слова потом возникают, а часто вообще не появляются. Со словами сложно, шансы сказать банальность велики. Беру почти любого современного писателя - вижу, серость по-хозяйски гуляет по страницам. А часто пошлость хлещет через край. Куда денешься, даже великие мыслители рождают пару новых мыслей за всю жизнь, остальное время и силы уходят на разработку… и саморекламу. Тем более, писатели… ведь все давно сказано. Спасение в том, что некоторые сочетания слов рождают в нас картины, сцены… и мы просыпаемся для развития.
Но чаще перед глазами только ряды черных значков, иероглифы унылых описаний…
Высокомерие вещей…
Трудно вынести, когда собственный ключ от квартиры разговаривает с тобой - высокомерно поплёвывая...
Когда люди по отношению к нам высокомерны, над этим легко посмеяться, но когда высокомерны родные вещи, свой кожушок, например, или ботинки, единственные, то тут уж не до смеха...
Пора, пора…
Тоска и грусть по поводу гибели России, в некоторых произведениях, вызывает сочувствие, но куда серьезней глобальное: тупиковый вариант всей эволюции, который мы перетащили в свою жизнь из прочего живого мира. Но там он служил развитию, хотя с оговорками. Принцип «выживания приспособленных» превратился у человека в разрушительный, препятствующий нормальной жизни.
Пора звать ученых и мыслителей править миром, единственный выход. И гнать взашей алчных тупиц, владеющих примитивной комбинаторикой.
Физиология цвета…
Не знаю, как на других, а на меня окраины больших городов наводят тоску зеленую или даже синюю, самый нелюбимый цвет. Кстати, цветовые пристрастия постоянны, думаю, корни в генетике. Например, мне трудно с людьми, которые любят синий...
Спорное, но упорное…
В поэзии ритмы чрезмерно наседают.
А в прозе они как соль: мало - нет прозы, много - разъедают текст...
Найди то, не знаю что…
В доме, где постоянно скитаюсь по лестницам, меня привлекают пятна цвета, трещины, паутина, тусклые окна и все такое, от чего обычно люди брезгливо морщатся, пожимают плечами, стараются прошмыгнуть…
Держу подмышкой бутылку или фигурку, которую вылепил, или предмет из домашних, подходящий для лестничного интерьера.
Кризис искусственных постановок, имитирующих свободу. С ними скучновато стало...
Особенно, когда бродишь по этажам, видишь, как у бомжей самопроизвольно рождаются натюрморты.
Те триста…
Вижу страх, горе, прозябание окружающего нас живого мира.
Масса людей надежно защищена от этого ежедневными заботами, сохраняют уверенность в ценности собственной шкурки.
Но я видел людей, которые сами лишили себя защиты, живут в открытом море горя и страха. Бросаются на помощь, забыв о собственной безопасности и пользе.
Мир держится на этих беззащитных, на пути полного очерствения стоят они, как триста спартанцев стояли...
Мало их, забывающих о себе?..
Но без них всю жизнь загоним под асфальт, а потом и себя - туда же.
Жизни не чуя…
Постепенно, особенно с возрастом, в жизни начинают преобладать процедуры, самые разные, но именно они - совокупность стандартных планируемых действий для достижения определенных ограниченных целей. Нехитрые сценарии и методики ежедневного приспособления-выживания, чаще примитивные, иногда хитроумные, умело обоснованные…
И это конец ощущению жизни как единого процесса.
Нужно выпутываться из процедур, также как когда-то выпутались из детства.
Но тогда было легче - рост способствовал. А старение не способствует, наоборот, вовлекает, а процедуры становятся все унизительней…
Совсем исключить их невозможно, но хорошо бы потеснить настоящими задачами и целями, а иначе…
Скучно даже говорить, что иначе…
Своими руками…
Критики хнычут - «в текстах только содержание, жанр, текучка жизни, мерзость или развлекаловка…»
Двадцать лет бежали за волной, хвалили хамов, чего жалуетесь.
Рисуем для себя…
Реакция зрителей на изображения на выставке всегда была удручающей, теперь стала удручающей вдвойне. К непониманию высокомерие невежд добавилось. Поэтому радует, когда чувствуешь – человека зацепило, подтолкнуло, и он двинулся по своему пути, не заезжая в умопомрачительные рассуждения, плохую литературу, убогую философию... Просто смотрит, и что-то в нем слегка сдвинулось, повернулось… Значит, все-таки живы связи рисующего с воспринимающим рисунок.
Но это капля в море…
Но всегда остается главное значение выставки - отдалиться от себя, увидеть сумму своих усилий одним взглядом, да на чужих стенах.
Оторвавшись от картинок…
Глядя на толпы людей, видишь новые признаки, много говорящие - моднючие гастуки-пиджаки, особую упитанность морд, выпестованных элитными продуктами, выпяченные в улыбках зубы, фотки с начальством, членство в академиях, особенно мировых, которых теперь пруд пруди... вечеринки, тусовки... Люди стали четче делиться - на тех, кто дома обедает и кто не дома, а может даже в ресторане ужинает…
И не уверяйте меня, что вискас хорошая еда для кота, а педигри от большой к собакам любви.
Про кошку Симочку…
Кошки и коты понимают интонацию, да еще так тонко, как мы сами себя не понимаем.
А Симочка всю жизнь хотела смысл наших слов постичь.
Мне всегда было жаль ее, когда с напряжением вслушивалась.
- Симочка, слова ничего не значат.
Она больших успехов достигла в понимании отдельных слов, но собственное понимание интонации обогнать не смогла.
Нужно ли было так напрягаться, я думаю - и не знаю ответа.
Очень похоже на собственные усилия в первой половине жизни, оттого, наверное, сочувствую ей.
Бешеная власть…
С моих девяти лет осталось - родители шепотом о врачах, которых обвинили...
Несмываемо. Навсегда.
И уверенность почти врожденная, что власть за версту нужно обходить, как бешеных зверей. Бешеных от власти. Теперь еще от денег.
Жалеть их нечего. Бороться с ними - тратить жизнь. Ждем, пока сами себя пожрут. И жрут. И приходят новые…
Приходят и говорят – «вы же нас выбрали!»
Матильда…
Одноглазый кот, лет пять тому назад откуда-то явился, остался жить у нашего дома. По виду и поведению все считали его кошкой, назвали Матильдой. Защищал и опекал всех котят, и даже собак гонял, рискуя жизнью. Однажды заболел, взялись лечить...
И тут обнаружилось, что он настоящий кот.
А он будто понял, что разоблачен, начал вести себя как кот. Но котят по-прежнему опекает. Думаю, он святой. Нет, не верю, но если б верил, то обязательно выбрал бы его святым. Наверное, он так тяжело в детстве жил, что решил быть кошкой, защищать котят.
Будь готов!..
Кошки молодцы, в любом положении точно равновесие выбирают. И, несмотря на свободу движений и вальяжность, всегда готовы тут же собраться – точно прыгнуть.
Пример для художника отличный.
Говорят, говорят…
Когда говорят – «его убеждения...», это теперь ни о чем не говорит. Раньше говорило.
Мне говорят – «убеждения...», я спрашиваю – «а живет как?»
Про умершую кошку Ассоль…
Я думаю, от бездомности устала.
От таких смертей сам устаешь, и думаешь - а что, черт возьми, совсем неплохо, - устал, прилег, исчез... Идите вы...
Кто-то обидится? Пройдет.
Но потом торчать здесь сорок дней в непонятном состоянии?..
Какое счастье, что атеист! Увольте сразу!
HOMO жующий говорящий…
Отдельные люди бывают очень интересны, большинство - ужасно. Никто меня не убедит, что сообщество людей интересней, чем сообщество животных. Могу наблюдать за зверем часами, а человек надоедает минут за десять, особенно, когда говорит. Как есть жующий мир, так есть говорящий. Не люблю говорящие рты. Жующие и говорящие.
Про цвет…
Если воспринимаешь его как друга, то и как врага порой воспринимаешь.
ПризнАюсь вам…
Того, кто больше сорока лет наблюдал за изменениями живого мира в одном и том же месте, не обмануть красивыми словами про возможности будущего процветания. Мечта одна: чтобы следы человеческой деятельности заросли травой, а люди ушли, исчезли. Хорошо бы медленно и безболезненно.
Тысячи лет хватит?..
Но не все интересно…
Наверное, в жизни так бывает, как в фильме Киры Муратовой о молодом пианисте и пожилой женщине, которая ему помогает, а он грабит ее. Подробней писать противно, хотя к Муратовой отношусь с уважением. А вчера смотрел ночью - Аль Пачино, старый слепой полковник и молодой студент, несколько дней жизни… Само направление мысли, взгляда, внимания в фильме с Аль Пачино - глубоко симпатично, а то, что сделала Муратова - не интересно.
Аргумент «так в жизни бывает», не для искусства - всё бывает.
Если бы…
На поверхности никакого кризиса литературы, наоборот, щедрое словоизвержение, иногда с большим мастерством по части расстановки слов, много хирургии психики и всякого рода манипуляций с сознанием и инстинктами.
Есть кризис совести, расцвет многообразного приспособленчества бывших интеллигентных людей.
Похоже, снова кончится доносами начальству, «а Петя сказал про родину бяка...»
Если б происходило в Китае, где многовековые слои высокого искусства, тысячи произведений никуда не денутся, было бы полбеды, а в России культурный слой тонок и уязвим, генетика сильно повыщипана.
ПризнАюсь…
Одно из сильнейших, образующих личность впечатлений детства - двое: "железный гаваец" штангист Томми Коно и обрусевший немец силач Засс. Люди, создавшие себя из ничтожного материала. Никуда не денешься - ни философы, ни писатели, ни даже ученые не повлияли так.
Последняя защита…
Симбиоза звука и цвета, в общем, не получилось. А симбиоз изображений и слов?
Картинкам, если хороши, не нужны слова. А слова, если хороши, сами рождают образы и картины, сцены…
Но вообще-то все начинается с осязания - прикосновение, тяжесть, тепло и боль... Похоже, что осязанием и кончится. Теряющий зрение Дега начал лепить. Наши воспоминания - наполовину осязание.
То, что трудней всего отнять.
Открытие котенка…
Если идти вдоль стены дома, вперед и вперед, то оказываешься там, откуда начал путь.
Открытие не меньше, чем кругосветка Магеллана.
Вы этого достойны…
В том, что доминирует в искусстве сейчас, честно и точно написано в руководстве по сетевому маркетингу - идет «битва за клиента». Дело доходит до больших тонкостей в способах обработки, но суть одна: привлечь к себе внимание, убедить - и навязать.
Характер продукта придает процессу некоторые особенности, но не существенные.
Больдини и Дега…
Художник Джованни Больдини жил почти сто лет. Друг Дега, между прочим. Красивей писал, чем Дега, и, наверное, не менее красиво, чем Мане. Почти как Ренуар. Только пахнет Салоном красивенький Джованни. Графья да графини, позы подчеркнуты, богатство-безмятежность напоказ, на публику, на продажу.
А цвет замечательный. Хороший безмятежный Больдини…
Посмотрел его роскошь - и забыл.
О концепциях…
На выставке фотонатюрмортов перед изображением угла, в котором бутылка из-под пива, бумажки, мусор какой-то...
Подошел и спрашивает человек с образованием, по лицу видно, – «какова Ваша концепция? Вы ЭТО изображаете как зеркало жизни, критический аспект, или с сожалением об уходящей старине?..»
За это не терплю показываться на выставках. И за встречи-фуршеты с толкотней у бутербродов, жадные взгляды тайных и явных алкашей, за надувание щек, ядовитые или сопливые лобызания, фальшивые похвалы, обязательное вранье… за свадебных генералов...
Не люблю обижать людей - и часто это делаю, поэтому быстро исчезаю.
Концепций не держу, грязь и мусор люблю, иная мусорная куча по цвету-свету дороже распрекрасного пейзажа.
Дрип…
Откуда пришло ко мне словечко, не знаю.
Взялось - и пристало!
Не люблю сумасшествия напоказ, продуманного «сюра», мастеровитого эксгибициониста Дали, влюбленного в собственные экскременты...
Люблю легкий сдвиг, который в голове, в глубине глаз. Легкий такой… дрип...
Когда действительность чуть сдвигается, только начинает плавиться...
Кто знает…
В умение, технику любого дела сначала вовлекаешься, увлечен, потом теряешься среди изысков, тонкостей, а в конце концов… озлобляешься против умения, устаешь от приемов...
И тогда, может, что-нибудь получится.
А может сам себе надоешь...
Про сериалы…
Слышу критику сериала, который меня глубоко тронул.
Особенно одна женщина, писательница... такие умные и острые слова у ней...
Как точно подмечает - нелепости, плохую игру, несуразности исторического плана... И вообще - всё, оказывается, дрянь-мусор и мура. А я-то переживал…
Понимаю, что она пишет, признаю - да, и это верно, и то...
Отчего я не видел, когда смотрел?
Но если б снова посмотрел, или что-то подобное - сегодня, завтра?..
По-прежнему был бы уязвлен, обижен, растроган.
В чем дело? Только ли в том, что ум ее острей моего, а это факт…
А ведь я хороший был ученый, умел точно анализировать, ставить вопросы…
Посмотреть бы сегодня на мой открытый мозг, украдкой, чтобы рядом никого...
Отчего он так корчится от задачи, которая другим легко дается?..
Наверное, что-то во мне испортилось… или устало, истлело, было выжжено?..
Эта писательница… Она постоянно на расстоянии, как наблюдатель и оценщик событий, и, остро чувствуя ошибки, промахи или фальшь... и фальшь тоже, да! - говорит: «вот это - они, такие-сякие, а это - я! И я им не верю...»
И она права, права... Она отстранена от действия, не сливается, не участвует, как я с детства, ведь до сих пор разговариваю с героями... Мгновенно прирастаю, вижу только то, что хочу увидеть, а остальное неважно мне…
Если подходят с критикой, то я – «да, да...» - и тут же забываю.
И это совершенно не годится.
Понимаю, но толку ноль.
При этом, не скрою, думаю иногда, за ужином, например, или ночью, шастая от окна к окну... – «как было бы ужасно мне… до ломоты в костях, до судорог в шее и икроножных мышцах, если б я...»
Был как она?..
Страх, ужас. Задохнулся бы в безвоздушном…
Хотя знаю - есть люди, которые живут хорошим и высоким, им, чтобы поверили, нужно многое доказать.
А таким как я, доказывать не надо - готов! Рад, что надули!
С ума сойти...
Как может такой человек писать или рисовать серьезно!..
Но я пробую - и не унываю.
И сам этим постоянно удивлен.
Имя – тьфу!..
Есть у меня рассказ «Ночной разговор».
Сделал к нему иллюстрации, тема привлекала. Черт обещает бессмертие картинкам в обмен на имя: автор останется неизвестен навсегда.
- В знак согласия, - черт просит, - напиши хоть что-нибудь...
Деликатно исчезает на полчаса, краски-кисти оставляет - чудные!..
Художник думает. Все-таки, исчезнуть тяжело…
Но соблазняют замечательные краски.
- Попробую, - решается, - только разик махну...
Что такое имя - тьфу!.. А картинки - да!..
Эскадрон моих мыслей шальных…
Мысли, умозаключения - большой обман, самообман. Во всяком случае, не единственный, и, думаю, не главный способ принятия решений. Смотрю на кошку. Она устроила единственного котенка на балконе, на старой шубке, на узком карнизе. Тогда было тепло, теперь холодные ночи, ветер...
Она стоит, смотрит на ящик, тут же на балконе, на полу - там нет шубки, но от ветра защищено.
Стоит и смотрит – туда? сюда?.. Она решает. Ни о чем не думает, проплывающие образы - теплая шубка, холод ночи, беспокойство котенка, ветер... Там, внизу - другой ряд образов, - побывала, тыкалась, нюхала... Плюс, минус, плюс, минус, минус, минус... Наконец, явный перевес в пользу старого места - лучше остаться. Она успокаивается, ложится, согревает котенка.
Сравниваю с собой, как принимал самые важные решения. Точно также возникали. А потом уж... философскую базу подводил.
Позднее начало…
Люблю красных и синих лошадей Франца Марка.
Он был убит осколком снаряда во время Первой мировой войны, в ходе Верденской операции, в возрасте 36 лет.
Что делал я в 36 лет?
Только начал рисовать.
Коломбо…
Интересно устроен этот сериал - с самого начала ясно, кто убил. Но какие возможности открывает – освобождает от нудности сюжета!
Желание избавиться от него понятно.
Так просто?!.
Мне не раз объясняли содержание моих картинок. Часто - примитивно, иногда на диво глубокомысленно и разнообразно: и что значит дорога, и что - свет впереди, и туча, и стая ворон, и то, что путников двое, а впереди собачка...
С глубоким содержанием объяснения.
Я пытался отвлечь, свести на шутку - куда там...
Некоторые считают, тайный смысл имеется, художник не хочет выдавать его, а это злит...
Или думают, какая чувствительная натура этот художник, стесняется обнажиться…
Или растерянно замолкают – «а что тогда… и вообще – зачем…» Если так просто, то никакого смысла не остается!..
Тогда не знаю, что сказать, стараюсь поскорей уйти. Или повторяю историю, которую рассказывал Миша Рогинский - про художника Володю Яковлева. Который любое сильное чувство выражал цветком. Видит что-то ужасное или прекрасное, приходит домой и рисует - цветок...
Не помогает. Я слышал, как два талантливых ученых обсуждали Яковлева, и пришли к выводу, что ненормальность. А потом Наташа Е., способный ученый, говорит – «единственный критерий качества картины - профессиональное мастерство».
Вот и приехали.
А что, действительно, если картинка Вас за горло не схватила, что остается?..
Как умеет рисовать.
Но в том-то и дело, что миллионы умеют, а хороших художников по пальцам пересчитать можно, во все времена так было.
Топчешься, топчешься…
Иногда сознательно повторяешь себя: выясняешь, как удача получилась…
Интересно, и даже полезно – утаптывание места, на котором стоишь.
Но если часто, то все-таки печально - ни вправо, ни влево, ни вперед…
Еще хуже, если другим угодить стараешься.
Еще хуже, если этого не понимаешь.
Году в 90-м…
Тогда я пытался напечатать свои тексты в журналах - ездил в Москву, заглядывал к редакторам, спрашивал...
Улыбались, хвалили, обещали, разводили руками, пригласительно или извинительно…
Я уходил.
Хороший был редактор в «Новом мире», Наталья Михайловна:
- Что вы хотите, Слава ходил к нам 14 лет, даже устроился в соседний журнал редактором. Зато теперь его все знают...
Мне тошно стало, вышел – плюнул, поехал домой.
Мне было за сорок, полсотни статей в научных журналах. Стыдно ходить-просить, да и времени жаль.
Начал издавать себя на принтере, крохотными тиражами, сам переплетал, рисовал обложки… Некоторые сохранились.
И ослабело желание печатать на бумаге. Написано - сделано.
А когда проник в Интернет, увидел - есть люди, которым интересны мои тексты.
И я остался здесь.
Реклама!..
Стакан красного вина каждый день - и риск рака легкого снижается, черт возьми! Цифры подозрительные, но со всех сторон трубят.
Зато эти же дозы увеличивают вероятность рака гортани и горла... на 168%!!!
Радует такая точность... как в рекламе косметики.
Зато белое вино совсем наоборот!
Но еще более полезным объявлен зеленый чай, чудодейственное зелье…
Эх, хорошо бы иметь «контроль», как в научном опыте – еще одну жизнь, точно такую же, только без чая и вина...
- Такую точно?
- А как же – контроль!..
Скучновато что-то…
Три подарка…
Ночное время - бесценный подарок самому себе. Никто не осмелится оспаривать право на сон, а значит и на использование ночного времени, как хозяину заблагорассудится.
Оно полностью за свой счет, свободно от попреков.
Есть еще одно время, безусловно нам принадлежащее, и даже отдельная комнатка выделена для времяпровождения.
Наверное, оттого, что эти два дела безусловно только нам принадлежат, ущемление прав воспринимается наиболее остро. Прорывы в новое происходят именно тогда - ты свободен и одинок.
Герой моего романа "Vis vitalis" в туалете создает теорию старения. Вернувшись оттуда, потрясен вероломством карьерных юнцов, лишивших его за время отсутствия рабочего места в Институте Жизни. Его решение покинуть родину приходит тут же, спонтанно - не заходя домой, взял и пошел, пошел...
Такая вот история.
Не советую читать роман, он слишком длинен для современного читателя, и про странных людей.
Когда пишешь такие вещи, чувствуешь изолированность от настоящего.
И это чертовски приятно.
Третий подарок самому себе.
Про обещания…
Важны две вещи, а может три.
Первая. Не падать духом, если нарушаешь обещания себе - пробовать снова, не ожидая успеха, не отчаиваясь.
Вторая. Ничего не начинать с понедельника, время от решения до действия не больше, чем от столкновения ладоней до звука хлопка.
Третья. Не давать обещаний, сразу выполнять их.
Толя прав!..
Существуют интересные реакции, процессы, - физические, химические, биологические - с периодическим течением, колебательным характером, например, реакция моего бывшего коллеги по Институту биофизики Анатолия Жаботинского (реакция Белоусова-Жаботинского). Похоже, периодические процессы происходят и в обществе, во всяком случае, то, что видим в России, наталкивает на эту мысль.
Лимон…
Как он может сам себя выносить, вот в чем вопрос.
Наталкивает на размышления…
Хуго, мой приятель…
Меня студентом приютил один человек, у него был собственный домишко в том городке, где я учился. Он был прирожденным писателем, звуками слов заворожен. Говорил, может написать, что угодно, его легкости и свободе нет предела. И, действительно, некоторые отрывки я читал, по прозрачности, легкости необычайный слог...
Он тяжело напивался, тогда говорил, что чем легче написать, тем меньше потребности этим заниматься, и что в конце концов вовсе замолчит.
В декабрьскую морозную ночь замерз. Выпил крепко, пошел купить еще, а возвращаясь, не дошел до дома.
Я поздно вернулся, опыт был трудный, неудачный. Почти у ворот наткнулся на твердое тело. Записи его искал, но кроме нескольких отрывков, не нашел ничего.
Вы этого достойны!..
Что характерно для так называемого «авангардного» искусства - оно не просто обращается к зрителю - бросается на него, зазывает, угрожает, эпатирует, сбивает с ног, валит с катушек - и кричит, мерзким голосом вопит, снимая штаны - вот я какой!
А если еще двигается, крутится, светит, блестит, звенит, то значит самое прекрасное, что может быть - яркая безделушка, огненная вода для дикарей...
Еще хуже - обращается к зрителю с идиотскими предложениями, планами, лозунгами, предостережениями, что мол опасно, жарко, холодно... Или что-то безумно глубокомысленное изрекается...
Цирк. И не скрывает, что завтра другое, послезавтра третье - и не естественно меняется в силу внутренней логики, а где-то раздался клич, новый голосишко прорезался, новое требование поступило или мода изменилась...
И миллионы смотрят, ошеломленно крутят головами... искусствоведы, кормящиеся здесь, глубокомысленно кивают...
Мир глупеет на глазах. Всегда был глуп, но сейчас подвергается умелой атаке хитрецов, обманщиков и гипнотизеров; люди доверчивы, а сегодня просто рвутся обманутыми быть.
Это так напоминает рекламу прокладок или удлинения ресниц на 400%, что может вызвать только смех, как вызывает смех победа не умеющего петь мальчика на иностранном сборище, где полно таких же продавщиц, что и у нас на пошлых смешилках Регины Д.
Смешное рядом…
Вспомнил чудную фразу, которую слышал от начальника первого отдела Лудильщикова осенью 1971-го:
«Сумасшедшие бывают разные, кто за советскую власть, а кто и против...»
В то время моего сотрудника судили «за литературу», а потом отправили в психушку подлечиться.
Поменьше дурака валяй!..
Когда не пишу, то рисую, когда не рисую, то пишу. Когда ни то ни другое, - фотографирую бумажки, траву, фигурки крохотные, сухие цветы... главное, чтобы с настроением композиция...
Иногда ничто не трогает, ползаю по интернету, валяю дурака.
Как-то набрел на дискуссию о жанрах, правильных рассказах и неправильных, круто закрученном сюжете... И там фотографии: мужики в пиджаках и галстуках! Так одетый мужчина - полудохлое существо. Про женщин упоминать не хочется. Я Таню Масликову любил, так они ее из телека выкинули, при ней погоду никто не слушал, было на что посмотреть. И это правильно: она нам намекала, увлечение погодой за тыщу верст от нас имперское сознание подпитывает.
А эти деятели совсем неглупо рассуждали. Странно, ведь Кабков плохой писатель, а так умно выражается... Я несколько его страниц прочитал, убейте - плохой!.. И не стыдно умному человеку так плохо писать?..
Нет, всей компашке не стыдно, они как великие люди рассуждают. Что-то странное творится. Может, всегда так было, а я, занятый собой, не замечал?.. Если б я встретился с Кабковым… Случайно, конечно... в зоопарке, например. Зоопарк освобождает, безгалстучная встреча.
Зачем, что за блажь – встретить Кабкова… Сказать ему – «пишешь плохо?» Неудобно... Он скажет, «а ты кто такой?» А что я отвечу… - «никто, вот, кормлю зверей...»
И пойду, пойду подальше...
А если вдруг окликнет, не дай бог?.. Промолчу.
А может, скажу через плечо – «и я перебежчик, но другой...»
Молодец, Руссо!..
Видел как-то репродукцию картинки Руссо. Не люблю его, но с уважением отношусь. Там была красная крыша, помню, слишком красная. Такая не может быть! Не мог Руссо так промахнуться…
И вот была радость, когда увидел подлинник на выставке Москва-Париж: та же крыша, но цвет – какой быть может!
Оснований маловато…
Следующее лето обязательно наступит.
Мы в это верим, так до сих пор было.
Нет оснований сомневаться, взойдет ли завтра солнце.
Вера в нековарство, незлонамеренность природы, жизни… куда интересней и теплей, чем любая религия, вера в чудеса.
С чего такое?..
Бывают времена, когда десять гениев в одном городе, какой-нибудь папа их опекает или герцог, а они между собой еще собачатся, в свободное от работы время... Ты это, мол, доделать не сумел! А ты - это!..
Но все равно - друг друга из виду не упускают, ревниво следят, а это важно.
Союз гениев? Или хотя бы мыслящих образованных людей, ведь от них все зависит, а не от своры, что гавкает вверху и внизу...
А потом возникают другие времена, кругом толпа, свободно разбушевалась… Кто-то малую малость совершит, чуть выше средней головы, и тут же ор – «гений суперкультовый!»
С чего бы это?..
Особо опасны…
Дети не интересны мне, любопытны пожилые простаки, люди, сохранившие искреннее восприятие. В каждую эпоху о них писали, иногда с интересом, чаще смеялись…
На этих людей надежда. Для любого насильственного порядка они опасней протестующих.
Классификация плохих натюрмортов…
"Полка" - это когда вещи стоят как на полке, в магазине или дома, - напоказ, не думая друг о друге, кичась своей ценностью, красотой или налетом древности.
"Автобус" - когда стоят, чтобы заполнить пустое место на картинке.
"Куча" - когда сгрудились, чтобы скрыть многословием и плотностью упаковки дефекты общей архитектуры.
"Лобовые" - когда детали, иногда вполне симпатичные, бьют в лоб зрителю, и все немыслимо перпендикулярно. Или даже симметрично!
"Евгений" - по имени одного художника, который выстраивает десять планов и все строго горизонтальные, повторяя раму с унылым постоянством.
"Солдатик" - когда все жестко и нарочито выстроено, слишком жестко!
"Старое тело" - когда, наоборот, болтается свободно, для каждой вещи «люфт»: чуть вправо, чуть влево - пожалуйста!.. Обязательности нет.
"Гуливеры и лилипуты" - когда размеры и формы вещей несовместны.
"Ромэн" - куча цветов, все несогласованны, грубы, тупы, плоски, назойливы...
Ну, и, конечно, когда нет «единого света», единой тени, все разваливается на части, с глаз долой уберите!.. Если просто - плохо, слов не надо, автор, закрой лицо и скройся от посторонних глаз.
Но вот что интересно… почти все сказанное возможно! – и изощренная игра с источниками света, и мнимая свобода, и заигрывание с жесткостью, и люфт… и даже лишние предметы!..
Если сделано - хорошо. Сильно, честно, со свежим взглядом.
Тогда любая несовместность на пользу выразительности идет.
Будьте снисходительны…
Лучше изо всех сил удерживать себя от грубых слов, нанесения словесных обид людям, какие бы они ни были - глупые, гадкие, ничтожные, прохвосты у власти, мошенники при денежных мешках, торговцы псевдокультурой и прочие… Почему?
Вовсе не из «любви к ближнему», бесконечное фарисейство в этих словах.
Вполне хватает тех обид и оскорблений, которые Вы наносите тем, что и как рисуете, пишете, сочиняете, как общаетесь со зверями, и вообще, всем образом жизни и поступками. Подумайте о том, как Вы оскорбляете самим существованием своим, если любите не то, что вокруг вас любят, а ненавидите то, что уважают и ценят… Так что лучше смирить себя и не выявлять своей сущности преждевременно. Не спешите, Вас все равно разоблачат, выведут на чистую воду, припрут к стенке...
Поэтому молчите… и тихо делайте то, что считаете нужным, полезным, благородным, интересным... Если будете об этом кричать, то не успеете, а это обидно. Кроме того... видел немало молодых людей, которые сначала задорно обличали, ругали, не скрывали своего презрения к окружающим... а потом быстро стихали и начинали делать то, за что их хвалили, награждали грамотами и медальками, совали денежку в карман...
И те, кто суют в карманы, раздают подачки, они считают, что командуют, руководят процессами, ориентируют в правильном направлении… Для них самое страшное - вовсе не кричащие на каждом углу, а те, кто спокойно и настойчиво, не замечая ихней камарильи, продолжают делать то, что считают нужным, полезным, интересным, благородным...
Особо опасны…
Парадокс реальности в том, что все лучшее создано свободным творчеством, и ничто не находится в таком загоне, пренебрежении, под давлением, угрозой и даже преследуется.
И это по-своему понятно - для жизненной рутины творчество слишком сильное лекарство, оно необходимо в микродозах, чтобы превращаться в массовую технологию и практику. Творческие люди опасны любой власти. И нужны!..
Что хочется, что чешется у тех, кто у кормящего кормила, неважно - им никогда не подмять творчество. Для него нет границ, стран и наций, оно не погибнет, пока живы люди.
Все мы звери…
Животные не машины рефлексов, как это втолковывали нам полвека тому назад, под влиянием работ Павлова и других физиологов. За многие годы я видел столько примеров - самоотверженности, бесстрашия, искренней дружбы, что сомневаюсь в простых ответах. Мимика, а особенно выражение глаз у собак и кошек читается также легко и однозначно, как мимика человека. Часто от меня не ждут ничего, кроме общения. Технические решения, которые предлагают кошки для своих целей, например, при открывании дверей, поражают остроумием, например, использование рычагов, простых устройств для увеличения силы, высоты прыжка… Провинившаяся кошка приходит и просит прощения - приносит хозяйке игрушку... Кошка, у которой погиб под машиной братец, годами помнит об этом, уходит от хозяина, меняет свою жизнь…
В повести «Перебежчик» я описал свою дуэль с котом, который обидел моего друга. Я не использовал своего врожденного преимущества. Кот оказался быстрей, получилась ничья, мы разошлись, уважая друг друга. Это повлияло на дальнейшие отношения во всем нашем прайде.
Тупая жестокая борьба со многими животными, например, с крысами, муравьями, тараканами, я уж не говорю о крупных зверях, только увеличивает пропасть между нами, и мы оказываемся без поддержки. Тонкий слой жизни в несколько сот метров, а под всеми нами тысячи километров неизвестности…
Алиса…
Беда наша не в том, что имеем два действующих начала - звериное и человеческое, а в том, что лучшее звериное, то, на что ушли миллионы лет эволюции, растеряли в один миг, разрушили, забыли. А в человеческом начале, наряду с высоким, интересным, столько оказалось грязи, мерзости, препятствующей жить даже по звериным законам, которые суровы, но обеспечивали и выживание, и развитие.
Пример замечательной животной жизни для меня кошка Алиса, которая не пройдет мимо ни одного брошенного котенка, - успокоит, отведет туда, где безопасно и поесть можно. А если увидит, что кошка-мать забывает про своих котят, тут же, спокойно, дружелюбно - придет, сядет рядом, будет сторожить и защищать... И постепенно вытеснит плохую мать. За много лет я видел это неоднократно. Кошки уважают и боятся Алису, коты обожают ее. Когда у нее появляются свои котята, она тут же объединяется с другими матерями, устраивает «общую службу», и ни один котенок не остается без постоянного присмотра.
Начало и конец…
Окна на втором этаже, где я жил с родителями, когда вернулись из эвакуации...
Странное чувство, когда смотрю на них. Возвращаться некуда, понимаю… но осознаю, что здесь начавшись, цикл жизни здесь заканчивается.
Об этом много можно писать, но смысла нет, и желания тоже. Просто иногда смотрю. Удивляюсь? Нет. Ясное спокойное понимание.
Даже самая наполненная жизнь кажется бессмысленной, если одновременно видишь начало и конец.
Началось во сне…
Вроде, был у меня рассказец такой... Во сне долго искал.
Проснулся, лежал, вспоминал... Не было рассказа! Нет, был! Не помню, о чем, но был там зонтик под дождем - со сломанной спицей. Встал, пошел на балкон - на табуретке лежит, откуда взялся… не помню… Не складывается, птица со сломанным крылом. Потом Вова, сосед, стукнул в дверь – пойдем, говорит, - покажу!
Я пошел, ведь недалеко. Открывает чулан. Ведро эмалированное из темноты глядит... Зачем мусор прячешь?..
- Дурак, не мусор, а бомба - всем конец, стукну по крышке, земля в пыль!..
Видит, не верю, закрыл чулан, иди, говорит - я сам…
Назавтра исчез. Через месяц искать начали, сломали дверь, Вовы нет. И ведра нет...
Потом начали взрываться бомбы, то здесь, то там...
Как-то ночью стук, я к двери - Вова стоит, в руке ведро.
- Вот, вернулся, - говорит, - мусор вынести забыл. Там еще холодней, тоска, я без сил...
- На том свете, что ли?..
- Я вас проверял.
А что проверял, не говорит.
Утром проснулся, вспомнил, пошел к его двери, стукнул. Он открыл:
- Чего приперся в такую рань?..
- Ты уезжал?
- Куда, проспись!..
- А бомба?
- Какая бомба, совсем не умеешь пить!
Я постоял, пошел к себе, сел за стол, написал - "Последний дом". Начал с зонтика. А он тут при чем? Выкинул, легче стало.
А дальше просто, всю повесть за несколько дней написал.
Скурвиться несложно…
Среди так называемого художнического «наива» есть точно такие же, как среди всех, циники и надуватели, которые свою неумелость не просто культивируют, но еще и оценивают высоко в бумажках. Иногда дело начинается с высокого полета, а кончается грязной лужей. Старик Генералич был хорош, а вся эта кодла родственников… что говорить…
Хорошо бы вовремя останавливаться, не ляпать картинки – сотнями, не лить стихи - ведрами, не засыпать в корм читателю анекдоты - мешками...
Да кто же остановит, если не сам себя?..
Цена веса…
Вопрос режущий и колющий, по науке называется «психологический вес пятен». Содержание изображений - бред, придуманный бездарными критиками. А вот этот «вес» - он вязко, сложно, но неразрывно связан с состоянием художника, и чем автор уязвимей, без опоры и надежды стоит, чем ему страшней жить - тем тоньше начинает чувствовать этот проклятый вес пятен, их отношения, борьбу, тайный разговор…
Апология Перебежчика…
Когда от Вас, как представителя вида Homo, не ждут ничего хорошего все прочие живые существа, уверены в обмане, подвохе и любой гадости…
То не возникает ли усталость, разочарование, подавленность - и, в конце концов, нежелание оставаться в этом обличии, неловкость и стыд за свою видовую принадлежность?..
Смешное дело…
В попытках понять собственную жизнь, первое, что делается - выстраиваются аксиомы, которые не обсуждаются.
С вопроса начинается…
Серьезные цели и задачи в искусстве начинаются там, где чувство и ум уже не дотягиваются в полной мере. Толчок от непонимания. Исследование, выяснение… Утончение восприятия, саморазвитие…
Я о том, что можно назвать искусством состояний. В которых живем, плывем…
Это серьезно.
Идейки и придумки авангарда кажутся ужимками, современное искусство предлагает скушать банан, а нам - тяжко, дышать нечем...
Немного смешного…
Среди фотографов встречаются забавные личности - видят изображение в желтых тонах, например, и говорят – «установите поточней по белому».
Спросили – отвечаю…
Меня спросили, что вы хотите сказать этими изображениями, смешивая воедино живопись, графику, реальность и всякие фигурки...
То, что хочу сказать - говорю словами. Почему-то многие это считают прозой. Это не проза, а выраженные значками мысли. Искусство не мысли, оно свободное скольжение по ассоциациям. Трудно понять тому, кто во всем философский смысл ищет. Его там нет, а только толчок для чувств и размышлений. Даже наука не делается «смысловиками». Возьмите Шредингера. Или моего шефа М.В.Волькенштейна, который прыгнул из физики идеального газа в структуру полимеров, из этой свободной ассоциации родилась целая наука, за которую американец Флори через тридцать лет получил Нобелевскую премию, писал, что обязан Волькенштейну, а тот уже был далеко, закопался в биологию...
Творчество стоит не на уме, а на свободных ассоциациях. И выше этого только те единицы, которые, как совершенные идиоты, умеют задавать примитивные вопросы, например, почему падает яблоко на землю, тяжело и быстро…
Жаль только жить…
Достичь своего предела в любом занятии, и особенно в искусстве, мешает инстинкт самосохранения. Когда он в обществе, в людях слабей обычного уровня, тогда и начинает получаться что-то заметное и особенное. Оттого, наверное, во времена неравновесия искусство пробуждается.
Если так, то нас ждет невиданный подъем.
«Жаль только жить в эту пору прекрасную...» (проблема в запятой…)
Ни туда, ни сюда…
Многие ученые пишут прозу и стихи. Тут два направления проявляются - туда же и от противного. Туда же, когда научник напихивает тексты умными мыслями, и думает, как бы еще поумней да покруче сказануть. От противного - когда озабочен тем, чтоб сказануть как можно художественней да образней, наподобие известного поэта N. или прозаика K. Меня, к счастью, как пинг-понговый мячик от обеих сторон отбросило: из науки убежал, по внутреннему складу оказался не способен к ней, все сам хотел, и логике не доверял, очкарику Спинозе… С другой стороны, метафорам не доверяю, сравнения вздор, вероятность непопадания слишком велика. Если уверен, что вот так, то и говори – так!... море пахнет морем, ну, может, гнилыми водорослями, но не арбузом. Кому-то нравится арбуз, а я не верю.
Нет базару!..
Есть такое человеческое свойство, с которым плохо выживают - тонкость душевной организации. Когда ее нет у писателя, поэта, художника, он намеренно или непроизвольно усиливает голос, чтобы в нашем базаре всех перекричать, иначе не услышат…
Кому-то удается, кому-то нет… неважно, потому что это конец, часто неслышный и невидимый никому, или много лет невидимый, но все равно – конец и творчеству, и личности.
Плоские ступеньки…
Применение принципа Торричелли к общественному мнению - оно не терпит пустоты. Так что в любом безвременьи и бескультурьи - все та же лестница с обязательными ступеньками - «наши гении», «наши таланты»...
Бывало, но редко…
Раньше говорили, - «не спеши себя хвалить, пусть люди тебя похвалят».
Теперь говорят, - «не забудь себя похвалить, тогда поверят, что достоин».
Но и раньше бывали случаи. Один знакомый так сделал диссертацию. Каждое утро внушал руководителю, что закончена работа. И представьте, преуспел. Я изумлен был, ни одной статьи...
Коммивояжерский талант. Тогда, в 60-ые, это редкость была.
На всю катушку…
Чужая точка зрения - дурдом. Например, говорят – «берегите глаза, зачем с экрана читаете?..»
А для чего глаза? К тому же, книги читать куда вредней.
Или говорят – «куда Вы летите, нужно сердце беречь...»
Или еще – «нельзя мало спать, надо много...»
Или – «вам бы не вредно почистить печень...»
С ума сошли, с этими «чистками», жрать поменьше надо...
Дурдом какой-то!.. Непонятно, для чего все это беречь? Что-то одно споткнется, а всему остальному - из-за этого пропадать?.. Как можно добро, вполне работающее, в землю бросить, чтобы гнило? Или сжечь?..
Совсем дурдом. Насколько разумней и понятней - всё использовать до полной непригодности!
И приятней.
Вредность добра…
Если по прошествии времени взять всю совокупность последствий так называемых «добрых дел», то печальная картинка получается.
Но если совсем бездействовать, перестаешь себя уважать.
А если действуешь, перестаешь уважать порядок вещей в мире.
Что из этого следует? Не знаю.
Ничего не придумал лучше чем – делать только, если уж никак не можешь отказаться.
А потом, не оглядываясь, уходить и забывать.
Оглядываться безнадежно…
Возврат к старым увлечениям с новым опытом ни к чему хорошему не приводит, только некоторая сглаженность возникает, отталкивание крайностей.
В результате, то, что было резче, свежей - становится культурней, скучноватей…
Пластилиновая голова…
Один знакомый. Я лепил его голову из пластилина. Не долепил, он уехал. Голова уже лет двадцать стоит на полке. Пылится, а больше ничего с ней не делается. Также, как с оригиналом. Много пыли, песок на зубах - Димона…
- Ну, как ты там, в Богом забытой России?..
- А как ты - на окраине Димоны?.. Спокойней стало, легче, лучше?.. Или все также - читаем Бердяева о свободе?..
Прав старый «зк»…
Когда-то, в начале наших «перестроек», я спорил с Василием Александровичем, просидевшим много лет в сталинских лагерях. Он уже тогда лагерным чутьем ухватил, куда покатилось дело, и говорит – «какая разница, откуда этот ужас...»
Я не мог понять, ведь больше не сажают, я говорил.
Он усмехался, «превратить человека в нечеловека... не обязательно стрелять-сажать...»
Его давно нет в живых.
Он прав оказался.
То, что надоедает…
В жизни есть дела, вроде нужные и неизбежные, но которые со временем смертельно надоедают. Многие смиряются, или даже находят удовольствие в них. Но некоторые, видимо, с пробелами в детском воспитании, а может еще почему-то... продолжают бунтовать.
Я назову только несколько таких занятий.
Надоедает спать: ложиться и заниматься этим каждой ночью.
Одеваться в зимние дни, чтобы идти на улицу. Потом приходить - и раздеваться. Скучное долгое дело, даже тяжелое.
Мыться! Минимум необходим, но заниматься этим регулярно… долго, нудно, противно…
Еще до войны моя тетка, красавица и старая дева, после случайного прикосновения к мужчине тут же бежала домой - отмываться. От чистоты заболела, долго лечилась, замуж так и не вышла.
Я бы мог продолжать, но не хочется испытывать терпение людей. Все-таки скажу, хотя сильно рискую. Любовь – прекрасно… но с возрастом начинаешь понимать, какое глупое, примитивное и банальное занятие - секс, то, что теперь называют «заниматься любовью».
Редко, но бывает…
Бывает, читаешь прозу, - и честная, и мысли симпатичные, и написана неплохо…
И все равно - жуешь слова.
Очень редко, но бывает – ни букв, ни текста, а сразу – голоса, картины, люди… и бросаешься участвовать, а как же…
Потом очнешься…
Но долго-долго… вспомнишь, вздохнешь…
Про Мастера…
Вещь эту не люблю, слишком эффектно-театральная, я ей не верю. Вся эта история с чертом мне не нравится, от большого страха написана.
Но отдаю должное умелости Булгакова.
Хорошую литературу читать трудно, больно, пусть написана просто, потому что задевает, ранит, повреждает кожу…
А если гладит, успокаивает, утешает?
Ко мне пусть кошка ластится, мне это приятней, чем что-то успокаивающее читать.
Про автора и время…
Если в детстве ребенок «вне истории» по естественным причинам, то человек в старости насильственно выбрасывается за пределы «исторического», потому что не нужен обществу со своим пониманием. Со стариками всегда одинаково поступали - племя уходило, их оставляли умирать. Общество раздражают упоминания о связи времен: для новых людей и время новое, а связи с прошлым - в области музейно-исторической, а не в реальном времени. Связи только мешают. А вспоминают о них, когда все потеряны. Тогда разыгрываются сентименты, льются крокодиловы слезы…
Что касается меня… Я сам себе устроил несколько резких поворотов, они вышибали меня из среды, к которой по всем правилам должен был принадлежать. В результате, не имею отношения ни к научной среде, ни к художественной, ни к литературной. Зато легко возвращаюсь в среду детства или другого периода жизни, то есть, к себе, к себе… Бесконечно интересно иметь дело с самим собой, тут самые достоверные факты и переживания… и всё – изнутри процессов, изнутри! И вечно остаются загадки и задачки, никогда не знаешь окончательно, на что способен еще…
А одиночество…
Естественное состояние. Правда, усугублять не нужно… но это как всегда, во всем - без искренности, честности всерьез ничто не получается.
Рисовано «мышкой»?..
Иногда удобно, тут же на полях текста что-то изобразить. Привыкнуть к мыши легко.
Не люблю пижонства художников по отношению к компьютеру – «не настоящее...»
А офорт, в котором десять слоев техники плюс химия - настоящий?
Старые мастера понимали - рисовать можно на чем угодно, чем угодно. Точками, штрихами, пятнами...
Никого не слушай…
Писать маслом как акварелью, а акварелью как маслом - манеры не из лучших. Тёрнер мог, но то, что позволено Юпитеру...
Впрочем... Своим котам всегда говорю – «кушай, кушай, никого не слушай...»
Такая присказка у нас.
Проявляется – само…
В начале 90-х останавливался в Таллинне на проспекте Маркса, оттуда шли к берегу залива. Там сосны, песок, туман над водой. С натуры не рисовал. Потом, когда возвращался - впечатления.
Ряды впечатлений…
В первом ряду то, что само возникает перед глазами. Например… пуговица на пальто, которое оставил в лаборатории в Ленинграде в 1966 году. Деревянная палочка с двумя глазами.
Уезжая, оставлял вещи, зверей, людей…
Искусство - про все оставленное.
Повторяется – всё…
Когда был молодой, злился на других и особенно на себя, если повторялся. Память позволяла просматривать время до самых малых лет.
Сам себя изводил неприятием повторов.
Теперь вижу общим взглядом, нового почти нигде нет, только иногда новое восприятие старого. Так что все время в кругу собственных интересов и пристрастий, а трудности… в выразительности, цельности и лаконичности в своем круге тем.
У Блока – «ночь, улица, фонарь...»
Это мне близко было с самого начала. Но я не городской человек, мои темы:
Дорога, дерево, забор...
Пустота ума…
Рассказ про цветок, который вдруг вырос, а потом исчез.
Перевели на английский.
Прочитал один умный англичанин, и спросил:
-А что, собственно, произошло?
Я не сумел объяснить. Рос, рос цветок, а потом… не вырос больше.
-Зачем писать рассказы, в которых ничего не происходит?
Не боись!..
Никогда не узнаем, что было, что не было в человеке. Говорят – талант… но это слова…
Работает, и постепенно накапливаются удачи, от лучших встреч усилий со случайностью.
А что внутри осталось, с нами умрет.
Некоторые считают себя профи, но жмутся к стеночке, пишут серые банальности, зато правильно!.. полны при этом высокомерия - я-то умею!
Может, умеешь, но закопают - куча скучных картин останется.
Друзья скажут - талант, дар... Был.
Где он? - был да сгнил.
Мне больше по душе тот, кто прыгает выше себя, не боится случая.
Смешное дело…
Один может взять за основу свой дневник, и писать так… никто не докопается, что о себе говорит. Другой возьмет в герои обезьяну или кота, и сразу видно, что о себе, о себе...
Главные моменты…
Они не повторяются, особые места.
В счастливые годы собирается в одном теплом укромном месте самое родное, и тогда могут получиться - картины, книги, отношения особые…
Не просто место – свой угол.
Когда все рядом - лежанка, подушка, печатная машинка... тут же мольберт...
Темновато, тепло - и тихо-тихо...
Потом кажется, отчего бы не собрать все снова - и комната найдется, картинки повесишь, даже ту подушку найдешь... и плед старый, и кот придет, мяукнет почти беззвучно, пристроится в ногах...
Нет, не придет. И не соберется всё вот так, как было, чтобы слилось, спелось, как когда-то получилось…
Другое? Оно и есть другое, хотя, может, неплохое...
Молчи - и рисуй!..
Человек мира объективного верит, что стоит нажать на кнопочку, как выскочит из дырочек электричество, от него загорится лампочка… за летом осень придет…
Как ему поверить, что кто-то, совсем другой, также точно знает, какое ему и где поставить пятно на бумаге или холсте?.. И в то, что это знание настолько же точное, хотя его невозможно доказать, и отсюда, наверное, приступы неистовства художника, который не может словесно убедить в своей правоте, ну, никак, никак... А каждый невежда может, подойдя к картине, прогундосить - «ничего особенного, холодновато, тепловато…» Ничего нельзя доказать!
Когда пишешь картину быстро, - берешь цвет с палитры не глядя, и часто не знаешь что на кончике кисти, откуда уверенность? На каждое движение - мгновенное решение, оно не поддается объяснению.
И художнику лучше промолчать, и отойти, доказывать должны картины.
Каким упорством, мужеством и уверенностью в себе нужно обладать, чтобы настаивать на истинах, которые недоказуемы ничем, кроме конечного результата - своего воздействия на нас. Которое в точных словах и терминах - неизмеримо!
Мичурин нашелся…
Если был в моей жизни человек, мне противоположный, то, наверное, К., сейчас он крупный кооператор, торгует произведениями искусства, устраивает выставки, издает книги.
- Тебя издать? - нет, нет! - он смеется, деловой человек. Понимает, как сокрушительно прогорит.
Когда мы познакомились, он был очарован картинками, покупал для себя. Потом понял, что достаточно для коллекции, а продать... Тебя не продашь, говорит.
Как-то спрашивает меня, - «что хочешь от живописи?.. а от прозы?.. Ну, каковы твои намерения, желания, цели?»
Я не знал, что сказать...
Мои желания не совпадали с делами, а с результатами и подавно.
Но я подумал, напрягся изо всех сил, и выдал:
- В живописи хотел бы скрестить Рембрандта и Сезанна. А в прозе... Платонова и Вильяма Сарояна.
|
|
Процитировано 2 раз
Николай Толстиков МАЛЬЧИШЕЧКА |

Николай Александрович Толстиков родился 19 сентября 1958 года в городе Кадникове Вологодской области. После службы в армии работал в районной газете. Окончил Литературный институт им. М.Горького. В настоящее время - священнослужитель храма святителя Николая во Владычной слободе города Вологды. Публиковался в газетах "Литературная Россия", "Наша Канада", журналах "Север", "Лад", альманахах Северо-Запада, в Вологде издал две книги прозы. В "Нашей улице" публикуется с № 93 (8) август 2007.
Николай Толстиков
МАЛЬЧИШЕЧКА
рассказ
Посвящается выпускникам Литинститута 1999 года
1.
Москва обрушилась на пожилого абитуриента Литинститута Артема Сидорова несущейся стремительной лавиной автомобилей, людских верениц и толп на тротуарах, не умолкающим ни на миг гулом и гамом. Истыканный до синяков чужими локтями в толчее перед входом в метро, оглохший и очумевший от городского шума, Артем, уносимый эскалатором в глубь земли, судорожно сведенными пальцами вцепляясь в перила лесенки-чудесенки, с тоскою подумал, что так, наверное, сходят в преисподнюю: вон, и черти чумазые внизу ожидают, на сковородку поволокут. За них он принял группку белозубо скалящихся, пестро одетых негров.
Одна отдушина и защита - общага с ее длинными гулкими коридорами с истертым обшарканным больнично-казенным линолеумом на полу, с никогда не прибираемыми, заваленными толстым слоем многолетнего мусора комнатами, с какими-то бродящими дни и ночи напропалую пропитыми, бормочущими маловразумительно хануриками. Те, кто помоложе, шустро покинули эти стены, ввинтились метеорами в вечернюю и ночную московскую жизнь; Артем и еще с ним трое-четверо таких же перестарков из малых городков и деревень общагу без особой надобности - если за бутылкой только сбегать - покидать не рисковали. Очень скоро бормочущие личности стали с ними запанибрата, если уж не вся громада общежития, то точно этаж заходил ходуном: недаром заочников давние аборигены окрестили “дикой дивизией” или еще чище - “зверинцем”.
После заполуночных пьянок, бесчувственного пластания на холодных полах повлекло, потянуло властно к теплому бабьему боку. Но дамочки под годы, насмотревшись всласть и дома собственных муженьков и хахалей во всяких видах, круто дали страждущим от ворот поворот, а эмансипированные девицы вроде бы поначалу с хищным интересом щурили подкрашенные глаза, да тоже скоро раскусили мужичков сиволапых, прогулявшихся до тюки. Мужички было начали кулачишки промеж собой чесать за обладание, так сказать, девическим телом, а телеса-то, кстати чересчур костлявые и до невозможности провонявшие табачищным духом, тем временем бесследно испарились.
Храбрился, хорохорился еще лишь Артем. Маясь мужицкой тоской-кручиной, положил он глаз на самую младшую на курсе девчоночку. Лет чуть побольше двадцати, она походила на мальчишку: куцая, под “горшок”, стрижка, тощая фигурка с остро выпирающими ключицами из-под ворота просторной мужской рубахи, протертые на острых коленках простенькие джинсы. Ходила она, сутулясь, торопливым неровным шагом, голос ее был визглив и неприятен, пол-лица непроницаемо закрывали затемненные стекла очков в грубой оправе. Вдобавок звали ее, как нерусь - Марта.
Да на безрыбье и рак - рыба.
Заманив Марту в комнату вроде б как скрасить мужскую компанию, Артем, предвкушая добычу, поглядывал, как Марточка свободно, без выпендрежа, “опрокидывает” стакашки с водкой, и чем дальше, тем труднее было ему оторвать жадный взгляд от ее слегка вздернутой верхней губы под хорошо заметной черной бархоткой усиков.
Мужики просекли ситуацию и потихоньку “свалили”; захмелевшая Марта, сняв очки, тупо и немигающе уставилась куда-то в угол беспомощными близорукими глазами. Все так же, безучастно, она позволила Артему ощупать свои прелести, стянуть одежду, вытерпела долгий поцелуй и прильнула, прижалась всем гибким телом, но, когда Артем “воспылал”, резко оттолкнула его и вскочила с узкой общежитской койки:
- Не надо... Не могу...
Пока Артем, разочарованный, очухивался, снасильничать-то он не решился, Марта быстро надернула одежду и выскользнула из комнаты.
Ночевать она убежала на вокзал.
2.
Марта в художественное училище не поступила, провалилась на первом же экзамене. Худенькая, нескладная, хвостики косичек вразлет, она жалобно хныкала, забившись в угол комнаты в общежитии. Домой возвращаться не хотелось: там верещал в колыбели недавно родившийся долгожданный братец, и отец с матерью только и хлопотали возле него, позабыв о дочери. Марта сунулась было помогать маме, но получила раздраженный совет не путаться под ногами. Это в пятнадцать-то лет! На колыбель брата Марта стала поглядывать с неприязнью, а, заслышав плач, тотчас со злостью затыкала уши...
Соседка по комнате Танька, подняв с пола обрывок разорванного Мартой рисунка, засмеялась:
- Расстроилась, маменькина дочка? Я тоже “пролетела”, так и вешаться?
Достав зеркальце и помаду, она подкрасила полные сочные губы, скорчила плутоватую рожицу.
Вроде как и не ровесница Марте: крашена под “блондинку”, из-под узеньких выщипанных бровок глядят нахально большие блестящие глаза, грудь распирает ткань футболки, ноги под коротенькой юбчонкой длинные, стройные. Красавица!
Марта стыдливо поджала под себя свои тоненькие, спрятанные в дешевых джинсиках хворостинки: еще совсем недавно, подкошенная детским параличом, выучилась ходить.
- Что, подруга, махнем на море? - предложила вдруг Танька и, выбив стречком из пачки сигарету, щелкнула зажигалкой. Заляпав помадой фильтр, выпустила, вытянув губы трубочкой, в сторону Марты облачко терпкого, со сладковатым ароматом дыма. - Или по своему зачуханному городишке соскучилась, по папе с мамой?.. “Бабки”? Это не проблема...
Поначалу Танька предложила заехать в Питер в гости к знакомым. Добирались девчонки “автостопом”: на обочине дороги Танька, заголяя ноги, чуть ли не до пупка задирала юбку, и водители тотчас били по тормозам. Она выбирала большегрузные “шаланды” - в просторной кабине и сидеть хорошо, и за рулем попадались дядьки степенные, денег не требовали, совали девчонкам снедь и предлагали выпить.
На стоянках Танька, бывало, похихикивая, убегала с водителем помоложе куда-нибудь в лесок:
- Воды чистой поищем. А ты, Марта, машину посторожи!
Марта ни о чем “таком” не догадывалась, пока в очередной попутке не оказалось шоферов двое. С одним Танька усвистала в кусты, а другой - крепкий парень, видать, недавний армейский “дембиль”, попытался сгрести Марту в охапку. Она завизжала, как резаная, а парень, ненароком смахнув с нее очки, посмотрел, плюнул и отстал:
- Радовалась бы, что позарился, уродка!
Вернувшаяся Танька все поняла и, глядя вслед машине, сказала с усмешкой:
- А ты чего хотела? За все надо платить. Ну, ничего, сочтемся как-нибудь, подруга!..
В Питере Танька, таская за собой за руку разевавшую на все рот Марту, разыскала хмурого долговязого парня, своего дальнего родственника. Поездку на море пока решено было отложить; то ли Эдик, то ли Стасик повлек девчонок по подвалам, где их ровесники и ровесницы “обкуривались”, ловили кайф. Марту не раз пытались облапить и “завалить” под Танькино постанывание где-то рядышком, но она, еще немного соображая в наплывающем дурмане, отбивалась, царапалась.
Но однажды верная Танька ее бросила... Вместо дружков Эдика-Стасика, слабосильных и стеснительных малолеток, в подвал забрели парни постарше, покрепче. Одурманенная, опьяненная Марта уж не помнила: может, она сама первая полезла к ним, неловко тычась губами в колкие небритые подбородки. Парни придавили ее к грязной скамье, вмиг стащили одежду... Боль пронзила все тело, вырвала беспощадно из радужного, похожего на детские сны, тумана; Марта попыталась высвободиться из-под навалившейся тяжелой туши парня, слабо вскрикнула, но уже другой насильник, гогоча, зажал ей ладонью рот. Боль притупилась; Марта безвольно, послушно, будто резиновая кукла, распласталась на скамье, и, чувствуя, как из глаз горюче стекают слезы, задохнулась от мерзкого противного запаха мужского пота.
Сколько их было? Восемь или десять?.. Когда все кончилось, а поняла это Марта, ухватывая еще остатком сознания, по тишине в подвале и по тусклой капле лампочки под потолком, которую больше никто не заслонял, она не смогла даже пошевелиться: тело было чужое. Марта продолжала лежать с раскинутыми руками и ногами, и не хватало сил, чтобы от холода и стыда свернуться, сжаться в комочек...
Ее нашла милиция, скорее всего, случайно, или в сбежавшей бесследно Таньке пробудилась совесть...
Марту родители давно объявили в розыск; после лечения в обычной больнице, ее поместили в психиатричку - она боялась темноты, теней, слишком громких голосов, норовила спрятаться. Родным и знакомым сказали, что девочка переутомилась на экзаменах и расстроилась, что не поступила в училище.
О питерском подвале Марта заставила себя забыть, как о кошмарном сне. Только вот пришлось всем доказывать, что ты - не дура тронутая.
Она оставалась по-мальчишески угловатой, резкой и порывистой в движениях, не вылезала из джинсов и рубах, коротко стриглась и свой визгливый неприятный голос не пыталась смягчить. С компанией некрасивых, обиженных на судьбу и природу-мать подружек закончила местный техникум, поработала лаборанткой у отца-инженера на заводе, потом от заметок к юбилеям в стенгазете перебралась в “районку” корреспондентом. Родители, наверное, втихомолку радовались за дочку...
Первую ночь с Артемом в институтском общежитии в Москве она провела словно в каком-то помутнении рассудка: без сопротивления позволила себя раздеть, попросила не гасить свет, даром что мужик ее жадно и сладострастно разглядывал. От его прикосновений Марта вздрагивала, будто он норовил обжечь ее кожу оголенным проводом, но когда, часто задышав, навалился, Марта, вывернувшись из его объятий, набросила на себя одежду и убежала.
Утром она послала с запиской к Артему забредшего на чаек воздыхателя своей соседки по комнате. Артем, едва разобрав нацарапанные вкривь и вкось буквами слова: “Извините. Это случайность. Не подумайте на что...”, хмыкнул и от Марты потом не отходил ни на шаг. Да так, что когда поехал после сессии домой, Марта рванулась по перрону вслед за набирающим ход поездом и что кричала Артему, захлебываясь слезами, потом уж и не помнила...
Что случилось вдруг с ней - не понимала сама: в свои двадцать пять лет шарахалась от парней и мужиков, бывало, выпивала в компаниях, но чтобы кому-то позволила дотронуться до себя пальцем - ни-ни, а тут, может, упущенное, отвратившее в юности, хорошее и худое неудержимо захотелось наверстать. Марта справиться с собой не могла, да и особо не пыталась. Мужички это почувствовали сразу...
Пулуслепой, но не единожды женатый редакционный компьютерщик без труда увлек Марту. Ей хотелось романтики и она потащила кавалера по пыльным, запачканным голубями чердакам; он, спотыкаясь об ступеньки лестниц и набивая на башке шишки, послушно карабкался за Мартой и потом, возвратясь на улицу и чертыхаясь под тихий Мартин смех, тщательно чистил одежду от грязи, но не роптал. Был у кавалера “горбатый” “запорожец”, Марте же “заниматься любовью” в тесном холодном салоне не понравилось - никакой экзотики.
Расстались вскоре как-то просто и без слов: по причине недостаточного зрения компьютерщик вовремя не усек свою последнюю жену - столкнулись нос к носу, а до дома со спасительным заветным чердаком еще дойти не успели, некуда было юркнуть.
К Марте через несколько дней приперся сбежавший от жены, пьяный вдрабадан, бывший одноклассник. На кухне, распустив нюни, жалился он на жизнь, пока его за полночь, в одном ботинке, не выпихнул за дверь рассерженный папа.
Марта бедолагу пожалела, утром понесла ему на дом другой ботинок...
Одноклассник оказался еще и чересчур болтливым: Марта в порыве сочувствия бесхитростно поведала ему о том, как жила последнее время, и вскоре она стала ощущать на себе оценивающе липкие взгляды не только задерганных редакционных мужичков, но и тех, с кем приходилось общаться по газетным делам. Городишко-то невелик.
В редакции не один месяц не выдавали сотрудникам зарплату, газетенка дышала на ладан; все бросились собирать рекламу, искать богатеньких “буратино” - спонсоров. Марта тоже зацепила и смогла “раскрутить” директора автомастерских - коренастого, лет под пятьдесят, мужика с седоватой шевелюрой и бойкими цыгынистыми глазами. На уговоры Марты он поддался легко, обшаривая ее беглым вороватым взглядом, согласился выложить кругленькую сумму - с нее бы и Марте перепал кое-какой процент.
Заключив сделку, они выпили по рюмашке коньячка; “патрон” виртуозно и малозаметно замкнул дверь кабинета на ключ и набросился на Марту. Подхватив ее ловким натренированным движением под бедра, он приподнял и шлепнул ее попкой на стол. Марта попыталась сопротивляться, но мужичок орудовал сноровисто: чтобы не рыпалась, приложил вдобавок затылком об столешницу...
- Теперь этот тип звонит мне на работу, предлагает за деньги стать любовницей, преследует меня, - при встрече на очередной сессии рассказывала Марта Артему и с ревнивым любопытством ожидала, что тот ответит.
Артем к рассказу отнесся спокойно, лениво зевнул и через минуту повалил ее в постель.
“Кто я ему? - сглотнув горький ком, подумала Марта. - Походно-полевая жена!”
3.
На последней, выпускной сессии они жили, не таясь: Марта в самый пик любовной страсти заходилась в истошном пронзительном крике так, что курящие мужики, сидевшие на подоконнике в коридоре, подпрыгивали, ерзали, словно ужаленные в одно место.
Комната, где обитали Марта с Артемом, находилась в самом конце длинного коридора, и с подоконника - вечной “курилки” не то, что крик, любой шорох и скрип были слышны. Желающих подслушать прибавлялось: по дому, видно, истосковались. А Марта порхала в своем кое-как застегнутом халатике - в разрезе его задорно топорщились маленькие острые грудки, смеялась, пыталась строить почти каждому глазки. Ее прежде не видали такой: то по углам с учебником хоронилась, то пьянущего Артема старательно откачивала.
Худо ли ей - дипломную работу защитила с отличием.
Артем на своей защите “поплыл”. Оппоненты пренебрежительно заусмехались: дескать, кому нужна эта твоя тягомотина с князьями-монахами? Сослал государь московский Иван Третий двоюродных братьев в далекий северный городок, заточил пожизненно в темницу, чтобы на престол не покушались. И они что? В монахи постриглись, сидели себе в тюряге, смиренно сложив лапки, молились Богу за своего погубителя, а нет бы - стражников порешили или восстание какое против существующего режима подняли... А вера, что вера? В ту пору, может быть, и верили крепко, да наше-то время при чем? Теперь это мода - и только; образовался после идеалов коммунизма вакуум, и заполнили его.
Артем тоже поначалу взял “тему”, чтобы пооригинальничать - тут ни про киллеров писать, ни про деревенскую бабу Дуню, и из интереса тоже - прожил в родном городе сколько, а сказ про узников-князей случайно услыхал. После копания во всяких “первоисточниках” в библиотеке Артем принялся за работу и, пытаясь увязать все в единое целое, осмыслить добытые отрывочные и разноречивые сведения, все никак не мог уразуметь, как это можно жить одной верой. Не озлобиться, не сойти с ума, а суметь простить и врагов и безвинно обидевших. Он слов ни одной молитвы не знал, и становилось досадно, что приключись что - и не смог бы так помолиться, как те узники - от сердца, истово... Прощать никого ему было не надо: жил себе, друзей не имел, но и врагов не завел. И с женой много лет сосуществовали - ни тепло ни холодно...
“Диплом” все-таки с сожалеющими улыбками комиссия засчитала, даже привела пример: “Вот студентка (про Марту) впереди вас защищалась. Все у ней ясно и актуально: была девушка с комплексами, стала без комплексов!”
Тогда-то и выкурнул столичный житель Вошкомоев - где черт не успеет, там москвич прибежит! “Нарисовался” он, конечно, раньше, на первом курсе, но сейчас обратил на себя внимание тем, что первым и единственным из москвичей-однокурсников за пятилетку вознамерился побывать в общежитии. На него “свои” смотрели потом, как на космонавта-исследователя или как на безумца. Столичный народ солидный, серьезный; Артем краем уха слышал, как одна “наштукатуренная”, насквозь пропахшая дымом дорогих сигарет дамочка щебетала другой: “Там, говорят, эта “деревня” только пьет и нецензурно выражается!”
Вошкомоев же, отважно прошагав вслед за Артемом заплеванным коридором общаги и очутившись в захламленной комнатушке его приятелей, едва приняв “на грудь”, растроганно воскликнул:
- Мужики, как у вас клёво! Какая свобода!
И возле колченогого стола заподпрыгивал на голой сетке солдатской кровати - длинноногий мальчик в потертой “джинсе”, только сорока годочков.
Однако, мужская компания ему скоро наскучила: темно-карими замаслившимися глазками он вперился в пришедшую попозже Марту, подсел было к ней, хотел приобнять, но, взглянув на нахмуренного Артема, передумал, криво ухмыляясь...
С того вечера Вошкомоев прилип к Артему с Мартой хуже серы, выманивал их со скучных лекций и консультаций перед “госами” в институте и тащил бродить по Москве. Показал место кровавого побоища у Белого дома, через потайную дыру в заборе провел в зоопарк, но пуще, после недолгого шатания по улицам, норовил забраться в уютный тихий дворик, чтобы, не торопясь, “раздавить” бутылочку, а то и другую.
Артем не противился, только радовался дармовщинке - перед концом сессии денег кот наплакал, и на то, что Марта с новоявленным приятелем и вдобавок “спонсором” переглядывались и перемигивались, друг дружке ручки жали, внимания не обращал: она каждую ночь все равно возле бока, а “благодетель”, глядишь, на лишнее расколется.
Артем и в этот раз, сжав Марту за потную ладошку, не раздумывая, заторопился за Вошкомоевым. Огромный город изнемогал от жары. Прохлада под высокими старинными потолками аудитории оказалась обманчивой: чуть поднабралось народа, и тут же от духоты все дружно заклевали носами. Вошкомоев, кое-как промаявшись лекцию, взмолился:
- Не могу, к черту эту словесность! В воду хочу, купаться хочу! Поехали в Серебряный бор! Там сосны, песочек...
Марта, обычно старательно высиживающая “пары” до последнего, и то откликнулась сразу, что уж про Артема говорить. По пути в бор Вошкомоев подзапасся водочкой, “огнетушителем” пива и, как обычно, без умолку травил всякие байки.
Вытряхнувшись, наконец, из троллейбуса, набитого потными разомлелыми людьми, Артем рот раскрыл от удивления: шаг шагнул - и сразу обступили горящие ярой медью стволов сосны, под ногами запоскрипывал песок, и даже стало слышно, как мелкие птахи где-то высоко в ветвях пересвистываются. И желанная прохлада, лесной пряный аромат! Это после ада-то, что еще грохотал и чадил неподалеку!
Вошкомоев вытряхнул из ботинок песок:
- Босичком, ребята!
Он хорошо утоптанными тропами вел и вел в глубь бора, остановился только, когда в прогалах между стволами сосен замелькала светлая гладь воды.
- Расположимся пока тут, - Вошкомоев выставил на пенек выпивку; закуску он не признавал - рукавом по губам и баста, лишь Марте выделил прихваченный по пути в ларьке батон “Марса”. - А потом - в рай!
Он, будто прицениваясь, замаслив глазки, взглянул на Марту и ей первой протянул пластмассовый стакан с “ершом”.
Выпивон под руководством Вошкомоева заканчивался обычно быстро: разом выглотанная “лошадиная” доза славно шибала по мозгам, и, когда Вошкомоев заблажил: “Хотите в рай попасть, в настоящий Эдем?!” - Артем, тяжело мутнея сознанием, успел здраво подумать - не иначе лишку перехватил товарищ. Но Вошкомоев, на ходу сдергивая с себя футболку, устремился в прибрежные заросли кустов; Артему с Мартой ничего не оставалось делать, как за ним послушно последовать.
По песчаной полосе отмели разгуливало взад-вперед несколько десятков абсолютно голых людей, бронзовущих от загара; еще больше кучами группировалось на обширных пятачках средь сосенок и кустов по берегу. Там не только расхаживали, там лежали на песочке и кверху пузом и на пузе, кое-кто, встав в кружок, перекидывался в мячик. Артему поначалу показалось, что тут одни мужики да парни трясут своими причиндалами, как в общественной бане, он даже на Марту с беспокойством оглянулся, но поприсмотрелся - и бабенок и совсем молоденьких девчонок промеж ними немало различил. Одна, вон, пышных форм бабенция, стоя на виду у полусотни мужиков на речкой кромке, вальяжно пробовала пальчиками ступни водичку; Вошкомоев, белея незагорелым задом, едва не сшибив ее, с криком булькнулся в воду. Артем, чувствуя себя неуютно в “семейных”, до коленок, трусах тоже поспешил юркнуть в реку. Поддавшись общему порыву, на берегу, спрятав в сумочку очки, торопливо раздевалась Марта: сбросила сбросила сарафанчик, сняла лифчик, обнажив остро торчащие бледно-розовые соски маленьких грудей, сдернула трусики. Но забредши по щиколотки в воду, она, беспомощная, остановилась, близоруко щурясь:
- Ребята, а я плавать не умею!
Артем, нащупав ногами дно, воззарился на Марту, будто видел ее первый раз. На сливающемся в одну сплошную массу фоне загорелых до черноты мускулистых человеческих тел ее белая девичья фигурка смотрелась беззащитной тоненькой свечечкой. Вошкомоев, хоть и отплыл почти к середине реки, голос Марты расслышал и, на больших саженках вернувшись к берегу, вынырнул из воды рядом с ней, обхватив, потащил ее, визжащую, на глубину.
Купались до посинения. Но на берегу, где упали на раскаленный песок, под полуденным солнцем скоро опять стало невыносимо жарко. Вошкомоев, жадно разглядывал во всех подробностях растянувшуюся на песке, с закинутыми за затылок руками, Марту, жмурившуюся то ли от солнца, то ли от удовольствия. Потом, томно простонав, он подхватил ее себе на руки и, целуя ее на ходу, побежал к воде. Марта отвечала ему точь-в-точь как ребенок тихим, испуганно-восторженным смехом. Они, будь одни, не добежав до реки, точно что-нибудь да сотворили - хорошо люди кругом, хоть и голые.
У Артема от такой мысли затяжелело в голове, перед глазами завертелись разноцветные круги: он чуть было чувств не лишился, но две степенные, в годах, тетеньки возникли возле него, сидящего, и, нависая жирными складками животов, поинтересовались:
- Что с вами, мужчина?
- Счас концы отдам! - через силу выдохнул Артем и взмолился, ровно школьник: - Выведите меня отсюда!..
Рядом уже спешно залезала в одежду испуганная Марта:
- Тебе плохо? Я сделала что-то не так?
- Дура! Шлюха! - захлебнулся злобой и обидой Артем. - Еще издевается!
- Как вам Эдем?! - бодро вопросил, с ехидцей улыбаясь, Вошкомоев, подбежавший все еще в “костюме” костлявого прокуренного Адама.
- Да иди ты!.. - в один голос ответили и Артем и Марта...
В общежитии Артем выбросал в коридор Мартины манатки и ее обложил такими просоленными загибулинами, что она, пылая щеками, пулей вылетела из комнаты и вовремя - разъяренный Артем и волю бы рукам дал. А так сграбастал раздолбанное кресло, оставшееся от какого-то долгожителя-мыслителя и бывшее в единственном числе на весь этаж, и вывалил его в раскрытое окно. Поглядел, как кресло грохнулось внизу об асфальт и разлетелось на составные части, поостыл малость и пошел к друзьям-приятелям огорчение залить.
Друзья-приятели, выслушав сбивчивый рассказ и выпив винишко, закупленное на последние Артемовы гроши, сочувствовали, грозились поколотить собаку-Вошкомоева и всех москвичей заодно, обзывали Марту и весь лукавый женский род всякими пакостными словами. То-то притихли все разом, когда Марта зашла в комнату и молча бросила на стол паспорт Артема, забытый в ее сумке, и так же, ни слова не проронив, вышла, хлопнув дверью. Артем реагировать адекватно был не в состоянии, он лишь жалостливо всхлипнул и радением еще могущих с горем пополам передвигаться приятелей был водворен на голую железную сетку кровати, где и затих, сиротливо поджав ноги, до утра...
На выпускном вечере Марта и Артем сидел за разными столами, искоса, украдкой наблюдали друг за другом; потом уже, когда “официоз” плавно перетек в бурную попойку, где блажили и выделывались москвичи, одуревшие и ошалевшие от жарищи, питья и значимости момента, а общежитский закаленный люд держался еще стойко, Артем, примкнув к расчувствовавшимся “аборигенам”, про Марту забыл и из виду ее потерял.
Очнулся он в сумерках под полосатым зонтиком уличного кафе - москвичи, оставив на время столичную спесь, расщедрились, когда встряхнул его крепко за руку паренек, бывший сосед по общежитию: “Покедова! На паровоз спешу, вот-вот!” - тут же унырнувший в дыру “метро” неподалеку.
“Это же тот поезд, которым и Марта за попутье домой уезжает!”
Артем взгребся следом и, очутившись на вокзале, заметался вдоль набитого людьми состава. Конечно, искать было, что иголку в стоге сена, но Артем знал, что Марта кочует всегда в “общем”: где лишние деньги-то после Москвы. Платформа перрона была высокая, он без труда заглядывал окна вагонов и заметил-таки знакомую фигурку, скукожившуюся в уголке купе.
- Марта! - завопил он отчаянно, и та, вздрогнув, поднялась с места и стала проталкиваться к выходу из вагона. - Марта, оставайся! Со мной вместе поедешь! - Артем, хватая Марту за плечи, попытался вытащить ее из тамбура.
- Нет, я не хочу! Прощай! - она размазывала по лицу слезы.
Что-то лязгнуло, состав дернулся и начал медленно набирать ход; грудастая немолодая проводница грубовато вытеснила Артема на перрон, проворчав:
- Раньше надо было!..
4.
“Любимый, родной мой, прости! Прости, если это возможно! Я не осталась с тобой, уехала, тебя бросила. Я просто не понимала тебя в тот момент, да и сейчас не понимаю, как это можно: не помнить о тех, кто ждет тебя дома, мотаться по вагонам, зачем-то разыскивая меня, с надеждой и горечью смотреть в глаза...
Это любовь?
Самым правильным в нашей ситуации было расстаться по-хорошему, просто друзьями. Не получилось.
Я давно думала, что я для тебя такая же шлюжка, как и для прочих кобелей, про которых я тебе рассказывала, а тебя это только развлекало. И на том проклятом пляже надеялась тебя все-таки пронять. Женскую свободу почувствовала. Да, видно, перестаралась...
Наконец, я поняла, как тебя люблю. И ничего не могу с собой поделать. Мне больно, страшно и тоскливо, и никто об этом не знает. А еще радостно, потому что все это у нас с тобой в Москве было не во сне, а на самом деле.
Может, доведется еще встретиться?
Твоя (все-таки твоя) Марта”.
Вологда
"НАША УЛИЦА" № 100 (3) март 2008
|
|
НИНА КРАСНОВА С "ЭОЛОВОЙ АРФОЙ" |
ЭОЛОВА АРФА
литературный альманах
Издание
Нины Красновой
Москва
2009
Эолова арфа: Литературный альманах / Главный редактор Нина Краснова. – М., 2009.
Литературный альманах “Эолова арфа” возник в результате гибели “старинного” советского и постсоветского альманаха “Истоки”, который после смерти ее бессменного главного редактора Галины Рой пошел ко дну, как судно “без руля и без ветрил”. Часть авторов-“истоковцев”, включая и некоторых членов редколлегии, выплыла из-под обломков “Истоков” и нашла свое спасение, ухватившись за “Эолову арфу”.
В этом альманахе помещены произведения старых “истоковцев” Валерия Дударева, Сергея Телюка, Лолы Звонаревой, Игоря Михайлова, Людмилы Осокиной, Юрия Влодова и т.д. Есть страница памяти Галины Рой, раздел памяти Риммы Казаковой со стихами и статьями о ней, стихи Кирилла Ковальджи и его рассказы о своих поездках за границу, мемуары Нины Красновой о поэте Александре Щуплове и ее литературный репортаж о праздновании 75-летия Андрея Вознесенского в Театре Фоменко, и новые стихи юбиляра, и материалы о госте Некрасовского праздника в Карабихе Валерии Золотухине и о его встрече со студентами из Барнаула в Театре на Таганке, и эссе Петра Кобликова о трех Водоносах на Таганке.
Читатели найдут в альманахе стихи Татьяны Кузовлевой, Александра Боброва, Евгения Лесина, рубрику “Новые имена”, прозу художницы Надежды Мухиной, поэму Бориса Васильева-Пальма, художника из Керчи, рассказы Александра Логинова из Женевы, прозу Виктора Кузнецова-Казанского, Ваграма Кеворкова, эссе Сергея Каратова, странички зарубежного юмора в переводе Анатолия Шамардина, а также последние рассказы Эдуарда Клыгуля и Сергея Михайлина-Плавского.
Один раздел посвящен рязанским поэтам и писателям, среди которых Алексей Бандорин, Людмила Салтыкова, Михаил Крылов, Виктор Крючков, Сергей Дворецкий, а один раздел посвящен 70-летию со дня рождения и в то же время памяти рязанского поэта-классика Евгения Маркина, младшего товарища Александра Солженицына.
ОБ АЛЬМАНАХЕ "ЭОЛОВА АРФА"
Альманах "Эолова арфа" возник на почве и на сейсмических разломах альманаха "Истоки", основателем и главным бессменным редактором которого около сорока лет была Галина Вячеславовна Рой и которые после нее попали в руки людей, далеких от литературы, что и предопределило и решило судьбу "Истоков" и привело их к печальному результату.
Все живет и все когда-нибудь умирает, но, умирая, продолжает жить в нашей памяти и в нашей жизни и оказывать на нас свое влияние. "Истоки" Галины Рой теперь принадлежат истории и вечности, как и сама их основательница. Светлая ей память! И светлая им память!
Мы не собираемся реанимировать то, что умерло, и пользоваться и прикрываться старым брэндом и вывеской "Истоков".
Мы создали свой - новый - альманах, название которого пришло из античной литературы и из баллады Василия Жуковского, где росло дерево с Эоловой арфой, спрятанной в его ветвях, которая трепетала и звенела и пела от самого легкого дуновения ветерка и которая символизирует собой впечатлительную душу творческого человека.
Мы надеемся, что "Эолова арфа" обретет свою силу, за счет лучших "старых" авторов-"истоковцев" (среди которых есть классики литературы) и не "истоковцев", мастеров поэзии и прозы, и за счет притока новых талантливых авторов, известных и пока еще не очень известных или совсем неизвестных миру, живущих и в Москве, и в провинции, и в России, и в странах Ближнего и Дальнего зарубежья, и найдет своих почитателей и займет свое место на топографической карте Олимпа и сыграет хорошую роль в литературе.
Издатель, составитель и главный редактор альманаха "Эолова арфа"
Нина Краснова

ЭОЛОВА АРФА
Литературный альманах «Эолова арфа»
Выпуск 2
Издание Нины Красновой
Москва
2009
ББК 84 Р7
Э 69
Главный редактор Нина Краснова
Э 69 Эолова арфа
Эолова арфа: Литературный альманах Выпуск 2 / Главный редактор Нина Краснова. - М., 2009. - 672 с.
Во втором номере альманаха "Эолова арфа" читатели найдут новый рассказ Ю. Кувалдина, и повесть Е. Лесина, и мемуары Н. Красновой о Короле пародии А. Иванове, и новые стихи поэтов-шестидесятников - А. Вознесенского, К. Ковальджи, Т. Кузовлевой, А. Тимофеевского, Т. Жирмунской, Е. Евтушенко, а также стихи поэтов "потерянного" поколения, семи-восьмидесятников - С. Каратова, Э. Грачева и др., и поэтов-девяностодесятников - В. Дударева, Б. Лукина, К. Паскаля и др., и поэтов более молодого поколения. И очерки Л. Жуховицкого и Л. Аннинского, и затрагивающие больную национальную проблему очерки В. Кузнецова-Казанского, и статью Л. Звонаревой и болгарского литературоведа И. Петрова о теме женщины, любви и семьи в поэзии Ю. Кузнецова, и эссе Е. Богдановой о канадском пианисте Г. Гульде (в первом номере была напечатано одно блистательное эссе о нем, а теперь - второе, такое же блистательное), и письма Т. Бек поэтессе Т. Черыговой. Не может не привлечь к себе внимания читателей эссе С. Михайлина-Плавского “Моё открытие чёрного квадрата”, и не увлечь глубокая проза В. Кеворкова. И рассказы Э. Клыгуля, Н. Горловой, А. Логинова и ироническая сценка И. Михайлова "Юбилей", и отрывок из фантазийного романа Л. Осокиной "Козел отпущения". И польский юмор - рассказ и миниатюры Я. Осенки в переводе А. Шамардина, и "китайские сокровища мудрых мыслей" в его же переводе.
Среди авторов альманаха - не только москвичи, но и авторы из разных регионов и городов России, члены литературного объединения "Радуга" Рузского района Московской области, поэты Урала, Уфы, Нижнего Новгорода, Белгорода, Рязани. Земляки С. Есенина идут в альманахе самой большой группой, широким фронтом, во главе со своими лидерами, А. Бандориным, Л. Салтыковой, В. Крючковым, С. Дворецким, поэтом-бардом М. Крыловым... Они выносят на суд читателей и свои стихи, и свою прозу.
А из стран Ближнего Зарубежья, бывших республик СССР, в альманахе - выступает со своими стихами современный классик Туркмении поэт А. Алланазаров... а знаменитая личность Еревана, литературовед М. Амирханян предлагает читателям отрывок из своей книги "Россия и Армения", о культурных связях русских и армян, который напечатан в разделе "Дни Русского Слова в Армении". А профессор-славист Р. Герра из Дальнего Зарубежья, из Франции, пишет о поэте Г. Певцове, предваряя подборку стихов этого современного литературного потомка поэтов Серебряного века и переводчика французской поэзии.
Есть в альманахе раздел памяти Р. Казаковой, с воспоминаниями о ней С. Телюка и З. Алькаевой и с их стихами, посвященными ей. Есть разделы, посвященные 95-летию патриарха поэзии В. Бокова и 85-летию Вл. Солоухина, которого в 1997 году отпевали в Храме Христа Спасителя. Кроме того в альманахе есть большой раздел, посвященный 45-летию Театра на Таганке: интервью с театраловедом, искусствоведом П. Кобликовым, раритетным зрителем Таганки с 1966 года, "букеты" стихов от Т. Николиной для Ю. Любимова, В. Золотухина, для всей Таганки, стихи молодых артистов этого Театра - Д. Высоцкого, С. Цимбаленко, Р. Акчурина, тут же и 30 писем из архива В. Золотухина, "летописца" и "домового Таганки", от писателей В. Астафьева, Ю. Нагибина, В. Распутина, Б. Полевого, от артиста Л. Филатова, от композитора С. Сапожникова.
А открывается альманах повестью дагестанского художника Д. Агамирзаева, живущего и работающего в Москве, "Мешочек из белой бязи для карамели с абрикосовой начинкой", или "Карамельки", с предисловием В. Золотухина.
О 2-м НОМЕРЕ АЛЬМАНАХЕ «ЭОЛОВА АРФА»
«Эолова арфа», оправдывая поговорку «свЯто место пусто не бывает» и возникнув на «свЯтом месте» рухнувших «Истоков», с 1-го же своего номера, обрела своих читателей и почитателей в литературных кругах и обратила на себя благослоклонное внимание прессы и даже вошла в число «пяти лучших книг недели» по рейтингу «Независимой газеты» НГ ExLibris, чему авторы и создатели этого альманаха могут только радоваться. И сразу же со всех уголков Москвы и России, из провинциальных медвежьих углов, и из Ближнего и Дальнего Зарубежья в альманах устремились неостановимые потоки (толпы) служителей Аполлона, пишущих кто стихи, кто прозу, кто и то, и сё, в общем – кто что, и желающих выступить со своими произведениями на страничных площадках «Эоловой арфы» и прозвенеть и прогреметь в литературном пространстве на всю Ивановскую и на всю Тверскую-Ямскую. И таким образом количество авторов 2-го номера, при том, что у нас не было задачи специально увеличивать это количество, а даже было намерение слегка подсократить его, выросло с 52-х до 105-ти... О ужас! Что из этого получилось, смотрите сами, любезные читатели. Получилась литературная эклектика, этакая мешанина, среди которой каждый из вас, мы надеемся, найдет что-нибудь такое, что ему особенно понравится и придется по душе.
Приятных вам впечатлений! Как можно больше эстетического, интеллектуального и морального удовольствия! И «чувств добрых»!
И спасибо живым классикам нашего времени, которые согласились участвовать в новом номере нового альманаха и разрешили нам опубликовать у себя их материалы, для поднятия престижа и литературного уровня «Эоловой арфы»!
Нина Краснова,
издатель, составитель и главный редактор
альманаха «Эолова арфа»
4 августа 2009 г.,
Москва

ЭОЛОВА АРФА
Литературный альманах «Эолова арфа»
Выпуск 3
Издание Нины Красновой
Москва
2010 - 2011
ББК 84 Р7
Э 69
Главный редактор Нина Краснова
Эолова арфа
Э 69 Эолова арфа: Литературный альманах Выпуск 3 / Главный редактор Нина Краснова. -
М., 2010 - 2011. - 496 с.
В третьем номере альманаха "Эолова арфа" читатели смогут прочитать "Повесть в письмах" Валерия Золотухина, рассказ художника Джавида Агамирзаева "Записки московского сторожа", стенограмму панихиды по Андрею Вознесенскому, с прощальными словами известных поэтов, писателей, деятелей культуры о нём, со стихами поэтов, посвящёнными ему, с воспоминаниями Зои Богуславской о нём, репортажи творческих вечеров Евгения Евтушенко, Евгения Рейна, Нины Красновой, Александра Ерёменко, материал, посвящённый 70-летию Иосифа Бродского, прозу Юрия Кувалдина, Кирилла Ковальджи, Эдуарда Боброва, Ваграма Кеворкова, Игоря Нерлина, новые стихи Александра Тимофеевского, Тамары Жирмунской, Валентина Резника, Анатолия Соболева, Петра Кобликова, Татьяны Николиной, статьи Льва Аннинского, Леонида Жуховицкого, Эдуарда Грачева, разделы памяти Натана Злотникова, Николая Новикова, юмористические-иронические стихи Евгения Лесина, Андрея Щербака-Жукова, Николая Иодловского, интервью с лидером Третьего русского авангарда художником Александром Трифоновым, который отметил своё 35-летие.
В альманахе представлено творчество не только москвичей, но и немосквичей, авторов из разных городов России - поэта из Самары Эммануила Виленского.
Под рубрикой "Классики мировой литературы" помещены страницы переписки Гёте со своей женой Кристианой - переводы Анатолия Шамардина, знакомого читателям "Эоловой арфы" по его переводам юмористических рассказов польского писателя Януша Осенки и по своим собственным рассказам.
ISBN 978-5-85676-139-8
© Нина Краснова, 2010 - 2011
О 3-м НОМЕРЕ АЛЬМАНАХА «ЭОЛОВА АРФА»
На презентации 2-го номера альманаха «Эолова арфа» в Малом зале ЦДЛа Пётр Кобликов прочитал своё стихотворение, посвящённое «Эоловой арфе», которое заканчивалось строками, где автор желал, чтобы 3-й номер был ещё толще первых двух:
Пусть станет толще он наполовину
И первых двух потяжелей!
Я восприняла всё это с юмором и подумала тогда: «Ну нет, я постараюсь сделать 3-й номер не таким толстым, как два первых, чтобы он был не толще, а тоньше, и чтобы буквы в нём были покрупнее... Но человек предполагает, а Бог располагает. Сколько ни старалась я сделать новый номер альманаха не таким толстым, как два первых, он получился у меня ещё толще... С лёгкой руки, вернее – с лёгкого языка Петра Кобликова.
Когда я увидела, какой большой получился у меня альманах, я решила... не сократить его, а... разделить на два тома и издать сразу два номера, 3-й и 4-й, чтобы не нарушать композицию, архитектонику этого большого литературного сооружения. И вот что из этого получилось: два тома, связанные между собой, где второй является продолжением первого.
...Неожиданно много здесь (см. оба тома) оказалось авторов-юбиляров, не считая Антона Чехова, которому сравнялось 150 лет, и Ивана Бунина, которому сравнялось 140 лет, и Сергея Есенина, которому сравнялось 115 лет, и Иосифа Бродского, которому сравнялось 70 лет, и включая и меня саму, которой пока ещё, слава Богу, далеко и до 150-ти лет, и до 110-ти и 115-ти и до 70-ти. Кроме меня, это – художник Александр Трифонов, которому сравнялось 35 лет, и поэт Евгений Лесин, и поэт Валерий Дударев, которым сравнялось по 45 лет, и художница Надежда Мухина, и поэтесса Людмила Осокина, и мой земляк поэт из Рязани Алексей Бандорин, и мой однокурсник Сергей Каратов, и мои однокашники Александр Ерёменко и Владимир Бондаренко, и друг и учитель поэтов разных поколений поэт Кирилл Ковальджи, и друг и учитель ещё и Иосифа Бродского поэт Евгений Рейн...
«Эолова арфа» в моём лице поздравляет всех юбиляров с их юбилеями (в том числе, может быть, и тех, кого я по рассеянности своей не назвала) и желает каждому своей вершины на Олимпе, с которой никто из них никогда не свалился бы вниз головой и вверх тормашками! Чего я и самой себе желаю!
А некоторые авторы станут юбилярами в ближайшие месяцы 2011 года. Их «Эолова арфа» поздравит в следующем номере.
А пока, любезные читатели, читайте этот номер и смотрите, кто и как у нас сейчас работает в литературе (хотя в альманахе – только малая часть всех, кто работает в ней).
Нина Краснова,
издатель, составитель и главный редактор
альманаха «Эолова арфа»
24 января 2011 г.,
31 марта 2011 г.,
Москва

ЭОЛОВА АРФА
Литературный альманах «Эолова арфа»
Выпуск 4
Издание Нины Красновой
Москва
2010 - 2011
ББК 84 Р7
Э 69
Главный редактор Нина Краснова
Эолова арфа
Э 69 Эолова арфа: Литературный альманах Выпуск 4 / Главный редактор Нина Краснова. –
М., 2010 - 2011. - 512 с.
В 4-м номере альманаха "Эолова арфа" читатели смогут прочитать самый ранний дневник Валерия Золотухина "Москва - начало" (1958 - 1960), рассказ Юрия Кувалдина "Демонстрация" и его эссе "Зеркало жизни из осколков памяти", посвященное 70-летию режиссера Александра Бурдонского, произведения Ваграма Кеворкова, Эдуарда Клыгуля, стихи Риммы Казаковой, Татьяны Бек, Александра Тимофеевского, стихи юбиляров "потерянного поколения" Нины Красновой, Сергея Каратова, стихи девяностодесятников Анны Гедымин, Инны Кабыш, Валерия Дударева, Людмилы Осокиной, пародии Евгения Лесина, статью Зульфии Алькаевой, посвящённую 140-летию Ивана Бунина, статью Лолы Звонарёвой о поэзии Юрия Кузнецова, театральные заметки Петра Кобликова, стихи и прозу авторов из Рязани, Уфы, Ярославля, из Ближнего и Дальнего зарубежья, из Казахстана, Крыма, Германии, США, рассказы польского писателя-юмориста Януша Осенки и новую порцию писем Гёте своей жене Кристиане в переводах Анатолия Шамардина, а кроме того - репортаж о первом вечере памяти Виктора Бокова, успевшего дожить до 95-ти лет, и материалы о художнике Александре Трифонове, отметившего своё 35-летие.
ISBN 978-5-85676-140-4
© Нина Краснова, 2010 - 2011
О 4-м НОМЕРЕ АЛЬМАНАХА "ЭОЛОВА АРФА"
4-й номер альманаха "Эолова арфа" является продолжением 3-го и составляет с ним гармоническое единство.
Здесь читатели найдут произведения Валерия Золотухина, Евгения Лесина, Юрия Кувалдина, Нины Красновой, Ваграма Кеворкова, Эдуарда Клыгуля, Риммы Казаковой, Татьяны Бек, Александра Тимофеевского, Сергея Каратова, Анны Гедымин, Инны Кабыш, Валерия Дударева, Людмилы Осокиной, Григория Певцова, Зульфии Алькаевой, Лолы Звонарёвой, Петра Кобликова, стихи и прозу других авторов.
Альманах "Эолова арфа" набирает силу, становится неотъемлемой частью литературного процесса России.
Нина Краснова,
издатель, составитель и главный редактор
альманаха "Эолова арфа"
5 апреля 2011 г.,
Москва
ЧИТАТЬ ВСЕ ; ВЫПУСКА АЛЬМАНАХА НИНЫ КРАСНОВОЙ "ЭОЛОВА АРФА"
|
|
Нина Петровна Краснова Избранное стихи Редактор Юрий Кувалдин Художник Александр Трифонов Издательство Юрия Кувалдина "Книжный сад" 2011 Москва |

ББК 84 Р7
К 78
Краснова Н.П.
К 78 Избранное: стихи / Предисловие Валерия Золотухина. - М.: Издательство “Книжный сад”, 2011. - 416 с.
В книгу поэтессы Нины Красновой вошли лучшие стихотворения из её книг: “Разбег” (1979), “Такие красные цветы” (1984), “Потерянное кольцо” (1986), “Плач по рекам” (1989) и других. “Она настолько своеобычна и своеобразна, что спутать её ни с кем невозможно. Рифма у нее всегда какая-то неожиданная, образ какой-то такой переворотный”, - пишет о ней в предисловии народный артист России Валерий Золотухин.
ISBN 978-5-85676-142-8
© Нина Краснова, 2011
СВОЕОБЫЧНА И СВОЕОБРАЗНА
Почему современные критики не видят нашего "золота", которое достойно внимания? Потому что российское золото лежит вне проездных путей, по которым привычно идут критики. Они идут мимо него. И оно - в стороне от них, и старатели ищут и находят его где-то в стороне и моют и моют, моют.
И вот в Рязани намыли такой золотник, как Нина Краснова. Её ни с кем из современных поэтов сравнить невозможно, потому что она такой мастер и так мастерски владеет разноритмикой, разнорифмикой, разноязычием, что просто диву даёшься! Она ни у кого ничего не заимствует. Она, по-моему, даже не читала словарь Даля. Это я шучу, конечно. Она настолько своеобычна и своеобразна, что спутать её ни с кем невозможно. Рифма у нее всегда какая-то неожиданная, образ какой-то такой переворотный.
Разумеется, взгляд на поэзию Нины Красновой может быть различным. Так и так. Да. Допустимо. А я люблю её напевность и народность, идущую из глубины души.
Я узнал из эссеистики Нины Красновой, что она дружила с нашим потрясающим, великим писателем Виктором Астафьевым. Её интереснейшая беседа с Виктором Петровичем была напечатана в журнале Юрия Кувалдина "Наша улица". Нина летала в Красноярск, в Овсянку к нему, и там брала у него интервью.
Она часто вспоминает свою маму. И вот мама, видимо, от рязанской земли наградила, наделила ее какой-то такой первородностью. Мне хотелось сказать - первобытностью, но это - чушь, потому что у Нины за плечами и Литературный институт, и глубокое самообразование. И, конечно, читая стихи Красновой, её эссе о поэтах, писателях, о Мандельштаме, о Тинякове, о Волошине, о Тютчеве, о Бальмонте и другие, понимаешь, что она - не фунт с изюмом, а изюм с фунтом, потому что это такое своеобразное преломление языкового поля, которое возможно только в ее произведениях.
Я просто горжусь тем, что я с Ниной Красновой знаком, что я имею честь быть в ее свите. И что я иногда читаю ее стихи, посвященные мне, когда она бывает на спектаклях театра на Таганке, на "Докторе Живаго". Я могу открыть нашу с ней тайну. Нина мне вышила цветными нитками несколько платков Живаго. Потому что мне в этом спектакле приходится переживать, плакать, вытирать слёзы. Ну, и, я говорю, что в этом есть своя тайна, хотя я ее почти раскрыл, но, тем не менее, всё равно. Нина - тончайшая душа, тончайший лирик. Хотя у нее есть такие, знаете, закидоны с туфелькой, и так она ударит иногда рифмой, и так она иногда ударит образом, что хоть стой, хоть падай!
Строки Нины, посвященные ее сестре, "Прощай, сестра, увидимся в аду...", нельзя читать без слёз...
Прощай, сестра! Увидимся в аду.
Когда - не знаю - и в каком году,
Это будет, будет это, да.
В гробу, как в лифте, я спущусь туда.
Тебя узнаю с переда и с зада
И вытащу тогда тебя из ада
И к Богу в рай за ручку отведу.
Прощай, сестра! Увидимся в аду.
Невозможно читать всё это без слёз, и при том я должен сказать, что во всём этом никакой сентиментальности, никакого слёзообразования, и вообще в стихах Нины нет этого.
Что отличает художника настоящего от не художника? У Нины Красновой искусство выше личного. Мы иногда путаем искусство художника и что-то другое. А у нее дар таков, и, между прочим, прошу заметить, это было и у Владимира Высоцкого, дар ее таков - что он выше суеты, выше нашей возни.
У меня довольно часто спрашивают: а вот в наше время какие бы песни пел Высоцкий. Это трудно себе представить, что он пел бы, но уж точно он бы не осуждал наших правителей. У Высоцкого этого не было. Так же, как нет этого и у Нины Красновой. Это с ее стороны не просто: я избегаю, так сказать, политической конъюнктуры, политической темы. Это всё не имеет значения, дело в другом. Просто дар Нины выше этого. Я в этом смысле просто преклоняюсь перед ней.
Ну, Есенин - да. Она с родины Сергея Есенина. Но это, знаете, мне говорят: вот Шукшин. Он с Алтая. И я - с Алтая. Некоторые меня называют - хвост кометы Шукшина. Это от непонимания природы таланта. Потому что, во-первых, когда появился Василий Шукшин, я его тогда не читал. Я сам по себе. И Нина Краснова сама по себе. Кстати, и у Нины Красновой есть стихи о том, что ей говорят, что ты не дорастешь до Есенина, и она за бочкой где-то прячется и читает его книгу.
При чем тут Есенин? Есенин - это Рязань. Ну и что? Подумаешь, географическое совпадение. Да, Есенин, конечно, гений. Ну и что? Ну, Алтай, да, это Шукшин. Ну и что? Я к чему это пишу? Я пишу это к тому, что когда Нину Краснову зачали родители, вряд ли они читали в это время Сергея Есенина. То есть Есенин тут ни при чем. Потому что генетически поэт на Руси рождается чудно, никогда не поймешь, откуда что взялось.
Говорят, частушки она сочиняет! Но это у нее не главное, хотя она выросла из фольклора, как наша литература выросла из “Шинели” Гоголя. Бывает, выходишь на сцену на вечере встречи со зрителями, и мне говорят: "Валерий Сергеевич! Да ну спой "Ой, мороз, мороз...". Ой, Господи, так мне надоела эта песня "Ой мороз, мороз...". Но я ее пою. Так и Краснова. Иногда, увлекаясь частушечной популярностью, она вдруг что-то такое завернет. Но феномен Красновой для меня заключается не в том, что она пишет частушки. Здесь можно провести аналогию с Шукшиным. Многие представляют Шукшина таким кержачом. При чем тут кержачи? Кержачи - это персонажи Шукшина, но не сам Шукшин. Так же и частушки, и герои частушек Красновой. Это персонажи Красновой, но не сама Краснова.
Нина Краснова достаточно умна и интеллигентна и образована, но хотя она иногда и подыгрывает публике под героинь своих частушек, как и я иногда не без удовольствия подыгрывал и подыгрываю под крестьянина. Это издержки нашего производства. Чем хороша и дорога Краснова? Она никогда не подделывается ни под кого, и под Есенина в том числе.
Чем дорога мне Краснова? Вот если есть бессребреники на Руси, то к ним относится поэтесса Нина Краснова. Я иногда ей говорю: "Нина, ну давай я дам тебе 20 - 30 тысяч на твой юбилей". А она: "Не, не, не! Да не надо, Валерий, не надо, не, не, не!"
Мы иногда с ней такую сделку делаем, знаете, я говорю: "Нина, я через три дня уезжаю на праздник Петра и Февронии. Нина, напиши стихотворение о Петре и Февронии". Она воспринимает это как госзаказ и пишет, но пишет так, что никто не может написать так, как она, например:
Над ними летают не черные стаи воронии,
А светлые ангелы с блеском небесным в очах.
Поклонимся двум чудотворцам - Петру и Февронии!
Восславим земную любовь и семейный очаг!
Она шутит, и я шучу: она "получила государственный заказ от Золотухина", которому нужно было вот так, позарез, какое-то точное слово о Петре и Февронии. В этом, знаете, кто-то может упрекнуть меня в несопоставимости, что ли, одного с другим. Но вот, допустим, Александр Пушкин сидит и пишет "Клеветникам России", потому что государь попросил его написать о событиях в Польше. И Пушкин написал такое стихотворение, с которым мы не можем разобраться до сих пор. Лев Аннинский вдруг спросил у меня: "А почему Александр Сергеевич Литву-то записал в славянки?" Я: "Да я не знаю, Пушкину видней".
Пушкину видней. Так и Красновой видней. Потому что о Петре и Февронии ходит столько легенд всяких, и вдруг такое потрясающее стихотворение, с моей точки зрения, ода не ода, но воспринимается восторженно буквально всеми. Когда мы открывали памятник Петру и Февронии в Архангельске, дети замирали на строчках этого стихотворения, настолько просто, настолько выразительно оно написано с точки зрения просто поэзии.
Я не знаю, к кому из современных поэтов я могу обратиться с госзаказом. Я думаю, что вот, прости меня Господи, ни к кому, кроме Нины Красновой.
Еще раз повторяю, я горжусь тем, что знаком с поэтессой Ниной Красновой. Люблю ее рассуждения об Анне Ахматовой и Осипе Мандельштаме, о забытых, но гениальных Александре Тинякове (Одиноком) и Фёдоре Крюкове. В своих рассуждениях она иногда, как море во время шторма, может перехлестывать через край, но на то она и поэтесса!
Без поэзии Нины Красновой невозможно представить себе русскую литературу ХХ и XI века.
Валерий Золотухин
СОДЕРЖАНИЕ
Валерий Золотухин “Своеобычна и своеобразна” ......... 3
Из книги “Разбег” 1979 год
Разбег ........................................................................... 8
Река ............................................................................ 10
“Солнечный-пресолнечный день...” ............................... 12
“Я привыкла к январю...” .............................................. 13
Солнце... по каплям ..................................................... 14
“Я студентка! Я живу в столице...” ................................ 15
“В пожелтевших письмах копаюсь...” ........................... 16
“Мне не нравится такое положение...” ........................... 17
А я плакать не стану .................................................... 18
“Я всё могу себе представить...” ................................... 19
“Повернусь, отойду от двери...” ..................................... 20
“Нет, губ не кусаю до стона...” ....................................... 21
“Спотыкаюсь о корни, о сучья...” ................................... 22
“Так горю, что взбеситься можно...” ............................... 23
“Парк от листьев желт и оранжев...” ............................... 24
“Я сделаюсь послушной...” ............................................ 25
“Мы вместе. Но страшно мне почему же...” .................... 26
“Наспех, кое-как пальто надела...” ................................. 27
“Под окном фонарь заздравно светится...” ..................... 28
“Видеть цветы во сне...” ................................................. 29
“Месяц боком от форточки пятится...” .............................. 31
Из книги "Такие красные цветы" 1984 год
Куклы ............................................................................. 32
“Я так любила собирать когда-то...” ................................. 34
“В поле - не в саду, не в огороде...” ................................ 35
“В летний лес не столько за грибами иду...” ..................... 36
Луговым цветам, растущим в цветнике... ......................... 37
“Шла я лесом - слушала синиц...” .................................... 38
Вертушинка .................................................................... 39
Прогулка на лыжах .......................................................... 40
“Вот они, мои земные блага...” ......................................... 41
“Я могла бы в деревне родиться...” .................................. 42
Моим братьям и сестре ................................................... 43
“Я могилку дедову искала...” ............................................ 44
Заборье ........................................................................... 45
Рассказ из прошлой жизни... ............................................ 46
Плач по Трубежу... ........................................................... 49
“Отдыхаем не в Ялте, не в Сочи...” ................................... 51
“Хороши, теплы на мне сапожки...” .................................... 52
“Зима-то в Клепиках какая...” ............................................. 53
Старушки .......................................................................... 54
Мещёрское село ............................................................... 55
“Не подрезай, Рязань, моих ветвей...” ................................ 56
Дворник ............................................................................ 57
Сон про войну ................................................................... 58
“Я раньше искренне жалела иногда...” ............................... 64
Драники ............................................................................ 65
“Что за чудо село-городок...” ............................................. 67
Песня бывшего сельского жителя ..................................... 68
“Ты с деревни-то будешь с какой...” .................................. 70
Встреча двух подружек на гулянье ................................... 71
Плач по Лыбеди ............................................................... 72
“Чем деревья становятся старше...” .................................. 74
“Лес не низок стоит, не высок...” ....................................... 75
На смерть Евгения Маркина ............................................. 76
Есенину ........................................................................... 79
Пейзажные стихи ............................................................. 80
“Солнца в окне половинка...” ............................................ 83
“Мы вышли за порог и за ворота...” ................................... 84
“Завтра я уеду от тебя...” .................................................. 85
Присуха ........................................................................... 87
“Изо всех моих знакомых...” ............................................. 89
“Вот ведь чем обернулась шалость...” .............................. 90
“Видный весь как на ладони...” ......................................... 91
“Хочется плакать...” .......................................................... 92
“Ну и вот, и дожили до лета...” ......................................... 93
“Подольше бы весна не наступала...” ............................... 94
“Дружок из-под Тотьмы письмо написал...” ....................... 95
“Плывёт лодочка по реке...” .............................................. 96
Из книги "Потерянное кольцо" 1986 год
“Мне сестра читать Есенина...” ......................................... 98
Из письма сестре ............................................................. 99
“Никуда не иду...” ........................................................... 101
К картине Н. Ярошенко “В теплых краях” ......................... 102
“К ляду эти прогулки, обеды...” ....................................... 104
“Что вы всё за мной идете...” .......................................... 105
На улице вечернего города ............................................. 106
Девичник ........................................................................ 107
“С вокзала шагаю. Попутчиков нет...” .............................. 108
Старые пластинки ........................................................... 109
“Стыдно даже рассказать кому...” ................................... 110
“Подпевая соловью...” .................................................... 111
На получение рязанской прописки .................................. 112
“По городу бродим...” ...................................................... 113
Деревья на нашей улице ................................................. 114
“Во дворе - без ворот, без калитки...” ............................... 115
Лыжня ............................................................................. 116
“Во дворе не холод, но холодок...” ................................... 118
“Так, как ты, я село, разумеется, знаю едва ли...” ............. 119
Поляна в Луковском лесу ................................................ 120
Платок ............................................................................. 121
К картине Фудзиты “День рождения” ................................ 124
“До чего ненужною, заметьте-ка...” ................................... 126
Спас-Клепики ................................................................... 127
Петух ............................................................................... 128
“Деревенька в тринадцать дворов...” ................................. 129
Рассказ тетки Дуни о своей корове Лысенке ..................... 130
Первый опыт .................................................................... 132
Современники .................................................................. 133
Скопин ............................................................................. 134
К картинам Ильи Глазунова .............................................. 135
“Я не могу отделаться от мысли...” .................................... 137
“Люли-люли, ладо...” ......................................................... 138
Русское страданье... ........................................................ 139
“Над земным раскаленным шаром...” ............................... 140
“У человечества силы столько...” ...................................... 141
Моим современникам ...................................................... 142
Лысая гора ...................................................................... 143
“Выйду, выйду к морю...” ................................................. 156
“Сколько звезд на ночном небосводе...” ........................... 157
“Ты знакомство начал с комплимента...” ........................... 158
“Я жила без сказок...” ...................................................... 159
Ночь на новом месте ....................................................... 160
“Я во сне видала яйца...” .................................................. 161
“"Огурчики да помидорчики..."...” ..................................... 162
“Я отбила все твои атаки...” .............................................. 163
“Прост у нашей сказки сюжет...” ....................................... 164
“Иди, кареглазый герой...” ................................................ 165
“Идет ли эта гребенка...” ................................................... 166
Родившаяся под знаком Рыбы - своему любимому... ....... 167
Расстаемся ..................................................................... 168
Родившаяся под знаком Рыбы - своему нелюбимому... ... 170
“Лучше мечты любой...” ................................................... 171
“Что же перестали глаза твои светиться...” ....................... 172
“Не будем как чужие, ладно...” ........................................ 173
“В парке сижу - одинокая, злая...” .................................... 174
Ты пришел ...................................................................... 175
“Крепнуть и здравствовать нашей семейке...” .................. 176
“По привычке планы на будущее строим...” ..................... 177
Стало скучно .................................................................. 178
“Пела песни, шутила...” ................................................... 179
Воспоминания о бывшем любимом ................................. 180
“Отцвела природа...” ....................................................... 183
“Ты еще не в курсе дела...” ............................................. 184
“Я никем себя не возомнила...” ........................................ 185
“Ну до чего себя я довела...” ........................................... 186
“Я, сама с собою условясь...” .......................................... 187
Родившемуся под знаком Козерога... .............................. 188
“Мне судьба затем тебя послала...” .................................. 190
“В лесу, в избушке с печкой и с трубой...” ........................ 191
“Лучше уж теперь перестрадать...” .................................. 192
“Я зеркальце нечаянно разбила...” ................................... 193
Об искусстве смотреть на картины .................................. 194
“Здесь на редкость прекрасная погода...” ........................ 196
“Не Вас, уважаемого, дорогого...” .................................... 197
Из книги "Плач по рекам" 1989 год
“Как поёт соловей в Лукине...” ........................................ 198
“Шла я по жизни, шла...” ................................................. 199
“Когда я была маленькой...” ............................................ 201
“Человек придет в двадцать первый век...” ..................... 202
Предложения по охране природы ................................... 203
Плач по спиленному дереву ........................................... 204
Коровино ....................................................................... 205
Заговор на уженье крупной рыбы ................................... 206
“Много в колхозе полей...” .............................................. 207
Матеря и дети ................................................................ 208
Плач по нерожденному дитю .......................................... 209
Упрёк самой себе ........................................................... 213
Плач эмансипированной женщины... .............................. 214
“Возьму с пилорамы сосновые доски...” ......................... 215
Заявление красной девицы... ......................................... 216
“Белое поле, белое небо...” ............................................ 218
“Каждый день, как белая ворона...” ............................... 219
“Давайте фужеры вином наполню...” .............................. 220
“Сковывают стены...” ..................................................... 221
Прощание без лишних слов... ....................................... 223
Скатертью дорога ......................................................... 224
“Не боишься отпускать...” ............................................. 225
“Сколько можно его, истукана...” ................................... 226
“Лавочка. На лавочке - я и ты...” .................................... 227
Жених и невеста ........................................................... 228
“Со дня сотворения мига...” .......................................... 229
“Не для вас на бигуди деловито кручуся...” .................. 230
После развода .............................................................. 231
“Пишет письма мне залётка...” ...................................... 232
Неудачный роман ......................................................... 233
“Мне приснился сон под пятницу...” ............................... 234
“Милый в беленькой рубашке...” .................................... 235
Неудачный роман ......................................................... 233
Заговор на исцеление... ................................................ 236
“Ой, соловушка, милок...” ............................................. 238
Из книги "Интим" 1995 год
“Я помню чудное мгновенье...” .................................... 239
Библейские мотивы ..................................................... 240
Колечко ....................................................................... 243
“В той же маленькой комнатке...” ................................. 244
“Наши "вето" на лбу запишу...” .................................... 245
“Никому не буду больше верной...” .............................. 246
“Я пытаюсь песенку лалакать...” ................................... 247
“Нет, из себя монашку я не строю...” ............................ 248
“Душа - не с золотом коробка...” .................................. 249
“Улицы от снега забелели...” ........................................ 250
“На меня не обижайся...” ............................................. 251
“Я гуляла по райскому саду...” ..................................... 252
“Наверно, нравлюсь вам...” .......................................... 253
“Я сижу с тобой в Дубовом зале...” ............................... 254
“Нет меня в донжуановских списках твоих...” ............... 256
“Есть такие, да и были прежде...” ................................. 257
Сбрасывание покровов... ............................................. 258
“Молчу, уголок простыни теребя...” .............................. 260
Женщина в зеркале ..................................................... 261
Миг .............................................................................. 262
“У тебя хорошая жена...” .............................................. 263
“Миленький мой Иванушка...” ....................................... 264
“Ты меня на стихи вдохновляешь...” ............................. 265
“У меня разбилось зеркальце...” ................................... 266
“Рыцарь под чёрным поёт небосклоном...” .................... 267
“Я хочу с тобою спеть...” .............................................. 268
День святой Нины ........................................................ 269
“Одно неотделимо от другого...” ................................... 271
“Я хочу с тобою вместе спать...” .................................. 272
“Мы пьём любовь - вдвоём...” ..................................... 273
“Я тарелку недомою...” ................................................ 274
“Ты - герой из греческого мифа...” ................................ 275
Из книги "Четыре стены" 2008 год, и другие стихи
Александр Тиняков ...................................................... 276
Пётр и Феврония ......................................................... 277
Плач по маме, сестре и брату ...................................... 279
Прогулки по Москве ..................................................... 294
Южный порт Москвы .................................................... 296
Художник-нонконформист Александр Трифонов ............ 298
На получение книги “Таганский дневник” ...................... 301
Прогулка вокруг Петровского замка ............................. 303
Фантазия на тему прогулок... ....................................... 304
Крутицкое подворье ..................................................... 305
Памятник Венедикту Ерофееву на площади Борьбы ..... 307
Красные ворота ............................................................ 308
“Мы с тобой вдвоём гуляем в скверике...” ..................... 310
Всё у нас с тобою в прошлом ....................................... 311
Храм Петра и Павла в Солдатской слободе ................... 312
Родительский день ....................................................... 313
“Слышу в парке пенье чижа...” ...................................... 314
“О тебе, моём мужчине роковом...” ............................... 315
“Летают над балконом птички...” .................................... 316
Цветок в овраге ............................................................ 318
Селезень и уточка на Чистых прудах... ......................... 319
“Я в Рязань недавно ездила...” ..................................... 320
Платонов ....................................................................... 321
Часы со звонком ........................................................... 322
Юрий Кувалдин ............................................................. 323
Дмитрий Тугаринов ........................................................ 325
Яблочко от Сталина ....................................................... 327
Концерт по заявкам ....................................................... 328
“Один из всех, из общей массы ты...” ............................ 329
“Я напишу Всевышнему петицию...” .............................. 330
Ночные медитации... ..................................................... 331
Плач по Юрию Кузнецову ............................................. 332
Кирилл Ковальджи ........................................................ 337
Сергей Филатов ............................................................ 338
“Повернусь, отойду от двери...” ..................................... 339
“У прохожих, у парней...” ............................................... 340
“Вечер. Ходиков стук монотонный...” .............................. 341
Вильнюсский храм ........................................................ 342
Плач по сломанному цветку ........................................... 344
Учителю ......................................................................... 345
“Вот уже не только детством, мамой...” ........................... 346
“В спальню катится лунный...” ........................................ 347
“В этой светлой и ласковой лунности...” ......................... 348
Размышления о начатом романе ................................... 349
“Ты - прекрасный, юный Ацис...” .................................... 352
“При бледности в лице...” .............................................. 353
“Я люблю Вас чисто платонически...” ............................ 354
Из цикла “Знаки Зодиака” .............................................. 355
“Ясно мне, почему избегали...” ...................................... 361
Итог .............................................................................. 362
“Я совсем не хочу Вас любовью своею...” ..................... 363
“Вы по самое горло чьею-то ласкою сыты...” .................. 364
Инвентаризация души ................................................... 365
“И хочется, смутясь...” ................................................... 368
Евгений Рейн ................................................................. 369
Чашка кофе ................................................................... 372
“Поэтесса с зернышком таланта...” ................................. 373
“Черная комната - черная гамма...” ................................ 374
“Я забуду все названья улиц...” ..................................... 375
“Вас не бесценной вещью...” ......................................... 376
Молитвы против любовных соблазнов ............................ 377
“Я монашенка или наяда...” ........................................... 378
“Стал мне город как будто не мил...” ............................. 379
“Мне пейзаж заоконный...” ............................................ 380
“Что сделалось с врагом моим...” ................................. 381
“Я хотела бы от Вас завести ребёнка...” ........................ 382
“Я проснулась впотьмах...” ........................................... 383
Царицынский пруд с островом русалок ......................... 384
От автора ...................................................................... 385
Книги Нины Красновой .................................................. 392
Знаменитости о Нине Красновой .................................... 401
Содержание .................................................................. 405
Нина Петровна Краснова
Избранное
стихи
Редактор Юрий Кувалдин
Художник Александр Трифонов
ISBN 978-5-85676-142-8
ЛР № 061544 от 08.09.99.
Сдано в набор 07.04.11. Подписано к печати 05.05.11.
Формат 84х108 1/32. Бумага офсетная.
Гарнитура “OfficinaSansCTT”. Печать офсетная.
Уч.-изд. л. (авторских листов) 12,15 Тираж 1000 экз.
Издательство “Книжный сад”
www.kuvaldinur.narod.ru
Рязанская певунья
"Избранное" поэтессы Нины Красновой, выпущенное издательством "Книжный сад", вошло в число 50 лучших книг года по версии "Независимой газеты"
Изящно оформленный томик в темно-зеленом переплете, с золотым тиснением и с белой шелковой закладочкой (ляссе), 416 страниц стихов. Недавно в Москве в Центральном доме литераторов состоялась презентация этой книги. На вечере выступили поэты Сергей Мнацаканян, Валентин Резник, Сергей Каратов, Эдуард Грачев, культуролог Петр Кобликов, певец и композитор Анатолий Шамардин и сама Нина Краснова, рязанская певунья, Принцесса поэзии «МК» и Королева эротической поэзии России. Вел это скромное, почти семейное мероприятие поэт Кирилл Ковальджи. Предисловие к книге написал народный артист России Валерий Золотухин.
|
|
Елена Тюгаева "Улица Калинов мост" |

Елена Владимировна Тюгаева родилась 12 августа 1969 года в городе Ленинабад (Худжанд) в Таджикистане. Окончила Калужский государственный университет. Специальность - история и социально-политические дисциплины. Работает системным администратором в школе. Проза и публицистика публиковалась в калужской и московской прессе.
Елена Тюгаева
УЛИЦА КАЛИНОВ МОСТ
рассказ
Странное название для улицы - Калинов Мост.
Все улицы в городке назывались обычно и привычно: Пролетарская, Мира, Космонавтов. Имя "Калинов Мост" пахло седой древностью, былинными временами. Машенька недавно читала своему трехлетнему Артему сказку "Иван - крестьянский сын и Чудо-Юдо", там упоминалась встреча на Калиновом мосту. Сосед Сергеич объяснил Машеньке, что улица названа по речке Калинке и мосту, которого давно уж нет.
- А речка? Где речка? - спросила Машенька.
Сергеич показал костылем на тонкий ручеек, по черному дну которого бегали жучки-плавунцы и трепыхались водоросли. На мостике в три доски лежал животом нерусский мальчик Гулам и гонял плавунцов палкой.
- Это - речка? - воскликнула Машенька, и распахнула удивленно глаза.
Глаза у Машеньки были несовременные, как ее имя, и очень подходили к речке Калинке - с такими же быстрыми бликами, такие же прозрачные.
- Речка, - ответил Сергеич, - раньше она пошире была... на нашей улице метра три, а дальше, по оврагу аж на шесть-семь разливалась...
Машеньку обжигало любопытство - а что же случилось с речкой? Машенька Крестовская была неместная, жила на улице Калинов Мост всего месяц. Детство ее прошло в залитом бетоном дворе, на окраине большого западнорусского города, училась она и вышла замуж в Москве. Если бы Артем не начал задыхаться на Ленинском проспекте, она никогда не увидела бы улицы Калинов Мост.
Сергеич причин не знал. Речка уходила под землю медленно, с каждым годом - на несколько сантиметров. Постепенно засохли камыши по ее берегам. Овраг, прежде популярный у рыбаков и купальщиков городка, был заброшен. Нелепо торчат по его краям страшные плакучие ивы. Ивы пытаются дотянуться куда-то, растопыривают ветки, уродуют себя еще больше, полумертвые черные ведьмы...
Только соседи, Хвостовы, нашли полезное применение оврагу. Они сваливали туда мусор. А что?
- А что? - спросил Машеньку Хвостов, серо-бурый мужичок лет тридцати пяти со странной бороденкой, растущей не на подбородке, а на шее.
- Городская свалка за семь километров. Гордума не ставит контейнеры по улицам. А я что, сын миллионера, на своей машине мусор возить?
- Но вы же собственную почву загрязняете! - начала Машенька.
Тут выскочила на крыльцо Хвостова, крупная женщина, всегда в камуфляжной куртке и спортивных штанах, и потребовала супруга домой. Машенька поняла, что Хвостова ревнует своего серо-бурого мужа. Ей сделалось смешно, и она постаралась забыть об овраге.
Машенька часто упрекала себя за то, что думает не о существенно важном. Существенно важно: сын Артем, страдающий астмоидным бронхитом, муж Слава, который остался в Москве, зарабатывать деньги для Машеньки и Артема. Жизнь складывается у Машеньки неудобно, не по-людски, а она забивает себе голову оврагами, речками, никого не волнующей экологией, никому не нужной топонимикой.
Артем гулял больше двух часов. Машенька отпускала ребенка безбоязненно. Улица Калинов Мост - тупиковая. Одним концом она упирается в непроезжую узенькую Фабричную, другим - в овраг. На улице всего шесть домов: Сергеича, Машеньки, Хвостовых, тихих алкоголиков Гурьяновых, нерусской семьи Гаджиевых, и последний - заколоченный дом умершей позапрошлым летом бабки Тани. Неасфальтированная бугристая улица Калинов Мост, конечно, возвращала Машеньке ребенка сильно испачканным, зато счастливым и очень голодным.
- Мама! - закричал грязный голодный Артем, и бросил на пол лопату, всю в песке. - В овраге чудовище живет!
- Ты сам чудовище! - засмеялась Машенька. - Посмотри на свои руки! Посмотри на свои кроссовки!
Она сняла кружевной фартучек и потащила Артема: мыть руки, переодевать, кормить. Он ел охотно, чего никогда не бывало в Москве, но продолжал болтать о чудовище. Оно прячется в камышах. Черное, косматое, рычит.
"Собака", - подумала Машенька. Надо бы отнести собаке еды, тогда она не станет рычать на детей.
В три часа дня улица Калинов Мост совершенно пустая. Хвостовы и тихие алкаши Гурьяновы - на работе. Нерусский сосед - на рынке. Его жена никогда на улицу носа не кажет.
Тишина.
Только в калиновых кустах, которыми обсажен заколоченный дом бабки Тани, чирикают пташки.
Машенька прошла к оврагу. Корявые ивы и мертвые рыжие камыши создавали прямо-таки инфернальную картину. Зато лопух и крапива, борщевик и тысячелистник вымахали выше Машенькиного роста. Серые от пыли, толстоствольные, мощнолистные.
Весь правый берег завален мусором. Остатки пищи. Газеты, исписанные школьные тетрадки. Коричневые пластиковые бутылки из-под пива. Хвостов каждый вечер идет в магазинчик за пять улиц отсюда и возвращается непременно с двухлитровой бутылкой пива.
По этой свалке можно изучать бюджет средней российской семьи, подумала Машенька. За многие годы, поскольку внизу, прямо по течению речки Калинки, возвышается гора полуразложившихся бурых памперсов. Дочери Хвостовых уже семь лет. Семь лет как минимум Хвостовы наполняют овраг своими отходами.
Машенька посмотрела на речку, от которой остался ручеек шириной в ладонь. В глазах у нее защипало, к горлу подошла нервная тошнота. С нею бывало так, когда она встречала израненное тощее животное, когда видела полуголого грудного цыганенка в болячках, которого мать-попрошайка таскает по вокзальной толпе.
Отвернувшись, Машенька стала чмокать губами, вызывать из оврага "чудовище". В бурьянных джунглях метнулось, закачались пыльные листья.
- Эй, иди ко мне! Я тебе покушать дам! - позвала Машенька.
В лопухах послышалось сдавленное рычание. Машенька оставила пластиковую мисочку с супом.
Вечером мисочка была пустой.
- Схожу, посмотрю, - пообещал Сергеич, - не думаю, что это собака. Собаки от людей не прячутся.
- А кто же? - спросила Машенька.
- На той помойке и мутант какой-нибудь может вылупиться, - озвучил Сергеич страшную мысль, уже посещавшую Машеньку. И тут же засмеялся, погладил Машеньку левой рукой по плечу:
- Не пугайся ты сразу! Я же шучу!
В правой руке у Сергеича всегда костыль. Десять лет назад он сломал ногу. Срослась неправильно - у старых плохо заживают переломы. Сергеич ведь, на самом деле, ужасно старый, ему семьдесят один. Но двадцатипятилетней Машеньке совсем несложно общаться с Сергеичем. Он всю жизнь работал журналистом. Правильная литературная речь, никакого деревенско-стариковского сленга.
Очень одинокий. Много читающий. На почве одиночества и чтения Машенька и Сергеич подружились.
- Артем! - крикнула Машенька, выглянув из Сергеичевой калитки. - Артем, не смей ходить к оврагу!
- А лучше, - сказал Сергеич, - давай до первого подождем. Глебка приедет, внук мой. Он и сходит. Я-то, черт хромой, не везде пролезу...
На следующее утро Машенька понесла к оврагу миску с кашей. Артема, как он ни гундел, оставила в саду у Сергеича.
Зверь рылся в помойке. При виде Машеньки он прыгнул в заросли, но она успела рассмотреть. Не собака! Безусловно, дикий зверь, черно-серый, в пятнах и полосках, косматый. Машенька поставила миску, вытерла со лба ледяной пот, успокоила крупно дрожавшие руки и пошла домой.
- Машя! - окликнули ее из калитки Гаджиевых.
Халима забормотала - в овраг ходить нельзя, там живет шайтан.
- Да не шайтан это, что вы, - успокоила их Машенька, - животное какое-то из леса забежало...
Сергеич предположил, что в овраге - енот. Енотов в наших краях много.
- А ты, правда, не ходи пока. Еноты - они часто бешенством болеют. Три года назад водитель из Глушкова остановил машину около леса. Отошел по нужде. Енот выскочил из леса, запрыгнул в машину и парня искусал. Парень через три дня помер от бешенства.
В обед позвонил Слава, Машенькин муж. Работает по одиннадцать часов в сутки. Устает. Соскучился.
Машенька не стала рассказывать про животное в овраге. Слава - сверхответственная личность. Прикажет бросить опасный дом, будет искать другой, зарабатывать деньги по пятнадцать часов в сутки...
- Алла Алексеевна! - позвала Машенька. Она ждала Хвостовых на улице целый час.
- Вы бы не носили мусор в овраг, - несмело сказала Машенька, - там завелось дикое животное. Анатолий Сергеевич говорит, вероятнее всего - енот...
Машенька рассказала про историю с бешеным енотом.
Хвостова, Хвостов и их дочь Маринка слушали, не глядя Машеньке в лицо. Муж и жена смотрели на Машенькину белую мини-юбку, и на ее ноги. Маринка таращилась на браслет на Машенькином запястье.
- Надо у тетки отравы взять, - деловито сказал Хвостов. Хвостова кивнула.
- Спасибо, что предупредили! - она растянула рот в неживую улыбку, как резиновая кукла. - Завтра понесем мусор, и крысомора туда подкинем! И ты не лазь в овраг, слышишь? - крикнула она дочке.
Машенька хотела объяснить, как влияют отходы техногенной цивилизации на почвы, популяции растений и животных. Но Хвостова обернулась и сказала с той же резиновой улыбкой:
- Смотри, Маша, комары к вечеру злые, а ты с голыми ногами.
- Тебе свой диплом надо выбросить. Так честнее будет, - сказал Глеб, внук Сергеича.
Он был моложе Машеньки на четыре года, но разговаривал с нею, как взрослый с подростком.
- Наверное, да, - сказала Машенька. И вздохнула, глядя на гору бурых памперсов в речке.
- Я ведь никогда не работала экологом. Я не успела. Заканчивала институт уже беременной. А теперь Артем заболел... так что пропал мой диплом...
Глеб прошел чуть дальше по тропинке между гигантских лопухов и чудовищных кустов крапивы.
- Ты осторожнее, Глеб! - воскликнула Машенька. - Оно там всегда сидит...
Странные звуки перебили Машеньку. В темно-зеленых зарослях что-то скрипело. Или пищало.
- Ай! Я боюсь! Я ухожу!
Машенька невольно схватилась за руку Глеба - повыше локтя. Он обернулся, посмотрел ей в глаза, и спокойно взял за запястье.
- Не бойся. Я думаю, это детеныши пищат.
- Детеныши?!
- Ну да. Послушай. Так щенки скулят.
Машеньке стыдно было сознаться, что она никогда не слышала скуления щенков. У нее не было животных в детстве, да и во взрослой жизни. Глеб шагнул еще, и палкой раздвинул кусты... Машенька увидела в мешанине газет, желтой матрасной ваты и тряпья шевелящиеся тельца.
- Не трогай, Глеб! А то мамаша как вскочит!
Глеб вернулся к Машеньке.
- Странно. Детеныши еще слепые, а мамаша где-то шляется.
- Может, еду себе ищет...
Машеньке снова было муторно, веки жгло подступающими слезами. Детеныши дикого зверя на человеческой помойке, как это неправильно и жутко, если подумать.
После обеда Глеб позвал Машеньку через забор. Она поливала посаженные еще прежними хозяевами розовые кусты, смородину, малину.
- Машенька! Я нашел самку.
- Да?
- Она была там, в овраге, чуть пониже. Дохлая. Я ее закопал.
Машенька ахнула, поставила лейку и выбежала на улицу. Глеб тоже вышел, стоял возле своей калитки.
- Это, действительно, был енот.
- Она отравилась. Эти мерзкие Хвостовы набросали там отравы, - Машенька вдруг так изменилась, что Глеб узнать ее не мог. Лицо ее обсыпали красные пятна, особенно обильно - на шее. И плакала Машенька не как все люди - не морща лица, огромными, стремительными, тяжелыми слезами.
- Мне, на самом деле, надо выбросить свой диплом в ту же помойку! Ведь щенки... подумай, Глеб! Щенки умрут с голоду!
Щенков устроили очень удобно. Сарай у Сергеича был утепленный - когда-то Сергеич держал там поросят. Машенька принесла старое одеяло и разных тряпок.
- У тебя есть бутылочка с соской? - спросил Глеб у Машеньки.
- Конечно, - засмеялась Машенька, - мой Тёмка до сих пор из чашки пить не любит...
Тихая алкашка тетя Люба Гурьянова сообщила, что на соседней улице держат корову, и побежала за молоком. Артем и нерусский мальчик Гулам с восторженными возгласами наблюдали, как Глеб кормит щенков из бутылочки.
Щенков было четверо. Трое черно-серые, и один - рыжий, вот странно.
- В это время года ни лисы, ни еноты не плодятся, - качал головой Сергеич, - с кобелем каким-то мамаша скрестилась. Всем мутантам мутанты!
Дни были заполнены до отказа. Приготовить обед, порисовать с Артемом, сбегать за молоком, покормить щенков. Все это - приятные дела, и Машенька забывала о том, что тяжело висело у нее в мыслях, словно осклизлый мокрый камень.
- Я нашел, куда определить щенков, когда они подрастут, - сказал Глеб, - в пятнадцати километрах отсюда есть заказник. Дед там знает кое-кого из начальства. Отвезем туда. Еноты в заказнике водятся.
- Это хорошо, да, - негромко ответила Машенька.
Глеб обернулся. Они с Машенькой так много времени проводили вместе, что чувствовали все интонации. Конечно, Глеб понимал, что влюблен в Машеньку. Но она думает совсем не о нем.
- Я не нахожу покоя из-за оврага, - сказала Машенька, - какой я эколог, когда допускаю у себя под боком такое. Какой я человек вообще...
Странная женщина, думал Глеб, все в ней не сочетаемое - ее дореволюционное имя и дореволюционная прическа тяжелым узлом на шее, мини-юбка, браслеты-цепи, муж - владелец компьютерной фирмы, бледно-зеленая книжка Аксенова на садовом столике. Непостижимых и странных надо избегать, а Глеба тянуло к Машеньке, как Машеньку - к замусоренной умирающей речке в овраге.
- Послушайте! - крикнула Машенька в спину Хвостову. - С вами на каком языке разговаривать?
Хвостов с двумя мешками мусора в руках обернулся.
Машенька щелкнула цифровым фотоаппаратом.
- Я пошлю эти снимки в экологическую службу вашего города, - сказала она, - если вы в течение недели не разберете помойку, которую устроили. Вы получите такой штраф, что мама не горюй!
- А что, я один? - заорал Хвостов. - И Гурьяниха туда носит, и черные носят! Все гадили, а разбирать мне!
Как по сигналу открылись все калитки на тихой улице.
- Когда мы носили, ты что брешешь, козел? - завопила надсадным голосом алкашка тетя Люба, уже поддатая после работы. За ее спиной тяжело заматерился ее пьяный сын.
- Зачем на миня говорил, Вова? - бормотал нерусский Гаджиев. - Я мусор не бросал. Я гразный вода вылил...
- А ты кто такая? - заорала Хвостова, перекрывая все голоса. - Притащилась сюда из незнамо откуда! Жена миллионера хренова! Фотографируй, давай! А мы сфотографируем, как ты с Глебкой жмешься по кустам! И мужу твоему миллионеру пошлем!
- Что? - беззвучно спросила Машенька. Выбежавший Глеб увидел, какая Машенька стала белая, какие больные страшные слезы покатились из ее глаз.
- Алла Алексеевна, как вам не стыдно! - сказал Глеб. - Вы - про меня?
Хвостова вдруг сдулась, как проколотый воздушный шарик. Ушла в свой сад, тихо ворча. Исчезли Гаджиев и тетя Люба. Улица Калинов Мост стала тихой, пасторальной...
- Вот, смотри, - Глеб протянул Машеньке фотоальбом с потертыми уголками. На первых страницах были сплошные дети: бегали под деревьями, лопатили песок, сидели с подарками у ёлки. И везде детей обнимала молодая, красивая, стройная Хвостова. Не в камуфляжной куртке, а в ярких платьях.
- Она у меня воспитателем была, - сказал Глеб, и подал Машеньке чашку зеленого чая - запить мерзкий вкус валерьянки. Пять лет подряд. Я ее любил больше матери.
- Она и сейчас считается хорошим воспитателем, - сказал от шкафа с книгами Сергеич, - всегда в газете о ней пишут.
- Не понимаю, - глядя в воздух, сказала Машенька, - что превращает людей в таких монстров...
- Жизнь ломает, - глухим голосом объяснял Сергеич, - быт, деньги людей портят, окружающее скотство влияет. Я сам еще хуже той Хвостовой, Машенька! Ты вот чужая, приезжая, переживаешь за речку, а я поссориться с ними боялся, профессиональный журналист, одно название, что журналист...
У Машеньки в голове смешивались неоформленные мысли: речка, уходящая в землю, подальше от людского уродства, люди, уходящие внутрь себя, подальше от изуродованного мира. Она поставила чашку и ушла, не попрощавшись. Глеб поспешил за ней.
- Сядь на место! - крикнул Сергеич.
Глеб не послушался, конечно. Догнал Машеньку уже у нее в доме. Артемка спал, в доме - вязкая тишина, только птицы чирикали в калиновых кустах за окном. Машенька прошептала: "Ты что? Ты с ума сошел?"
Глеб целовал ее, целовал, не мог остановиться.
- Слава? Нет, ничего не случилось. Послушай, мы сегодня приедем в Москву. Приедем на электричке. Я боюсь здесь оставаться, потому что в овраге завелись еноты, а еноты часто болеют бешенством. Я боюсь за Артемку.
Машенька пятый раз уже проговорила эти слова своему отражению в зеркале, держала телефон в руке, но Славе не звонила.
Здесь оставаться нельзя. Потому что Глеб по-настоящему влюблен, а Маша не имеет права его любить. Глебу и так нерадостно в нашем замусоренном мире: отец его спился и умер, с восьмилетнего возраста Глеб живет с дедом, его мать вышла замуж в Москве, у нее другие дети. На бюджетное отделение журфака Глеба приняли только из-за деда, члена союза журналистов.
Он бедный, всю жизнь чем-то обделенный.
Машеньке было жалко Глеба, но она не могла уйти от Славы. Во-первых, она вышла за Славу по любви, и любит его до сих пор, хотя видит очень редко. Во-вторых, Глеб - студент, моложе Машеньки, у него нет в жизни ничего, а у Машеньки есть больной Артем.
Однако ты зачем-то упала на диван с тем, кого не любишь, сказала себе Машенька. Тебе жалко Глеба, как издыхающую речку Калинку. А от жалости спят со всеми подряд только шалавы, права, значит, Хвостова.
Ты способна только жалеть слюнявой жалостью, кому какой прок от твоей жалости.
Глеб кормил щенков, собирал смородину, носил воду, а думал о том же, что и Машенька. Ведь мысли передаются не хуже гриппа.
Машенька его не любит, ежу понятно. Нелюбовь - совсем не синоним ненависти, вялое невыразительное чувство, оно парализует и медленно убивает. Что нам делать теперь - бежать друг от друга, а потом чахнуть, потому что все равно нас съедят эти паразиты, меня - любовь, ее - нелюбовь...
В калитку постучали. Глеб открыл. На пороге стоял тихий алкаш Гурьянов с листом бумаги и ручкой.
- Глеб, мы тут решили скинуться... я со своей работы могу грузовик подогнать. За бабки мужики сами все выгребут и сами увезут.
Глеб, не очень понимая, взял листок из рук Гурьянова.
" Деньги на грузовик для вывоза мусора из оврага.
Гаджиев Х. - 500
Хвостова А.А. - 500
Гурьянова Л.Н. - 500
Крестовская М.М. - 500"
- Это ты сам придумал? - удивился Глеб.
- Не, это Крестовская, ну, Машка твоя. Она пришла вчера вечером. Мол, Саня, я видела, что у тебя на стройке грузовик есть. Она хотела сама все деньги дать, а мать сказала - пусть улица скидывается... И Хвостиха дала, не выступала...
Глеб уже не слушал. Шел за деньгами, а сам повторял шепотом - Машка твоя. Машка твоя. Значит, на самом деле чуть-чуть моя, если всем так кажется!
Он проводил соседа и побежал к Машеньке.
У Машеньки во дворе дымился гриль, пахло мясом и вином, и молодой мужчина в белой футболке играл в мяч с Артемкой. Машенька вышла на крыльцо с большим блюдом в руках и крикнула:
- Слава, ты бы музыку включил!
Она увидела Глеба, остановившегося в калитке. Покраснела страшно, жарко, и сказала, опустив глаза:
- Проходи, Глеб. Знакомься, Слава, это Глеб, внук Анатолия Сергеича. Глеб, этой мой муж Слава. У Славы сегодня день рождения. Будем все вместе праздновать.
Глеб праздновать не остался. Машенька на него глаз не поднимала, так ей было противно собственное моральное падение.
"Тургеневская девушка, куда нам грешным!" - яростно говорил себе Глеб. Но ярость быстро перекатила в тоску. Девушки, которые умеют краснеть - это редкость, антиквариат. Антиквариатом всегда владели богатые.
Грузовик был заказан на субботу, двенадцать дня. До его приезда собрались все: Сергеич, Глеб, Санька Гурьянов, Хвостов, Гаджиев. Хвостова из-за забора подавала советы. Как вытаскивать мусор, как его складывать, чтобы легче было грузить. К двенадцати овраг был очищен, мусор набит в мешки и картонные коробки, которые притащил нерусский сосед с рынка.
Все шутили, смеялись. Хорошая погода, замечательное настроение. Только Машеньки и ее Артемки не было.
Глеб не мог спросить у соседей. Все всё знали, всем было его жалко, всем было за него стыдно.
Приехал грузовик. Весело грузили. Тетя Люба Гурьяниха принесла бутылку самогона, закрашенного кофе, стала наливать мужикам на грузовике и соседям. На закуску Хвостова дала банку огурцов и миску пирожков с капустой.
- Злой у тебя напиток, теть Люб! - сказал один из мужиков на грузовике. У всех выступили испуганные слезы от пятидесятиградусной самогонки.
Нерусский вяло отказывался, потом отошел в тень забора и тоже тяпнул теромоядерного "коньяка".
Мужики смеялись и подбадривали нерусского. Глеб вдруг почувствовал легкость, почти восторг.
"Как странно люди устроены. Сначала извалялись в грязи, испоганили друг другу души, потом пьют и смеются вместе. В чем смысл этого бесконечного перепрыгивания из канавы в рай?"
Грузовик уехал. Соседи еще остались допивать самогонку. Хвостова включила музыку на всю улицу. Глеб побрел домой. Навстречу ему ехал мальчик Гулам на маловатом ему трехколесном велосипеде.
- А где Артемка, Гулам? - спросил Глеб.
- Артемка мама папа Москва поехал! - бодро ответил Гулам.
В овраге теперь пахнет луговым медом. Дикие травы напитывают воздух своей колдовской аурой. Тишина, и в тишине жужжат пчелы, журчит освобожденная Калинка, птицы на лету ловят крупных речных комаров.
Глеб приходил в овраг каждый день. Сидел на берегу речки - как в детстве. Только в детстве он ловил в Калинке плотвичек, а сейчас выгонял из мыслей Машеньку.
Очень просто. Глотаешь красное прямо из бутылки, и боль заменяется блаженством.
Когда я стану как дед, седой и с костылем, приятно будет вспомнить, как любил в юности Машеньку, тургеневскую девушку в мини-юбке, которая читала то Аксенова, то Пастернака, которая была верна своему мужу и его деньгам.
Бутылки Глеб аккуратно уносил домой. Один раз слишком замутило башку - кинул бутылку в радостно блестевшую Калинку.
- Глеб! Ты совсем с ума сошел? - спросили сверху гневно. Он обернулся. На тропинке, ведущей в овраг, стояла Машенька. Конечно, освещенная сзади солнцем, чтобы Глебу было больнее и противнее.
- А я думал, ты насовсем уехала, - пробормотал Глеб. И полез в речку за бутылкой.
Они молча дошли до своих калиток.
- Значит, ты останешься? - спросил Глеб. Хотел тронуть Машеньку за руку. Она осторожно отстранилась.
- Пожалуйста, не пей, - тихо сказала Машенька.
Глеб долго стоял у ее калитки. Ему было все равно, что соседи смотрят, что они всё понимают.
Медынь Калужской области
“Наша улица” №128 (7) июль 2010
|
|
ВЛАДИМИР КУПЧЕНКО ПУТЕШЕСТВИЕ |

Владимир Петрович Купченко родился в 1938 году в Свердловске. Окончил факультет журналистики Уральского университета в 1961 г. Прозаик, исследователь творчества Максимилиана Александровича Волошина, член Союза писателей с 1990 г. Книги: “Остров Коктебель”, “Странствие Максимилиана Волошина”, “Киммерийские этюды” и более трехсот статей и публикаций (Максимилиан Волошин, поэты Серебряного века). Основатель и первый директор Дома-музея М.А. Волошина в Коктебеле (1979-1983 гг.). Как прозаик дебютировал в “Нашей улице” в № 6 за 2000 год. Умер в 2004 году
Владимир Купченко
ПУТЕШЕСТВИЕ
Документальное повествование
о трех инакомыслящих, двинувших, пешком и на
попутках, в 1961 году от Балтийского до Черного
моря, записанное (исключительно для себя) в 1972 г.
... Вперед в просторы морей,
Где не словят нас короли.
Земля - владенье царей -
Мы ушли от владельцев земли!
Там сковали цепи свободе,
Там подачками куплен бог.
Трое нас в море уходит -
И в тюрьме не докличутся трех...
Из “Песни времен порядка”
О.Ч. Суинберна (1852, пер. И. Кашкина)
1. ЗАМЫСЕЛ
20 июля 1961 года в поселке Лебяжье, под Ленинградом, сошли с электрички трое молодых людей. С увесистыми рюкзаками, в ковбойках и кедах, - они вряд ли вызывали сомнения у прохожих: туристы! Но сами они с презрением отвергли бы это имя, - присвоив себе куда более почетное звание “бродяг”. И немудрено: ведь они отправлялись не на воскресный пикник, и не на двухнедельную прогулку: их странствие должно было длиться не более, не менее, как два года...
Самый низкорослый из трех, Леонид Ероховец, выделялся курчавой разбойничьей бородой; самый высокий - автор этих строк - был украшен очками; третьего звали Валерий Савчук, и его отличали правильные, почти девичьи черты лица. Старший, Ероховец, через шесть дней собирался отметить двадцатичетырехлетие; самому младшему, Купченко, месяц назад исполнилось 23. Все трое были выпускниками Уральского университета, - в недрах которого и началась их дружба. Там же зародилась и сама идея Похода...
Теперь ясно, что всё толкало нас к ней. Прежде всего, сказалось то, что университет у нас последовал сразу за школой: к десяти годам классов добавилось еще пять лет аудиторий. Люди сеяли хлеб и рубили уголь; земля кипела садами и дрожала от ледоходов - а мы сидели в замкнутых стенах, питаясь одними книгами, не зная толком ничего о “настоящей” жизни. Факультет журналистики, куда каждый из нас поступал с мыслью научиться писать, быстро разочаровал; присказка про студента, переступающего порог вуза с восторженным: “Храм науки!” и кончающего злым: “К херам науки!” - полностью к нам подходила. Провинциализм и казенщина УрГУ; менторы типа солдафона Курасова, тупицы Багреева, иезуита Архангельского, ханжи Павловского - вселяли всё большую ненависть к себе. Удивления достойно, что ни одна из наших попыток бросить учебу до срока не была доведена до конца...
Мы были детьми 56-го года: камня на камне не оставив от всего того, во что нас так долго учили верить, он, в то же время, толкнул нас к поискам новых истин. Мы стали скептиками; нам требовалось всё перещупать своими руками... Между тем, нас натаскивали для работы в “партийной печати”. На практиках, учебных и производственных, мы вполне оценили, что это такое, - и наше стремление вырваться из-под опеки “взрослых” становилось всё неодолимей.
В это время нас позвала Муза дальних странствий. Рaз зa разом, когда становилось невмоготу, мы забрасывали опостылевшие конспекты и, с краюхой хлеба и парой бутылок сухого, отправлялись в окрестные леса. Под шум сосен Палкиных палаток с нами говорили Ли Бo и Киплинг, Лорка и Элюар; “Но несгибаема ярость моя!..” - кричали мы лесистым берегам Таватуя... Паустовский был нашим богом: “Романтики”, “Блистающие облака”, “Черное море” будоражили нас сильнее вина. Вырвавшаяся в то время из тенет забвения песенка Павла Когана звучала нам гимном - и, варьируя ее, я писал Леньке 15 января 1961:
Надоело говорить и спорить...
Надоело говорить умные и красивые слова. Надоело спорить логично и убедительно. К черту клоповники, куда небо впускают в форточку по два раза в сутки!
И смотреть в усталые глаза...
И смотреть надоело. Смотреть в собственные глаза, которые никак не могут уйти от этой тупой усталости - даже когда смеешься.
В флибустьерском дальнем синем море...
Синем? Да! Синем, как колокольный звон, как голос мечты!
Но где оно - далекое, песенное, вскипающее пьяными белозубыми гребешками? Где: этот ветер, густой, словно рассол, бешеный, как удар ножа?
Бригантина поднимает паруса...
Хрупкая и стремительная, приподнявшаяся на цыпочках мачт, по которым тугими всплесками взметываются и застывают клочья пены.
...Мы пьем за яростных и непокорных!
Мы пьем за самих себя! Бешенством пламенеют наши сердца, и некому встать на пути! Мы - как стрела, спущенная с тетивы!
За презревших грошевой уют!
И другие накладывали лапы на грозные эти слова. Но слетали картонные маски с подведенными бровями - и становилось видно, что эти певцы сидят на мягких диванах и смотрят на жизнь в окошко благополучия”... и так далее.
После такого письма нельзя было снова говорить - надо было действовать. И вот, наступил день, когда ИДЕЯ пришла - пришла ко мне. Не помню теперь, по какому поводу, я представил человека, который ищет свою возлюбленную “по всему свету”. Подумалось: а ведь это не так уж тягостно: по всему-то свету... Пожалуй, на каком-то этапе этакий странник мог свыкнуться с жизнью в пути и не очень-то торопиться ее кончить. И шевельнулось: а что, если?..
Ребята в это время уже окончили учебу (я отстал из-за болезни глаз). Ленька вкалывал слесарем на Каспии, Валерка же обретался в Свердловске, расписывая какой-то клуб. Я помчался к нему, мы обложились картами, справочниками по искусству: полетело письмо Леньке - и подготовка началась. За весенние месяцы каждый отложил по нескольку десятков рублей; была продана Валеркина “Большая энциклопедия” и еще ряд книг - его и моих: куплена палатка, котелок, топорик и прочая экипировка; составлен примерный маршрут - с ориентацией на памятники архитектуры и старины. Двигаться мы решили с севера на юг, “вслед за солнцем”; зимой остановиться на заработки, а весной возобновить поход, направясь уже к северу, “в русские земли”...
В конце мая я, наконец, получил диплом - с распределением в Оренбургскую область. Однако проездных денег не взял (в точности последовав в этом примеру друзей) - и в начале июля мы с Валеркой выехали в Ленинград, где нашли Леньку. Здесь нам довелось встретить первого “взрослого”, который понял наш замысел и одобрил его: “Это будет хоровая аккумуляция”, - сказал он. Он же справился: не заимствовали ли мы свою идею у В. Аксенова (в “Юности” как раз печаталась его повесть “Звездный билет”) - совпадение весьма любопытное.
Через день-другой мы выбрались электричкой за пределы города - и вот, 20 июля, в Лебяжьем, “встали на дорогу”. Сейчас не помню, но думаю, что должны были в этот день провопить строчки Уитмена, с которыми жили последний год:
Пешком, с легким сердцем выхожу
на большую дорогу,
Я здоров и свободен, весь мир предо мною,
Эта длинная бурая тропа ведет меня,
куда я хочу.
Большими глотками я глотаю пространство,
Запад и восток - мои, север и юг - мои...
Земля не утомит никогда,
Сначала неприветлива, молчалива,
непонятна земля,
неприветлива и непонятна Природа,
Но иди, не унывая, вперед, дивные
скрыты там вещи,
Клянусь, не сказать никакими словами,
какая красота
в этих дивных вещах...
Камерадо, я даю тебе руку!..
2. СТРАНА ОЗЕР И БОЛОТ
У Паустовского мы вычитали, что нет надобности делать записи в путешествии: самое важное всё равно запомнится. В результате: несколько страниц в тощей записной книжке, перечень пройденных нами населенных пунктов, да письма к матери, сохраненные ею, - вот все документы, которыми я сейчас располагаю. Запомнил я тоже немало - но оттенки, нюансы, детали исчезли начисто. Ко всему, каждый из нас почти всё увидел по-своему; заметил одно, упустил другое.
Лишь частично сохранились фотографии, сделанные нами тогда. К тому же, мы были весьма скупы на них, задавшись целью фиксировать только самое интересное и делать лишь “художественные” снимки. Это также была моя идея, вызванная, с одной стороны, манией экономии (в данном случае - пленки), а с другой - боязнью бездумного отщелкивания кадров (которые потом годами всё недосуг отпечатать)... Мое особенное пристрастие к памятникам архитектуры и старины (я мечтал тогда о искусствоведении) явилось причиной тому, что среди этих фото так мало портретов.
Зато пейзажей - достаточно. В эти первые дни природа говорила с нами еще невнятно, но особенно пронзительно, кружа и туманя головы. Помню, как мы шли по скрипучим дюнам - и в такт шагам поскрипывал мой новый чешский, на металлической раме рюкзак. Помню, как лазали по башням форта Красная Горка, заросшего дикой малиной. Помню ночлег на берегу Луги - с колдовской мутноватой, над шерстистыми стогами луной, и утром - размытые туманом верхушки елок на противоположном берегу...
А еще - рериховский закат над рекой Великой и стук первых дождевых капель по палатке поутру. И минуты молчания перед затухающим костром: мерцание углей, подвижная мозаика черного и алого. И утреннее купанье на Череменецком озере среди поднимающегося над водой пара. Елки в серебряной пряже; вспышка радуги на паутине. Рыжики среди спавшей, пластами уплотнившейся хвои; коричневые и оранжевые папоротники за деревней Синее Устье, заросшие окопы, пулеметные диски, осколки снарядов вокруг...
В эти дни я по-новому - а, может, и впервые - почувствовал, что это такое - русская (славянская) земля. И записал тогда:
“Летела пушинка, Я дунул. Повело немного, но летит себе, как раньше - плавно вверх. И вот я уже внизу, а сна все уходит куда-то в невидимых потоках, - в такую высоту, что я, как подумал об этом, показался себе невероятно, ничтожно маленьким”...
“Нa природе” мы также старались жить духовной жизнью. Читали друг другу стихи, изучали звездное небо, я штудировал “Modern American stories”. Ленька, захлебывавшийся в то время испанским языком, увлек и нас его мужественной красотой - и, шагая по дороге, мы время от времени вопрошали: “Que hora es” - а, горбясь под заунывным дождем, упрямо твердили: “Hoy hace bien tiempo!” (Сегодня хорошая погода!)
Кругом было очень много воды: ручьи, реки, озера; мы без труда находили место для ночлега и - раз в неделю - для днёвок. Не однажды мы попадали в болота; преодолевая одно, пришлось даже, на случай неожиданного провала, взять в руки по лесине. Одна из деревень была замкнута болотами с трех сторон - и нашему появлению там были сначала удивлены, а затем, узнав, что мы шли босиком, и испуганы: вокруг, мол, много змей...
В этой деревне нас накормили супом и холодной картошкой со шкварками. Вообще, мы быстро научились использовать деревенское радушие и хлебосольство. Заклинание скатерти-самобранки обычно происходило так. Постучав в ворота или оконницу, мы здоровались, давали себя разглядеть и начинали беседу. Выспрашивали, что за деревня (хотя, зачастую, уже знали это из карт), справлялись, сколько километров до следующей... и как туда идти - затем вдруг кто-нибудь проникновенно спрашивал: “А перекусить у вас, хозяюшка, чего-нибудь не найдется?..” Огурцы, картошка и хлеб обычно не замедляли явиться; нередко следовали молоко или простокваша, иногда и сало. Не раз хозяйки первые зазывали “попутных людей” на угощенье - и это при том, что деревни Псковщины были бедней бедного: избы десятками стояли заколоченными, встречали нас одни старики (молодежь разбежалась по городам).
“В поле” мы использовали концентраты, запас которых постоянно возобновляли. Но наш шеф-повар, Валерка, умел разнообразить это меню, устраивая то “луковую похлебку”, то грибной суп. Грибов всюду была пропасть - мы их и варили, и жарили, и - по рецепту Солоухина - ели сырыми (рыжики, прежде всего). Мы собирали лесную ягоду; заваривали чай на листьях и травах: на окраинных огородах добывали то морковь, то турнепс - и не знали горя.
Случались, правда, и неприятности. Из Коcколова, куда мы вошли под проливным дождем и укрылись в пустой темной баньке, нас наутро выдворил какой-то “уполномоченный”: погранзона, нельзя. Утро на берегу Луги принесло мотоцикл с подвыпившим председателем колхоза, нудно требовавшим с нас бумагу на право хождения по белу свету и его владениям, в частности. Близ Сланцев произошла встреча с “ягодником” - таинственно ухмылявшимся, щетинистым типом, направившим нас в противоположную сторону.
Но приятных встреч было куда больше. Одинокий отставник в Устье, неожиданно зазвавший нас на горячую картошку с маслом (этo был первый случай в нашей практике - и мы долго не могли поверить в бескорыстие такого жеста, подозревая нашего благодетеля в самых темных замыслах); шофер Коля в Березицах, потчевавший нас рассказами о недавней суровой службе на Северном флоте; древний дед Иван Терентьевич Петухов - философ из Песковиц; гостеприимнейший Мартын Андреевич Муравьев в Александровке - и еще много-много других, имена и лица которых стерлись из памяти...
Хватало и достопримечательностей: крепость Иван-город и тевтонский замок Нарва против нее; церковь Святой Троицы в Доможирке, на самом берегу Чудского озера; Гдовская крепость 1431 года, над башнями которой тучами висели скворцы; часовня в Боровне с затепленными внутри свечками, почерневшая и крохотная - куда только заглянуть, но не войти...
Все, казалось, шло прекрасно. Но совершенно неожиданно у нас начались жестокие разлады. Мы стали открывать друг в друге множество раздражающих качеств. Меня бесила Валеркина привычка, разувшись на привале, тереть грязные носки; и меня, и его выводили из себя вечные Ленькины шуточки - в ответ на самые серьезные вопросы: сам я вызывал негодование спутников, когда, разомлев от горячего супа, выдавливал влагу из носа рядом с котелком, из которого все мы хлебали...
“Смотри, какое облако: совсем дракон”, - скажет, бывало, Валерка. “Какой там дракон! - негодую я. - В крайнем случае - носорог”... Почти всё мы видели по-своему и упрямо стояли на своем, приходя чуть ли не в бешенство от “слепоты” противника. Терпимости в нас не было ни на грош; особенно жестким и деспотичным оказался я. У Валерки “сели” кеды, он быстро стер ноги, хромал - но культ силы, который я тогда исповедовал, не допускал никакого снисхождения, и я, а за мной и Ленька, безжалостно понукали приятеля - более тонкого и незащищенного душевно.
Случалось, что и он оказывался не на высоте. Переправившись на другой берег Череменецкого озера, мы должны были вернуть лодку на турбазу. Начался нудный торг: кто должен взять это на себя. Мое предложение отправиться вдвоем: легче грести и веселей потом возвращаться берегом... - поддержки не встретило. Обозлившись, я сел на весла и погнал лодку один, - хотя, помнится, и в первый конец греб больше других...
Взаимные обиды копились, нагнаивались: у Валерки уже возникала мысль отделиться от нас - но в Пскове нас “прорвало”. Забравшись в ресторан-поплавок, мы за полудюжиной пива начали выяснять отношения - выговорились, взаимно повинились, умилились... Становившееся опасным напряжение было сброшено... до следующего раза.
3. “СМЕШНЫЕ ВЫ РЕБЯТА...”
Маршрут наш проходил так:
Лебяжье (20 июля) - Черная Лахта - ГорыВалдая - Шепелево - Шепелев маяк - Липово - Устье (24 июля) - Сосновый Бор - Керново - Систапалкино - Райково - Пятчина - Березники - Косколово - Хаболово - Получье - Крякково - река Луга - Извоз - Иван-город - Нарва (30 июля) - Сланцы - Гостицы - Куландинская дорога - Песковицы - Веретье - Орел - Лядины - Доможирка - Каменный конец - Надозерье - Сенковщина - река Черма - Гдов (4 августа) - Чернево - Боровня - Ляды - Игомель - Плюсса - Милютино - тракт Псков-Ленинград - Городец - Александровка - Череменецкое озеро - ЛУГА - Городня - Батецкая - Батецко - НОВГОРОД (11 августа).
В Новгороде я получил неожиданный “удар со стороны”. Из письма матери, полученного в первый же день “до востребования”, я узнал о смерти моего бывшего соученика Юры Костенева. Страстный альпинист, год назад завоевавший первенство области по скалолазанию, он, едва защитив диплом на металлургическом факультете Уральского политехнического, отправился на Кавказ - и погиб. Мы не были друзьями, но сдержанный, с мягким юмором Юрка был мне симпатичен, - да и 10 лет в стенах одного класса, как видно, что-то значили... И вот - его нет. Я вышел из почтамта - в глазах было темно: я впервые почувствовал прикосновение смерти ко мне...
Передать свое ощущение друзьям я не мог - да и не стоило. Перед нами был сам “господин Великий Новгород” - и, сбросив рюкзаки в общежитии пединститута (“Мы журналисты, собираем материал для книги очерков”...), мы принялись бегать по городу. Кремль с его Софийским собором и памятником тысячелетию России; церковь Федора Стратилата; церковь Спаса на Ильине с фресками Феофана Грека (на одной из них было жирно процарапано “Витя”); Антониев монастырь в зеленых куполах с шумными толпами абитуриентов в аллеях; Никола на Липне, куда мы плыли лодкой по протокам, заросшим камышом... Празднество соборов, пир церковной архитектуры...
Из Новгорода я, наконец, сообщил домой о наших планах. Отправляясь в поход, я уверил мать, что это “только на месяц”: положение единственного сына обязывало меня беречь ее нервы. В каждом из писем я рассыпался в восторгах от увиденного, удивлялся своему несокрушимому здоровью (предмет главной заботы домашних), превозносил полную безопасность и благополучие нашего предприятия. И вот, подготовив почву (тянуть дальше было нельзя), написал: “Будем ходить по земле русской. А подойдут к концу деньги - устроимся! на месяц-другой поработать. И - дальше... Надо делать свою жизнь, мама”.
Псков задержал нас еще на 4 дня. Снова - десятки соборов и церквей, монастыри, кладбища - но еще и целая россыпь интересных, увлеченных людей. Первым был директор художественного музея Иван Николаевич Ларионов. В прошлом художник, знавший Бурлюка, Татлина, живописцев “Круга”, он сам бродил в 1919-20 годах по Псковщине, собирая в заброшенных усадьбах экспонаты для своего музея. Он охотно откликнулся на нашу просьбу показать запасники - и мы увидели прекрасные работы Бенуа, Бакста, Бориса Григорьева, Серебряковой, Рериха, Петрова-Водкина, - в то время еще ходивших в “формалистах”.
Покорил нас экскурсовод Кремля Василий Дмитриевич Милецкий. Ероша седеющие патлы, он говорил: “О князе Довмонте вы знаете?.. А он ведь котировался наряду с Невским... Ни одного поражения за всю жизнь! С дружиной в 50 человек перебил 800 немцев... Сила!” Забредя к археологам, разместившимся в подворье Паганкиных палаток, познакомились с кудрявым, вечно посмеивающимся Рафом, - который рекомендовал себя: “Я - фанатик. Третий год в экспедицию езжу, ищу неолит. Уже 23 топора нашел: должны и стоянки быть!” Нам очень близко было его негодование: “Уничтожают церкви: “антирелигиозная пропаганда”! На месте княжеского двора кино “Октябрь” построили. Котлован выбрали экскаватором - сплошной культурный слой!” Наши замыслы он одобрил своеобразно:
“Смешные вы ребята! Веселые мужики!..”
Из Пскова мы сделали бросок на запад - в Печоры и Изборск: монастырь и крепость. В монастыре нам не повезло: пещер мы не увидели. Но строения и дворы осмотрели, и кое с кем поговорили. Я записал цифры: в Союзе - 27 тысяч церквей, 35 тысяч священников, 5 тысяч монастырей. Печорский существует с XV века и - единственный из всех - ни разу за все это время не был закрыт. В Изборске интересным было знакомство с сыном хозяйки, семинаристом Колей, - перед этим отслужившим на флоте. Нас заинтриговал этот плотный парень, наш однолеток, который прошел флотскую муштру, не дав себя оболванить, оставшись при своих мыслях...
В Пскове, где мы еще раз заночевали, со мной случился голодный обморок. Надо сказать, что при обсуждении нашей сметы Ленька предложил норму дневного расхода, которая даже меня, казначея и фанатика экономии, поразила: полтинник на человека. В деревнях, где нас то и дело подкармливали и где мы тратились лишь на хлеб, соль и маргарин, это, правда, удавалось без труда. Но в городах даже то, что хлеб в столовых в тот год лежал на столах, нас не спасало: приходилось сидеть на кашах, гороховом супе без мяса (6-8 копеек) да чае. Копившееся недоедание - при моем росте особенно изводившее меня - сказалось, когда, подходя к раздатке, я вдруг втянул в себя запахи супов, котлет, жареной рыбы - с перспективой все того же гороха и чая... Вываливаясь из очереди влево, я еще слышал звон столкнутых мною со столика стаканов - и затем очнулся на стуле в углу, куда меня перетащили друзья.
Случалось, впрочем, что и в городах мы наедались до отвала. В Новгороде, в столовке на улице Федоровский Ручей, вместо заказанных полусупов, раздатчица выдала нам тарелки, наполненные до краев, а к каждой порции макарон добавила по две котлеты...
Подсевшая на минуту к нашему столику уборщица пояснила причину этой щедрости: “Мы же видим - откуда вы... Что ж, - судьба, знать, такая”...
Мы скромно потуплялись и вздыхали.
В пообтрепавшихся к этому времени штормовках, выгоревших тренировочных штанах и с густой щетиной - мы действительно выглядели достаточно “романтично”. В одной из деревень встречная старушка приняла нас не более, не менее, как... за немцев; другая как-то опасливо спросила: “А вы не десант будете?..” В таком восприятии была, несомненно, доля опасности - но все же наши личности чаще вызывали сочувствие и служили к нашей пользе...
4. “ПО ГАЗАМ!”
Начав свой поход “по образу пешего хождения”, мы начали постепенно пользоваться “попутками” - и все больше входили во вкус. Так, расстояние от Луги до Новгорода в 105 километров мы покрыли в один день; позавтракав в Пскове, к обеду были за 52 километра, в Острове... Время нас подгоняло: кончался август, на носу была осень - а мы все еще толклись на северо-западе. Я писал матери: “Сейчас будем идти пешком только в самих интересных местах. Впереди еще Карпаты и Молдавия, а лето уходит”.
Излишне говорить, что за транспорт мы ничего не платили, тоже быстро выработались свои “приемы”. Голосовали мы всегда на ходу, чтобы не терять времени даром. Когда машина останавливалась, забрасывали рюкзаки в кузов, двое прыгали туда же, а один садился в кабину, на него и ложилась задача: в разговоре расположить шофера к себе, и постепенно - лучше к концу пути - дать понять, что платить нам нечем. Это была ответственная работа, требовавшая немалого нервного напряжения; со временем у нас даже начали возникать споры - кому на сей раз лезть в кабину... В кузове было, конечно, неудобнее, - но зато куда веселее: никаких “душеспасительных разговоров”, видно на все четыре стороны, обдувает ветерок... Держась за кабину, мы впиваем в себя проходящие по сторонам пейзажи или надрываемся в песнях (часто пели есенинское “Грубым дается радость...”, “Клен ты мой опавший...”). Приходилось нам подпрыгивать на скамье и просто на дне, держась за борта, и в фанерной будке, на бревнах и бочках. Но, оказавшись в нужном нам пункте, мы одинаково стремительно скатывались на землю, дружно кричали “Спасибо!” - и незамедлительно удалялись. “Разъяснительная работа” в кабине, как правило, увенчивалась успехом: шоферы добродушно кивали, улыбались, случалось, и давали закурить моим коллегам. За весь поход лишь 2 или 3 раза были явлены признаки недовольства; помню, как один шофер, выскочив на подножку, обиженно закричал нам вслед: “А платить кто будет?!”
С такой же решимостью мы проводили этот “коммунистический” принцип в деревнях. Постепенно у нас в головах сложилась следующая доктрина: мы - правдоискатели, “мученики идеи”, обрекшие себя на лишения и случайности нашего странствия ради будущего служения людям - и посему вправе рассчитывать на некоторое внимание и поддержку общества. И редкие попытки получить с нас плату рассматривались нами как злостные провокации - причем и здесь особенно лютовал я. Со стыдом вспоминаю одного деда, который вынес нам пол-литра молока и, по всему, очень надеялся получить за него сколько-то копеек - или в дополнение к уже копимым на вино, или на табак. Ребята склонялись к тому, чтоб хоть чем-то наделить его, но я счел даже намеки на это оскорблением. Между тем, в нашей кассе в то время (это случилось еще в начале пути) было около трехсот рублей...
Что ж, из песни слова не выкинешь: на всех нас нашло это затмение - почему Ленька и назвал потом все наше путешествие срамным...
Подобный же инцидент произошел на турбазе в Ворониче. Придя туда вечером, часов в девять, мы произвели фурор. Сбежался народ, посыпались возгласы: “Откуда дровишки? - Заходите, встаньте здесь - босиком холодно! - Вот это настоящие туристы! - Покормить надо ребят!” Пришел старший инструктор и, оценив обстановку, коротко приказал: “Идемте со мной”. А когда мы справились с ужином, снова явился и сообщил: “Ваша палатка - 24-я... Но через день, когда мы собрались в дальнейший путь, нам было предложено заплатить за постой. Тогда и началось... В конце концов, мы и тут “не уронили” своих знамен и вырвались без урона - во всяком случае, для кошелька... Свара эта разыгралась, несмотря на то, что пушкинские места нас ошеломили. Свое впечатление я через год выразил в стихах - в общем, малоудачных, но все же передающих это ощущение благоговения:
МИХАЙЛОВСКОЕ
Речушку Сороть переходим вброд.
Нет - глубока... Не плыть же с рюкзаками...
Нo кто-то в сумерках по берегу идет -
и мы кричим и машем враз руками.
Гнилая лодка с гонором ладьи,
доски обломок мерно воду делит...
Так мы вступили в заводи твои,
В твои, Поэт, бессрочные владенья.
1
Денек, как и вчера, отменно сер.
Накрапывает. В сосняке дорога.
Постой... Свой пульс с биеньем века сверь:
ведь эти трое - “племени младого”!
И мы стоим. И напряженно ждем,
что глина отзвук даст глухим копытам -
и вот: “На аргамаке вороном,
Заморской шляпою покрытый...”
2
Дорога - вниз. И в плоских берегах -
то озеро... то самое... Неужто
вот здесь, как на рисунке Кузьмина,
еще взлетают стаи диких уток?
“Вняв пенью”... Черт возьми! О боже...
Сперта грудь.
А листья льнут к скамейке мокроватой...
И легкой рябью тронет сердце грусть,
и никнут полусонно елей лапы.
Здесь дней твоих вилось веретено...
Поля, река - пейзаж куда уж проще.
Но кружат голову, как первое вино,
тенистые Михайловские рощи.
3
Совсем темно. Прощай, священный кров.
Не только сердцем вняли - каждым нервом:
какую смесь дала тропическая кровь
вот с этим блеклым среднерусским небом.
И музыка. И пенье. И полет.
Все то, что вдохновением зовется...
Так пусть до века в жилах кровь поет,
и пусть, пока пою, в лету живется!
Помню еще багряно-алый, клен в парке Петровского, “скамью Онегина” в Тригорском, пушкинскую выставку в бывшем Святогорском монастыре, могилу поэта. А еще: деревянную, без единого гвоздя церковь XVIII века в Курицко (шаткая лестница на колокольню, голубиный помет в шатре); староверческие кладбища с елочками на голубых каменных крестах; бабуся в Ополье, причитавшая вокруг нас: “Сыночки вы дорогие! притомились! Уж если негде будет - то давайте ко мне, поместимся!”
Маршрут наш от Новгорода шел так:
Юрьево - Курицко - Старый Медведь - Радошка - Звад - ПСКОВ (19 августа) - Снятная гора - Печоры - Изборск - Псков - ОСТРОВ - река Великая (25 августа) - Брюшки - Рублево - Синее устье - Казаны - Воронич (28 августа) - Михайловское - Луговка - Пушкинские горы - Ополье - озеро Велье - Ильинское - Платишино - Красногородское - Карсава - хутор - Резекне (Режица) - Малта - ДАУГАВПИЛС - Укмерге - Янушкай.
Началась Прибалтика.
5. ЛИТВА
Латвию мы проскочили, 175 километров от Карсавы до Даугавпилса покрыв за один день. Зато в Литве задержались.
Первой остановкой здесь был Каунас - город, в котором царил Чюрленис. О нем тогда уже написал Паустовский, репродукции мы видели в старых “Аполлонах”, - но художник еще не приобрел той известности, что сейчас: в музее было почти пусто. Мы кружили по залам с приглушенным мягким светом, вглядываясь и вслушиваясь в неяркие, какие-то матовые полотна; сидели в фондах; жадно внимали словам Валерии Константиновны Чюрлёните. Она говорила:
- ...Не любил объяснять своих картин. Когда приходят дети, они больше понимают... интеллигенты хотят подогнать под какую-то школу - а для него еще нет названия. “Меня поймут все, кто чист душой, кто не схвачен культурой “... Он не хотел дать никакой школы. Первая мысль: то, что я вижу - и надо это передать другим. Надо быть настолько творцом, чтобы не искажать себя. Это очень далекий путь: все знать и быть самим собой. Все знать, - чтобы ничего не знать и все отбросить, - это очень большая сила. “Я люблю все, что очень трудно”... Ромен Роллан писал о нем: “Это единственный художник, который музыкальную суть передает зрительно”...
Сестру художника мы, помнится, встретили во второй приход в музей, вдвоем с Ленькой: Валерка, совсем затюканный нами, пошел в зоопарк. Слушая потом его рассказ о зверях, я чувствовал определенную ревность: он видел что-то такое, чего я не видел! Даже в соборе, куда мы зашли во время службы, в нас продолжала жить глухая неприязнь друг к другу. Но в то же время ребята сделали мне глубоко тронувший меня подарок: разрешили купить альбом цветных репродукций Чюрлениса, который только что вышел...
В фондах краеведческого музея мы увидели на стеллажах высохшие стручками тела, невесомые Иисусы на коленях Богоматерей, ореолы из мечей вокруг красных сердец... Заинтересовавшись работами художника Шимониса, мы отправились к нему домой: побеседовали, увидели еще ряд картин - и получили адрес владельца еще одной, очень нам понравившейся вещи - “Лауме” (Русалка). Это был архитектор Жемкальнис, недавно вернувшийся из Австралии, где жил много лет: его рассказы также были полны для нас глубокого интереса.
В Тракае (в переводе - “просеки”) мы впервые увидели настоящий рыцарский замок - в ту пору еще едва тронутый реставрацией. Но, пожалуй, еще интереснее было знакомство с семьей караимов, - о которых до этого мы вообще ничего не знали. Восхитили нас караимские пирожки, “кыбэны”; уморителен был хозяйский сын Рома, в два года говоривший на четырех языках сразу; запомнилось посещение караимского молельного дома, кенасы. Ко всему, зять хозяина Семен Юхневич, устроил для нас прогулку на яхте по Тракайским озерам - и пригласил к себе в Лентварис, где жил постоянно.
В этом уютном местечке мы осмотрели старинное барское поместье (не помню уж, чье), а затем последовала экскурсия на завод “Кайтра”, изготовлявший эмалированные ванны: адское пекло, где я чуть не угодил под внезапно вынырнувший откуда-то сбоку, докрасна раскаленный полуфабрикат... Под самым Вильнюсом, в Людвиново, нас по-царски принял Фраим Алторович Лившиц, сад которого ломился от яблок.
Вильнюс начался с поездки по городу в “Москвиче” главного архитектора, адрес которого нам дал Жемкальнис. Башня Гедемина... монастыри, костелы, - среди последних выделялся изяществом и грацией костел святой Анны (мы помнили приведенное Паустовским пожелание Наполеона на руках перенести его в Париж). Увлекательны были разговоры с аспирантом из Познани, приехавшим делать диссертацию о литовском языке (в общежитии университета нас поселили вместе). Знакомство с сотрудником художественного музея Петром Антоновичем Иоделиссом открыло перед нами мир образов Винцаса Кисараускаса (мы пересняли “классические” циклы его гравюр: Дон-Кихот, Гамлет, Данте, Эдип, Дафнис и Хлоя, Одиссей). В консерватории мы прослушали записи симфонии Чюрлёниса. А визит к сестрам Чюрлёните (Валерия Константиновна как раз приехала в гости к Ядвиге Каружене) закончился лукулловым пиром (только что без вина) и преподнесением каждому из нас по альбому репродукций!
Понятен тот энтузиазм, с которым я писал матери: “Прибалтика - это вещь. Я eщe вернусь в эти края когда-нибудь”...
6. БЕЛОРУССИЯ
Маршрут наш все вырастал:
КАУНАС (4 сентября) - Пажайслис - Вевио - озеро Гальве - Тракай, - Лентварис - Людвиново - Вокате - ВИЛЬНЮС (12 сентября) - Лида - река Неман - Бяразоука - Новогрудок (20 сентября) - Селец - Мир - Столбцы - Чурилы - МИНСK (22 сентября).
Родина моих отцов, Белоруссия, началась с Лиды, - в которой я запомнил лишь какие-то развалины, затем Новогрудок - родина Мицкевича: воспоминание о “Гражине”, скромный музейчик... Мир - огромный замок, упомянутый во “Всеобщей истории искусств”. И в Мире нам пришла в головы шальная идея, возникновение которой связано с Юркой Высоцким, еще одним нашим сокурсником. Мы загодя списались с ним - и он решил присоединиться к нам (что не произошло тогда, по болезни Юры). Встреча должна была состояться 30 сентября в Лунинце: до места было уже рукой подать, а до срока оставалось несколько дней. И вот мы прикинули: а что, если сгонять до этого в Минск? Вышли на дорогу и “рванули” на столицу республики, - где нас ожидало самое, пожалуй, занятное за весь поход приключение...
Мы летели в кузове трехтонки по широченному шоссе Брест-Минск - столбовой дороге из Польши в Россию. Неожиданно нас привлекло необычное зрелище: по обочине двигалась колонна людей, поразительно похожих на нас. Штормовки, кеды; брюки у девушек, бороды у парней... Сомнений не было: мы нагнали “Марш мира”, о котором случайно недавно слышали в какой-то столовке в Столбцах или Чурилах. Решение было принято мгновенно: мы заколотили по крыше кабины, выскочили из кузова и сели поджидать шествие. Поговорить с живыми американцами, попрактиковаться в английском - разве такое часто выпадает?.. Встреча была шумной: возгласы, рукопожатия; защелкали затворы фотоаппаратов, застрекотала кинокамера... Нам подарили значки: земные полушария, прочерченные пунктиром маршрута, начинавшегося от Сан-Франциско; наделили листовками с обращением молодых пацифистов к правительствам и народам всего мира. Двигалось не менее пятидесяти человек (немалую часть которых составляли, правда, рослые молодцы с планкой “переводчик” на груди); время от времени бренчали гитары, начинались песни... Однако пройти вместе нам пришлось немного: километров за семь от города гостей поджидали автобусы (очевидно, сопровождавшие их всю дорогу) и увезли вперед. Мы продолжали топать пешком, лелея полученное на прощанье приглашение быть вечером на встрече в Доме дружбы.
Закинув, как обычно, рюкзаки в студенческое общежитие, мы отправились по городу. Широченные проспекты, пышные здания в колоннах и лепке... - и вдруг у одного из них нас окликают. Оказалось, мы проходили гостиницу “Интуриста” - и кто-то из наших новых знакомых нас заметил. Тотчас мы были проведены мимо важных швейцаров в холл, усажены перед корзинами с кефиром и булками, накормлены и снабжены провизией впрок.
Наконец, наступил вечер.
Зал Дома дружбы был невелик: человек на триста - и мы скоро поняли, кого здесь собрали. Ветераны войны, ударники коммунистического труда, знатные ткачихи и, конечно, тьма “переводчиков”. Мы сидели в ряду шестом и уже скоро начали ерзать и подпрыгивать от злости. Происходило вот что.
Поднимается на трибуну невысокий парнишка из Штатов и через переводчика (а то и по-русски) рассказывает о той борьбе, которую он лично ведет против войны и об опыте, который из нее вынес. “Я разговаривал с одним рабочим с военных заводов, - рассказывает он. - Там делают подводные лодки “Наутилус” - и я спросил его:
“Как ты можешь работать на войну, делать оружие уничтожения?” “Но ведь мы должны думать об обороне, - отвечает тот. - Иначе Советский Союз нас съест”... А потом, в поездке по вашей стране, - продолжал оратор, - я беседовал с вашими рабочими, которые мне тоже говорили; “Мы должны крепить оборону; империалисты США только и ждут момента нас проглотить”...
И он заключает: “Народы скованы страхом. Гонка вооружений все растет. Это заколдованный круг - и прорвать его можно, если одно из великих государств найдет в себе мужество подать пример остальным, начав одностороннее разоружение”...
Он цитирует Ганди, Льва Толстого; у него спокойные думающие глаза и негромкий, но взволнованный голос. В его сдержанности чувствуется сила борца: за антивоенную пропаганду он сам отсидел в своих Штатах восемь месяцев...
И вот, в ответ поднимается на трибуну наш, увешанный медалями ветеран. Он начинает рассказывать о войне, о бомбах и крови; “Я шагал по трупам!” - выкрикивает он, все больше распаляя себя. И уже призывает: “Не забудем, не простим!”, - уже он готов запеть “Если завтра война”... Словно ничего не говорилось о мире и взаимопонимании, словно это не конец 61 года с его атмосферой сосуществования - а разгар холодной войны!
Так шло раз за разом.
Я остервенился вконец и решил, как угодно, но добраться до этих симпатичных ребят и заверить их, что не все в нашей стране такие дубы, что мы их понимаем, ценим их порыв... и чего я бы еще там не наговорил...
Наконец, торжественная часть закончилась. Гостям начали раздавать цветные глянцевые буклеты “MINSK” и... нам в том числе. Мы переглянулись... “А чего там!” - прочел я на лицах друзей. “Возьмем!” Парни вышли в фойе покурить; я встал рядом с переводчиком, ожидая, когда он кончит отвечать обступившим его пиджакам и освободится. Вдруг в спину мне уперлось что-то твердое и незнакомый голос тихо, но внятно произнес: “Ваши друзья вас вызывают”... Уже соображая - в чем дело, я оглянулся: по бокам, вплотную ко мне стояли два субъекта в черных костюмах...
Нас вывели на улицу. Кроме официального эскорта в штатском, нас некоторое время сопровождали группы возбужденных юнцов, громко сообщавших друг другу: “Вот они, сволочи! - За иностранцев себя выдавали! - Валютчики... Фарцовщики... На заграничное тряпье польстились...”
“Общественное мнение” готовилось на ходу.
В отделении милиции нам были, однако, предъявлены другие обвинения: мы, мол, распространяли пацифистские листовки (и “листовки”, и “пацифисты” звучало здесь обвинением). Присутствовавшие на допросе дружинники с торсами минотавров подогревали атмосферу репликами: “Морды им набить!” “Чего с ними цацкаться, товарищ капитан!” и т. д. Вызывали нас по одному, и в ход сразу были пущены штучки, типа: “А вот ваш товарищ нам рассказал”... Из общежития доставили наши рюкзаки, и нам было предложено показать их содержимое. По незнанию (без ордера обыск незаконен) и из гордости: “Скрывать мне нечего!” - я вытащил свое тряпье; ребята, видимо, сделали то же...
Ночь мы провели на подшивках милицейских газет - а утром нас неожиданно отпустили погулять: “Последить за нами”, - сообразили мы. Мы пошли в музей - по пути еще раз, последний, увидев участников Марша: они двигались к площади на какой-то митинг. Мы постарались стушеваться, но один из парней в хвосте колонны заметил нас, радостно подбежав, сунул каждому по значку и пустился догонять своих... (Впоследствии из газет мы узнали, что Марш мира дошел до Москвы и был принят Н. Хрущевым.)
Нас доставили в КПЗ: одноэтажный деревянный дом где-то на окраине. В мужской “палате” стояло с десяток коек, половина из них была занята. Была еще приемная и - по звукам - “палата” женская. B первый же день нас сфотографировали - в фас и профиль, но пальцев - к нашему разочарованию - не “катали”. Мы были поставлены в известность, что запрос о нас отправлен в Свердловск, а пока к нам каждый день наведывались то один, то другой милицейский - все майоры да подполковники - и надо было снова и снова писать длинные объяснительные и рассказывать: зачем это мы ходим по земле. Кормили нас дважды в день: в 11 часов (каша и чай) и в пять (суп и каша). Мы все время были голодны, но про себя радовались, что нас хотя бы не посылают, как других, убирать двор и чистить уборную.
Среди заключенных оказались весьма интересные люди.
Непрерывно ходил по комнате Рафик Бакиров - шестнадцатилетний вор, с мягкой улыбкой и наивными глазами. “В лагере у меня была красная полоса на халате, - рассказывал он, - значит: склонен к побегу... В карты я всех обыгрывал, честно!.. А до водки я не жадный, бутылку мне не выпить... Болельщик я страшный, ни одного матча здесь не пропускал... Девок я никогда не обижал... У меня еще брат младший, Равилька. Мать на наших глазах умерла... А вы видели: клоун есть такой, Карандаш? Так у него волосы не настоящие, сам видел!”
Больше отвечал нашим представлениям об уголовнике Василий - поджарый, жилистый, с косым взглядом и резкими движениями. “Раз - и рикша! - бросал он, выразительно черкнув ребром ладони по горлу. - Клянусь свободой!” Но его рассказ о приютившей его деревенской женщине, жене товарища по лагерю был глубоко трогателен и человечен. “Сейчас хорошо сидеть, - сообщил он нам: - хлеба на столах навалом, ешь - не хочу”...
Скрестив ноги в кальсонах по-турецки, сидел, покачиваясь, на кровати отставной майор с явным тихим помешательством. Всюду он видел несправедливость - и сразу же начинал бурно протестовать (за что и попал в распределитель), а затем погружался в еще большую депрессию. То и дело он вспоминал о войне, о том, как там, в землянках, мечтал с товарищами “об агрогородах” (мы даже не слышали о таком). К нему наведывалась старушка-мать, которую он, по всему, обожал.
Был среди нас и философ: сорокалетний Володя Яхневич, попавший за пьяную драку на вокзале, когда он уезжал куда-то по вербовке. Этого невысокого, болезненного на вид человека, мастера на все руки, умевшего построить дом от фундамента до крыши, постоянно точили невеселые мысли. “А что такое жизнь? - спрашивал он. - Почему никто не ответит? Неужели наука так отбивает простоту?.. И почему все люди большой жизни, большого ума всегда кончали самоубийством?.. Мы что - комарики, мошки... А вот мне интересно...”
“А свобода? - продолжал он. - Там говорят: свобода, и здесь - свобода. Где же свобода?” И, махнув рукой, подводил: “Всем нам дорога через Казахстан”... Он работал с геологами, бродил по тайге, тундре; красота земли тревожила его сердце. “Идешь 10 километров - одна береза. Потом - сосна. А цветы! - самые разные”... Он неплохо знал Библию, некоторые его идеи нас поражали. “Может, изгнание Адама и Евы из рая на землю - это с другой планеты?.. Там еще есть - “сыны неба”... А потоп - это, может, таяние ледников?..”
Порой эти разговоры прерывались криками и шумом: привозили новых постояльцев. На непокорных надевали смирительную рубашку, связывая, как нам объяснил Рафик, рукава с подолом - так, что человека выгибало дугой. Судя по диким воплям, иногда долетавшим из приемной, это, действительно, не доставляло удовольствия...
Через шесть дней пришел, наконец, ответ из Свердловска. Никаких извинений, разумеется, не последовало - более того, нам было предложено в 24 часа покинуть Минск. Мы и сами этого жаждали.
Милицейский проводил нас на вокзал, мы взяли билет на Сарны (там у Валерки жила тетка) - и через день, миновав Столбцы и Барановичи, были уже на Украине.
7. ВДОЛЬ ГРАНИЦЫ
В Сарнах (по-польски “козы”) мы хорошо отдохнули. Я и Валерка оставили там свои бороды, - дав явную слабину: на второй или на третий день нам сообщили о намерении городских дружинников нас побрить. Дружинники уже сидели у нас в печенках - да и вечные шуточки по поводу бород, тогда бывших еще в диковинку, нам надоели. Ко всему, впереди были пограничные районы - а мы отнюдь не жаждали привлекать к себе внимание... Но Ленька выдержал характер.
Выходили мы из города в густой туман. У дорог, как и в Белоруссии, часто стояли высокие деревянные кресты - обычно с полотняным передничком, иногда с лесенкой у столба. (Нам рассказывали, что всех их поставили в одну ночь, - чтоб кончилась война.) В Дубно наше внимание привлек громоздкий мрачный монастырь, - напомнивший о “Тарасе Бульбе”. Затем нам подвернулся огромный “плечевой” рефрижератор - и одним броском, поставив рекорд дневного автопробега (300 километров), мы добрались до Львова. Шоферы-рейсовики (того и другого звали Викторами) не только не заикнулись о плате, но дали свои адреса и приглашали в гости...
Львов остановил нас на пять дней. Царственная архитектура, величавые парки и, по заведенному порядку, - картинная галерея, исторический музей, соборы... Здесь мы вдруг разгулялись, жестоко нарушив все нормы экономии. Завтракали белым хлебом и сидром, пили пиво - и однажды даже посягнули на ресторан (разумеется, третьеразрядный, куда нас только и могли пустить в наших штормовках). Очевидно, нас разбаловали званые обеды и трехдневное “отъедание” в Сарнах - а, может, сказалось ощущение, что маршрут наш перевалил вдруг во вторую свою половину.
По-видимому, мы таки побаивались встречи с пограничными районами: во Львове мы сделали попытку выправить себе какие-нибудь туристические бумаги. Однако директор турбазы, разговаривавший с нами, стоя в коридоре (“Ну, что у вас? Давайте”...), заявил, что надо было оформляться “в пункте отправления”. В редакции молодежной газеты нас встретили с распростертыми объятиями; секретарь, Борис Татаренко даже предложил: “Ежели, паче чаяния, возникнет желание поработать в газате”... Он сам пошел к заместителю редактора испросить для нас бумагу, которая как-то легализовала бы наш поход - объявив нас, положим, своими корреспондентами. Но сей муж, слышавший все наши разговоры из недр своего кабинета через открытую дверь, соизволил нам отказать. (В 1964-м я познакомился с ним в Коктебеле, он вспоминал: “На чёрта вы мне были нужны?..”)
Однако в редакции мы хотя бы рассеяли наши опасения насчет стражей границы: Борис пояснил, что если у нас паспорта не поддельные, нам нечего волноваться. Другое дело - милиция: “Она белых ворон не любит: ей надо, чтоб вы сидели на месте и работали...” Наконец, редакционный художник в две минуты изготовил нам круглые блямбы из плотной бумаги с надписью “Ленинград - Одесса”, которые мы тут же пришили - под слоем целлофана - на рукава штормовок, надолго избавившись от приставаний “куда?” и “откуда?”.
Маршрут наш по Львовщине шел так:
САРНЫ (29 сентября) - Костополь - Александрия - РОВНО - Дубно - Броды - ЛЬВОВ (6 октября) - Ставчаны - Рудки - Сам6op(10 октября) - Ваневичи - Старый Самбор - Бусовиско - Лужок - Стрелки - Млыны - Лопушанка - Ясиница - Розлуч - Яворы - ТУРКА - Бориня -Яворив (14 октября) - Ужок.
По этим местам мы снова шли, в основном, пешком - и, так как дорога везде была асфальтирована, то, по преимуществу, босиком. Таким образом, мы вышли из Самбора и, отшлепав километра полтора, вдруг вдали, в дымке, различили линию гор... Карпаты!
И пейзаж, и люди, и погода - все стремительно менялось. Уже чувствовалось приближение осени: в листве все больше было желтых пятен, на некоторых переходах нас засыпали опадавшие листья, под ногами шуршали уже опавшие. Начали перепадать дожди; 13 октября, проснувшись, мы увидели вокруг палатки иней. Обычной нашей едой стали яблоки; то и дело попадалась “квасная” (минеральная) вода. В каждом селе были церкви - и не памятники, а действующие.
Мы шли по бывшим польским землям - и особенно почувствовали это на одном хуторе за Розлучем. Хозяин, Стась Людвикович Доминиковский пригласил нас: “Заходьте в хату!” На полстены развернулась репродукция “Вечери” Леонардо, игравшая, очевидно, роль иконы (обычных икон тоже хватало). Пока мы ели холодную картошку и кислое молоко, жена хозяина, Катерина, рассказывала, как ездила на заработки - в Берлин, Париж... “Тогда можно было куда угодно ехать”... На стене висели австрийские часы (“До першей войны мы були Австро-Венгрия”). Недослышав, хозяева говорили: “Прошу?”; одобряя, кивали головами: “Файно, файно...”
В Турке мы встретили земляка: механик маслозавода Петр живал в Североуральске. Он повел нас в чайную, потом домой. Пили водку, наливку, пиво, ели масло и помидоры. Дома в этих местах были не беленные, а крашенные: красным, коричневым и белым или синим. Наряду с соломенными и щепяными кровлями, все чаще встречались черепичные. Всюду торчали журавли; вдоль дорог часовни чередовались с высокими распятиями.
Ужокский перевал (889 метров) мы пересекли 15 октября. Шлепали вниз по мокрому асфальту, дивились на дымившиеся золотом и чернью горы. Видели пограничников в будках, в одном месте - даже распаханную контрольную полосу за колючкой. В Волосянке были на службе в деревянной, многокрышей церкви - тесноватой внутри, забитой (по случаю воскресенья) бабами в красных платках, ярких цветных свитках, черных с орнаментом передниках. За речкой Ублянкой нас подобрал шофер, с которым мы уже ехали до Самбора - и вечером 16 октября мы прибыли в Ужгород - столицу Закарпатья.
8. ЗЕМНОЙ РАЙ
Приютило нас университетское общежитие. В первый день мы сходили и баню (редкостное событие в нашем странствии), отведали местного сухого вина (40 копеек кружка) - и за этим занятием познакомились с Дьюлой. Этот невысокий мадьяр пылал ненавистью к “советам” - и у нас нашлось, о чем поговорить. Через полчаса он нас убеждал: “Ребята, только захотите: через неделю будете в ФРГ!” Переход границы, по его словам, был крайне прост для большинства местных жителей, имеющих на той стороне родичей. Все мы были под хорошим градусом (помню, как наш новый знакомый рвал трех- и пятирублевые бумажки - тут же, впрочем, засовывая их обратно в карман) - и договорились встретиться для окончательного разговора завтра...
Но “завтра” у нас произошла встреча с куда более интересным - и “звериного патриотизма” - человеком. Валерий Лялин, патологоанатом, аспирант медицинского факультета, был не так уж на много старше нас: “в возрасте Иисуса Христа”. Но он еще мальчишкой бродил по Кавказу, Поволжью - по местам, откуда едва-едва ушла война. И добродился: наткнулся на мину, оторвавшую ему одну ногу. Жена его с двумя дочерьми; жила в Керчи, и, как мы скоро поняли, у Валерия не все с ней было ладно. Его по-прежнему тянуло бродяжить: уже врачом он поработал в Грузии, потом в карпатском селе (где у него была возлюбленная-венгерка); город его тяготил. “Я в эту аспирантуру пошел только из-за детей”, - сказал он. Чемоданов он не терпел: “Судьба потаскала меня по дорогам! Все свои шмутки в пальто вожу: перевязал веревкой - и пошел”. Самой громоздкой из его вещей была пишущая машинка: “Пишу рассказы, - признался он. - Медицина - моя законная жена, как говорил Чехов, а литература - любовница”... “Одно время я увлекался философией - и сделал переоценку ценностей. Библия - вот книга мудрости”. Материальные блага его не интересовали, бедность была обычным состоянием. “Я всегда утешал себя тем, что Рим погиб от роскоши!” - шутил он.
Общежитие уже затихло - а мы все говорили и говорили. Внезапно, взглянув на часы, Валерий фыркнул: “12! Сейчас, сволочи, погасят свет. А утром звонить будут”...
На другой день мы побывали в ботаническом саду; осмотрели картинную галерею, разместившуюся в старинном замке. Посмотрели какой-то фильм о войне (время от времени мы прибегали к этому развлечению, посмотрев за время похода “Письмо незнакомки”, “Алые паруса”, “Америка глазами француза”, “12 разгневанных мужчин”, “Дон Сезар де Базан”, “ПecБарбос и необычайный кросс”).
19-го отметили день рождения Савчука, пили вино, снова выясняли отношения. А затем, набрав у Лялина закарпатских адресов, двинулись дальше. (В первом письме к нам Валерий писал: “Милые, бородатые, с человеческими лицами... После вашего ухода я пришел в пустую комнату и познал тоску”...)
Вот наш маршрут по этим счастливым землям:
Средне - МУКАЧЕВО (21 октября) - Гать - Ивановка - Косина - Берегово - Мужиево (21 октября) - Доброселье - Квасово - Вылок (30 октября) - Виноградов - ХУСТ.
В Мукачево мы остановились на уже опустевшей турбазе: запомнились в этом уютном городке разлив красных черепичных крыш, протестантская церковь с петухом, замок Паланок. В Гати ночевали на скотном дворе, засыпая под дыхание коров. В Косине, куда у нас был адрес от Лялина, оказалась “зона”: нас засекли “друзья пограничников” и начальник заставы, майор Ченцов, после часового разговора лично отвез нас на газике в Берегово - подальше от границы. Наша мечта поработать на уборке винограда сорвалась - но, впрочем, ненадолго.
24 октября мы пришли в Мужиево - и вот здесь-то почувствовали вполне, что такое закарпатская земля. Приютил нас бригадир виноградарской бригады Адальберт Карлович Ричей. Полтора дня провели мы под его кровом - и все это время катались сырами в масле. На столе красовался литровый графин с мутноватым молодым вином - и, едва мы его опорожнили, он, как по волшебству, наполнялся снова. На табуретах и на полу стояли ящики - с яблоками, грецкими орехами, виноградом: угощайтесь! Обед, который устроила нам жена хозяина Роза, включал суп, галушки, голубцы, печенье, молоко - и после него мы удрали в горы, чтоб немного отдохнуть от еды. Но и там были грецкие орехи, сливы - впервые за все время мы по-настоящему, всерьез объелись...
С нами увязался шустрый, лукавоглазый сынишка хозяев, Эчи; три их маленькие дочки - Катя, Эржика и Эвика - также дарили нас своим вниманием. Помню берущую за сердце песню, которую пела по-чешски Рожика-нени: перевод ее и записал:
Кладбище, кладбище, ограда зелена,
Тебе отдаем самые дорогие наши семена.
Бросаем, бросаем - а всходов все нет,
Видно, глубоко грабари зарыли их...
Посажу на могиле зеленый клен,
Чтоб драгая моя мати проснулась в нем.
Листья зеленые далеко по ветру летят -
А моей драгой мати из-под земли не встать...
В сумерки появился Адальберт-бачи (“дядюшка”): в сером пиджаке, в мягкой фетровой шляпе, надвинутой на лоб, он с трудом передвигался между двух своих рабочих, бережно ведших его под руки. Пьян он был в дым (и так, по-видимому, ежевечерне) - но достоинства не терял ни на йоту, и так, с достоинством, и улегся поперек кровати - в то время как жена благоговейно стаскивала с него башмаки, а дети несли на вешалку свалившуюся шляпу...
Нам всем надолго согрела сердца душевная теплота этих простых людей, уют их незатейливого бытия. Уходили мы с набитыми карманами и банкой сливового джема в рюкзаке (“Дайте адрес: я вам к Новому году сделаю посылку”, - просила Рожика-нени). И как мы вспоминали это радушие уже на следующем ночлеге, в детдоме, директор которого, высокий дородный мужчина, пригласил нас вечером к себе домой “на пару консультаций”. Высказанное в предварительном разговоре недоумение: “Как же можно так питаться - чем придется, без горячего?” - навело нас на мысли о том, что “консультации” будут съедобны. Увы! Директор, наш “коллега”, 16 лет, по его словам, “отдавший журналистике”, ограничился рассказом о ближних достопримечательностях и собственных жизненных успехах (подтверждением их сновал вокруг нас мышастый дог Джоли, а рядом с “паном директором” восседала нарядная красавица-жена)...
Но в следующем селе, Доброселье (где мы пробыли 4 дня), пиршество продолжалось. В конторе совхоза одна из комнат пустовала - и мы расположились в ней прямо на полу, на выданных нам соломенных тюфяках. Два дня мы работали на уборке, питаясь виноградом, помидорами и хлебом. Бабы угощали нас салом, научив растапливать его на костре и “мастить” помидоры. Бригадир объяснял: “Раньше все это был мой собственный виноградник, я каждый кустик кохал... С 32 соток получал 45 центнеров, сейчас получаем 15... У нас здесь 180 сортов было - сейчас половины нет”... (Мы попробовали: рислинг, траминер, фурминт, брокадер, жемчужину Сабо, изабеллу, Отелло, делавера, Мюллер-Торгау, кара-зайбер). В давильне пили виноградный сок прямо из-под пресса; когда удивились, что по винограду топчутся в грязных резиновых сапогах, нам объяснили: “Начнет бродить - всю грязь наверх выгонит”.
Вечером учетчик Шони Миклоши повел нас в винподвал. По пути он хвастал: “Я с одного огорода 20 тысяч в год имею, дома у меня - как у председателя обкома, у него так нет”... Подвал, выбитый в известняках пленными итальянцами (это в какую же войну?) нависал своими сводами над огромными бутами и рядами бочек поменьше. Мы сидели на камнях, на корточках у стен - и винодел, насосав двухлитровый графин молодого вина, пустил по кругу единственный стакан, - начав, как с гостей, с нас. После того, как стакан пришел ко мне в восьмой раз, я отключился - и пришел в себя уже на пожарной машине, на которой Шони подвез нас к конторе, - затем снова провалившись в сон.
Читать полностью:
|
|
ДРАМАТИЧЕСКОЕ СОПРАНО ЛАРИСА КОСАРЕВА |
| лариса косарева |
|
певица лариса косарева |
|
певица лариса косарева |
|
певица лариса косарева |
|
певица лариса косарева |
Неотразимая Лариса Косарева, чарующий голос которой проник мне в душу и ранил сердце. Она не просто прекрасная певица, драматическое сопрано которой выверено красотой тембра и великолепной дикцией, когда каждое слово волнует кровь, она замечательная естественная актриса, жест и мимика которой точны и грациозны.
Юрий КУВАЛДИН
|
|
ЯРКАЯ ВЫСТАВКА ЛИДЕРА ТРЕТЬЕГО РУССКОГО АВАНГАРДА ХУДОЖНИКА АЛЕКСАНДРА ТРИФОНОВА (2009 - ГАЛЕРЕЯ НА СОЛЯНКЕ) |
| ВЫСТАВКА АЛЕКСАНДРА ТРИФОНОВА "КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ" "В ГАЛЕРЕЕ НА СОЛЯНКЕ" 24 июня 2009 года |
|
Александр Трифонов. 24 июня 2009 года. "Галерея на Солянке". Вернисаж персональной выставки "Краеугольный камень". |
|
Анна Ильницкая, Александр Трифонов, Нина Краснова |
|
Александр Трифонов |
|
Анатолий Шамардин |
|
Александр Трифонов |
|
Анаталий Кузнецов и Анатолий Шамардин |
|
Нина Краснова и Анатолий Шамардин |
|
Ваграм Кеворков и Нина Краснова |
|
Александр Трифонов, Нина Краснова, Сергей Филатов |
|
Александр Трифонов, Нина Краснова, Сергей Филатов |
|
Сергей Филатов и Нина Краснова |
|
Виктор Широков, Геннадий Калашников, Анатолий Шамардин, Андрей Яхонтов, Нина Краснова |
|
Валерий Валюс и Нина Краснова |
|
Нина Краснова |
|
Нина Краснова |
|
Анатолий Шамардин |
|
Нина Краснова |
|
Анатолий Шамардин |
|
Юрий Кувалдин и Светлана Богданова |
|
Светлана Богданова, Анна Ильницкая и Александр Трифонов |
|
Анна Ильницкая и Александр Трифонов |
|
Анна Ильницкая и Александр Трифонов |
|
Юрий Кувалдин и Светлана Богданова |
|
Нина Краснова |
В метафизическом пространстве все места заняты. Соревнуются художники не со своими современниками, хотя и их нельзя сбрасывать со счетов, но с великими умершими, с такими как Босх, Малевич, Кандинский… Туда не нужен ни паспорт, ни зарплата с гонораром, ни членский билет Союза художников. Туда нужно переложить совершенно свободно свою душу на холст. Вот этим и занимается художник Александр Трифонов. Он сам себе назначает тему, сам ее воплощает, сам вывешивает в зале, сам смотрит. Ни в одном из процессов ни с кем не согласовывая свои действия.
24 июня 2009 года в 18 часов открылась персональная выставка художника Александра Юрьевича Трифонова «Краеугольный камень» в «Галерее на Солянке». Метро «Китай-город», ул. Солянка, дом 2/1, вход с улицы Забелина, которая является продолжением Старосадского переулка, где стоит памятник Осипу Мандельштаму.
Выставка работает с 24 июня по 26 июля 2009 года.
Может, мир и реален, но, воплощенный художником, он становится ирреальным, где нет пространства и времени, как у Бога. Хотя художник и есть Бог. Мечта об остановленном мгновеньи воплощается художником Александром Трифоновым на своих холстах. Трансцендентная сущность искусства в том-то и состоит, что современники не замечают, как художник переходит из мира физического в мир метафизический, то есть записывает себя на жестком, нестираемом диске бессмертия. Эскалатор жизни увозит людей с лица земли, художник остается в веках на небе. Через 100 лет родятся новые физические объекты и увидят на небе художника Александра Трифонова, который есть краеугольный камень искусства. Александр Трифонов каждой своей картиной сохраняет себя в метафизике. Именно об этом говорил классик Антон Чехов писателю Юрию Кувалдину, видя небо в алмахах холстов Александра Трифонова.
|
|
ВЛАДИМИР ПУТИН, или ОПЫТ О СТАЛКЕРЕ |

Валерий Cердюченко родился 7 ноября 1937 года в Киеве. Окончил Вильнюсский государственный университет. Профессор Львовского университета, доктор филологических наук. Автор книги "Достоевский и Чернышевский" и работ по русской классической и современной литературе. Публиковался в "Новом мире", "Октябре", "Неве", "Вопросах литературы", "Континенте", "Литературном обозрении", "22" (Израиль), "Новом Русском Слове" (США), "Slavia" (Венгрия) и др. В интернет-журнале "Русский переплет" ведет обозрение "Сердитые стрелы Сердюченко". В "Нашей улице" опубликованы следующие произведения: в № 4-2001 ("ЯЩИК ПАНДОРЫ" злободневные заметки), в № 11-2001 ("ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПАРАД" типы нашего времени), в № 6-2004 "ОПЫТЫ О РАЗНОМ", в № 1-2005 “КОНЕЦ ЛИТЕРАТУРЫ”.
Валерий Сердюченко
ВЛАДИМИР ПУТИН, или ОПЫТ О СТАЛКЕРЕ
Есть люди, о которых чем больше размышляешь, тем меньше понимаешь, кто это такое. Их душа находится полностью вне нашего нравственно-психологического опыта. Они, возможно, читают в нас, как в открытой книге, мы же не можем прочесть в них ни строчки: клинопись, марсианское письмо.
Таков Путин. Спокойно, читатель, усмири свою гордыню и допусти хоть на минуту, что в этом мире может быть кто-то, интереснее единственного и неповторимого тебя. Иначе окружающим будет непросто понять, почему ты еще не президент и не Александр Солженицын, а работаешь Акакием Акакиевичем Башмачкиным в фирме с ограниченной ответственностью.
Во-первых, откуда он взялся? Никто толком не знает. В последние годы ельцинской власти локти кремлевской камарильи были сдвинуты так туго, что сваливались в пропасть самые могучие престолоблюстители. Перемещения и отставки следовали одна за другой. Ломались через колено судьбы премьеров, Генеральных прокуроров, секретарей Совбеза, военных министров. Имя Путина не было никому известно, ни в каких пакетных списках не числилось, а значит, не существовало вовсе. Далее, не будет преувеличением сказать, что ельцинская пирамида власти полностью контролировалась (и конструировалась) стратегами из Вашингтона. Мы еще не раз будем поражены, когда откроются архивы и детали этой гениальной операции по перехвату рулей управления одной мировой державы другой мировой державой. Ведь отслеживалась даже губернаторская горизонталь! Но такую микроскопическую единицу, как чиновник санкт-петербургской мэрии, невозможно было разглядеть ни в какие вашингтонские телескопы.
И, тем не менее, состоялось. Путин проник в высший эшелон власти, как некий сталкер, а через год уселся в президентское кресло, изумив политические миры. Вопрос “WhoisPutin?” стал частью западного политического фольклора, но его задавали друг другу и отечественные царедворцы. Путин не то, что перешагнул, но как бы перелетел над их головами, подобно летучей мыши. Видевшие полет летучей мыши могут подтвердить, что он представляет собой набор молниеносных асимметричных передвижений, предугадать которые невозможно. (Кстати, whois летучая мышь? Не птица, но и не животное, бодрствует только ночью, гнездится не на деревьях, а в пещерах, спит головою вниз.)
С другой стороны, операция “Новый президент” проводилась с неслыханной для России прецизионностью. Ведь как безупречно были рассчитаны ходы игры! Всё, всё было учтено в этом великом сценарии. В тайных покоях Кремля и Белого Дома, в кабинетах думских фракций, на давосских форумах и в Горках-9, на борту трансатлантических лайнеров и под сенью завидовских сосен вырабатывалась и доводилась до миллимикронного шлифа техника передачи власти. К исполнению Замысла были привлечены лучшие интеллектуальные силы по обе стороны океана. Закуплены на корню телевизионные империи и задействованы возможности Интернета. Отработаны параллельные стратегии, комбинации, запасные варианты. Силуэт будущего правителя России был отмоделирован до последней мелочи, расчет не уступал выбору будущего тибетского Ламы из десятка тысяч младенцев - и вдруг, exdeusmahina, появился Путин! Поблагодарив собравшихся за проделанную работу, он повернулся к ним спиной... и захлопнул перед их носом двери. Как это, почему такое? А дивиденды? Должности, награды, оклады? “Я вас лично ни о чем не просил, - был ответ. - И, следовательно, ничего никому не должен. Равноудалитесь”.
И равноудалил всех на такое расстояние, откуда кремлевские звезды сделались еле видны. Каждого, кто порывался дать ему совет пополам с пинком, новоиспеченный президент молча выслушивал, благодарил за науку, а затем поднимал на него свой рыбий взгляд, прожигавший, однако, до пяток, и задавал вопрос, от которого у советующего возникало неодолимое желание равноудалиться как можно дальше и больше в президентских окрестностях не показываться.
Внезапно стали заикаться средства массовой информации, а их хозяева один за другим очутились за границей. Пламенные отцы и деды Арбата набрали в рот воды. Политическая оппозиция засветилась льстивыми улыбками. Народные массы прекратили бастовать, а число смутьянов сократилось до Эдуарда Лимонова и пары сот скинхедов. Путин как будто заколдовал Россию, вверг ее в штилевое состояние, в котором она, тьфу-тьфу, и поднесь пребывает.
Что мы знаем о пристрастиях Путина? Он не курит, не пьет, равнодушен к женскому полу, деньгам, славе, наградам, парадам. Он не несет в себе ни единого порока из тех, за которые Бог выставил Адама из рая. Он цельнометалличен, антимагнитен, водонепроницаем. Он - без-грешен в прямом семантическом смысле этого слова. Александр Проханов, думая оскорбить Путина, нашел для него, в сущности, аксиоматическую характеристику: он никакой.
Да, но как этот “никакой” обаятельно улыбается, великолепно движется! Как пластичны его жесты, безупречны манеры, отточены мысли и речь. В набоковском романе “Король, дама, валет” с восторгом повествуется о немце-инженере, который создавал таких совершенных манекенов, что они становились как бы живее живых людей. Если бы Набоков увидел Путина, он бы остолбенел. Уж неизвестно, присутствовал ли при рождении Путина Бог, но одно несомненно: он бы при этом удовлетворенно хмыкнул и поставил на новорожденном личный знак ОТК.
- Ты хотел бы стать, как Путин? - спрашивает автор у самого себя.
- И да, и нет. Ибо в нашей башмачкинской, слабой, ничтожной жизни так много оттенков радуги и милых сердцу соблазнов, что лишиться их значило бы до конца дней маяться воспоминаниями, как хорошо было там, в теплом людском муравейнике, в жизнедышащем роевом множестве, - где, однако же, столько мерзавцев, прохиндеев, развратников, кретинов, жертв аборта, уголовников, завистников и клятвопреступников, что так и хочется взорвать это милое “множество” к чертовой матери вдребезги и пополам.
Сказав, что Путин лишен увлечений, мы погрешили против истины. А спорт? Он мастер спорта по двум видам. Но каким? Слалом и самбо. Слалом - это летучая мышь, ставшая на лыжи. А дзюдо всё состоит из обманных движений, игры в поддавки, “качаний маятника” с внезапным костоломным болевым приемом и ударом противника об пол. В восточной мягкости дзюдо кроется восточная же жестокость. Путин устроил в Чечне беспощадную карательную операцию. Мировое общественное мнение неистовствовало, Путин безмолвствовал. Впрочем, однажды слетал туда вторым пилотом реактивного истребителя, после чего избиение удвоилось, оставляя от Чечни одни печные трубы. Взорвалась атомная подлодка “Курск”. Общественное мнение неистовствовало, Путин безмолвствовал. Впрочем, однажды откомментировал происшедшее знаменитым дзеном: “она утонула”.
Представляется, что в гомункулообразном президентском веществе Путина растворен реагент на “возможное-невозможное” для России. Срабатывает этот реагент - и начинается беспощадная зачистка Чечни, сживается со света целая медиа-империя, вышвыриваются из страны Гусинский и Березовский. Реагент молчит - и Россия потихоньку капитализируется, Чубайс остается Чубайсом, а американский доллар становится национальной валютой.
Столь же асимметричен, непредсказуем внешнеполитический Путин. Бывшие секретари республиканских ЦК, переделавшиеся в этнических царьков, разжигают у своих народов русофобские настроения, приглашают ко двору американских советников и запускают на свои территории подразделения НАТО. Российская патриотическая общественность негодует - Путин говорит “очень хорошо” и объявляет 2002-ой год “Годом Украины”. “Кто еще хочет в Североатлантический союз?” - спрашивают натовские генералы. “Мы”, - неожиданно отвечает Путин и предъявляет рекомендации от самого Буша. В головах у натовских генералов рождается ощущение некоторой сюрреаличности происходящего: они огораживали Россию военным щитом, как вдруг Россия оказалась внутри них самих, а Путин предложил переименовать натовскую штаб-квартиру в Дом Советов. Туповатые натовцы открывают рты. “Шутка”, - поясняет Владимир Путин. Он, подобно набоковскому Горну, уже сидит на их натовских подоконниках, чинит примус над их головами - а через всю Россию в это же самое время медленно ползет литерный поезд северокорейского диктатора и злейшего врага просвещенного человечества, а в то же время Путин прекращает все поставки на Кубу и сдает американцам под ключ военную базу в Дананге (Вьетнам). В итоге в политическом сознании Запада воцаряется устойчивая зона шиза, когда понять, кто с кем и против кого, становится невозможным. В новейшей истории это умели делать лишь два человека: Гитлер и Сталин. Возможно, Путин станет третьим в этом списке. Для пишущего эти строки не подлежит никакому сомнению, что он у абсолютного большинства президентов разулся в голове.
Кадровая революция, проведенная Путиным, поражает своей бесшумностью. Вместо того чтобы увольнять и изгонять, он просто взял и сместил центры власти, оставив в дураках ельцинских патриархов и олигархов. Вроде бы все остались на своих местах, и в то же время власть утекла от них, как вода через пальцы. Выше было сказано, что Россия капитализируется. Да нет, она путинизируется. Посмотрите, как много уже вокруг Путина людей с таким же желтоватым цветом кожи и беспощадными улыбками под немигающими глазами. Знаете, какую кличку имел Путин подчас работы в санкт-петербургской мэрии? “Капутин”, вот какую. Таковы же и его присные. Автор уже высказался однажды, что каждый стремится переделать мир по своему образу и подобию, и что это антропологический закон, он неопровергаем: если бы у автора была воля и власть, он бы (как и каждый) превратил весь мир в Сердюченковию. Там думали бы, говорили и поступали именно “по-сердюченковски”, то есть правильно. У нас были бы общие кумиры и святыни, одинаковое понимание того, что такое хорошо и что такое плохо - да что там говорить, наступила бы, наконец, чаемая Гармония, фурьеристский Нью-Лэнарк. “Кто вы?” - спрашивали бы ангелы, инспектирующие космос. “Мы сердюченки”, - отвечали бы земляне. И ангелы докладывали бы своему Саваофу-хозяину, что на голубой планете осуществлен, наконец, Божий замысел. Тот, кто плетет гуманистическую лабуду о расцветании ста цветов и ста народов, либо дурак, либо либеральный интеллигент, что одно и то же. Обратимся к Библии. “Мир должен стать еврейским или быть уничтоженным”, - чеканили ветхозаветные вожди, обрезая окрестные племена и народы. И были совершенно правы со своей еврейской точки зрения. Вот если бы, неизвестный читатель, получил абсолютную власть? Ты тоже превратил бы человечество в собственных клонов. Твои домочадцы уже думают твоими мыслями, говорят твоими словами?
Но - бодливым коровам Бог рогов не дал. А у Путина они имеются. И он, как и всякий праведник, жесток. Не неся в себе никакого антропологического изъяна, он не принимает этих изъянов и в других. Он герменевт, лазерный мессия, сталкер.
И поэтому автор не удивится, если однажды этот праведник устроит такую мировую гекатомбу, от которой у половины человечества треснут черепа.
Львов
"НАША УЛИЦА", № 6-2004
|
|
писатель юрий кувалдин |
|
Юрий Кувалдин. 2008 |
|
Александр Трифонов и Юрий Кувалдин. Персональная выставка художника Александра Трифонова в залах Российской академии художеств. 2005. |
|
Станислав Рассадин, Юрий Кувалдин, Евгений Блажеевский. 1996 |
|
Юрий Кувалдин. 2008 |
|
Писатель Юрий Кувалдин в Храме Иверской Божией Матери в Перерве. 2008 |
|
Юрий Кувалдин и Александр Трифонов. 2005 |
|
Юрий Кувалдин и Сергей Филатов. 2005 |
|
Юрий Кувалдин и Фазиль Искандер. 1988 |
|
Юрий Кувалдин. 2008 |
|
Юрий Кувалдин. 2006 |
|
Юрий Кувалдин. 2008 |
|
Ренэ Герра и Юрий Кувалдин. 2008 |
|
Юрий Кувалдин. 2007 |
|
Юрий Кувалдин и Александр Чутко. 2008 |
|
Юрий Кувалдин. 2008 |
|
Юрий Кувалдин. Балтийская. 2002. |
|
Съемка телефильма "Юрий Кувалдин. Жизнь в тексте". 5 мая 2006 года. Слева направо: Александр Трифонов, Юрий Кувалдин, Ваграм Кеворков, Роман Кучерский, Нина Краснова |
|
Поэтесса Татьяна Сергеева-Андриевская и писатель Юрий Кувалдин на презентации альманаха Юрия Кувалдина "Золотая птица" 20 ноября 2008 года |
|
Певица Лариса Косарева и писатель Юрий Кувалдин. 18 декабря 2007 года |
|
Бард Евгений Бачурин, писатель Юрий Кувалдин, актер Валерий Золотухин. 2004 |
|
Поэтесса Нина Краснова и писатель Юрий Кувалдин. 2 декабря 2008 года |
|
Корреспондент "Независимой газеты" Михаил Бойко и писатель Юрий Кувалдин после беседы, 26 июля 2009 года. |
|
Владимир Мелетин и Юрий Кувалдин. 2009 |
|
Михаил Эдельштейн и Юрий Кувалдин. 2010 |
|
|
Ваграм Кеворков писатель, режиссер |
| Ваграм Кеворков писатель, режиссер |
|
Ваграм Кеворков в раздумьях над новым рассказом (27 июня 2007) |
|
Ваграм Кеворков, Юрий Кувалдин, Нина Краснова (галерея А3 - А-три, 28 декабря 2006) |
|
Ваграм Кеворков с художником Александром Трифоновым в галерее А3 на выставке "Ре-Цепт-Триумвират: Снегур-Копачев-Трифонов", 28 декабря 2006 |
|
Ваграм Кеворков и Юрий Кувалдин (Липки. Совещание молодых писателей России. 13 ноября 2006) |
|
Юрий Кувалдин, Нина Краснова, Ваграм Кеворков (5 мая 2006, съемка телефильма "Юрий Кувалдин.Жизнь в тексте") |
|
Ваграм Кеворков снимает фильм о художнике Ярошенко (60-е годы) |
|
Ваграм Кеворков (в центре), Виталий Копачев (слева), Сергей Михайлин-Плавский (справа от Кеворкова), Александр Трифонов, Игорь Снегур |
|
Ваграм Кеворков готовится к юбилею Юрия Кувалдина |
|
Ваграм Кеворков на съемках фильма о Юрии Кувалдине |
|
Юрий Кувалдин и Ваграм Кеворков |
|
Ваграм Кеворков на сцене малого зала Театра на Таганке 19 ноября 2006 года |
|
Ваграм Кеворков на съемках телефильма (60-е годы) |
|
Ваграм Кеворков на съемках (60-е годы) |
|
Ваграм Кеворков и Евгений Бачурин (Галерея "Новый Эрмитаж". Вернисаж Евгения Бачурина и Нины Волковой, его жены. 30 января 2007) |
|
Ваграм Кеворков, Слава Лён, Лев Борисов (Галерея "Новый Эрмитаж". Вернисаж Евгения Бачурина и Нины Волковой, его жены. 30 января 2007) |
|
Сергей Михайлин-Плавский, Ваграм Кеворков, Александр Трифонов (Галерея "Новый Эрмитаж". Вернисаж Евгения Бачурина и Нины Волковой, его жены. 30 января 2007) |
|
Александр Хорт, Ваграм Кеворков, Слава Лён, Сергей Михайлин-Плавский (Галерея "Новый Эрмитаж". Вернисаж Евгения Бачурина и Нины Волковой, его жены. 30 января 2007) |
|
Александр Хорт, Ваграм Кеворков, Юрий Кувалдин, Сергей Михайлин-Плавский (Галерея "Новый Эрмитаж". Вернисаж Евгения Бачурина и Нины Волковой, его жены. 30 января 2007) |
|
Ваграм Кеворков Театр на Таганке 8 фераля 2007 |
|
Валерий Золотухин и Ваграм Кеворков перед спектаклем Театра на Таганке "Марат и Маркиз Де Сад" 8 февраля 2007 |
|
Ваграм Кеворков Театр на Таганке |
|
Ваграм Кеворков Театр на Таганке |
|
Ваграм Кеворков Театр на Таганке |
|
Ваграм Кеворков Театр на Таганке |
|
Ваграм Кеворков |
|
Сергей МИХАЙЛИН-ПЛАВСКИЙ и Ваграм КЕВОРКОВ (4 октября 2007) |
|
Ваграм КЕВОРКОВ и Сергей МИХАЙЛИН-ПЛАВСКИЙ (4 октября 2007) |
|
Сергей МИХАЙЛИН-ПЛАВСКИЙ и Ваграм КЕВОРКОВ (4 октября 2007) |
|
Ваграм КЕВОРКОВ (4 октября 2007) |
|
Ваграм КЕВОРКОВ (4 октября 2007) |
|
Ваграм КЕВОРКОВ (4 октября 2007) |
|
Ваграм КЕВОРКОВ (4 октября 2007) |
|
Ваграм КЕВОРКОВ (4 октября 2007) |
|
Юрий КУВАЛДИН и Ваграм КЕВОРКОВ (4 октября 2007) |
|
Сергей МИХАЙЛИН-ПЛАВСКИЙ и Ваграм КЕВОРКОВ (4 октября 2007) |
|
|