-ћетки
1 апрел€ Ц никому не верю 1 марта 1 ма€ 1 сент€бр€ 1 €нвар€ 12 апрел€ 12 декабр€ день конституции российской федерации 14 феврал€ 23 сент€бр€ день жестовых €зыков 25 €нвар€ - тать€нин день 29 окт€бр€ - день комсомола 31 окт€бр€ день переводчика жестового €зыка 8 декабр€ международный день художника 8 марта 9 марта 90-е deaf deaf world ¬ог азбука глухих вогинфо всероссийский форум блогеров deaf глухие глухих глухой глухой блогер глухой художник глухонемой глухонемой.художник глухонемые глухота жестовый €зык глухих журналист искусство истори€ истори€ глухих карикатура лвц вог лвц-мцр ленинград мари€ федоровна международный день глухих мир глухих мир равных возможностей муратофф мэрилин монро новый год павловск первомай первый глухой блогер петр 1 рж€ рождество христово русский алфавит ручна€ азбука глухих санкт-петербург слепоглухие стихи страна глухих сурдопереводчик улыбка фестиваль форум глухих блогеров холодильник христос воскрес художник шарж шаржи шаржи глухих школа глухих саратова юмор €зык жестов
-¬идео

- ѕитер & ѕЄтр I.
- —мотрели: 7 (0)

- –усска€ ручна€ азбука глухих.
- —мотрели: 212 (0)

- ¬еликий,могучий,жестовый €зык глухих.
- —мотрели: 18 (0)

- ”видеть —анкт-ѕетербург за 1 день.
- —мотрели: 32 (2)

- Ћюди из ћира “ишины
- —мотрели: 41 (1)
-—сылки
-ѕоиск по дневнику
-ѕодписка по e-mail
-—татистика
«аписи с меткой глухонемые
(и еще 104 запис€м на сайте сопоставлена така€ метка)
ƒругие метки пользовател€ ↓
1 јпрел€ 1 апрел€ Ц никому не верю 1 марта 1 ма€ 1 сент€бр€ 1 €нвар€ 12 апрел€ 14 июн€ международный день блогера 14 феврал€ 2 но€бр€ 23 сент€бр€ день жестовых €зыков 25 окт€бр€ 8 декабр€ международный день художника 25 €нвар€ - тать€нин день 31 окт€бр€ день переводчика жестового €зыка 4 но€бр€ 7 но€бр€ 8 марта 90-е deaf deaf world ¬ог азбука глухих вогинфо всероссийский форум блогеров deaf глухие глухих глухой глухой блогер глухой художник глухонемой глухонемой.художник глухонемые глухота жестовый €зык глухих икона интернет искусство истори€ истори€ глухих карикатура лвц вог лвц-мцр мари€ федоровна масленична€ недел€ международный день глухих мир глухих мир равных возможностей муратофф новый год павловск пасха первомай первый глухой блогер петр 1 рж€ рождество христово русский алфавит ручна€ азбука глухих санкт-петербург слепоглухие стихи страна глухих сурдопереводчик улыбка фестиваль форум глухих блогеров христос воскрес художник шарж шаржи шаржи глухих шуфутинский юмор €зык жестов
¬иктор (лат. Victor Ч Ђпобедительї) ћуратов (араб. murad Ч Ђцельї). |
ƒневник |
¬иктор (лат. Victor Ч Ђпобедительї) Ч мужское им€ латинского происхождени€, в древнеримской мифологии Ч эпитет богов ёпитера и ћарса, в христианстве ассоциируетс€ с победой »исуса ’риста над смертью и грехом.
ћуратов Ч это отчество от мужского личного имени ћурад (араб. murad Ч Ђцель, намерениеї).
“акже существует тюркское им€ Mypam, которое в XVЦXVI веках было распространено и среди русских. ќно происходит от арабского Ђмурадї Ч Ђжелание, цельї.
ћуратов ¬иктор - ÷ель ѕобеда!

√ран-при VIII ћеждународного фестивал€ телерадиопрограмм и интернет проектов Ђ»Ќ“≈√–ј÷»яї в области "»нтернет" за цикл интернет-публикаций на YouTube-канале https://www.youtube.com/user/deafmurat

ѕобедитель VII фестивал€ социальных интернет-ресурсов "ћир равных возможностей"

ѕобедитель I ¬сероссийского конкурса видеороликов "¬ќ√ и я"





ѕобедитель I ¬сероссийского конкурса видеороликов "¬ќ√ и я"

ѕобедитель ’ фестивал€ социальных интернет-ресурсов "ћир равных возможностей"

ѕобедитель XIII ћеждународного фестивал€ телерадиопрограмм
и интернет-проектов об инвалидах и дл€ инвалидов Ђ»нтеграци€ї
¬ области »нтернет
Ќоминаци€ Ђ—оциальные сетиї
—татуэтка и диплом за первое место:
¬иктор ћуратов за интернет-сообщество Ђћир глухих-это другой мирї в социальной сети VK.com
»тоги:
#ѕобедитель VII ‘естивал€ социальных интернет-ресурсов Ђћир равных возможностейї ЂDEAF WORLD. ћ»– √Ћ”’»’ и —ЋјЅќ—ЋџЎјў»’ї в "ћоем ћире" номинаци€ї ∆изнь продолжаетс€ї ћосква 2016г..
#ѕобедитель I ¬сероссийского конкурса видеороликов "¬ќ√ и я" ћосква 2016г.
#ќбладатель √ран-при VIII ћеждународного фестивал€ телерадиопрограмм интернет-проектов об инвалидах и дл€ инвалидов Ђ»нтеграци€ї ћосква 2018г
#ѕобедитель ’ ‘естивал€ социальных интернет-ресурсов Ђћир равных возможностейї номинаци€ї √оворить и показыватьї ћосква 2019г
#"Ѕлогер - ѕервооткрыватель" ћосква 2022г.
#ѕобедитель XIII ћеждународный фестиваль телерадиопрограмм и интернет-проектов об инвалидах и дл€ инвалидов Ђ»нтеграци€ї ћосква 2024г





ћуратов Ч это отчество от мужского личного имени ћурад (араб. murad Ч Ђцель, намерениеї).
“акже существует тюркское им€ Mypam, которое в XVЦXVI веках было распространено и среди русских. ќно происходит от арабского Ђмурадї Ч Ђжелание, цельї.
ћуратов ¬иктор - ÷ель ѕобеда!

√ран-при VIII ћеждународного фестивал€ телерадиопрограмм и интернет проектов Ђ»Ќ“≈√–ј÷»яї в области "»нтернет" за цикл интернет-публикаций на YouTube-канале https://www.youtube.com/user/deafmurat

ѕобедитель VII фестивал€ социальных интернет-ресурсов "ћир равных возможностей"

ѕобедитель I ¬сероссийского конкурса видеороликов "¬ќ√ и я"





ѕобедитель I ¬сероссийского конкурса видеороликов "¬ќ√ и я"

ѕобедитель ’ фестивал€ социальных интернет-ресурсов "ћир равных возможностей"

ѕобедитель XIII ћеждународного фестивал€ телерадиопрограмм
и интернет-проектов об инвалидах и дл€ инвалидов Ђ»нтеграци€ї
¬ области »нтернет
Ќоминаци€ Ђ—оциальные сетиї
—татуэтка и диплом за первое место:
¬иктор ћуратов за интернет-сообщество Ђћир глухих-это другой мирї в социальной сети VK.com
»тоги:
#ѕобедитель VII ‘естивал€ социальных интернет-ресурсов Ђћир равных возможностейї ЂDEAF WORLD. ћ»– √Ћ”’»’ и —ЋјЅќ—ЋџЎјў»’ї в "ћоем ћире" номинаци€ї ∆изнь продолжаетс€ї ћосква 2016г..
#ѕобедитель I ¬сероссийского конкурса видеороликов "¬ќ√ и я" ћосква 2016г.
#ќбладатель √ран-при VIII ћеждународного фестивал€ телерадиопрограмм интернет-проектов об инвалидах и дл€ инвалидов Ђ»нтеграци€ї ћосква 2018г
#ѕобедитель ’ ‘естивал€ социальных интернет-ресурсов Ђћир равных возможностейї номинаци€ї √оворить и показыватьї ћосква 2019г
#"Ѕлогер - ѕервооткрыватель" ћосква 2022г.
#ѕобедитель XIII ћеждународный фестиваль телерадиопрограмм и интернет-проектов об инвалидах и дл€ инвалидов Ђ»нтеграци€ї ћосква 2024г





|
ћетки: глухие глухонемые глухой блогер ¬иктор фестиваль мир равных возможностей |
ћеждународный ƒень глухих (последнее воскресенье сент€бр€) . |
ƒневник |
≈жегодно последн€€ полна€ недел€ сент€бр€ отмечаетс€ как ћеждународна€ недел€ глухих (International Week of the Deaf), котора€ завершаетс€ ћеждународным днем глухих (International Day of the Deaf), отмечаемым в воскресенье.
ћеждународный день глухих был установлен в 1958 году в пам€ть создани€ в сент€бре 1951 года ¬семирной федерации глухих (World Federation of the Deaf), котора€ €вл€етс€ одной из старейших международных организаций людей с ограниченными возможност€ми.
¬сероссийское общество глухих с 1955 года €вл€етс€ членом ¬семирной федерации глухих. ¬сероссийское общество глухих ведет свою работу с 1926 года, объедин€ет более 100 тыс€ч членов, имеет 79 региональных и более 800 местных отделений на всей территории –оссийской ‘едерации.
¬ –оссии проживает более 190 тыс€ч инвалидов по слуху и слепоглухих. ¬сего разными нарушени€ми слуха страдает примерно 650 миллионов человек Ч каждый дев€тый житель «емли.


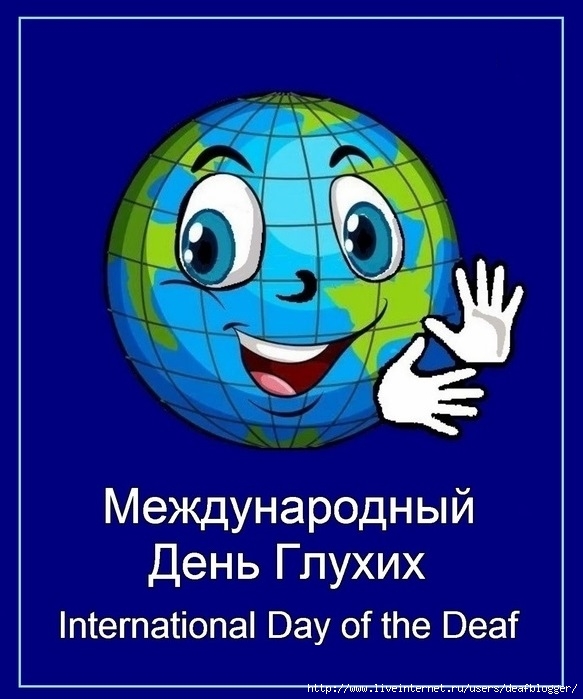







ћеждународный день глухих был установлен в 1958 году в пам€ть создани€ в сент€бре 1951 года ¬семирной федерации глухих (World Federation of the Deaf), котора€ €вл€етс€ одной из старейших международных организаций людей с ограниченными возможност€ми.
¬сероссийское общество глухих с 1955 года €вл€етс€ членом ¬семирной федерации глухих. ¬сероссийское общество глухих ведет свою работу с 1926 года, объедин€ет более 100 тыс€ч членов, имеет 79 региональных и более 800 местных отделений на всей территории –оссийской ‘едерации.
¬ –оссии проживает более 190 тыс€ч инвалидов по слуху и слепоглухих. ¬сего разными нарушени€ми слуха страдает примерно 650 миллионов человек Ч каждый дев€тый житель «емли.


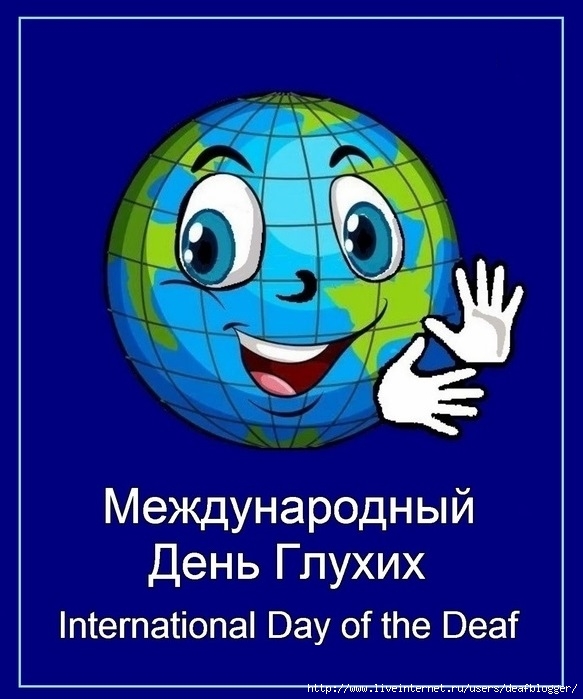







|
ћетки: deaf world глухие глухих глухонемые мир глухих международный день глухих |
200 лет первому изображению русской ручной азбуки. |
ƒневник |
¬ 2021 году исполн€етс€ 200 лет первому изображению русской ручной азбуки, котора€ была выгравирована в 1821 году.
ѕервое известное нам изображение русской ручной азбуки, выполненное глухим художником Ќиколаем »вашенцевым.
»сточник: ∆урнал „еловеколюбивого общества („. XVII, август, 1821 г.). омментарии к изображению:
"Ќедавно »мператрица ћари€ ‘едоровна повелела завести в оном искусство гравировани€ на камне (литографическое),
дабы доставить средства к пропитанию себе мещанским дет€м недостаточного состо€ни€. ѕриложенна€ при сей книжке таблица,
изображающа€ ручную азбуку, с помощью которой √. ∆оффре преподает своим воспитанникам –оссийский €зык,
выгравирована одним глухонемым сего института" .


ѕервое известное нам изображение русской ручной азбуки, выполненное глухим художником Ќиколаем »вашенцевым.
»сточник: ∆урнал „еловеколюбивого общества („. XVII, август, 1821 г.). омментарии к изображению:
"Ќедавно »мператрица ћари€ ‘едоровна повелела завести в оном искусство гравировани€ на камне (литографическое),
дабы доставить средства к пропитанию себе мещанским дет€м недостаточного состо€ни€. ѕриложенна€ при сей книжке таблица,
изображающа€ ручную азбуку, с помощью которой √. ∆оффре преподает своим воспитанникам –оссийский €зык,
выгравирована одним глухонемым сего института" .


|
ћетки: ручна€ азбука глухих глухонемые глухие |
–учные азбуки глухих –оссийской империи. |
ƒневник |

ѕервое известное нам изображение русской ручной азбуки, выполненное глухим художником Ќиколаем »вашенцевым.
»сточник: ∆урнал „еловеколюбивого общества („. XVII, август, 1821 г.). омментарии к изображению:
"Ќедавно »мператрица ћари€ ‘едоровна повелела завести в оном искусство гравировани€ на камне (литографическое),
дабы доставить средства к пропитанию себе мещанским дет€м недостаточного состо€ни€. ѕриложенна€ при сей книжке таблица,
изображающа€ ручную азбуку, с помощью которой √. ∆оффре преподает своим воспитанникам –оссийский €зык,
выгравирована одним глухонемым сего института" .










|
ћетки: ручна€ азбука глухих русский алфавит глухонемые глухие |
‘акты о глухих, о которых вы не знали и никогда не задумывались. |
ƒневник |
«аметка дл€ слышащих людей о глухих.
ѕрежде всего, € хочу сказать, что глухие люди - абсолютно такие же люди, как и все остальные. ѕо€сню на пон€тном примере. ћы же не дискриминируем испанцев или канадцев за то, что они не русские и родились в другой стране. “ак же и с глухими. ќни как будто составл€ют отдельную нацию со своим €зыком и традици€ми. ћало того, они воспринимают окружающий мир иначе, чем мы, но не могут представить, как это возможно - слышать, и что это такое. ѕримерно так мы не можем представить себе, например, четвЄртое измерение, жив€ в трЄх. ” них есть нарушени€ слуха, но зато другие чувства крайне обострены, причЄм настолько, что мы можем им только завидовать. » несмотр€ на это, все мы в равной степени люди, как с биологической, так и с психологической точки зрени€, и относитьс€ к глухим нужно как к равным.


ѕрежде всего, € хочу сказать, что глухие люди - абсолютно такие же люди, как и все остальные. ѕо€сню на пон€тном примере. ћы же не дискриминируем испанцев или канадцев за то, что они не русские и родились в другой стране. “ак же и с глухими. ќни как будто составл€ют отдельную нацию со своим €зыком и традици€ми. ћало того, они воспринимают окружающий мир иначе, чем мы, но не могут представить, как это возможно - слышать, и что это такое. ѕримерно так мы не можем представить себе, например, четвЄртое измерение, жив€ в трЄх. ” них есть нарушени€ слуха, но зато другие чувства крайне обострены, причЄм настолько, что мы можем им только завидовать. » несмотр€ на это, все мы в равной степени люди, как с биологической, так и с психологической точки зрени€, и относитьс€ к глухим нужно как к равным.


|
ћетки: глухонемые глухие |
¬иктор (лат. Victor Ч Ђпобедительї) ћуратов (араб. murad Ч Ђцельї). |
ƒневник |
¬иктор (лат. Victor Ч Ђпобедительї) Ч мужское им€ латинского происхождени€, в древнеримской мифологии Ч эпитет богов ёпитера и ћарса, в христианстве ассоциируетс€ с победой »исуса ’риста над смертью и грехом.
ћуратов Ч это отчество от мужского личного имени ћурад (араб. murad Ч Ђцель, намерениеї).
“акже существует тюркское им€ Mypam, которое в XVЦXVI веках было распространено и среди русских. ќно происходит от арабского Ђмурадї Ч Ђжелание, цельї.
ћуратов ¬иктор - ÷ель ѕобеда!

√ран-при VIII ћеждународного фестивал€ телерадиопрограмм и интернет проектов Ђ»Ќ“≈√–ј÷»яї в области "»нтернет" за цикл интернет-публикаций на YouTube-канале https://www.youtube.com/user/deafmurat

ѕобедитель VII фестивал€ социальных интернет-ресурсов "ћир равных возможностей"

ѕобедитель I ¬сероссийского конкурса видеороликов "¬ќ√ и я"





ѕобедитель I ¬сероссийского конкурса видеороликов "¬ќ√ и я"

ѕобедитель ’ фестивал€ социальных интернет-ресурсов "ћир равных возможностей"

ѕобедитель XIII ћеждународного фестивал€ телерадиопрограмм
и интернет-проектов об инвалидах и дл€ инвалидов Ђ»нтеграци€ї
¬ области »нтернет
Ќоминаци€ Ђ—оциальные сетиї
—татуэтка и диплом за первое место:
¬иктор ћуратов за интернет-сообщество Ђћир глухих-это другой мирї в социальной сети VK.com
»тоги:
#ѕобедитель VII ‘естивал€ социальных интернет-ресурсов Ђћир равных возможностейї ЂDEAF WORLD. ћ»– √Ћ”’»’ и —ЋјЅќ—ЋџЎјў»’ї в "ћоем ћире" номинаци€ї ∆изнь продолжаетс€ї ћосква 2016г..
#ѕобедитель I ¬сероссийского конкурса видеороликов "¬ќ√ и я" ћосква 2016г.
#ќбладатель √ран-при VIII ћеждународного фестивал€ телерадиопрограмм интернет-проектов об инвалидах и дл€ инвалидов Ђ»нтеграци€ї ћосква 2018г
#ѕобедитель ’ ‘естивал€ социальных интернет-ресурсов Ђћир равных возможностейї номинаци€ї √оворить и показыватьї ћосква 2019г
#"Ѕлогер - ѕервооткрыватель" ћосква 2022г.
#ѕобедитель XIII ћеждународный фестиваль телерадиопрограмм и интернет-проектов об инвалидах и дл€ инвалидов Ђ»нтеграци€ї ћосква 2024г





ћуратов Ч это отчество от мужского личного имени ћурад (араб. murad Ч Ђцель, намерениеї).
“акже существует тюркское им€ Mypam, которое в XVЦXVI веках было распространено и среди русских. ќно происходит от арабского Ђмурадї Ч Ђжелание, цельї.
ћуратов ¬иктор - ÷ель ѕобеда!

√ран-при VIII ћеждународного фестивал€ телерадиопрограмм и интернет проектов Ђ»Ќ“≈√–ј÷»яї в области "»нтернет" за цикл интернет-публикаций на YouTube-канале https://www.youtube.com/user/deafmurat

ѕобедитель VII фестивал€ социальных интернет-ресурсов "ћир равных возможностей"

ѕобедитель I ¬сероссийского конкурса видеороликов "¬ќ√ и я"





ѕобедитель I ¬сероссийского конкурса видеороликов "¬ќ√ и я"

ѕобедитель ’ фестивал€ социальных интернет-ресурсов "ћир равных возможностей"

ѕобедитель XIII ћеждународного фестивал€ телерадиопрограмм
и интернет-проектов об инвалидах и дл€ инвалидов Ђ»нтеграци€ї
¬ области »нтернет
Ќоминаци€ Ђ—оциальные сетиї
—татуэтка и диплом за первое место:
¬иктор ћуратов за интернет-сообщество Ђћир глухих-это другой мирї в социальной сети VK.com
»тоги:
#ѕобедитель VII ‘естивал€ социальных интернет-ресурсов Ђћир равных возможностейї ЂDEAF WORLD. ћ»– √Ћ”’»’ и —ЋјЅќ—ЋџЎјў»’ї в "ћоем ћире" номинаци€ї ∆изнь продолжаетс€ї ћосква 2016г..
#ѕобедитель I ¬сероссийского конкурса видеороликов "¬ќ√ и я" ћосква 2016г.
#ќбладатель √ран-при VIII ћеждународного фестивал€ телерадиопрограмм интернет-проектов об инвалидах и дл€ инвалидов Ђ»нтеграци€ї ћосква 2018г
#ѕобедитель ’ ‘естивал€ социальных интернет-ресурсов Ђћир равных возможностейї номинаци€ї √оворить и показыватьї ћосква 2019г
#"Ѕлогер - ѕервооткрыватель" ћосква 2022г.
#ѕобедитель XIII ћеждународный фестиваль телерадиопрограмм и интернет-проектов об инвалидах и дл€ инвалидов Ђ»нтеграци€ї ћосква 2024г





|
ћетки: глухие глухонемые глухой блогер ¬иктор фестиваль мир равных возможностей |
∆ест "я люблю вас!" |
ƒневник |
266-й ѕапа –имский ‘ранциск, первый в истории ѕапа из Ќового —вета и первый за более чем 1200 лет ѕапа не из ≈вропы, при обращении к своей глухой пастве каждую свою речь начинает и заканчивает жестом "я люблю вас!"










|
ћетки: глухонемые жестовый €зык глухих |
12 интересных фактов о жестовом €зыке. |
ƒневник |
12 интересных фактов о жестовом €зыке
1. ∆естовые €зыки отличаютс€ друг от друга в каждой стране. “очно так же, как русский отличаетс€ от €понского, французского и татарского.
2. —амым распространенным в мире считают индийский жестовый €зык - на нем говорит 2,7 млн. человек
3. Ћингвисты считают жестовый €зык самым быстрым в мире. ѕравильно, пока мы будем произносить слово Ђѕараллелепипедї, глухой сумеет сказать на жестах 3-5 слов.
4. ∆естовый €зык не €вл€етс€ копией устного €зыка, показанного жестами. ∆естовые €зыки почти полностью независимы, у них сво€ грамматика, синтаксис и иной пор€док слов. —уществуют другие типы глаголов, используютс€ пространство и мимика.
5. ¬ ¬ашингтоне есть единственный университет в мире, в котором глухие профессора и преподаватели обучают глухих студентов из разных стран. Ёто √аллодетский университет, основанный в 1973 году.
6. ¬ некоторых странах в школе жестовый €зык можно выбрать дл€ изучени€ как иностранный. Ќапример, сын јнджелины ƒжоли Ќокс выбрал дл€ изучени€ американский жестовый €зык. ѕостепенно во всем мире происходит рост попул€рности жестовых €зыков.
7. Ќекоторые обезь€ны вполне сносно смогли освоить до нескольких сотен жестов реального жестового €зыка , а некоторые особо интеллектуальные даже изобретали собственные жесты. ќсобенно отличились шимпанзе.
8. —уществует искусственный международный жестовый €зык - жестовый эсперанто. ¬ 1975 году на 7 ¬семирном конгрессе по проблемам глухоты была прин€та и утверждена ћеждународна€ жестова€ речь, которую группа экспертов разрабатывала почти четверть века.
9. ∆естовый €зык €вл€етс€ родным дл€ победител€ суперпопул€рного телевизионного шоу AmericaТs Next Top Model жгучего брюнета Ќайла ди ћарко. ј еще Ќайл выиграл в конкурсе Ђ“анцы со звездамиї и широко известен как защитник прав глухих и попул€ризатор жестового €зыка.
10. ћалыши 6-8 мес€цев уже могут общатьс€ с окружающими и выражать свои просьбы при помощи жестов еще до того, как научатьс€ говорить.
11. ћозгу все равно как усваивать €зык. »сследовани€ подтвердили, что жестова€ речь и устна€ обрабатываютс€ в одном отделе мозга.
12. ¬ јмерике американский жестовый €зык €вл€етс€ третьим по распространенности после английского и испанского.

1. ∆естовые €зыки отличаютс€ друг от друга в каждой стране. “очно так же, как русский отличаетс€ от €понского, французского и татарского.
2. —амым распространенным в мире считают индийский жестовый €зык - на нем говорит 2,7 млн. человек
3. Ћингвисты считают жестовый €зык самым быстрым в мире. ѕравильно, пока мы будем произносить слово Ђѕараллелепипедї, глухой сумеет сказать на жестах 3-5 слов.
4. ∆естовый €зык не €вл€етс€ копией устного €зыка, показанного жестами. ∆естовые €зыки почти полностью независимы, у них сво€ грамматика, синтаксис и иной пор€док слов. —уществуют другие типы глаголов, используютс€ пространство и мимика.
5. ¬ ¬ашингтоне есть единственный университет в мире, в котором глухие профессора и преподаватели обучают глухих студентов из разных стран. Ёто √аллодетский университет, основанный в 1973 году.
6. ¬ некоторых странах в школе жестовый €зык можно выбрать дл€ изучени€ как иностранный. Ќапример, сын јнджелины ƒжоли Ќокс выбрал дл€ изучени€ американский жестовый €зык. ѕостепенно во всем мире происходит рост попул€рности жестовых €зыков.
7. Ќекоторые обезь€ны вполне сносно смогли освоить до нескольких сотен жестов реального жестового €зыка , а некоторые особо интеллектуальные даже изобретали собственные жесты. ќсобенно отличились шимпанзе.
8. —уществует искусственный международный жестовый €зык - жестовый эсперанто. ¬ 1975 году на 7 ¬семирном конгрессе по проблемам глухоты была прин€та и утверждена ћеждународна€ жестова€ речь, которую группа экспертов разрабатывала почти четверть века.
9. ∆естовый €зык €вл€етс€ родным дл€ победител€ суперпопул€рного телевизионного шоу AmericaТs Next Top Model жгучего брюнета Ќайла ди ћарко. ј еще Ќайл выиграл в конкурсе Ђ“анцы со звездамиї и широко известен как защитник прав глухих и попул€ризатор жестового €зыка.
10. ћалыши 6-8 мес€цев уже могут общатьс€ с окружающими и выражать свои просьбы при помощи жестов еще до того, как научатьс€ говорить.
11. ћозгу все равно как усваивать €зык. »сследовани€ подтвердили, что жестова€ речь и устна€ обрабатываютс€ в одном отделе мозга.
12. ¬ јмерике американский жестовый €зык €вл€етс€ третьим по распространенности после английского и испанского.

|
ћетки: deaf world глухие €зык жестов жестовый €зык глухих глухонемые |
∆естовый €зык - в школу дл€ глухих детей! |
ƒневник |
–усский жестовый €зык (–∆я) Ц родной €зык людей с нарушением слуха. ≈сть исследовани€, доказывающие, что люди с нарушением слуха думают не на звучащем, а на жестовом €зыке, который представл€ет собой сложную лингвистическую систему со своими правилами. –∆я Ц это носитель мышлени€ и средство общени€ в развитии глухого ребенка.
–усский жестовый €зык, в соответствии с ‘едеральным законом є 296 от 30 декабр€ 2012 года, получил официальный статус €зыка, в том числе в сферах устного использовани€ государственного €зыка –оссийской федерации. “акже в онвенции ќќЌ о правах инвалидов в ст. 24 говоритс€ о том, что обучение глухих детей должно осуществл€тьс€ с помощью наиболее подход€щих €зыков, которым и €вл€етс€ жестовый €зык. Ќо во многих школах до сих пор практикуетс€ устный метод обучени€, т.е. наш родной жестовый €зык под запретом, не признаетс€ €зыком общени€.
≈сть исследовани€, доказывающие, что из года в год падает общий образовательный уровень выпускников школ дл€ глухих. ћы считаем, что главной причиной этого €вл€етс€ непри€тие билингвистической системы обучени€ детей с нарушени€ми слуха. ќбучение глухого ребенка без жестового €зыка становитс€ механическим, ибо нет живого естественного общени€ учител€ с ребенком. ќбразование будет полноценным и эффективным только тогда, когда есть полное взаимопонимание между учителем и учеником. Ётому способствует общение с ребенком на его родном €зыке Ц жестовом €зыке. –∆я как важнейшее вспомогательное средство помогает глухим дет€м легко и с интересом усваивать учебный материал. » при этом ∆я не мешает развитию речи учащихс€, как доказано современными исследовани€ми.
Ќеобходимо прекратить дискриминацию глухого сообщества, предоставить глухим правовую возможность обучатьс€ на своем родном €зыке Ц жестовом €зыке на равных услови€х со словесным €зыком (словесно Ц жестовое дву€зычие). » прекращение принудительной подготовки глухого учащегос€ к ассимил€ции со слышащим большинством через систему устного образовани€.
—урдопедагоги должны знать –∆я и свободно пользоватьс€ им в общении с глухими детьми. “акже в соответствии с онвенцией ќќЌ о правах инвалидов необходимо, чтобы в школах дл€ глухих работали учител€ Ц инвалиды, владеющие жестовым €зыком.

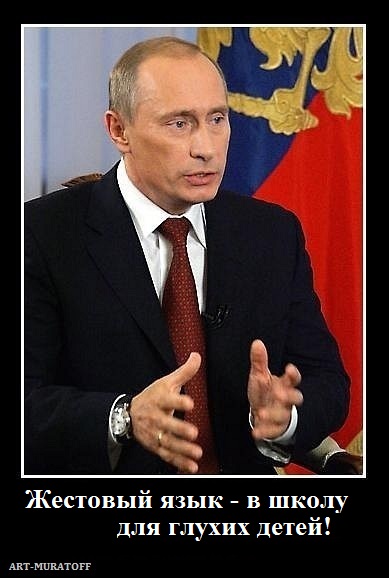

–усский жестовый €зык, в соответствии с ‘едеральным законом є 296 от 30 декабр€ 2012 года, получил официальный статус €зыка, в том числе в сферах устного использовани€ государственного €зыка –оссийской федерации. “акже в онвенции ќќЌ о правах инвалидов в ст. 24 говоритс€ о том, что обучение глухих детей должно осуществл€тьс€ с помощью наиболее подход€щих €зыков, которым и €вл€етс€ жестовый €зык. Ќо во многих школах до сих пор практикуетс€ устный метод обучени€, т.е. наш родной жестовый €зык под запретом, не признаетс€ €зыком общени€.
≈сть исследовани€, доказывающие, что из года в год падает общий образовательный уровень выпускников школ дл€ глухих. ћы считаем, что главной причиной этого €вл€етс€ непри€тие билингвистической системы обучени€ детей с нарушени€ми слуха. ќбучение глухого ребенка без жестового €зыка становитс€ механическим, ибо нет живого естественного общени€ учител€ с ребенком. ќбразование будет полноценным и эффективным только тогда, когда есть полное взаимопонимание между учителем и учеником. Ётому способствует общение с ребенком на его родном €зыке Ц жестовом €зыке. –∆я как важнейшее вспомогательное средство помогает глухим дет€м легко и с интересом усваивать учебный материал. » при этом ∆я не мешает развитию речи учащихс€, как доказано современными исследовани€ми.
Ќеобходимо прекратить дискриминацию глухого сообщества, предоставить глухим правовую возможность обучатьс€ на своем родном €зыке Ц жестовом €зыке на равных услови€х со словесным €зыком (словесно Ц жестовое дву€зычие). » прекращение принудительной подготовки глухого учащегос€ к ассимил€ции со слышащим большинством через систему устного образовани€.
—урдопедагоги должны знать –∆я и свободно пользоватьс€ им в общении с глухими детьми. “акже в соответствии с онвенцией ќќЌ о правах инвалидов необходимо, чтобы в школах дл€ глухих работали учител€ Ц инвалиды, владеющие жестовым €зыком.

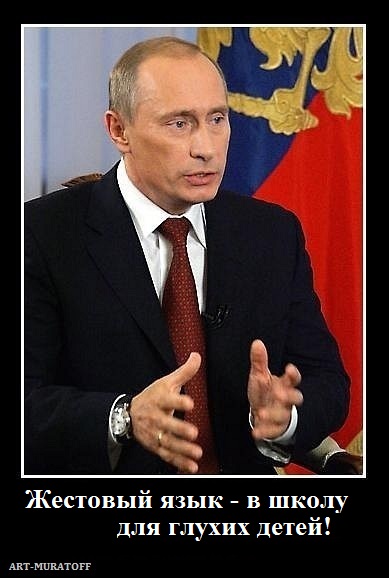

|
ћетки: глухие глухонемые жестовый €зык глухих €зык жестов |
¬ –оссии по€витс€ новый дорожный знак Ђ√лухие пешеходыї |
ƒневник |
¬ –оссии по€витс€ новый дорожный знак Ђ√лухие пешеходыї
¬ –оссии начал действовать новый предварительный национальный стандарт (ѕЌ—“), который позволит установить несколько дес€тков дополнительных дорожных знаков и табличек. ќб этом пишут Ђ»звести€ї. ѕо документу, на дорогах по€в€тс€ знаки Ђ«апрет въезда на перекресток в случае затораї, Ђƒиагональный пешеходный переходї и Ђ√лухие пешеходыї.

¬ –оссии начал действовать новый предварительный национальный стандарт (ѕЌ—“), который позволит установить несколько дес€тков дополнительных дорожных знаков и табличек. ќб этом пишут Ђ»звести€ї. ѕо документу, на дорогах по€в€тс€ знаки Ђ«апрет въезда на перекресток в случае затораї, Ђƒиагональный пешеходный переходї и Ђ√лухие пешеходыї.

|
ћетки: deaf world глухие глухонемые |
¬идео-запись: –усска€ ручна€ азбука глухих. |
|
ћетки: глухие азбука глухих глухонемые €зык жестов |
ѕроцитировано 10 раз
¬ тишине,но не в безмолвии... |
ƒневник |
¬ тишине,но не в безмолвии: как люди говор€т и твор€т на €зыке жестов (жестовый €зык глухих).
Ќекоторые считают глухих и слабослышащих людей инвалидами.
Ќа самом деле они - просто люди, говор€щие на другом €зыке.
» на нем можно не только говорить,но и рассказывать анекдоты,
снимать скетчи,и даже петь.

Ђ√лухие люди не инвалиды и не немые, они иностранцыї
јнна ≈фимова, сурдопереводчик центра слуха ё-ћ≈ƒ, рассказала главреду Espera ≈вгению ЋепЄхину о жестовом пении, о том, как слышат и воспринимают мир глухие и почему их нельз€ называть инвалидами и немыми.
https://www.saint-petersburg-deaf.com/глухие-люди-не-инвалиды-и-не-немые-они-иностранцы/
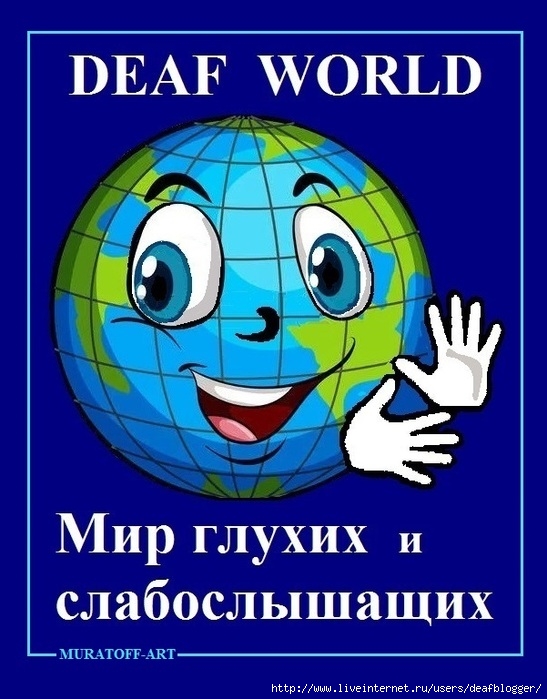
Ќекоторые считают глухих и слабослышащих людей инвалидами.
Ќа самом деле они - просто люди, говор€щие на другом €зыке.
» на нем можно не только говорить,но и рассказывать анекдоты,
снимать скетчи,и даже петь.

Ђ√лухие люди не инвалиды и не немые, они иностранцыї
јнна ≈фимова, сурдопереводчик центра слуха ё-ћ≈ƒ, рассказала главреду Espera ≈вгению ЋепЄхину о жестовом пении, о том, как слышат и воспринимают мир глухие и почему их нельз€ называть инвалидами и немыми.
https://www.saint-petersburg-deaf.com/глухие-люди-не-инвалиды-и-не-немые-они-иностранцы/
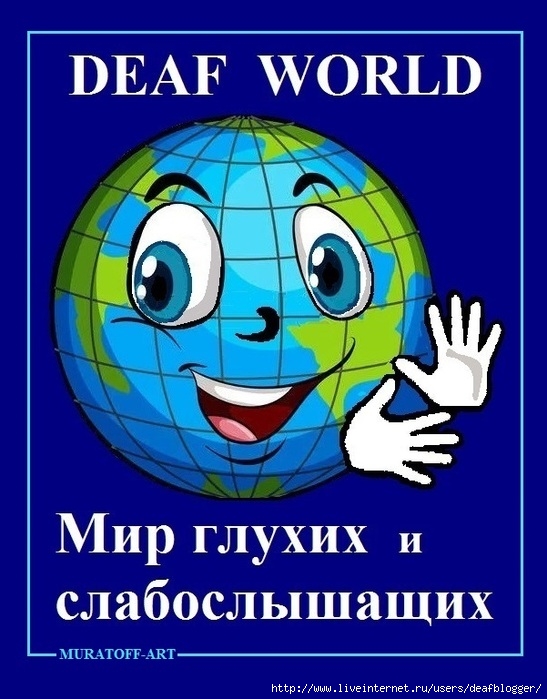
|
ћетки: глухие жестовый €зык глухих глухонемые deaf world мир глухих |
Ѕрак глухого со слышащим или наоборот. |
ƒневник |
Ѕрак глухого со слышащим или наоборот.
Ѕыть или не быть?

Ѕыть или не быть?

|
ћетки: глухонемые глухие |
оротко о глухих... |
ƒневник |









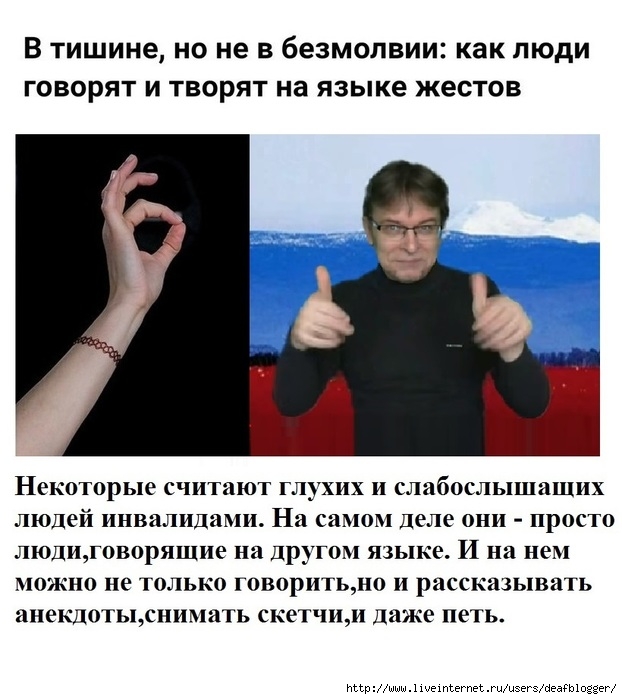
|
ћетки: глухонемые глухие жестовый €зык глухих мир глухих азбука глухих |
–учные азбуки глухих людей разных стран. |
ƒневник |
«наковый €зык дл€ общени€ глухих —пособ разговора глухих с помощью пальцев называетс€ дактилологией. аждое положение пальцев при этом означает букву. ¬ насто€щее врем€ в мире существует более 40 таких алфавитов. оличество знаков в "пальцевом алфавите" зависит от знаков в алфавите €зыка, хот€ не всегда они равны. ¬ –оссии, к примеру, 30 знаков передают 33 буквы кириллицы. ¬ 1963 году разработан ћеждународный пальцевый алфавит дл€ использовани€ в общении людей разных стран, к примеру, на ќлимпиадах или конгрессах ¬семирной федерации глухих.





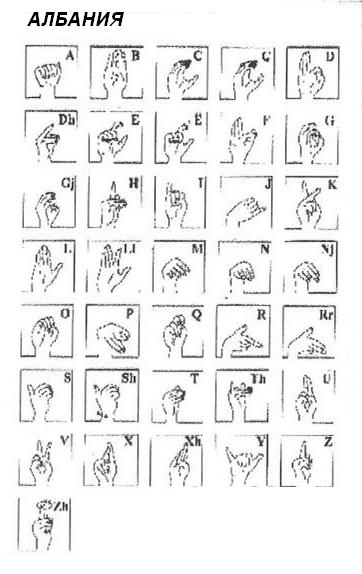


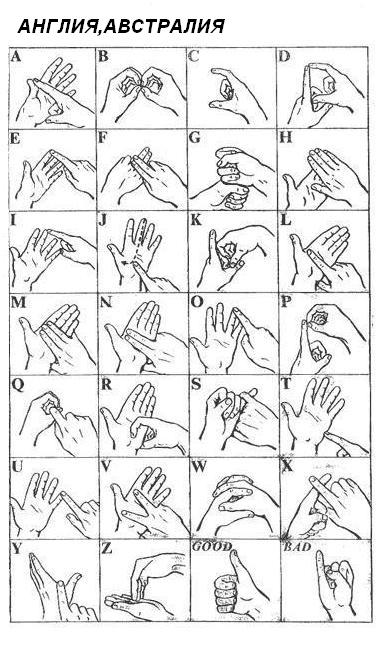


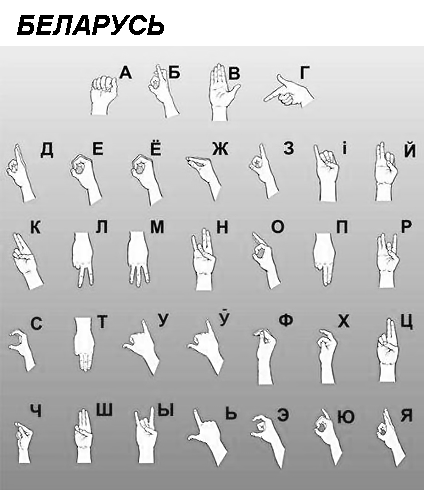

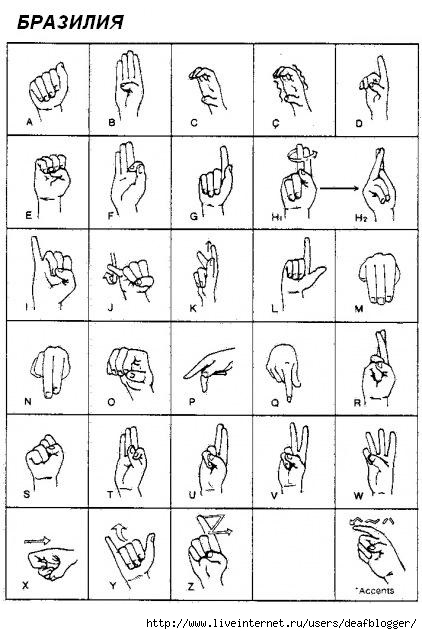
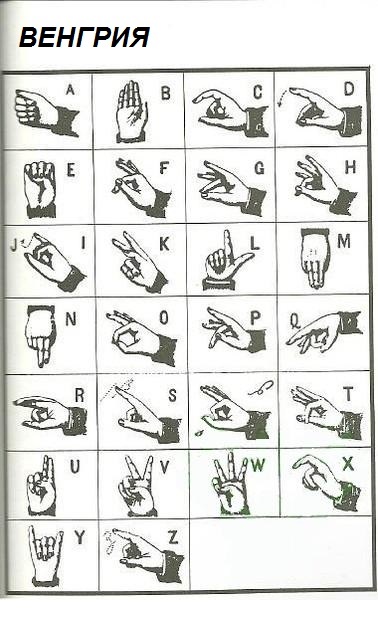




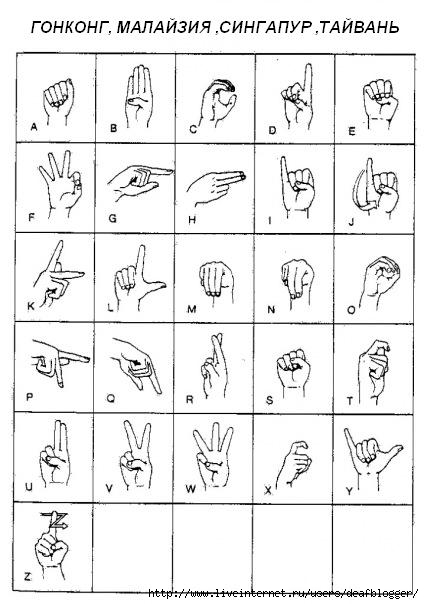


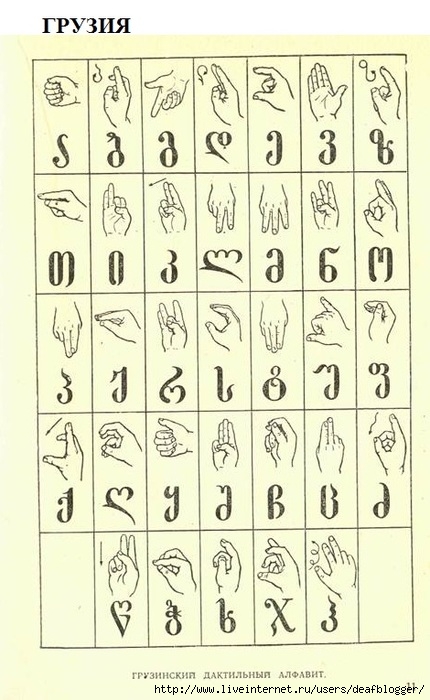

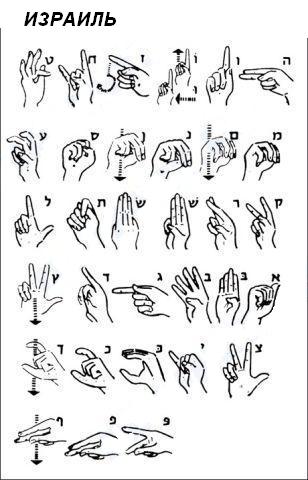
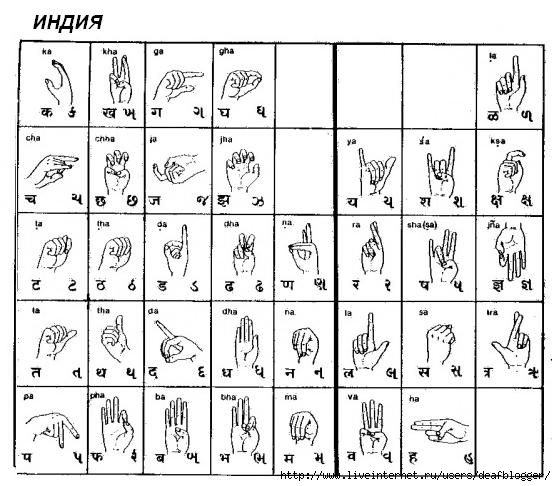





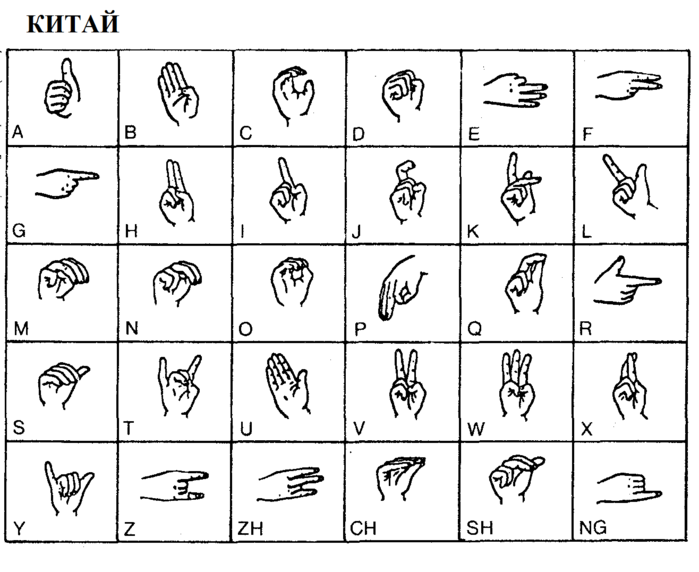



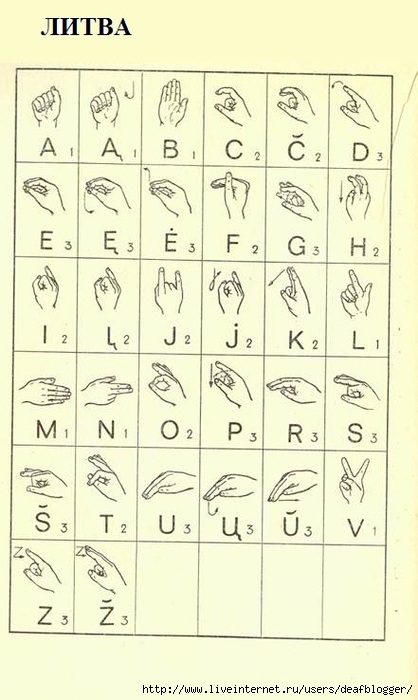
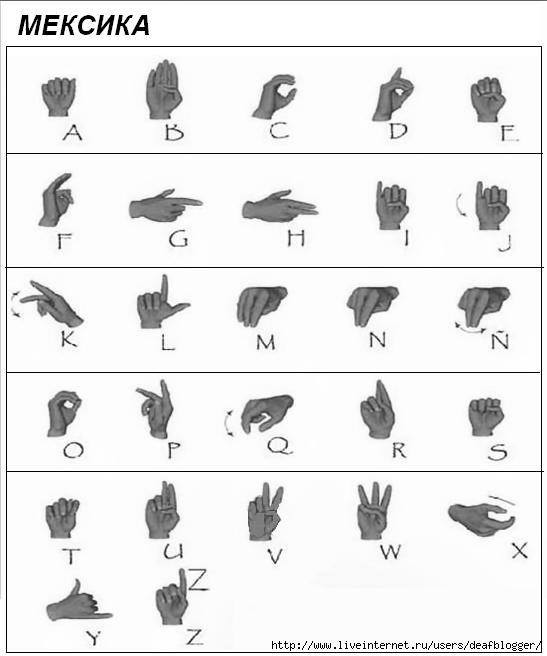
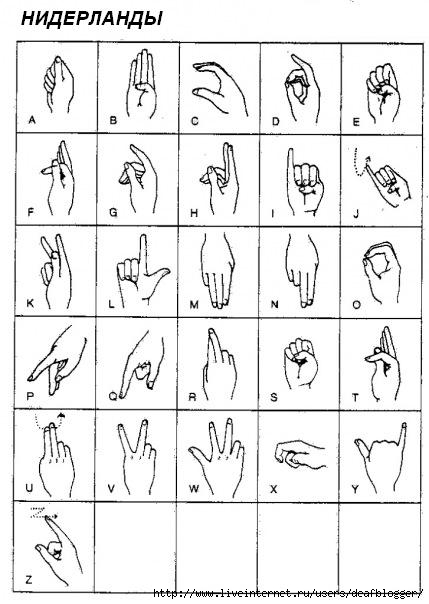


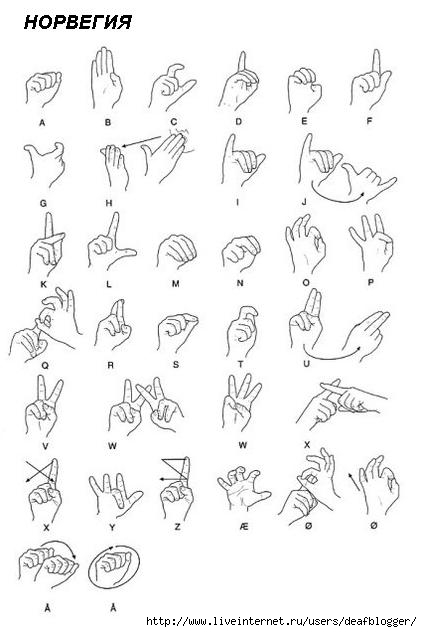
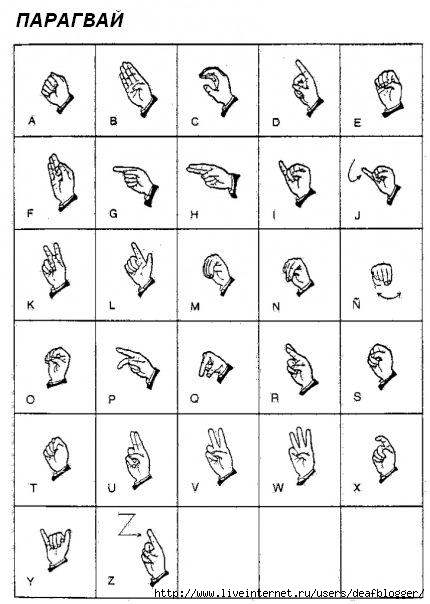

















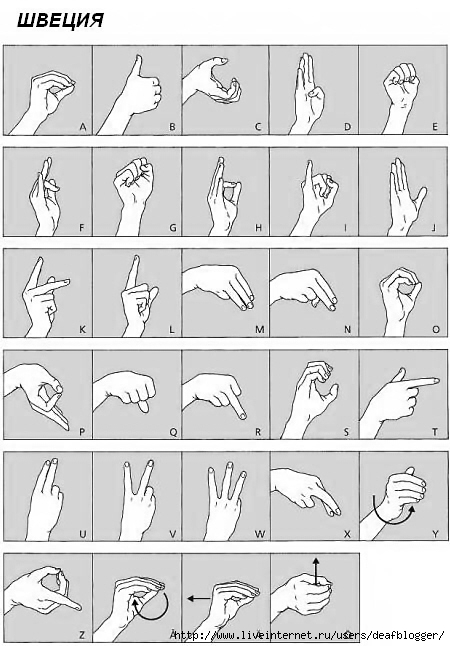


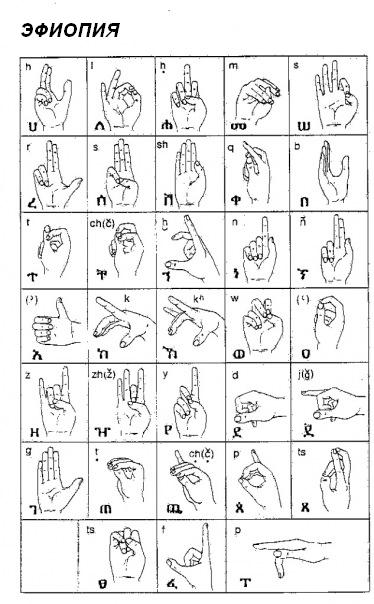











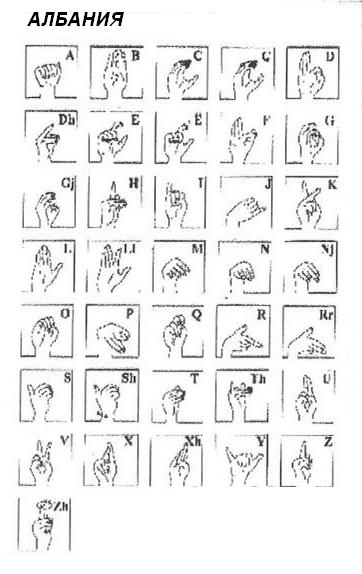


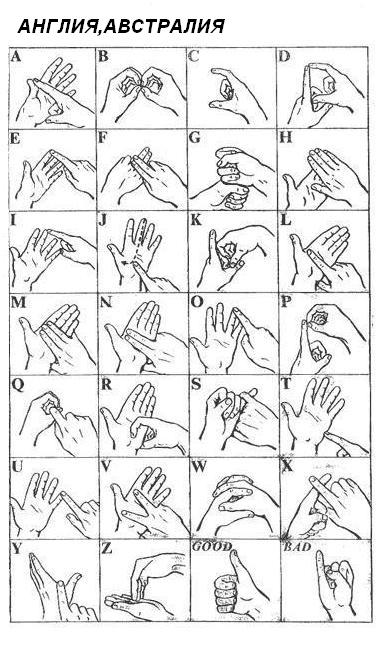


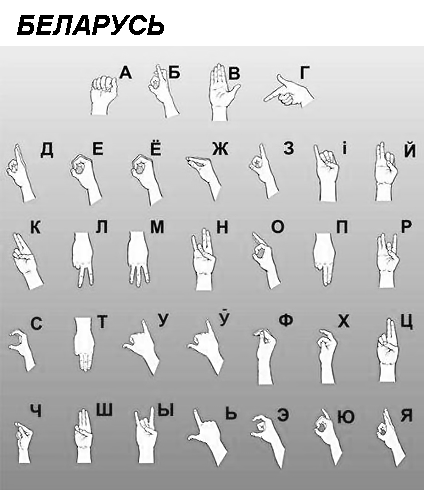

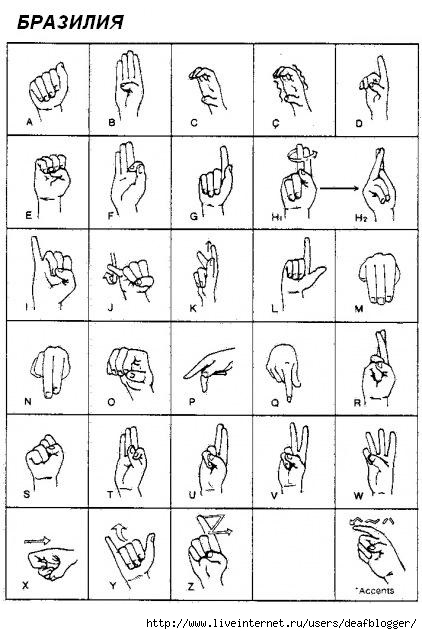
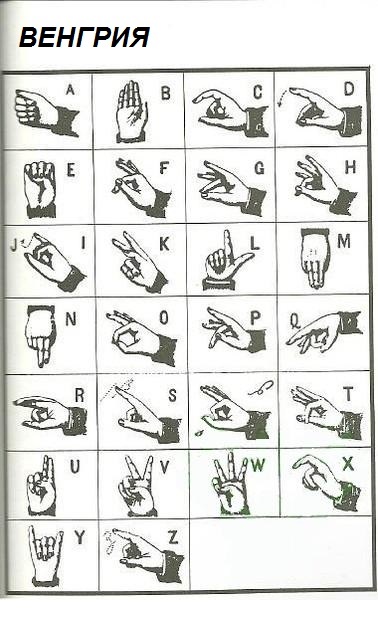




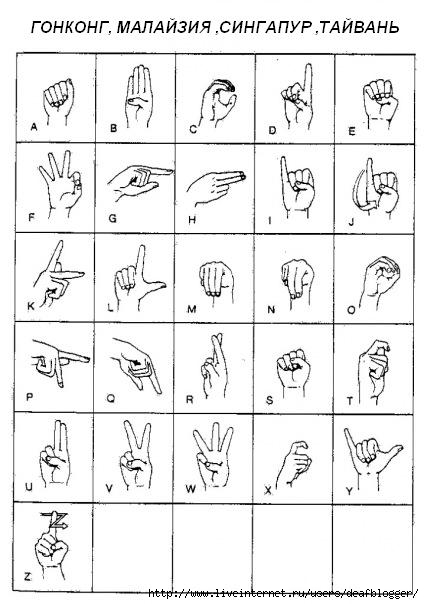


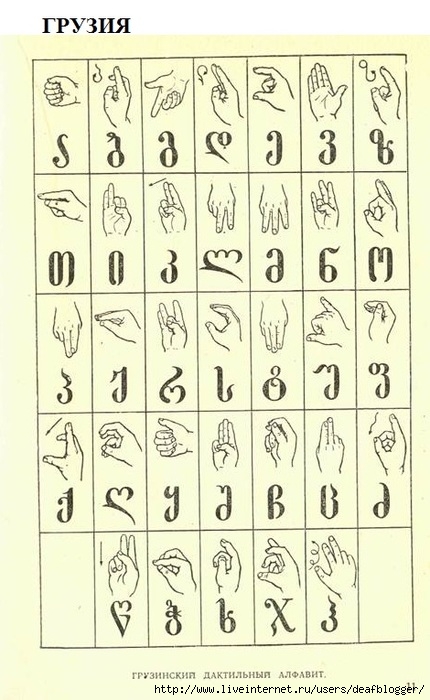

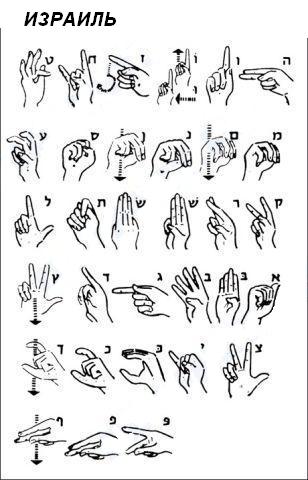
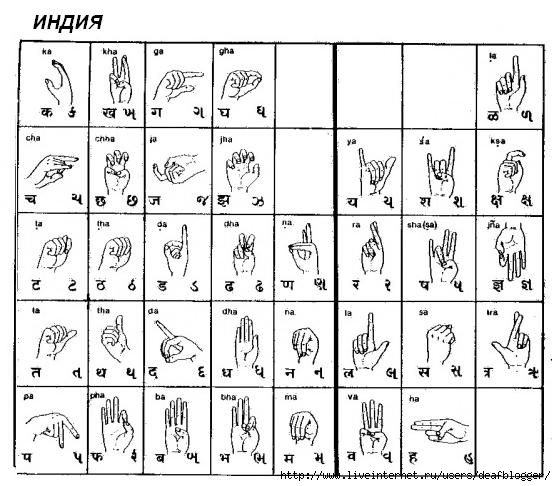





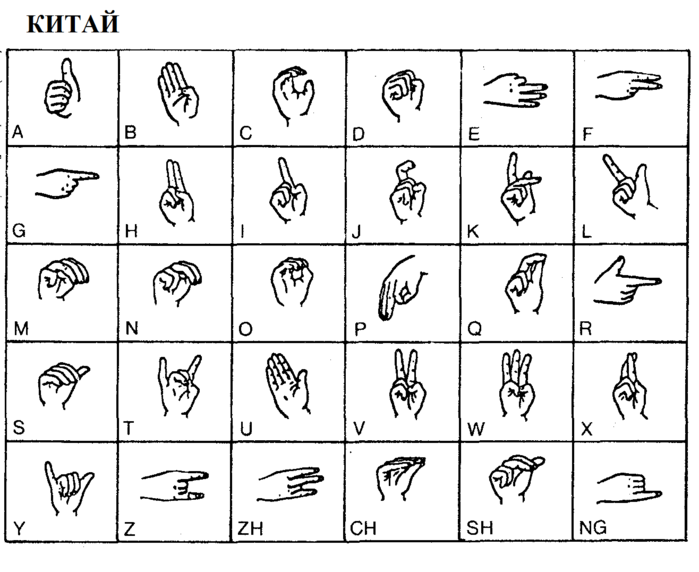



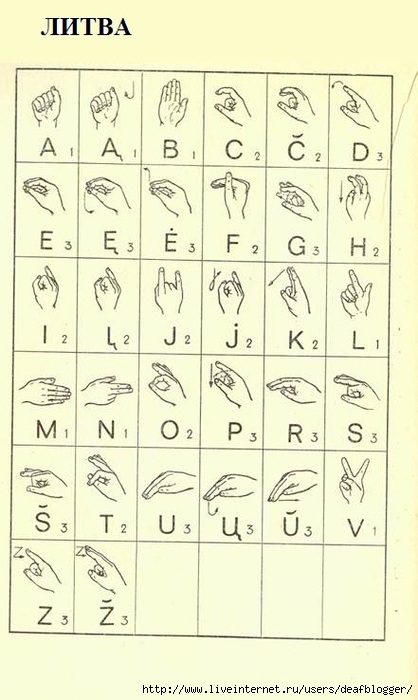
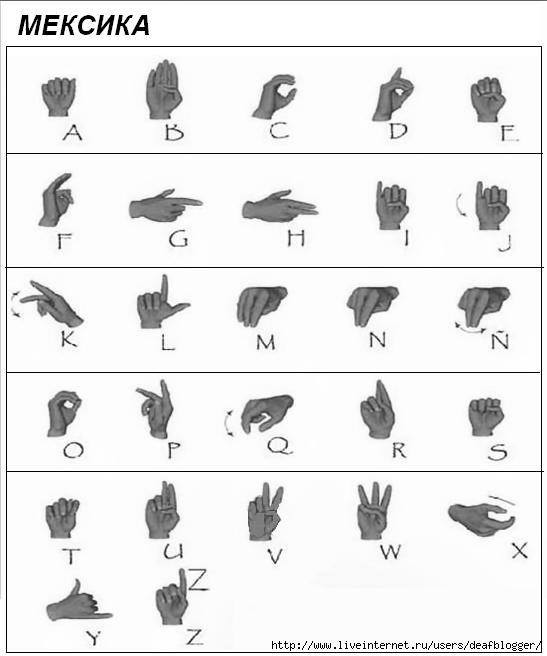
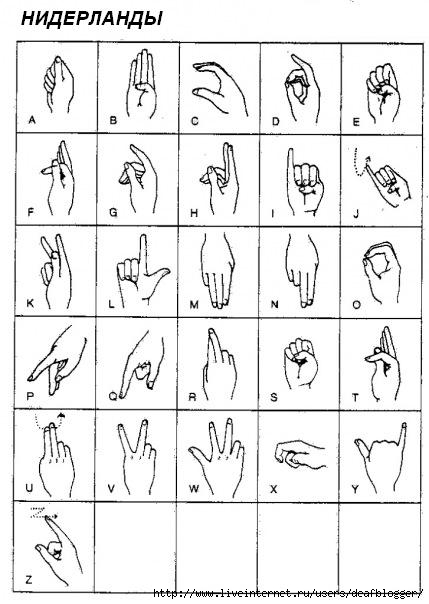


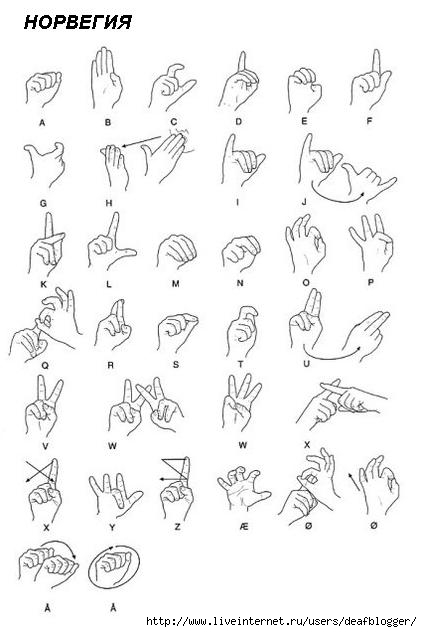
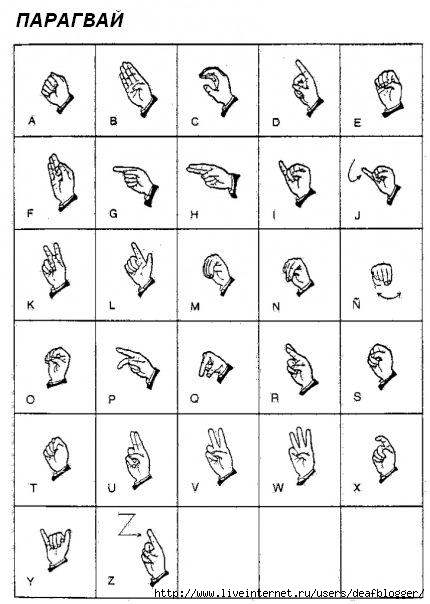

















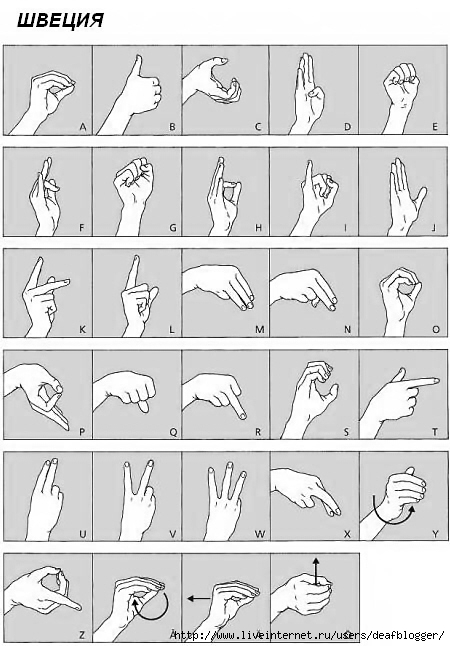


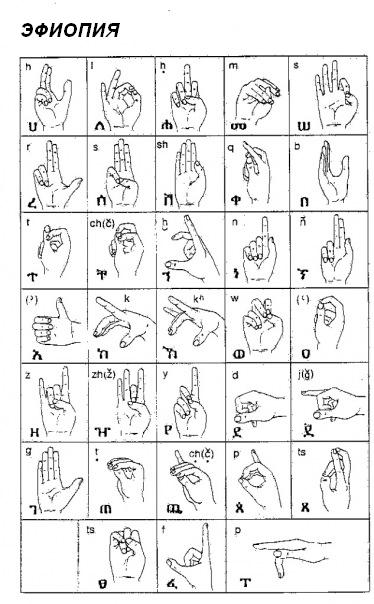






|
ћетки: глухонемые глухие жестовый €зык глухих €зык жестов deaf world мир глухих азбука глухих |
¬идео-запись: ¬еликий,могучий,жестовый €зык глухих. |
|
ћетки: глухие жестовый €зык глухих €зык жестов глухонемые глухих |
ак революци€ повли€ла на глухих? |
ƒневник |
–≈¬ќЋё÷»я ќ ј«јЋј—№ ЅЋј√ќћ ƒЋя √Ћ”’»’
¬ 2017 году исполнилось 100 лет со дн€ ќкт€брьской революции. я не буду рассуждать о ней, дл€ этого есть другие сообщества. Ќо упом€нутые событи€ представл€ют интерес в св€зи с глухими и жестовым €зыком. ак революци€ повли€ла на глухих? »зменилось ли отношение к жестовому €зыку, который в те времена и €зыком-то не считалс€, а в учебных заведени€х был попросту запрещен? Ќа удивление, революци€ оказалась дл€ глухих абсолютным благом! ѕри царе-батюшке лишь небольша€ часть глухих получала образование. »звестный российский сурдопедагог Ќ. ћ. Ћаговский отмечал, что из 124513 глухих обоего пола (согласно переписи 1897 г.) лишь 2930 обучались в специальных заведени€х или были "призреваемыми". ѕосле 1917 г. ситуаци€ в корне изменилась: было введено об€зательное обучение всех детей школьного возраста (Ђѕоложение о единой трудовой школе –—‘—–ї от 16 окт€бр€ 1918 г.), все существующие специализированные учреждени€ дл€ глухих были включены в общегосударственную систему просвещени€ (Ќаркомпрос). Ѕольшое количество глухих по всей стране нужно было воспитать полноправными и полезными членами социалистического общества, что ставило перед специалистами новые задачи и требовало поиска новых путей дл€ их решени€. “ак, большевики одним махом решили проблему образовани€ глухих в –оссии. ѕереживать гражданскую войну, голод и разруху в учебных заведени€х глухим было гораздо легче. Ќова€ власть помогала через раз, с трудом, но все-таки помогала. Ќо главное, что теперь каждый советский глухой был об€зан писать, читать и говорить, а также иметь гражданскую позицию.
ј что же с жестовым €зыком? ќказываетс€ и тут одни только плюсы! ѕосле 1917 г. интерес ученых к жестовому €зыку возрастает, что св€зано с активным вовлечением глухих в общественно-политическую жизнь страны. 1930-м гг. вновь вспыхнула борьба межу Ђчистым устнымї и Ђмимическимї методами. ¬ 1930 г. на ¬сероссийской конференции учителей глухонемых в ћоскве с резкой критикой Ђчистого устного методаї выступил Ћ. —. ¬ыготский. √овор€ о продуктивности использовани€ в процессе обучени€ глухих детей устной, письменной и Ђмимическойї речи, ¬ыготский показал положительное значение последней в их интеллектуальном развитии. ¬ своих работах ¬ыготский критиковал специальную педагогику того времени, утвержда€, что изгон€€ Ђмимикуї из пределов дозволенного речевого общени€ глухонемых детей она тем самым вычеркивает из своего круга огромную часть коллективной жизни и де€тельности глухонемого ребенка. ƒл€ улучшени€ воспитани€ глухих детей, по мнению ¬ыготского, необходимо максимально использовать все виды речи, доступные дл€ неслышащего ребенка.
1930-м гг. можно отнести начало систематического изучени€ русского жестового €зыка. ¬ научной литературе по€вл€ютс€ исследовани€, в той или иной степени затрагивающие различные лингвистические аспекты –∆я: его происхождение, развитие, морфологию, синтаксис, свойства жеста и т. д. ќднако основна€ цель этих исследований Ц найти пользу или показать вред жестового €зыка в процессе обучени€ и воспитани€ глухих детей. “о есть жестовый €зык не изучаетс€ сам по себе, но всегда в сравнении с устной речью, с которой он поневоле соревнуетс€ и, как правило, всегда проигрывает. “ем не менее на ¬сероссийском совещании директоров и завучей школ глухих в 1938 г. –∆я нар€ду с дактильной речью был признан вспомогательным средством обучени€ глухих словесной речи и другим предметам. Ёто был первый (пусть и небольшой) шаг на пути к будущему признанию –∆я как полноценного €зыка.
¬ целом можно сказать, что именно большевикам глухие об€заны своим нынешним положением. ¬озможно, и без революции все сложилось бы так. ƒа только истори€ не терпит сослагательного наклонени€. ¬се сложилось в результате революции и благодар€ ей.
ƒенис «ј¬ј–»÷ »…, переводчик ∆я, —.-ѕетербург
http://www.voginfo.ru/novosti/kolonki/item/2818-revolyutsiya-okazalas-blagom-dlya-glukhikh.html#hcq=hDttAAq
https://vk.com/surdod?w=wall2865326_2485%2Fall
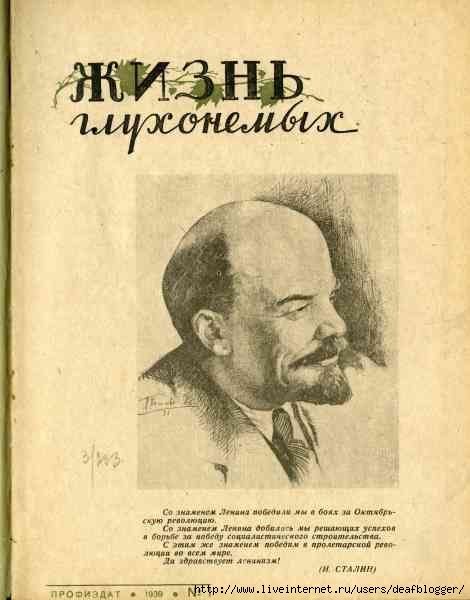
¬ 2017 году исполнилось 100 лет со дн€ ќкт€брьской революции. я не буду рассуждать о ней, дл€ этого есть другие сообщества. Ќо упом€нутые событи€ представл€ют интерес в св€зи с глухими и жестовым €зыком. ак революци€ повли€ла на глухих? »зменилось ли отношение к жестовому €зыку, который в те времена и €зыком-то не считалс€, а в учебных заведени€х был попросту запрещен? Ќа удивление, революци€ оказалась дл€ глухих абсолютным благом! ѕри царе-батюшке лишь небольша€ часть глухих получала образование. »звестный российский сурдопедагог Ќ. ћ. Ћаговский отмечал, что из 124513 глухих обоего пола (согласно переписи 1897 г.) лишь 2930 обучались в специальных заведени€х или были "призреваемыми". ѕосле 1917 г. ситуаци€ в корне изменилась: было введено об€зательное обучение всех детей школьного возраста (Ђѕоложение о единой трудовой школе –—‘—–ї от 16 окт€бр€ 1918 г.), все существующие специализированные учреждени€ дл€ глухих были включены в общегосударственную систему просвещени€ (Ќаркомпрос). Ѕольшое количество глухих по всей стране нужно было воспитать полноправными и полезными членами социалистического общества, что ставило перед специалистами новые задачи и требовало поиска новых путей дл€ их решени€. “ак, большевики одним махом решили проблему образовани€ глухих в –оссии. ѕереживать гражданскую войну, голод и разруху в учебных заведени€х глухим было гораздо легче. Ќова€ власть помогала через раз, с трудом, но все-таки помогала. Ќо главное, что теперь каждый советский глухой был об€зан писать, читать и говорить, а также иметь гражданскую позицию.
ј что же с жестовым €зыком? ќказываетс€ и тут одни только плюсы! ѕосле 1917 г. интерес ученых к жестовому €зыку возрастает, что св€зано с активным вовлечением глухих в общественно-политическую жизнь страны. 1930-м гг. вновь вспыхнула борьба межу Ђчистым устнымї и Ђмимическимї методами. ¬ 1930 г. на ¬сероссийской конференции учителей глухонемых в ћоскве с резкой критикой Ђчистого устного методаї выступил Ћ. —. ¬ыготский. √овор€ о продуктивности использовани€ в процессе обучени€ глухих детей устной, письменной и Ђмимическойї речи, ¬ыготский показал положительное значение последней в их интеллектуальном развитии. ¬ своих работах ¬ыготский критиковал специальную педагогику того времени, утвержда€, что изгон€€ Ђмимикуї из пределов дозволенного речевого общени€ глухонемых детей она тем самым вычеркивает из своего круга огромную часть коллективной жизни и де€тельности глухонемого ребенка. ƒл€ улучшени€ воспитани€ глухих детей, по мнению ¬ыготского, необходимо максимально использовать все виды речи, доступные дл€ неслышащего ребенка.
1930-м гг. можно отнести начало систематического изучени€ русского жестового €зыка. ¬ научной литературе по€вл€ютс€ исследовани€, в той или иной степени затрагивающие различные лингвистические аспекты –∆я: его происхождение, развитие, морфологию, синтаксис, свойства жеста и т. д. ќднако основна€ цель этих исследований Ц найти пользу или показать вред жестового €зыка в процессе обучени€ и воспитани€ глухих детей. “о есть жестовый €зык не изучаетс€ сам по себе, но всегда в сравнении с устной речью, с которой он поневоле соревнуетс€ и, как правило, всегда проигрывает. “ем не менее на ¬сероссийском совещании директоров и завучей школ глухих в 1938 г. –∆я нар€ду с дактильной речью был признан вспомогательным средством обучени€ глухих словесной речи и другим предметам. Ёто был первый (пусть и небольшой) шаг на пути к будущему признанию –∆я как полноценного €зыка.
¬ целом можно сказать, что именно большевикам глухие об€заны своим нынешним положением. ¬озможно, и без революции все сложилось бы так. ƒа только истори€ не терпит сослагательного наклонени€. ¬се сложилось в результате революции и благодар€ ей.
ƒенис «ј¬ј–»÷ »…, переводчик ∆я, —.-ѕетербург
http://www.voginfo.ru/novosti/kolonki/item/2818-revolyutsiya-okazalas-blagom-dlya-glukhikh.html#hcq=hDttAAq
https://vk.com/surdod?w=wall2865326_2485%2Fall
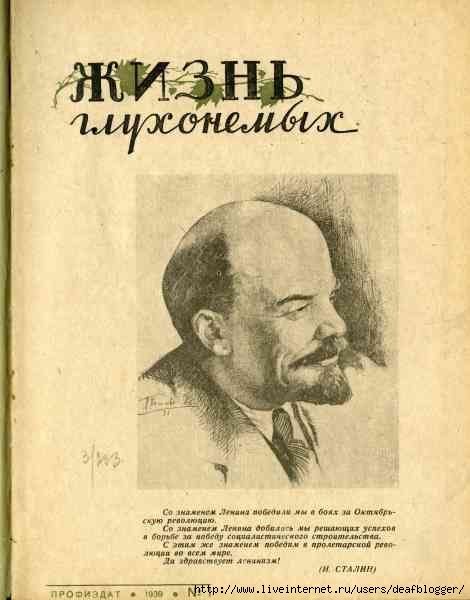
|
ћетки: глухонемые глухие мир глухих |
10 фактов о французском жестовом €зыке. |
ƒневник |
10 фактов о французском жестовом €зыке.
1. ‘ранцузский жестовый €зык (LFS) используетс€ глухими жител€ми ‘ранции и нескольких других стран. ѕо разным данным его используют от 50 до 100 тыс€ч человек.
2. ќт французского жестового €зыка произошли (или испытали его сильное вли€ние) нидерландский, русский, ирландский, квебекский и другие жестовые €зыки.
3. —оздателем французского жестового €зыка часто ошибочно называют Ўарл€-ћишел€ де лТЁпе. Ќа самом деле, он обнаружил уже существующий старофранцузский жестовый €зык и развил его. ќднажды, зайд€ в дом, где жили две глухие сестры, де л'Ёпе был поражЄн тому, насколько идеальной была система общени€ жестами, и начал изучать ее.
4. Ўарль-ћишель де л'Ёпе первым открыл школу дл€ глухих, разработал систему Ђметодических жестовї дл€ обучени€ своих учеников письму и чтению, публично демонстрировал свои достижени€, привлека€ внимание педагогов всех европейских стран. »менно он €вл€етс€ автором идеи о том, что глухие обучаемы. “акже де л'Ёпе доказал, что глухие люди могут думать, не использу€ звучащие слова.
5. ¬ конце 19 века французские сторонники обучени€ глухих исключительно устной речи (так называемые Ђоралистыї) пришли к выводу, что жестовый €зык €вл€етс€ лишь преп€тствием дл€ обучени€ детей речи. ‘ранцузский жестовый €зык был полностью запрещЄн в школах.
6. Ёта ситуаци€ сохран€лась до 70-х годов прошлого столети€, когда сообщество глухих начало активно выступать за дву€зычное обучение. ¬ 1991 году национальна€ ассамбле€ прин€ла "закон ‘абюса", разрешив преподавание на французском жестовом €зыке.
7. 2004 год стал годом прин€ти€ закона, согласно которому французский жестовый €зык получил официальный статус полноценного €зыка.
8. — 1834 года во ‘ранции существует Ќациональна€ ‘ранцузска€ федераци€ глухих. — 1985 года она €вл€етс€ частью ≈вропейской федерации глухих.
9. оличество официально работающих жестовых переводчиков во ‘ранции составл€ет около 500 человек.
10. ¬о ‘ранции существует 4 университета, где можно получить образование переводчика жестового €зыка: два в ѕариже и по одному в “улузе и Ћилле. ќбучение длитс€ 2,5 - 3 года.

‘ранцузский жестовый €зык(ручна€ азбука глухих)

1. ‘ранцузский жестовый €зык (LFS) используетс€ глухими жител€ми ‘ранции и нескольких других стран. ѕо разным данным его используют от 50 до 100 тыс€ч человек.
2. ќт французского жестового €зыка произошли (или испытали его сильное вли€ние) нидерландский, русский, ирландский, квебекский и другие жестовые €зыки.
3. —оздателем французского жестового €зыка часто ошибочно называют Ўарл€-ћишел€ де лТЁпе. Ќа самом деле, он обнаружил уже существующий старофранцузский жестовый €зык и развил его. ќднажды, зайд€ в дом, где жили две глухие сестры, де л'Ёпе был поражЄн тому, насколько идеальной была система общени€ жестами, и начал изучать ее.
4. Ўарль-ћишель де л'Ёпе первым открыл школу дл€ глухих, разработал систему Ђметодических жестовї дл€ обучени€ своих учеников письму и чтению, публично демонстрировал свои достижени€, привлека€ внимание педагогов всех европейских стран. »менно он €вл€етс€ автором идеи о том, что глухие обучаемы. “акже де л'Ёпе доказал, что глухие люди могут думать, не использу€ звучащие слова.
5. ¬ конце 19 века французские сторонники обучени€ глухих исключительно устной речи (так называемые Ђоралистыї) пришли к выводу, что жестовый €зык €вл€етс€ лишь преп€тствием дл€ обучени€ детей речи. ‘ранцузский жестовый €зык был полностью запрещЄн в школах.
6. Ёта ситуаци€ сохран€лась до 70-х годов прошлого столети€, когда сообщество глухих начало активно выступать за дву€зычное обучение. ¬ 1991 году национальна€ ассамбле€ прин€ла "закон ‘абюса", разрешив преподавание на французском жестовом €зыке.
7. 2004 год стал годом прин€ти€ закона, согласно которому французский жестовый €зык получил официальный статус полноценного €зыка.
8. — 1834 года во ‘ранции существует Ќациональна€ ‘ранцузска€ федераци€ глухих. — 1985 года она €вл€етс€ частью ≈вропейской федерации глухих.
9. оличество официально работающих жестовых переводчиков во ‘ранции составл€ет около 500 человек.
10. ¬о ‘ранции существует 4 университета, где можно получить образование переводчика жестового €зыка: два в ѕариже и по одному в “улузе и Ћилле. ќбучение длитс€ 2,5 - 3 года.

‘ранцузский жестовый €зык(ручна€ азбука глухих)

|
ћетки: deaf world жестовый €зык глухих глухонемые €зык жестов глухие |
√имн глухих –оссии,”краины, азахстана. |
ƒневник |

|
ћетки: глухонемые глухие гимн глухих жестовый €зык глухих |
–усска€ ручна€ (пальцева€, дактильна€) азбука глухих (глухонемых) . |
ƒневник |
–учна€ азбука (дактилологи€) Ч знакова€ система, примен€ема€ в общении с неслышащими. Ёта специфическа€ коммуникаци€ воспринимаетс€ зрительно и воспроизводитс€ движением кисти руки: пальцы как бы изображают букву, повтор€ют еЄ начертание.
¬ русской ручной азбуке столько дактильных знаков, сколько букв в русском алфавите Ч 33. аждый дактильный знак (дактилема) обозначает букву (графему). ”своение дактильных знаков облегчаетс€ тем, что некоторые из них, например, м-ш-щ имеют общую конфигурацию, а различаютс€ лишь по дополнительным признакам: направлению пальцев, движению кисти руки.
»сточник: ».‘.√ейльман "«накомьтесь: ручна€ речь"
‘отографика: ¬.¬.ћуратов.


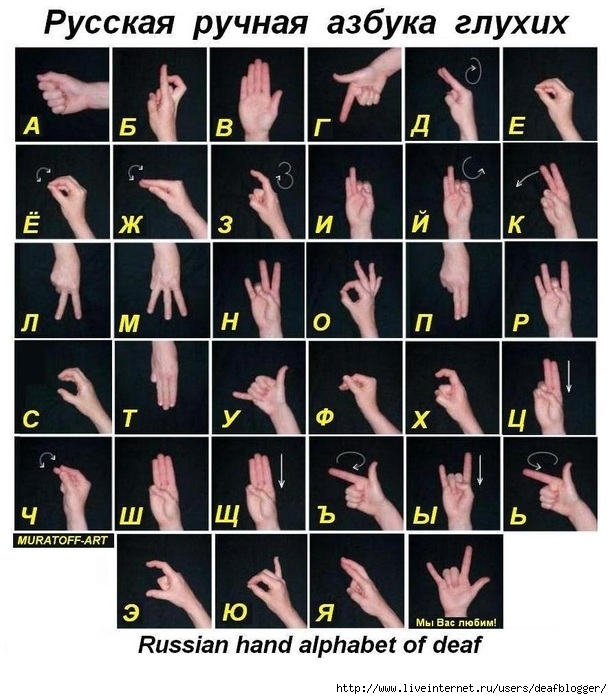

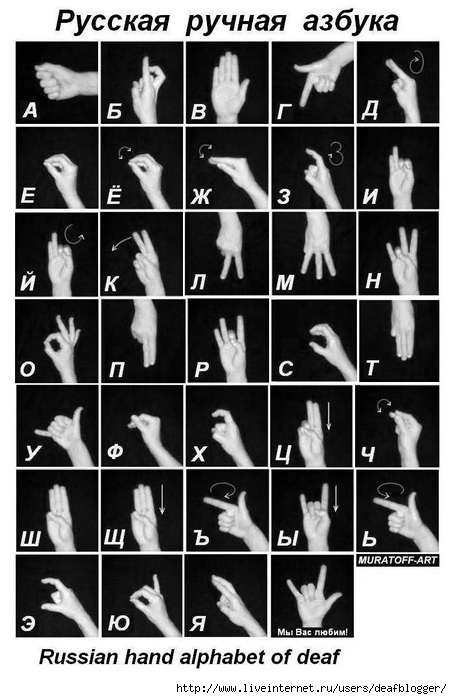
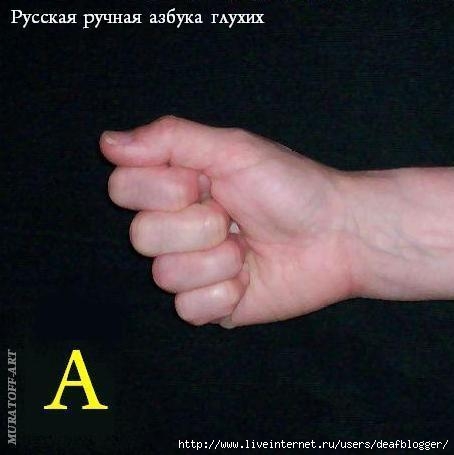



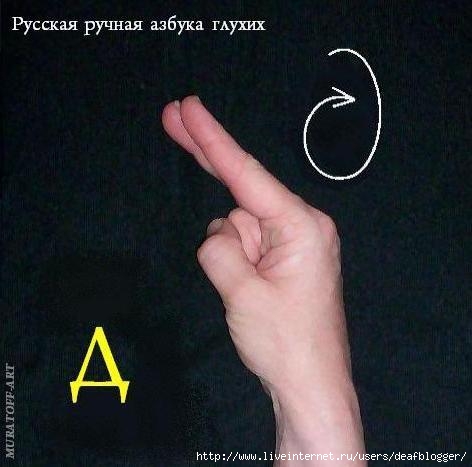



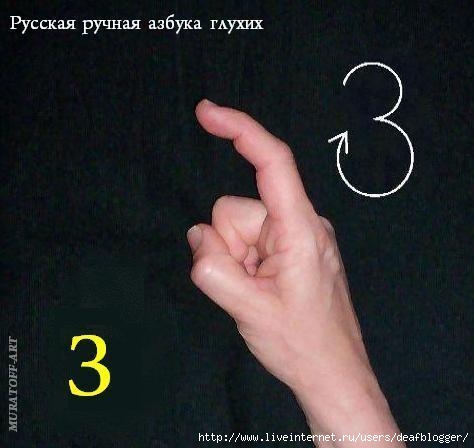

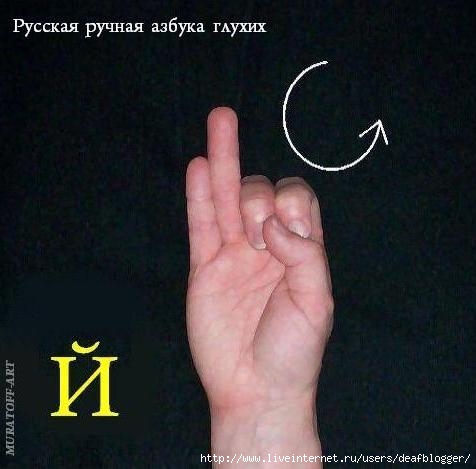

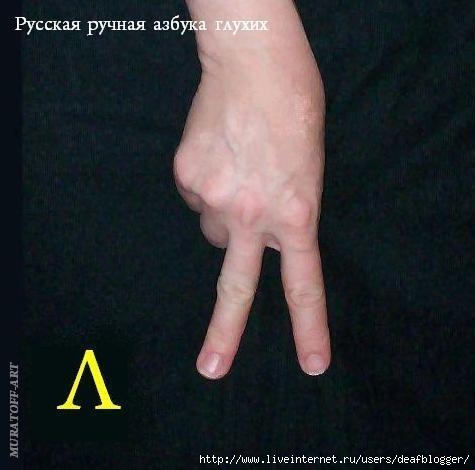

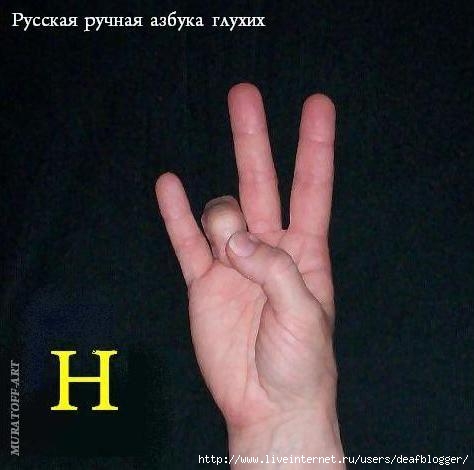


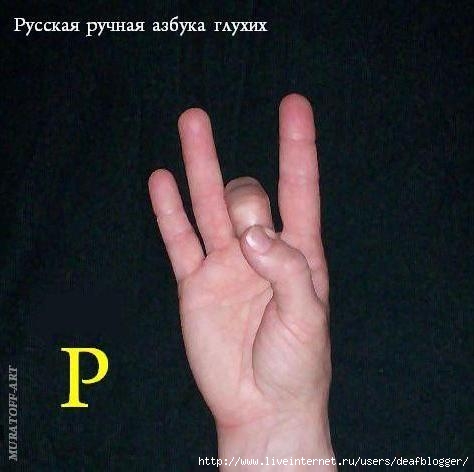




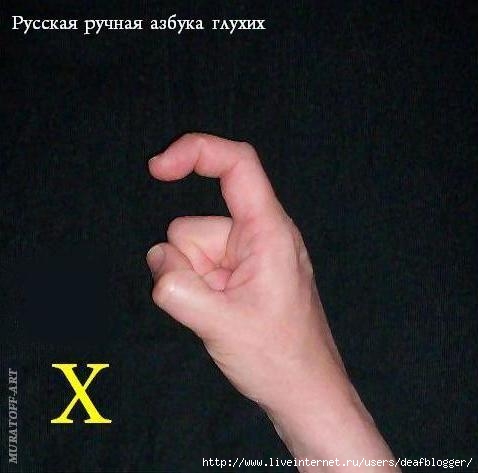

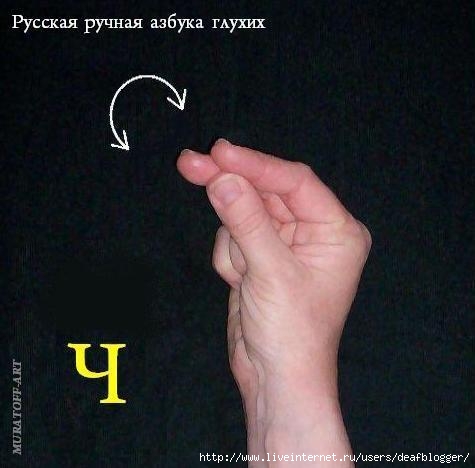




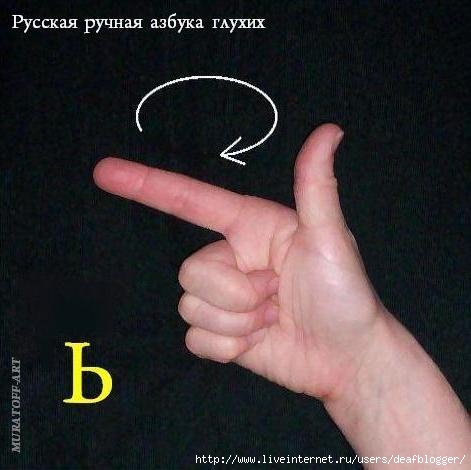
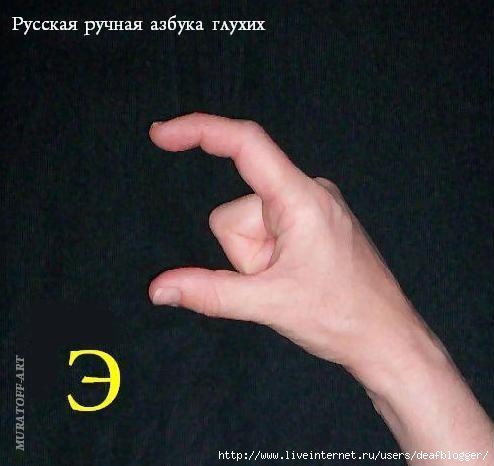
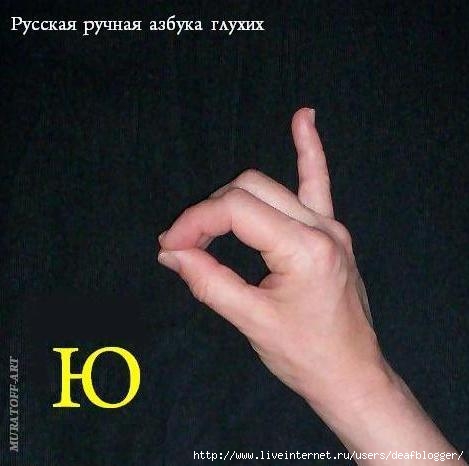

¬ русской ручной азбуке столько дактильных знаков, сколько букв в русском алфавите Ч 33. аждый дактильный знак (дактилема) обозначает букву (графему). ”своение дактильных знаков облегчаетс€ тем, что некоторые из них, например, м-ш-щ имеют общую конфигурацию, а различаютс€ лишь по дополнительным признакам: направлению пальцев, движению кисти руки.
»сточник: ».‘.√ейльман "«накомьтесь: ручна€ речь"
‘отографика: ¬.¬.ћуратов.


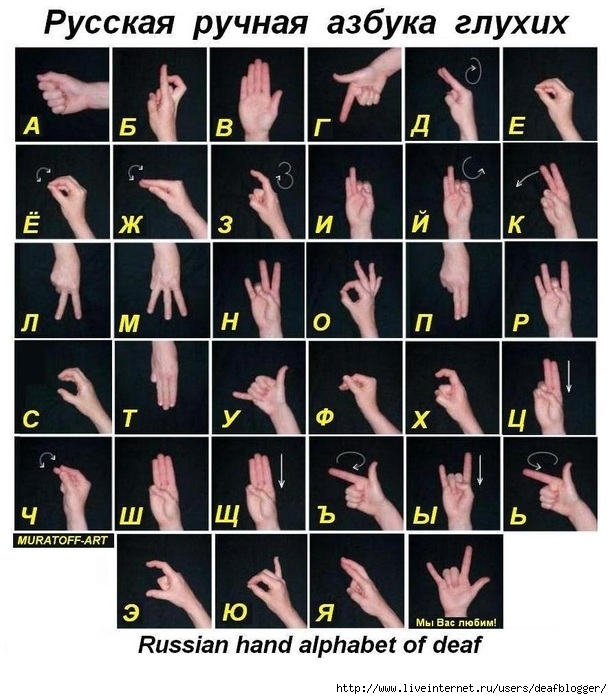

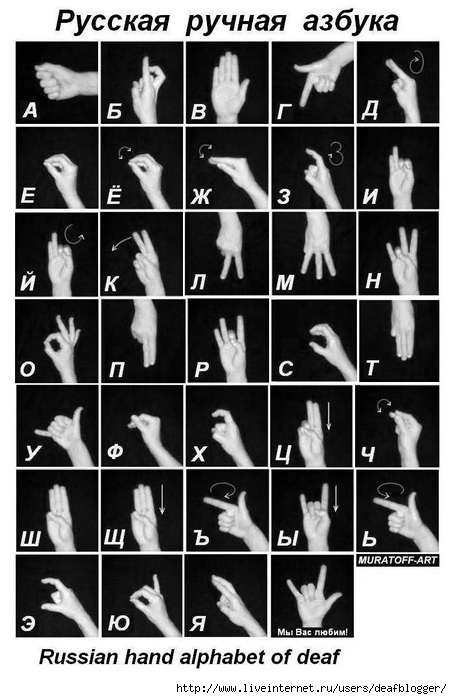
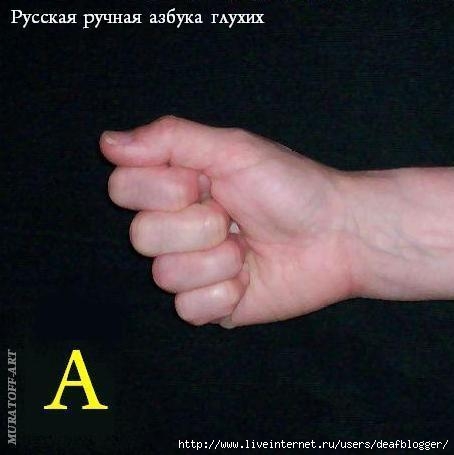



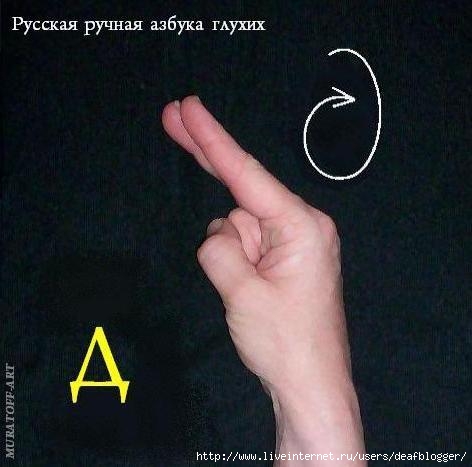



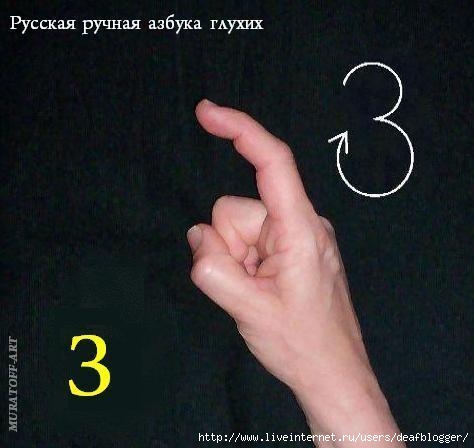

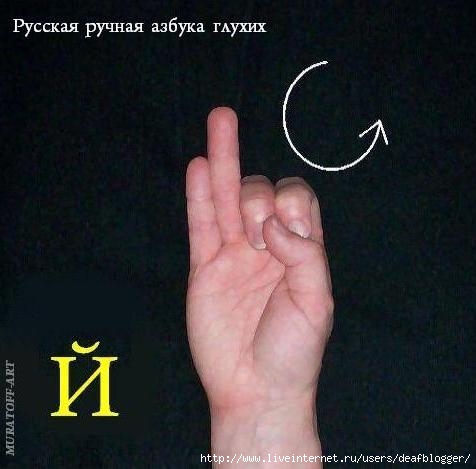

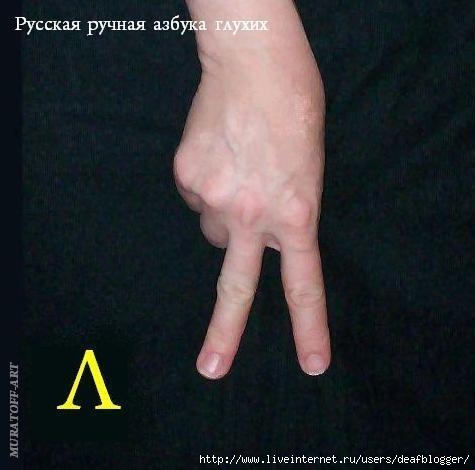

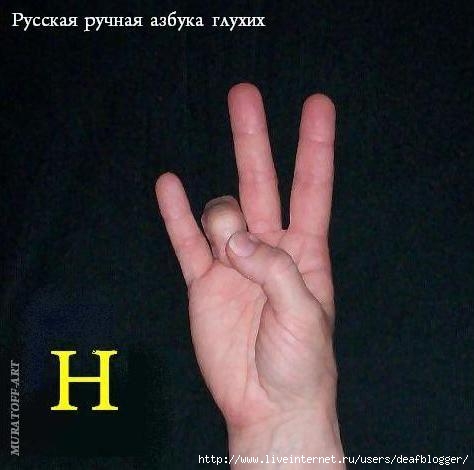


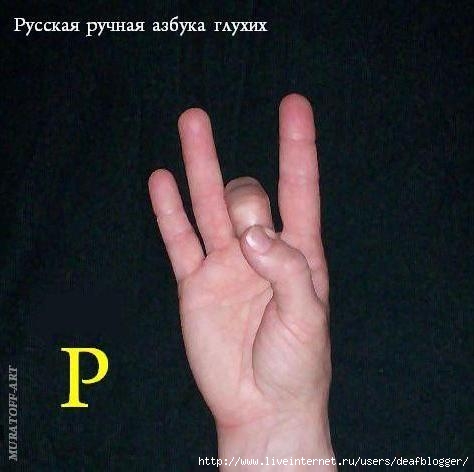




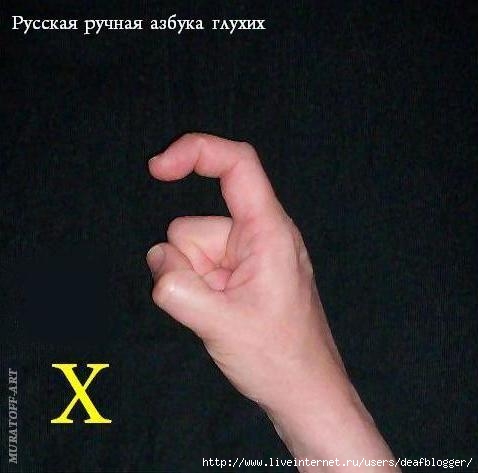

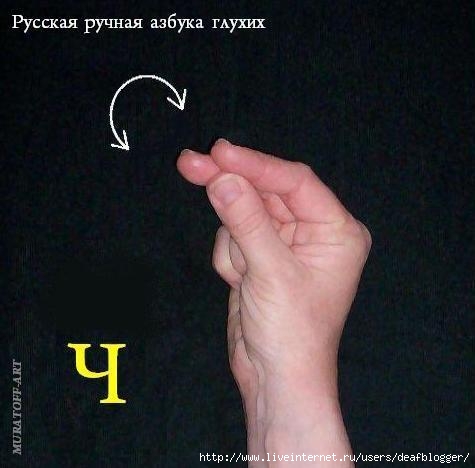




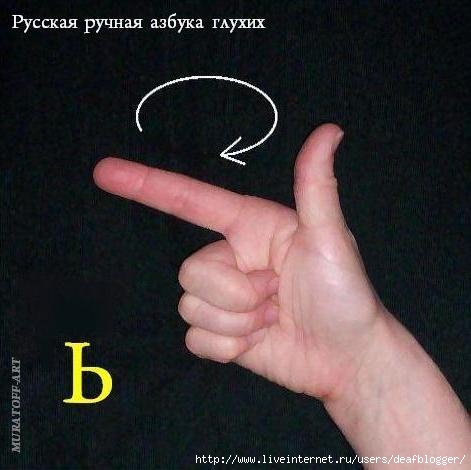
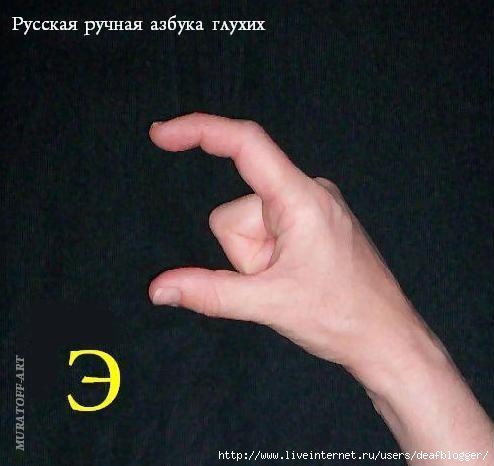
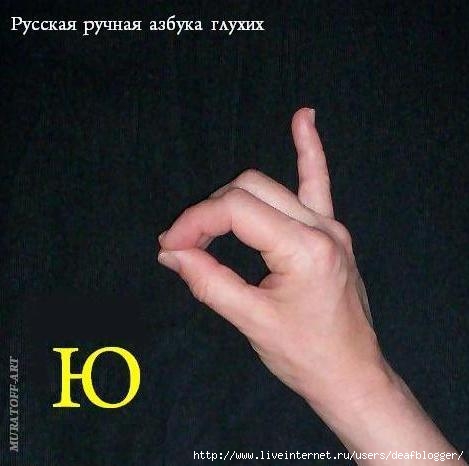

|
ћетки: жестовый €зык глухих глухонемые глухие мир глухих deaf world ручна€ азбука глухих |
"¬иртуальна€ планета глухих". |
Ёто цитата сообщени€ DEAFBlogger [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]
.
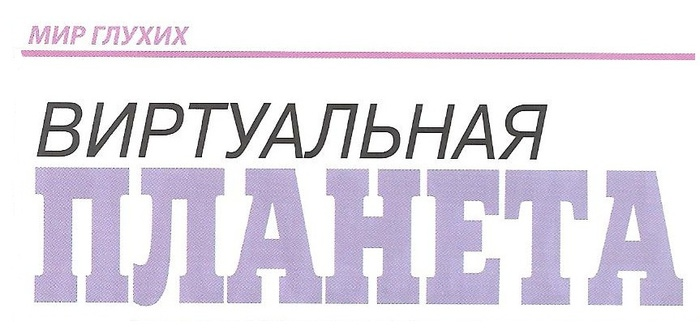
¬ социальной сети ћќ… ћ»– попул€рного почтового сервиса mail.ru.
уже несколько лет растет сообщество неслышащих DEAF WORLD (http://my.mail.ru/community/deafworld ),
созданное ¬иктором ћуратовым (один из первых создателей групп дл€ глухих в социальных сет€х и инициатор конкурса песен музыкальных видеоклипов на русском жестовом €зыке и с субтитрами на сайте "√лухих.нет.") .
¬ насто€щий момент это самое большое и самое первое сообщество глухих в русско€зычном »нтернете(победитель ( 1 место) VII ‘естивал€ социальных интернет-ресурсов Ђћир равных возможностейї).

-¬иктор,в вашем сообществе DEAF WORLD.ћир глухих и слабослышащих
насчитываетс€ около 25 тыс.участников. ак все начиналось?
-ћир глухих не так огромен,как мир слышащих,
которые могут где угодно и когда угодно получить информацию,
ведь они живут в мире звуков. ј у глухих эти возможности ограничены.
ѕоэтому € решил,что нужно объединить в сети ћэйл.ру
братьев и сестер по глухоте,создать общество единомышленников,
дл€ которых родной €зык-жестовый.ѕервое врем€ € размещал
в сообществе ссылки на сайты глухих,вс€кие ручные азбуки,
картинки на тему глухоты,фото,заметки и т.д.
ѕотом начал делать ролики на жестовом €зыке.
ƒальше слышащие и слабослышащие начали писать мне жалобы-
мол,мы тоже хотим пон€ть,о чем речь.
ѕришлось вставл€ть субтитры.
***
-√лухие из каких стран участвуют в сообществе? ≈сть ли слышащие?
-–усско€зычные из разных стран,в первую очередь,бывшего ———–,а также из »зраил€,
√ермании, —Ўј, ¬еликобритании,Ќовой «еландии,
есть даже с убы.—амые активные участники-украинцы.
¬ сообществе не только глухие и слабослышащие,есть и слышащие,
это родители глухих детей,позднооглохшие а также те кто работает с глухими.
¬ основном слышащие заход€т к нам,
чтобы научитьс€ жестовым €зыкам и обсудить проблемы »(кохлеарной имплантации).
***
- акие темы попул€рны при обсуждении?
-Ќаиболее попул€рные темы о жестовом €зыке,религии,а также о кохлеарной имплантации
(кстати очень много противников » в ≈вропе и —Ўј),
о проблемах в системе организации глухих не только в –оссии,но и ближнем «арубежье,
например, совсем недавно обсуждали забастовку глухих в азахстане.
***
-Ќасколько широко используютс€ видеоролики на жестовом €зыке?
-ќсобую попул€рностью пользуютс€ клипы на жестовом €зыке,которых в —ети так не хватает.
ј также видеорассказы на жестовом €зыке на библейские темы,и мои приколы -"ћуратоFF & Ѕрюнетка" анекдоты и байки на ∆я...
***
- то помогат вам вести это сообщество в сети?
-ѕервое врем€ € вел все сам,кое-кто присылал ссылки,потом по€вились единомышленники и сами стали писать блоги и присылать интересные вырезки из ¬семирной паутины.¬ свое врем€ в сообществе вели Ћюдмила —еврюгина,“ать€на Ќужина(она в основном на ответах сидит)—ейчас участники сами все ведут,пишут репортажи ,вставл€ют ролики,рецепты вс€кие и все, что можно в »нтернете.
»нтересные блоги пишет ¬иктор „ередниченко из ”краины и ***Deaf _Jurii*** из “оль€ти и другие.я в последнее врем€ уже меньше занимаюсь сообществом,у мен€ по€вились новые проекты-делаю юмористическик мини-ролики и начинаю делать видеоблог "’очу все знать о глухих и про глухих",например, о первом училище дл€ глухих,о ÷иалковском
(можно посмотреть http://www.youtube.com/user/deafmurat ).
***
-ј теперь немного о ¬ашей жизни.Ѕыл ли опыт осознани€ глухоты как особой судьбы?
-¬ семье € с младшим братом ‘едором(слышащий)-поздние дети,когда
закончили школы, мои родители уже были пенсионерами,отец участник ¬ќ¬-железнодорожник,мать -санитарка.
—лух € потер€л с малых лет.
”чилс€ в школе-интерната є3 в г.Ёнгельсе —аратовской области.„увствовал себ€ там не в своей тарелке,
т.к.€ в классе слышал хуже всех,мои одноклассники свободно разговаривали голосом.ј € читал по губам(на жестовом €зыке не разрешали разговаривать).√лухой имеет право говорить на своем €зыке!
ћожет быть это судьба...¬се таки € не стесн€лс€ своей глухоты,не чуствовал дискомфорта...
***
-„то ценного ¬ам дали годы учебы в Ћ¬÷?
ƒл€ мен€ политехникум Ћ¬÷ ¬ќ√- это как у ѕушкина лицей, "ћы все учились понемногу
„ему-нибудь и как-нибудь..."
-—амосто€тельность и независимость, привычку делать все самому, несмотр€ ни на что.
≈сть замечательные стихи глухого поэта ј. јбрамова, который он написал по моей просьбе дл€ ролика к 45-летию Ћ¬÷-ћ÷–:
Ћ¬÷! »зр€дна эта веха-
√лубже ,скажем шрама, на лице.
Ўколой жизни, кузницей успеха
—тал дл€ многих славный Ћ¬÷!
***
-Ќасколько € знаю, ¬ы совмещаете работу на заводе холодильников и в ¬ќ√?
-¬ерно. ¬ начале 90-х работал художником-оформителем в ƒ ¬ќ√, затем худруком,
но зарплата была "символической"( еЄ и не было, работали за бесплатно, как общественники),так что на завод € пошел, чтобы прокормить семью.
ј завод —Ёѕќ знаменит своими холодильниками "—аратов".
—еичас здесь работают 150 глухих и 2 переводчика! Ќигде больше в —аратове нет такого количества
глухих. «авод огромный, в каждом цехе от 3 до 10 неслышащих.я одно врем€ работал в лакокрасочном цехе,
где был бригадиром среди слышащих.Ќо там услови€ вредные,сейчас на сборке.
¬ начале этого года председатель –ќ ¬ќ√ ј.ѕ.„ернов предложил мне в свободное врем€ поработать
художественным руководителем ƒ , € согласилс€.
«а полгода поставил несколько концертов в новом формате(совмещаю реальность и виртуальность), веселый конкурс "ћисс ѕышка",
участвовали на зональном конкурсе жестовой песни в азани(¬≈— писал об этом).
***
Ѕеседовал ¬асилий —крипов. ¬≈— 9/2012




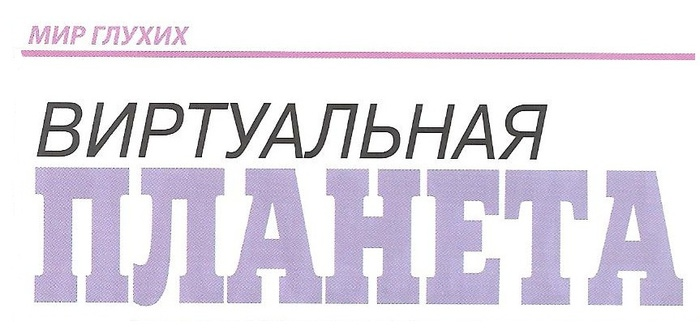
¬ социальной сети ћќ… ћ»– попул€рного почтового сервиса mail.ru.
уже несколько лет растет сообщество неслышащих DEAF WORLD (http://my.mail.ru/community/deafworld ),
созданное ¬иктором ћуратовым (один из первых создателей групп дл€ глухих в социальных сет€х и инициатор конкурса песен музыкальных видеоклипов на русском жестовом €зыке и с субтитрами на сайте "√лухих.нет.") .
¬ насто€щий момент это самое большое и самое первое сообщество глухих в русско€зычном »нтернете(победитель ( 1 место) VII ‘естивал€ социальных интернет-ресурсов Ђћир равных возможностейї).

-¬иктор,в вашем сообществе DEAF WORLD.ћир глухих и слабослышащих
насчитываетс€ около 25 тыс.участников. ак все начиналось?
-ћир глухих не так огромен,как мир слышащих,
которые могут где угодно и когда угодно получить информацию,
ведь они живут в мире звуков. ј у глухих эти возможности ограничены.
ѕоэтому € решил,что нужно объединить в сети ћэйл.ру
братьев и сестер по глухоте,создать общество единомышленников,
дл€ которых родной €зык-жестовый.ѕервое врем€ € размещал
в сообществе ссылки на сайты глухих,вс€кие ручные азбуки,
картинки на тему глухоты,фото,заметки и т.д.
ѕотом начал делать ролики на жестовом €зыке.
ƒальше слышащие и слабослышащие начали писать мне жалобы-
мол,мы тоже хотим пон€ть,о чем речь.
ѕришлось вставл€ть субтитры.
***
-√лухие из каких стран участвуют в сообществе? ≈сть ли слышащие?
-–усско€зычные из разных стран,в первую очередь,бывшего ———–,а также из »зраил€,
√ермании, —Ўј, ¬еликобритании,Ќовой «еландии,
есть даже с убы.—амые активные участники-украинцы.
¬ сообществе не только глухие и слабослышащие,есть и слышащие,
это родители глухих детей,позднооглохшие а также те кто работает с глухими.
¬ основном слышащие заход€т к нам,
чтобы научитьс€ жестовым €зыкам и обсудить проблемы »(кохлеарной имплантации).
***
- акие темы попул€рны при обсуждении?
-Ќаиболее попул€рные темы о жестовом €зыке,религии,а также о кохлеарной имплантации
(кстати очень много противников » в ≈вропе и —Ўј),
о проблемах в системе организации глухих не только в –оссии,но и ближнем «арубежье,
например, совсем недавно обсуждали забастовку глухих в азахстане.
***
-Ќасколько широко используютс€ видеоролики на жестовом €зыке?
-ќсобую попул€рностью пользуютс€ клипы на жестовом €зыке,которых в —ети так не хватает.
ј также видеорассказы на жестовом €зыке на библейские темы,и мои приколы -"ћуратоFF & Ѕрюнетка" анекдоты и байки на ∆я...
***
- то помогат вам вести это сообщество в сети?
-ѕервое врем€ € вел все сам,кое-кто присылал ссылки,потом по€вились единомышленники и сами стали писать блоги и присылать интересные вырезки из ¬семирной паутины.¬ свое врем€ в сообществе вели Ћюдмила —еврюгина,“ать€на Ќужина(она в основном на ответах сидит)—ейчас участники сами все ведут,пишут репортажи ,вставл€ют ролики,рецепты вс€кие и все, что можно в »нтернете.
»нтересные блоги пишет ¬иктор „ередниченко из ”краины и ***Deaf _Jurii*** из “оль€ти и другие.я в последнее врем€ уже меньше занимаюсь сообществом,у мен€ по€вились новые проекты-делаю юмористическик мини-ролики и начинаю делать видеоблог "’очу все знать о глухих и про глухих",например, о первом училище дл€ глухих,о ÷иалковском
(можно посмотреть http://www.youtube.com/user/deafmurat ).
***
-ј теперь немного о ¬ашей жизни.Ѕыл ли опыт осознани€ глухоты как особой судьбы?
-¬ семье € с младшим братом ‘едором(слышащий)-поздние дети,когда
закончили школы, мои родители уже были пенсионерами,отец участник ¬ќ¬-железнодорожник,мать -санитарка.
—лух € потер€л с малых лет.
”чилс€ в школе-интерната є3 в г.Ёнгельсе —аратовской области.„увствовал себ€ там не в своей тарелке,
т.к.€ в классе слышал хуже всех,мои одноклассники свободно разговаривали голосом.ј € читал по губам(на жестовом €зыке не разрешали разговаривать).√лухой имеет право говорить на своем €зыке!
ћожет быть это судьба...¬се таки € не стесн€лс€ своей глухоты,не чуствовал дискомфорта...
***
-„то ценного ¬ам дали годы учебы в Ћ¬÷?
ƒл€ мен€ политехникум Ћ¬÷ ¬ќ√- это как у ѕушкина лицей, "ћы все учились понемногу
„ему-нибудь и как-нибудь..."
-—амосто€тельность и независимость, привычку делать все самому, несмотр€ ни на что.
≈сть замечательные стихи глухого поэта ј. јбрамова, который он написал по моей просьбе дл€ ролика к 45-летию Ћ¬÷-ћ÷–:
Ћ¬÷! »зр€дна эта веха-
√лубже ,скажем шрама, на лице.
Ўколой жизни, кузницей успеха
—тал дл€ многих славный Ћ¬÷!
***
-Ќасколько € знаю, ¬ы совмещаете работу на заводе холодильников и в ¬ќ√?
-¬ерно. ¬ начале 90-х работал художником-оформителем в ƒ ¬ќ√, затем худруком,
но зарплата была "символической"( еЄ и не было, работали за бесплатно, как общественники),так что на завод € пошел, чтобы прокормить семью.
ј завод —Ёѕќ знаменит своими холодильниками "—аратов".
—еичас здесь работают 150 глухих и 2 переводчика! Ќигде больше в —аратове нет такого количества
глухих. «авод огромный, в каждом цехе от 3 до 10 неслышащих.я одно врем€ работал в лакокрасочном цехе,
где был бригадиром среди слышащих.Ќо там услови€ вредные,сейчас на сборке.
¬ начале этого года председатель –ќ ¬ќ√ ј.ѕ.„ернов предложил мне в свободное врем€ поработать
художественным руководителем ƒ , € согласилс€.
«а полгода поставил несколько концертов в новом формате(совмещаю реальность и виртуальность), веселый конкурс "ћисс ѕышка",
участвовали на зональном конкурсе жестовой песни в азани(¬≈— писал об этом).
***
Ѕеседовал ¬асилий —крипов. ¬≈— 9/2012




|
ћетки: deaf world глухонемые глухие мир глухих жестовый €зык глухих глухонемой.художник глухих Ћ¬÷ ¬ќ√ deaf muratoff |
ћеждународный ƒень глухих (последнее воскресенье сент€бр€) . |
ƒневник |
≈жегодно последн€€ полна€ недел€ сент€бр€ отмечаетс€ как ћеждународна€ недел€ глухих (International Week of the Deaf), котора€ завершаетс€ ћеждународным днем глухих (International Day of the Deaf), отмечаемым в воскресенье.
ћеждународный день глухих был установлен в 1958 году в пам€ть создани€ в сент€бре 1951 года ¬семирной федерации глухих (World Federation of the Deaf), котора€ €вл€етс€ одной из старейших международных организаций людей с ограниченными возможност€ми.
¬сероссийское общество глухих с 1955 года €вл€етс€ членом ¬семирной федерации глухих. ¬сероссийское общество глухих ведет свою работу с 1926 года, объедин€ет более 100 тыс€ч членов, имеет 79 региональных и более 800 местных отделений на всей территории –оссийской ‘едерации.
¬ –оссии проживает более 190 тыс€ч инвалидов по слуху и слепоглухих. ¬сего разными нарушени€ми слуха страдает примерно 650 миллионов человек Ч каждый дев€тый житель «емли.


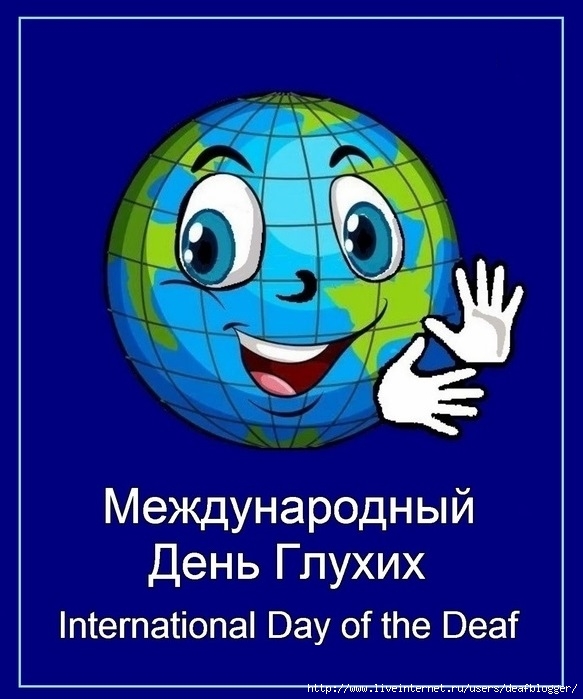







ћеждународный день глухих был установлен в 1958 году в пам€ть создани€ в сент€бре 1951 года ¬семирной федерации глухих (World Federation of the Deaf), котора€ €вл€етс€ одной из старейших международных организаций людей с ограниченными возможност€ми.
¬сероссийское общество глухих с 1955 года €вл€етс€ членом ¬семирной федерации глухих. ¬сероссийское общество глухих ведет свою работу с 1926 года, объедин€ет более 100 тыс€ч членов, имеет 79 региональных и более 800 местных отделений на всей территории –оссийской ‘едерации.
¬ –оссии проживает более 190 тыс€ч инвалидов по слуху и слепоглухих. ¬сего разными нарушени€ми слуха страдает примерно 650 миллионов человек Ч каждый дев€тый житель «емли.


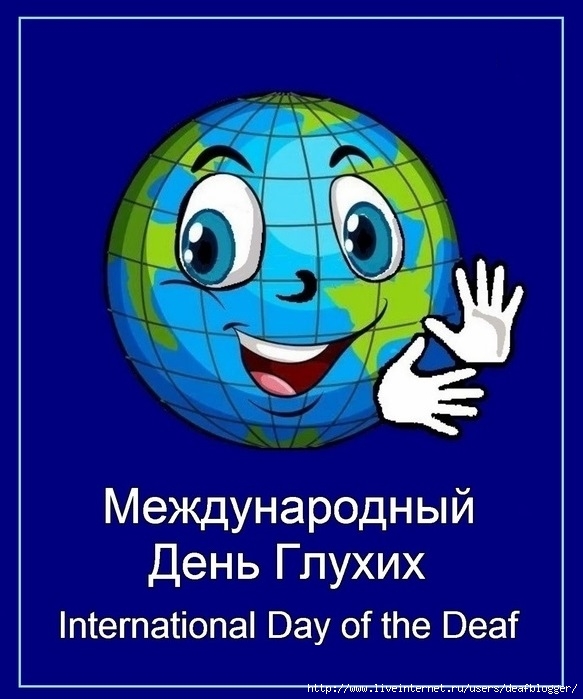







|
ћетки: deaf world глухие глухих глухонемые мир глухих международный день глухих |
¬идео-запись: Ћюди из ћира “ишины |

41 просмотров |

|
¬идеопроект "Ћюди из мира тишины"о жизни и фактах интересных глухих на жестовом €зыке и с субтитрами. |
|
ћетки: глухонемые глухие жестовый €зык глухих мир глухих |
’отите-верьте,хотите-нет. »сцеление глухоты. |
ƒневник |
|
ћетки: глухонемые жестовый €зык глухих глухие мир глухих |
√лухой дедушка ƒобри |
ƒневник |
98-летний нищий, дедушка ƒобри из болгарской деревни Ѕаилово, одетый в домотканные одежды и древние кожаные ботинки, которые он носит зимой и летом, часто стоит у собора св€того јлександра Ќевского в —офии. ¬ид молчаливого старика с невыразимо добрым и честным взгл€дом трогает сердца людей: немногие прихожане проход€т мимо, не поделившись с ним мелочью.
ƒл€ того, чтобы добратьс€ до храма, старику приходитс€ вставать ни свет, ни зар€: его родна€ деревн€ Ѕайлово находитс€ в 10 километрах от столицы. ќн почти абсолютно глух: потер€л слух от взорвавшегос€ р€дом снар€да во врем€ войны.

¬ городе многие узнают его в лицо, но до недавнего времени горожане знали его просто как Ђƒедушку ƒобри-попрошайкуї. Ќо в 2010 году один болгарский тележурналист, работа€ над документальным фильмом о храме јлександра Ќевского и изуча€ архивы, сделал удивительное открытие: самое щедрое пожертвование во всей истории храму принес ни кто иной, как ƒедушка ƒобри! —умма приношени€ превосходила 40 тыс€ч евро.
—тарый св€той из Ѕайлова ни разу не притронулс€ ни к единой монетке из тех денег, которые ему давали на жизнь. —уд€ по всему, живет он лишь на свою пенсию размером в 100 евро в мес€ц да на подарки других людей: фрукты, овощи, хлеб. ≈му, впрочем, многого и не надо. 98-летний старик спокойно отказываетс€ от большинства благ цивилизации: даже когда люди, работавшие в храме, в знак благодарности купили ему новую мебель, он отказалс€ от подарка!

—ейчас, вед€, большей частью, отшельническую жизнь, он все еще добывает деньги дл€ храмов и монастырей. 10 лет назад, когда он, по его словам, был Ђеще молодї, он ходил до —офии от Ѕайлово пешком; теперь уже ему приходитс€ садитьс€ в автобус.
Ѕольшинство добрых дел ƒедушки ƒобри так и остаютс€ тайной. Ћюди поговаривают, что он помог множеству нуждающихс€ бедн€ков; однажды он оплатил счета монастыр€, который за долги хотели лишить гор€чей воды и электричества. ¬прочем, сам св€той о своих поступках ничего не говорит; на все расспросы он отвечает лишь, что некогда согрешил, и теперь встал на путь искуплени€.

ƒл€ того, чтобы добратьс€ до храма, старику приходитс€ вставать ни свет, ни зар€: его родна€ деревн€ Ѕайлово находитс€ в 10 километрах от столицы. ќн почти абсолютно глух: потер€л слух от взорвавшегос€ р€дом снар€да во врем€ войны.

¬ городе многие узнают его в лицо, но до недавнего времени горожане знали его просто как Ђƒедушку ƒобри-попрошайкуї. Ќо в 2010 году один болгарский тележурналист, работа€ над документальным фильмом о храме јлександра Ќевского и изуча€ архивы, сделал удивительное открытие: самое щедрое пожертвование во всей истории храму принес ни кто иной, как ƒедушка ƒобри! —умма приношени€ превосходила 40 тыс€ч евро.
—тарый св€той из Ѕайлова ни разу не притронулс€ ни к единой монетке из тех денег, которые ему давали на жизнь. —уд€ по всему, живет он лишь на свою пенсию размером в 100 евро в мес€ц да на подарки других людей: фрукты, овощи, хлеб. ≈му, впрочем, многого и не надо. 98-летний старик спокойно отказываетс€ от большинства благ цивилизации: даже когда люди, работавшие в храме, в знак благодарности купили ему новую мебель, он отказалс€ от подарка!

—ейчас, вед€, большей частью, отшельническую жизнь, он все еще добывает деньги дл€ храмов и монастырей. 10 лет назад, когда он, по его словам, был Ђеще молодї, он ходил до —офии от Ѕайлово пешком; теперь уже ему приходитс€ садитьс€ в автобус.
Ѕольшинство добрых дел ƒедушки ƒобри так и остаютс€ тайной. Ћюди поговаривают, что он помог множеству нуждающихс€ бедн€ков; однажды он оплатил счета монастыр€, который за долги хотели лишить гор€чей воды и электричества. ¬прочем, сам св€той о своих поступках ничего не говорит; на все расспросы он отвечает лишь, что некогда согрешил, и теперь встал на путь искуплени€.

|
ћетки: глухие мир глухих глухонемые жестовый €зык глухих |
язык жестов среди слышащих. |
ƒневник |
огда люди научились разговаривать словами, они вовсе не забросили свой прежний €зык жестов. Ќовый способ общени€ Ч говорить и слушать Ч уживалс€ со старым способом Ч показывать и смотреть.
ј много лет спуст€ после того, как люди изобрели слова, на €зык жестов легла совсем особа€ нагрузка. Ќапример, €зык жестов очень пригодилс€ некоторым племенам в јвстралии: у них была примета, что слова, сказанные вслух, вред€т охоте. ¬с€кий раз, когда мужчины уходили на поиски дичи, женщины, оставшиес€ дома, должны были молчать. Ќо охоте не было конца, и женщины просто погибали от тоски. »м так хотелось хоть немного поболтать друг с другом Ч тут-то и пришел на помощь €зык жестов.
» по сей день можно набрести в јвстралии на селение племени аруба, где застанешь одних лишь безмолвных женщин, и, однако, там не прерываютс€ оживленные беседы.
ј вот другой случай, когда коренные жители јвстралии пользуютс€ €зыком жестов. ¬стретились люди из двух племен, которые говор€т на разных €зыках. ѕриходитс€ объ€сн€тьс€ знаками. » вот что удивительно: разговаривать они будут главным образом о своих предках. аждый постараетс€ разузнать, нет ли у него с иноплеменником общей родни.
¬ молодой африканской республике амерун говор€т на нескольких разных €зыках. “ак что €зык жестов часто выручает тамошних жителей. “ак бывало когда-то и в высокогорных труднодоступных районах авказа, где бок о бок уживаетс€ великое множество совсем разных €зыков.
язык жестов был также в обиходе у некоторых племен американских индейцев. ¬о врем€ раскопок на ёкатане археологи нашли дерев€нные издели€ Ч резьба на них изображала, как индейцы май€ объ€сн€ютс€ знаками.

я«џ ∆≈—“ќ¬ »Ќƒ≈…÷≈¬ ћј…я. Ќа этом древнем рисунке племени май€ лева€ рука с выт€нутым указательным пальцем означает Ђтыї. ѕрава€ рука указывает на ухо, что значит Ђвниманиеї. ¬месте эти два знака понимаютс€ как Ђслушайї.
»ные функции выполн€л жестовый €зык индейцев североамериканских прерий Ц он использовалс€ исключительно в межэтнической коммуникации; по некоторым данным, число владевших им к в конце 19 в. превышало 100 тыс. человек. Ќа всем пространстве от ћексиканского залива до южных районов современной анады словарь этого €зыка был удивительно единообразен.язык жестов североамериканских индейцев включал около 500 знаков, изображавшихс€ определЄнными движени€ми рук, положением головы или выражением лица. ≈го понимали представители дес€тков народов на огромной территории. ¬о времена освоени€ ƒикого «апада его знали многие белые торговцы.

»ндейцы, которые жили в прери€х или по соседству с ними, изобрели еще один €зык жестов. “ам кочевало с места на место множество племен, и единый, пон€тный всем €зык очень помогал им общатьс€ друг с другом. Ѕелые торговцы и солдаты, проезжа€ через индейские поселени€, тоже часто прибегали к этому €зыку.

Ѕезмолвный €зык прерий еще не совсем отжил свой век. ≈му не дают окончательно отмереть немногочисленные старики индейцы и ученые, которые интересуютс€ индейцами.
язык жестов есть не только у индейцев,но и в спорте,на бирже,у полицейских(ќћќЌ),у подводников...



ј много лет спуст€ после того, как люди изобрели слова, на €зык жестов легла совсем особа€ нагрузка. Ќапример, €зык жестов очень пригодилс€ некоторым племенам в јвстралии: у них была примета, что слова, сказанные вслух, вред€т охоте. ¬с€кий раз, когда мужчины уходили на поиски дичи, женщины, оставшиес€ дома, должны были молчать. Ќо охоте не было конца, и женщины просто погибали от тоски. »м так хотелось хоть немного поболтать друг с другом Ч тут-то и пришел на помощь €зык жестов.
» по сей день можно набрести в јвстралии на селение племени аруба, где застанешь одних лишь безмолвных женщин, и, однако, там не прерываютс€ оживленные беседы.
ј вот другой случай, когда коренные жители јвстралии пользуютс€ €зыком жестов. ¬стретились люди из двух племен, которые говор€т на разных €зыках. ѕриходитс€ объ€сн€тьс€ знаками. » вот что удивительно: разговаривать они будут главным образом о своих предках. аждый постараетс€ разузнать, нет ли у него с иноплеменником общей родни.
¬ молодой африканской республике амерун говор€т на нескольких разных €зыках. “ак что €зык жестов часто выручает тамошних жителей. “ак бывало когда-то и в высокогорных труднодоступных районах авказа, где бок о бок уживаетс€ великое множество совсем разных €зыков.
язык жестов был также в обиходе у некоторых племен американских индейцев. ¬о врем€ раскопок на ёкатане археологи нашли дерев€нные издели€ Ч резьба на них изображала, как индейцы май€ объ€сн€ютс€ знаками.

я«џ ∆≈—“ќ¬ »Ќƒ≈…÷≈¬ ћј…я. Ќа этом древнем рисунке племени май€ лева€ рука с выт€нутым указательным пальцем означает Ђтыї. ѕрава€ рука указывает на ухо, что значит Ђвниманиеї. ¬месте эти два знака понимаютс€ как Ђслушайї.
»ные функции выполн€л жестовый €зык индейцев североамериканских прерий Ц он использовалс€ исключительно в межэтнической коммуникации; по некоторым данным, число владевших им к в конце 19 в. превышало 100 тыс. человек. Ќа всем пространстве от ћексиканского залива до южных районов современной анады словарь этого €зыка был удивительно единообразен.язык жестов североамериканских индейцев включал около 500 знаков, изображавшихс€ определЄнными движени€ми рук, положением головы или выражением лица. ≈го понимали представители дес€тков народов на огромной территории. ¬о времена освоени€ ƒикого «апада его знали многие белые торговцы.

»ндейцы, которые жили в прери€х или по соседству с ними, изобрели еще один €зык жестов. “ам кочевало с места на место множество племен, и единый, пон€тный всем €зык очень помогал им общатьс€ друг с другом. Ѕелые торговцы и солдаты, проезжа€ через индейские поселени€, тоже часто прибегали к этому €зыку.

Ѕезмолвный €зык прерий еще не совсем отжил свой век. ≈му не дают окончательно отмереть немногочисленные старики индейцы и ученые, которые интересуютс€ индейцами.
язык жестов есть не только у индейцев,но и в спорте,на бирже,у полицейских(ќћќЌ),у подводников...



|
ћетки: жестовый €зык глухих глухие мир глухих глухонемые |
‘акты истории? |
ƒневник |
¬ –оссии после ќкт€брьской революции. —оциалистическое сознание российского общества провозглашало лозунг всеобщего равноправи€. ѕо мнению ».¬.—талина, глухонемые (термин —талина) - биологически и социально - ненормальные люди. “акие представлени€ о глухих люд€х коммунистического лидера вполне объ€сн€ют, почему "ненормальным" и "безъ€зычным" глухим дет€м нельз€ играть в парке со своими нормально слышащими сверстниками: в детском городке ѕарка культуры и отдыха (1929 год) висел плакат: "√лухонемые и слепые не принимаютс€".
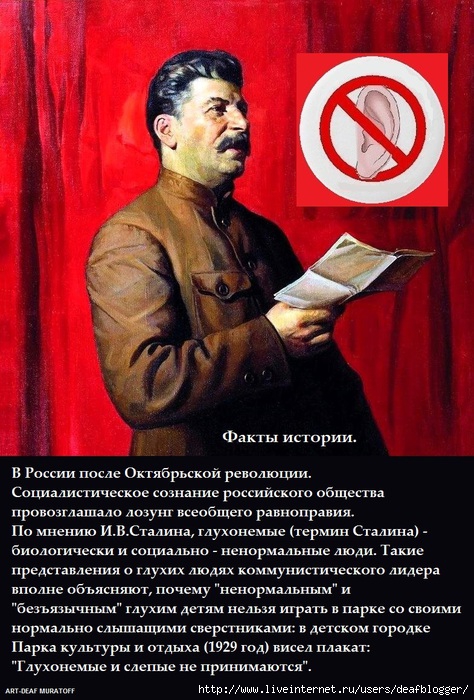
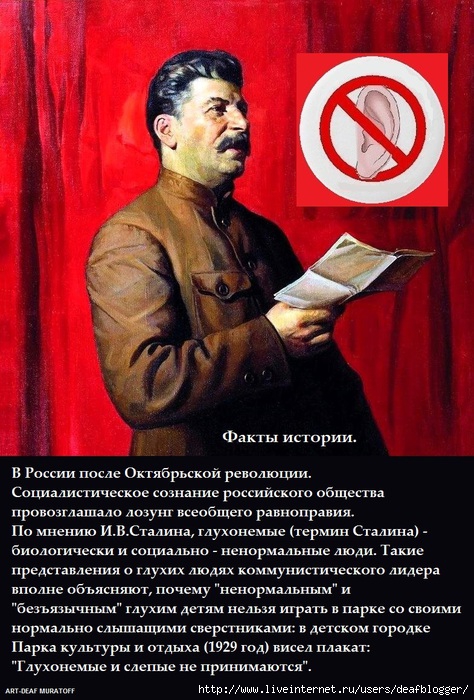
|
ћетки: глухонемые мир глухих жестовый €зык глухих глухие |
»нтересные факты о глухих. |
ƒневник |
Ќелегка€ судьба была глухих людей в ‘инл€ндии в период с 1929 по 1969 года,
когда глухим было запрещено вступать между собой в браки.
¬о избежани€ рождени€ глухого поколени€.¬ брак разрешалось вступать только тогда,
когда молода€ пара приносила св€щеннику справку от врача о стерилизации молодожен.

когда глухим было запрещено вступать между собой в браки.
¬о избежани€ рождени€ глухого поколени€.¬ брак разрешалось вступать только тогда,
когда молода€ пара приносила св€щеннику справку от врача о стерилизации молодожен.

|
ћетки: мир глухих жестовый €зык глухих глухонемые глухие |
»стори€ школы-интерната є3 дл€ слабослышащих детей г.Ёнгельса. |
ƒневник |
»стори€ школы-интерната є 3 г.Ёнгельса,—аратовской области началась 31 €нвар€ 1947 года, когда был подписан акт є 26 о сдаче и приеме здани€ бывшей средней мужской гимназии под открытие школы-интерната дл€ детей с расстройством слуха и речи на 70 человек.

ѕервым директором школы-интерната є 3 был ‘едорков ¬. Ќ. «атем школу возглавл€ли директора: ўукин ј. »., ёрьев ѕ. »., ∆арков ј. Ћ. (1955-1958), Ѕойко ј. √. (1959-1963), Ўтода Ћ. ». (1963-1970), ”ткин ј. √. (1970-1985), ћосцеев Ќ. Ќ. (1985-1988), ћ€сников ¬. ј. (1988-2007), с 2007 года ћухина ћ. ¬.

«дание школы-интерната є 3 была построена в 1936 году, в годы ¬ќ¬ здесь находилс€ военный госпиталь є 3453. Ўкола-интернат занимала небольшое двухэтажное здание, во дворе был маленький сарайчик. ¬ здании было 11 классных комнат и 9 комнат разного размера, небольша€ квартира директора, кухн€. Ўкола отапливалась углем, а плита на кухне дровами. ¬ об€занности старших реб€т входило пилить дрова, разгружать уголь, выносить шлак из котельной. ¬се это реб€та выполн€ли без принуждени€, а даже с удовольствием, шутками. ѕри школе был сад. яблони были особенные, цвели не розовыми, а красными цветами. ¬есной это было чудо. ѕрохожие останавливались, чтобы полюбоватьс€ этой красотой. —ад пришлось вырубить к великому всех огорчению, когда стали строить новое здание школы и переход. ¬ 1957 году начали строить во дворе школы мастерские. Ќа берегу ¬олги вместе с учител€ми школы ѕчелинцевым ≈. ћ., ачан √. Ќ. реб€та добывали камень под фундамент. ¬ школе была лошадь ћашка, на ней и отвозили камни в школу. —тены мастерских строили все реб€та, учител€, воспитатели, н€ни. ћастерские стали любимым местом учеников, ведь там можно было стать мастером Ђ«олотые ручкиї. Ѕыло в жизни школы врем€, когда своими руками выращивали ученики арбузы, дыни, виноград, €блоки.
ѕервым кабинетом, открытым в школе, был кабинет биологии и химии. ѕерва€ звукоусиливающа€ аппаратура (небольшие усилители и микрофоны) по€вились в школе в 1978Ц1980 гг.


ѕервым директором школы-интерната є 3 был ‘едорков ¬. Ќ. «атем школу возглавл€ли директора: ўукин ј. »., ёрьев ѕ. »., ∆арков ј. Ћ. (1955-1958), Ѕойко ј. √. (1959-1963), Ўтода Ћ. ». (1963-1970), ”ткин ј. √. (1970-1985), ћосцеев Ќ. Ќ. (1985-1988), ћ€сников ¬. ј. (1988-2007), с 2007 года ћухина ћ. ¬.

«дание школы-интерната є 3 была построена в 1936 году, в годы ¬ќ¬ здесь находилс€ военный госпиталь є 3453. Ўкола-интернат занимала небольшое двухэтажное здание, во дворе был маленький сарайчик. ¬ здании было 11 классных комнат и 9 комнат разного размера, небольша€ квартира директора, кухн€. Ўкола отапливалась углем, а плита на кухне дровами. ¬ об€занности старших реб€т входило пилить дрова, разгружать уголь, выносить шлак из котельной. ¬се это реб€та выполн€ли без принуждени€, а даже с удовольствием, шутками. ѕри школе был сад. яблони были особенные, цвели не розовыми, а красными цветами. ¬есной это было чудо. ѕрохожие останавливались, чтобы полюбоватьс€ этой красотой. —ад пришлось вырубить к великому всех огорчению, когда стали строить новое здание школы и переход. ¬ 1957 году начали строить во дворе школы мастерские. Ќа берегу ¬олги вместе с учител€ми школы ѕчелинцевым ≈. ћ., ачан √. Ќ. реб€та добывали камень под фундамент. ¬ школе была лошадь ћашка, на ней и отвозили камни в школу. —тены мастерских строили все реб€та, учител€, воспитатели, н€ни. ћастерские стали любимым местом учеников, ведь там можно было стать мастером Ђ«олотые ручкиї. Ѕыло в жизни школы врем€, когда своими руками выращивали ученики арбузы, дыни, виноград, €блоки.
ѕервым кабинетом, открытым в школе, был кабинет биологии и химии. ѕерва€ звукоусиливающа€ аппаратура (небольшие усилители и микрофоны) по€вились в школе в 1978Ц1980 гг.

|
ћетки: deaf world глухонемые глухие мир глухих жестовый €зык глухих школа интернат є3 |
»стори€ школы-интерната є1 дл€ глухих детей г.Ёнгельса. |
ƒневник |
¬ 1936 г. немецка€ проектно-планировочна€ контора разработала проект кирпичного здани€ 4-х этажной школы на 800 учащихс€ по пл. —вободы. — 1 апрел€ 1936 г. строители приступили к работе и к концу первой четверти 1936-1937 учебного года здание было введено в эксплуатацию.

Ќ≈ћ≈÷ јя ќЅ–ј«÷ќ¬јя —Ў є 10

оллектив немецкой образцовой средней школы є 10 перешел из старого здани€ на ”глу расноармейской и “елеграфной улиц в новое, в котором было 22 классные комнаты, химическа€ и физическа€ лаборатории, комната дл€ живого уголка, библиотека, столова€, кабинет врача и др. —тены большого светлого коридора были украшены копи€ми картин Ўишкина, выполненными учителем рисовани€ ƒилем. ¬о дворе была предусмотрена зелена€ зона, больша€ спортивна€ площадка.




¬ годы войны в школе дислоцировалс€ эвакогоспиталь.
¬ насто€щее врем€ это школа-интернат є1 дл€ глухих детей.(Ўкола-интернат дл€ глухих детей функционирует с 1984 года.)



Ќ≈ћ≈÷ јя ќЅ–ј«÷ќ¬јя —Ў є 10

оллектив немецкой образцовой средней школы є 10 перешел из старого здани€ на ”глу расноармейской и “елеграфной улиц в новое, в котором было 22 классные комнаты, химическа€ и физическа€ лаборатории, комната дл€ живого уголка, библиотека, столова€, кабинет врача и др. —тены большого светлого коридора были украшены копи€ми картин Ўишкина, выполненными учителем рисовани€ ƒилем. ¬о дворе была предусмотрена зелена€ зона, больша€ спортивна€ площадка.




¬ годы войны в школе дислоцировалс€ эвакогоспиталь.
¬ насто€щее врем€ это школа-интернат є1 дл€ глухих детей.(Ўкола-интернат дл€ глухих детей функционирует с 1984 года.)


|
ћетки: глухие жестовый €зык глухих глухонемые мир глухих |
”чебник дл€ глухих или как учили глухих 300 лет назад. |
ƒневник |

¬ 1660-х годов јлександр ѕофэм, глухой отпрыск благородного английского семейства, приступил к освоению речи. ≈го учитель ƒжон ¬аллис написал по такому случаю своеобразный учебник, который в 2008 году был обнаружен в поместье Ћитлкот и тщательно изучен. Ћингвист ƒэвид рэм из ќксфордского университета, рассказавший о находке на специальном меропри€тии оролевского общества, считает, что ¬аллис намного опередил своЄ врем€.
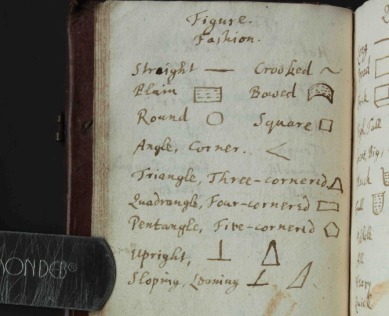
нижечка содержит подробное описание вокальной артикул€ции, геометрические фигуры и символы, упражнени€ по фонетике, синтаксису и построению фраз.
“ак повелось с давних пор, что глухих считали дурачками, идиотами, болванами (собственно говор€, это верно по сей день, когда парализованный, лишЄнный дара речи человек воспринимаетс€ слабоумным, хот€ в действительности с интеллектом у него всЄ в пор€дке: он всего лишь не может говорить). »м не дозвол€лось составл€ть завещание или принимать наследство. ј проблема была лишь в том Ч и ¬аллис это, кажетс€, пон€л одним из первых, Ч что глухих не учили общатьс€.
Ѕлагородное семейство не могло допустить, чтобы их сын потер€л высокий статус, и поэтому пригласило в качестве учителей двух выдающихс€ людей своего времени, титанов английского ¬озрождени€ Ч музыкального теоретика ”иль€ма ’олдера и математика ƒжона ¬аллиса (кстати, именно он ввЄл знак ∞).
”спех был потр€сающим: јлександр научилс€ не только общатьс€, но и говорить (увы, неизвестно, насколько хорошо), стал знаменитостью и был представлен ко двору. ƒело кончилось тем, что он женилс€ на дочери одной из самых блест€щих интеллектуалок своего времени и был покровителем философа ƒжона Ћокка. –епутаци€ семейства оказалась спасена.
¬последствии между ’олдером и ¬аллисом разгорелс€ спор о том, кому из них удалось разговорить глухого. ’олдер был первым, и поэтому под его руководством јлександр, по-видимому, начал произносить первые слова. Ќо г-н рэм делает вывод о том, что ученик повтор€л за учителем как попугай.
—уд€ по рукописи в кожаном переплЄте, именно ¬аллис осознал, что речь и общение не равны друг другу. »ными словами, способность производить звуки не гарантирует, что теб€ поймут. » наоборот: глухие могут общатьс€, но прежде, чем учить их речи, надо пон€ть их самих, установить с ними контакт. –езультатом стал примитивный символический €зык Ч далЄкий прообраз сегодн€шнего.
¬аллис, конечно, не был первым. «а сотни лет до него монахи бенедиктинского ордена, дававшие обет молчани€, выработали собственный €зык жестов, на основании которого в »спании предпринимались попытки научить глухих общатьс€.
|
ћетки: глухие глухонемые истори€ |
јнекдоты на жестовом €зыке |
ƒневник |
акой глухой не любит юмор,а чем мы хуже остальных?
√лухие тоже шут€т и шут€т не хуже слышащих!
ёмористические ролики "ћуратоFF & Ѕрюнетка".
јнекдоты на жестовом €зыке и с субтитрами смотрите здесь http://www.youtube.com/user/deafmurat


√лухие тоже шут€т и шут€т не хуже слышащих!
ёмористические ролики "ћуратоFF & Ѕрюнетка".
јнекдоты на жестовом €зыке и с субтитрами смотрите здесь http://www.youtube.com/user/deafmurat


|
ћетки: глухие анекдоты жестовый €зык глухих глухонемые глухих |
ќчки дл€ глухих "I love you!" |
ƒневник |
|
ћетки: глухонемые мир глухих жестовый €зык глухих глухие deaf world |
∆изнеописание советского глухого. |
ƒневник |
ƒавид √инзбургский

я,ƒавид √инзбургский, родилс€ в ¬аршаве в 1914 году. ћне уже 84-й годок пошел.
1 августа началась I мирова€ война. ћо€ мама была зубным техником, принимала на дому. ћы свою квартиру оставили (думали после войны вернутьс€), приехали в Ћуганск. ¬ Ћуганске жил мой отец. ” него было много знакомых, в том числе и ¬орошилов. оммунисты моего отца вскоре послали в арелию заведовать чугунно-литейным заводом. –еволюции нужен был металл. ћне тогда было три с половиной года. я хорошо помню, как спрашивал родителей: "ѕапа, мама, а почему солдаты в юбках?" ќказываетс€, это были шотландские войска, вместе с английскими временно оккупировавшие северную арелию.
ћы жили на берегу речки, р€дом - завод и плотина, котора€ вырабатывала энергию. я рыбачил. ћама мне уху сварит на завтрак, пару рыб коту дадим. ќднажды мама выходит на крыльцо и зовет: "ƒод€, иди завтракать!" я сижу, удочку поставил. Ќе оборачиваюсь. ’ватились - менингит. ћама вз€ла мен€ на руки, принесла в дом. ј у мен€ температура 40-41. “€жело болел. нам приходил большевик, который сказал маме, что слух уже не восстановить, а после выздоровлени€, сына нужно научить говорить, чтобы сохранить голос. ƒо потери слуха € говорил по-польски. Ќи одного слова в пам€ти не осталось.
ѕотом мы переехали в ѕетрозаводск. ћама много внимани€ удел€ла моему воспитанию. ƒавала книжку. я читал по слогам, постепенно научилс€ писать. ј когда € научилс€ говорить, € уже три года не слышал. ∆естов не знал, с глухонемыми никогда не встречалс€.
огда мне стало 7 лет, мен€ из ѕетрозаводска привезли в ѕетроград в Ћенинградскую областную школу-интернат глухонемых детей на √ороховой улице. “ам € 10 лет жил, училс€ в классах и мастерских. Ўколу окончил в 1931 году.
Ёто была сама€ перва€ в –оссии школа. ≈е организовала императрица ћари€ ‘едоровна, супруга ѕавла I. ќна была исключительно милосердна. —перва она организовала школу слепых. ј потом, однажды гул€€ в парке в ѕавловске, она увидела, как одна из фрейлин разговаривала жестами с каким-то мальчиком. ѕодошла, узнала, что он глухонемой и что у него есть брат, тоже глухонемой. ћари€ ‘едоровна в своем дневнике потом писала, что она всю ночь до утра спать не могла, все думала, сколько в –оссии глухонемых? » решила на завтра вызвать к себе главу ѕавловска и поручить ему организацию школы глухонемых. 3 декабр€ 1806 года кн€зь ¬олконский написал рапорт ћарии ‘едоровне о том, что задание выполнено, опытное училище открыто. ќно располагалось в бастионе императора ѕавла I. Ўкола находилась там до 1810 года. ѕотом повелением ћарии ‘едоровны она была переведена в ѕетербург.
ормили нас в интернате отвратительно. “ри раза в день давали по маленькому кусочку хлеба. Ќа обед - кислые щи, гречнева€ или пшенна€ каша без масла. ѕо вечерам давали компот из сухофруктов. ≈сли в компоте плавали черви, то мы сразу кричали: "‘у, там черви!" ƒевчонки отказывались, а мы червей выбрасывали, а компот съедали. ѕотом полные карманы косточек: утром разбивали их и ели. Ћетом у нас был не пионерский лагерь, а скорее дача. ¬ середине ма€ нас посылали туда учитьс€ и работать на огороде.
“огда было т€желое врем€. ” родителей были низкие заработки, и поэтому денег у нас не было. ” родителей денег на то, чтобы купить коньки, не просили. ’оккейные коньки сами мастерили в слесарной мастерской из жести и стальных полозьев. Ќаходили в кладовке старые ботинки, которые сапожники почин€ли, клепали и катались во дворе. аток тоже делали сами.
— 1924 г. был пионером, с 1930 г. - комсомольцем, потом коммунистом. ћне мес€ца не хватило в 1991 году, чтобы быть 50 лет в партии. ћен€ должны были прин€ть в конце июн€ 1941 года, а прин€ли только в сент€бре. — 1929 года € член ¬ќ√.
¬ 1929 году, когда готовили делегацию глухих на II съезд ¬ќ√ в ћоскву, мен€ как отличника и пионера включили в делегацию. ” нас парадной формы никогда не было, только одна - хлопчатобумажные рубашка, брюки и куртка. ”тюгов не было в школе. Ќас заставили вычистить одежду мокрой тр€пкой, положить на матрац, накрыть простыней и спать на мокром до утра. “ак к воскресень€м и праздникам "гладили". ¬от таким € и поехал с делегацией на II съезд ¬ќ√ в ћоскву. —ъезд был на Ћуб€нке. “уда в один прекрасный день пришел нарком просвещени€ –—‘—– Ћуначарский. ¬ыступил. ѕотом подошел ко мне и стал со мной разговаривать. »нтересовалс€: какова жизнь, какие у мен€ успехи, кем хочу быть. ѕосле он прислал в нашу школу своего заместител€ ѕочапина. “от приехал, посмотрел. ”видел, что у нас трудности, бедность, и увеличил бюджет школы.
я - безбожник. Ќикогда в бога не верил и не верю.
Ўколу окончил в 1931 году, когда в —оветском —оюзе была I п€тилетка, и советский народ стремилс€ выполнить ее досрочно.
ћои родители очень хотели, чтобы € приобрел специальность художника. ѕоэтому после окончани€ школы € поступил в вечерний техникум "»«ќ рабочей молодежи". Ќо его окончить не удалось - работал на заводе, училс€ на вечернем отделении, жил на ѕороховых, в результате подорвал себе здоровье.
¬ школе получил три специальности: переплетчика, стол€ра и слесар€. Ёто в жизни мне всегда пригодилось. ѕримерно 85% глухих были рабочими на разных предпри€ти€х. ¬ школе глухих были учебно-производственные мастер-ские. Ќа завод приходили и имели уже какую-то специальность, чаще всего слесар€ или обувщика, потому что они хорошо ценились.
ћало песен пели, много работали. Ќа предпри€ти€х план надо выполнить и перевыполнить. √лухонемые, несмотр€ на то, что были малограмотны, работали хорошо. » учитьс€ в Ў–ћ (Ўколе работающей молодежи) старались хорошо. Ѕывает, грамота хромает, но мастера почитают, поймут. ƒо войны инструкторов-переводчиков на предпри€ти€х не было. ћы должны были хорошо работать, показывать высокую производительность труда. —перва мы должны были быть ударниками, а потом стахановцами. ѕ€тилетки выполн€ли досрочно - вместо п€ти лет за три с половиной, четыре года. ” нас был энтузиазм. ¬ 1931 году по предложению Ёрика “отьм€нина, председател€ Ћенинградского областного общества глухонемых, и »нститута по болезн€м уха, горла, носа был проведен эксперимент: глухих стали отправл€ть работать в шумовые цеха, где здоровые люди тер€ли слух. Ёксперимент очень удалс€.
ѕоскольку € хорошо владел жестовой речью, мне предложили быть пропагандистом-агитатором, просвещать малограмотных глухонемых. ќни газеты читали по складам, и приходилось часто выступать с беседами, докладами, ездить в качестве лектора по Ћенинградской области. — 1933 года € стал культработником. –аботал на заводе, а вечером в ƒомпросвете глухонемых. ј с 1936 года перешел туда в должность зам. директора по культмассовой работе. ¬ыступал в драмкружке, спортклубе и на соревновани€х.
я был футболистом, участвовал в I ¬сероссийской спартакиаде глухих в ћоскве в 1932 году, когда наша команда вз€ла общее первое место и получила бархатное знам€.
—редств на аренду спортплощадок не было. ”брали от мусора маленький сквер в первом дворе дома 55 на расной улице и устроили площадку дл€ прыжков в длину и высоту. ѕробежки устраивали на булыжной набережной. јвтотранспорт в те годы было редкое €вление, в основном были лошадиные телеги да кареты. ‘утболисты ездили в совхоз в ѕарголово, а в будни после работы тренировались в ѕрофтехшколе им.ћ.¬.‘рунзе. √ребцы - на лодочной станции в ÷ѕ иќ им. ирова. “огда на швейных фабриках работало много глухонемых, и профсоюз швейников дал указание бесплатно предоставл€ть гребную базу. ѕловцы тренировались ежедневно после работы в открытом бассейне р€дом со стадионом им. Ћенина или на пл€же у ѕетропавловской крепости. Ўахматисты имели свой клуб. ј со стрельбой было хуже. “ренировались в платных массовых тирах за свои деньги. —тарани€ не прошли даром: ленинградска€ команда зан€ла общее первое место.
¬ прошлом году летом была XVIII ќлимпиада глухих в опенгагене. я хотел до поездки с нашими спортсменами побеседовать. я бы им рассказал, что 65 лет назад на первой спартакиаде в ћоскве мы получили знам€ за первое место. » как мы спуст€ 25 лет участвовали в VIII ќлимпиаде в ћилане в 1957 году. “огда сборна€ ———– зан€ла общее первое место. ≈сли бы € рассказал, у них был бы энтузиазм повыше. я ждал, но никто не предложил. ѕозабыта, позаброшена обществом и спортклубом истори€.
¬ 1934 году мы вз€ли отпуск и организовали агитвелопробег Ћенин-град-ћосква. Ќас было четверо глухих. я был командиром. ћне тогда было 20 лет. ¬ каждом городе мы вы€вл€ли глухонемых и проводили с ними беседы. ¬ ћоскве нас встретили очень хорошо. ¬ это врем€ там были соревновани€ с турецкими футболистами и боксерами. Ќам дали бесплатные билеты на все соревновани€, и председатель футбольного клуба ћоссовета дал указание, чтобы нас обслуживали неделю, и только после этого отпустили домой.
ј как глухие жили? ≈сли посмотреть на фотографии, костюмов у многих не было. ѕочему € в заднем р€ду на фотографии? ѕотому, что у мен€ костюма не было. ћне мама купила костюм, когда мне был 21 год. я получил ордер в заводской магазин, и мама купила самый дешевый костюм. ј так € всегда был в футболке. ¬се были одеты просто, скромно.
ƒо войны у нас был только один выходной: воскресенье. —обирались по 20-30 человек и ехали за город. Ѕрали с собой м€ч, шахматы. «арплата у нас была маленька€. Ѕрали завтрак и бутылку ча€. ј кто побогаче - покупали лимонад. Ќо водку никогда не брали. «имой любили горные лыжи. ≈здили в авголово.
ћного глухонемых репрессировали. »х обвинили в создании фашистской террористической организации среди глухонемых Ћенинграда во главе с агентом гестапо јльбертом Ѕлюмом. ј
льберта Ѕлюма € помню: маленький, неказистый. ќн приехал к нам в 1931 или 1932 году и как немецкий коммунист попросил у нас политического убежища. Ќе будем писать о нем. ≈го им€ € выбрасываю, глухим не рассказываю о нем, нигде не упоминаю. ѕриехал из √ермании. √лухой. ≈го здесь никто не знал. ќн несколько лет жил в ѕетербурге, выдавал себ€ за коммуниста. нам, в ƒом культуры, приходил редко. ќбщественной работы никакой не вел. –аботал мастером в швейной мастерской им. —авельева. ¬ 1935 или 1936 году он пропал. √оворили, что он уехал обратно в √ерманию. ј € сомневаюсь, к тому времени это была фашистска€ √ермани€. огда € искал его фотографию, фотографий много, а его нигде не нашел.
20-летию ќкт€брьской революции наш драмкружок готовил спектакль по пьесе Ќикола€ ќстровского " ак закал€лась сталь". ¬о врем€ генеральной репетиции, за несколько дней до праздника, пришли двое из Ѕольшого дома. Ќе предъ€вл€€ никаких документов, спросили:
- то тут у вас “агер- арьелли?
» кто-то показал пальцем на режиссера. ≈му сказали:
- ѕойдем.
¬скоре арестовали и других. —пектакль не состо€лс€.
„ерез два-три дн€ из Ѕольшого дома пришли другие двое. ќни попросили мен€ показать им рабочий кабинет “агера. я вз€л ключи и повел их в его комнату, где были гримерна€ и гардероб.
- ѕочему у вас тут шпаги развешены?
я говорю:
- ћы ставили "ќтелло", "–омео и ƒжульетту". –апиры не боевые, а спортивные.
- ѕочему у вас книги?
ј на полках лежали старинные книги в кожаных переплетах, позолоченные.
я говорю:
- ќни остались от бывшего хоз€ина. Ќо € не знаю, кто здесь раньше был хоз€ином. я ничего не знаю. Ёто бутафори€.
“огда они вз€ли книги, стали вытр€хивать их и бросать на пол.
я говорю:
- “оварищи, почему бросаете на пол? —тол есть, кладите на стол.
“огда один закричал:
- ћолчи, иначе теб€ тоже заберем с собой.
ј какое мое положение? —егодн€ возьмут, а завтра прокурор подпишет, что € враг народа. Ёто им ничего не стоило сделать.
— августа по но€брь 1937 года арестовали 54 человека. »з них 35 расстрел€ли, 19 сослали на 10 лет в √”Ћј√. ¬ 1939 году "дело" пересмотрели, следователи были осуждены, а в начале 1940 года приговоренные к 10 годам в исправительно-трудовой лагерь были досрочно освобождены. ¬ 1955 году все расстрел€нные были реабилитированы.
ѕотом люди рассказывали, как их пытали, как требовали, чтобы они признались, что стали врагами народа. —ледователи спешили скорее закончить это дело, чтобы получить награду или повышение в должности. √лухонемых обслуживали три переводчика - переводчики плакали. „екисты от них требовали служить, содействовать. ≈сли помогать не будут, тогда они тоже тут останутс€. ќни не хотели остатьс€ в Ѕольшом доме. ” них были семьи. ћожете себе представить их положение! аждую минуту в голове было, а вдруг мен€ домой не отпуст€т? ѕопробуйте так 8-10 часов сидеть. ќ том, чтобы переводчиков накормить, никто не думал.
—амым старшим из расстрел€нных был Ќиколай ƒейбнер. ≈му было 74 года. ј самым молодым был ћарк ћаркович. ≈му было всего 22, он училс€ в той же школе, что и €.
Ёрик “отьм€нин, председатель Ћенинградского областного общества глухонемых, родилс€ в 1901 году. огда его расстрел€ли, ему было 36 лет. ќн приехал в ћоскву, поступил в ¬’”“≈ћј—, на факультет скульптуры. ќн был очень грамотный, начитанный. нему, глухому, приходили на политучебу даже дети переводчиков. Ѕлагодар€ ему в 1930-м году в –оссии впервые был проведен трехдневник "Ѕереги слух!".
ѕомню, € училс€ в школе. ак-то раз “отьм€нин пришел к нам в слесарную мастерскую и попросил сделать кружки-кубышки, чтобы собирать деньги. ћы сделали 10 или 15 штук. » ходили с ними по улицам. ћы шли по городу и собирали деньги. “ам было написано: "“рехдневник "Ѕереги слух!". ј маленькие дети заранее делали цветочки из тонкой проволоки и цветной бумаги. то нам положит в кружку денежку - тому они на пуговицу цветочек наматывали. ружки потом отдавали учител€м, они сами деньги считали. —обранные тогда деньги пошли на организацию Ќаучно-практического института по болезн€м уха, горла, носа. ј вз€ть оттуда деньги (на них ни замка, ни печати сургучовой не было, только веревочкой зав€зано), пойти в булочную, купить буханку хлеба и покушать - даже мысли не было, хот€ все эти 10 лет мы были полуголодными. ѕосле из »нститута к нам в школу пришел представитель. Ќас собрал, поздравил и каждому дал по конфетке. ѕомню, мы так рады были, когда их кушали.
ј в конце 30-х мы уже собирали деньги на строительство самолетов и танков "¬оговец". Ќа наши деньги построили два танка и два самолета.
—реди репрессированных был ¬ладимир –едзько, 1892 года рождени€. ’удожник. ќн окончил училище Ўтиглица с отличием. Ќесмотр€ на то, что глухой, его пригласили работать в Ќ»» озерного и речного рыбного хоз€йства. ќн рисовал рыб. я у него бывал в мастерской, поскольку училс€ на художника-оформител€. ќн выступал у нас с беседами, проводил литературные вечера. ≈го любили слушать. аждую неделю он рассказывал нам про зарубежную и русскую художественную литературу.
–остислав «убковский приехал с родител€ми из ’арбина. — фашистской свастикой ходил в ƒом культуры. »м в ’арбине разрешали носить. —читалось модным. я его как-то встретил, убери, говорю, а то посад€т. ќн сн€л, но какой-то паршивец на него успел пожаловатьс€, и его вз€ли. ≈му было 16 лет.
¬ 1939 году в ƒоме просвещени€ глухонемых выступал папанинец ‘едоров, он потом стал академиком. ≈го пригласили рассказать о своей работе на —еверном полюсе. ≈ще мы приглашали человека, который называл себ€ ’аджи-ћуратом. Ѕыл у нас гипнотизер. √оворили, что глухонемых не усыпить. Ќеправда, и глухих можно гипнотизировать.
ј 22 июн€ 1941 года по плану культмассовой работы ƒѕ√ была экскурси€ в ѕетро-дворец на пароходе. ƒо швартовки к пирсу никто (не только мы, глухонемые, но и наши переводчики, и пассажиры) не знал, что началась война. “олько при выходе из парохода из разговора людей, ожидающих посадки, чтобы ехать в Ћенинград, одни разговоры о вероломном нападении фашист-ской √ермании на ———–. ѕоловина группы пошла в музей, а друга€ половина осталась на пл€же. ” нас были две переводчицы. я вз€л одну переводчицу, и мы пошли к директору музе€, моему знакомому, капитану военного флота в отставке (он демобилизовалс€ и стал директором музе€ и парка). ќн обрадовалс€ моему приходу. я спрашиваю: "ѕравда, что началась война?" » тогда он сказал, что по радио выступал министр иностранных дел ћолотов и по радио передавали, что началась демобилизаци€. я потом вместе с переводчиком обошел все залы и все врем€ думал, что вижу их в последний раз.
ƒо войны глухонемые никаких льгот не получали. роме одной - они не подлежали призыву в армию. Ќо были и партизаны, и солдаты, которые несмотр€ на глухоту, немоту и неграмотность добровольно служили в армии. ј как ценили труд глухонемых во врем€ войны! ¬о врем€ блокады Ћенинграда в городе было более 500 глухонемых. ќни работали и за себ€, и за товарищей, ушедших на фронт. ¬ общество глухих даже после войны поступали за€вки на большие группы глухонемых, 100-200 человек. ѕредпри€ти€ хотели себ€ застраховать: а вдруг снова будет война?
1 июл€ 1942 года ƒом культуры закрыли, сделали там стационар дл€ больных руководителей и работников горисполкомов, обкомов партии. “ут и рожали, и лечили. ормили хорошо.
я хотел помогать фронту. ” мен€ специальность - слесарь-инструментальщик VI-го разр€да. ј тут не принимали на работу - не было электричества. я пошел в вербовочное бюро и там прочитал, что требуютс€ рабочие в оборонную промышленность. я выбрал авиационную промышленность в “ушино. » туда завербовалс€. ѕриехал. ћен€ сделали бригадиром слесарей-инструментальщиков. ћы осваивали моторы дл€ бомбардировщиков дальнего радиуса действи€. Ѕолее года в моей бригаде работало 20 военнопленных немцев. ¬се были инструментальщиками и по работе соскучились. Ќо были очень медлительные. ћедленно ход€т, долго кур€т, переодеваютс€ долго. Ќо хорошо наши задани€ выполн€ли. — немцами мы мало разговаривали. огда € им писал: "¬ы - фашисты!" ќни мне отвечали: "Ќет! ћы социал-демократы". ѕеред окончанием войны они перестали к нам ходить.
≈ще € был редактором цеховой стенгазеты и активным рабкором заводской газеты "ѕравда". Ѕоролс€ с недостатками. Ќе подхалимничал. ѕоэтому, когда рабочих предпри€ти€ и руководство награждали, мен€ обошли. оммунисты критику тоже не любили.
“олько в 1946 году мен€ отпустили, и € с семьей вернулс€ в Ћенинград. –аботал на разных должност€х: заместителем директора ƒома культуры; заместителем председател€, потом председателем Ћенинградского городского правлени€ ¬ќ√; заместителем директора по учебно-воспитательной работе ”чебно-производственного предпри€ти€ ¬ќ√ и почти 5 лет председателем месткома профсоюза там же. ѕо уходе на заслуженный отдых зан€лс€ сбором и изучением материалов по истории местного правлени€ ¬ќ√ и созданием музе€ истории, который был торжественно открыт в апреле 1980 года и считалс€ одним из лучших в системе общества.
1998г

я,ƒавид √инзбургский, родилс€ в ¬аршаве в 1914 году. ћне уже 84-й годок пошел.
1 августа началась I мирова€ война. ћо€ мама была зубным техником, принимала на дому. ћы свою квартиру оставили (думали после войны вернутьс€), приехали в Ћуганск. ¬ Ћуганске жил мой отец. ” него было много знакомых, в том числе и ¬орошилов. оммунисты моего отца вскоре послали в арелию заведовать чугунно-литейным заводом. –еволюции нужен был металл. ћне тогда было три с половиной года. я хорошо помню, как спрашивал родителей: "ѕапа, мама, а почему солдаты в юбках?" ќказываетс€, это были шотландские войска, вместе с английскими временно оккупировавшие северную арелию.
ћы жили на берегу речки, р€дом - завод и плотина, котора€ вырабатывала энергию. я рыбачил. ћама мне уху сварит на завтрак, пару рыб коту дадим. ќднажды мама выходит на крыльцо и зовет: "ƒод€, иди завтракать!" я сижу, удочку поставил. Ќе оборачиваюсь. ’ватились - менингит. ћама вз€ла мен€ на руки, принесла в дом. ј у мен€ температура 40-41. “€жело болел. нам приходил большевик, который сказал маме, что слух уже не восстановить, а после выздоровлени€, сына нужно научить говорить, чтобы сохранить голос. ƒо потери слуха € говорил по-польски. Ќи одного слова в пам€ти не осталось.
ѕотом мы переехали в ѕетрозаводск. ћама много внимани€ удел€ла моему воспитанию. ƒавала книжку. я читал по слогам, постепенно научилс€ писать. ј когда € научилс€ говорить, € уже три года не слышал. ∆естов не знал, с глухонемыми никогда не встречалс€.
огда мне стало 7 лет, мен€ из ѕетрозаводска привезли в ѕетроград в Ћенинградскую областную школу-интернат глухонемых детей на √ороховой улице. “ам € 10 лет жил, училс€ в классах и мастерских. Ўколу окончил в 1931 году.
Ёто была сама€ перва€ в –оссии школа. ≈е организовала императрица ћари€ ‘едоровна, супруга ѕавла I. ќна была исключительно милосердна. —перва она организовала школу слепых. ј потом, однажды гул€€ в парке в ѕавловске, она увидела, как одна из фрейлин разговаривала жестами с каким-то мальчиком. ѕодошла, узнала, что он глухонемой и что у него есть брат, тоже глухонемой. ћари€ ‘едоровна в своем дневнике потом писала, что она всю ночь до утра спать не могла, все думала, сколько в –оссии глухонемых? » решила на завтра вызвать к себе главу ѕавловска и поручить ему организацию школы глухонемых. 3 декабр€ 1806 года кн€зь ¬олконский написал рапорт ћарии ‘едоровне о том, что задание выполнено, опытное училище открыто. ќно располагалось в бастионе императора ѕавла I. Ўкола находилась там до 1810 года. ѕотом повелением ћарии ‘едоровны она была переведена в ѕетербург.
ормили нас в интернате отвратительно. “ри раза в день давали по маленькому кусочку хлеба. Ќа обед - кислые щи, гречнева€ или пшенна€ каша без масла. ѕо вечерам давали компот из сухофруктов. ≈сли в компоте плавали черви, то мы сразу кричали: "‘у, там черви!" ƒевчонки отказывались, а мы червей выбрасывали, а компот съедали. ѕотом полные карманы косточек: утром разбивали их и ели. Ћетом у нас был не пионерский лагерь, а скорее дача. ¬ середине ма€ нас посылали туда учитьс€ и работать на огороде.
“огда было т€желое врем€. ” родителей были низкие заработки, и поэтому денег у нас не было. ” родителей денег на то, чтобы купить коньки, не просили. ’оккейные коньки сами мастерили в слесарной мастерской из жести и стальных полозьев. Ќаходили в кладовке старые ботинки, которые сапожники почин€ли, клепали и катались во дворе. аток тоже делали сами.
— 1924 г. был пионером, с 1930 г. - комсомольцем, потом коммунистом. ћне мес€ца не хватило в 1991 году, чтобы быть 50 лет в партии. ћен€ должны были прин€ть в конце июн€ 1941 года, а прин€ли только в сент€бре. — 1929 года € член ¬ќ√.
¬ 1929 году, когда готовили делегацию глухих на II съезд ¬ќ√ в ћоскву, мен€ как отличника и пионера включили в делегацию. ” нас парадной формы никогда не было, только одна - хлопчатобумажные рубашка, брюки и куртка. ”тюгов не было в школе. Ќас заставили вычистить одежду мокрой тр€пкой, положить на матрац, накрыть простыней и спать на мокром до утра. “ак к воскресень€м и праздникам "гладили". ¬от таким € и поехал с делегацией на II съезд ¬ќ√ в ћоскву. —ъезд был на Ћуб€нке. “уда в один прекрасный день пришел нарком просвещени€ –—‘—– Ћуначарский. ¬ыступил. ѕотом подошел ко мне и стал со мной разговаривать. »нтересовалс€: какова жизнь, какие у мен€ успехи, кем хочу быть. ѕосле он прислал в нашу школу своего заместител€ ѕочапина. “от приехал, посмотрел. ”видел, что у нас трудности, бедность, и увеличил бюджет школы.
я - безбожник. Ќикогда в бога не верил и не верю.
Ўколу окончил в 1931 году, когда в —оветском —оюзе была I п€тилетка, и советский народ стремилс€ выполнить ее досрочно.
ћои родители очень хотели, чтобы € приобрел специальность художника. ѕоэтому после окончани€ школы € поступил в вечерний техникум "»«ќ рабочей молодежи". Ќо его окончить не удалось - работал на заводе, училс€ на вечернем отделении, жил на ѕороховых, в результате подорвал себе здоровье.
¬ школе получил три специальности: переплетчика, стол€ра и слесар€. Ёто в жизни мне всегда пригодилось. ѕримерно 85% глухих были рабочими на разных предпри€ти€х. ¬ школе глухих были учебно-производственные мастер-ские. Ќа завод приходили и имели уже какую-то специальность, чаще всего слесар€ или обувщика, потому что они хорошо ценились.
ћало песен пели, много работали. Ќа предпри€ти€х план надо выполнить и перевыполнить. √лухонемые, несмотр€ на то, что были малограмотны, работали хорошо. » учитьс€ в Ў–ћ (Ўколе работающей молодежи) старались хорошо. Ѕывает, грамота хромает, но мастера почитают, поймут. ƒо войны инструкторов-переводчиков на предпри€ти€х не было. ћы должны были хорошо работать, показывать высокую производительность труда. —перва мы должны были быть ударниками, а потом стахановцами. ѕ€тилетки выполн€ли досрочно - вместо п€ти лет за три с половиной, четыре года. ” нас был энтузиазм. ¬ 1931 году по предложению Ёрика “отьм€нина, председател€ Ћенинградского областного общества глухонемых, и »нститута по болезн€м уха, горла, носа был проведен эксперимент: глухих стали отправл€ть работать в шумовые цеха, где здоровые люди тер€ли слух. Ёксперимент очень удалс€.
ѕоскольку € хорошо владел жестовой речью, мне предложили быть пропагандистом-агитатором, просвещать малограмотных глухонемых. ќни газеты читали по складам, и приходилось часто выступать с беседами, докладами, ездить в качестве лектора по Ћенинградской области. — 1933 года € стал культработником. –аботал на заводе, а вечером в ƒомпросвете глухонемых. ј с 1936 года перешел туда в должность зам. директора по культмассовой работе. ¬ыступал в драмкружке, спортклубе и на соревновани€х.
я был футболистом, участвовал в I ¬сероссийской спартакиаде глухих в ћоскве в 1932 году, когда наша команда вз€ла общее первое место и получила бархатное знам€.
—редств на аренду спортплощадок не было. ”брали от мусора маленький сквер в первом дворе дома 55 на расной улице и устроили площадку дл€ прыжков в длину и высоту. ѕробежки устраивали на булыжной набережной. јвтотранспорт в те годы было редкое €вление, в основном были лошадиные телеги да кареты. ‘утболисты ездили в совхоз в ѕарголово, а в будни после работы тренировались в ѕрофтехшколе им.ћ.¬.‘рунзе. √ребцы - на лодочной станции в ÷ѕ иќ им. ирова. “огда на швейных фабриках работало много глухонемых, и профсоюз швейников дал указание бесплатно предоставл€ть гребную базу. ѕловцы тренировались ежедневно после работы в открытом бассейне р€дом со стадионом им. Ћенина или на пл€же у ѕетропавловской крепости. Ўахматисты имели свой клуб. ј со стрельбой было хуже. “ренировались в платных массовых тирах за свои деньги. —тарани€ не прошли даром: ленинградска€ команда зан€ла общее первое место.
¬ прошлом году летом была XVIII ќлимпиада глухих в опенгагене. я хотел до поездки с нашими спортсменами побеседовать. я бы им рассказал, что 65 лет назад на первой спартакиаде в ћоскве мы получили знам€ за первое место. » как мы спуст€ 25 лет участвовали в VIII ќлимпиаде в ћилане в 1957 году. “огда сборна€ ———– зан€ла общее первое место. ≈сли бы € рассказал, у них был бы энтузиазм повыше. я ждал, но никто не предложил. ѕозабыта, позаброшена обществом и спортклубом истори€.
¬ 1934 году мы вз€ли отпуск и организовали агитвелопробег Ћенин-град-ћосква. Ќас было четверо глухих. я был командиром. ћне тогда было 20 лет. ¬ каждом городе мы вы€вл€ли глухонемых и проводили с ними беседы. ¬ ћоскве нас встретили очень хорошо. ¬ это врем€ там были соревновани€ с турецкими футболистами и боксерами. Ќам дали бесплатные билеты на все соревновани€, и председатель футбольного клуба ћоссовета дал указание, чтобы нас обслуживали неделю, и только после этого отпустили домой.
ј как глухие жили? ≈сли посмотреть на фотографии, костюмов у многих не было. ѕочему € в заднем р€ду на фотографии? ѕотому, что у мен€ костюма не было. ћне мама купила костюм, когда мне был 21 год. я получил ордер в заводской магазин, и мама купила самый дешевый костюм. ј так € всегда был в футболке. ¬се были одеты просто, скромно.
ƒо войны у нас был только один выходной: воскресенье. —обирались по 20-30 человек и ехали за город. Ѕрали с собой м€ч, шахматы. «арплата у нас была маленька€. Ѕрали завтрак и бутылку ча€. ј кто побогаче - покупали лимонад. Ќо водку никогда не брали. «имой любили горные лыжи. ≈здили в авголово.
ћного глухонемых репрессировали. »х обвинили в создании фашистской террористической организации среди глухонемых Ћенинграда во главе с агентом гестапо јльбертом Ѕлюмом. ј
льберта Ѕлюма € помню: маленький, неказистый. ќн приехал к нам в 1931 или 1932 году и как немецкий коммунист попросил у нас политического убежища. Ќе будем писать о нем. ≈го им€ € выбрасываю, глухим не рассказываю о нем, нигде не упоминаю. ѕриехал из √ермании. √лухой. ≈го здесь никто не знал. ќн несколько лет жил в ѕетербурге, выдавал себ€ за коммуниста. нам, в ƒом культуры, приходил редко. ќбщественной работы никакой не вел. –аботал мастером в швейной мастерской им. —авельева. ¬ 1935 или 1936 году он пропал. √оворили, что он уехал обратно в √ерманию. ј € сомневаюсь, к тому времени это была фашистска€ √ермани€. огда € искал его фотографию, фотографий много, а его нигде не нашел.
20-летию ќкт€брьской революции наш драмкружок готовил спектакль по пьесе Ќикола€ ќстровского " ак закал€лась сталь". ¬о врем€ генеральной репетиции, за несколько дней до праздника, пришли двое из Ѕольшого дома. Ќе предъ€вл€€ никаких документов, спросили:
- то тут у вас “агер- арьелли?
» кто-то показал пальцем на режиссера. ≈му сказали:
- ѕойдем.
¬скоре арестовали и других. —пектакль не состо€лс€.
„ерез два-три дн€ из Ѕольшого дома пришли другие двое. ќни попросили мен€ показать им рабочий кабинет “агера. я вз€л ключи и повел их в его комнату, где были гримерна€ и гардероб.
- ѕочему у вас тут шпаги развешены?
я говорю:
- ћы ставили "ќтелло", "–омео и ƒжульетту". –апиры не боевые, а спортивные.
- ѕочему у вас книги?
ј на полках лежали старинные книги в кожаных переплетах, позолоченные.
я говорю:
- ќни остались от бывшего хоз€ина. Ќо € не знаю, кто здесь раньше был хоз€ином. я ничего не знаю. Ёто бутафори€.
“огда они вз€ли книги, стали вытр€хивать их и бросать на пол.
я говорю:
- “оварищи, почему бросаете на пол? —тол есть, кладите на стол.
“огда один закричал:
- ћолчи, иначе теб€ тоже заберем с собой.
ј какое мое положение? —егодн€ возьмут, а завтра прокурор подпишет, что € враг народа. Ёто им ничего не стоило сделать.
— августа по но€брь 1937 года арестовали 54 человека. »з них 35 расстрел€ли, 19 сослали на 10 лет в √”Ћј√. ¬ 1939 году "дело" пересмотрели, следователи были осуждены, а в начале 1940 года приговоренные к 10 годам в исправительно-трудовой лагерь были досрочно освобождены. ¬ 1955 году все расстрел€нные были реабилитированы.
ѕотом люди рассказывали, как их пытали, как требовали, чтобы они признались, что стали врагами народа. —ледователи спешили скорее закончить это дело, чтобы получить награду или повышение в должности. √лухонемых обслуживали три переводчика - переводчики плакали. „екисты от них требовали служить, содействовать. ≈сли помогать не будут, тогда они тоже тут останутс€. ќни не хотели остатьс€ в Ѕольшом доме. ” них были семьи. ћожете себе представить их положение! аждую минуту в голове было, а вдруг мен€ домой не отпуст€т? ѕопробуйте так 8-10 часов сидеть. ќ том, чтобы переводчиков накормить, никто не думал.
—амым старшим из расстрел€нных был Ќиколай ƒейбнер. ≈му было 74 года. ј самым молодым был ћарк ћаркович. ≈му было всего 22, он училс€ в той же школе, что и €.
Ёрик “отьм€нин, председатель Ћенинградского областного общества глухонемых, родилс€ в 1901 году. огда его расстрел€ли, ему было 36 лет. ќн приехал в ћоскву, поступил в ¬’”“≈ћј—, на факультет скульптуры. ќн был очень грамотный, начитанный. нему, глухому, приходили на политучебу даже дети переводчиков. Ѕлагодар€ ему в 1930-м году в –оссии впервые был проведен трехдневник "Ѕереги слух!".
ѕомню, € училс€ в школе. ак-то раз “отьм€нин пришел к нам в слесарную мастерскую и попросил сделать кружки-кубышки, чтобы собирать деньги. ћы сделали 10 или 15 штук. » ходили с ними по улицам. ћы шли по городу и собирали деньги. “ам было написано: "“рехдневник "Ѕереги слух!". ј маленькие дети заранее делали цветочки из тонкой проволоки и цветной бумаги. то нам положит в кружку денежку - тому они на пуговицу цветочек наматывали. ружки потом отдавали учител€м, они сами деньги считали. —обранные тогда деньги пошли на организацию Ќаучно-практического института по болезн€м уха, горла, носа. ј вз€ть оттуда деньги (на них ни замка, ни печати сургучовой не было, только веревочкой зав€зано), пойти в булочную, купить буханку хлеба и покушать - даже мысли не было, хот€ все эти 10 лет мы были полуголодными. ѕосле из »нститута к нам в школу пришел представитель. Ќас собрал, поздравил и каждому дал по конфетке. ѕомню, мы так рады были, когда их кушали.
ј в конце 30-х мы уже собирали деньги на строительство самолетов и танков "¬оговец". Ќа наши деньги построили два танка и два самолета.
—реди репрессированных был ¬ладимир –едзько, 1892 года рождени€. ’удожник. ќн окончил училище Ўтиглица с отличием. Ќесмотр€ на то, что глухой, его пригласили работать в Ќ»» озерного и речного рыбного хоз€йства. ќн рисовал рыб. я у него бывал в мастерской, поскольку училс€ на художника-оформител€. ќн выступал у нас с беседами, проводил литературные вечера. ≈го любили слушать. аждую неделю он рассказывал нам про зарубежную и русскую художественную литературу.
–остислав «убковский приехал с родител€ми из ’арбина. — фашистской свастикой ходил в ƒом культуры. »м в ’арбине разрешали носить. —читалось модным. я его как-то встретил, убери, говорю, а то посад€т. ќн сн€л, но какой-то паршивец на него успел пожаловатьс€, и его вз€ли. ≈му было 16 лет.
¬ 1939 году в ƒоме просвещени€ глухонемых выступал папанинец ‘едоров, он потом стал академиком. ≈го пригласили рассказать о своей работе на —еверном полюсе. ≈ще мы приглашали человека, который называл себ€ ’аджи-ћуратом. Ѕыл у нас гипнотизер. √оворили, что глухонемых не усыпить. Ќеправда, и глухих можно гипнотизировать.
ј 22 июн€ 1941 года по плану культмассовой работы ƒѕ√ была экскурси€ в ѕетро-дворец на пароходе. ƒо швартовки к пирсу никто (не только мы, глухонемые, но и наши переводчики, и пассажиры) не знал, что началась война. “олько при выходе из парохода из разговора людей, ожидающих посадки, чтобы ехать в Ћенинград, одни разговоры о вероломном нападении фашист-ской √ермании на ———–. ѕоловина группы пошла в музей, а друга€ половина осталась на пл€же. ” нас были две переводчицы. я вз€л одну переводчицу, и мы пошли к директору музе€, моему знакомому, капитану военного флота в отставке (он демобилизовалс€ и стал директором музе€ и парка). ќн обрадовалс€ моему приходу. я спрашиваю: "ѕравда, что началась война?" » тогда он сказал, что по радио выступал министр иностранных дел ћолотов и по радио передавали, что началась демобилизаци€. я потом вместе с переводчиком обошел все залы и все врем€ думал, что вижу их в последний раз.
ƒо войны глухонемые никаких льгот не получали. роме одной - они не подлежали призыву в армию. Ќо были и партизаны, и солдаты, которые несмотр€ на глухоту, немоту и неграмотность добровольно служили в армии. ј как ценили труд глухонемых во врем€ войны! ¬о врем€ блокады Ћенинграда в городе было более 500 глухонемых. ќни работали и за себ€, и за товарищей, ушедших на фронт. ¬ общество глухих даже после войны поступали за€вки на большие группы глухонемых, 100-200 человек. ѕредпри€ти€ хотели себ€ застраховать: а вдруг снова будет война?
1 июл€ 1942 года ƒом культуры закрыли, сделали там стационар дл€ больных руководителей и работников горисполкомов, обкомов партии. “ут и рожали, и лечили. ормили хорошо.
я хотел помогать фронту. ” мен€ специальность - слесарь-инструментальщик VI-го разр€да. ј тут не принимали на работу - не было электричества. я пошел в вербовочное бюро и там прочитал, что требуютс€ рабочие в оборонную промышленность. я выбрал авиационную промышленность в “ушино. » туда завербовалс€. ѕриехал. ћен€ сделали бригадиром слесарей-инструментальщиков. ћы осваивали моторы дл€ бомбардировщиков дальнего радиуса действи€. Ѕолее года в моей бригаде работало 20 военнопленных немцев. ¬се были инструментальщиками и по работе соскучились. Ќо были очень медлительные. ћедленно ход€т, долго кур€т, переодеваютс€ долго. Ќо хорошо наши задани€ выполн€ли. — немцами мы мало разговаривали. огда € им писал: "¬ы - фашисты!" ќни мне отвечали: "Ќет! ћы социал-демократы". ѕеред окончанием войны они перестали к нам ходить.
≈ще € был редактором цеховой стенгазеты и активным рабкором заводской газеты "ѕравда". Ѕоролс€ с недостатками. Ќе подхалимничал. ѕоэтому, когда рабочих предпри€ти€ и руководство награждали, мен€ обошли. оммунисты критику тоже не любили.
“олько в 1946 году мен€ отпустили, и € с семьей вернулс€ в Ћенинград. –аботал на разных должност€х: заместителем директора ƒома культуры; заместителем председател€, потом председателем Ћенинградского городского правлени€ ¬ќ√; заместителем директора по учебно-воспитательной работе ”чебно-производственного предпри€ти€ ¬ќ√ и почти 5 лет председателем месткома профсоюза там же. ѕо уходе на заслуженный отдых зан€лс€ сбором и изучением материалов по истории местного правлени€ ¬ќ√ и созданием музе€ истории, который был торжественно открыт в апреле 1980 года и считалс€ одним из лучших в системе общества.
1998г
|
ћетки: глухонемые глухие |
"ƒело ленинградских глухих." |
ƒневник |
30 окт€бр€ в —анкт-ѕетербурге вспоминали жертв политических репрессий.

ƒело Ћенинградского общества глухих.
¬ 30-ых годах прошлого века в ———– приехал из √ермании глухой јльберт Ѕлюм. ак немецкий коммунист, он попросил у нас политическое убежище. ”строилс€ мастером в швейную мастерскую. ¬ ƒ ¬ќ√ приходил редко, его почти никто не знал.
Ќесколько глухонемых в это врем€ ходили по пригородным поездам, продавали открытки. Ёто очень не нравилось председателю Ћеноблотдела ¬ќ√ Ё.ћ.“отьм€нину. ќн послал за€вление начальнику ”Ќ ¬ƒ Ћенинградской области.
ѕо этому за€влению 14 августа 1937 года было арестовано 5 человек, среди них јлександр —тадников, каблучник фабрики Ђ—короход, ему было 33 года. ѕри обыске в его квартире среди 1400 открыток было найдено несколько с изображением √итлера. Ёти открытки находились в коробке из-под сигарет, которые курил сосед по дому јльберт Ѕлюм.
Ќачальник ќЅ’—— ”правлени€ милиции я.ћ. раузе дал ход Ђƒелу антисоветской фашистской террористической организации агента гестапо ј.Ѕлюмаї. Ѕыла создана следственна€ бригада, в нее вошли ѕасынков, Ќемцов, Ћебедев, Ўпор, ћорозов.
¬ качестве переводчиков привлекли ѕерлову, —имонову и »ду »гнатенко (ей было 18 лет). ќни работали под угрозой ареста 8-10 часов. —ледователи заполн€ли протоколы допроса по своему усмотрению, несмотр€ на протесты переводчиков. јрестованные подписывали протоколы под принуждением.
¬ ходе допросов вы€сн€лись новые имена. » в период с августа по декабрь 1937 года было арестовано 54 глухих человека.
ќсобо жестоким пыткам были подвергнуты 35 человек и ќсобой тройкой ”Ќ ¬ƒЋ 19 декабр€ 1937 года приговорены по статье 58-8-11 ” –—‘—– к высшей мере наказани€. –асстрел€ны 24 декабр€ 1937 года:
јлександр —тадников, јлексей јгуреев (33 года), рабочий фабрики Ђѕролетарска€ победаї є 2,
яков јптер (30 лет), член ¬ ѕ(б), слесарь-сборщик завода ÷ Ѕ є 22, Ќиколай јлександрович Ѕр€нцев (49 лет), фототехник јкадемии художеств, Ќиколай ¬асильев (25 лет), слесарь завода ЂЋенинска€ искраї (сведени€ о нем в прекращенных в 1940 году делах отсутствуют), јлександр ¬ышковец (28 лет), слесарь-сборщик завода имени ћарти,
ћихаил √ригорьев (28 лет), токарь завода Ђѕрогрессї,
Ќиколай яковлевич √уревич (52 года), закройщик обуви артели инвалидов ЂЅольшевикї,
Ќиколай ƒвойнов (29 лет), слесарь-инструментальщик завода є 212,
Ќиколай Ћеонтьевич ƒейбнер (64 года), пенсионер, организатор и председатель петербургского союза глухонемых,
¬ладислав ƒолоцкий (35 лет), член ¬ ѕ(б), намотчик завода є 210, Ѕолеслав ∆елтковский (29 лет), сапожник фабрики Ђѕролетарска€ победаї є 2,
√еоргий «олотницкий (36 лет), член ¬ ѕ(б), художник артели »нкоопрабис . ¬ прошлом служил добровольцем в белой армии, был председателем месткома ѕетроградского театра глухонемых Ђѕантомимаї. Ќа допросе он за€вил: Ђѕодождем до суда, на суде все скажемї (о незаконных методах допроса) (из показаний переводчицы ѕерловой 1 июн€ 1939 года).
≈лена »вановна рушевска€ (44 года), шве€-ручница фабрики имени ¬олодарского,
ѕетр умме (34 года), кандидат в члены ¬ ѕ(б), слесарь старочугунного литейного цеха ировского завода,
“имофей урчавин (37 лет), рабочий по найму, ¬арвара Ћуценко (40 лет), в€зальщица комбината имени расина, ћарк ћаркович (22 года), монтер 1-го троллейбусного парка, ћари€ —ергеевна ћинцлова (ѕиотровска€) (45 лет), художница по фарфору, преподавала в школе глухонемых при артели имени ќгородникова, была первым директором ƒ ¬ќ√. ќна долго отказывалась подписать протокол, составленный в извращенном виде Ќемцовым, подписала после принуждени€, јлександр ¬асильевич Ќекрасов (56 лет), наборщик ѕечатного двора, »зраиль Ќиссенбаум (37 лет), фотограф-ретушер артели »нкоопрабис. ѕереводчица ѕерлова рассказала, что Ќиссенбаум не давал показаний следователю Ћебедеву. “от направил его в дежурную комнату к практиканту. » через некоторое врем€ практикант принес письменное показание »зраил€, что тот собиралс€ поехать в ћоскву и совершить убийство —талина.
јлексей ѕавлович (27 лет), слесарь-механик завода Ђ расна€ зар€ї, јндрей ѕетров (34 года), кандидат в члены ¬ ѕ(б), конструктор Ќ»» є 22, ≈лена ‘едоровна ѕогоржельска€ (44 года), председатель фабкома и бригадир швейной фабрики имени —авельева,
¬ладимир ¬ладимирович –едзько (55 лет), член ¬ ѕ(б), художник-ихтиолог «оологического музе€. ќн окончил с отличием училище имени Ўтиглица. «а€длый шахматист, был заместителем ƒейбнера. аждую неделю выступал в ƒ ¬ќ√ с беседами, проводил литературные вечера,
¬алентина »осифовна «акс (45 лет), мотальщица ”ѕѕ имени арла ћаркса, јнтонина ¬асильева (32 года), шве€ комбината имени расина, Ќина ¬интер (39 лет), модистка артели ѕромгубор. јнтонина јлександровна √оловина (55 лет), шве€ фабрики имени ¬олодарского, Ёстер ћенделевна √орофункель (40 лет), шве€ артели Ђќбъединенный швейникї,
ћихаил —еменович “агер- арьелли (45 лет), руководитель драмкружка в ƒ ¬ќ√, был организатором и режиссером театра Ђѕантомимаї,
Ёрик ћихайлович “отьм€нин (36 лет), член ¬ ѕ(б), художник-скульптор ( окончил в ћоскве ¬’”“≈ћј—), с 1929 года председатель Ћеноблотдела ¬ќ√. Ѕыл депутатом Ћенсовета (1923-34 г.). Ѕлагодар€ ему, в –оссии в 1930 году был проведен трехдневник ЂЅереги слухї, организован сбор денег на постройку двух самолетов и двух танков Ђ¬оговецї.
ћари€ „аусова (30 лет), безработна€. ѕереводчица »гнатенко показала, что „аусова долго не подписывала составленный Ќемцовым протокол, подписала под принуждением.
»ван »ванович „ервинский (46 лет), копировщик костеобрабатывающего завода Ђ лейкостьї.
ƒмитрий ’орин (36 лет) был арестован позже всех и расстрел€н в €нваре 1938 года.
—уровый приговор объ€сн€лс€ особым отношением чекистов к инвалидам. »х, как жертв следственных пыток, предпочли расстрел€ть.
ќстальные были приговорены к заключению в исправительно-трудовый лагерь сроком на 10 лет. ќдни были в ћордовии на строительстве железной дороги, другие в араганде.
15 марта 1939 года раузе был арестован за нарушени€ в оперативно-следовательской работе . ≈го дело рассматривалось с 18 по 30 но€бр€ 1940 года и соответственно было прекращено дело о глухонемых. раузе и Ћебедева расстрел€ли. ѕасынков, Ќемцов и ћорозов отбыли 10 лет в »“Ћ. Ўпору дали 2 года »“Ћ. условному лишению свободы была приговорена переводчица »гнатенко. ”чли то, что она была практиканткой и на нее вли€л Ќемцов. роме того у нее был двухлетний ребенок.
–асстрел€нных глухонемых реабилитировали в 1955 году. ¬ ƒ ¬ќ√ висит пам€тна€ доска с их фамили€ми.
¬ Ћевашовской пустоши, где погребали расстрел€нных, есть пам€тные доски, установленные родными —тадникова и «олотницкого. ¬ журнале Ђ¬≈—ї є9-09г. дочь «олотницкого “ать€на рассказала об отце. огда его расстрел€ли ей было три мес€ца.
—осланные на 10 лет, глухие были освобождены, о себе рассказывали неохотно. —амуил јбрамзон подтвердил, что все 18 человек, с которыми он был вместе, подписали протоколы под принуждением. √еоргий √воздев за€вил, что протокол был записан не с его слов, он никаких показаний не давал. ≈го ударили в затылок руко€ткой револьвера, после этого он подписал протокол, не чита€.
–остиславу «убковскому было 16 лет, он приехал из ’арбина с родител€ми. ¬ ƒ приходил с модной в те годы в ’арбине фашистской свастикой. ѕосле предупреждени€ «убковский свастику сн€л, но кто-то успел донести. —ведени€ о нем в прекращенных в 1940 году делах отсутствуют.
—ведени€ вз€ты из записок ƒавида Ћьвовича √инзбургского и из материалов ЂЋенинградского мартирологаї.

ƒело Ћенинградского общества глухих.
¬ 30-ых годах прошлого века в ———– приехал из √ермании глухой јльберт Ѕлюм. ак немецкий коммунист, он попросил у нас политическое убежище. ”строилс€ мастером в швейную мастерскую. ¬ ƒ ¬ќ√ приходил редко, его почти никто не знал.
Ќесколько глухонемых в это врем€ ходили по пригородным поездам, продавали открытки. Ёто очень не нравилось председателю Ћеноблотдела ¬ќ√ Ё.ћ.“отьм€нину. ќн послал за€вление начальнику ”Ќ ¬ƒ Ћенинградской области.
ѕо этому за€влению 14 августа 1937 года было арестовано 5 человек, среди них јлександр —тадников, каблучник фабрики Ђ—короход, ему было 33 года. ѕри обыске в его квартире среди 1400 открыток было найдено несколько с изображением √итлера. Ёти открытки находились в коробке из-под сигарет, которые курил сосед по дому јльберт Ѕлюм.
Ќачальник ќЅ’—— ”правлени€ милиции я.ћ. раузе дал ход Ђƒелу антисоветской фашистской террористической организации агента гестапо ј.Ѕлюмаї. Ѕыла создана следственна€ бригада, в нее вошли ѕасынков, Ќемцов, Ћебедев, Ўпор, ћорозов.
¬ качестве переводчиков привлекли ѕерлову, —имонову и »ду »гнатенко (ей было 18 лет). ќни работали под угрозой ареста 8-10 часов. —ледователи заполн€ли протоколы допроса по своему усмотрению, несмотр€ на протесты переводчиков. јрестованные подписывали протоколы под принуждением.
¬ ходе допросов вы€сн€лись новые имена. » в период с августа по декабрь 1937 года было арестовано 54 глухих человека.
ќсобо жестоким пыткам были подвергнуты 35 человек и ќсобой тройкой ”Ќ ¬ƒЋ 19 декабр€ 1937 года приговорены по статье 58-8-11 ” –—‘—– к высшей мере наказани€. –асстрел€ны 24 декабр€ 1937 года:
јлександр —тадников, јлексей јгуреев (33 года), рабочий фабрики Ђѕролетарска€ победаї є 2,
яков јптер (30 лет), член ¬ ѕ(б), слесарь-сборщик завода ÷ Ѕ є 22, Ќиколай јлександрович Ѕр€нцев (49 лет), фототехник јкадемии художеств, Ќиколай ¬асильев (25 лет), слесарь завода ЂЋенинска€ искраї (сведени€ о нем в прекращенных в 1940 году делах отсутствуют), јлександр ¬ышковец (28 лет), слесарь-сборщик завода имени ћарти,
ћихаил √ригорьев (28 лет), токарь завода Ђѕрогрессї,
Ќиколай яковлевич √уревич (52 года), закройщик обуви артели инвалидов ЂЅольшевикї,
Ќиколай ƒвойнов (29 лет), слесарь-инструментальщик завода є 212,
Ќиколай Ћеонтьевич ƒейбнер (64 года), пенсионер, организатор и председатель петербургского союза глухонемых,
¬ладислав ƒолоцкий (35 лет), член ¬ ѕ(б), намотчик завода є 210, Ѕолеслав ∆елтковский (29 лет), сапожник фабрики Ђѕролетарска€ победаї є 2,
√еоргий «олотницкий (36 лет), член ¬ ѕ(б), художник артели »нкоопрабис . ¬ прошлом служил добровольцем в белой армии, был председателем месткома ѕетроградского театра глухонемых Ђѕантомимаї. Ќа допросе он за€вил: Ђѕодождем до суда, на суде все скажемї (о незаконных методах допроса) (из показаний переводчицы ѕерловой 1 июн€ 1939 года).
≈лена »вановна рушевска€ (44 года), шве€-ручница фабрики имени ¬олодарского,
ѕетр умме (34 года), кандидат в члены ¬ ѕ(б), слесарь старочугунного литейного цеха ировского завода,
“имофей урчавин (37 лет), рабочий по найму, ¬арвара Ћуценко (40 лет), в€зальщица комбината имени расина, ћарк ћаркович (22 года), монтер 1-го троллейбусного парка, ћари€ —ергеевна ћинцлова (ѕиотровска€) (45 лет), художница по фарфору, преподавала в школе глухонемых при артели имени ќгородникова, была первым директором ƒ ¬ќ√. ќна долго отказывалась подписать протокол, составленный в извращенном виде Ќемцовым, подписала после принуждени€, јлександр ¬асильевич Ќекрасов (56 лет), наборщик ѕечатного двора, »зраиль Ќиссенбаум (37 лет), фотограф-ретушер артели »нкоопрабис. ѕереводчица ѕерлова рассказала, что Ќиссенбаум не давал показаний следователю Ћебедеву. “от направил его в дежурную комнату к практиканту. » через некоторое врем€ практикант принес письменное показание »зраил€, что тот собиралс€ поехать в ћоскву и совершить убийство —талина.
јлексей ѕавлович (27 лет), слесарь-механик завода Ђ расна€ зар€ї, јндрей ѕетров (34 года), кандидат в члены ¬ ѕ(б), конструктор Ќ»» є 22, ≈лена ‘едоровна ѕогоржельска€ (44 года), председатель фабкома и бригадир швейной фабрики имени —авельева,
¬ладимир ¬ладимирович –едзько (55 лет), член ¬ ѕ(б), художник-ихтиолог «оологического музе€. ќн окончил с отличием училище имени Ўтиглица. «а€длый шахматист, был заместителем ƒейбнера. аждую неделю выступал в ƒ ¬ќ√ с беседами, проводил литературные вечера,
¬алентина »осифовна «акс (45 лет), мотальщица ”ѕѕ имени арла ћаркса, јнтонина ¬асильева (32 года), шве€ комбината имени расина, Ќина ¬интер (39 лет), модистка артели ѕромгубор. јнтонина јлександровна √оловина (55 лет), шве€ фабрики имени ¬олодарского, Ёстер ћенделевна √орофункель (40 лет), шве€ артели Ђќбъединенный швейникї,
ћихаил —еменович “агер- арьелли (45 лет), руководитель драмкружка в ƒ ¬ќ√, был организатором и режиссером театра Ђѕантомимаї,
Ёрик ћихайлович “отьм€нин (36 лет), член ¬ ѕ(б), художник-скульптор ( окончил в ћоскве ¬’”“≈ћј—), с 1929 года председатель Ћеноблотдела ¬ќ√. Ѕыл депутатом Ћенсовета (1923-34 г.). Ѕлагодар€ ему, в –оссии в 1930 году был проведен трехдневник ЂЅереги слухї, организован сбор денег на постройку двух самолетов и двух танков Ђ¬оговецї.
ћари€ „аусова (30 лет), безработна€. ѕереводчица »гнатенко показала, что „аусова долго не подписывала составленный Ќемцовым протокол, подписала под принуждением.
»ван »ванович „ервинский (46 лет), копировщик костеобрабатывающего завода Ђ лейкостьї.
ƒмитрий ’орин (36 лет) был арестован позже всех и расстрел€н в €нваре 1938 года.
—уровый приговор объ€сн€лс€ особым отношением чекистов к инвалидам. »х, как жертв следственных пыток, предпочли расстрел€ть.
ќстальные были приговорены к заключению в исправительно-трудовый лагерь сроком на 10 лет. ќдни были в ћордовии на строительстве железной дороги, другие в араганде.
15 марта 1939 года раузе был арестован за нарушени€ в оперативно-следовательской работе . ≈го дело рассматривалось с 18 по 30 но€бр€ 1940 года и соответственно было прекращено дело о глухонемых. раузе и Ћебедева расстрел€ли. ѕасынков, Ќемцов и ћорозов отбыли 10 лет в »“Ћ. Ўпору дали 2 года »“Ћ. условному лишению свободы была приговорена переводчица »гнатенко. ”чли то, что она была практиканткой и на нее вли€л Ќемцов. роме того у нее был двухлетний ребенок.
–асстрел€нных глухонемых реабилитировали в 1955 году. ¬ ƒ ¬ќ√ висит пам€тна€ доска с их фамили€ми.
¬ Ћевашовской пустоши, где погребали расстрел€нных, есть пам€тные доски, установленные родными —тадникова и «олотницкого. ¬ журнале Ђ¬≈—ї є9-09г. дочь «олотницкого “ать€на рассказала об отце. огда его расстрел€ли ей было три мес€ца.
—осланные на 10 лет, глухие были освобождены, о себе рассказывали неохотно. —амуил јбрамзон подтвердил, что все 18 человек, с которыми он был вместе, подписали протоколы под принуждением. √еоргий √воздев за€вил, что протокол был записан не с его слов, он никаких показаний не давал. ≈го ударили в затылок руко€ткой револьвера, после этого он подписал протокол, не чита€.
–остиславу «убковскому было 16 лет, он приехал из ’арбина с родител€ми. ¬ ƒ приходил с модной в те годы в ’арбине фашистской свастикой. ѕосле предупреждени€ «убковский свастику сн€л, но кто-то успел донести. —ведени€ о нем в прекращенных в 1940 году делах отсутствуют.
—ведени€ вз€ты из записок ƒавида Ћьвовича √инзбургского и из материалов ЂЋенинградского мартирологаї.
|
ћетки: глухонемые глухие |
31 окт€бр€-ƒень —урдопереводчика |
ƒневник |
ƒень сурдопереводчика учрежден в €нваре 2003 года и отмечаетс€ ежегодно 31 окт€бр€. ѕраздник учрежден по инициативе ÷ентрального правлени€ ¬сероссийского общества глухих и призван обратить внимание общества на проблемы глухих. —пециалисты, владеющие жестовой речью глухих, на прот€жении более полутора столетий служили и продолжают служить главным св€зующим звеном между глухими и слышащими людьми. ќни выполн€ют гуманную и чрезвычайно ответственную миссию приобщени€ неслышащих граждан к полноценному участию в жизни окружающего общества.
ћ. ћатульска€ Ђѕереводчикамї
¬от видишь, нам из тишины
ричат ладони.
¬ надежде пальцы сплетены,
ак листь€ в кроне.
» руки бьютс€ у лица,
¬ них боль, отрада.
—оедин€ем мы сердца,
» в том награда.
’оть шум листвы перевести
Ќикак не можем,
Ќо глухоту перенести
ћы вам поможем.
» переводчик, как струна,
∆дет в жестах лада,
¬едь в них мелоди€ слышна Ц
» в том награда.
ѕропустим звуки всей «емли
—квозь наши души,
ћы б друг без друга не смогли,
ћы Ц ваши уши.
∆ивое слово донесем,
’оть есть преграда,
» вместе с вами запоем Ц
» в том награда.
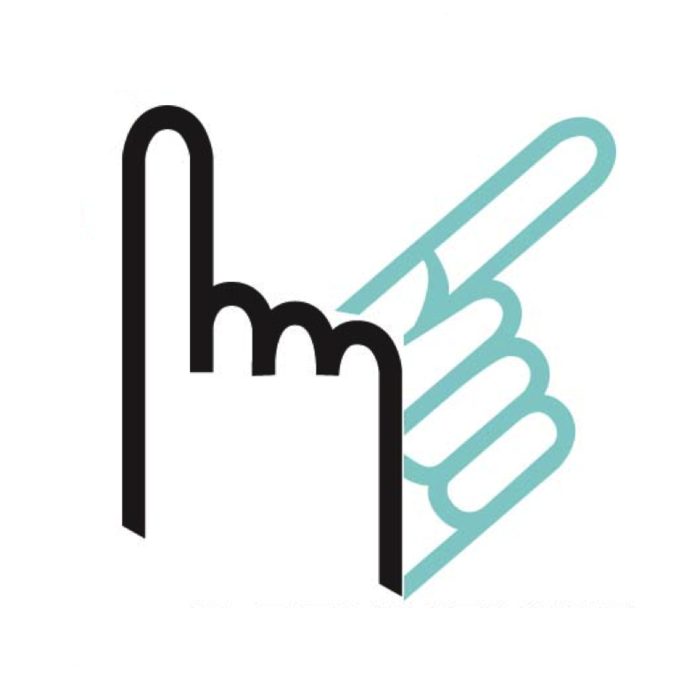
¬. Ћюханов Ђјнгел мойї
ак € люблю твои простые руки!
ћир незнакомый открыва€ мне,
“воей рукой начертанные звуки
Ѕесследно исчезают в тишине.
ак велико земное наслажденье!
¬ступа€ с тишиной в неравный бой,
“ы даришь мне звучащий мир волшебный
—воей простой и чуткою рукой.
я твоему подарку изумл€юсь
» вдруг замру в восторге, не дыша, -
акими же прекрасными бывают
— твоей руки вспорхнувшие слова.
» нежный детский лепет понимаю,
» бьетс€ песн€ птицею в рукахЕ
—в€тое чувство сопереживань€
явл€лось мне в подаренных словах.
ака€ точность в чувстве интонаций,
¬ синхронности переводимых слов,
» в мастерстве твоих импровизаций, -
ѕон€тно все Ц и горе, и любовь.
ѕон€тно все, что без теб€ безмолвно,
„то без теб€ сокрыто “ишинойЕ
“ы мне дана судьбой, как ангел, словно,
¬ Ѕезмолвии путеводитель мой.
ћ. ћатульска€ Ђѕереводчикамї
¬от видишь, нам из тишины
ричат ладони.
¬ надежде пальцы сплетены,
ак листь€ в кроне.
» руки бьютс€ у лица,
¬ них боль, отрада.
—оедин€ем мы сердца,
» в том награда.
’оть шум листвы перевести
Ќикак не можем,
Ќо глухоту перенести
ћы вам поможем.
» переводчик, как струна,
∆дет в жестах лада,
¬едь в них мелоди€ слышна Ц
» в том награда.
ѕропустим звуки всей «емли
—квозь наши души,
ћы б друг без друга не смогли,
ћы Ц ваши уши.
∆ивое слово донесем,
’оть есть преграда,
» вместе с вами запоем Ц
» в том награда.
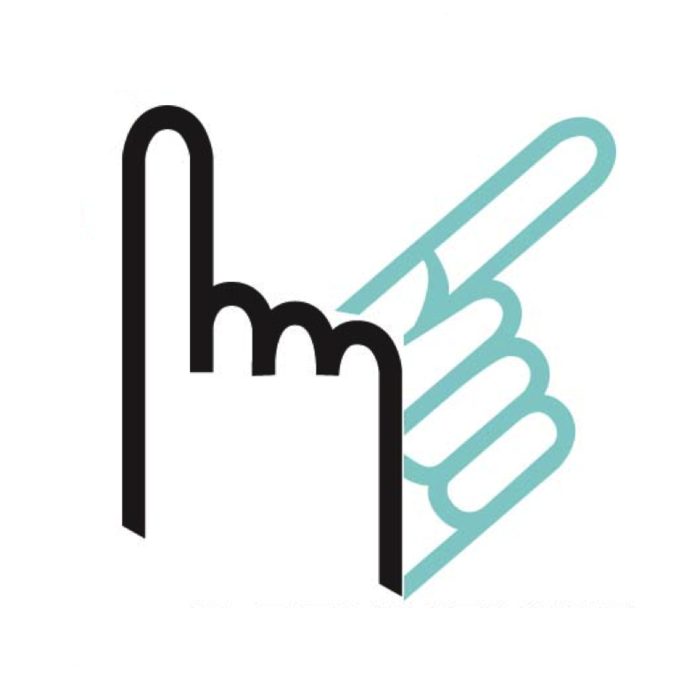
¬. Ћюханов Ђјнгел мойї
ак € люблю твои простые руки!
ћир незнакомый открыва€ мне,
“воей рукой начертанные звуки
Ѕесследно исчезают в тишине.
ак велико земное наслажденье!
¬ступа€ с тишиной в неравный бой,
“ы даришь мне звучащий мир волшебный
—воей простой и чуткою рукой.
я твоему подарку изумл€юсь
» вдруг замру в восторге, не дыша, -
акими же прекрасными бывают
— твоей руки вспорхнувшие слова.
» нежный детский лепет понимаю,
» бьетс€ песн€ птицею в рукахЕ
—в€тое чувство сопереживань€
явл€лось мне в подаренных словах.
ака€ точность в чувстве интонаций,
¬ синхронности переводимых слов,
» в мастерстве твоих импровизаций, -
ѕон€тно все Ц и горе, и любовь.
ѕон€тно все, что без теб€ безмолвно,
„то без теб€ сокрыто “ишинойЕ
“ы мне дана судьбой, как ангел, словно,
¬ Ѕезмолвии путеводитель мой.
|
ћетки: глухие сурдопереводчик глухонемые |
ќ жесте "We love You!" |
ƒневник |

√рафический знак международного жеста глухих "We love You!" (ћы ¬ас Ћюбим !) имеют п€ть цветов также как и
п€ть колец олимпийского кольца.
ѕ€ть колец олимпийского кольца и п€ть пальцев рук служат символом п€ти обитаемых континентов земного шара.
√олубое кольцо эмблемы символизирует ≈вропу, черное - јфрику, желтое - јзию, красное - јмерику и зеленое - јвстралию с ќкеанией.


|
ћетки: глухонемые жестовый €зык глухих |
√лухие и иностранцы. |
ƒневник |

«адаешь вопрос: ѕричем тут глухие и иностранцы? ј вот в чем: смысл этих слов ничем не отличаютс€. ≈сли иностранец приезжает в –оссию,не зна€ русского €зыка,он начинает себ€ вести как глухой человек. ¬от также себ€ ведут российские глухие среди слышащих.
¬ итоги инвалиды по слуху чувствуют себ€ в –оссии иностранцами!
ƒл€ глухих людей все это усложн€етс€, в первую очередь, отсутствием информации. ¬с€ транспортна€ инфраструктура - аэропорты, железнодорожные и автобусные вокзалы - не рассчитана на неслышащего. ¬роде элементарно: пустить бегущую строку вместе с аудиосообщением диктора, или оснастить автобусы и вагоны подземки электронными информационными табло, но, к сожалению, многие глухие чувствуют себ€ в российских городах словно иностранцы.
|
ћетки: глухие глухонемые |
”мейте пить или конь€к "MURATOFF". |
ƒневник |
ј вы знаете почему наш народ не победим?
ƒа потому, что он находчив,изобретателен и к тому же еще и предприимчив.
Ќи какой француз себе не может даже представить и в страшном сне, что конь€к может быть произведен не в одноименной провинции, а в простой российской квартире, да еще и по совсем простому рецепту из самогона или русской водки!
Ќу да ладно пора переходить к рецепту. ѕредлагаю свой фирменный конь€к "MURATOFF".
„итайте, записывайте, копируйте себе на компьютер.
Ќо помните о чрезмерном употреблении и чем оно чревато!!!
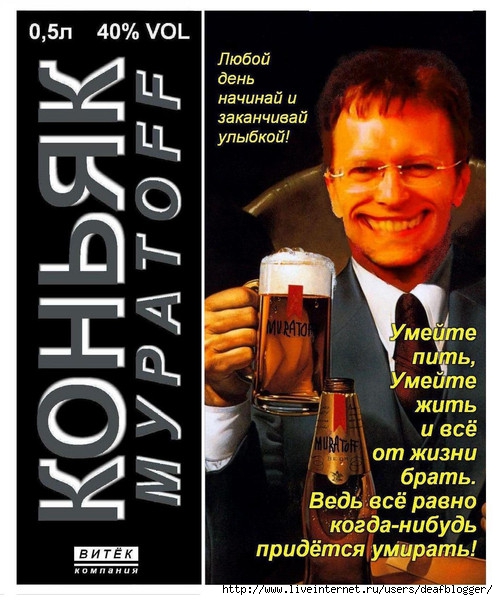
ƒл€ рецепта конь€ка "MURATOFF"понадоб€тс€:
—амогон или водка-3литра
¬анилин на кончике ножа
3 лавровых листика
1ст. ложка хорошего ча€
1ст. ложка сахара
5 горошин черного перца
5 гвоздичек
Ќесколько корок лимона или апельсина
¬ пустую 3-х литровую банку добавл€ем сахар, чай, ваниль,черный перец,гвоздики,лаврушки и корки лимона или апельсина(лучше всего апельсиновую корку). «алить все это самогоном или водкой и тщательно перемешать.
Ѕанку закрыть крышкой и поставить в темное место на 10 дней.
«атем процедить и подавать к столу в охлажденном состо€нии.ѕить его очень легко,даже закусывать не надо! «апах очень ароматный! Ќо предупреждаю о чрезмерном употреблении и чем оно чревато!!! ”мейте пить! «найте свою меру!
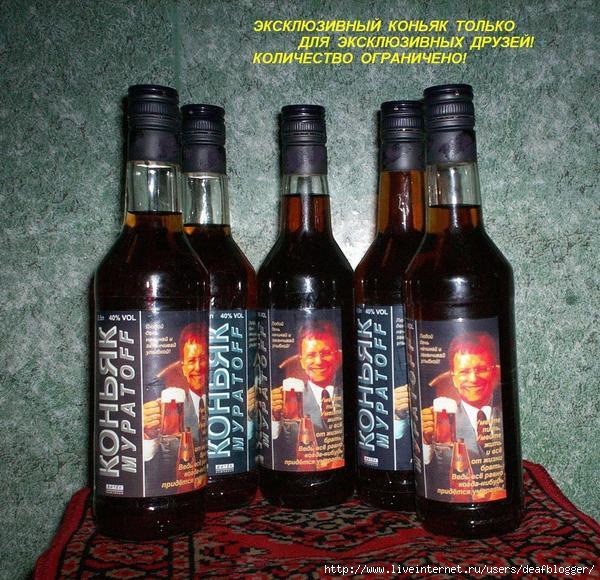
ƒа потому, что он находчив,изобретателен и к тому же еще и предприимчив.
Ќи какой француз себе не может даже представить и в страшном сне, что конь€к может быть произведен не в одноименной провинции, а в простой российской квартире, да еще и по совсем простому рецепту из самогона или русской водки!
Ќу да ладно пора переходить к рецепту. ѕредлагаю свой фирменный конь€к "MURATOFF".
„итайте, записывайте, копируйте себе на компьютер.
Ќо помните о чрезмерном употреблении и чем оно чревато!!!
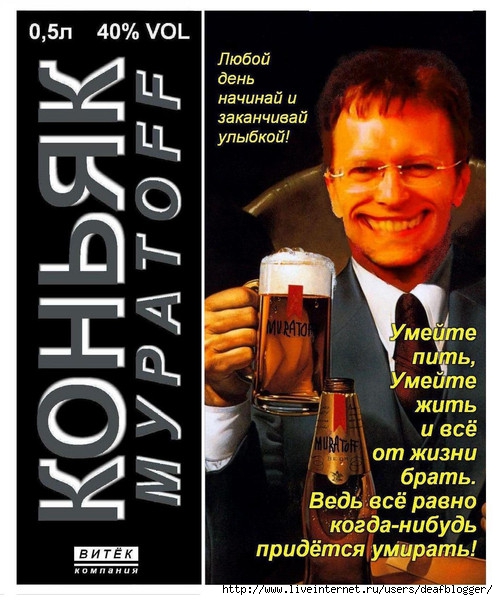
ƒл€ рецепта конь€ка "MURATOFF"понадоб€тс€:
—амогон или водка-3литра
¬анилин на кончике ножа
3 лавровых листика
1ст. ложка хорошего ча€
1ст. ложка сахара
5 горошин черного перца
5 гвоздичек
Ќесколько корок лимона или апельсина
¬ пустую 3-х литровую банку добавл€ем сахар, чай, ваниль,черный перец,гвоздики,лаврушки и корки лимона или апельсина(лучше всего апельсиновую корку). «алить все это самогоном или водкой и тщательно перемешать.
Ѕанку закрыть крышкой и поставить в темное место на 10 дней.
«атем процедить и подавать к столу в охлажденном состо€нии.ѕить его очень легко,даже закусывать не надо! «апах очень ароматный! Ќо предупреждаю о чрезмерном употреблении и чем оно чревато!!! ”мейте пить! «найте свою меру!
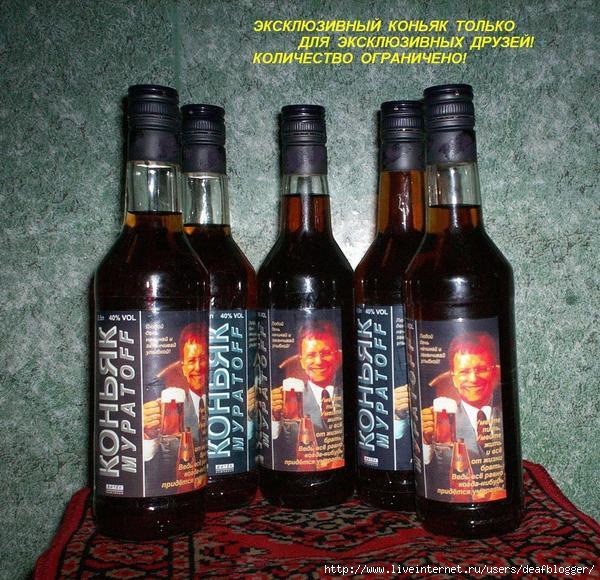
|
ћетки: конь€к deaf world глухонемые глухие глухих глухонемой.художник |
| —траницы: | [1] |


















