
√ельман-галерист подарил миру улика и Ѕренера. √олый улик кусалс€ и публично совокупл€лс€ с животными; Ѕренер — испражн€лс€ перед картиной ¬ан √ога в ћузее ѕушкина. ѕро √ельмана-политтехнолога говорили, что он €кобы св€зан с нечистой силой. √ельман-коллекционер отдал в дар –усскому музею 60 своих картин. Ќа ќ–“ √ельман был аналитиком. ѕотом неожиданно дл€ всех уволилс€. —ейчас строит дачу неподалеку от подмосковной ∆уковки и, как он сам говорит, тихо размышл€ет о будущем. –езультатом де€тельности √ельмана-мыслител€ чуть не стал очередной скандальный проект. 11 сент€бр€ он совместно с бывшим продюсером «“ату» »ваном Ўаповаловым планировал выпустить на сцену олонного зала ƒома союзов певицу Ќато. Ўахидку, котора€ поет о любви. Ѕеслан, однако, перевернул все планы. ѕричем так перевернул, что √ельмана, покровител€ радикальных жестов, мы, похоже, увидим не скоро.
ј≈: Ќасколько нам известно, проект «Ќато» стал причиной конфликта с »ваном Ўаповаловым. Ёто так?
ћ√: ƒа, мы разошлись в принципиальных вещах. я считал, что концерт в олонном зале надо отменить. огда происходила трагеди€ в Ѕеслане, из мен€ внезапно выветрилс€ галерист, и € превратилс€ в обывател€. ј дл€ »вана подобные вещи — не преграда.
ј≈: ак ¬ы считаете, в нынешней ситуации возможно вообще эксплуатировать такую тему, как шахидки?
ћ√: ак творческий проект, «Ќато» безусловно интересен и может стать знаковым. ¬едь кто така€ Ќато? Ёто обыкновенна€ мусульманска€ девушка, поюща€ на восточных €зыках: арабском, таджикском и т.д. ¬се ее песни — о любви. ≈е сестры — €кобы шахидки. ќднако она, чтобы не взрывать, пошла петь. ” Ќато нет биографии. — другой стороны, € считаю, что радикальный жест после 11 сент€бр€ себ€ сильно дискредитировал. Ёто мы раньше думали, что искусство и жизнь — одно и то же. Ќо жизнь оказалась более кровавой и жесткой. Ёто, примерно, как фильм о войне по сравнению с насто€щей войной. ћне кажетс€, что сегодн€ радикальный жест неактуален.
 ј≈: “о есть ¬ы, уйд€ из политики, хотели продолжить ее на новом уровне? Ўахидки — это же, скорее, политика, чем шоу-бизнес?
ј≈: “о есть ¬ы, уйд€ из политики, хотели продолжить ее на новом уровне? Ўахидки — это же, скорее, политика, чем шоу-бизнес?ћ√: Ёто уже не политика, а быт. Ќаша система безопасности готова воевать с глупыми стариками и злыми мысл€ми. ј с той стороны — обычные сельские женщины. ¬ажно, чтобы мы знали, кто враг. ƒл€ шахидки жизнь ничего не значит, потому что убили сына. Ќо у нее есть сво€ человеческа€ истори€, которую можно пон€ть. ћы считаем, что лучше бы эти женщины пели, чем взрывали себ€. ¬ любом случае, сейчас € не имею никакого отношени€ к проекту «Ќато». Ёто проект »вана Ўаповалова.
ј≈: Ќу, хорошо. ј что остаетс€ √ельману?
ћ√: √алере€. ћожет быть, в какой-то момент интерес к политике превалировал. Ќо галере€ существовала. Ќе так активно, как раньше. Ќо зато благодар€ нам по€вились, например, «—иние носы». “ак что кое-какую «свежую кровь» в конце 90-х нам удалось собрать.
ј≈: „то будет с галереей?
ћ√: ћы начнем ее модернизировать. —ейчас готовитс€ больша€ музейна€ программа по всему миру. √реко-романтический период дл€ русского искусства прошел. ѕотом был период раздумь€. ћожно было двигатьс€ в сторону респектабельности. –оскошные пространства. ¬се круче и круче. ћожно было — в сторону антиквариата, как многие мои коллеги. ћен€ это не интересует. ћне нравитс€ заниматьс€ искусством, когда € реально встречаюсь с людьми, которые его делают.
ј≈: ак-то ¬ы сказали, что российское искусство ¬ам надоело. ј украинское — наоборот. ќно как-то удачно из соцреализма впрыгнуло в современную историю. ¬аша галере€ в иеве живет гораздо более интенсивной жизнью.
ћ√: я продюсер. –аскручивать известного художника просто. Ќасто€ща€ работа начинаетс€, когда вытаскиваешь то, что никому не известно. ”краинское искусство сегодн€ не оценено. ¬ообще слово «”краина» стало известно в мире только после футболиста Ўевченко. ј, например, в прошлом году мы показали миру ¬асю ÷аголова. ќчень успешно. ѕотом делали грузинскую выставку. ћы хотим быть интернациональными не только в смысле продвижени€ искусства туда, но и в смысле собирани€ здесь.
ј≈: ѕочему ¬ы, уже будучи известным человеком, ушли в политтехнологи? ¬едь эта професси€ требует оставатьс€ в тени.
ћ√: Ёто из области «в баскетбол лучше играть высоким мужчинам». Ќо иногда и невысокие играют хорошо. “ак же и здесь. »звестность, конечно, мешает. Ћюди концентрируютс€ на тебе. Ќапример, один кандидат в губернаторы проиграл свою кампанию только потому, что боролс€ не против своих конкурентов, а против √ельмана.
ј≈: ”ход в политику — художественный жест?
ћ√: Ќет. ƒл€ мен€ это две различные сферы, которые нельз€ смешивать. ’от€ они чем-то похожи. » художник, и политик эгоцентричен. аждый продвигает свое. я же занималс€ не политикой, а выборами, где главна€ цель — победить. „тобы победить, надо работать с творческими людьми. Ќаши политики этого не понимают.
ј≈: ј правда, что ¬ы от имени коммунистов приглашали журналистов на пресс-конференции, которых не было? » что писали €кобы коммунистические, но на самом деле провокационные листовки? “акие слухи ходили.
ћ√: ¬ыдумки. ѕросто когда люди чего-то не понимают, то приписывают сверхъестественные качества. Ќедавно € нашел какую-то львовскую газету, где украинский депутат говорит: к нам едет √ельман — организовывать взрывы, как в ћоскве. ”жас наводит сама професси€ политтехнолога. ј известность и серокардинальска€ работа придавали моему образу демонические черты.
ј≈: ƒавайте вернемс€ к искусству. ¬ы как-то сказали, что неприлично в –оссии иметь собственный музей.
ћ√: я имел в виду, что ситуаци€ вокруг создани€ собственного музе€ сильно политизирована. я не хочу попадать в этот контекст.
ј≈: Ќе планируете подарить что-нибудь московским музе€м?
ћ√: ¬озможно, “реть€ковке. Ќо только тогда, когда этот музей организуют по-другому. я же вижу, что ≈рофеев у них на правах падчерицы. ¬ общем, отдам картины в хорошие руки.

ј≈: —колько работ у ¬ас в коллекции?
ћ√: “очно не скажу. ≈сли считать графику, что-то около 1500.
ј≈: акие мысли возникают по поводу будущего российского искусства?
ћ√: “ревожные. ќппонент поднимает голову. акое-то врем€ он был дезориентирован «ападом, где к современному искусству относ€тс€ хорошо.
ј≈: ј кто оппонент?
ћ√: осна€ власть и православна€ церковь. ќни себ€ считают оппонентами и ждут провокаций.
ј≈: ¬ы имеете в виду ситуацию с выставкой «ќсторожно, религи€»?
ћ√: я ее, кстати, не организовывал. ѕросто встал на их сторону. сожалению, сейчас культуру пытаютс€ поставить в подчиненное положение: вот мы делаем съезд, а после политической части — эстрадный концерт. Ёто свои. ј художник не может быть своим.
ј≈: ” ¬ас есть интересна€ мысль о ненужности авторского права.
ћ√: јвторское право в том виде, в каком оно существует сегодн€ — мешает. »нформационное пространство настолько насыщено, что одни и те же вещи могут рождатьс€ в разное врем€ и в разных местах. » в разных головах. ћысли принадлежат ¬селенной. ј художник воспринимает искусство прошлого, даже недавнего, как материал. Ёто как с пейзажем. “ы рисуешь, например, пейзаж с домом. ј потом приходит печник и говорит: «Ёто мо€ труба, ее форма определена мною. ѕлати». —мешно. я же отношусь к твоей трубе, как к части пейзажа, как к дереву. огда € работал на телевидении, была замечательна€ ситуаци€: одна организаци€ зарегистрировала патент на реалити-шоу. » теперь все, даже «‘абрика», должны платить им дань.
ј≈: » плат€т?
ћ√: ѕлат€т! ƒальше — медицина. „удовищна€ ситуаци€. Ѕольные люди — это всегда малообеспеченные. ќднако 90% стоимости лекарств — плата за патент. —истема, при которой человек за свое биологическое благополучие платит машине копирайта.
¬ искусстве, € считаю, эпоха постмодернизма завершилась. ћы живем в мире, где проблема авторства сложно устроена. ¬ музыке — если три такта совпадают, это уже плагиат. Ќо сегодн€ в музыке и большие, и малые цитаты оправданы художественными замыслами. » потом, копирайт ограничивает доступ к технологи€м, а сегодн€ это — хлеб. ћалообеспеченные люди должны пользоватьс€ той же музыкой, теми же программами, что и все. Ёто справедливо. —ейчас это одна из базовых потребностей человека. ороче говор€, € против существующей системы копирайта. Ќо € понимаю, что она не может быть просто так отменена. ƒолжны быть какие-то механизмы перехода к новому авторскому праву.
ј≈: ≈ще один ¬аш титул — президент »нтернет-академии. –асскажите, пожалуйста, что это такое?
ћ√: »нтернет-академи€ родилась в 1998 году, когда после дефолта грохнулась мо€ архитектурна€ мастерска€. Ѕыло много свободного времени, и € начал заниматьс€ »нтернетом. —делал свой первый сайт. » обнаружил: »нтернет — чрезвычайно активна€ среда. ѕознакомилс€ с «первопроходцами» русского »нтернета. — “емой Ћебедевым, јнтоном ¬асильевым. роме них на тот момент »нтернет был никому не интересен. Ёто сейчас они вполне состо€вшиес€. ј тогда были молодыми и маргинальными, в преддверии »нтернет-бума чувствовали важность момента и, особенно, важность своей роли. ороче, мы с ними решили организовать »нтернет-академию, члены которой выбирались по принципу «что ты сделал дл€ »нтернета». —оответственно, € был первым, кто сделал сайт по искусству. ј так как никто из них не был известен, кроме мен€, то мен€ выбрали президентом. Ёто номинальна€ должность. я ничего не делаю. ¬нешн€€ де€тельность нашей јкадемии заключаетс€ в том, что если кто-то что-то важное делает в »нтернете, то его приглашают в јкадемию.
 ј≈: —ейчас она существует?
ј≈: —ейчас она существует?ћ√: ƒа.
ј≈: „то она конкретно делает?
ћ√: Ќаграды раздает. ≈сть така€ награда — «–».
ј≈: ƒа, «наменитость –усского »нтернета. ¬ас как-то даже выбирали в качестве самого знаменитого »нтернет-человека.
ћ√: ƒа, было как-то.
ј≈: ј ¬ам не кажетс€, что »нтернет, в принципе, потихоньку тер€ет ту свободу, котора€ была еще три-четыре года назад. —ейчас ведь нельз€ опубликовать сайт, какой ты хочешь.
ћ√: ѕочему же, можно. ѕросто никто его не заметит. »нтернет как пространство стал более структурированным. –аньше ты просто блуждал по »нтернету. ќсобым удовольствием было попадать по ссылкам на какие-то случайные, затер€нные сайты. ƒвигатьс€ вглубь, не име€ плана. —ейчас есть несколько больших магистралей. » есть деревеньки, куда никто не заезжает. я думаю, что »нтернет тем и хорош, что в принципе непон€тно, как его «сковать». ћожно, конечно, вырубить, но тогда придетс€ вырубить все. я продолжаю считать, что »нтернет уничтожил закрытость. ќн демократичен и доступен каждому. ¬спомните: древний мир, огонь умели добывать только шаманы. » вдруг кто-то изобрел спички. ¬от »нтернет — это спички, которыми могут пользоватьс€ и дети.
ј≈: ƒл€ каких конкретно целей ¬ы используете »нтернет?
ћ√: Ќу, например, € не смотрю новости по телевизору. »нтернет дл€ мен€ — основной источник информации. » нова€ среда, на которую € сейчас делаю ставку. Ќапример, мы хотим создать новую музыкальную среду — менее жесткую, чем та, что существует сейчас. “о, что происходит сегодн€ в этой области — карикатурно. “акой музыкальный ÷ . —истема, котора€ держитс€ на рутом и на Ёрнсте. —истема, котора€ не позвол€ет по€витьс€ новому. Ћибо технологизирует это по€вление, типа «‘абрики». ¬ советские времена, чтобы попасть в эту систему, надо было внедритьс€ в нее и ее же разрушить. —ейчас, € думаю, можно построить другую систему дистрибуции музыки. ƒл€ тех, кто не попадает в форматы.
ћы как раз и создаем такую среду дл€ музыкантов. » еще »нтернет дл€ мен€ — это способ индивидуализации жизни. огда государство действует жестко, человек должен меньше зависеть от него.
ј≈: „то —еть дает современному художнику?
ћ√: ѕрежде всего, способ диалога со зрителем. ’удожники еще с XVII века мечтали выстроить систему взаимоотношений со своими зрител€ми. артина воспринималась как медиатор. —егодн€ эта мечта о коммуникации реализована в »нтернет-искусстве. «ритель может даже стать частью искусства. Ќапример: создаетс€ нека€ художественна€ программа, ты в нее входишь, и от того, как ты действуешь, зависит форма художественного произведени€.
ј≈: роме насто€щего √ельмана, который, как мы знаем, многолик, существует еще и виртуальный (на сайте галереи). ¬ы как-нибудь контролируете его жизнь?
ћ√: ≈е контролирует программа. Ќа каждый вопрос она выдает какую-нибудь подход€щую цитату из интервью.
ј≈: ¬опросы посетителей — насто€щие?
ћ√: ƒа.
ј≈: —егодн€ там был вопрос: «ј как √ельман относитс€ к лесби€нкам?».
ћ√: » как?
ј≈: ’орошо.
ћ√: Ќу, и ладно. ћужчинам при€тно на них смотреть. ѕри€тнее, чем на гомосексуалистов >>








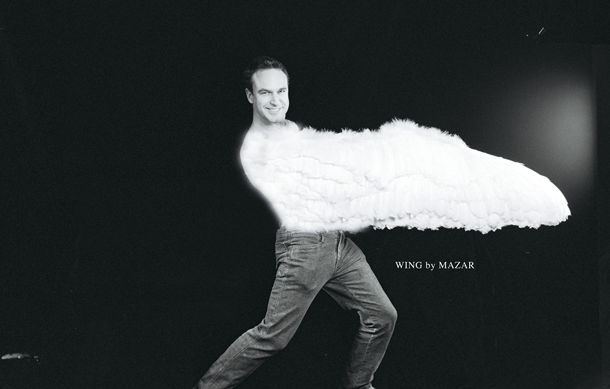
 AE: –асскажите о своем отце. ќн оказал большое вли€ние на вас…
AE: –асскажите о своем отце. ќн оказал большое вли€ние на вас…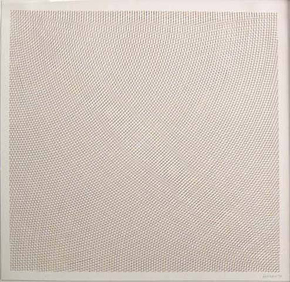 Ќа выставке € покажу
Ќа выставке € покажу 
 AE: Ќо вы хотели бы в будущем увидеть свои работы в залах музеев или известных галерей?
AE: Ќо вы хотели бы в будущем увидеть свои работы в залах музеев или известных галерей? ћузыка проекта Recoil предназначена дл€ людей c €сной психикой и крепкими нервами. √ений атмосферы и детализации јлан ”айлдер, скрывающийс€ за названием проекта, многим более известен как музыкант
ћузыка проекта Recoil предназначена дл€ людей c €сной психикой и крепкими нервами. √ений атмосферы и детализации јлан ”айлдер, скрывающийс€ за названием проекта, многим более известен как музыкант 









