-Рубрики
- "Наша Галактика" (3)
- Танцы, спорт, здоровье (1)
- Американская живопись (4)
- Артисты (15)
- Балет, танцы (4)
- Великий, могучий (14)
- Война (3)
- Вязание крючком (1)
- Дачка (33)
- Советы огородникам (11)
- Живопись Германии (1)
- Живопись Голландии (17)
- Живопись Грузии (2)
- Живопись Испании (7)
- Живопись Польши (5)
- Живопись Узбекистана (19)
- Живопись Украины (5)
- Живопись Франции (1)
- Живопись Чехии (1)
- Живопись, видео (5)
- Искусство (разные темы, музеи) (27)
- История костюма. Портрет. (21)
- История одной картины (24)
- Мое фото (5)
- Музыка (49)
- Народные промыслы (2)
- О писателях (2)
- Позитив (6)
- Поэзия (30)
- Православие (51)
- Апостолы и евангелисты (8)
- Иконы (2)
- Молитвы (5)
- Православные праздники (1)
- Притчи (8)
- Проповедники, подвижники, святители (13)
- Профессии в живописи (5)
- Рецепты (29)
- Русская живопись (26)
- Живопись страны Советов (2)
- Русская живопись 18 века (1)
- Русские художники 19 века (8)
- Русский модерн (11)
- Ташкент (9)
- Уроки (компьютер) (12)
- Храмы, монастыри (4)
- Ярославские художники (2)
- Ярославщина (2)
-Музыка
- Петр Дранга - виртуоз! Танго ночи.
- Слушали: 4215 Комментарии: 0
- Когда я буду старой женщиной...
- Слушали: 19699 Комментарии: 0
- James Last - El Condor Pasaполет кондора
- Слушали: 155 Комментарии: 0
- Френсис Гойя Nistalgy
- Слушали: 239 Комментарии: 0
- Френсис Гойя Цыганочка
- Слушали: 4211 Комментарии: 6
-Поиск по дневнику
-Подписка по e-mail
-Друзья
-Постоянные читатели
-Сообщества
-Статистика
"Войди, мой гость,
Стряхни житейский прах
И плесень дум у моего порога"
Павел Филонов - "смутьян холста" |

Автопортрет
Искусство Павла Филонова (1883-1941) явилось одной из самых ярких страниц в русском изобразительном искусстве первой трети ХХ века. Оно заключало в себе во многом новое философское ощущение действительности, а также оригинальный художественный метод, не оцененные до конца ни современниками, ни историками искусства последующих десятилетий. Фигура Филонова во всей ее масштабности стала закономерной для своей эпохи. Драматическая творческая концепция мастера сложилась накануне первой мировой войны, а его основные художественные приемы возникли и оказались развитыми в полемике с мастерами европейского авангарда начала ХХ века, особенно кубизма и футуризма.
Павел Николаевич родился в Москве 27 декабря 1882 года по ст. стилю, то есть 8 января 1883 — по новому, но родители Филонова, как он сам пишет, — «мещане г. Рязани»; все многочисленные члены семьи значились в податных книгах и посемейных списках Рязанской мещанской управы до 1917 года.
Отец — Николай Иванов, крестьянин села Реневка Ефремовского уезда Тульской губернии, до августа 1880 года — «бесфамильный»; предположительно, за ним фамилия «Филонов» была закреплена при переезде семьи в Москву. П. Филонов указывает, что отец работал кучером, извозчиком. О матери, Любови Николаевне, он сообщает лишь то, что она брала белье в стирку. Так и не установлено где в Москве жили Филоновы — в городском ли доме господ Головиных или служили у них, имели ли свое дело…
1894−1897 — ученик городской («Каретнорядной») приходской школы (Москва), которую окончил с отличием; за год до того от чахотки умерла мать.
После переезда в Петербург в 1897 году Филонов поступил в живописно-малярные мастерские и по окончании оных работал «по малярно-живописному делу». Параллельно, с 1898 года он посещал вечерние рисовальные классы Общества поощрения художеств, а с 1903 года — учился в частной мастерской академика Л. Е. Дмитриева-Кавказского (1849—1916).
В 1905—1907 гг. Филонов путешествовал по Волге, Кавказу, посетил Иерусалим.

Пейзаж.Ветер 1907

Маги(мудрецы)

Икона св.Екатерины 1908-10

Бегство в Египет 1918
В 1908-1910 годах Филонов пытался завершить свое профессиональное обучение как вольнослушатель Высшего художественного училища при Академии художеств (среди его преподавателей были Г. Мясоедов и Я. Ционглинский). Но принципиальное расхождение с академической профессурой в понимании задач и метода творчества побудило его покинуть училище и начать самостоятельный путь художника.

Головы 1910

Масленица 1912-1914
Дореволюционный период творчества Филонова был очень плодотворным: молодой художник уже с конца 1910 года оказался одной из ведущих фигур объединения "Союз молодежи», в который вошли представители художественного авангарда Петербурга и Москвы. В 1913 году к Союзу примкнула группа литераторов "Гилея» - поэты-футуристы В. Хлебников, В. Маяковский, А. Крученых, В. Каменский, Д. и Н. Бурлюки и другие. Филонов участвует в работе над декорациями к трагедии «Владимир Маяковский» (1913), создает рисунки к стихам В. Хлебникова (1914) и пишет поэму «Проповедь о проросли мировой» (1915) с собственными иллюстрациями. В дореволюционный период определилась и основная интонация искусства Филонова, отразившая его неприятие гримас цивилизации, и предчувствие негативных общественных катаклизмов.

Те, кому нечего терять

Доярки 1914

Корабли 1915
В эти же годы Филоновым были созданы такие программные картины, как «Пир королей», «Мужчина и женщина», «Запад и Восток» (все 1912-1913), «Крестьянская семья» (1914), «Германская война» (1915).

Запад и Восток 1911,12-13 гг.

Пир королей 1913
Картина "Пир королей" создана за год до начала первой мировой войны, и современники восприняли её как некое пророчество, видение Апокалипсиса.
Трупы властителей современного мира, сидящие за столом,— метафора конца, распада, умирания старого мира. Поэт Велимир Хлебников сразу же уловил тревожное звучание картины и выразил его в строках: „пир трупов, пир мести. Мертвецы величаво и важно ели овощи, озаренные подобно лучу месяца бешенством скорби“
Исследователи творчества Филонова нередко приводили сравнение с "Пиром Ирода", а один из учеников художника назвал "Пир королей" демонической переработкой "Тайной вечери".
Образы, созданные кистью Филонова подчёркнуто гротескны. Пронизанное красно-синим витражным свечением красок, со скрюченной фигурой сидящего раба, напоминающего химеру готического собора, это произведение наиболее явно отражает увлечение Филонова французским средневековьем.

Мужчина и женщина 1912

Крестьянская семья 1914
или в другом ракурсе

Святое семейство 1914

Три человека за столом 1914

Извозчики 1915

Война с Германией 1915

Св.Георгий Победитель 1915
Осенью 1916 г. мобилизован на войну и направлен на Румынский фронт рядовым 2-го полка Балтийской морской дивизии. Павел Филонов принимает активное участие в революции и занимает должности председателя Исполнительного военно-революционного комитета Придунайского края в Измаиле и т. п.
В 1918 г. вернулся в Петроград и принял участие в Первой свободной выставке произведений художников всех направлений — грандиозной выставке в Зимнем дворце. Виктор Шкловский приветствует художника, отмечая «громадный размах, пафос великого мастера». На выставке были представлены работы из цикла «Ввод в мировой расцвет». Две работы: «Мать», 1916 г. и «Победитель города», 1914—1915 гг. (обе — смешанные техники на картоне или бумаге) были подарены Филоновым государству.

Мать 1916

Победитель города 1903

Рабочие 1916

Офицеры 1916-17
Им предшествовала теоретическая статья «Канон и закон» (1912), в которой Филоновым излагались принципы его аналитического искусства. В споре с П. Пикассо и кубофутуристами Филонов выдвинул идею «атомистической структуры Вселенной», ощущаемой во всех ее аспектах, частностях, внешних и внутренних процессах. «Я знаю, анализирую, вижу, интуирую, что в любом объекте не два предиката, форма да цвет, а целый мир видимых или невидимых явлений, их эманаций, реакций, включений, генезиса, бытия», - писал он. За этим основным выводом следовали остальные художник должен подражать не формам природы, а методам; с помощью которых последняя «действует», передавать ее внутреннюю жизнь «формою изобретаемою», то есть беспредметно, противопоставлять глазу про¬сто видящему «глаз знающий», истинный. В этих тезисах Филонов противостоял не только Пикассо, но и соотечественникам - В. Татлину, К. Малевичу, З. Лисицкому.

Возрождение человека 1918
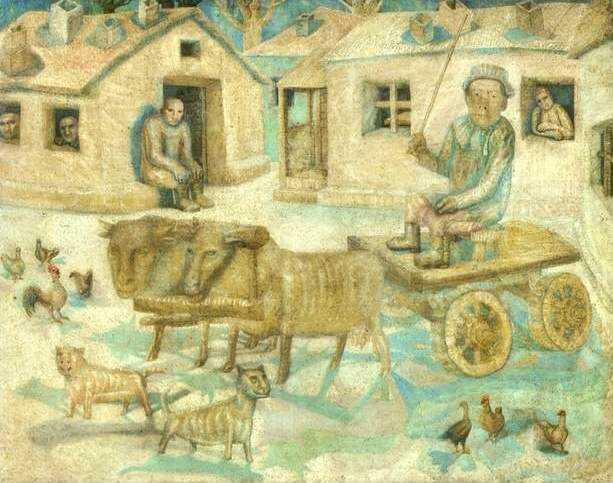
Быки. Сцена из сельской жизни 1918
В первой половине 1920-х годов Филонов еще раз сформулировал свои взгляды на искусство в «Декларации мирового расцвета» (1923) и подтвердил их в ряде программных полотен: «Формула петроградского пролетариата» (1921), «Живая голова» (1923), «Животные» (1925-1926). «Упорно и точно думай над каждым атомом делаемой вещи, - писал он в «Идеологии аналитического искусства». - ... Упорно и точно вводи прорабатываемый цвет в каждый атом, чтобы он туда въедался, как тепло в тело, или органически был связан с формой, как в природе клетчатка цветка с цветом».

Формула революции 1920

Последний ужин 1920

Формула петроградского пролетариата 1921
В 1922 г. дарит две работы Русскому музею (в том числе — «Формулу петроградского пролетариата», 1920—1921 гг. — х., м., 154 × 117 см.).
К 1922 г. относится попытка Филонова реорганизовать живописный и скульптурный факультеты Академии художеств в Петрограде — безуспешная; идеи Филонова не находят официальной поддержки. Но Филонов прочёл ряд лекций по теории и «идеологии» аналитического искусства. Конечным результатом была «Декларация „Мирового расцвета“» — наиболее важный документ аналитического искусства. Филонов там настаивает, что, кроме формы и цвета, есть целый мир невидимых явлений, которые не видит «видящий глаз», но постигает «знающий глаз», с его интуицией и знанием. Художник представляет эти явления «формою изобретаемою», то есть беспредметно.

Живая голова 1923

Живая голова 1923
Необычайно сложную трактовку получали при таком подходе категории пространства и времени в картинах мастера. Одно из лучших полотен Филонова «Формула весны» (1929) вылилось в своеобразную симфонию отточенных, «сделанных» прикосновений-«звуков», в бурлящий кипением жизни хорал космогонического звучания.

Формула весны

Белая картина из цикла "Всемирный расцвет"

Формула Вселенной
С середины 1920-х годов Филонов вновь оказался трагическим провидцем - советской действительности конца 1920-1930-х годов. В этих аспектах его искусство можно было соотнести с экспрессионизмом (З. Мунк, М. Бэкман); в отечественной культуре близкими Филонову оставались М. Врубель, В. Чюрлёнис, А. Скрябин, А. Белый, В.Хлебников.

Педагогика 1923

Головы 1924
Попытка художника зрительно воссоздать параллельный природе мир, то есть уйти от реальности в изобретаемое, отвлечённое, несмотря на революционно-пролетарскую фразеологию Филонова, становится опасной утопией. Постепенно вокруг художника воздвигается стена изоляции и отвержения. Филонов пытается удержаться, создав группу «мастеров аналитического искусства» — МАИ в 1925 году, стремившейся утвердить его метод в живописи.

Филонов с учениками

Голод 1925

Февральская революция 1926


Симфония Шостаковича 1926
В 1927 году ученики Филонова выставились в ленинградском Доме печати и осуществили постановку «Ревизора» Н. Гоголя.
Фигура Филонова уже в 1920-е годы оказалась одиозной в представлении тех, кто, возглавляя ведомства культуры, был чуток прежде всего к интонации самовыражения художника, а также к нарушению законов «вероучения современного реализма» (выражение Филонова). В «Автобиографии» 1929 года Филонов сообщил о себе в третьем лице: «С 23 г., будучи совершенно отрезанным от возможности преподавать и выступать в печати, под планомерно проводимую на него кампанию клеветы в печати и устно, Филонов ведет исследовательскую работу в развитие ранее данных им положении ... » Травля художника в официальной прессе сопровождалась репрессивными мерами: в 1930 году была запрещена уже подготовленная большая выставка Филонова в Русском музее в Ленинграде, перед тем его лишили пенсии, обрекая на голодную смерть.

Ударники 1930

Колхозник 1931

Рабочие рекордсмены на фабрике "Красная заря" 1931

Тракторный цех 1931

ГОЭЛРО 1931

Портрет Иосифа Сталина 1936

11 голов 1938

Лица 1940
Павел Филонов умер 3 декабря 1941 года в Ленинграде, завещав все свои работы «подарить Советскому государству.
Четвертован вулкан погибших сокровищ,
великий художник,
очевидец незримого,
смутьян холста
... Картин в его мастерской бурлила тыща,
но провели кроваво-бурые лихачи дорогу крутую
- и теперь там только ветер посмертный свищет. - отозвался на его смерть поэт А. Крученых.
П. Н. Филонов похоронен на Серафимовском кладбище, на 16 участке, непосредственно около церкви св. Серафима Саровского. В той же могиле в 1980 г. захоронена его сестра Е. Н. Глебова (Филонова).
Работы Филонова были унаследованы его сёстрами, Марией и Евдокией Филоновыми, в 1970-х годах Е. Н. Глебова (Филонова) (1888—1980) передала своё собрание в дар Государственному Русскому Музею.
***

Портрет Евдокии Глебовой - сестры художника

Портрет Армана Францевича с сыном 1915

Семейный портрет 1924
Источник: Rock-Yrock
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%E8%EB%EE%ED%EE%E2,_%CF%E0%E2%E5%EB_%CD%E8%EA%EE%EB%E0%E5%E2%E8%F7
http://www.bibliotekar.ru/kFilonov/
http://www.20art.ru/Pavel_Filonov
http://evelina-mylifeinart.blogspot.ru/2011/06/kumu.html
Серия сообщений "Русский модерн":
Часть 1 - Ю.П.Анненков (1889 - 1974)
Часть 2 - Ю.П.Анненков Сатира или эротика?
...
Часть 9 - С.Судейкин. "Другая жизнь" или "Муза муз". ч.3
Часть 10 - Алексей фон Явленский
Часть 11 - Павел Филонов - "смутьян холста"
|
|
Процитировано 10 раз
Понравилось: 37 пользователям
Альфонс Муха |
Муха (Муша -по-французски) Альфонс (Mucha Alphonse Maria,1860—1939) - чешский живописец,
декоратор, график, основатель и мастер театральной и рекламной афиши в стиле
модерн, в частности стиля Арт Нуво (Art Nouveau).

Альфонс Мария Муха родился в чешском городке Иванчице, недалеко от Брно,
в семье мелкого судебного чиновника. Здание суда, где работал отец художника, стоит до сих пор,
и сейчас в нем открыт музей Мухи-младшего.

Мальчик с детства хорошо рисовал и пытался поступить в Пражскую Академию художеств,но безуспешно.
После гимназии он работал писарем, пока не нашёл по объявлению работу помощника
художника-декоратора в венском «Рингтеатре» и не перебрался в столицу Австро-Венгрии.
В Вене по вечерам он посещал курсы рисования и делал первые иллюстрации
к народным песням. После того как театр сгорел, Альфонс вынужден был переехать в
чешский город Микулов, где писал портреты местных дворян.
Там он познакомился с графом Куэн-Беласи -человеком, сыгравшим в его жизни очень важную роль.
Муха занимался декорированием графского замка, и аристократ был очарован его работами.
В результате Куэн-Беласи стал меценатом молодого художника.
Он оплатил Альфонсу два года обучения в Мюнхенской академии изящных искусств.
В 1888 году Муха переехал в Париж и там продолжил образование.
Многие в то время стремились в столицу Франции — ведь тогда это был центр нового искусства:
Эйфель уже сконструировал трехсотметровую башню, шумели Всемирные выставки, а художники ломали
каноны и пропагандировали свободу. Однако финансовые дела графа ухудшились,
и Муха остался без средств к существованию.
В Париже Альфонс Муха впервые занялся оформительством, установил связи с издательствами,
начал создавать обложки и иллюстрации. Писал он маслом,
а его живопись переводили на язык ксилографии.
Он долгое время перебивался мелкими заказами, пока в его жизни не появилась Сара Бернар -
блистательная французская актриса.
Возможно, Муха достиг бы успеха и без нее, но кто знает…

Сара Бернар
О Саре : http://blogs.mail.ru/mail/guseva-margarita/2814EB3A9EA78E74.html

Сара Бернар

Сара Бернар на плакате Мухи к спектаклю «Жисмонда».
В 1893 году, перед Рождеством, Муха получил заказ на создание афиши к спектаклю «Жисмонда»
театра «Ренессанс», которым владела Сара Бернар.
Художник изобразил приму, игравшую в спектакле главную роль, на необычном по форме плакате —
длинном и узком. Это подчеркнуло ее царственную осанку, распущенные волосы актрисы Муха
украсил венком из цветов, в тонкую руку вложил пальмовую ветвь, а взгляду придал томность,
создав общее настроение нежности и неги. Ничего подобного до Мухи никто не делал.
Чтобы заполучить плакат, коллекционеры подкупали расклейщиков или срезали «Жисмонду» ночью с заборов.
Неудивительно, что актриса пожелала познакомиться с автором и заключила с ним контракт о сотрудничестве.
В театре Бернар Альфонс работал шесть лет. «Дама с камелиями», «Медея», «Самаритянка»,
«Лорензачио» — все эти плакатные афиши, изображавшие Бернар, были популярны не меньше «Жисмонды».

Дама с камелиями

Самаритянка

Гамлет
Он придумывал эскизы театральных костюмов и декораций, оформлял сцену и даже участвовал в режиссуре.
В конце XIX века театр был центром светской жизни, о нем беседовали и
спорили в салонах, в театре дамы демонстрировали новые туалеты и
драгоценности, а мужчины демонстрировали дам —
в общем театр был пищей для вдохновения и сплетен.

Драгоценные камни

Топаз

Аметист

Изумруд
В том же стиле Арт Нуво художником создавались и красочные графические серии :
«Времена года», 1896,"Времена суток", 1899, "Цветы», 1897, «Месяцы», 1899, «Звезды», 1900,
которые и до нашего времени широко тиражируются в виде арт-постеров.
моментально и расходились тысячными тиражами в плакатах, открытках,
игральных картах. Кабинеты светских эстетов, залы лучших ресторанов,
дамские будуары украшали шелковые панно, календари и эстампы мастера.
К художнику пришёл успех.

Поэзия

Живопись

Танец

Музыка
Чуть позднее Муха стал также сотрудничать с известным в то время
ювелиром Жоржем Фуке, который создавал по эскизам художника ювелирные
изделия. Украшения «в стиле Мухи» популярны до сих пор.
В тот же период Муха разработал множество упаковок, этикеток и
рекламных иллюстраций для товаров и продуктов самого разного рода —
начиная от дорогого шампанского Moet & Chandon и заканчивая
туалетным мылом.


Украшенный корсаж

Реклама сухого шампанского

Клеопатра

Голова византийки Блондинка
Эти две композиции, на одной из которых изображён профиль блондинки, а на другой — брюнетки,
являются одними из самых выразительных произведений Альфонса Мухи. Кроме искусно запечатлённых лиц
и богатства нюансов цвета, их очарование кроется в роскошных и фантастических головных уборах,
вызывающих в воображении исчезнувшее великолепие византийской культуры.

Голова византийки Брюнетка
За время шестилетнего сотрудничества между актрисой и Альфонсом Мухой
возникли тёплые приятельские отношения, о чём свидетельствует их
переписка. А любовь? Околдовала ли Муху Сара Бернар так же, как и
плеяды многих других мужчин? Конечно,репортеры не обошли молчанием
отношения актрисы с чешским художником, тем более, что его имя было
по-своему говорящим: так же звали персонажа комедии Дюма-сына
«Мосье Альфонс», живущего за счет любовниц.
Некоторые даже рекомендовал ему поменять имя или подписываться своим крёстным именем — Мария.
Однако Альфонсом в том значении, которое вложил в это имя Дюма, Муха не был.
В его переписке с Бернар нет и намека на то, о чем судачили в высшем свете.

Зодиак

Мечтательность
Действительно после заключения контракта с Бернар на Муху посыпались заказы,
он приобрёл просторную мастерскую, стал желанным гостем в высшем свете, куда нередко являлся
в расшитой славянофильской косоворотке, подпоясанной кушаком.

А. Муха Автопортреты
У него также появилась возможность устраивать персональные выставки.
В феврале 1897 года в Париже, в крохотном помещении частной галереи
«La Bordiniere», открывается его первая выставка — 448 рисунков, плакатов и
эскизов. Она пользовалась невероятным успехом, и вскоре жители Вены,
Праги и Лондона получили возможность увидеть все это тоже.

Aльфонс Муха был певцом женской красоты. Женщины на
его литографиях привлекательны и, как сказали бы сейчас, сексуальны.
«Les Femmes Muchas» («ле фам Мюша», «женщины Мухи») —
томные, пышные и грациозные.
Сложное сплетение складок одежды, локонов, цветов, узоров.
Безупречная композиция, совершенство линий и гармония цвета.
Чешского художника Альфонса Муху, как и многих других художников его времени,
пронзила стрела нового искусства. Интересно то, что вкусы художника потребовали от него даже
новых технических решений в области литографии. Ар-нуво, или модерн, охватил Европу с
начала 1880-х, и только Первая мировая война вернула к прозе жизни
любителей прекрасного.

Плющ

Чертополох
А тогда рушились академические нормы, громко спорили искусствоведы,в моду
входили восточные мотивы. Живописцы отказывались от прямых линий,
на полотнах цвели фантастические лилии, нарциссы и орхидеи,
порхали бабочки и стрекозы. Художники ар-нуво верили в возможность достижения
гармонии с природой, простоту и умеренность, противопоставляя их викторианской роскоши.
Выраженные в искусстве, эти добродетели должны были способствовать гармонизации
отношений между людьми — ведь красота представлялась теперь не чем-то отвлеченным,
красота стала синонимом истины.
И, конечно, фраза князя Мышкина «Красота спасет мир» была начертана на знаменах сторонников всего нового.

Цветы

Фрукты
Одним из первых теоретиков ар-нуво был английский живописец и искусствовед Джон Рескин.
Его идеи быстро подхватили британские художники-прерафаэлиты, следовавшие
традициям флорентийских мастеров раннего Возрождения («прерафаэлиты», то-есть «до Рафаэля»).
В их братстве состояли Джон Уильям Уотерхауз , Джон Эверетт Милле , Данте Габриэль Россетти …
те, кем сейчас гордится Англия. Кисть прерафаэлитов создала новый женский образ
la femme fatale («ля фам фаталь», «роковой женщины») — таинственный, мистический и прекрасный.
Музами художников были Прозерпина, Психея, Офелия, Леди из Шалотт —
жертвы трагической или неразделённой любви. А вдохновение живописцы черпали из своей бурной
личной жизни. Именно эти образы и очаровали Альфонса Муху.

Гвоздика

Принцесса Гиацинт

Луна
Созданные им серии «Сезоны», «Искусство», «Драгоценные камни», «Луна и звёзды» и
прочие интересные литографии, которые переиздавались в виде почтовых открыток,
игральных карт и расходились мгновенно — все они изображали женщин.
Муха много работал с моделями, которых приглашал в свою студию, рисовал и фотографировал их
в роскошных драпировках. Фотографии моделей он снабжал комментариями —
«красивые руки», «красивые бёдра», «красивый профиль»…
а потом из отобранных «частей» складывал идеальную картинку.
Нередко во время рисования Муха закрывал лица моделей платком, чтобы их
несовершенство не разрушало идеальный придуманный им образ.

Натура
На рубеже веков Альфонс Муха стал настоящим мэтром, к которому внимательно
прислушивались в кругах художественной общественности.
Порой даже стиль ар нуво во Франции называли "стилем Мухи".
Поэтому закономерным представляется выход в свет в 1901 году книги художника
«Декоративная документация».
Это наглядное руководство для художников, на страницах которого
воспроизведены разнообразные орнаментальные узоры, шрифты, рисунки
мебели, различной утвари, столовых наборов, ювелирных изделий, часов, гребней, брошей.
Техника оригиналов — литография, гуашь, рисунок карандашом и углём.
В 1906 году Альфонс Муха уезжает в Америку, чтобы заработать деньги,
необходимые для осуществления мечты всей его творческой жизни:
создания картин во славу своей Родины и всего славянства.
В этом же году он женится на своей ученице Марии Хитиловой, которую он страстно любил и
которая была моложе его на 22 года.

Мэтр Муха среди женских образов серии «Четыре сезона».
Изображение на стене ювелирного бутика в городе Остин, Техас.
О монументальных исторических полотнах Альфонса Мухи знают немногие,
а вот его «женскими коллекциями» мир восхищается до сих пор,
хотя сам художник считал только эти полотна главным делом своей жизни..
В 1910 году он возвращается в Прагу и все свои силы сосредотачивает
на “Славянской эпопее”. Этот монументальный цикл был передан им в дар
чешскому народу и городу Праге, но не имел успеха у критики.

На витраже собора Святого Вита В Праге Муха изобразил чествование святых Кирилла и Мефодия.
В это же время он разработал эскиз витража собора Святого Вита
и написал много портретов жены, двух дочерей , сына Иржи.
После провозглашения в 1918 г. республики, Мухе было поручено изготовление первых чехословацких
почтовых марок, денежных знаков и государственного герба.

Панно из цикла "Славянская эпопея"
Весной 1913 года Альфонс Муха отправился в Россию, чтобы собрать материалы для будущих картин цикла.
Художник побывал в Санкт-Петербурге и в Москве, где посетил Третьяковскую галерею.
Особенно сильное впечатление на него произвела Троице-Сергиева Лавра.
Выбор года путешествия в Россию был не случаен. В 1913 году отмечалось трёхсотлетие дома Романовых.

Отче наш
И еще одна очень важная сторона жизни этого великого поклонника женской красоты
(достаточно взглянуть на его поэтичные женские портреты).
Его личная, семейная жизнь. На фоне многих влюбленностей Муха всегда был
счастлив любовью к единственной. В 1906 году, уже сорокашестилетним,
прославленным, он женился в Париже на своей юной ученице и
соотечественнице Марии Шитиловой. Она была и оставалась до конца жизни
его любимой Музой, его моделью. Была младше художника на 22 года. И
обожала его. Искренне и бескорыстно. Ибо к моменту их брака его долги
были гораздо больше его состояния. Однако они оба знали: «деньги – вещь
наживная» – и при неровных, нерегулярных достатках родили и вырастили сына и
двух дочерей – рыжеволосых красавиц, так похожих лицом и статью на
ослепительную мать. Потом он рисовал и их, дочерей,и в
поющих линиях их фигур, в их чертах находил все ее же, свою обожаемую
Марию, ибо до последнего часа не хотел и не мог избавиться от ее чар.

Дочери

Дочь Ярослава

Художница


Юная девушка в моравском костюме


Женщина с горящей свечой
Муха умер в 1939 году от пневмонии. Причиной болезни послужили арест и допросы
в оккупированной немцами чешской столице: славянофильство живописца было столь известно,
что его даже включили в именные списки врагов рейха.

Судьба
Творчеству Альфонса Мухи посвящены музей в Праге,
экспозиция цикла «Славянская эпопея» в Моравски-Крумлове и выставка о ранних годах его жизни
в отреставрированном здании быв. суда в Иванчице.
Произведения Мухи входят в коллекции многих видных музеев и галерей мира.
В настоящее время разрабатываются планы строительства в пражском парке Стромовка,
недалеко от бывшего выставочного комплекса, специального здания для экспонирования «Славянской эпопеи».
В честь Альфонса Мухи назван астероид № 5122.

Серия сообщений "Живопись Чехии":
Часть 1 - Альфонс Муха
|
|
Процитировано 7 раз
Понравилось: 6 пользователям
Владимир Иванович Бурмакин |
Художники Узбекистана
Владимир Иванович Бурмакин - Академик, Заслуженный деятель искусств Узбекистана родился 9 января 1938 г. в Ташкенте.
Творить новую природу, извлекать из глубины подсознания неудержимую фантазию, вплавливая её в безудержном вареве красок на упругий, сдерживающий натиск и агрессию холст, суть художника. Его духовность выросла из природы, взяв из неё самое ценное, это - осознание жизни.
Холст написан, создана еще одна реальная нереальность, которую можно пощупать, погладить, понюхать, впиться глазами во все уголки извилистых и бесконечных форм, перевернуть, если надо, с ног на голову, поставить на правый или левый бок, дав при этом импульс совершенно новому ощущению.
Одиннадцать лет отдано профессиональной подготовке (первые годы обучения у народного мастера, резчика по ганчу - Ташпулата Арсланкулова), затем учеба под руководством известного портретиста, Народного художника Узбекистана Абдулхака Абдуллаева. Заканчивал Владимир Бурмакин учебу в училище под руководством заслуженного деятеля искусств В.И. Жмакина, с 1959 по 1965 годы учеба в Ташкенском Театрально-художественном институте, под руководством профессора, Народного художника Узбекистана, академика Р.А. Ахмедова.
Владимир Бурмакин был одним из первых, если не сказать первым, художником в Узбекистане, которому удалось всколыхнуть устоявшее представление и стереотип мышления. Большая персональная выставка в 1969 году в зале "Дома знаний", расположенного в центре Ташкента, позволила совершенно иначе взглянуть на сам процесс творчества. Выставка ожесточила и озлобила одних и дала надежду и веру в безграничные возможности творчества другим. Три десятка лет после той выставки не ослабили внимания к творчеству этого художника, всегда оригинально мыслящего, неожиданного как для своих коллег художников, так и для поклонников его таланта. Работы Владимира Бурмакина несут в себе энергию здоровой, нравственной и духовной силы. Рожденные природой подсознания, проверенные затем логикой и разумом, они утверждают радость бытия и силу творческого духа, данную человеку Богом и природой. В этом художник видит свое предназначение.
За эти, далеко не безмятежные творческие десятилетия, художником созданы сотни живописных и графических работ. Он участвовал во многих выставках у себя на родине в Узбекистане, в России, за рубежом. Это страны: Англия, Франция, Америка, Германия, Болгария, Турция, Польша. Его работы находятся во многих музеях, галереях и частных собраниях мира. Так в Германии, под Кельном, в галерее ЭКЮ-Отеля города Гуммерсбаха собрано около 200 работ художника, куда он выезжает для творческой работы.
За годы творческой деятельности Владимир Бурмакин посетил Францию, Австрию, Швейцарию, Марокко, Индию, Маллазию, Сингапур, Болгарию, Кубу.
Он мечтает об Италии, Испании, Мексике.
Работы Бурмакина украшают дворец "Дружбы Народов", станцию метрополитена "Пахтакор", спортивный комплекс "Трудовые резервы", его росписи на фасаде ресторана "Зеравшан", его мозаики украшают ташкентский ипподром, им расписан зал аэропорта, зал сената Ташкента.
Более сорока лет художник отдал педагогической работе, преподавая в художественных заведениях Ташкента, воспитав десятки талантливых мастеров, чьи имена вошли в списки известных художников Узбекистана.
Ему присвоено звание "Заслуженного деятеля искусств Республик Узбекистан". В 1997 году Владимир Бурмакин был избран Действительным Членом Академии, ему присвоен почетный титул - Академик. В 2005 году Владимир Бурмакин награждён орденом.




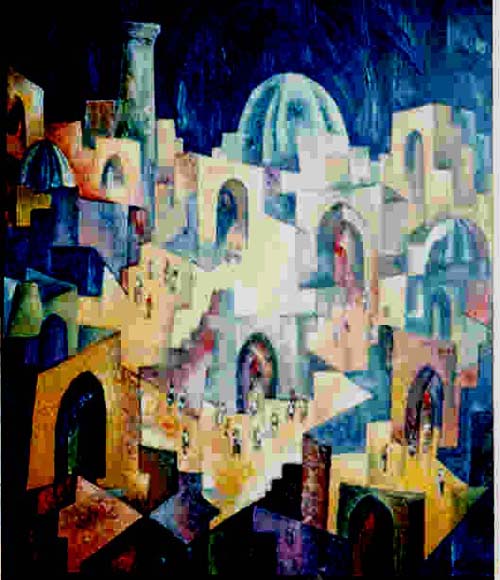






http://www.orexca.com/rus/uzbekistan_painters_burmakin.shtml
Серия сообщений "Живопись Узбекистана":
Часть 1 - Узбекский художник Акмаль Нур
Часть 2 - П.П.Беньков - очарованный солнцем
...
Часть 17 - Ташкент глазами художников. ч.V
Часть 18 - Абдуллаев Абдулхак Аксакалович
Часть 19 - Владимир Иванович Бурмакин
|
Метки: живопись Узбекистан |
Абдуллаев Абдулхак Аксакалович |
Абдуллаев Абдулхак Аксакалович
(1918.30.XII – 2001)
Художник –живописец.Член Союза художников СССР.Заслуженный деятель искусств УзССР(1950).Народный художник УзССР(1968).А.Абдуллаев - один из ярких представителей художников первого поколения живописцев Узбекистана, на протяжении всего творческого пути верного традициям реалистической школы живописи.Абдулхак Абдуллаев родился в 1918 в.г. Туркестане.Склонность к рисованию определилась у него в детстве. „Я очень любил животных, - вспоминает художник, - с интересом наблюдал за ними, узнавал их повадки, характер и тут же пытался вылепить их из глины или нарисовать на стенах дома углем".В 1928.г мальчик поступает в трудовую школу в Ташкенте, где наряду с другими предметами учащихся знакомили с основами рисования.В школе он начинает серьезно думать о профессии живописца.Осуществлению этого стремления помог счастливый случай: в 1931.г школа была переведена в Самарканд, где находилось художественное училище. Абдуллаев написал копию с портрета какого-то актера и, когда ее рассмотрели в училище, он был зачислен студентом без приемных экзаменов.Училище в Самарканде, обладавшее к тому времени сильным составом педагогов, считалось одним из лучших в стране.Учителями молодого художника были педагоги –Л.Л.Бурэ, З.М.Ковалевская, П.П.Беньков.Особенно большим уважением и популярностью пользовался П.П.Беньков -прекрасный педагог и замечательный художник. Он учил своих воспитанников верно видеть и правильно изображать предметы окружающего мира, требовал строгого и точного рисунка, максимального приближения к реальному цвету.В художественном училище Абдуллаев ревностно, с увлечением учится и вскоре делает успехи: в 1934.г в Москве открылась первая выставка узбекских художников, на которой была экспонирована работа молодого живописца „У хауза”. Эта работа, привлекавшая к себе внимание свежестью живописи, была приобретена Государственным музеем восточных культур.Бывая в Москве, художник посещает Третьяковскую галерею, Музей им, Пушкина и вдумчиво изучает полотна великих мастеров кисти и резца.Особенно пленяли молодого художника работы Репина. Он часами простаивал у „Протодьякона", восхищаясь могучей силой репинского гения. Именно здесь у художника зародилось желание испытать себя в жанре портрета.В 1936.г Абдулхак Абдуллаев оканчивает художественное училище с твердым намерением продолжать свое образование, В течение двух лет он мною и упорно работает, пишет портреты и пейзажи.В 1937.г, когда в Москве была организована вторая выставка произведений узбекских художников, Абдуллаев представил две работы: портреты брата и товарища.Вторая работа выделялась широкой манерой письма, стремлением раскрыть характер человека. С этого времени можно говорить о повороте Абдуллаева к искусству портрета.В 1938.г художник-поступает в Московский художественный институт, им. Сурикова. Однако закончить учебу Абдуллаеву не удалось: помешала начавшаяся Великая Отечественная война;.В начале. 40-х годов художник выполняет целую серию портретов людей колхозного кишлака.Пять лет упорного труда позволили Абдуллаеву приступить к созданию сложных портретов-образов. Первой такой работой был портрет народного артиста СССР лауреата Сталинской премии Абрара Хидоятова (1946).По собственному признанию Абдуллаева, его неизменно привлекают люди волевые, энергичные, темпераментные.Страстное желание написать портрет актера зародилось у художника тогда, когда он увидел Хидоятова в его коронной роли Отелло.Начиная писать портрет Отелло-Хидоятова, художник еще не представлял отчетливо, как изобразить актера. Хидоятов сам подсказал ему решение этой задачи, придя на сеанс в гриме и костюме Отелло. «Мне так понравилось костюм, грим, выражение и поза, которые принял Хидоятов, - вспоминает Абдуллаев, - что я, ничего не меняя, сразу же стал его писать".Портрет Абрара Хидоятова был одобрен зрителями.Ободренный успехом, Абдуллаев в том же году начал писать два портрета.Внимание художника привлекли другие видные деятели театра им. Хамзы: народная артистка СССР С. Ишантураева и народный артист республики М.Уйгур.Портрет Маннона Уйгура, законченный в 1947 году по силе выразительности, по меткости характеристики и глубине раскрытия состояния человека - один из наиболее сильных образов в творчестве Абдулхака Абдуллаева.Постоянно думающий, обуреваемый творческими замыслами и планами, таким остался в нашей памяти этот талантливый режиссер.Таким предстает перед нами Уйгур и на портрете.В 1948.г Абдуллаев создает портреты народных мастеров Усто Ширин Мурадова, Ташпулата Арсланкулова и несколько вариантов портрета знатного хлопкороба Назарали Ниязова.Стремление Абдуллаева как можно полнее и убедительнее раскрыть психологию портретируемого наиболее ясно видно в работе над образом Назарали Ниязова.Еще в те годы, когда Абдуллаев работал в колхозах, у него зародилась мысль создать портрет знатного хлопкороба.Этот образ был настолько многогранен и ярок, а творческие возможности художника в то время были еще столь скромны, что он не решался браться за эту работу. Но и позже ему не сразу удалось создать полноценный портрет.Художник написал пять различных вариантов портрета Назарали Ниязова. От портрета к портрету полнее, глубже и правдивее становился образ, четче и убедительнее композиция, выразительнее детали обстановки.Лучший из них портрет Назарали Ниязова 1949.г.Знатный хлопкороб с кетменем на плече как бы на миг остановился на краю хлопкового поля. Его еще по-молодому статная, сильная фигура четко вырисовывается на фоле неба. Он стоит опустив левую руку на пояс, а правой поддерживай кетмень, и внимательным хозяйским взглядом окидывает поле. Бронзовое от загара лицо, сухощавая и крепкая фигура, мускулистые руки, уверенная поза—все это убеждает нас, что перед нами человек труда, хозяин земли, умелый мастер своего дела, энергичный и неугомонный.Одновременно с этим полотном художник написал портрет академика Айбека. Известный узбекский писатель изображен сидящим в кресле. Собранность в фигуре, напряженность позы, острая мысль, читающаяся на лице, убедительно выражают глубокий интеллект и волнение творческого раздумий этого удивительно энергичного человека.Портреты Назарали Ниязова и Айбека, экспонированные на Всесоюзной выставке в Москве (1950), пользовались заслуженным успехом у зрителя и по достоинству были оценены художественной общественностью столиц.Не довольствуясь достигнутым, художник продолжает работу по созданию галереи знатных людей республики. Его по-прежнему интересуют люди творческого склада, многогранных и обширных интересов.Таковы портреты академика Кары-Ниязова, кинорежиссера К. Ярматова (1953).В последние годы Абдуллаев написал ряд портретов. Среди них наиболее убедителен и совершенен портрет матери художника, верно повествующий о большом и нелегком жизненном пути пожилой женщины. Нужно отметить и такие произведения художника, как „Большая семья", портрет писателя С. Абдуллы и „Девушка в саду ”, написанные на пленере.Он автор многочисленных портретов, в том числе Тамары Ханум, Джавахарлара Неру, Индиры Ганди и близких ему людей. Им создан также цикл автопортретов разных периодов жизни.Выставки работ художника состоялись в Ташкенте 1940, 1946, 1953 годах.Автор ряда статей по вопросам искусства.Преподавал в художественном училище (1950-57) и педагогическом институте им.Низами (1955-57) в Ташкенте.Полотна художника хранятся в музеях Узбекистана, России, Италии, Индии и других стран мира. Награжден орденом “Трудового Красного Знамени ” и медалями. Место захоронения :Мемориальное кладбище “Чигатай ”.
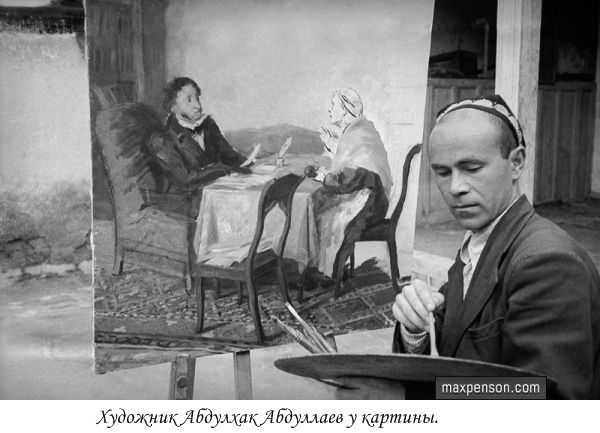

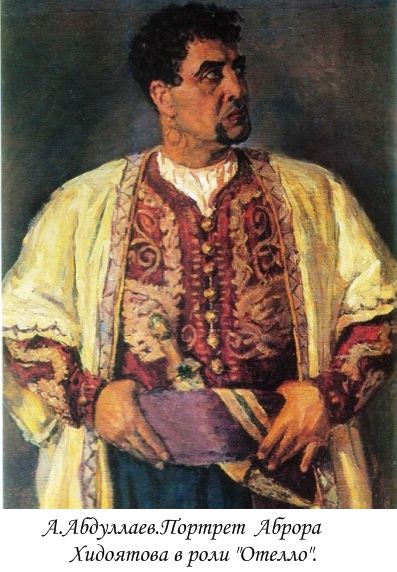

 |
Серия сообщений "Живопись Узбекистана":
Часть 1 - Узбекский художник Акмаль Нур
Часть 2 - П.П.Беньков - очарованный солнцем
...
Часть 16 - Ташкент глазами художников. ч.IV
Часть 17 - Ташкент глазами художников. ч.V
Часть 18 - Абдуллаев Абдулхак Аксакалович
Часть 19 - Владимир Иванович Бурмакин
|
|
Ловис Коринт |

Автопортрет со скелетом, 1896
Ловис Коринт 1858-1925 (полное имя - Франц Генрих Луис Коринт, нем. Lovis Corinth) родился 21 июля 1858 года в Тапиау (ныне - Гвардейск). Его отец был человеком весьма решительным: так, Генрих Коринт совсем юным влюбился в женщину, чей супруг умер, оставив ей кучу долгов и пятерых детей. Генрих Коринт женился на бедной вдове. Ловис был их единственным общим ребёнком.
Генрих Коринт держал кожевенную мастерскую и имел довольно крупное фермерское хозяйство. В работе ему помогали дети жены - своему единственному и горячо любимому сыну он прочил совсем иное будущее. Поэтому отправил его, восьмилетнего, в Кёнигсберг, к тётке. Мальчик посещал Кнайпхофскую гимназию.





Серия сообщений "Живопись Германии":
Часть 1 - Ловис Коринт
|
Метки: импрессионизм экспрессионизм |
Процитировано 1 раз
Алексей фон Явленский |
Его картины, висевшие в доме Греты Гарбо, ставили в тупик экспрессивной мистикой, пока однажды не были конфискованы нацистами как "дегенеративное искусство". Сегодня они принадлежат к золотому фонду европейского авангарда, а их автор считается выдающимся художником русского зарубежья.

Женщина с пионами. 1909 г.
Алексей фон Явленский
(1864-1941)
«Немецкий художник, выходец из России» или наоборот: «русский художник, один из ярких представителей немецкого экспрессионизма» - так характеризуют Алексея Явленского энциклопедические словари. Художник большую часть жизни прожил за границей, и его имя гораздо лучше известно за пределами России, чем на родине. Явленский создал более трех с половиной тысяч произведений, его работы хранятся во многих музеях и частных коллекциях Европы и Америки, но в российских собраниях их не больше двух десятков. В то же время, чем дольше Явленский жил в Европе, тем явственней проявлялась глубинная связь его творчества с русской культурой.

'Landscape near Marseille', 1907



«Портрет танцора Александра Сахарова»
1909

Фабрика (1910)

Алексей Явленский__Автопортрет (1912)
Алексей фон Явленский родился 13 марта 1864 года в Торжке. Он был русским гвардейским офицером, но его влекла живопись. В конце концов, он решил оставить военную службу и посвятить себя целиком живописи. Алексей являлся учеником Ильи Репина при Петербургской академии художеств.
В 1896 году он переехал в Мюнхен, где вместе с Василием Кандинским поступил в художественную студию Антона Ажбе.
Имя Явленского тесно сопряжено с именем Василия Кандинского. Явленский был свидетелем того, как Кандинский в 1910 г. сделал последний шаг к беспредметному искусству, но, хотя многие работы Явленского этого периода были близки к опытам Кандинского, «его приближение к беспредметности останавливается едва ли не на последней грани» (М. Герман. «Модернизм»).
В 1902 году у него родился сын Андрей, чьей матерью была возлюбленная художника Елена Незнакомова.
После мюнхенского реализма он писал в стиле Ван Гога вплоть до 1908 года, когда под влиянием французских художников он развил свой собственный стиль цветовой гаммы, сохранённый им до начала первой мировой войны.

Melancholy in the Evening - Wasserburg on the Inn by Alexei Jawlensky
В 1909 году он основал «Новое мюнхенское художественное объединение», предшествовавшее «Синему всаднику», группе, которую создали Кандинский и Франц Марк и к которой тесно примыкал сам Явленский. Он выставлял свои работы совместно с работами художников группы. в 1912-13 гг. вошел в группу "Синий всадник".

«Дом в горах»_1912

Одиночество_1912
Примерно в это время созданные им кратины кажутся близкими марнауским опытам Кандинского.
В 1914 году, после начала войны, Явленскому пришлось покинуть Германию и переселиться в Швейцарию. Здесь он начал свои «Вариации» – цикл работ, посвящённый ландшафтной тематике.
В Висбадене Явленский познакомился с коллекционером и меценатом Генрихом Кирхгофом, который стал его материально поддерживать. С 1914 г. по 1921 г. живет в Сан-Пре (Швейцария). Здесь появляются его знаменитые "вариации": пейзажи, натюрморты, "головы". Он идет к созданию обобщающих образов, и портреты постепенно теряют необходимость сходства, превращаясь в "головы"

«Мои абстрактные головы очень красивы благодаря краскам, волшебству цвета. Я преимущественно от чего-то отказываюсь, чтобы максимально сконцентрировать духовную глубину.»

«Мне было необходимо найти такую форму для лица, чтобы я понял, что большое искусство делается только в глубоко религиозном состоянии души. И это состояние я могу передать только в человеческом лице.»

«Я выкидываю все частности, все детали, чтобы как можно яснее выразить суть моей задачи. И если я утрирую форму, то только для того, чтобы подчеркнуть каждый раз главный мотив моей эмоции.
Лицо для меня не просто лицо, но целый космос. В лице раскрывается космос.
Работы получились горящие по цвету и я был внутренне доволен…
Я писал «Лица» много лет. Я сидел в своей мастерской и писал, и природа как суфлер не была мне нужна.
Художник работает в определенной традиции, я родился русским. Моя русская душа всегда тянулась к древнерусскому искусству, русской иконе, византийскому искусству, равеннским, венецианским, римским мозаикам и романскому искусству. Все эти виды искусства моя душа встречала с трепетом, потому что я чувствовал в этом искусстве глубокую духовность. Это искусство было моей традицией."
В 1921 г. художник окончательно поселился в Висбадене.
В честь русско-немецкого гения в Висбадене назвали улицу, а местный музей, хранящий крупнейшее собрание его картин, учредил премию им. Явленского, которая вручается раз в пять лет художникам со всего мира.

Много работ здесь: http://www.artpoisk.info/artist/yavlenskiy_aleksey_georgievich_1864/gallery
http://www.canvaz.com/painters/alexei_jawlensky1.htm
С 1927 года его постоянно мучил артрит. С 1929 года у художника парализовало руки и коленные суставы. Именно в этот тяжелый период появляется серия «Медитации» - вершина всего творчества Алексея Явленского. Человеческое лицо - объект пристального внимания художника - достигает крайней степени абстракции, являясь одновременно изображением и лица, и креста.
Чтобы работать вопреки прогрессирующей болезни, Явленскому приходилось привязывать кисть к неподвижным рукам - иначе работать он уже не мог. И все же удивительнее, что за последние три года своего творчества мастер смог написать более 1600 «Медитаций».
Работы Явленского этого периода темны по колориту, а краски сильно разбавлены и словно в конвульсии разбросаны по холсту.

Meditation_1936

Grosse Meditation. January 1936
На них человеческое лицо достигает крайней степени абстракции, напоминая не то крест, не то оконную раму. Именно их видел прикованный к постели Явленский до того самого момента, как 15 марта 1941 года решил уйти из жизни. Известно, что он работал в экстазе, со слезами на глазах, творил, обратясь внутренним взором к Богу, не рассчитывая выставлять свои работы. Немецкие друзья художника называли его "Иваном Карамазовым".
"Я понял, что художник своими формами и красками должен выразить то, что есть в нем божественного. Поэтому произведение искусства – это видимый Бог, а искусство – это стремление к Богу . Я говорю с Богом, я молюсь ему в моих работах. Моя работа – это моя молитва, страстная молитва, высказанная красками ", – сказал как-то Явленский.
Явленский умер 15 марта 1941 года и похоронен в Висбадене на русском православном кладбище.
Автор: Елена a.r.b.
Источники: http://www.mariatrudler.com/?p=2982
http://culture48.ru/events/persona600.htm
http://blog.i.ua/community/1952/1277245/
![]()
Серия сообщений "Русский модерн":
Часть 1 - Ю.П.Анненков (1889 - 1974)
Часть 2 - Ю.П.Анненков Сатира или эротика?
...
Часть 8 - С.Судейкин и его Муза -"Коломбина 10-х годов"ч.2
Часть 9 - С.Судейкин. "Другая жизнь" или "Муза муз". ч.3
Часть 10 - Алексей фон Явленский
Часть 11 - Павел Филонов - "смутьян холста"
|
Метки: экспрессионизм |
Процитировано 1 раз
Понравилось: 2 пользователям
Эдвард Окунь (1872-1945) |

Self-Portrait with his Wife, 1900.
Эдвард Окунь (1872-1945) — польский художник, рисовальщик,иллюстратор.Представитель польского дворянского рода герба Белина. Получил прекрасную профессиональную подготовку в области изобразительного искусства. В 1890—1891 г. обучался рисунку и живописи в варшавском Классе Рисования В. Герсона, затем в 1891—1893 — в школе изобразительных искусств в Кракове (ныне Академия
изобразительных искусств) под руководством Исидора Яблонского и Яна Матейко, продолжил совершенствоваться в академии Мюнхена (1893) и в Париже (1894). Затем вернулся в Мюнхен. С 1898 года более 20 лет провëл в Риме.
В 1925—1930 г. — профессор Школы изящных искусств им. Герсона в Варшаве, в 1933—1934 — был еë директором.Член Товарищества польских художников «Искусство» (Sztuka).16 декабря 1922 г. был свидетелем убийства на художественной выставке в Варшаве первого президента Польши Г. Нарутовича. Вместе с одним из адъютантов президента задержал убийцу Элигиуша Невядомского, критика-модерниста и художника.
Во время Второй мировой войны жил в Варшаве. После Варшавского восстания переехал в Скерневице, где в январе 1945 года был убит случайной пулей на улице.
Э. Окунь — представитель польского модерна и символизма, автор многих портретов, идиллических пейзажей с элементами фантастичности, с доминирующим чувством декоративности и внимания к колористики. Сначала он писал реалистические композиции.В отдельных случаях сам изготавливал резные рамы для своих картин.

Wojna i my

Mazurek Chopina (fragment), 1911

Philistines

Portrait of the artist’s wife, 1907

Portret Pani Herse

Jesień w Sabińskich Górach

Pejzaż włoski

Zwycięzca

Edward Okuń Gold yarn, c. 1920


Wieśniaczka z Kampani

Pomarańcze i cytryny

Ruiny nad morzem

Chrystus śnieżny

Иуда

Wodospad

Jesienne liście

Ogród - prymulki i cynerarie
Автор - Т.Тимофеева Сообщество "Картины великих художников"
Серия сообщений "Живопись Польши":
Часть 1 - Ян Матейко - исторический живописец. ч. 1
Часть 2 - Любовь и вера Яна Матейко. ч.2
Часть 3 - Максимилиан и Александр Герымские - художники-братья
Часть 4 - Мауриций Готтлиб
Часть 5 - Эдвард Окунь (1872-1945)
|
|
Процитировано 4 раз
Понравилось: 2 пользователям
Ефим Честняков |
Ефим Васильевич Честняков родился в 1874 году. Умер — в 1961-м.
Его творческая деятельность непосредственно как художника и поэта закончилась где-то в конце 1920-х — начале 1930-х годов, когда он стал физически слаб, остался совсем без какого-либо имущества, которое могло бы поддержать его творческую работу. У него уже не было ни красок, ни холстов, ни бумаги. Кормился он тем, что подавали соседи и приходящие за лекарской помощью крестьяне.
И тем не менее, ему была дана долгая жизнь — почти 88 лет.

Что о нем говорит википедия:
Ефи́м Васи́льевич Честняко́в (Евфи́мий Само́йлов) (1874, д. Шаблово Кологривского уезда Костромской губернии — 1961, д. Шаблово Кологривского района Костромской области) — русский художник (портреты и сказочные сюжеты в русле псевдонаивного искусства), писатель (сказки, сказания, роман в стихах, стихи, размышления), скульптор (мелкая глиняная пластика), создатель детского театра в Шаблово. Пик творчества пришёлся на первую четверть XX века.
«В самом раннем детстве сильнейшее влияние имела бабушка. Она много рассказывала сказок про старину… Дедушка был мастер рассказывать про свои приключения… Он рассказывал и сказки, и не забуду, как чудно рассказывал. От матери слушал сказки и заунывные мотивы. Отец перед праздниками вслух читал Евангелие. Поэзия бабушки баюкала, матери — хватала за сердце, дедушки — возносила дух, отца — умиротворяла…»
 «Тетеревиный король»
«Тетеревиный король»

Имя этого замечательного человека стало широко известно только в 1968 году, когда летом экспедиция сотрудников Костромского музея благодаря счастливой случайности обнаружила его картины и глиняные скульптуры в деревне Шаблово, где он родился и жил. После восстановления московскими реставраторами произведения мастера были выставлены для обозрения в музеях Москвы, Петербурга, Турина, Флоренции, Парижа и всюду пользовались большим успехом: так ярки, необычны, глубоко искренни они были.
Еще не изданы многие литературные труды Честнякова: роман, повести, сказки, пьесы. Еще ничего почти не известно о последнем тридцатилетнем периоде жизни художника. Недавно ничтожно малым тиражом вышел сборник поэзии Ефима Честнякова. И сразу же будто яркий цветной луч осветил его картины, и еще заметнее стало, что лирика его и живопись вдохновлялись огнем сердечного знания.


 «Детские игры»
«Детские игры»
Честняков, Ефим Васильевич родился в деревне Шаблово (Костромская губерния) 19 (31) декабря 1874 года в крестьянской семье. Первые уроки рисования получил в Кологривском уездном училище, которое окончил в 1889 году. После семинарии работал учителем в селе Здемирово, Костроме и селе Углец. В 1899 году приехал в Петербург, поступив в мастерскую живописи и рисования княгини М.К.Тенишевой, а затем в Высшее училище при Академии художеств, однако в 1903 году оставил его. С 1905 года обосновался в родной деревне.
В строгом смысле Честнякова, прошедшего профессиональную школу, нельзя считать самоучкой. Однако его "наивное искусство" ближе всего к манере тех самодеятельных мастеров, которые не следовали классико-академическому канону, поскольку просто (подобно Н.Пиросманашвили) не ведали его. Честняков этот канон знал, но в итоге отверг. Его живопись формировалась как непрерывное фольклорное действо из отдельных сцен-картин (впечатлению сценического единства способствует и тот факт, что мастер не датировал свои работы, тем самым затруднив их хронологическую оценку). Отдельные "посиделки", "свадьбы", "коляды" подчинены лейтмотиву Города всеобщего благоденствия, существующего и в виде отдельной композиции. По сути, это народный спектакль о рае, творимом средствами искусства.

«Сказочный мотив»

«Семейный портрет» (их много, и семейных портретов, и отдельных портретов и особенно детских головок)
Он мечтал стать художником и поступил в мастерскую И.Е. Репина. Маститый Репин, восхищенный его самобытным талантом, сказал, что мне тебя учить нечему, только испорчу. Ефим возвратился на родину в деревню Шаблово, Кологривского уезда, Костромской губернии, и посвятил свой дар живописца, поэта, скульптора своим землякам.
Живя в далекой российской глубинке, вспоминая свое детство, Ефим Честняков писал: «От матери слушал сказки и заунывные мотивы. Отец перед праздником вслух читал Евангелие. Поэзия бабушки баюкала, матери – хватала за сердце, дедушки – возносила дух, отца – умиротворяла… Вот обстановка моего детства…» в «деревне с ее незамкнутой, общительной свободной жизнью». Глубокие корни народной культуры на всю жизнь напитали чудодейственной силой живопись и поэзию Ефима Васильевича. Только осмысление глубокой связи духовной жизни с корнями культуры своего народа способствует преображению человека.
Кроме того, он был прекрасным скульптором, зимними вечерами лепил игрушки, которые потом становились частью небольших спектаклей, сопровождаемых собственными стихами.

Фигурки кукольного театра, который Честняков организовал для деревенских детей
Произведения художника не так просты для восприятия, как могут показаться на первый взгляд. В них столько разнообразных нюансов, поэтических метафор, символов. В своеобразных «фресках» художника оживает мир «иных измерений»: русалки, трубящие в трубы, птицы счастья, домовые, кикиморы, лешие. Весь сказочный поэтический мир так близок к жизни простого крестьянства, а участники этого удивительного действия поют радостную песнь. Здесь много детей со счастливыми улыбками и много взрослых с детскими лицами.

Кострома, топят бани


На полотнах …«возникало определенное ощущение: в изображенных сценах происходило что-то необычное, сказочное". Его «Город всеобщего благоденствия» потрясает своей глубиной и простотой. Здесь все радует, и сердце наполняется силой любви и счастья. В нем автору удалось воплотить мечту всего человечества.
Честняков — художник и педагог верил в идею пробуждения творческого начала в каждом человеке. «Вся моя жизнь усердных занятий культурного пионера края, насколько можно в моем положении, и не женат потому. Занимался день и ночь до изнеможения! — читаем в одном из его писем. — Считаю важным для страны и вообще — пробудить в человеке человека».
«Я очень люблю, когда люди играют, — другая его запись. — Мужичок, изуставший над сохой, при встрече с товарищем пошутит, расскажет побасенку, прибаутку. В том и красота, чтобы человек возвышался над жизнью в искусстве. Человек создает красоту жизни, и чем дальше, тем выше ее красота».
Честняков мечтал о гармонически развитой личности. «Начинать надо с детства-то человека строить, — говорил он. — Крестьянские дети слишком рано становятся взрослыми. Надо дать им полное детство, чтобы душа их успела наполниться радостью жизни, чтобы успела пробудиться творческая фантазия. Насколько во взрослом человеке уцелел ребенок, настолько он и личность. Человек приходит в мир гармоническим. Разбудить в детской душе творческое начало и не дать заснуть этому началу — вот что надо делать!»
Любовь к детям — ключ ко всей творческой деятельности Ефима Честнякова. Недаром он писал в одном из стихотворений: «И славы не нужно, и мнения в мире людей, и мила мне одна лишь улыбка детей».
В системе воспитания Человека, о которой всю жизнь радел Честняков, все равноценно, взаимосвязано. Недаром он никогда не продавал своих картин и рисунков, на которых изображен «Кордон обетованный». Это был своеобразный «Очаг добра», благотворно влиявший на окружающих.
В одном письме, примерно 1925 года, Честняков рассказывает: «Искусство поэзии, музыки, живописи и простой быт жизни влекли меня в разные стороны, и я был полон страданий, и думал, и изображал, и словесно, а не одним маслом писал. Только сборы у меня трудные, потому что мир искусств моих сказочный. Впереди несется фантазия, и мир такой, какого не было еще и теперь еще не нашли.
А все представляет одно, одну картину. Я назвал: "Страна обетованная". Не путай, не земля — Страна обетованная!»
Он пишет о главном своем произведении, так неудачно названном реставраторами «Город Всеобщего Благоденствия»
Вот фрагмент:

Разобранная по частям картина «Город Всеобщего Благоденствия» потрясает своей глубиной и простотой. В этой вещи Честнякову удалось воплотить мечту всего человечества.
Это тот «Рай», в который художник свято верил и о котором мечтал. Честняков – представитель «наивного искусства». Но его наивное искусство, близкое к манере самодеятельных мастеров все же очень профессионально. Живопись его формировалась как непрерывное фольклорное действие из отдельных сцен-картин, где как в жизни рождение сменяют похороны, а свадьбы – посиделки. И вся эта круговерть подчинена космическому порядку, как смена времен года. Вообще «Город Всеобщего Благоденствия» описать невозможно. Громадная картина-фреска, в которой нет привычных координат обычной картины. Честняков стремится вместить в пространство безграничного города все духовные ценности народа. По сути это народный спектакль о рае – «фреска», распадающаяся на пазлы и собирающаяся вновь, проникая в сознание зрителя. Живая субстанция, меняющаяся и вечно преображающаяся. Мечта всего человечества, воплощенная не только на холстах и бумаге, но и в сердцах зрителей, наполняющихся силой любви и счастья.
Как утверждают исследователи, три фактора Перехода отмечают Дорогу в Волшебную страну: деформация времени, деформация пространства и деформация состояния сознания.
На переднем плане картины изображены узкие врата, в которые с трудом проходит толпа народа. А за этими строениями реального плана — безграничные дали, многоцветные и радостные. Три крупные фигуры выделяются среди остальных — древний Глава рода, Муж и Жена. В коляске, катящейся по бревнам, — маленький старичок, старушка и ребенок. Это прошлое и будущее Рода.
В этой картине оживает весь мир «иных измерений», не понаслышке знакомый художнику: русалки, трубящие в трубы, птицы счастья, домовые, кикиморы, лешие — одним словом, весь поэтический сказочный мир, близкий жизни лесного крестьянства. Участники этого удивительного действа поют радостную песнь.
Художник стремится «вместить» в пространство безграничного Города все духовные ценности народа, не разделяя его на крестьян и горожан. Символичны две фигуры слева на первом плане. Бородатый крестьянин с метлой и молодой человек в городской одежде со щеткой. Они выполняют одну и ту же работу, но каждый по-своему, символизируя духовное очищение жизни. Здесь мирно сосуществуют уютные деревенские церквушки, избы и каменные городские палаты. Здесь множество детей со счастливыми лицами и игрушками в руках. «Взрослый должен быть как дитя, чтобы войти в Царство Небесное», — писал Честняков.

|
Я направляю свой поход
Туда, где Солнышка восход. Хочу до Солнышка дойти, Моря живой воды найти. И если впрок пойдут труды, Я принесу живой воды... ("За живой водой")  северо-западный фрагмент "Города.." 
северо-восточный фрагмент "Город.."
|
|
...Я жду, когда труба затрубит
и всенародный будет крик. Тогда в кругу людей нарядных Войду в Грядущий Светоград. С обильных веток виноградных Срывать плоды я буду рад. ("Марко Бессчастный")  юго-восточный фрагмент "Города.."  юго-западный фрагмент "Города..." |
— Кто вам дал? — спрашивают.
— Бог дал, — отвечает дедушко.
Почали. Стали пробовать: сладкое, душистое, рассыпчатое.
«И мне, просят, и мне!» Дедушко дает всем. Вся деревня наелась, похваливаеют: такого-де дива не слыхивали. И ели дедушко и бабушка, мужик и баба и ихние ребята — парнеки и девоньки… Кушали сырым, и печеным, и в киселе, и перемерзлым, когда пришли холода. Соседям всем завсегда давали, особенно кто захворает. И хватило им яблока на всю осень и зиму до самого Христова дня».
(из сказки Е.Честнякова "Чудесное яблоко")

Авторы: Елена Арб., И.Егорова
ист.: http://www.woman55plus.ru/ru/kultura/.view/id/183/
http://cyrillitsa.ru/tradition/4312-probudit-v-cheloveke-cheloveka.html
Серия сообщений "Русская живопись":
Часть 1 - Моисеенко Е.Е. (1916-1988)
Часть 2 - М. Б.Греков - художник-баталист (1882-1934)
...
Часть 4 - Pусский живописец Михаил Нестеров.
Часть 5 - О творчестве художника М.В. Нестерова
Часть 6 - Ефим Честняков
|
|
Понравилось: 1 пользователю
Нетипичная картина Серова |

В. А. Серов
Похищение Европы, 1910
Используя характерный для эстетики модерна приём стилизации, Серов первым создает свою, далекую от академических канонов, версию античного сюжета.
Идея написать «Похищение Европы» приходит Серову во время его поездки с Бакстом в мае 1907 в Грецию, посещения острова Крит и изучения найденных там археологами остатков Кносского дворца, украшавших его фресок и других памятников критской культуры. Существуют многочисленные свидетельства того, что эта поездка была им предпринята в целях работы над росписями, предназначенными для Музея изящных искусств в Москве. Исследователи творчества Серова обращают внимание и на то, что художник создавал именно декоративное монументальное панно, а не станковую картину.
Сюжет картины, взятый Серовым из древнегреческой мифологии, принадлежит к одному из наиболее популярных сюжетов мирового искусства, связанных с античной культурой. Зевс влюбился в Европу, дочь финикийского царя Агенора, и явился царевне и ее подругам, гулявшим на берегу моря, в виде прекрасного быка. Девушки забавлялись игрой с быком, украшая его рога цветочными гирляндами. Когда Европа решилась сесть на спину быка, тот бросился в море и увез царевну на остров Крит, где она стала женой Зевса, родив ему впоследствии трех сыновей-героев.
Композиционное решение полотна было им найдено достаточно быстро. С высокой линией горизонта, она построена на диагональном движении форм. В 1909—1910 годах Серов лишь продолжает поиски масштабных соотношений ее элементов, подчеркивающих монументальность произведения. Он вытягивает, трансформирует силуэты быка и дельфинов, чтобы подчеркнуть динамику общего композиционного движения. Очень выразителен и особо «упругий» ритм этого произведения. Горизонталь неба и моря как бы взрыты поднимающимися волнами. Море неспокойно, оно вздымает валы. Дельфины повторяют движение плывущего Зевса, чем усиливают динамику композиции.
В колористическом решении Серов также отступил от традиции, использовав ту гамму, которая привлекала его в тот период. Так, быка вопреки сложившимся в искусстве представлениям, он сделал не белоснежным, а рыжим. Это ярко-оранжевое пятно на фоне сине-фиолетового моря необычайно красиво и выразительно. Хотя новаторский замысел остался в итоге неоконченным в связи с безвременной кончиной художника, исследователи сходятся о том, что в «Похищении Европы» Серов нашел не только свой новый изобразительный язык, но и открыл новый вариант утверждавшегося художественного стиля.
По некоторым свидетельствам, Серовым было создано 6 вариантов картины.


Помимо наиболее часто упоминаемого в источниках варианта из собрания ГТГ, существуют два одноимённых эскиза меньшего размера в той же ГТГ и ГРМ (40 х 52 см, темпера, гуашь, картон). Наиболее завершённый вариант композиции Серова (холст, темпера, 138 х 178 см) до 1996 года хранился у наследников художника. С 1996 года, по соглашению между ГТГ и наследниками, находился на временном хранении в ГТГ в экспозиции музея. В 1999 работа была приобретена у наследников для частного собрания (в качестве нового владельца называется В. Кантор).
Все варианты можно посмотреть по ссылке:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Rape_of_Europa_%28Serov%29?uselang=ru
Серия сообщений "История одной картины":
Часть 1 - В.Маковский "На бульваре" История одной картины.
Часть 2 - Рафаэль Санти. Портрет Бальдассаре Кастильоне
...
Часть 21 - Иван Фирсов (1733 - после 1785)
Часть 22 - Рембрандт.Даная. История шедевра.
Часть 23 - Нетипичная картина Серова
Часть 24 - Питер Пауль Рубенс. Портрет камеристки
|
|
Процитировано 1 раз
Понравилось: 1 пользователю
Рембрандт.Даная. История шедевра. |
Загадочна и трагична судьба этой картины. Не одно поколение историков и поклонников искусства пыталось узнать: кто позировал художнику и почему мастер столь вольно интерпретировал древнегреческий миф о Данае? А может, это и вообще не Даная изображена на полотне?
Итак, сюжет. Даная, дочь арагосского царя, оказалась в очень непростом положении.
Отец, узнав от оракула, что ему суждена смерть от руки внука, заключил ее в подземные покои из бронзы и камня. Чтобы никто не видел ее, не пленился красотой и не похитил. Заключить-то заключил, но от судьбы, как известно, ни спрятаться, ни скрыться. Каким-то таинственным образом красавицу узрел громовержец Зевс и воспылал к ней страстной любовью. Он проникает к ней в покои под видом золотого дождя, и там, глубоко под
землей, Даная становится его возлюбленной. От этого брака у нее родился сын, которого она назвала Персеем… Узнав об этом, разгневанный Акрисий распорядился замуровать дочь и внука в ящик и бросить в море. Но ящик был выловлен, заточенные в нем мать и сын спасены. Как рассказывается далее в легенде, Персей, обладавший огромной силой и мужеством, совершил много подвигов. Сбылось и пророчество оракула. Однажды, участвуя в соревновании по метанию диска, Персей оказался в стране своего деда. Неточно брошенным диском он убил Акрисия.
Но Персей и его подвиги — это другая история. Сейчас — о Данае, которая, надо сказать,
пользовалась популярностью у живописцев в разные, в том числе античные, времена. Есть “Даная” у Корреджо, Тициана, Тинторетто, Веронезе, Пуссена. У одних, как у Корреджо, бедра красавицы прикрыты легкой тканью, у других — Тициана — на картине роскошная молодая женщина, в сладкой истоме разбросавшаяся на ложе без каких-либо прикрытий, если не считать браслета на руке.

Тинторетто. Даная и золотой дождь.

Тицман. Даная. Государственный Эрмитаж, С.-Петербург

Корреджо. Даная. 1531 Галерея Боргезе, Рим
Но,пожалуй, самая известная “Даная” — Рембрандта. На богатом ложе возлежит молодая женщина. Она основательно открыта зрителям, ткань закрывает лишь ступни и икры ног, а все остальное во всем великолепии выписано весьма реалистично — свисающий рыхловатый живот, небольшие груди, пухлые коленки, покатые плечи. “Боже, какая красота, настоящая Даная”, — вздыхают некоторые зрители, глядя на картину. Но тут начинается самое загадочное. А Даная ли это?
Прежде чем оказаться в Эрмитаже, “Даная” достаточно напутешествовалась по свету. В 1656 году картина в числе других полотен была продана за долги Рембрандта. Она переходила от одного владельца к другому, пока не оказалась в парижской коллекции герцога Пьера Кроза. Собрание Кроза купила Екатерина II, и картина оказалась в Эрмитаже. Почти сразу же вокруг “Данаи” разгорелся ученый спор. Исследователей интересовало многое. Если это Даная, то где же золотой дождь, в образе которого перед Данаей предстает Зевс? Если нет дождя, то, естественно, нет и Зевса, а следовательно, и всего
остального. Даная должна смотреть вверх, на нисходящий дождь, но ее взгляд на картине обращен прямо перед собой. Почему на безымянном пальцелевой руки Данаи обручальное кольцо? Кто это? Девушка, заточенная в подземные покои по приказу царя, или замужняя дама?

Кольцо на безымянном пальце левой руки.
В 1836 году английские искусствоведы даже предлагали изменить название картины: вместо “Даная” — “В ожидании любовника”. Эксперты подметили и другое: по краям полотна детали тщательно проработаны, в колорите преобладают холодные тона, зато в центральной части — письмо широкое, а цвет выдержан в теплых, золотистых и коричневых, тонах, излюбленных художником в зрелый период творчества. Возможно, картина писалась в два этапа. Но кто позировал живописцу для этой картины?
С 1633 года, когда состоялась помолвка Рембрандта с Саскией ван Эйленбург, и вплоть
до ее смерти в 1642 году любимой моделью художника будет жена. Стандарта на модели тогда не было — никаких строгостей по части роста, объема талии, веса... Каждый художник выбирал ту единственную, которая отвечала его представлениям о прекрасной даме. “Это портрет моей невесты в возрасте двадцати одного года, три дня спустя после нашей помолвки”, — напишет Рембрандт под первым портретом Саскии. На нем улыбающаяся Саския в круглой шляпе, украшенной цветами. Рембрандта переполняет счастье. Он, сын мельника, женился на дочери бургомистра, принесшей ему солидное
приданое, положение в обществе, а самое главное — любовь. А Саския, став супругой Рембрандта, начнет карьеру одной из самых известных моделей в мире.

Смеющаяся Саския 1633, Дрезден Галерея старых мастеров

Rembrandt,_Harmenszoon_van_Rijn_-_Saskia_van_Uylenburgh_-_1643
С длинными распущенными волосами, в роскошном платье, украшенная драгоценностями, предстает Саския на одном полотне. На другой картине Саския запечатлена в образе римской богини Флоры. Некоторые насмехались над художником, изобразившим супругу в образе богини, которой поклонялись римские проститутки. Но Рембрандта это мало беспокоит. На полотне Саския удивительно хороша, а в украшающий ее голову убор из цветов художник вплетет тюльпан, чтобы подчеркнуть голландское происхождение богини. Еще одна картина — и вновь любимая жена, на этот раз вместе с самим художником — “Автопортрет с Саскией на коленях”
 .
.
Саския в образе Флоры 1634, С.-Петербург

Флора. Саския 1635 Лондонская национальная галлерея
Не ищет Рембрандт другую модель и в год смерти Саскии, он рисует измученную болезнью супругу — с впалыми щеками, с пустым, почти безжизненным взглядом. “Юность, захваченная смертью” — назовет он свою гравюру-аллегорию. Саския умрет совсем молодой, в возрасте тридцати лет,от туберкулеза. Незадолго до этого у них родится сын Титус. А через несколько месяцев после смерти Саскии он рисует ее портрет вместе со
своим, стремясь забыть о потере любимой, оставаясь вместе с ней и после смерти.

Rembrandt_-_Saskia_with_a_Child

Титус в красном берете 1658
Спустя какое-то время в жизни Рембрандта появляется другая женщина — Гертье Диркс. Нанятая для Титуса кормилица Гертье станет любовницей Рембрандта.Ей он, кстати, подарит драгоценности Саскии. А затем у художника появится еще одна подруга жизни и модель — юная Хендрикье Стоффельс. И будет он жить одновременно с двумя женщинами — кормилицей сына и Хендрикье, чем приведет в ужас благопристойный Амстердам. Интересно отметить, что завещание Саскии будет составлено весьма своеобразно. По
нему она оставляла сорок тысяч флоринов мужу и сыну. Но, имея право распоряжаться собственностью до совершеннолетия или свадьбы Титуса, Рембрандт это право утрачивает, если вторично женится. После того,как в 1650г. Гертье Диркс оказывается в тюрьме,единственной спутницей жизни Рембранта становится Хендрикье Стоффельс . Рембрандт окончит жизнь в полной нищете, его дом будет конфискован, а в него въедет хамоватый сапожник. А надгробная плита с могилы Саскии будет продана Рембрандтом могильщикам для того, чтобы похоронить свою последнюю любовь – Хендрикье…

Гертье Диркс Женщина в постели ок. 1645 Эдинбург, ац. галерея Шотландии, Англия

Хендрикье Стоффелс в бархатном берете. 1655 Лувр, Париж
Итак, кто же изображен на полотне? Любимая жена или любовница? Ответить на этот вопрос удалось лишь в двадцатом веке. После того как был проведен рентгенографический анализ картины, оказалось, что в 1646—1647 годах Рембрандт полностью переписал центральную часть картины. На полотне оказались запечатленными две реальные женщины, две Данаи. В первом варианте “Даная” действительно была Данаей. В ее образе мастер изобразил Саскию. Мифологический сюжет подан в эффектном оформлении, но сама героиня поражала своей обыкновенностью. Здесь все было так, как того требовал миф: откуда-то с небес струится золотой дождь, и смотрит Даная не прямо перед собой, а вверх. Бедра Данаи стыдливо прикрывала ткань (художник оберегал целомудрие жены). Но спустя пять лет после смерти Саскии ее образ заменит образ Гертье Диркс. Две модели соединятся на одной картине. Какая из них проступает более явственно? Исследователи
утверждают, что Саския. Может быть, и так. Но до сих пор непонятно, зачем Рембрандту нужно было переписывать полотно, закрывая облик Саскии другим…

Рентгеновский снимок руки Данаи На рентгенограмме две поднятые руки:
Обнажённое тело молодой женщины привлекает внимание мягкими контурами, игрой света
и тени. Беззащитность и мягкость чувствуется во всей её фигуре, которая, несмотря на несоответствие современным канонам, является символом женственности и красоты.

Даная. Деталь
Радостно пробуждение Данаи. Старуха-служанка отодвигает полог ее кровати, и золотистый свет широким, ровным потоком вливается в комнату. Робко приподнимается взволнованная Даная навстречу свету. Она переживает радостное предчувствие счастья, доверчиво отдается овладевающему ею большому чувству, встречает входящего трепетной, робкой улыбкой и взглядом покорным и одновременно манящим. Свет чарует ее, вырывает из холодного окружения. Она ласково нежится в теплых лучах, доверчиво
протягивает руку вперед, в то же время слегка защищаясь от слепящего света; в этом жесте слились воедино и слабое сопротивление, и призыв.


Правая рука обращена навстречу свету
Под влиянием света, властно проникающего в спальню, все словно обновляется,становится радостным, одухотворенным. Постепенно разгорается красный цвет. Приглушенный, сдержанный тон бархатной скатерти сменяется теплотой розоватых тонов тела, интенсивным горением лент на браслетах; прозрачно просвечивают кончики пальцев протянутой руки. Бесшумно соскальзывает покрывало, обнажая женское тело. Неприбранные волосы женщины, промятая подушка, туфельки, брошенные на переднем плане,— все это придает образу оттенок задушевной интимности и отличает Данаю Рембрандта от классических женских образов Праксителя и Агесандра, Джорджоне и
Тициана.
 Даная 1636-1647 холст,масло 185х203 см Эрмитаж, С.-Петербург
Даная 1636-1647 холст,масло 185х203 см Эрмитаж, С.-Петербург
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88...z._van_Rijn_026.jpg?uselang=ru большая
Эта картина — радостный гимн побеждающей любви. Счастье входит в обитель Данаи, и единственным напоминанием о днях ее тягостного одиночества остается лишь плачущий скованный амур — деревянная фигурка в изголовье ее кровати.

Над изголовьем кровати - младенец с крылышками, на лице которого застыло страдание
Рембрандт писал Данаю сам, не доверив ученикам ни мазка. 20 лет Даная провисела в
мастерской Рембрандта, а ушла с молотка, вместе с другим имуществом разорившегося художника.
Но вернемся в последние годы бурного ХХ века. 15 июня 1985 года «Даная» казалась навечно утраченной. Субботним утром, в ленинградском (ныне - санкт-петербургском) Эрмитаже в присутствии экскурсионной группы молодой мужчина выплеснул на «Данаю»
кисти Рембрандта серную кислоту из литровой банки, после чего с криком "Свободу Литве!" дважды пырнул картину ножом. Преступником оказался душевнобольной литовец Бронюс Майгис, который объяснил свои действия "политическими соображениями".

Майгис Бронюс

Дело Майгиса Бронюса.
Человеком,который обезоружил «безумного» Майгиса, оказался Василий Клешевский,
белорусский милиционер, а не сотрудник ленинградской милиции, как считалось много лет (!). Тогда еще 30-летний старшина белорусской милиции оказался в Эрмитаже один на один с вандалом в последний день своего отпуска. Благодаря его рассказу выясняется, что в тот день Майгис планировал не только уничтожить картину, но и устроить мощный взрыв.

После "покушения"
Спасать шедевр взялись мгновенно, промывая полотно водой. Но очень пострадала самая ценная часть картины – женская фигура: кислота прожгла в живописном слое глубокие борозды, которые тут же заполнили стекавшие сверху картины темные краски, перемешанные с лаком и водой. Драпировка, прикрывавшая ноги Данаи, растворилась полностью. Но к вечеру химическая реакция была остановлена. Компьютерный анализ показал, что чуть менее 30 процентов авторского письма утрачено навсегда…

По приказу Министерства культуры была создана Государственная комиссия, в которую вошли крупнейшие специалисты в области исследования и реставрации живописи и администрация музея. Проведение реставрационных работ поручили эрмитажным художникам-реставраторам Е.Н.Герасимову, А.Г.Рахману, Г.А.Широкову. Основную часть научно-методических разработок осуществляла секретарь Государственной комиссии Т.П.Алешина. Консервация картины, включавшая укрепление красочного слоя и грунта,
удаление двух дублировочных холстов и подведение нового, глубинная регенерация покровных лаков, была завершена уже к концу 1985 года. В течение последующих лет проводились работы по удалению натеков, в места утрат красочного слоя подводился новый реставрационный грунт из мела и пигмента, имитирующего цвет авторской имприматуры (светло-серый), на клеевом связующем.


Геннадий Широков, Александр Рахман и Евгений Герасимов работают над восстановлением картины Рембрандта
Наконец,после того, как в июле 1987 года Государственная комиссия приняла проделанную работу, начался следующий этап реставрации, направленный на восполнение утрат и приведение картины в экспозиционное состояние. Этот процесс проводился в традиционной для Эрмитажа и идентичной подлиннику технике масляной живописи на слое лака, разделяющем авторскую живопись и реставрационные тонировки. Тем самым был соблюден важнейший принцип реставрации - обратимость, возможность в любой момент вернуться к исходной точке. Рембрандт пользовался пигментами неорганического
происхождения, а богатство оттенков цвета достигал смешиванием красок. Кроме того, было найдено в смесях красок некоторое количество измельченного стекла. Стекло делает краски более прозрачными из-за марганца, содержащегося в нем.Над восстановлением картины реставраторы бились долгих 12 лет. В 1997 году шедевр снова появился в
Эрмитаже. На этот раз под бронированным стеклом…

После реставрации
Суд над Бронюсом Майгисом проходил в Ленинграде. Он закончился 26 августа 1985 года вынесением приговора: признать вину Майгиса и освободить его от уголовной ответственности как душевнобольного (вялотекущая шизофрения). Некоторое время он лечился в психиатрической клинике в Ленинграде, потом был отправлен в Литву, где его выпустили из клиники ввиду того, что Литва стала независимым государством.
Ист.:
http://officers-clan.ru/forum/33-262-1
http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/04/b2003/hm4_3_2a.html
http://www.artniderland.ru/shedevr/redan.php
http://www.liveinternet.ru/community/3299606/post195254752/
Серия сообщений "История одной картины":
Часть 1 - В.Маковский "На бульваре" История одной картины.
Часть 2 - Рафаэль Санти. Портрет Бальдассаре Кастильоне
...
Часть 20 - Федор Степанович Рокотов (1732-35? - 1808)
Часть 21 - Иван Фирсов (1733 - после 1785)
Часть 22 - Рембрандт.Даная. История шедевра.
Часть 23 - Нетипичная картина Серова
Часть 24 - Питер Пауль Рубенс. Портрет камеристки
|
|
Процитировано 8 раз
Мауриций Готтлиб |
Мауриций Готтлиб - польский живописец и график, один из самых романтических персонажей в истории польско-еврейского искусства.

фото
| Yasmin Levy - Adios Kerida | 03:42 | |
Маурици (Моше) Готлиб, впрочем, все его называли Мориц, родился 21 февраля 1856 года в Дрогобыче, у Карпатских гор, на юге Польши. Отца звали Ицхак, а маму – Фаня (в девичестве Тигерман). Среди одиннадцати детей Готлибов было пятеро мальчиков, и не один только Мориц, но и трое его братьев стали художниками. В доме мирно уживались еврейская традиция и идеи Просвещения. Как в начальной школе при местном монастыре, так и позже, в гимназии, процент еврейских детей был невелик, и Мориц Готлиб записывает в дневнике: "…Нашлись ещё родители (имеются ввиду евреи), которые, вслед за моим отцом, отправили детей в гимназию, но нас было очень мало и мы много страдали от наших товарищей-христиан. Из всех предметов меня привлекали разве что история и рисование, урок рисования более всего…". Учителем рисования был Сикора, а мотивами первых работ стали деревенские виды и окружавшая мальчика карпатская природа.

В 1869 году, когда мальчику исполнилось 13 лет, стараниями учителя и после многочисленных просьб самого Морица, отец отправляет его учиться во Львов. Там он попадает к Михалю Годлевскому, который быстро распознал талант будущего художника и относился к нему на протяжении почти трёх лет учёбы с неизменной симпатией, поощряя в Морице самостоятельность мышления. В эти годы он много читает, ходит в театр и на музыкальные концерты, а затем отец увозит его в Вену. Попав в Венскую академию искусств, Мориц очень скоро начинает тяготиться и теорией и практикой этого учебного заведения – здесь всё направлено на возвеличение габсбургского престола. Он ещё не нашёл себя, но точно знает, что все эти модели в пышном историческом убранстве ему не по душе. Совсем другое дело – венские музеи.

Автопортрет 1876
Однажды он попадает в Бельведерский зал и впервые видит портрет Ройтана, гордого польского аристократа, с патриотической страстностью обвиняющего в Сейме предателей Польши. Польша – это и его, Морица Готлиба, родина. Чья же это работа? Ян Матейко?.. Пока это имя ему ничего не говорит. Но судьба явно благоволит к юноше, ибо в тот год, 1873-й, почти все венские музеи воспылали любовью к мастерству польского художника, и спустя некоторое время Мориц уже знал многие его работы: "Баторий под Псковом", "Проповедь Скарги", "Люблинская уния", портрет Коперника – вдохновенный образ великого учёного. Ему чуть более 15 лет, и он счастлив, ибо влюблён. В художника, в его кисть, в его мастерство, в его личность. Он и в себе вдруг остро чувствует польского патриота, углубляется в изучение польского языка, истории и культуры Польши, требует от домашних книги только на польском и чтобы не писали ему больше по-немецки, как прежде, а только по-польски. И вообще, что он делает тут, в австрийской столице, среди этих опереточных габсбургов? Надо ехать в Краков, в Польшу.
Он решается и пишет взволнованное письмо художнику Яну Матейко. Он уже знает, что его кумир - руководитель Краковской академии художеств. Матейко читал это письмо в большом волнении и тут же согласился принять Морица в свои ученики. В середине учебного года Маурици Готлиб на крыльях мчится в Краков. Очень скоро он напишет свой знаменитый автопортрет в костюме польского вельможи: бархат камзола, мех, расшитый золотом кушак, резная рукоятка сабли. Забавное противоречие: в берете – крупный драгоценный камень, в который как бы воткнуто, нет, не перо, а расчёсанная горделивая метёлочка четырёхугольной конфедератки.

-Self-Portrait_inPolish_Nobleman's_Dress_1874
Но всмотритесь в лицо: большие тёмные миндалины глаз, а главное – эти еврейско-африканские губы… Пафос польского патриота при сугубо еврейской внешности.
Серия сообщений "Живопись Польши":
Часть 1 - Ян Матейко - исторический живописец. ч. 1
Часть 2 - Любовь и вера Яна Матейко. ч.2
Часть 3 - Максимилиан и Александр Герымские - художники-братья
Часть 4 - Мауриций Готтлиб
Часть 5 - Эдвард Окунь (1872-1945)
|
|
Понравилось: 1 пользователю
Максимилиан и Александр Герымские - художники-братья |
В последней трети XIX века в Польше наиболее значительными представителями демократического реализма были Юзеф Хеломонский и братья Герымские.

Автопортрет
М. Герымский (1846—1874)
Оба брата родились в Варшаве, в разное время получили художественное образование в Варшавском рисовальном училище, а затем у А. Вагнера и Фр. Адама в Мюнхенской Академии художеств, которая в 60-х—80-х годах прошлого века была местом учебы целого поколения польских живописцев.
Максимилиан закончил обучение раньше, а Александр в 1872 с золотой медалью.Конечно, в течение жизни они поддерживали друг друга, следили за творчеством, помогали в тяжелых ситуациях, неоднократно жили в одном городе и закончили свой путь в одной стране - в Италии. Оба они - художники реалистической школы живописи, но все же они не близнецы в творчестве, и судьбы их складывались по-разному. Объединяет их, помимо родства, огромное трудолюбие, отсутствие тщеславия,почти безвестность при жизни на родине и почет, любовь и уважение уже после смерти.
А теперь немного поподробнее о каждом.
Максимилиан,живя и работая главным образом в Мюнхене, довольно быстро сумел достичь известности. Он получал множество заказов. Его произведения экспонировались на выставках в Лондоне и Париже, и только дома, в Польше, его долго не решались признать серьезным живописцем. Однако в среде передовых поляков -эмигрантов, живших в Германии, М.Герымский пользовался большим авторитетом. Вместе с Ю. Брандтом он возглавил так называемый «штаб» мюнхенской колонии, вокруг которого группировались молодые польские художники антиакадемического направления.
Таланту Герымского была свойственна поэтичность, слитая с исключительно тонким, реальным ощущением действительности. Его кисти принадлежат картины из жизни городской бедности («Похороны горожанина». 1868 и др.), напоминающие по своему идейному звучанию искусство русских передвижников. Герымский был автором батальных полотен на тему польского восстания 1863—1864 годов, в котором он принимал участие семнадцатилетним юношей.

Повстанец

Повстанческая артиллерия

Поляки и татары

Повстанческий патруль
Одна из лучших картин этого цикла — «Повстанческий патруль» (ок. 1871) изображает четырех всадников, остановленных на сельской дороге нищим-разведчиком, сообщающим о близости неприятеля. Большой внутренний смысл приобретает в этой картине пейзаж. Он характерно польский, реальный и вместе с тем полный лирики и напряженного драматизма, созвучного переживаниям группы повстанцев, — кажется, сама природа, окружающая их, проникнута тревогой.
Герымский был первым польским художником, проявившим интерес к пленэрной реалистической живописи.
Серия сообщений "Живопись Польши":
Часть 1 - Ян Матейко - исторический живописец. ч. 1
Часть 2 - Любовь и вера Яна Матейко. ч.2
Часть 3 - Максимилиан и Александр Герымские - художники-братья
Часть 4 - Мауриций Готтлиб
Часть 5 - Эдвард Окунь (1872-1945)
|
|
Любовь и вера Яна Матейко. ч.2 |

Автопортрет
Мы знаем Яна Матейко как выдающегося польского исторического живописца,как человека неравнодушного к судьбе своей любимой многострадальной Польши.А каким он был человеком, кто его вдохновлял, какие мысли вынашивал и что стремился донести до людей? На своих немногочисленных портретах он смотрит всегда прямо на зрителя,глаза в глаза. В его взгляде прочитывается мудрость и печаль. Возможно, его тревога связана с будущим человечества и Польши
А, возможно, - с судьбой близких и любимых людей ?
Серия сообщений "Живопись Польши":
Часть 1 - Ян Матейко - исторический живописец. ч. 1
Часть 2 - Любовь и вера Яна Матейко. ч.2
Часть 3 - Максимилиан и Александр Герымские - художники-братья
Часть 4 - Мауриций Готтлиб
Часть 5 - Эдвард Окунь (1872-1945)
|
|
Ян Матейко - исторический живописец. ч. 1 |

Автопортрет
Самый знаменитый польский исторический художник родился в 1838 году в семье чеха Франциска Метейко и жительницы Кракова немецкого происхождения.Был девятым ребёнком в семье, в которой всего было одиннадцать детей. В детстве пережил обстрел Кракова австрийской армией (1848). Отец Матейко был органистом и учителем музыки, а сын практически с самого детства проявлял огромный художественный талант и большой интерес к живописи. Он рисовал, где только мог и на чём только мог, зачастую забывая об учёбе. Наконец, в 1852 году, вопреки протестам отца, поступил в Краковскую Школу Изящных Искусств, где учился у самого Войцеха Корнеля Статтлера, в Академии художеств в Мюнхене (1859) и Вене (1860).

Академия искусств в Кракове
Он мечтал посвятить себя исключительно религиозной живописи.

Христос

Кирилл и Мефодий
Но одновременно с увлечением живописью в молодом Яне созревала всеохватывающая любовь и даже страсть к изучению польской истории. В 1862 году Матейко создал первое из своих знаменитых полотен — «Станчика».

Станчик
Серия сообщений "Живопись Польши":
Часть 1 - Ян Матейко - исторический живописец. ч. 1
Часть 2 - Любовь и вера Яна Матейко. ч.2
Часть 3 - Максимилиан и Александр Герымские - художники-братья
Часть 4 - Мауриций Готтлиб
Часть 5 - Эдвард Окунь (1872-1945)
|
|
Иван Фирсов (1733 - после 1785) |

Юный живописец (1760-е годы)
Картина Ивана Фирсова «Юный живописец» принадлежит к числу самых ранних, но уже совершенных образцов русского бытового жанра.
Сюжет этой картины незамысловат. В просторной, залитой ровным светом мастерской сидит перед мольбертом мальчик-художник и с увлечением пишет портрет девочки. Взрослая женщина, мать или старшая сестра, уговаривает маленькую натурщицу сидеть спокойно и сохранять позу. У ног художника стоит раскрытый ящик с красками, на столе — обычный реквизит живописной мастерской: мраморный бюст, несколько книг, манекен из папье-маше, изображающий человеческую фигуру.
Сценка, написанная Фирсовым, кажется выхваченной из жизни. Художник искусно передает непринужденную естественность поз и движений.
С меткой наблюдательностью, свойственной подлинному реалисту, изображены спокойная и ласковая строгость матери, лукавство и нетерпение маленькой натурщицы, самозабвенное увлечение юного живописца. Правдивая верность характеров и создает то чувство поэтического очарования, которым проникнута вся картина.
По уровню художественного мастерства картина Фирсова принадлежит к числу самых совершенных произведений русской живописи XVIII века. Вполне очевидно, что Фирсов — первоклассный художник, безупречно владеющий средствами живописного выражения. Его рисунок отличается свободой и точностью; пространство, в котором развертывается сцена, построено с безукоризненным умением, в композиции не чувствуется никакой нарочитой схемы, она естественна и вместе с тем ритмична. Особенной поэтической выразительностью наделен колорит картины, с его розово-серой, серебристой гаммой, так хорошо передающей душевную атмосферу героев Фирсова.
По своему содержанию, замыслу и изобразительной форме «Юный живописец» не встречает аналогий в русском искусстве XVIII столетия.
Развитие жанровой живописи в XVIII веке шло замедленным темпом. Она почти не имела спроса среди заказчиков и не пользовалась покровительством Академии художеств. Среди русских художников были специалисты по портрету, по исторической живописи, были декораторы и к концу столетия появились пейзажисты, но не было ни одного мастера, который целиком посвятил бы себя бытовому жанру.
Такое положение вещей сложилось, разумеется, отнюдь не случайно. Пренебрежение к бытовой тематике характерно для придворной и дворянской культуры. Известно, что Людовик XIV распорядился снять со стен Версальского дворца картины великих голландских жанристов, назвав их «уродцами». Успехи бытового жанра в мировом искусстве XVIII века непосредственно связаны с развитием буржуазной идеологии и подъемом общественной и политической роли третьего сословия. В русской действительности елизаветинского и екатерининского времени не было условий для расцвета жанровой живописи, поскольку руководство культурной жизнью страны полностью оставалось в руках дворянства. Бытовая тематика, обращенная к живой современности, противоречила официальным художественным установкам с их требованием «возвышенного» и «героического» в искусстве. К «высокому» искусству не причислялся даже портрет, столь необходимый в дворянском быту и развивавшийся вопреки официальному непризнанию. А бытовая живопись занимала самое последнее, низшее место в иерархии жанров, разработанной академическими теоретиками.
Этим объясняется крайняя малочисленность бытовых картин в русском искусстве XVIII века. Примечательно, однако, что количественный недостаток в полной мере возмещается необыкновенно высоким художественным качеством того, что было сделано русскими мастерами в области жанра. В чем разгадка этого удивительного явления? Не в том ли, что произведения на презираемые дворянским обществом бытовые темы создавались художниками «для себя», со всей искренностью, возникающей из внутренней потребности творчества, без оглядок на вкусы заказчика и официальные требования Академии?
В коротенький список русских художников XVIII века, работавших в области бытового жанра, входят, кроме Фирсова, портретист М. Шибанов с картинами «Крестьянский обед» и «Празднество свадебного договора» и исторический живописец И. Ерменев, автор удивительной по силе акварельной серии, посвященной изображению русских крестьян.
Фирсов со своим «Юным живописцем» занимает хронологически первое место в этом списке. О судьбе и дальнейшем творчестве художника до нас не дошло почти никаких сведений. Имя этого мастера появилось в истории русского искусства и заняло в ней почетное место, в сущности, совсем недавно.
В XIX веке «Юный живописец» числился работой А. Лосенко и даже имел его поддельную подпись «А. Losenko 1756». Правда, уже в начале XX века специалистам-искусствоведам было вполне ясно, что картина не имеет ничего общего с творчеством Лосенко. Но ее авторство оставалось гадательным. Высказывались разнообразные предположения, клонившиеся к тому, что автора этой картины следует искать среди западноевропейских мастеров. Было даже названо имя известного немецкого гравера и живописца Д. Ходовецкого. Но в 1913 году по инициативе И. Грабаря подпись Лосенко была удалена и под ней обнаружилась - подлинная, написанная по-французски «I. Firsove».
Архивные документы свидетельствуют, что русский художник Иван Фирсов, декоратор императорских театров, жил и работал в Париже в середине 1760-х годов. Можно предполагать, что и «Юный живописец» был написан в Париже: на это указывает, в частности, нерусский облик персонажей картины.
Сохранилась еще одна работа, подписанная Иваном Фирсовым, — декоративное панно «Цветы и фрукты», датированное 1754 годом и некогда украшавшее Екатерининский дворец. Но в этой работе, грубоватой и ученической, трудно найти сходство с виртуозной живописью «Юного живописца». Известно также, что в 1771 году Фирсов исполнил ряд икон и декоративных росписей, которые до нас не дошли. «Юный живописец» остается одиноким в творчестве замечательного русского мастера. По-видимому, Фирсов был наиболее одарен как раз в той области искусства, которая так мало могла найти применения в русской действительности второй половины XVIII века.
Серия сообщений "История одной картины":
Часть 1 - В.Маковский "На бульваре" История одной картины.
Часть 2 - Рафаэль Санти. Портрет Бальдассаре Кастильоне
...
Часть 19 - Антон Павлович Лосенко (1737 - 1773)
Часть 20 - Федор Степанович Рокотов (1732-35? - 1808)
Часть 21 - Иван Фирсов (1733 - после 1785)
Часть 22 - Рембрандт.Даная. История шедевра.
Часть 23 - Нетипичная картина Серова
Часть 24 - Питер Пауль Рубенс. Портрет камеристки
|
Метки: жанровая живопись |
Федор Степанович Рокотов (1732-35? - 1808) |

Портрет В. И. Майкова (Около 1765)
Федор Степанович Рокотов принадлежит к числу крупнейших мастеров портретной живописи XVIII столетия. Его творчество свидетельствует о небывалом подъеме национальной художественной культуры. Можно утверждать, что в лице Рокотова новое русское искусство выдвинуло своего первого великого художника. По силе дарования и уровню мастерства Рокотов не уступает никому из самых прославленных западноевропейских портретистов XVIII века. Его имя достойно стоять в истории мирового искусства рядом с именами Гейнсборо, Гисланди и Латура. И при всем том историческая критика не может указать предшественников Рокотова, не может найти прямых аналогий его творчеству ни в современной ему России, ни в странах Запада. Искусство Рокотова отмечено чертами острой и неповторимой оригинальности.
Поразительная самобытность Рокотова является своего рода загадкой, перед которой с удивлением останавливается искусствоведческая наука. Как сформировался этот замечательный мастер? На почве каких традиций сложилось и выросло его дарование? На эти вопросы мы поныне еще не можем дать исчерпывающего и ясного ответа. Вполне очевидным является лишь одно: в совершенстве овладев основами европейской живописной культуры, Рокотов не только не стал подражателем, но сумел сохранить и развить в своем творчестве своеобразные национальные черты. По внутренней проблематике живопись Рокотова перекликается с древнерусским искусством; среди художников XVIII века один только Рокотов по-настоящему приблизился к глубоким истокам национальной художественной традиции.
Жизнь Рокотова также остается загадкой для науки. Его биография складывается из отрывочных, случайно сохранившихся сведений. В недавнее время был найден архивный документ, устанавливающий, что Рокотов происходил из крепостных крестьян, принадлежавших князьям Репниным, и еще в детстве получил свободу. Мы не знаем, у кого он учился живописи. В пору юности Рокотова Россия еще не имела настоящей художественной школы. Можно лишь предположить, что молодой живописец овладел профессиональным мастерством, изучая и, быть может, копируя произведения русских мастеров и заезжих иностранных знаменитостей. Уже в ученические годы Рокотов добился успеха и общественного признания. Только что организованная Академия художеств произвела его в адъюнкты, а позднее — в академики «за оказанный опыт в живописном портретном искусстве». Однако при введении нового академического устава (1765) Рокотов остался «за штатом» и навсегда переехал из Петербурга в Москву, где и умер в декабре 1808 года.
Творчество Рокотова известно нам лучше, чем его биография. Благодаря усилиям исследователей и музейных работников разыскано и собрано несколько десятков полотен, несомненно написанных Рокотовым, и сейчас наследие замечательного мастера убедительно обрисовывает его историческое место и его выдающуюся роль в развитии русского портретного искусства.
Портрет В. И. Майкова, написанный Рокотовым около 1765 года, по уровню мастерства, по глубине раскрытия внутренней сущности образа, по объективности и психологической проникновенности является одним из самых совершенных созданий художника.
Поэт Василий Иванович Майков (1728—1778) не случайно привлек к себе внимание великого портретиста.
В русской культуре второй половины XVIII века Майкову принадлежит заметное и своеобразное место.
Видный масон, близкий к либеральным московским кругам, связанный дружбой со знаменитым русским просветителем Н. И. Новиковым, Майков был вместе с тем крупным чиновником; он занимал посты товарища московского губернатора и, позднее, прокурора военной коллегии. Либеральные и мистические увлечения легко уживались в нем с реакционной и подчас крутой административной деятельностью. Не получив почти никакого образования, самоучкой добившись некоторой культуры, он проявил незаурядный поэтический талант и стал одним из выдающихся представителей группы московских литераторов, возглавленной Сумароковым. В творчестве Майкова, разнообразном и непоследовательном, высокопарные оды совмещаются с грубоватыми «простонародными» баснями, проникнутые мистическим чувством «духовные стихотворения» с полной задорного, подчас соленого юмора «ирои-комической» поэмой «Елисей, или Раздраженный Вакх». Современники отзывались о Майкове, как о человеке властном, своенравном и жестоком, но замечательном по уму и дарованиям.
Сложность этого характера, не лишенного своеобразной внутренней силы, должна была заинтересовать психолога Рокотова.
Майков изображен в спокойной, естественной позе. Его скромный темно-зеленый кафтан не украшают ни ленты, ни ордена. Художник уже полностью преодолел здесь условную систему приемов репрезентативного парадного портрета, где главную роль играют заученная торжественность движений и осанки, а также многочисленные «околичности», рассказывающие о внешней стороне жизни изображаемого человека. Рокотов проявил виртуозное мастерство в передаче тканей немногими легкими, как бы бегущими мазками, изобразив прозрачность кружевного жабо, мерцание золотого шитья на красном воротнике кафтана. Уверенным и точным композиционным приемом выделено лицо портретируемого, залитое мягким светом, выступающее на затененном фоне. Но живописное совершенство портрета не являлось для художника самоцелью, декоративное решение подчинено психологическому замыслу.
Все внимание Рокотова устремлено на внутреннюю характеристику образа. Метко схвачено движение головы, слегка закинутой назад, с выражением высокомерной и надменной презрительности. Полные, чуть улыбающиеся губы и не по возрасту обрюзгшие щеки (в момент исполнения портрета Майкову было около 37 лет) придают модели типичный облик русского барина, циничного и чувственного сибарита. Но высокий, открытый лоб и пристальный, несколько насмешливый взор, в котором светятся острый ум и твердая воля, свидетельствуют о подлинной внутренней силе и значительности, присущей этому талантливому человеку.
Характеристика, созданная Рокотовым, охватывает всю сложную совокупность черт, раскрывающих образ Майкова. Художник становится здесь объективным, проницательным и острым наблюдателем и, ничего не затушевывая, ничего не подчеркивая, показывает человека таким, каков тот был в реальной жизни. В портрете Майкова нет ни идеализации, ни сатиры. Тонко подмеченные индивидуальные особенности не заслоняют типического в образе. Эта сила объективного, правдивого воссоздания действительности ставит портрет Майкова на особое место даже в ряду других шедевров Рокотова. В его более поздних произведениях выступают другие качества. В портрете Майкова нет того проникновенного и вдохновенного лиризма, каким овеяны женские образы, созданные Рокотовым. Но в поздних работах художника лирическое истолкование образа зачастую приводит к утрате психологических и, в конечном счете, познавательных качеств портрета.
Историческое значение портрета Майкова определяется тем, что в этом мастерском произведении с наибольшей силой проявились реалистические тенденции творчества Рокотова.
Серия сообщений "История одной картины":
Часть 1 - В.Маковский "На бульваре" История одной картины.
Часть 2 - Рафаэль Санти. Портрет Бальдассаре Кастильоне
...
Часть 18 - Михаил Шибанов
Часть 19 - Антон Павлович Лосенко (1737 - 1773)
Часть 20 - Федор Степанович Рокотов (1732-35? - 1808)
Часть 21 - Иван Фирсов (1733 - после 1785)
Часть 22 - Рембрандт.Даная. История шедевра.
Часть 23 - Нетипичная картина Серова
Часть 24 - Питер Пауль Рубенс. Портрет камеристки
|
Метки: психологический портрет |
Антон Павлович Лосенко (1737 - 1773) |

Прощание Гектора с Андромахой (1773)
Антона Павловича Лосенко называют основоположником русской исторической живописи.
Это не вполне точно — первые русские картины на темы истории появились задолго до Лосенко. По-видимому, около 1730 года возникла «Куликовская битва», приписываемая с большой долей вероятности И. Никитину. В 1761—1764 годах М. В. Ломоносов с группой учеников работал над мозаичной картиной «Полтавская баталия», в которой, почти за сто лет до А. А. Иванова и К. П. Брюллова, был сделан опыт реалистического воссоздания прошлого.
Но картина Никитина стоит одиноко в русском искусстве первой половины XVIII века. Ни сам Никитин, ни его ближайшие преемники не продолжали работать над исторической темой. А замечательная мозаика Ломоносова, не понятая и не оцененная современниками, была в буквальном смысле слова похищена у истории русского искусства. В течение почти полутора столетий она оставалась никому не известной и не оказала поэтому никакого влияния на развитие исторической живописи в России.
Роль основоположника, таким образом, действительно должна быть признана за Лосенко. С него начинается стойкая и непрерывная традиция «исторического жанра», которая сразу закрепилась в системе академического искусства и на долгие годы предопределила пути развития русской исторической живописи.
У истоков этой традиции стоят две последние картины Лосенко — «Владимир и Рогнеда» (1770) и «Прощание Гектора с Андромахой» (1773).
Идейный замысел обеих картин сложился на почве тех общественно-политических и моральных 'представлений, которые развились в русской культуре 1750—1770-х годов под влиянием идей просветительской философии и с наибольшей яркостью воплотились в поэзии и драматургии А. Сумарокова и литераторов его круга.
Идеи патриотизма и гражданственности, долга перед родиной, служения государству, самопожертвования ради общественного блага составляют основное содержание передовой русской литературы этого времени. Сумароков призывает поэтов «проповедовать добродетель» и учить «подражанию великих дел». Четко сформулированы им задачи исторической живописи: «Первая должность упражняющихся в сих хитростях есть изображение истории своего отечества и лиц великих в оном людей. Таковые виды умножают геройский огонь и любовь к отечеству».
Сюжет картины, повествующей о насильственном браке Владимира и Рогнеды, непосредственно откликается на поставленную в пьесах Сумарокова проблему деспотии и ее губительных последствий. Но первый опыт решения исторической темы оказался не вполне удачным. Картина «Владимир и Рогнеда» по силе образов и выразительности характеров несомненно уступает исторической драматургии своего времени.
Гораздо более значительной и художественно совершенной является последняя картина Лосенко, написанная в год смерти художника и оставшаяся несколько незаконченной,— «Прощание Гектора с Андромахой».
Сюжет ее взят из VI книги «Илиады». Гектор, вождь и защитник осажденного ахейцами города Трои, отправляется на битву и прощается с женой и маленьким сыном.
...Гектор стремительно из дому вышел...
Он приближался уже, протекая обширную Трою,
К Скейским воротам (чрез них был выход из города в поле);
Там Андромаха супруга, бегущая, в встречу предстала...
Там предстала супруга, за нею одна из прислужниц
Сына у персей держала, бессловного вовсе, младенца,
Плод их единый, прелестный, подобный звезде лучезарной.
Тихо отец улыбнулся, безмолвно взирая на сына.
Подле него Андромаха стояла, лиющая слезы;
Руку пожала ему и такие слова говорила:
«Муж удивительный, губит тебя твоя храбрость! Ни сына
Ты не жалеешь, младенца, ни бедной матери; скоро
Буду вдовой я, несчастная? скоро тебя аргивяне,
Вместе напавши, убьют! а тобою покинутой, Гектор,
Лучше мне в землю сойти: никакой мне не будет отрады,
Если, постигнутый роком, меня ты оставишь». . .
Ей отвечал знаменитый, шеломом сверкающий Гектор:
«Все и меня то, супруга, не меньше тревожит; но страшный
Стыд мне пред каждым троянцем и длиноодеждной троянкой.
Если, как робкий, останусь я здесь, удаляясь от боя.
Сердце мне то запретит; научился быть я бесстрашным,
Храбро всегда, меж троянами первыми, биться на битвах.
Доброй славы отцу и себе самому добывая!
Но, да погибну и буду засыпан я перстью земною
Прежде, чем плен твой увижу и жалобный вопль твой услышу!»
Цитата намеренно приведена в отрывках — Лосенко не иллюстрировал Гомера, а лишь воспользовался отдельными мотивами великой поэмы, вложив в них совсем не то содержание, которое раскрывается в древнегреческом эпосе.
В основе замысла Лосенко лежит идея долга перед родиной и героического самопожертвования во имя отечества. Этой идее подчинено все решение картины. Поэтому многое, существенное для «Илиады», попросту не заинтересовало художника. Все интимное, личное, глубоко человечное, что характеризует гомеровских героев, — вроде, например, знаменитой сцены между Гектором и его маленьким сыном Астианаксом,— не нашло себе места в картине. В сравнении с героями «Илиады» образы, созданные Лосенко, кажутся более отвлеченными и возвышенными, они утрачивают свою жизненность и многогранность и становятся выразителями одной идеи, одного чувства.
В композиционном решении картины явственно сказывается влияние театра. Городской архитектурный пейзаж, на фоне которого развертывается действие, построен подобно кулисам, четко ограничивающим сцену. На заднем плане ее замыкает полукруглое здание с колоннами; за ним видны круглые башни наружной городской стены. Та же форма полукруга повторена в размещении второстепенных фигур, обступивших главных героев.
Обе основные фигуры — Гектор и Андромаха — выдвинуты вперед и помещены в самом центре композиции; они выступают перед зрителями, как на сценических подмостках. Слева расположена группа воинов со знаменем, справа оруженосцы держат шлем, копье и щит Гектора. Но второстепенные фигуры не принимают никакого участия в действии. Им даны роли немых статистов. Не видно даже, сочувствуют ли они трагической сцене, происходящей у них на глазах. Воины в картине Лосенко составляют «толпу», безличную и пассивную, которой противопоставлены «герои».
Только служанка, кормилица маленького Астианакса, плачет, утирая глаза платком.
Разделение действующих лиц на «толпу» и «героев» представляет собою характерную особенность исторической живописи, сложившейся в Академии художеств. Здесь отчетливо выражены официальные представления об истории, как о деяниях царей и героев, деяниях, в которых народная масса, «толпа», не может и не должна принимать никакого участия. Этим и объясняется безразличие художника к характеристике воинов. Их роль сводится только к тому, чтобы составить фон для главных действующих лиц. Лосенко не дал воинам, в сущности, никакой характеристики: перед нами выступают бородатые академические натурщики с типично русскими лицами, облаченные в античные доспехи. Все внимание художника сосредоточено на образах Андромахи и Гектора.
Идею картины воплощают только главные персонажи. Влияние классического театра сказывается в решении основных образов не менее явственно, чем в композиции. Лосенко не стремится дать своим героям углубленную психологическую характеристику; носителями экспрессии являются только поза и жест. Гектор, как декламирующий актер, в патетической позе, с простертой рукой, подняв глаза к небу, клянется отдать жизнь за свободу Трои. Но, при всей своей искусственности и нарочитости, образ Гектора обладает подлинной силой художественного выражения. Он убедителен, потому что в своей условности он последователен и целен. Трагическим пафосом отмечены не только поза и жест героя, но и весь его облик, благородный и мужественный, в котором воплощен классический идеал мужской красоты. Глубоким внутренним достоинством характеризуется и образ Андромахи. Она не жалуется и не проливает слез, как у Гомера. Кажется, что она захвачена тем же патриотическим чувством, которое одушевляет Гектора. Андромаха в картине Лосенко не удерживает мужа, а вдохновляет его на подвиг.
Действие развернуто на городской площади, «у Скейских ворот, перед выходом в поле», но Лосенко только в этом и следует указаниям «Илиады». И если в образной структуре картины, в ее содержании и характеристике действующих лиц художник далеко отошел от своего первоисточника, то в отдельных частностях, во внешних и бытовых деталях он стоит еще дальше от гомеровских описаний.
Характерно, что в картине Лосенко Гектор, как европейский монарх, окружен оруженосцами и пажами, о которых нет и речи в поэме. Историзм картины условен и фантастичен. Лосенко и не пытался передать исторический колорит «Илиады». Правда, археология XVIII века не располагала никакими данными о гомеровских временах. Но формы архитектуры, характер одежд и вооружения в картине Лосенко воспроизводят даже не древнегреческие, а случайные, большей частью позднеримские образцы и изобилуют самыми неожиданными анахронизмами. Вполне очевидно, что вопрос об археологической достоверности изображения вовсе не занимал художника.
Все это объясняется, однако, не только недостатком фактических знаний о прошлом и даже не тем, что люди XVIII века видели в «Илиаде» лишь поэтическую легенду, за которой нет никакой исторической реальности. Та же характерная неисторичность выступает и во «Владимире и Рогнеде». Решающую роль играла принципиальная установка, исключающая подлинный историзм. Живописцы XVIII века не искали исторической правды, потому что их целью было не воссоздание прошлого, а лишь воплощение той или иной отвлеченной идеи. История становилась как бы средством иносказания.
Картина Лосенко, с ее высокой патриотической настроенностью и пафосом гражданственности, представляет собою прямой отклик на вопросы, поставленные передовой общественной мыслью 1750—1770-х годов.
Но этим не исчерпывается значение картины «Прощание Гектора с Андромахой».
Именно в этом полотне с наибольшей отчетливостью оформились те художественные принципы, которые в дальнейшем легли в основу всей исторической живописи в Академии художеств XVIII—первой трети XIX века. Непосредственное влияние творческой системы Лосенко продолжало сказываться до тех пор, пока, уже в тридцатых и сороковых годах XIX века, Карл Брюллов и Александр Иванов не вывели историческую живопись на новые пути.
Серия сообщений "История одной картины":
Часть 1 - В.Маковский "На бульваре" История одной картины.
Часть 2 - Рафаэль Санти. Портрет Бальдассаре Кастильоне
...
Часть 17 - Дмитрий Григорьевич Левицкий (1735 - 1822)
Часть 18 - Михаил Шибанов
Часть 19 - Антон Павлович Лосенко (1737 - 1773)
Часть 20 - Федор Степанович Рокотов (1732-35? - 1808)
Часть 21 - Иван Фирсов (1733 - после 1785)
Часть 22 - Рембрандт.Даная. История шедевра.
Часть 23 - Нетипичная картина Серова
Часть 24 - Питер Пауль Рубенс. Портрет камеристки
|
Метки: историческая живопись |
Процитировано 1 раз
Понравилось: 1 пользователю
Михаил Шибанов |

Празднество свадебного договора (1777)
Крепостной художник Михаил Шибанов принадлежит к числу самых своеобразных и вместе с тем загадочных фигур в русском искусстве XVIII века.
О жизни русских художников этого времени, даже самых прославленных, мы знаем вообще очень мало, но о Шибанове известно еще меньше, чем о ком-либо из современных ему мастеров. Архивные документы не дают о нем почти никаких сведений, а мемуаристы не удостаивают крепостного живописца хотя бы беглым упоминанием. Неизвестны даже даты его рождения и смерти. Мы не знаем, как сложилась его судьба, как он стал художником, где и у кого учился. Количество его работ, сохранившихся до нашего времени, слишком недостаточно для того, чтобы ясно представить себе развитие его творчества. Если бы он не подписывал своих произведений, самое имя Шибанова вряд ли стало бы известно потомству. А между тем с этим именем связаны выдающиеся по своим художественным достоинствам вещи — несколько прекрасных портретов и две картины, принадлежащие к лучшему среди того, что создало русское искусство в XVIII веке.
Из биографии Шибанова мы знаем только то, что его господином был знаменитый екатерининский вельможа Потемкин. По-видимому, это обстоятельство облегчило художнику доступ к знатным заказчикам, среди которых была сама императрица. Шибанов сопровождал ее во время путешествия в Новороссию и написал ее портрет в Киеве в 1787 году. В том же году был написан портрет генерала А. Дмитриева-Мамонова, одно из прекраснейших произведений портретной живописи XVIII века, «портрет, достойный европейской славы», как отзывались о нем позднейшие критики.
Портрет Екатерины, написанный Шибановым, пользовался большим успехом еще в XVIII веке; по приказанию императрицы он был воспроизведен в гравюре Дж. Уокером, и несколько миниатюрных копий с него исполнил придворный миниатюрист Жарков. Но к самому Шибанову Екатерина проявила глубокое пренебрежение. Крепостной живописец казался ей недостойным даже простого упоминания, и в письме к Гримму она пишет об этом портрете, как о произведении Жаркова.
В портретных работах 1787 года Шибанов выступает уже как вполне сложившийся и зрелый художник, занимающий самостоятельное место в искусстве своего времени.
Значительно менее мастерскими являются портреты, написанные Шибановым ранее, еще в 1770-х годах. Здесь он делает лишь первые шаги к овладению портретным искусством, и можно было бы думать, что эти портреты относятся к периоду его ученичества, если бы теми же годами не были датированы обе его замечательные картины — «Крестьянский обед» (1774) и «Празднество свадебного договора» (1777). Высокие живописные качества этих картин ставят их в один ряд с наиболее выдающимися произведениями русского искусства XVIII века, а продуманность и оригинальность их замысла, меткая наблюдательность, острый психологизм и совершенное умение справиться со сложной многофигурной композицией свидетельствуют о большом художественном опыте и творческой зрелости мастера.
Тематика этих картин совершенно необычна для живописи XVIII века: обе они изображают бытовые сцены из крестьянской жизни.
В эстетике того времени бытовому жанру отводилось самое низшее, подчиненное место. Изображение современной действительности не признавалось задачей, достойной кисти художника. Народные образы были, в сущности, изгнаны из сферы официального искусства. Правда, в Академии художеств в 1770—1780-х годах существовал так называемый класс домашних упражнений, где изучали бытовую живопись. Но сцены из «грубой» жизни простого народа, разумеется, не допускались и там.
Шибанов первым среди русских художников обратился к народным образам и темам, взятым из крестьянской жизни.
То, что было сделано в этой области до Шибанова, едва заслуживает упоминания. Русских крестьян изображали заезжие художники-иностранцы— француз Лепренс, в 1758—1762 годах сделавший ряд рисунков (повторенных впоследствии в гравюре) на русские бытовые темы, и датчанин Эриксен, автор группового крестьянского портрета. Лепренс воспринял русскую жизнь как «восточную экзотику», непонятную и неправдоподобную, а натуралистическая картина Эриксена не имеет ни познавательного, ни художественного значения. Иноземцы, не знакомые с русской жизнью, не могли, конечно, заложить основы прочной традиции. Если Шибанов и знал их работы, то, во всяком случае, имел право с ними не считаться.
Единственным его предшественником был А. Лосенко, использовавший крестьянский типаж в исторической картине «Владимир и Рогнеда». Бородатые воины в шлемах, изображенные Лосенко, производят впечатление написанных с натуры русских крестьян. Но, вводя в свою картину народные образы, художник-академик был вынужден прибегнуть к «исторической» мотивировке. А Шибанов, не связанный нормами академической эстетики, непосредственно воспроизвел в своих картинах живые сцены современной народной жизни.
«Крестьянский обед» представляет собою внимательный и точный этюд с натуры, в котором правдиво и метко переданы характерные типы крестьян. Художник стремился здесь прежде всего к живой естественности изображения.
«Празднество свадебного договора» гораздо сложнее и значительнее. Здесь перед нами уже не натурный этюд, а законченная картина с хорошо найденным типажем, с обстоятельно продуманной многофигурной композицией, картина, в которой сознательно поставлены и удачно .решены нравоописательные и психологические задачи.
На обратной стороне картины сохранилась авторская надпись, поясняющая выбранный Шибановым сюжет:
«Картина представляющая суздальской провынцы крестьянъ. празднество свадебнаго договору, писалъ в тойже провшцы вселв татарове в. 1777. году. Михаилъ Шибанов».
О сущности этого празднества мы узнаем из старинных описаний русского крестьянского быта: «Сговор состоит в обменивании колеи, и в небольших подарках. Жених приезжает смотреть невесту. Сговор сей бывает свят и нерушим».
Этот торжественный момент в жизни крестьянской семьи и показан в картине Шибанова. Действие происходит в избе, принадлежащей родителям невесты. В самом центре композиции помещена невеста, одетая в богатый национальный наряд. На ней застегнутая доверху полотняная рубашка, парчовый белый сарафан, вышитый цветами, и поверх него парчовая золотая с красным шитьем душегрея. На голове—девичий убор, состоящий из золотой расшитой повязки, и фата. Шея украшена жемчугом, на грудь спускается ожерелье из крупных каменьев, в ушах серьги. Рядом с невестой — жених в нарядном голубом кафтане, из-под которого видны зеленоватое полукафтанье и розовая вышитая рубаха.
Справа, позади невесты, теснятся приглашенные. Они тоже богато одеты: женщины в сарафанах и кокошниках, мужчины в длинных суконных зипунах. Шибанов проявил большое композиционное умение, ритмически расположив фигуры участников празднества и объединив их общим движением. Группа приглашенных замыкается фигурой молодого мужчины, широким жестом указывающего на жениха и невесту. Строгое ритмическое построение ни в какой мере не исключает ни живой естественности поз, ни их разнообразия.
В левой части картины — стол, покрытый белой скатертью и уставленный всевозможной снедью. За столом — четыре крестьянина, по-видимому, отец невесты и ее старшие братья. Один из них привстал и обращается с речью к жениху и невесте. Фигура этого крестьянина, слегка наклоненная, с протянутой вперед рукой, необходима художнику для того, чтобы связать между собой две разобщенные группы действующих лиц.
Свет в картине ярко выделяет центральную группу (жениха и невесту) и постепенно рассеивается в правой половине композиции; вся левая часть ее затенена, и только на лицах мерцают слабые блики. Этим приемом художник добился того, что внимание зрителей сосредоточивается на основных персонажах.
С уверенным и безупречным мастерством написаны ткани одежд. Их цвет и фактура переданы с такой точностью, которая позволяет распознать даже сорт материи. Этнографическая верность праздничных крестьянских костюмов Суздальской провинции, то есть Подмосковья, подтверждается сохранившимися до наших дней образцами. Но для Шибанова имела значение не только точность, но и художественность изображения. Цветовое разнообразие одежд приведено в картине к тонкой колористической гамме, к декоративному единству, хорошо передающему ощущение праздничности и торжественности совершающегося обряда.
Подчеркнутое внимание к внешней, обстановочной стороне сцены, продиктованное безукоризненным знанием крестьянского быта, отнюдь не отвлекло Шибанова от главной художественной задачи — создания правдивых и жизненных образов.
Реалистическое мастерство Шибанова вдохновлено глубокой и подлинной любовью к народу. Художник любуется своими героями, раскрывая в них типические черты русского характера — мужество и душевное благородство, сознание собственного достоинства, светлый, оптимистический взгляд на жизнь. Характеристики Шибанова выразительны и метки. Особенно привлекателен образ жениха, молодого крестьянского парня, с любовью глядящего на невесту. В его мужественной красоте нет ничего кричащего, вызывающего, весь его облик отмечен проникновенной серьезностью и величавым спокойствием.
С большой тонкостью раскрывается центральная психологическая тема картины — душевные переживания невесты. Лицо ее бледно, поза кажется несвободной и не совсем естественной; но за этой внешней принужденностью чувствуется глубокое внутреннее напряжение, едва сдерживаемое волнение, вполне понятное у крестьянской девушки, вступающей в новую жизнь.
Подлинной поэзией овеяны старческие образы, созданные Шибановым. С большой художественной силой написана величественная голова седого крестьянина, отца невесты. Примечателен по своей выразительности и жизненной правде образ старой крестьянки в правой части композиции. Это, бесспорно, один из самых глубоких и вместе с тем демократических образов в русском искусстве XVIII века. Дарование портретиста-психолога, с такой силой раскрывшееся в позднейшем творчестве Шибанова, отчетливо проявляется уже здесь.
Но, наряду с чертами острого и проникновенного реализма, в «Празднестве свадебного договора», несомненно, присутствуют и черты идеализации крестьянского быта. Они находят свое воплощение в декоративном строе самой композиции, в подчеркивании элементов торжественности и праздничности, пронизывающих всю картину Шибанова.
Довольство и даже зажиточность изображенной им семьи отнюдь не типичны для русской деревни XVIII века. Мы знаем, что положение крепостного крестьянства в екатерининское время было поистине ужасающим. Жизнь крестьянина проходила в нищете, в условиях чудовищного угнетения, и Шибанов, сам крепостной, мог знать об этом лучше, чем кто бы то ни было. А между тем, картина Шибанова может создать совершенно иные, ошибочные представления об условиях жизни изображенной им социальной среды.
Как это могло случиться? Почему художник-реалист, изображая крестьянскую жизнь, не отметил в ней самого главного, определяющего?
Некоторые исследователи выдвигали предположение, что в шибановской картине изображены не крепостные, а так называемые государственные крестьяне, которых было довольно много именно в окрестностях Суздаля. Жизнь их была, конечно, несколько более легкой сравнительно с нищенским существованием крепостных. Но, думается, разгадку этого нужно искать в реальных исторических условиях русской действительности XVIII века.
Картина Шибанова написана всего через три года после трагического окончания грозной крестьянской войны, возглавленной Пугачевым. В памяти русского общества были еще вполне свежи свирепые репрессии и казни, обрушившиеся на всех причастных к крестьянскому движению. В эти годы сказать правду о страшной крепостной действительности — значило бы открыто поставить себя в ряды пугачевцев. Вспомним о жестоких репрессиях, постигших много лет спустя А. Н. Радищева за его правдивую книгу.
После расправы с крестьянским движением правительственные и помещичьи круги желали видеть в искусстве изображения «поселян, благоденствующих под мудрым управлением императрицы». В 1778 году академический художник Тонков написал картину «Сельский праздник», где показано, как знатные господа приехали в раззолоченных каретах полюбоваться на счастливую деревенскую жизнь. В картине Тонкова представлена «счастливая Аркадия», не имеющая ничего общего с реальной действительностью.
Картина Шибанова не принадлежит, конечно, к этому типу фальшивых изображений крестьянской жизни. Она слишком правдива по своим образам, по своему психологическому содержанию. Но полной правды Шибанов не решился сказать, и это, бесспорно, снижает познавательную ценность его работы. Он намеренно выбрал праздничную тему, за которой как бы скрыты противоречия и страшные стороны крестьянского быта.
И все же, несмотря на этот существенный недостаток, историко-художе-ственное значение шибановской картины остается очень большим.
Шибанов выступил как смелый новатор, прокладывающий пути искусства в никем еще не затронутой области. Русский крестьянин стал героем художественного произведения впервые именно в творчестве Шибанова. Лучшие традиции крестьянского бытового жанра, впоследствии широко развитые в русской реалистической живописи XIX века, восходят к «Празднеству свадебного договора» и «Крестьянскому обеду».
Серия сообщений "История одной картины":
Часть 1 - В.Маковский "На бульваре" История одной картины.
Часть 2 - Рафаэль Санти. Портрет Бальдассаре Кастильоне
...
Часть 16 - Иван Никитич Никитин (около 1788- 1841?)
Часть 17 - Дмитрий Григорьевич Левицкий (1735 - 1822)
Часть 18 - Михаил Шибанов
Часть 19 - Антон Павлович Лосенко (1737 - 1773)
Часть 20 - Федор Степанович Рокотов (1732-35? - 1808)
...
Часть 22 - Рембрандт.Даная. История шедевра.
Часть 23 - Нетипичная картина Серова
Часть 24 - Питер Пауль Рубенс. Портрет камеристки
|
Метки: бытовая живопись |
Дмитрий Григорьевич Левицкий (1735 - 1822) |

Портрет Е. Н. Хрущевой и княжны
Е. Н. Хованской
(Смолянки) (1773-1776)
К Левицкому можно применить слова, которыми великий русский критик-демократ В. Белинский некогда охарактеризовал Г. Державина: «Ум его — ум русский, положительный, чуждый мистицизма и таинственности. Его стихией и торжеством была природа внешняя, а господствующим чувством — патриотизм».
Сопоставление с Державиным не случайно возникает при знакомстве с творчеством Левицкого. Об их взаимном влиянии свидетельствует ряд несомненных фактов. Известно, в частности, что образ Фелицы в державинской оде «Видение мурзы» навеян портретом Екатерины II, написанным Левицким. Творческая близость замечательного живописца и великого поэта обусловлена не только сходством в их мировоззрении и восприятии жизни, не только совпадающими особенностями их художнического темперамента, но и некоторыми более общими причинами. Общественное содержание их творчества вырастает на почве политических и моральных идей Просвещения, развитие которых неотделимо от роста национального самосознания и патриотического чувства, характеризующего основные явления передовой русской культуры 1770—1780-х годов.
Державин и Левицкий возглавили процесс своеобразной демократизации искусства, захватывающий последнюю четверть XVIII века. В патетически возвышенный образный строй оды Державин ввел мотивы, взятые из реальной обыденной действительности. Левицкий сделал то же самое по отношению к жанру парадного портрета, в котором, наряду с традиционной торжественностью и репрезентативностью, появились черты естественности и жизненной правды. В поэзии Державина и в живописи Левицкого с наибольшей яркостью раскрылись реалистические тенденции русского искусства XVIII века.
В 1770 году на выставке в Академии художеств было представлено пять портретов, написанных малоизвестным до того времени Левицким. В них уже в полной мере проявился огромный талант молодого художника. Он выступает здесь как вполне сложившийся, зрелый и оригинальный живописец, несравненный колорист, безукоризненный рисовальщик, изобретательный мастер композиции, одаренный замечательным декоративным чутьем. В этих ранних работах со всей очевидностью обнаруживаются реалистическая направленность дарования Левицкого, стремление к объективной и правдивой характеристике, способность глубоко проникать во внутренний мир изображаемого человека и вместе с индивидуальными выделять социальные и типические черты образа.
Выставка 1770 года принесла Левицкому не только широкое общественное признание, но и огромное количество заказов, придворных и частных. Ранние работы как бы закладывают основу грандиозной портретной галереи, созданной Левицким в 1770—1780-х годах. Именно в эти годы его дарование достигло наибольшего расцвета. Среди написанных им портретов нет ни слабых, ни посредственных, и над необычайно высоким общим уровнем его творчества поднимаются отдельные шедевры. К их числу принадлежат портреты «смолянок», воспитанниц Смольного института.
Смольным институтом называлось закрытое учебное заведение для «благородных (то есть дворянских) девиц», основанное Екатериной II в 1764 году. В ряду многочисленных педагогических учреждений, в которых Екатерина хотела «воспитывать добродетель» и «образовать новую породу людей», Смольному институту принадлежит особое и своеобразное место. Его воспитанницы должны были стать впоследствии «отрадою семейств своих» и смягчать в обществе «жестокие и неистовые нравы». Но главным педагогическим средством была признана полная изоляция воспитанниц от реальной жизни, создание искусственной, тепличной атмосферы, ничем не напоминающей им об их будущих обязанностях. Хотя и считалось, что девиц надлежит воспитывать в духе гуманности, «развивая ум их и сердце», но в действительности их обучали главным образом светскому обращению, танцам, пению и музыке. Силами воспитанниц в институте постоянно устраивались концерты и спектакли; он превратился в своеобразный придаток двора и стал местом отдыха и развлечений императрицы. Этим и объясняется подчеркнутое внимание к смолянкам со стороны придворного общества и официальной печати.
В 1773 году «Санкт-Петербургские ведомости» отмечали «важное событие» — «первый выход на гулянье в Летнем саду благородных воспитанниц Смольного института». По случаю этого гулянья, а также первых институтских спектаклей, Екатерина заказала Левицкому портреты смолянок; их надлежало изобразить в театральных костюмах, соответствующих игранным ими ролям.
Серия, написанная Левицким в 1773—1776 годах, состоит из семи больших портретов в размере натуры. Институтки изображены во весь рост на фоне условного декоративного пейзажа или пышных занавесей, ниспадающих тяжелыми широкими складками. Этим приемом художник подчеркивает, что предметом изображения является здесь не реальная жизнь, а театр. В композиции всех портретов намеренно выбран несколько пониженный горизонт — художник показывает своих героинь с той же точки, с какой зритель из партера смотрит на сцену. Своеобразие замысла заключается прежде всего в том, что перед нами не портреты в обычном смысле этого слова, а портреты-картины, в которых раскрывается то или иное действие. Героини Левицкого танцуют, играют на арфе, исполняют театральные роли. Другой особенностью замысла является то, что портреты составляют цельный и замкнутый цикл, объединенный не только внешне, при помощи декоративных приемов, но и обладающий внутренним единством, общей душевной настроенностью. Все портреты варьируют, в сущности, одну и ту же тему цветущей, жизнерадостной юности, во всех портретах с одинаковой силой утверждается светлое, оптимистическое жизнеощущение художника, отмеченное подлинным гуманизмом.
Левицкий изобразил совсем юных девушек, почти детей, с несложным внутренним миром, еще не видевших жизни и к тому же выросших в условиях институтского воспитания. В этих портретах он, разумеется, не имел повода к тому, чтобы проявить свой талант психолога. Как у Державина, его стихией стала здесь не внутренняя жизнь изображенных людей, а «природа внешняя» — поэтичный девический мир, тонко и проницательно понятый и воплощенный в образах, полных живого обаяния.
Левицкий сумел убедительно и остро передать атмосферу манерности и кокетливого жеманства, окружавшую воспитанниц Смольного института. По удачному выражению одного критика, в этих портретах выразился «простодушно-хитроватый взгляд здорового и веселого мастера, порядочно-таки издевавшегося в душе над всей этой комедией, но способного в то же время оценить художественную ее прелесть». Но живое реалистическое чувство художника не позволило ему ограничиться одной только показной и парадной стороной изображаемого; в жеманной игре «благородных девиц» он увидел черты искренности и непосредственности.
Манерность его танцовщиц производит впечатление наигранной, напускной; за ней ощущается подлинное увлечение танцующих девушек и их неподдельное детское веселье. Левицкий не льстит своим персонажам, не приукрашивает их некрасивых лиц и даже намеренно подчеркивает угловатую неловкость их движений. В замечательном — быть может, лучшем во всей серии — портрете Хованской и Хрущовой, изображенных в ролях пасторали, с особенной очевидностью выступают характерные черты замысла: зрителю ясно, что перед ним не жеманные актеры XVIII века, а переодетые дети, занятые веселой и увлекательной игрой. Маленький пастушок, ростом меньше своей дамы, робко заигрывает с ней, касаясь рукой ее подбородка; пастушка старательно и неумело повторяет кокетливую позу, которой ее учили. Художник с острой и любовной внимательностью передал здесь забавные, неуклюжие движения подростков.
Реалистическая тенденция, пронизывающая весь цикл «Смолянок», как бы преодолевает условную форму парадного портрета и выдвигает работу Левицкого в ряд наиболее передовых явлений русской живописи второй половины XVIII века. А по силе художественного выражения и по уровню мастерства «Смолянки» принадлежат к числу самых совершенных созданий русского и мирового искусства той эпохи.
Один из советских исследователей назвал «Смолянок» «чудом живописи». Эта оценка не кажется преувеличенной: «Смолянки» выделяются даже на фоне лучших живописных достижений XVIII века.
Огромный дар живописца-декоратора, свойственный Левицкому, проявился в той поразительной точности, почти материальной осязаемости, с какой переданы в «Смолянках» ткани одежд, прозрачность кружева, блеск атласа, мерцание золотых нитей, вплетенных в матовый бархат. Рисунок Левицкого отличается безупречной верностью и острой выразительностью. Но особенно значительны его колористические достижения. Сопоставляя сверкающие белые и золотистые тона с розовыми, глубокими темно-зелеными и коричневыми, Левицкий умеет избежать пестроты и приводит цветовое построение к изысканной и стройной гармонии.
В ряду произведений Левицкого «Смолянкам» принадлежит выдающееся место. В этих ранних его полотнах с очевидной наглядностью выступают лучшие стороны творчества художника, его реалистическая направленность, острая и меткая наблюдательность, стремление к правдивой жизненности образов. В более поздних портретах, быть может, яснее проявляются качества Левицкого-психолога; но по силе поэтического чувства «Смолянки» остаются непревзойденными.
http://www.artsait.ru/art/a/adolsky/main.htm
Серия сообщений "История одной картины":
Часть 1 - В.Маковский "На бульваре" История одной картины.
Часть 2 - Рафаэль Санти. Портрет Бальдассаре Кастильоне
...
Часть 15 - Владимир Лукич Боровиковский (1757 - 1825)
Часть 16 - Иван Никитич Никитин (около 1788- 1841?)
Часть 17 - Дмитрий Григорьевич Левицкий (1735 - 1822)
Часть 18 - Михаил Шибанов
Часть 19 - Антон Павлович Лосенко (1737 - 1773)
...
Часть 22 - Рембрандт.Даная. История шедевра.
Часть 23 - Нетипичная картина Серова
Часть 24 - Питер Пауль Рубенс. Портрет камеристки
|
Метки: портрет-картина |
Иван Никитич Никитин (около 1788- 1841?) |
Иван Никитич Никитин (около 1788 - 1741)

Портрет напольного гетмана
(1720-е годы)
Портрет напольного гетмана, написанный Иваном Никитиным, резко выделяется в галерее русских портретов первой половины XVIII века и занимает в ней особое место.
Среди ранних работ самого Никитина, а также в творчестве его современников и ближайших преемников, русских художников и заезжих иностранцев, преобладают изображения лиц императорского дома и высокопоставленных придворных. На портретах той эпохи представлены мужчины в огромных завитых париках, в латах или расшитых кафтанах, украшенных орденами, женщины в пышных платьях и горностаевых мантиях. Живописцы придали своим персонажам горделивую осанку, полную торжественной важности. С особым вниманием написаны детали, характеризующие общественное положение изображенного человека, внешние знаки его достоинства — ордена, шитье на мундире или кафтане. На лицах чаще всего можно встретить выражение надменной самоуверенности, иногда — заученную «милостивую» улыбку. Портретисты того времени в большинстве своем не ставили перед собой задачу углубленной характеристики, раскрытия душевного мира изображаемых ими людей. Основным было требование «репрезентативности» — представительности, подчеркивание социальной роли портретируемого. Эстетика XVIII века так формулировала задачу портретной живописи:
«Должно, чтоб портреты казались как бы говорящими о себе самих, и как бы извещающими: смотри на меня, я есмь оный непобедимый царь, окруженный величеством; я тот мужественный военачальник, который наносит всюду трепет, или который добрым своим поведением оказал только славных успехов; я тот великий министр, который вызнал все политические пружины; я оный мудрый и совершенно беспоползновенный судия...»
При таком понимании задач портретного искусства существенное значение приобретали подробности одежды и фона, так называемые околичности, облегчающие внешнюю характеристику. Живописцы XVIII века мастерски передавали сверкание лат, пушистую поверхность меха, блеск и упругую тяжесть атласа, легкую паутину кружев. Это определяло высокие декоративные качества портретов XVIII века. Но для многих, особенно для работавших в России иностранцев, среди которых не было больших художников, виртуозное выписывание «околичностей» превращалось едва ли не в самоцель. И не потому ли костюм портретируемого нередко являлся более выразительным, чем его лицо, как бы растворяющееся в блеске золота и пышности бархата или горностаевого меха. Люди на портретах этого времени зачастую производят впечатление нарядных и безжизненных манекенов. Западные мастера, приглашаемые в Россию для насаждения новой живописи, стремились ввести в русское искусство традицию парадного портрета, где декоративные качества подменяют задачу глубокого психологического раскрытия образа.
Значение портрета напольного гетмана заключается прежде всего в том, что он решительно противостоит западной традиции парадного портрета. В «Напольном гетмане» ярко и последовательно проявляются черты национального своеобразия русского искусства.
Среди парадных портретов того времени «Напольный гетман» выделяется своей подчеркнутой скромностью.
В позе гетмана нет ничего показного, искусственного. Его лицу чужда надменная недоступность или заученная улыбка, типичная для портретов его знатных современников. Никитин сумел уловить и передать выражение, раскрывающее существенные черты характера изображенного им человека. Внешность гетмана не искажена ни модным париком, ни скроенной на западный манер неудобной придворной одеждой. Темно-русые волосы
гетмана острижены по-казацки, «в кружок», его поношенный коричневый кафтан с выцветшими золотыми галунами небрежно расстегнут. Художник изобразил своего героя таким, каким наблюдал его в жизни. В этом стремлении к естественности и жизненной правде заложено одно из основных достоинств никитинского портрета.
В его художественном решении Никитин проявил мудрую скромность и глубокую сдержанность, свойственные только большим мастерам.
Он сознательно избегал подчеркнутых декоративных эффектов, широких мазков, напряженного горения цвета, резких контрастов света и тени. Портрет написан в тонко проработанной коричнево-красной гамме, в которую с безошибочным чувством живописной гармонии введены золотистые, бледно-розовые и голубые тона. Но это изысканное колористическое построение является для Никитина не самоцелью, а лишь средством, подчиненным задаче создания целостного и правдивого образа.
В контрасте с этой несколько приглушенной гаммой выделено лицо напольного гетмана, залитое ровным, хотя и не очень ярким светом, не нарушающим общей живописной гармонии целого. «Околичности» сведены к неизбежному минимуму; с тем большим вниманием обращается Никитин к внутренней характеристике своего героя, к раскрытию его душевного мира.
Лицо гетмана резко отличается от холеных аристократических лиц, типичных для портретной живописи XVIII века. Долгая, трудная, суровая жизнь, полная военных забот, оставила неизгладимые следы на этом волевом и мужественном лице. Воспаленные, слегка сощуренные глаза с их пристальным, испытующим взглядом выражают острый ум и спокойную решительность. Во всем облике гетмана ощущаются внутренняя сила и глубокое сознание своего достоинства, свойственные выдающимся людям.
Одной из самых привлекательных черт в образе гетмана является его простота, хотелось бы сказать — простонародность, намеренно подчеркнутая художником. В «Напольном гетмане» нашел свое выражение своеобразный демократизм, свойственный Петровской эпохе. Никитин изобразил одного из тех своих современников, которые выдвинулись не благодаря своему «высокому» происхождению и не знатностью своего рода, а собственным трудом и талантом.
Реалистический метод Никитина не сводится к одной только внимательной и правдивой передаче натуры, не исчерпывается умением выделить главное и обобщить второстепенные детали. Раскрывая характер изображенного им человека, глубоко проникая в его внутренний мир, Никитин вместе с тем создает собирательный образ, воплощающий типические черты своей эпохи.
Мы не знаем имени человека, которого написал Никитин. Попытки архивистов и музейных работников связать с этим портретом какое-либо определенное историческое лицо пока еще не привели к положительным результатам. Старая надпись на обратной стороне портрета говорит лишь о том, что перед нами напольный гетман, то есть боевой командир полевых казачьих отрядов. Но сила обобщения, способность улавливать типическое, которую проявил здесь Никитин, делает этот портрет одним из драгоценнейших исторических памятников петровского времени. Военачальники, подобные напольному гетману, на рубеже XVII—XVIII столетий охраняли южные границы нашей родины, бились за выход России к морю, вместе с Петром воевали под Азовом.
В творчестве Никитина портрет напольного гетмана занимает едва ли не самое значительное место.
В этой поздней работе, наиболее зрелой и совершенной среди всего созданного Никитиным, как бы подведены итоги долгого и сложного творческого развития художника. В более ранних произведениях он не достигал ни такой последовательности в применении реалистического метода, ни такого уверенного и безупречного мастерства.
Правда, уже в его первых женских портретах, написанных в 1714— 1716 годах, проявляется живое реалистическое чувство и внимательная вдумчивость в характеристике образа. Но реализм Никитина еще не раскрывается здесь во всей своей силе, еще далеко не преодоленными остаются в его художественной системе черты иконописной застылости и торжественности, идущие от традиций церковного искусства.
Значительным этапом в развитии творчества Никитина является портрет барона С. Строганова (1726). После десяти лет напряженной работы и углубленного изучения живописи художник уже не чувствует себя связанным иконописными навыками; ему удается найти оригинальную композицию и придать изображенному персонажу живую и естественную позу. Но в этой работе еще в полной мере господствуют нормы парадного, репрезентативного портрета, декоративные мотивы преобладают над психологическими, внешнее изящество — над глубиной проникновения в образ.
Лишь в полном напряженного трагизма изображении Петра на смертном ложе и в «Напольном гетмане» Никитин в совершенстве овладел новыми средствами художественного выражения и сумел проявить всю силу своего живописного дара, весь свой талант глубокого и проницательного психолога. Реализм Никитина выступает здесь как бы освобожденным и от условности старых иконописных приемов, и от пышных декоративных форм светского парадного портрета.
Живопись Никитина принадлежит к числу самых ярких явлений в культуре Петровской эпохи. Недаром Петр, высоко ценивший Никитина, настаивал на том, чтобы художник во время своего пребывания за границей писал «персону» короля и других особ, «дабы знали, что есть и из нашево народа добрыя мастеры». В лице Никитина новая русская живопись выдвинула одного из своих первых больших художников.
Перед мастерами его поколения стояла сложная историческая задача. Они должны были освободить русское искусство от оков средневекового церковного миросозерцания, выйти на путь реализма и с этой целью широко использовать технические достижения европейской живописи. Но вместе с тем им надлежало решительно противостоять внедряющимся в русское искусство западным влияниям, утвердить самобытность и национальное своеобразие русской художественной культуры.
Именно в «Напольном гетмане» эта задача была решена с наибольшей силой, свободой и художественной убедительностью. «Напольный гетман» является глубоко национальным произведением прежде всего потому, что в нем явственно выражена подлинная и мудрая человечность, в новых реалистических формах возрождены благородные традиции гуманизма, исконно присущие русскому искусству, восходящие к Андрею Рублеву и мастерам новгородской фрески.
«Напольный гетман» стоит первым в ряду реалистических портретных образов, сложившихся в русской живописи на протяжении XVIII—XIX веков. От никитинского портрета идет стойкая и глубоко разработанная традиция, подхваченная Антроповым, а позднее — Рокотовым, Левицким, Боровиковским и Щукиным, впоследствии развитая Тропининым, Кипренским и Карлом Брюлловым и достигшая своей вершины в творчестве великих реалистов второй половины XIX века — Репина и Серова. Каждый из этих художников по-своему решал задачи портретной живописи. Различия в творчестве великих русских портретистов, связанные с конкретными историческими условиями деятельности каждого из них, вполне очевидны и сразу бросаются в глаза. Но не менее очевидными являются и черты глубокого внутреннего единства, яркого национального своеобразия, пронизывающие русскую портретную живопись на всех этапах ее истории.
Национальные черты в искусстве заложены глубже, чем исторические формы стиля или, тем более, индивидуальные особенности творческого темперамента. История русского портрета определяется последовательным развитием в нем реалистического метода, углублением внимания к человеку, обострением психологической и социальной характеристики. И как раз эти отчетливые черты национального своеобразия явственно проявляются уже на заре русской живописи, в «Напольном гетмане» Ивана Никитина.
Серия сообщений "История одной картины":
Часть 1 - В.Маковский "На бульваре" История одной картины.
Часть 2 - Рафаэль Санти. Портрет Бальдассаре Кастильоне
...
Часть 14 - К.Сомов "Дама в голубом"
Часть 15 - Владимир Лукич Боровиковский (1757 - 1825)
Часть 16 - Иван Никитич Никитин (около 1788- 1841?)
Часть 17 - Дмитрий Григорьевич Левицкий (1735 - 1822)
Часть 18 - Михаил Шибанов
...
Часть 22 - Рембрандт.Даная. История шедевра.
Часть 23 - Нетипичная картина Серова
Часть 24 - Питер Пауль Рубенс. Портрет камеристки
|
Метки: живопись портрет |
Владимир Лукич Боровиковский (1757 - 1825) |

Портрет М. И. Лопухиной (1797)
С именем В. Боровиковского связан новый подъем русского искусства на рубеже XVIII—XIX веков.
Биография этого мастера — последнего из великих русских портретистов XVIII столетия — сложилась не совсем обычно.
Систематического образования в Академии Боровиковский не получил и поздно стал профессиональным художником. Годы его юности прошли на военной службе, после отставки он по-любительски занимался церковной живописью. Боровиковскому было за тридцать лет, когда он впервые приехал в Петербург и познакомился с большим искусством своей эпохи. Его первые шедевры возникли в ту пору, когда художник уже приближался к своему сорокалетию.
Но Боровиковскому посчастливилось наверстать упущенное время. Период ученичества не затянулся. Общественное признание не заставило себя ждать. Ранние работы Боровиковского свидетельствуют о замечательном даровании и отмечены острым своеобразием. В короткий срок он не только овладел профессиональным мастерством, но и выдвинулся в первые ряды современных живописцев.
В 1790-х годах Рокотов уже перестал работать и лучшая пора творчества Левицкого подходила к концу. Место ведущего русского портретиста перешло к Боровиковскому. Это было закономерно: именно он отразил в своих произведениях те идеологические сдвиги, которые характеризуют русскую культуру на рубеже XVIII и XIX столетий.
Поворот в общественном сознании и эстетике 1790-х годов связан с литературным и художественным течением, известным в истории искусств под названием сентиментализма.
Поэты и теоретики нового направления призывали к изображению «естественной, неукрашенной природы» и «истинных чувств», не похожих на условные, выработанные классицизмом представления о характерах и страстях.
Рационалистическим основам искусства предшествующего поколения противопоставляется культ человеческого чувства, содержанием художественных произведений отныне становятся события повседневной жизни, в которых могло и не быть ни героизма, ни возвышенности, ни исключительности, но которые открывали перед художником «неизведанные красоты, свойственные мечтательному и скромному наслаждению». На этих основах складывалась эстетика сентиментализма, в существенной мере повлиявшая на творчество Боровиковского.
Было бы, конечно, ошибочным принимать на веру декларативные положения о «естественной природе» и «истинных чувствах» и видеть в представителях новой школы последовательных реалистов, способных правдиво передать в искусстве все многообразие действительности. Мировоззрение, связанное с сентиментализмом, было во многом ограниченным, представления о мире и человеке, разработанные новой школой, исходили, в значительной степени, из ложных идеалистических предпосылок. На место прежних условностей классицизма выдвигались новые условности. Но в сентиментализме были, несомненно, и прогрессивные черты, в первую очередь, повышенный интерес к человеческой личности, острое внимание к внутренней душевной жизни человека. Именно эта гуманистическая сторона сентиментализма помогла Боровиковскому углубить содержание портретного образа. В русской культуре 1790-х годов сентиментализм играл передовую роль и явился своеобразным этапом в развитии реалистических принципов нашего искусства. Наиболее яркими достижениями новой школы были стихи и особенно проза Карамзина, лирика Дмитриева и живопись Боровиковского.
История русского искусства знает произведения, которые являются как бы поворотными вехами в развитии нашей портретной живописи. К числу таких этапных произведений принадлежит портрет М. И. Лопухиной, написанный Боровиковским в 1797 году.
Подобно тому, как мастера парадного портрета окружали своих персонажей атрибутами, свидетельствующими об их звании и общественном значении, и Боровиковский окружил Лопухину изображениями предметов, помогающих раскрыть ее образ. Такое совпадение в приеме не должно удивлять нас: ведь Боровиковский и сам был выдающимся мастером репрезентативного портрета. Но в данном случае, в портрете Лопухиной, «околичности» призваны играть совершенно новую, дотоле не свойственную им роль—выявлять не социальную значимость и общественное положение портретируемого лица, а глубоко интимные стороны его характера.
Окружением фигуры Лопухиной служит пейзаж, и основной темой портрета становится слияние человека с природой. Для эстетики конца XVIII века эта тема особенно характерна. Правда, в ее решении еще много условного — сельская природа, изображенная Боровиковским, воспринимается как декоративный усадебный парк (Лопухина к тому же опирается на мраморный парапет). Но как не отметить, что внимание художника чуть ли не впервые в русском искусстве привлекают здесь типические особенности национального русского пейзажа — белые стволы берез, васильки, золотистые колосья ржи. Национальный тип подчеркнут и в лице Лопухиной. Боровиковский приближается в этом портрете к образному воплощению русского идеала женской красоты, каким он сложился в конце XVIII века под влиянием идей сентиментализма.
Лопухина одета в простое белое платье с прямыми складками, напоминающее античный хитон. Скромность ее наряда как бы противостоит декоративной пышности парадных портретов. На плечи Лопухиной наброшена шаль. Наклон фигуры ритмически повторяется в линиях пейзажа; этим приемом художник снова подчеркивает мысль о единстве природы и человека. Лирическая настроенность портрета выражена и в его колорите, легком и воздушном, построенном на приглушенном звучании белых, сиреневых, серебристых и нежнозеленых тонов, пронизанных голубоватыми рефлексами.
Однако, как бы ни были высоки живописные качества портрета, как бы ни был нов и характерен для своей эпохи его замысел, работа Боровиковского не могла бы сохранить до наших дней силу своего художественного воздействия, если бы сам образ не был отмечен чертами глубокой и подлинной жизненности. Боровиковский не только создал здесь тип, характерный для русской культуры 1790-х годов и овеянный поэтической женственностью, но и сумел воплотить в облике Лопухиной такую напряженную жизнь чувства, какой не знали его предшественники в русской портретной живописи.
Мысль художника проникает в самые глубины душевного мира его героини. Нельзя не привести здесь стихотворения, которое поэт Я. Полонский посвятил этому портрету:
Она давно прошла, и нет уже тех глаз
И той улыбки нет, что молча выражали
Страданье — тень любви, и мысли — тень печали.
Но красоту ее Боровиковский спас.
Так часть души ее от нас не улетела,
И будет этот взгляд и эта прелесть тела
К ней равнодушное потомство привлекать.
Уча его любить, страдать, прощать, молчать.
В портрете Лопухиной Боровиковскому удалось то, чего не достигли его литературные современники — ни Карамзин в своей «Бедной Лизе», ни поэты карамзинского круга: Боровиковский нашел художественные средства для правдивого выражения эмоциональной жизни человека.
http://la-fa.ru/vek20.php
Серия сообщений "История одной картины":
Часть 1 - В.Маковский "На бульваре" История одной картины.
Часть 2 - Рафаэль Санти. Портрет Бальдассаре Кастильоне
...
Часть 13 - Ян Вермеер "Девушка с жемчужной сережкой"
Часть 14 - К.Сомов "Дама в голубом"
Часть 15 - Владимир Лукич Боровиковский (1757 - 1825)
Часть 16 - Иван Никитич Никитин (около 1788- 1841?)
Часть 17 - Дмитрий Григорьевич Левицкий (1735 - 1822)
...
Часть 22 - Рембрандт.Даная. История шедевра.
Часть 23 - Нетипичная картина Серова
Часть 24 - Питер Пауль Рубенс. Портрет камеристки
|
|






