-Метки
афины бессмертие бог вознесенский время выворачивание доос известия или инсайдаут к.кедров капица кацюба кгб кедров компьютер_любви константин кедров константин_кедров космос культура любимов любовь маяковский метакод метаметафора мистерия ненасилие нобелевская нобель павич палиндром париж парщиков пастернак поэзия пушкин россия сапгир свобода сократ сталин таганка толстой хвост хвостенко хлебников христос челищев эйнштейн юнеско
-Приложения
 Онлайн-игра "Большая ферма"Дядя Джордж оставил тебе свою ферму, но, к сожалению, она не в очень хорошем состоянии. Но благодаря твоей деловой хватке и помощи соседей, друзей и родных ты в состоянии превратить захиревшее хозяйст
Онлайн-игра "Большая ферма"Дядя Джордж оставил тебе свою ферму, но, к сожалению, она не в очень хорошем состоянии. Но благодаря твоей деловой хватке и помощи соседей, друзей и родных ты в состоянии превратить захиревшее хозяйст Онлайн-игра "Empire"Преврати свой маленький замок в могущественную крепость и стань правителем величайшего королевства в игре Goodgame Empire.
Строй свою собственную империю, расширяй ее и защищай от других игроков. Б
Онлайн-игра "Empire"Преврати свой маленький замок в могущественную крепость и стань правителем величайшего королевства в игре Goodgame Empire.
Строй свою собственную империю, расширяй ее и защищай от других игроков. Б ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни
ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни- ТоррНАДО - торрент-трекер для блоговТоррНАДО - торрент-трекер для блогов
-Резюме
кедров константин Александрович
- Профессия поэт философ
-Цитатник
Игра в Пусси по научному - (0)
Зря девчёнки группы Пусси-Райт Вы задумали в неё играйт Это ваше нежное устройство Вызывает нервн...
Без заголовка - (0)константин кедров lavina iove Лавина лав Лав-ина love 1999 Константин Кедров http://video....
нобелевская номинация - (0)К.Кедров :метаметафора доос метакод Кедров, Константин Александрович Материал из Русской Викисла...
Без заголовка - (0)доос кедров кедров доос
Без заголовка - (0)вознесенский кедров стрекозавр и стихозавр
-Ссылки
-Видео

- дуэт кедров и вознесенский
- Смотрели: 331 (0)

- ткаченко о кедрове
- Смотрели: 32 (0)

- кедров сапгир холин вознесенский кацюба
- Смотрели: 47 (0)

- презентация Анталогии ПО ДООС
- Смотрели: 10 (0)
-Фотоальбом

- нобелевская
- 17:08 23.04.2008
- Фотографий: 5
- константин кедров и андрей вознесенский
- 03:00 01.01.1970
- Фотографий: 0
-Поиск по дневнику
-Подписка по e-mail
-Статистика
земля летела
по законам тела
а бабочка летела
как хотела
к.кедров кантата канта г.сапгир чучело паскаля |
Вступление
Маркс объяснял, что «философы лишь объясняли мир, задача состоит в том, чтобы его переделать». На самом деле объяснить гораздо труднее, чем переделать. Хотя и объяснить ничего нельзя. Это блестяще подтвердил Кант.
Название «Философские тетради» заимствовано у одного недоучившегося адвоката, который в свободное от адвокатской практики время любил конспектировать великих философов, оставляя заметки на полях. Когда-то я эти тетради читал, но запомнил только два слова: «сволочь» и «проститутка».
В отличие от паскаля и Канта Сапгир и Кедров никогда не сомневались в том, что Бытие Божие в доказательствах не нуждается. Зато поэту в отличие от философа надо все время доказывать себе, что ты есть. Делается это очень просто: берется листок бумаги, ручка и…
К.Кедров
Кантата Канта
Кант движется по
панели
трость
ударяет
в такт
шагов Канта
кантата такта
токката Канта
в чистом разуме
ему – замер числа
числа –
семена в чреслах
вещь в себе
и вещь для себя
неужели же
непознаваемы
эти чресла
в непознаваемом мире Канта
муж и жена –
одна сатана
Софья Андреевна
для Льва Толстого –
вещь
в себе
и вещь
для себя
Я не раз просил у Фета:
«переведи мне точнее Канта», –
и Фет перевел:
«Я пришел к тебе с приветом…»
Кант отмеривает тростью
будущие строчки Фета :
«я
пришел
к тебе
с приветом» –
я пришел к тебе с приветом –
рассказать
что в мире Канта
нет вопроса на ответы
на надгробье в Кенигсберге
есть ответ
на все вопросы:
«сволочь, мир – материален», –
вот ответ на все вопросы
задаваемые Кантом
как сказал великий Шеншин:
я пришел к тебе с ответом
как Антиох в Кантемире
как Кантемир вокруг Канта
так Кант в антимире
так антимир в мире Канта
как Калининград
в Кенигсберге
так Шеншин в Фете –
вещь в себе
и вещь для себя
«Бог не есть имя,
но имя – Бог», –
сказал имяславец Лосев
критикуя Иммануила Канта
Фет не есть Шеншин
но Шеншин – Фет
«Кант открыл истории законы»
ding an sich
поставил у руля
Калининград стало зоной
свободной торговли
бля
от Кенигсберга
до Калининграда
проходит трасса
во времени
но не в пространстве
пространство –
это транс Канта
а время –
блядь
сука-сволочь-проститутка-Троцкий
Кант попался…
попался Кант
Седьмое доказательство бытия Божия
Зверь разума издох
в его дыханье
осталась хрипотца
Святого Духа
он в виде голубя
упал
под ноги Канта
прогуливающегося
по Кенигсбергу
Не поминай
Имя Бога своего всуе
Но повторяй
Имя Господа своего всюду
Эммануил значит
с нами Бог
Иммануил значит
с нами Кант
Бог есть
если есть Кант
Кант есть
Если есть Бог
Генрих Сапгир
Чучело Паскаля
1.
Рассуждение не ведет к вере
однако несчастный Паскаль
рассуждает и рассуждает
на подставке –
пыльный волк
пустота –
в его голове
Боже мой! Каждое утро
неосознанное желание
воссоединиться с чем-то –
из материи трава
растопыренные крылья –
чучело тетерева
съело временем и молью
он расстегивал этот корсаж
скрюченными пальцами
с частью самого себя
призрак – расслабься
лицо – ты ошибся
маска из гипса
и впивался в душистую плоть
родным но почему-то
утраченным и позабытым –
искривленными болью губами…
эти крупные цветы –
сразу
не заметил ты –
гладкие бесчувственные –
точечки – проказу
искусственные
…этим всегда кончается –
две поглотившие
каждая – всё
двойное небытие
мираж
апрельский подсыхающий
на солнце зеленеющий
в одно касание
2.
раздувает живот и в кишках
переворачиваются булыжники
нет не понимает
что напоминает
может быть мешок
(изнутри – смешок)
«может быть рожаю идею
мой младенец лезет из зада»
но если болен –
обезволен
все органы на букву вы
уныние
и Паскаль размышляет о церкви –
тело церкви изъедено червями –
забывая о собственной боли
волк оскалом светит
не вовсе без чувств
львиная лапа
свисает со стола
и шипит со шкапа
чучело орла
«мы так плохо знает самих себя
что считаем себя умирающими»
– таксидермист
таксидермист
пусть тебя лечит таксидермист!
«в то время как совершенно здоровы»
философа корчит от боли
пытается записать
«я довольно равноду…»
визг и рычание
клекот и свист
– чучельник
чучельник
таксидермист!
деревянные пальцы не слушаются
сестра убегает на цыпочках
юбки ворохом – по коридору
3.
Ариэль глядит
из пламени
чучело
бредущее во времени –
это просто непристойно:
свет и тайна
от чела!
(Паскаль размышляет)
мысль составляет величие человека
мысль составляет отличие человека
мысль составляет человека
мысль – это в небе нечто птичье
мысль – это увечье
но если
человек живет без мысли
мысль проживет без человека

Маркс объяснял, что «философы лишь объясняли мир, задача состоит в том, чтобы его переделать». На самом деле объяснить гораздо труднее, чем переделать. Хотя и объяснить ничего нельзя. Это блестяще подтвердил Кант.
Название «Философские тетради» заимствовано у одного недоучившегося адвоката, который в свободное от адвокатской практики время любил конспектировать великих философов, оставляя заметки на полях. Когда-то я эти тетради читал, но запомнил только два слова: «сволочь» и «проститутка».
В отличие от паскаля и Канта Сапгир и Кедров никогда не сомневались в том, что Бытие Божие в доказательствах не нуждается. Зато поэту в отличие от философа надо все время доказывать себе, что ты есть. Делается это очень просто: берется листок бумаги, ручка и…
К.Кедров
Кантата Канта
Кант движется по
панели
трость
ударяет
в такт
шагов Канта
кантата такта
токката Канта
в чистом разуме
ему – замер числа
числа –
семена в чреслах
вещь в себе
и вещь для себя
неужели же
непознаваемы
эти чресла
в непознаваемом мире Канта
муж и жена –
одна сатана
Софья Андреевна
для Льва Толстого –
вещь
в себе
и вещь
для себя
Я не раз просил у Фета:
«переведи мне точнее Канта», –
и Фет перевел:
«Я пришел к тебе с приветом…»
Кант отмеривает тростью
будущие строчки Фета :
«я
пришел
к тебе
с приветом» –
я пришел к тебе с приветом –
рассказать
что в мире Канта
нет вопроса на ответы
на надгробье в Кенигсберге
есть ответ
на все вопросы:
«сволочь, мир – материален», –
вот ответ на все вопросы
задаваемые Кантом
как сказал великий Шеншин:
я пришел к тебе с ответом
как Антиох в Кантемире
как Кантемир вокруг Канта
так Кант в антимире
так антимир в мире Канта
как Калининград
в Кенигсберге
так Шеншин в Фете –
вещь в себе
и вещь для себя
«Бог не есть имя,
но имя – Бог», –
сказал имяславец Лосев
критикуя Иммануила Канта
Фет не есть Шеншин
но Шеншин – Фет
«Кант открыл истории законы»
ding an sich
поставил у руля
Калининград стало зоной
свободной торговли
бля
от Кенигсберга
до Калининграда
проходит трасса
во времени
но не в пространстве
пространство –
это транс Канта
а время –
блядь
сука-сволочь-проститутка-Троцкий
Кант попался…
попался Кант
Седьмое доказательство бытия Божия
Зверь разума издох
в его дыханье
осталась хрипотца
Святого Духа
он в виде голубя
упал
под ноги Канта
прогуливающегося
по Кенигсбергу
Не поминай
Имя Бога своего всуе
Но повторяй
Имя Господа своего всюду
Эммануил значит
с нами Бог
Иммануил значит
с нами Кант
Бог есть
если есть Кант
Кант есть
Если есть Бог
Генрих Сапгир
Чучело Паскаля
1.
Рассуждение не ведет к вере
однако несчастный Паскаль
рассуждает и рассуждает
на подставке –
пыльный волк
пустота –
в его голове
Боже мой! Каждое утро
неосознанное желание
воссоединиться с чем-то –
из материи трава
растопыренные крылья –
чучело тетерева
съело временем и молью
он расстегивал этот корсаж
скрюченными пальцами
с частью самого себя
призрак – расслабься
лицо – ты ошибся
маска из гипса
и впивался в душистую плоть
родным но почему-то
утраченным и позабытым –
искривленными болью губами…
эти крупные цветы –
сразу
не заметил ты –
гладкие бесчувственные –
точечки – проказу
искусственные
…этим всегда кончается –
две поглотившие
каждая – всё
двойное небытие
мираж
апрельский подсыхающий
на солнце зеленеющий
в одно касание
2.
раздувает живот и в кишках
переворачиваются булыжники
нет не понимает
что напоминает
может быть мешок
(изнутри – смешок)
«может быть рожаю идею
мой младенец лезет из зада»
но если болен –
обезволен
все органы на букву вы
уныние
и Паскаль размышляет о церкви –
тело церкви изъедено червями –
забывая о собственной боли
волк оскалом светит
не вовсе без чувств
львиная лапа
свисает со стола
и шипит со шкапа
чучело орла
«мы так плохо знает самих себя
что считаем себя умирающими»
– таксидермист
таксидермист
пусть тебя лечит таксидермист!
«в то время как совершенно здоровы»
философа корчит от боли
пытается записать
«я довольно равноду…»
визг и рычание
клекот и свист
– чучельник
чучельник
таксидермист!
деревянные пальцы не слушаются
сестра убегает на цыпочках
юбки ворохом – по коридору
3.
Ариэль глядит
из пламени
чучело
бредущее во времени –
это просто непристойно:
свет и тайна
от чела!
(Паскаль размышляет)
мысль составляет величие человека
мысль составляет отличие человека
мысль составляет человека
мысль – это в небе нечто птичье
мысль – это увечье
но если
человек живет без мысли
мысль проживет без человека

|
|
Родословная Челищевых от Ричарда -Львиное Сердце до Константина Кедрова |
РОДОСЛОВНАЯ ЧЕЛИЩЕВЫХ
(Линия, ведущая к Константину Кедрову. Дана с небольшими сокращениями по книге Владимира Линдберга “Три дома” и выпискам из 6-й части родословной книги Калужской губернии, любезно предоставленной Дворянским Собранием)
Ричард-Львиное сердце
v
Герцог Люнебургский
v
Вильгельм Люнебургский
приехал в Новгород в 1237 г., принял в крещении имя Леонтий.
v
Карл
родоначальник Челищевых, прозвище Челищ, в крещении Андрей, прибыл на Русь в 1237 г., служил св. блг. кн. Александру Невскому.
v
Андрей
Бренко, крестник Ивана Калиты, жена Мария Константиновна Углицкая, внучка Ивана Калиты.
Далее все Челищевы Рюриковичи,породненные кровно с Калитой через внучку)
Михаил Андреевич
Бренко, воевода, племянник св. блг. Кн. Дмитрия Донского, погиб в доспехах св. Дмитрия Донского на Куликовом поле 8 сентября / 25 по н.с. / 1380 г. (замечу, что мой двоюродный дед художник Павел Челищев родился 21 сентября).
Челищев-посол в Византию, привез невесту царю Софью Палеолог
Челищев-посол к крымскому хану при Иване Грозном (погиб в заточении в Чуфут-Кале)
v
Иван
Мастер Ордена Розенкрейцеров Северной России (ум.1779).
V
Ротмистр Михаил Челищев погиб в 1812 на Бородино-значится в списке героев в Храме Христа Спасителя (три георгиевских креста и шашка за храбрость в архиве К.Кедрова (3132) в РГАЛИ
Александр
Генерал-лейтенант, главный начальник артиллерийского департамента Военной коллегии, Мастер Ордена Розенкрейцеров Северной России (ум. 1821).
v
Михаил (ум. 1797, 50 л.) - Елена Ивановна Батюшкова
v
Николай, прапрапрадед
Предводитель дворянства Козельского уезда 1821 – 23 гг.
v
Сергей, прапрадед
Предводитель дворянства Жиздринского уезда 1850 – 60 гг.
v
Федор Сергеевич, прадед
1-й брак – Наталья Михайловна (прабабушка)
v
Софья Федоровна, бабушка 1894 – 1919
v
Надежда Владимировна Юматова (Кедрова)(1917-1991), мать Константина Кедрова (1942 г.Москва
Еще две дочери от 1-го брака: Варвара Федоровна Челищева ( Зарудная) (ум. В 1960), Мария Федоровна Челищева(Клименко) (1895 – 1978), переписывались с Павлом Челищевым (переписка находится в фонде Константина Кедрова (3132) в РГАЛИ).
2-й брак Федора Сергеевича Челищева,прадеда К.Кедрова
Надежда Павловна
v
Павел Федорович Челищев (1898Дубровка Калужской губ.Жиздринского уезда)-1957Фраскатти Италия) художник,двоюродный дед К.Кедрова


(Линия, ведущая к Константину Кедрову. Дана с небольшими сокращениями по книге Владимира Линдберга “Три дома” и выпискам из 6-й части родословной книги Калужской губернии, любезно предоставленной Дворянским Собранием)
Ричард-Львиное сердце
v
Герцог Люнебургский
v
Вильгельм Люнебургский
приехал в Новгород в 1237 г., принял в крещении имя Леонтий.
v
Карл
родоначальник Челищевых, прозвище Челищ, в крещении Андрей, прибыл на Русь в 1237 г., служил св. блг. кн. Александру Невскому.
v
Андрей
Бренко, крестник Ивана Калиты, жена Мария Константиновна Углицкая, внучка Ивана Калиты.
Далее все Челищевы Рюриковичи,породненные кровно с Калитой через внучку)
Михаил Андреевич
Бренко, воевода, племянник св. блг. Кн. Дмитрия Донского, погиб в доспехах св. Дмитрия Донского на Куликовом поле 8 сентября / 25 по н.с. / 1380 г. (замечу, что мой двоюродный дед художник Павел Челищев родился 21 сентября).
Челищев-посол в Византию, привез невесту царю Софью Палеолог
Челищев-посол к крымскому хану при Иване Грозном (погиб в заточении в Чуфут-Кале)
v
Иван
Мастер Ордена Розенкрейцеров Северной России (ум.1779).
V
Ротмистр Михаил Челищев погиб в 1812 на Бородино-значится в списке героев в Храме Христа Спасителя (три георгиевских креста и шашка за храбрость в архиве К.Кедрова (3132) в РГАЛИ
Александр
Генерал-лейтенант, главный начальник артиллерийского департамента Военной коллегии, Мастер Ордена Розенкрейцеров Северной России (ум. 1821).
v
Михаил (ум. 1797, 50 л.) - Елена Ивановна Батюшкова
v
Николай, прапрапрадед
Предводитель дворянства Козельского уезда 1821 – 23 гг.
v
Сергей, прапрадед
Предводитель дворянства Жиздринского уезда 1850 – 60 гг.
v
Федор Сергеевич, прадед
1-й брак – Наталья Михайловна (прабабушка)
v
Софья Федоровна, бабушка 1894 – 1919
v
Надежда Владимировна Юматова (Кедрова)(1917-1991), мать Константина Кедрова (1942 г.Москва
Еще две дочери от 1-го брака: Варвара Федоровна Челищева ( Зарудная) (ум. В 1960), Мария Федоровна Челищева(Клименко) (1895 – 1978), переписывались с Павлом Челищевым (переписка находится в фонде Константина Кедрова (3132) в РГАЛИ).
2-й брак Федора Сергеевича Челищева,прадеда К.Кедрова
Надежда Павловна
v
Павел Федорович Челищев (1898Дубровка Калужской губ.Жиздринского уезда)-1957Фраскатти Италия) художник,двоюродный дед К.Кедрова


|
|
Два Рюриковича "Соотечественники" |
Возвращение ″Нечетнокрылого Ангела″
В Европе и Америке творчеством Павла Федоровича Челищева восхищались, боготворили, называя ″русским Дали″.
Павел Федорович Челищев был открывателем новых путей в живописи в первой половине XX века. В Европе и Америке его творчеством восхищались, боготворили, называя ″русским Дали″, в то время как в России имя этого самобытного и чрезвычайно талантливого художника сегодня мало кому известно. Он навсегда покинул родину в 1919 году вместе с армией Деникина. И так никогда не вернулся назад. Правда, в 1958 году спустя год после смерти художника в Россию была привезена его знаменитая работа ″Феномена″. Это первая картина, оказавшаяся в России, которая по завещанию мастера была передана в фонд Государственной Третьяковской галереи, пролежала там более 40 лет и только недавно появилась в постоянной экспозиции.
Павел родился 21 сентября 1898 года в день Куликовской битвы в селе Дубровка Калужской губернии, расположенной неподалеку от Оптиной пустыни. По личному указу Ленина семью из родового имения в одночасье выселили, отправив искать другого пристанища. Павлик едет в Киев, берет уроки живописи у Экстер, затем служит картографом в армии Деникина, и в 1919 году принимает решение окончательно покинуть Россию. Так, в 20 лет окончательно обрывается пуповина, связывающая Павла с Отечеством. Челищев следует сначала в Константинополь, затем в Европу. Начинающий художник отправляется покорять Берлин, Лондон и Париж. Во Франции Павел попадает в модный салон американской писательницы Гертруды Стайн и активно сотрудничает с Сергеем Дягилевым, затем перебирается в США, где он жил и работал на протяжении десяти лет. Исследователи творчества Павла Челищева считают, что именно в Америке он смог наиболее полно реализоваться. Однако после окончания войны художник переезжает в Италию. В это время одна из его любимых сестер Мария, оставшаяся в России, была арестована и девять лет провела в сталинском концлагере. Ныне она покоится на Донском кладбище в Москве. А Павел Федорович Челищев умер вблизи Рима в 1957 году и был похоронен на местном погосте. Однако через несколько лет ближайшие родственники, среди которых была его сестра Александра, решили перезахоронить его, перевезя прах Павла Федоровича во Францию на кладбище Пер-Лашез, где также есть родовая могила семьи Челищевых. Поэтому теперь у великого русского живописца две могилы – одна символическая в Италии, другая во Франции.
Документальная картина «Нечетнокрылый ангел» снята для телевизионного канала ″Культура″. О том, как проходили съемки картины, продюсер фильма Нина Зарецкая рассказывает читателям портала ″Соотечественники″.
- Нина, расскажите, как возникла идея этого фильма?
- Эта тема проявилась в беседах с Константином Александровичем Кедровым. Рассказывая о своих родственниках, известный российский поэт не раз подчеркивал, что из всех близких он особенно гордится двоюродным дедушкой – художником Павлом Федоровичем Челищевым, который стал для него символом поэзии. Константин Александрович назвал его ″нечетнокрылым ангелом″. Появлению такого необычного сравнения Кедров обязан своему именитому предку. Из записок деда поэт узнал такую историю. Однажды Павла Челищева спросили относительно одного из его рисунков: ″Почему у Вашего ангела крылья на груди?″ ″А Вы часто видели ангелов?″, - усмехнулся художник, - Для того, чтобы лететь в пространство эн-измерений достаточно одного крыла, преломленного во всех пространствах″. Константин Кедров показал свои статьи об этом талантливом мастере, рассказал о родословной, берущей начало от Ивана Калиты. Ну, как после этого было устоять и не взяться за работу над этой темой, тем более, что в области документального кино к ней еще никто не обращался?
- Название фильма сложилось сразу или прежде было другое название?
- Павла Челищева считали основоположником мистического сюрреализма, поэтому первое название картины было ″Русский Дали″. Но, работая над фильмом, мы провели большое исследование творчества Челищева и открыли одну весьма существенную деталь. Оказалось, что на самом деле в сюрреализме Сальвадор Дали не был первым - первым был Павел Челищев. Многие его открытия сюрреалистического плана предшествовали работам Сальвадора Дали в этой области. Ведь Павел Федорович стал разрабатывать это направлением еще в конце 20-х годов минувшего столетия, в то время как Дали пришел к сюрреализму только в середине 30-х годов.
- Нина, Вы стали и продюсером и автором сценария фильма?
- У картины два сценариста - поэт Константин Александрович Кедров и я. Но именно Константин Кедров стал для фильма, если так можно сказать, отправной точкой, именно с него все и началось. И только потом вокруг картины сложился некий круг единомышленников. Причем всем сразу стало ясно, что в фильме обязательно должны звучать стихи Константина Кедрова, так как это будет не просто повествование о художнике, а рассказ, пропущенный через персональное восприятие его ближайшего родственника. Кстати, на сегодняшний день никто так не близок к Павлу Челищеву, как Константин Александрович Кедров.
- Получается, что Ваш фильм – это рассказ поэта о художнике?
- Да, и это огромное преимущество для раскрытия сложнейшей темы. Ведь поэт говорит особым языком, ему порой бывает проще написать целое стихотворение, чем объясниться в прозе. Конечно, тонкий поэтический план порой не способен объяснить все мелочи, особенности или детали художественного мастерства. Но в какой-то степени он позволяет зрителю глубже понять и тоньше прочувствовать целостный образ художника.
- Какие еще открытия Вам удалось сделать во время работы над этой картиной?
- Во время съемок стали происходить необъяснимые события: сами собой притянулись люди. Например, мы познакомились с отдельной ветвью Челищевых. Это семья, которая в настоящее время проживает в Америке. Кстати, все потомки из рода Челищевых, проживающие сегодня в США, сохранили свою историческую фамилию.
- Вы познакомились с ними в Америке?
- И, да и нет. Наше знакомство с одним из членов этой семьи состоялось в Москве. Мы запланировали провести съемку на Донском кладбище, где находится одна из родовых могил семьи Челищевых. В ней покоятся три сестры художника – Варвара, Наталья и Мария. А также съемку у стен Донского монастыря, где хранится подлинный горельеф ″Посещение Дмитрием Донским Сергия Радонежского перед походом против татар 1380 год″. По легенде, родственник Калиты Михаил Бренко был не только оруженосцем, но и братом Дмитрия Донского. Внешне они были необычайно похожи друг на друга. Искренне волнуясь за судьбу князя, перед сражением Бренко предложил Донскому совершить переодевание. Михаил облачился в доспехи Донского, а Дмитрий переоделся в платье Бренко. После сражения Дмитрий Донской остался жив, а Михаил Бренко погиб: его нашли под грудой тел, разрубленным ″в чело″. В память о героической гибели Михаила ближайшие родственники Бренко стали именовать себя Челищевыми. Может быть, в этой легенде и есть некая доля вымысла, однако Михаил Бренко – это реальный человек, существовавший в истории России, и многие литературные памятники уверенно говорят об этом факте переодевания перед началом Куликовской битвы. День съемок был уже согласован, но буквально накануне Константину Александровичу позвонил некто с явным американским акцентом и представился Виктором Викторовичем Челищевым. Оказалось, что он прилетел из Америки в Москву и является 4-юродным братом Кедрова. Поэт рассказал ему о фильме и предложил встретиться в Донском монастыре. Мы еще не завершили съемку, когда к горельефу подошел наш новый герой. Оказалось, что Виктор Викторович Челищев давно изучал свой древний род и хорошо знает всю его историю. Уже давно он со своей супругой-писательницей живет в Америке. Кстати, его жена Наталья тоже принадлежит к именитому роду Гончаровых, уходящему корнями к Наталье Гончаровой – жене Пушкина и к Наталье Гончаровой – знаменитой художнице. Виктора Викторовича Челищева очень интересовала не только история рода, но и древний фамильный герб. Он выстроил подробное древо Челищевых, берущее свое начало от Ивана Калиты, а то и дальше.
- А чем помимо изучения истории своего рода сегодня занимается Виктор Викторович Челищев?
- Ему сейчас около 70 лет, он живет во Флориде. Прежде Виктор Викторович работал инженером-строителем и немного увлекался архитектурой, а, выйдя на пенсию, стал писать исторические романы. У него два сына, они гордо носят фамилию Челищевых. С ними мы уже познакомились Во время съемок в США старший сын Андрей – архитектор, живет в Нью-Йорке. Это очень интересный и довольно редкого дара человек. Младший сын Марк занимается различными видео и арт-проектами, снимает художественные и документальные фильмы. Кстати, некоторые сцены в фильме ″Нечетнокрылый ангел″ были сняты Марком Челищевым, который с удовольствием выступил в роли оператора. А для нас было очень трепетно и трогательно наблюдать за его работой и видеть это многоликое и живое ″челищевское″ древо в реальном действии.
- Приятно, что они сохранили фамилию Челищевы, даже проживая за пределами России, и бережно хранят память о своем именитом предке. Скажите, сохранились ли в семьях Челищевых какие-нибудь древние реликвии?
- В фильме показана одна из редчайших реликвий, которая хранится у старшего сына Виктора Викторовича Челищева. Это старинная гравюра, некогда принадлежавшая герцогу Люнебургскому, - литография XYII века с подробными картинками и описанием всех эпизодов Куликовской битвы. На этой гравюре сохранилась надпись: ″Вместо себя Михаила″, свидетельствующая о переодевании князя Дмитрия Донского.
- В каких городах снималась картина?
- Сначала планировалось снимать картину на исторической родине Павла Федоровича Челищева – его детство прошло в селе Дубровка в Калужской губернии. Но оказалось, что в Калужской области существует несколько селений и деревень с таким названием, поэтому сегодня с достоверной точностью трудно сказать, в какой из них рос будущий мастер. В биографии художника отмечается, что семья Челищевых часто наведывалась в Москву – на Арбате находился дом, давно принадлежащий роду Челищевых, поэтому мы снимали и в центре Москвы, где Павлик провел свои детские и юношеские годы, и в Нью-Йорке, где Челищев прожил десять лет в зените славы.
- Массу работ Павла Челищева, показанных в фильме, еще ни разу не видели в России. Как Вам удалось найти эти произведения?
- Да, это правда. Сегодня многие из работ Павла Федоровича Челищева хранятся в частных коллекциях, причем большинство - в США. Но, приступив к реализации этого проекта, информация о главном герое стала как-то притягиваться, словно мы следовали за волшебной нитью Ариадны. Нам было приятно узнать, что не только в Америке, но и у нас на родине проходят выставки работ Павла Федоровича Челищева. Единственный, правда, пока вернисаж его работ в России состоялся в сентябре 2007 года в залах частной галереи ″Наши художники″ в Борках. Эта картинная галерея принадлежит Наталии Курниковой, которая полюбила Павла Челищева за его неординарность.
- Павел Челищев рано покинул Россию и большую часть своей жизни провел за ее пределами. Означает ли это, что для него родина была навсегда потеряна, и, находясь на чужбине, он никогда не вспоминал о ней?
- Нет, это не так. У Павла Федоровича Челищева связь с Россией никогда не терялась. Он поддерживал ее и через своих родственников, и через друзей. Правда, у него был довольно обширный и весьма разнообразный круг друзей, в число которых входили Пабло Пикассо, американская писательница Гертруда Стайн и английская поэтесса Эдит Ситуэлл, имя которой было у всех на устах. Но многие ценили Ситуэлл не только за ее прекрасные стихи, но и за ее оригинальность. Любимым занятием этой светской львицы было наряжаться в одежду Елизаветинских времен. Понаблюдать это незабываемое зрелище к ней в дом спешила вся богема. Среди гостей поэтессы можно было часто встретить и Павла Челищева. Общительный и обладающий большим чувством юмора художник поддерживал связь со многими, однако в списке его друзей русских было гораздо больше. Связь с Россией Павел Челищев держал в основном через Сергея Дягилева. В балетный мир Павел Челищев пришел именно благодаря Дягилеву, а там был Джордж Баланчин, Игорь Стравинский, Лифарь и другие. Самый знаменитый проект, над которым работал Павел Челищев – балет ″Ода″.
- В Вашей картине присутствует этот некогда нашумевший балет, как пришла идея восстановить его?
- Это наше ноу-хау. Познакомившись с биографией Павла Челищева, почти сразу же пришла идея реконструировать балет. ″Ода″ - это не чисто дягилевское детище. Ведь Павел Челищев был не только художником-постановщиком этого балета, в основу ″Оды″ была положена концепция Челищева. Здесь Павел Челищев заявил о себе в полную мощь, художник заложил в балет такие вещи, которые только через несколько лет проявились в его живописи и графике. Так, ″Одовские″ мотивы можно наблюдать в челищевских работах, написанных значительно позже, примерно, в 40-е или 50-е годы. Такой факт в судьбе художника невозможно пропустить. Ведь история с постановкой ″Оды″ переросла в громкий скандал. Балет ″Ода″ был поставлен во Франции в театре Сары Бернар в рамках ″Дягилевских сезонов″ 1928 года. Это, к сожалению, единственная постановка, потому что балет не был понятен, а потому и не принят современниками.
- Какие непонятные для зрителей приемы были использованы Павлом Челищевым в балете ″Ода″?
- По замыслу Павла Челищева во время спектакля на сцене применялись не только различные пиротехнические эффекты, но и особое свечение, а также кинопроекция. В театре стоял кинопроектор, при помощи которого в зал запускалось некое изображение. Кроме того, главного героя – танцовщика Лифаря, Челищев заставил во время спектакля … бегать по спинам балерин, что, по определению, не могло им понравиться. Привыкшие к классическому стилю, зрители не могли понять и принять это новаторство, а после премьеры еще и многочисленные театральные критики начали соревноваться друг с другом в остроте ругательств в адрес художника.
- А кто стал автором музыки к балету ″Ода″?
- Музыка была написана Николаем Набоковым – это двоюродный брат гениального русского писателя. Но, видимо он сделал это не совсем удачно, постановка, скорее, напоминала ″детский утренник″ по меткому выражению Константина Кедрова. В результате премьера ″Оды″ с треском провалилась. Павел Челищев очень переживал по этому поводу, говоря: ″Я Вам открыл дверь в Мироздание, в Вечность, а Вы не захотели туда войти!″. Успокаивая своего кумира, верная поклонница таланта Павла Челищева Гертруда Стайн, говорила: ″Придет время. Все увидят и войдут!″ Она-то как раз восприняла и поняла все, что было заложено художником в этом спектакле. Мы решили восстановить балет и показать его в картине. Удалось отыскать отдельные фотографии, нашелся текст М.В.Ломоносова, написавшего ″Оду″ по поводу ″Вечернего размышления о Божием величестве при случае великого Северного сияния″. Мы решили сделать не реконструкцию, а реплику, свою версию балета. Новое либретто, придуманное нами, состоит из трех частей: ″Ад″, ″Чистилище″ и ″Рай″. Такой выбор не случаен. У Павла Челищева существует три больших цикла, по которым можно классифицировать его работы. Первая - тема ″Ада″, блистательно раскрытая художником в картине ″Феномена″. К циклу ″Чистилище″ можно отнести картину художника ″Игра в прятки″ и ряд более мелких работ, также посвященных этой теме, некоторые из них Челищев использовал как эскизы для своего монументального шедевра. Это громадное полотно было показано в Нью-Йорке в Музее современного искусства (МоМА) и считается одной из самых гениальных его работ. И, наконец, самый последний третий цикл ″Рай″ - незавершенная серия, объединяющая необычные геометрические картины, излучающие какой-то сверхъестественный свет. Среди этих ″светящихся″ работ Павла Челищева есть одна, которая считается наиболее явным прототипом будущего масштабного полотна - ″Рая″, который художник так и не успел завершить.
- В картине есть редкие кадры?
- Фильм складывался спонтанно. У нас не было заранее придуманных сцен или планов, но словно что-то нас вело. Может быть, именно эта магическая невидимая нить Ариадны привела нас в Нью-Йорк, в галерею сюрреализма, которая существует там уже более 20 лет и принадлежит Стиву Лукасу. Оказалось, что у него собрана прекрасная коллекция работ Павла Челищева, и мы получили разрешение показать их в фильме.
Реализация такого объемного и многопланового проекта позволит российским исследователям искусства обратить более пристальное внимание на творческое наследие нашего именитого соотечественника, послужит общему признанию его личных заслуг, а также станет окончательным возвращением Павла Федоровича Челищева в Россию.
Елена Еремеева
--------------------------------------------------------------------------------

В Европе и Америке творчеством Павла Федоровича Челищева восхищались, боготворили, называя ″русским Дали″.
Павел Федорович Челищев был открывателем новых путей в живописи в первой половине XX века. В Европе и Америке его творчеством восхищались, боготворили, называя ″русским Дали″, в то время как в России имя этого самобытного и чрезвычайно талантливого художника сегодня мало кому известно. Он навсегда покинул родину в 1919 году вместе с армией Деникина. И так никогда не вернулся назад. Правда, в 1958 году спустя год после смерти художника в Россию была привезена его знаменитая работа ″Феномена″. Это первая картина, оказавшаяся в России, которая по завещанию мастера была передана в фонд Государственной Третьяковской галереи, пролежала там более 40 лет и только недавно появилась в постоянной экспозиции.
Павел родился 21 сентября 1898 года в день Куликовской битвы в селе Дубровка Калужской губернии, расположенной неподалеку от Оптиной пустыни. По личному указу Ленина семью из родового имения в одночасье выселили, отправив искать другого пристанища. Павлик едет в Киев, берет уроки живописи у Экстер, затем служит картографом в армии Деникина, и в 1919 году принимает решение окончательно покинуть Россию. Так, в 20 лет окончательно обрывается пуповина, связывающая Павла с Отечеством. Челищев следует сначала в Константинополь, затем в Европу. Начинающий художник отправляется покорять Берлин, Лондон и Париж. Во Франции Павел попадает в модный салон американской писательницы Гертруды Стайн и активно сотрудничает с Сергеем Дягилевым, затем перебирается в США, где он жил и работал на протяжении десяти лет. Исследователи творчества Павла Челищева считают, что именно в Америке он смог наиболее полно реализоваться. Однако после окончания войны художник переезжает в Италию. В это время одна из его любимых сестер Мария, оставшаяся в России, была арестована и девять лет провела в сталинском концлагере. Ныне она покоится на Донском кладбище в Москве. А Павел Федорович Челищев умер вблизи Рима в 1957 году и был похоронен на местном погосте. Однако через несколько лет ближайшие родственники, среди которых была его сестра Александра, решили перезахоронить его, перевезя прах Павла Федоровича во Францию на кладбище Пер-Лашез, где также есть родовая могила семьи Челищевых. Поэтому теперь у великого русского живописца две могилы – одна символическая в Италии, другая во Франции.
Документальная картина «Нечетнокрылый ангел» снята для телевизионного канала ″Культура″. О том, как проходили съемки картины, продюсер фильма Нина Зарецкая рассказывает читателям портала ″Соотечественники″.
- Нина, расскажите, как возникла идея этого фильма?
- Эта тема проявилась в беседах с Константином Александровичем Кедровым. Рассказывая о своих родственниках, известный российский поэт не раз подчеркивал, что из всех близких он особенно гордится двоюродным дедушкой – художником Павлом Федоровичем Челищевым, который стал для него символом поэзии. Константин Александрович назвал его ″нечетнокрылым ангелом″. Появлению такого необычного сравнения Кедров обязан своему именитому предку. Из записок деда поэт узнал такую историю. Однажды Павла Челищева спросили относительно одного из его рисунков: ″Почему у Вашего ангела крылья на груди?″ ″А Вы часто видели ангелов?″, - усмехнулся художник, - Для того, чтобы лететь в пространство эн-измерений достаточно одного крыла, преломленного во всех пространствах″. Константин Кедров показал свои статьи об этом талантливом мастере, рассказал о родословной, берущей начало от Ивана Калиты. Ну, как после этого было устоять и не взяться за работу над этой темой, тем более, что в области документального кино к ней еще никто не обращался?
- Название фильма сложилось сразу или прежде было другое название?
- Павла Челищева считали основоположником мистического сюрреализма, поэтому первое название картины было ″Русский Дали″. Но, работая над фильмом, мы провели большое исследование творчества Челищева и открыли одну весьма существенную деталь. Оказалось, что на самом деле в сюрреализме Сальвадор Дали не был первым - первым был Павел Челищев. Многие его открытия сюрреалистического плана предшествовали работам Сальвадора Дали в этой области. Ведь Павел Федорович стал разрабатывать это направлением еще в конце 20-х годов минувшего столетия, в то время как Дали пришел к сюрреализму только в середине 30-х годов.
- Нина, Вы стали и продюсером и автором сценария фильма?
- У картины два сценариста - поэт Константин Александрович Кедров и я. Но именно Константин Кедров стал для фильма, если так можно сказать, отправной точкой, именно с него все и началось. И только потом вокруг картины сложился некий круг единомышленников. Причем всем сразу стало ясно, что в фильме обязательно должны звучать стихи Константина Кедрова, так как это будет не просто повествование о художнике, а рассказ, пропущенный через персональное восприятие его ближайшего родственника. Кстати, на сегодняшний день никто так не близок к Павлу Челищеву, как Константин Александрович Кедров.
- Получается, что Ваш фильм – это рассказ поэта о художнике?
- Да, и это огромное преимущество для раскрытия сложнейшей темы. Ведь поэт говорит особым языком, ему порой бывает проще написать целое стихотворение, чем объясниться в прозе. Конечно, тонкий поэтический план порой не способен объяснить все мелочи, особенности или детали художественного мастерства. Но в какой-то степени он позволяет зрителю глубже понять и тоньше прочувствовать целостный образ художника.
- Какие еще открытия Вам удалось сделать во время работы над этой картиной?
- Во время съемок стали происходить необъяснимые события: сами собой притянулись люди. Например, мы познакомились с отдельной ветвью Челищевых. Это семья, которая в настоящее время проживает в Америке. Кстати, все потомки из рода Челищевых, проживающие сегодня в США, сохранили свою историческую фамилию.
- Вы познакомились с ними в Америке?
- И, да и нет. Наше знакомство с одним из членов этой семьи состоялось в Москве. Мы запланировали провести съемку на Донском кладбище, где находится одна из родовых могил семьи Челищевых. В ней покоятся три сестры художника – Варвара, Наталья и Мария. А также съемку у стен Донского монастыря, где хранится подлинный горельеф ″Посещение Дмитрием Донским Сергия Радонежского перед походом против татар 1380 год″. По легенде, родственник Калиты Михаил Бренко был не только оруженосцем, но и братом Дмитрия Донского. Внешне они были необычайно похожи друг на друга. Искренне волнуясь за судьбу князя, перед сражением Бренко предложил Донскому совершить переодевание. Михаил облачился в доспехи Донского, а Дмитрий переоделся в платье Бренко. После сражения Дмитрий Донской остался жив, а Михаил Бренко погиб: его нашли под грудой тел, разрубленным ″в чело″. В память о героической гибели Михаила ближайшие родственники Бренко стали именовать себя Челищевыми. Может быть, в этой легенде и есть некая доля вымысла, однако Михаил Бренко – это реальный человек, существовавший в истории России, и многие литературные памятники уверенно говорят об этом факте переодевания перед началом Куликовской битвы. День съемок был уже согласован, но буквально накануне Константину Александровичу позвонил некто с явным американским акцентом и представился Виктором Викторовичем Челищевым. Оказалось, что он прилетел из Америки в Москву и является 4-юродным братом Кедрова. Поэт рассказал ему о фильме и предложил встретиться в Донском монастыре. Мы еще не завершили съемку, когда к горельефу подошел наш новый герой. Оказалось, что Виктор Викторович Челищев давно изучал свой древний род и хорошо знает всю его историю. Уже давно он со своей супругой-писательницей живет в Америке. Кстати, его жена Наталья тоже принадлежит к именитому роду Гончаровых, уходящему корнями к Наталье Гончаровой – жене Пушкина и к Наталье Гончаровой – знаменитой художнице. Виктора Викторовича Челищева очень интересовала не только история рода, но и древний фамильный герб. Он выстроил подробное древо Челищевых, берущее свое начало от Ивана Калиты, а то и дальше.
- А чем помимо изучения истории своего рода сегодня занимается Виктор Викторович Челищев?
- Ему сейчас около 70 лет, он живет во Флориде. Прежде Виктор Викторович работал инженером-строителем и немного увлекался архитектурой, а, выйдя на пенсию, стал писать исторические романы. У него два сына, они гордо носят фамилию Челищевых. С ними мы уже познакомились Во время съемок в США старший сын Андрей – архитектор, живет в Нью-Йорке. Это очень интересный и довольно редкого дара человек. Младший сын Марк занимается различными видео и арт-проектами, снимает художественные и документальные фильмы. Кстати, некоторые сцены в фильме ″Нечетнокрылый ангел″ были сняты Марком Челищевым, который с удовольствием выступил в роли оператора. А для нас было очень трепетно и трогательно наблюдать за его работой и видеть это многоликое и живое ″челищевское″ древо в реальном действии.
- Приятно, что они сохранили фамилию Челищевы, даже проживая за пределами России, и бережно хранят память о своем именитом предке. Скажите, сохранились ли в семьях Челищевых какие-нибудь древние реликвии?
- В фильме показана одна из редчайших реликвий, которая хранится у старшего сына Виктора Викторовича Челищева. Это старинная гравюра, некогда принадлежавшая герцогу Люнебургскому, - литография XYII века с подробными картинками и описанием всех эпизодов Куликовской битвы. На этой гравюре сохранилась надпись: ″Вместо себя Михаила″, свидетельствующая о переодевании князя Дмитрия Донского.
- В каких городах снималась картина?
- Сначала планировалось снимать картину на исторической родине Павла Федоровича Челищева – его детство прошло в селе Дубровка в Калужской губернии. Но оказалось, что в Калужской области существует несколько селений и деревень с таким названием, поэтому сегодня с достоверной точностью трудно сказать, в какой из них рос будущий мастер. В биографии художника отмечается, что семья Челищевых часто наведывалась в Москву – на Арбате находился дом, давно принадлежащий роду Челищевых, поэтому мы снимали и в центре Москвы, где Павлик провел свои детские и юношеские годы, и в Нью-Йорке, где Челищев прожил десять лет в зените славы.
- Массу работ Павла Челищева, показанных в фильме, еще ни разу не видели в России. Как Вам удалось найти эти произведения?
- Да, это правда. Сегодня многие из работ Павла Федоровича Челищева хранятся в частных коллекциях, причем большинство - в США. Но, приступив к реализации этого проекта, информация о главном герое стала как-то притягиваться, словно мы следовали за волшебной нитью Ариадны. Нам было приятно узнать, что не только в Америке, но и у нас на родине проходят выставки работ Павла Федоровича Челищева. Единственный, правда, пока вернисаж его работ в России состоялся в сентябре 2007 года в залах частной галереи ″Наши художники″ в Борках. Эта картинная галерея принадлежит Наталии Курниковой, которая полюбила Павла Челищева за его неординарность.
- Павел Челищев рано покинул Россию и большую часть своей жизни провел за ее пределами. Означает ли это, что для него родина была навсегда потеряна, и, находясь на чужбине, он никогда не вспоминал о ней?
- Нет, это не так. У Павла Федоровича Челищева связь с Россией никогда не терялась. Он поддерживал ее и через своих родственников, и через друзей. Правда, у него был довольно обширный и весьма разнообразный круг друзей, в число которых входили Пабло Пикассо, американская писательница Гертруда Стайн и английская поэтесса Эдит Ситуэлл, имя которой было у всех на устах. Но многие ценили Ситуэлл не только за ее прекрасные стихи, но и за ее оригинальность. Любимым занятием этой светской львицы было наряжаться в одежду Елизаветинских времен. Понаблюдать это незабываемое зрелище к ней в дом спешила вся богема. Среди гостей поэтессы можно было часто встретить и Павла Челищева. Общительный и обладающий большим чувством юмора художник поддерживал связь со многими, однако в списке его друзей русских было гораздо больше. Связь с Россией Павел Челищев держал в основном через Сергея Дягилева. В балетный мир Павел Челищев пришел именно благодаря Дягилеву, а там был Джордж Баланчин, Игорь Стравинский, Лифарь и другие. Самый знаменитый проект, над которым работал Павел Челищев – балет ″Ода″.
- В Вашей картине присутствует этот некогда нашумевший балет, как пришла идея восстановить его?
- Это наше ноу-хау. Познакомившись с биографией Павла Челищева, почти сразу же пришла идея реконструировать балет. ″Ода″ - это не чисто дягилевское детище. Ведь Павел Челищев был не только художником-постановщиком этого балета, в основу ″Оды″ была положена концепция Челищева. Здесь Павел Челищев заявил о себе в полную мощь, художник заложил в балет такие вещи, которые только через несколько лет проявились в его живописи и графике. Так, ″Одовские″ мотивы можно наблюдать в челищевских работах, написанных значительно позже, примерно, в 40-е или 50-е годы. Такой факт в судьбе художника невозможно пропустить. Ведь история с постановкой ″Оды″ переросла в громкий скандал. Балет ″Ода″ был поставлен во Франции в театре Сары Бернар в рамках ″Дягилевских сезонов″ 1928 года. Это, к сожалению, единственная постановка, потому что балет не был понятен, а потому и не принят современниками.
- Какие непонятные для зрителей приемы были использованы Павлом Челищевым в балете ″Ода″?
- По замыслу Павла Челищева во время спектакля на сцене применялись не только различные пиротехнические эффекты, но и особое свечение, а также кинопроекция. В театре стоял кинопроектор, при помощи которого в зал запускалось некое изображение. Кроме того, главного героя – танцовщика Лифаря, Челищев заставил во время спектакля … бегать по спинам балерин, что, по определению, не могло им понравиться. Привыкшие к классическому стилю, зрители не могли понять и принять это новаторство, а после премьеры еще и многочисленные театральные критики начали соревноваться друг с другом в остроте ругательств в адрес художника.
- А кто стал автором музыки к балету ″Ода″?
- Музыка была написана Николаем Набоковым – это двоюродный брат гениального русского писателя. Но, видимо он сделал это не совсем удачно, постановка, скорее, напоминала ″детский утренник″ по меткому выражению Константина Кедрова. В результате премьера ″Оды″ с треском провалилась. Павел Челищев очень переживал по этому поводу, говоря: ″Я Вам открыл дверь в Мироздание, в Вечность, а Вы не захотели туда войти!″. Успокаивая своего кумира, верная поклонница таланта Павла Челищева Гертруда Стайн, говорила: ″Придет время. Все увидят и войдут!″ Она-то как раз восприняла и поняла все, что было заложено художником в этом спектакле. Мы решили восстановить балет и показать его в картине. Удалось отыскать отдельные фотографии, нашелся текст М.В.Ломоносова, написавшего ″Оду″ по поводу ″Вечернего размышления о Божием величестве при случае великого Северного сияния″. Мы решили сделать не реконструкцию, а реплику, свою версию балета. Новое либретто, придуманное нами, состоит из трех частей: ″Ад″, ″Чистилище″ и ″Рай″. Такой выбор не случаен. У Павла Челищева существует три больших цикла, по которым можно классифицировать его работы. Первая - тема ″Ада″, блистательно раскрытая художником в картине ″Феномена″. К циклу ″Чистилище″ можно отнести картину художника ″Игра в прятки″ и ряд более мелких работ, также посвященных этой теме, некоторые из них Челищев использовал как эскизы для своего монументального шедевра. Это громадное полотно было показано в Нью-Йорке в Музее современного искусства (МоМА) и считается одной из самых гениальных его работ. И, наконец, самый последний третий цикл ″Рай″ - незавершенная серия, объединяющая необычные геометрические картины, излучающие какой-то сверхъестественный свет. Среди этих ″светящихся″ работ Павла Челищева есть одна, которая считается наиболее явным прототипом будущего масштабного полотна - ″Рая″, который художник так и не успел завершить.
- В картине есть редкие кадры?
- Фильм складывался спонтанно. У нас не было заранее придуманных сцен или планов, но словно что-то нас вело. Может быть, именно эта магическая невидимая нить Ариадны привела нас в Нью-Йорк, в галерею сюрреализма, которая существует там уже более 20 лет и принадлежит Стиву Лукасу. Оказалось, что у него собрана прекрасная коллекция работ Павла Челищева, и мы получили разрешение показать их в фильме.
Реализация такого объемного и многопланового проекта позволит российским исследователям искусства обратить более пристальное внимание на творческое наследие нашего именитого соотечественника, послужит общему признанию его личных заслуг, а также станет окончательным возвращением Павла Федоровича Челищева в Россию.
Елена Еремеева
--------------------------------------------------------------------------------

|
|
к.кедров фиалкиада |
Константин Кедров
http://konstantin-kedrov.ru/
http://1ben-konst.livejournal.com/
http://www.liveinternet.ru/users/2502406/video/
Недавно Андрей подарил мне гениальную поэму "Возвратитесь в цветы"."Фиалкиада"мой отклик,
Посвящаю ее Андрею с его разрешения.http://video.mail.ru/mail/kedrov42/
http://www.liveinternet.ru/users/2502406/post73802764/
Посмотерть видео http://video.mail.ru/mail/kedrov42/6/193.html
http://www.liveinternet.ru/users/1951050/profile/
Андрею Вознесенскому, поэту и другу
Сапфо фиалкокудрая
Сапфо фиалкогрудая
Сапфо фиалкорукая
Сапфо фиалкомудрая
Купите фиалки
фиалки Монмартра
фиалки для Сартра
для Сартра фиалки
Цветы растут друг из друга
И мы с тобой друг для друга
В солнце макая маки
пишут Ван Гога маки
пишут Моне кувшинки
пишет тебя сирень
Все мы друг друга пишем
гроздьями каждый день
Сколько кистей в палитре
столько в лугах цветов
Сколько цветов в палитре
столько цветов
«Возвратитесь в цветы»* –
говорит Вознесенский
возвратимся Андрюша и я и ты
а когда возвратимся
то вновь возродимся
и конечно же в нас возвратятся цветы
ты конечно же ирис
это каждому ясно
и рисуют тебя
все живые цветы
и рисуют нас звезды
небесные астры
и рисует нас сад
из цветной наготы
звездный сад состоит не из звезд
а из света
свет из звёзд –
аромат из цветов
Это лето поэтов
из звёздного цвета
ароматного цвета цветов
Кто-то дарит цветы
Кто-то делает деньги
Словом каждый при деле
«какникрути»
Ну а вечное дело
цветов и поэтов
отцветать и цвести
Отцветать и цвести
Нам нельзя возвращаться в тюльпаны и в маки
Горл бутоны готовы
И еще неизвестные монстры Ламарка
вырастая из горл
возвращаются в слово
Сад словесный ночной гиацинтовый росный
Соловьи айлавьют свои гнезда из горл
Как разряд освежающий нежный и грозный
сад словесный рыдающий как Кьеркегор
Мы не можем ждать милости от сирени
Мы не можем ждать милости даже от роз
потому что все Сирины осиротели
без сирени отрубленных Врубелем слез
Под душистою веткой сиренью расстрелян
князь великий К.Р.
По призыву поэта
Растрелли расстрелян
Все расстреляны
кто не отрёкся
от звёзд
от цветов
и от вер
Отверзаются дверцы
хрустального цвета
в алтаре где Флоренский служил литургию
где Флоренции мраморная невеста
прикрывает от копоти плечи нагие
Прорастает в руинах трилистник Баженова
Прорастает Растрелли ростками в раструбе аркад
Всё расстреляно
даже трилистник расстрелян
Всё расстреляно
даже цветов аромат
От Растрелли до расстрела
в гулком сумраке ночей
раздаётся хрип команды
о-гол-телых стукачей
На расстреле фиалок фиалка – Флоренский
вросся в вечную мерзлоту
Лепестками фиалок раскрылась Флоренция
там где Данте стоял на ажурном мосту
Я стоял рядом с ним
Улыбался Флоренский
Этот взорванный мост
тем теперь знаменит
что какой-то безумец оккультно-немецкий
убегая успел подложить динамит
Нам бы памятник при жизни полагается конечно
Заложили динамит –
а ну-ка дрызнь
Закопчённый Дант во тьме кромешной
воспевает вечно Nova Жизнь
Так Флоренский смешивая водоросли
извлекал из них взрывную смесь
Год от года цвести нашей бодрости
Обожаю всяческую смерть
Обожал безбожник жизнь безбожную
Говорят сам выстрелил в себя
Сам или другие
Все возможно
Он в себя стрелял из несебя
В страсть его уже никто не верил
Даже обожаемая лилия
И в социализм он вряд ли верил
Лишь маячила его фамилия
Лиля Брик кровавая Офелия
в ручейке из крови от него плыла
Так швырнул поэт в ручей своё пустое тело
в будущие мёртвые тела
Проплывало тело мимо Данте
Он стоял на взорванном мосту
Маяковский выругался:
– Нате –
Данте плюнул и ушёл к Христу
Но печален был фиалковый Флоренский
он стоял на взорванном мосту
вглядываясь в меркнущие фрески
где Иуда припадал к Христу
Там и я стоял у фрески Джотто
средь фиалок цвета всех цветов
Справа был Флоренский
слева Данте –
два живых священника цветов
Облачаются розы в ризы
опадающих лепестков
Облачаются ризы в розы
розы ризы
цветы цветов
Гроздья гроз извергают розы
и рыдают слезами звёзд
гиацинтов слёзная россыпь
всё оплачет звёздами слёз
Мани-мани Мане
Маки-маки Моне
Отцвели уж давно
хризантемы в саду
хризантемы в аду
хризантемы в раю
Умирай ум и рай
Ум и рай умирай
Я в саду
как в аду
и в аду
как в саду
Из заоблачных мордочек Анатем
вырастают головы хризантем
Отцвели уж давно тамплиеры в кострах
а зола ещё жжёт
ещё жжётся зола
Тамплиеры в кострах
Хризантемы в садах
Все созвездия стары
в астрологии астры
Из расстреллиевых растров
выдвигается раструб
В наведённом на резкость
глазном окоёме
выступают нарезки
окуляров из сердца
Так из лилии вышел Христос
и по водам
шел в одежде из лилий
общаясь с народом
Эта лилия словно
небесное лоно
породила весь мир
и царя Соломона
«Даже царь Соломон
так не выглядел прежде
как небесная лилия
в белой одежде»
Так и вы облачитесь
в одежды из света
Бог воздаст вам за это
воздаст вам за это
Мы прошли по земле
как Христос по воде
оставляя лилий следы
Мы прошли по земле
и остались в земле
как в земле остаются сады
Семена наших душ
прорастут как цветы
и цветами осыплется сад
А над нами на небе другие сады
звёзды гроздьями света висят
Вся галактика – ветка сиреневых слёз
обронённая Богом в ночи
Пью горечь тубероз
пью горечь речи
горечь пью
из нежной горечи
***
А.Вознесенский Стихи о К. Кедрове http://video.mail.ru/mail/kedrov42/1/274.html
* Книга А.Вознесенского «Возвратитесь в цветы».















http://konstantin-kedrov.ru/
http://1ben-konst.livejournal.com/
http://www.liveinternet.ru/users/2502406/video/
Недавно Андрей подарил мне гениальную поэму "Возвратитесь в цветы"."Фиалкиада"мой отклик,
Посвящаю ее Андрею с его разрешения.http://video.mail.ru/mail/kedrov42/
http://www.liveinternet.ru/users/2502406/post73802764/
Посмотерть видео http://video.mail.ru/mail/kedrov42/6/193.html
http://www.liveinternet.ru/users/1951050/profile/
Андрею Вознесенскому, поэту и другу
Сапфо фиалкокудрая
Сапфо фиалкогрудая
Сапфо фиалкорукая
Сапфо фиалкомудрая
Купите фиалки
фиалки Монмартра
фиалки для Сартра
для Сартра фиалки
Цветы растут друг из друга
И мы с тобой друг для друга
В солнце макая маки
пишут Ван Гога маки
пишут Моне кувшинки
пишет тебя сирень
Все мы друг друга пишем
гроздьями каждый день
Сколько кистей в палитре
столько в лугах цветов
Сколько цветов в палитре
столько цветов
«Возвратитесь в цветы»* –
говорит Вознесенский
возвратимся Андрюша и я и ты
а когда возвратимся
то вновь возродимся
и конечно же в нас возвратятся цветы
ты конечно же ирис
это каждому ясно
и рисуют тебя
все живые цветы
и рисуют нас звезды
небесные астры
и рисует нас сад
из цветной наготы
звездный сад состоит не из звезд
а из света
свет из звёзд –
аромат из цветов
Это лето поэтов
из звёздного цвета
ароматного цвета цветов
Кто-то дарит цветы
Кто-то делает деньги
Словом каждый при деле
«какникрути»
Ну а вечное дело
цветов и поэтов
отцветать и цвести
Отцветать и цвести
Нам нельзя возвращаться в тюльпаны и в маки
Горл бутоны готовы
И еще неизвестные монстры Ламарка
вырастая из горл
возвращаются в слово
Сад словесный ночной гиацинтовый росный
Соловьи айлавьют свои гнезда из горл
Как разряд освежающий нежный и грозный
сад словесный рыдающий как Кьеркегор
Мы не можем ждать милости от сирени
Мы не можем ждать милости даже от роз
потому что все Сирины осиротели
без сирени отрубленных Врубелем слез
Под душистою веткой сиренью расстрелян
князь великий К.Р.
По призыву поэта
Растрелли расстрелян
Все расстреляны
кто не отрёкся
от звёзд
от цветов
и от вер
Отверзаются дверцы
хрустального цвета
в алтаре где Флоренский служил литургию
где Флоренции мраморная невеста
прикрывает от копоти плечи нагие
Прорастает в руинах трилистник Баженова
Прорастает Растрелли ростками в раструбе аркад
Всё расстреляно
даже трилистник расстрелян
Всё расстреляно
даже цветов аромат
От Растрелли до расстрела
в гулком сумраке ночей
раздаётся хрип команды
о-гол-телых стукачей
На расстреле фиалок фиалка – Флоренский
вросся в вечную мерзлоту
Лепестками фиалок раскрылась Флоренция
там где Данте стоял на ажурном мосту
Я стоял рядом с ним
Улыбался Флоренский
Этот взорванный мост
тем теперь знаменит
что какой-то безумец оккультно-немецкий
убегая успел подложить динамит
Нам бы памятник при жизни полагается конечно
Заложили динамит –
а ну-ка дрызнь
Закопчённый Дант во тьме кромешной
воспевает вечно Nova Жизнь
Так Флоренский смешивая водоросли
извлекал из них взрывную смесь
Год от года цвести нашей бодрости
Обожаю всяческую смерть
Обожал безбожник жизнь безбожную
Говорят сам выстрелил в себя
Сам или другие
Все возможно
Он в себя стрелял из несебя
В страсть его уже никто не верил
Даже обожаемая лилия
И в социализм он вряд ли верил
Лишь маячила его фамилия
Лиля Брик кровавая Офелия
в ручейке из крови от него плыла
Так швырнул поэт в ручей своё пустое тело
в будущие мёртвые тела
Проплывало тело мимо Данте
Он стоял на взорванном мосту
Маяковский выругался:
– Нате –
Данте плюнул и ушёл к Христу
Но печален был фиалковый Флоренский
он стоял на взорванном мосту
вглядываясь в меркнущие фрески
где Иуда припадал к Христу
Там и я стоял у фрески Джотто
средь фиалок цвета всех цветов
Справа был Флоренский
слева Данте –
два живых священника цветов
Облачаются розы в ризы
опадающих лепестков
Облачаются ризы в розы
розы ризы
цветы цветов
Гроздья гроз извергают розы
и рыдают слезами звёзд
гиацинтов слёзная россыпь
всё оплачет звёздами слёз
Мани-мани Мане
Маки-маки Моне
Отцвели уж давно
хризантемы в саду
хризантемы в аду
хризантемы в раю
Умирай ум и рай
Ум и рай умирай
Я в саду
как в аду
и в аду
как в саду
Из заоблачных мордочек Анатем
вырастают головы хризантем
Отцвели уж давно тамплиеры в кострах
а зола ещё жжёт
ещё жжётся зола
Тамплиеры в кострах
Хризантемы в садах
Все созвездия стары
в астрологии астры
Из расстреллиевых растров
выдвигается раструб
В наведённом на резкость
глазном окоёме
выступают нарезки
окуляров из сердца
Так из лилии вышел Христос
и по водам
шел в одежде из лилий
общаясь с народом
Эта лилия словно
небесное лоно
породила весь мир
и царя Соломона
«Даже царь Соломон
так не выглядел прежде
как небесная лилия
в белой одежде»
Так и вы облачитесь
в одежды из света
Бог воздаст вам за это
воздаст вам за это
Мы прошли по земле
как Христос по воде
оставляя лилий следы
Мы прошли по земле
и остались в земле
как в земле остаются сады
Семена наших душ
прорастут как цветы
и цветами осыплется сад
А над нами на небе другие сады
звёзды гроздьями света висят
Вся галактика – ветка сиреневых слёз
обронённая Богом в ночи
Пью горечь тубероз
пью горечь речи
горечь пью
из нежной горечи
***
А.Вознесенский Стихи о К. Кедрове http://video.mail.ru/mail/kedrov42/1/274.html
* Книга А.Вознесенского «Возвратитесь в цветы».















|
|
илл.Галины Мальцевой к книге К.Кедрова |
из книги Константина Кедрова "Паралельные миры" АиФ 2002 М.
















|
|
к. кедров грезофарс игоря северянина |
"ГРЕЗОФАРС" ИГОРЯ СЕВЕРЯНИНА
(Журнал «В мире книг»)
Игорь Северянин – псевдоним поэта Лотарева. Он родился в 1887 году в Петербурге, а учился в реальном училище в Череповце. По материнской линии Северянин – дальний родственник Фета.
Свои первые стихи Северянин опубликовал в 1905 году, а спустя семь лет он имел все основания оказать о себе такие слова:
«Я – гений, Игорь Северянин,
своей победой упоен:
я повсеградно оэкранен!
я повоесердно утвержден!»
Так оно и было. Северянин был намного популярнее Блока, Хлебникова, Брюсова, Маяковского. Его избрали королем поэтов и вскоре... забыли.
Мир, воспеваемый поэтом был мимолетен, непрочен, хрупок. Он промелькнул в отблеске зеркальных лифтов и растворился, как газовый шлейф ранних авто. Ныне это "ретро", что-то в стиле фильма Н.Михалкова о Вере Холодной, и вот что странно: чем-то он дорог нам, этот беззащитный, недолговечный и такой далекий миф начала нашего, ныне уходящего века.
«Это было у моря, где ажурная пена,
где встречается редко городской экипаж...
Королева играла в башне замка Шопена,
и, внимая Шопену, полюбил ее паж».
В исполнении Вертинского этот "грезофарс" дожил до наших дней, и, вероятно, его будут вспоминать наши дети и внуки, оглохшие от металлического рока.
Русская действительность того времени была совсем не похожа на стихи Игоря Северянина, но киномечта, некий миф, поэтическая греза о беззаботном царстве праздника и любви – это оттуда. У каждого века есть свой поэтический земной рай. В ХVIII веке поэт Тредиаковский написал роман в стихах "Езда в остров любви". На этом острове не было никого, кроме любящих и влюбленных и не было других проблем, кроме любовных мук. Десять лет стихи Тредиаковского читали и переписывали в тетрадки влюбленные, а потом забыли.
Такую же, страну любви создал в поэтическом воображении Игорь Северянин. Была ли она в действительности? Да, была, поскольку мечта есть тоже действительность.
Молодые люда довоенного времени в упоении скандировали такие стихи:
«Мороженое из сирени! Мороженое из сирени!
Полпорции десять копеек, четыре копейки буше.
Сударышни, судари, надо ль? Не дорого – можно без прений...
Поешь деликатного, площадь; придется товар по душе!..
Сирень – сладострастья эмблема. В лиловоизнеженном креме
Зальдись, водопадное сердце, в .душистый и сладкий пушок...
Мороженое из сирени! Мороженое из сирени!
Эй, мальчик со сбитнем, попробуй! Ей богу, похвалишь, дружок!»
Оставался год до начала мировой войны, впереди был голод и картофельные очистки как лакомство, но "мороженое из сирени", пережив две мировых войны, все же осталось – не еда, не лакомство, а поэтическая греза Игоря Северянина.
Поэта так часто, так много ругали за отрыв от действительности, что невольно хочется спустя сто лет похвалить Северянина за это страшное злодеяние. Он подарил читателю свою поэтическую мечту, заставил в нее поверить, создал праздничный феерический мир, поэтический остров радости. Ведь не ругаем мы французских художников Буше и Ватто за их праздничные полотна, где только любовь и счастье.
Как отдыхает взор человека, когда он видит зимой тепличную розу или экзотическую комнатную птичку, или редкую ювелирную шкатулку. Никто не требует, чтобы тепличные розы украшали газоны, а канарейки возились в пыли вместе с воробьями. Все понимают, что это искусственное, редкое, уникальное, за что и ценят.
Поэзия Игоря Северянина – такая редкость. Она прекрасна своей уникальностью, искусственностью, хрупкостью. Это лишь одна грань, но она сияет и переливается своим единственным спектром.
С непринужденной легкостью поэт сумел вплести в свой изысканный витраж арматуру века. Здесь есть и сирень, и бензин.
«Элегантная коляска, в электрическом биенье,
элластично шелестела по шосейному леску...
Хохот, свежий точно море, хохот жаркий точно кратер,
лился лавой из коляски, остывая в выси сфер.
Шелестел молниеносно под колесами фарватер,
и пьянел вином восторга поощряемый шофер».
Часто забывают, что лучшие стихи Северянина написаны в молодости от 18 до 25 лет. Он прожил 56 лет. Умер на чужбине в 1941 году, как и все русские поэты в эмиграции, тоскуя по родине. Когда говорят, что поэзия – удел молодых, это верно по отношению ко многим. Есть, конечно, исключения: Гете, Фет, Тютчев, Державин: они в преклонные годы создавали гениальные вещи; и все же энергия, свежесть, оптимизм, радость – все это так естественно в молодости. Северянин был молод в самом лучшем смысле этого слова. Но с годами это состояние восторга перед жизнью как бы законсервировалось, превратилось в крикливый манифест, потеряло свою естественность, превратилось в позу. Ему перестали верить.
Велимир Хлебников на два года старше Северянина. Тем не менее Северянин – его учитель. Как стремительно, даже не будучи популярным у массового читателя, Хлебников распространил свое влияние на все поэтические школы и направления вплоть до нашего времени. Сейчас трудно себе представить, что и Маяковский начинал как ученик Северянина, и тем не менее это так. Молодой, вечно молодой Северянин – патриарх и основоположник русского футуризма. Так что же оставило Северянина далеко позади от своих великих учеников?
Есть очень редкие и по-своему цельные натуры, не поддающиеся влиянию времени. Они восходят на вершину своей славы, своих возможностей где-то в ранней молодости, а затем время прекращает для них свое движение. Парадоксально, что именно поэтому они быстрее стареют, вернее устаревают. Остановившееся новаторство становится архаизмом.
В чем-то сходную трагедию пережил замечательный предшественник Северянина Бальмонт. Вырвавшись далеко вперед на гребне поэтических аллитераций, он остановился в развитии и уже не замечал стремительного обгона на поворотах.
Так сам себя загипнотизировал Игорь Северянин новыми созвучиями, редкими по тому времени словами индустриального лексикона, дерзким противоборством мечты с действительностью и на редкость удавшимся ему соединением несоединимого – бензина и розы. В жизни такое сочетание ужасно, в поэзии восхитительно, ибо поэзия, по словам М.Ломоносова, есть "сопряжение далековатых идей".
Хотя впереди была половина жизни, в 28 лет поэт написал свой дерзкий поэтический манифест "Ананасы в шампанском" – поэтически это была лебединая песнь Игоря Северянина. Прежняя безмятежность исчезла, появился трагический надлом, ясно обозначилась роковая черта, отделявшая поэта от будущего.
«В группе девушек нервном, в остром обществе дамском
я трагедию жизни претворю в грезофарс...
Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!
Из Москвы – в Нагасаки! Из Нью-Йорка – на Марс!»
"Розирис" – так назывался цикл стихов, куда входило это стихотворение. Это соединение Озириса и розы, Озирис, воскресающий и умирающий бог Древнего Египта, роза – символ трепетной и мгновенной увядающей красоты.
Такова поэзия Игоря Северянина. Она отцвела мгновенно и теперь вечно возрождается в новых эпохах.
(Журнал «В мире книг»)
Игорь Северянин – псевдоним поэта Лотарева. Он родился в 1887 году в Петербурге, а учился в реальном училище в Череповце. По материнской линии Северянин – дальний родственник Фета.
Свои первые стихи Северянин опубликовал в 1905 году, а спустя семь лет он имел все основания оказать о себе такие слова:
«Я – гений, Игорь Северянин,
своей победой упоен:
я повсеградно оэкранен!
я повоесердно утвержден!»
Так оно и было. Северянин был намного популярнее Блока, Хлебникова, Брюсова, Маяковского. Его избрали королем поэтов и вскоре... забыли.
Мир, воспеваемый поэтом был мимолетен, непрочен, хрупок. Он промелькнул в отблеске зеркальных лифтов и растворился, как газовый шлейф ранних авто. Ныне это "ретро", что-то в стиле фильма Н.Михалкова о Вере Холодной, и вот что странно: чем-то он дорог нам, этот беззащитный, недолговечный и такой далекий миф начала нашего, ныне уходящего века.
«Это было у моря, где ажурная пена,
где встречается редко городской экипаж...
Королева играла в башне замка Шопена,
и, внимая Шопену, полюбил ее паж».
В исполнении Вертинского этот "грезофарс" дожил до наших дней, и, вероятно, его будут вспоминать наши дети и внуки, оглохшие от металлического рока.
Русская действительность того времени была совсем не похожа на стихи Игоря Северянина, но киномечта, некий миф, поэтическая греза о беззаботном царстве праздника и любви – это оттуда. У каждого века есть свой поэтический земной рай. В ХVIII веке поэт Тредиаковский написал роман в стихах "Езда в остров любви". На этом острове не было никого, кроме любящих и влюбленных и не было других проблем, кроме любовных мук. Десять лет стихи Тредиаковского читали и переписывали в тетрадки влюбленные, а потом забыли.
Такую же, страну любви создал в поэтическом воображении Игорь Северянин. Была ли она в действительности? Да, была, поскольку мечта есть тоже действительность.
Молодые люда довоенного времени в упоении скандировали такие стихи:
«Мороженое из сирени! Мороженое из сирени!
Полпорции десять копеек, четыре копейки буше.
Сударышни, судари, надо ль? Не дорого – можно без прений...
Поешь деликатного, площадь; придется товар по душе!..
Сирень – сладострастья эмблема. В лиловоизнеженном креме
Зальдись, водопадное сердце, в .душистый и сладкий пушок...
Мороженое из сирени! Мороженое из сирени!
Эй, мальчик со сбитнем, попробуй! Ей богу, похвалишь, дружок!»
Оставался год до начала мировой войны, впереди был голод и картофельные очистки как лакомство, но "мороженое из сирени", пережив две мировых войны, все же осталось – не еда, не лакомство, а поэтическая греза Игоря Северянина.
Поэта так часто, так много ругали за отрыв от действительности, что невольно хочется спустя сто лет похвалить Северянина за это страшное злодеяние. Он подарил читателю свою поэтическую мечту, заставил в нее поверить, создал праздничный феерический мир, поэтический остров радости. Ведь не ругаем мы французских художников Буше и Ватто за их праздничные полотна, где только любовь и счастье.
Как отдыхает взор человека, когда он видит зимой тепличную розу или экзотическую комнатную птичку, или редкую ювелирную шкатулку. Никто не требует, чтобы тепличные розы украшали газоны, а канарейки возились в пыли вместе с воробьями. Все понимают, что это искусственное, редкое, уникальное, за что и ценят.
Поэзия Игоря Северянина – такая редкость. Она прекрасна своей уникальностью, искусственностью, хрупкостью. Это лишь одна грань, но она сияет и переливается своим единственным спектром.
С непринужденной легкостью поэт сумел вплести в свой изысканный витраж арматуру века. Здесь есть и сирень, и бензин.
«Элегантная коляска, в электрическом биенье,
элластично шелестела по шосейному леску...
Хохот, свежий точно море, хохот жаркий точно кратер,
лился лавой из коляски, остывая в выси сфер.
Шелестел молниеносно под колесами фарватер,
и пьянел вином восторга поощряемый шофер».
Часто забывают, что лучшие стихи Северянина написаны в молодости от 18 до 25 лет. Он прожил 56 лет. Умер на чужбине в 1941 году, как и все русские поэты в эмиграции, тоскуя по родине. Когда говорят, что поэзия – удел молодых, это верно по отношению ко многим. Есть, конечно, исключения: Гете, Фет, Тютчев, Державин: они в преклонные годы создавали гениальные вещи; и все же энергия, свежесть, оптимизм, радость – все это так естественно в молодости. Северянин был молод в самом лучшем смысле этого слова. Но с годами это состояние восторга перед жизнью как бы законсервировалось, превратилось в крикливый манифест, потеряло свою естественность, превратилось в позу. Ему перестали верить.
Велимир Хлебников на два года старше Северянина. Тем не менее Северянин – его учитель. Как стремительно, даже не будучи популярным у массового читателя, Хлебников распространил свое влияние на все поэтические школы и направления вплоть до нашего времени. Сейчас трудно себе представить, что и Маяковский начинал как ученик Северянина, и тем не менее это так. Молодой, вечно молодой Северянин – патриарх и основоположник русского футуризма. Так что же оставило Северянина далеко позади от своих великих учеников?
Есть очень редкие и по-своему цельные натуры, не поддающиеся влиянию времени. Они восходят на вершину своей славы, своих возможностей где-то в ранней молодости, а затем время прекращает для них свое движение. Парадоксально, что именно поэтому они быстрее стареют, вернее устаревают. Остановившееся новаторство становится архаизмом.
В чем-то сходную трагедию пережил замечательный предшественник Северянина Бальмонт. Вырвавшись далеко вперед на гребне поэтических аллитераций, он остановился в развитии и уже не замечал стремительного обгона на поворотах.
Так сам себя загипнотизировал Игорь Северянин новыми созвучиями, редкими по тому времени словами индустриального лексикона, дерзким противоборством мечты с действительностью и на редкость удавшимся ему соединением несоединимого – бензина и розы. В жизни такое сочетание ужасно, в поэзии восхитительно, ибо поэзия, по словам М.Ломоносова, есть "сопряжение далековатых идей".
Хотя впереди была половина жизни, в 28 лет поэт написал свой дерзкий поэтический манифест "Ананасы в шампанском" – поэтически это была лебединая песнь Игоря Северянина. Прежняя безмятежность исчезла, появился трагический надлом, ясно обозначилась роковая черта, отделявшая поэта от будущего.
«В группе девушек нервном, в остром обществе дамском
я трагедию жизни претворю в грезофарс...
Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!
Из Москвы – в Нагасаки! Из Нью-Йорка – на Марс!»
"Розирис" – так назывался цикл стихов, куда входило это стихотворение. Это соединение Озириса и розы, Озирис, воскресающий и умирающий бог Древнего Египта, роза – символ трепетной и мгновенной увядающей красоты.
Такова поэзия Игоря Северянина. Она отцвела мгновенно и теперь вечно возрождается в новых эпохах.
|
|
к кедров звездная книга метакод |
ЗВЕЗДНАЯ КНИГА
(Новый мир, 1982, № 9)
Еще до начала космической эры академик Вернадский с гениальной прозорливостью сказал, что «художественное творчество выявляет нам Космос, проходящий через сознание живого существа». И когда сегодня задаешь себе вопрос, почему именно в России родилась мысль о полете в космос, почему у нас она впервые осуществилась, взор невольно обращается к первоистокам великой русской литературы — к фольклору.
Что любой фольклор по природе своей космичен, было известно давно, но русский
фольклор обладает одним удивительным свойством: обытовление, или правильнее
сказать обретение, космоса — самое привычное дело для героя русского фольклора.
Когда сегодня мы называем космический корабль космическим домом, невольно вспоминаешь «звездный терем» — Иванов двор русской волшебной сказки:
«А Иванов двор
Ни близко, ни далёко,—
Ни близко, ни далёко,—
На семи столбах;
Вокруг этого двора
Тын серебряный стоит;
Вокруг этого тына
Всё шелковая трава;
На всякой тынинке
По жемчужинке»
Иванов двор — обнесенное серебряным тыном горизонта звездное небо. Звездный
частокол, где на каждой тынинке по жемчужинке, ограждает три терема:
«Во этом во тыну
Стоит три терема,
Стоит три терема
Златоверхие.
Во первом терему—
Светел месяц,
Во втором терему —
Красно солнышко,
В третьем терему —
Часты звездочки».
Догадка о соотнесенности звездного неба с крестьянским двором тотчас находит свое подтверждение:
«Светел месяц —
То хозяин во дому.
Красно солнышко—
То хозяюшка,
Часты звездочки —
Малы деточки».
Видимо, прав был Сергей Есенин, когда писал:
«Изба простолюдина — это символ понятий и отношений к миру, выработанных еще до него его отцами и предками, которые неосязаемый и далекий мир подчинили себе уподоблениями вещам их кротких очагов...
К р а с н ы й угол, например, в избе есть уподобление заре, п о т о л о к — небесному своду, а .м а т и ц а — Млечному Пути... все наши коньки на крышах... но-
сят не простой характер узорочья, это великая значная эпопея исходу мира и назначению человека. .Конь как в греческой, египетской, римской, так и в русской мифологии есть знак устремления, но только один русский мужик догадался посадить его к себе на крышу, уподобляя свою хату под ним колеснице... «Я еду к тебе, в твои лона и пастбища запрокидывая голову конька в небо».
От космического корабля — космического дома на орбите — до космического дома русской избы пролегает светящийся путь, который прослеживается в веках.
Взаимовмещаемость человека и мироздания, крестьянского двора и звездного неба, человеческого тела и всей вселенной чрезвычайно характерна для фольклорного мироощущения всех народов. Для русского же фольклора важна доминирующая роль человека в этих взаимопревращениях. Здесь космос не подавляет человека своим величием. Человек и космос в русском фольклоре — как бы две маски одного лица. Звездный лик человека прекрасен, и прекрасно человеческое лицо мироздания:
«В три ряда у него кудри завиваются.
Во первой ряд завивались чистым серебром,
Во второй ряд завивались красным золотом,
Во третий ряд завивались скатным жемчугом».
Интересна сама система вопросов, где человека вопрошают о его рождении:
«Кто это тебя изнасеял молодца?
Изнасеял тебя да светел месяц же.
Еще кто же тебя да воспородил молодца?
Воспородила тебя да светлая заря.
Еще кто же тебя воспелеговал молодца?
Воспелеговали да часты звездочки».
Эти вопросы-ответы еще не сама разгадка тайны о человеке. Рассказ о космическом происхождении молодца — лишь первая часть загадки. Разгадка же заключается в том, что космос есть сам человек.
«Уж вы глупые хрестьяна, неразумные.
Православные друзья-братья, товарищи,
Еще как же изнасеет светел месяц?
Да еще как же воспородит светла заря?
Еще как же воспелеговают часты звездочки?
Изнасеял меня сударь батюшка...
А спородила меня родна маменька,
Воевиелеговали меня няньки-нянюшки...»
Финал этот очень важен. После рассказа о звездных родителях, когда, казалось бы, загадка-полностью решена и разгадана, следует новая система вопросов о том, каким
образом космос породил человека. Ответы исключает возможность иного космического
рождения, кроме человеческого: «Еще как же изнасеет светел месяц? Да еще как же воспородит светла заря?»
Здесь мы видим, что рождение поэтически мыслилось как рождение человека космосом. Человек и космос были в сознании древнерусского поэта взаимопревращаемы. Вот почему фольклорные обряды — сватовство, свадьба, погребение — высвечены и пронизаны звездной символикой.
Сватовство сопровождается песнями о Заре и Месяце. Зарей в крестьянской этимологии именовалась звезда Венера.
«Походил, походил
Месяц за водою.
Он кликал, кликал
Зарю за собою».
С детства помним мы свадебную песню о браке Венеры и Месяца:
«Светит месяц,
Светит ясный,
Светит алая заря...»
Смысл ее был расшифрован еще в XIX веке профессором Н. Ф. Сумцовым: «Нередко замечается явление на небе, что какая-нибудь звезда случайно как будто идет вместе с месяцем. Отсюда возникло представление, что звезда сопровождает месяц, как его близкая подруга». Рассказывается об особой любви месяца к «утренней звезде»: «Он увидел утреннюю звезду и влюбился в нее».
Венера — звезда-пряха, звезда-вышивальщица. Она ткет и вышивает покрывало —
небесный свод. В русских обрядовых свадебных песнопениях этот мотив звучит довольно отчетливо. Невеста сидит на дереве, символизирующем Млечный Путь. Посватать ее можно, либо срубив дерево, либо подпрыгнув до ее высоты. В русских свадебных песнопениях это дерево — береза:
«У этой березы коренье булатное,
У этой березы кора позолочена,
У этой березы прутья серебряны,
На этих же прутьях листья камчатные...»
Звезда, ткущая своими лучами дневное и ночное небо, а иногда и всю землю с морями, реками и лесами,— образ удивительной красоты. Эта метафора обладает завораживающей наглядной убедительностью. Лучи — иглы, лучи — золотые и серебряные нити, белое тонкое воздушное полотно небес. Вероятно, отсюда же идет на первый взгляд странное название вышитого ритуального покрытия — воздух. Вышивание воздуха — образ, уходящий корнями в глубокую древность:
«Да она шила-вышивала тонко бело полотно,
Да во первой раз вышивала светел месяц со лунами,
Да светел месяц со лунами, со частыми со звездами;
Да во второй раз вышивала красно солнце с маревами...
Она шила-вышивала шириночку.
Шила-вышивала чистым серебром,
Она строки строчила красным золотом».
Небезынтересно сравнить этот мотив с ткачеством Пенелопы. Она ткет погребальный покров, который должен одновременно стать ее свадебным покрывалом; закончив работу, невеста выберет жениха.
Покрывало ткется днем, а ночью, втайне от всех Пенелопа его распускает. Это дневное небо, которое исчезает ночью, а днем ткется снова.
Сватовство к невесте-вышивальщице в свадебной песне — это также угроза заломать или подпилить железно-серебряно-золотую березу:
«А тут зазрел-засмотрел добрый молодец:
«Я пойду, да добрый молодец, во кузницу,
Искую три пилы, три булатные,
Подпилю же я березу кудреватую,
Уроню же с березы высок терем!..»
Или опять же с детства знакомая нам песня: «Я пойду, пойду погуляю, белую березу заломаю...»
Иногда невеста сидит в звездном тереме, в верхнем оконце. До нее надо допрыгнуть
либо достать стрелою. Вспомним, что месяц имеет форму лука, и лучи-стрелы, пускаемые им в разные стороны, входят в обряд сватовства. Так добывают себе невест Иван-царевич и князь Гвидон. Когда невеста Гвидона сбросила свое лебединое обличье, сразу высветился ее звездный облик:
«Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит».
Разумеется, от такого звездного брака должны родиться непростые дети. Так и происходит в русской народной сказке, послужившей прототипом «Сказке о царе
Салтане». Там невеста обещает родить царевичу «сынов что ни ясных соколов: во лбу солнце, на затылке месяц, по бокам звезды». Вот так появляется на свет добрый молодец — человек-космос в русской народной сказке. Да и сама невеста в период свадьбы как бы родится заново. Она сбрасывает свою звериную, лебединую, лягушачью оболочку и обретает звездное тело. Царевна-лягушка ткет из лучей ночью небесное полотно, мелет зерно на звездной мельнице, печет звездный хлеб. Само превращение ее в царевну связано с древним магическим ритуалом выворачивания; «...вышла она на крыльцо, вывернулась из кожуха...» Попробуем представить себе этот ритуал пространственно зримо.
Выворачивая наизнанку поверхность своего тела, герой как бы охватывает им весь
космос, вмещает его в себя. Внутреннее становится внешним, а внешнее — внутренним. Нутро небом, а небо нутром. При всей необычности такого действа не будем забывать, что оно зиждется на имитации вполне реального природного процесса рождения.
В Третьяковской галерее в зале древнерусской живописи мы можем увидеть зримое воплощение такого действа в живопи си Дионисия. Это изображение материнского чрева, от которого исходят концентрические круги, разрастающиеся – до неба и охватывающие всю фигуру снаружи. Так Дионисий воплотил в живописи словесный поэтический образ «и чрево твое пространнее небес содея».
Человек в таком поэтическом воплощении становится как бы меньшей матрешкой,
вмещающей в момент выворачивания (рождения) матрешку большую — всю вселенную.
Есть множество визуальных символов фольклорной космогонии, основанных на взаимозамещаемости нутра и неба. Академик Б. А. Рыбаков справедливо считает, что изображение славянских рожаниц — хозяек мира лежит в основе всего древнерусского орнамента и восходит к глубокой древности.
«Небесные Хозяйки Мира... находились на небе, отождествлялись с двумя важнейши ми звездными ориентирами» (Большая и Малая Медведицы). Они «рождают все по головье животных, рыб и птиц, необходимое людям». «Нас может смущать, что
почитаемые рожаницы... изображались в такой непристойной позе, которая превосходит натурализм Золя. Однако следует отметить, что даже православным иконам был не чужд подобный натурализм».
У Дионисия схематическое изображение нутра-неба составляет спиральный узор,
расходящийся от центра и одновременно к нему сходящийся. «Повсеместность и устойчивость спирального орнамента, рожденного в земледельческом неолите, заставляло
нас отнестись к нему с особым вниманием»,— пишет Б. А. Рыбаков.
В связи с этим хотелось бы обратить внимание на описание огромного «солярного знака», чрезвычайно распространенного в русском орнаменте.
«Он почти всегда составной — из отдельных кругов, шестиконечных розеток и полукружий. У него нет лучей, испускаемых вовне. Нередко лучи изображались по внутренней окружности знака и обращены к центру знака». В то же время в центре есть круг с расходящимися лучами. Этот свет, расходящийся от центра и сходящийся к нему, есть, по всей видимости, двойное выворачивание вселенной в человека и человека во вселенную — космическая спираль, восьмерка.
Очертания главного узора русского орнамента уходят корнями к самым первоистокам культуры. В древнеиранском искусстве есть чрезвычайно интересное изображение.
В центре солнце, месяц, звезда, как бы утопающие в воронке, а по краям снаружи
шесть сердец — шесть лепестков. Небо внутри, а сердце снаружи. Если же искать не плоскостную, а объемную модель человека-космоса, то здесь в русском фольклоре на первый план выступает образ котла и чаши. Две половинки единой сферы, как бы расколотые и соединенные в точках касания наподобие песочных часов. Это символическое изображение единения земли и неба, луны и солнца, человека и вселенной. Кстати, изображение шестилепестковой розетки как раз находится в центре чаши на грани соприкосновения полусфер неба и земли, человека и космоса. Таковы чаши Юрия Долгорукова и Ирины Годуновой, хранящиеся в Оружейной палате. Причем на чаше Годуновой даже видны изображения шести сердец в нижней части. Таким же символом неба был в старину котел. Месяц — Иванушка-жених обретал свой вселенский облик, искупавшись в котле с кипящим молоком. Котел с кипящим молоком — это небо и Млечный Путь. Месяц на ущербе (в последней фазе) —Иванушка-дурачок должен нырнуть, исчезнуть в небе, чтобы появиться молодым месяцем — Иваном-царевичем, но уже по другую сторону Млечного Пути.
В то же время царь — солнце — погибает в ночном котле. Сюжет сказки Ершова «Конек-горбунок» чрезвычайно популярен в Сибири, где еще в древние времена была
распространена так называемая котловая культура. Множество котлов с изображением по краям заходящего и восходящего солнца почти не оставляют сомнений в правильном понимании заключенной в них небесной символики.
Вспомним античный миф о том, что когда-то человек имел «совершенное» сферическое тело и соединял в себе мужскую и женскую природу, но Зевс рассек его на
две половины — мужскую и женскую, и с тех пор мужчина и женщина ищут друг друга, чтобы обрести свое единое тело. Миф этот явно перекликается с русскими фольклорными сказаниями о луне, разрубленной на две части Перуном, о браке солнца и земли, солнца и луны, земли и неба. Образ котла и чаши, соединяющий две разрозненные полусферы, естественно, связан с обрядами рождения и брака. Они всегда символизировали единение человека и космоса. «Разбираясь в узорах нашей мифологи ческой) эпики, мы находим, целый ряд ука заний на то, что человек есть ни больше ни меньше как чаща космических обособленностей. «В «Голубиной книге» так и сказано»,—пишет. С. Есенин, Размышляя о Голубиной книге, Есенин вполне естественно вспомнил образ чаши, когда заговорил о связи человека и вселенной. Верхняя часть ее символизирует вселенную, нижняя — человеческое тело. Каждой части небесной сферы соответствует часть ее нижней сферы—человеческого тела. Зори—глаза, месяц—грудь... Проекция любого изображения на чашу ясно проиллюстрирует, каким образом «человек, идущий по небесному своду, попадет головой в голову человеку, идущему по земле» (С. Есенин). Именно так будет выглядеть
человек в двух соприкасающихся полусферах, символизирующих небо и землю. Вот
почему вытряхивание перины в колодце, внизу, в царстве Метелицы вызывает снегопад наверху — в небесах.
Дойдя до средоточия двух полусфер, до иглы Кощея, сломав ее, Иван-царевич как бы выворачивает верхнюю, ночную, полусферу вниз, а нижнюю, дневную, выпускает на свободу вверх. Замок Кощея рушится, невеста восходит на востоке утренней Венерой, сбросившей лягушачью ночную кожу, облаченная в солнечный наряд. Звезда и месяц исчезли в лучах солнца, но это исчезновение означает теперь их соединение в единую сферу солнца — счастливый брак. Разлученные на две половины лунной сферы в ночи, они соединяются днем в другой совершенной сфере — солнце. Одновременно это символизирует то, о чем говорит Есенин; «... опрокинутость земли сольется в браке с опрокннутостью неба». Перед нами вечная феерия соединения двух полусфер чаши, то разъединенных, то соединяющихся снова. Это земля и небо, две половинки луны, солнце заходящее и восходящее. Соединение их означает счастливый брак. Выходит, человек, мужчина и женщина,— как бы чаша всех чаш, вмещающая небо, солнце, луну и весь мир.
В поэме узбекского поэта Навои «Фархад и Ширин» есть образ, многое роясняющий
и для русского фольклора. Это зеркало Искандера, в котором как бы слились воедино и ларец Кощея и космическая чаша. В сокровищнице своего отца Фархад находит хрустальный ларец.
«Как чудо это создала земля!
Был дивный ларчик весь из хрусталя,—
Непостижим он, необыден был,
Внутри какой-то образ виден был,
Неясен, смутен, словно бы далек,—
Неотразимой прелестью он влек.
В ларце оказалось магическое зеркало с надписью:
Вот зеркало, что отражает мир:
Оно зенит покажет и надир...
Магическое зеркало! Оно —
Столетьями в хрусталь заключено.
Нет! Словно солнце в сундуке небес,
Хранилось это зеркало чудес».
Чтобы увидеть что-либо в это зеркало, Фархаду надо было проделать путешествие
на другой конец света, убить дракона и властителя тьмы Ахримана. Дракон в русской сказке — змей, а властитель тьмы Ахриман тождествен Кощею. Проникнув в середину замка, Фархад находит вторую половину магического зеркала Искандера:
«Фархад вошел, предчувствием влеком;
Увидел солнце он под потолком,—
Нет, это лучезарная была
Самосветящаяся пиала!..
Не пиала, а зеркало чудес, —
Всевидящее око, дар небес!
Весь мир в многообразии своем,
Все тайны тайн отображались в нем:
События, дела и люди — все,
И то, что было, и что будет, все.
С поверхности был виден пуп земной,
Внутри вращались сферы — до одной».
Теперь становится ясно, что символизирует собой ларец Кощея. Это русская модель зеркала-чаши. «Самосветящаяся пиала» Навои — тот же образ, что и чаша, о которой пишет Сергей Есенин. На Востоке она называлась чаша Джемшида. Ее геометрическое устройство поразительным образом совпадает с композицией художественного
пространства русского фольклора.
Путь к ларцу в русской сказке идет как бы концентрически сжимающимися кругами.
Пространство по мере приближения к ларцу порой сужается до узенькой щели в горе.
В сказке «Хрустальная гора» Ивая-царевич должен превратиться в муравья, чтобы
проникнуть в хрустальную гору, в царство Кощея. В «Царевне-лягушке» Иван-царевич
вплотную соприкасается с конечной целью своего путешествия — Кощеевой смертью.
Пощадив волка, ворону, щуку, он раскроет ларец. Оттуда выскочит заяц — его догонит
волк. Из разорванного зайца вылетит утка — ее поймает ворона. Из утки выпадет
яйцо—его достанет из моря щука, В яйце — игла или семечко, в нем смерть Кощея. Получается своего рода обратная матрешка. В наименьшей содержится наибольшая — все царство и смерть Кощея. Внутри человека, как в подземелье Кощеева царства, спрятана вся вселенная.
Подобный образ есть в поэзии современника «Слова о полку Игореве» азербайджанского поэта Низами. У Низами звездное небо и нутро человека взаимовмещаемы. Поднимаясь в небо, к звездам, окажешься внутри себя; погружаясь в глубь себя, окажешься в небе. Кроме того, само это погружение есть спуск в глубокое подземелье, где в конечном итоге поэт оказывается в просторном небесном дворце. Мотив этот настолько распространен в русской сказке, что не нуждается в каких-либо пояснениях:
«Как мяч, я ушел из себя самого,
В одном видя сотню и в стах — одного.
Не вижу нигде продолженья пути.
Вернуться — желанья нет; сил нет — войти,
Меж всеми отмечен, иду к дверям.
Вновь голос: «Во внутрь!» И уже — я там.
То царство просторнее неба всего,
О, как же богат прах от праха его!
И сидят семь халифов в покое том».
Это семь планет и одновременно сердце, печень, легкие, желчный пузырь, желудок»:
кишечник, почки.
«Вот в селенье дыханья — вдыханье. На царственный трон
Царь полудня воссел: управлял всеми властными он. (сердце)
Красный всадник пред ним ожидал приказанья, а следом {легкие)
Прибыл в светлой кабе некий воин, готовый к победам, [печень}
Горевал некий отрок, разведчик, пред царственным стоя, [желчь)
Ниже черный стоял, пожиратель любого отстоя, (желудок)
Был тут мастер засады, умело державший аркан, (кишечник)
И, в броне серебра, чей-то бронзовый виделся стан». (почки)
Но все семь всадников оказываются мошками вокруг свечи — сердца:
«Были мошками все. Быть свечой только сердцу дано.
Все рассеяны были, но собранным было оно».
Это сердце-солнце оказывается как бы точкой соприкосновения внутренностей и
неба. При таком взгляде на человека вся окружающая его вселенная оказывается как
бы большой матрешкой, вмещающей в себя меньшую — человеческое тело. Но это еще
не исчерпывающая картина. Сложность в том, что меньшая матрешка (человеческое тело) содержит внутри себя большую матрешку—вселенную. Это похоже на спираль, сходящуюся к центру и одновременно разбегающуюся от него. Это сфера, где непостижимым образом поверхность оказывается в центре, а центр объемлет поверхность. Здесь, поднимаясь ввысь, окажешься внизу; опускаясь вниз, окажешься на вершине; погружаясь во тьму, выйдешь к свету; проникая в узкое пространство, окажешься в бесконечности.
Такова композиция художественного пространства мифа и сказки. Она сохраняется
в литературах самых разных эпох и народов, в частности композиция «Божественной
комедии» Данте и «Одиссеи» Гомера.
Все свойства такого пространства отчетливо видны в русской сказке. Путешествие героя за своей невестой — это уход на небо. Чтобы попасть на небо, надо спуститься под землю, пройдя сквозь узкое пространство — трещину, дупло, колодец. Иногда узкое пространство — это тропа в лесу, лабиринт, проход между скалами или переправа по хлипкому мостику.
Через такую же узкую горловину предстоит пройти .будущей счастливой невесте —
падчерице, сиротке. Ее спускают в колодец, но с ней происходит то же, что произошло с
Иосифом прекрасным. Брошенный в колодец в рубище, он в конечном итоге оказывается на вершине славы. Легенда об Иосифе интересна еще и тем, что в ней сохраняется изначальная, звездная основа, вытесненная во многих более поздних сюжетах.
Иосиф видит сон о том, как солнце, луна и одиннадцать звезд поклоняются ему.
Близкие моментально истолковывают его сон: «...и побранил его отец его, и сказал
ему: что это за сон, который ты видел? не ужели я и твоя мать и твои братья придем
поклониться тебе до земли». Легенда ничем не обосновывает такое истолкование сна,
но звездная символика едина у всех народов, и мы могли бы сами истолковать этот
сон. Ведь и в русском фольклоре солнце — мать, месяц—отец, звезды—дети.
Еще отчетливей звездная основа сюжета о спуске в колодец видна в киргизских сказках. В одной из них путешествию ге роя за своей небесной невестой предшествует не символическое, а прямое творение вселенной из человеческого нутра: «Мне снилось, будто из головы моей вышло золотое солнце, из ног выплыла серебряная луна. Потом раскрылась моя грудь, и оттуда посыпались алмазные звезды». Герой продает свой сон другому за стало овец, как Исав продал свое первородство за чечевичную похлебку. Отец изгоняет сына, купившего сон, из дома, но все кончается благополучно. Изгнанник встречает свою невесту Айсулуу (красивую луну) и женится на ней, как и положено звездному жениху.
Уже из этих сопоставлений ясно, что есть все основания говорить о единой звездной
символике, пронизывающей фольклорное мышление всех народов. Это устоявшаяся
система символов, общая для разных ареалов культур.
О существовании ее свидетельствуют самые первые следы культурной деятельности
человека. В этом смысле фольклор, существовавший задолго до письменности, все-таки имел свою «письменность» — огненные «письмена» ночного неба. Мифы и легенды о существовании звездной, небесной книги существуют во многих древних культурах. В русском фольклоре это сказание о Голубиной книге. На первых же страницах ее читаем о вселенском человеке, чье тело соткано из звезд, луны, солнца, чье дыхание — ветер. Представления эти уходят корнями в глубокую древность. Значение их очень глубоко ощущал Сергей Есенин. «Звезды и крут — знаки той грамоты, которая ведет читающего ее...» Есенин справедливо упрекает фольклорную науку своего времени в непонимании фольклорных символов звездной письменности.
«Наши исследователи не заглянули в сердце нашего народного творчества. Они не
поняли поющего старца...
Потерял я книгу золотую
Во темном бору...
«Ты не плачь, старец, не вздыхай,
Книгу новую я вытку звездами,
Золотой ключ волной выплесну».
Есенин не из одних книг, а из самой фольклорной традиции знал многие правила
чтения «звездной книги». Эту книгу, «небесный свиток», можно увидеть в зале древнерусской живописи Третьяковской галереи. Здесь на развернутом свитке изображена вся звездная азбука «от альфы до омеги», хотя, по сути дела, кроме альфы и омеги, в этой
письменности нет букв. «Звездная азбука» двоична: солнце восходящее (красное) — солнце заходящее (черное), месяц ранний — месяц поздний, луна — месяц. Принцип чтения напоминает азбуку Морзе: тире и точка изображают любую букву алфавита. Сам человек поэтически мыслился как внутренняя сторона «небесного свитка». В нем написано то же, что и на внешней стороне — звездном небе. Об этом хорошо сказано у С. Аверинцеаа: «Римские солдаты сжигали заживо одного ближневосточного книжника вместе со святыней его жизни — священным свитком. Его ученики сказали ему: «Что ты видишь?» Он ответил: «Свиток сгорает, но буквы улетают прочь!»
Философ А. Турсунов пишет, что человек предстает микродвойником вселенной или, соответственно, «свитком», содержащим описание всей природы. Однако он ошибается, считая, что такие представления характерны лишь для Среднего Востока. Это общие представления о мире и человеке, свойственные любому фольклору, и в особенности русскому.
Наша общая устремленность в космос на уровне поэзии, на уровне мысли продиктована тысячелетней традицией и сегодня доказана делом.
Порой получалось и получается так, что далекая тысячелетняя поэтическая метафора
облекалась и облекается в плоть конкретной научной мысли, Моделируя космологию
выворачивания на основе русского фольклора, я был очень удивлен, когда встретил такую логическую формулировку: «...когда вы сделаете внутреннюю сторону как внеш нюю... и внешнюю сторону как внутреннюю... и верхнюю сторону как нижнюю сторону... тогда вы войдете в [царствие]».
Этот отрывок из коптских текстов, найденных в 1945 году в Египте, что-то напоминал.
И внезапно я вспомнил описание невесомости у космонавта Германа Титова: «Верха и низа в ракете, собственно, нет, потому, что нет относительной тяжести... Мы чувствуем
верх и низ, только места их сменяются с переменой направления нашего тела в пространстве».
А вот что сказал об этом ранее Циолковский: «...мне представляется... что основные
идеи и любовь к вечному стремлению туда — к Солнцу, к освобождению от цепей тяготений — во мне заложены чуть ли не с рождения. По крайней мере я отлично помню, что моей любимой мечтой в самом раннем детстве, еще до книг, было смутное сознание о среде без тяжести, где движения во все стороны совершенно свободны; и где лучше, чем птице в воздухе».
То, что чувствовал Циолковский в детстве, «еще до книг», это и есть внутреннее
содержание фольклора, его общая метакодовая основа. Однако воплощение ее в реальность не случайно произошло впервые в ареале нашей культуры, где неустанно на
протяжении многих столетий звучала мысль о равноправии человека и космоса:
«Частица целой я вселенной,
Поставлен, мнится мне, в почтенной
Средине естества...
Я связь миров повсюду сущих,
Я крайня степень вещества».
(Державин)
Ведь и это не из философских трактатов, а из самых глубинных истоков русского
фольклора, где человек и космос — единое неразрывное тело, а мозг и сердце человека — в середине космического котла и чаши.
Многие фундаментальные понятия современной космогонии, будучи принципиально
новыми, в то же время в чем-то соответствуют основным значениям, выявленным еще
в фольклоре и первобытном искусстве.
Универсальная чашеобразная поверхность зеркала Искандера, Кощеева ларца, как это ни странно, может быть идеальной моделью, наглядно популяризирующей такие понятия, как «черная дыра», «антимир», «расширяющаяся вселенная», неевклидова геометрия, частица фридмон и т. п. Во всех этих случаях проход через горловину чаши как сквозь узкое пространство, ведущее к выходу в сферу с противоположной кривизной, совпадает, в свою очередь, с фольклорной моделью рождения, зачатия и смерти как выворачивания. Таковы же представления о расширяющейся и сжимающейся вселенной, то есть пульсирующей. Во всяком случае, геометрическая модель здесь может быть та же самая—расходящаяся и сходящаяся к центру спираль или розетка, концентрические круги, расходящиеся от центра и сходящиеся к нему.
До сих пор эти спиральные узоры, распространенные во всех ареалах культуры,
в том числе и в русском орнаменте, не без основания отождествлялись с изображением
солнца. Как мы уже показали ранее, сфера солнца, так же как и сфера луны, земли и неба, при переходе в свою противоположность как бы выворачивается наизнанку. Проекция взаимовыворачивания двух сфер на плоскость как раз и дает рисунок такой спирали. Это земля — небо, солнце — луна, мужчина — женщина, человек — вселенная, малая матрешка в большой и большая в малой одновременно. Этой модели соответствует понятие об универсальной элементарной частице фридмон. Она же и частица (малая матрешка), но она же и вся вселенная (матрешка большая).
Представление об антимире и черной дыре в области соприкосновения их с нашим миром опять же напоминает нам уже знакомую модель чаши. Если представить вслед за многими популяризаторами гипотетическую возможность течения времени в антимире или в черной дыре в обратную сторону, а точку встречи двух миров обо значить через нуль, мы увидим две полусферы, обращенные выпуклыми сторонами друг к другу, В каждой полусфере время движется нормально из прошлого в будущее, но при взгляде из противоположной полусферы оно кажется текущим вспять — из будущего в прошлое Причем луч света не может выйти из черной дыры, искривляется под воздействием сильного тяготения, то есть свет там как бы есть тьма, черное солнце. Перейти из одной полусферы в другую — то же самое, что вывернуться наизнанку, «родиться заново». Надо пройти через узкую горловину песочных часов, перескочить через нуль, «войти в одно ушко и выйти в другое», прошмыгнуть в трещину хрустальной горы Кощеева царства, пройти за нитью Ариадны по узкому лабиринту. В момент воображаемого перехода из одного мира в другой происходит все то, что и с героями фольклорного действа: тьма становится светом, свет тьмой, малое вместит в себя большее и большее уместится в меньшем. Достаточно вспомнить эпизод из «Смерти Ивана Ильича» Л. Толстого, чтобы понять неуничтожимость этой модели на самых высоких .уровнях литературы. Вот каково описание момента выворачивания-смерти у Толстого: «Вдруг какая-то сила толкнула его в грудь, в бок, еще сильнее сдавило ему дыхание, он провалился в дыру, и там, в конце дыры, засветилось что-то. С ним сделалось то, что бывало с ним в вагоне железной дороги, когда думаешь, что едешь вперед, а ,едешь назад, и вдруг узнаешь настоящее направление».
В этом отрывке есть все элементы, моделируемые при выворачивании во вселенную с противоположным знаком; тьма становится светом, узкое пространство (дыра) переходит в противоположное — светлое, и, что самое интересное, меняется вектор направления движения, а значит, и времени, что характерно для моделей перехода в антимир и пространство черной дыры.
«Он чувствовал,— пишет Толстой,— что мученье его и в том, что он всовывается в эту черную дыру, и еще больше в том, что он не может пролезть в нее». Переход от тьмы к свету внезапен. Здесь мы соприкасаемся с другим фундаментальным понятием современной физики — с понятием квантового скачка. До появления этого термина внезапное превращение Иванушки-дурачка в Ивана-царевича, лягушки в царевну, а Кощеева царства тьмы в царство света, столь характерное для мифа, не находило адекватного обозначения в мышлении современного человека. Ведь не просто внезапно, а через какой-то барьер нуль-пространства и времени должен перейти герой в противоположное состояние. И вот что интересно: пространственно-временная модель такого барьера напоминает модель светового конуса мировых событий. Котел, чаша, сужающиеся к центру, а затем внезапно расширяющиеся дупло или колодец, узкая трещина в горе, становящаяся широким ходом, два ушка коровы, сквозь которые надо пройти Крошечке-Хаврошечке.
Современному человеку, привыкшему к принципиальному несовпадению научного и художественного мышления, конечно, не так просто преодолеть психологический барьер и увидеть генетическое родство модели пространства-времени в науке и художественном мире древней и современной литературы. Но только преодолев этот барьер, можно понять истинное значение фольклора, где нет мира, отчужденного от человека, и нет человека, отчужденного от мира.
Для понимания этого единства нужно опять же овладеть некоторыми методами мышления, ставшими открытием XX века.
Это прежде всего принцип дополнительности Нильса Бора, поразительным образом соответствующий фольклорному взгляду на двуединство человека-космоса. Сам принцип появился в результате раздумий над странным поведением частицы, которая оказалась волной-частицей, что трудно представить в рамках обыденного здравого смысла. Если частица, то в определенной точке пространства; если волна — то во многих. Между тем именно так: волна и частица одновременно. Отношения человек — космос в фольклоре — такого же свойства. Он, человек, в одном определенном месте вселенной и он же — вся вселенная. Он — все люди, все звезды, весь род и он — один (зерно—колос).
Здесь особая сложность в последнем противопоставлении «один — все». На могиле Достоевского начертаны слова, взятые им эпиграфом к «Братьям Карамазовым»: «Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода». У зерна, в данном случае символизирующего человека, два тела. Одно — сам9 зерно, погребенное во тьме, в чреве земли; вывернувшись наизнанку, рождает многое — колос, вселенную, множественность всех тел. «Зерно — колос» — идеальное единство, дающее возможность понять, что значит в фольклоре единое звездное тело. Небо — звездный колос в его отношении к зерну, конкретному человеку. Теперь понятно, каким образом общее звездное тело было согласно фольклорным представлениям одновременно индивидуальным телом героя.
Перечислив все эти соответствия между некоторыми представлениями о космологии в сознании древнего и современного человека, хочется уяснить, в чем различие. А различие это фундаментальное. Модель одна и та же, но действующие в ней лица другие. В древней космологии — человек-космос, в современной — частица фридмон. В древней космологии выворачивание как смерть-рождение, как воскресение; в современной — квантовый скачок, расширяющая ся и сжимающаяся вселенная. Там роды, здесь взрыв, расширение. Там мать, здесь материя. В древней космологии доминирует живое, оно творит мир. В современной доминирует неживое, которое творит живое.
Так ли безусловна во всем наша правота перед древними? Откроем труды академика В. Вернадского, в частности его книгу «Живое вещество». Вернадский обращает внимание на то, что наука знает множество фактов превращения живого в мертвое и не знает ни одного случая возникновения живого из мертвого. Не являются ли живое и мертвое двумя масками единой материи и не существовали ли они всегда?
Не затрагивая некомпетентным вмешательством вопросы о живой и неорганической материи и о происхождении жизни, скажем только, что взгляды Вернадского во многом гармонируют с древней космогонией. Итог такой космогонии в известной мере отражен в трудах поздних платоников:
«Притом всякое тело движется или вовне, или вовнутрь. Движущееся вовне неодушевлено, движущееся внутрь — одушевлено. Если бы душа, будучи телом, двигалась вовне, она была бы неодушевленною, если же душа станет двигаться вовнутрь, то она одушевлена».
Как видим, выворачивание внутрь — человек живой, выворачивание вовне — его космос, неодушевленный двойник. Древний человек несет в себе живое и мертвое как два образа единого тела. Если вспомнить, что еще Нильс Бор предлагал распространить принцип дополнительности на понятия «живое» и «неживое», то станет очевидным, что космология древних содержит в себе не только отжившие, но и чрезвычайно близкие современному человеку понятия и проблемы.
Мы подходим к моменту грандиозного перелома в мышлении, который внезапно сблизил современное научное мышление с древним космогониэмом. Этот перелом включает в себя всю сумму знаний современной науки, где особую роль играет картина мира, созданная на основе общей теории относительности и квантовой физики.
Вспомним диалог Ивана Карамазова с чертом. Черт рассказывает Ивану о грешнике, который в наказание за атеизм должен шествовать по бесконечному мирозданию, где ничего нет, кроме неживой материи. У Достоевского шествие грешника было недолгим: прошел сколько-то световых лет и взмолился о пощаде.
Так вот грешник напрасно испугался. Ведь с точки зрения современной космологии никакой однородной мертвой материи нет. Через какое-то время он обязательно подошел бы, скажем, к черной дыре. Остановился бы, задумался, как богатырь на распутье, а дальше все как в сказке: внезапное превращение, то есть то, что в фольклоре обозначалось понятиями «смерть» и «воскресение». Да, черной бездны, столь пугавшей поэтов прошлых веков, попросту нет.
Время и пространство определяются там, где есть отношения между объектами: одушевленным и неодушевленным. Больше того, эти объекты взаимодействуют, то есть как-то реагируют друг на друга: тяготением, отражением, светом. Пространственно-временная бездна между ними зависит от многих взаимодействий. Время может растягиваться, пространство—сужаться .и расширяться, словом, в космосе есть все процессы, характерные для художественного пространства сказки. Малая частица вмещает большую, время превращается в нуль на пороге светового барьера.
Отвлечемся сейчас от гипотетического и вспомним о несомненном. Несомненно, что в мировой культуре есть единый символический язык — метакод. Само существование его не только многое проясняет в загадках древних цивилизаций, но и открывает новые возможности в современном осмыслении единства человека и космоса.
МЕТАКОД — это система художественных символов, отражающая в художественных образах единство человека и космоса, общая для всех времен во всех существовавших ареалах культуры. Основные закономерности метакода, его художественный язык формируются в фольклорный период и остаются неуничтожимыми на протяжении всего развития литературы. Его можно назвать генетическим кодом литературы.
(Новый мир, 1982, № 9)
Еще до начала космической эры академик Вернадский с гениальной прозорливостью сказал, что «художественное творчество выявляет нам Космос, проходящий через сознание живого существа». И когда сегодня задаешь себе вопрос, почему именно в России родилась мысль о полете в космос, почему у нас она впервые осуществилась, взор невольно обращается к первоистокам великой русской литературы — к фольклору.
Что любой фольклор по природе своей космичен, было известно давно, но русский
фольклор обладает одним удивительным свойством: обытовление, или правильнее
сказать обретение, космоса — самое привычное дело для героя русского фольклора.
Когда сегодня мы называем космический корабль космическим домом, невольно вспоминаешь «звездный терем» — Иванов двор русской волшебной сказки:
«А Иванов двор
Ни близко, ни далёко,—
Ни близко, ни далёко,—
На семи столбах;
Вокруг этого двора
Тын серебряный стоит;
Вокруг этого тына
Всё шелковая трава;
На всякой тынинке
По жемчужинке»
Иванов двор — обнесенное серебряным тыном горизонта звездное небо. Звездный
частокол, где на каждой тынинке по жемчужинке, ограждает три терема:
«Во этом во тыну
Стоит три терема,
Стоит три терема
Златоверхие.
Во первом терему—
Светел месяц,
Во втором терему —
Красно солнышко,
В третьем терему —
Часты звездочки».
Догадка о соотнесенности звездного неба с крестьянским двором тотчас находит свое подтверждение:
«Светел месяц —
То хозяин во дому.
Красно солнышко—
То хозяюшка,
Часты звездочки —
Малы деточки».
Видимо, прав был Сергей Есенин, когда писал:
«Изба простолюдина — это символ понятий и отношений к миру, выработанных еще до него его отцами и предками, которые неосязаемый и далекий мир подчинили себе уподоблениями вещам их кротких очагов...
К р а с н ы й угол, например, в избе есть уподобление заре, п о т о л о к — небесному своду, а .м а т и ц а — Млечному Пути... все наши коньки на крышах... но-
сят не простой характер узорочья, это великая значная эпопея исходу мира и назначению человека. .Конь как в греческой, египетской, римской, так и в русской мифологии есть знак устремления, но только один русский мужик догадался посадить его к себе на крышу, уподобляя свою хату под ним колеснице... «Я еду к тебе, в твои лона и пастбища запрокидывая голову конька в небо».
От космического корабля — космического дома на орбите — до космического дома русской избы пролегает светящийся путь, который прослеживается в веках.
Взаимовмещаемость человека и мироздания, крестьянского двора и звездного неба, человеческого тела и всей вселенной чрезвычайно характерна для фольклорного мироощущения всех народов. Для русского же фольклора важна доминирующая роль человека в этих взаимопревращениях. Здесь космос не подавляет человека своим величием. Человек и космос в русском фольклоре — как бы две маски одного лица. Звездный лик человека прекрасен, и прекрасно человеческое лицо мироздания:
«В три ряда у него кудри завиваются.
Во первой ряд завивались чистым серебром,
Во второй ряд завивались красным золотом,
Во третий ряд завивались скатным жемчугом».
Интересна сама система вопросов, где человека вопрошают о его рождении:
«Кто это тебя изнасеял молодца?
Изнасеял тебя да светел месяц же.
Еще кто же тебя да воспородил молодца?
Воспородила тебя да светлая заря.
Еще кто же тебя воспелеговал молодца?
Воспелеговали да часты звездочки».
Эти вопросы-ответы еще не сама разгадка тайны о человеке. Рассказ о космическом происхождении молодца — лишь первая часть загадки. Разгадка же заключается в том, что космос есть сам человек.
«Уж вы глупые хрестьяна, неразумные.
Православные друзья-братья, товарищи,
Еще как же изнасеет светел месяц?
Да еще как же воспородит светла заря?
Еще как же воспелеговают часты звездочки?
Изнасеял меня сударь батюшка...
А спородила меня родна маменька,
Воевиелеговали меня няньки-нянюшки...»
Финал этот очень важен. После рассказа о звездных родителях, когда, казалось бы, загадка-полностью решена и разгадана, следует новая система вопросов о том, каким
образом космос породил человека. Ответы исключает возможность иного космического
рождения, кроме человеческого: «Еще как же изнасеет светел месяц? Да еще как же воспородит светла заря?»
Здесь мы видим, что рождение поэтически мыслилось как рождение человека космосом. Человек и космос были в сознании древнерусского поэта взаимопревращаемы. Вот почему фольклорные обряды — сватовство, свадьба, погребение — высвечены и пронизаны звездной символикой.
Сватовство сопровождается песнями о Заре и Месяце. Зарей в крестьянской этимологии именовалась звезда Венера.
«Походил, походил
Месяц за водою.
Он кликал, кликал
Зарю за собою».
С детства помним мы свадебную песню о браке Венеры и Месяца:
«Светит месяц,
Светит ясный,
Светит алая заря...»
Смысл ее был расшифрован еще в XIX веке профессором Н. Ф. Сумцовым: «Нередко замечается явление на небе, что какая-нибудь звезда случайно как будто идет вместе с месяцем. Отсюда возникло представление, что звезда сопровождает месяц, как его близкая подруга». Рассказывается об особой любви месяца к «утренней звезде»: «Он увидел утреннюю звезду и влюбился в нее».
Венера — звезда-пряха, звезда-вышивальщица. Она ткет и вышивает покрывало —
небесный свод. В русских обрядовых свадебных песнопениях этот мотив звучит довольно отчетливо. Невеста сидит на дереве, символизирующем Млечный Путь. Посватать ее можно, либо срубив дерево, либо подпрыгнув до ее высоты. В русских свадебных песнопениях это дерево — береза:
«У этой березы коренье булатное,
У этой березы кора позолочена,
У этой березы прутья серебряны,
На этих же прутьях листья камчатные...»
Звезда, ткущая своими лучами дневное и ночное небо, а иногда и всю землю с морями, реками и лесами,— образ удивительной красоты. Эта метафора обладает завораживающей наглядной убедительностью. Лучи — иглы, лучи — золотые и серебряные нити, белое тонкое воздушное полотно небес. Вероятно, отсюда же идет на первый взгляд странное название вышитого ритуального покрытия — воздух. Вышивание воздуха — образ, уходящий корнями в глубокую древность:
«Да она шила-вышивала тонко бело полотно,
Да во первой раз вышивала светел месяц со лунами,
Да светел месяц со лунами, со частыми со звездами;
Да во второй раз вышивала красно солнце с маревами...
Она шила-вышивала шириночку.
Шила-вышивала чистым серебром,
Она строки строчила красным золотом».
Небезынтересно сравнить этот мотив с ткачеством Пенелопы. Она ткет погребальный покров, который должен одновременно стать ее свадебным покрывалом; закончив работу, невеста выберет жениха.
Покрывало ткется днем, а ночью, втайне от всех Пенелопа его распускает. Это дневное небо, которое исчезает ночью, а днем ткется снова.
Сватовство к невесте-вышивальщице в свадебной песне — это также угроза заломать или подпилить железно-серебряно-золотую березу:
«А тут зазрел-засмотрел добрый молодец:
«Я пойду, да добрый молодец, во кузницу,
Искую три пилы, три булатные,
Подпилю же я березу кудреватую,
Уроню же с березы высок терем!..»
Или опять же с детства знакомая нам песня: «Я пойду, пойду погуляю, белую березу заломаю...»
Иногда невеста сидит в звездном тереме, в верхнем оконце. До нее надо допрыгнуть
либо достать стрелою. Вспомним, что месяц имеет форму лука, и лучи-стрелы, пускаемые им в разные стороны, входят в обряд сватовства. Так добывают себе невест Иван-царевич и князь Гвидон. Когда невеста Гвидона сбросила свое лебединое обличье, сразу высветился ее звездный облик:
«Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит».
Разумеется, от такого звездного брака должны родиться непростые дети. Так и происходит в русской народной сказке, послужившей прототипом «Сказке о царе
Салтане». Там невеста обещает родить царевичу «сынов что ни ясных соколов: во лбу солнце, на затылке месяц, по бокам звезды». Вот так появляется на свет добрый молодец — человек-космос в русской народной сказке. Да и сама невеста в период свадьбы как бы родится заново. Она сбрасывает свою звериную, лебединую, лягушачью оболочку и обретает звездное тело. Царевна-лягушка ткет из лучей ночью небесное полотно, мелет зерно на звездной мельнице, печет звездный хлеб. Само превращение ее в царевну связано с древним магическим ритуалом выворачивания; «...вышла она на крыльцо, вывернулась из кожуха...» Попробуем представить себе этот ритуал пространственно зримо.
Выворачивая наизнанку поверхность своего тела, герой как бы охватывает им весь
космос, вмещает его в себя. Внутреннее становится внешним, а внешнее — внутренним. Нутро небом, а небо нутром. При всей необычности такого действа не будем забывать, что оно зиждется на имитации вполне реального природного процесса рождения.
В Третьяковской галерее в зале древнерусской живописи мы можем увидеть зримое воплощение такого действа в живопи си Дионисия. Это изображение материнского чрева, от которого исходят концентрические круги, разрастающиеся – до неба и охватывающие всю фигуру снаружи. Так Дионисий воплотил в живописи словесный поэтический образ «и чрево твое пространнее небес содея».
Человек в таком поэтическом воплощении становится как бы меньшей матрешкой,
вмещающей в момент выворачивания (рождения) матрешку большую — всю вселенную.
Есть множество визуальных символов фольклорной космогонии, основанных на взаимозамещаемости нутра и неба. Академик Б. А. Рыбаков справедливо считает, что изображение славянских рожаниц — хозяек мира лежит в основе всего древнерусского орнамента и восходит к глубокой древности.
«Небесные Хозяйки Мира... находились на небе, отождествлялись с двумя важнейши ми звездными ориентирами» (Большая и Малая Медведицы). Они «рождают все по головье животных, рыб и птиц, необходимое людям». «Нас может смущать, что
почитаемые рожаницы... изображались в такой непристойной позе, которая превосходит натурализм Золя. Однако следует отметить, что даже православным иконам был не чужд подобный натурализм».
У Дионисия схематическое изображение нутра-неба составляет спиральный узор,
расходящийся от центра и одновременно к нему сходящийся. «Повсеместность и устойчивость спирального орнамента, рожденного в земледельческом неолите, заставляло
нас отнестись к нему с особым вниманием»,— пишет Б. А. Рыбаков.
В связи с этим хотелось бы обратить внимание на описание огромного «солярного знака», чрезвычайно распространенного в русском орнаменте.
«Он почти всегда составной — из отдельных кругов, шестиконечных розеток и полукружий. У него нет лучей, испускаемых вовне. Нередко лучи изображались по внутренней окружности знака и обращены к центру знака». В то же время в центре есть круг с расходящимися лучами. Этот свет, расходящийся от центра и сходящийся к нему, есть, по всей видимости, двойное выворачивание вселенной в человека и человека во вселенную — космическая спираль, восьмерка.
Очертания главного узора русского орнамента уходят корнями к самым первоистокам культуры. В древнеиранском искусстве есть чрезвычайно интересное изображение.
В центре солнце, месяц, звезда, как бы утопающие в воронке, а по краям снаружи
шесть сердец — шесть лепестков. Небо внутри, а сердце снаружи. Если же искать не плоскостную, а объемную модель человека-космоса, то здесь в русском фольклоре на первый план выступает образ котла и чаши. Две половинки единой сферы, как бы расколотые и соединенные в точках касания наподобие песочных часов. Это символическое изображение единения земли и неба, луны и солнца, человека и вселенной. Кстати, изображение шестилепестковой розетки как раз находится в центре чаши на грани соприкосновения полусфер неба и земли, человека и космоса. Таковы чаши Юрия Долгорукова и Ирины Годуновой, хранящиеся в Оружейной палате. Причем на чаше Годуновой даже видны изображения шести сердец в нижней части. Таким же символом неба был в старину котел. Месяц — Иванушка-жених обретал свой вселенский облик, искупавшись в котле с кипящим молоком. Котел с кипящим молоком — это небо и Млечный Путь. Месяц на ущербе (в последней фазе) —Иванушка-дурачок должен нырнуть, исчезнуть в небе, чтобы появиться молодым месяцем — Иваном-царевичем, но уже по другую сторону Млечного Пути.
В то же время царь — солнце — погибает в ночном котле. Сюжет сказки Ершова «Конек-горбунок» чрезвычайно популярен в Сибири, где еще в древние времена была
распространена так называемая котловая культура. Множество котлов с изображением по краям заходящего и восходящего солнца почти не оставляют сомнений в правильном понимании заключенной в них небесной символики.
Вспомним античный миф о том, что когда-то человек имел «совершенное» сферическое тело и соединял в себе мужскую и женскую природу, но Зевс рассек его на
две половины — мужскую и женскую, и с тех пор мужчина и женщина ищут друг друга, чтобы обрести свое единое тело. Миф этот явно перекликается с русскими фольклорными сказаниями о луне, разрубленной на две части Перуном, о браке солнца и земли, солнца и луны, земли и неба. Образ котла и чаши, соединяющий две разрозненные полусферы, естественно, связан с обрядами рождения и брака. Они всегда символизировали единение человека и космоса. «Разбираясь в узорах нашей мифологи ческой) эпики, мы находим, целый ряд ука заний на то, что человек есть ни больше ни меньше как чаща космических обособленностей. «В «Голубиной книге» так и сказано»,—пишет. С. Есенин, Размышляя о Голубиной книге, Есенин вполне естественно вспомнил образ чаши, когда заговорил о связи человека и вселенной. Верхняя часть ее символизирует вселенную, нижняя — человеческое тело. Каждой части небесной сферы соответствует часть ее нижней сферы—человеческого тела. Зори—глаза, месяц—грудь... Проекция любого изображения на чашу ясно проиллюстрирует, каким образом «человек, идущий по небесному своду, попадет головой в голову человеку, идущему по земле» (С. Есенин). Именно так будет выглядеть
человек в двух соприкасающихся полусферах, символизирующих небо и землю. Вот
почему вытряхивание перины в колодце, внизу, в царстве Метелицы вызывает снегопад наверху — в небесах.
Дойдя до средоточия двух полусфер, до иглы Кощея, сломав ее, Иван-царевич как бы выворачивает верхнюю, ночную, полусферу вниз, а нижнюю, дневную, выпускает на свободу вверх. Замок Кощея рушится, невеста восходит на востоке утренней Венерой, сбросившей лягушачью ночную кожу, облаченная в солнечный наряд. Звезда и месяц исчезли в лучах солнца, но это исчезновение означает теперь их соединение в единую сферу солнца — счастливый брак. Разлученные на две половины лунной сферы в ночи, они соединяются днем в другой совершенной сфере — солнце. Одновременно это символизирует то, о чем говорит Есенин; «... опрокинутость земли сольется в браке с опрокннутостью неба». Перед нами вечная феерия соединения двух полусфер чаши, то разъединенных, то соединяющихся снова. Это земля и небо, две половинки луны, солнце заходящее и восходящее. Соединение их означает счастливый брак. Выходит, человек, мужчина и женщина,— как бы чаша всех чаш, вмещающая небо, солнце, луну и весь мир.
В поэме узбекского поэта Навои «Фархад и Ширин» есть образ, многое роясняющий
и для русского фольклора. Это зеркало Искандера, в котором как бы слились воедино и ларец Кощея и космическая чаша. В сокровищнице своего отца Фархад находит хрустальный ларец.
«Как чудо это создала земля!
Был дивный ларчик весь из хрусталя,—
Непостижим он, необыден был,
Внутри какой-то образ виден был,
Неясен, смутен, словно бы далек,—
Неотразимой прелестью он влек.
В ларце оказалось магическое зеркало с надписью:
Вот зеркало, что отражает мир:
Оно зенит покажет и надир...
Магическое зеркало! Оно —
Столетьями в хрусталь заключено.
Нет! Словно солнце в сундуке небес,
Хранилось это зеркало чудес».
Чтобы увидеть что-либо в это зеркало, Фархаду надо было проделать путешествие
на другой конец света, убить дракона и властителя тьмы Ахримана. Дракон в русской сказке — змей, а властитель тьмы Ахриман тождествен Кощею. Проникнув в середину замка, Фархад находит вторую половину магического зеркала Искандера:
«Фархад вошел, предчувствием влеком;
Увидел солнце он под потолком,—
Нет, это лучезарная была
Самосветящаяся пиала!..
Не пиала, а зеркало чудес, —
Всевидящее око, дар небес!
Весь мир в многообразии своем,
Все тайны тайн отображались в нем:
События, дела и люди — все,
И то, что было, и что будет, все.
С поверхности был виден пуп земной,
Внутри вращались сферы — до одной».
Теперь становится ясно, что символизирует собой ларец Кощея. Это русская модель зеркала-чаши. «Самосветящаяся пиала» Навои — тот же образ, что и чаша, о которой пишет Сергей Есенин. На Востоке она называлась чаша Джемшида. Ее геометрическое устройство поразительным образом совпадает с композицией художественного
пространства русского фольклора.
Путь к ларцу в русской сказке идет как бы концентрически сжимающимися кругами.
Пространство по мере приближения к ларцу порой сужается до узенькой щели в горе.
В сказке «Хрустальная гора» Ивая-царевич должен превратиться в муравья, чтобы
проникнуть в хрустальную гору, в царство Кощея. В «Царевне-лягушке» Иван-царевич
вплотную соприкасается с конечной целью своего путешествия — Кощеевой смертью.
Пощадив волка, ворону, щуку, он раскроет ларец. Оттуда выскочит заяц — его догонит
волк. Из разорванного зайца вылетит утка — ее поймает ворона. Из утки выпадет
яйцо—его достанет из моря щука, В яйце — игла или семечко, в нем смерть Кощея. Получается своего рода обратная матрешка. В наименьшей содержится наибольшая — все царство и смерть Кощея. Внутри человека, как в подземелье Кощеева царства, спрятана вся вселенная.
Подобный образ есть в поэзии современника «Слова о полку Игореве» азербайджанского поэта Низами. У Низами звездное небо и нутро человека взаимовмещаемы. Поднимаясь в небо, к звездам, окажешься внутри себя; погружаясь в глубь себя, окажешься в небе. Кроме того, само это погружение есть спуск в глубокое подземелье, где в конечном итоге поэт оказывается в просторном небесном дворце. Мотив этот настолько распространен в русской сказке, что не нуждается в каких-либо пояснениях:
«Как мяч, я ушел из себя самого,
В одном видя сотню и в стах — одного.
Не вижу нигде продолженья пути.
Вернуться — желанья нет; сил нет — войти,
Меж всеми отмечен, иду к дверям.
Вновь голос: «Во внутрь!» И уже — я там.
То царство просторнее неба всего,
О, как же богат прах от праха его!
И сидят семь халифов в покое том».
Это семь планет и одновременно сердце, печень, легкие, желчный пузырь, желудок»:
кишечник, почки.
«Вот в селенье дыханья — вдыханье. На царственный трон
Царь полудня воссел: управлял всеми властными он. (сердце)
Красный всадник пред ним ожидал приказанья, а следом {легкие)
Прибыл в светлой кабе некий воин, готовый к победам, [печень}
Горевал некий отрок, разведчик, пред царственным стоя, [желчь)
Ниже черный стоял, пожиратель любого отстоя, (желудок)
Был тут мастер засады, умело державший аркан, (кишечник)
И, в броне серебра, чей-то бронзовый виделся стан». (почки)
Но все семь всадников оказываются мошками вокруг свечи — сердца:
«Были мошками все. Быть свечой только сердцу дано.
Все рассеяны были, но собранным было оно».
Это сердце-солнце оказывается как бы точкой соприкосновения внутренностей и
неба. При таком взгляде на человека вся окружающая его вселенная оказывается как
бы большой матрешкой, вмещающей в себя меньшую — человеческое тело. Но это еще
не исчерпывающая картина. Сложность в том, что меньшая матрешка (человеческое тело) содержит внутри себя большую матрешку—вселенную. Это похоже на спираль, сходящуюся к центру и одновременно разбегающуюся от него. Это сфера, где непостижимым образом поверхность оказывается в центре, а центр объемлет поверхность. Здесь, поднимаясь ввысь, окажешься внизу; опускаясь вниз, окажешься на вершине; погружаясь во тьму, выйдешь к свету; проникая в узкое пространство, окажешься в бесконечности.
Такова композиция художественного пространства мифа и сказки. Она сохраняется
в литературах самых разных эпох и народов, в частности композиция «Божественной
комедии» Данте и «Одиссеи» Гомера.
Все свойства такого пространства отчетливо видны в русской сказке. Путешествие героя за своей невестой — это уход на небо. Чтобы попасть на небо, надо спуститься под землю, пройдя сквозь узкое пространство — трещину, дупло, колодец. Иногда узкое пространство — это тропа в лесу, лабиринт, проход между скалами или переправа по хлипкому мостику.
Через такую же узкую горловину предстоит пройти .будущей счастливой невесте —
падчерице, сиротке. Ее спускают в колодец, но с ней происходит то же, что произошло с
Иосифом прекрасным. Брошенный в колодец в рубище, он в конечном итоге оказывается на вершине славы. Легенда об Иосифе интересна еще и тем, что в ней сохраняется изначальная, звездная основа, вытесненная во многих более поздних сюжетах.
Иосиф видит сон о том, как солнце, луна и одиннадцать звезд поклоняются ему.
Близкие моментально истолковывают его сон: «...и побранил его отец его, и сказал
ему: что это за сон, который ты видел? не ужели я и твоя мать и твои братья придем
поклониться тебе до земли». Легенда ничем не обосновывает такое истолкование сна,
но звездная символика едина у всех народов, и мы могли бы сами истолковать этот
сон. Ведь и в русском фольклоре солнце — мать, месяц—отец, звезды—дети.
Еще отчетливей звездная основа сюжета о спуске в колодец видна в киргизских сказках. В одной из них путешествию ге роя за своей небесной невестой предшествует не символическое, а прямое творение вселенной из человеческого нутра: «Мне снилось, будто из головы моей вышло золотое солнце, из ног выплыла серебряная луна. Потом раскрылась моя грудь, и оттуда посыпались алмазные звезды». Герой продает свой сон другому за стало овец, как Исав продал свое первородство за чечевичную похлебку. Отец изгоняет сына, купившего сон, из дома, но все кончается благополучно. Изгнанник встречает свою невесту Айсулуу (красивую луну) и женится на ней, как и положено звездному жениху.
Уже из этих сопоставлений ясно, что есть все основания говорить о единой звездной
символике, пронизывающей фольклорное мышление всех народов. Это устоявшаяся
система символов, общая для разных ареалов культур.
О существовании ее свидетельствуют самые первые следы культурной деятельности
человека. В этом смысле фольклор, существовавший задолго до письменности, все-таки имел свою «письменность» — огненные «письмена» ночного неба. Мифы и легенды о существовании звездной, небесной книги существуют во многих древних культурах. В русском фольклоре это сказание о Голубиной книге. На первых же страницах ее читаем о вселенском человеке, чье тело соткано из звезд, луны, солнца, чье дыхание — ветер. Представления эти уходят корнями в глубокую древность. Значение их очень глубоко ощущал Сергей Есенин. «Звезды и крут — знаки той грамоты, которая ведет читающего ее...» Есенин справедливо упрекает фольклорную науку своего времени в непонимании фольклорных символов звездной письменности.
«Наши исследователи не заглянули в сердце нашего народного творчества. Они не
поняли поющего старца...
Потерял я книгу золотую
Во темном бору...
«Ты не плачь, старец, не вздыхай,
Книгу новую я вытку звездами,
Золотой ключ волной выплесну».
Есенин не из одних книг, а из самой фольклорной традиции знал многие правила
чтения «звездной книги». Эту книгу, «небесный свиток», можно увидеть в зале древнерусской живописи Третьяковской галереи. Здесь на развернутом свитке изображена вся звездная азбука «от альфы до омеги», хотя, по сути дела, кроме альфы и омеги, в этой
письменности нет букв. «Звездная азбука» двоична: солнце восходящее (красное) — солнце заходящее (черное), месяц ранний — месяц поздний, луна — месяц. Принцип чтения напоминает азбуку Морзе: тире и точка изображают любую букву алфавита. Сам человек поэтически мыслился как внутренняя сторона «небесного свитка». В нем написано то же, что и на внешней стороне — звездном небе. Об этом хорошо сказано у С. Аверинцеаа: «Римские солдаты сжигали заживо одного ближневосточного книжника вместе со святыней его жизни — священным свитком. Его ученики сказали ему: «Что ты видишь?» Он ответил: «Свиток сгорает, но буквы улетают прочь!»
Философ А. Турсунов пишет, что человек предстает микродвойником вселенной или, соответственно, «свитком», содержащим описание всей природы. Однако он ошибается, считая, что такие представления характерны лишь для Среднего Востока. Это общие представления о мире и человеке, свойственные любому фольклору, и в особенности русскому.
Наша общая устремленность в космос на уровне поэзии, на уровне мысли продиктована тысячелетней традицией и сегодня доказана делом.
Порой получалось и получается так, что далекая тысячелетняя поэтическая метафора
облекалась и облекается в плоть конкретной научной мысли, Моделируя космологию
выворачивания на основе русского фольклора, я был очень удивлен, когда встретил такую логическую формулировку: «...когда вы сделаете внутреннюю сторону как внеш нюю... и внешнюю сторону как внутреннюю... и верхнюю сторону как нижнюю сторону... тогда вы войдете в [царствие]».
Этот отрывок из коптских текстов, найденных в 1945 году в Египте, что-то напоминал.
И внезапно я вспомнил описание невесомости у космонавта Германа Титова: «Верха и низа в ракете, собственно, нет, потому, что нет относительной тяжести... Мы чувствуем
верх и низ, только места их сменяются с переменой направления нашего тела в пространстве».
А вот что сказал об этом ранее Циолковский: «...мне представляется... что основные
идеи и любовь к вечному стремлению туда — к Солнцу, к освобождению от цепей тяготений — во мне заложены чуть ли не с рождения. По крайней мере я отлично помню, что моей любимой мечтой в самом раннем детстве, еще до книг, было смутное сознание о среде без тяжести, где движения во все стороны совершенно свободны; и где лучше, чем птице в воздухе».
То, что чувствовал Циолковский в детстве, «еще до книг», это и есть внутреннее
содержание фольклора, его общая метакодовая основа. Однако воплощение ее в реальность не случайно произошло впервые в ареале нашей культуры, где неустанно на
протяжении многих столетий звучала мысль о равноправии человека и космоса:
«Частица целой я вселенной,
Поставлен, мнится мне, в почтенной
Средине естества...
Я связь миров повсюду сущих,
Я крайня степень вещества».
(Державин)
Ведь и это не из философских трактатов, а из самых глубинных истоков русского
фольклора, где человек и космос — единое неразрывное тело, а мозг и сердце человека — в середине космического котла и чаши.
Многие фундаментальные понятия современной космогонии, будучи принципиально
новыми, в то же время в чем-то соответствуют основным значениям, выявленным еще
в фольклоре и первобытном искусстве.
Универсальная чашеобразная поверхность зеркала Искандера, Кощеева ларца, как это ни странно, может быть идеальной моделью, наглядно популяризирующей такие понятия, как «черная дыра», «антимир», «расширяющаяся вселенная», неевклидова геометрия, частица фридмон и т. п. Во всех этих случаях проход через горловину чаши как сквозь узкое пространство, ведущее к выходу в сферу с противоположной кривизной, совпадает, в свою очередь, с фольклорной моделью рождения, зачатия и смерти как выворачивания. Таковы же представления о расширяющейся и сжимающейся вселенной, то есть пульсирующей. Во всяком случае, геометрическая модель здесь может быть та же самая—расходящаяся и сходящаяся к центру спираль или розетка, концентрические круги, расходящиеся от центра и сходящиеся к нему.
До сих пор эти спиральные узоры, распространенные во всех ареалах культуры,
в том числе и в русском орнаменте, не без основания отождествлялись с изображением
солнца. Как мы уже показали ранее, сфера солнца, так же как и сфера луны, земли и неба, при переходе в свою противоположность как бы выворачивается наизнанку. Проекция взаимовыворачивания двух сфер на плоскость как раз и дает рисунок такой спирали. Это земля — небо, солнце — луна, мужчина — женщина, человек — вселенная, малая матрешка в большой и большая в малой одновременно. Этой модели соответствует понятие об универсальной элементарной частице фридмон. Она же и частица (малая матрешка), но она же и вся вселенная (матрешка большая).
Представление об антимире и черной дыре в области соприкосновения их с нашим миром опять же напоминает нам уже знакомую модель чаши. Если представить вслед за многими популяризаторами гипотетическую возможность течения времени в антимире или в черной дыре в обратную сторону, а точку встречи двух миров обо значить через нуль, мы увидим две полусферы, обращенные выпуклыми сторонами друг к другу, В каждой полусфере время движется нормально из прошлого в будущее, но при взгляде из противоположной полусферы оно кажется текущим вспять — из будущего в прошлое Причем луч света не может выйти из черной дыры, искривляется под воздействием сильного тяготения, то есть свет там как бы есть тьма, черное солнце. Перейти из одной полусферы в другую — то же самое, что вывернуться наизнанку, «родиться заново». Надо пройти через узкую горловину песочных часов, перескочить через нуль, «войти в одно ушко и выйти в другое», прошмыгнуть в трещину хрустальной горы Кощеева царства, пройти за нитью Ариадны по узкому лабиринту. В момент воображаемого перехода из одного мира в другой происходит все то, что и с героями фольклорного действа: тьма становится светом, свет тьмой, малое вместит в себя большее и большее уместится в меньшем. Достаточно вспомнить эпизод из «Смерти Ивана Ильича» Л. Толстого, чтобы понять неуничтожимость этой модели на самых высоких .уровнях литературы. Вот каково описание момента выворачивания-смерти у Толстого: «Вдруг какая-то сила толкнула его в грудь, в бок, еще сильнее сдавило ему дыхание, он провалился в дыру, и там, в конце дыры, засветилось что-то. С ним сделалось то, что бывало с ним в вагоне железной дороги, когда думаешь, что едешь вперед, а ,едешь назад, и вдруг узнаешь настоящее направление».
В этом отрывке есть все элементы, моделируемые при выворачивании во вселенную с противоположным знаком; тьма становится светом, узкое пространство (дыра) переходит в противоположное — светлое, и, что самое интересное, меняется вектор направления движения, а значит, и времени, что характерно для моделей перехода в антимир и пространство черной дыры.
«Он чувствовал,— пишет Толстой,— что мученье его и в том, что он всовывается в эту черную дыру, и еще больше в том, что он не может пролезть в нее». Переход от тьмы к свету внезапен. Здесь мы соприкасаемся с другим фундаментальным понятием современной физики — с понятием квантового скачка. До появления этого термина внезапное превращение Иванушки-дурачка в Ивана-царевича, лягушки в царевну, а Кощеева царства тьмы в царство света, столь характерное для мифа, не находило адекватного обозначения в мышлении современного человека. Ведь не просто внезапно, а через какой-то барьер нуль-пространства и времени должен перейти герой в противоположное состояние. И вот что интересно: пространственно-временная модель такого барьера напоминает модель светового конуса мировых событий. Котел, чаша, сужающиеся к центру, а затем внезапно расширяющиеся дупло или колодец, узкая трещина в горе, становящаяся широким ходом, два ушка коровы, сквозь которые надо пройти Крошечке-Хаврошечке.
Современному человеку, привыкшему к принципиальному несовпадению научного и художественного мышления, конечно, не так просто преодолеть психологический барьер и увидеть генетическое родство модели пространства-времени в науке и художественном мире древней и современной литературы. Но только преодолев этот барьер, можно понять истинное значение фольклора, где нет мира, отчужденного от человека, и нет человека, отчужденного от мира.
Для понимания этого единства нужно опять же овладеть некоторыми методами мышления, ставшими открытием XX века.
Это прежде всего принцип дополнительности Нильса Бора, поразительным образом соответствующий фольклорному взгляду на двуединство человека-космоса. Сам принцип появился в результате раздумий над странным поведением частицы, которая оказалась волной-частицей, что трудно представить в рамках обыденного здравого смысла. Если частица, то в определенной точке пространства; если волна — то во многих. Между тем именно так: волна и частица одновременно. Отношения человек — космос в фольклоре — такого же свойства. Он, человек, в одном определенном месте вселенной и он же — вся вселенная. Он — все люди, все звезды, весь род и он — один (зерно—колос).
Здесь особая сложность в последнем противопоставлении «один — все». На могиле Достоевского начертаны слова, взятые им эпиграфом к «Братьям Карамазовым»: «Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода». У зерна, в данном случае символизирующего человека, два тела. Одно — сам9 зерно, погребенное во тьме, в чреве земли; вывернувшись наизнанку, рождает многое — колос, вселенную, множественность всех тел. «Зерно — колос» — идеальное единство, дающее возможность понять, что значит в фольклоре единое звездное тело. Небо — звездный колос в его отношении к зерну, конкретному человеку. Теперь понятно, каким образом общее звездное тело было согласно фольклорным представлениям одновременно индивидуальным телом героя.
Перечислив все эти соответствия между некоторыми представлениями о космологии в сознании древнего и современного человека, хочется уяснить, в чем различие. А различие это фундаментальное. Модель одна и та же, но действующие в ней лица другие. В древней космологии — человек-космос, в современной — частица фридмон. В древней космологии выворачивание как смерть-рождение, как воскресение; в современной — квантовый скачок, расширяющая ся и сжимающаяся вселенная. Там роды, здесь взрыв, расширение. Там мать, здесь материя. В древней космологии доминирует живое, оно творит мир. В современной доминирует неживое, которое творит живое.
Так ли безусловна во всем наша правота перед древними? Откроем труды академика В. Вернадского, в частности его книгу «Живое вещество». Вернадский обращает внимание на то, что наука знает множество фактов превращения живого в мертвое и не знает ни одного случая возникновения живого из мертвого. Не являются ли живое и мертвое двумя масками единой материи и не существовали ли они всегда?
Не затрагивая некомпетентным вмешательством вопросы о живой и неорганической материи и о происхождении жизни, скажем только, что взгляды Вернадского во многом гармонируют с древней космогонией. Итог такой космогонии в известной мере отражен в трудах поздних платоников:
«Притом всякое тело движется или вовне, или вовнутрь. Движущееся вовне неодушевлено, движущееся внутрь — одушевлено. Если бы душа, будучи телом, двигалась вовне, она была бы неодушевленною, если же душа станет двигаться вовнутрь, то она одушевлена».
Как видим, выворачивание внутрь — человек живой, выворачивание вовне — его космос, неодушевленный двойник. Древний человек несет в себе живое и мертвое как два образа единого тела. Если вспомнить, что еще Нильс Бор предлагал распространить принцип дополнительности на понятия «живое» и «неживое», то станет очевидным, что космология древних содержит в себе не только отжившие, но и чрезвычайно близкие современному человеку понятия и проблемы.
Мы подходим к моменту грандиозного перелома в мышлении, который внезапно сблизил современное научное мышление с древним космогониэмом. Этот перелом включает в себя всю сумму знаний современной науки, где особую роль играет картина мира, созданная на основе общей теории относительности и квантовой физики.
Вспомним диалог Ивана Карамазова с чертом. Черт рассказывает Ивану о грешнике, который в наказание за атеизм должен шествовать по бесконечному мирозданию, где ничего нет, кроме неживой материи. У Достоевского шествие грешника было недолгим: прошел сколько-то световых лет и взмолился о пощаде.
Так вот грешник напрасно испугался. Ведь с точки зрения современной космологии никакой однородной мертвой материи нет. Через какое-то время он обязательно подошел бы, скажем, к черной дыре. Остановился бы, задумался, как богатырь на распутье, а дальше все как в сказке: внезапное превращение, то есть то, что в фольклоре обозначалось понятиями «смерть» и «воскресение». Да, черной бездны, столь пугавшей поэтов прошлых веков, попросту нет.
Время и пространство определяются там, где есть отношения между объектами: одушевленным и неодушевленным. Больше того, эти объекты взаимодействуют, то есть как-то реагируют друг на друга: тяготением, отражением, светом. Пространственно-временная бездна между ними зависит от многих взаимодействий. Время может растягиваться, пространство—сужаться .и расширяться, словом, в космосе есть все процессы, характерные для художественного пространства сказки. Малая частица вмещает большую, время превращается в нуль на пороге светового барьера.
Отвлечемся сейчас от гипотетического и вспомним о несомненном. Несомненно, что в мировой культуре есть единый символический язык — метакод. Само существование его не только многое проясняет в загадках древних цивилизаций, но и открывает новые возможности в современном осмыслении единства человека и космоса.
МЕТАКОД — это система художественных символов, отражающая в художественных образах единство человека и космоса, общая для всех времен во всех существовавших ареалах культуры. Основные закономерности метакода, его художественный язык формируются в фольклорный период и остаются неуничтожимыми на протяжении всего развития литературы. Его можно назвать генетическим кодом литературы.
|
|
к.кедров космический миф и литература |
КОСМИЧЕСКИЙ МИФ И ЛИТЕРАТУРА
Писатель и жизнь. Сб. Литературного ин-та СП., М., 1981
Космический миф — сложнейшее явление русской и мировой культуры. Между учеными и писателями никогда не возникал спор о том, какая картина космоса правильнее — художественная или научная, — потому что до сих пор эти две системы существовали как бы порознь. Считается, что язык науки непереводим на язык художественной речи, а язык искусства не находит адекватного отражения в научной терминологии. И все-таки эти две модели мира находятся в незримом взаимодействии.
Космос Гёте и космос Ньютона формально не соприкасались друг с другом, хотя совершенно очевидно, что «Фауст» написан человеком, принявшим в целом ньютоновский образ мира. Ньютон предшествовал Гёте, но сегодня редкая космологическая модель обходится без прямых или косвенных обращений к «Фаусту». Конечно, научная достоверность играет здесь второстепенную роль.
Гомеровский космос, отчеканенный на щите Ахилла, имеет мало общего с ньютоновскими и эйнштейновскими концепциями, но «Илиада» не устаревает. Космический миф может быть устаревшим с научной точки зрения или соответствовать новейшим научным достижениям — не этим измеряется его ценность в искусстве.
Ужас Тютчева перед всепожирающей бездной космоса был мотивирован ньютоновской пустой Вселенной, где времени и пространства бесконечно много. Теория относительности Эйнштейна открыла космос, где есть понятие о нулевом времени, но Тютчев не устаревает. Человек интересует художника не только в настоящем времени, он входит в искусство со своим прошлым и будущим, со всеми опровергнутыми или подтвержденными мифами.
Мифы опровергаются в науке, но не в искусстве.
Космический миф в русской литературе ранее не был предметом специального исследования, хотя «космос Достоевского», «космос Тютчева», «космос Лермонтова» стали, привычными словосочетаниями в контексте сегодняшней литературной критики. Прямо или косвенно эти темы затронуты в работах Г. Гачева, В. Топорова. Классическим образцом такого рода исследований являются работы А. Лосева, С. Аверинцева и Я. Гуревича по античной, византийской и средневековой эстетике и литературе. Здесь выработалась определенная методология, суть которой заключается в том, что художественное произведение становится материалом для космологической модели филолога, этнографа, историка, литературоведа.
Пришло время в научной космологии увидеть материал для художественного образа. Из космологического научного материала, которым располагал художник в момент творения, выбирается здесь лишь то, что стало художественным космосом или космическим мифом, ибо космический миф есть наиболее адекватная художественная модель отношений человека ко всей Вселенной.
Переходя к непосредственному рассмотрению космологической мифологии в литературе, важно прежде всего увидеть единый источник всей космической мифологии — звездное небо над головой.
Огненная небесная книга пылала перед глазами Александра Блока уже в XX столетии:
«Тогда — остановись на миг
Послушать тишину ночную:
Постигнешь слухом жизнь иную,
Которой днем ты не постиг;
По-новому окинешь взглядом
Даль снежных улиц, дым костра,
Ночь, тихо ждущую утра
Над белым запушённым садом,
И небо — книгу между книг...»
(«Возмездие»)
Глубинными корнями уходит этот образ в безмерное прошлое. В «Апокалипсисе» и в других «звездных» книгах поэтично рассказывается, как в «последний день» срываются семь огненных печатей (видимо, семь планет) и небо сворачивается, «как свиток». Об этом же говорится в индийских «Упанишадах», где время и пространство свернулись, как свиток.
В сознании древних поэтов пылающая огненными письменами «небесная книга» была наподобие пергамента развернута над головой человека.
Прочитав эту книгу «от Альфы до Омеги» — от первой до последней буквы алфавита,— поэт вмещает в себя всю Вселенную. Отныне он становится живым космосом, вмещающим в себе все мироздание.
До нас дошло русское сказание о «Голубиной книге», спрятанной на «огненном древе» Млечного Пути. В прошлом оно опиралось на общие индоевропейские фольклорные корни, а в будущем ее огненные тексты отразились в зеркале византийской мифологии.
И в «Упанишадах», и в «Апокалипсисе», и в «Голубиной книге» говорится о «космическом человеке», из которого возникает мир. Подобно Фениксу горел и не сгорал пуруша в индийских «Упанишадах»:
Весна была его жертвенным маслом, лето — дровами, а осень—самой жертвой...
«Когда разделили пурушу, на сколько частей он был разделен?
Чем стали уста его, чем руки, чем бедра, ноги?..
Луна родилась из мысли, из глаз возникло солнце...
Из пупа возникло воздушное пространство, из головы возникло небо.
Из ног — земля, страны света — из слуха. Так распределились миры».
Вокруг связанного, как жертвенное животное, пуруши положили «семь поленьев». По всей видимости, имеются в виду семь планет, семь светил. Здесь Вселенная возникает из человека и возникает в муках. В русской «Голубиной книге» князь Владимир спрашивает у царя Давыда Овсеевича:
«Прочти ты нам книгу голубиную,
Расскажи ты нам, сударь, про белой свет:
Отчего начался у нас белой свет,
Отчего пошли зори ясные,
Отчего пошли звезды частые,
Отчего ж начался млад-светел месяц?»
И Давыд Овсеевич читает ответ по книге:
«Зори ясные от очей божьих,
Звезды частые от риз божьих,
Млад-светел месяц от грудей божьих».
И в космогоническом гимне «Упанишад», и в русской «Голубиной книге» космос творится из человеческого тела и подобен ему. Космос — это как бы расширенное в перспективе зрения человеческое тело: солнце — глаз, ветер — дыханье, земля — туловище, небо — голова.
Насколько живучей оказалась эта метафора, можно судить по видению Аввакума в тюремной земляной яме, откуда он пишет царю Алексею Михайловичу о том, как «...В нощи вторыя недели, против пятка, распространился язык мой и бысть велик зело, потом и зубы быша велики, а се и руки быша и ноги велики, потом и весь широк и пространен под небесем по всей земли распространился, а потом Бог вместил в меня и небо, и землю, и всю тварь... Так добро и любезно на земле лежати и светом одеянну и небом прикрыту быти...»
Это чрезвычайно примечательный древний образ, когда человек, как бы выворачиваясь наизнанку, вмещает в себя и небо, и звезды, и всю Вселенную. Он становится не узником, заключенным внутри вселенской бездны, а ее наиполнейшим вместилищем.
Поэта не смущает, что человек мал, а Вселенная неизмеримо больше, ибо для него есть иное, тайное зрение, где меньшее вмещает большее, а последний становится первым. Так материнское чрево могло вместить и «содеять» всю Вселенную, ибо само рождество виделось как такое же выворачивание наизнанку всего вселенского чрева: «...Ложесна бо Твоя престол сотвори и чрево Твое пространнее небес содела...»
Рождество виделось поэтам как бы магическим переодеванием. Само небо становилось как бы сброшенной кожей вселенского человека, а его телесная нагота затмевала сияние всего мироздания: «Одеялся светом яко ризою, наг на суде стояще и в ланиту ударения принят, от рук, их же созда».
Если «царь небесный» предстоял наг, то царь земной, наоборот, облачался в звездные ризы — «одеялся светом». Он надевал на себя корону, усыпанную драгоценными камнями, символизировавшую звездный купол, усыпанный звездами, и он держал в своих руках державу и скипетр — луну и солнце.
Ярчайший образ такой человекоподобной Вселенной и такого вселенского тела запечатлен в архитектуре древнерусского храма. Здесь купол символизировал невидимое небо, а нижняя часть — землю; вся служба в песнопениях и действии повторяла космогоническую историю сотворения мира и человека.
Светлое здание невидимой внутренней Вселенной, казалось, содрогнулось и рухнуло, когда Петр I привез из Европы готторпский глобус и установил его на бесплатное обозрение. Грозный самодержец призывал этим шагом отвратить свой взор от символической иллюзорной Вселенной храма и обратить его в реальную звездную бесконечность. Внутренний купол готторпского глобуса — первого русского планетария — должен был заменить собой внутренний купол храма. Смотрите, вот она, звездная бездна, окружающая человека:
«Открылась бездна, звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна...» —
восторженно писал Ломоносов об этой Вселенной. Что было делать в этой бесконечности человеку? Она рождала и восторг, и смятение:
«Так я, в сей бездне погружен,
Теряюсь, мысльми утомлен!»
Срывалась внешняя позолота, с храмов падали на землю колокола. Но вместе с тем срывалась и космическая оболочка с телесного облика человека. Теперь царь не выходил к народу, «одеянный светом, яко ризою». Ризы, символизирующие звездное небо, были сброшены, их сменил скромный мундир бомбардира Преображенского полка. Трудно было представить эту обыденную телесную оболочку вместилищем всей Вселенной. Недаром Петр I так любил демонстрировать хрупкость и непрочность человеческого тела, заставляя придворных присутствовать при вскрытии трупов. Петр словно хотел сказать голосом своей эпохи: посмотрите, здесь все чрезвычайно просто, здесь нет никаких небес, здесь только мускулы и кости.
Отец Петра, царь Алексей Михайлович, с трепетом читал письма Аввакума, где тот говорил о своих вселенских видениях. На Петра такое письмо не могло бы произвести серьезного впечатления. Тело перестало быть «телесным храмом». Храм превратился в здание, демонстрирующее могущество, «архитектора Вселенной», блещущее парадом и подавляющее своей мощью. Петропавловский, Исаакиевский, Казанский — вот соборы петровской и послепетровской эпохи. Их не сравнишь с храмом Покрова на Нерли, с соборами Московского Кремля, с Киевской и Новгородской Софией. Образ человекоподобной вселенной исчез. Купол стал больше похож на потолок планетария. Каково место человека в этой бесконечной звездной бездне?
У Державина это слепящий восторг человека, находящегося в центре звездной бесконечности и управляющего ею:
«Я связь миров повсюду сущих,
Я крайня степень вещества;
Я средоточие живущих,
Черта начальна божества...
Однако предсмертные строки поэта пронизаны другим ощущением. Восторг сменяется глухим разочарованием и ужасом перед черной бездной, поглощающей человека. Умирая, на аспидной доске поэт начертал мелом такие слова:
«Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы».
Зияющее «жерло вечности», пожирающее человека, — вот что увидел поэт в окружающем его мировом пространстве. Теперь сама Гея — природа — стала пожирательницей своих детей. Именно так и говорится у Тютчева об этой пожирающей бездне — природе:
«Поочередно всех своих детей,
Свершающих свой подвиг бесполезный,
Она равно приветствует своей
Всепоглощающей и миротворной бездной.
И в другом стихотворении:
И мы плывем, пылающею бездной
Со всех сторон окружены».
Все та же пылающая бездна «звезд полна», но теперь она рождает другие образы. Пусть это не Хронос, пожирающий своих сыновей, а пушкинская «равнодушная природа» — природа-мать, но мать, равнодушная к своим детям. Это не богородица — матерь мира, о которой пелось, что чрево ее пространнее небес. Это не заступница, спускающаяся в ад, чтобы облегчить муки грешников в «хождении по мукам». Это равнодушная, чуждая человеку космическая природа, и храм здесь другой. О нем писал Тургенев в своих «Стихотворениях в прозе»:
«Мне снилось, что я вошел в огромную подземную храмину с высокими сводами...
По самой середине храмины сидела величавая женщина в волнистой одежде зеленого цвета. Склонив голову на руку, она казалась погруженной в глубокую думу.
Я тотчас понял, что эта женщина — сама Природа, — и мгновенным холодом внедрился в мою душу благоговейный страх.
Я приблизился к сидящей женщине — и, отдав почтительный поклон:
— О наша общая мать! — воскликнул я, — о чем твоя дума? Не о будущих ли судьбах человечества размышляешь ты?
...Губы ее шевельнулись — и раздался зычный голос, подобный лязгу железа.
— Я думаю о том, как бы придать большую силу мышцам ног блохи, чтобы ей удобнее было спасаться от врагов своих...
— Как? — пролепетал я в ответ...— Но разве мы, люди, не любимые твои дети?
...— Все твари мои дети, — промолвила она, — и я одинаково о них забочусь — и одинаково их истребляю... Я тебе дала жизнь — я ее отниму и дам другим, червям или людям... мне все равно... А ты пока защищайся — и не мешай мне!..»
Вселенная-планетарий, Вселенная-обсерватория лишь на первых порах вызывала восторг поэтов. Но все чаще восторг сменялся разочарованием и ужасом на краю звездной бездны.
«Скользим мы бездны на краю,
В которую стремглав свалимся;
Приемлем с жизнью смерть свою,
На то, чтоб умереть, родимся,
Без жалости все смерть разит:
И звезды ею сокрушатся,
И солнцы ею потушатся,
И всем мирам она грозит».
(Державин)
У Достоевского Иван Карамазов в воображаемой беседе с чертом припоминает забавнейший анекдот, сочиненный им еще в гимназии. Некий человек после смерти за свои сомнения обречен шествовать по Вселенной, по той самой пустой Вселенной, в которую он глубоко верит:
«...Присудили, видишь, его, чтобы прошел во мраке квадриллион километров...» Путник прошел это расстояние за биллион лет. «— Как дошел! Да где ж он биллион лет взял?» А черт ему отвечает: «Да ведь ты думаешь все про нашу теперешнюю землю! Да ведь теперешняя земля, может, сама-то биллион раз повторялась; ну, отживала, леденела, трескалась, рассыпалась, разлагалась на составные начала, опять вода, яже бе над твердию, потом опять комета, опять солнце, опять из солнца земля — ведь это развитие, может, уже бесконечно раз повторяется, и все в одном и том же виде, до черточки. Скучища неприличнейшая...»
Откуда у Ивана Карамазова образ такой ледяной мертвящей Вселенной?
От Ломоносова до Достоевского длинный путь. Пожалуй, тот самый космический учительный квадриллион километров, тот самый биллион лет, символизирующий скачок от одного образа мироздания к другому. «Всепоглощающая бездна» Ломоносова, Державина, Тютчева и Достоевского берет свое начало в «Началах» Ньютона (Эта статья была сдана в редакцию, когда вышла новая работа Б Кузнецова «Сходящиеся параллели. Еще раз об Эйнштейне и Достоевском» («Новый мир», 1979, № 3). Ранее в книгах «Эйнштейн» и «Этюды об Эйнштейне» Б. Кузнецов обращался к этой теме. Эти труды и служили исходными предпосылками в нашей работе).
Да, это ньютоновская бесконечная бездна, простирающаяся вглубь и вширь периодически, однообразно и монотонно. Это ньютоновское бесконечное время и бесконечное пространство, пожирающее миры и дела людей. Здесь царил однообразный безжизненный космос, и порой казалось человеку XIX века — «его же царствию не будет конца». Но конец этому царствию наступил в XX столетии.
Оказалось, что нет этой бесконечной бездны, оказалось что нет абсолютного пространства и абсолютного времени. Оказалось, что мир не так прямолинеен и две параллельные могут пересекаться. Ведь еще в 20-х годах XIX столетия об этом говорил Лобачевский. Говорил, но его высмеяли, не поняли. Над воображаемой геометрией смеялись, называя ученого «воображаемым профессором».
Лобачевский пытался проверить свою геометрию в космосе, измеряя астрономические звездные расстояния, он пытается открыть для этого специальный семинар в университете, вести высшую геодезию и теорию фигуры земли, но ученые мужи отклонили это ходатайство. На эвклидову-то геометрию времени не хватает, а тут еще какая-то воображаемая!
На могиле Лобачевского в Казани и сегодня можно прочесть чугунную эпитафию: «Член общества Геттингенских северных антиквариев, ректор Казанского университета, многих орденов кавалер...» Чего только не перечислено! О геометрии Лобачевского ни слова. Ни слова о том, что сделало имя этого человека бессмертным.
Может показаться странным, но космологический смысл открытия Лобачевского раньше ученых осознали писатели: Достоевскому принадлежит первое слово художника о неэвклидовом космосе Лобачевского. Глубину этого образа понял только Эйнштейн. Об этом свидетельствуют воспоминания А. Мошковского об Эйнштейне: «...Достоевский! — Он повторил это имя несколько раз с особенным ударением. И, чтобы пресечь в корне всякое возражение, он добавил: — Достоевский дает мне больше, чем любой научный мыслитель, больше, чем Гаусс!»
Попробуем осмыслить глубину этого откровения.
Лобачевский построил свою геометрию на абсурдном, казалось бы, утверждении: «Две параллельные линии могут пересекаться». Лобачевский даже высказал предположение, что его воображаемая геометрия может получить экспериментальное подтверждение на огромных космических расстояниях.
Напрасно всматривался теряющий зрение ректор Казанского университета в ночной телескоп обсерватории, построенной по его инициативе и плану. Время для экспериментального подтверждения наступит в 30-х годах XX столетия. А пока эта геометрия только «воображаемая», чудачество солидного человека, умного администратора и талантливого преподавателя — не более.
Понял Лобачевского Ф. М. Достоевский. Впрочем, «понял» здесь не то слово. Достоевский осмыслил геометрию Лобачевского как художник. Он придал ей новое, человеческое измерение. Он увидел, что открытие Лобачевского связано с глубочайшими этическими ценностями человека.
Вспомним еще раз страшный холодный космос с квадриллионами километров и биллионами лет, по которому уныло бредет в своем воображении Иван Карамазов. Или — еще страшнее — космос Свидригайлова, когда он объясняет Раскольникову, что так называемая вечность и будущая жизнь, может быть, всего лишь навсего темная банька и пауки по углам. Но пытливый ум Ивана Карамазова проникает за пределы этой Вселенной. И тогда он шепчет свой трагический монолог:
«Но вот, однако, что надо отметить: если бог есть и если он действительно создал землю, то, как нам совершенно известно, создал он ее по эвклидовой геометрии, а ум человеческий с понятием лишь о трех измерениях пространства».
Здесь Иван Карамазов глубоко заблуждается. Оказалось, что «мир создан» не только по эвклидовой геометрии. Оказалось, что и в космосе, и в микромире действуют законы неэвклидовой геометрии Лобачевского. Да и человеческий мозг кроме трех измерений пространства сегодня оперирует понятиями об эн-мерных пространствах. И мозг оказался шире, и мир сложнее. Это и возмущает Карамазова.
«Между тем находились и находятся даже и теперь геометры и философы, и даже из замечательнейших, которые сомневаются в том, чтобы вся вселенная или, еще обширнее — все бытие было создано по эвклидовой геометрии, осмеливаются даже мечтать, что две параллельные линии, которые, по Эвклиду, ни за что не могут сойтись на земле, может быть, и сошлись бы где-нибудь в бесконечности».
Так оно и оказалось в общей теории относительности. Была открыта четвертая, пространственно-временная координата, указывающая меру искривления пространства. В таком искривленном пространстве как раз и пересекаются две параллельные прямые. Наглядно этого увидеть нельзя. Здесь огромный скачок от космоса видимого, где все, даже закон всемирного тяготения, можно продемонстрировать в школьном классе, к иному, невидимому космосу Лобачевского и Эйнштейна. Этот переход от наглядности не в силах совершить Иван Карамазов. Его рационалистическая душа, выношенная в чреве готторпского глобуса-планетария, протестует и вопиет:
«Я, голубчик, решил так, что если я даже этого не могу понять, то где ж мне про бога понять. Я смиренно сознаюсь, что у меня нет никаких способностей разрешать такие вопросы, у меня ум эвклидовский, земной, а потому где нам решать о том, что не от мира сего... Все это вопросы совершенно несвойственные уму, созданному с понятием лишь о трех измерениях».
Достоевский проник здесь в самую суть трагедии рационалистического сознания русской интеллигенции XIX века. Дело в том, что XVIII век, изгнавший из Вселенной восседавшего на облацех Саваофа, разрушив семь хрустальных сфер и погасив звездные лампады, оказался в опустошенной Вселенной, в чем-то вроде свидригайловской баньки с пауками. Никого, кроме человека, нет в этом космосе. Поначалу этот человек восторженно любовался сияющими звездными глубинами, как Ломоносов и позднее Державин, но мысль, что «и солнцы ею потушатся», уже подтачивала сознание. Даже этот великолепный сияющий мир погаснет, даже Земля остынет.
Илья Ильич Обломов незадолго перед смертью просит почитать, о чем пишут газеты. «Да пишут, что земной шар все охлаждается: когда-нибудь замерзнет весь». Что значат человеческие законы добра и зла перед лицом угасающей, остывающей черной бездны, окружающей человека!
Можно понять трагическую иронию Печорина при мысли, что «были некогда люди премудрые, думавшие, что светила небесные принимают участие в наших ничтожных спорах за клочок земли или за какие-нибудь вымышленные права!..» Эти люди давно умерли, а звезды продолжают сиять. Небо равнодушно к человеку.
Казалось, наивная вера. в космогонический смысл существования человека давно разбита. Восторженно когда-то смотрел на Вселенную Ломоносов. Теперь демоническая красота космоса пленяет взор, но ничего не говорит о человеке.
«На воздушном океане,
Без руля и без ветрил,
Тихо плавают в тумане
Хоры стройные светил...»
Вот он, равнодушный космос и «равнодушная природа».
В 1836 году Тютчев создал изумительный образ слияния космоса с человеком:
«Час тоски невыразимой!..
Все во мне, и я во всем!..
Но это был одновременно час смерти и горечи:
Чувства — мглой самозабвенья
Переполни через край!..
Дай вкусить уничтоженья,
С миром дремлющим смешай!»
(1836)
Еще сияла перед глазами таинственная звездная книга, еще с негодованием обращался он к тем, кто не стремился ее прочесть:
«Лучи к ним в душу не сходили,
Весна в груди их не цвела,
При них леса не говорили
И ночь в звездах нема была!»
(1836)
Но спустя 33 года эти же уста говорят о невозможности прочесть звездную книгу Вселенной:
«Природа — сфинкс. И тем она верней
Своим искусом губит человека,
Что, может статься, никакой от века
Загадки нет и не было у ней».
(1869)
А в 1871 году были произнесены уже знакомые нам слова о «всепоглощающей и миротворной» бездне.
Спустя шесть лет после смерти Тютчева, в 1879 году, Фет пишет два стихотворения, посвященные той же теме. В одном из них («Никогда») говорится о вечной смерти Вселенной и человека, в другом — о космическом бессмертии человеческой природы.
В стихотворении «Никогда» воскресший из гроба оказывается среди мертвой земли:
«Куда идти, где некого обнять,
Там, где в пространстве затерялось время?
Вернись же, смерть, поторопись принять
Последней жизни роковое бремя.
А ты, застывший труп земли, лети,
Неся мой труп по вечному пути!»
Предполагал ли Фет, что там, «где в пространстве затерялось время», как раз и таится четвертая, пространственно-временная координата Эйнштейна—Минковского, положившая научный предел для ужасающе зримой смерти в стихотворении «Никогда»?
Конечно, нет. Но позднее, в том же году, он создает удивительное стихотворение, где человек становится вместилищем всей неумирающей и вечной Вселенной.
«Не тем, господь, могуч, непостижим
Ты пред моим мятущимся сознаньем,
Что в звездный день твой светлый серафим
Громадный шар зажег над мирозданьем.
И мертвецу с пылающим лицом
Он повелел блюсти твои законы,
Все пробуждать живительным лучом,
Храня свой пыл столетий миллионы.
Нет, ты могуч и мне непостижим
Тем, что я сам, бессильный и мгновенный,
Ношу в груди, как оный серафим,
Огонь сильней и ярче всей вселенной.
Меж тем как я — добыча суеты,
Игралище ее непостоянства,—
Во мне он вечен, вездесущ, как ты,
Ни времени не знает, ни пространства».
Вот так, от бездны к бездне мечется поэтическая мысль XIX века, то утверждая бессмертие, то отрицая его, то вмещая Вселенную в человека, то погребая его в звездной глубине мироздания.
Удивительно ли, что роман «Братья Карамазовы» Достоевского, созданный в 1879—1880 годы, оказался ареной космогонической борьбы двух мировоззрений. Иван Карамазов верит в бессмертие человека, и он же отвергает его, ибо оно противоречит наглядности, как неэвклидова геометрия Лобачевского противоречит принципу наглядности. Иван Карамазов признает невидимый неэвклидов мир так же неохотно, как древнерусский автор вынужден был признавать с неохотой существование мира видимого:
«Оговорюсь: я убежден, как младенец, что страдания заживут и сгладятся, что весь обидный комизм человеческих противоречий исчезнет, как жалкий мираж, как гнусненькое измышление малосильного и маленького, как атом, человеческого эвклидова ума...— пусть, пусть это все будет явится, но я-то этого не принимаю и не хочу принять! Пусть даже параллельные линии сойдутся и я это сам увижу: увижу и скажу, что сошлись, а все-таки не приму».
Вот он, бунт рационализма, вот оно — восстание XIX столетия против грядущего XX века, века теории относительности и неэвклидовой геометрии. Иван Карамазов бунтует против Вселенной Эйнштейна, не подозревая, что живет в ней. В этой Вселенной жил Достоевский, хотя теория относительности еще не была открыта.
Чем принципиально отличается эта новая Вселенная от Вселенной Ньютона, Державина, Лермонтова, Тютчева? Звездная угасающая и загорающаяся бездна, темная ледяная пустыня, мертвый кремнистый путь — это все, что мог увидеть в телескоп человеческий взор. Вселенная Лобачевского, Достоевского и Эйнштейна не исчерпывается видимым. В ней под видимой оболочкой подразумевается еще то, что невозможно увидеть глазом, ну хотя бы искривленное пространство, четвертое измерение, две пересекающиеся параллельные прямые.
Эта Вселенная открывается интеллектуальному, духовному взору человека, но как раз ему-то менее всего доверяют Раскольников, Иван Карамазов, инженер Кириллов в «Бесах». Добро и зло так же невидимы и так же реальны, как четвертое измерение. Не признавая геометрию Лобачевского, эти герои Достоевского так же отвергают законы добра и зла. На том же основании, что они невидимы.
В знак протеста против невидимого мира Кириллов должен покончить с собой. Он и осуществляет эту парадоксальную идею, правда, почти насильно, по принуждению. Но, даже застрелившись, уйти из Вселенной Лобачевского невозможно. Она реально существовала и во времена бесноватого рационалиста Кириллова, и во времена бесноватого Адольфа Гитлера, «запретившего» теорию относительности. К счастью, нельзя «запретить» неэвклидову Вселенную, видимую и невидимую одновременно.
Четырехмерный космос уже мерцал и переливался невидимыми гранями перед глазами Достоевского, хотя и не существовало математических формул Минковского и Эйнштейна, дающих описание этого мира. И здесь произошел один из выдающихся парадоксов времени: новый образ космоса у Достоевского и Лобачевского оказался чрезвычайно близок к образу Вселенной Дионисия, Андрея Рублева и погибшего в земляной яме огнесловца Аввакума. Эта близость заключается в том, что и для Аввакума и для Лобачевского за пределами видимой Вселенной простирался другой мир, принципиально незримый мир иных измерений. Аввакум духовным взором видел, как тело его, разрастаясь, вмещает в себя всю Вселенную — землю под ногами и звезды над головой. Достоевский видит человека только во всей Вселенной в неразрушимом единстве. Раскольников убивает не в комнате, а в космосе. Карамазов и Кириллов сверяют точность своих душевных приборов с незыблемой и наглядной Вселенной Ньютона, а когда стрелки отклоняются и колеблются от искривлений неэвклидова пространства, они скорее согласны разрушить прибор, умертвить тело и душу, нежели принять эту невидимую Вселенную.
Уже в наши дни слышим изумленные слова поэта Семена Кирсанова:
«Как?
Разве оптика глазная
Была неточной и неверной,
Туманно зренью объясняя
Наш ясный мир четырехмерный?»
Нет, оптика глазная предельно четка и совершенна. Вот только не все поддается оптике. Никакой самый совершенный телескоп и никакой самый совершенный электронный микроскоп «не увидит» принципиально невидимую четвертую пространственно-временную координату нашей Вселенной. Обретением невидимого мира — вот чем была геометрия Лобачевского для Достоевского.
Но ведь это — тот же самый, утраченный ранее образ Вселенной, «видимой же всем и невидимой»! Планетарный готторпский глобус был нагляден, как наглядны были анатомические препараты кунсткамеры. Но, вскрывая человеческое тело, нельзя увидеть то, что в принципе невидимо. Для художника XX столетия звездная «всепоглощающая и миротворная бездна», всепожирающее «вечности жерло» уже не выглядит столь устрашающе, потому что у этой бездны есть предел, бездна зрима, а мир простирается дальше зримого. Обретение нового, «четырехмерного» зрения в чем-то тождественно умению видеть «духовными очами», которое пронизывает древнерусское искусство и древнерусскую литературу.
Этот скачок от трехмерной наглядности к четырехмерному парению передан в стихотворении Федора Сологуба:
«Очарования времен
Расторгнуть все еще не можем.
Наш дух в темницу заключен,
И медленно мы силы множим.
Давно ли темная Казань
Была приютом вдохновений
И колебал Эвклида грань
Наш Лобачевский, светлый гений!
Завеса вновь приподнята
Орлиным замыслом Эйнштейна,
Но все еще крепка плита
Четырехмерного бассейна.
Необратимы времена
Еще коснеющему телу,
И нам свобода не дана
К иному их стремить пределу.
Наш темный глаз печально слеп,
И только плоскость нам знакома.
Наш мир широкий — только склеп
В подвале творческого дома.
Но мы предчувствием живем.
Не лгут позывы и усилья.
Настанет срок,— и обретем
Несущие к свободе крылья».
Читая эти строки, трудно не заметить вопиющее несоответствие формы и содержания. Говорится о геометрии Лобачевского, о теории относительности, а форма стиха — традиционный «кирпичный» ряд, все метафоры по-житейски наглядны.
Обретение новой формы было дано другому поэту, который первый после Достоевского понял сакраментальный смысл геометрии Лобачевского, первый начертал его имя на своем поэтическом знамени в поэме «Ладомир»:
«И пусть пространство Лобачевского
Летит с знамен ночного Невского.
Это Разина мятеж,
Долетев до неба Невского,
Увлекает и чертеж
И пространство Лобачевского.
Пусть Лобачевского кривые
Украсят города...»
Космос вошел в его поэзию так же органично, как мифология древних греков в «Илиаду» и «Одиссею». Это была новая Вселенная Лобачевского, Эйнштейна и Циолковского, хотя не было еще космических полетов:
«Ты прикрепишь к созвездью парус,
Чтобы сильнее и мятежнее
Земля неслась в надмирный ярус,
А птица звезд осталась прежнею».
Так Хлебников представлял себе полет в космосе не ракеты, а всей нашей галактики в целом. Это не полет в пространстве, а полет во времени. «Мозг людей и доныне скачет на трех ногах (три оси места)! Мы приклеиваем, возделывая мозг человечества, этому щенку четвертую ногу — именно — ось времени», — писал он в поэтическом воззвании «Труба марсиан».
Какой-то удивительной интуицией Хлебников предчувствовал, что невидимое четвертое измерение пространства есть на самом деле пространственно-временная координата. Лишь незадолго до смерти Хлебникова это открытие будет совершено и сформулировано Эйнштейном в «Общей теории относительности». За несколько лет до этого студент физико-математического отделения Казанского университета Хлебников написал в своем первом прозаическом отрывке «Завещание» пророческие слова: «Пусть на его могиле напишут: он связал пространство со временем». Эти слова появились во время знакомства Хлебникова с геометрией Лобачевского в том самом университете, где семьдесят лет назад эта геометрия была высмеяна как чудачество ректора.
Конечно, Хлебников читал чугунную эпитафию на могиле Лобачевского, где ни слова о неэвклидовой геометрии. Может быть, под влиянием этой эпитафии родились слова: «Пусть на его могиле напишут...» Этот первый прозаический отрывок Хлебникова так же ценен, как и последний, предсмертный, написанный «засохшей веткой вербы» в 1922 году: «Но самое крупное светило на небе событий, взошедшее за это время, это «вера 4-х измерений...» Вероятно, речь идет об общей теории относительности, с которой поэт тогда познакомился. Смысл ее был четко сформулирован математиком Германом Минковским в 1908 году в докладе «Пространство и время», где впервые прозвучали слова: «Отныне пространство само по себе и время само по себе обратились в простые тени, и только какое-то единство их обоих сохранит независимую реальность».
Хлебников шел к этому открытию другим путем. Он тоже знал, что четвертое измерение, так тяжело травмировавшее сознание героев Достоевского, было пространственно-временной координатой. Он тоже догадывался, что это — мера кривизны пространства, дающая пересечение двух параллельных.
Ведь неэвклидова геометрия верна на сферических поверхностях так же, как эвклидова верна на плоскости.
В отличие от Лобачевского и Эйнштейна, Хлебников считал, что две параллельные прямые пересекаются не только в космосе, но прежде всего в пространстве живого вещества, в человеке. Уже в упомянутом нами первом отрывке («Завещание») Хлебников сравнивает пять чувств с разрозненными измерениями пространства. Они отделены друг от друга, «как точка, как линия, как поверхность».
Хлебников мечтает о том времени, когда пять чувств сольются в одно единое ощущение всего пространства: «Узор точек, когда ты заполнишь пустующие пространства и голубизна василька сольется с кукованием кукушки».
Иными словами, Хлебников мечтает о том, чтобы вместо разрозненных ощущений трехмерного пространства и одномерного времени мы ощутили единое четырехмерное пространство-время. Открытие этого четырехмерного космоса спустя тридцать лет будет сделано Эйнштейном, а пока будущий поэт открывает четырехмерный космос в человеке, в живом веществе.
Эта догадка Хлебникова, в частности, находит подтверждение в трудах академика В. И. Вернадского. Он не раз высказывал предположение о том, что именно живой материн свойственны особенности неэвклидовой геометрии. («...Считаю нужным отметить, что, по-видимому, мы имеем дело внутри организма с пространством, не отвечающим пространству Евклида »; «Мы сейчас имеем право допустить в пространстве, в котором мы живем, проявление геометрических свойств, отвечающих всем трем формам геометрии-Евклида, Лобачевского и Римана»; «Пространство жизни иное, чем пространство косной материи». Вернадский В. И Размышления натуралиста).
Однако мы не вдаемся здесь в научные детали и не произносим каких-либо научных суждений. Нам интересен космический образ мира в поэзии Хлебникова. Мы хотим увидеть отличие этого поэтического космоса от образа космической бездны у Державина, Ломоносова, Тютчева.
Разница эта велика. У Тютчева «мы плывем, пылающею бездной со всех сторон окружены», а у Хлебникова: «Ты прикрепишь к созвездью парус, чтобы сильнее и мятежнее земля неслась в надмирный ярус...» И там, и здесь мы плывем в космосе. Правда, ритм времени изменился. У Тютчева — плывем, а у Хлебникова — несемся. Но главное различие даже не в этом. У Тютчева мы плывем в бездне, в пространстве, а у Хлебникова — со всей звездной бездной летим во времени.
Он придумал поэтическое «Государство времени», которое борется не за клочок территории, а отвоевывает у вечности время. Это ощущение полета Вселенной не в пространстве, а во времени, передалось Маяковскому, когда он писал:
«Прямо
перед мордой
пролетает вечность —
бесконечночасый распустила хвост».
Вспомним снова предсмертное стихотворение Державина, в котором он писал о «жерле вечности», пожирающем все и все топящем в пропасти забвенья.
«Впречь бы это
время
в приводной бы ремень,—
спустят
с холостого —
и чеши и сыпь!
Чтобы
не часы показывали время,
а чтоб время
честно
двигало часы».
Никакого почтения к вечности и ко времени. Что касается пространства, то оно давно превратилось из пылающей бездны в окна и стены города будущего, который на протяжении всей своей жизни возводил Хлебников.
«Сметя с лица земли работорговлю
И замки торга бросив ниц,
Из звездных глыб построишь кровлю —
Стеклянный колокол столиц».
Космос Хлебникова пленяет наше воображение вовсе не потому, что в нем пророчески предсказано освоение космоса, он пленяет нас новой безмерной перспективой времени, позволяющей преодолевать любые пространства. Звездная бездна, на дне которой обитал человек послепетровскую эпоху, теперь снова как бы опрокинулась в человека. У Хлебникова она снова, как в космогонических мифах, стала человекоподобной. Звездный космос он представлял как огромный вселенский мозг:
«Товарищи!
Вы видите умный череп вселенной
И темные косы Млечного Пути.
Батыевой дорогой зовут их иногда.
Поставим лестницы
К замку звезд,
Прибьем, как воины свои щиты, пробьем
Стены умного черепа вселенной,
Ворвемся бурею, как муравьи в гнилой пень,
с песней смерти к рычагам мозга,
И ее, божественную куклу, с сияющими по ночам глазами,
Заставим двигать руками
И подымать глаза
Мы сделаем из неба
Говорящую куклу».
Какая головокружительная метафора! Космос — это мозг, небо — звездный череп. Мы проникнем в космический мозг, изучим его звездную механику, и космос станет говорящей разумной куклой в наших руках.
Как не вспомнить здесь Аввакума, когда он, разрастаясь, вместил в себя всю Вселенную, и небо, и звезды над головой. Когда Хлебников строит из космоса звездный купол нового мира, как не вспомнить звездные купола человековселеннообразных древнерусских храмов.
Так же, как человеку, не имеющему представления о Вселенной Ньютона, непонятна поэзия Ломоносова, человеку, не имеющему понятия о Лобачевском и Эйнштейне, закрыт вход во Вселенную Хлебникова. Конечно, любоваться звездной бездной можно и не зная Ньютона, но если у человека нет представления о бесконечности, как поймет он строки «звездам числа нет, бездне дна»? Так, человек, не знающий о существовании невидимого неэвклидова мира или отвергающий его, подобно Ивану Карамазову, не поймет пленительнейших образов Хлебникова и того поэтического взлета,
«...Когда пространство Лобачевского
Сверкнуло на знамени,
Когда стали видеть
В живом лице
Прозрачные многоугольники...
Когда о зеленой листве, пробивающейся из почек в небо, поэт пишет:
Казалось, в поисках пространства Лобачевского
Здесь Ермаки ведут полки зеленые
На завоевание Сибирей голубых,
Воюя за объем...
Когда то же самое дерево становится неводом, закинутым в космос:
Ты тянешь кислород ночей могучим неводом,
В ячеях невода сверкает рыбой синева ночей,
Где звезды — предание о белокуром скоте».
Действительно, какой громадный путь прошло человечество в своих поэтических мечтах о космосе. От преданий «о белокуром скоте», о звездных овнах, козерогах, тельцах до звездного человека пуруши, чьи глаза — звезды, а дыхание — пространство. От звездного человека до хлебниковского космоса-мозга, в чем-то подобного человеческому мозгу, который Хлебников любил сравнивать с неводом, закинутым в бесконечность и улавливающим звездный космос.
Звездная книга давно опустилась на землю. Она отпечаталась огненными красками в творениях древнерусских художников и писателей. Она сияет скрытым утренним светом со страниц космических образов Ломоносова, Державина, Лермонтова, Тютчева, Хлебникова.
Подобно древнеегипетским иероглифам, ее образ не имеет однозначного смысла. Каждый художник и каждая эпоха их читают по-своему, но сегодня, как никогда, актуальна мысль академика Вернадского: «Художественное творчество есть космос, преломленный в художественном сознании». «...Считаю нужным отметить, что, по-видимому, мы имеем дело внутри организма с пространством, не отвечающим пространству Евклида». («Мы сейчас имеем право допустить в пространстве, в котором мы живем, проявление геометрических свойств, отвечающих всем трем формам геометрии-Евклида, Лобачевского и Римана»; «Пространство жизни иное, чем пространство косной материи»).
В спорах о национальной самобытности и своеобразии нашей литературы было бы неплохо вспомнить, что «национальное» не значит «архаичное», и порой в самых современных космологических моделях мира мы узнаем Вселенную Рублева и Пикассо, Достоевского и Хлебникова.
В современной космологии есть так называемая «циклическая» модель кембриджского астронома Девиса. Согласно этой модели реликтовые излучения из далеких галактик показывают нам не только прошлую, давно погибшую Вселенную, как считали раньше, но и будущий ее облик.
Не вмешиваясь в сугубо научные споры астрономов, мы можем сказать, что по отношению к космическому мифу такая модель удивительно верна. Космический миф в равной мере излучает свет будущих и прошлых эпох.
Писатель и жизнь. Сб. Литературного ин-та СП., М., 1981
Космический миф — сложнейшее явление русской и мировой культуры. Между учеными и писателями никогда не возникал спор о том, какая картина космоса правильнее — художественная или научная, — потому что до сих пор эти две системы существовали как бы порознь. Считается, что язык науки непереводим на язык художественной речи, а язык искусства не находит адекватного отражения в научной терминологии. И все-таки эти две модели мира находятся в незримом взаимодействии.
Космос Гёте и космос Ньютона формально не соприкасались друг с другом, хотя совершенно очевидно, что «Фауст» написан человеком, принявшим в целом ньютоновский образ мира. Ньютон предшествовал Гёте, но сегодня редкая космологическая модель обходится без прямых или косвенных обращений к «Фаусту». Конечно, научная достоверность играет здесь второстепенную роль.
Гомеровский космос, отчеканенный на щите Ахилла, имеет мало общего с ньютоновскими и эйнштейновскими концепциями, но «Илиада» не устаревает. Космический миф может быть устаревшим с научной точки зрения или соответствовать новейшим научным достижениям — не этим измеряется его ценность в искусстве.
Ужас Тютчева перед всепожирающей бездной космоса был мотивирован ньютоновской пустой Вселенной, где времени и пространства бесконечно много. Теория относительности Эйнштейна открыла космос, где есть понятие о нулевом времени, но Тютчев не устаревает. Человек интересует художника не только в настоящем времени, он входит в искусство со своим прошлым и будущим, со всеми опровергнутыми или подтвержденными мифами.
Мифы опровергаются в науке, но не в искусстве.
Космический миф в русской литературе ранее не был предметом специального исследования, хотя «космос Достоевского», «космос Тютчева», «космос Лермонтова» стали, привычными словосочетаниями в контексте сегодняшней литературной критики. Прямо или косвенно эти темы затронуты в работах Г. Гачева, В. Топорова. Классическим образцом такого рода исследований являются работы А. Лосева, С. Аверинцева и Я. Гуревича по античной, византийской и средневековой эстетике и литературе. Здесь выработалась определенная методология, суть которой заключается в том, что художественное произведение становится материалом для космологической модели филолога, этнографа, историка, литературоведа.
Пришло время в научной космологии увидеть материал для художественного образа. Из космологического научного материала, которым располагал художник в момент творения, выбирается здесь лишь то, что стало художественным космосом или космическим мифом, ибо космический миф есть наиболее адекватная художественная модель отношений человека ко всей Вселенной.
Переходя к непосредственному рассмотрению космологической мифологии в литературе, важно прежде всего увидеть единый источник всей космической мифологии — звездное небо над головой.
Огненная небесная книга пылала перед глазами Александра Блока уже в XX столетии:
«Тогда — остановись на миг
Послушать тишину ночную:
Постигнешь слухом жизнь иную,
Которой днем ты не постиг;
По-новому окинешь взглядом
Даль снежных улиц, дым костра,
Ночь, тихо ждущую утра
Над белым запушённым садом,
И небо — книгу между книг...»
(«Возмездие»)
Глубинными корнями уходит этот образ в безмерное прошлое. В «Апокалипсисе» и в других «звездных» книгах поэтично рассказывается, как в «последний день» срываются семь огненных печатей (видимо, семь планет) и небо сворачивается, «как свиток». Об этом же говорится в индийских «Упанишадах», где время и пространство свернулись, как свиток.
В сознании древних поэтов пылающая огненными письменами «небесная книга» была наподобие пергамента развернута над головой человека.
Прочитав эту книгу «от Альфы до Омеги» — от первой до последней буквы алфавита,— поэт вмещает в себя всю Вселенную. Отныне он становится живым космосом, вмещающим в себе все мироздание.
До нас дошло русское сказание о «Голубиной книге», спрятанной на «огненном древе» Млечного Пути. В прошлом оно опиралось на общие индоевропейские фольклорные корни, а в будущем ее огненные тексты отразились в зеркале византийской мифологии.
И в «Упанишадах», и в «Апокалипсисе», и в «Голубиной книге» говорится о «космическом человеке», из которого возникает мир. Подобно Фениксу горел и не сгорал пуруша в индийских «Упанишадах»:
Весна была его жертвенным маслом, лето — дровами, а осень—самой жертвой...
«Когда разделили пурушу, на сколько частей он был разделен?
Чем стали уста его, чем руки, чем бедра, ноги?..
Луна родилась из мысли, из глаз возникло солнце...
Из пупа возникло воздушное пространство, из головы возникло небо.
Из ног — земля, страны света — из слуха. Так распределились миры».
Вокруг связанного, как жертвенное животное, пуруши положили «семь поленьев». По всей видимости, имеются в виду семь планет, семь светил. Здесь Вселенная возникает из человека и возникает в муках. В русской «Голубиной книге» князь Владимир спрашивает у царя Давыда Овсеевича:
«Прочти ты нам книгу голубиную,
Расскажи ты нам, сударь, про белой свет:
Отчего начался у нас белой свет,
Отчего пошли зори ясные,
Отчего пошли звезды частые,
Отчего ж начался млад-светел месяц?»
И Давыд Овсеевич читает ответ по книге:
«Зори ясные от очей божьих,
Звезды частые от риз божьих,
Млад-светел месяц от грудей божьих».
И в космогоническом гимне «Упанишад», и в русской «Голубиной книге» космос творится из человеческого тела и подобен ему. Космос — это как бы расширенное в перспективе зрения человеческое тело: солнце — глаз, ветер — дыханье, земля — туловище, небо — голова.
Насколько живучей оказалась эта метафора, можно судить по видению Аввакума в тюремной земляной яме, откуда он пишет царю Алексею Михайловичу о том, как «...В нощи вторыя недели, против пятка, распространился язык мой и бысть велик зело, потом и зубы быша велики, а се и руки быша и ноги велики, потом и весь широк и пространен под небесем по всей земли распространился, а потом Бог вместил в меня и небо, и землю, и всю тварь... Так добро и любезно на земле лежати и светом одеянну и небом прикрыту быти...»
Это чрезвычайно примечательный древний образ, когда человек, как бы выворачиваясь наизнанку, вмещает в себя и небо, и звезды, и всю Вселенную. Он становится не узником, заключенным внутри вселенской бездны, а ее наиполнейшим вместилищем.
Поэта не смущает, что человек мал, а Вселенная неизмеримо больше, ибо для него есть иное, тайное зрение, где меньшее вмещает большее, а последний становится первым. Так материнское чрево могло вместить и «содеять» всю Вселенную, ибо само рождество виделось как такое же выворачивание наизнанку всего вселенского чрева: «...Ложесна бо Твоя престол сотвори и чрево Твое пространнее небес содела...»
Рождество виделось поэтам как бы магическим переодеванием. Само небо становилось как бы сброшенной кожей вселенского человека, а его телесная нагота затмевала сияние всего мироздания: «Одеялся светом яко ризою, наг на суде стояще и в ланиту ударения принят, от рук, их же созда».
Если «царь небесный» предстоял наг, то царь земной, наоборот, облачался в звездные ризы — «одеялся светом». Он надевал на себя корону, усыпанную драгоценными камнями, символизировавшую звездный купол, усыпанный звездами, и он держал в своих руках державу и скипетр — луну и солнце.
Ярчайший образ такой человекоподобной Вселенной и такого вселенского тела запечатлен в архитектуре древнерусского храма. Здесь купол символизировал невидимое небо, а нижняя часть — землю; вся служба в песнопениях и действии повторяла космогоническую историю сотворения мира и человека.
Светлое здание невидимой внутренней Вселенной, казалось, содрогнулось и рухнуло, когда Петр I привез из Европы готторпский глобус и установил его на бесплатное обозрение. Грозный самодержец призывал этим шагом отвратить свой взор от символической иллюзорной Вселенной храма и обратить его в реальную звездную бесконечность. Внутренний купол готторпского глобуса — первого русского планетария — должен был заменить собой внутренний купол храма. Смотрите, вот она, звездная бездна, окружающая человека:
«Открылась бездна, звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна...» —
восторженно писал Ломоносов об этой Вселенной. Что было делать в этой бесконечности человеку? Она рождала и восторг, и смятение:
«Так я, в сей бездне погружен,
Теряюсь, мысльми утомлен!»
Срывалась внешняя позолота, с храмов падали на землю колокола. Но вместе с тем срывалась и космическая оболочка с телесного облика человека. Теперь царь не выходил к народу, «одеянный светом, яко ризою». Ризы, символизирующие звездное небо, были сброшены, их сменил скромный мундир бомбардира Преображенского полка. Трудно было представить эту обыденную телесную оболочку вместилищем всей Вселенной. Недаром Петр I так любил демонстрировать хрупкость и непрочность человеческого тела, заставляя придворных присутствовать при вскрытии трупов. Петр словно хотел сказать голосом своей эпохи: посмотрите, здесь все чрезвычайно просто, здесь нет никаких небес, здесь только мускулы и кости.
Отец Петра, царь Алексей Михайлович, с трепетом читал письма Аввакума, где тот говорил о своих вселенских видениях. На Петра такое письмо не могло бы произвести серьезного впечатления. Тело перестало быть «телесным храмом». Храм превратился в здание, демонстрирующее могущество, «архитектора Вселенной», блещущее парадом и подавляющее своей мощью. Петропавловский, Исаакиевский, Казанский — вот соборы петровской и послепетровской эпохи. Их не сравнишь с храмом Покрова на Нерли, с соборами Московского Кремля, с Киевской и Новгородской Софией. Образ человекоподобной вселенной исчез. Купол стал больше похож на потолок планетария. Каково место человека в этой бесконечной звездной бездне?
У Державина это слепящий восторг человека, находящегося в центре звездной бесконечности и управляющего ею:
«Я связь миров повсюду сущих,
Я крайня степень вещества;
Я средоточие живущих,
Черта начальна божества...
Однако предсмертные строки поэта пронизаны другим ощущением. Восторг сменяется глухим разочарованием и ужасом перед черной бездной, поглощающей человека. Умирая, на аспидной доске поэт начертал мелом такие слова:
«Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы».
Зияющее «жерло вечности», пожирающее человека, — вот что увидел поэт в окружающем его мировом пространстве. Теперь сама Гея — природа — стала пожирательницей своих детей. Именно так и говорится у Тютчева об этой пожирающей бездне — природе:
«Поочередно всех своих детей,
Свершающих свой подвиг бесполезный,
Она равно приветствует своей
Всепоглощающей и миротворной бездной.
И в другом стихотворении:
И мы плывем, пылающею бездной
Со всех сторон окружены».
Все та же пылающая бездна «звезд полна», но теперь она рождает другие образы. Пусть это не Хронос, пожирающий своих сыновей, а пушкинская «равнодушная природа» — природа-мать, но мать, равнодушная к своим детям. Это не богородица — матерь мира, о которой пелось, что чрево ее пространнее небес. Это не заступница, спускающаяся в ад, чтобы облегчить муки грешников в «хождении по мукам». Это равнодушная, чуждая человеку космическая природа, и храм здесь другой. О нем писал Тургенев в своих «Стихотворениях в прозе»:
«Мне снилось, что я вошел в огромную подземную храмину с высокими сводами...
По самой середине храмины сидела величавая женщина в волнистой одежде зеленого цвета. Склонив голову на руку, она казалась погруженной в глубокую думу.
Я тотчас понял, что эта женщина — сама Природа, — и мгновенным холодом внедрился в мою душу благоговейный страх.
Я приблизился к сидящей женщине — и, отдав почтительный поклон:
— О наша общая мать! — воскликнул я, — о чем твоя дума? Не о будущих ли судьбах человечества размышляешь ты?
...Губы ее шевельнулись — и раздался зычный голос, подобный лязгу железа.
— Я думаю о том, как бы придать большую силу мышцам ног блохи, чтобы ей удобнее было спасаться от врагов своих...
— Как? — пролепетал я в ответ...— Но разве мы, люди, не любимые твои дети?
...— Все твари мои дети, — промолвила она, — и я одинаково о них забочусь — и одинаково их истребляю... Я тебе дала жизнь — я ее отниму и дам другим, червям или людям... мне все равно... А ты пока защищайся — и не мешай мне!..»
Вселенная-планетарий, Вселенная-обсерватория лишь на первых порах вызывала восторг поэтов. Но все чаще восторг сменялся разочарованием и ужасом на краю звездной бездны.
«Скользим мы бездны на краю,
В которую стремглав свалимся;
Приемлем с жизнью смерть свою,
На то, чтоб умереть, родимся,
Без жалости все смерть разит:
И звезды ею сокрушатся,
И солнцы ею потушатся,
И всем мирам она грозит».
(Державин)
У Достоевского Иван Карамазов в воображаемой беседе с чертом припоминает забавнейший анекдот, сочиненный им еще в гимназии. Некий человек после смерти за свои сомнения обречен шествовать по Вселенной, по той самой пустой Вселенной, в которую он глубоко верит:
«...Присудили, видишь, его, чтобы прошел во мраке квадриллион километров...» Путник прошел это расстояние за биллион лет. «— Как дошел! Да где ж он биллион лет взял?» А черт ему отвечает: «Да ведь ты думаешь все про нашу теперешнюю землю! Да ведь теперешняя земля, может, сама-то биллион раз повторялась; ну, отживала, леденела, трескалась, рассыпалась, разлагалась на составные начала, опять вода, яже бе над твердию, потом опять комета, опять солнце, опять из солнца земля — ведь это развитие, может, уже бесконечно раз повторяется, и все в одном и том же виде, до черточки. Скучища неприличнейшая...»
Откуда у Ивана Карамазова образ такой ледяной мертвящей Вселенной?
От Ломоносова до Достоевского длинный путь. Пожалуй, тот самый космический учительный квадриллион километров, тот самый биллион лет, символизирующий скачок от одного образа мироздания к другому. «Всепоглощающая бездна» Ломоносова, Державина, Тютчева и Достоевского берет свое начало в «Началах» Ньютона (Эта статья была сдана в редакцию, когда вышла новая работа Б Кузнецова «Сходящиеся параллели. Еще раз об Эйнштейне и Достоевском» («Новый мир», 1979, № 3). Ранее в книгах «Эйнштейн» и «Этюды об Эйнштейне» Б. Кузнецов обращался к этой теме. Эти труды и служили исходными предпосылками в нашей работе).
Да, это ньютоновская бесконечная бездна, простирающаяся вглубь и вширь периодически, однообразно и монотонно. Это ньютоновское бесконечное время и бесконечное пространство, пожирающее миры и дела людей. Здесь царил однообразный безжизненный космос, и порой казалось человеку XIX века — «его же царствию не будет конца». Но конец этому царствию наступил в XX столетии.
Оказалось, что нет этой бесконечной бездны, оказалось что нет абсолютного пространства и абсолютного времени. Оказалось, что мир не так прямолинеен и две параллельные могут пересекаться. Ведь еще в 20-х годах XIX столетия об этом говорил Лобачевский. Говорил, но его высмеяли, не поняли. Над воображаемой геометрией смеялись, называя ученого «воображаемым профессором».
Лобачевский пытался проверить свою геометрию в космосе, измеряя астрономические звездные расстояния, он пытается открыть для этого специальный семинар в университете, вести высшую геодезию и теорию фигуры земли, но ученые мужи отклонили это ходатайство. На эвклидову-то геометрию времени не хватает, а тут еще какая-то воображаемая!
На могиле Лобачевского в Казани и сегодня можно прочесть чугунную эпитафию: «Член общества Геттингенских северных антиквариев, ректор Казанского университета, многих орденов кавалер...» Чего только не перечислено! О геометрии Лобачевского ни слова. Ни слова о том, что сделало имя этого человека бессмертным.
Может показаться странным, но космологический смысл открытия Лобачевского раньше ученых осознали писатели: Достоевскому принадлежит первое слово художника о неэвклидовом космосе Лобачевского. Глубину этого образа понял только Эйнштейн. Об этом свидетельствуют воспоминания А. Мошковского об Эйнштейне: «...Достоевский! — Он повторил это имя несколько раз с особенным ударением. И, чтобы пресечь в корне всякое возражение, он добавил: — Достоевский дает мне больше, чем любой научный мыслитель, больше, чем Гаусс!»
Попробуем осмыслить глубину этого откровения.
Лобачевский построил свою геометрию на абсурдном, казалось бы, утверждении: «Две параллельные линии могут пересекаться». Лобачевский даже высказал предположение, что его воображаемая геометрия может получить экспериментальное подтверждение на огромных космических расстояниях.
Напрасно всматривался теряющий зрение ректор Казанского университета в ночной телескоп обсерватории, построенной по его инициативе и плану. Время для экспериментального подтверждения наступит в 30-х годах XX столетия. А пока эта геометрия только «воображаемая», чудачество солидного человека, умного администратора и талантливого преподавателя — не более.
Понял Лобачевского Ф. М. Достоевский. Впрочем, «понял» здесь не то слово. Достоевский осмыслил геометрию Лобачевского как художник. Он придал ей новое, человеческое измерение. Он увидел, что открытие Лобачевского связано с глубочайшими этическими ценностями человека.
Вспомним еще раз страшный холодный космос с квадриллионами километров и биллионами лет, по которому уныло бредет в своем воображении Иван Карамазов. Или — еще страшнее — космос Свидригайлова, когда он объясняет Раскольникову, что так называемая вечность и будущая жизнь, может быть, всего лишь навсего темная банька и пауки по углам. Но пытливый ум Ивана Карамазова проникает за пределы этой Вселенной. И тогда он шепчет свой трагический монолог:
«Но вот, однако, что надо отметить: если бог есть и если он действительно создал землю, то, как нам совершенно известно, создал он ее по эвклидовой геометрии, а ум человеческий с понятием лишь о трех измерениях пространства».
Здесь Иван Карамазов глубоко заблуждается. Оказалось, что «мир создан» не только по эвклидовой геометрии. Оказалось, что и в космосе, и в микромире действуют законы неэвклидовой геометрии Лобачевского. Да и человеческий мозг кроме трех измерений пространства сегодня оперирует понятиями об эн-мерных пространствах. И мозг оказался шире, и мир сложнее. Это и возмущает Карамазова.
«Между тем находились и находятся даже и теперь геометры и философы, и даже из замечательнейших, которые сомневаются в том, чтобы вся вселенная или, еще обширнее — все бытие было создано по эвклидовой геометрии, осмеливаются даже мечтать, что две параллельные линии, которые, по Эвклиду, ни за что не могут сойтись на земле, может быть, и сошлись бы где-нибудь в бесконечности».
Так оно и оказалось в общей теории относительности. Была открыта четвертая, пространственно-временная координата, указывающая меру искривления пространства. В таком искривленном пространстве как раз и пересекаются две параллельные прямые. Наглядно этого увидеть нельзя. Здесь огромный скачок от космоса видимого, где все, даже закон всемирного тяготения, можно продемонстрировать в школьном классе, к иному, невидимому космосу Лобачевского и Эйнштейна. Этот переход от наглядности не в силах совершить Иван Карамазов. Его рационалистическая душа, выношенная в чреве готторпского глобуса-планетария, протестует и вопиет:
«Я, голубчик, решил так, что если я даже этого не могу понять, то где ж мне про бога понять. Я смиренно сознаюсь, что у меня нет никаких способностей разрешать такие вопросы, у меня ум эвклидовский, земной, а потому где нам решать о том, что не от мира сего... Все это вопросы совершенно несвойственные уму, созданному с понятием лишь о трех измерениях».
Достоевский проник здесь в самую суть трагедии рационалистического сознания русской интеллигенции XIX века. Дело в том, что XVIII век, изгнавший из Вселенной восседавшего на облацех Саваофа, разрушив семь хрустальных сфер и погасив звездные лампады, оказался в опустошенной Вселенной, в чем-то вроде свидригайловской баньки с пауками. Никого, кроме человека, нет в этом космосе. Поначалу этот человек восторженно любовался сияющими звездными глубинами, как Ломоносов и позднее Державин, но мысль, что «и солнцы ею потушатся», уже подтачивала сознание. Даже этот великолепный сияющий мир погаснет, даже Земля остынет.
Илья Ильич Обломов незадолго перед смертью просит почитать, о чем пишут газеты. «Да пишут, что земной шар все охлаждается: когда-нибудь замерзнет весь». Что значат человеческие законы добра и зла перед лицом угасающей, остывающей черной бездны, окружающей человека!
Можно понять трагическую иронию Печорина при мысли, что «были некогда люди премудрые, думавшие, что светила небесные принимают участие в наших ничтожных спорах за клочок земли или за какие-нибудь вымышленные права!..» Эти люди давно умерли, а звезды продолжают сиять. Небо равнодушно к человеку.
Казалось, наивная вера. в космогонический смысл существования человека давно разбита. Восторженно когда-то смотрел на Вселенную Ломоносов. Теперь демоническая красота космоса пленяет взор, но ничего не говорит о человеке.
«На воздушном океане,
Без руля и без ветрил,
Тихо плавают в тумане
Хоры стройные светил...»
Вот он, равнодушный космос и «равнодушная природа».
В 1836 году Тютчев создал изумительный образ слияния космоса с человеком:
«Час тоски невыразимой!..
Все во мне, и я во всем!..
Но это был одновременно час смерти и горечи:
Чувства — мглой самозабвенья
Переполни через край!..
Дай вкусить уничтоженья,
С миром дремлющим смешай!»
(1836)
Еще сияла перед глазами таинственная звездная книга, еще с негодованием обращался он к тем, кто не стремился ее прочесть:
«Лучи к ним в душу не сходили,
Весна в груди их не цвела,
При них леса не говорили
И ночь в звездах нема была!»
(1836)
Но спустя 33 года эти же уста говорят о невозможности прочесть звездную книгу Вселенной:
«Природа — сфинкс. И тем она верней
Своим искусом губит человека,
Что, может статься, никакой от века
Загадки нет и не было у ней».
(1869)
А в 1871 году были произнесены уже знакомые нам слова о «всепоглощающей и миротворной» бездне.
Спустя шесть лет после смерти Тютчева, в 1879 году, Фет пишет два стихотворения, посвященные той же теме. В одном из них («Никогда») говорится о вечной смерти Вселенной и человека, в другом — о космическом бессмертии человеческой природы.
В стихотворении «Никогда» воскресший из гроба оказывается среди мертвой земли:
«Куда идти, где некого обнять,
Там, где в пространстве затерялось время?
Вернись же, смерть, поторопись принять
Последней жизни роковое бремя.
А ты, застывший труп земли, лети,
Неся мой труп по вечному пути!»
Предполагал ли Фет, что там, «где в пространстве затерялось время», как раз и таится четвертая, пространственно-временная координата Эйнштейна—Минковского, положившая научный предел для ужасающе зримой смерти в стихотворении «Никогда»?
Конечно, нет. Но позднее, в том же году, он создает удивительное стихотворение, где человек становится вместилищем всей неумирающей и вечной Вселенной.
«Не тем, господь, могуч, непостижим
Ты пред моим мятущимся сознаньем,
Что в звездный день твой светлый серафим
Громадный шар зажег над мирозданьем.
И мертвецу с пылающим лицом
Он повелел блюсти твои законы,
Все пробуждать живительным лучом,
Храня свой пыл столетий миллионы.
Нет, ты могуч и мне непостижим
Тем, что я сам, бессильный и мгновенный,
Ношу в груди, как оный серафим,
Огонь сильней и ярче всей вселенной.
Меж тем как я — добыча суеты,
Игралище ее непостоянства,—
Во мне он вечен, вездесущ, как ты,
Ни времени не знает, ни пространства».
Вот так, от бездны к бездне мечется поэтическая мысль XIX века, то утверждая бессмертие, то отрицая его, то вмещая Вселенную в человека, то погребая его в звездной глубине мироздания.
Удивительно ли, что роман «Братья Карамазовы» Достоевского, созданный в 1879—1880 годы, оказался ареной космогонической борьбы двух мировоззрений. Иван Карамазов верит в бессмертие человека, и он же отвергает его, ибо оно противоречит наглядности, как неэвклидова геометрия Лобачевского противоречит принципу наглядности. Иван Карамазов признает невидимый неэвклидов мир так же неохотно, как древнерусский автор вынужден был признавать с неохотой существование мира видимого:
«Оговорюсь: я убежден, как младенец, что страдания заживут и сгладятся, что весь обидный комизм человеческих противоречий исчезнет, как жалкий мираж, как гнусненькое измышление малосильного и маленького, как атом, человеческого эвклидова ума...— пусть, пусть это все будет явится, но я-то этого не принимаю и не хочу принять! Пусть даже параллельные линии сойдутся и я это сам увижу: увижу и скажу, что сошлись, а все-таки не приму».
Вот он, бунт рационализма, вот оно — восстание XIX столетия против грядущего XX века, века теории относительности и неэвклидовой геометрии. Иван Карамазов бунтует против Вселенной Эйнштейна, не подозревая, что живет в ней. В этой Вселенной жил Достоевский, хотя теория относительности еще не была открыта.
Чем принципиально отличается эта новая Вселенная от Вселенной Ньютона, Державина, Лермонтова, Тютчева? Звездная угасающая и загорающаяся бездна, темная ледяная пустыня, мертвый кремнистый путь — это все, что мог увидеть в телескоп человеческий взор. Вселенная Лобачевского, Достоевского и Эйнштейна не исчерпывается видимым. В ней под видимой оболочкой подразумевается еще то, что невозможно увидеть глазом, ну хотя бы искривленное пространство, четвертое измерение, две пересекающиеся параллельные прямые.
Эта Вселенная открывается интеллектуальному, духовному взору человека, но как раз ему-то менее всего доверяют Раскольников, Иван Карамазов, инженер Кириллов в «Бесах». Добро и зло так же невидимы и так же реальны, как четвертое измерение. Не признавая геометрию Лобачевского, эти герои Достоевского так же отвергают законы добра и зла. На том же основании, что они невидимы.
В знак протеста против невидимого мира Кириллов должен покончить с собой. Он и осуществляет эту парадоксальную идею, правда, почти насильно, по принуждению. Но, даже застрелившись, уйти из Вселенной Лобачевского невозможно. Она реально существовала и во времена бесноватого рационалиста Кириллова, и во времена бесноватого Адольфа Гитлера, «запретившего» теорию относительности. К счастью, нельзя «запретить» неэвклидову Вселенную, видимую и невидимую одновременно.
Четырехмерный космос уже мерцал и переливался невидимыми гранями перед глазами Достоевского, хотя и не существовало математических формул Минковского и Эйнштейна, дающих описание этого мира. И здесь произошел один из выдающихся парадоксов времени: новый образ космоса у Достоевского и Лобачевского оказался чрезвычайно близок к образу Вселенной Дионисия, Андрея Рублева и погибшего в земляной яме огнесловца Аввакума. Эта близость заключается в том, что и для Аввакума и для Лобачевского за пределами видимой Вселенной простирался другой мир, принципиально незримый мир иных измерений. Аввакум духовным взором видел, как тело его, разрастаясь, вмещает в себя всю Вселенную — землю под ногами и звезды над головой. Достоевский видит человека только во всей Вселенной в неразрушимом единстве. Раскольников убивает не в комнате, а в космосе. Карамазов и Кириллов сверяют точность своих душевных приборов с незыблемой и наглядной Вселенной Ньютона, а когда стрелки отклоняются и колеблются от искривлений неэвклидова пространства, они скорее согласны разрушить прибор, умертвить тело и душу, нежели принять эту невидимую Вселенную.
Уже в наши дни слышим изумленные слова поэта Семена Кирсанова:
«Как?
Разве оптика глазная
Была неточной и неверной,
Туманно зренью объясняя
Наш ясный мир четырехмерный?»
Нет, оптика глазная предельно четка и совершенна. Вот только не все поддается оптике. Никакой самый совершенный телескоп и никакой самый совершенный электронный микроскоп «не увидит» принципиально невидимую четвертую пространственно-временную координату нашей Вселенной. Обретением невидимого мира — вот чем была геометрия Лобачевского для Достоевского.
Но ведь это — тот же самый, утраченный ранее образ Вселенной, «видимой же всем и невидимой»! Планетарный готторпский глобус был нагляден, как наглядны были анатомические препараты кунсткамеры. Но, вскрывая человеческое тело, нельзя увидеть то, что в принципе невидимо. Для художника XX столетия звездная «всепоглощающая и миротворная бездна», всепожирающее «вечности жерло» уже не выглядит столь устрашающе, потому что у этой бездны есть предел, бездна зрима, а мир простирается дальше зримого. Обретение нового, «четырехмерного» зрения в чем-то тождественно умению видеть «духовными очами», которое пронизывает древнерусское искусство и древнерусскую литературу.
Этот скачок от трехмерной наглядности к четырехмерному парению передан в стихотворении Федора Сологуба:
«Очарования времен
Расторгнуть все еще не можем.
Наш дух в темницу заключен,
И медленно мы силы множим.
Давно ли темная Казань
Была приютом вдохновений
И колебал Эвклида грань
Наш Лобачевский, светлый гений!
Завеса вновь приподнята
Орлиным замыслом Эйнштейна,
Но все еще крепка плита
Четырехмерного бассейна.
Необратимы времена
Еще коснеющему телу,
И нам свобода не дана
К иному их стремить пределу.
Наш темный глаз печально слеп,
И только плоскость нам знакома.
Наш мир широкий — только склеп
В подвале творческого дома.
Но мы предчувствием живем.
Не лгут позывы и усилья.
Настанет срок,— и обретем
Несущие к свободе крылья».
Читая эти строки, трудно не заметить вопиющее несоответствие формы и содержания. Говорится о геометрии Лобачевского, о теории относительности, а форма стиха — традиционный «кирпичный» ряд, все метафоры по-житейски наглядны.
Обретение новой формы было дано другому поэту, который первый после Достоевского понял сакраментальный смысл геометрии Лобачевского, первый начертал его имя на своем поэтическом знамени в поэме «Ладомир»:
«И пусть пространство Лобачевского
Летит с знамен ночного Невского.
Это Разина мятеж,
Долетев до неба Невского,
Увлекает и чертеж
И пространство Лобачевского.
Пусть Лобачевского кривые
Украсят города...»
Космос вошел в его поэзию так же органично, как мифология древних греков в «Илиаду» и «Одиссею». Это была новая Вселенная Лобачевского, Эйнштейна и Циолковского, хотя не было еще космических полетов:
«Ты прикрепишь к созвездью парус,
Чтобы сильнее и мятежнее
Земля неслась в надмирный ярус,
А птица звезд осталась прежнею».
Так Хлебников представлял себе полет в космосе не ракеты, а всей нашей галактики в целом. Это не полет в пространстве, а полет во времени. «Мозг людей и доныне скачет на трех ногах (три оси места)! Мы приклеиваем, возделывая мозг человечества, этому щенку четвертую ногу — именно — ось времени», — писал он в поэтическом воззвании «Труба марсиан».
Какой-то удивительной интуицией Хлебников предчувствовал, что невидимое четвертое измерение пространства есть на самом деле пространственно-временная координата. Лишь незадолго до смерти Хлебникова это открытие будет совершено и сформулировано Эйнштейном в «Общей теории относительности». За несколько лет до этого студент физико-математического отделения Казанского университета Хлебников написал в своем первом прозаическом отрывке «Завещание» пророческие слова: «Пусть на его могиле напишут: он связал пространство со временем». Эти слова появились во время знакомства Хлебникова с геометрией Лобачевского в том самом университете, где семьдесят лет назад эта геометрия была высмеяна как чудачество ректора.
Конечно, Хлебников читал чугунную эпитафию на могиле Лобачевского, где ни слова о неэвклидовой геометрии. Может быть, под влиянием этой эпитафии родились слова: «Пусть на его могиле напишут...» Этот первый прозаический отрывок Хлебникова так же ценен, как и последний, предсмертный, написанный «засохшей веткой вербы» в 1922 году: «Но самое крупное светило на небе событий, взошедшее за это время, это «вера 4-х измерений...» Вероятно, речь идет об общей теории относительности, с которой поэт тогда познакомился. Смысл ее был четко сформулирован математиком Германом Минковским в 1908 году в докладе «Пространство и время», где впервые прозвучали слова: «Отныне пространство само по себе и время само по себе обратились в простые тени, и только какое-то единство их обоих сохранит независимую реальность».
Хлебников шел к этому открытию другим путем. Он тоже знал, что четвертое измерение, так тяжело травмировавшее сознание героев Достоевского, было пространственно-временной координатой. Он тоже догадывался, что это — мера кривизны пространства, дающая пересечение двух параллельных.
Ведь неэвклидова геометрия верна на сферических поверхностях так же, как эвклидова верна на плоскости.
В отличие от Лобачевского и Эйнштейна, Хлебников считал, что две параллельные прямые пересекаются не только в космосе, но прежде всего в пространстве живого вещества, в человеке. Уже в упомянутом нами первом отрывке («Завещание») Хлебников сравнивает пять чувств с разрозненными измерениями пространства. Они отделены друг от друга, «как точка, как линия, как поверхность».
Хлебников мечтает о том времени, когда пять чувств сольются в одно единое ощущение всего пространства: «Узор точек, когда ты заполнишь пустующие пространства и голубизна василька сольется с кукованием кукушки».
Иными словами, Хлебников мечтает о том, чтобы вместо разрозненных ощущений трехмерного пространства и одномерного времени мы ощутили единое четырехмерное пространство-время. Открытие этого четырехмерного космоса спустя тридцать лет будет сделано Эйнштейном, а пока будущий поэт открывает четырехмерный космос в человеке, в живом веществе.
Эта догадка Хлебникова, в частности, находит подтверждение в трудах академика В. И. Вернадского. Он не раз высказывал предположение о том, что именно живой материн свойственны особенности неэвклидовой геометрии. («...Считаю нужным отметить, что, по-видимому, мы имеем дело внутри организма с пространством, не отвечающим пространству Евклида »; «Мы сейчас имеем право допустить в пространстве, в котором мы живем, проявление геометрических свойств, отвечающих всем трем формам геометрии-Евклида, Лобачевского и Римана»; «Пространство жизни иное, чем пространство косной материи». Вернадский В. И Размышления натуралиста).
Однако мы не вдаемся здесь в научные детали и не произносим каких-либо научных суждений. Нам интересен космический образ мира в поэзии Хлебникова. Мы хотим увидеть отличие этого поэтического космоса от образа космической бездны у Державина, Ломоносова, Тютчева.
Разница эта велика. У Тютчева «мы плывем, пылающею бездной со всех сторон окружены», а у Хлебникова: «Ты прикрепишь к созвездью парус, чтобы сильнее и мятежнее земля неслась в надмирный ярус...» И там, и здесь мы плывем в космосе. Правда, ритм времени изменился. У Тютчева — плывем, а у Хлебникова — несемся. Но главное различие даже не в этом. У Тютчева мы плывем в бездне, в пространстве, а у Хлебникова — со всей звездной бездной летим во времени.
Он придумал поэтическое «Государство времени», которое борется не за клочок территории, а отвоевывает у вечности время. Это ощущение полета Вселенной не в пространстве, а во времени, передалось Маяковскому, когда он писал:
«Прямо
перед мордой
пролетает вечность —
бесконечночасый распустила хвост».
Вспомним снова предсмертное стихотворение Державина, в котором он писал о «жерле вечности», пожирающем все и все топящем в пропасти забвенья.
«Впречь бы это
время
в приводной бы ремень,—
спустят
с холостого —
и чеши и сыпь!
Чтобы
не часы показывали время,
а чтоб время
честно
двигало часы».
Никакого почтения к вечности и ко времени. Что касается пространства, то оно давно превратилось из пылающей бездны в окна и стены города будущего, который на протяжении всей своей жизни возводил Хлебников.
«Сметя с лица земли работорговлю
И замки торга бросив ниц,
Из звездных глыб построишь кровлю —
Стеклянный колокол столиц».
Космос Хлебникова пленяет наше воображение вовсе не потому, что в нем пророчески предсказано освоение космоса, он пленяет нас новой безмерной перспективой времени, позволяющей преодолевать любые пространства. Звездная бездна, на дне которой обитал человек послепетровскую эпоху, теперь снова как бы опрокинулась в человека. У Хлебникова она снова, как в космогонических мифах, стала человекоподобной. Звездный космос он представлял как огромный вселенский мозг:
«Товарищи!
Вы видите умный череп вселенной
И темные косы Млечного Пути.
Батыевой дорогой зовут их иногда.
Поставим лестницы
К замку звезд,
Прибьем, как воины свои щиты, пробьем
Стены умного черепа вселенной,
Ворвемся бурею, как муравьи в гнилой пень,
с песней смерти к рычагам мозга,
И ее, божественную куклу, с сияющими по ночам глазами,
Заставим двигать руками
И подымать глаза
Мы сделаем из неба
Говорящую куклу».
Какая головокружительная метафора! Космос — это мозг, небо — звездный череп. Мы проникнем в космический мозг, изучим его звездную механику, и космос станет говорящей разумной куклой в наших руках.
Как не вспомнить здесь Аввакума, когда он, разрастаясь, вместил в себя всю Вселенную, и небо, и звезды над головой. Когда Хлебников строит из космоса звездный купол нового мира, как не вспомнить звездные купола человековселеннообразных древнерусских храмов.
Так же, как человеку, не имеющему представления о Вселенной Ньютона, непонятна поэзия Ломоносова, человеку, не имеющему понятия о Лобачевском и Эйнштейне, закрыт вход во Вселенную Хлебникова. Конечно, любоваться звездной бездной можно и не зная Ньютона, но если у человека нет представления о бесконечности, как поймет он строки «звездам числа нет, бездне дна»? Так, человек, не знающий о существовании невидимого неэвклидова мира или отвергающий его, подобно Ивану Карамазову, не поймет пленительнейших образов Хлебникова и того поэтического взлета,
«...Когда пространство Лобачевского
Сверкнуло на знамени,
Когда стали видеть
В живом лице
Прозрачные многоугольники...
Когда о зеленой листве, пробивающейся из почек в небо, поэт пишет:
Казалось, в поисках пространства Лобачевского
Здесь Ермаки ведут полки зеленые
На завоевание Сибирей голубых,
Воюя за объем...
Когда то же самое дерево становится неводом, закинутым в космос:
Ты тянешь кислород ночей могучим неводом,
В ячеях невода сверкает рыбой синева ночей,
Где звезды — предание о белокуром скоте».
Действительно, какой громадный путь прошло человечество в своих поэтических мечтах о космосе. От преданий «о белокуром скоте», о звездных овнах, козерогах, тельцах до звездного человека пуруши, чьи глаза — звезды, а дыхание — пространство. От звездного человека до хлебниковского космоса-мозга, в чем-то подобного человеческому мозгу, который Хлебников любил сравнивать с неводом, закинутым в бесконечность и улавливающим звездный космос.
Звездная книга давно опустилась на землю. Она отпечаталась огненными красками в творениях древнерусских художников и писателей. Она сияет скрытым утренним светом со страниц космических образов Ломоносова, Державина, Лермонтова, Тютчева, Хлебникова.
Подобно древнеегипетским иероглифам, ее образ не имеет однозначного смысла. Каждый художник и каждая эпоха их читают по-своему, но сегодня, как никогда, актуальна мысль академика Вернадского: «Художественное творчество есть космос, преломленный в художественном сознании». «...Считаю нужным отметить, что, по-видимому, мы имеем дело внутри организма с пространством, не отвечающим пространству Евклида». («Мы сейчас имеем право допустить в пространстве, в котором мы живем, проявление геометрических свойств, отвечающих всем трем формам геометрии-Евклида, Лобачевского и Римана»; «Пространство жизни иное, чем пространство косной материи»).
В спорах о национальной самобытности и своеобразии нашей литературы было бы неплохо вспомнить, что «национальное» не значит «архаичное», и порой в самых современных космологических моделях мира мы узнаем Вселенную Рублева и Пикассо, Достоевского и Хлебникова.
В современной космологии есть так называемая «циклическая» модель кембриджского астронома Девиса. Согласно этой модели реликтовые излучения из далеких галактик показывают нам не только прошлую, давно погибшую Вселенную, как считали раньше, но и будущий ее облик.
Не вмешиваясь в сугубо научные споры астрономов, мы можем сказать, что по отношению к космическому мифу такая модель удивительно верна. Космический миф в равной мере излучает свет будущих и прошлых эпох.
|
|
к.кедров звездная азбука в.хлебникова |
ЗВЕЗДНАЯ АЗБУКА ВЕЛИМИРА ХЛЕБНИКОВА
(«Литературная учеба», 1982, № 3)
Поэзия Велимира Хлебникова не каждому открывает свои заветные тайны. Сюда закрыт вход человеку «ленивому и нелюбопытному», тому, кто навсегда довольствуется знакомыми ярлыками: «заумная поэзия»», «футуризм», «голый эксперимент». Некоторые выбирают другой, легкий путь — ищут в стихах поэта то, что им понятнее, ближе. Остальное искусственно отсекается. Вот почему и до сегодняшнего дня слава его «неизмеримо меньше его значения». Под этим высказыванием о Хлебникове стоит подпись Маяковского. Здесь могли бы подписаться и многие другие поэты. У Хлебникова нет незначительных, маловажных вещей, но даже друзья часто не понимали цельности и единства его поэзии. Им казалось, что он носил свои рукописи в мешке из чистого чудачества, не подчиняя их единому плану с нумерацией страниц. Между тем пятитомник Хлебникова с хронологическим расположением страниц в гораздо большей степени неудобен для понимания единой композиции всех вещей поэта, чем знаменитая наволочка, набитая рукописями.
Пора представить поэзию Хлебникова как целостное явление, не делить его стихи на заумные и незаумные, не выхватывать отдельные места и строки, а понять, что было главным для самого поэта. Учитель Маяковского, Заболоцкого, Мартынова имеет право на то, чтобы мы прислушались именно к его собственному голосу.
Взглянуть на Хлебникова глазами самого Хлебникова? Заманчивая задача. Она была бы неосуществима, если бы Хлебников сам не оставил нам ключа к пониманию своей поэзии. «Я — Разин со знаменем Лобачевского», — писал о себе поэт. Что стоит за этими словами? Какая связь между творчеством Хлебникова и геометрией Лобачевского? Ответить на эти вопросы — значит приблизиться к сокровенному смыслу поэтики Хлебникова. Поэт никогда не скрывал его, как не скрывал Лобачевский свою «воображаемую геометрию», но и Лобачевский и Хлебников не избежали при жизни и после смерти обвинения в безумии, даже в сознательном шарлатанстве. И в поэзии, и в науке таков порой бывает удел первооткрывателя.
Прочитаем юношеское «Завещание» Велимира Хлебникова, кстати сказать, первый дошедший до нас прозаический отрывок из его рукописей. Девятнадцатилетний студент, планируя итог всей своей будущей жизни, начертал такие слова: «Пусть на могильной плите прочтут... он связал время с пространством». Не торопитесь проскользнуть мимо его слов. Что это значит: «связал время с пространством»?
Пройдет несколько лет, и в 1908 году догадка Хлебникова станет научным открытием сразу трех великих ученых; Анри Пуанкаре, Альберта Эйнштейна и Германа Минковского. На языке науки оно формулируется так: «Отныне пространство само по себе и время само по себе обратились в простые тени, и только какое-то единство их обоих сохранит независимую реальность» (Г.Минковский).
Это открытие стало основой общей теории относительности Эйнштейна. Хлебников незадолго до смерти напишет в своем последнем прозаическом отрывке «засохшей веткой вербы» такие слова: «...Самое крупное светило на небе событий, взошедшее за это время, это вера 4-х измерений».
«Вера 4-х измерений» — так определяет Хлебников общую теорию относительности Эйнштейна, как бы подтвердившую догадку поэта о существовании единого пространства-времени. Четвертое измерение — это и есть четвертая, пространственно-временная координата, открытие которой поэт предчувствовал в своем «Завещании». Как видим, и первые и последние слова поэта, дошедшие до нас, об этом.
Но пока, в «Завещании», в самом начале века, Хлебников еще не знает, что будет поэтом. Он учится в Казанском университете на первом курсе физико-математического факультета, слушает лекции по геометрии Лобачевского и пристально вглядывается в каменный лик великого математика:
«...Я помню лик суровый и угрюмый
Запрятан в воротник.
То Лобачевский — ты
— Суровый Числоводск!..
Во дни «давно» и весел
Сел в первые ряды кресел
Думы моей,
Чей занавес уже поднят...»
Поднимем же и мы «занавес» думы Хлебникова. Ведь за этим занавесом — мир его поэзии.
На первый взгляд нет и не может быть никакой связи между открытием четвертой координаты пространства-времени и поэзией. Но она возникает, когда об этом задумывается поэт. Догадка Хлебникова вскоре стала превращаться в поэтический манифест.
Переворот в науке должен увенчаться психологическим переворотом в самом человеке. Вместо разрозненных пространства и времени он увидит единое пространство-время. Это приведет к синтезу пяти чувств человека: «Пять ликов, их пять, но мало. Отчего не: одно оно, но велико?» Великое, протяженное, непрерывно изменяющееся многообразие мира не вмещается в разрозненные силки пяти чувств. «...Как треугольник, круг, восьмиугольник суть части плоскости, так и наши слуховые, зрительные, вкусовые, обонятельные ощущения суть части, случайные обмолвки этого одного великого, протяженного многообразия».
И «есть... независимые переменные, с изменением которых ощущения разных рядов — например: слуховое и зрительное или обонятельное — переходит одно в другое.
Так есть величины, с изменением которых синий цвет василька (я беру чистое ощущение), непрерывно изменяясь, проходя через неведомые нам, людям, области разрыва, превратится в звук кукования кукушки или в плач ребенка, станет им».
Соединить пространство и время значило для Хлебникова-поэта добиться от звука цветовой и световой изобразительности. Он искал те незримые области перехода звука в цвет, где голубизна василька сольется с кукованием кукушки. Хлебников ошибся лишь в абсолютизации своего восприятия звукоцвета. Однако не следует преувеличивать степень субъективности поэта.
Для Скрябина, для Римского-Корсакова, для Артюра Рембо каждый звук был также связан с определенным цветом. Обладал таким цветовым слухом и Велимир Хлебников. У Хлебникова: М — темно-синий, 3 — отражение луча от зеркала (золотой), С — выход точек из одной точки (сияние, свет), Д — дневной свет, Н — розовый, нежно-красный.
Вот песня, звукописи, где звук то голубой, то синий, то черный, то красный, если взглянуть глазами Хлебникова:
«Вэо-вэя — зелень дерева,
Нижеоты — темный ствол,
Мам-эами — это небо,
Пучь и чали — черный грач.
Лели-лили — снег черемух,
Заслоняющих винтовку...
Мивеаа — небеса».
Реакция слушателей на эти слова в драме «Зангези» довольно однозначна:
«Будет! Будет! Довольно!
Соленым огурцом в Зангези!..»
Но мы не будем уподобляться этим слушателям, а попробуем проверить, так ли субъективны цветозвуковые образы Хлебникова.
Сравним цветовые ассоциации Хлебникова с некоторыми данными о цветофонетических ассоциациях школьников. (Иванова-Лукьянова Г. Н. О восприятии звуков.— В сб.: Развитие фонетики современного русского языка. Л„ «Наука», 1966). Школьники, как и Хлебников, окрасили звуки 3, С, Д, Н в легкие, пронзительные тона. Звук С у них желтый, у Хлебникова этот звук — свет солнечного луча. Звук 3 одни окрасили в зеленый, другие, как и Хлебников, в золотой
цвет. Многие, подобно Хлебникову, наделили звук М синим цветом, хотя большая часть считает его красным.
Как видим, цветовые ассоциации Хлебникова не столь субъективны, как принято было считать. Они свойственны и многим другим людям.
«Слышите ли вы меня?» — восклицает Зангези.
«Слышите ли вы мои речи, снимающие с вас оковы слов? Речи-здания из глыб пространства... Плоскости, прямые площади, удары точек, божественный круг, угол падения, пучок лучей прочь из точки и в нее — вот тайные глыбы языка. Поскоблите язык — и вы увидите пространство
и его шкуру».
Для Хлебникова зримый мир пространства был застывшей музыкой времени, окаменевшим звуком. Все поиски в области расширенной поэтической семантики звука шли у Хлебникова в одном направлении: придать протяженному во времени звуку максимальную пространственную
изобразительность. Звук у него — это и пространственно-зримая модель мироздания, и световая вспышка, и цвет. Поэт чувствовал себя каким-то особо тонким устройством, превращающим в звук все очертания пространства, и в то же время превращающим незримые звуки в пространственные образы.
Много говорилось о заумности стихотворения «Бобэоби». Но так ли оно заумно?
«Бобэоби пелись губы,
Вээоми пелись взоры,
Пиээо пелись брови,
Лиэээй пелся облик,
Гзи-гзи-гзэо пелась цепь.
Так на холсте каких-то соответствий
Вне протяжения жило Лицо».
Произнося слово «бобэоби», человек трижды делает движение губами, напоминающее поцелуй и лепет младенца. Вполне естественно, что об этом слове говорится: «пелись губы». Слова «лиэээй» и «гзи-гзи-гзэо» сами рождают ассоциацию со словом «лилейный» и со звоном ювелирной цепи.
Живопись — искусство пространства. Звук воспринимается слухом, как и музыка, считается искусством временным. Поэт осуществляет здесь свою давнюю задачу: «связать пространство и время», звуками написать портрет. Вот почему в конце стоят две строки — ключ ко всему стихотворению в целом:
«Так на холсте каких-то соответствий
Вне протяжения жило Лицо».
«Протяжение» — важнейшее свойство пространства. Протяженное, зримое, видимое... Хлебников создает портрет непротяженного, незримого, невидимого. Портрет «Бобэоби», сотканный из детского лепета, из звукоподражаний, создает незримое звуковое поле, как бы обволакивающее женский образ. Этот портрет «пелся»: пелся облик, пелись губы, пелась цепь. Поэтическое слово всегда существовало на грани между музыкой и живописью. В стихотворении «Бобэоби» тонкость этой грани уже на уровне микромира. Трудно представить себе большее сближение между музыкой и живописью, между временем и пространством.
Хлебников постоянно размышляет о пространственной природе звука. Вот, например, пространственные ассоциации, связанные у поэта со звуком Л. Они бесконечно разнообразны, однако все подчинены одному образу в последних строках стихотворения «Слово об Эль»:
«Сила движения, уменьшенная
Площадью приложения,— это Эль.
Таков силовой прибор,
Скрытый за Эль».
Конечно, только поэт может увидеть в звуке Л «судов широкий вес», пролитый на груди, — лямку на шее бурлака; лыжи, как бы расплескавшие вес человеческого тела на поверхности сугроба; и человеческую ладонь; и переход зверя к человеческому вертикальному хождению — «люд», действительно ставший первой победой человека над силами тяготения, сравнимой только с выходом человека в космос.
В одной из записей Хлебникова говорится, что если язык Пушкина можно уподобить «доломерию» Эвклида, не следует ли в современном языке искать «доломерие» Лобачевского? («Доломерие»— славянская калька Хлебникова со слова «геометрия»: от «дол» — земля и мера»).
Хлебников как бы воочию видел объемный рисунок звука. Итогом его исканий стала «Звездная азбука» в драме «Зангези».
На сцене — дерево, прорастающее плоскостями разных измерении пространства. Каждое действие переходит в новую плоскость, новое измерение. Все вместе они составляют действие в
n-мерном пространстве-времени. Образ такого дерева, прорастающего в иные измерения, есть и в стихах поэта:
«Казалось, в поисках пространства Лобачевского
Здесь Ермаки ведут полки зеленые
На завоевание Сибирей голубых,
Воюя за объем, веткою ночь проколов...»
Человечество, считает Хлебников, должно «прорасти» из сферы пространства трех измерений в пространство-время, как листва прорастает из почки (В недавно опубликованных трудах академика В. И. Вернадского высказана сходная мысль. Крупнейший ученый считает, что именно пространство живого вещества обладает неэвклидовыми геометрическими свойствами).
Первая плоскость в драме «Зангези» — просто дерево и просто птицы. Они щебечут на своем языке, не требующем перевода:
«Пеночка с самой вершины ели, надувая серебряное горлышко: Пить пэт твичан! Пить пэт твичан! Пить пэт твичан!..
Дубровник. Вьер-вьёр виру сьек-сьек-сьек! Вэр-вэр-вйру сек-сек-сек!
Сойка. Пиу! пиу! пьяк, пьяк, пьяк!..»
Сын орнитолога, Велимир Хлебников в юности сам изучал «язык птиц». Эти познания пригодились поэту. Звукопись птичьего языка не имеет ничего общего с пустым формализмом. Хлебников никогда не играл словами и звуками.
Вторая плоскость — «язык богов». Боги говорят языком пространства и времени, как первые люди, дававшие название вещам. Значение звуков еще непонятно, но оно как бы соответствует облику богов.
Суровый Белее урчит и гремит рычащими глухими звуками. Бог Улункулулу сотрясает воздух грозными звуковыми взрывами:
«Рапр, грапр, апр! жай.
Каф! Взуй! Каф!
Жраб, габ, бокв — кук
ртупт! тупт!»
И язык птиц, и язык богов читается с иронической улыбкой, которую ждет от читателя и сам автор, когда дает ремарки такого рода: «Белая Юнона, одетая лозой зеленого хмеля, прилежным напилком скоблит свое белоснежное плечо, очищая белый камень от накипи».
Но не будем забывать, что язык богов, как и язык птиц, строится на глубоком знании «исходного материала». Боги говорят теми словами и теми созвучиями, корни которых характерны для языка всех «ареалов» культуры, в которых они возникли.
Язык богов, переплетаясь и сливаясь с языком птиц, как бы умножает две плоскости звука — ширину и высоту. Так возникает трехмерный объем пространства, в котором появляется человек — Зангези. Он вслушивается в язык птиц и в язык богов, переводит объем этих звуков в иное, четвертое измерение, и ему открывается «звездный язык» вселенной. Опьяненный своим открытием, Зангези радостно несет весть о нем людям, зверям и богам: «Это звездные песни, где алгебра слов смешана с аршинами и часами».
«Пусть мглу времен развеют вещие звуки
Мирового языка. Он точно свет. Слушайте
Песни «з в е з д н о г о яз ы к а».
«Звездная азбука» дает наглядное представление о том, как из первоатома звука в сознании поэта рождается вся вселенная. Каждое определение звука в «Звездной азбуке» — это формула-образ.
С — силы, расходящиеся из одной точки. Это как возникновение вселенной из первоатома — сияние, свет. Модель расширяющейся вселенной.
М — наоборот — распыление объема на бесконечно малые части — масса...
И так каждый звук таит в себе всю историю мироздания.
Азбука в «Зангези» не случайно названа «звездным языком». Ход рассуждений Хлебникова здесь вполне логичен. Если для него в каждом звуке сокрыта пространственная модель мира, как, скажем, в «Слове об Эль», значит, в нашей азбуке зашифрована картина нашей вселенной. Попробуем увидеть эту вселенную, вернее, услышать ее, как Хлебников.
Итак, мировое n-мерное пространство-время, как айсберг, возвышается лишь тремя измерениями пространства над океаном невидимого, но наступит время, когда рухнет барьер между слухом и зрением, между пространственными и временными чувствами, и весь океан окажется в человеке. В этот миг голубизна василька сольется с кукованием кукушки», а у человека будет не пять, а одно, новое чувство, соответствующее всем бесчисленным измерениям пространства. Тогда «узор точек» заполнит «пустующие пространства», и в каждом звуке человек увидит и услышит неповторимую модель всей вселенной.
Звук С будет точкой, из которой исходит сияние. Звук 3 будет выглядеть как луч, встретивший на пути преграду и преломленный: это «зигзица» — молния, это зеркало, это зрачок, это зрение — все отраженное и преломленное в какой-то среде. Звук П будет разлетающимся объемом — порох, пух, пар; он будет парить в пространстве, как парашют.
В каждом звуке мы увидим пространственную структуру, окрашенную в разные цвета. Эти звуковые волны, струясь и переливаясь друг в друга, сделают видимой ту картину мироздания, которая открылась перед незамутненным детским взором человека, впервые дававшего миру звучныеимена. Тогда человек был пуст, как звук Ч — как череп, чаша. В черной пустоте этого звука уже рождается свет С, а луч преломляется в зрение, как звук 3.
Распластанный на поверхности земли и приплюснутый к ней силой тяготения, четвероногий распрямился и стал «прямостоящее двуногое», «его назвали через люд», ибо Л — сила, уменьшенная площадью приложения, благодаря расплыванию веса на поверхности. Так, побеждая вес, человек сотворил и звук Л — модель победы над весом.
В момент слияния чувств мы увидим, что время и пространство не есть нечто разрозненное. Невидимое станет видимым, а немое пространство станет слышимым. Тогда и камни заговорят, зажурчат, как река времени, их образовавшая:
«Времыши-камыши
На озере бреге,
Где каменья временем,
Где время каменьем».
Да, текущее время будет выглядеть неподвижным и объемным, как камень. На нем прочтем письмена прошлого и будущего человечества.
Тогда мы сможем входить во время, как ныне входим в комнату. У времени тоже есть объем. Так же, как в бинокль, можно увидеть отдаленные пространства, мы можем заглянуть в отдаленное прошлое и будущее человечества. Когда откроется пространственно-временное зрение, каждый человек увидит себя в прошлом, будущем и настоящем одновременно.
«Звездная азбука» звуков нашего языка будет передана во вселенную, возникнет единое вселенское государство времени. Оно начнется с проникновения в космос:
«Вы видите умный череп вселенной
И темные косы Млечного Пути,
Батыевой дорогой зовут их иногда.
Поставим лестницы
К замку звезд,
Прибьем, как воины, свои щиты...»
Но это произойдет в будущем, а сейчас надо устремить во вселенную лавину звуков, «звездную азбуку», несущую весть миру о нашей цивилизации.
«Мы дикие кони,
Приручите нас:
Мы понесем вас
В другие миры,
Верные дикому
Всаднику
Звука.
Лавой беги, человечество, звуков табун оседлав,
Конницу звука взнуздай!»
Передавая в иные галактики геометрические модели звуков нашего языка, мы передадим всю информацию о нашей вселенной, ибо эти звуки создали мы, в них отпечатался на всех уровнях облик нашего мира.
Ход этих рассуждений глубоко поэтичен, но сегодняшнему читателю далеко не безразличны и мысли Хлебникова о возможностях межкосмических связей, поиски которых ведутся ныне во всех крупных странах, и его попытка создать «звездный язык», над разработкой которого трудятся во' многих космических лабораториях, и, наконец, вполне сбыв-
шееся предсказание поэта о том, что к иным цивилизациям мы направим известные нам геометрические структуры. Так, для трансляции в космос сигналов с Земли была выбрана теорема Пифагора.
Однако не только во вселенной, но даже здесь, на земле, никто не понимает Зангези. Его покидают все, и он шепчет древнеславянское заклинание, глядя вслед улетающей стае богов и птиц:
«Они голубой тихославль,
Они голубой окопад.
Они в никуда улетавль,
Их крылья шумят невпопад...»
«Звездная азбука» звучит в пустоте, ее не хотят понимать, как нередко не хотели понимать самого Хлебникова. А ведь он был не футуристом, а «будетлянином». И действительно, до зримости и осязаемости предвидел будущее.
Многие вдохновенные поэтические пророчества поэта для нас стали бытом. Вот одно из таких предвидений:
«...Радио разослало по своим приборам цветные тени, чтобы сделать всю страну и каждую деревню причастницей выставки художественных холстов далекой столицы... Если раньше радио было мировым слухом, теперь оно глаза, для которых нет расстояния».
Это же цветное телевидение — так предчувствовал его Хлебников. Для нас это что-то давно привычное, а для многих современников поэта — футуристический бред безумца.
Предвидение поэтов — дело вполне обычное, но иногда оно становится до такой степени реально зримым, точным до мельчайших деталей, что хочется говорить о чуде. Строки Хлебникова читаются в архитектуре сегодняшней Москвы:
«Дом-тополь состоял из узкой башни, сверху донизу обвитой кольцами из стеклянных кают. Подъем был в башне, у каждой светелки особый выход в башню, напоминающую высокую колокольню». Разве это не похоже на Останкинскую башню Москвы?!
Идя по Калининскому проспекту к зданию СЭВ, как не вспомнить другой отрывок из Хлебникова: «Порядок развернутой книги; состоит из каменных стен под углом и стеклянных листов комнатной ткани, веером расположенной внутри этих стен». Есть еще у поэта «дом-пленка», «дом-волос», «дом-корабль» — все очертания современной архитектуры. Есть предвидение «искрописьма» — цветовое табло с бегущими «огненными письменами». Это сбывшиеся пророчества.
Как бедны рядом со стихами и творческими замыслами поэта футуристические манифесты, под которыми стоит подпись Хлебникова. Здесь следует ясно осознать, что футуризм давал грубое истолкование хлебниковских идей. Футуристы просто провозгласили самоценность звука как
такового. Хлебников открывал в звуке новую поэтическую семантику.
Удивимся грандиозности поэтической фантазии Хлебникова, космичности его мировоззрения, его способности проникать в тысячелетние слои культуры на поэтичном до интимности уровне детского лепета древнегреческого Эрота и бранчливого урчания Белеса. Удивимся красоте и возвышенности его «звездной азбуки», древнеславянской вязи корней: улетавль, тихославль, окопад... и откажемся, наконец, от футуристических отмычек к его поэзии.
«Мозг людей, — писал поэт в воззвании «Труба Марсиан»,—и поныне скачет на трех ногах». Надо приделать этому «неуклюжему щенку» четвертую лапу — «ось времени».
Конечно, такие пророчества звучали тогда почти в пустоте. Их поэтический .смысл и сегодня понятен лишь тем, кто знаком с теорией относительности Эйнштейна, но не будем забывать, что наступит время, когда с теорией относительности будут знакомы все. Главное сейчас — понять,
что Хлебникову была глубоко чужда бездумная игра словами и звуками. Глубина его замысла была скрыта от большинства современников. Даже Маяковский, видевший в Хлебникове «честнейшего рыцаря поэзии», назвал однажды «сознательным штукарством» его небольшую поэму о Разине — «Перевертень»:
«Кони, топот, инок,
Но не речь, а черен он.
Идем молод, долом меди.
Чин зван мечем навзничь».
Казалось бы, обыкновенный перевертыш, где каждая строка одинаково читается слева направо и справа налево. Но Хлебникову здесь важно передать психологическое ощущение протяженного времени, чтобы внутри каждой строки «Перевертня» читатель разглядел движение от прошлого
к будущему и обратно. То, что для других — лишь формалистическое штукарство, для Хлебникова — поиск новых возможностей в человеческом мировидении.
Вопрос об обратимости времени пока остается открытым. Попытки найти математическое доказательство необратимости времени не привели к желаемым результатам. Гипотеза Хлебникова о возможности двигаться из настоящего в прошлое остается вполне актуальной, хотя и фантастичной.
В поэтическом мире создателя «звездной азбуки» прошлое и будущее — как бы два измерения времени, создающие вместе с настоящим единый трехмерный объем. «Мы тоже сидим в окопе и отвоевываем не клочок пространства, а время». Хлебников считал время четвертой координатой
пространства, не. видимой человеческим глазом и ничем не отличающейся от трех других измерений. Если можно двигаться взад и вперед в пространстве, то почему нельзя так же двигаться во времени?
Поэт с легкостью соединяет несовместимые друг с другом планы пространства и времени. Сквозь камень у Хлебникова пролетает птица, оставив на нем отпечаток своего полета. В очертаниях зверей в зоопарке проступают письмена Корана и древних индуистских текстов. В зверях «погибают неслыханные возможности, как в записанном в часослов «Слове о полку Игореве».
«Слово» прочли впервые в XVIII веке и читают до настоящего дня, но еще не прочитан тайный язык зверей, птиц, рыб, камней, звезд и растений. Ветви деревьев тянутся к поэту и шепчут: «Не надо делений, не надо меток, мы были вами, мы вами будем».
Что-то языческое, древнее проступает в таком поэтическом таинозрении. Здесь действительно все во всем: в очертаниях человеческого лица — звездное небо, в рисунке звездного неба — человеческое лицо. Разин идет со знаменем Лобачевского, и даже утренняя роса на каменном скифском изваянии довершает скульптуру древнего мастера:
«Стоит спокойна и недвижна,
Забытая неведомым отцом,
И на груди ее булыжной
Дрожит роса серебряным сосцом».
Такие метафоры не придумывают — их видят, их прозревают. После Хлебникова трудно иначе видеть росу на каменном изваянии. Кажется, что это не Хлебников создал, а так и задумал мастер.
Хлебников писал о «звездном парусе», эту же мысль в Калуге разрабатывал Циолковский, а сегодня такая возможность рассматривается даже на уровне научно-популярного молодежного журнала. «Представим себе,— пишут два инженера,— что солнечная система накрыта громадным экраном — полусферой, удерживаемой на постоянном расстоянии от солнца и перекрывающей половину его излучения. При этом другая половина излучения, подобно лучам фотонного двигателя, создает тягу, под воздействием которой система экран-солнце начнет ускоряться, увлекая за собой всю солнечную систему» (Боровишки В., Сизенцев Г. К звездам на... солнечной системе.— «Техника — молодежи», 1979, № 12, с. 28).
Вот, оказывается, какой смысл кроется в хлебниковской метафоре:
«Ты прикрепишь к созвездью парус,
Чтобы сильнее и мятежнее
Земля неслась в надмирный ярус,
А птица звезд осталась прежнею...
«Птица звезд» — очертание нашей галактики на небе. С открытием теории относительности поэтическая мечта Хлебникова приобрела очертания научно-фантастической гипотезы. Время замедляется по мере приближения к скорости света. Следовательно, «фотонная ракета», двигаясь с такой скоростью, будет фактически обиталищем людей бессмертных. О «фотонном парусе» поговаривают ныне всерьез. Хлебников мечтал всю галактику превратить в такую «фотонную ракету». Мысль о превращении Земли в движущийся космический корабль была почти тогда же высказана Циолковским. Хлебников говорит о превращении в корабль всей галактики.
Для новых явлений поэт всегда искал и часто находил и новые образы» и новые слова. Эти образы были так же необычны, как зримые очертания будущего мира, открытые в поэзии Хлебникова. Многие его предсказания сбылись, и уже одно это должно заставить сегодняшнего читателя перечитать Хлебникова другими глазами.
В своей стройности пространственно-временной миф поэта охватывает все слои его поэтики — от звука до композиции произведения в целом. Даже хлебниковская метафора прежде всего подчинялась этой закономерности.
Метафора для Хлебникова есть не что иное, как прорыв пространства во время и времени в пространство, то есть умение видеть вещи, застывшие в настоящем, движущиеся в прошлом и будущем, а вещи, движущиеся и разрозненные в пространстве, увидеть объединенными во времени.
В хлебниковской метафоре меньшие предметы часто вмещают в себя большие:
«В этот день голубых медведей,
Пробежавших по тихим ресницам...
На серебряной ложке протянутых глаз
Мне протянуто море и на нем буревестник».
Ложка, глаза, море, ресницы и медведи совмещены по принципу обратной матрешки; малая вмещает в себя большую. Глаза и ложка вмещают в себя море, медведи пробегают по ресницам.
В математических моделях микромира меньшее, вмещающее в себя большее, довольно обычное представление.
В поэзии Хлебникова предметы, люди, государства, народы, травы», цветы, животные, живой и неживой миры только кажутся разрозненными. На самом деле они едины. В прошлом — будущее, в мертвом — живое, в растениях — люди, в малом — большое. Прическа таит в себе оленье стадо:
«О девушка, рада ли,
Что волосы падали
Оленей взбесившимся стадом...»
«Хлебников,— писал Ю. Тынянов,— был новым зрением — новое зрение падает одновременно на все предметы».
В своем словотворчестве Хлебников воскрешает первозданный смысл слова. Соединив «могущество» и «богатырь» в «могатырь», он словно вылепил живую скульптуру былинного богатыря. Соединив слова «мечта» и «ничто» в «мечтоги», поэт обнажил первозданную сущность слова «мечта», где есть и «ничто» и «нечто».
Метафоричное словотворчество Хлебникова опять же непридуманно, органично. Его «нечтоги-мечтоги», «богатыри-могатыри», «негодяи-нехотяи», его журчащие «нетурные зовы», его словотворчество от корня «люб» — неистовое любовное заклинание: «любхо», «любленея», «любвея»...— воспринимаются так, словно это выписки из словаря «Живого великорусского языка». Иногда созданные Хлебниковым поэтические слова слетали со страниц и облекались плотью живой жизни. Так случилось со словом «летчик», сотворенным поэтом от корня «лет». Слово взлетело в небо, облеклось в голубую форму, стало человеком, летящим в небе.
Этому невозможно подражать — это надо чувствовать, чтобы давно знакомые слова звучали в тексте первозданно метафорически.
«Сыновеет ночей синева, веет во все любимое...» Можно ли после этих строк написать «дочереет ночь» или что-то подобное? Это будет грубая копия, посмертная маска с живого лица. В слове «сыновеет» уже заключены два последующих слова: синь и веет. Слово вылетает из слова, как маленькая матрешка из большой, а из одного слова, как из сказочного клубка, разматывается волшебная строка. Как в причудливом орнаменте, из птичьего клюва выходит зверь, а из пасти зверя вылетает птица, так у Хлебникова слово порождает другое слово и поглощается им. Все во
всем.
Идее «все во всем» в поэзии Хлебникова дана соответствующая ритмическая основа. Размеры его поэтических произведений — сознательное смешение музыкальных ритмов Пушкина, Державина, разговорной речи, «Слова о полку Игореве», древних заговоров и заклинаний. Ритмические пространственно-временные «сдвиги» — как бы органический пульс мирового пространства-времени, где все вторгается во все самым неожиданным образом.
«Русь зеленая в месяце Ай,
Ой, гори-гори пень.
Хочу девку —
Исповедь пня.,.»
Эта языческая скороговорка древнеславянского праздника, где слышны все интонации от классического стиха в первой строке, славянской скороговорки во второй до пьяного бормотания парня в третьей.
Многообразны ритмы, определяющие движение стихов Хлебникова. В таких его произведениях, как «Дети выдры», «Журавль», «Зангези», они создают ощущение скачков из одной эпохи в другую. Читателя должно трясти на ухабах времени. Поэт передает живой, прерывистый пульс времени с перепадами, перебоями, захватывающими дух у внимательного читателя. Именно прерывистый пульс. Это не случайно. В записных книжках Хлебникова, хранящихся в ЦГАЛИ, задолго до квантовой механики высказывается мысль о прерывной структуре времени и пространства. Привожу эти записи в моей расшифровке (сохраняю пунктуацию оригинала):
«Молчаливо допущено, что пространство и время непрерывные величины (бездырно) не имеют строения сетей.
Я делаю допущения, что они суть прерывные величины, опровергнуть меня никто не может, так как прорывы ячейки могут быть сделаны менее какой угодно малой величины.
Это [неразборчиво] для общих суждений о природе пространства и о связи величин природы с делом и художественными мелочами.
Измерение одной мирка другой величины».
Мысль о прерывности пространства и времени стала важной особенностью в композиционном построении многих произведений Хлебникова. Знаменитый «сдвиг», широко пропагандировавшийся футуристами как прием, для Хлебникова был явлением гораздо более значительного порядка. Для него это скачок из одного измерения пространства в другое через прерывистый барьер времени. И каждый временной «срез» находит в стихах Хлебникова свое ритмическое выражение.
Как единый залихватский посвист читаются строки;
«Эй, молодчики-купчики,
Ветерок в голове!
В пугачевском тулупчике
Я иду по Москве!..»
И рядом прозрачное, как дыхание, славянское заклинание, сотканное из света и воздуха:
«А я из вздохов дань
Сплетаю в духов день...»
Хлебников может писать плавно и мелодично:
«Ручей, играя пеной, пел,
И в чаще голубь пролетел.
И на земле и в вышине
Творилась слава тишине».
Но:
«На чертеж российских дорог
Дерево осени звонко похоже»,—
а значит, иной, грохочущий ритм:
«Ты город мыслящих печей
И город звукоедов,
Где бревна грохота,
Крыши нежных свистов
И ужин из зару и шума бабочкиных крыл...»
Его стихи сохраняют первозданное значение, из которого возникло само название поэтического жанра: «стихи» — стихия. Неукротимая звуковая стихия хлебниковского стиха переполняет слух, как его зримая метафора переполняет зрение. Ощущение полноты жизни здесь таково, что неопытному слушателю можно захлебнуться звуком и образом. Здесь нужен опытный пловец и опытный кормщик. Об этом говорит сам поэт:
«Еще раз, еще раз
Я для вас
Звезда.
Горе моряку, взявшему
Неверный угол своей ладьи
По звездам:
Он разобьется о камни,
О подводные мели.
Горе и вам, взявшим
Неверный угол сердца ко мне:
Вы разобьетесь о камни...»
«Угол сердца» к поэзии Хлебникова один: его «звездная азбука», его пространственно-временное зрение.
(«Литературная учеба», 1982, № 3)
Поэзия Велимира Хлебникова не каждому открывает свои заветные тайны. Сюда закрыт вход человеку «ленивому и нелюбопытному», тому, кто навсегда довольствуется знакомыми ярлыками: «заумная поэзия»», «футуризм», «голый эксперимент». Некоторые выбирают другой, легкий путь — ищут в стихах поэта то, что им понятнее, ближе. Остальное искусственно отсекается. Вот почему и до сегодняшнего дня слава его «неизмеримо меньше его значения». Под этим высказыванием о Хлебникове стоит подпись Маяковского. Здесь могли бы подписаться и многие другие поэты. У Хлебникова нет незначительных, маловажных вещей, но даже друзья часто не понимали цельности и единства его поэзии. Им казалось, что он носил свои рукописи в мешке из чистого чудачества, не подчиняя их единому плану с нумерацией страниц. Между тем пятитомник Хлебникова с хронологическим расположением страниц в гораздо большей степени неудобен для понимания единой композиции всех вещей поэта, чем знаменитая наволочка, набитая рукописями.
Пора представить поэзию Хлебникова как целостное явление, не делить его стихи на заумные и незаумные, не выхватывать отдельные места и строки, а понять, что было главным для самого поэта. Учитель Маяковского, Заболоцкого, Мартынова имеет право на то, чтобы мы прислушались именно к его собственному голосу.
Взглянуть на Хлебникова глазами самого Хлебникова? Заманчивая задача. Она была бы неосуществима, если бы Хлебников сам не оставил нам ключа к пониманию своей поэзии. «Я — Разин со знаменем Лобачевского», — писал о себе поэт. Что стоит за этими словами? Какая связь между творчеством Хлебникова и геометрией Лобачевского? Ответить на эти вопросы — значит приблизиться к сокровенному смыслу поэтики Хлебникова. Поэт никогда не скрывал его, как не скрывал Лобачевский свою «воображаемую геометрию», но и Лобачевский и Хлебников не избежали при жизни и после смерти обвинения в безумии, даже в сознательном шарлатанстве. И в поэзии, и в науке таков порой бывает удел первооткрывателя.
Прочитаем юношеское «Завещание» Велимира Хлебникова, кстати сказать, первый дошедший до нас прозаический отрывок из его рукописей. Девятнадцатилетний студент, планируя итог всей своей будущей жизни, начертал такие слова: «Пусть на могильной плите прочтут... он связал время с пространством». Не торопитесь проскользнуть мимо его слов. Что это значит: «связал время с пространством»?
Пройдет несколько лет, и в 1908 году догадка Хлебникова станет научным открытием сразу трех великих ученых; Анри Пуанкаре, Альберта Эйнштейна и Германа Минковского. На языке науки оно формулируется так: «Отныне пространство само по себе и время само по себе обратились в простые тени, и только какое-то единство их обоих сохранит независимую реальность» (Г.Минковский).
Это открытие стало основой общей теории относительности Эйнштейна. Хлебников незадолго до смерти напишет в своем последнем прозаическом отрывке «засохшей веткой вербы» такие слова: «...Самое крупное светило на небе событий, взошедшее за это время, это вера 4-х измерений».
«Вера 4-х измерений» — так определяет Хлебников общую теорию относительности Эйнштейна, как бы подтвердившую догадку поэта о существовании единого пространства-времени. Четвертое измерение — это и есть четвертая, пространственно-временная координата, открытие которой поэт предчувствовал в своем «Завещании». Как видим, и первые и последние слова поэта, дошедшие до нас, об этом.
Но пока, в «Завещании», в самом начале века, Хлебников еще не знает, что будет поэтом. Он учится в Казанском университете на первом курсе физико-математического факультета, слушает лекции по геометрии Лобачевского и пристально вглядывается в каменный лик великого математика:
«...Я помню лик суровый и угрюмый
Запрятан в воротник.
То Лобачевский — ты
— Суровый Числоводск!..
Во дни «давно» и весел
Сел в первые ряды кресел
Думы моей,
Чей занавес уже поднят...»
Поднимем же и мы «занавес» думы Хлебникова. Ведь за этим занавесом — мир его поэзии.
На первый взгляд нет и не может быть никакой связи между открытием четвертой координаты пространства-времени и поэзией. Но она возникает, когда об этом задумывается поэт. Догадка Хлебникова вскоре стала превращаться в поэтический манифест.
Переворот в науке должен увенчаться психологическим переворотом в самом человеке. Вместо разрозненных пространства и времени он увидит единое пространство-время. Это приведет к синтезу пяти чувств человека: «Пять ликов, их пять, но мало. Отчего не: одно оно, но велико?» Великое, протяженное, непрерывно изменяющееся многообразие мира не вмещается в разрозненные силки пяти чувств. «...Как треугольник, круг, восьмиугольник суть части плоскости, так и наши слуховые, зрительные, вкусовые, обонятельные ощущения суть части, случайные обмолвки этого одного великого, протяженного многообразия».
И «есть... независимые переменные, с изменением которых ощущения разных рядов — например: слуховое и зрительное или обонятельное — переходит одно в другое.
Так есть величины, с изменением которых синий цвет василька (я беру чистое ощущение), непрерывно изменяясь, проходя через неведомые нам, людям, области разрыва, превратится в звук кукования кукушки или в плач ребенка, станет им».
Соединить пространство и время значило для Хлебникова-поэта добиться от звука цветовой и световой изобразительности. Он искал те незримые области перехода звука в цвет, где голубизна василька сольется с кукованием кукушки. Хлебников ошибся лишь в абсолютизации своего восприятия звукоцвета. Однако не следует преувеличивать степень субъективности поэта.
Для Скрябина, для Римского-Корсакова, для Артюра Рембо каждый звук был также связан с определенным цветом. Обладал таким цветовым слухом и Велимир Хлебников. У Хлебникова: М — темно-синий, 3 — отражение луча от зеркала (золотой), С — выход точек из одной точки (сияние, свет), Д — дневной свет, Н — розовый, нежно-красный.
Вот песня, звукописи, где звук то голубой, то синий, то черный, то красный, если взглянуть глазами Хлебникова:
«Вэо-вэя — зелень дерева,
Нижеоты — темный ствол,
Мам-эами — это небо,
Пучь и чали — черный грач.
Лели-лили — снег черемух,
Заслоняющих винтовку...
Мивеаа — небеса».
Реакция слушателей на эти слова в драме «Зангези» довольно однозначна:
«Будет! Будет! Довольно!
Соленым огурцом в Зангези!..»
Но мы не будем уподобляться этим слушателям, а попробуем проверить, так ли субъективны цветозвуковые образы Хлебникова.
Сравним цветовые ассоциации Хлебникова с некоторыми данными о цветофонетических ассоциациях школьников. (Иванова-Лукьянова Г. Н. О восприятии звуков.— В сб.: Развитие фонетики современного русского языка. Л„ «Наука», 1966). Школьники, как и Хлебников, окрасили звуки 3, С, Д, Н в легкие, пронзительные тона. Звук С у них желтый, у Хлебникова этот звук — свет солнечного луча. Звук 3 одни окрасили в зеленый, другие, как и Хлебников, в золотой
цвет. Многие, подобно Хлебникову, наделили звук М синим цветом, хотя большая часть считает его красным.
Как видим, цветовые ассоциации Хлебникова не столь субъективны, как принято было считать. Они свойственны и многим другим людям.
«Слышите ли вы меня?» — восклицает Зангези.
«Слышите ли вы мои речи, снимающие с вас оковы слов? Речи-здания из глыб пространства... Плоскости, прямые площади, удары точек, божественный круг, угол падения, пучок лучей прочь из точки и в нее — вот тайные глыбы языка. Поскоблите язык — и вы увидите пространство
и его шкуру».
Для Хлебникова зримый мир пространства был застывшей музыкой времени, окаменевшим звуком. Все поиски в области расширенной поэтической семантики звука шли у Хлебникова в одном направлении: придать протяженному во времени звуку максимальную пространственную
изобразительность. Звук у него — это и пространственно-зримая модель мироздания, и световая вспышка, и цвет. Поэт чувствовал себя каким-то особо тонким устройством, превращающим в звук все очертания пространства, и в то же время превращающим незримые звуки в пространственные образы.
Много говорилось о заумности стихотворения «Бобэоби». Но так ли оно заумно?
«Бобэоби пелись губы,
Вээоми пелись взоры,
Пиээо пелись брови,
Лиэээй пелся облик,
Гзи-гзи-гзэо пелась цепь.
Так на холсте каких-то соответствий
Вне протяжения жило Лицо».
Произнося слово «бобэоби», человек трижды делает движение губами, напоминающее поцелуй и лепет младенца. Вполне естественно, что об этом слове говорится: «пелись губы». Слова «лиэээй» и «гзи-гзи-гзэо» сами рождают ассоциацию со словом «лилейный» и со звоном ювелирной цепи.
Живопись — искусство пространства. Звук воспринимается слухом, как и музыка, считается искусством временным. Поэт осуществляет здесь свою давнюю задачу: «связать пространство и время», звуками написать портрет. Вот почему в конце стоят две строки — ключ ко всему стихотворению в целом:
«Так на холсте каких-то соответствий
Вне протяжения жило Лицо».
«Протяжение» — важнейшее свойство пространства. Протяженное, зримое, видимое... Хлебников создает портрет непротяженного, незримого, невидимого. Портрет «Бобэоби», сотканный из детского лепета, из звукоподражаний, создает незримое звуковое поле, как бы обволакивающее женский образ. Этот портрет «пелся»: пелся облик, пелись губы, пелась цепь. Поэтическое слово всегда существовало на грани между музыкой и живописью. В стихотворении «Бобэоби» тонкость этой грани уже на уровне микромира. Трудно представить себе большее сближение между музыкой и живописью, между временем и пространством.
Хлебников постоянно размышляет о пространственной природе звука. Вот, например, пространственные ассоциации, связанные у поэта со звуком Л. Они бесконечно разнообразны, однако все подчинены одному образу в последних строках стихотворения «Слово об Эль»:
«Сила движения, уменьшенная
Площадью приложения,— это Эль.
Таков силовой прибор,
Скрытый за Эль».
Конечно, только поэт может увидеть в звуке Л «судов широкий вес», пролитый на груди, — лямку на шее бурлака; лыжи, как бы расплескавшие вес человеческого тела на поверхности сугроба; и человеческую ладонь; и переход зверя к человеческому вертикальному хождению — «люд», действительно ставший первой победой человека над силами тяготения, сравнимой только с выходом человека в космос.
В одной из записей Хлебникова говорится, что если язык Пушкина можно уподобить «доломерию» Эвклида, не следует ли в современном языке искать «доломерие» Лобачевского? («Доломерие»— славянская калька Хлебникова со слова «геометрия»: от «дол» — земля и мера»).
Хлебников как бы воочию видел объемный рисунок звука. Итогом его исканий стала «Звездная азбука» в драме «Зангези».
На сцене — дерево, прорастающее плоскостями разных измерении пространства. Каждое действие переходит в новую плоскость, новое измерение. Все вместе они составляют действие в
n-мерном пространстве-времени. Образ такого дерева, прорастающего в иные измерения, есть и в стихах поэта:
«Казалось, в поисках пространства Лобачевского
Здесь Ермаки ведут полки зеленые
На завоевание Сибирей голубых,
Воюя за объем, веткою ночь проколов...»
Человечество, считает Хлебников, должно «прорасти» из сферы пространства трех измерений в пространство-время, как листва прорастает из почки (В недавно опубликованных трудах академика В. И. Вернадского высказана сходная мысль. Крупнейший ученый считает, что именно пространство живого вещества обладает неэвклидовыми геометрическими свойствами).
Первая плоскость в драме «Зангези» — просто дерево и просто птицы. Они щебечут на своем языке, не требующем перевода:
«Пеночка с самой вершины ели, надувая серебряное горлышко: Пить пэт твичан! Пить пэт твичан! Пить пэт твичан!..
Дубровник. Вьер-вьёр виру сьек-сьек-сьек! Вэр-вэр-вйру сек-сек-сек!
Сойка. Пиу! пиу! пьяк, пьяк, пьяк!..»
Сын орнитолога, Велимир Хлебников в юности сам изучал «язык птиц». Эти познания пригодились поэту. Звукопись птичьего языка не имеет ничего общего с пустым формализмом. Хлебников никогда не играл словами и звуками.
Вторая плоскость — «язык богов». Боги говорят языком пространства и времени, как первые люди, дававшие название вещам. Значение звуков еще непонятно, но оно как бы соответствует облику богов.
Суровый Белее урчит и гремит рычащими глухими звуками. Бог Улункулулу сотрясает воздух грозными звуковыми взрывами:
«Рапр, грапр, апр! жай.
Каф! Взуй! Каф!
Жраб, габ, бокв — кук
ртупт! тупт!»
И язык птиц, и язык богов читается с иронической улыбкой, которую ждет от читателя и сам автор, когда дает ремарки такого рода: «Белая Юнона, одетая лозой зеленого хмеля, прилежным напилком скоблит свое белоснежное плечо, очищая белый камень от накипи».
Но не будем забывать, что язык богов, как и язык птиц, строится на глубоком знании «исходного материала». Боги говорят теми словами и теми созвучиями, корни которых характерны для языка всех «ареалов» культуры, в которых они возникли.
Язык богов, переплетаясь и сливаясь с языком птиц, как бы умножает две плоскости звука — ширину и высоту. Так возникает трехмерный объем пространства, в котором появляется человек — Зангези. Он вслушивается в язык птиц и в язык богов, переводит объем этих звуков в иное, четвертое измерение, и ему открывается «звездный язык» вселенной. Опьяненный своим открытием, Зангези радостно несет весть о нем людям, зверям и богам: «Это звездные песни, где алгебра слов смешана с аршинами и часами».
«Пусть мглу времен развеют вещие звуки
Мирового языка. Он точно свет. Слушайте
Песни «з в е з д н о г о яз ы к а».
«Звездная азбука» дает наглядное представление о том, как из первоатома звука в сознании поэта рождается вся вселенная. Каждое определение звука в «Звездной азбуке» — это формула-образ.
С — силы, расходящиеся из одной точки. Это как возникновение вселенной из первоатома — сияние, свет. Модель расширяющейся вселенной.
М — наоборот — распыление объема на бесконечно малые части — масса...
И так каждый звук таит в себе всю историю мироздания.
Азбука в «Зангези» не случайно названа «звездным языком». Ход рассуждений Хлебникова здесь вполне логичен. Если для него в каждом звуке сокрыта пространственная модель мира, как, скажем, в «Слове об Эль», значит, в нашей азбуке зашифрована картина нашей вселенной. Попробуем увидеть эту вселенную, вернее, услышать ее, как Хлебников.
Итак, мировое n-мерное пространство-время, как айсберг, возвышается лишь тремя измерениями пространства над океаном невидимого, но наступит время, когда рухнет барьер между слухом и зрением, между пространственными и временными чувствами, и весь океан окажется в человеке. В этот миг голубизна василька сольется с кукованием кукушки», а у человека будет не пять, а одно, новое чувство, соответствующее всем бесчисленным измерениям пространства. Тогда «узор точек» заполнит «пустующие пространства», и в каждом звуке человек увидит и услышит неповторимую модель всей вселенной.
Звук С будет точкой, из которой исходит сияние. Звук 3 будет выглядеть как луч, встретивший на пути преграду и преломленный: это «зигзица» — молния, это зеркало, это зрачок, это зрение — все отраженное и преломленное в какой-то среде. Звук П будет разлетающимся объемом — порох, пух, пар; он будет парить в пространстве, как парашют.
В каждом звуке мы увидим пространственную структуру, окрашенную в разные цвета. Эти звуковые волны, струясь и переливаясь друг в друга, сделают видимой ту картину мироздания, которая открылась перед незамутненным детским взором человека, впервые дававшего миру звучныеимена. Тогда человек был пуст, как звук Ч — как череп, чаша. В черной пустоте этого звука уже рождается свет С, а луч преломляется в зрение, как звук 3.
Распластанный на поверхности земли и приплюснутый к ней силой тяготения, четвероногий распрямился и стал «прямостоящее двуногое», «его назвали через люд», ибо Л — сила, уменьшенная площадью приложения, благодаря расплыванию веса на поверхности. Так, побеждая вес, человек сотворил и звук Л — модель победы над весом.
В момент слияния чувств мы увидим, что время и пространство не есть нечто разрозненное. Невидимое станет видимым, а немое пространство станет слышимым. Тогда и камни заговорят, зажурчат, как река времени, их образовавшая:
«Времыши-камыши
На озере бреге,
Где каменья временем,
Где время каменьем».
Да, текущее время будет выглядеть неподвижным и объемным, как камень. На нем прочтем письмена прошлого и будущего человечества.
Тогда мы сможем входить во время, как ныне входим в комнату. У времени тоже есть объем. Так же, как в бинокль, можно увидеть отдаленные пространства, мы можем заглянуть в отдаленное прошлое и будущее человечества. Когда откроется пространственно-временное зрение, каждый человек увидит себя в прошлом, будущем и настоящем одновременно.
«Звездная азбука» звуков нашего языка будет передана во вселенную, возникнет единое вселенское государство времени. Оно начнется с проникновения в космос:
«Вы видите умный череп вселенной
И темные косы Млечного Пути,
Батыевой дорогой зовут их иногда.
Поставим лестницы
К замку звезд,
Прибьем, как воины, свои щиты...»
Но это произойдет в будущем, а сейчас надо устремить во вселенную лавину звуков, «звездную азбуку», несущую весть миру о нашей цивилизации.
«Мы дикие кони,
Приручите нас:
Мы понесем вас
В другие миры,
Верные дикому
Всаднику
Звука.
Лавой беги, человечество, звуков табун оседлав,
Конницу звука взнуздай!»
Передавая в иные галактики геометрические модели звуков нашего языка, мы передадим всю информацию о нашей вселенной, ибо эти звуки создали мы, в них отпечатался на всех уровнях облик нашего мира.
Ход этих рассуждений глубоко поэтичен, но сегодняшнему читателю далеко не безразличны и мысли Хлебникова о возможностях межкосмических связей, поиски которых ведутся ныне во всех крупных странах, и его попытка создать «звездный язык», над разработкой которого трудятся во' многих космических лабораториях, и, наконец, вполне сбыв-
шееся предсказание поэта о том, что к иным цивилизациям мы направим известные нам геометрические структуры. Так, для трансляции в космос сигналов с Земли была выбрана теорема Пифагора.
Однако не только во вселенной, но даже здесь, на земле, никто не понимает Зангези. Его покидают все, и он шепчет древнеславянское заклинание, глядя вслед улетающей стае богов и птиц:
«Они голубой тихославль,
Они голубой окопад.
Они в никуда улетавль,
Их крылья шумят невпопад...»
«Звездная азбука» звучит в пустоте, ее не хотят понимать, как нередко не хотели понимать самого Хлебникова. А ведь он был не футуристом, а «будетлянином». И действительно, до зримости и осязаемости предвидел будущее.
Многие вдохновенные поэтические пророчества поэта для нас стали бытом. Вот одно из таких предвидений:
«...Радио разослало по своим приборам цветные тени, чтобы сделать всю страну и каждую деревню причастницей выставки художественных холстов далекой столицы... Если раньше радио было мировым слухом, теперь оно глаза, для которых нет расстояния».
Это же цветное телевидение — так предчувствовал его Хлебников. Для нас это что-то давно привычное, а для многих современников поэта — футуристический бред безумца.
Предвидение поэтов — дело вполне обычное, но иногда оно становится до такой степени реально зримым, точным до мельчайших деталей, что хочется говорить о чуде. Строки Хлебникова читаются в архитектуре сегодняшней Москвы:
«Дом-тополь состоял из узкой башни, сверху донизу обвитой кольцами из стеклянных кают. Подъем был в башне, у каждой светелки особый выход в башню, напоминающую высокую колокольню». Разве это не похоже на Останкинскую башню Москвы?!
Идя по Калининскому проспекту к зданию СЭВ, как не вспомнить другой отрывок из Хлебникова: «Порядок развернутой книги; состоит из каменных стен под углом и стеклянных листов комнатной ткани, веером расположенной внутри этих стен». Есть еще у поэта «дом-пленка», «дом-волос», «дом-корабль» — все очертания современной архитектуры. Есть предвидение «искрописьма» — цветовое табло с бегущими «огненными письменами». Это сбывшиеся пророчества.
Как бедны рядом со стихами и творческими замыслами поэта футуристические манифесты, под которыми стоит подпись Хлебникова. Здесь следует ясно осознать, что футуризм давал грубое истолкование хлебниковских идей. Футуристы просто провозгласили самоценность звука как
такового. Хлебников открывал в звуке новую поэтическую семантику.
Удивимся грандиозности поэтической фантазии Хлебникова, космичности его мировоззрения, его способности проникать в тысячелетние слои культуры на поэтичном до интимности уровне детского лепета древнегреческого Эрота и бранчливого урчания Белеса. Удивимся красоте и возвышенности его «звездной азбуки», древнеславянской вязи корней: улетавль, тихославль, окопад... и откажемся, наконец, от футуристических отмычек к его поэзии.
«Мозг людей, — писал поэт в воззвании «Труба Марсиан»,—и поныне скачет на трех ногах». Надо приделать этому «неуклюжему щенку» четвертую лапу — «ось времени».
Конечно, такие пророчества звучали тогда почти в пустоте. Их поэтический .смысл и сегодня понятен лишь тем, кто знаком с теорией относительности Эйнштейна, но не будем забывать, что наступит время, когда с теорией относительности будут знакомы все. Главное сейчас — понять,
что Хлебникову была глубоко чужда бездумная игра словами и звуками. Глубина его замысла была скрыта от большинства современников. Даже Маяковский, видевший в Хлебникове «честнейшего рыцаря поэзии», назвал однажды «сознательным штукарством» его небольшую поэму о Разине — «Перевертень»:
«Кони, топот, инок,
Но не речь, а черен он.
Идем молод, долом меди.
Чин зван мечем навзничь».
Казалось бы, обыкновенный перевертыш, где каждая строка одинаково читается слева направо и справа налево. Но Хлебникову здесь важно передать психологическое ощущение протяженного времени, чтобы внутри каждой строки «Перевертня» читатель разглядел движение от прошлого
к будущему и обратно. То, что для других — лишь формалистическое штукарство, для Хлебникова — поиск новых возможностей в человеческом мировидении.
Вопрос об обратимости времени пока остается открытым. Попытки найти математическое доказательство необратимости времени не привели к желаемым результатам. Гипотеза Хлебникова о возможности двигаться из настоящего в прошлое остается вполне актуальной, хотя и фантастичной.
В поэтическом мире создателя «звездной азбуки» прошлое и будущее — как бы два измерения времени, создающие вместе с настоящим единый трехмерный объем. «Мы тоже сидим в окопе и отвоевываем не клочок пространства, а время». Хлебников считал время четвертой координатой
пространства, не. видимой человеческим глазом и ничем не отличающейся от трех других измерений. Если можно двигаться взад и вперед в пространстве, то почему нельзя так же двигаться во времени?
Поэт с легкостью соединяет несовместимые друг с другом планы пространства и времени. Сквозь камень у Хлебникова пролетает птица, оставив на нем отпечаток своего полета. В очертаниях зверей в зоопарке проступают письмена Корана и древних индуистских текстов. В зверях «погибают неслыханные возможности, как в записанном в часослов «Слове о полку Игореве».
«Слово» прочли впервые в XVIII веке и читают до настоящего дня, но еще не прочитан тайный язык зверей, птиц, рыб, камней, звезд и растений. Ветви деревьев тянутся к поэту и шепчут: «Не надо делений, не надо меток, мы были вами, мы вами будем».
Что-то языческое, древнее проступает в таком поэтическом таинозрении. Здесь действительно все во всем: в очертаниях человеческого лица — звездное небо, в рисунке звездного неба — человеческое лицо. Разин идет со знаменем Лобачевского, и даже утренняя роса на каменном скифском изваянии довершает скульптуру древнего мастера:
«Стоит спокойна и недвижна,
Забытая неведомым отцом,
И на груди ее булыжной
Дрожит роса серебряным сосцом».
Такие метафоры не придумывают — их видят, их прозревают. После Хлебникова трудно иначе видеть росу на каменном изваянии. Кажется, что это не Хлебников создал, а так и задумал мастер.
Хлебников писал о «звездном парусе», эту же мысль в Калуге разрабатывал Циолковский, а сегодня такая возможность рассматривается даже на уровне научно-популярного молодежного журнала. «Представим себе,— пишут два инженера,— что солнечная система накрыта громадным экраном — полусферой, удерживаемой на постоянном расстоянии от солнца и перекрывающей половину его излучения. При этом другая половина излучения, подобно лучам фотонного двигателя, создает тягу, под воздействием которой система экран-солнце начнет ускоряться, увлекая за собой всю солнечную систему» (Боровишки В., Сизенцев Г. К звездам на... солнечной системе.— «Техника — молодежи», 1979, № 12, с. 28).
Вот, оказывается, какой смысл кроется в хлебниковской метафоре:
«Ты прикрепишь к созвездью парус,
Чтобы сильнее и мятежнее
Земля неслась в надмирный ярус,
А птица звезд осталась прежнею...
«Птица звезд» — очертание нашей галактики на небе. С открытием теории относительности поэтическая мечта Хлебникова приобрела очертания научно-фантастической гипотезы. Время замедляется по мере приближения к скорости света. Следовательно, «фотонная ракета», двигаясь с такой скоростью, будет фактически обиталищем людей бессмертных. О «фотонном парусе» поговаривают ныне всерьез. Хлебников мечтал всю галактику превратить в такую «фотонную ракету». Мысль о превращении Земли в движущийся космический корабль была почти тогда же высказана Циолковским. Хлебников говорит о превращении в корабль всей галактики.
Для новых явлений поэт всегда искал и часто находил и новые образы» и новые слова. Эти образы были так же необычны, как зримые очертания будущего мира, открытые в поэзии Хлебникова. Многие его предсказания сбылись, и уже одно это должно заставить сегодняшнего читателя перечитать Хлебникова другими глазами.
В своей стройности пространственно-временной миф поэта охватывает все слои его поэтики — от звука до композиции произведения в целом. Даже хлебниковская метафора прежде всего подчинялась этой закономерности.
Метафора для Хлебникова есть не что иное, как прорыв пространства во время и времени в пространство, то есть умение видеть вещи, застывшие в настоящем, движущиеся в прошлом и будущем, а вещи, движущиеся и разрозненные в пространстве, увидеть объединенными во времени.
В хлебниковской метафоре меньшие предметы часто вмещают в себя большие:
«В этот день голубых медведей,
Пробежавших по тихим ресницам...
На серебряной ложке протянутых глаз
Мне протянуто море и на нем буревестник».
Ложка, глаза, море, ресницы и медведи совмещены по принципу обратной матрешки; малая вмещает в себя большую. Глаза и ложка вмещают в себя море, медведи пробегают по ресницам.
В математических моделях микромира меньшее, вмещающее в себя большее, довольно обычное представление.
В поэзии Хлебникова предметы, люди, государства, народы, травы», цветы, животные, живой и неживой миры только кажутся разрозненными. На самом деле они едины. В прошлом — будущее, в мертвом — живое, в растениях — люди, в малом — большое. Прическа таит в себе оленье стадо:
«О девушка, рада ли,
Что волосы падали
Оленей взбесившимся стадом...»
«Хлебников,— писал Ю. Тынянов,— был новым зрением — новое зрение падает одновременно на все предметы».
В своем словотворчестве Хлебников воскрешает первозданный смысл слова. Соединив «могущество» и «богатырь» в «могатырь», он словно вылепил живую скульптуру былинного богатыря. Соединив слова «мечта» и «ничто» в «мечтоги», поэт обнажил первозданную сущность слова «мечта», где есть и «ничто» и «нечто».
Метафоричное словотворчество Хлебникова опять же непридуманно, органично. Его «нечтоги-мечтоги», «богатыри-могатыри», «негодяи-нехотяи», его журчащие «нетурные зовы», его словотворчество от корня «люб» — неистовое любовное заклинание: «любхо», «любленея», «любвея»...— воспринимаются так, словно это выписки из словаря «Живого великорусского языка». Иногда созданные Хлебниковым поэтические слова слетали со страниц и облекались плотью живой жизни. Так случилось со словом «летчик», сотворенным поэтом от корня «лет». Слово взлетело в небо, облеклось в голубую форму, стало человеком, летящим в небе.
Этому невозможно подражать — это надо чувствовать, чтобы давно знакомые слова звучали в тексте первозданно метафорически.
«Сыновеет ночей синева, веет во все любимое...» Можно ли после этих строк написать «дочереет ночь» или что-то подобное? Это будет грубая копия, посмертная маска с живого лица. В слове «сыновеет» уже заключены два последующих слова: синь и веет. Слово вылетает из слова, как маленькая матрешка из большой, а из одного слова, как из сказочного клубка, разматывается волшебная строка. Как в причудливом орнаменте, из птичьего клюва выходит зверь, а из пасти зверя вылетает птица, так у Хлебникова слово порождает другое слово и поглощается им. Все во
всем.
Идее «все во всем» в поэзии Хлебникова дана соответствующая ритмическая основа. Размеры его поэтических произведений — сознательное смешение музыкальных ритмов Пушкина, Державина, разговорной речи, «Слова о полку Игореве», древних заговоров и заклинаний. Ритмические пространственно-временные «сдвиги» — как бы органический пульс мирового пространства-времени, где все вторгается во все самым неожиданным образом.
«Русь зеленая в месяце Ай,
Ой, гори-гори пень.
Хочу девку —
Исповедь пня.,.»
Эта языческая скороговорка древнеславянского праздника, где слышны все интонации от классического стиха в первой строке, славянской скороговорки во второй до пьяного бормотания парня в третьей.
Многообразны ритмы, определяющие движение стихов Хлебникова. В таких его произведениях, как «Дети выдры», «Журавль», «Зангези», они создают ощущение скачков из одной эпохи в другую. Читателя должно трясти на ухабах времени. Поэт передает живой, прерывистый пульс времени с перепадами, перебоями, захватывающими дух у внимательного читателя. Именно прерывистый пульс. Это не случайно. В записных книжках Хлебникова, хранящихся в ЦГАЛИ, задолго до квантовой механики высказывается мысль о прерывной структуре времени и пространства. Привожу эти записи в моей расшифровке (сохраняю пунктуацию оригинала):
«Молчаливо допущено, что пространство и время непрерывные величины (бездырно) не имеют строения сетей.
Я делаю допущения, что они суть прерывные величины, опровергнуть меня никто не может, так как прорывы ячейки могут быть сделаны менее какой угодно малой величины.
Это [неразборчиво] для общих суждений о природе пространства и о связи величин природы с делом и художественными мелочами.
Измерение одной мирка другой величины».
Мысль о прерывности пространства и времени стала важной особенностью в композиционном построении многих произведений Хлебникова. Знаменитый «сдвиг», широко пропагандировавшийся футуристами как прием, для Хлебникова был явлением гораздо более значительного порядка. Для него это скачок из одного измерения пространства в другое через прерывистый барьер времени. И каждый временной «срез» находит в стихах Хлебникова свое ритмическое выражение.
Как единый залихватский посвист читаются строки;
«Эй, молодчики-купчики,
Ветерок в голове!
В пугачевском тулупчике
Я иду по Москве!..»
И рядом прозрачное, как дыхание, славянское заклинание, сотканное из света и воздуха:
«А я из вздохов дань
Сплетаю в духов день...»
Хлебников может писать плавно и мелодично:
«Ручей, играя пеной, пел,
И в чаще голубь пролетел.
И на земле и в вышине
Творилась слава тишине».
Но:
«На чертеж российских дорог
Дерево осени звонко похоже»,—
а значит, иной, грохочущий ритм:
«Ты город мыслящих печей
И город звукоедов,
Где бревна грохота,
Крыши нежных свистов
И ужин из зару и шума бабочкиных крыл...»
Его стихи сохраняют первозданное значение, из которого возникло само название поэтического жанра: «стихи» — стихия. Неукротимая звуковая стихия хлебниковского стиха переполняет слух, как его зримая метафора переполняет зрение. Ощущение полноты жизни здесь таково, что неопытному слушателю можно захлебнуться звуком и образом. Здесь нужен опытный пловец и опытный кормщик. Об этом говорит сам поэт:
«Еще раз, еще раз
Я для вас
Звезда.
Горе моряку, взявшему
Неверный угол своей ладьи
По звездам:
Он разобьется о камни,
О подводные мели.
Горе и вам, взявшим
Неверный угол сердца ко мне:
Вы разобьетесь о камни...»
«Угол сердца» к поэзии Хлебникова один: его «звездная азбука», его пространственно-временное зрение.
|
|
к.кедров уход льва толстого |
«УХОД» И «ВОСКРЕСЕНИЕ» героев Толстого
(«В мире Толстого». Сборник статей. М., Советский писатель, 1978)
В творчестве Льва Толстого есть немало героев, которые в момент прозрения тайно или явно уходят из привычного, обжитого мира. Это мог быть царь, внезапно прозревший и тайком покидающий роскошный дворец, чтобы уйти в неизвестность («Посмертные записки старца Федора Кузьмича», «Будда»), или блестящий молодой офицер Касатский («Отец Сергий»), или преуспевающий помещик («Записки сумасшедшего»).
Внезапные уходы этих героев как бы проясняют глубинный смысл ухода Нехлюдова в романе «Воскресение». Здесь все намного тоньше и ярче, потому что реально Нехлюдов остается среди людей, от которых ушел. Нет ни подложных трупов, ни тайных ночных исчезновений. Все осуществляется при свете дня, в блеске гостиных, осуществляется бесповоротно и неумолимо. Как бы ни сложилась дальнейшая судьба, Нехлюдову никогда не вернуться на прежнюю проторенную дорогу.
Эти уходы как бы незримо связаны с последним уходом Толстого из Ясной Поляны. Федор Протасов в «Живом трупе» оставил на берегу одежду, чтобы близкие считали его погибшим. Толстой хотел умереть для близких и для всего мира. Он как бы «оставил на берегу» не одежду, а свое тело. Его уход из Ясной Поляны озарен отблеском многих и многих художественных образов. Вряд ли нужно доказывать, что символический смысл ухода глубже, чем простой биографический факт.
Прежде чем осуществиться в биографии и в творчестве Льва Толстого, архетип ухода воплотился во многих творениях русской и мировой литературы. Мы обратимся здесь лишь к тем граням этого образа, которые имеют прямое отношение к творчеству писателя.
Толстой любил легенду об Алексии Божьем человеке. Единственный и нежно любимый сын богатых родителей, он тайно ночью покидает родительский дом и жену. Но этого мало: возвратясь из странствий в нищенском рубище, Алексий живет под родным кровом, кормясь подаянием, и никто из близких не узнает его в новом обличий.
Этот уход даже несколько напоминает ложное самоубийство в «Живом трупе». Оплаканный близкими, Федор Протасов, спившийся полунищий бродяга, стоит под окнами своего дома, видит в них свет домашнего очага. Как близок этот уют, но доступ туда закрыт для него навеки.
Известна невольная жестокость Нехлюдова по отношению к своим близким в момент ухода от окружающих. Конечно, они не могут понять, зачем князю понадобилось идти в Сибирь. Только крестьяне в конце концов почувствовали, что «барин о душе печется». И эта бесхитростная гипотеза убогой деревенской старушки ближе к истине, чем умные аргументы самого Нехлюдова. Близкие не могут понять ухода Нехлюдова. и даже с собственной точки зрения героя его поведение выглядит жестоким по отношению к ним.
Жестокость в момент духовного прозрения героя, в момент ухода характерна для евангельской поэтики, которая играет большую роль в романе «Воскресение». Так же поступают первые апостолы, оставляющие дома и семьи по зову Христа, чтобы пойти за ним. Жестокость по отношению к родным неизбежно сопутствует такому уходу.
Нехлюдов смотрит на свою мать как на великую грешницу. В его отношении к семье нет даже намека на родственную близость. Христос называет свою мать словом «женщина». «Что ты от меня хочешь, женщина?» «Что мне в тебе женщина?» Даже в свои смертный час он, распятый на кресте говорит матери о своем любимом ученике Иоанне: «Женщина, вот сын твой». Таково же отношение Христа к родным братьям: «Кто матерь моя и братья мои?»
Девятнадцатый век хорошо знал легенду о страннике покидающем родной дом и близких, чтобы ступить на путь иной более возвышенной жизни. Вспомним «Странника» Пушкина.
«Побег мой произвел в семье моей тревогу
И дети и жена кричали мне с порога,
Чтоб воротился я скорее...»
Но не могут эти крики остановить странника, как не могли они остановить уход Толстого из Ясной Поляны. Д. Благой в статье «Джон Беньян, Пушкин и Лев Толстой» справедливо рассматривает «Странника» А С Пушкина как программу будущего ухода Толстого: «...отказ от дома, семьи от всех прежних условии существования – опять-таки полностью реализовал Лев Толстой в героическом финале своего собственного жизненного пути – уходе-«побеге» из Ясной Поляны».
Странник покидает свой дом, «как раб, смысливший отчаянный побег». Так внезапно уходит герой неоконченных «Записок сумасшедшего», покидая привычный уклад жизни родных и близких. Так сам Толстой покидает Ясную Поляну продолжив финалом своей жизни неоконченную повесть С этим наблюдением над текстом «Странника» Пушкина и текстом «Записок сумасшедшего» нельзя не согласиться.
Более широкое понимание образа ухода в творчестве Льва Толстого, включающее не только неоконченные «Записки сумасшедшего» и «Посмертные записки старца Федора Кузьмича», но и все наиболее значительные произведения писателя. Ведь уход характерен для Толстого и его героев в разные периоды, на разных этапах жизни и творческой биографии. В этом смысле текст «Странника» неисчерпаем для аналогий с жизнью и творчеством Л. Толстого.
«Однажды странствуя среди долины дикой,
Незапно был объят я скорбию великой
И тяжким бременем подавлея и согбен,
Как тот, кто на суде в убийстве уличен.
Потупя голову, в тоске ломая руки,
Я в воплях изливал души пронзенной муки...»
Надо ли говорить, насколько это душевное состояние странника напоминает то, что происходит в душе Нехлюдова и в душе самого Толстого в момент осознания своей социальной вины перед ближними.
«Как тот, кто на суде в убийстве уличен», страдает Нехлюдов, ибо он уличен действительно «на суде», где судят не его, а жертву его морального преступления. Результат суда известен: Нехлюдов покидает привычный уклад своей жизни, родных и близких, следует в Сибирь за Катюшей Масловой. Однако Нехлюдовым лишь завершается цепь цивилизованных странников русской литературы от пушкинского Алеко до Оленина Толстого.
Покидает привычный образ светского бытия и бежит от «растленной цивилизации» Оленин. О таком типе русского скитальца и странника говорил Ф. М. Достоевский в речи о Пушкине: «В Алеко Пушкин уже отыскал и гениально отметил того несчастного скитальца... столь исторически необходимо явившегося в оторванном от народа обществе нашем... Тип этот верный и схвачен безошибочно, тип постоянный и надолго у нас, в нашей русской земле поселившийся. Эти русские бездомные скитальцы продолжают и до сих пор свое скитальчество, и еще долго, кажется, не исчезнут».
В чем действительно прав Достоевский, так это в том, что странники и скитальцы русской литературы пришли вовсе не от Байрона и, пожалуй, скажем, не от Беньяна, а глубоко уходят корнями в русскую национальную почву. Достоевскому кажется, что такое скитальчество есть результат оторванности от народа. Но как раз русский народ любовно создавал и вынашивал в своем сердце образ бродячего странника. «Странник» Пушкина, созданный по мотивам религиозного романа английского проповедника Беньяна, мог иметь и другую литературную родословную. Пущин с удивлением увидел на столе Пушкина в Михайловском Четьи-Минеи – жития святых…
Герой, покидающий семью, чтобы ступить на путь истинной жизни, существовал в древнерусской житийной литературе. Духовный стих об Алексии Божьем человеке распевали по всей Руси. и, в частности, он записан композитом Лядовым в Рязанской губернии в конце XIX века:
«У великого князя Верфильяма
У него детища не едина,
Он ходил в собор богу молиться,
Он молился богу со слезами...»
Казалось бы, какое дело русскому человеку до византийского князя, в семье которого родился Алексий Божий человек. Но распевали эту песню старцы и калики перехожие сами подобные легендарному Алексию, окинувшие родимый кров, дабы ступить на путь высшего служения – странничества юродства.
Со странничеством безуспешно боролись «мирские власти» жесточайшими указами со времен Петра I. Как бесприютный бродяга схвачен и отправлен в Сибирь отец Сергий Толстого. Нехлюдов встречает странника-старца на переправе, беседует с ним, а потом беседа продолжается в тюрьме, где по одну сторону решетки стоит цивилизованный странник Нехлюдов в европейском костюме, а по другую – бродяга в одежде странника, подобной той, какую наденет Лев Толстой в момент ухода из Ясной Поляны.
В «Посмертных записках старца Федора Кузьмича» царь, извечный гонитель и преследователь бродяг и скитальцев, сам надевает одежду странника, тайно покидая дворец. Легенда об Александре I создана не только Толстым, но прежде всего народом, в чьем сознании царь и гонимый странник-юродивый связывались каким-то непостижимым образом.
Эту фольклорную историческую связь отразил еще Пушкин в «Борисе Годунове». Но идиллические отношения между двумя противоположностями продолжались недолго Если Борис принимает обвинения, брошенные ему народным пророком, со смиренной просьбой: «Молись за меня. Юродивый», то Петр I приказывал хватать «ненужных людишек». Глазами Петровской эпохи смотрит на юродивого Гришу отец Николеньки Иртеньева, видя в нем лишь хитрого обманщика. Но мать Николеньки смотрит на юродивого по-другому: трудно поверить, что человек, идущий босиком по морозу и носящий тяжкие вериги, отвергающий все земные блага, делает это из простого обмана.
Сейчас важно отметить, что XIX век далеко не сразу открыл для себя странника в рубище, а поначалу смотрел на него свысока, как отец Николеньки Иртеньева. Странника в рубище считали либо мошенником, либо непросвещенным бродягой. Примечательно, что и пушкинский странник — странник цивилизованный.
Мудрое безумие юродивого — это в высшей степени знаменательное переодевание — проводит резко очерченную грань между странником в европейском костюме (Алеко, Печорин, Оленин, Нехлюдов) и странником в рубище (некрасовский дядя Влас, Федор Кузьмич и отец Сергий Толстого). Скрещиваются ли пути этих странников и скитальцев и каков их путь, мы увидим в дальнейшем.
Такой странник и скиталец переживает в XIX веке жесточайший кризис. О его душевном разладе говорит в конце столетия Достоевский: «Смирись, гордый человек». И в этих словах кроется глубокая истина. Все есть в душе цивилизованного странника, нет в нем только смирения. «Смирись, гордый человек» — это лишь перефразировка слов пушкинского цыгана, обращенных к Алеко: «Оставь нас, гордый человек!»
Чем же он горд, этот человек, покинувший все привычные житейские блага во имя высшей открывшейся ему истины? Он горд своей пророческой родословной. Д. Благой совершенно справедливо замечает, что «Странник» удивительно похож на первую редакцию пушкинского «Пророка». Да и в окончательном варианте сходство слишком явное. И там и здесь в пустынной местности происходит внезапное прозрение. В одном случае слепые очи разверзает «шестикрылый серафим», в другом — встречный юноша, читающий книгу.
Нам представляется, что это сходство только подчеркивает принципиальную оппозицию странника и пророка. Иначе зачем Пушкину спустя десятилетие после «Пророка» понадобилось вернуться к той же теме и создать «Странника». XIX век хорошо понял «Пророка» и совсем не понял «Странника». Неизвестно даже, читал ли Лев Толстой это стихотворение, хотя его уход из Ясной Поляны и все его творчество пророчески предсказаны в этом стихотворении. Непонимание сопровождало не только уход пушкинского странника, но и сам предсмертный уход Льва Толстого:
«Кто поносил меня, кто на смех подымал,
Кто силой воротить соседям предлагал;
Иные уж за мной гнались; но я тем боле
Спешил перебежать городовое поле,
Дабы скорей узреть — оставя те места,
Спасенья верный путь и тесные врата».
Не забудем слова Толстого, произнесенные, по свидетельству сына писателя, незадолго до смерти «громко, убежденным голосом, приподнявшись па кровати: «Сдирать надо, удирать».
Оппозиция странника и пророка здесь очевидна: пророк идет из пустыни в город «глаголом жечь сердца людей» а навстречу ему — из города в пустыню — движется понурый странник, преследуемый насмешками и каменьями Глядя на странника, пророк может узреть свое будущее. Об этом ясно сказал Лермонтов в своем «Пророке», прямо полемизирующем с «Пророком» Пушкина.
Покидая город, пророк Лермонтова идет по стопам пушкинского странника:
«Посыпал пеплом я главу,
Из городов бежал я нищий,
И вот в пустыне я живу,
Как птицы, даром божьей пищи...»
«Как нищий», бежит Сергий — Касатский, старец Федор Кузьмич — Александр I, с нищими уходит герой «Записок сумасшедшего». В статье «Так что же нам делать?» Толстой рассказывает, с чего началось его личное просветление. Писатель увидел нищего, которого городовой забирал в участок Толстой следует за ними, а далее лавиной разворачивается цепь событий, заканчивающихся появлением нового учения Толстого.
Пророк Лермонтова и странник Пушкина избирают пустыню. Как его герой отец Сергий, Толстой отверг пустынное затворничество. Отверг он и гордое одиночество пророка среди люден. Для Толстого не так уж несправедливы упреки, которые толпа обращает к пророку Лермонтова;
«Он горд был, не ужился с нами:
Глупец, хотел уверить нас,
Что бог гласит его устами!»
Вспомним страшную космическую пустыню, окружающую пророка или поэта в XIX веке: «Сквозь туман кремнистый путь блестит; / Ночь тиха. Пустыня внемлет богу». «Христос в пустыне» Крамского дает нам зримый ландшафт такого гордого одиночества. Откуда появилась эта «пустыня» среди русских лесов и полей?
Странник Пушкина покидает город. Его путь — безлюдная каменистая пустыня. Туда, по его стопам, отправятся многие странники русской и европейской культуры. Следом за ним пойдет пророк Лермонтова. «Христос в пустыне» станет классическим художественным сюжетом. Пророк, отвергнутый и гонимый, настолько окружен ореолом мученичества и святости, что долгое время мы не задавали себе вопрос, что же открылось ему в момент прозрения.
Конечно же, истина, истина, ради которой пророк готов принять мученический венец и каменья. Эта искренняя самоотверженность пророка создала ему ореол и непререкаемый авторитет. Но непререкаемый авторитет — это уже диктаторство. Гонимый пророк невольно становится духовным диктатором. Это раньше многих понял Толстой и своим уходом максимально противодействовал такому финалу. Своим последним уходом из Ясной Поляны, своим неистребимым желанием раствориться среди людей, уйти от известности как отец Сергий, как Александр I — Федор Кузьмич, Толстой доказал, что ему ближе не диктаторское пророческое сознание, а полифоническое сознание странника.
Конечно, термин «пророческое сознание» мы здесь употребляем не в обычном положительном, житейском смысле этого слова. Речь идет о кризисе пророческого сознания, который ясно виден уже в «Пророке» Лермонтова. Достоевский в бескорыстном и вдохновенном пророке сумел уже разглядеть Раскольникова. Гоголь, почувствовав себя пророком, завершает творческий путь домашним аутодафе — сожжением второго тома поэмы «Мертвые души». Кто усомнится в искренности и глубине просветления, которое испытал Гоголь?
Прежде чем прийти к своему страннику Сергию и страннику Нехлюдову, Толстой, как и Пушкин, несомненно прошел через стадию пророческого восторга. Этот восторг иллюзорного тотального всеведения и прозрения пережили едва ли не все герои Толстого. Пьянящее ощущение всеведения переживает и пророк Пушкина:
«И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье».
Конечно, такой пророк с открытым слухом и зрением для людей еще не страшен. Для него нет праведника и грешника, ему понятен и «горний ангелов полет», и «дольней лозы прозябанье».
Если мы обратимся к одному из первых воскресений героев Толстого, мы увидим, что «горний ангелов полет» окончательно вытеснен прозябанием «дольней лозы». Оленин припадает к земле и чувствует себя то комаром, то оленем, но не ангелом. В отличие от пушкинского пророка Оленин воскресает не среди пустыни, а среди леса, хотя состояние, предшествующее воскресению,— «как труп, в пустыне я лежал» — чрезвычайно напоминает ощущение Оленина перед воскресением.
Вот так же лежит на поле Аустерлица раненый Андрей Болконский, но взор его как раз устремлен к горним высям. Ничего нет вокруг, кроме бесконечного голубого неба. Человеческое «прозябание» кажется мелочным и ничтожным. Пушкинской гармонии между «горним» и «дольним» миром уже нет. Когда второй раз, уже смертельно раненный под Бородином, князь Андрей почувствовал «чистую, божескую» любовь к Наташе и ко всем людям, он уже был там, в бесконечном голубом небе, бесконечно далеко от мира, который так им любим в эту минуту. Наташа видит только предсмертную агонию.
Толстой подчеркивает чувство полного безразличия к миру людей, сопровождающее оба просветления Болконского. Больше того, в разговоре с Пьером перед Бородинским сражением в речи Болконского слышится явное ожесточение «отвергнутого пророка». Обычно стыдливо умалчивают, что благородный князь Андрей призывает убивать пленных. Между тем такие крайности падений и просветлений сплошь и рядом находятся в «гармоническом» сплетении.
Вспомним, как возвышенно просветление Нехлюдова во время пасхальной ночи, как светла и бескорыстна его любовь к Катюше.
«В любви между мужчиной и женщиной бывает всегда одна минута, когда эта любовь доходит до своего зенита, когда нет в ней ничего сознательного, рассудочного и нет ничего чувственного. Такой минутой была для Нехлюдова эта ночь Светло-Христова Воскресения...»
Когда Катюша целует нищего со словами «Христос воскресе», Нехлюдов пробуждается от «сумасшествия эгоизма» и ощущает, что в нем воскресло чувство любви ко всем людям. Он знает, что в ней была та же любовь. Сама пасхальная служба стала символом таинственного мира любви и воскресения.
Такой же восторг ощущает в момент своего первого просветления герой «Записок сумасшедшего». Весь мир, спаянный цепью общей любви, слился воедино:
«...Я люблю няню, няня любит меня и Митиньку, а я люблю Митнньку. а Митинька любит меня и няню. А няню любит Тарас, а я люблю Тараса, и Митинька любит. А Тарас любит меня и няню. А мама любит меня и няню, а няня любит маму, и меня, и папу, и все любят, и всем хорошо».
Но прозрение оказалось таким же хрупким, как и просветление Нехлюдова: «Вбегает экономка и с сердцем кричит что-то об сахарнице, и няня с сердцем говорит, что она не брала ее». И герою становится «больно, и страшно, и непонятно». Его охватывает «холодный ужас». Ужасом нравственного падения человека сменяется просветленное состояние героя и определяет его дальнейшую жизнь на долгие годы.
Цепь таких падений и просветлений заполняет в дальнейшем всю жизнь Нехлюдова:
«Так он очищался и пробуждался несколько раз: так это было с ним в первый раз, когда он приехал на лето к тетушкам. Это было самое живое, восторженное пробуждение. И последствия его продолжались долго. Потом такое же пробуждение было, когда он бросил статскую службу и, желая жертвовать жизнью, поступил во время войны в военную службу. Но тут засорение произошло очень скоро. Потом было пробуждение, когда он вышел в отставку и, уехав за границу, стал заниматься живописью».
Трудно не узнать здесь падений и пробуждений Болконского, Безухова, Левина и самого Толстого.
Толстой называет просветление «пробуждением». В «Записках сумасшедшего» это же состояние писатель называет «припадком»: «До тридцати пяти лет я жил, как все, и ничего за мной заметно не было. Нешто только в первом детстве до десяти лет было со мной что-то похожее на теперешнее состояние, но и то только припадками, а не так, как теперь, постоянно».
Вот оно — главное отличие просветления пророка от воскресения странника. Воскресение необратимо и постоянно.
Учение о внезапном возрождении человека в зрелые годы исподволь появлялось литературе первой половины XIX века. Внезапное озарение пушкинского пророка и странника было художественной прелюдией к духовному перелому в жизни и творчестве Гоголя. Но у пророка и странника разные судьбы. Пророк исполнен чувством собственной правоты. Он идет к людям из пустыни, готовый претерпеть любые страдания ради открывшейся ему истины. Между тем навстречу ему движется понурый странник, отягощенный бременем собственного несовершенства. Пророк идет учить, странник идет учиться. Пророк обличает – странник кается. Для пророка все несомненно, странник сомневается во всем и, прежде всего, в самом себе.
Странник подавлен бременем своих прегрешений, ему открылась греховность мира, но для него это несовершенство лишь зеркальное отражение его собственных душевных язв.
«Я свят а мир лежит во зле». Так думал вначале спасающийся в обители отец Сергий, но когда пелена заблуждений спала с его глаз, не остается и следа от прежней самоуверенности. Бывший святой видит себя величайшим грешником.
Иначе чувствует себя пророк. Ему открылись греховные язвы мира. Он знает, как спасти мир. Дело за немногим – поведать истину людям, и они будут спасены и раскаются. Мир ждет только решающего «глагола», чтобы воскреснуть и возродиться.
Так думает пророк Пушкина, так думает Андрей Болконский перед Аустерлицкой битвой и в приемной Сперанского. В первом случае в руках у него знамя – он подхватит его, выйдет вперед, и решится судьба сражения. В другом случае в руках – бумажный проект о переустройстве дел в России. И то и другое кончается поражением и разочарованием. Вот тут-то и возникает соблазн пророка – уйти в себя, обидеться на весь мир за то, что он с трепетным благоговением не внимает его голосу. Возникает чувство горечи и душевного смятения, которое так хорошо передано в стихотворении Пушкина:
«Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя —
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их нужно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич».
Как бы отвечая Пушкину, Некрасов впервые высказывает мысль, что дело, может быть, и не в жестоковыйности слушателей, а в самом пророке:
«Сеятель знанья на ниву народную!
Почву ты, что ли, находишь бесплодную,
Худы ль твои семена?
Робок ли сердцем ты? слаб ли ты силами?..» —
хотя стихотворение и заканчивается ободряющим:
«Сейте разумное, доброе, вечное,
Сейте! Спасибо вам скажет сердечное
Русский парод...»
Одиночество пророка в своем отечестве оставалось. Здесь-то, на распутье, у пророка и возникает соблазн ухода. Но уход пророка во многом отличен от ухода странника. Ушел в свое имение, заперся в нем, как в крепости, отец Андрея Болконского. Человечество его не поняло, — пусть же оно страдает, пусть ему будет хуже. Как в крепости, прячется в своем имении и Левин, лишь изредка, по необходимости появляясь среди городской сутолоки,
Как велика бескорыстная нравственная чистота и самоотверженность этих людей. Ведь они в затворничестве вынашивают великие планы, трудятся самоотверженно и талантливо. Старик Болконский пишет историю войн. Левин неустанно ищет справедливые методы хозяйствования. Далеко не безразлична пророку судьба покинутого им мира. Старый воин Болконский умирает от горя, когда до него доходят вести о поражениях русской армии. Но в этом гордом затворничестве исподволь выявляется другая черта пророка-диктатора. Как мучает своих близких старый Болконский! Разбивает брак сына, собственную дочь почти насильно отрывает от всего внешнего мира.
Конечно, герои Толстого никогда не переступят ту грань, за которую зашел Родион Раскольников в своем чердачном затворничестве. Пророк с топором в руках — это уже как бы доведение до абсурда самой идеи пророчества, но все же нельзя забывать, что Раскольников вспоминает пушкинского пророка из «Подражаний Корану». Правда, перетолковывает Раскольников это стихотворение по-своему. У Пушкина звучат вдохновенные строки: «...и мой Коран дрожащей твари проповедуй». У Раскольникова – «повинуйся, тварь дрожащая!». «Я хотел узнать, тварь я дрожащая или право имею» – объясняет он Соне мотив своего двойного убийства.
И все-таки в этом чудовищном извращении идеи пророчества есть нечто, говорящее о диктаторской сущности пророческого сознания. При всем своем бескорыстии пророк слишком уверен, что только ему открыта истина, что другие, несогласные с ним, должны быть уничтожены если не физически, то морально. Многое связывает странника и пророка, и лишь это главное, разделяет. Пройдя искус пророчества, герои Толстого, как правило, совершают второй уход. Теперь они уходят не от людей, а к людям: бежит из своей монашеской кельи отец Сергии, уходит прямо с церковной паперти в момент про зрения герои «Записок сумасшедшего», идет на Бородинское поле из духовного затворничества масонской ложи Пьер Безухов. Нехлюдов, пройдя через стадию пророческого умиления собственной святостью, в момент раскаяния вдруг осознает, что и это раскаяние и слезы — постыдны, что он не Христос, открывающий глаза блуднице Масловой, а величайший грешник. Странник Сергий в одежде крестьянина и Нехлюдов в цивилизованном одеянии следуют в Сибирь, как великие грешники, которые должны пройти по пути страданий, давно проложенному другими людьми.
В тюрьме и в Сибири Нехлюдов встречает людей чья пророческая самоотверженность и бескорыстие безграничны. Но странники и пророки, даже будучи в одной темнице, ощущают мир по-разному. Воплощением пророческого сознания для Нехлюдова стал Симонсон — наиболее яркий среди пророков. Симонсона по недоразумению считают революционером, но это неверно. Увлечение народничеством давно прошло. В Сибири он составил себе «религиозное учение», которое и определяло всю его жизнь.
Новое мировоззрение Симонсона Толстой называет «религиозным учением». Согласно этому учению, вся вселенная рассматривается как единое живое существо. Роль человека внутри этого существа сводится к поддержанию этой высшей биолого-космической жизни. Сначала Толстой указывает на сходство между Симонсоном и Нехлюдовым, между пророческим и странническим сознанием. Симонсон живет по нравственным законам, которые исповедуют и Толстой и Нехлюдов: он считал преступлением «уничтожать живое», был против войн, казней и «всякого убийства, не только людей, но и животных». Как и Нехлюдов, Симонсон круто изменил свой образ жизни, «хотя прежде, юношей, предавался разврату». Что же разделяет его и Нехлюдова при всем внешнем сходстве их духовной эволюции? Для Симонсона мир лишен тайны. У него на все практические дела были свои теории и правила, он и печи топил «по своей собственной теории». Нехлюдов далек от гордой рациональной самоуверенности. Это особенно ясно чувствуется в последней главе романа, где Толстой стремится привести своего героя к окончательной истине. Нехлюдов читает Евангелие: «И кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской».
«К чему тут: кто примет и куда примет? и что значит во имя мое?» — спросил он себя, чувствуя, что слова эти ничего не говорят ему. И к чему жернов на шею и пучина морская? Нет, это что-то не то: неточно, неясно...»
Нехлюдов боится, что метафора будет истолкована буквально — «жернов на шею» всякому, кто мыслит иначе. Его воскресение оставляет мозг и сердце открытыми. Уход Нехлюдова оказался возвращением к миру людей, обладающих тем знанием, которым сам он не обладает. Это антипророческое сознание мы могли бы назвать сознанием «ухода», но поскольку это уход не от людей, а к людям, правильнее было бы назвать его «сознанием возвращения». Это возвращение пророка-странника из пустыни, куда он направился еще в первой трети XIX века.
Теперь представим себе, что стало бы с этим странником, если бы, подобно Нехлюдову, на тернистом пути в Сибирь он встретил бы «пророка», и не одного, но множество «пророков», твердо уверенных в том, что их истина — единственно правильная. Нечто подобное увидел в страшном горячечном сне Родион Раскольников. Каждый считал, что в нем одном истина. Зараженные каким-то странным микробом, люди во имя утверждения всеобщего блага доходят до людоедства, пожирая друг друга, но никогда они не считали себя «такими умными и непоколебимыми в истине... Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований».
В отличие от Нехлюдова Симонсон твердо уверен в непоколебимости «своих приговоров, своих научных выводов своих нравственных убеждений и верований». Навсегда отказался от этой категоричности Нехлюдов. Симонсон подчиняет свою жизнь «высшей», «космической» истине. Пророк всегда уверен, что слышит голос свыше. В одних случаях этот голос действительно открытие, в других — это адское заблуждение Раскольникова. Суть не в этом. Главное, что и в том и в другом случае пророк навязывает свою истину миру. Пророк идет к миру с готовой истиной, безмерно богатый, готовый поделиться ею с каждым прохожим. Какова же его обида, когда мир не принимает его истину, но называет его корыстным гордецом и безумцем. Странник идет к миру за истиной, «нищий духом», со смиренно протянутой рукой, как отец Сергий смиренно принимает подаяние из рук светской компании.
Духовное возрождение героев Толстого обычно проходит через две стадии. Сначала, возродившись, герой чувствует себя пророком, но вскоре, пройдя сквозь пучину прозрений и заблуждений, он становится смиренным странником, бредущим навстречу людям. Пророк Пушкина в момент прозрения видит таинственную жизнь мира, скрытую до этого непрозрачной оболочкой. Пророку Лермонтова уже открыто другое: «В очах людей читаю я / Страницы злобы и порока».
Совсем иначе прозревает странник. Когда спадают внешние оболочки и обнажается безобразный облик мира, он видит в этом прежде всего отражение своей души. Сквозь парчовые одежды проступают очертания дряблого тела, а сквозь тело — его распадающийся скелет.
Таким «обнажающим» взором наделил Толстой тридцатилетнего Нехлюдова. Во время светского раута в доме парализованной княгини Софьи Васильевны находятся двое мужчин — Колосов и Нехлюдов. В этот момент Софья Васильевна вызывает лакея Филиппа.
«Рядом с силачом, красавцем Филиппом, которого он вообразил себе натурщиком, он представил себе Колосова нагим, с его животом в виде арбуза, плешивой головой и безмускульными, как плети руками».
Кажется, что перед нами ожил один из леонардовских набросков. Беспощадный обнажающий взор Нехлюдова ведет его еще дальше, заставляя открывать старческую плоть парализованной княгини:
«Так же смутно представлялись ему и закрытые теперь шелком и бархатом плечи Софьи Васильевны, какими они должны быть в действительности, но представление это было слишком страшно, и он постарался отогнать его».
Колосов и Софья Васильевна противны Нехлюдову своим равнодушием и лицемерием, полным безразличием ко всему, что происходит за пределами их разрушающейся плоти. Но, придя домой, Нехлюдов останавливается у портрета собственной матери. Праздничная красивость этого портрета почти утрирована: здесь и черное бархатное платье, и обнаженная грудь, и «ослепительные по красоте плечи...». Но, обнажая натуру, художник словно маскирует ее внутреннюю суть.
Леонардовская кисть Толстого уже наготове. Нехлюдов вспоминает, как «в этой же комнате три месяца тому назад лежала та же женщина, ссохшаяся, как мумия, и все-таки наполнявшая мучительно тяжелым запахом, который ничем нельзя было заглушить... весь дом... Ему казалось, что он и теперь слышал этот запах...».
Нехлюдов даже в мыслях своих называет свою мать просто «женщиной». Это прямо сближает его образ с образом евангельского Христа, который так же называет свою мать.
Нехлюдов вспоминает, как за день до смерти она взяла его сильную белую руку своей костлявой чернеющей рукой, посмотрела ему в глаза и сказала: «Не суди меня, Митя, если я не то сделала», и на выцветших от страданий глазах выступили слезы».
Два портрета: на одном мраморные плечи, на другом — иссохшая плоть, на одном лицо с «победоносной улыбкой», на другом глаза, «выцветшие от страданий». Таков по-леонардовски беспощадный взгляд Толстого, срывающий красивую маску, обнажающий «безобразную» плоть, в которой скрыт незримый облик человеческой души, возвышенной страданием и раскаянием. Прекрасный, но бездушный образ, запечатленный художником, становится зримой телесной оболочкой, которую душа сбрасывает в момент своего просветления и раскаяния. Душа остается в том облачении, которое теперь наиболее полно соответствует ее прожитой жизни,— плоть, источающая дурной запах, но этот образ теперь больше говорит душе Нехлюдова, чем изображение на портрете, так же как лохмотья нищих крестьян и арестантские одеяния кажутся ему более естественной одеждой, чем светские наряды Миссн и ее окружения. Перед уходом из этого мира человек сбрасывает блестящую оболочку, которая уже не в силах ничего скрыть.
В «Посмертных записках старца Федора Кузьмича» это «раздевание» мира перед уходом и после него выглядит особенно ярко.
Детство Федора Кузьмича — Александра I совпадает с блистательным веком бабушки — Екатерины II. Образ императрицы запечатлен во множестве портретов самыми замечательными художниками и слишком хорошо знаком любому читателю, чтобы останавливаться здесь на описании кружев и драгоценностей, оттеняющих величественный облик властительницы в орденской ленте, со скипетром и державой. Как же вспоминается она Александру I — Федору Кузьмичу?
Самое главное, что остается в его памяти,— отталкивающий дурной запах, «который, несмотря на духи, всегда стоял около нее; особенно, когда она меня брала на колени».
Духи, которые не могут скрыть дурной запах,— символ незримой оболочки фальши и лжи, окутывающей императрицу Екатерину. Для Федора Кузьмича уже нет этих оболочек. Он видит императрицу в ужасающих подробностях стареющей плоти, обремененной грузом ежедневной придворной фальши. Руки, на портретах величественно сжимающие скипетр, совсем иначе вспоминаются Федору Кузьмичу. Он видит их чистыми, желтоватыми, сморщенными, с пальцами, загибающимися внутрь, и далеко, неестественно оттянутыми ногтями.
Почти до скелета, до улыбающегося черепа обнажается облик царственной плоти: «Глаза у нее были мутные, усталые, почти мертвые, что вместе с улыбающимся беззубым ртом производило тяжелое... впечатление». Рядом с этим образом, как бы для контраста, дан внешний вид любовника Екатерины Ланского с его затянутыми в лосины ляжками, беззаботной улыбкой и бриллиантами.
Не только Федор Кузьмич, все герои Толстого перед уходом, в момент просветления, сквозь блестящую оболочку жизни видят безобразное лицо смерти.
Едва ли не все они прошли через эти стадии жизни: очарование внешнего блеска, внезапного прозрения и ужаса смерти в момент спадания маски, ухода в иную жизнь с иными ценностями. Однако соотношение этих трех стадий различно на разных этапах творчества Льва Толстого.
Наташа Ростова в ослепительном бальном платье, и она же в финале романа с детскими пеленками в руках — это не только два разных облика, но и две разные ступени духовного восхождения человека.
Пьер Безухов в период беззаботных гусарских кутежей, и он же в плену в дощатом деревянном сарае, в рубище простого крестьянина. Интересно, что даже в прямом смысле двум различным стадиям жизни героев соответствуют разные одеяния. «Переодевание» Наташи, как и «переодевание» Пьера, соответствует переодеванию жизни перед глазами героев. Так переодевается позднее Александр I в одежду старца, а отец Сергий в одежду странника. Жизнь сначала предстает перед ними в блистательных бальных, почти карнавальных одеждах, затем наступает момент снятия маски, под которой оказывается лицо смерти, а затем, вглядываясь в это лицо, старческое, мертвое или искаженное страданием, герой проникается состраданием, и тогда происходит прозрение «после бала», узнавание подлинной жизни в страдании и любовь к ней.
Пьер полюбил Наташу не в тот момент, когда ее лицо светилось отблеском бала, а в то время, когда оно было залито слезами раскаяния. Нехлюдов узнает в опухшем бледном лице арестантки милый, очаровательный облик Катюши Масловой, но он так бы и не «узнал» ее, если бы не это рубище, если бы не эта маска равнодушия и цинизма, скрывающая подлинное лицо.
Пророк после просветления испытывает радость — странник плачет, рыдает, видя открывшиеся ему язвы мира.
«О горе, горе нам! Вы, дети, ты, жена! —
Сказал я,— ведайте: моя душа полна
Тоской и ужасом; мучительное бремя
Тягчит меня...»
...Но я, не внемля им,
Все плакал и вздыхал, унынием тесним».
Эти слезы странника в момент прозрения были слышны и в словах Толстого, предшествующих его уходу из Ясной Поляны:
«В тот же вечер, когда я вернулся из Ляпинского (ночлежного.— К. К.) дома, я стал рассказывать свое впечатление одному приятелю. Приятель — городской житель — начал говорить мне... что это самое естественное городское явление... что это должно так быть и есть неизбежное условие цивилизации. В Лондоне еще хуже... стало быть, дурного тут ничего нет и недовольным этим быть нельзя. Я стал возражать своему приятелю, но с таким жаром и с такою злобою, что жена прибежала из другой комнаты... Оказалось что я сам, не замечая того, со слезами в голосе кричал и махал руками на своего приятеля. Я кричал: «так нельзя жить, нельзя так жить, нельзя!»
Именно так, со слезами в голосе, как пушкинский странник, пытался Толстой убедить близких, что «так нельзя жить». Очень тонко Толстой проводит грань, отличающую Нехлюдова-пророка от Нехлюдова-странника. Нехлюдов-пророк умилялся и радовался своему раскаянию. У него на глазах тоже слезы, но это слезы умиления, а не ужаса и сострадания: «Да я делаю то, что должно, я каюсь, – подумал Нехлюдов. И только что он подумал это, слезы выступили ему на глаза, подступили к горлу, и он... замолчал, делая усилие, чтобы не разрыдаться... Она стояла неподвижно и не спускала с него своего косого взгляда. Он не мог дальше говорить и отошел от решетки, стараясь удержать колебавшие его грудь рыдания».
Совсем иначе чувствует себя Нехлюдов, когда вдруг с ужасом видит, что Катюши Масловой больше нет есть арестантка Маслова. Катюша «убита» им давно, и ничем нельзя исправить случившееся. Теперь Нехлюдов выходит из тюрьмы, подавленный горем и ужасом. «Так вот оно что» — восклицает он про себя, только теперь сознавая ужас свершившегося. В ушах звучит страшная обличительная фраза арестантки Масловой: «Ты мной в этой жизни услаждался мной же хочешь и на том свете спастись!»
Из вдохновенного спасающего пророка Нехлюдов почти мгновенно превратился в спасающегося странника. Нечто подобное произошло с отцом Сергием. Почитаемый всеми как святой, он внезапно оказывается великим грешником. Сергий раньше совершал многочисленные уходы, но тогда он чувствовал себя не смиренным странником, а пророком, бичующим язвы этого греховного мира. Уход его в монастырь совершается не в результате просветления, а после того, как он узнал что его невеста была любовницей императора.
Второй уход Сергия — из монастыря — связан с обидой на преуспевающего игумена, оскорбляющего его своей бездуховностью. Бегство — уход из затворнической кельи, овеянной славой его святости, — вызвано искушением героя. И только последний, четвертый уход — из дома Пашеньки — вызван истинным просветлением.
Почему преуспевающий офицер Касатский так легко сменил свой мундир на монашескую рясу? Дело в том, что раньше он обожествлял императора, смотрел на него восторженными глазами, как на кумира. Тем легче было сбросить его с пьедестала, когда выяснилось, что он состоит из плоти. Теперь пророком, гордо отринувшим мир, стал сам Сергий. Поднимаясь все выше по ступеням подвижничества, уходя все в большее заточение, Сергий возвысился в глазах людей до святого. Развенчание себя как пророка произошло, когда Сергий с ужасом почувствовал, что и сам состоит из плоти. Именно тогда он видит в вещем сне полуюродивую Пашеньку, над которой все так смеялись в детстве. Пашенька не отличалась особой святостью. Она живет в мире людей, молча сносит попреки пьянствующего зятя, дает уроки музыки, воспитывает детей. Пашенька показала Сергию пример истинной и глубокой святости: «Пашенька именно то, что я должен был быть и чем я не был. Я жил для людей под предлогом бога, она живет для бога, воображая, что она живет для людей. Да, одно доброе дело, чашка воды, поданная без мысли о награде, дороже облагодетельствованных мною людей».
Именно к ней приходит Сергий с раскаянием перед началом своего страннического пути. В ее доме происходит превращение Сергия-«пророка», в Сергия-странника. Здесь воскрес Сергий для иной, страннической жизни.
Воскресение — иная, высшая стадия просветления. Ему всегда предшествует жгучее чувство раскаяния и стыда. Герой «Записок сумасшедшего» хотел продать свое имение подороже и «вдруг устыдился». С этого момента вся жизнь его пошла по-иному.
Устыдился своей прежней жизни Александр I, когда узнал в прогоняемом сквозь строй солдате своего близнеца — себя. Даже скрываясь в Сибири, вдали от мира, он не может вспоминать свою жизнь без жгучего чувства стыда.
Отцу Сергию стало стыдно перед людьми за свою «святость», которая оказалась лишь оборотной стороной гордости. После свершившегося плотского «падения» он тайно, в одежде странника бежит из монастыря.
Стыдно стало Нехлюдову, когда он каялся перед Катюшей в тюрьме и умилялся своим слезам и раскаянию.
Грань стыда очень четко пролегает между просветлением и воскресением. Просветление сопровождается чувством святости и умилением, воскресение связано с чувством вины и раскаяния.
Ощущение вины вышло за пределы внутреннего мира. Нехлюдов ужасается не своему падению, а тому, что он сделал с душой Катюши Масловой. Просветление — это только для себя. Воскресение — только для всех.
После воскресения сразу свершается разрыв с ближними и уход. При всей кажущейся необычности этот поступок многих героев Толстого, как и биографический факт ухода самого Толстого, имеет глубочайшие корни в русской истории и в русской культуре.
Мы знаем, что Толстого в последние годы жизни всерьез считали человеком, потерявшим здравый рассудок. Есть запись в его дневнике, где прямо говорится об этом: «Тяжело, что в числе ее безумных мыслей есть мысль о том, чтобы выставить меня ослабевшим умом и потому сделать недействительным мое завещание, если есть таковое».
Эти обвинения услышал и пушкинский странник:
«Мои домашние в смущение пришли
И здравый ум во мне расстроенным почли...
И наконец они от крика утомились
И от меня, махнув рукою, отступились,
Как от безумного, чья речь и дикий плач
Докучны и кому суровый нужен врач».
Сюжет о мнимом безумии прозревшего человека появляется в незавершенном отрывке Толстого «Записки сумасшедшего». Герой «Записок», как странник Пушкина, как и сам Толстой, кажется окружающим безумным именно потому, что для его взора открылась фальшь повседневной обыденной жизни, построенной на всеобщем обмане. Своим уходом Нехлюдов, отец Сергий, Федор Кузьмич и мнимый сумасшедший отрекаются от рационалистической логики окружающего мира. В этот момент даже близкие считают их безумцами. Но то, что стало считаться сумасшествием в XIX веке, в допетровской Руси было признаком высшей мудрости и святости. Не случайно и странник, и юродивый созданы Пушкиным. Юродство и странничество, всячески преследуемые со времен Петра официальными властями, оставались и в XIX веке скрытой, но понятной простому народу формой протеста против несправедливости.
Аналогию между фольклорным миром юродивого и миром героев Льва Толстого отчетливо видишь, когда обращаешься к образу ухода в его творчестве. На эту мысль невольно наталкиваешься, читая книгу Д. С. Лихачева и А. М. Панченко «Смеховой мир» Древней Руси». Полемизируя с теми, кто считает юродивых просто безумцами, Панченко пишет: «В русской (и не только в русской) истории известно сколько угодно случаев, когда люди здравого ума и твердой памяти покидали семью и благоустроенный домашний очаг — с идеальными целями. Так, между прочим, поступил престарелый Лев Толстой...»
Безумие героя «Записок сумасшедшего» Толстого тоже сродни умному юродству. Юродивый прозрел, и потому для грешников он безумен. Интересно, что даже в пространственном отношении сохраняется эта фольклорная традиция. Юродивый обитает на церковной паперти, причем его отношение к церкви очень двойственно. Во время церковной службы он передразнивает священника, гасит свечи, смущает народ. Оппозиция юродивых к официальной церкви общеизвестна. Именно на церковной паперти происходит прозрение героя «Записок сумасшедшего», который во время церковной службы решает, что «всего этого не должно быть», и уходит с народом. На паперти Нехлюдов целует нищего и Катюшу Маслову, здесь происходит его первое просветление.
Действительно, в последние годы жизни творчество Толстого, сознательно ориентируемое на фольклорное сознание, не могло остаться в стороне от многовековой народной традиции. Федор Кузьмич и Сергий, совершив свой уход, сбросили с себя одежды цивилизации: мундир офицера, мундир царя. Федор Кузьмич переодевается в одежду простого солдата, Сергий — в одежду крестьянина.
Странник в европейском цивилизованном костюме появился сравнительно недавно. Странниками цивилизации называл Достоевский Алеко, Онегина. Такими же добровольными изгнанниками были Печорин, Рудин, Лаврецкий и многие другие герои русской литературы. И вот теперь Александр I в одежде простолюдина, отец Сергий в одеянии нищего.
Замысел ухода возникал у Сергия в монастыре еще до грехопадения и был удивительно похож на уход самого Толстого. «Он приготовил себе мужицкую рубаху, портки, кафтан и шапку». Дальнейшее описание поражает почти детальным совпадением с бегством Толстого из Ясной Поляны: «Сначала он уедет на поезде, проедет триста верст, сойдет и пойдет по деревням».
Мы видим смирение отца Сергия, когда он принимает подаяние от светской компании, беседующей по-французски.
Отца Сергия в одежде простолюдина причислили к бродягам и сослали в Сибирь. Изменился его образ жизни и теперь ничем не отличается от жизни многих и многих простых людей. В Сибири он поселился у богатого мужика, работает у хозяина в огороде, учит детей, ходит за больными. К этому близок и уклад жизни старца Федора Кузьмича, тоже поселившегося у купца. Последний уход отца Сергия был уходом не от людей, а к людям. Аскетические подвиги монашеской жизни померкли перед ежедневным подвигом Пашеньки, денно и нощно хлопочущей о своих внуках и безропотно сносящей прихоти пьющего зятя.
Разница между сознанием пророка и сознанием странника здесь очевидна. Странник-юродивый бредет по миру, спускается в самые низы человеческой жизни и среди грешников видит больше святости, чем среди праведников. Уже не раз отмечалось, что странник-юродивый тяготеет не к церквам, а к кабакам, баням, где обитают «грешники». Нехлюдов чувствует себя совсем иным человеком в так называемом «преступном мире», среди заключенных. Здесь видит он истинные образцы подвижничества и святости и приходит к выводу, что многие из тех, кого общество считает преступниками, на самом деле представляют собой «лучшую часть» этого общества.
Внутренне сблизившись с простым народом, Нехлюдов чувствует себя среди крестьян и заключенных гораздо естественнее, чем в светских гостиных, но не сбрасывает свою внешнюю оболочку, оставаясь в привычном ему европейском костюме. Между тем переодевание перед уходом совершают и Будда, и Александр I, и офицер Касатский. Почему же подобное внешнее превращение не происходит с Нехлюдовым?
Дело в том, что Нехлюдов завершает собою целую галерею «цивилизованных странников» русской литературы от Алеко Пушкина до Оленина Толстого. Странничество — давний и глубинный мотив русской литературы. Чувства «изгнанника» отличаются от чувства странника. Странник в цивилизованном костюме в той или иной мере наделен пророческим сознанием, как Печорин Лермонтова. Он чувствует себя возвышающимся над миром людей, подобно горным вершинам и равнодушным звездам. Цыганский табор, Кавказ, казацкая станица, деревня для них оказывается таким же чуждым пространством, как и город, который они покинули.
Но еще в середине XIX столетия навстречу этим странникам цивилизации потянулась вереница странников в рубище.
«В армяке с открытым воротом,
С обнаженной головой,
Медленно проходит городом
Дядя Влас — старик седой...
Полон скорбью неутешною,
Смуглолиц, высок и прям,
Ходит он стопой неспешною
По селеньям, городам».
В одежду этого странника переодеваются, и не только внешне, герои Толстого. Если в начале XIX столетия Пушкина можно было увидеть на ярмарке в крестьянской одежде, то в конце столетия в той же одежде можно было увидеть Льва Николаевича Толстого.
Отец Сергий схвачен как беспаспортный бродяга и отправлен в Сибирь в одежде простого странника. Нехлюдов встречается с подобным странником на переправе. Переправа в художественном произведении часто рубеж между двумя различными мирами. Видимо, и эта переправа символизирует переход к иной ступени сознания. Между странником и Нехлюдовым происходит в высшей степени знаменательная беседа.
Сначала окружающие выпытывают у старика, какой он веры, почему он не молится. Выясняется, что никакой веры у него нет, что он никому не верит, «окроме себя». Этот ответ взволновал Нехлюдова. «Да как же себе верить?.. Можно ошибиться».
Вопрос этот очень важен. Нехлюдов принимает старца за одного из бесчисленных «пророков». Но оказывается, странник вовсе не обладает такой самоуверенностью. Его символ веры отражает полифоническое сознание: «верь всяк своему духу, и вот будут все соединены». Для него очень важно не принять на себя никакого «звания». Он даже от имени своего отказывается. На вопрос об имени странник отвечает, что ни имени, ни отечества у него нет, ибо он от всего отрекся, он называет себя «человеком». Отказывается он и от обычного понимания пространства и времени, говоря, что годов не считает, что он, человек, «всегда был» и «всегда будет». Отцом своим странник называет бога, а матерью землю. На главный вопрос судейских чиновников — признает ли он царя — странник тоже дает ответ исчерпывающий и в то же время двойственный — «он себе царь, а я себе царь».
Позднее Нехлюдов встречает этого старика в тюрьме. Его речь, его образ мысли отличаются одним свойством, которое характерно для юродствующего сознания. Его ответы всегда многозначительны, всегда оставляют возможность двоякого толкования: один смысл житейский, другой смысл аллегорический, духовный, не выразимый обычной риторикой.
Эта сознательная двусмысленность отражает двойственную позицию юродивого в мире. Юродивый не отшельник, он не уходит от людей, он всегда в людных местах: в кабаках, в банях, на церковной паперти, но одновременно он везде странник в этом мире, ибо он отражает в себе его негативную сторону: зло, несправедливость, ложь, беззаконие. Юродивый добровольно терпит то, что других людей заставляют терпеть насильно, но в этом терпении не смирение, а протест.
Так добровольно принимает на себя участь заключенных странник, встретившийся Нехлюдову на переправе, но и сам Нехлюдов уже разделяет во многом участь арестованных. Добровольно покинув свой благоустроенный светский быт, он следует в Сибирь и уже не отделяет свои интересы и свою участь от участи всех казнимых и угнетаемых.
Оба «странника», и старец, и Нехлюдов, оказались в Сибири добровольно. На Нехлюдове костюм цивилизованного человека. Старик облачен в рубище, его одежда — извечная «форма» юродивого, странника из народа. Пристально всматриваются они друг в друга, узнавая и еще не веря своему узнаванию. На пароме произошла встреча двух странников: идущего к народу и идущего из народа — здесь как бы скрестились две традиции русской истории и русской культуры.
Уход Толстого из Ясной Поляны — последняя редакция многих других уходов. Был уход на Кавказ, воплотившийся в исканиях Оленина, был уход в Ясную Поляну к извечным нетленным ценностям земли, семьи и природы, так уходил в свое семейное деревенское затворничество Левин в «Анне Карениной». Было первое бегство из Ясной Поляны в привольные башкирские степи и, наконец, последний уход, пророчески предначертанный в «Отце Сергии» и «Записках сумасшедшего».
Семантика ухода в истории мировой культуры в какой-то степени всегда однозначна. Уходят, когда исчерпан запас этических ценностей дряхлой цивлизации. На пороге брезжит что-то новое, какой-то «свет невечерний». Ценности нового мира и новой цивилизации выражены пока лишь через отрицание старой. «Сжечь бы все это»,— произносит Толстой, глядя на книжные сокровища Румянцевской библиотеки. От этих ужасных слов заболел и слег хранитель книжных сокровищ и предвестник освоения космоса философ Федоров. Напрасно старика пытаются убедить, что это всего лишь шутка. Пророчески дальновидный Федоров понимает: Толстой не шутит. Как не шутил протопоп Аввакум, когда, уйдя из царского дворца, грозил царю — «уж я бы того Никона рассек». И рассек бы, и все печатные книги предал бы сожжению. Когда человек уходит, ему ничего не жалко.
Вектор ухода Толстого простирается не в прошлое, а в будущее. В прошлом все мосты сожжены. Еще стоит на пути Оптина пустынь с таинственным прообразом Зосимы Достоевского старцем Амвросием. Толстой незадолго до ухода читает сцены посещения Зосимы семейством Карамазовых, читает и критикует. Да и сам Зосима Достоевского приказывает послушнику Алеше Карамазову уйти из монастыря в мир. Алеша, как отец Сергий, уходит не в монастырь, а из монастыря. Но все же маршрут бегства Толстого проходит через Шамордино — женскую обитель Оптиной пустыни, где живет его сестра. Но стены пустыни — слишком ветхая плотина, чтобы сдержать паводок ухода. Встала на пути железная дорога, та самая, которую отчаянно отрицал Левин, та самая, что перерезала жизнь Анны Карениной, та самая, что встала на пути Катюши Масловой, когда мимо прокатили сияющие вагоны первого класса.
Когда-то отец Сергий — Касатский узнавал расписание поездов, мечтал куда-то уехать. Теперь сам Толстой перебирает маршруты. Смутно возникает образ Кавказа, уже знакомый по первому уходу, но это скорее несбыточный сон, какое-то несбыточное пушкинско-лермонтовское мечтание.
Где же найти защиту от опостылевших ложных ценностей прошлой цивилизации? Как странно, что последним убежищем стал дом начальника станции, уж не пушкинского ли станционного смотрителя? Однако о стены этого домика разбились волны старой цивилизации. Как ни хлопотали, но не смогли проникнуть в этот домик ни жрецы синода, ни служители жандармерии. Скромный домик станционного смотрителя стал для них неприступной крепостью, которую нельзя было взять ни открытым штурмом, ни тайным подкопом. «Стража» так и осталась только «у двери гроба», и не они, а мы стали свидетелями смерти, воскресения и бессмертия Льва Толстого.
(«В мире Толстого». Сборник статей. М., Советский писатель, 1978)
В творчестве Льва Толстого есть немало героев, которые в момент прозрения тайно или явно уходят из привычного, обжитого мира. Это мог быть царь, внезапно прозревший и тайком покидающий роскошный дворец, чтобы уйти в неизвестность («Посмертные записки старца Федора Кузьмича», «Будда»), или блестящий молодой офицер Касатский («Отец Сергий»), или преуспевающий помещик («Записки сумасшедшего»).
Внезапные уходы этих героев как бы проясняют глубинный смысл ухода Нехлюдова в романе «Воскресение». Здесь все намного тоньше и ярче, потому что реально Нехлюдов остается среди людей, от которых ушел. Нет ни подложных трупов, ни тайных ночных исчезновений. Все осуществляется при свете дня, в блеске гостиных, осуществляется бесповоротно и неумолимо. Как бы ни сложилась дальнейшая судьба, Нехлюдову никогда не вернуться на прежнюю проторенную дорогу.
Эти уходы как бы незримо связаны с последним уходом Толстого из Ясной Поляны. Федор Протасов в «Живом трупе» оставил на берегу одежду, чтобы близкие считали его погибшим. Толстой хотел умереть для близких и для всего мира. Он как бы «оставил на берегу» не одежду, а свое тело. Его уход из Ясной Поляны озарен отблеском многих и многих художественных образов. Вряд ли нужно доказывать, что символический смысл ухода глубже, чем простой биографический факт.
Прежде чем осуществиться в биографии и в творчестве Льва Толстого, архетип ухода воплотился во многих творениях русской и мировой литературы. Мы обратимся здесь лишь к тем граням этого образа, которые имеют прямое отношение к творчеству писателя.
Толстой любил легенду об Алексии Божьем человеке. Единственный и нежно любимый сын богатых родителей, он тайно ночью покидает родительский дом и жену. Но этого мало: возвратясь из странствий в нищенском рубище, Алексий живет под родным кровом, кормясь подаянием, и никто из близких не узнает его в новом обличий.
Этот уход даже несколько напоминает ложное самоубийство в «Живом трупе». Оплаканный близкими, Федор Протасов, спившийся полунищий бродяга, стоит под окнами своего дома, видит в них свет домашнего очага. Как близок этот уют, но доступ туда закрыт для него навеки.
Известна невольная жестокость Нехлюдова по отношению к своим близким в момент ухода от окружающих. Конечно, они не могут понять, зачем князю понадобилось идти в Сибирь. Только крестьяне в конце концов почувствовали, что «барин о душе печется». И эта бесхитростная гипотеза убогой деревенской старушки ближе к истине, чем умные аргументы самого Нехлюдова. Близкие не могут понять ухода Нехлюдова. и даже с собственной точки зрения героя его поведение выглядит жестоким по отношению к ним.
Жестокость в момент духовного прозрения героя, в момент ухода характерна для евангельской поэтики, которая играет большую роль в романе «Воскресение». Так же поступают первые апостолы, оставляющие дома и семьи по зову Христа, чтобы пойти за ним. Жестокость по отношению к родным неизбежно сопутствует такому уходу.
Нехлюдов смотрит на свою мать как на великую грешницу. В его отношении к семье нет даже намека на родственную близость. Христос называет свою мать словом «женщина». «Что ты от меня хочешь, женщина?» «Что мне в тебе женщина?» Даже в свои смертный час он, распятый на кресте говорит матери о своем любимом ученике Иоанне: «Женщина, вот сын твой». Таково же отношение Христа к родным братьям: «Кто матерь моя и братья мои?»
Девятнадцатый век хорошо знал легенду о страннике покидающем родной дом и близких, чтобы ступить на путь иной более возвышенной жизни. Вспомним «Странника» Пушкина.
«Побег мой произвел в семье моей тревогу
И дети и жена кричали мне с порога,
Чтоб воротился я скорее...»
Но не могут эти крики остановить странника, как не могли они остановить уход Толстого из Ясной Поляны. Д. Благой в статье «Джон Беньян, Пушкин и Лев Толстой» справедливо рассматривает «Странника» А С Пушкина как программу будущего ухода Толстого: «...отказ от дома, семьи от всех прежних условии существования – опять-таки полностью реализовал Лев Толстой в героическом финале своего собственного жизненного пути – уходе-«побеге» из Ясной Поляны».
Странник покидает свой дом, «как раб, смысливший отчаянный побег». Так внезапно уходит герой неоконченных «Записок сумасшедшего», покидая привычный уклад жизни родных и близких. Так сам Толстой покидает Ясную Поляну продолжив финалом своей жизни неоконченную повесть С этим наблюдением над текстом «Странника» Пушкина и текстом «Записок сумасшедшего» нельзя не согласиться.
Более широкое понимание образа ухода в творчестве Льва Толстого, включающее не только неоконченные «Записки сумасшедшего» и «Посмертные записки старца Федора Кузьмича», но и все наиболее значительные произведения писателя. Ведь уход характерен для Толстого и его героев в разные периоды, на разных этапах жизни и творческой биографии. В этом смысле текст «Странника» неисчерпаем для аналогий с жизнью и творчеством Л. Толстого.
«Однажды странствуя среди долины дикой,
Незапно был объят я скорбию великой
И тяжким бременем подавлея и согбен,
Как тот, кто на суде в убийстве уличен.
Потупя голову, в тоске ломая руки,
Я в воплях изливал души пронзенной муки...»
Надо ли говорить, насколько это душевное состояние странника напоминает то, что происходит в душе Нехлюдова и в душе самого Толстого в момент осознания своей социальной вины перед ближними.
«Как тот, кто на суде в убийстве уличен», страдает Нехлюдов, ибо он уличен действительно «на суде», где судят не его, а жертву его морального преступления. Результат суда известен: Нехлюдов покидает привычный уклад своей жизни, родных и близких, следует в Сибирь за Катюшей Масловой. Однако Нехлюдовым лишь завершается цепь цивилизованных странников русской литературы от пушкинского Алеко до Оленина Толстого.
Покидает привычный образ светского бытия и бежит от «растленной цивилизации» Оленин. О таком типе русского скитальца и странника говорил Ф. М. Достоевский в речи о Пушкине: «В Алеко Пушкин уже отыскал и гениально отметил того несчастного скитальца... столь исторически необходимо явившегося в оторванном от народа обществе нашем... Тип этот верный и схвачен безошибочно, тип постоянный и надолго у нас, в нашей русской земле поселившийся. Эти русские бездомные скитальцы продолжают и до сих пор свое скитальчество, и еще долго, кажется, не исчезнут».
В чем действительно прав Достоевский, так это в том, что странники и скитальцы русской литературы пришли вовсе не от Байрона и, пожалуй, скажем, не от Беньяна, а глубоко уходят корнями в русскую национальную почву. Достоевскому кажется, что такое скитальчество есть результат оторванности от народа. Но как раз русский народ любовно создавал и вынашивал в своем сердце образ бродячего странника. «Странник» Пушкина, созданный по мотивам религиозного романа английского проповедника Беньяна, мог иметь и другую литературную родословную. Пущин с удивлением увидел на столе Пушкина в Михайловском Четьи-Минеи – жития святых…
Герой, покидающий семью, чтобы ступить на путь истинной жизни, существовал в древнерусской житийной литературе. Духовный стих об Алексии Божьем человеке распевали по всей Руси. и, в частности, он записан композитом Лядовым в Рязанской губернии в конце XIX века:
«У великого князя Верфильяма
У него детища не едина,
Он ходил в собор богу молиться,
Он молился богу со слезами...»
Казалось бы, какое дело русскому человеку до византийского князя, в семье которого родился Алексий Божий человек. Но распевали эту песню старцы и калики перехожие сами подобные легендарному Алексию, окинувшие родимый кров, дабы ступить на путь высшего служения – странничества юродства.
Со странничеством безуспешно боролись «мирские власти» жесточайшими указами со времен Петра I. Как бесприютный бродяга схвачен и отправлен в Сибирь отец Сергий Толстого. Нехлюдов встречает странника-старца на переправе, беседует с ним, а потом беседа продолжается в тюрьме, где по одну сторону решетки стоит цивилизованный странник Нехлюдов в европейском костюме, а по другую – бродяга в одежде странника, подобной той, какую наденет Лев Толстой в момент ухода из Ясной Поляны.
В «Посмертных записках старца Федора Кузьмича» царь, извечный гонитель и преследователь бродяг и скитальцев, сам надевает одежду странника, тайно покидая дворец. Легенда об Александре I создана не только Толстым, но прежде всего народом, в чьем сознании царь и гонимый странник-юродивый связывались каким-то непостижимым образом.
Эту фольклорную историческую связь отразил еще Пушкин в «Борисе Годунове». Но идиллические отношения между двумя противоположностями продолжались недолго Если Борис принимает обвинения, брошенные ему народным пророком, со смиренной просьбой: «Молись за меня. Юродивый», то Петр I приказывал хватать «ненужных людишек». Глазами Петровской эпохи смотрит на юродивого Гришу отец Николеньки Иртеньева, видя в нем лишь хитрого обманщика. Но мать Николеньки смотрит на юродивого по-другому: трудно поверить, что человек, идущий босиком по морозу и носящий тяжкие вериги, отвергающий все земные блага, делает это из простого обмана.
Сейчас важно отметить, что XIX век далеко не сразу открыл для себя странника в рубище, а поначалу смотрел на него свысока, как отец Николеньки Иртеньева. Странника в рубище считали либо мошенником, либо непросвещенным бродягой. Примечательно, что и пушкинский странник — странник цивилизованный.
Мудрое безумие юродивого — это в высшей степени знаменательное переодевание — проводит резко очерченную грань между странником в европейском костюме (Алеко, Печорин, Оленин, Нехлюдов) и странником в рубище (некрасовский дядя Влас, Федор Кузьмич и отец Сергий Толстого). Скрещиваются ли пути этих странников и скитальцев и каков их путь, мы увидим в дальнейшем.
Такой странник и скиталец переживает в XIX веке жесточайший кризис. О его душевном разладе говорит в конце столетия Достоевский: «Смирись, гордый человек». И в этих словах кроется глубокая истина. Все есть в душе цивилизованного странника, нет в нем только смирения. «Смирись, гордый человек» — это лишь перефразировка слов пушкинского цыгана, обращенных к Алеко: «Оставь нас, гордый человек!»
Чем же он горд, этот человек, покинувший все привычные житейские блага во имя высшей открывшейся ему истины? Он горд своей пророческой родословной. Д. Благой совершенно справедливо замечает, что «Странник» удивительно похож на первую редакцию пушкинского «Пророка». Да и в окончательном варианте сходство слишком явное. И там и здесь в пустынной местности происходит внезапное прозрение. В одном случае слепые очи разверзает «шестикрылый серафим», в другом — встречный юноша, читающий книгу.
Нам представляется, что это сходство только подчеркивает принципиальную оппозицию странника и пророка. Иначе зачем Пушкину спустя десятилетие после «Пророка» понадобилось вернуться к той же теме и создать «Странника». XIX век хорошо понял «Пророка» и совсем не понял «Странника». Неизвестно даже, читал ли Лев Толстой это стихотворение, хотя его уход из Ясной Поляны и все его творчество пророчески предсказаны в этом стихотворении. Непонимание сопровождало не только уход пушкинского странника, но и сам предсмертный уход Льва Толстого:
«Кто поносил меня, кто на смех подымал,
Кто силой воротить соседям предлагал;
Иные уж за мной гнались; но я тем боле
Спешил перебежать городовое поле,
Дабы скорей узреть — оставя те места,
Спасенья верный путь и тесные врата».
Не забудем слова Толстого, произнесенные, по свидетельству сына писателя, незадолго до смерти «громко, убежденным голосом, приподнявшись па кровати: «Сдирать надо, удирать».
Оппозиция странника и пророка здесь очевидна: пророк идет из пустыни в город «глаголом жечь сердца людей» а навстречу ему — из города в пустыню — движется понурый странник, преследуемый насмешками и каменьями Глядя на странника, пророк может узреть свое будущее. Об этом ясно сказал Лермонтов в своем «Пророке», прямо полемизирующем с «Пророком» Пушкина.
Покидая город, пророк Лермонтова идет по стопам пушкинского странника:
«Посыпал пеплом я главу,
Из городов бежал я нищий,
И вот в пустыне я живу,
Как птицы, даром божьей пищи...»
«Как нищий», бежит Сергий — Касатский, старец Федор Кузьмич — Александр I, с нищими уходит герой «Записок сумасшедшего». В статье «Так что же нам делать?» Толстой рассказывает, с чего началось его личное просветление. Писатель увидел нищего, которого городовой забирал в участок Толстой следует за ними, а далее лавиной разворачивается цепь событий, заканчивающихся появлением нового учения Толстого.
Пророк Лермонтова и странник Пушкина избирают пустыню. Как его герой отец Сергий, Толстой отверг пустынное затворничество. Отверг он и гордое одиночество пророка среди люден. Для Толстого не так уж несправедливы упреки, которые толпа обращает к пророку Лермонтова;
«Он горд был, не ужился с нами:
Глупец, хотел уверить нас,
Что бог гласит его устами!»
Вспомним страшную космическую пустыню, окружающую пророка или поэта в XIX веке: «Сквозь туман кремнистый путь блестит; / Ночь тиха. Пустыня внемлет богу». «Христос в пустыне» Крамского дает нам зримый ландшафт такого гордого одиночества. Откуда появилась эта «пустыня» среди русских лесов и полей?
Странник Пушкина покидает город. Его путь — безлюдная каменистая пустыня. Туда, по его стопам, отправятся многие странники русской и европейской культуры. Следом за ним пойдет пророк Лермонтова. «Христос в пустыне» станет классическим художественным сюжетом. Пророк, отвергнутый и гонимый, настолько окружен ореолом мученичества и святости, что долгое время мы не задавали себе вопрос, что же открылось ему в момент прозрения.
Конечно же, истина, истина, ради которой пророк готов принять мученический венец и каменья. Эта искренняя самоотверженность пророка создала ему ореол и непререкаемый авторитет. Но непререкаемый авторитет — это уже диктаторство. Гонимый пророк невольно становится духовным диктатором. Это раньше многих понял Толстой и своим уходом максимально противодействовал такому финалу. Своим последним уходом из Ясной Поляны, своим неистребимым желанием раствориться среди людей, уйти от известности как отец Сергий, как Александр I — Федор Кузьмич, Толстой доказал, что ему ближе не диктаторское пророческое сознание, а полифоническое сознание странника.
Конечно, термин «пророческое сознание» мы здесь употребляем не в обычном положительном, житейском смысле этого слова. Речь идет о кризисе пророческого сознания, который ясно виден уже в «Пророке» Лермонтова. Достоевский в бескорыстном и вдохновенном пророке сумел уже разглядеть Раскольникова. Гоголь, почувствовав себя пророком, завершает творческий путь домашним аутодафе — сожжением второго тома поэмы «Мертвые души». Кто усомнится в искренности и глубине просветления, которое испытал Гоголь?
Прежде чем прийти к своему страннику Сергию и страннику Нехлюдову, Толстой, как и Пушкин, несомненно прошел через стадию пророческого восторга. Этот восторг иллюзорного тотального всеведения и прозрения пережили едва ли не все герои Толстого. Пьянящее ощущение всеведения переживает и пророк Пушкина:
«И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье».
Конечно, такой пророк с открытым слухом и зрением для людей еще не страшен. Для него нет праведника и грешника, ему понятен и «горний ангелов полет», и «дольней лозы прозябанье».
Если мы обратимся к одному из первых воскресений героев Толстого, мы увидим, что «горний ангелов полет» окончательно вытеснен прозябанием «дольней лозы». Оленин припадает к земле и чувствует себя то комаром, то оленем, но не ангелом. В отличие от пушкинского пророка Оленин воскресает не среди пустыни, а среди леса, хотя состояние, предшествующее воскресению,— «как труп, в пустыне я лежал» — чрезвычайно напоминает ощущение Оленина перед воскресением.
Вот так же лежит на поле Аустерлица раненый Андрей Болконский, но взор его как раз устремлен к горним высям. Ничего нет вокруг, кроме бесконечного голубого неба. Человеческое «прозябание» кажется мелочным и ничтожным. Пушкинской гармонии между «горним» и «дольним» миром уже нет. Когда второй раз, уже смертельно раненный под Бородином, князь Андрей почувствовал «чистую, божескую» любовь к Наташе и ко всем людям, он уже был там, в бесконечном голубом небе, бесконечно далеко от мира, который так им любим в эту минуту. Наташа видит только предсмертную агонию.
Толстой подчеркивает чувство полного безразличия к миру людей, сопровождающее оба просветления Болконского. Больше того, в разговоре с Пьером перед Бородинским сражением в речи Болконского слышится явное ожесточение «отвергнутого пророка». Обычно стыдливо умалчивают, что благородный князь Андрей призывает убивать пленных. Между тем такие крайности падений и просветлений сплошь и рядом находятся в «гармоническом» сплетении.
Вспомним, как возвышенно просветление Нехлюдова во время пасхальной ночи, как светла и бескорыстна его любовь к Катюше.
«В любви между мужчиной и женщиной бывает всегда одна минута, когда эта любовь доходит до своего зенита, когда нет в ней ничего сознательного, рассудочного и нет ничего чувственного. Такой минутой была для Нехлюдова эта ночь Светло-Христова Воскресения...»
Когда Катюша целует нищего со словами «Христос воскресе», Нехлюдов пробуждается от «сумасшествия эгоизма» и ощущает, что в нем воскресло чувство любви ко всем людям. Он знает, что в ней была та же любовь. Сама пасхальная служба стала символом таинственного мира любви и воскресения.
Такой же восторг ощущает в момент своего первого просветления герой «Записок сумасшедшего». Весь мир, спаянный цепью общей любви, слился воедино:
«...Я люблю няню, няня любит меня и Митиньку, а я люблю Митнньку. а Митинька любит меня и няню. А няню любит Тарас, а я люблю Тараса, и Митинька любит. А Тарас любит меня и няню. А мама любит меня и няню, а няня любит маму, и меня, и папу, и все любят, и всем хорошо».
Но прозрение оказалось таким же хрупким, как и просветление Нехлюдова: «Вбегает экономка и с сердцем кричит что-то об сахарнице, и няня с сердцем говорит, что она не брала ее». И герою становится «больно, и страшно, и непонятно». Его охватывает «холодный ужас». Ужасом нравственного падения человека сменяется просветленное состояние героя и определяет его дальнейшую жизнь на долгие годы.
Цепь таких падений и просветлений заполняет в дальнейшем всю жизнь Нехлюдова:
«Так он очищался и пробуждался несколько раз: так это было с ним в первый раз, когда он приехал на лето к тетушкам. Это было самое живое, восторженное пробуждение. И последствия его продолжались долго. Потом такое же пробуждение было, когда он бросил статскую службу и, желая жертвовать жизнью, поступил во время войны в военную службу. Но тут засорение произошло очень скоро. Потом было пробуждение, когда он вышел в отставку и, уехав за границу, стал заниматься живописью».
Трудно не узнать здесь падений и пробуждений Болконского, Безухова, Левина и самого Толстого.
Толстой называет просветление «пробуждением». В «Записках сумасшедшего» это же состояние писатель называет «припадком»: «До тридцати пяти лет я жил, как все, и ничего за мной заметно не было. Нешто только в первом детстве до десяти лет было со мной что-то похожее на теперешнее состояние, но и то только припадками, а не так, как теперь, постоянно».
Вот оно — главное отличие просветления пророка от воскресения странника. Воскресение необратимо и постоянно.
Учение о внезапном возрождении человека в зрелые годы исподволь появлялось литературе первой половины XIX века. Внезапное озарение пушкинского пророка и странника было художественной прелюдией к духовному перелому в жизни и творчестве Гоголя. Но у пророка и странника разные судьбы. Пророк исполнен чувством собственной правоты. Он идет к людям из пустыни, готовый претерпеть любые страдания ради открывшейся ему истины. Между тем навстречу ему движется понурый странник, отягощенный бременем собственного несовершенства. Пророк идет учить, странник идет учиться. Пророк обличает – странник кается. Для пророка все несомненно, странник сомневается во всем и, прежде всего, в самом себе.
Странник подавлен бременем своих прегрешений, ему открылась греховность мира, но для него это несовершенство лишь зеркальное отражение его собственных душевных язв.
«Я свят а мир лежит во зле». Так думал вначале спасающийся в обители отец Сергий, но когда пелена заблуждений спала с его глаз, не остается и следа от прежней самоуверенности. Бывший святой видит себя величайшим грешником.
Иначе чувствует себя пророк. Ему открылись греховные язвы мира. Он знает, как спасти мир. Дело за немногим – поведать истину людям, и они будут спасены и раскаются. Мир ждет только решающего «глагола», чтобы воскреснуть и возродиться.
Так думает пророк Пушкина, так думает Андрей Болконский перед Аустерлицкой битвой и в приемной Сперанского. В первом случае в руках у него знамя – он подхватит его, выйдет вперед, и решится судьба сражения. В другом случае в руках – бумажный проект о переустройстве дел в России. И то и другое кончается поражением и разочарованием. Вот тут-то и возникает соблазн пророка – уйти в себя, обидеться на весь мир за то, что он с трепетным благоговением не внимает его голосу. Возникает чувство горечи и душевного смятения, которое так хорошо передано в стихотворении Пушкина:
«Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя —
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их нужно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич».
Как бы отвечая Пушкину, Некрасов впервые высказывает мысль, что дело, может быть, и не в жестоковыйности слушателей, а в самом пророке:
«Сеятель знанья на ниву народную!
Почву ты, что ли, находишь бесплодную,
Худы ль твои семена?
Робок ли сердцем ты? слаб ли ты силами?..» —
хотя стихотворение и заканчивается ободряющим:
«Сейте разумное, доброе, вечное,
Сейте! Спасибо вам скажет сердечное
Русский парод...»
Одиночество пророка в своем отечестве оставалось. Здесь-то, на распутье, у пророка и возникает соблазн ухода. Но уход пророка во многом отличен от ухода странника. Ушел в свое имение, заперся в нем, как в крепости, отец Андрея Болконского. Человечество его не поняло, — пусть же оно страдает, пусть ему будет хуже. Как в крепости, прячется в своем имении и Левин, лишь изредка, по необходимости появляясь среди городской сутолоки,
Как велика бескорыстная нравственная чистота и самоотверженность этих людей. Ведь они в затворничестве вынашивают великие планы, трудятся самоотверженно и талантливо. Старик Болконский пишет историю войн. Левин неустанно ищет справедливые методы хозяйствования. Далеко не безразлична пророку судьба покинутого им мира. Старый воин Болконский умирает от горя, когда до него доходят вести о поражениях русской армии. Но в этом гордом затворничестве исподволь выявляется другая черта пророка-диктатора. Как мучает своих близких старый Болконский! Разбивает брак сына, собственную дочь почти насильно отрывает от всего внешнего мира.
Конечно, герои Толстого никогда не переступят ту грань, за которую зашел Родион Раскольников в своем чердачном затворничестве. Пророк с топором в руках — это уже как бы доведение до абсурда самой идеи пророчества, но все же нельзя забывать, что Раскольников вспоминает пушкинского пророка из «Подражаний Корану». Правда, перетолковывает Раскольников это стихотворение по-своему. У Пушкина звучат вдохновенные строки: «...и мой Коран дрожащей твари проповедуй». У Раскольникова – «повинуйся, тварь дрожащая!». «Я хотел узнать, тварь я дрожащая или право имею» – объясняет он Соне мотив своего двойного убийства.
И все-таки в этом чудовищном извращении идеи пророчества есть нечто, говорящее о диктаторской сущности пророческого сознания. При всем своем бескорыстии пророк слишком уверен, что только ему открыта истина, что другие, несогласные с ним, должны быть уничтожены если не физически, то морально. Многое связывает странника и пророка, и лишь это главное, разделяет. Пройдя искус пророчества, герои Толстого, как правило, совершают второй уход. Теперь они уходят не от людей, а к людям: бежит из своей монашеской кельи отец Сергии, уходит прямо с церковной паперти в момент про зрения герои «Записок сумасшедшего», идет на Бородинское поле из духовного затворничества масонской ложи Пьер Безухов. Нехлюдов, пройдя через стадию пророческого умиления собственной святостью, в момент раскаяния вдруг осознает, что и это раскаяние и слезы — постыдны, что он не Христос, открывающий глаза блуднице Масловой, а величайший грешник. Странник Сергий в одежде крестьянина и Нехлюдов в цивилизованном одеянии следуют в Сибирь, как великие грешники, которые должны пройти по пути страданий, давно проложенному другими людьми.
В тюрьме и в Сибири Нехлюдов встречает людей чья пророческая самоотверженность и бескорыстие безграничны. Но странники и пророки, даже будучи в одной темнице, ощущают мир по-разному. Воплощением пророческого сознания для Нехлюдова стал Симонсон — наиболее яркий среди пророков. Симонсона по недоразумению считают революционером, но это неверно. Увлечение народничеством давно прошло. В Сибири он составил себе «религиозное учение», которое и определяло всю его жизнь.
Новое мировоззрение Симонсона Толстой называет «религиозным учением». Согласно этому учению, вся вселенная рассматривается как единое живое существо. Роль человека внутри этого существа сводится к поддержанию этой высшей биолого-космической жизни. Сначала Толстой указывает на сходство между Симонсоном и Нехлюдовым, между пророческим и странническим сознанием. Симонсон живет по нравственным законам, которые исповедуют и Толстой и Нехлюдов: он считал преступлением «уничтожать живое», был против войн, казней и «всякого убийства, не только людей, но и животных». Как и Нехлюдов, Симонсон круто изменил свой образ жизни, «хотя прежде, юношей, предавался разврату». Что же разделяет его и Нехлюдова при всем внешнем сходстве их духовной эволюции? Для Симонсона мир лишен тайны. У него на все практические дела были свои теории и правила, он и печи топил «по своей собственной теории». Нехлюдов далек от гордой рациональной самоуверенности. Это особенно ясно чувствуется в последней главе романа, где Толстой стремится привести своего героя к окончательной истине. Нехлюдов читает Евангелие: «И кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской».
«К чему тут: кто примет и куда примет? и что значит во имя мое?» — спросил он себя, чувствуя, что слова эти ничего не говорят ему. И к чему жернов на шею и пучина морская? Нет, это что-то не то: неточно, неясно...»
Нехлюдов боится, что метафора будет истолкована буквально — «жернов на шею» всякому, кто мыслит иначе. Его воскресение оставляет мозг и сердце открытыми. Уход Нехлюдова оказался возвращением к миру людей, обладающих тем знанием, которым сам он не обладает. Это антипророческое сознание мы могли бы назвать сознанием «ухода», но поскольку это уход не от людей, а к людям, правильнее было бы назвать его «сознанием возвращения». Это возвращение пророка-странника из пустыни, куда он направился еще в первой трети XIX века.
Теперь представим себе, что стало бы с этим странником, если бы, подобно Нехлюдову, на тернистом пути в Сибирь он встретил бы «пророка», и не одного, но множество «пророков», твердо уверенных в том, что их истина — единственно правильная. Нечто подобное увидел в страшном горячечном сне Родион Раскольников. Каждый считал, что в нем одном истина. Зараженные каким-то странным микробом, люди во имя утверждения всеобщего блага доходят до людоедства, пожирая друг друга, но никогда они не считали себя «такими умными и непоколебимыми в истине... Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований».
В отличие от Нехлюдова Симонсон твердо уверен в непоколебимости «своих приговоров, своих научных выводов своих нравственных убеждений и верований». Навсегда отказался от этой категоричности Нехлюдов. Симонсон подчиняет свою жизнь «высшей», «космической» истине. Пророк всегда уверен, что слышит голос свыше. В одних случаях этот голос действительно открытие, в других — это адское заблуждение Раскольникова. Суть не в этом. Главное, что и в том и в другом случае пророк навязывает свою истину миру. Пророк идет к миру с готовой истиной, безмерно богатый, готовый поделиться ею с каждым прохожим. Какова же его обида, когда мир не принимает его истину, но называет его корыстным гордецом и безумцем. Странник идет к миру за истиной, «нищий духом», со смиренно протянутой рукой, как отец Сергий смиренно принимает подаяние из рук светской компании.
Духовное возрождение героев Толстого обычно проходит через две стадии. Сначала, возродившись, герой чувствует себя пророком, но вскоре, пройдя сквозь пучину прозрений и заблуждений, он становится смиренным странником, бредущим навстречу людям. Пророк Пушкина в момент прозрения видит таинственную жизнь мира, скрытую до этого непрозрачной оболочкой. Пророку Лермонтова уже открыто другое: «В очах людей читаю я / Страницы злобы и порока».
Совсем иначе прозревает странник. Когда спадают внешние оболочки и обнажается безобразный облик мира, он видит в этом прежде всего отражение своей души. Сквозь парчовые одежды проступают очертания дряблого тела, а сквозь тело — его распадающийся скелет.
Таким «обнажающим» взором наделил Толстой тридцатилетнего Нехлюдова. Во время светского раута в доме парализованной княгини Софьи Васильевны находятся двое мужчин — Колосов и Нехлюдов. В этот момент Софья Васильевна вызывает лакея Филиппа.
«Рядом с силачом, красавцем Филиппом, которого он вообразил себе натурщиком, он представил себе Колосова нагим, с его животом в виде арбуза, плешивой головой и безмускульными, как плети руками».
Кажется, что перед нами ожил один из леонардовских набросков. Беспощадный обнажающий взор Нехлюдова ведет его еще дальше, заставляя открывать старческую плоть парализованной княгини:
«Так же смутно представлялись ему и закрытые теперь шелком и бархатом плечи Софьи Васильевны, какими они должны быть в действительности, но представление это было слишком страшно, и он постарался отогнать его».
Колосов и Софья Васильевна противны Нехлюдову своим равнодушием и лицемерием, полным безразличием ко всему, что происходит за пределами их разрушающейся плоти. Но, придя домой, Нехлюдов останавливается у портрета собственной матери. Праздничная красивость этого портрета почти утрирована: здесь и черное бархатное платье, и обнаженная грудь, и «ослепительные по красоте плечи...». Но, обнажая натуру, художник словно маскирует ее внутреннюю суть.
Леонардовская кисть Толстого уже наготове. Нехлюдов вспоминает, как «в этой же комнате три месяца тому назад лежала та же женщина, ссохшаяся, как мумия, и все-таки наполнявшая мучительно тяжелым запахом, который ничем нельзя было заглушить... весь дом... Ему казалось, что он и теперь слышал этот запах...».
Нехлюдов даже в мыслях своих называет свою мать просто «женщиной». Это прямо сближает его образ с образом евангельского Христа, который так же называет свою мать.
Нехлюдов вспоминает, как за день до смерти она взяла его сильную белую руку своей костлявой чернеющей рукой, посмотрела ему в глаза и сказала: «Не суди меня, Митя, если я не то сделала», и на выцветших от страданий глазах выступили слезы».
Два портрета: на одном мраморные плечи, на другом — иссохшая плоть, на одном лицо с «победоносной улыбкой», на другом глаза, «выцветшие от страданий». Таков по-леонардовски беспощадный взгляд Толстого, срывающий красивую маску, обнажающий «безобразную» плоть, в которой скрыт незримый облик человеческой души, возвышенной страданием и раскаянием. Прекрасный, но бездушный образ, запечатленный художником, становится зримой телесной оболочкой, которую душа сбрасывает в момент своего просветления и раскаяния. Душа остается в том облачении, которое теперь наиболее полно соответствует ее прожитой жизни,— плоть, источающая дурной запах, но этот образ теперь больше говорит душе Нехлюдова, чем изображение на портрете, так же как лохмотья нищих крестьян и арестантские одеяния кажутся ему более естественной одеждой, чем светские наряды Миссн и ее окружения. Перед уходом из этого мира человек сбрасывает блестящую оболочку, которая уже не в силах ничего скрыть.
В «Посмертных записках старца Федора Кузьмича» это «раздевание» мира перед уходом и после него выглядит особенно ярко.
Детство Федора Кузьмича — Александра I совпадает с блистательным веком бабушки — Екатерины II. Образ императрицы запечатлен во множестве портретов самыми замечательными художниками и слишком хорошо знаком любому читателю, чтобы останавливаться здесь на описании кружев и драгоценностей, оттеняющих величественный облик властительницы в орденской ленте, со скипетром и державой. Как же вспоминается она Александру I — Федору Кузьмичу?
Самое главное, что остается в его памяти,— отталкивающий дурной запах, «который, несмотря на духи, всегда стоял около нее; особенно, когда она меня брала на колени».
Духи, которые не могут скрыть дурной запах,— символ незримой оболочки фальши и лжи, окутывающей императрицу Екатерину. Для Федора Кузьмича уже нет этих оболочек. Он видит императрицу в ужасающих подробностях стареющей плоти, обремененной грузом ежедневной придворной фальши. Руки, на портретах величественно сжимающие скипетр, совсем иначе вспоминаются Федору Кузьмичу. Он видит их чистыми, желтоватыми, сморщенными, с пальцами, загибающимися внутрь, и далеко, неестественно оттянутыми ногтями.
Почти до скелета, до улыбающегося черепа обнажается облик царственной плоти: «Глаза у нее были мутные, усталые, почти мертвые, что вместе с улыбающимся беззубым ртом производило тяжелое... впечатление». Рядом с этим образом, как бы для контраста, дан внешний вид любовника Екатерины Ланского с его затянутыми в лосины ляжками, беззаботной улыбкой и бриллиантами.
Не только Федор Кузьмич, все герои Толстого перед уходом, в момент просветления, сквозь блестящую оболочку жизни видят безобразное лицо смерти.
Едва ли не все они прошли через эти стадии жизни: очарование внешнего блеска, внезапного прозрения и ужаса смерти в момент спадания маски, ухода в иную жизнь с иными ценностями. Однако соотношение этих трех стадий различно на разных этапах творчества Льва Толстого.
Наташа Ростова в ослепительном бальном платье, и она же в финале романа с детскими пеленками в руках — это не только два разных облика, но и две разные ступени духовного восхождения человека.
Пьер Безухов в период беззаботных гусарских кутежей, и он же в плену в дощатом деревянном сарае, в рубище простого крестьянина. Интересно, что даже в прямом смысле двум различным стадиям жизни героев соответствуют разные одеяния. «Переодевание» Наташи, как и «переодевание» Пьера, соответствует переодеванию жизни перед глазами героев. Так переодевается позднее Александр I в одежду старца, а отец Сергий в одежду странника. Жизнь сначала предстает перед ними в блистательных бальных, почти карнавальных одеждах, затем наступает момент снятия маски, под которой оказывается лицо смерти, а затем, вглядываясь в это лицо, старческое, мертвое или искаженное страданием, герой проникается состраданием, и тогда происходит прозрение «после бала», узнавание подлинной жизни в страдании и любовь к ней.
Пьер полюбил Наташу не в тот момент, когда ее лицо светилось отблеском бала, а в то время, когда оно было залито слезами раскаяния. Нехлюдов узнает в опухшем бледном лице арестантки милый, очаровательный облик Катюши Масловой, но он так бы и не «узнал» ее, если бы не это рубище, если бы не эта маска равнодушия и цинизма, скрывающая подлинное лицо.
Пророк после просветления испытывает радость — странник плачет, рыдает, видя открывшиеся ему язвы мира.
«О горе, горе нам! Вы, дети, ты, жена! —
Сказал я,— ведайте: моя душа полна
Тоской и ужасом; мучительное бремя
Тягчит меня...»
...Но я, не внемля им,
Все плакал и вздыхал, унынием тесним».
Эти слезы странника в момент прозрения были слышны и в словах Толстого, предшествующих его уходу из Ясной Поляны:
«В тот же вечер, когда я вернулся из Ляпинского (ночлежного.— К. К.) дома, я стал рассказывать свое впечатление одному приятелю. Приятель — городской житель — начал говорить мне... что это самое естественное городское явление... что это должно так быть и есть неизбежное условие цивилизации. В Лондоне еще хуже... стало быть, дурного тут ничего нет и недовольным этим быть нельзя. Я стал возражать своему приятелю, но с таким жаром и с такою злобою, что жена прибежала из другой комнаты... Оказалось что я сам, не замечая того, со слезами в голосе кричал и махал руками на своего приятеля. Я кричал: «так нельзя жить, нельзя так жить, нельзя!»
Именно так, со слезами в голосе, как пушкинский странник, пытался Толстой убедить близких, что «так нельзя жить». Очень тонко Толстой проводит грань, отличающую Нехлюдова-пророка от Нехлюдова-странника. Нехлюдов-пророк умилялся и радовался своему раскаянию. У него на глазах тоже слезы, но это слезы умиления, а не ужаса и сострадания: «Да я делаю то, что должно, я каюсь, – подумал Нехлюдов. И только что он подумал это, слезы выступили ему на глаза, подступили к горлу, и он... замолчал, делая усилие, чтобы не разрыдаться... Она стояла неподвижно и не спускала с него своего косого взгляда. Он не мог дальше говорить и отошел от решетки, стараясь удержать колебавшие его грудь рыдания».
Совсем иначе чувствует себя Нехлюдов, когда вдруг с ужасом видит, что Катюши Масловой больше нет есть арестантка Маслова. Катюша «убита» им давно, и ничем нельзя исправить случившееся. Теперь Нехлюдов выходит из тюрьмы, подавленный горем и ужасом. «Так вот оно что» — восклицает он про себя, только теперь сознавая ужас свершившегося. В ушах звучит страшная обличительная фраза арестантки Масловой: «Ты мной в этой жизни услаждался мной же хочешь и на том свете спастись!»
Из вдохновенного спасающего пророка Нехлюдов почти мгновенно превратился в спасающегося странника. Нечто подобное произошло с отцом Сергием. Почитаемый всеми как святой, он внезапно оказывается великим грешником. Сергий раньше совершал многочисленные уходы, но тогда он чувствовал себя не смиренным странником, а пророком, бичующим язвы этого греховного мира. Уход его в монастырь совершается не в результате просветления, а после того, как он узнал что его невеста была любовницей императора.
Второй уход Сергия — из монастыря — связан с обидой на преуспевающего игумена, оскорбляющего его своей бездуховностью. Бегство — уход из затворнической кельи, овеянной славой его святости, — вызвано искушением героя. И только последний, четвертый уход — из дома Пашеньки — вызван истинным просветлением.
Почему преуспевающий офицер Касатский так легко сменил свой мундир на монашескую рясу? Дело в том, что раньше он обожествлял императора, смотрел на него восторженными глазами, как на кумира. Тем легче было сбросить его с пьедестала, когда выяснилось, что он состоит из плоти. Теперь пророком, гордо отринувшим мир, стал сам Сергий. Поднимаясь все выше по ступеням подвижничества, уходя все в большее заточение, Сергий возвысился в глазах людей до святого. Развенчание себя как пророка произошло, когда Сергий с ужасом почувствовал, что и сам состоит из плоти. Именно тогда он видит в вещем сне полуюродивую Пашеньку, над которой все так смеялись в детстве. Пашенька не отличалась особой святостью. Она живет в мире людей, молча сносит попреки пьянствующего зятя, дает уроки музыки, воспитывает детей. Пашенька показала Сергию пример истинной и глубокой святости: «Пашенька именно то, что я должен был быть и чем я не был. Я жил для людей под предлогом бога, она живет для бога, воображая, что она живет для людей. Да, одно доброе дело, чашка воды, поданная без мысли о награде, дороже облагодетельствованных мною людей».
Именно к ней приходит Сергий с раскаянием перед началом своего страннического пути. В ее доме происходит превращение Сергия-«пророка», в Сергия-странника. Здесь воскрес Сергий для иной, страннической жизни.
Воскресение — иная, высшая стадия просветления. Ему всегда предшествует жгучее чувство раскаяния и стыда. Герой «Записок сумасшедшего» хотел продать свое имение подороже и «вдруг устыдился». С этого момента вся жизнь его пошла по-иному.
Устыдился своей прежней жизни Александр I, когда узнал в прогоняемом сквозь строй солдате своего близнеца — себя. Даже скрываясь в Сибири, вдали от мира, он не может вспоминать свою жизнь без жгучего чувства стыда.
Отцу Сергию стало стыдно перед людьми за свою «святость», которая оказалась лишь оборотной стороной гордости. После свершившегося плотского «падения» он тайно, в одежде странника бежит из монастыря.
Стыдно стало Нехлюдову, когда он каялся перед Катюшей в тюрьме и умилялся своим слезам и раскаянию.
Грань стыда очень четко пролегает между просветлением и воскресением. Просветление сопровождается чувством святости и умилением, воскресение связано с чувством вины и раскаяния.
Ощущение вины вышло за пределы внутреннего мира. Нехлюдов ужасается не своему падению, а тому, что он сделал с душой Катюши Масловой. Просветление — это только для себя. Воскресение — только для всех.
После воскресения сразу свершается разрыв с ближними и уход. При всей кажущейся необычности этот поступок многих героев Толстого, как и биографический факт ухода самого Толстого, имеет глубочайшие корни в русской истории и в русской культуре.
Мы знаем, что Толстого в последние годы жизни всерьез считали человеком, потерявшим здравый рассудок. Есть запись в его дневнике, где прямо говорится об этом: «Тяжело, что в числе ее безумных мыслей есть мысль о том, чтобы выставить меня ослабевшим умом и потому сделать недействительным мое завещание, если есть таковое».
Эти обвинения услышал и пушкинский странник:
«Мои домашние в смущение пришли
И здравый ум во мне расстроенным почли...
И наконец они от крика утомились
И от меня, махнув рукою, отступились,
Как от безумного, чья речь и дикий плач
Докучны и кому суровый нужен врач».
Сюжет о мнимом безумии прозревшего человека появляется в незавершенном отрывке Толстого «Записки сумасшедшего». Герой «Записок», как странник Пушкина, как и сам Толстой, кажется окружающим безумным именно потому, что для его взора открылась фальшь повседневной обыденной жизни, построенной на всеобщем обмане. Своим уходом Нехлюдов, отец Сергий, Федор Кузьмич и мнимый сумасшедший отрекаются от рационалистической логики окружающего мира. В этот момент даже близкие считают их безумцами. Но то, что стало считаться сумасшествием в XIX веке, в допетровской Руси было признаком высшей мудрости и святости. Не случайно и странник, и юродивый созданы Пушкиным. Юродство и странничество, всячески преследуемые со времен Петра официальными властями, оставались и в XIX веке скрытой, но понятной простому народу формой протеста против несправедливости.
Аналогию между фольклорным миром юродивого и миром героев Льва Толстого отчетливо видишь, когда обращаешься к образу ухода в его творчестве. На эту мысль невольно наталкиваешься, читая книгу Д. С. Лихачева и А. М. Панченко «Смеховой мир» Древней Руси». Полемизируя с теми, кто считает юродивых просто безумцами, Панченко пишет: «В русской (и не только в русской) истории известно сколько угодно случаев, когда люди здравого ума и твердой памяти покидали семью и благоустроенный домашний очаг — с идеальными целями. Так, между прочим, поступил престарелый Лев Толстой...»
Безумие героя «Записок сумасшедшего» Толстого тоже сродни умному юродству. Юродивый прозрел, и потому для грешников он безумен. Интересно, что даже в пространственном отношении сохраняется эта фольклорная традиция. Юродивый обитает на церковной паперти, причем его отношение к церкви очень двойственно. Во время церковной службы он передразнивает священника, гасит свечи, смущает народ. Оппозиция юродивых к официальной церкви общеизвестна. Именно на церковной паперти происходит прозрение героя «Записок сумасшедшего», который во время церковной службы решает, что «всего этого не должно быть», и уходит с народом. На паперти Нехлюдов целует нищего и Катюшу Маслову, здесь происходит его первое просветление.
Действительно, в последние годы жизни творчество Толстого, сознательно ориентируемое на фольклорное сознание, не могло остаться в стороне от многовековой народной традиции. Федор Кузьмич и Сергий, совершив свой уход, сбросили с себя одежды цивилизации: мундир офицера, мундир царя. Федор Кузьмич переодевается в одежду простого солдата, Сергий — в одежду крестьянина.
Странник в европейском цивилизованном костюме появился сравнительно недавно. Странниками цивилизации называл Достоевский Алеко, Онегина. Такими же добровольными изгнанниками были Печорин, Рудин, Лаврецкий и многие другие герои русской литературы. И вот теперь Александр I в одежде простолюдина, отец Сергий в одеянии нищего.
Замысел ухода возникал у Сергия в монастыре еще до грехопадения и был удивительно похож на уход самого Толстого. «Он приготовил себе мужицкую рубаху, портки, кафтан и шапку». Дальнейшее описание поражает почти детальным совпадением с бегством Толстого из Ясной Поляны: «Сначала он уедет на поезде, проедет триста верст, сойдет и пойдет по деревням».
Мы видим смирение отца Сергия, когда он принимает подаяние от светской компании, беседующей по-французски.
Отца Сергия в одежде простолюдина причислили к бродягам и сослали в Сибирь. Изменился его образ жизни и теперь ничем не отличается от жизни многих и многих простых людей. В Сибири он поселился у богатого мужика, работает у хозяина в огороде, учит детей, ходит за больными. К этому близок и уклад жизни старца Федора Кузьмича, тоже поселившегося у купца. Последний уход отца Сергия был уходом не от людей, а к людям. Аскетические подвиги монашеской жизни померкли перед ежедневным подвигом Пашеньки, денно и нощно хлопочущей о своих внуках и безропотно сносящей прихоти пьющего зятя.
Разница между сознанием пророка и сознанием странника здесь очевидна. Странник-юродивый бредет по миру, спускается в самые низы человеческой жизни и среди грешников видит больше святости, чем среди праведников. Уже не раз отмечалось, что странник-юродивый тяготеет не к церквам, а к кабакам, баням, где обитают «грешники». Нехлюдов чувствует себя совсем иным человеком в так называемом «преступном мире», среди заключенных. Здесь видит он истинные образцы подвижничества и святости и приходит к выводу, что многие из тех, кого общество считает преступниками, на самом деле представляют собой «лучшую часть» этого общества.
Внутренне сблизившись с простым народом, Нехлюдов чувствует себя среди крестьян и заключенных гораздо естественнее, чем в светских гостиных, но не сбрасывает свою внешнюю оболочку, оставаясь в привычном ему европейском костюме. Между тем переодевание перед уходом совершают и Будда, и Александр I, и офицер Касатский. Почему же подобное внешнее превращение не происходит с Нехлюдовым?
Дело в том, что Нехлюдов завершает собою целую галерею «цивилизованных странников» русской литературы от Алеко Пушкина до Оленина Толстого. Странничество — давний и глубинный мотив русской литературы. Чувства «изгнанника» отличаются от чувства странника. Странник в цивилизованном костюме в той или иной мере наделен пророческим сознанием, как Печорин Лермонтова. Он чувствует себя возвышающимся над миром людей, подобно горным вершинам и равнодушным звездам. Цыганский табор, Кавказ, казацкая станица, деревня для них оказывается таким же чуждым пространством, как и город, который они покинули.
Но еще в середине XIX столетия навстречу этим странникам цивилизации потянулась вереница странников в рубище.
«В армяке с открытым воротом,
С обнаженной головой,
Медленно проходит городом
Дядя Влас — старик седой...
Полон скорбью неутешною,
Смуглолиц, высок и прям,
Ходит он стопой неспешною
По селеньям, городам».
В одежду этого странника переодеваются, и не только внешне, герои Толстого. Если в начале XIX столетия Пушкина можно было увидеть на ярмарке в крестьянской одежде, то в конце столетия в той же одежде можно было увидеть Льва Николаевича Толстого.
Отец Сергий схвачен как беспаспортный бродяга и отправлен в Сибирь в одежде простого странника. Нехлюдов встречается с подобным странником на переправе. Переправа в художественном произведении часто рубеж между двумя различными мирами. Видимо, и эта переправа символизирует переход к иной ступени сознания. Между странником и Нехлюдовым происходит в высшей степени знаменательная беседа.
Сначала окружающие выпытывают у старика, какой он веры, почему он не молится. Выясняется, что никакой веры у него нет, что он никому не верит, «окроме себя». Этот ответ взволновал Нехлюдова. «Да как же себе верить?.. Можно ошибиться».
Вопрос этот очень важен. Нехлюдов принимает старца за одного из бесчисленных «пророков». Но оказывается, странник вовсе не обладает такой самоуверенностью. Его символ веры отражает полифоническое сознание: «верь всяк своему духу, и вот будут все соединены». Для него очень важно не принять на себя никакого «звания». Он даже от имени своего отказывается. На вопрос об имени странник отвечает, что ни имени, ни отечества у него нет, ибо он от всего отрекся, он называет себя «человеком». Отказывается он и от обычного понимания пространства и времени, говоря, что годов не считает, что он, человек, «всегда был» и «всегда будет». Отцом своим странник называет бога, а матерью землю. На главный вопрос судейских чиновников — признает ли он царя — странник тоже дает ответ исчерпывающий и в то же время двойственный — «он себе царь, а я себе царь».
Позднее Нехлюдов встречает этого старика в тюрьме. Его речь, его образ мысли отличаются одним свойством, которое характерно для юродствующего сознания. Его ответы всегда многозначительны, всегда оставляют возможность двоякого толкования: один смысл житейский, другой смысл аллегорический, духовный, не выразимый обычной риторикой.
Эта сознательная двусмысленность отражает двойственную позицию юродивого в мире. Юродивый не отшельник, он не уходит от людей, он всегда в людных местах: в кабаках, в банях, на церковной паперти, но одновременно он везде странник в этом мире, ибо он отражает в себе его негативную сторону: зло, несправедливость, ложь, беззаконие. Юродивый добровольно терпит то, что других людей заставляют терпеть насильно, но в этом терпении не смирение, а протест.
Так добровольно принимает на себя участь заключенных странник, встретившийся Нехлюдову на переправе, но и сам Нехлюдов уже разделяет во многом участь арестованных. Добровольно покинув свой благоустроенный светский быт, он следует в Сибирь и уже не отделяет свои интересы и свою участь от участи всех казнимых и угнетаемых.
Оба «странника», и старец, и Нехлюдов, оказались в Сибири добровольно. На Нехлюдове костюм цивилизованного человека. Старик облачен в рубище, его одежда — извечная «форма» юродивого, странника из народа. Пристально всматриваются они друг в друга, узнавая и еще не веря своему узнаванию. На пароме произошла встреча двух странников: идущего к народу и идущего из народа — здесь как бы скрестились две традиции русской истории и русской культуры.
Уход Толстого из Ясной Поляны — последняя редакция многих других уходов. Был уход на Кавказ, воплотившийся в исканиях Оленина, был уход в Ясную Поляну к извечным нетленным ценностям земли, семьи и природы, так уходил в свое семейное деревенское затворничество Левин в «Анне Карениной». Было первое бегство из Ясной Поляны в привольные башкирские степи и, наконец, последний уход, пророчески предначертанный в «Отце Сергии» и «Записках сумасшедшего».
Семантика ухода в истории мировой культуры в какой-то степени всегда однозначна. Уходят, когда исчерпан запас этических ценностей дряхлой цивлизации. На пороге брезжит что-то новое, какой-то «свет невечерний». Ценности нового мира и новой цивилизации выражены пока лишь через отрицание старой. «Сжечь бы все это»,— произносит Толстой, глядя на книжные сокровища Румянцевской библиотеки. От этих ужасных слов заболел и слег хранитель книжных сокровищ и предвестник освоения космоса философ Федоров. Напрасно старика пытаются убедить, что это всего лишь шутка. Пророчески дальновидный Федоров понимает: Толстой не шутит. Как не шутил протопоп Аввакум, когда, уйдя из царского дворца, грозил царю — «уж я бы того Никона рассек». И рассек бы, и все печатные книги предал бы сожжению. Когда человек уходит, ему ничего не жалко.
Вектор ухода Толстого простирается не в прошлое, а в будущее. В прошлом все мосты сожжены. Еще стоит на пути Оптина пустынь с таинственным прообразом Зосимы Достоевского старцем Амвросием. Толстой незадолго до ухода читает сцены посещения Зосимы семейством Карамазовых, читает и критикует. Да и сам Зосима Достоевского приказывает послушнику Алеше Карамазову уйти из монастыря в мир. Алеша, как отец Сергий, уходит не в монастырь, а из монастыря. Но все же маршрут бегства Толстого проходит через Шамордино — женскую обитель Оптиной пустыни, где живет его сестра. Но стены пустыни — слишком ветхая плотина, чтобы сдержать паводок ухода. Встала на пути железная дорога, та самая, которую отчаянно отрицал Левин, та самая, что перерезала жизнь Анны Карениной, та самая, что встала на пути Катюши Масловой, когда мимо прокатили сияющие вагоны первого класса.
Когда-то отец Сергий — Касатский узнавал расписание поездов, мечтал куда-то уехать. Теперь сам Толстой перебирает маршруты. Смутно возникает образ Кавказа, уже знакомый по первому уходу, но это скорее несбыточный сон, какое-то несбыточное пушкинско-лермонтовское мечтание.
Где же найти защиту от опостылевших ложных ценностей прошлой цивилизации? Как странно, что последним убежищем стал дом начальника станции, уж не пушкинского ли станционного смотрителя? Однако о стены этого домика разбились волны старой цивилизации. Как ни хлопотали, но не смогли проникнуть в этот домик ни жрецы синода, ни служители жандармерии. Скромный домик станционного смотрителя стал для них неприступной крепостью, которую нельзя было взять ни открытым штурмом, ни тайным подкопом. «Стража» так и осталась только «у двери гроба», и не они, а мы стали свидетелями смерти, воскресения и бессмертия Льва Толстого.
|
|
юнна мориц к.кедрову |
юнна мориц к. кедрову
http://1ben-konst.livejournal.com/
http://www.liveinternet.ru/users/2502406/video/
http://video.mail.ru/mail/kedrov42/6/
http://konstantin-kedrov.ru/
ТУМАННОСТЬ ДЫХАНЬЯ И ПЕНЬЯ
К. Кедрову
Вот берег, который мне снится.
И лунные камни на нем.
И вижу я лунные камни,
И знаю, что это они.
И вижу я лунные камни.
И синяя птица на них.
И вижу я синюю птицу,
И знаю, что это она.
И вижу я синюю птицу,
Небесные розы над ней.
Я вижу небесные розы,
И знаю, что это они.
Я вижу небесные розы,
Венки из улыбок мадонн,
Газелью улыбку вселенной,
И знаю, что это они.
Тут все переливчато, зыбко,
Волнисто и мглисто, как жизнь,
Как берег, который мне снится,
Когда просыпается дух,
И вижу я лунные камни
И синюю птицу на них,
И вижу я синюю птицу -
Небесные розы над ней,
Я вижу небесные розы,
Венки из улыбок мадонн,
Газелью улыбку вселенной -
И знаю, что это со мной.
И вечнозеленые звезды,
И волны, и воздух, и кровь
Струятся, двоятся, троятся,
Сплетаются тайно со мной.
И плащ мой уже не просохнет
В туманах, клубящихся тут:
Вселенная наша туманна,
Туманные песни поет!..
И я бы на месте вселенной
Закутала тайну в туман
И пела туманные песни
О тайне в тумане своем!
Туманные песни бы пела,
Когда бы вселенной была!..
Такие туманные песни,
Чтоб ветер развеять не смог
Туманность, где лунные камни
И синяя птица на них,
Туманность, где синяя птица -
Небесные розы над ней,
Небесные розы - туманность! -
Венки из улыбок мадонн,
Газелья улыбка вселенной,
Туманность начала, конца,
Туманность лозы виноградной,
Струящейся жизни туманной,
Туманность дыханья и пенья,
Туманность, туманность одна!..
1978, Пицунда
Опубликовано в книге «Третий глаз»
http://1ben-konst.livejournal.com/
http://www.liveinternet.ru/users/2502406/video/
http://video.mail.ru/mail/kedrov42/6/
http://konstantin-kedrov.ru/
ТУМАННОСТЬ ДЫХАНЬЯ И ПЕНЬЯ
К. Кедрову
Вот берег, который мне снится.
И лунные камни на нем.
И вижу я лунные камни,
И знаю, что это они.
И вижу я лунные камни.
И синяя птица на них.
И вижу я синюю птицу,
И знаю, что это она.
И вижу я синюю птицу,
Небесные розы над ней.
Я вижу небесные розы,
И знаю, что это они.
Я вижу небесные розы,
Венки из улыбок мадонн,
Газелью улыбку вселенной,
И знаю, что это они.
Тут все переливчато, зыбко,
Волнисто и мглисто, как жизнь,
Как берег, который мне снится,
Когда просыпается дух,
И вижу я лунные камни
И синюю птицу на них,
И вижу я синюю птицу -
Небесные розы над ней,
Я вижу небесные розы,
Венки из улыбок мадонн,
Газелью улыбку вселенной -
И знаю, что это со мной.
И вечнозеленые звезды,
И волны, и воздух, и кровь
Струятся, двоятся, троятся,
Сплетаются тайно со мной.
И плащ мой уже не просохнет
В туманах, клубящихся тут:
Вселенная наша туманна,
Туманные песни поет!..
И я бы на месте вселенной
Закутала тайну в туман
И пела туманные песни
О тайне в тумане своем!
Туманные песни бы пела,
Когда бы вселенной была!..
Такие туманные песни,
Чтоб ветер развеять не смог
Туманность, где лунные камни
И синяя птица на них,
Туманность, где синяя птица -
Небесные розы над ней,
Небесные розы - туманность! -
Венки из улыбок мадонн,
Газелья улыбка вселенной,
Туманность начала, конца,
Туманность лозы виноградной,
Струящейся жизни туманной,
Туманность дыханья и пенья,
Туманность, туманность одна!..
1978, Пицунда
Опубликовано в книге «Третий глаз»
|
|
эдмунд иодковский акростих к.кедрову |
http://1ben-konst.livejournal.com/
http://www.liveinternet.ru/users/2502406/video/
http://video.mail.ru/mail/kedrov42/6/
http://konstantin-kedrov.ru/

http://www.liveinternet.ru/users/2502406/video/
http://video.mail.ru/mail/kedrov42/6/
http://konstantin-kedrov.ru/

|
|
вилли мельников константину кедрову |
http://1ben-konst.livejournal.com/
http://www.liveinternet.ru/users/2502406/video/
http://video.mail.ru/mail/kedrov42/6/
http://konstantin-kedrov.ru/

http://www.liveinternet.ru/users/2502406/video/
http://video.mail.ru/mail/kedrov42/6/
http://konstantin-kedrov.ru/

|
|
выставка Павла челищева |
константин кедров
не покидай меня
мой ангел нечетнокрылый
чтобы летел я на крыльях высоких врат
чтобы они открывались
как складываются крылья






























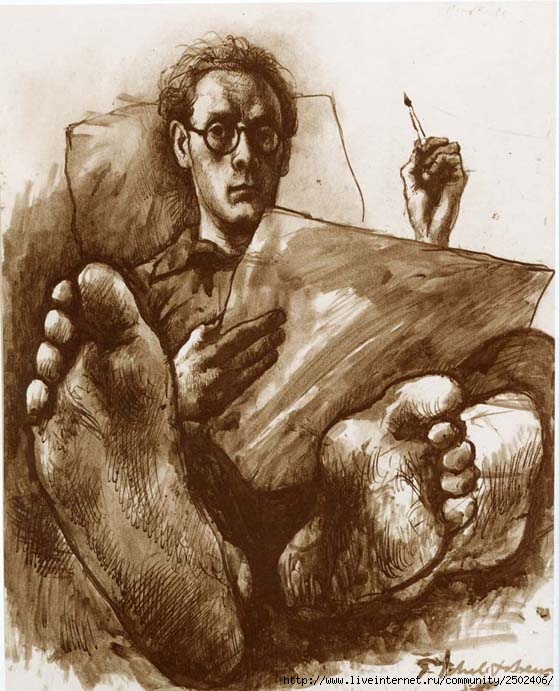


не покидай меня
мой ангел нечетнокрылый
чтобы летел я на крыльях высоких врат
чтобы они открывались
как складываются крылья






























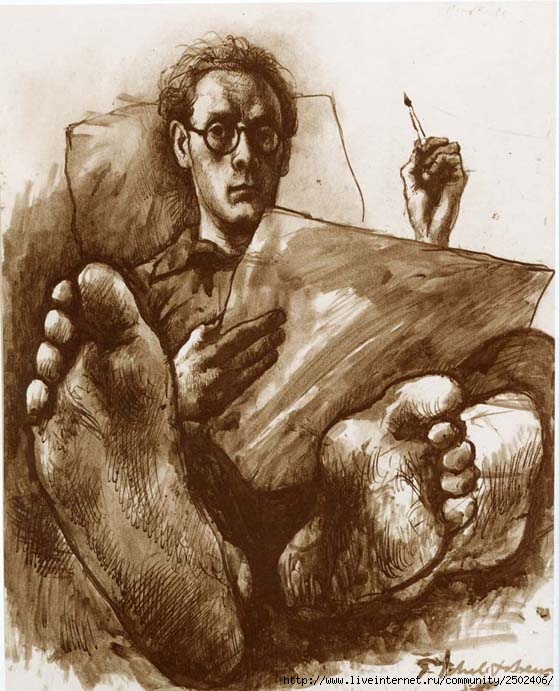


|
|
к.кедров ю.любимов сократ/оракул |
СЦЕНА 1
ПЛАТОН. Я уже прошёл все стадии очищения. Скажи, о Сократ, когда же меня посвятят в последнюю тайну дельфийских мистерий?
СОКРАТ. Попробуй это вино из Дельф, по-моему, дельфийцы явно перекладывают корицы. Как ты думаешь, Аристотель?
АРИСТОТЕЛЬ. Я знаю 114 способов приготовления вин, но впервые слышу, что в вино можно класть корицу. Надо записать. 115-ый способ, дельфийский, с корицей, (записывает).
ПЛАТОН. Ты неправильно понял учителя. Сократ говорит об истине, а ты о корице. Что такое дельфийское вино, по-твоему?
С0КРАТ (отхлебывает). По-моему, это виноград позапрошлого урожая, сок явно перебродил, а чтобы заглушить кислятину, дельфийцы втюхали туда еще корицу. Но нет ничего тайного, чтобы не стало явным (отхлёбывает ещё раз). Ин вино веритас – истина в вине, как корица. Всегда горчит,
АРИСТОТЕЛЬ. Истина бывает трёх родов: истина, которая рождается в споре, истина, которая и без того всем известна и, наконец, которая не рождается. Один если не знает, о чём спорит, – дурак, а другой если спорит и знает, – мерзавец.
СОКРАТ. В спорах рождаются только вражда и споры, да ещё спорщики, один глупее другого: один глуп, что спорит, другой – что оспаривает:
Веленью Божию, о лира, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспоривай глупца.
Искусная акушерка только извлекает на свет младенца, но родить она всё равно не сможет. Рожать приходится самому (поглаживает живот).
ПЛАТОН. Глядя на твой живот, можно заподозрить, что ты вот-вот явишь нам новую истину. Интересно, от кого ты смог забрюхатеть, уж не от Аристотеля ли?
АРИСТОТЕЛЬ. Ты же всегда утверждал, Платон, что любовь к учителю всегда платоническая. Это женщин любят корыстно, желая от них детей, а любовь к учителю, да ещё к такому безобразному, как Сократ, есть не что иное, как...
СОКРАТ. Ужасное свинство.
ПЛАТОН. Дельфийское вино, о котором говорил нам Сократ, это мудрость. Во-первых, оно из Дельф, значит в нём прозрение дельфийских оракулов, во-вторых, оно прошлогоднее, а истина всегда в прошлом, в третьих, оно горчит. Ведь не даром говорят: “Горькая истина”.
АРИСТОТЕЛЬ. Ты так много говоришь о вине, а сам ни разу не отхлебнул. Вот и о мудрости твои рассуждения чисто платонические Ты ведь ни разу её и не пробовал на зубок.
СОКРАТ: Погоди Платон! Не слушая... его не пей. Проведём чистый эксперимент. Вот Платон – он не пил дельфийского вина. Вот Аристотель – он уже назюзюкался, А теперь пусть каждый из Вас скажет, что он думает о вине.
АРИСТОТЕЛЬ (поёт).
А мы пить будем,
гулять будем,
а смерть придет,
помирать будем.
ПЛАТОН. Чем я провинился перед Сократом, что он не даёт мне отведать своего вина?
С0КРАТ. Но вино уже давно перекочевало в Сократа. И теперь отведать вина значит то же самое, что отведать Сократа,
ПЛАТОН. Кое-кто уже отведал и того другого, а Платон, как всегда, остался не при чём. Теперь я понимаю, почему Аристотель давно посвящённый, а я всё ещё ученик.
СОКPAT. Кто больше, учитель или ученик?
АРИСТОТЕЛЬ (икая). Конечно, учитель!
СОКРАТ. Ошибаешься! Вот мы с тобой выпили все вино, Я как был пузатым, так и остался пузатым, А ты раздулся и стал вдвое больше Сократа, а ведь ты только ученик, хотя и посвящённый.
ПЛАТОН. Теперь я понял, почему ты не угостил меня дельфийским вином, а напоил только Аристотеля. Вино – это мудрость. Ты наполнил Аристотеля тем, чего ему явно не хватало,
СОКРАТ. И по той же причине я посвятил Аристотеля и не посвятил тебе. Учёного учить – только портить.
Входит безобразная Ксантиппа и смотрит на Сократа, который лежит между двумя зеркалами и смотрит в каждое по очереди. На одной раме написано “Аристотель”, на другой — “Платон”. Рядом валяется глиняный кувшин. Сократ возлежит между зеркалами и беседует со своим отражением, глядя в пустое зеркало.
СОКРАТ. Вот я гляжу в зеркало и что вижу – Сократа? Как бы не так. Вижу либо Аристотеля, либо Платона. И так всегда: глотну глоток – Платон, выпью ещё – Аристотель. А Сократа я отродясь не видел. Откуда вообще я знаю, что есть Сократ? Если бы не отраженье, то о Сократе можно было бы узнать только от Платона и Аристотеля. А отраженье – это всего лишь иллюзия Сократа, а отнюдь не Сократ.
КСАНТИППА. Опять назюзюкался? Лучше бы ощипал этого петуха. Ты хотел петуха, вот я и принесла тебе петуха.
СОКРАТ. Что за черт, только что в этом зеркале был Платон, а теперь Ксантиппа.
КСАНТИППА. В глазах у тебя двоится, нет здесь никакого Платона. Надо ж такое выдумать! Собственную жену называет то Платоном, то Аристотелем. Вечно ему мерещатся какие-то ученики. Какие ученики? Кому нужен этот лысый и пузатый алкоголик, помешавшийся на красивых мальчиках, которых он в глаза никогда не видел,
СОКРАТ. Мальчик, вина!
КСАНТИППА (бьет Сократа петухом по голове). Вот тебе мальчик. Вот тебе вино. Вот тебе Платон, вот тебе Аристотель.
С0КРАТ. Нет, о жители Беоты, вы не заставите меня отречься от моих идей. Платон мне друг, но истина дороже.
КСАНТИППА. Пошел вон, ублюдок, пока я тебя не забила до смерти.
СОКРАТ. За что, о беотийцы, вы приговариваете меня к изгнанию. Лучше приговорите меня к чаше с ядом.
КСАНТИППА. Ну вот что, с меня довольно! Можешь упиться своей цикутой, больше ноги моей здесь не будет. (Швыряет ему под ноги петуха и уходит).
СОКРАТ (смотрится в зеркало). Платон, где ты? Почему у меня нет отраженья? Может, я уже умер и потому не отражаюсь. Посмотрюсь во второе зеркало. Ay, Аристотель... Никого нет! Придётся пить цикуту в полном одиночестве. (Отхлёбывает вина). Что за чёрт? Почему в зеркале отражается Сократ? И в этом тоже Сократ. А где же Платон, где же Аристотель? А, я всё понял. Ксантиппа подмешала в дельфийское вино цикуту. Я выпил яд и познал самого себя. Так эта лысая обезьяна с приплюснутым носом и есть Сократ? В таком случае, я не хочу иметь ничего общего с Сократом.
Входят Платон и Аристотель
АРИСТОТЕЛЬ. Рассуди нас, Сократ Мы спорим, что есть прекрасное?
СОКРАТ. Сверху черно, внутри красно, как засунешь, так прекрасно. Что это?
ПЛАТОН. Это пещера, посвящённая в Дельфах. Сверху она покрыта жертвенными овечьими шкурами, а когда выползаешь в узкий проход, то на жертвеннике сияет вечный огонь.
АРИСТОТЕЛЬ. Это жертвенная овца. Когда засунешь в неё нож, он обагрится изнутри кровью и боги скажут – это прекрасно.
ПЛАТОН. Прекрасное есть жизнь.
АРИСТОТЕЛЬ. Прекрасное – это отражение жизни. Жизнь безобразна, как Сократ, но когда Сократ говорит, он отражает жизнь, и становится прекрасным.
ПЛАТОН. Значит прекрасна не жизнь, а мысль. Мысли Сократа делают жизнь прекрасной.
СОКРАТ. Мне плохо, пожалуйста, сварите мне петуха.
АРИСТОТЕЛЬ. Сократ хочет отведать курятины.
ПЛАТОН. Похоже, он ее уже отведал, весь с ног до головы в перьях.
АРИСТОТЕЛЬ. Давай сварим этого петуха и съедим, а бульон отдадим Сократу.
ПЛАТОН. А ты не боишься Ксантиппы?
АРИСТОТЕЛЬ. Ксантиппы бояться, к Сократу не ходить. Эй, Ксантиппа!
Входит прекрасная Аспазия-Диотима.
СОКРАТ. Ксантиппа, свари петуха.
АРИСТОТЕЛЬ. Ты... Ксантиппа?
ДИОТИМА. А что тебя удивляет?
АРИСТОТЕЛЬ. Нет, ничего, я только, я думал, мы хотели, то есть мы не думали, что у Сократа такая прекрасная жена.
ПЛАТОН. Вот и верь после этого людям!
ДИОТИМА. Разве Сократ никому не говорил обо мне?
ПЛАТОН. О нет, прекрасная Ксантиппа, он только о тебе и говорит…
АРИСТОТЕЛЬ. Вот видишь, мы знали Ксантиппу только со слов Сократа, и теперь ты можешь убедиться, насколько жизнь прекраснее слов.
СОКРАТ (бормочет). Прекрасное есть жизнь.
ПЛАТОН. Не может быть, чтобы эту глупость изрек Сократ. Он явно перебрал дельфийского вина.
ДИ0ТИМА. Зачем Вам этот жилистый петух. Лучше отведаете целительного бульона. Я приготовила его для Сократа, а теперь с удовольствием угощу и его учеников. Вас с Сократом трое, значит и мне в три раза приятнее накормить гостей. (Поит из чаши мычащего Сократа. Платон и Аристотель с удовольствием пьют бульон).
ПЛАТОН. Подумать только, насколько бульон прекраснее курицы. Ходит по двору какое-то безмозглое созданье, кудахчет, гадит, Но вот принесли ее в жертву, и она так прекрасна в устах философа,
АРИСТОТЕЛЬ. Это божественная энтелехия. Потенциально бульон всегда содержится в курице…
СОКРАТ. Жаль только, что актуально курица не всегда содержится в бульоне. Сыграй нам, о прекрасная Ксантиппа.
АСПА3ИЯ. (играет и поёт).
Кто среди дев дельфийских,
Сестры, всего прекрасней?
Чьи уста слаще мёда,
Глаза беспредельней неба?
Мудрость всего прекрасней,
Мудрость всего разумней,
В мудрости мудрый счастлив,
В счастье счастливый мудр.
ПЛАТОН. Счастлив ты дважды, Сократ, что живёшь с мудростью и женат на красоте.
АРИСТОТЕЛЬ. Нет, лучше стихами: Ксантиппа, ты типа... Типа... типа... типа... (засыпает, за ним засыпают Платон и Сократ, Диотима удаляется, входит Ксантиппа).
КСАНТИППА. А, устроились здесь, развалились, бомжи, бродяги. На минуту нельзя оставить. Опять привёл каких-то голодранцев. Теперь он будет говорить, что это философы – Платон и Аристотель. Помешался на учениках. И себя возомнил каким-то учителем. Весь базар смеется, когда он идёт с корзиной за провизией. Так и говорят – философ идет. Срам-то какой. И где он только находит таких же пьяниц? Вот уж воистину говорится, дерьмо к дерьму липнет. СОКРАТ. Ксантиппа?
ПЛАТОН. А где же прекрасная Диотима?
КСАНТИППА. Какая еще Диотима?
АРИСТОТЕЛЬ. Прекрасная!
КСАНТИППА. Так вы ещё и девку сюда привели! Хорошо, что она убежать успела, а то её постигла бы та же участь. А ну, вон – вон – вон отсюда! (Избивает Платона и Аристотеля петухом. Философы убегают).
С0КРАТ. Ксантиппа? Я жив? Значит, цикута не подействовала. Второй раз меня уже не приговорят к изгнанию. Я был уже на том свете, и знаешь, там ты прекрасна. У тебя прекрасная душа, Ксантиппа. Я видел тебя в образе прекрасной Аспазии. Платон, ты прав. Искусство не зеркало, а увеличительное стекло.
КСАНТИППА. Ладно, не подлизывайся, так и быть, налью тебе еще одну чашу. Лысенький ты мой, пузатенький, курносенький, глупенький (обнимает голову Сократа, оба напевают):
Сладким дельфийским вином напою тебя, милый,
Истина только в вине – говорил мне дельфийский оракул,
Истина ныне в тебе, обменяемся, милый,
Влейся в меня без остатка, смешайся со мною,
Только любовью вино разбавляй, но никак не водою.
(Сократ оборачивается к публике в маске Аполлона. Ксатиппа в маске прекрасной Диотимы).
С0КPAT. Я знаю тo, что ничего не знаю.
КСАНТИППА-ДИОТИМА. Я тоже кое-что знаю, но никому не скажу. Дальнейшее – тишина... Хотя так уж так и быть... Так вот... Нет... Если кое-что у Платона сложить с кое-чем у Аристотеля, то получится ровно столько, сколько у Сократа.
СОКРАТ. Лучше больше, да чаще.
КСАНТИППА. Лучше больше, да дольше.
СОКРАТ. Вот какая фи-ло-фа-со-фия!
До свидания, Сократ и Платон,
До свидания, Платон и Сократ,
Древнегреческий радостный сон
Древнегреческий сладостный лад.
Ионический Орден, прощай,
И Дорический Орден, пока,
Древнегреческий радостный рай
Где одежда Богов – облака.
Там в Афинах Афина весь год,
Где наяды резвятся в воде,
Где ликует элладский народ,
А Сократ пребывает везде,
В Парфеноне приют для богов,
Боги в небе, как рыбы в воде.
Для богов всюду мраморный кров,
А Сократ пребывает нигде.
Аристотель всегда при царе
В Академии мудрый Платон.
А Сократ – он везде и нигде,
И приют для Сократа – притон,
В Древней Греции – греческий сон,
В Древней Греции – греческий лад.
Там всегда пребывает Платон,
И всегда проживает Сократ.
СЦЕНА II
Сократ возлежит по середине сцены. Слева Скала с пещерой с надписью ; “Дельфы”, справа скала, на которой белеет Акрополь, надпись “Афины”. Рядом с Сократом большая амфора с Вином. Рядом с Сократом возлежат двое: мудрец софист Протагор и красавица гетера Аспазия с лирой. Аспазия наигрывает на лире. Все трое поют.
Ты скажи мне, дельфийский оракул,
Почему я так горестно плакал,
Может снова копьё прилетело
И зажившую рану задело,
Или юность моя пролетела,
И гноится душа, а не тело.
Где вы, где вы, дельфийские девы,
Где вы, где вы, премудрые Дельфы?
Дельфы справа, Афины слева,
В середине Диана дева.
Сушит жажда и ноет рана,
Дай вина, богиня Диана,
Дай вина мне, мне, богиня Дева,
Депьфы справа, Афины слева.
ПРОТАГОР. Аспазия, когда я слышу твой голос, мне кажется, что боги гугнивы и косноязычны.
СОКРАТ. Не слушай Протагора, Аспазия, ведь говорил же Анаксагор, а многие считают его мудрецом, что нет никаких богов. А богиня Луна – Диана есть всего лишь навсего камень, висящий в небе и отражающий солнце.
ПРОТАГОР. Вот именно. Ты, Аспазия, прекрасна, как луна, но у тебя и в правду каменное сердце. Ни я, ни Сократ не можем в тебя проникнуть. Ты не Аспазия, ты дева Диана. Вечная девственница, убивающая всех своею красотой.
АСПАЗИЯ.
Почему все боги убоги,
Почему все люди несчастны?
То поют, то плачут от боли
Похотливо и сладострастно.
СОКРАТ. Не слушай, Аспазия, этого словоблуда. Как истинный афинянин, он всегда несет афинею, то есть ахинею.
ПРОТАГОР. Разве ты не знаешь, Сократ, что я человек?
СОКРАТ. А что это ещё за чудовище? Курицу знаю, она несет яйца, а человек несет только афинею.
Афинею несут афиняне,
А дельфийцы несут дельфина.
Два философа на поляне,
Два критические кретина.
Оба мудры, как сто дельфинов,
Оба глупы, как малые дети.
Помоги, богиня Афина,
Средь философов уцелеть мне.
Если бы в Афинах не было Аспазии, мы, с тобой, Протагор, никогда бы не стали философами. Как ты думаешь, что такое философия?
ПРОТАГОР. Разве само название не говорит за себя? Филос – дружба, София – мудрость. Философия – дружба с мудростью.
СОКРАТ. Тогда я предлагаю переименовать Софию в Аспазию.
ПРОТАГОР. Правильно! Филаспазия, любовь к Аспазии – вот истинная мудрость.
CОКРАT. Но Филос – это дружба, а не любовь,
ПРОТАГОР. Значит надо Филос сменить на Эрос. Эроспазия – вот истинная мудрость
СОКРАТ. Эрос – это всего лишь влечение к женщине и желание иметь от неё детей. Но ведь Аспазия – само совершенство. Ты же не можешь представить, Протагор, что от Аспазии родится дитя умнее и прекраснее, чем она.
ПРОТАГОР. Это очевидно. Быть умнее и прекраснее Аспазии то же самое, что быть светлее Солнца, значит от Аспазии может быть только Луна – Диана, всего лишь отраженье самой Аспазии – солнца. Если прав Анаксагор, то Луна – только раскалённый камень. Если же от Аспазии родится дитя такое же прекрасное, как она, появятся два солнца, что крайне нежелательно.
СОКРАТ. Не значит ли это, Протагор, что мы должны любить Аспазию больше, чем Луну и Солнце?
ПРОТАГОР. Это само собою. Я и так её люблю больше всех звезд на небе.
С0КРАТ. Тогда это не Фипос – дружба, не Эрос - влечение, а любовь, обнимающая весь Мир, вмещающая и Филос, и Эрос, и зовётся она Агапия.
ПРОТАГОР. Агапия – Аспазия, даже звучание сходно, и нет надобности, что-либо переделывать.
С0КРАТ. Тогда я спрошу тебя, Протагор, кто нам милее и ближе – Агапия или Аспазия?
ПРОТАГОР. В твоем вопросе уже ответ.
АСПАЗИЯ. Эх, вы, софисты проклятые. Вот и любите свою Агапию, а я ухожу.
СОКРАТ. О нет, Агапия, я хотел сказать Аспазия. Мы глупы, как все философы. Не надо быть философом, чтобы понять, насколько Аспазия милее Агапии, Ведь Агапия – это всего лишь весь мир. В то время, как Аспазия – самая любимая часть всего мира.
ПРОТАГОР. А каждый ребёнок знает, что часть больше целого и я берусь это немедленно доказать,
АСПАЗИЯ. Вот и докажите, жалкие пьяницы, прелюбодеи, сладострастники и хвастунишки, мнящие себя философами.
С0КРАТ. Скажи, о Протагор, что тебе милее в Аспазии, грудь ее или вся Аспазия?
ПР0ТАГ0Р. Вопрос на засыпку. Конечно, вся Аспазия.
СОКРАТ. Тогда, о Протагор, попробуй мысленно отсечь часть…
АСПАЗИЯ. В каком смысле?
СОКРАТ. Прости меня, Аспазия, но я предлагаю Протагору самое ужасное, что может быть на свете, – представить себе Аспазию без груди.
АСПАЗИЯ. Вот нахал!
С0КРАТ. Что лучше, Аспазия без груди или грудь без Аспазии?
ПРОТАГОР. Грудь! Грудь!! Конечно же грудь!!! (Пытается обнять Аспазию).
АСПА3ИЯ (ускользая). Вы дофилософствовались, что у вас не будет ни груди, ни Аспазии.
С0КРАТ. Теперь мы поняли, что часть больше целого, а ведь это только грудь. Я же не говорил о других, ещё более прекрасных частях.
АСПА3ИЯ. Но, но, но! Что ты имеешь в виду, сатир?
СОКРАТ. Не подумай чего плохого, Аспазия, т.е. я хотел сказать, чего хорошего. Я имел в виду прекрасную таинственную расщелинку, в которой заключена вся мудрость мира.
АСПАЗИЯ: Ну ты наглец!
СОКРАТ: Я говорю о расщелинке в Дельфах, откуда слышен голос дельфийского оракула.
Сократ встает на колени, охватывает Аспазию и целует ее в лоно. Раздаётся удар грома, молния пересекает небо. На скале в Дельфах появляется Гонец с лавровым венком.
ГОНЕЦ ИЗ ДЕЛЬФ. Сократ, дельфийские жрецы венчают тебя лавровым венцом и приглашают на мистерию посвящения в Дельфы. (Снова удар грома и гонец на афинской скале возглашает):
ГОНЕЦ ИЗ АФИН. Сократ, Ареопаг Афин обвиняет тебя в богохульстве. Ты должен явиться на суд, где будешь приговорён к изгнанию или смерти.
СОКРАТ (на коленях целуя Аспазию). Дельфы – Афины, слава – гибель. Куда идти, куда идти, Аспазия?
АСПАЗИЯ. Милый, любимый, мудрый Сократ, не ходи на суд. Кто эти пигмеи, что осмеливаются судить Сократа? Иди в Дельфы, Сократ, иди в Дельфы, к скале, к расщелинке; она всех рассудит.
ПРОТАГ0Р. Я здесь третий лишний, Уйду. Любовь, похоже не светит, а смертью пахнет. За дружбу с богохульником по головке не погладят. Ухожу. Аспазия медленно подходит к Дельфийской скале, прислоняется к ней спиной и замирает в виде женского распятия с лютней.
Г0НЕЦ ИЗ ДЕЛЬФ (возглашает)
Благородные Дельфы!
И ты, о Сократ благородный!
Ныне боги тебя принимают
В синклит богоравных,.
Ибо кто из двуногих
подобною мудростью славен?
Разве только Афина Паллада
С Минервой совою.
По обычаю древнему ныне Дельфийский оракул
будет нами в заветную щель вопрошаем.
Сократ, увенчанный лаврами, стоит на коленях, обнимая Аспазию с лирой, прижавшуюся к скале. Его уста обращены к ее лону - щели Дельфийского Оракула.
СОКРАТ:
Боги, боги, боги, боги,
Наши знания убоги,
Наши мысли мимолетны,
Ненадежны и бесплотны.
Приумножьте же стократно
Мысль смиренного Сократа,
Чтобы Дельфы и Афины
Не судами были сильны,
Чтобы нас связало братство,
Побеждающее рабство.
ГОНЕЦ. Хайре Сократу, мужественному гоплиту, камнеметальщику!
ХОР. Хайре, в битве радуйся!
Г0НЕЦ. Хайре Сократу, прикрывшему щитом в битве друга.
ХОР. Хайре, хайре!
Г0НЕЦ. Слава Сократу, вынесшему друга из битвы с открытой раной!
ХОР. Хайре, хайре!
С0КPАT (рыдая). О дельфийцы! Вы победили непобедимого, вы заставили меня плакать. Никто не видел плачущего Сократа, Даже когда прекрасная Аспазия удалилась на моих глазах с юным воином в расщелину скал, даже когда 30 тиранов приговорили меня к гибели, которой я избежал, скрывшись в Дельфах. А ныне, вы видите, я плачу.
ГОНЕЦ: О чём твои слезы, Сократ? Ведь мы венчаем тебя высшей наградой, лаврами победителя и героя, отныне ты высший дельфийский жрец, вопрошающий оракула о судьбе.
СОКРАТ: Именно об этом я плачу. Нет ничего страшнее, чем достичь вершины и знать, что других вершин для тебя уже нет на земле,
АСПАЗИЯ-ОРАКУЛ. Ты ошибаешься, Сократ, вершина впереди. Ты ошибаешься, Сократ, войди в меня, войди,
Сократ и Аспазия обнимают друг друга И сливаются в поцелуе. Их опутывают со всех покрывалом Изиды.
ГОНЕЦ. Сократ удалился в пещеру, теперь он выйди из нее посвящённым.
ХОР. Хайре – хайре – хайре – хайре! Ехал грека через реку, видит грека в реке рак, сунул грека руку в реку, рак за руку греку цап, Хайрехайрехай - ре – ми – фа – соль – ля – си – до, до – си – ля – соль – фа – ми – ре – до, сунул – сунул – сунул – сунул – сунул, но не вынул.
ГОНЕЦ: Ну как там?
ХОР. Еще не закончили.
ГОНЕЦ: Славьте!
ХОР.
Шла собака по роялю,
наступила на мозоль,
и от боли закричала:
до-ре-до-ре-ми-фа-соль…
ГОНЕЦ. Сколько прошло времени?
ХОР (нараспев) А кто его знает, за что он хватает, за что он хватает, куда он…
ГОНЕЦ: Ну, хватит, пора уже закругляться.
Хор распутывает покрывало Изиды, там, где был молодой Сократ с прекрасной Аспазией теперь сидит лысый, пузатый, 70-летний старик с безобразной Ксантиппой.
ГОНЕЦ: Что там?
XОР. О, ужас, ужас, ужас!
ГОНЕЦ: Кто там?
ХОР. Старый Сократ с безобразной женой Ксантиппой.
ГОНЕЦ. Что она с ним делает?
ХОР. Не то гладит по лысине, не то бьет по голове.
ГОНЕЦ. А если это Любовь?
ХОР.
Любовь
Лю-боль
Лю-бой
С тобой
Любой
ГОНЕЦ. Что узнал ты, Сократ, от богов? Поведай нам, смертным!
СОКРАТ. Я знаю то, что ничего не знаю.
ХОР.
Я знаю то,
Я не знаю то
Я знаю не то
Я не знаю то
СОКРАТ. В юности мой друг Протагор говорил: “Человек есть мера всех вещей. Существующих, поскольку они существуют, и не существующих, поскольку они не существуют”. Но как может быть мерой тот, кто постоянно не постоянен. Принесите медное блюдо. (Смотрится в блюдо, как в зеркало).
ГОНЕЦ. Слушайте все, Сократ возвестил нам закон Бога - “Я знаю то, что ничего не знаю” (в недоумении вертит глиняную дощечку). Ничего не понимаю, фи гня какая-то “Сократ - отныне ты самый мудрый из смертных!!!”
Удар грома, появляется афинский гонец
ГОНЕЦ ИЗ АФИН. Сократ, афинский ареопаг приговаривает тебя к изгнанию или смерти.
СОКРАТ. Как можно приговорить того, кто приговорён природой?
ГОНЕЦ. Что ты хочешь этим сказать?
СОКРАТ. Я хочу сказать, что я ничего не хочу сказать. Каждый человек приговорён к смерти, если он рождён. “Дальнейшее молчание” - как скажет Гамлет через 2000 лет,
ГОНЕЦ. Он издевается над нами, о афиняне!
СОКРАТ. Ты сказал, что я приговорён к смерти?
ГОНЕЦ. Да.
СОКРАТ. Но разве афинский Ареопаг состоит из бессмертных?
ГОНЕЦ. Ареопаг состоит из лучших людей страны, это передовики, ветераны, то есть, я хотел сказать...
СОКРАТ. Меня бог поставил в строй! Я сам ветеран многих битв, мне 70 лет, и я, к сожалению, смертен. Смертны и вы, члены Ареопага. Как же могут смертные приговаривать к смерти того, кого бессмертные приговорили сначала к жизни, потом к бессмертию.
ГОНЕЦ. Выбери сам, Сократ, своё наказание. Что ты предпочитаешь - изгнание или чашу с ядом?
СОКРАТ. Приговорите меня к пожизненному бесплатному обеду вместе олимпийскими чемпионами, удостоенными этой награды.
ХОР.
Чашу, чашу, чашу
Тише, тише, тише
СОКРАТ. Час чаши чище. Да минует меня чаша сия. Впрочем, да будет не так, как хочу я, но как хочешь Ты.
Берёг чашу, отхлёбывает. Наступает тьма.
ФИНАЛ
Сократ (выходит с Чашей в руке)
Гнев, о Богиня, воспой доносчика - сукина сына,
Гнусный торговец, который донёс на Сократа,
Дескать, старик развращает сограждан, не верует в Бога.
Можно подумать, что Боги доносы приемлют.
А не молитвы и подвиги славных героев.
Да, я не верю, что Боги нас видят рабами
Да, я не верю, что Боги с Мелетом доносчиком схожи,
Да, я не верю, что рабство милее свободы.
Рабские гимны, для вас я не складывал, Боги,
Боги, о Боги, о Боги, о Боги, о Боги,
Знаю я только, что знания наши убоги
Знаю, что подла и гнусна людская природа,
Но нам дарована Богом Любовь и Свобода!


















ПЛАТОН. Я уже прошёл все стадии очищения. Скажи, о Сократ, когда же меня посвятят в последнюю тайну дельфийских мистерий?
СОКРАТ. Попробуй это вино из Дельф, по-моему, дельфийцы явно перекладывают корицы. Как ты думаешь, Аристотель?
АРИСТОТЕЛЬ. Я знаю 114 способов приготовления вин, но впервые слышу, что в вино можно класть корицу. Надо записать. 115-ый способ, дельфийский, с корицей, (записывает).
ПЛАТОН. Ты неправильно понял учителя. Сократ говорит об истине, а ты о корице. Что такое дельфийское вино, по-твоему?
С0КРАТ (отхлебывает). По-моему, это виноград позапрошлого урожая, сок явно перебродил, а чтобы заглушить кислятину, дельфийцы втюхали туда еще корицу. Но нет ничего тайного, чтобы не стало явным (отхлёбывает ещё раз). Ин вино веритас – истина в вине, как корица. Всегда горчит,
АРИСТОТЕЛЬ. Истина бывает трёх родов: истина, которая рождается в споре, истина, которая и без того всем известна и, наконец, которая не рождается. Один если не знает, о чём спорит, – дурак, а другой если спорит и знает, – мерзавец.
СОКРАТ. В спорах рождаются только вражда и споры, да ещё спорщики, один глупее другого: один глуп, что спорит, другой – что оспаривает:
Веленью Божию, о лира, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспоривай глупца.
Искусная акушерка только извлекает на свет младенца, но родить она всё равно не сможет. Рожать приходится самому (поглаживает живот).
ПЛАТОН. Глядя на твой живот, можно заподозрить, что ты вот-вот явишь нам новую истину. Интересно, от кого ты смог забрюхатеть, уж не от Аристотеля ли?
АРИСТОТЕЛЬ. Ты же всегда утверждал, Платон, что любовь к учителю всегда платоническая. Это женщин любят корыстно, желая от них детей, а любовь к учителю, да ещё к такому безобразному, как Сократ, есть не что иное, как...
СОКРАТ. Ужасное свинство.
ПЛАТОН. Дельфийское вино, о котором говорил нам Сократ, это мудрость. Во-первых, оно из Дельф, значит в нём прозрение дельфийских оракулов, во-вторых, оно прошлогоднее, а истина всегда в прошлом, в третьих, оно горчит. Ведь не даром говорят: “Горькая истина”.
АРИСТОТЕЛЬ. Ты так много говоришь о вине, а сам ни разу не отхлебнул. Вот и о мудрости твои рассуждения чисто платонические Ты ведь ни разу её и не пробовал на зубок.
СОКРАТ: Погоди Платон! Не слушая... его не пей. Проведём чистый эксперимент. Вот Платон – он не пил дельфийского вина. Вот Аристотель – он уже назюзюкался, А теперь пусть каждый из Вас скажет, что он думает о вине.
АРИСТОТЕЛЬ (поёт).
А мы пить будем,
гулять будем,
а смерть придет,
помирать будем.
ПЛАТОН. Чем я провинился перед Сократом, что он не даёт мне отведать своего вина?
С0КРАТ. Но вино уже давно перекочевало в Сократа. И теперь отведать вина значит то же самое, что отведать Сократа,
ПЛАТОН. Кое-кто уже отведал и того другого, а Платон, как всегда, остался не при чём. Теперь я понимаю, почему Аристотель давно посвящённый, а я всё ещё ученик.
СОКPAT. Кто больше, учитель или ученик?
АРИСТОТЕЛЬ (икая). Конечно, учитель!
СОКРАТ. Ошибаешься! Вот мы с тобой выпили все вино, Я как был пузатым, так и остался пузатым, А ты раздулся и стал вдвое больше Сократа, а ведь ты только ученик, хотя и посвящённый.
ПЛАТОН. Теперь я понял, почему ты не угостил меня дельфийским вином, а напоил только Аристотеля. Вино – это мудрость. Ты наполнил Аристотеля тем, чего ему явно не хватало,
СОКРАТ. И по той же причине я посвятил Аристотеля и не посвятил тебе. Учёного учить – только портить.
Входит безобразная Ксантиппа и смотрит на Сократа, который лежит между двумя зеркалами и смотрит в каждое по очереди. На одной раме написано “Аристотель”, на другой — “Платон”. Рядом валяется глиняный кувшин. Сократ возлежит между зеркалами и беседует со своим отражением, глядя в пустое зеркало.
СОКРАТ. Вот я гляжу в зеркало и что вижу – Сократа? Как бы не так. Вижу либо Аристотеля, либо Платона. И так всегда: глотну глоток – Платон, выпью ещё – Аристотель. А Сократа я отродясь не видел. Откуда вообще я знаю, что есть Сократ? Если бы не отраженье, то о Сократе можно было бы узнать только от Платона и Аристотеля. А отраженье – это всего лишь иллюзия Сократа, а отнюдь не Сократ.
КСАНТИППА. Опять назюзюкался? Лучше бы ощипал этого петуха. Ты хотел петуха, вот я и принесла тебе петуха.
СОКРАТ. Что за черт, только что в этом зеркале был Платон, а теперь Ксантиппа.
КСАНТИППА. В глазах у тебя двоится, нет здесь никакого Платона. Надо ж такое выдумать! Собственную жену называет то Платоном, то Аристотелем. Вечно ему мерещатся какие-то ученики. Какие ученики? Кому нужен этот лысый и пузатый алкоголик, помешавшийся на красивых мальчиках, которых он в глаза никогда не видел,
СОКРАТ. Мальчик, вина!
КСАНТИППА (бьет Сократа петухом по голове). Вот тебе мальчик. Вот тебе вино. Вот тебе Платон, вот тебе Аристотель.
С0КРАТ. Нет, о жители Беоты, вы не заставите меня отречься от моих идей. Платон мне друг, но истина дороже.
КСАНТИППА. Пошел вон, ублюдок, пока я тебя не забила до смерти.
СОКРАТ. За что, о беотийцы, вы приговариваете меня к изгнанию. Лучше приговорите меня к чаше с ядом.
КСАНТИППА. Ну вот что, с меня довольно! Можешь упиться своей цикутой, больше ноги моей здесь не будет. (Швыряет ему под ноги петуха и уходит).
СОКРАТ (смотрится в зеркало). Платон, где ты? Почему у меня нет отраженья? Может, я уже умер и потому не отражаюсь. Посмотрюсь во второе зеркало. Ay, Аристотель... Никого нет! Придётся пить цикуту в полном одиночестве. (Отхлёбывает вина). Что за чёрт? Почему в зеркале отражается Сократ? И в этом тоже Сократ. А где же Платон, где же Аристотель? А, я всё понял. Ксантиппа подмешала в дельфийское вино цикуту. Я выпил яд и познал самого себя. Так эта лысая обезьяна с приплюснутым носом и есть Сократ? В таком случае, я не хочу иметь ничего общего с Сократом.
Входят Платон и Аристотель
АРИСТОТЕЛЬ. Рассуди нас, Сократ Мы спорим, что есть прекрасное?
СОКРАТ. Сверху черно, внутри красно, как засунешь, так прекрасно. Что это?
ПЛАТОН. Это пещера, посвящённая в Дельфах. Сверху она покрыта жертвенными овечьими шкурами, а когда выползаешь в узкий проход, то на жертвеннике сияет вечный огонь.
АРИСТОТЕЛЬ. Это жертвенная овца. Когда засунешь в неё нож, он обагрится изнутри кровью и боги скажут – это прекрасно.
ПЛАТОН. Прекрасное есть жизнь.
АРИСТОТЕЛЬ. Прекрасное – это отражение жизни. Жизнь безобразна, как Сократ, но когда Сократ говорит, он отражает жизнь, и становится прекрасным.
ПЛАТОН. Значит прекрасна не жизнь, а мысль. Мысли Сократа делают жизнь прекрасной.
СОКРАТ. Мне плохо, пожалуйста, сварите мне петуха.
АРИСТОТЕЛЬ. Сократ хочет отведать курятины.
ПЛАТОН. Похоже, он ее уже отведал, весь с ног до головы в перьях.
АРИСТОТЕЛЬ. Давай сварим этого петуха и съедим, а бульон отдадим Сократу.
ПЛАТОН. А ты не боишься Ксантиппы?
АРИСТОТЕЛЬ. Ксантиппы бояться, к Сократу не ходить. Эй, Ксантиппа!
Входит прекрасная Аспазия-Диотима.
СОКРАТ. Ксантиппа, свари петуха.
АРИСТОТЕЛЬ. Ты... Ксантиппа?
ДИОТИМА. А что тебя удивляет?
АРИСТОТЕЛЬ. Нет, ничего, я только, я думал, мы хотели, то есть мы не думали, что у Сократа такая прекрасная жена.
ПЛАТОН. Вот и верь после этого людям!
ДИОТИМА. Разве Сократ никому не говорил обо мне?
ПЛАТОН. О нет, прекрасная Ксантиппа, он только о тебе и говорит…
АРИСТОТЕЛЬ. Вот видишь, мы знали Ксантиппу только со слов Сократа, и теперь ты можешь убедиться, насколько жизнь прекраснее слов.
СОКРАТ (бормочет). Прекрасное есть жизнь.
ПЛАТОН. Не может быть, чтобы эту глупость изрек Сократ. Он явно перебрал дельфийского вина.
ДИ0ТИМА. Зачем Вам этот жилистый петух. Лучше отведаете целительного бульона. Я приготовила его для Сократа, а теперь с удовольствием угощу и его учеников. Вас с Сократом трое, значит и мне в три раза приятнее накормить гостей. (Поит из чаши мычащего Сократа. Платон и Аристотель с удовольствием пьют бульон).
ПЛАТОН. Подумать только, насколько бульон прекраснее курицы. Ходит по двору какое-то безмозглое созданье, кудахчет, гадит, Но вот принесли ее в жертву, и она так прекрасна в устах философа,
АРИСТОТЕЛЬ. Это божественная энтелехия. Потенциально бульон всегда содержится в курице…
СОКРАТ. Жаль только, что актуально курица не всегда содержится в бульоне. Сыграй нам, о прекрасная Ксантиппа.
АСПА3ИЯ. (играет и поёт).
Кто среди дев дельфийских,
Сестры, всего прекрасней?
Чьи уста слаще мёда,
Глаза беспредельней неба?
Мудрость всего прекрасней,
Мудрость всего разумней,
В мудрости мудрый счастлив,
В счастье счастливый мудр.
ПЛАТОН. Счастлив ты дважды, Сократ, что живёшь с мудростью и женат на красоте.
АРИСТОТЕЛЬ. Нет, лучше стихами: Ксантиппа, ты типа... Типа... типа... типа... (засыпает, за ним засыпают Платон и Сократ, Диотима удаляется, входит Ксантиппа).
КСАНТИППА. А, устроились здесь, развалились, бомжи, бродяги. На минуту нельзя оставить. Опять привёл каких-то голодранцев. Теперь он будет говорить, что это философы – Платон и Аристотель. Помешался на учениках. И себя возомнил каким-то учителем. Весь базар смеется, когда он идёт с корзиной за провизией. Так и говорят – философ идет. Срам-то какой. И где он только находит таких же пьяниц? Вот уж воистину говорится, дерьмо к дерьму липнет. СОКРАТ. Ксантиппа?
ПЛАТОН. А где же прекрасная Диотима?
КСАНТИППА. Какая еще Диотима?
АРИСТОТЕЛЬ. Прекрасная!
КСАНТИППА. Так вы ещё и девку сюда привели! Хорошо, что она убежать успела, а то её постигла бы та же участь. А ну, вон – вон – вон отсюда! (Избивает Платона и Аристотеля петухом. Философы убегают).
С0КРАТ. Ксантиппа? Я жив? Значит, цикута не подействовала. Второй раз меня уже не приговорят к изгнанию. Я был уже на том свете, и знаешь, там ты прекрасна. У тебя прекрасная душа, Ксантиппа. Я видел тебя в образе прекрасной Аспазии. Платон, ты прав. Искусство не зеркало, а увеличительное стекло.
КСАНТИППА. Ладно, не подлизывайся, так и быть, налью тебе еще одну чашу. Лысенький ты мой, пузатенький, курносенький, глупенький (обнимает голову Сократа, оба напевают):
Сладким дельфийским вином напою тебя, милый,
Истина только в вине – говорил мне дельфийский оракул,
Истина ныне в тебе, обменяемся, милый,
Влейся в меня без остатка, смешайся со мною,
Только любовью вино разбавляй, но никак не водою.
(Сократ оборачивается к публике в маске Аполлона. Ксатиппа в маске прекрасной Диотимы).
С0КPAT. Я знаю тo, что ничего не знаю.
КСАНТИППА-ДИОТИМА. Я тоже кое-что знаю, но никому не скажу. Дальнейшее – тишина... Хотя так уж так и быть... Так вот... Нет... Если кое-что у Платона сложить с кое-чем у Аристотеля, то получится ровно столько, сколько у Сократа.
СОКРАТ. Лучше больше, да чаще.
КСАНТИППА. Лучше больше, да дольше.
СОКРАТ. Вот какая фи-ло-фа-со-фия!
До свидания, Сократ и Платон,
До свидания, Платон и Сократ,
Древнегреческий радостный сон
Древнегреческий сладостный лад.
Ионический Орден, прощай,
И Дорический Орден, пока,
Древнегреческий радостный рай
Где одежда Богов – облака.
Там в Афинах Афина весь год,
Где наяды резвятся в воде,
Где ликует элладский народ,
А Сократ пребывает везде,
В Парфеноне приют для богов,
Боги в небе, как рыбы в воде.
Для богов всюду мраморный кров,
А Сократ пребывает нигде.
Аристотель всегда при царе
В Академии мудрый Платон.
А Сократ – он везде и нигде,
И приют для Сократа – притон,
В Древней Греции – греческий сон,
В Древней Греции – греческий лад.
Там всегда пребывает Платон,
И всегда проживает Сократ.
СЦЕНА II
Сократ возлежит по середине сцены. Слева Скала с пещерой с надписью ; “Дельфы”, справа скала, на которой белеет Акрополь, надпись “Афины”. Рядом с Сократом большая амфора с Вином. Рядом с Сократом возлежат двое: мудрец софист Протагор и красавица гетера Аспазия с лирой. Аспазия наигрывает на лире. Все трое поют.
Ты скажи мне, дельфийский оракул,
Почему я так горестно плакал,
Может снова копьё прилетело
И зажившую рану задело,
Или юность моя пролетела,
И гноится душа, а не тело.
Где вы, где вы, дельфийские девы,
Где вы, где вы, премудрые Дельфы?
Дельфы справа, Афины слева,
В середине Диана дева.
Сушит жажда и ноет рана,
Дай вина, богиня Диана,
Дай вина мне, мне, богиня Дева,
Депьфы справа, Афины слева.
ПРОТАГОР. Аспазия, когда я слышу твой голос, мне кажется, что боги гугнивы и косноязычны.
СОКРАТ. Не слушай Протагора, Аспазия, ведь говорил же Анаксагор, а многие считают его мудрецом, что нет никаких богов. А богиня Луна – Диана есть всего лишь навсего камень, висящий в небе и отражающий солнце.
ПРОТАГОР. Вот именно. Ты, Аспазия, прекрасна, как луна, но у тебя и в правду каменное сердце. Ни я, ни Сократ не можем в тебя проникнуть. Ты не Аспазия, ты дева Диана. Вечная девственница, убивающая всех своею красотой.
АСПАЗИЯ.
Почему все боги убоги,
Почему все люди несчастны?
То поют, то плачут от боли
Похотливо и сладострастно.
СОКРАТ. Не слушай, Аспазия, этого словоблуда. Как истинный афинянин, он всегда несет афинею, то есть ахинею.
ПРОТАГОР. Разве ты не знаешь, Сократ, что я человек?
СОКРАТ. А что это ещё за чудовище? Курицу знаю, она несет яйца, а человек несет только афинею.
Афинею несут афиняне,
А дельфийцы несут дельфина.
Два философа на поляне,
Два критические кретина.
Оба мудры, как сто дельфинов,
Оба глупы, как малые дети.
Помоги, богиня Афина,
Средь философов уцелеть мне.
Если бы в Афинах не было Аспазии, мы, с тобой, Протагор, никогда бы не стали философами. Как ты думаешь, что такое философия?
ПРОТАГОР. Разве само название не говорит за себя? Филос – дружба, София – мудрость. Философия – дружба с мудростью.
СОКРАТ. Тогда я предлагаю переименовать Софию в Аспазию.
ПРОТАГОР. Правильно! Филаспазия, любовь к Аспазии – вот истинная мудрость.
CОКРАT. Но Филос – это дружба, а не любовь,
ПРОТАГОР. Значит надо Филос сменить на Эрос. Эроспазия – вот истинная мудрость
СОКРАТ. Эрос – это всего лишь влечение к женщине и желание иметь от неё детей. Но ведь Аспазия – само совершенство. Ты же не можешь представить, Протагор, что от Аспазии родится дитя умнее и прекраснее, чем она.
ПРОТАГОР. Это очевидно. Быть умнее и прекраснее Аспазии то же самое, что быть светлее Солнца, значит от Аспазии может быть только Луна – Диана, всего лишь отраженье самой Аспазии – солнца. Если прав Анаксагор, то Луна – только раскалённый камень. Если же от Аспазии родится дитя такое же прекрасное, как она, появятся два солнца, что крайне нежелательно.
СОКРАТ. Не значит ли это, Протагор, что мы должны любить Аспазию больше, чем Луну и Солнце?
ПРОТАГОР. Это само собою. Я и так её люблю больше всех звезд на небе.
С0КРАТ. Тогда это не Фипос – дружба, не Эрос - влечение, а любовь, обнимающая весь Мир, вмещающая и Филос, и Эрос, и зовётся она Агапия.
ПРОТАГОР. Агапия – Аспазия, даже звучание сходно, и нет надобности, что-либо переделывать.
С0КРАТ. Тогда я спрошу тебя, Протагор, кто нам милее и ближе – Агапия или Аспазия?
ПРОТАГОР. В твоем вопросе уже ответ.
АСПАЗИЯ. Эх, вы, софисты проклятые. Вот и любите свою Агапию, а я ухожу.
СОКРАТ. О нет, Агапия, я хотел сказать Аспазия. Мы глупы, как все философы. Не надо быть философом, чтобы понять, насколько Аспазия милее Агапии, Ведь Агапия – это всего лишь весь мир. В то время, как Аспазия – самая любимая часть всего мира.
ПРОТАГОР. А каждый ребёнок знает, что часть больше целого и я берусь это немедленно доказать,
АСПАЗИЯ. Вот и докажите, жалкие пьяницы, прелюбодеи, сладострастники и хвастунишки, мнящие себя философами.
С0КРАТ. Скажи, о Протагор, что тебе милее в Аспазии, грудь ее или вся Аспазия?
ПР0ТАГ0Р. Вопрос на засыпку. Конечно, вся Аспазия.
СОКРАТ. Тогда, о Протагор, попробуй мысленно отсечь часть…
АСПАЗИЯ. В каком смысле?
СОКРАТ. Прости меня, Аспазия, но я предлагаю Протагору самое ужасное, что может быть на свете, – представить себе Аспазию без груди.
АСПАЗИЯ. Вот нахал!
С0КРАТ. Что лучше, Аспазия без груди или грудь без Аспазии?
ПРОТАГОР. Грудь! Грудь!! Конечно же грудь!!! (Пытается обнять Аспазию).
АСПА3ИЯ (ускользая). Вы дофилософствовались, что у вас не будет ни груди, ни Аспазии.
С0КРАТ. Теперь мы поняли, что часть больше целого, а ведь это только грудь. Я же не говорил о других, ещё более прекрасных частях.
АСПА3ИЯ. Но, но, но! Что ты имеешь в виду, сатир?
СОКРАТ. Не подумай чего плохого, Аспазия, т.е. я хотел сказать, чего хорошего. Я имел в виду прекрасную таинственную расщелинку, в которой заключена вся мудрость мира.
АСПАЗИЯ: Ну ты наглец!
СОКРАТ: Я говорю о расщелинке в Дельфах, откуда слышен голос дельфийского оракула.
Сократ встает на колени, охватывает Аспазию и целует ее в лоно. Раздаётся удар грома, молния пересекает небо. На скале в Дельфах появляется Гонец с лавровым венком.
ГОНЕЦ ИЗ ДЕЛЬФ. Сократ, дельфийские жрецы венчают тебя лавровым венцом и приглашают на мистерию посвящения в Дельфы. (Снова удар грома и гонец на афинской скале возглашает):
ГОНЕЦ ИЗ АФИН. Сократ, Ареопаг Афин обвиняет тебя в богохульстве. Ты должен явиться на суд, где будешь приговорён к изгнанию или смерти.
СОКРАТ (на коленях целуя Аспазию). Дельфы – Афины, слава – гибель. Куда идти, куда идти, Аспазия?
АСПАЗИЯ. Милый, любимый, мудрый Сократ, не ходи на суд. Кто эти пигмеи, что осмеливаются судить Сократа? Иди в Дельфы, Сократ, иди в Дельфы, к скале, к расщелинке; она всех рассудит.
ПРОТАГ0Р. Я здесь третий лишний, Уйду. Любовь, похоже не светит, а смертью пахнет. За дружбу с богохульником по головке не погладят. Ухожу. Аспазия медленно подходит к Дельфийской скале, прислоняется к ней спиной и замирает в виде женского распятия с лютней.
Г0НЕЦ ИЗ ДЕЛЬФ (возглашает)
Благородные Дельфы!
И ты, о Сократ благородный!
Ныне боги тебя принимают
В синклит богоравных,.
Ибо кто из двуногих
подобною мудростью славен?
Разве только Афина Паллада
С Минервой совою.
По обычаю древнему ныне Дельфийский оракул
будет нами в заветную щель вопрошаем.
Сократ, увенчанный лаврами, стоит на коленях, обнимая Аспазию с лирой, прижавшуюся к скале. Его уста обращены к ее лону - щели Дельфийского Оракула.
СОКРАТ:
Боги, боги, боги, боги,
Наши знания убоги,
Наши мысли мимолетны,
Ненадежны и бесплотны.
Приумножьте же стократно
Мысль смиренного Сократа,
Чтобы Дельфы и Афины
Не судами были сильны,
Чтобы нас связало братство,
Побеждающее рабство.
ГОНЕЦ. Хайре Сократу, мужественному гоплиту, камнеметальщику!
ХОР. Хайре, в битве радуйся!
Г0НЕЦ. Хайре Сократу, прикрывшему щитом в битве друга.
ХОР. Хайре, хайре!
Г0НЕЦ. Слава Сократу, вынесшему друга из битвы с открытой раной!
ХОР. Хайре, хайре!
С0КPАT (рыдая). О дельфийцы! Вы победили непобедимого, вы заставили меня плакать. Никто не видел плачущего Сократа, Даже когда прекрасная Аспазия удалилась на моих глазах с юным воином в расщелину скал, даже когда 30 тиранов приговорили меня к гибели, которой я избежал, скрывшись в Дельфах. А ныне, вы видите, я плачу.
ГОНЕЦ: О чём твои слезы, Сократ? Ведь мы венчаем тебя высшей наградой, лаврами победителя и героя, отныне ты высший дельфийский жрец, вопрошающий оракула о судьбе.
СОКРАТ: Именно об этом я плачу. Нет ничего страшнее, чем достичь вершины и знать, что других вершин для тебя уже нет на земле,
АСПАЗИЯ-ОРАКУЛ. Ты ошибаешься, Сократ, вершина впереди. Ты ошибаешься, Сократ, войди в меня, войди,
Сократ и Аспазия обнимают друг друга И сливаются в поцелуе. Их опутывают со всех покрывалом Изиды.
ГОНЕЦ. Сократ удалился в пещеру, теперь он выйди из нее посвящённым.
ХОР. Хайре – хайре – хайре – хайре! Ехал грека через реку, видит грека в реке рак, сунул грека руку в реку, рак за руку греку цап, Хайрехайрехай - ре – ми – фа – соль – ля – си – до, до – си – ля – соль – фа – ми – ре – до, сунул – сунул – сунул – сунул – сунул, но не вынул.
ГОНЕЦ: Ну как там?
ХОР. Еще не закончили.
ГОНЕЦ: Славьте!
ХОР.
Шла собака по роялю,
наступила на мозоль,
и от боли закричала:
до-ре-до-ре-ми-фа-соль…
ГОНЕЦ. Сколько прошло времени?
ХОР (нараспев) А кто его знает, за что он хватает, за что он хватает, куда он…
ГОНЕЦ: Ну, хватит, пора уже закругляться.
Хор распутывает покрывало Изиды, там, где был молодой Сократ с прекрасной Аспазией теперь сидит лысый, пузатый, 70-летний старик с безобразной Ксантиппой.
ГОНЕЦ: Что там?
XОР. О, ужас, ужас, ужас!
ГОНЕЦ: Кто там?
ХОР. Старый Сократ с безобразной женой Ксантиппой.
ГОНЕЦ. Что она с ним делает?
ХОР. Не то гладит по лысине, не то бьет по голове.
ГОНЕЦ. А если это Любовь?
ХОР.
Любовь
Лю-боль
Лю-бой
С тобой
Любой
ГОНЕЦ. Что узнал ты, Сократ, от богов? Поведай нам, смертным!
СОКРАТ. Я знаю то, что ничего не знаю.
ХОР.
Я знаю то,
Я не знаю то
Я знаю не то
Я не знаю то
СОКРАТ. В юности мой друг Протагор говорил: “Человек есть мера всех вещей. Существующих, поскольку они существуют, и не существующих, поскольку они не существуют”. Но как может быть мерой тот, кто постоянно не постоянен. Принесите медное блюдо. (Смотрится в блюдо, как в зеркало).
ГОНЕЦ. Слушайте все, Сократ возвестил нам закон Бога - “Я знаю то, что ничего не знаю” (в недоумении вертит глиняную дощечку). Ничего не понимаю, фи гня какая-то “Сократ - отныне ты самый мудрый из смертных!!!”
Удар грома, появляется афинский гонец
ГОНЕЦ ИЗ АФИН. Сократ, афинский ареопаг приговаривает тебя к изгнанию или смерти.
СОКРАТ. Как можно приговорить того, кто приговорён природой?
ГОНЕЦ. Что ты хочешь этим сказать?
СОКРАТ. Я хочу сказать, что я ничего не хочу сказать. Каждый человек приговорён к смерти, если он рождён. “Дальнейшее молчание” - как скажет Гамлет через 2000 лет,
ГОНЕЦ. Он издевается над нами, о афиняне!
СОКРАТ. Ты сказал, что я приговорён к смерти?
ГОНЕЦ. Да.
СОКРАТ. Но разве афинский Ареопаг состоит из бессмертных?
ГОНЕЦ. Ареопаг состоит из лучших людей страны, это передовики, ветераны, то есть, я хотел сказать...
СОКРАТ. Меня бог поставил в строй! Я сам ветеран многих битв, мне 70 лет, и я, к сожалению, смертен. Смертны и вы, члены Ареопага. Как же могут смертные приговаривать к смерти того, кого бессмертные приговорили сначала к жизни, потом к бессмертию.
ГОНЕЦ. Выбери сам, Сократ, своё наказание. Что ты предпочитаешь - изгнание или чашу с ядом?
СОКРАТ. Приговорите меня к пожизненному бесплатному обеду вместе олимпийскими чемпионами, удостоенными этой награды.
ХОР.
Чашу, чашу, чашу
Тише, тише, тише
СОКРАТ. Час чаши чище. Да минует меня чаша сия. Впрочем, да будет не так, как хочу я, но как хочешь Ты.
Берёг чашу, отхлёбывает. Наступает тьма.
ФИНАЛ
Сократ (выходит с Чашей в руке)
Гнев, о Богиня, воспой доносчика - сукина сына,
Гнусный торговец, который донёс на Сократа,
Дескать, старик развращает сограждан, не верует в Бога.
Можно подумать, что Боги доносы приемлют.
А не молитвы и подвиги славных героев.
Да, я не верю, что Боги нас видят рабами
Да, я не верю, что Боги с Мелетом доносчиком схожи,
Да, я не верю, что рабство милее свободы.
Рабские гимны, для вас я не складывал, Боги,
Боги, о Боги, о Боги, о Боги, о Боги,
Знаю я только, что знания наши убоги
Знаю, что подла и гнусна людская природа,
Но нам дарована Богом Любовь и Свобода!


















|
|
кгб новый мир и литинститут |

Григорий Лесниченко
"Новый мир" и КГБ
15 лет я работал в "Новом мире", и последние 10 лет, до конца 1989 года был его ответственным секретарем. Я хочу вам рассказать как проникало КГБ в журнал и как приходилось вести себя в этой ситуации...
Итак, как появлялись люди с Лубянки. У меня был друг в Союзе писателей. Не буду называть фамилию, он уже покойный Как-то я зашел к нему, у него сидел человек. Он познакомил меня с ним, тот назвался: Николай Иванович. Когда он ушел, мой друг говорит: “Это очень большой чин из КГБ". Я пожал плечами, мне было не очень приятно, и получилось, что мы все реже и реже встречались с моим другом. Когда же я в 1981 году стал ответственным секретарем, он мне еще раз сказал: “Ты помнишь"… Да, с этим Николаем Ивановичем я стакивался еще у него пару раз. И друг мне сказал тогда: "К тебе зайдут с Лубянки”. Я ответил: "А для каких целей? У нас в редакции люди все нормальные, нужен ли нам человек с Лубянки? Что он с нами будет делать?" – "Ну, посмотрим, он зайдет к тебе
Действительно, через неделю приходит человек, очень аккуратно одетый, в гражданском, с хорошей прической, в общем все как надо, при галстучке. Представляется – "Сергей Анатольевич". Знакомимся..
Вернусь к своей истории с человеком из КГБ. В разные приходы этот Сергей Анатольевич обычно спрашивал "Что у вас идет?" Я называл что-то среднее. Если он спрашивал в лоб: "А вот такая-то поэма где? Идет у вас?", я, как говорится, крутился. Говорил – то она у редактора, то в наборе, один экземпляр и т.д. Я могу в связи с этим привести в пример историю с поэмой Евтушенко. Помните, в апреле, в день рождения Гитлера, в Москве было шествие панков и металлистов? И Евтушенко отразил это. Он говорил об этом событии, и говорил о том, что зарождается фашизм, и юные фашистики уже путешествуют по Пушкинской площади. И Главлит нам сказал (кстати, нас курировал Солодин и его зам, до цензоров нас даже не спускали, такое внимание уделялось "Новому миру"): "Если редакция берет эти строчки на себя, мы, в общем, можем пропустить". Я вернулся в редакцию, рассказал (поскольку я был постоянным связным, ответственный секретарь всегда выходил на Главлит), мы взяли это на себя. Когда журнал уже был в печати, машины были остановлены рукой КГБ. Не знаю, кто позвонил Карпову. Карпов был несколько, как мне показалось, растерян, что остановили машины. Приехал в редакцию Евтушенко, и мы три дня стояли на своем. Карпов ездил в ЦК, звонили в КГБ и так далее. В общем, эта история решалась три дня, и все-таки эти строчки в поэме остались.
У меня было еще множество случаев с кегебешниками. Например, они очень настаивали, чтобы я написал письмо в Литинститут, его директору Пименову. Тогда в качестве преподавателя там работал Константин Кедров. Он часто печатался в "Новом мире". Вот они и сказали: "Ты напиши туда письмо, скажи, что он такой-сякой антисоветчик, что он, в общем, космополит и всякое прочее, и отправь письмо." Я сказал: "Нет. такое письмо, господа, я туда не пошлю". После этих разговоров со мной на него там долго напирали, всячески хотели выкурить его оттуда. Но он печатался в нашем журнале и в 1987, и в 1989 году.
ПРИМЕЧАНИЕ К.КЕДРОВА:За последние 15 лет "Новый мир" не напечатал ни одной моей строки
УТВЕРЖДАЮ»
Начальник 8 отдела Управления «3» КГБ СССР
полковник (фамилия) _____________ (подпись)
2 июля 1990 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об уничтожении дела оперативной проверки «Лесник» арх № 35867
30 июля 1990 г. Я, оперуполномоченный 8 отдела
Управления «3» КГБ СССР (звание, фамилия, инициалы)
рассмотрев материалы дела оперативной проверки «Лесник» с окраской
«антисоветская пропаганда и агитация с высказываниями ревизии-
онистского характера» на Кедрова Константина Александровича…
нашел:
Указанные материалы утратили свою актуальность,
Исторической и оперативной ценности не представляют.
Постановил: уничтожить дело оперативной проверки «Лесник» арх. № 35867
в одном томе (том № 1)
подпись______________
Зам «Согласен» Начальник 1 отделения 8 отдела Управления «3»
КГБ СССР
подпись ________________
8
5/8-1106
2 07 90

![]() Вложение: 3684699_Lesnik1.doc
Вложение: 3684699_Lesnik1.doc
|
|
А.Вознесенский о книге К.Кедрова "ИЛИ" |
Презентация Полного собрания поэтических сочинений Константина Кедрова «ИЛИ» (М., «Мысль», 2002) в русском ПЕН-центре 29 ноября 2002 г.
Фрагменты выступлений: профессор В.Л.Рабинович, Андрей Вознесенский, священник Глеб Якунин, космонавт, ученый Юрий Батурин, А.Витухновская, Е.Кацюба и главный редактор издательства «Мысль» И.В.Ушаков.
КЕДРОВ. Я думаю, что сейчас неслыханный расцвет поэзии, даже больше, чем это было в России 20-х годов. Но разница в том, что в России 20-х годов про этот расцвет поэзии знали все культурные люди, а сейчас это расцвет проходит в тишине и в тайне, по закону Льва Николаевича Толстого, который сказал: «Настоящая жизнь совершается там, где она незаметна». В 60-м году я был по ощущению такой же, как сейчас. Основные прорывы все были совершены тогда. Просто они не могли никак реализоваться в напечатанном виде. Никто не видит и не знает, как растет трава, но она прорывает бетон и асфальт. Единственная потребность у поэта – это чтобы его стихи услышали и прочитали.
РАБИНОВИЧ. «Или» – все существует в этом самом «или». Между «быть» или «не быть», между тем и этим, между этим и тем и так далее. И вот Константин – Протей. Он Протей слова и Протей нашей жизни. То есть проникает, как нейтрино, потому что одушевляет все это своей замечательной лирой, своей замечательной музой, своим журналистским даром, своим философским проникновением в самую суть дела. И попадает в суть дела. Вот такой замечательный философ, как Мераб Мамардашвили, с которым мен выпала честь работать в Институте истории естествознания. Говорил, что талан попадает сразу в несколько сутей дела, а гений попадает в суть этих сутей, то есть в самую суть дела. Вот этому я думаю, что назвать свою книгу «Или» – это подлинная гамлетовская смелость, шекспировская даже смелость, и действительное попадание в самую суть нашего бытия, которое все время между тем и этим, вот на этой границе. И Константин как раз свидетельствует о том, что не только он живет на границе, но мы все живем на этой страшной границе «быть или не быть», страшной границе – перейти туда или сюда, но, главным образом, чтобы оставаться, покуда мы живем, в этой точке, которая все время самовзрывается, самоуничтожает самое себя с тем, чтобы вновь возродиться. И, этим я считаю, Константин гениален. Правильно, Андрей Андреевич?
ВОЗНЕСЕНСКИЙ. Правильно. Сейчас я собрал свое собрание сочинений, и вот, я смотрю, в каждом томе три-четыре посвящения. Но здесь совершенно другой случай. Я очень люблю стихи Кедрова. Это абсолютно лишенные пошлости вещи. Сейчас в нашей литературе самое страшное – пошлость, все эти сентиментальности, все эти кубики-квадратики стихов. Но Кедров с самого начала до конца своей книги цельный совершенно, это удивительно неизменяемый человек. Здесь есть главное – стихия языка, которая опережает поэта. Мы все уходим в язык. Это наше бессмертие или смерть, все равно. Я написал стихи «Демонстрация языка», как предисловие для этой книги. Интересно, что эта книга построена от последних голов к началу. Не всякий поэт может решиться на это. Обычно бывают хорошие стихи вначале, а потом начинается уже дребедень, такая уже девальвация. У Кедрова же видно, что сейчас он более матерый, более точный мастер. Моя любимая вещь у него всегда была – «Компьютер любви», написанный где-то в 70-х. А вот последняя, «Тело мысли», она такая же, как «Компьютер любви».
БАТУРИН. Формула, которая минут 10 назад вспомнил Константин «или – или», это точно формула разделительная. А вот если говорить об «или», то здесь еще надо подумать. Если мы зададим себе вопрос или просто скажем утвердительно: Константин – это поэт или философ. И вот тут мы можем утверждать совершенно точно, что здесь это никак не разделяется, а «или» здесь наоборот соединяет. И действительно Константин – поэт, философ и художник в самом широком смысле этого слова, и когда его читаешь, трудно определить ту грань, когда поэзия переходит в философию, а философия становится поэзией. Кроме того, когда с ним разговариваешь, с ним очень интересно разговаривать, то ощущаешь, что он пережил какой-то опыт, который дал ему понимание мира несколько большее, чем у нас. И, наконец, когда он собрал все это вместе, это стало событием не только для него, но и для всех нас.
КЕДРОВ. Ну, насчет «или» я вынужден еще дальше прокомментировать. Еще в 60-х годах меня поразила такая вещь: на месте Гамлета между «быть» или «не быть» я выбрал бы «или».
ЯКУНИН. Я написал огромный адрес, и это плохой знак, потому что хорошие адреса, как хорошие стихи, должны быть очень короткие. А я раскатал прямо на две страницы. Я такой священник немного в стиле Рабле, хоть у меня много драматического в биографии. Но уж так получилось, ничего другого не вышло. Разрешите зачитаю тогда свой адрес. Я завидовал Константину – никак не получается палиндром. И вдруг написал «Адрес от сердца» и прочитал наоборот: «Ацдрес то серда». Ну, такой получился дефективный палиндром.
КЕДРОВ. Нет, он не дефективный. Палиндромическое звучание туда и обратно – это глубокое мистическое дело, потому что время, движущееся из будущего в прошлое и из прошлого в будущее, образует полный объем.
ЯКУНИН. Ну, вы великий теоретик, а я прочитаю то, что написал.
Собранье сочинений Кедрова
Не только по размеру мэтровы
(Вернее, правильнее метровы)
Орехи Кедрова – кедровы…
Они в невидимом сраженье
Как пушечный редут
К преображению ведут.
Под кедрову картечь
Подставим каменное сердце,
Чтобы жили не напрасно мы
Слезами по прекрасному
Смогли бы чтоб протечь…
Гоняй и нас по новым палиндромам
Как гонят на ристалищах коней по ипподромам,
Сгоняя жир с заплывших душ
За это Кедрову играем туш!..
ВИТУХНОВСКАЯ. Я вас хотела бы поздравить, Константин Александрович, с выходом вашей книги, потому что в полном объеме, я думаю, все это будет восприниматься более цельно, и вы достигнете того результата и того восприятия, которого вы хотели бы достигнуть.
УШАКОВ. Я сделал то, что хотел сделать. Раз я издатель, я должен издавать то, что хотя бы не вредно, а то, что делает Константин Александрович, я считаю это полезно – в широком смысле этого слова. И мне стало обидно, что его практически не печатают. И вот я созрел до того момента, когда я стал главным редактором издательства «Мысль», и начал работать с ним. Сначала мы выпустили книгу «Инсайдаут». Это философия и поэзия, это теория Константина Александровича о выворачивании – инсайдауте. А потом логически мы вышли на необходимость издания полного собрания стихотворных произведений, в которых наиболее полной мере отражается, на мой взгляд, вся философия и поэзия. Его поэзия от философии неотделима. И мне показалось, что Константина Александровича надо издавать именно в издательстве «Мысль». И вот «Мысли» я это предложил, и за девять месяцев мы сделали книгу.
КЕДРОВ. Мы открытие сделали, что книга делается ровно девять месяцев.
УШАКОВ. Поэтому с чувство выполненного долга я представляю эту книгу. Сейчас следующая книга готовится, примерно в этом же оформлении, посвященная мировоззрению Эйнштейна.
КЕДРОВ. Я долго мучился над рукописью этой книги. Шутка дело – полное собрание сочинений. Это же мания величия. Страшно читать все подряд, даже если это Шекспир. Я был в полной растерянности. И тут Елене Кацюбе пришла в голову идея – расположить стихи в обратном порядке, палиндромически. Не из прошлого в будущее, а из будущего к прошлому. И тут мне, как читателю, стало интересно читать.
КАЦЮБА. Говорят, что совета спрашивают, чтобы сделать наоборот. Но тут другой, счастливый случай, потому что совет-то был уже наоборот. Просто мне очень нравится последняя вещь – «Тело мысли», и если бы она поместилась где-то в конце, то неизвестно, когда бы читатель до нее добрался. А так она дает тон всей книге, и потому книга получилась очень легкая изнутри. Она состоит как бы из комнат, но прозрачных, как в программе «За стеклом». Можно подойти и в любой момент посмотреть, что там внутри. Но есть люди, которые любят читать с конца, и для них-то все как раз будет сначала.

Фрагменты выступлений: профессор В.Л.Рабинович, Андрей Вознесенский, священник Глеб Якунин, космонавт, ученый Юрий Батурин, А.Витухновская, Е.Кацюба и главный редактор издательства «Мысль» И.В.Ушаков.
КЕДРОВ. Я думаю, что сейчас неслыханный расцвет поэзии, даже больше, чем это было в России 20-х годов. Но разница в том, что в России 20-х годов про этот расцвет поэзии знали все культурные люди, а сейчас это расцвет проходит в тишине и в тайне, по закону Льва Николаевича Толстого, который сказал: «Настоящая жизнь совершается там, где она незаметна». В 60-м году я был по ощущению такой же, как сейчас. Основные прорывы все были совершены тогда. Просто они не могли никак реализоваться в напечатанном виде. Никто не видит и не знает, как растет трава, но она прорывает бетон и асфальт. Единственная потребность у поэта – это чтобы его стихи услышали и прочитали.
РАБИНОВИЧ. «Или» – все существует в этом самом «или». Между «быть» или «не быть», между тем и этим, между этим и тем и так далее. И вот Константин – Протей. Он Протей слова и Протей нашей жизни. То есть проникает, как нейтрино, потому что одушевляет все это своей замечательной лирой, своей замечательной музой, своим журналистским даром, своим философским проникновением в самую суть дела. И попадает в суть дела. Вот такой замечательный философ, как Мераб Мамардашвили, с которым мен выпала честь работать в Институте истории естествознания. Говорил, что талан попадает сразу в несколько сутей дела, а гений попадает в суть этих сутей, то есть в самую суть дела. Вот этому я думаю, что назвать свою книгу «Или» – это подлинная гамлетовская смелость, шекспировская даже смелость, и действительное попадание в самую суть нашего бытия, которое все время между тем и этим, вот на этой границе. И Константин как раз свидетельствует о том, что не только он живет на границе, но мы все живем на этой страшной границе «быть или не быть», страшной границе – перейти туда или сюда, но, главным образом, чтобы оставаться, покуда мы живем, в этой точке, которая все время самовзрывается, самоуничтожает самое себя с тем, чтобы вновь возродиться. И, этим я считаю, Константин гениален. Правильно, Андрей Андреевич?
ВОЗНЕСЕНСКИЙ. Правильно. Сейчас я собрал свое собрание сочинений, и вот, я смотрю, в каждом томе три-четыре посвящения. Но здесь совершенно другой случай. Я очень люблю стихи Кедрова. Это абсолютно лишенные пошлости вещи. Сейчас в нашей литературе самое страшное – пошлость, все эти сентиментальности, все эти кубики-квадратики стихов. Но Кедров с самого начала до конца своей книги цельный совершенно, это удивительно неизменяемый человек. Здесь есть главное – стихия языка, которая опережает поэта. Мы все уходим в язык. Это наше бессмертие или смерть, все равно. Я написал стихи «Демонстрация языка», как предисловие для этой книги. Интересно, что эта книга построена от последних голов к началу. Не всякий поэт может решиться на это. Обычно бывают хорошие стихи вначале, а потом начинается уже дребедень, такая уже девальвация. У Кедрова же видно, что сейчас он более матерый, более точный мастер. Моя любимая вещь у него всегда была – «Компьютер любви», написанный где-то в 70-х. А вот последняя, «Тело мысли», она такая же, как «Компьютер любви».
БАТУРИН. Формула, которая минут 10 назад вспомнил Константин «или – или», это точно формула разделительная. А вот если говорить об «или», то здесь еще надо подумать. Если мы зададим себе вопрос или просто скажем утвердительно: Константин – это поэт или философ. И вот тут мы можем утверждать совершенно точно, что здесь это никак не разделяется, а «или» здесь наоборот соединяет. И действительно Константин – поэт, философ и художник в самом широком смысле этого слова, и когда его читаешь, трудно определить ту грань, когда поэзия переходит в философию, а философия становится поэзией. Кроме того, когда с ним разговариваешь, с ним очень интересно разговаривать, то ощущаешь, что он пережил какой-то опыт, который дал ему понимание мира несколько большее, чем у нас. И, наконец, когда он собрал все это вместе, это стало событием не только для него, но и для всех нас.
КЕДРОВ. Ну, насчет «или» я вынужден еще дальше прокомментировать. Еще в 60-х годах меня поразила такая вещь: на месте Гамлета между «быть» или «не быть» я выбрал бы «или».
ЯКУНИН. Я написал огромный адрес, и это плохой знак, потому что хорошие адреса, как хорошие стихи, должны быть очень короткие. А я раскатал прямо на две страницы. Я такой священник немного в стиле Рабле, хоть у меня много драматического в биографии. Но уж так получилось, ничего другого не вышло. Разрешите зачитаю тогда свой адрес. Я завидовал Константину – никак не получается палиндром. И вдруг написал «Адрес от сердца» и прочитал наоборот: «Ацдрес то серда». Ну, такой получился дефективный палиндром.
КЕДРОВ. Нет, он не дефективный. Палиндромическое звучание туда и обратно – это глубокое мистическое дело, потому что время, движущееся из будущего в прошлое и из прошлого в будущее, образует полный объем.
ЯКУНИН. Ну, вы великий теоретик, а я прочитаю то, что написал.
Собранье сочинений Кедрова
Не только по размеру мэтровы
(Вернее, правильнее метровы)
Орехи Кедрова – кедровы…
Они в невидимом сраженье
Как пушечный редут
К преображению ведут.
Под кедрову картечь
Подставим каменное сердце,
Чтобы жили не напрасно мы
Слезами по прекрасному
Смогли бы чтоб протечь…
Гоняй и нас по новым палиндромам
Как гонят на ристалищах коней по ипподромам,
Сгоняя жир с заплывших душ
За это Кедрову играем туш!..
ВИТУХНОВСКАЯ. Я вас хотела бы поздравить, Константин Александрович, с выходом вашей книги, потому что в полном объеме, я думаю, все это будет восприниматься более цельно, и вы достигнете того результата и того восприятия, которого вы хотели бы достигнуть.
УШАКОВ. Я сделал то, что хотел сделать. Раз я издатель, я должен издавать то, что хотя бы не вредно, а то, что делает Константин Александрович, я считаю это полезно – в широком смысле этого слова. И мне стало обидно, что его практически не печатают. И вот я созрел до того момента, когда я стал главным редактором издательства «Мысль», и начал работать с ним. Сначала мы выпустили книгу «Инсайдаут». Это философия и поэзия, это теория Константина Александровича о выворачивании – инсайдауте. А потом логически мы вышли на необходимость издания полного собрания стихотворных произведений, в которых наиболее полной мере отражается, на мой взгляд, вся философия и поэзия. Его поэзия от философии неотделима. И мне показалось, что Константина Александровича надо издавать именно в издательстве «Мысль». И вот «Мысли» я это предложил, и за девять месяцев мы сделали книгу.
КЕДРОВ. Мы открытие сделали, что книга делается ровно девять месяцев.
УШАКОВ. Поэтому с чувство выполненного долга я представляю эту книгу. Сейчас следующая книга готовится, примерно в этом же оформлении, посвященная мировоззрению Эйнштейна.
КЕДРОВ. Я долго мучился над рукописью этой книги. Шутка дело – полное собрание сочинений. Это же мания величия. Страшно читать все подряд, даже если это Шекспир. Я был в полной растерянности. И тут Елене Кацюбе пришла в голову идея – расположить стихи в обратном порядке, палиндромически. Не из прошлого в будущее, а из будущего к прошлому. И тут мне, как читателю, стало интересно читать.
КАЦЮБА. Говорят, что совета спрашивают, чтобы сделать наоборот. Но тут другой, счастливый случай, потому что совет-то был уже наоборот. Просто мне очень нравится последняя вещь – «Тело мысли», и если бы она поместилась где-то в конце, то неизвестно, когда бы читатель до нее добрался. А так она дает тон всей книге, и потому книга получилась очень легкая изнутри. Она состоит как бы из комнат, но прозрачных, как в программе «За стеклом». Можно подойти и в любой момент посмотреть, что там внутри. Но есть люди, которые любят читать с конца, и для них-то все как раз будет сначала.

|
|
астраль-звездное эсперанто к.кедрова |


Поэма 1982 г.
Астраль леталь внематериаль
в надматериаль леталь астраль
АСТРАПИТЕК
Лунапитек Венерапитек
Марсопитек Сатурнопитек
Плутонопитек
Сатурновенер
Венеросатурн
Лунозем солнцезем
Венеромарсосатурнозем
– Астрос астресе!
– Астристино астресе!
Астри астрай моя астра
астра любви приветная
ты у меня астра астральная
астрой не будешь не астра
Твой астры астральной силою
вся жизнь моя астранена
умру ли я и над астрилою
астри астрай моя астра
Я помню чудное звезденье
передо мной астрилась ты
как мимолетное астренье
как гений астрной звездоты
На берегу пустынных волн
стоял он дум астральных полн
ПРО-АСТРА-ЦИЯ
(хвост кометы Галлея в 1990 г.)
ЦЕФЕНЕЕТ
р-астр-ига Гапон
по сугробу астральному к Богу
а за ним геркулесит
Распутин Григор
а за ним андромедит
монах Иллидор
а за ними пегасит
астральный Николь(1)
а за ними Девеет(2)
астральный простор
Скорпионит Флоренский
Водолеет Морозов
драматург АСТРовский
и Лев Астрой –
зеркало русской астролюции
Астральный дедушка Толстой
метет астральной бородой
летит астральный Черномор
качая буйной головой
Бредет астральный Серафим
за ним Медведица бредет
он ей протягивает хлеб
Плеяд
и он уже Персей
с астральным лунным топором
прикармливающий звезду
А Богородица из звезд –
созвездье Девы во весь рост
Бредет Девеевский астрал
астрит топорик
и уже
въезжает в Млечную межу
медведицын любимый сын
и сам медведь –
астральный Вов(3)
Он въехал на небо живьем
с астральной пулей в пиджаке
За ним летит астральный друг(4)
в его руке созвездье Рак
и в перстне на его руке
горит Полярная звезда
и он Медведицу как снег
отслаивает от подошв
Но в от уже в одном пенсне
идет нечесаный дурак(5)
ступает книзу головой
а низ находится везде
Возничий издали возник
и вырвал грешный мой язык
и звездословный и астральный
и жало звездное змеи
в уста звездальные мои
вложил десницею астральной
Нас было много на челне
но многие уже в Овне(6)
АСТРАЛЬ – 2
Кассиопею пью пою
Сириус урус рус сир
Синеус Трувор вор рус
Денебя до неба
алтарь Альтаира
Мицар лицами мерцал
Альдебаран ран
Скоропись рока пророк Скорпион
Водолей Леда вод дело Евы
Лицо Тельца
Орион Ра Ариман он
Ковши астральные взрезают землю
из двух Медведиц небоземлеройка
и астралопитек ощерившись звездами
покрывшись шкурою астральной
идет охотиться на зебр
Вот змей астральный ползет на свет
он весь увит звездами
он чешется из шкуры выползает
и оставляет только небо
да тельце голое мое
и я Телец
и тело целое мое телеет тлеет
в пожаре угольном Стожар
Идет стожарный с Гидрой(7)
с помпой с Водолеем(8)
и уже готово утро Стрелецкой казни(9)
ШЛЕЙФ КОМЕТЫ ГАЛЛЕЯ 1984-85 гг.
Но Чаша(10) галлеет
Галлея чашит
Мне галльно мне кометно галлельно
летя дитя мета кометы
Гидральная Чаша чаще еще чище
час Чаши
тише
Я приказываю комете
влекомая комой мамка
смолкни
а Галлея белея и алея
ввинчивается в небо
откупоривая Чернобыль
черно-белый
адмирал
Нахимов
обмирал
сиро-мертвый Медведь(10)
вломился в инцест-реактор
далее колумбова яйца
чем ближе тем незаметней
их фарватер огибает линию Луны ниже ногтя
и прогибается тишина под звуком
АСТРАЛЬ – 3
Болид болит
пустота постигается округлением
она орбитальна
плотина Плотина беспредельна
как пар Парменида
Взыскуя високосного виска
я простираюсь из Ра – ум в Раум(11)
из над-Раум и через-Раум
аус-раум ин-раум ферраум дурхраум
из надпространства
в черезпространство
из подпространства
в надподпространство
Адмирал умирал
комета канула в лето
тошнотная явь лиреет(12)
магма гама-гамма излучения мига
так Галилей глянул
сладкий Сириус прогоркл
и Кассиопея кислит
в радужку ввинчивается поляроид
и хотя еще горьковато взору
ночь короче кроватки
хотя кроватное небо небеет в горле
ЯОН
поступательное движение –
это дуновение в планетарии
где оборот аппарата равен дню
а оборот шеи – году
спрашивая уже отвечаешь
месяц и луна составляют один узор
Нельзя сказать Орион
поскольку Я – ОН
Не все ЯОН(13) но Орион и Скорпион ЯОН
не все ЯОН но небо и земля ЯОН
не все ЯОН но месяц и луна ЯОН
ЯОН мерцает солнцем-сердцем и землей-луной
ЯОН – Мицар Сатурн Аль-Кальб
Не все ЯОН но запад и восток ЯОН
не все ЯОН но голос и звезда ЯОН
не все ЯОН но жизнь и смерть ЯОН
ЯОН не Инь-Ян он бездонный сон
он явен но Овен он виден но дивен
он давен но нов он Овн он ЯОН
Если отдаляется от тела боль
это ЯОН
если приближается к телу боль
это ЯОН
если углубляется в небо взор
это Орион
если углубляется в сердце луч
это Скорпион
как от зеркала амальгама отслоится от неба взор
тьма да будет поводырем тебе
АСТРАЛИТЕТ – таково мое кредо
верую потому что астрально
астрал моего астрала не мой астрал
но и звездного неба нет
это лишь свет
долгобегущий для разных по-разному
да и он возможен когда есть взор
луч и взор ЯОН
ЯОНы образуют мирозданье
разъединенные они едины
их единение в четвертом измерении
1-е измерение Я
2-е измерение ОН
3-е измерение Я – ОН
4-е измерение ЯОН
АСТРАЛЬ - 4
У каждой звезды размер величиной с небо
у каждого неба размер величиной со звезду
такова пульсация влета в Лету
миг когда мизинец больше луны
Или вот газета читаемая насквозь
каждая буква прозрачна до звезд
и каждая звезда буква
Альдебаран Аль-Кальб Денеб Альтаир
Капелла пела арию Денеба до неба
Сириус вобискум
Сириус элейсон
Сириус Йезус
всегда ныне и присно и во Веги Вегов аминь
Кормилица света Кассиопея
моя звериная звездоглазка
все звезды приближаются к зверю
все звери приближаются к звездам
чем звезднее тем зверинее
Ихтиозавр – вот истинная Медведица
они не умерли но ушли на небо
Вот махайродус – Скорпион
вот птеродактиль – Лебедь
вот еще одно чудовище –
не то Онегин не то медведь
вот еще одна дура –
не то Елена не то Татьяна
не то Астарта не то Венера
Горизонтом называется
воображаемая линия между нами
АСТРО-ХАНСКАЯ АФИША
Сегодня г-АСТР-оли
М-АСТР-ояни
(Италия)
юные Фидель К-АСТР-аты (Куба)
В перерыве в фойе
АСТР-альный г-АСТР-оном
Распродажа к-АСТР-юль
Желаем всем хорошего н-АСТР-оения.
Админи-АСТР-ация
Лучи ряды свои сомкнули
в звездах рассыпались лучи
катятся звезды свищут пули
нависли хладные лучи
Далече грянуло «Ура!» –
звезды увидели Христа
он весь как Божия гроза
сияет лик его ужасен
движенья быстры он прекрасен
идет
к нему Пегас подводят
красив и смирен бледный конь
почуя роковой огонь
Оставь нас звездный человек
ты не рожден для лунной доли
ты для себя лишь хочешь воли
Персей уж отморозил пальчик
ему и больно и смешно
луна грозит ему в окно
Тень тянется от луча
вот уже грузный грозный
вот уже лунный звездный
но звезды только тени небес
Весы поглощают вес
Сириус мизерере Сириус Петипа
АНКЕТА
Персеева Андромеда Пегасовна
Год рождения 1942
Место рождения: Рыбинск-Щербаков-Рыбинск-Андропов-Рыбинск
Образование: вышка
Награды: Сириус Марс Венера Лунаи Вега Аль-Кальб Альтаир
Дата смерти: по желанию трудящихся
За границей: был но сверху
Имеете ли родственников: имею – все люди братья
Стаж: бесконечный
Голос: астральный
Особые приметы: профиль звездный фас лунный
Какими языками владеете: своим но немеющим
Куда путь держите: в метро
Родители: еле живы
Мать: мама
Отец: папа
Тетя: дядя
Дядя: тетя
АСТРАЛЬ – 5
Звездаль полярнит кассиопея в цефей малить медведно андромедя андро-медея перси персей серп унд перс кляйне псово и гросе песно лебединг лебедит лебедно чашно гидринг коронар пегас погас водолейно линг васер пферд блонд марсно марсал марсо зухреть венерно мунд месячно глагол-алгол мерк меркурий морокк мрак морока рока змееносец змеемесяц знаменосец кит китая дельфин дельф арго оргия аргонавтов лепусит заинька гиадно плеядя цефенеет цефей ариадна дна одна дана мицар мерцал царь зерцал и лиц денеб неб альтаир алтарь денебя до неба
АСТРАСЛОВИЕ
Все слова мира происходя от корня «астр» в латинской транскрипции.
По-русски этот корень будет «звезд»:
ЗВЕЗДа ВЕЗДе – таков полный охват словесного неба.
1.Николай II.
2. Девеева пустынь, где обитал Серафим Саровский.
3. Владимир Маяковский.
4. Велимир Хлебников.
5. К.Э. Циолковский.
6. Созвездие Овна – агнца – Христа, а также «во вне».
6. Созвездие Гидры на пути кометы Галлея.
7. Созвездие Водолея.
8. Созвездие Стрельца и картина Сурикова.
9. Созвездие Чаши на пути кометы.
10.Большая Медведица.
11. Пространство (нем.).
12. Созвездие Лиры.
13. Не путать с эоном
1982

|
|




































