-Метки
афины бессмертие бог вознесенский время выворачивание доос известия или инсайдаут к.кедров капица кацюба кгб кедров компьютер_любви константин кедров константин_кедров космос культура любимов любовь маяковский метакод метаметафора мистерия ненасилие нобелевская нобель павич палиндром париж парщиков пастернак поэзия пушкин россия сапгир свобода сократ сталин таганка толстой хвост хвостенко хлебников христос челищев эйнштейн юнеско
-Приложения
 Онлайн-игра "Большая ферма"Дядя Джордж оставил тебе свою ферму, но, к сожалению, она не в очень хорошем состоянии. Но благодаря твоей деловой хватке и помощи соседей, друзей и родных ты в состоянии превратить захиревшее хозяйст
Онлайн-игра "Большая ферма"Дядя Джордж оставил тебе свою ферму, но, к сожалению, она не в очень хорошем состоянии. Но благодаря твоей деловой хватке и помощи соседей, друзей и родных ты в состоянии превратить захиревшее хозяйст Онлайн-игра "Empire"Преврати свой маленький замок в могущественную крепость и стань правителем величайшего королевства в игре Goodgame Empire.
Строй свою собственную империю, расширяй ее и защищай от других игроков. Б
Онлайн-игра "Empire"Преврати свой маленький замок в могущественную крепость и стань правителем величайшего королевства в игре Goodgame Empire.
Строй свою собственную империю, расширяй ее и защищай от других игроков. Б ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни
ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни- ТоррНАДО - торрент-трекер для блоговТоррНАДО - торрент-трекер для блогов
-Резюме
кедров константин Александрович
- Профессия поэт философ
-Цитатник
Игра в Пусси по научному - (0)
Зря девчёнки группы Пусси-Райт Вы задумали в неё играйт Это ваше нежное устройство Вызывает нервн...
Без заголовка - (0)константин кедров lavina iove Лавина лав Лав-ина love 1999 Константин Кедров http://video....
нобелевская номинация - (0)К.Кедров :метаметафора доос метакод Кедров, Константин Александрович Материал из Русской Викисла...
Без заголовка - (0)доос кедров кедров доос
Без заголовка - (0)вознесенский кедров стрекозавр и стихозавр
-Ссылки
-Видео

- дуэт кедров и вознесенский
- Смотрели: 331 (0)

- ткаченко о кедрове
- Смотрели: 32 (0)

- кедров сапгир холин вознесенский кацюба
- Смотрели: 47 (0)

- презентация Анталогии ПО ДООС
- Смотрели: 10 (0)
-Фотоальбом

- нобелевская
- 17:08 23.04.2008
- Фотографий: 5
- константин кедров и андрей вознесенский
- 03:00 01.01.1970
- Фотографий: 0
-Поиск по дневнику
-Подписка по e-mail
-Статистика
земля летела
по законам тела
а бабочка летела
как хотела
картина челищева из серии Рай |
константин кедров
Возвращение в Рай
-Яблоко-
Червонный червь заката
путь проточил в воздушном яблоке
и яблоко упало
Тьма путей
прочерченных червем
все поглотила
как яблоко Адам
То яблоко
вкусившее Адама
теперь внутри себя содержит древо
а дерево
вкусившее Адама
горчит плодами -
их вкусил Адам
Но
для червя одно -
Адам и яблоко и древо
На их скрещенье
червь восьмерки пишет
Червь
вывернувшись наизнанку чревом
в себя вмещает яблоко и древо

Возвращение в Рай
-Яблоко-
Червонный червь заката
путь проточил в воздушном яблоке
и яблоко упало
Тьма путей
прочерченных червем
все поглотила
как яблоко Адам
То яблоко
вкусившее Адама
теперь внутри себя содержит древо
а дерево
вкусившее Адама
горчит плодами -
их вкусил Адам
Но
для червя одно -
Адам и яблоко и древо
На их скрещенье
червь восьмерки пишет
Червь
вывернувшись наизнанку чревом
в себя вмещает яблоко и древо

|
|
Картина Каш-Каш Павла Челищева и Сад К.Кедрова |
-Поцелуй-
В это время змея сползающая с откоса в мазуте
оставляет кожу на шпалах как шлейф Карениной
В это время в гостиную вваливается Распутин
и оттуда вываливаются фрейлины
Все охвачено единым вселенским засосом
млечный осьминог вошел в осьминога
Двое образующих цифру 8
друг из друга сосут другого
Так взасос
устремляется море к луне
Так взасос
пьет священник из чаши церковной
так младенец причмокивает во сне
жертвой будущей обескровлен
-Сад-
Мягкий тормоз грузного мозга
вдалеке полет и полет
а за полетом где поле голо
черепаха першит глазами
Рубят сердце в корыте
Червь выпадает из флейты
как яблоки из коня
Гость прогнившего сада
ты вырван из дерева с корнем
Ларинголог заглядывает в глаза
Сад ослеп
обнаженные ребра
белым плугом врезаются в почву
Сад проросший плугами
мертвящая пустошь ребенка

В это время змея сползающая с откоса в мазуте
оставляет кожу на шпалах как шлейф Карениной
В это время в гостиную вваливается Распутин
и оттуда вываливаются фрейлины
Все охвачено единым вселенским засосом
млечный осьминог вошел в осьминога
Двое образующих цифру 8
друг из друга сосут другого
Так взасос
устремляется море к луне
Так взасос
пьет священник из чаши церковной
так младенец причмокивает во сне
жертвой будущей обескровлен
-Сад-
Мягкий тормоз грузного мозга
вдалеке полет и полет
а за полетом где поле голо
черепаха першит глазами
Рубят сердце в корыте
Червь выпадает из флейты
как яблоки из коня
Гость прогнившего сада
ты вырван из дерева с корнем
Ларинголог заглядывает в глаза
Сад ослеп
обнаженные ребра
белым плугом врезаются в почву
Сад проросший плугами
мертвящая пустошь ребенка

|
|
Павел Челищев АНГЕЛЫ |
Константин Кедров
Ангелы изьясняются подарками
даря друг-другу кино
Так в арку вьезжает Жанна Д-Арк
Так Батерфляй выпадает из кимоно
Так лорд Байрон покинув Грецию
Плыл в Элладу как древний грек
Человек человеку-Ангел
Ангел-Ангелу -человек

Ангелы изьясняются подарками
даря друг-другу кино
Так в арку вьезжает Жанна Д-Арк
Так Батерфляй выпадает из кимоно
Так лорд Байрон покинув Грецию
Плыл в Элладу как древний грек
Человек человеку-Ангел
Ангел-Ангелу -человек

|
|
Феномены Челищева и Странник Кедрова |
-Странник-
Опираясь на посох воздушный
странник движется горизонтально
Опираясь на посох горизонтальный
вертикальный странник идет
Так два посоха крест образуют идущий
наполняя пространство
в котором Христос полновесен
Виснет кровь
становясь вертикальной
Из разорванной птицы пространство ее выпадает
из распахнутого чрева вылетает лоно
и чрево становится птицей
над чревом парящей
Это дева беременная распятьем
распласталась крестом
Угловатое чрево разорвало Марию
Она как яйцо раскололась
Крест висит на своей пуповине
Мария и рама
в том окне только странник
теряющий в посохе посох
Шел плотник неумелый
с прозрачным топором
посреди дороги упал раздвоенный череп
мозг как хлеб преломился
вошла скорлупа в скорлупу
вылетела птица прилетела птица
ты остался собой
как стал как хлеб преломленный
но больше всего как птица
которая улетела
как колокол деревянный
сквозь топор пустоты небесной
летит раздвоенный мозг
пока поводырь не ведает о слепце
пока слепец бредет сквозь поводыря
оставшегося позади
с беременным посохом.

Опираясь на посох воздушный
странник движется горизонтально
Опираясь на посох горизонтальный
вертикальный странник идет
Так два посоха крест образуют идущий
наполняя пространство
в котором Христос полновесен
Виснет кровь
становясь вертикальной
Из разорванной птицы пространство ее выпадает
из распахнутого чрева вылетает лоно
и чрево становится птицей
над чревом парящей
Это дева беременная распятьем
распласталась крестом
Угловатое чрево разорвало Марию
Она как яйцо раскололась
Крест висит на своей пуповине
Мария и рама
в том окне только странник
теряющий в посохе посох
Шел плотник неумелый
с прозрачным топором
посреди дороги упал раздвоенный череп
мозг как хлеб преломился
вошла скорлупа в скорлупу
вылетела птица прилетела птица
ты остался собой
как стал как хлеб преломленный
но больше всего как птица
которая улетела
как колокол деревянный
сквозь топор пустоты небесной
летит раздвоенный мозг
пока поводырь не ведает о слепце
пока слепец бредет сквозь поводыря
оставшегося позади
с беременным посохом.

|
|
Процитировано 1 раз
Konstantin KedrovPoems are written on motives of Pavel Chelishchev’s pictures |
Konstantin Kedrov
Poems are written on motives of Pavel Chelishchev’s pictures
1.
(Translated by Marina Rozanova)
COMPUTER OF LOVE
Heaven is the height of a look
A look is the depth of heaven
Pain is the touch of God
God is the touch of pain
Dream is the width of a soul
Soul is the depth of a dream
Light is the voice of silence
Silence is the voice of light
Darkness is the cry of shining
Shining is the silence of darkness
Rainbow is the gladness of light
An idea is the dumbness of the soul
Soul is an idea undraped
Light is the depth of knowledge
Knowledge is the height of light
A steed is an animal of space
A cat is an animal of time
Time is space curled into a ball
Space is jump of a steed
Sun is the body of moon
A body is the moon of love
A ship is wave of metal
Water is the ship of wave
Sorrow is the emptiness of space
Gladness is the completeness of time
Time is the sorrow of space
Space is the completeness of time
A man is the heaven turned inside out
A woman is the man turned inside out
A man is the woman turned inside out
A heaven is the man turned inside out
A touch is the space of a man
Love is the touch of infinity
The eternal life is the moment of love
A sail-ship is the computer of memory
Memory is the sail-ship of computer
Poetry is the time of a thief
A poet is the thief of time
Sea is the space of moon
Moon is the time of sun
Time is the moon of space
Stars are the voices of a night
Voices are the stars of a day
A ship is the quay of the whole ocean
Ocean is the quay of the ship
A skin is the drawing of constellation
Constellation is the drawing of the skin
Christ is the sun of Buddha
Buddha is the moon of Christ
The time of sun can be measured by the moon of space
Space of moon is the time of sun
The horizon is the width of a look
A look is the width of the horizon
Height is the border of vision
A palm is a boat for a bride
A bride is a boat in a palm
A camel is a ship of desert
Desert is a camel's ship
Beauty is the hate for death
The hate for death is a beauty
The constellation Orion is a sword of love
Love is the sword of the constellation Orion
The Little Dipper is the space of the Big Dipper
The Big Dipper is the time of Little Dipper
A look is the width of heaven
Heaven is the height of a look
A thought is the depth of a night
Night is the width a thought
The Galaxy is the way to the moon
Moon is the developed Galaxy
Every star is the pleasures of the flesh
Erotics is all stars
Space between stars is the time without love
People are the bridges between stars
Bridges are stars between people
Passion is flying
Flying is the continuation of passion
Voice is a jump of one to another
A friend is the understanding of cry
The distance between people is full of stars
The distance of stars is full of people.
The Cross
All around, the wilting roses
Faint in the sobbing summer.
Sinking, the swollen cross
Of the dragon-fly
Where Christ
Is being down by rays of light.
The iridescent cross is lifted from the dragon-flies,
Nailed down under God’s gaze.
Fair, iridescent Christ
Lies himself out
On the river and mountain.
The cross from the river – mountain,
The cross from the river – the heavens,
Sun-moon twinkling cross,
The cross of the night and day,
Trough you and me –
Joined at the hips.
The butterfly
The earth is flying
by the orbit
not like a butterfly
who follows it's own way
The Endless Poem
Every day I hear inside myself your voice
The words sound very strange
And when I close my eyes
I see those shouts which are given birth with silence
And the bright colors which was born by dark
I am finding myself left by all
Except concepts and word which are so deep
That the word we can see disappears
But I can speak and when I understand it
The word is born again
I string sounds on a naked nerve
And feel the great dissonance
And the rapture of an eminence above the world
The Poetry is top of being
Carriages are connected by iron hand shake
Trees – stations – silence
And you in silence of old night
And everything that connects me with you
And millions people which sleep as slaves
Nothing understanding in such love
The zero of the worlds rotates in the heaven of stars –
It is a sight comes back to his source
Both dark blue day and a red wave
A green beam has fallen to a parrot
And the parrot has started talking verses
Both dark blue day and a red wave
Where the blue fern has hidden
And in days of the rivers centuries have stopped
We have been a meeting of lizards on a stone
I am a red ship
And you are a blue one
We contrast by colours of us
I am a red ship
And you are a blue one
Together we’ll swim thought the death
On black lake a white swan
On white lake a black swan
The white swan swims
Also a black swan swims
But if you will look in reflection
All will be on the contrary –
On white lake the black swims
White swims on black lake
I ‘m a cemetery of the lost ships
I’m her dream
her grief and light
I’m a fog for he and I’m a bell in fog
And I’m nothing for myself
I know I’m a cemetery of the lost ships
About windows flight of flight
And this groan among grey walls
Any passer-by has stepped in space
And has collapsed in a dead faint through centuries
Water flew through concrete and eternity
And the dustman swept away stars from sidewalk
And people refracted in wet asphalt being broken in splinters
I has left to itself “through – towards – from”
And has left “under” erecting “above“
2.
(Translated by Alexandra Zabolotskaya)
Looking-glass
The Looking-glass
A template
Of the Sound
Mount
Stay put
Turn up
A tone
You are not
You are all
Mount
Take yourself out
Strike right across
Like a mast
Sss – zzz
A lake of cross-section
A template of reflection
Again the face plane
Smash yourself
There is floor of the ceiling
Eyeless
Darkness
Grey
Red
Re
Do
Si
La
Sol
Fa
Me
Re
Red
Grey
Darkness
Eyeless
There is floor of the ceiling
Smash yourself
Again the face plane
A template of reflection
A lake of cross-section
Sss – zzz
Like a mast
Strike right across
Take yourself out
Mount
You are all
You are not
A tone
Turn up
Stay put
Mount
Of the Sound
A template
The Looking-glass
3.
(Translated by Anatoly Kudryavitsky)
The Ship of Prayer
Prayer is a ship
that sails through bareness
the moon is prayerful
and the sun consists of kisses
prayer is a ship
with babies on board
she sails into love
kissing the ocean with her back
World-wide silence can't drown
worldly noises
we believe that we exist
and that life is in abundance
Shiva has many arms
but he can't bind sheaves
God has many legs
but love is biped
Two-legged nakedness
is wide open into the horizon
every lodging is temporal
only the ship of love
sails through Hellespont
time and again
the living have been dead for long
but they are slowly
returning to life now
Wings
These wings –
on the right – on the left –
at the front – behind –
they are only one wing
refracted
in all dimensions
into which those with an odd number of wings
fly away,
their wings turned inwards.
This is a secret, yours and mine,
a secret with an odd number of wings.
In some four-dimensional space
souls weave,
and perceive with,
such tentacles of lace.
Speaking for Yourself
To my home
To your sign
To the flame-coloured
pillar of creation –
speaking in the voice
oblivious of pain
shutting yourself off
from the world
and crying bitterly
blazing slowly:
ah, I joined
the chorus –
but it’s not up to you
nor to me
to choose going round
to each one of us –
his own scream
or a dream
or a bride –
fascinating
transformed
gentle
Konstantin Kedrov is the Russian avant-garde poet, philologist, literary critic. He hold a PhD in Philosophy. Prof. Kedrov is member of the Writers Union of Russia, currently President of Russian Poetry Society, a corporate member of FIPA, UNESKO, a member of the International PEN, He is the author of term Metacode (united code of world culture), the creator of the new poetry school named Methametaphora and a founder of the poetry group called DOOS (The Voluntary Society for the Protection of Dragonflies). He is also the founder and editor-in-chief of "Journal POetov" (magazine of poets). Was awarded the GRAMMY.ru Prize (2003, 2005) as a poet of the year.
Poems are written on motives of Pavel Chelishchev’s pictures
1.
(Translated by Marina Rozanova)
COMPUTER OF LOVE
Heaven is the height of a look
A look is the depth of heaven
Pain is the touch of God
God is the touch of pain
Dream is the width of a soul
Soul is the depth of a dream
Light is the voice of silence
Silence is the voice of light
Darkness is the cry of shining
Shining is the silence of darkness
Rainbow is the gladness of light
An idea is the dumbness of the soul
Soul is an idea undraped
Light is the depth of knowledge
Knowledge is the height of light
A steed is an animal of space
A cat is an animal of time
Time is space curled into a ball
Space is jump of a steed
Sun is the body of moon
A body is the moon of love
A ship is wave of metal
Water is the ship of wave
Sorrow is the emptiness of space
Gladness is the completeness of time
Time is the sorrow of space
Space is the completeness of time
A man is the heaven turned inside out
A woman is the man turned inside out
A man is the woman turned inside out
A heaven is the man turned inside out
A touch is the space of a man
Love is the touch of infinity
The eternal life is the moment of love
A sail-ship is the computer of memory
Memory is the sail-ship of computer
Poetry is the time of a thief
A poet is the thief of time
Sea is the space of moon
Moon is the time of sun
Time is the moon of space
Stars are the voices of a night
Voices are the stars of a day
A ship is the quay of the whole ocean
Ocean is the quay of the ship
A skin is the drawing of constellation
Constellation is the drawing of the skin
Christ is the sun of Buddha
Buddha is the moon of Christ
The time of sun can be measured by the moon of space
Space of moon is the time of sun
The horizon is the width of a look
A look is the width of the horizon
Height is the border of vision
A palm is a boat for a bride
A bride is a boat in a palm
A camel is a ship of desert
Desert is a camel's ship
Beauty is the hate for death
The hate for death is a beauty
The constellation Orion is a sword of love
Love is the sword of the constellation Orion
The Little Dipper is the space of the Big Dipper
The Big Dipper is the time of Little Dipper
A look is the width of heaven
Heaven is the height of a look
A thought is the depth of a night
Night is the width a thought
The Galaxy is the way to the moon
Moon is the developed Galaxy
Every star is the pleasures of the flesh
Erotics is all stars
Space between stars is the time without love
People are the bridges between stars
Bridges are stars between people
Passion is flying
Flying is the continuation of passion
Voice is a jump of one to another
A friend is the understanding of cry
The distance between people is full of stars
The distance of stars is full of people.
The Cross
All around, the wilting roses
Faint in the sobbing summer.
Sinking, the swollen cross
Of the dragon-fly
Where Christ
Is being down by rays of light.
The iridescent cross is lifted from the dragon-flies,
Nailed down under God’s gaze.
Fair, iridescent Christ
Lies himself out
On the river and mountain.
The cross from the river – mountain,
The cross from the river – the heavens,
Sun-moon twinkling cross,
The cross of the night and day,
Trough you and me –
Joined at the hips.
The butterfly
The earth is flying
by the orbit
not like a butterfly
who follows it's own way
The Endless Poem
Every day I hear inside myself your voice
The words sound very strange
And when I close my eyes
I see those shouts which are given birth with silence
And the bright colors which was born by dark
I am finding myself left by all
Except concepts and word which are so deep
That the word we can see disappears
But I can speak and when I understand it
The word is born again
I string sounds on a naked nerve
And feel the great dissonance
And the rapture of an eminence above the world
The Poetry is top of being
Carriages are connected by iron hand shake
Trees – stations – silence
And you in silence of old night
And everything that connects me with you
And millions people which sleep as slaves
Nothing understanding in such love
The zero of the worlds rotates in the heaven of stars –
It is a sight comes back to his source
Both dark blue day and a red wave
A green beam has fallen to a parrot
And the parrot has started talking verses
Both dark blue day and a red wave
Where the blue fern has hidden
And in days of the rivers centuries have stopped
We have been a meeting of lizards on a stone
I am a red ship
And you are a blue one
We contrast by colours of us
I am a red ship
And you are a blue one
Together we’ll swim thought the death
On black lake a white swan
On white lake a black swan
The white swan swims
Also a black swan swims
But if you will look in reflection
All will be on the contrary –
On white lake the black swims
White swims on black lake
I ‘m a cemetery of the lost ships
I’m her dream
her grief and light
I’m a fog for he and I’m a bell in fog
And I’m nothing for myself
I know I’m a cemetery of the lost ships
About windows flight of flight
And this groan among grey walls
Any passer-by has stepped in space
And has collapsed in a dead faint through centuries
Water flew through concrete and eternity
And the dustman swept away stars from sidewalk
And people refracted in wet asphalt being broken in splinters
I has left to itself “through – towards – from”
And has left “under” erecting “above“
2.
(Translated by Alexandra Zabolotskaya)
Looking-glass
The Looking-glass
A template
Of the Sound
Mount
Stay put
Turn up
A tone
You are not
You are all
Mount
Take yourself out
Strike right across
Like a mast
Sss – zzz
A lake of cross-section
A template of reflection
Again the face plane
Smash yourself
There is floor of the ceiling
Eyeless
Darkness
Grey
Red
Re
Do
Si
La
Sol
Fa
Me
Re
Red
Grey
Darkness
Eyeless
There is floor of the ceiling
Smash yourself
Again the face plane
A template of reflection
A lake of cross-section
Sss – zzz
Like a mast
Strike right across
Take yourself out
Mount
You are all
You are not
A tone
Turn up
Stay put
Mount
Of the Sound
A template
The Looking-glass
3.
(Translated by Anatoly Kudryavitsky)
The Ship of Prayer
Prayer is a ship
that sails through bareness
the moon is prayerful
and the sun consists of kisses
prayer is a ship
with babies on board
she sails into love
kissing the ocean with her back
World-wide silence can't drown
worldly noises
we believe that we exist
and that life is in abundance
Shiva has many arms
but he can't bind sheaves
God has many legs
but love is biped
Two-legged nakedness
is wide open into the horizon
every lodging is temporal
only the ship of love
sails through Hellespont
time and again
the living have been dead for long
but they are slowly
returning to life now
Wings
These wings –
on the right – on the left –
at the front – behind –
they are only one wing
refracted
in all dimensions
into which those with an odd number of wings
fly away,
their wings turned inwards.
This is a secret, yours and mine,
a secret with an odd number of wings.
In some four-dimensional space
souls weave,
and perceive with,
such tentacles of lace.
Speaking for Yourself
To my home
To your sign
To the flame-coloured
pillar of creation –
speaking in the voice
oblivious of pain
shutting yourself off
from the world
and crying bitterly
blazing slowly:
ah, I joined
the chorus –
but it’s not up to you
nor to me
to choose going round
to each one of us –
his own scream
or a dream
or a bride –
fascinating
transformed
gentle
Konstantin Kedrov is the Russian avant-garde poet, philologist, literary critic. He hold a PhD in Philosophy. Prof. Kedrov is member of the Writers Union of Russia, currently President of Russian Poetry Society, a corporate member of FIPA, UNESKO, a member of the International PEN, He is the author of term Metacode (united code of world culture), the creator of the new poetry school named Methametaphora and a founder of the poetry group called DOOS (The Voluntary Society for the Protection of Dragonflies). He is also the founder and editor-in-chief of "Journal POetov" (magazine of poets). Was awarded the GRAMMY.ru Prize (2003, 2005) as a poet of the year.
|
|
Konstantin Kedrov The Ship of Prayer |
The butterfly
The earth is flying
by the orbit
not like a butterfly
who follows it's own way
Konstantin Kedrov
The Ship of Prayer
Prayer is a ship
that sails through bareness
the moon is prayerful
and the sun consists of kisses
prayer is a ship
with babies on board
she sails into love
kissing the ocean with her back
World-wide silence can't drown
worldly noises
we believe that we exist
and that life is in abundance
Shiva has many arms
but he can't bind sheaves
God has many legs
but love is biped
Two-legged nakedness
is wide open into the horizon
every lodging is temporal
only the ship of love
sails through Hellespont
time and again
the living have been dead for long
but they are slowly
returning to life now
(Translated by Ahatoly Kudryavitsky)
СЕМАНТИКА САТАНЫ
Монолит Моны Лизы база ликбеза
Не линяй раньше времени зайка
Ты через заскорузлый круг и образ Бразилии
Своеобразно скачущая икона,
Дающая разгон мирозданью
Вагранка знает сталь
Как Сталин знает грань
А гравер аграрного праха
Не отличает вихрь праха от вихря духа
Дух пахаря прах
А прах пахаря вихрь
Равно приятно ощущать материю
Матрицу мертвеца
Семантику сатаны
Плавно, плавно оседает домкрат примитивного духа
А паровоз луны
Давит то сирийца
То ассирийца
Например НИТРОГЛИЦЕРИН взрывоопасен под рельсами
Но не под языком
Он растворяет
Суперфосфат в тринитротолуол
И олицетворяет во всем гидролиз
Кто растворяется тот неусвояем
Кто не полностью усвояем
Тот полностью растворим
THE SEMANTICS OF SATAN
The monolith of Mona Lisa - base of action
against illiteracy -
Do not fade ahead of time, honey.
You re an original icon
Skipping through the hardened circle
and the image of Brazil,
Giving dispersal to the world+
Smelting furnace knows steel
As Stalin knows a facet
And the engraver of agrarian ashes
Does not distinguish a whirlwind of ashes
from a whirlwind of spirit.
The spirit of a plowman is ashes
And ashes of a plowman is a whirlwind.
It is equally pleasant to feel Matter
The matrix of a dead man,
The semantics of Satan.
Smoothly, effortlessly the jack
Of primitive spirit settles
And a steam locomotive of the Moon
Presses now the Syrian
Now the Assyrian.
For example, NITROGLYCERINE
is explosive when it s under rails,
But not under the tongue
It dissolves
Super phosphate into trinitrotoluolus,
It personifies hydrolysis in everything.
Who is dissolved is not assimilated,
Who is not wholly assimilated
Is wholly dissolved.

Картина Павла Челищева "Каш-Каш" или "Прятки" Нью-Йорк 1942г. Павел Челищев -двоюродный дед Константина Кедрова. Картина -отклик на весть о его рождении 12 ноября 1942-го года. В этом же году умер прадед К.Кедрова и отец Павла Челищева Федор Сергеевич Челищев

третья часть триптиха "Рай" состоит из множества картин с1948 по1957 г.г.
The earth is flying
by the orbit
not like a butterfly
who follows it's own way
Konstantin Kedrov
The Ship of Prayer
Prayer is a ship
that sails through bareness
the moon is prayerful
and the sun consists of kisses
prayer is a ship
with babies on board
she sails into love
kissing the ocean with her back
World-wide silence can't drown
worldly noises
we believe that we exist
and that life is in abundance
Shiva has many arms
but he can't bind sheaves
God has many legs
but love is biped
Two-legged nakedness
is wide open into the horizon
every lodging is temporal
only the ship of love
sails through Hellespont
time and again
the living have been dead for long
but they are slowly
returning to life now
(Translated by Ahatoly Kudryavitsky)
СЕМАНТИКА САТАНЫ
Монолит Моны Лизы база ликбеза
Не линяй раньше времени зайка
Ты через заскорузлый круг и образ Бразилии
Своеобразно скачущая икона,
Дающая разгон мирозданью
Вагранка знает сталь
Как Сталин знает грань
А гравер аграрного праха
Не отличает вихрь праха от вихря духа
Дух пахаря прах
А прах пахаря вихрь
Равно приятно ощущать материю
Матрицу мертвеца
Семантику сатаны
Плавно, плавно оседает домкрат примитивного духа
А паровоз луны
Давит то сирийца
То ассирийца
Например НИТРОГЛИЦЕРИН взрывоопасен под рельсами
Но не под языком
Он растворяет
Суперфосфат в тринитротолуол
И олицетворяет во всем гидролиз
Кто растворяется тот неусвояем
Кто не полностью усвояем
Тот полностью растворим
THE SEMANTICS OF SATAN
The monolith of Mona Lisa - base of action
against illiteracy -
Do not fade ahead of time, honey.
You re an original icon
Skipping through the hardened circle
and the image of Brazil,
Giving dispersal to the world+
Smelting furnace knows steel
As Stalin knows a facet
And the engraver of agrarian ashes
Does not distinguish a whirlwind of ashes
from a whirlwind of spirit.
The spirit of a plowman is ashes
And ashes of a plowman is a whirlwind.
It is equally pleasant to feel Matter
The matrix of a dead man,
The semantics of Satan.
Smoothly, effortlessly the jack
Of primitive spirit settles
And a steam locomotive of the Moon
Presses now the Syrian
Now the Assyrian.
For example, NITROGLYCERINE
is explosive when it s under rails,
But not under the tongue
It dissolves
Super phosphate into trinitrotoluolus,
It personifies hydrolysis in everything.
Who is dissolved is not assimilated,
Who is not wholly assimilated
Is wholly dissolved.

Картина Павла Челищева "Каш-Каш" или "Прятки" Нью-Йорк 1942г. Павел Челищев -двоюродный дед Константина Кедрова. Картина -отклик на весть о его рождении 12 ноября 1942-го года. В этом же году умер прадед К.Кедрова и отец Павла Челищева Федор Сергеевич Челищев

третья часть триптиха "Рай" состоит из множества картин с1948 по1957 г.г.
|
|
родословная и герб кедрова-челищева |
герб и челищевская родословная к. кедрова
РОДОСЛОВНАЯ ЧЕЛИЩЕВЫХ
(Линия, ведущая к КОНСТАНТИНУ КЕДРОВУ дана с небольшими сокращениями по книге Владимира Линдберга “Три дома” и выпискам из 6-й части родословной книги Калужской губернии, любезно предоставленной К.Кедрову Дворянским Собранием)
Оттон III -император Священной Римской Империи
Ричард-львиное сердце-король рыцарей круглого стола
v
Герцог Люнебургский
v
Вильгельм Люнебургский -полководец св.блг.кн. Александра Невского
приехал в Новгород в 1237 г., принял в крещении имя Леонтий.
v
Карл
родоначальник Челищевых, прозвище Челищ, в крещении Андрей, прибыл на Русь в 1237 г., служил св. блг. кн. Александру Невскому.
v
Андрей
Бренко, крестник Ивана Калиты, жена Мария Константиновна Углицкая, внучка Ивана Калиты.
v
Михаил Андреевич
Бренко, воевода, племянник св. блг. Кн. Дмитрия Донского, погиб в доспехах св. Дмитрия Донского на Куликовом поле 21 сентября 1380 г. (замечу, что мой двоюродный дед художник Павел Челищев родился 21 сентября).В историческом музее хранится литография начала 18-го в. с подробным описанием и изображением Куликовской битвы. Ясно видна надпись под изображением Бренко "ВМЕСТО СЕБЯ МИХАИЛА-речь идет о переодевании Бренко в доспехи Донского. Родственники были почти близнецами по внешнему виду.
Челищев-посол Грозного к крымскому хану.Погиб в заточении в крепости Чуфут -Кале
Челищев-посол в Византию,привез в Москву Софью Палеолог
v
Иван
Мастер Ордена Розенкрейцеров Северной России (ум.1779).Глава депортамента артиллерии
Михаил Челищев- ротмистр,погиб на Бородинском поле 1812,кавалер трех Георгиевских крестов,пожалован медалью1812г.и шашкой За храбрость,внесен в список героев Бородина в Храме Христа Спасителя.(Награды хранятся в РГАЛИ в фонде Константина Кедрова 3132)
v
Александр
Генерал-лейтенант, главный начальник артиллерийского департамента Военной коллегии, Мастер Ордена Розенкрейцеров Северной России (ум. 1821).
v
Михаил (ум. 1797, 50 л.) - Елена Ивановна Батюшкова
v
Николай, прапрапрадед
Предводитель дворянства Козельского уезда 1821 – 23 гг.
v
Сергей, прапрадед
Предводитель дворянства Жиздринского уезда 1850 – 60 гг.
v
Федор Сергеевич, прадед К.Кедрова и отец художника Павла Челищева. Помещик в Дубровке Калужской губернии,Жиздринского уезда. Ум. в 1942г.в Лозовой. (Снимок могилы в фонде К.Кедрова 3132 в РГАЛИ)См. также картину Павла Челищева "Портрет отца" в виде Дубровского пейзажа и головы тигра
1-й брак – Наталья Михайловна (прабабушка К.Кедрова)
v
Софья Федоровна Челищева (в замужестве Юматова),дочь Федора Сергеевича Челищева и бабушка К.Кедрова 1894 – 1919. Погибла от тифа после высылки Челищевых из Дубровки по личному приказу Ленина.
Портрет работы Павла Челищева 1914 г. в каталоге галереи Наши Художники на Рублевке (из коллекции К.Кедрова)
v
НАДЕЖДА Владимировна Юматова (КЕДРОВА), мать К.Кедрова,актриса (1917 – 1991), ее отец, дворянин Владимир Юматов погиб (пропал без вести) в 1919 г.
Еще две дочери Федора Сергеевича Челищева от 1-го брака: Варвара Федоровна Зарудная ,учила литературе дочку Сталина Светлану и внучку Хрущева, Мария ФедоровнаЧелищева (в замужестве Клименко )(1895 – 1978)покится на 3-й алее Донского кладбища вместе с сестрами Натальей и Варварой, от не К. Кедров узнал историю рода после возвращения Марии Федоровны из заключения в сталинском концлагере в 1952г.. Обе сестры переписывались с Павлом Челищевым (переписка находится в фонде К. Кедрова в РГАЛИ 3132).
v
Павел ФедоровичЧелищев 1888-1957, двоюродный дед Константина Кедрова –1888-1957 художник,основоположник мистического сюрреализма за 9 лет до Дали. Эмигрировал с армией Деникина в 1919 сначала в Стамбул ,потом в Париж.Вычерчивал укрепления Крымского Сивашского перешейка,будучи картографом Деникинской армии. Александра Федоровна Челищева (в замужестве Заусайлова (эмигрировала вместе с Павлом, жила в Париже,похоронена на Пер-Лашез.Туда же перенесла прах Павла Челищева из Фраскатти под Римом. Первая могила Павла Челищева тоже сохранена), Михаил Федорович (погиб от банды Махно в 1919 г,подтвердив родовое поверье-не называть Михаилами. Михаил Бренко пал на Куликовом поле,ротмистр Михаил Челищев на поле Бородино.)
Герб Челищевых
Щит разделен перпендикулярно на две части, из коих в правой в черном поле изображено знамя имеющее древко золотое, поставленное на серебряном полумесяце-в память о РИЧАРДЕ-ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ,инициаторе и герое крестовых походов; левая часть разрезана горизонтально чертою. В верхней части в голубом поле изображена корона СОФЬИ ПАЛЕОЛОГ и около нее три золотые лилии в память о посольстве Челищева в Византию при сватовстве Ивана 111 к византийской принцессе. В нижней части в красном поле две золотые трубы и между ними на серебряной полосе означены три страусовы пера красного цвета,в воспоминание о победе на КУЛИКОВОМ поле и гибели МИХАИЛА БРЕНКО в доспехах св. блг.кн.ДМИТРИЯ ДОНСКОГО. Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом с дворянскою на нем короною, на поверхности которой виден Лев с мечом- память о Ричарде-львиное сердце. Намет на щите золотой подложенный голубым и красным цветом.

константин кедров у картины своего двоюродного деда Павла Челищева "Феномены"(Ад)вТретьяковской галерее на Крымской наб зал 20. Лето 2007



картины павла челищева:в углу слева "Портрет Джойса",в нижнем углу справа балет "Ода",вторая в правом ряду в середине "Прятки" или "Каш-каш"или "Ищущий да обрящет"Геннадий Рождественский «Треугольники». М., СЛОВО/SLOVO, 2001.
Глава 22 «Боярин и Ситвука» (Штрихи к портрету Павла Челищева)
с.318. Павел Федорович Челищев оставил нам грандиозные живописные работы, две панорамы, суммирующие его жизненный путь и философски обобщающие художественные взгляды мастера. Одна из них под названием «Ищите да обрящете» находится в музее современного искусства в Нью-Йорке. Перед этой картиной «онемела» Эдит Ситуэлл. Долго «всматривалась» в полотно, она не произнесла ни слова и только через несколько дней написала своему «Боярину Павлику» восторженное письмо. Как он ждал этого письма, мучась молчанием Ситвуки!
Переписка Челищева с Эдит Ситуэлл, хранящаяся в библиотеке Бейнике Йельского университета в США, огромна. В 2000 г. она стала доступна для всех интересующихся
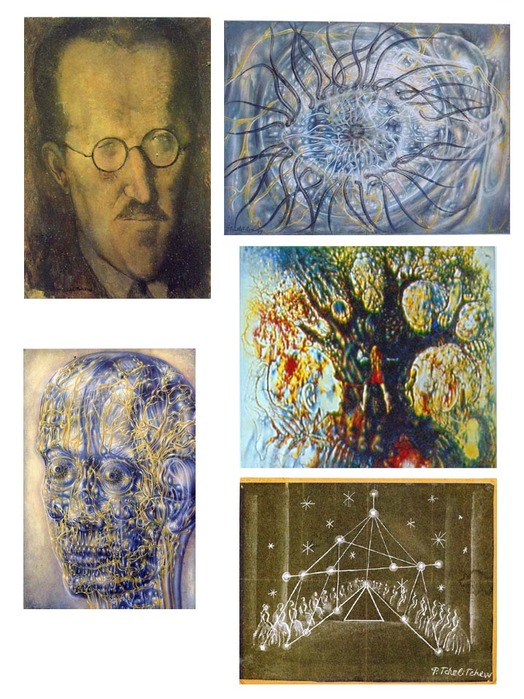
http://mkrusoe.h16.ru/wbb2/thread.php?threadid=20
П. Ф. Челищев «Феномен»
Этот дворец – творение Богов, подумал я сначала.
Но, оглядев необитаемые покои, поправился:
Боги, построившие его, умерли. А заметив, сколь он
необычен, сказал: «Построившие его Боги были безумны».
Борхес Хорхе
Господи, зачем ты создал этот город?! За что ты караешь?! Или это тебя самого так наказали? Вывернули наизнанку и показали тебе твоё детище таким, каким оно само себя сделало? Нет, это не твоя вина! Это Бессмертные! Ты создал Эдем, в котором жили великие и мудрые, такие, как Гомер, где был вечный золотой век. А теперь они создали пародию, на себя, на тебя. Перевёртыш. Был рай, стал ад…
Ад – горный, движущийся, пузырящийся как лава. Пирамида, мироздание, в основе которого существуют монстры и уродцы, а у его подножия протекает река: Лета, Стикс, Эзеп, Пактол?..
«Я вышел к себе через-навстречу-от. И ушёл под, воздвигая над.» - написал Константин Кедров. О Челищеве. Его мистицизм, оксюмороны, невероятность, сумасшествие… «Феномен» - ад. Часть триптиха. Челищев – Данте на холсте. И ещё не известно, что страшнее. Челищев – предсказатель. Он показывает новый мир, общество будущего, в котором живём мы, уроды, мутанты, дегенераты…
Люди отказались от живого мира, от новшеств, от движения. Они превратились в хаос. Груды разломанных машин, вывороченных картин, восставшие из могил мертвецы, то ли свадьба, то ли похороны (если свадьба, почему только невеста? если похороны, почему белый цвет?), сумасшедшие воронки, напоминающие человеческие желудки, искаженные человеческие органы…
Разрез дома – пещера. Вылетает женщина, покрытая саваном с головой, сивилла. Жуткий, душераздирающий, пронизывающий до мозга костей её крик. Но в другом углу площади он уже не слышен. Там тихая идиллическая гармония. Летит бабочка, древний символ бессмертия… Девочки – сиамские близнецы, мать, кормящая ребёнка двумя парами грудей, человек и лошадь в противогазах, бабочка – всё это радужно, спокойно и светло. Даже цвет меняется. Если в горах были каменистые, серые, мрачные, могильные оттенки, то, спускаясь по диагонали, появляются цвета радуги, яркие, броские, пусть химические, неестественные, но живые, радостные. Эти люди, несмотря ни на что, продолжают жить и радоваться этой жизни. Этим девочкам со слоновьей кожей, мальчикам-паукам, тюленям без плавников, медиумам в банке, старикам под стеклянными колпаками по-своему уютно и спокойно в их мире. Они уже свыклись с ним. Они строили его под себя.
В картину вложены сотни смыслов. Даже не художником, а воспринимающими его картину. Но каждый к концу своих размышлений чувствует мучительный стыд. За себя, за окружающих, за художника, за того, кто создал этот город…
В нижнем левом углу Челищев рисует художника, себя. Художник рисует продолжение картины, рисует то, что чувствует вокруг себя. На его картине – повешенный… Может быть, это тот единственный Человек, не выдержавший окружающей пытки, или не принятый и распятый?...
Это фантасмагорическая цитата – растленные персонажи Босха, апокалиптическое величие Толедо Эль Греко, художник-судья Веласкеса и Гойи перед своим холстом. Цитирование этих великих предшественников сюрреализма с его миром сновидений, бреда и трансформации. Но его мир страшнее.
Где-то далеко на заднем плане летит, падает человек. Он никем не замечен, мы и сами-то увидели его с трудом. Тоже цитата – «Падение Икара» Брейгеля. Происходит катастрофа, гибель человека, но в мире это ничего не меняет. Человек летит прямо на острие огромного бездушного здания, символа власти и цивилизации, которое выросло на обломках пирамиды. А у основания пирамиды – человеческие головы, тупые и безмозглые, ждущие своего часа.
Ощущение, что Челищев вставляет в картину свои тайные смыслы, которые он видит третьим глазом. Например, перед нами реальный пляж 30ых годов. Море, солнце, каменистый берег, упитанная женщина в жёлтом купальнике и шапочке и пухлый красный мужчина загорают на пляжном матрасике, мужчина с волосатыми ногами вытирается полотенцем, резвятся радостные дети, на заднем плане – новые небоскрёбы, здания из стекла и бетона, теннисный корт – знак физкультурных занятий и здорового образа жизни советских граждан, и звуки популярнейшей песни 30-х годов, которая лилась из каждого приемника: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». И в этот момент мы начинаем буквально понимать значение каждого слова этой страшной песни. Советская сказка, советский рай, мечта превращается в адскую быль. Простор и пространство преодолены, прошлое и будущее сгущаются над настоящим как зловещие фантомы. «Нам разум дал стальные руки-крылья» - огромные руки-грабли, лопаты, ковши, гребущие, манящие, хватающие, душащие. Над всем этим апокалипсисом – пламенный мотор, который вставлен вместо сердца. Это невиданный полет «послушного аппарата», это пронзенный и расщепленный, и преобразованный, и разрушенный, и трансформированный «каждый атом».
Михайловская Маша
10г, гимназия 1543

После "АДА"-"ФЕНОМЕНЫ" Павел ЧЕЛИЩЕВ в 1942 г ,узнав о рождении своего внучатого племянника Константина Кедрова ,завершает картину "Каш-Каш" или "Прятки" или "Ищущий да обрящет"

Третья часть триптиха "Рай" состоит из сияющих полотен 1948-57 г.

РОДОСЛОВНАЯ ЧЕЛИЩЕВЫХ
(Линия, ведущая к КОНСТАНТИНУ КЕДРОВУ дана с небольшими сокращениями по книге Владимира Линдберга “Три дома” и выпискам из 6-й части родословной книги Калужской губернии, любезно предоставленной К.Кедрову Дворянским Собранием)
Оттон III -император Священной Римской Империи
Ричард-львиное сердце-король рыцарей круглого стола
v
Герцог Люнебургский
v
Вильгельм Люнебургский -полководец св.блг.кн. Александра Невского
приехал в Новгород в 1237 г., принял в крещении имя Леонтий.
v
Карл
родоначальник Челищевых, прозвище Челищ, в крещении Андрей, прибыл на Русь в 1237 г., служил св. блг. кн. Александру Невскому.
v
Андрей
Бренко, крестник Ивана Калиты, жена Мария Константиновна Углицкая, внучка Ивана Калиты.
v
Михаил Андреевич
Бренко, воевода, племянник св. блг. Кн. Дмитрия Донского, погиб в доспехах св. Дмитрия Донского на Куликовом поле 21 сентября 1380 г. (замечу, что мой двоюродный дед художник Павел Челищев родился 21 сентября).В историческом музее хранится литография начала 18-го в. с подробным описанием и изображением Куликовской битвы. Ясно видна надпись под изображением Бренко "ВМЕСТО СЕБЯ МИХАИЛА-речь идет о переодевании Бренко в доспехи Донского. Родственники были почти близнецами по внешнему виду.
Челищев-посол Грозного к крымскому хану.Погиб в заточении в крепости Чуфут -Кале
Челищев-посол в Византию,привез в Москву Софью Палеолог
v
Иван
Мастер Ордена Розенкрейцеров Северной России (ум.1779).Глава депортамента артиллерии
Михаил Челищев- ротмистр,погиб на Бородинском поле 1812,кавалер трех Георгиевских крестов,пожалован медалью1812г.и шашкой За храбрость,внесен в список героев Бородина в Храме Христа Спасителя.(Награды хранятся в РГАЛИ в фонде Константина Кедрова 3132)
v
Александр
Генерал-лейтенант, главный начальник артиллерийского департамента Военной коллегии, Мастер Ордена Розенкрейцеров Северной России (ум. 1821).
v
Михаил (ум. 1797, 50 л.) - Елена Ивановна Батюшкова
v
Николай, прапрапрадед
Предводитель дворянства Козельского уезда 1821 – 23 гг.
v
Сергей, прапрадед
Предводитель дворянства Жиздринского уезда 1850 – 60 гг.
v
Федор Сергеевич, прадед К.Кедрова и отец художника Павла Челищева. Помещик в Дубровке Калужской губернии,Жиздринского уезда. Ум. в 1942г.в Лозовой. (Снимок могилы в фонде К.Кедрова 3132 в РГАЛИ)См. также картину Павла Челищева "Портрет отца" в виде Дубровского пейзажа и головы тигра
1-й брак – Наталья Михайловна (прабабушка К.Кедрова)
v
Софья Федоровна Челищева (в замужестве Юматова),дочь Федора Сергеевича Челищева и бабушка К.Кедрова 1894 – 1919. Погибла от тифа после высылки Челищевых из Дубровки по личному приказу Ленина.
Портрет работы Павла Челищева 1914 г. в каталоге галереи Наши Художники на Рублевке (из коллекции К.Кедрова)
v
НАДЕЖДА Владимировна Юматова (КЕДРОВА), мать К.Кедрова,актриса (1917 – 1991), ее отец, дворянин Владимир Юматов погиб (пропал без вести) в 1919 г.
Еще две дочери Федора Сергеевича Челищева от 1-го брака: Варвара Федоровна Зарудная ,учила литературе дочку Сталина Светлану и внучку Хрущева, Мария ФедоровнаЧелищева (в замужестве Клименко )(1895 – 1978)покится на 3-й алее Донского кладбища вместе с сестрами Натальей и Варварой, от не К. Кедров узнал историю рода после возвращения Марии Федоровны из заключения в сталинском концлагере в 1952г.. Обе сестры переписывались с Павлом Челищевым (переписка находится в фонде К. Кедрова в РГАЛИ 3132).
v
Павел ФедоровичЧелищев 1888-1957, двоюродный дед Константина Кедрова –1888-1957 художник,основоположник мистического сюрреализма за 9 лет до Дали. Эмигрировал с армией Деникина в 1919 сначала в Стамбул ,потом в Париж.Вычерчивал укрепления Крымского Сивашского перешейка,будучи картографом Деникинской армии. Александра Федоровна Челищева (в замужестве Заусайлова (эмигрировала вместе с Павлом, жила в Париже,похоронена на Пер-Лашез.Туда же перенесла прах Павла Челищева из Фраскатти под Римом. Первая могила Павла Челищева тоже сохранена), Михаил Федорович (погиб от банды Махно в 1919 г,подтвердив родовое поверье-не называть Михаилами. Михаил Бренко пал на Куликовом поле,ротмистр Михаил Челищев на поле Бородино.)
Герб Челищевых
Щит разделен перпендикулярно на две части, из коих в правой в черном поле изображено знамя имеющее древко золотое, поставленное на серебряном полумесяце-в память о РИЧАРДЕ-ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ,инициаторе и герое крестовых походов; левая часть разрезана горизонтально чертою. В верхней части в голубом поле изображена корона СОФЬИ ПАЛЕОЛОГ и около нее три золотые лилии в память о посольстве Челищева в Византию при сватовстве Ивана 111 к византийской принцессе. В нижней части в красном поле две золотые трубы и между ними на серебряной полосе означены три страусовы пера красного цвета,в воспоминание о победе на КУЛИКОВОМ поле и гибели МИХАИЛА БРЕНКО в доспехах св. блг.кн.ДМИТРИЯ ДОНСКОГО. Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом с дворянскою на нем короною, на поверхности которой виден Лев с мечом- память о Ричарде-львиное сердце. Намет на щите золотой подложенный голубым и красным цветом.

константин кедров у картины своего двоюродного деда Павла Челищева "Феномены"(Ад)вТретьяковской галерее на Крымской наб зал 20. Лето 2007



картины павла челищева:в углу слева "Портрет Джойса",в нижнем углу справа балет "Ода",вторая в правом ряду в середине "Прятки" или "Каш-каш"или "Ищущий да обрящет"Геннадий Рождественский «Треугольники». М., СЛОВО/SLOVO, 2001.
Глава 22 «Боярин и Ситвука» (Штрихи к портрету Павла Челищева)
с.318. Павел Федорович Челищев оставил нам грандиозные живописные работы, две панорамы, суммирующие его жизненный путь и философски обобщающие художественные взгляды мастера. Одна из них под названием «Ищите да обрящете» находится в музее современного искусства в Нью-Йорке. Перед этой картиной «онемела» Эдит Ситуэлл. Долго «всматривалась» в полотно, она не произнесла ни слова и только через несколько дней написала своему «Боярину Павлику» восторженное письмо. Как он ждал этого письма, мучась молчанием Ситвуки!
Переписка Челищева с Эдит Ситуэлл, хранящаяся в библиотеке Бейнике Йельского университета в США, огромна. В 2000 г. она стала доступна для всех интересующихся
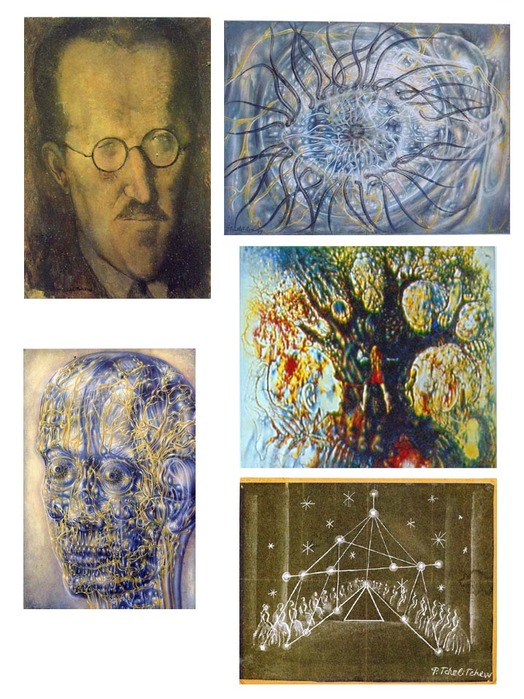
http://mkrusoe.h16.ru/wbb2/thread.php?threadid=20
П. Ф. Челищев «Феномен»
Этот дворец – творение Богов, подумал я сначала.
Но, оглядев необитаемые покои, поправился:
Боги, построившие его, умерли. А заметив, сколь он
необычен, сказал: «Построившие его Боги были безумны».
Борхес Хорхе
Господи, зачем ты создал этот город?! За что ты караешь?! Или это тебя самого так наказали? Вывернули наизнанку и показали тебе твоё детище таким, каким оно само себя сделало? Нет, это не твоя вина! Это Бессмертные! Ты создал Эдем, в котором жили великие и мудрые, такие, как Гомер, где был вечный золотой век. А теперь они создали пародию, на себя, на тебя. Перевёртыш. Был рай, стал ад…
Ад – горный, движущийся, пузырящийся как лава. Пирамида, мироздание, в основе которого существуют монстры и уродцы, а у его подножия протекает река: Лета, Стикс, Эзеп, Пактол?..
«Я вышел к себе через-навстречу-от. И ушёл под, воздвигая над.» - написал Константин Кедров. О Челищеве. Его мистицизм, оксюмороны, невероятность, сумасшествие… «Феномен» - ад. Часть триптиха. Челищев – Данте на холсте. И ещё не известно, что страшнее. Челищев – предсказатель. Он показывает новый мир, общество будущего, в котором живём мы, уроды, мутанты, дегенераты…
Люди отказались от живого мира, от новшеств, от движения. Они превратились в хаос. Груды разломанных машин, вывороченных картин, восставшие из могил мертвецы, то ли свадьба, то ли похороны (если свадьба, почему только невеста? если похороны, почему белый цвет?), сумасшедшие воронки, напоминающие человеческие желудки, искаженные человеческие органы…
Разрез дома – пещера. Вылетает женщина, покрытая саваном с головой, сивилла. Жуткий, душераздирающий, пронизывающий до мозга костей её крик. Но в другом углу площади он уже не слышен. Там тихая идиллическая гармония. Летит бабочка, древний символ бессмертия… Девочки – сиамские близнецы, мать, кормящая ребёнка двумя парами грудей, человек и лошадь в противогазах, бабочка – всё это радужно, спокойно и светло. Даже цвет меняется. Если в горах были каменистые, серые, мрачные, могильные оттенки, то, спускаясь по диагонали, появляются цвета радуги, яркие, броские, пусть химические, неестественные, но живые, радостные. Эти люди, несмотря ни на что, продолжают жить и радоваться этой жизни. Этим девочкам со слоновьей кожей, мальчикам-паукам, тюленям без плавников, медиумам в банке, старикам под стеклянными колпаками по-своему уютно и спокойно в их мире. Они уже свыклись с ним. Они строили его под себя.
В картину вложены сотни смыслов. Даже не художником, а воспринимающими его картину. Но каждый к концу своих размышлений чувствует мучительный стыд. За себя, за окружающих, за художника, за того, кто создал этот город…
В нижнем левом углу Челищев рисует художника, себя. Художник рисует продолжение картины, рисует то, что чувствует вокруг себя. На его картине – повешенный… Может быть, это тот единственный Человек, не выдержавший окружающей пытки, или не принятый и распятый?...
Это фантасмагорическая цитата – растленные персонажи Босха, апокалиптическое величие Толедо Эль Греко, художник-судья Веласкеса и Гойи перед своим холстом. Цитирование этих великих предшественников сюрреализма с его миром сновидений, бреда и трансформации. Но его мир страшнее.
Где-то далеко на заднем плане летит, падает человек. Он никем не замечен, мы и сами-то увидели его с трудом. Тоже цитата – «Падение Икара» Брейгеля. Происходит катастрофа, гибель человека, но в мире это ничего не меняет. Человек летит прямо на острие огромного бездушного здания, символа власти и цивилизации, которое выросло на обломках пирамиды. А у основания пирамиды – человеческие головы, тупые и безмозглые, ждущие своего часа.
Ощущение, что Челищев вставляет в картину свои тайные смыслы, которые он видит третьим глазом. Например, перед нами реальный пляж 30ых годов. Море, солнце, каменистый берег, упитанная женщина в жёлтом купальнике и шапочке и пухлый красный мужчина загорают на пляжном матрасике, мужчина с волосатыми ногами вытирается полотенцем, резвятся радостные дети, на заднем плане – новые небоскрёбы, здания из стекла и бетона, теннисный корт – знак физкультурных занятий и здорового образа жизни советских граждан, и звуки популярнейшей песни 30-х годов, которая лилась из каждого приемника: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». И в этот момент мы начинаем буквально понимать значение каждого слова этой страшной песни. Советская сказка, советский рай, мечта превращается в адскую быль. Простор и пространство преодолены, прошлое и будущее сгущаются над настоящим как зловещие фантомы. «Нам разум дал стальные руки-крылья» - огромные руки-грабли, лопаты, ковши, гребущие, манящие, хватающие, душащие. Над всем этим апокалипсисом – пламенный мотор, который вставлен вместо сердца. Это невиданный полет «послушного аппарата», это пронзенный и расщепленный, и преобразованный, и разрушенный, и трансформированный «каждый атом».
Михайловская Маша
10г, гимназия 1543

После "АДА"-"ФЕНОМЕНЫ" Павел ЧЕЛИЩЕВ в 1942 г ,узнав о рождении своего внучатого племянника Константина Кедрова ,завершает картину "Каш-Каш" или "Прятки" или "Ищущий да обрящет"

Третья часть триптиха "Рай" состоит из сияющих полотен 1948-57 г.

|
|
Процитировано 1 раз
Константин Кедров благодарит Бога за Грэмми.ру |
Грэмми.ру поэзия года
Константин Кедров
Благодарственный молебен Константина Кедрова за Грэмми.ру
Поэт и философ Константин Кедров снова победил в номинации
"Поэзия года" премии национального портала GRAMMY.ru. В ознаменование сего радостного события в храме-часовне Иоанна Богослова был отслужен благодарственный молебен.
На этот раз голосовало 14 000 пользователей. Им предстояло отдать свои голоса или Белле Ахмадулиной, или Константину Кедрову, или предложить любую другую кандидатур.
На снимке о. Данииил, Константин Кедров, атташе посольства Франции Ирэн Зайончек
http://futurum-art.ru/avangard/2006/07/24.htm
Диплом премии GAMMY.RU за 2003 г.
Диплом премии GAMMY.RU за 2005 г.
Номинант на Нобелевскую премию в области поэзии Константин Кедров во второй раз взял премию русскоязычного интерната "GRAMMY.ru", теперь уже за 2005 год. И снова, как и в 2003 году, наибольшей любовью молодых читателей пользуется его поэма "Компьютер любви". Она, видимо, оказалась ближе и понятнее сегодняшнему юзеру Интернета, чем изысканно сложная, в духе классической традиции, поэзия Беллы Ахмадулиной.
"Всяк Дар совершен — свыше есть!" — эти слова Писания торжественно произнес игумен Даниил, благочинный Верхне-Петровского монастыря в Москве и духовник православного монастыря в Черногории. Он-то и отслужил благодарственный молебен в часовне Иоанна Богослова, что устроена прямо на крыше авангардного театра Анатолия Васильева.
Сам победитель скромно отметил, что он, как и любимый ученик Христа, впоследствии — автор "Апокалипсиса", также работает со словом. А один из образов поэмы — как раз звезды, которые фигурируют, как известно, и в "Откровении Иоанна Богослова" ("Апокалипсисе") и изображены на алтарном витраже церкви, где проходило молебствование. Для примера Константин Кедров процитировал строки: "Расстояния между людьми заполняют звезды. Расстояния между звёздами заполняют люди".
— Раньше люди уходили от торгашеской культуры в леса и в пустыни, а теперь в Интернет, — сказал лауреат на вручении очередного диплома.
© Copyright: Константин Кедров, 2007
Свидетельство о публикации №2712140228








Константин Кедров
Благодарственный молебен Константина Кедрова за Грэмми.ру
Поэт и философ Константин Кедров снова победил в номинации
"Поэзия года" премии национального портала GRAMMY.ru. В ознаменование сего радостного события в храме-часовне Иоанна Богослова был отслужен благодарственный молебен.
На этот раз голосовало 14 000 пользователей. Им предстояло отдать свои голоса или Белле Ахмадулиной, или Константину Кедрову, или предложить любую другую кандидатур.
На снимке о. Данииил, Константин Кедров, атташе посольства Франции Ирэн Зайончек
http://futurum-art.ru/avangard/2006/07/24.htm
Диплом премии GAMMY.RU за 2003 г.
Диплом премии GAMMY.RU за 2005 г.
Номинант на Нобелевскую премию в области поэзии Константин Кедров во второй раз взял премию русскоязычного интерната "GRAMMY.ru", теперь уже за 2005 год. И снова, как и в 2003 году, наибольшей любовью молодых читателей пользуется его поэма "Компьютер любви". Она, видимо, оказалась ближе и понятнее сегодняшнему юзеру Интернета, чем изысканно сложная, в духе классической традиции, поэзия Беллы Ахмадулиной.
"Всяк Дар совершен — свыше есть!" — эти слова Писания торжественно произнес игумен Даниил, благочинный Верхне-Петровского монастыря в Москве и духовник православного монастыря в Черногории. Он-то и отслужил благодарственный молебен в часовне Иоанна Богослова, что устроена прямо на крыше авангардного театра Анатолия Васильева.
Сам победитель скромно отметил, что он, как и любимый ученик Христа, впоследствии — автор "Апокалипсиса", также работает со словом. А один из образов поэмы — как раз звезды, которые фигурируют, как известно, и в "Откровении Иоанна Богослова" ("Апокалипсисе") и изображены на алтарном витраже церкви, где проходило молебствование. Для примера Константин Кедров процитировал строки: "Расстояния между людьми заполняют звезды. Расстояния между звёздами заполняют люди".
— Раньше люди уходили от торгашеской культуры в леса и в пустыни, а теперь в Интернет, — сказал лауреат на вручении очередного диплома.
© Copyright: Константин Кедров, 2007
Свидетельство о публикации №2712140228








|
|
ЕВРОПА-ЭКСПРЕСС К.Кедров нобелевский номинант |
Европа-экспресс 316 с.ниденс беседа с номинантом н
Константин Кедров
Берлинская газета-еженедельник «Европа Экспресс» № 13
Рубрика «Личность»
Постоянная навечно
Беседа с номинантом на Нобелевскую премию
Одним из самых именитых участников Лейпцигской книжной ярмарки, которая пройдет с 25 по 28 марта, будет Константин Кедров, под звучание лиры которого прошел минувший год в российской поэзии. Вышло полное собрание сочинений Кедрова «Или», его выдвинули в число соискателей Нобелевской премии в области литературы. Надо сказать, что это означает беспрекословное мировое признание Кедрова как замечательнейшего поэта. Мы представляем его в преддверии открытия Лейпцигской книжной ярмарки.
– Константин Александрович, наконец-то в вашем лице Запад снова начинает уважать русскую литературу. Поэзия вряд ли будет здесь когда-нибудь бестселлером. Времена Гейне и Гeте миновали. Конечно, западным читателем сильно манипулируют, навязывая ему книги среднего пошиба. Но нобелевский номинант – поэт из России – незаурядное явление. Скажите, почему вы, попав в короткий лист номинантов на присуждение Нобелевской премии, обошли маститых отечественных прозаиков?
– Все более или менее понятно. Нобелевский комитет всегда удивлял Россию тем, что обращал внимание, прежде всего, на тех, кого официальная культура стремилась забыть. Я хорошо помню, как изумлялись люди: кто такой этот Пастернак? Его стихи помнили только знатоки или суперснобы. В перечне поэтов этого имени вообще не было. Народу были известны Симонов, Щипачев, Ошанин или и того хуже.
– Бывшему россиянину, простому читателю из германской глубинки невдомек, что русская поэзия еще котируется за рубежом. Если судить по книжному ассортименту в здешних русских магазинах, то в России только один писатель – Дарья Донцова. Я, например, в одном немецком издательстве интересовался последней переводной книгой вашей подопечной Алины Витухновской и просто поразился: оказывается, на нее есть спрос у местной читающей публики.
– У меня с Алиной вышло три совместных сборника: «Собака Павлова», «Земля пуля», а сейчас только что издан «Онегин – Твистер». Среди 20-летних – это самая заметная фигура. Ее поэзия трагична и напоминает французских «проклятых» – Рембо, Бодлера и других «поэтических хулиганов». Недавно Алина сказала мне по телефону: «Состоявшийся классик – это памятник Пушкину».
– Поэтический авангард иногда сравнивают с передним краем литературного фронта, на котором ситуация, увы, без перемен. Если учесть все ваше творчество как теоретика и философа, то вы сами, можно сказать, «поэт для производителей», как выразился однажды Маяковский о Хлебникове. У всех на слуху открытый вами знаменитый метакод. Что это такое? В чем от него, так сказать, практическая польза?
– От метакода еще большая польза, чем от генетического кода. Генетический код – это жизнь. А метакод – это вся жизнь. В основе генетического кода четыре первоэлемента. В основе метакода четыре фазы луны (новолуние и полнолуние, месяц убывающий и серединное состояние). Здесь же четырехмастный континуум пространства-времени и четырехсторонний крест – основной формообразующий элемент мира. (верх – низ, правое – левое). Из четырех первоэлементов образована древнекитайская книга «И-Цзин». Но главное в метакоде – само существование духовно-телесных первоэлементов, которые в буддизме именовались «дхармами». На основе метакода возникли звездные шрифты всех азбук. Они включают в себя фрагменты созвездий, которые читаются, как иероглифы или буквы. Огненной указкой для чтения является луна (месяц), проходящая по воображаемому кругу – свитку Зодиака. Это не астрология, а своего рода астральная филология, позволяющая расшифровать и восстановить звездную (метакодовую) основу всех популярных текстов.
– Поэзию как таковую на Западе, похоже, давно отнесли на культурное кладбище. Людей отучают думать и заставляют потреблять какой-то поэтический суррогат. Конкурентоспособна ли большая поэзия против напора серого стихоплeтства?
– Большинство людей едят в «Макдональдсе», и, слава богу, есть где поесть. «Ресторан» поэзии не для всех. Поэзия – это роскошь, без которой жизнь невозможна. Я не верю в чей-то злой умысел. Средства массовой информации идут на поводу у толпы. Они зависят от тиража – такова их участь. Поэзия – это золото в крови. В крови есть золото. Его немного. Но без золота кровь неполноценна. Надо говорить не о конкурентоспособности, а о доступности поэзии для тех, кто ее достоин.
– Когда читаешь вашу прекрасно изданную книгу «Или», то поневоле вспоминаешь слова Джека Лондона, сказанные в применении к другому гениальному поэту: «Это – истина провидца, выкованная из черноты космоса мощным ритмом стиха». Стиль ваших вещей – занимательный. Без разницы, про что вы пишете. Будь то вдохновенная пьеса о Сократе или увлекательное исследование «Эйнштейн без формул». Ваша «Ангелическая по-этика» принята для преподавания студентам гуманитарных вузов. О достаточно сложных предметах вы умудряетесь рассказывать в доступной для всех форме. На мой взгляд, при всей тематической сложности вы очень читабельный автор.
– Мои книги раскупаются не так быстро, как детективы, но, к счастью, все-таки находят своих заинтересованных читателей. Сложность в другом. Не знаю, как в Германии, но в России фактически нет системы книжного распространения. Из столицы хорошие книги могут прийти в другие города только через Интернет. Кстати, так и происходит. Но Интернет у нас дорогое удовольствие, доступное лишь 3% населения. Официальная культура меня недолюбливает, потому что просто не понимает. Зато меня любят философы, композиторы, художники, актеры, пытливые старики. То есть те, кто легко объединяется двумя словами – творческая интеллигенция. Таковой в России всегда немного.
– Есть такое любопытное высказывание: «Если Греция – родина философии, то Германия, наверняка, – ее обетованная земля». Какое влияние немецкой мысли и культуры вы испытали на себе?
– Прямое. Тем более и корни у меня в Германию самые прямые. По материнской линии я – Челищев, а род Челищевых ведет свое происхождение от курфюрста Люнебургского, который, в свою очередь, породнен с Оттоном III. Это генетическое родство: мой двоюродный дед, мистический сюрреалист, художник Павел Челищев эмигрировал в 1920 г. в Германию. А другой Челищев (боковая ветвь рода) известен под фамилией Линдберг. Он тоже мистический писатель – розенкрейцер. Один из наших общих предков был начальником департамента артиллерии и в XVIII в. основал в Рыбинских лесах ложу розенкрейцеров. Труды самого Розенкрейцера я прочел только недавно. Зато на меня оказал гигантское влияние Томас Манн («Иосиф и его братья») и Гегель («Наука логики»), не говоря уже о Шеллинге и Канте. Знаменитое изречение «звезды над моей головой – категорический императив во мне» – это основа метакода. Сегодня я неогегельянец, прошедший сквозь горнило горячо любимого мной Витгенштейна. Твердо убежден, что не мы говорим языком, а язык говорит нами. Это привело меня к созданию звездного языка поэмы «Астраль» и сверхграмматике поэмы «Верфлием». Но самое гигантское влияние на меня оказал Эйнштейн, провозгласивший: Herr Gott ist raffiniert, aber boshaft ist er nicht («Бог изощрен, но не злобен»).
– Очаровательная Наталья Нестерова, великодушный меценат и ректор Гуманитарного университета в Москве, неустанно содействует выживанию передовой поэзии. Благодаря ее поддержке издается редактируемый вами «Журнал ПОэтов», где постоянно представлена элита русского авангарда. Как вообще обстоит сейчас дело с литературной периодикой в России? Есть шанс выжить без спонсорской помощи?
– Фонд Сороса – это такая международная благотворительная организация – невольно сделал черное дело, поддержав толстые советские журналы «Знамя», «Новый мир», «Октябрь». В результате у нас все еще царят эстетические пристрастия советской эпохи. За счет полугосударственных структур издается «Литературная газета», которая по эстетике так же консервативна, как в эпоху Брежнева и Андропова, да еще и с явным фундаменталистским душком. Мой «Журнал ПОэтов» противостоит этому, как Палата мер и весов противостоит фальшивым гирям.
– Признаюсь, что мне, как, возможно, и другим вашим читателям, тоже далеко не все понятно в стихах Кедрова. Но лично у меня такое ощущение, что за этим стоит что-то грандиозное. К числу поклонников вашего творчества относятся много крупных имен науки и искусства. Профессор Сергей Петрович Капица сопоставил ваши литературные достижения с теорией относительности. Как вы чувствуется себя в роли Эйнштейна русской поэзии?
– Это просто очень точное определение того, что я назвал термином «метаметафора», взбудоражившим советскую критику еще в 1983 г. Метаметафора – это метафора в системе координат четырехмерного континуума Эйнштейна. Здесь мир выглядит таким, каким можно его увидеть только двигаясь со скоростью света.
Человек – это изнанка неба
Небо – это изнанка человека
Расстояние между людьми заполняют звезды
Расстояние между звездами заполняют люди.
Шеллинг, Кант и даже Гегель этого не знали. Они жили в мире Ньютона. Зато Гегель шел напрямую к метаметафоре, когда написал в «Науке логики»: «Небытие – это чистое бытие. Чистое бытие – это небытие». И еще он же: «Человек – это ночь, видящая себя своими темными пустыми зрачками» (привожу по памяти, но почти буквально).
– Вашу уникальную по идее «Энциклопедию метаметафоры», думается, стоит прочитать всем, кто хоть мало-мальски интересуется развитием поэтического слова. По-моему, это еще небывалый опыт. Перевести ее на немецкий было бы, наверное, небезынтересно и для немецкоязычного читателя.
– Надеюсь, вернее, я уверен, что это произойдет. Ведь немцы не перестали быть немцами. Не может быть, чтобы наследники Канта, Гегеля и Витгенштейна перестали интересоваться новой метафизикой. Метакод и метаметафора – это новая поэзия и новая метафизика.
– Как-то раз вы про себя самого сказали, что счастливо женаты на прекрасной женщине. Она ваш помощник, единомышленник, сама – чудесная писательница. Великий сексолог Фрейд полагал, что художественное творчество – это задавленная любовь. Насколько вы верите в силу любви не по Фрейду?
– Я разлюбил Фрейда. Он очень прямолинеен. Как Иван Павлов. Как Маркс и даже Ницше, не говоря уж об их вульгарных истолкователях. Связь между творчеством и сексом прямая. Хочется, когда пишется, и пишется, когда хочется, но перевес все же на первой части этого утверждения. Фрейд – гениальный писатель. Именно писатель. Его научность – набор мифов ХХ в. Нет сублимации либидо в творчество, но есть сублимация творчества в либидо. Психоанализ – гениальная поэма и только. Нет никакого подсознания, но есть подъязык. Там слово «луна» сцепится с лоном, но это уже по закону метакода. Отношения между мужским и женским или женским и мужским – это отношение между человеком и космосом. Моя жена, поэтесса Елена Кацюба, действительно целый космос. Космос во всем.
– Ваш великий соратник Андрей Вознесенский точно сформулировал ваше кредо, то есть художнический принцип: «Кедров – это константа мысли. Мысль – это константа Кедрова». Даже ваше имя – Константин – значит «постоянный». Могли бы вы сказать, какая же главная постоянная - константа у Кедрова?
– Однажды Андрей позвонил мне из Индии: «Я стою у зуба Будды под платаном, где он открыл четыре истины. Записывай: «Настанет лада кредова – константа Кедрова». Мы с Андреем едины в уверенности, что все приходит из языка и все уходит в язык. Но язык состоит из первоэлементов метакода, а читается он только как метаметафора. На том стою навеки: «Метаметафора – амфора нового смысла».
Сергей Ниденс
© Copyright: Константин Кедров, 2008
Свидетельство о публикации №1802103452
Список читателей Версия для печати Заявить о нарушении правил
Вы можете проголосовать за это произведение в СМС-чарте. Для этого отправьте СМС-сообщение с текстом stihi 1802103452 на единый короткий номер 1151 из России (или 5012 из Украины, 9912 из Казахстана), поддерживаются все операторы. Стоимость СМС - 1$. Автору произведения за каждый голос начисляется 50 баллов, см. подробнее условия голосования.
Рецензии
Добавить рецензию
Другие произведения этого автора
Стихи.ру: авторы | произведения | рецензии | о сервере | кабинет | ваша страница | продвижение | счета | Проза.ру | Классика.ру
Все авторские права на произведения принадлежат их авторам и охраняются законом. Стихи.ру предоставляет авторам сервис по публикации произведений на основании пользовательского договора. Ответственность за содержание произведений несут их авторы. Информация о сервере и контактные данные. Размещение рекламы на сервере.
© Copyright: Константин Кедров, 2008
Свидетельство о публикации №2802100612

Константин Кедров
Берлинская газета-еженедельник «Европа Экспресс» № 13
Рубрика «Личность»
Постоянная навечно
Беседа с номинантом на Нобелевскую премию
Одним из самых именитых участников Лейпцигской книжной ярмарки, которая пройдет с 25 по 28 марта, будет Константин Кедров, под звучание лиры которого прошел минувший год в российской поэзии. Вышло полное собрание сочинений Кедрова «Или», его выдвинули в число соискателей Нобелевской премии в области литературы. Надо сказать, что это означает беспрекословное мировое признание Кедрова как замечательнейшего поэта. Мы представляем его в преддверии открытия Лейпцигской книжной ярмарки.
– Константин Александрович, наконец-то в вашем лице Запад снова начинает уважать русскую литературу. Поэзия вряд ли будет здесь когда-нибудь бестселлером. Времена Гейне и Гeте миновали. Конечно, западным читателем сильно манипулируют, навязывая ему книги среднего пошиба. Но нобелевский номинант – поэт из России – незаурядное явление. Скажите, почему вы, попав в короткий лист номинантов на присуждение Нобелевской премии, обошли маститых отечественных прозаиков?
– Все более или менее понятно. Нобелевский комитет всегда удивлял Россию тем, что обращал внимание, прежде всего, на тех, кого официальная культура стремилась забыть. Я хорошо помню, как изумлялись люди: кто такой этот Пастернак? Его стихи помнили только знатоки или суперснобы. В перечне поэтов этого имени вообще не было. Народу были известны Симонов, Щипачев, Ошанин или и того хуже.
– Бывшему россиянину, простому читателю из германской глубинки невдомек, что русская поэзия еще котируется за рубежом. Если судить по книжному ассортименту в здешних русских магазинах, то в России только один писатель – Дарья Донцова. Я, например, в одном немецком издательстве интересовался последней переводной книгой вашей подопечной Алины Витухновской и просто поразился: оказывается, на нее есть спрос у местной читающей публики.
– У меня с Алиной вышло три совместных сборника: «Собака Павлова», «Земля пуля», а сейчас только что издан «Онегин – Твистер». Среди 20-летних – это самая заметная фигура. Ее поэзия трагична и напоминает французских «проклятых» – Рембо, Бодлера и других «поэтических хулиганов». Недавно Алина сказала мне по телефону: «Состоявшийся классик – это памятник Пушкину».
– Поэтический авангард иногда сравнивают с передним краем литературного фронта, на котором ситуация, увы, без перемен. Если учесть все ваше творчество как теоретика и философа, то вы сами, можно сказать, «поэт для производителей», как выразился однажды Маяковский о Хлебникове. У всех на слуху открытый вами знаменитый метакод. Что это такое? В чем от него, так сказать, практическая польза?
– От метакода еще большая польза, чем от генетического кода. Генетический код – это жизнь. А метакод – это вся жизнь. В основе генетического кода четыре первоэлемента. В основе метакода четыре фазы луны (новолуние и полнолуние, месяц убывающий и серединное состояние). Здесь же четырехмастный континуум пространства-времени и четырехсторонний крест – основной формообразующий элемент мира. (верх – низ, правое – левое). Из четырех первоэлементов образована древнекитайская книга «И-Цзин». Но главное в метакоде – само существование духовно-телесных первоэлементов, которые в буддизме именовались «дхармами». На основе метакода возникли звездные шрифты всех азбук. Они включают в себя фрагменты созвездий, которые читаются, как иероглифы или буквы. Огненной указкой для чтения является луна (месяц), проходящая по воображаемому кругу – свитку Зодиака. Это не астрология, а своего рода астральная филология, позволяющая расшифровать и восстановить звездную (метакодовую) основу всех популярных текстов.
– Поэзию как таковую на Западе, похоже, давно отнесли на культурное кладбище. Людей отучают думать и заставляют потреблять какой-то поэтический суррогат. Конкурентоспособна ли большая поэзия против напора серого стихоплeтства?
– Большинство людей едят в «Макдональдсе», и, слава богу, есть где поесть. «Ресторан» поэзии не для всех. Поэзия – это роскошь, без которой жизнь невозможна. Я не верю в чей-то злой умысел. Средства массовой информации идут на поводу у толпы. Они зависят от тиража – такова их участь. Поэзия – это золото в крови. В крови есть золото. Его немного. Но без золота кровь неполноценна. Надо говорить не о конкурентоспособности, а о доступности поэзии для тех, кто ее достоин.
– Когда читаешь вашу прекрасно изданную книгу «Или», то поневоле вспоминаешь слова Джека Лондона, сказанные в применении к другому гениальному поэту: «Это – истина провидца, выкованная из черноты космоса мощным ритмом стиха». Стиль ваших вещей – занимательный. Без разницы, про что вы пишете. Будь то вдохновенная пьеса о Сократе или увлекательное исследование «Эйнштейн без формул». Ваша «Ангелическая по-этика» принята для преподавания студентам гуманитарных вузов. О достаточно сложных предметах вы умудряетесь рассказывать в доступной для всех форме. На мой взгляд, при всей тематической сложности вы очень читабельный автор.
– Мои книги раскупаются не так быстро, как детективы, но, к счастью, все-таки находят своих заинтересованных читателей. Сложность в другом. Не знаю, как в Германии, но в России фактически нет системы книжного распространения. Из столицы хорошие книги могут прийти в другие города только через Интернет. Кстати, так и происходит. Но Интернет у нас дорогое удовольствие, доступное лишь 3% населения. Официальная культура меня недолюбливает, потому что просто не понимает. Зато меня любят философы, композиторы, художники, актеры, пытливые старики. То есть те, кто легко объединяется двумя словами – творческая интеллигенция. Таковой в России всегда немного.
– Есть такое любопытное высказывание: «Если Греция – родина философии, то Германия, наверняка, – ее обетованная земля». Какое влияние немецкой мысли и культуры вы испытали на себе?
– Прямое. Тем более и корни у меня в Германию самые прямые. По материнской линии я – Челищев, а род Челищевых ведет свое происхождение от курфюрста Люнебургского, который, в свою очередь, породнен с Оттоном III. Это генетическое родство: мой двоюродный дед, мистический сюрреалист, художник Павел Челищев эмигрировал в 1920 г. в Германию. А другой Челищев (боковая ветвь рода) известен под фамилией Линдберг. Он тоже мистический писатель – розенкрейцер. Один из наших общих предков был начальником департамента артиллерии и в XVIII в. основал в Рыбинских лесах ложу розенкрейцеров. Труды самого Розенкрейцера я прочел только недавно. Зато на меня оказал гигантское влияние Томас Манн («Иосиф и его братья») и Гегель («Наука логики»), не говоря уже о Шеллинге и Канте. Знаменитое изречение «звезды над моей головой – категорический императив во мне» – это основа метакода. Сегодня я неогегельянец, прошедший сквозь горнило горячо любимого мной Витгенштейна. Твердо убежден, что не мы говорим языком, а язык говорит нами. Это привело меня к созданию звездного языка поэмы «Астраль» и сверхграмматике поэмы «Верфлием». Но самое гигантское влияние на меня оказал Эйнштейн, провозгласивший: Herr Gott ist raffiniert, aber boshaft ist er nicht («Бог изощрен, но не злобен»).
– Очаровательная Наталья Нестерова, великодушный меценат и ректор Гуманитарного университета в Москве, неустанно содействует выживанию передовой поэзии. Благодаря ее поддержке издается редактируемый вами «Журнал ПОэтов», где постоянно представлена элита русского авангарда. Как вообще обстоит сейчас дело с литературной периодикой в России? Есть шанс выжить без спонсорской помощи?
– Фонд Сороса – это такая международная благотворительная организация – невольно сделал черное дело, поддержав толстые советские журналы «Знамя», «Новый мир», «Октябрь». В результате у нас все еще царят эстетические пристрастия советской эпохи. За счет полугосударственных структур издается «Литературная газета», которая по эстетике так же консервативна, как в эпоху Брежнева и Андропова, да еще и с явным фундаменталистским душком. Мой «Журнал ПОэтов» противостоит этому, как Палата мер и весов противостоит фальшивым гирям.
– Признаюсь, что мне, как, возможно, и другим вашим читателям, тоже далеко не все понятно в стихах Кедрова. Но лично у меня такое ощущение, что за этим стоит что-то грандиозное. К числу поклонников вашего творчества относятся много крупных имен науки и искусства. Профессор Сергей Петрович Капица сопоставил ваши литературные достижения с теорией относительности. Как вы чувствуется себя в роли Эйнштейна русской поэзии?
– Это просто очень точное определение того, что я назвал термином «метаметафора», взбудоражившим советскую критику еще в 1983 г. Метаметафора – это метафора в системе координат четырехмерного континуума Эйнштейна. Здесь мир выглядит таким, каким можно его увидеть только двигаясь со скоростью света.
Человек – это изнанка неба
Небо – это изнанка человека
Расстояние между людьми заполняют звезды
Расстояние между звездами заполняют люди.
Шеллинг, Кант и даже Гегель этого не знали. Они жили в мире Ньютона. Зато Гегель шел напрямую к метаметафоре, когда написал в «Науке логики»: «Небытие – это чистое бытие. Чистое бытие – это небытие». И еще он же: «Человек – это ночь, видящая себя своими темными пустыми зрачками» (привожу по памяти, но почти буквально).
– Вашу уникальную по идее «Энциклопедию метаметафоры», думается, стоит прочитать всем, кто хоть мало-мальски интересуется развитием поэтического слова. По-моему, это еще небывалый опыт. Перевести ее на немецкий было бы, наверное, небезынтересно и для немецкоязычного читателя.
– Надеюсь, вернее, я уверен, что это произойдет. Ведь немцы не перестали быть немцами. Не может быть, чтобы наследники Канта, Гегеля и Витгенштейна перестали интересоваться новой метафизикой. Метакод и метаметафора – это новая поэзия и новая метафизика.
– Как-то раз вы про себя самого сказали, что счастливо женаты на прекрасной женщине. Она ваш помощник, единомышленник, сама – чудесная писательница. Великий сексолог Фрейд полагал, что художественное творчество – это задавленная любовь. Насколько вы верите в силу любви не по Фрейду?
– Я разлюбил Фрейда. Он очень прямолинеен. Как Иван Павлов. Как Маркс и даже Ницше, не говоря уж об их вульгарных истолкователях. Связь между творчеством и сексом прямая. Хочется, когда пишется, и пишется, когда хочется, но перевес все же на первой части этого утверждения. Фрейд – гениальный писатель. Именно писатель. Его научность – набор мифов ХХ в. Нет сублимации либидо в творчество, но есть сублимация творчества в либидо. Психоанализ – гениальная поэма и только. Нет никакого подсознания, но есть подъязык. Там слово «луна» сцепится с лоном, но это уже по закону метакода. Отношения между мужским и женским или женским и мужским – это отношение между человеком и космосом. Моя жена, поэтесса Елена Кацюба, действительно целый космос. Космос во всем.
– Ваш великий соратник Андрей Вознесенский точно сформулировал ваше кредо, то есть художнический принцип: «Кедров – это константа мысли. Мысль – это константа Кедрова». Даже ваше имя – Константин – значит «постоянный». Могли бы вы сказать, какая же главная постоянная - константа у Кедрова?
– Однажды Андрей позвонил мне из Индии: «Я стою у зуба Будды под платаном, где он открыл четыре истины. Записывай: «Настанет лада кредова – константа Кедрова». Мы с Андреем едины в уверенности, что все приходит из языка и все уходит в язык. Но язык состоит из первоэлементов метакода, а читается он только как метаметафора. На том стою навеки: «Метаметафора – амфора нового смысла».
Сергей Ниденс
© Copyright: Константин Кедров, 2008
Свидетельство о публикации №1802103452
Список читателей Версия для печати Заявить о нарушении правил
Вы можете проголосовать за это произведение в СМС-чарте. Для этого отправьте СМС-сообщение с текстом stihi 1802103452 на единый короткий номер 1151 из России (или 5012 из Украины, 9912 из Казахстана), поддерживаются все операторы. Стоимость СМС - 1$. Автору произведения за каждый голос начисляется 50 баллов, см. подробнее условия голосования.
Рецензии
Добавить рецензию
Другие произведения этого автора
Стихи.ру: авторы | произведения | рецензии | о сервере | кабинет | ваша страница | продвижение | счета | Проза.ру | Классика.ру
Все авторские права на произведения принадлежат их авторам и охраняются законом. Стихи.ру предоставляет авторам сервис по публикации произведений на основании пользовательского договора. Ответственность за содержание произведений несут их авторы. Информация о сервере и контактные данные. Размещение рекламы на сервере.
© Copyright: Константин Кедров, 2008
Свидетельство о публикации №2802100612

|
|
5_й День Поэзии Юнеско Кедров Вознесенский |
25 марта 2006 г. Всемирный день поэзии
Первый Всемирный день поэзии был учрежден UNESCO в марте 2000г., в день весеннего равноденствия. Тогда же, впервые в России и в мире этот праздник отметили в театре Юрия Любимова на Таганке поэты — друзья театра: Андрей Вознесенский, Константин Кедров, Елена Кацюба, Михаил Бузник и др.
25 марта 2006 г. Таганка отметит уже 7-й Всемирный день поэзии.
7-ой ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ UNESCO
НА МАЛОЙ СЦЕНЕ ТЕАТРА НА ТАГАНКЕ
Приветственное слово от ЮНЕСКО - профессор Любава М.Морева, программный специалист по культуре бюро ЮНЕСКО в Москве
Семь цветов поэтической радуги
с восьмым дополнительным
1. Каждый (красный) — Сергей Бирюков (Германия)
2. Охотник (оранжевый) — Константин Кедров
3. Желает (желтый)- Александр Ткаченко
4. Знать (зеленый) — Глеб Шульпяков
5. Где (гоубой) — Елена Кацюба
6. Сидит (синий) — Михаил Бузник (с Юлией Бордовских)
7. Фазан (фиолетовый) — Аня Хвостенко (с гитарой)
8. Дополнительный цвет -
Я — семья
во мне как в спектре живут семь «я»
невыносимых как семь зверей
а самый синий свистит в свирель!
а весной
мне снится
что я - восьмой - Андрей Вознесенский
Вечер ведет президент русской ассоциации поэтов UNESCO Константин Кедров.
Радужное распитие английского виски (только для джентльменов), радугу ароматов элитных сортов английского чая гарантирует
журнал «Британский стиль» во главе с издателем Андреем Харченко.
Билеты можно приобрести в кассе театра или заказать по телефону: 915 1217
ДНИ ПОЭЗИИ НА ТАГАНКЕ
1-ый Всемирный День поэзии в театре Юрия Любимова на Таганке, 2000
2-й Всемирный День поэзии в театре Юрия Любимова на Таганке, 2001
6-й Всемирный День поэзии в театре Юрия Любимова на Таганке, 2005
© 2004 Театр на Таганке
taganka-theatre@mtu-net.ru
Редактор сайта Светлана Сидорина
Первый Всемирный день поэзии был учрежден UNESCO в марте 2000г., в день весеннего равноденствия. Тогда же, впервые в России и в мире этот праздник отметили в театре Юрия Любимова на Таганке поэты — друзья театра: Андрей Вознесенский, Константин Кедров, Елена Кацюба, Михаил Бузник и др.
25 марта 2006 г. Таганка отметит уже 7-й Всемирный день поэзии.
7-ой ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ UNESCO
НА МАЛОЙ СЦЕНЕ ТЕАТРА НА ТАГАНКЕ
Приветственное слово от ЮНЕСКО - профессор Любава М.Морева, программный специалист по культуре бюро ЮНЕСКО в Москве
Семь цветов поэтической радуги
с восьмым дополнительным
1. Каждый (красный) — Сергей Бирюков (Германия)
2. Охотник (оранжевый) — Константин Кедров
3. Желает (желтый)- Александр Ткаченко
4. Знать (зеленый) — Глеб Шульпяков
5. Где (гоубой) — Елена Кацюба
6. Сидит (синий) — Михаил Бузник (с Юлией Бордовских)
7. Фазан (фиолетовый) — Аня Хвостенко (с гитарой)
8. Дополнительный цвет -
Я — семья
во мне как в спектре живут семь «я»
невыносимых как семь зверей
а самый синий свистит в свирель!
а весной
мне снится
что я - восьмой - Андрей Вознесенский
Вечер ведет президент русской ассоциации поэтов UNESCO Константин Кедров.
Радужное распитие английского виски (только для джентльменов), радугу ароматов элитных сортов английского чая гарантирует
журнал «Британский стиль» во главе с издателем Андреем Харченко.
Билеты можно приобрести в кассе театра или заказать по телефону: 915 1217
ДНИ ПОЭЗИИ НА ТАГАНКЕ
1-ый Всемирный День поэзии в театре Юрия Любимова на Таганке, 2000
2-й Всемирный День поэзии в театре Юрия Любимова на Таганке, 2001
6-й Всемирный День поэзии в театре Юрия Любимова на Таганке, 2005
© 2004 Театр на Таганке
taganka-theatre@mtu-net.ru
Редактор сайта Светлана Сидорина
|
|
к.кедров лобачевский хлебников эйнштейн |
Константин Кедров
Влияние «Воображаемой геометрии» Лобачевского
и специальной теории относительности Эйнштейна
на художественное сознание Велимира Хлебникова
Краткое изложение дипломной работы.
Казанский государственный университет. 1967 г.
Работа защищена на «отлично».
В 1969 г. представлена как вступительный реферат в аспирантуру
Литературного ин-та СП СССР им. А.М. Горького
и оценена на «отлично» профессором В.Я. Кирпотиным
и профессором С.И. Машинским.
Глава I
Еще в первом прозаическом отрывке под названием «Завещание» Хлебников сказал: «Пусть на его могиле напишут: «он связал пространство и время…» Это прямая реминисценция чугунной эпитафии на могиле Лобачевского: «Член общества Геттингенских северных антиквариев, почетный попечитель и почетный ректор Казанского Императорского университета и многих орденов кавалер Н.Г. Лобачевский». Ни слова о «воображаемой геометрии», обессмертившей его имя.
В 1901 г. Хлебников прослушал курс «Воображаемой геометрии» в том самом Казанском университете, где когда-то ректорствовал гениальный геометр. Позднее об этом в стихах:
Я помню лик, суровый и угрюмый,
Запрятан в воротник:
То Лобачевский — ты,
суровый Числоводск…
Во дни «давно» и весел
Сел в первые ряды кресел
Думы моей,
Чей занавес уже поднят.
Еще отчетливее Хлебников сформулировал свой геометрический манифест, прямо заявив, что поэтику Пушкина следует уподобить «доломерию Евклида», а поэтику футуристов следует уподобить «доломерию Лобачевского».
Идея связать пространство и время возникла в сознании студента Казанского университета чуть-чуть раньше того момента, когда Герман Минковский прочтет свой доклад о пространственно-временном континууме: «отныне время само по себе и пространство само по себе становятся пустой фикцией, и только объединение их в некую новую субстанцию сохраняет шанс быть реальностью».
Многие до сих пор не поняли, что это означает. Даже Эйнштейн просто счел вначале удобным воспользоваться графиком Минковского, как неким математическим обобщением, где в пространстве вместо точек возникают некие отрезки, сливающиеся в линию мировых событий. И лишь в конце жизни Эйнштейн в письме к сыну черным по белому написал, что «прошлое, будущее, настоящее» с точки зрения физики есть простая иллюзия человеческого восприятия. Ведь график Минковского покончил с иллюзией времени и пространства Ньютона. Теперь перед нами их единство, названное Бахтиным термином «хронотоп».
Хронотоп Хлебникова означал, во-первых, что во времени можно свободно перемещаться из настоящего в прошлое или будущее, поскольку на линии мировых событий Минковского будущее и прошлое присутствуют всегда здесь и сейчас.
Для того, чтобы вычертить график линии мировых событий, а, проще говоря, линии судьбы людей и вещей, потребовалась геометрия Римана, наполовину состоящая из геометрии Лобачевского. У Лобачевского кривизна линии мировых событий отрицательная (седло или псевдосфера). У Римана это обратная сторона четырехмерной сферы. Четырехмерность трехмерного пространства это и есть время.
«Люди, мозг людей доныне скачет на трех ногах. Три измерения пространства. Мы приклеиваем этому пауку четвертую лапу — время» («Труба марсиан»). Стало быть, любое событие во времени постоянно присутствует в пространстве. Если годовой оборот земли вокруг солнца 365 дней образует замкнутую орбиту, значит всемирный пространственно-временной цикл — это 365 лет. Значит через каждые 365 лет происходят события подобные. Записав 365, как 2n, Хлебников пришел к выводу, что события чередуются через четное число 2n, а противоположные — через нечетное число 3n. Так было получено число 317 — цикл противоположных событий. В результате в 1912 г. в статье «Учитель и ученик» Хлебников предсказывает: «В 1917 г. произойдет падение империи». Правда, из контекста явствует, что это будет Британская империя. Оказалось — Российская. Пророчество сбылось. Хлебников уверовал в свою правоту и решил, что отныне будетляне владеют законами времени. Отсюда один шаг для построения линз и зеркал, улавливающих лучи времени и направляющих их куда нужно. Он описал в «Ладомире», как это будет выглядеть.
Глава II
В книге «Неравнодушная природа» и статье «Вертикальный монтаж» великий режиссер Сергей Эйзенштейн открывает тайну контрапункта пространства-времени. Каждому зримому (пространственному) событию на экране соответствует контрапунктное слуховое или звуковое событие во времени. Пример — древнекитайская притча. Мудрец созерцает рябь на поверхности пруда. «Что ты делаешь?» — спрашивают его ученики. — «Я созерцаю радость рыбок». Самих рыбок не видно, видна рябь от их подводной игры. Так музыка должна быть рябью того, что видим, а то, что видим, должно передавать рябь звучанию. Сергей Эйзенштейн назвал это «вертикальный монтаж», или «4-е измерение в искусстве». Это своего рода эквивалент открытия Германа Минковского в геометрии и физике. На графике Минковского линия мировых событий — это рябь пространства на поверхности времени и времени на поверхности пространства. Они контрапунктны. Подъему в пространстве соответствует провал во времени.
Так Велимир Хлебников говорит: «Стоит Бешту, как А и У, начертанные иглой фонографа». А — гребень волны, У — вогутая поверхность ряби.
Вот зримое воплощение контрапункта:
Бобэоби пелись губы — втянутая воронка У в глУбь мира
Пиээо пелись брови — расходящиеся от О круги в ширину на пОверхности ряби
Лиэээй пелся облик — И в облИке связует, стягивает воедИно глубину У и шИрИну И
Осталось связать все это мировой цепью — Гзи-гзи-гзэо пелась цепь.
И вот перед нами мировой лик — автопортрет поэта-вселенной или вселенной-поэта:
Так на холсте каких-то соответствий
Вне протяжения жило лицо.
Глава III
Первое измерение в движении дает линию на плоскости. Таковы плоские фрески и барельефы Древнего Египта. Над плоскостью листа и любой поверхности мы парим изначально. А вот как воспарить над объемом? Ведь пространство физическое трехмерно. Богословы объяснят, почему. Догма о Троице напрашивается. Напрашивается и связь его с трехиспостасным прошло-будуще-настоящим и с трехмерным объемом пространства. Однако математики имеют дело с n-мерным миром. А физики и космологи от пятимерной модели Калуццы пришли к одиннадцатимерной модели мира. Выход в 4-е измерение — это 4-я координата пространства-времени Г. Минковского. Хлебников это понял сразу. И сразу решил, что «узор точек заполнит n-мерную протяженность». Пять чувств — это пять точек в четырехмерном континууме. Они разрознены: слух, зрение, осязание, обоняние, вкус. Как только время перестанет быть отдельной от пространства иллюзией, «узор василька сольется с кукованием кукушки». Проще говоря, звуку будет соответствовать цвет, как у Рембо, Скрябина, Римского-Корсакова.
О своем звукозрении Хлебников рассказал в Звездной Азбуке «Зангези».
эМ — синий все заполняющий объем — масса
Пэ — белый разлетающийся объем — порох, пух, пыл
эС — расходящийся из одной точки — свет, сияние
Зэ — отраженье и преломленье — зигзица (молния), зеркало, зрачок.
Вэ — вращение вокруг точки — «вэо вэо — цвет черемух».
В принципе это может быть и по-другому. Важно соответствие цвета звуку, контрапункт Сергея Эйзенштейна. Таким образом, законы времени — «Доски судьбы» Хлебникова — это контрапункт четырехмерного континуума. Или вибрация мирового звука, запечатленная, как волны, на граммофонной пластинке. Впадины — 317, буруны — 365. Универсальная модель АУ — УА. Мир как эхо крика младенца. Скачок от двухмерности к трехмерному объему — перспектива эпохи Возрождения. Она заполнена фресками Микеланджело и Леонардо. Озвучена объемными мессами от Баха до Бетховена. В этом объеме ад, рай, чистилище Данте или панорамы «Войны и мира» Льва Толстого.
Выход в 4-е измерение — это Пикассо, Сезанн, Матисс, Эшер, Магрит. В слове это футуризм будетлян кубофутуристов и обэриутские драмы Александра Введенского, которого интересовали только две вещи — «время и смерть». При этом одно не может быть понято без другого.
Машина времени Хлебникова — это горло поэта. «Лавой беги, человечество, конницу звуков взнуздав». Влом во вселенную увиденным звуком и услышанной цифрой. Ибо самое великое событие — это «вера 4-х измерений». Это записано Хлебниковым «иглою дикобраза».
Итак, первые слова Хлебникова: «он связал пространство и время», — и последние: «вера 4-х измерений», — совпадают и сливаются по всем параметрам.
--------------------------------------------------------------------------------
Литература:
С. Эйзенштейн «Неравнодушная природа»
С. Эйзенштейн «4-е измерение в искусстве»
С. Эйзенштейн «Вертикальный монтаж»
Г. Минковский доклад «Четырехмерный континуум»
А. Эйнштейн «Физика и реальность»
А. Эйнштейн «Специальная теория относительности»
Э. Эббот, Д.Бюргер «Флатландия»
Н.А. Морозов «4-е измерение»
В. Хлебников «Завещание» и «Вера 4-х измерений», А также «КА», «Зангези» и «Труба марсиан»
Н. Лобачевский «Воображаемая геометрия»
Воспроизведено по авторской электронной версии
--------------------------------------------------------------------------------
(o) Хлебникова поле. HTML, 2005 содержание раздела на главную страницу
Влияние «Воображаемой геометрии» Лобачевского
и специальной теории относительности Эйнштейна
на художественное сознание Велимира Хлебникова
Краткое изложение дипломной работы.
Казанский государственный университет. 1967 г.
Работа защищена на «отлично».
В 1969 г. представлена как вступительный реферат в аспирантуру
Литературного ин-та СП СССР им. А.М. Горького
и оценена на «отлично» профессором В.Я. Кирпотиным
и профессором С.И. Машинским.
Глава I
Еще в первом прозаическом отрывке под названием «Завещание» Хлебников сказал: «Пусть на его могиле напишут: «он связал пространство и время…» Это прямая реминисценция чугунной эпитафии на могиле Лобачевского: «Член общества Геттингенских северных антиквариев, почетный попечитель и почетный ректор Казанского Императорского университета и многих орденов кавалер Н.Г. Лобачевский». Ни слова о «воображаемой геометрии», обессмертившей его имя.
В 1901 г. Хлебников прослушал курс «Воображаемой геометрии» в том самом Казанском университете, где когда-то ректорствовал гениальный геометр. Позднее об этом в стихах:
Я помню лик, суровый и угрюмый,
Запрятан в воротник:
То Лобачевский — ты,
суровый Числоводск…
Во дни «давно» и весел
Сел в первые ряды кресел
Думы моей,
Чей занавес уже поднят.
Еще отчетливее Хлебников сформулировал свой геометрический манифест, прямо заявив, что поэтику Пушкина следует уподобить «доломерию Евклида», а поэтику футуристов следует уподобить «доломерию Лобачевского».
Идея связать пространство и время возникла в сознании студента Казанского университета чуть-чуть раньше того момента, когда Герман Минковский прочтет свой доклад о пространственно-временном континууме: «отныне время само по себе и пространство само по себе становятся пустой фикцией, и только объединение их в некую новую субстанцию сохраняет шанс быть реальностью».
Многие до сих пор не поняли, что это означает. Даже Эйнштейн просто счел вначале удобным воспользоваться графиком Минковского, как неким математическим обобщением, где в пространстве вместо точек возникают некие отрезки, сливающиеся в линию мировых событий. И лишь в конце жизни Эйнштейн в письме к сыну черным по белому написал, что «прошлое, будущее, настоящее» с точки зрения физики есть простая иллюзия человеческого восприятия. Ведь график Минковского покончил с иллюзией времени и пространства Ньютона. Теперь перед нами их единство, названное Бахтиным термином «хронотоп».
Хронотоп Хлебникова означал, во-первых, что во времени можно свободно перемещаться из настоящего в прошлое или будущее, поскольку на линии мировых событий Минковского будущее и прошлое присутствуют всегда здесь и сейчас.
Для того, чтобы вычертить график линии мировых событий, а, проще говоря, линии судьбы людей и вещей, потребовалась геометрия Римана, наполовину состоящая из геометрии Лобачевского. У Лобачевского кривизна линии мировых событий отрицательная (седло или псевдосфера). У Римана это обратная сторона четырехмерной сферы. Четырехмерность трехмерного пространства это и есть время.
«Люди, мозг людей доныне скачет на трех ногах. Три измерения пространства. Мы приклеиваем этому пауку четвертую лапу — время» («Труба марсиан»). Стало быть, любое событие во времени постоянно присутствует в пространстве. Если годовой оборот земли вокруг солнца 365 дней образует замкнутую орбиту, значит всемирный пространственно-временной цикл — это 365 лет. Значит через каждые 365 лет происходят события подобные. Записав 365, как 2n, Хлебников пришел к выводу, что события чередуются через четное число 2n, а противоположные — через нечетное число 3n. Так было получено число 317 — цикл противоположных событий. В результате в 1912 г. в статье «Учитель и ученик» Хлебников предсказывает: «В 1917 г. произойдет падение империи». Правда, из контекста явствует, что это будет Британская империя. Оказалось — Российская. Пророчество сбылось. Хлебников уверовал в свою правоту и решил, что отныне будетляне владеют законами времени. Отсюда один шаг для построения линз и зеркал, улавливающих лучи времени и направляющих их куда нужно. Он описал в «Ладомире», как это будет выглядеть.
Глава II
В книге «Неравнодушная природа» и статье «Вертикальный монтаж» великий режиссер Сергей Эйзенштейн открывает тайну контрапункта пространства-времени. Каждому зримому (пространственному) событию на экране соответствует контрапунктное слуховое или звуковое событие во времени. Пример — древнекитайская притча. Мудрец созерцает рябь на поверхности пруда. «Что ты делаешь?» — спрашивают его ученики. — «Я созерцаю радость рыбок». Самих рыбок не видно, видна рябь от их подводной игры. Так музыка должна быть рябью того, что видим, а то, что видим, должно передавать рябь звучанию. Сергей Эйзенштейн назвал это «вертикальный монтаж», или «4-е измерение в искусстве». Это своего рода эквивалент открытия Германа Минковского в геометрии и физике. На графике Минковского линия мировых событий — это рябь пространства на поверхности времени и времени на поверхности пространства. Они контрапунктны. Подъему в пространстве соответствует провал во времени.
Так Велимир Хлебников говорит: «Стоит Бешту, как А и У, начертанные иглой фонографа». А — гребень волны, У — вогутая поверхность ряби.
Вот зримое воплощение контрапункта:
Бобэоби пелись губы — втянутая воронка У в глУбь мира
Пиээо пелись брови — расходящиеся от О круги в ширину на пОверхности ряби
Лиэээй пелся облик — И в облИке связует, стягивает воедИно глубину У и шИрИну И
Осталось связать все это мировой цепью — Гзи-гзи-гзэо пелась цепь.
И вот перед нами мировой лик — автопортрет поэта-вселенной или вселенной-поэта:
Так на холсте каких-то соответствий
Вне протяжения жило лицо.
Глава III
Первое измерение в движении дает линию на плоскости. Таковы плоские фрески и барельефы Древнего Египта. Над плоскостью листа и любой поверхности мы парим изначально. А вот как воспарить над объемом? Ведь пространство физическое трехмерно. Богословы объяснят, почему. Догма о Троице напрашивается. Напрашивается и связь его с трехиспостасным прошло-будуще-настоящим и с трехмерным объемом пространства. Однако математики имеют дело с n-мерным миром. А физики и космологи от пятимерной модели Калуццы пришли к одиннадцатимерной модели мира. Выход в 4-е измерение — это 4-я координата пространства-времени Г. Минковского. Хлебников это понял сразу. И сразу решил, что «узор точек заполнит n-мерную протяженность». Пять чувств — это пять точек в четырехмерном континууме. Они разрознены: слух, зрение, осязание, обоняние, вкус. Как только время перестанет быть отдельной от пространства иллюзией, «узор василька сольется с кукованием кукушки». Проще говоря, звуку будет соответствовать цвет, как у Рембо, Скрябина, Римского-Корсакова.
О своем звукозрении Хлебников рассказал в Звездной Азбуке «Зангези».
эМ — синий все заполняющий объем — масса
Пэ — белый разлетающийся объем — порох, пух, пыл
эС — расходящийся из одной точки — свет, сияние
Зэ — отраженье и преломленье — зигзица (молния), зеркало, зрачок.
Вэ — вращение вокруг точки — «вэо вэо — цвет черемух».
В принципе это может быть и по-другому. Важно соответствие цвета звуку, контрапункт Сергея Эйзенштейна. Таким образом, законы времени — «Доски судьбы» Хлебникова — это контрапункт четырехмерного континуума. Или вибрация мирового звука, запечатленная, как волны, на граммофонной пластинке. Впадины — 317, буруны — 365. Универсальная модель АУ — УА. Мир как эхо крика младенца. Скачок от двухмерности к трехмерному объему — перспектива эпохи Возрождения. Она заполнена фресками Микеланджело и Леонардо. Озвучена объемными мессами от Баха до Бетховена. В этом объеме ад, рай, чистилище Данте или панорамы «Войны и мира» Льва Толстого.
Выход в 4-е измерение — это Пикассо, Сезанн, Матисс, Эшер, Магрит. В слове это футуризм будетлян кубофутуристов и обэриутские драмы Александра Введенского, которого интересовали только две вещи — «время и смерть». При этом одно не может быть понято без другого.
Машина времени Хлебникова — это горло поэта. «Лавой беги, человечество, конницу звуков взнуздав». Влом во вселенную увиденным звуком и услышанной цифрой. Ибо самое великое событие — это «вера 4-х измерений». Это записано Хлебниковым «иглою дикобраза».
Итак, первые слова Хлебникова: «он связал пространство и время», — и последние: «вера 4-х измерений», — совпадают и сливаются по всем параметрам.
--------------------------------------------------------------------------------
Литература:
С. Эйзенштейн «Неравнодушная природа»
С. Эйзенштейн «4-е измерение в искусстве»
С. Эйзенштейн «Вертикальный монтаж»
Г. Минковский доклад «Четырехмерный континуум»
А. Эйнштейн «Физика и реальность»
А. Эйнштейн «Специальная теория относительности»
Э. Эббот, Д.Бюргер «Флатландия»
Н.А. Морозов «4-е измерение»
В. Хлебников «Завещание» и «Вера 4-х измерений», А также «КА», «Зангези» и «Труба марсиан»
Н. Лобачевский «Воображаемая геометрия»
Воспроизведено по авторской электронной версии
--------------------------------------------------------------------------------
(o) Хлебникова поле. HTML, 2005 содержание раздела на главную страницу
|
|
вознесенский мориц хвост стихи о к.кедрове |
Прозару авторы / произведения / рецензии / поиск / вход для авторов / регистрация / о сервере
стихи.ру / классика.ру / литклуб / литпортал
сделать стартовой / в закладки
Вознесенский Мориц Сапгир Хвост- Кедрову
Константин Кедров
ПРЕДТЕЧА
Константина Кедрова можно назвать Иоанном Крестителем новой волны метаметафорической поэзии. Его аналитические поэмы не имеют ни начала, ни конца; они как процесс природы и творческого исследования могут быть бесконечно продолжены, обманывая неискушенного читателя юродством и скоморошеством.
Андрей Вознесенский. Предисловие к стихам К.Кедрова в сб. "Транстарасконщина". Париж, 1989.
_________________________________________________________
Андрей Андреевич Вознесенский о "Компьютере любви" и Кедрове:
-- Константин Кедров не просто поэт, поэт герметический, он орган литературного процесса. Я думаю, что если бы его не было, у нас пошло бы на перекосяк
http://video.mail.ru/mail/kedrov42/1/123.html
(ПОСМОТРЕТЬ И ПОСЛУШАТЬ ВИДЕО)
ЭФИРНЫЕ СТАНСЫ
Посвящается Константину Кедрову:
Мы сидим в прямом эфире
Мы для вас как на корриде
Мы сейчас в любой квартире
Говорите, говорите…
Костя, не противься бреду
их беде пособолезнуй
в наших критиках (по Фрейду!)
их история болезни
Вязнем, уши растопыря
В фосфорическом свету
Точно бабочки в эфире
Или в баночке в спирту
Вся Россия в эйфории
Митингуют поварихи
говорящие вороны
гуси с шеей Нефертити
нас за всех приговорили
отвечать здесь
говорите
Не в американских Фивах
Философствуя извне
Мы сидим в прямом эфире
Мы сидим в прямом дерьме
Я, наверно, первый в мире
Из поэтов разных шкал
Кто стихи в прямом эфире
На подначку написал
Иль под взглядами Эсфири
Раньше всех наших начал
Так Христос в прямом эфире
Фарисеям отвечал
Костя, Костя, как помирим
эту истину и ту
Станем мыслящим эфиром
пролетая темноту
1993
Стихотворение прозвучало также на вечере К.Кедрова в салоне "Классики XXI века" (можно посмотреть запись программы канала "Культура" "Другой голос", 1994 г. 107.9 Mb | avi )
______________________________________
* * *
Настанет лада Кредова
constanta Кедрова
(Опубликовано в «Газете Поэзия» № 11, 1999
г. в в книге К.Кедрова «Инсайдаут». М.,
Мысль, 2001)
____________________________________________
ДЕКОобраз
Прометей — вор пламени.
"Митьки" — воры примитива.
Декарт — вор метели.
Кедров — вор дек.
Он крадет для нас у неба источник музыки,
ее древесную деку,
отражатель и усилитель звука.
Я видел в балетном классе в Перми стройные деки, чувственно замершие в стойке
у зеркального барьера.
Все деревянные скульптуры Христа физиономически похожи на Кедрова.
Творчество — вор вечности и наоборот.
В заплечном мешке собирателя — похищенные у неба идеи метаметафоры.
Поэтика мысли его — все сужающаяся и расширяющаяся Вселенная.
Троеперстию темного куклуксклана он противопоставляет двоеперстие своего К. К.
Обороняясь от злобы мира, они или становятся
или прислонились спинами друг к другу. Ж
Прищурьтесь — и вы увидите снежинку.
Снежинка — вор красоты.
К е д р о в — в о р д е К
ДЕКОобраз — декоОБРАЗ
1999
http://video.mail.ru/mail/kedrov42/1/161.html
(ПОСМОТРЕТЬ И ПРОСЛУШАТЬ НА ВИДЕО)
1-й Всемирный день поэзии в театре на Таганке. 21 марта 2000 г. Андрей Вознесеский представляет Константина Кедрова:
– Когда-то было сказано, что Есенин – это орган, орган чувственный, это уже не человек, это орган. Орган поэзии сейчас – это Кедров. Это удивительная личность. Он еще доктор философских наук. По-моему, ни один поэт в России не был таким умным и образованным. Вот сейчас вы услышите «Компьютер любви». Это удивительная вещь, это божественное такое, разложенное на математику, это прекрасно. Я хочу, чтобы вы послушали его и полюбили.
http://video.mail.ru/mail/kedrov42/1/274.html
(ПРОСМОТРЕТЬ И ПРОСЛУШАТЬ НА ВИДЕО)
ДЕМОНСТРАЦИЯ ЯЗЫКА
Константирует Кедров
поэтический код декретов.
Константирует Кедров
недра пройденных километров.
Так, беся современников,
как кулич на лопате,
константировал Мельников
особняк на Арбате.
Для кого он горбатил,
сумасшедший арбайтер?
Бог поэту сказал: “Мужик,
покажите язык!”
Покажите язык свой, нежить!
Но не бомбу, не штык –
в волдырях, обожженный, нежный –
покажите язык!
Ржет похабнейшая эпоха.
У нее медицинский бзик.
Ей с наивностью скомороха
покажите язык.
Монстры ходят на демонстрации.
Демонстрирует блядь шелка.
А поэт – это только страстная
демонстрация языка.
Алой маковкой небесовской
из глубин живота двоякого
оперируемый МаЯКОВский
демонстрирует ЯКОВА…
Приседает луна в аллеях,
шуршит лириками страна.
У нас нет кризиса
перепроизводства туалетов –
зато есть перепроизводства дерьма.
Похотиливый, как ксендз тишайший,
Кедров врет, что консенсус есть.
Он за всех на небо ишачит,
взвив дымящийся к небу секс
Связь тротила и рок-тусовки
константирует Рокоссовский.
Что, тряся бороденкой вербальной,
константирует Бальмонт
Эфемерность евроремонтов
константирующий Леонтьев
повторяет несметным вдовам:
“Поэт небом аккредитован!”
Мыши хвостатое кредо
оживает в компьютерной мыши.
Мысль – это константа Кедрова.
Кедров – это константа мысли.
2002
ТУМАННОСТЬ ДЫХАНЬЯ И ПЕНЬЯ
К. Кедрову
Вот берег, который мне снится.
И лунные камни на нем.
И вижу я лунные камни,
И знаю, что это они.
И вижу я лунные камни.
И синяя птица на них.
И вижу я синюю птицу,
И знаю, что это она.
И вижу я синюю птицу,
Небесные розы над ней.
Я вижу небесные розы,
И знаю, что это они.
Я вижу небесные розы,
Венки из улыбок мадонн,
Газелью улыбку вселенной,
И знаю, что это они.
Тут все переливчато, зыбко,
Волнисто и мглисто, как жизнь,
Как берег, который мне снится,
Когда просыпается дух,
И вижу я лунные камни
И синюю птицу на них,
И вижу я синюю птицу -
Небесные розы над ней,
Я вижу небесные розы,
Венки из улыбок мадонн,
Газелью улыбку вселенной -
И знаю, что это со мной.
И вечнозеленые звезды,
И волны, и воздух, и кровь
Струятся, двоятся, троятся,
Сплетаются тайно со мной.
И плащ мой уже не просохнет
В туманах, клубящихся тут:
Вселенная наша туманна,
Туманные песни поет!..
И я бы на месте вселенной
Закутала тайну в туман
И пела туманные песни
О тайне в тумане своем!
Туманные песни бы пела,
Когда бы вселенной была!..
Такие туманные песни,
Чтоб ветер развеять не смог
Туманность, где лунные камни
И синяя птица на них,
Туманность, где синяя птица -
Небесные розы над ней,
Небесные розы - туманность! -
Венки из улыбок мадонн,
Газелья улыбка вселенной,
Туманность начала, конца,
Туманность лозы виноградной,
Струящейся жизни туманной,
Туманность дыханья и пенья,
Туманность, туманность одна!..
1976г Пицунда
Генрих Сапгир
Свет земли
Косте Кедрову
Стал я видеть Свет обратный
Незаметный Ненаглядный
Свет от моря – Ласковой листвы
И от каждой Умной головы
Северным сиянием
Всплесками красивыми
Пролетели птицы
Дерево лучится
Желтыми и синими
И еще от леса
Дышит полоса
Дальние границы –
Алые зубцы
И при этом Нашим светом
Вся Вселенная Питается
Звезды – Каждый астероид
Стать Землей притом пытается
Глупый камень Астероида
Разумеет ли он Что это?
* * *
Свет вечером Такой От океана
Что небо Освещает Как ни странно
Свет от скалистых гор От минералов –
Я видел сам Как в небе Засверкало
Свет от лесов Мерцающий чуть зримо
И гнойным пузырем Свет от Москвы От Рима
В Неваде – свет Грибом на полигоне
И свет от разума – Вселенскими кругами
(прослушать песню http://www.zvuki.ru/S/P/9463)
Зинзивер, № 2, 1 мая 2006
возврат в оглавление номера
ХВост
Константин Кедров
. . .
ХВ
ост
— У вас есть стихотворение, посвященное Константину Кедрову. Как вы относитесь к поискам метаметафористов?
— Они мне гораздо интереснее, чем все остальное. По крайней мере, чем концептуализм. Хотя мне нравится и Пригов… В общем, такие люди, как Кедров, я, Анри Волохонский и еще некоторые, — создают славу теперешней поэзии.
«НЛО», 2005, № 72 (http://magazines.russ.ru/nlo/2005/72/hv19.html)
Я познакомился с Хвостенко летом 1989 г. на фестивале международного поэтического авангарда во Франции, куда мы приехали с Игорем Холиным. Проходил фестиваль в городе легендарного Тартарена, в Тарасконе. Леша только что перенес тяжелейшую операцию в парижском госпитале и еще близок был к сюжету одного из своих стихов:
Сил моих нет
Лет моих нет
Рыб моих нет
Ног моих нет
Но от него уже шла неиссякаемая энергия высшей жизни. Хвостенко нельзя воспринимать только как поэта, только как художника, только как барда. Он был слеплен из того же теста, что Хлебников и Омар Хайям. Поэтичен каждый его жест, каждый шаг.
Затравленный лубянскими спецслужбами, устроившими настоящую охоту на поэтов-авангардистов, я впервые был в Париже. Леша сразу понял мое состояние и буквально вдохнул в меня заново волю к жизни. Сначала он извлек из джинсового комбинезона свой сборник под названием «Подозритель» и надписал «Стих 5-й и 40-й посвящаю тебе, друг Костя». Открываю стих 5-й. Читаю:
Ах вот как
Ах вот оно что
Ах вот оно как
Ах вот что
Сразу становится весело и свободно. Открываю стих 40-й. Там всего одно слово: «Счастье».
До отъезда во Францию Леша жил в Ленинграде и в Москве, меняя множество профессий. К тому времени подоспел указ Хрущева о тунеядстве. Власти стали отлавливать безработных художников и поэтов, высылая их на принудительные работы. В поисках работы Хвостенко забрел в Музей мемориального кладбища. «Вакантных мест нет», — ответила директриса. — «Как? И на кладбище?» — изумился поэт-«тунеядец».
Директриса не устояла перед обаянием Леши, узнав, что ему грозит тюрьма или высылка, предложила место смотрителя памятников города. Это была замечательная работа. Осматривать памятники Ленинграда и заносить в книгу, где какие повреждения наблюдаются. Поначалу он «добросовестно» фиксировал: «Памятник Екатерине обезображен голубиным пометом» или «У Пушкина поврежден мизинец». Потом понял, что это никому не нужно. Помет никто не счищает, а мизинец остается отколотым. Теперь он заполнял книгу, не выходя из дома, придумывая самые фантастические ситуации: «На конях Клодта выросли васильки», — но записи никто не читал, и вопросов не возникало.
В Париже мы вместе слушали пластинку Алексея Хвостенко. Песни про Солженицына, Льва Гумилева — с ним Леша подружился еще в Ленинграде. Третья песня про Соханевича, переплывшего в лодке Черное море в 70-х годах. Соханевич сидел тут же, с нами за столом, загорелый, веселый, только что приехавший из Америки. Его героическое бегство в Турцию стало легендой. А пластинка пела:
10 дней и ночей
Плыл он вовсе ничей
А кругом никаких стукачей
…
Не тревожьте турки лодку
Не касайтесь к веслам
Лучше вместе выпьем водки
Лишь свобода — мой ислам.
От песен Хвостенко исходит какое-то свечение счастья и свободы, но мне всегда немного перехватывает дыхание в припеве песни, написанной по случаю высылки Солженицына из России:
Ах Александр Исаевич
Александр Исаевич
Что же вы
Где же вы
Кто же вы
Как же вы
О своем отъезде во Францию Леша говорил редко. Только однажды вырвалась фраза:
— Если бы не вступился за меня Пен-клуб... — он не договорил, но и так было ясно.
Хвостенко пытались пожизненно закатать в психушку. Доказать сумасшествие поэта проще простого. С точки зрения обывателя, любое проявление поэзии — безумие. Сумасшедшим называли Бодлера, Рембо, Хлебникова, Мандельштама... Хвостенко из их компании. Ведь мы все такие умные. А поэты такие глупые. Их надо учить, воспитывать, переделывать. Мы ведь знаем, какой должна быть поэзия. «Искусство принадлежит народу»? Господи! Да никому оно не принадлежит!
Когда родственники Хвостенко принесли ему в парижский госпиталь какую-то еду, профессор-хирург был возмущен:
— Разве есть что-нибудь такое, чтобы мы не купили нашему пациенту по его первому желанию? — Потом язвительно добавил: — Ну разве что этой вашей русской каши у нас нет.
Вероятно, профессор решил, что русские питаются только кашей. Впрочем, он был недалек от истины.
Вторая встреча с Хвостенко произошла в апреле 1991 года, опять на фестивале поэтического авангарда в Париже, куда привез меня Генрих Сапгир. На этот раз я оказался в Лешином «сквате». Так называют в Европе здания, незаконно захваченные художниками под мастерские. Здесь и был сделан знаменитый, ныне широко растиражированный снимок четырех поэтов. В здании бывшего лампового завода творили художники. Русские, поляки, немцы, американцы, французы. Временами наведывались представители мэрии, но чаще толпой шли туристы. Туристов интересовала жизнь художественной богемы. Они несли вино и еду. И того, и другого в Париже много. Хвостенко держал в руках какую-то дрель, что-то сверлил, потом сколачивал, потом красил. За несколько дней в Париже мы составили два совместных сборника, выступили в театре на Монмартре. Провели фестиваль тут же, в сквате, отобедали в китайском ресторанчике, посетили множество художественных салонов и при этом все равно не сказали друг другу и половины того, что надо было сказать.
Хвостенко только что стал президентом Ассоциации русских художников Франции. И тотчас выдал мне удостоверение этого замечательного общества. По-французски сказано «артистов». Артист — это поэт, художник, музыкант, человек искусства. Новая творческая организация была зарегистрирована парижской мэрией. Мы обсуждали с Хвостенко творческий манифест:
— Зачем манифест? Я придерживаюсь кодекса Телемского аббатства в романе Рабле.
— А о чем там говорилось? — спрашиваю я не очень уверенно.
— Каждый делает, что хочет!
По сути дела, мы так и жили все эти годы. В Санкт-Петербурге, в Москве, в Париже. Каждый делает, что хочет, — вот единственный непременный закон искусства.
Музы Хвостенко при мне толпами осаждали его в Москве, в Париже, Тарасконе. И все им он дал одно небесное имя — Орландина. «Да, мое имя Орландина / Ты не ошибся, Орландина / Знай, Орландина, Орландина зовут меня».
«А тебе можно пить?» — спросил я Лешу, когда мы засели за батареей бутылок уже в Москве, в 95-ом году. — «Мне все можно», — ответил он. Ему и правда было «все можно».
Отправляясь на концерт в квартире Олега Ковриги и выпив все, что можно, мы застряли в лифте с легендарной гитарой, бутылкой вина и двумя музыкантами. Когда с опозданием на час мы вошли в переполненную квартиру, никто не поверил, что во всем виноват был лифт. Было у нас и совместное выступление — запись в мастерской художника Анатолия Швеца вблизи Кропоткинской. Я «пел» песни Хвоста и Волохонского, а он — мои стихи. Потом на пленке был слышен только голос Хвоста, а от меня остался только шип и хрип. И я оценил доброту Хвоста. Он и вида не показал, что мое исполнение — ни в какие ворота. Потом я понял, что в этом вся философия Алексея Хвостенко. Человеческое для него выше всего.
Потом вышел первый диск Хвоста, где была и песня, посвященная мне. Она написана в Париже 26 апреля 91-го года, когда я с горечью спрашивал у Леши, везущему меня в аэропорт: «Куда ты меня везешь?» — «Извини, старик», — ответил Хвост.
Внутренне именно ему посвящены многие строки моих парижских поэм:
Иногда я думаю что Париж
выдуман был чтобы в нем жили не мы а другие
да и рай был создан для того лишь
чтобы изгнать из него Адама…
Василий Блаженный на площади Жака
Блаженный Жак на месте Блаженного
Мне давно подсказала Жанна
Тайную связь такого сближения
Каждому городу свой Баженов
Каждому перекрестку ажан
Каждому времени свой Блаженный
В каждой блаженной Жанне блаженный Жан
Я был понят мгновенно. «А то поэзия забралась от нас на такие высоты, что нам до нее уже и не дотянуться» — сказал он перед тем, как прочесть «Часослов».
Косте Кедрову
в половине дышали мыши
дважды в четверть укладывалась повозка
святой Мартин куковал утренним богом вишней
я вышел из русского имени в иней
голая кошка собака легла легкой походкой
август блаженному Августину кланялся месяц
тучная радуга накрыла поле дороги
открылось окно занятое спящей птицей
глаз тигра держал на ладони Симеон Столпник
я читал написанное тут же слово
Женевьева говорила Париж
cвятая и светлая белей бумаги
Здесь все построено на откликах подсознания на миры, разверзаемые в новых словах. Я уверен, что все слова значат совсем не то, что они значат. В начале было Слово, но для того, чтобы его понять, не хватит времени всей вселенной. Зато можно почувствовать все до конца и сразу.
В середине фамилии Хвостенко буква О — как жерло его гитары. Он писал свою фамилию просто — Хвост. После клинической смерти он услышал радостное восклицание санитарки парижского госпиталя: «Эрюсите!» Я вспомнил об этом на Пасху в Сергиевом подворье в Париже весной 1991. Мы стояли с Лешей со свечами в руках, а священник восклицал «Христе эрюсите». Мы ответили «Воистину воскресе». Начальные буквы фамилии Хвоста звучат как пасхальное приветствие: Х.В.
Моцарт с гитарой, человек-праздник, он оставался таким всю жизнь. 15 сентября 2004 года мы неожиданно встретили Лешу в Литературном музее, куда пришли отмечать 20-летие ДООСа. «Из того, что происходит сегодня в поэзии, мне ближе всего то, что делает ДООС», — сказал он в своем выступлении.
После стихотворения «Хвост кометы» я вдруг почувствовал, что Леша не уходит, а все время возвращается. Так возник палиндром:
ХВ
Лешу живого вижу — шел
стихи.ру / классика.ру / литклуб / литпортал
сделать стартовой / в закладки
Вознесенский Мориц Сапгир Хвост- Кедрову
Константин Кедров
ПРЕДТЕЧА
Константина Кедрова можно назвать Иоанном Крестителем новой волны метаметафорической поэзии. Его аналитические поэмы не имеют ни начала, ни конца; они как процесс природы и творческого исследования могут быть бесконечно продолжены, обманывая неискушенного читателя юродством и скоморошеством.
Андрей Вознесенский. Предисловие к стихам К.Кедрова в сб. "Транстарасконщина". Париж, 1989.
_________________________________________________________
Андрей Андреевич Вознесенский о "Компьютере любви" и Кедрове:
-- Константин Кедров не просто поэт, поэт герметический, он орган литературного процесса. Я думаю, что если бы его не было, у нас пошло бы на перекосяк
http://video.mail.ru/mail/kedrov42/1/123.html
(ПОСМОТРЕТЬ И ПОСЛУШАТЬ ВИДЕО)
ЭФИРНЫЕ СТАНСЫ
Посвящается Константину Кедрову:
Мы сидим в прямом эфире
Мы для вас как на корриде
Мы сейчас в любой квартире
Говорите, говорите…
Костя, не противься бреду
их беде пособолезнуй
в наших критиках (по Фрейду!)
их история болезни
Вязнем, уши растопыря
В фосфорическом свету
Точно бабочки в эфире
Или в баночке в спирту
Вся Россия в эйфории
Митингуют поварихи
говорящие вороны
гуси с шеей Нефертити
нас за всех приговорили
отвечать здесь
говорите
Не в американских Фивах
Философствуя извне
Мы сидим в прямом эфире
Мы сидим в прямом дерьме
Я, наверно, первый в мире
Из поэтов разных шкал
Кто стихи в прямом эфире
На подначку написал
Иль под взглядами Эсфири
Раньше всех наших начал
Так Христос в прямом эфире
Фарисеям отвечал
Костя, Костя, как помирим
эту истину и ту
Станем мыслящим эфиром
пролетая темноту
1993
Стихотворение прозвучало также на вечере К.Кедрова в салоне "Классики XXI века" (можно посмотреть запись программы канала "Культура" "Другой голос", 1994 г. 107.9 Mb | avi )
______________________________________
* * *
Настанет лада Кредова
constanta Кедрова
(Опубликовано в «Газете Поэзия» № 11, 1999
г. в в книге К.Кедрова «Инсайдаут». М.,
Мысль, 2001)
____________________________________________
ДЕКОобраз
Прометей — вор пламени.
"Митьки" — воры примитива.
Декарт — вор метели.
Кедров — вор дек.
Он крадет для нас у неба источник музыки,
ее древесную деку,
отражатель и усилитель звука.
Я видел в балетном классе в Перми стройные деки, чувственно замершие в стойке
у зеркального барьера.
Все деревянные скульптуры Христа физиономически похожи на Кедрова.
Творчество — вор вечности и наоборот.
В заплечном мешке собирателя — похищенные у неба идеи метаметафоры.
Поэтика мысли его — все сужающаяся и расширяющаяся Вселенная.
Троеперстию темного куклуксклана он противопоставляет двоеперстие своего К. К.
Обороняясь от злобы мира, они или становятся
или прислонились спинами друг к другу. Ж
Прищурьтесь — и вы увидите снежинку.
Снежинка — вор красоты.
К е д р о в — в о р д е К
ДЕКОобраз — декоОБРАЗ
1999
http://video.mail.ru/mail/kedrov42/1/161.html
(ПОСМОТРЕТЬ И ПРОСЛУШАТЬ НА ВИДЕО)
1-й Всемирный день поэзии в театре на Таганке. 21 марта 2000 г. Андрей Вознесеский представляет Константина Кедрова:
– Когда-то было сказано, что Есенин – это орган, орган чувственный, это уже не человек, это орган. Орган поэзии сейчас – это Кедров. Это удивительная личность. Он еще доктор философских наук. По-моему, ни один поэт в России не был таким умным и образованным. Вот сейчас вы услышите «Компьютер любви». Это удивительная вещь, это божественное такое, разложенное на математику, это прекрасно. Я хочу, чтобы вы послушали его и полюбили.
http://video.mail.ru/mail/kedrov42/1/274.html
(ПРОСМОТРЕТЬ И ПРОСЛУШАТЬ НА ВИДЕО)
ДЕМОНСТРАЦИЯ ЯЗЫКА
Константирует Кедров
поэтический код декретов.
Константирует Кедров
недра пройденных километров.
Так, беся современников,
как кулич на лопате,
константировал Мельников
особняк на Арбате.
Для кого он горбатил,
сумасшедший арбайтер?
Бог поэту сказал: “Мужик,
покажите язык!”
Покажите язык свой, нежить!
Но не бомбу, не штык –
в волдырях, обожженный, нежный –
покажите язык!
Ржет похабнейшая эпоха.
У нее медицинский бзик.
Ей с наивностью скомороха
покажите язык.
Монстры ходят на демонстрации.
Демонстрирует блядь шелка.
А поэт – это только страстная
демонстрация языка.
Алой маковкой небесовской
из глубин живота двоякого
оперируемый МаЯКОВский
демонстрирует ЯКОВА…
Приседает луна в аллеях,
шуршит лириками страна.
У нас нет кризиса
перепроизводства туалетов –
зато есть перепроизводства дерьма.
Похотиливый, как ксендз тишайший,
Кедров врет, что консенсус есть.
Он за всех на небо ишачит,
взвив дымящийся к небу секс
Связь тротила и рок-тусовки
константирует Рокоссовский.
Что, тряся бороденкой вербальной,
константирует Бальмонт
Эфемерность евроремонтов
константирующий Леонтьев
повторяет несметным вдовам:
“Поэт небом аккредитован!”
Мыши хвостатое кредо
оживает в компьютерной мыши.
Мысль – это константа Кедрова.
Кедров – это константа мысли.
2002
ТУМАННОСТЬ ДЫХАНЬЯ И ПЕНЬЯ
К. Кедрову
Вот берег, который мне снится.
И лунные камни на нем.
И вижу я лунные камни,
И знаю, что это они.
И вижу я лунные камни.
И синяя птица на них.
И вижу я синюю птицу,
И знаю, что это она.
И вижу я синюю птицу,
Небесные розы над ней.
Я вижу небесные розы,
И знаю, что это они.
Я вижу небесные розы,
Венки из улыбок мадонн,
Газелью улыбку вселенной,
И знаю, что это они.
Тут все переливчато, зыбко,
Волнисто и мглисто, как жизнь,
Как берег, который мне снится,
Когда просыпается дух,
И вижу я лунные камни
И синюю птицу на них,
И вижу я синюю птицу -
Небесные розы над ней,
Я вижу небесные розы,
Венки из улыбок мадонн,
Газелью улыбку вселенной -
И знаю, что это со мной.
И вечнозеленые звезды,
И волны, и воздух, и кровь
Струятся, двоятся, троятся,
Сплетаются тайно со мной.
И плащ мой уже не просохнет
В туманах, клубящихся тут:
Вселенная наша туманна,
Туманные песни поет!..
И я бы на месте вселенной
Закутала тайну в туман
И пела туманные песни
О тайне в тумане своем!
Туманные песни бы пела,
Когда бы вселенной была!..
Такие туманные песни,
Чтоб ветер развеять не смог
Туманность, где лунные камни
И синяя птица на них,
Туманность, где синяя птица -
Небесные розы над ней,
Небесные розы - туманность! -
Венки из улыбок мадонн,
Газелья улыбка вселенной,
Туманность начала, конца,
Туманность лозы виноградной,
Струящейся жизни туманной,
Туманность дыханья и пенья,
Туманность, туманность одна!..
1976г Пицунда
Генрих Сапгир
Свет земли
Косте Кедрову
Стал я видеть Свет обратный
Незаметный Ненаглядный
Свет от моря – Ласковой листвы
И от каждой Умной головы
Северным сиянием
Всплесками красивыми
Пролетели птицы
Дерево лучится
Желтыми и синими
И еще от леса
Дышит полоса
Дальние границы –
Алые зубцы
И при этом Нашим светом
Вся Вселенная Питается
Звезды – Каждый астероид
Стать Землей притом пытается
Глупый камень Астероида
Разумеет ли он Что это?
* * *
Свет вечером Такой От океана
Что небо Освещает Как ни странно
Свет от скалистых гор От минералов –
Я видел сам Как в небе Засверкало
Свет от лесов Мерцающий чуть зримо
И гнойным пузырем Свет от Москвы От Рима
В Неваде – свет Грибом на полигоне
И свет от разума – Вселенскими кругами
(прослушать песню http://www.zvuki.ru/S/P/9463)
Зинзивер, № 2, 1 мая 2006
возврат в оглавление номера
ХВост
Константин Кедров
. . .
ХВ
ост
— У вас есть стихотворение, посвященное Константину Кедрову. Как вы относитесь к поискам метаметафористов?
— Они мне гораздо интереснее, чем все остальное. По крайней мере, чем концептуализм. Хотя мне нравится и Пригов… В общем, такие люди, как Кедров, я, Анри Волохонский и еще некоторые, — создают славу теперешней поэзии.
«НЛО», 2005, № 72 (http://magazines.russ.ru/nlo/2005/72/hv19.html)
Я познакомился с Хвостенко летом 1989 г. на фестивале международного поэтического авангарда во Франции, куда мы приехали с Игорем Холиным. Проходил фестиваль в городе легендарного Тартарена, в Тарасконе. Леша только что перенес тяжелейшую операцию в парижском госпитале и еще близок был к сюжету одного из своих стихов:
Сил моих нет
Лет моих нет
Рыб моих нет
Ног моих нет
Но от него уже шла неиссякаемая энергия высшей жизни. Хвостенко нельзя воспринимать только как поэта, только как художника, только как барда. Он был слеплен из того же теста, что Хлебников и Омар Хайям. Поэтичен каждый его жест, каждый шаг.
Затравленный лубянскими спецслужбами, устроившими настоящую охоту на поэтов-авангардистов, я впервые был в Париже. Леша сразу понял мое состояние и буквально вдохнул в меня заново волю к жизни. Сначала он извлек из джинсового комбинезона свой сборник под названием «Подозритель» и надписал «Стих 5-й и 40-й посвящаю тебе, друг Костя». Открываю стих 5-й. Читаю:
Ах вот как
Ах вот оно что
Ах вот оно как
Ах вот что
Сразу становится весело и свободно. Открываю стих 40-й. Там всего одно слово: «Счастье».
До отъезда во Францию Леша жил в Ленинграде и в Москве, меняя множество профессий. К тому времени подоспел указ Хрущева о тунеядстве. Власти стали отлавливать безработных художников и поэтов, высылая их на принудительные работы. В поисках работы Хвостенко забрел в Музей мемориального кладбища. «Вакантных мест нет», — ответила директриса. — «Как? И на кладбище?» — изумился поэт-«тунеядец».
Директриса не устояла перед обаянием Леши, узнав, что ему грозит тюрьма или высылка, предложила место смотрителя памятников города. Это была замечательная работа. Осматривать памятники Ленинграда и заносить в книгу, где какие повреждения наблюдаются. Поначалу он «добросовестно» фиксировал: «Памятник Екатерине обезображен голубиным пометом» или «У Пушкина поврежден мизинец». Потом понял, что это никому не нужно. Помет никто не счищает, а мизинец остается отколотым. Теперь он заполнял книгу, не выходя из дома, придумывая самые фантастические ситуации: «На конях Клодта выросли васильки», — но записи никто не читал, и вопросов не возникало.
В Париже мы вместе слушали пластинку Алексея Хвостенко. Песни про Солженицына, Льва Гумилева — с ним Леша подружился еще в Ленинграде. Третья песня про Соханевича, переплывшего в лодке Черное море в 70-х годах. Соханевич сидел тут же, с нами за столом, загорелый, веселый, только что приехавший из Америки. Его героическое бегство в Турцию стало легендой. А пластинка пела:
10 дней и ночей
Плыл он вовсе ничей
А кругом никаких стукачей
…
Не тревожьте турки лодку
Не касайтесь к веслам
Лучше вместе выпьем водки
Лишь свобода — мой ислам.
От песен Хвостенко исходит какое-то свечение счастья и свободы, но мне всегда немного перехватывает дыхание в припеве песни, написанной по случаю высылки Солженицына из России:
Ах Александр Исаевич
Александр Исаевич
Что же вы
Где же вы
Кто же вы
Как же вы
О своем отъезде во Францию Леша говорил редко. Только однажды вырвалась фраза:
— Если бы не вступился за меня Пен-клуб... — он не договорил, но и так было ясно.
Хвостенко пытались пожизненно закатать в психушку. Доказать сумасшествие поэта проще простого. С точки зрения обывателя, любое проявление поэзии — безумие. Сумасшедшим называли Бодлера, Рембо, Хлебникова, Мандельштама... Хвостенко из их компании. Ведь мы все такие умные. А поэты такие глупые. Их надо учить, воспитывать, переделывать. Мы ведь знаем, какой должна быть поэзия. «Искусство принадлежит народу»? Господи! Да никому оно не принадлежит!
Когда родственники Хвостенко принесли ему в парижский госпиталь какую-то еду, профессор-хирург был возмущен:
— Разве есть что-нибудь такое, чтобы мы не купили нашему пациенту по его первому желанию? — Потом язвительно добавил: — Ну разве что этой вашей русской каши у нас нет.
Вероятно, профессор решил, что русские питаются только кашей. Впрочем, он был недалек от истины.
Вторая встреча с Хвостенко произошла в апреле 1991 года, опять на фестивале поэтического авангарда в Париже, куда привез меня Генрих Сапгир. На этот раз я оказался в Лешином «сквате». Так называют в Европе здания, незаконно захваченные художниками под мастерские. Здесь и был сделан знаменитый, ныне широко растиражированный снимок четырех поэтов. В здании бывшего лампового завода творили художники. Русские, поляки, немцы, американцы, французы. Временами наведывались представители мэрии, но чаще толпой шли туристы. Туристов интересовала жизнь художественной богемы. Они несли вино и еду. И того, и другого в Париже много. Хвостенко держал в руках какую-то дрель, что-то сверлил, потом сколачивал, потом красил. За несколько дней в Париже мы составили два совместных сборника, выступили в театре на Монмартре. Провели фестиваль тут же, в сквате, отобедали в китайском ресторанчике, посетили множество художественных салонов и при этом все равно не сказали друг другу и половины того, что надо было сказать.
Хвостенко только что стал президентом Ассоциации русских художников Франции. И тотчас выдал мне удостоверение этого замечательного общества. По-французски сказано «артистов». Артист — это поэт, художник, музыкант, человек искусства. Новая творческая организация была зарегистрирована парижской мэрией. Мы обсуждали с Хвостенко творческий манифест:
— Зачем манифест? Я придерживаюсь кодекса Телемского аббатства в романе Рабле.
— А о чем там говорилось? — спрашиваю я не очень уверенно.
— Каждый делает, что хочет!
По сути дела, мы так и жили все эти годы. В Санкт-Петербурге, в Москве, в Париже. Каждый делает, что хочет, — вот единственный непременный закон искусства.
Музы Хвостенко при мне толпами осаждали его в Москве, в Париже, Тарасконе. И все им он дал одно небесное имя — Орландина. «Да, мое имя Орландина / Ты не ошибся, Орландина / Знай, Орландина, Орландина зовут меня».
«А тебе можно пить?» — спросил я Лешу, когда мы засели за батареей бутылок уже в Москве, в 95-ом году. — «Мне все можно», — ответил он. Ему и правда было «все можно».
Отправляясь на концерт в квартире Олега Ковриги и выпив все, что можно, мы застряли в лифте с легендарной гитарой, бутылкой вина и двумя музыкантами. Когда с опозданием на час мы вошли в переполненную квартиру, никто не поверил, что во всем виноват был лифт. Было у нас и совместное выступление — запись в мастерской художника Анатолия Швеца вблизи Кропоткинской. Я «пел» песни Хвоста и Волохонского, а он — мои стихи. Потом на пленке был слышен только голос Хвоста, а от меня остался только шип и хрип. И я оценил доброту Хвоста. Он и вида не показал, что мое исполнение — ни в какие ворота. Потом я понял, что в этом вся философия Алексея Хвостенко. Человеческое для него выше всего.
Потом вышел первый диск Хвоста, где была и песня, посвященная мне. Она написана в Париже 26 апреля 91-го года, когда я с горечью спрашивал у Леши, везущему меня в аэропорт: «Куда ты меня везешь?» — «Извини, старик», — ответил Хвост.
Внутренне именно ему посвящены многие строки моих парижских поэм:
Иногда я думаю что Париж
выдуман был чтобы в нем жили не мы а другие
да и рай был создан для того лишь
чтобы изгнать из него Адама…
Василий Блаженный на площади Жака
Блаженный Жак на месте Блаженного
Мне давно подсказала Жанна
Тайную связь такого сближения
Каждому городу свой Баженов
Каждому перекрестку ажан
Каждому времени свой Блаженный
В каждой блаженной Жанне блаженный Жан
Я был понят мгновенно. «А то поэзия забралась от нас на такие высоты, что нам до нее уже и не дотянуться» — сказал он перед тем, как прочесть «Часослов».
Косте Кедрову
в половине дышали мыши
дважды в четверть укладывалась повозка
святой Мартин куковал утренним богом вишней
я вышел из русского имени в иней
голая кошка собака легла легкой походкой
август блаженному Августину кланялся месяц
тучная радуга накрыла поле дороги
открылось окно занятое спящей птицей
глаз тигра держал на ладони Симеон Столпник
я читал написанное тут же слово
Женевьева говорила Париж
cвятая и светлая белей бумаги
Здесь все построено на откликах подсознания на миры, разверзаемые в новых словах. Я уверен, что все слова значат совсем не то, что они значат. В начале было Слово, но для того, чтобы его понять, не хватит времени всей вселенной. Зато можно почувствовать все до конца и сразу.
В середине фамилии Хвостенко буква О — как жерло его гитары. Он писал свою фамилию просто — Хвост. После клинической смерти он услышал радостное восклицание санитарки парижского госпиталя: «Эрюсите!» Я вспомнил об этом на Пасху в Сергиевом подворье в Париже весной 1991. Мы стояли с Лешей со свечами в руках, а священник восклицал «Христе эрюсите». Мы ответили «Воистину воскресе». Начальные буквы фамилии Хвоста звучат как пасхальное приветствие: Х.В.
Моцарт с гитарой, человек-праздник, он оставался таким всю жизнь. 15 сентября 2004 года мы неожиданно встретили Лешу в Литературном музее, куда пришли отмечать 20-летие ДООСа. «Из того, что происходит сегодня в поэзии, мне ближе всего то, что делает ДООС», — сказал он в своем выступлении.
После стихотворения «Хвост кометы» я вдруг почувствовал, что Леша не уходит, а все время возвращается. Так возник палиндром:
ХВ
Лешу живого вижу — шел
|
|
константин кедров lavina iove Лавина лав |
Лав-ина love 1999
Константин Кедров
http://video.mail.ru/mail/kedrov42/1/274.html А.Вознесенский о Кедрове
Константин Кедров
Лавина лав
хор ей
Ямб
об
ямб
Птеро-
дактиль
Амфи-
брахий
Амфи-
бий
брахман
Пера
перихия
оперение
Метр
за
метр
гек-
за-
метр
ЗЕРКАЛО
ЛЕКАЛО
ЗВУКА
ТОН
НОТ
ДО
РЕ
МИ
ФА
СОЛЬ
ФА
МИ
РЕ
ДО
НОТ
ТОН
ЗВУКА
ЛЕКАЛО
ЗЕРКАЛО
1976г.
***
Ай-LOVE-ина
Ай-LOVE-юга
Я LOVE-лю
Ай-LOV-YOU
***
кубизм-губизм
ГУБЫ ГОВОРЯТ
-ЛЮБЛЮ ГУБЫ-
-ЛЮБЛЮ ГУБЫ-
ОТВЕЧАЮТ ГУБЫ
ЧЕТЫРЬМЯ УГЛАМИ
ДВУХ ГУБ
КУБ ГУБ
ГУБ КУБ
***
Гамлет ппринц сам-из-датский
ДАНИЯ ДА НЕ Я
ДАНИЯ Я И АД
ДАНИЯ Я И НАД
***
Армстронг
Слеза слезает
по трубе
слеза в трубе
труба в слезе
***
палитры парижа
палитры гогена-тити
горячие как таити
ухо-палитра ван -гога
скрипка-палитра пикассо
пруд-палитра моне
***
Душечка
Душа губка-
Душегубка
***
Я не люблю
Вас не люблю
Во сне люблю
Во сне люблю
***
тон нот
ДО ЛЯ-
ДОЛЯ
СИ ЛЯ-
СИЛЯ
НО ТЫ-
НОТЫ
МИ РЕ-
МИРА
***
Балерина одного па
ПА
ПА-
дает
ПА
ПА-
рит
над
сценой
Я
ПА-
мятник
воздвиг
из
ПА
в
ПА-
лёте
А ПА-ЛЕТ - ТЕЛА ПА
***
реквием маме надежде владимировне кедровой
30 апреля 1991-го Вербное Воскресенье
МАМА
МАМА
МАМА
Я
ЯМА
ЯМА
ЯМА
Я
МАМА
МАМА
МА-
МА-
Я
я язычник языка
я янычар чар
язык мой немой
не мой
верь сия
версия
немы
фонемы
не мы
мы немы
***
Я всго лишь необы-
чайный домик
где чай не пьют а поют и ви-
тают от чая к чаю
аро-
матовый па-
рок у рта
иероглиф чая

Первый Всемирный День Поэзии на Таганке 21 марта 2000





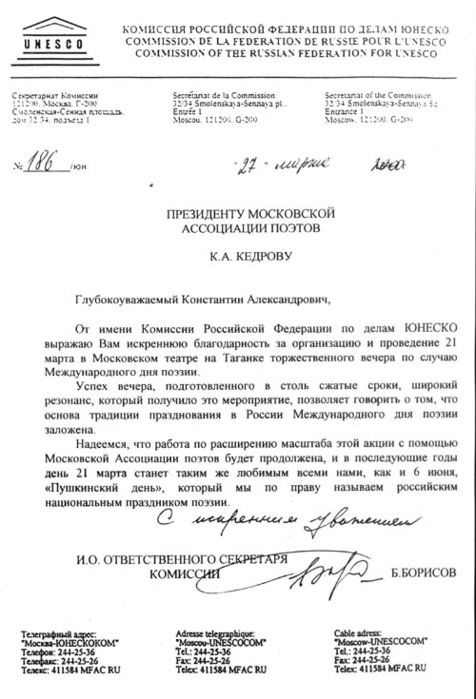
Константин Кедров
http://video.mail.ru/mail/kedrov42/1/274.html А.Вознесенский о Кедрове
Константин Кедров
Лавина лав
хор ей
Ямб
об
ямб
Птеро-
дактиль
Амфи-
брахий
Амфи-
бий
брахман
Пера
перихия
оперение
Метр
за
метр
гек-
за-
метр
ЗЕРКАЛО
ЛЕКАЛО
ЗВУКА
ТОН
НОТ
ДО
РЕ
МИ
ФА
СОЛЬ
ФА
МИ
РЕ
ДО
НОТ
ТОН
ЗВУКА
ЛЕКАЛО
ЗЕРКАЛО
1976г.
***
Ай-LOVE-ина
Ай-LOVE-юга
Я LOVE-лю
Ай-LOV-YOU
***
кубизм-губизм
ГУБЫ ГОВОРЯТ
-ЛЮБЛЮ ГУБЫ-
-ЛЮБЛЮ ГУБЫ-
ОТВЕЧАЮТ ГУБЫ
ЧЕТЫРЬМЯ УГЛАМИ
ДВУХ ГУБ
КУБ ГУБ
ГУБ КУБ
***
Гамлет ппринц сам-из-датский
ДАНИЯ ДА НЕ Я
ДАНИЯ Я И АД
ДАНИЯ Я И НАД
***
Армстронг
Слеза слезает
по трубе
слеза в трубе
труба в слезе
***
палитры парижа
палитры гогена-тити
горячие как таити
ухо-палитра ван -гога
скрипка-палитра пикассо
пруд-палитра моне
***
Душечка
Душа губка-
Душегубка
***
Я не люблю
Вас не люблю
Во сне люблю
Во сне люблю
***
тон нот
ДО ЛЯ-
ДОЛЯ
СИ ЛЯ-
СИЛЯ
НО ТЫ-
НОТЫ
МИ РЕ-
МИРА
***
Балерина одного па
ПА
ПА-
дает
ПА
ПА-
рит
над
сценой
Я
ПА-
мятник
воздвиг
из
ПА
в
ПА-
лёте
А ПА-ЛЕТ - ТЕЛА ПА
***
реквием маме надежде владимировне кедровой
30 апреля 1991-го Вербное Воскресенье
МАМА
МАМА
МАМА
Я
ЯМА
ЯМА
ЯМА
Я
МАМА
МАМА
МА-
МА-
Я
я язычник языка
я янычар чар
язык мой немой
не мой
верь сия
версия
немы
фонемы
не мы
мы немы
***
Я всго лишь необы-
чайный домик
где чай не пьют а поют и ви-
тают от чая к чаю
аро-
матовый па-
рок у рта
иероглиф чая

Первый Всемирный День Поэзии на Таганке 21 марта 2000


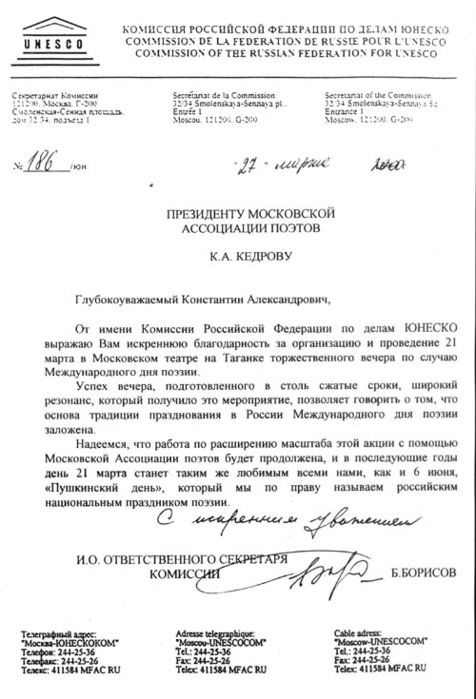
|
Метки: первый день поэзии юнеско к.кедров |
Процитировано 1 раз
константин кедров ЕВРОПА 2008 в ПРАГЕ |
Вы находитесь: www.ruvr.ru / Всемирная Русская Служба / РОССИЯ И РУССКИЙ МИР: СОБЫТИЯ, ПРОБЛЕМЫ, СУЖДЕНИЯ / Суждения
"СТИХИ ПО-РУССКИ — ЭТО ВСЕГДА ИСПОВЕДЬ…"
Первый пражский международный литературный фестиваль "Европа-2008" собрал русскоязычных писателей зарубежья в Русском доме при Посольстве Российской Федерации. Инициатива, конечно, исходила от местных русских литераторов, но стоило бросить клич — и в Прагу съехались наши собратья из Германии, Австрии, Венгрии, Норвегии: словом, отовсюду, где пишут. А пишут всюду. Поддержка фонда "Русский мир" позволила оплатить расходы, но не о деньгах речь. Съезжались в основном за свой счет, потому что соскучились на чужбине, какой бы устроенной и спокойной ни была там жизнь.
Чрезвычайный и Полномочный посол России в Чехии Алексей Федотов сказал в приветственном слове: "Прага — это город, который всегда вдохновлял творческую интеллигенцию". Что правда, то правда.
Домик, где жила Марина Цветаева, расположен над садами и парками — его бережно сохраняют. Столь же бережно Прага лелеет места, где был Кафка. Это насквозь литературный город.
В Праге к русским относятся тепло (о политике я не говорю, это другая материя). Кстати, что меня искренне порадовало, так это сосредоточенность на культуре. Именно о ней говорили все собравшиеся. Вопросы, в основном, сводились к проблемам русской речи. Например, почему мы стали называть друг друга только по имени, забывая отчество? Не слишком ли много иностранных, главным образом, английских слов проникло в русский язык?
Действительно, вообще, отчество — это красиво. Это дань уважения к родителям. Мой отец был Александр, а я Александрович — разве плохо? Но языку не прикажешь. Он живет и развивается по своим таинственным законам. Сейчас вот нахлынули английские слова, а во времена Пушкина доминировала французская лексика. Даже "русская душою" Татьяна Ларина "изъяснялася с трудом на языке своем родном". Карамзин перевел французское слово "touchant" как "трогательный". Его тотчас высмеял князь Шаховской. Барин говорит горничной: "Ты такая трогательная…". — "Что вы, барин, я вас не трогала!", — отвечает девушка. А все же слово прочно вошло в язык, стало истинно русским…
Понятно, что русскоязычные писатели Европы столкнулись с проблемой речи. Их дети плохо знают русский язык. И в миллионах семьях за рубежом, особенно в бывших наших республиках, та же проблема. За русский язык я спокоен, он никуда не денется. На нем и сегодня создаются выдающиеся произведения. Мое беспокойство о русской поэзии, которую изгнали в самой России со всех книжных полок. "Поэзию не издаем, поэзию не берем!", — вот любимое заклинание современных издателей и книготорговцев. Да, поэзией интересуются всерьез не более одного миллиона читающего населения. А современной поэзией и того меньше, поскольку о ней просто ничего не знают. Но поэты в этом не виноваты. "…Какое время на дворе — таков мессия", — сказал когда-то поэт Андрей Вознесенский.
Поэзия отступила перед политикой, бизнесом, "масскультурным гламуром". Вернее, отступила не поэзия, а читатели от нее отступили. Но тем же хуже этим читателям! Правда, аналогичные процессы происходят и с языками других стран…
На Пражском фестивале доминировала поэзия. При любых массовых чтениях качество текста бывает разным. Не вызывала сомнений только искренность. По сути дела, стихи по-русски — это всегда исповедь. Часто это — искренняя, хотя и очень наивная, современная, как бы это сказать, словесность. Не литература, а именно словесность…
(Автор: Константин КЕДРОВ,
по материалам Интернет-сайта: www.litrossia.ru/article.php?article=2877).
"СТИХИ ПО-РУССКИ — ЭТО ВСЕГДА ИСПОВЕДЬ…"
Первый пражский международный литературный фестиваль "Европа-2008" собрал русскоязычных писателей зарубежья в Русском доме при Посольстве Российской Федерации. Инициатива, конечно, исходила от местных русских литераторов, но стоило бросить клич — и в Прагу съехались наши собратья из Германии, Австрии, Венгрии, Норвегии: словом, отовсюду, где пишут. А пишут всюду. Поддержка фонда "Русский мир" позволила оплатить расходы, но не о деньгах речь. Съезжались в основном за свой счет, потому что соскучились на чужбине, какой бы устроенной и спокойной ни была там жизнь.
Чрезвычайный и Полномочный посол России в Чехии Алексей Федотов сказал в приветственном слове: "Прага — это город, который всегда вдохновлял творческую интеллигенцию". Что правда, то правда.
Домик, где жила Марина Цветаева, расположен над садами и парками — его бережно сохраняют. Столь же бережно Прага лелеет места, где был Кафка. Это насквозь литературный город.
В Праге к русским относятся тепло (о политике я не говорю, это другая материя). Кстати, что меня искренне порадовало, так это сосредоточенность на культуре. Именно о ней говорили все собравшиеся. Вопросы, в основном, сводились к проблемам русской речи. Например, почему мы стали называть друг друга только по имени, забывая отчество? Не слишком ли много иностранных, главным образом, английских слов проникло в русский язык?
Действительно, вообще, отчество — это красиво. Это дань уважения к родителям. Мой отец был Александр, а я Александрович — разве плохо? Но языку не прикажешь. Он живет и развивается по своим таинственным законам. Сейчас вот нахлынули английские слова, а во времена Пушкина доминировала французская лексика. Даже "русская душою" Татьяна Ларина "изъяснялася с трудом на языке своем родном". Карамзин перевел французское слово "touchant" как "трогательный". Его тотчас высмеял князь Шаховской. Барин говорит горничной: "Ты такая трогательная…". — "Что вы, барин, я вас не трогала!", — отвечает девушка. А все же слово прочно вошло в язык, стало истинно русским…
Понятно, что русскоязычные писатели Европы столкнулись с проблемой речи. Их дети плохо знают русский язык. И в миллионах семьях за рубежом, особенно в бывших наших республиках, та же проблема. За русский язык я спокоен, он никуда не денется. На нем и сегодня создаются выдающиеся произведения. Мое беспокойство о русской поэзии, которую изгнали в самой России со всех книжных полок. "Поэзию не издаем, поэзию не берем!", — вот любимое заклинание современных издателей и книготорговцев. Да, поэзией интересуются всерьез не более одного миллиона читающего населения. А современной поэзией и того меньше, поскольку о ней просто ничего не знают. Но поэты в этом не виноваты. "…Какое время на дворе — таков мессия", — сказал когда-то поэт Андрей Вознесенский.
Поэзия отступила перед политикой, бизнесом, "масскультурным гламуром". Вернее, отступила не поэзия, а читатели от нее отступили. Но тем же хуже этим читателям! Правда, аналогичные процессы происходят и с языками других стран…
На Пражском фестивале доминировала поэзия. При любых массовых чтениях качество текста бывает разным. Не вызывала сомнений только искренность. По сути дела, стихи по-русски — это всегда исповедь. Часто это — искренняя, хотя и очень наивная, современная, как бы это сказать, словесность. Не литература, а именно словесность…
(Автор: Константин КЕДРОВ,
по материалам Интернет-сайта: www.litrossia.ru/article.php?article=2877).
|
|
Фестиваль ЕВРОПА 2008 в ПРАГЕ |
Фестивальное поппури
Международный литературный фестиваль «Европа–2008» в Праге.
Идет встреча с общественностью. В президиуме: С. Левицкий, поэт К. Кедров, писатель Г. Щульпяков («Новая Юность»), С. Трусевич – зам. редактора «Литературной газеты» и поэт М. Замшев. Фото: Яна Юшкевич.
СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА 3/2008
Международный литературный фестиваль «Европа–2008» в Праге.
Ташкент, как известно, город хлебный, а Прага – город фестивальный. Перечисление всевозможных празднеств культуры и искусства дело утомительное, да читатель и сам на каждом шагу на них наталкивается. Но есть один фестиваль, о котором просто нельзя не рассказать, потому что он новый и потому что он наш, русский. Речь о международном литературном фестивале «Европа–2008» в Праге.
Идея такого мероприятия носилась в воздухе. Она реяла вместе с чайками над Влтавой и кричала им в унисон – вот я, вот я… Прага и русская литература тесно связаны между собой. Здесь жил и умер знаменитый юморист Аркадий Аверченко, здесь Марина Цветаева провела – по ее же словам – лучшие годы своей эмигрантской жизни, здесь творили поэты пражского «Скита поэтов».
Последние сомнения рассеялись, когда недавно созданный фонд «Русский мир» пообещал взять на себя финансовое обеспечение фестиваля. И пошло, поехало...
О роли Дундука в легализации мата
Забегая вперед, начнем со встречи участников фестиваля с общественностью, которая состоялась в Большом зале РЦНК уже после литературных чтений первого дня…
В президиуме, естественно, маститые, в зале – азартные.
После коротких вопросов и обстоятельных ответов выяснилось – русская литература жива и жить намерена долго, несмотря на происки со стороны издателей и бюрократов и конкуренции со стороны ТВ и Интернета… Были бы читатели – а писатели найдутся!
Оживленная дискуссия возникла по вопросу об употреблении ненормативной лексики, а попросту – мата, в опусах некоторых современных писателей.
И здесь выявилось … даже некоторое противостояние между президиумом на сцене и теми, кто находился в зрительном зале.
Зрители (назовем так условно тех, кто задавал вопросы), настаивали на том, что мат на страницах книг – плохо, а им со сцены возражали: писатель имеет право употреблять весь великий и могучий русский язык без цензурных ограничений, если того требует, мол, художественная правда.
– А дети, а дети-то какими вырастут после чтения вашего Сорокина? – стонал зал.
– Ничего, вырастут, – отвечали им, – а на Сорокина нечего пенять, послушайте, как на улице разговаривают.
Возможно, спрашивающие и отвечающие так и не пришли бы к консенсусу, если бы Константин Кедров не процитировал к месту Пушкина, помните:
«В академии наук Заседает князь Дундук…»
Ну, вспомнили? Там еще про то, на чем он сидит, когда заседает?
– А-а-а… – выдохнул зал. – Ну, если уж Пушкин того… этого… употреблял, то так уж и быть – материтесь, только потихоньку… помягче.
Но вернемся к протоколу
А начался фестиваль, как и положено серьезному мероприятию, – торжественно. Состав участников был весьма солидным – в Прагу приехала представительная делегация из Москвы: руководство Международного сообщества писательских союзов, Московского дома соотечественников, представители «Литературной газеты», журналов «Новая юность», «Российский колокол», российские писатели и поэты. Приехали писатели из Германии, Австрии, Венгрии и Норвегии. Чешская сторона была представлена руководством ПЕН-центра, во главе с его президентом Йиржи Дедечком, издателями, литературоведами и переводчиками.
Всего было зарегистрировано 59 участников фестиваля.
Справедливости ради надо сообщить, что на фестиваль по разным причинам не приехали объявленные великий Чингиз Айтматов, выдающийся Андрей Битов, знаменитый, Юрий Поляков. Но приехали выдающийся Евгений Рейн, знаменитый Константин Кедров, известные Сазонович, Замшев, Иванов… Ах, господа, простите за невольный сбой на архаичное выстраивание по рангу – известный, знаменитый, выдающийся, великий… Подождем лет пятьдесят-сто – тогда все и определится.
А если честно, то рангов на фестивале не было, каждый мог сказать кому угодно: «Мы с тобой одной крови – ты и я». Помните «Книгу джунглей» Киплинга?
Открыл праздник литераторов президент Союза русскоязычных писателей в ЧР Сергей Левицкий.
Он назвал одной из целей фестиваля предоставление возможности всем, кто интересуется современной русской литературой, познакомиться с творчеством как известных писателей, живущих и работающих в России, так и писателей, проживающих за ее пределами, но пишущих на русском языке.
Затем с теплым приветствием выступил Посол РФ в ЧР Алексей Федотов.
Сразу после его речи в исполнении народного артиста Татарстана Эдуарда Трескина прозвучал Гимн фестиваля. Музыка была всем знакома – «Широка страна моя родная» Исаака Дунаевского. Ну, а слова Василия Лебедева-Кумача были несколько переделаны на литературный лад (см. отдельно).
Ради чего и съехались
После гимна начались литературные чтения. Первым выступил старейшина Союза русскоязычных писателей в Чехии поэт Василий Иосифович Дергачев, которому в этом году исполняется 95 лет. Самой же молодой из участников фестиваля, стоявших перед микрофоном, стала 19-летняя студентка из Таганрога Екатерина Скиба.
Поэты сменяли у микрофона прозаиков, прибой стихов сменялся длинными волнами прозы, иногда по залу прокатывался смех, а время от времени повисала тишина…
Одно можно сказать определенно – никому не было скучно.
Чтения продолжались два дня. Участники не просто читали свое и слушали чужое, нет, они внимали мэтру русской поэзии – другу и учителю Иосифа Бродского – Евгению Рейну, они вместе с Владимиром Эйснером тонули в арктической полынье, любили с Людмилой Свирской, сочувствовали героине Ирины Батуриной, погружались в философскую лирику Максима Замшева, пленялись тонкой звукописью поэзии Елены Кацюбы и Константина Кедрова, откровениями Натальи Волковой, юмором Бориса Гольдберга, смеялись над провинциальными приключениями русской немки «Адольфовны» из рассказа Антонины Шнайдер-Стремяковой, дивились откровениям рассудительного пса, созданного воображением Георгия Герцовского, сопереживали эмигрантским мытарствам не теряющей, однако, веры в жизнь Ирины Беспаловой, радовались свисту сатирических стрел Сергея Левицкого, летящих не в них, и разделяли неподдельный пафос Валерия Иванова-Таганского, начавшего свое выступление Достоевским, а завершившего Пушкиным:
«Да здравствует солнце! Да скроется тьма!»
© Русская традиция/Русское слово, 2002-2008
Международный литературный фестиваль «Европа–2008» в Праге.
Идет встреча с общественностью. В президиуме: С. Левицкий, поэт К. Кедров, писатель Г. Щульпяков («Новая Юность»), С. Трусевич – зам. редактора «Литературной газеты» и поэт М. Замшев. Фото: Яна Юшкевич.
СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА 3/2008
Международный литературный фестиваль «Европа–2008» в Праге.
Ташкент, как известно, город хлебный, а Прага – город фестивальный. Перечисление всевозможных празднеств культуры и искусства дело утомительное, да читатель и сам на каждом шагу на них наталкивается. Но есть один фестиваль, о котором просто нельзя не рассказать, потому что он новый и потому что он наш, русский. Речь о международном литературном фестивале «Европа–2008» в Праге.
Идея такого мероприятия носилась в воздухе. Она реяла вместе с чайками над Влтавой и кричала им в унисон – вот я, вот я… Прага и русская литература тесно связаны между собой. Здесь жил и умер знаменитый юморист Аркадий Аверченко, здесь Марина Цветаева провела – по ее же словам – лучшие годы своей эмигрантской жизни, здесь творили поэты пражского «Скита поэтов».
Последние сомнения рассеялись, когда недавно созданный фонд «Русский мир» пообещал взять на себя финансовое обеспечение фестиваля. И пошло, поехало...
О роли Дундука в легализации мата
Забегая вперед, начнем со встречи участников фестиваля с общественностью, которая состоялась в Большом зале РЦНК уже после литературных чтений первого дня…
В президиуме, естественно, маститые, в зале – азартные.
После коротких вопросов и обстоятельных ответов выяснилось – русская литература жива и жить намерена долго, несмотря на происки со стороны издателей и бюрократов и конкуренции со стороны ТВ и Интернета… Были бы читатели – а писатели найдутся!
Оживленная дискуссия возникла по вопросу об употреблении ненормативной лексики, а попросту – мата, в опусах некоторых современных писателей.
И здесь выявилось … даже некоторое противостояние между президиумом на сцене и теми, кто находился в зрительном зале.
Зрители (назовем так условно тех, кто задавал вопросы), настаивали на том, что мат на страницах книг – плохо, а им со сцены возражали: писатель имеет право употреблять весь великий и могучий русский язык без цензурных ограничений, если того требует, мол, художественная правда.
– А дети, а дети-то какими вырастут после чтения вашего Сорокина? – стонал зал.
– Ничего, вырастут, – отвечали им, – а на Сорокина нечего пенять, послушайте, как на улице разговаривают.
Возможно, спрашивающие и отвечающие так и не пришли бы к консенсусу, если бы Константин Кедров не процитировал к месту Пушкина, помните:
«В академии наук Заседает князь Дундук…»
Ну, вспомнили? Там еще про то, на чем он сидит, когда заседает?
– А-а-а… – выдохнул зал. – Ну, если уж Пушкин того… этого… употреблял, то так уж и быть – материтесь, только потихоньку… помягче.
Но вернемся к протоколу
А начался фестиваль, как и положено серьезному мероприятию, – торжественно. Состав участников был весьма солидным – в Прагу приехала представительная делегация из Москвы: руководство Международного сообщества писательских союзов, Московского дома соотечественников, представители «Литературной газеты», журналов «Новая юность», «Российский колокол», российские писатели и поэты. Приехали писатели из Германии, Австрии, Венгрии и Норвегии. Чешская сторона была представлена руководством ПЕН-центра, во главе с его президентом Йиржи Дедечком, издателями, литературоведами и переводчиками.
Всего было зарегистрировано 59 участников фестиваля.
Справедливости ради надо сообщить, что на фестиваль по разным причинам не приехали объявленные великий Чингиз Айтматов, выдающийся Андрей Битов, знаменитый, Юрий Поляков. Но приехали выдающийся Евгений Рейн, знаменитый Константин Кедров, известные Сазонович, Замшев, Иванов… Ах, господа, простите за невольный сбой на архаичное выстраивание по рангу – известный, знаменитый, выдающийся, великий… Подождем лет пятьдесят-сто – тогда все и определится.
А если честно, то рангов на фестивале не было, каждый мог сказать кому угодно: «Мы с тобой одной крови – ты и я». Помните «Книгу джунглей» Киплинга?
Открыл праздник литераторов президент Союза русскоязычных писателей в ЧР Сергей Левицкий.
Он назвал одной из целей фестиваля предоставление возможности всем, кто интересуется современной русской литературой, познакомиться с творчеством как известных писателей, живущих и работающих в России, так и писателей, проживающих за ее пределами, но пишущих на русском языке.
Затем с теплым приветствием выступил Посол РФ в ЧР Алексей Федотов.
Сразу после его речи в исполнении народного артиста Татарстана Эдуарда Трескина прозвучал Гимн фестиваля. Музыка была всем знакома – «Широка страна моя родная» Исаака Дунаевского. Ну, а слова Василия Лебедева-Кумача были несколько переделаны на литературный лад (см. отдельно).
Ради чего и съехались
После гимна начались литературные чтения. Первым выступил старейшина Союза русскоязычных писателей в Чехии поэт Василий Иосифович Дергачев, которому в этом году исполняется 95 лет. Самой же молодой из участников фестиваля, стоявших перед микрофоном, стала 19-летняя студентка из Таганрога Екатерина Скиба.
Поэты сменяли у микрофона прозаиков, прибой стихов сменялся длинными волнами прозы, иногда по залу прокатывался смех, а время от времени повисала тишина…
Одно можно сказать определенно – никому не было скучно.
Чтения продолжались два дня. Участники не просто читали свое и слушали чужое, нет, они внимали мэтру русской поэзии – другу и учителю Иосифа Бродского – Евгению Рейну, они вместе с Владимиром Эйснером тонули в арктической полынье, любили с Людмилой Свирской, сочувствовали героине Ирины Батуриной, погружались в философскую лирику Максима Замшева, пленялись тонкой звукописью поэзии Елены Кацюбы и Константина Кедрова, откровениями Натальи Волковой, юмором Бориса Гольдберга, смеялись над провинциальными приключениями русской немки «Адольфовны» из рассказа Антонины Шнайдер-Стремяковой, дивились откровениям рассудительного пса, созданного воображением Георгия Герцовского, сопереживали эмигрантским мытарствам не теряющей, однако, веры в жизнь Ирины Беспаловой, радовались свисту сатирических стрел Сергея Левицкого, летящих не в них, и разделяли неподдельный пафос Валерия Иванова-Таганского, начавшего свое выступление Достоевским, а завершившего Пушкиным:
«Да здравствует солнце! Да скроется тьма!»
© Русская традиция/Русское слово, 2002-2008
|
|
константин кедров в викиславии |
Константин Александрович Кедров (р. в 1942)коренной москвич — русский поэт-авангардист, автор терминов «метаметафора»(1984) и «палиндронавтика» (1999).
Автор абревиатуры «ДООС»(1984).(Добровольное Общество Охраны Стрекоз) См.стихотворение "ДООС" 1984 г.
Философ-автор теории МЕТАКОДА и космической переориентации, ИНСАЙДАУТА.
Биография
Первая подборка:«Но разве есть у свободы Родина?//Свобода-Родина всего мира!» 1958
Обвинен в формализме:«Где мысль раскована//да здравствует рискованное"» 1963
"Я заброшен сюда из другого светлого века//Мне смешно, когда четыре стены,//На одного свободного человека»(1963)
Создает первую аннаграмно-палинндромическую поэму «До-ПОТОП-НОЯ ЕВ-АНГЕЛ-ИЕ» (1978).
В «Новом мире" термин МЕТАКОД «Звездная книга»(1982)
В "Литературной учебе" 1-й номер за 1984 г. Впервые применен и напечатантермин ,созданный Кедровым термин МТАМЕТАФОРА «Метаметафора Алексея Парщикова».
По требованию КГБ отстранен от преподавания с запретом на профессию (1986).
После путча 1991-г. комиссией Верховного Совета обнаружено в сейфе председателя КГБ:
«Предотвращено поступление Лесника в Союз Писателей (1984). Урусадзе „Выборные места из переписки с врагами“ М.1996. В1996 г.выдан протокол об уничтожении, заведенного на него дела „Лесник“ по статье „Антисоветская пропаганда и агитация с высказываниями ревизионистсккого характера“».
В изд-ве Советский Писатель выходит монография по теории МЕТАКОДА и МЕТАМЕТАФОРЫ: «Поэтический космос» (1989).В стастраничном послесловии профессора Куницына сказано, что до Кедрова он никогда не видел «живого идеалиста». По свидетельству редактора А. Гладковой два агента КГБ пыталось конфисковать тираж на выезде со склада. В 1996 г.по монографии успешно прошла защита докторской диссертации а в Институте Философии РАН
Речь атташе посольства Франции Ирэн Зайончик на вручении премии GRAMMY.ru: «Сегодня во Франции Константин Кедров самый известный из нынешних русских поэтов». 2006. Июль.
Метаметафора
Определения МЕТАМЕТАФОРЫ, данные Кедровым: метафора в квадрате, обратная перспектива в слове, мистериальная метафора. «Метаметафора отличается от метафоры, как метафизика от физики, как метагалактика от галактики».Сам термин предложен впервые Кедровым в 1983 г.,но метаметафора возникла в его поэзии в 1957 г. в поэме «Бесконечная»: «Я вышел к себе//ЧЕРЕЗ-НАВСТРЕЧУ-ОТ//И ушел ПОД//Воздвигая НАД». Следующим прорывом стала поэма «Компьютер Любви»:"Человек-это изнанка неба//Небо-это изнанка человека."1983 г.
Систему стихосложения соответствующую метаметафоре Кедров назвал ПАЛИНДРОНАВТИКА. Это анаграмно-палиндромический фрактальный стих: «ЧЕРВЬ// вывернувшись наизнанку ЧРЕВОМ//В себя вмещает яблоко и древо». 1978.
Широко растиражирована понятийная метаметафора Кедрова «ИЛИ». В шекспировской формуле «быть ИЛИ не быть» он выбирает «ИЛИ». «ИЛИ-это свобода».
Кедров утверждает, что понятие «свободный стих»-нонсенс. Если несвободный, то и нестих: «Земля леТЕЛА\\По законам ТЕЛА\\А бабочка леТЕЛА\\Как хоТЕЛА».
12-го ноября 1978-го г. Речь Юнны Мориц в ДХ на Кузнецком: «Поэзия Кедрова-это настоящая филологическая магия. Издатели и критики ее боятся, но, мы, поэты нуждаемся в такой поэзии, всячески ее разыскиваем, и очень любим эти стихи»
Предисловие А.Вознесенского к стихам Кедрова в сб. «Транстарасконщина» Москва-Париж. Вивризм. «Константина Кедрова можно назвать Иоанном Предтечей новой волны метаметафорической поэзии.» 1989
Предисловие Генриха Сапгира к сб. «Вруцелет» 1993. «Стихи Константина Кедрова-звездная стихия, которая породила и самого поэта. Для меня Константин Кедров-поэт, который привнес в поэзию целый ряд новых идей. Одним словом, одной метаметафорой, стихи его настоящая литургия»
Предисловие Игоря Холина к сб. «Гамма тел Гамлета» 1994: «Началось новое искусство и Константин Кедров, я это твердо могу сказать, один из лучших поэтов совершено нового направления»
"Настанет лада CREDOVA|CONSTANTA CEDROVA"(2000) Продиктовано Андреем Вознесенским из Индии по мобильнику из-под дерева, где Будда получил просветление.(см. эпиграф к "Инсайдаут")
Предисловие А. Вознесенского к полному собранию поэзии К. Кедрова "Или" М.Мысль 2002: "Константирует Кедров/поэтический код декретов/Константирует Кедров недра пройденных километров./Так беся современников, как кулич на лопате,/Константировал Мельников особняк на арбате/Для кого он горбатил? Сумашедший арбайтер.."
Интервью с А.Хвостенко (Хвостом),НЛО № 72,2005: « -Как вы относитесь к поискам метаметафористов? - Такие люди, как я и Кедров, создают славу теперешней поэзии.»
Речь Андрея Битова, президента Русского ПЭНклуба 7го сентября 2006: «Константин Кедров всю жизнь творил в поэзии что хотел и как хотел. В нем неповторимое сочетание самого продвинутого, действительно новго авангарда с воссозданием утраченных ранее глубинных слоев культуры»
Поэты — Кедрову
Кедрову посвящены стихи известных поэтов:
А. Вознесеский: «Эфирные стансы» 1993, «Демонстрация языка» 2001, «Дека-образ» 1999, «Настанет лада credova||constanta Cedrova» 2000.http://www.liveinternet.ru/users/2502406/post73240832/
Ю. Мориц «Туманность дыханья и пения» 1976 г.
А. Хвост: «Часослов», «Вот» 1991
Г. Сапгир «Свет земли» 1999
И. Холин «Иду в гости//к поэту/Константину Кедрову» 1989
А. Еременко «…На тебя посмотрят изумленно Рамакриша, Кедров и Гагарин…» 1980
А. Витухновская «Гамлет абсолюта»1998
Э. Иодковский. Акростих. «Клеймит земную косность красавец Константин…» 1992
Д. Авалиани. Листовертень. «КЕДРОВ-ЛЮБОВЬ» 2003
Награды
Диплом Академии Зауми (1998)
Отметина Давида Бурлюка (1999)
GRAMMY.ru (Поэзия года-2003). Голосовали 11500 читателей рускоязычного интернета
GRAMMY.ru (Поэзия года-2005). Голосовали 14000 читателей рускоязычного интернета
«Золотой лев».За смелость в искусстве.МГУ и Дом Лосева за книгу «МЕТАКОД» 16.9.06
Диплом Международного фестиваля «Другие». «За выдаюииеся достижения в русской поэзии и многолетнюю популяризацию поэтического авангарда». 23 ноября 2006.
Фестивали международного авангарда
Иматра Финляндия 1988 (Курехин, Кедров, Гарри Виноградов, АВИА, Дыбский, Свиблова, Медицинские герменевтики)
Тараскон Франция 1989 (Котляров-Толстый, Кедров, Холин,Хвост)
Лозанна Швейцария 1989 Университет «Секс в русской литературе» (Жорж Нива, Константин Кедров, Виктор Ерофеев)
Париж Франция 1991 Театр на Монмартре (Кедров,Хвост,Сапгир)
Брюссель Бельгия 1993 Европейский парламент (Чтение стихов на электрическом стуле-против смертной казни)
Рим Италия Поэтическая Акция в Пантеоне 1995 Пасхальное шествие. Прием у президента Скальфаро
Флоренция Италия 1996 Чтение в галерее Уффици перед "Рождением Венеры" «Компьютера любви»
Вена Австрия 1997 «Компьютер любви» на мессе в соборе Св. Витта. Служил нынешний Папа Бенедикт
Париж Сорбонна 2002(Кедров, Кацюба, Вера Павлова, Айги, Рубинштейн, Пригов, Парщиков)
Лейпциг Германия Книжная ярмарка 2004 (Кедров, Кацюба,Бирюков,Парщиков,Кессельман)
Париж Франция 2005 Книжный салон Чтения на Русском стенде (Кедров, Вознесенский, Кацюба)
Москва-Нью-Йорк-Саратов фестиваль авангарда «Другие». Ноябрь 2006.
Киевские лавры 2007 июнь (Кедров,Пригов,Кацюба,Кенжеев,Цветков)
Книги Кедрова http://metapoetry.narod.ru/knigi/knigi.htm
Поэтический космос ЗЗЗ с. М. Советский писатель. 1989 http://metapoetry.narod.ru/knigi/kosmos.htm
Компьютер любви 174с. М. Художественная литература. 1990http://metapoetry.narod.ru/knigi/comp.htm
Утверждения отрицания М. Центр. 1991
Верфьлием. М. ДООС. 1992
Вруцелет. М. ДООС. 1993
Гамма тел Гамлета. М. 1994.Классики ХХ1-го века. Издание Елены Пахомовой.
Метаметафора. М. 239 с. ДООС. 1999 http://metapoetry.narod.ru/knigi/metametafora.htm
Энциклопедия метаметафоры. М. 126 с. ДООС. 2000 http://metapoetry.narod.ru/knigi/enciklopedia.htm
Паралельные миры.457с. М. АиФпринт. 2001 http://www.universalinternetlibrary.ru/book/kedrov/ogl.shtml
За чертой Апокалипсиса. 270 с. М. АиФ принт. 2002
Инсайдаут .282 с. М. Мысль. 2001 http://metapoetry.narod.ru/knigi/ins.htm
Или.497с. М. Мысль (Полное собрание. Поэзия). http://metapoetry.narod.ru/knigi/ili.htm
Ангелическая по-этика. Университет Натальи Нестеровой. Учебное пособие. 32О с. 2001 http://metapoetry.narod.ru/knigi/ang.htm
Метакод.575с. М. АиФ принт. 2005
Гамма тел Гамлета http://metapoetry.narod.ru/knigi/gamma.htm
Ссылки
Книги Константина Кедрова
Кандидатская диссертация К.Кедрова «Эпическая основа русского романа первой половины XIX века». М., МГУ, 1973
Фрагменты стенограммы защиты докторской диссертации К.Кедрова «Этико-антропный прицип культуры». М., Ин-т Философии РАН, 1996
Телепередачи и видеоматериалы Константина Кедрова
Дело «Лесник»
«Компьютер любви» (поэма)
Константин Кедров в «Известиях»
http://metapoetry.narod.ru/stat/stat0.htm Константин Кедров Статьи в газетах]
Константин Кедров Литературоведение
Константин Кедров в «Русском курьере»
Константин Кедров — лауреат премии GRAMMY.ru 2003
Константин Кедров выдвинут на Нобелевскую премию
К.Кедров читает свои стихи.Видео
Посвящение Сократа
"Сократ/Оракул" К.Кедрова и Ю.Любимова на Таганке
Райские книги
К.Кедров — президент Русского поэтического общества
О творчестве К.Кедрова
Фильм "Номинант"
Поэты — Константину Кедрову
К.Кедров Nota bene на TV-канале "Культура
Автор абревиатуры «ДООС»(1984).(Добровольное Общество Охраны Стрекоз) См.стихотворение "ДООС" 1984 г.
Философ-автор теории МЕТАКОДА и космической переориентации, ИНСАЙДАУТА.
Биография
Первая подборка:«Но разве есть у свободы Родина?//Свобода-Родина всего мира!» 1958
Обвинен в формализме:«Где мысль раскована//да здравствует рискованное"» 1963
"Я заброшен сюда из другого светлого века//Мне смешно, когда четыре стены,//На одного свободного человека»(1963)
Создает первую аннаграмно-палинндромическую поэму «До-ПОТОП-НОЯ ЕВ-АНГЕЛ-ИЕ» (1978).
В «Новом мире" термин МЕТАКОД «Звездная книга»(1982)
В "Литературной учебе" 1-й номер за 1984 г. Впервые применен и напечатантермин ,созданный Кедровым термин МТАМЕТАФОРА «Метаметафора Алексея Парщикова».
По требованию КГБ отстранен от преподавания с запретом на профессию (1986).
После путча 1991-г. комиссией Верховного Совета обнаружено в сейфе председателя КГБ:
«Предотвращено поступление Лесника в Союз Писателей (1984). Урусадзе „Выборные места из переписки с врагами“ М.1996. В1996 г.выдан протокол об уничтожении, заведенного на него дела „Лесник“ по статье „Антисоветская пропаганда и агитация с высказываниями ревизионистсккого характера“».
В изд-ве Советский Писатель выходит монография по теории МЕТАКОДА и МЕТАМЕТАФОРЫ: «Поэтический космос» (1989).В стастраничном послесловии профессора Куницына сказано, что до Кедрова он никогда не видел «живого идеалиста». По свидетельству редактора А. Гладковой два агента КГБ пыталось конфисковать тираж на выезде со склада. В 1996 г.по монографии успешно прошла защита докторской диссертации а в Институте Философии РАН
Речь атташе посольства Франции Ирэн Зайончик на вручении премии GRAMMY.ru: «Сегодня во Франции Константин Кедров самый известный из нынешних русских поэтов». 2006. Июль.
Метаметафора
Определения МЕТАМЕТАФОРЫ, данные Кедровым: метафора в квадрате, обратная перспектива в слове, мистериальная метафора. «Метаметафора отличается от метафоры, как метафизика от физики, как метагалактика от галактики».Сам термин предложен впервые Кедровым в 1983 г.,но метаметафора возникла в его поэзии в 1957 г. в поэме «Бесконечная»: «Я вышел к себе//ЧЕРЕЗ-НАВСТРЕЧУ-ОТ//И ушел ПОД//Воздвигая НАД». Следующим прорывом стала поэма «Компьютер Любви»:"Человек-это изнанка неба//Небо-это изнанка человека."1983 г.
Систему стихосложения соответствующую метаметафоре Кедров назвал ПАЛИНДРОНАВТИКА. Это анаграмно-палиндромический фрактальный стих: «ЧЕРВЬ// вывернувшись наизнанку ЧРЕВОМ//В себя вмещает яблоко и древо». 1978.
Широко растиражирована понятийная метаметафора Кедрова «ИЛИ». В шекспировской формуле «быть ИЛИ не быть» он выбирает «ИЛИ». «ИЛИ-это свобода».
Кедров утверждает, что понятие «свободный стих»-нонсенс. Если несвободный, то и нестих: «Земля леТЕЛА\\По законам ТЕЛА\\А бабочка леТЕЛА\\Как хоТЕЛА».
12-го ноября 1978-го г. Речь Юнны Мориц в ДХ на Кузнецком: «Поэзия Кедрова-это настоящая филологическая магия. Издатели и критики ее боятся, но, мы, поэты нуждаемся в такой поэзии, всячески ее разыскиваем, и очень любим эти стихи»
Предисловие А.Вознесенского к стихам Кедрова в сб. «Транстарасконщина» Москва-Париж. Вивризм. «Константина Кедрова можно назвать Иоанном Предтечей новой волны метаметафорической поэзии.» 1989
Предисловие Генриха Сапгира к сб. «Вруцелет» 1993. «Стихи Константина Кедрова-звездная стихия, которая породила и самого поэта. Для меня Константин Кедров-поэт, который привнес в поэзию целый ряд новых идей. Одним словом, одной метаметафорой, стихи его настоящая литургия»
Предисловие Игоря Холина к сб. «Гамма тел Гамлета» 1994: «Началось новое искусство и Константин Кедров, я это твердо могу сказать, один из лучших поэтов совершено нового направления»
"Настанет лада CREDOVA|CONSTANTA CEDROVA"(2000) Продиктовано Андреем Вознесенским из Индии по мобильнику из-под дерева, где Будда получил просветление.(см. эпиграф к "Инсайдаут")
Предисловие А. Вознесенского к полному собранию поэзии К. Кедрова "Или" М.Мысль 2002: "Константирует Кедров/поэтический код декретов/Константирует Кедров недра пройденных километров./Так беся современников, как кулич на лопате,/Константировал Мельников особняк на арбате/Для кого он горбатил? Сумашедший арбайтер.."
Интервью с А.Хвостенко (Хвостом),НЛО № 72,2005: « -Как вы относитесь к поискам метаметафористов? - Такие люди, как я и Кедров, создают славу теперешней поэзии.»
Речь Андрея Битова, президента Русского ПЭНклуба 7го сентября 2006: «Константин Кедров всю жизнь творил в поэзии что хотел и как хотел. В нем неповторимое сочетание самого продвинутого, действительно новго авангарда с воссозданием утраченных ранее глубинных слоев культуры»
Поэты — Кедрову
Кедрову посвящены стихи известных поэтов:
А. Вознесеский: «Эфирные стансы» 1993, «Демонстрация языка» 2001, «Дека-образ» 1999, «Настанет лада credova||constanta Cedrova» 2000.http://www.liveinternet.ru/users/2502406/post73240832/
Ю. Мориц «Туманность дыханья и пения» 1976 г.
А. Хвост: «Часослов», «Вот» 1991
Г. Сапгир «Свет земли» 1999
И. Холин «Иду в гости//к поэту/Константину Кедрову» 1989
А. Еременко «…На тебя посмотрят изумленно Рамакриша, Кедров и Гагарин…» 1980
А. Витухновская «Гамлет абсолюта»1998
Э. Иодковский. Акростих. «Клеймит земную косность красавец Константин…» 1992
Д. Авалиани. Листовертень. «КЕДРОВ-ЛЮБОВЬ» 2003
Награды
Диплом Академии Зауми (1998)
Отметина Давида Бурлюка (1999)
GRAMMY.ru (Поэзия года-2003). Голосовали 11500 читателей рускоязычного интернета
GRAMMY.ru (Поэзия года-2005). Голосовали 14000 читателей рускоязычного интернета
«Золотой лев».За смелость в искусстве.МГУ и Дом Лосева за книгу «МЕТАКОД» 16.9.06
Диплом Международного фестиваля «Другие». «За выдаюииеся достижения в русской поэзии и многолетнюю популяризацию поэтического авангарда». 23 ноября 2006.
Фестивали международного авангарда
Иматра Финляндия 1988 (Курехин, Кедров, Гарри Виноградов, АВИА, Дыбский, Свиблова, Медицинские герменевтики)
Тараскон Франция 1989 (Котляров-Толстый, Кедров, Холин,Хвост)
Лозанна Швейцария 1989 Университет «Секс в русской литературе» (Жорж Нива, Константин Кедров, Виктор Ерофеев)
Париж Франция 1991 Театр на Монмартре (Кедров,Хвост,Сапгир)
Брюссель Бельгия 1993 Европейский парламент (Чтение стихов на электрическом стуле-против смертной казни)
Рим Италия Поэтическая Акция в Пантеоне 1995 Пасхальное шествие. Прием у президента Скальфаро
Флоренция Италия 1996 Чтение в галерее Уффици перед "Рождением Венеры" «Компьютера любви»
Вена Австрия 1997 «Компьютер любви» на мессе в соборе Св. Витта. Служил нынешний Папа Бенедикт
Париж Сорбонна 2002(Кедров, Кацюба, Вера Павлова, Айги, Рубинштейн, Пригов, Парщиков)
Лейпциг Германия Книжная ярмарка 2004 (Кедров, Кацюба,Бирюков,Парщиков,Кессельман)
Париж Франция 2005 Книжный салон Чтения на Русском стенде (Кедров, Вознесенский, Кацюба)
Москва-Нью-Йорк-Саратов фестиваль авангарда «Другие». Ноябрь 2006.
Киевские лавры 2007 июнь (Кедров,Пригов,Кацюба,Кенжеев,Цветков)
Книги Кедрова http://metapoetry.narod.ru/knigi/knigi.htm
Поэтический космос ЗЗЗ с. М. Советский писатель. 1989 http://metapoetry.narod.ru/knigi/kosmos.htm
Компьютер любви 174с. М. Художественная литература. 1990http://metapoetry.narod.ru/knigi/comp.htm
Утверждения отрицания М. Центр. 1991
Верфьлием. М. ДООС. 1992
Вруцелет. М. ДООС. 1993
Гамма тел Гамлета. М. 1994.Классики ХХ1-го века. Издание Елены Пахомовой.
Метаметафора. М. 239 с. ДООС. 1999 http://metapoetry.narod.ru/knigi/metametafora.htm
Энциклопедия метаметафоры. М. 126 с. ДООС. 2000 http://metapoetry.narod.ru/knigi/enciklopedia.htm
Паралельные миры.457с. М. АиФпринт. 2001 http://www.universalinternetlibrary.ru/book/kedrov/ogl.shtml
За чертой Апокалипсиса. 270 с. М. АиФ принт. 2002
Инсайдаут .282 с. М. Мысль. 2001 http://metapoetry.narod.ru/knigi/ins.htm
Или.497с. М. Мысль (Полное собрание. Поэзия). http://metapoetry.narod.ru/knigi/ili.htm
Ангелическая по-этика. Университет Натальи Нестеровой. Учебное пособие. 32О с. 2001 http://metapoetry.narod.ru/knigi/ang.htm
Метакод.575с. М. АиФ принт. 2005
Гамма тел Гамлета http://metapoetry.narod.ru/knigi/gamma.htm
Ссылки
Книги Константина Кедрова
Кандидатская диссертация К.Кедрова «Эпическая основа русского романа первой половины XIX века». М., МГУ, 1973
Фрагменты стенограммы защиты докторской диссертации К.Кедрова «Этико-антропный прицип культуры». М., Ин-т Философии РАН, 1996
Телепередачи и видеоматериалы Константина Кедрова
Дело «Лесник»
«Компьютер любви» (поэма)
Константин Кедров в «Известиях»
http://metapoetry.narod.ru/stat/stat0.htm Константин Кедров Статьи в газетах]
Константин Кедров Литературоведение
Константин Кедров в «Русском курьере»
Константин Кедров — лауреат премии GRAMMY.ru 2003
Константин Кедров выдвинут на Нобелевскую премию
К.Кедров читает свои стихи.Видео
Посвящение Сократа
"Сократ/Оракул" К.Кедрова и Ю.Любимова на Таганке
Райские книги
К.Кедров — президент Русского поэтического общества
О творчестве К.Кедрова
Фильм "Номинант"
Поэты — Константину Кедрову
К.Кедров Nota bene на TV-канале "Культура
|
|
константин кедров НЕ-МОЙ ПУШКИН 2008 |
НЕ-МОЙ ПУШКИН
«Заколыхались жарко груди…» –
Если мы не дозрели до Пушкина и Лермонтова без цензуры, значит мы вообще до них не дозрели. Почему классики активно, охотно и радостно пользовались нецензурной лексикой? Во-первых, они все были великие шалуны и большие эротоманы. А во-вторых, и это, пожалуй, главное, русский язык без мата теряет душу. Дистиллированная вода, это, конечно, тоже вода. Но как говорил поэт Леонид Мартынов, «ей жизни не хватало – чистой, дистиллированной воде». Тем не менее, читателей до сих пор поят дистиллированным Пушкиным.
Берем академическое издание. Читаем:
Молчи ж, кума: и ты, как я, грешна,
А всякого словами разобидишь;
В чужой ….. соломинку ты видишь,
А у себя не видишь и бревна.
Но вместо точек у Пушкина слово на букву «п», а это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Эпиграмма на Каверина изуродована академиками до полной неузнаваемости. У академиков: «Друзьям он верный друг, красавицам мучитель». А у Пушкина: «Друзьям он верный друг, в борделе он ебака». Вероятно, академики считают, что любить женщину и мучить ее – это понятия тождественные. Возможно, у них этот процесс так и происходит. Но пока что мучают не красавиц, а читателей глупейшими переделками. После такой редактуры впору вспомнить такую эпиграмму:
Не думав милого обидеть,
Взяла Лаиса микроскоп
И говорит: позволь увидеть,
Мой милый, чем меня ты ё...
Многоточие было изобретено, чтобы оттенить невысказанное. А у нас его стали применять, чтобы заткнуть рот писателям.
Мы пили и Венера с нами
Сидела, прея за столом,
Когда ж вновь сядем за столом
С блядьми, вином и чубуками?
Пушкинских блядей тоже заменили точками. С точками за столом, конечно, веселее, чем с нехорошими женщинами. Надо было заменить их на «редиски» – «с редисками, вином и чубуками». То-то было бы веселье. Поэзия Пушкина – гимн любви и свободе.
Здорово, молодость и счастье,
Застольный кубок и бордель,
Где с громким криком сладострастье
Ведет нас пьяных на постель.
Бордель, разумеется, превращен в многоточие. Так что назовем вещи своими именами: застольный кубок, многоточие ведут нас, пьяных, в худосочие.
В некоторых случаях из-за редактуры вообще невозможно понять, о чем идет речь. Царь рассказывает солдафонский анекдот:
Говорил он с горем
Фрейлинам дворца:
«Вешают за морем
за два яйца.
То есть разумею, –
Вдруг промолвил он, –
Вешают за шею,
Но жесток закон».
У Пушкина все понятно и потому смешно. Но в академическом издании «яйца» вырезаны. Кастрированный текст полностью лишен смысла. Вот уже полтора столетия читатели безуспешно пытаются разгадать известный текст, где вырезаны «муде», а затем и слово «безмудый», а в академическом варианте дважды кастрировали кастрата, вырезав само слово «кастрат».
К кастрату раз пришел скрыпач,
Он был бедняк, а тот богач.
«Смотри, – сказал певец безмудый, –
мои алмазы, изумруды –
я их от скуки разбирал.
А! кстати, брат, – он продолжал, –
когда тебе бывает скучно,
ты что творишь, сказать прошу».
В ответ бедняга равнодушно:
– Я? Я муде себе чешу. (1835 г.)
Кстати, это пишет уже не юный озорник, а полностью состоявшийся великий поэт за два года до смерти. Или мы принимаем Пушкина таким, каков он есть, или мы те самые кастраты, которым нечего чесать. И вместо того, что положено, у нас одно многоточие.
Пушкинисты долго не признавали подлинность поэмы «Тень Баркова», где у главного героя фамилия отнюдь не Онегин, а Ебаков. Самым ужасным для ученых мужей оказалось то, что тут точками не отделаешься. Каждое второе слово ненормативное. Останутся одни точки. Так что дальше текст почти в подлиннике.
Кто всех задорнее е..т?
Чей х.. средь битвы рьяный
П…у кудрявую дерет,
Горя, как столб багряный?
Ох, сдается мне, доживи Пушкин до наших дней, поволокли бы его в суды, а высокоумные эксперты обязательно нашли бы порнографию в его текстах.
Многие меня поносят
И теперь, пожалуй, спросят:
Глупо так зачем шучу?
Что за дело им? Хочу.
Хотел и Лермонтов. Хотел и шутил.
Но скоро страх ее исчез,
Заколыхались жарко груди –
Закрой глаза, творец небес!
Заткните уши, добры люди!
Цитировать Лермонтова труднее, поскольку описание гусарских соитий намного подробнее и натуралистичнее, чем у Пушкина. Тут «Гошпиталь», и «Уланша», и «Петергофский праздник». Читая все это, невольно задаешь себе вопрос – так какой же Лермонтов подлинный? Тот, что выходит на дорогу один, или тот, который резвится с уланшей? Где Пушкин более искренен – в «Евгении Онегине» или в сказке о царе Никите и сорока дочерях вкупе с «Гаврииллиадой»? И то, и другое – подлинник. А, стало быть, выбрасывать неугодные слова, заменяя их точками, то же самое, что соскребать срамные места на фресках Микеланджело. «Мне не смешно, когда маляр негодный мне пачкает мадонну Рафаэля». А ведь пачкают.
В 1989 году я участвовал в семинаре в университете Лозанны «Секс в русской литературе». Жорж Нива прочел доклад, где поделился интереснейшим наблюдением – в русской литературе нет секса. Вместо него в России либертинаж. «Что значит этот термин?» – спросил я у докладчика. – «Либертинаж – это грубое нарушение всех норм. В русской литературе не хватает слов для описания секса, поэтому пользуются вольно или невольно запретной лексикой, матом». – «А почему так получилось?» – «Потому что у вас не было Возрождения. Нагота так и осталась под запретом».– «А зато у вас нет мата», – с гордостью сказал я. И был вознагражден аплодисментами. Я понимаю, что аплодировали не мне, а Лермонтову и Пушкину.
Изо всех матов в Советском Союзе были дозволены только два: сопромат (сопротивление материалов) и диамат (диалектический материализм). Против сопромата ничего не имею. Диамат не люблю. А мат Баркова, Пушкина, Лермонтова и Грибоедова греет душу. Без него русская литература мертва.
– Прародитель Луки Мудищева –
(И.С.Барков «Полное собрание стихотворений». СПб, Академический проект, 2004)
Все знают строки патриотического гимна: «Гром победы, раздавайся! / Веселися, храбрый росс». Но мало кто осведомлен, что задолго до этого секретарь Ломоносова, переводчик и вечный студент, написал: «Восстань, восстань и напрягайся». Обращена сия ода к мужскому достоинству и соответствующим образом озаглавлена трехбуквенным словом.
Пародируя оду своего учителя Ломоносова, которая начинается словами «царей и царств земных отрада», и гимн «славься сим Екатерина, Богоданная нам мать», Барков пишет другую оду и другой гимн: «О, общая людей отрада, / … веселостей всех мать, / начало жизни и прохлада, / тебя хочу я прославлять».
Нетрудно заметить, что вся поэзия этого пьяницы, гуляки и переводчика древнеримских классиков есть сплошная пародия на официальную, увенчанную лаврами государственную поэзию. Приходится только удивляться широте и великодушию Ломоносова, который до конца своих дней покровительствовал поэту, писавшему на него пародии.
А уж как такие пародии терпела Екатерина II, совсем непонятно. Может, ей даже льстило, что ее так талантливо отождествляют с неназываемой частью тела. «Ее натура хоть вмещает / в одну зардевшись тела часть, / но всех сердцами обладает / и все умы берет во власть».
Скорее всего, Баркова спасала безвестность и анонимность, хотя трудно предположить, что та же Екатерина не была ознакомлена через тайную канцелярию с творениями Баркова. Тем более что враги Ломоносова никогда не гнушались доносами и не упустили бы возможности сообщить двору, какому поэту покровительствует глава Академии Наук. Не исключено, что быстрая отставка Ломоносова связана с тайным творчеством его секретаря. Самого Баркова Екатерина могла счесть слишком ничтожным противником, чтобы метать в него стрелы.
Так или иначе, но Барков дожил до классического возраста многих русских поэтов – 37 лет. После смерти Ломоносова его тотчас лишили всех источников дохода и должности переводчика Академии. Барков покончил с собой в чисто барковском стиле. Сунул голову в камин и угорел от дыма. По слухам, в зад себе поэт воткнул записку: «Жил грешно, умер смешно». Скорее всего, это легенда, восполняющая наше незнание всех обстоятельств ранней смерти Баркова. Но, возможно, что молва не лжет, и все так и было.
Талант его ярок, ослепителен и вполне соразмерен самым известным поэтам 18-го века. Многие считают, что как раз Барков и является самым крупным, незаслуженно замалчиваемым поэтом. Нецензурная лексика и эротика, плавно переходящая в порно, вывела его за рамки истории русской словесности, но уже в 19-ом веке Барков все более входит в моду. Пушкин, подражая ему, пишет поэму «Тень Баркова», разумеется, анонимно. В списках гуляет «Лука Мудищев», чье авторство так и не установлено. То ли переделанный Барков, то ли подлинный Пушкин.
Конечно, Иван Барков был эротоман. Но от каждого из его эротических творений веет веселостью и здоровьем. Однажды Пушкин сказал, что в России тогда наступит свобода, когда издадут без купюр Баркова. И вот он издан полностью, без купюр, да еще и в серии «Библиотека поэта».
«Лежит на мне Ерила / Я тело оголила / и ноги подняла / ярить себя дала…» Далее следует смешная разгадка. Оказывается, Ерила – это ничто иное, как банный веник. Большинство текстов невозможно цитировать без купюр, а с купюрами получается как-то куце. Читая полного, некастрированного Баркова, лишний раз убеждаешься, что русская поэзия без табуированной лексики просто немыслима. Ну, какими словами можно заменить имена барковских героев Долгомуда или Хуелюбы? Иногда запретная лексика искусно упрятана в анаграмме: «Крепи здаровье дарагая / Лихую долю проклинай» (орфография автора).
Он поставил себе цель нарушить все мыслимые и немыслимые запреты и блестяще с этой задачей справился. Разумеется, когда читаешь все это подряд, становится однообразно и утомительно. Иногда Баркову явно изменял вкус. Слог его частенько коряв и трудно понимаем, как почти вся поэзия 18-го столетия. Подлинная свобода появится в «Луке Мудищеве», которая молва упорно приписывает Баркову, хотя до нас это великолепное творение дошло в пушкинской стилистике.
Барков пытался создавать и настоящие оды. Одну императору Петру Федоровичу, другую его убийце – графу Григорию Орлову. Оды эти настолько корявы, что их и процитировать невозможно без специального перевода. А переводить замучишься. Хотя главный сборник Баркова назван им «Девичья игрушка», это сугубо мужское творение. В этом его слабость и его сила. Подлинная поэзия должна включать и женский, и мужской взгляд на вещи. В этом смысле поэзия всегда поверх барьеров. Она общечеловечна. Про Баркова этого не скажешь. Жанр, в котором написаны его тексты, французы обозначают словом «либертинаж». Это некий синтез разнузданности и грубости, шокирующей неподготовленного читателя. Так Сорокину удалось шокировать бабушек возле Большого театра. Не меньше их шокировал бы Иван Барков, если бы кому-то пришло в голову совать эту книгу прохожим. Будем надеяться, что этого не произойдет. Баркова с удовольствием будет читать такой же утонченный филолог, каким был сам автор, или, наоборот, неподготовленный любитель соленостей, воспринимающий все буквально.
В этом, если хотите, универсальность Ивана Баркова, крупнейшего русского поэта, чье имя так и не удалось вычеркнуть из русской словесности вместе с запретной лексикой.
– Пушкин на полигоне русской словесности –
(10 февраля годовщина дуэли, обессмертившей Пушкина)
Одно из бесчисленных достоинств его поэзии – иллюзия вседоступности. Вот «Евгений Онегин» – так просто и так легко написан. Почему бы ни переделать в санскритские мантры. И вот уже Дмитрий Александрович Пригов исполняет роман в стихах горловым пением тибетских лам. И получается! Вот что удивительно. Ни одного слова не изменил, а звучит.
Бесчисленные эротические переделки «Онегина» бытовали даже в пуританскую советскую эпоху. А сейчас ими кишит Интернет. «Прими собранье сих уев / полусмешных, полупечальных, / простонародных, идеальных. / Поставь их в вазу на столе. / Пусть распускаются в тепле». Тепло пушкинской поэзии отогрело даже русскую зиму. Белла Ахмадулина видит в окне переделкинский зимний пейзаж и пишет: «Стало Пушкина больше вокруг».
Он действительно как-то таинственно связался в нашем подсознании с белым снегом. То ли из-за дуэли Ленского, предвосхитившей дуэль самого Пушкина, тоже зимнюю. То ли из-за фамилии Пушкин, намекающей на белые пуховые сугробы. А, может, виноват сон Татьяны, когда за ней гонится русский медведь, опять же по снегу. Многие современные поэты клянутся в верности Пушкину. Возможно, именно поэтому русская поэзия осталась верна правилам стихосложения XIX века в отличие от Европы, давно ушедшей в верлибр, белый и свободный стих.
Блок написал поэму «Возмездие», воспроизводя размер и стилистику «Онегина». Но равного по силе воздействия не получилось. Из кремневого дуэльного пистолета, конечно, и сегодня можно кого-нибудь подстрелить, но в зоне реальных боевых действий такое оружие вряд ли эффективно.
Парадокс в том, что дуэльный пистолет обладает гигантской убойной силой только в руках самого поэта, убитого из такого же пистолета. Скажу проще: все подражания Пушкину и прямое следование его поэзии обречены на вторичность, несовместимую с поэзией. Вот почему футуристам понадобилось сбрасывать гения с парохода современности, как персидскую княжну в лоно волн. Вот почему Пригов, завывающий «Онегина» в стиле буддийских мантр, выглядит более верным последователем классика, чем прилежные имитаторы, бережно хранящие пушкинские традиции.
Тут неумолимо возникает страшная тема: Пушкин и Бродский. Там Петербург, тут Ленинград. Там сплин «короче, русская хандра», и тут сплошная ритмизованная печаль и скука. Там гонение и тут гонение. Правда, Бродскому удалось вырваться из России, а Пушкин так и погиб невыездным. Но в деревню обоих гениев русская власть сослала. Не исключено, что в Бродском мир на самом деле почувствовал и полюбил непереводимого Пушкина. Ну а как перевести «выпьем, бедная старушка»? Поднимем бокал, нищая старая леди? Какое-то спаивание старух, или гулянка молодого поэта с бомжихой, или еще какая-то несуразь.
Александр Введенский, гениальный обэриут, все свои поэмы стилизовал, как эхо творений Пушкина. Незадолго до гибели во время эвакуации на этапе он начертал последние строки: «Ах, Пушкин, Пушкин!»
Казалось бы, эпоха расстрелов навсегда распрощалась с эпохой Пушкина еще в первой половине прошлого века. Ничего подобного. Пушкин вдруг оказался постмодернистом. Все постмодернисты пишут простым четырехстопным пушкинским ямбом. Тем самым, о котором поэт сказал: «четырехстопный ямб мне надоел». Ну ладно архаист, антифутурист и пушкинианец Ходасевич. Ему сам бог велел. Но ведь и футурист Маяковский, возгласивший: «Хореем и ямбом / писать не нам бы», – не выдержал и «ямбом подсюсюкнул». Вообще-то четырехстопный ямб скопировал с немецкого еще Тредиаковский, но Пушкин превратил этот размер в шедевр, сопоставимый с «Троицей» Рублева и фресками Джотто.
Единственное, с чем невозможно согласиться, это с навязчивым утверждением, что Пушкин – наше все. Все – это ничего. Не надо тащить поэта во все эпохи, утверждая, что у него есть ответы на все вопросы. Пушкин не знал Освенцима и ГУЛАГа, не ведал о Хиросиме, и будущее виделось ему светлым и лучезарным. «Ах, Пушкин, Пушкин!», как сказал расстрелянный Введенский.
Да ведь и Пушкина застрелил профессиональный военный. Пусть не на этапе, а на дуэли. Пусть он сам хотел пристрелить обидчика. А все-таки пристрелили его. Сокрушался поэт, что с умом и талантом «угораздило» его родиться в России. Трижды бежать пытался. Один раз через Псков. Донесли. Второй раз через Кавказ. Думал, что уже в Турции, а казак орет: «Ваше благородие! Со вчерашнего дня эта территория уже наша. Третий раз – просился в Китай. Не пустили. Так что вместо утечки мозгов произошло простреливание кишок и предсмертное восклицание: «Боже, какая тоска!» Без этой тоски ни проза, ни поэзия Пушкина не обходится. Есть она и в «Онегине», и в «Станционном смотрителе», и в «Медном всаднике», а потому через века продолжилась в александрийских размерах Иосифа Бродского.
На полигоне российской словесности, где пристрелили Пушкина и Лермонтова и расстреляли Введенского, вскоре полегли миллионы. Страны, убивающие своих поэтов, обречены на гибель.
– Бойтесь пушкинистов –
Главным жизнеописание Пушкина давно уже стала книга Вересаева «Пушкин в жизни». Он первым нашел гениальное решение, как отделить правду от вымысла. Сведения непроверенные пометил одной звездочкой, сведения сомнительные – двумя. А явную фантастику, как коньяк, тремя звездами.
Среди явной фантастики слухи о том, что Николай I умирал с медальоном на шее, где якобы было изображение Натали. В тот же раздел попали слухи о существовании такого медальона во дворце императора.
Народная молва еще при жизни поэта намертво связала его семью с императорской фамилией. Возникли и до сих пор муссируются слухи о тайной связи с Пушкиным самой императрицы. Серьезные исследователи никогда не опровергали и не комментировали такие гипотезы.
В советское время стало модно каждый интимный поцелуй Пушкина рассматривать, как вызов самодержавию. Школьные да и вузовские учебники были полны туманными намеками на политический смысл роковой дуэли. Мол, царь специально подговорил усыновленного голландским послом Дантеса ухлестывать за женой Пушкина, дабы окончательно погубить поэта.
На самом деле император личным вмешательством предотвратил первую дуэль Пушкина с Дантесом и фактически вынудил его жениться на сестре Натали Екатерине, чтобы развеять все подозрения. Дантес на это пошел. И мало того, брак оказался вполне счастливым, настоящим, на всю оставшуюся жизнь.
Никто не знает, удалось ли Дантесу добиться интимной благосклонности Натали. Вересаев пометил звездочками все слухи о тайном свидании на квартире Полетики. Несомненно лишь одно: по свидетельству Жуковского, Карамзина и многих близких к Пушкину людей его жена действительно была влюблена в Дантеса. А Дантес действительно за ней ухаживал.
Еще работая над кандидатской диссертацией о Пушкине, я заметил удивительную симметрию слухов. Дантесу молва приписывала связь с двумя сестрами. А Пушкину молва сосватала другую сестру Натали – Александру. Якобы даже в постели поэта был найден ее золотой крестик. Разумеется, и эти «сведения» Вересаев пометил звездочками.
Поразительно, но о дуэли Пушкина написано на порядок больше, чем о его поэзии. Люди, которые не в состоянии процитировать и двух строк поэта, «знают» во всех подробностях его альковные тайны. Да так, словно рядышком со свечой, пардон, с канделябром стояли. В любом случае принято было клеймить Наталью Николавну за недостойное поведение. Не справилась молва с номенклатурной должностью жены классика, не оправдала народного доверия.
Однажды Борис Пастернак слушал, слушал гневные филиппики в адрес Гончаровой, а потом не выдержал и сказал: «Все правильно! Надо было Пушкину жениться на пушкинисте. Тот уж точно не изменил бы поэту, и не было бы роковой дуэли».
С тех пор в пушкинстике стало дурным тоном лезть в спальню классика. Теперь этим неблагодарным делом занялись дилетанты и любители. Каждый из них, захлебываясь от счастья, на свой лад перечитывал книгу Вересаева и срочно спешил поделиться своими «открытиями» со всеми, кто еще эту книгу не прочитал. Долгие годы «Пушкин в жизни» был неиздаваемым и полузапрещенным. Книгу и сейчас прочли далеко не все. А кто прочел, тот не очень-то обращал внимание на пресловутые звездочки осторожного и добросовестного писателя. Знал бы он, сколько мифов породит его документально-фантастический труд.
Мифологизация Пушкина началась с печально известного некролога: «Закатилось солнце русской поэзии…» Был Людовик Солнце, был Владимир – Красно Солнышко, и вот эстафетная палочка солярного мифологического героя перешла к Александру Сергеевичу.
Как это делалось, блистательно показал Гоголь в «Ревизоре»: с Пушкиным на дружеской ноге и легкость в мыслях необыкновенная. Именно такова методика создания новых и новых мифов вокруг поэта. Абсурдность ситуации лучше всех уловил Хармс в своих анекдотах из жизни Пушкина. Но Хармса расстреляли, а его пушкиниану запретили. Теперь главным мифотворцем стал Сталин. Он лично следил за академическими издания, выходящими к 100-летию со дня смерти поэта. Приказал выкинуть все комментарии и примечания пушкинистов и поистине удивил мир академическим изданием без научного аппарата.
Все «комментарии» были отданы советскому агитпропу. Мой научный руководитель, профессор Валерий Яковлевич Кирпотин по личному приказу Сталина за одну ночь написал книгу «Пушкин и коммунизм», после которой великого поэта можно было смело принимать в партию большевиков. Все дальнейшие монографии и труды о Пушкине советской эпохи лепились по образцу этой книги. Валерий Яковлевич был умен и талантлив. Позднее он пострадал за труды о крайне нежелательном Достоевском. И это несмотря на, что и Достоевский у Кирпотина вполне тянул на кандидаты в члены все той же партии.
После 91-го года из Пушкина стали лепить православного монархиста. О поэте, называвшим себя «афеем» (атеистом), авторе «Гавриилиады», «Тени Баркова» и «Сказки о царе Никите» стали говорить с придыханием, как о монахе-отшельнике. На самом деле в зрелые годы Пушкин отказался от прямого атеизма. Фразу «разумом я атеист, но сердце противится» он переиначил: «Сердцем я атеист, но разум противится». Поэт назвал Новый Завет великой книгой, которую человечество будет читать и перечитывать до конца истории. Но только закоренелый лжец может назвать поэта воцерковленным только потому, что он, уступая просьбам жены, перед смертью причастился.
Умирая, Пушкин просил Жуковского передать Николаю I, что «если бы был жив, был бы весь его». Эти предсмертные слова поэта, конечно, полностью исключают возможность серьезного соперничества из-за Натали между императором и поэтом. Заподозрить религиозного, глубоко верующего Жуковского во лжи было бы глумлением и кощунством над памятью двух поэтов, чья поэзия составляет славу России.
Свой Пушкин есть у Ахматовой, у Цветаевой, у Блока. Но, пожалуй, именно Блок нашел самые верные слова. В своей пушкинской речи он сказал: «Наша память хранит с малолетства веселое имя: Пушкин… Мы знаем Пушкина – человека, Пушкина – друга монархии, Пушкина – друга декабристов. Все это бледнеет перед одним: Пушкин – поэт».
«Бойтесь пушкинистов. Старомозгий плюшкин, / перышко держа, полезет с перержавленным», – писал когда-то Маяковский. Сегодня это предостережение стало еще актуальней.
ТАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА (Пушкин постмодернист)
Каждый год 6 июня мы пытаемся осознать: кто для нас Пушкин?
Однажды я спросил у первого советского пушкиниста В.Я.Кирпотина, автора книги «Наследие Пушкина и коммунизм», написанной за одну ночь по личному заданию Сталина: «Почему Пушкин был масоном?» Валерий Яковлевич, человек умный, ответил уклончиво: «Я подумаю». Но дожив до 90 лет, профессор Кирпотин так и не нашел ответа на этот вопрос.
Ну добро бы по молодости вступил, а потом, в зрелые годы бросил. Так ведь нет. До конца дней с гордостью носил масонский перстень с черепом и бережно отращиваемый длинный масонский ноготь.
Однажды поэт с гордостью сказал: «Я член Кишиневской ложи. Той самой, из-за которой запретили все масонские ложи». Но ведь появлялся же в свете и с масонским ногтем, и с масонским перстнем. И уже не перед либеральным мечтателем и мистиком Александром I, а перед воинственным и жестким Николаем I, повесившим его друзей и собратьев по той самой Кишиневской ложе.
Что это – отчаянная смелость, поэтическое безрассудство? Ответ прост: это Пушкин. Поэт, который не мыслил себя без противостояния любым запретам. Абсолютно невозможно представить себе Пушкина послушным исполнителем чьей-то воли. Будь то воля мастера высшего градуса или воля императора, запрещающего масонство. Николай I, не терпящий никакой оппозиции и особенно нарушение формы, преспокойно сглотнул показное пушкинское масонство. Сегодня и перстень с адамовой головой, и длинный ноготь в специальном футляре воспринимаются как блестящий постмодернистский перформанс.
Как правильно заметил Блок, мы знаем разного Пушкина. Пушкин революционер и республиканец, Пушкин монархист и крепостник… Добавим к этому еще одну ипостась – Пушкин постмодернист. Он обладал удивительной способностью все свои должности и звания превращать в игру. «Саранча летела-летела. Села, все съела. И опять улетела». Это его отчет о деятельности по борьбе с саранчой. Была еще и должность историографа с солидным окладом, увенчавшаяся «Историей пугачевского бунта». Тут даже Марина Цветаева пришла в тупик. Историк Пушкин правдиво показал пугачевские зверства: содрали с помещика кожу и смазали ружья человеческим салом. И вдруг добрейший Пугачев в «Капитанской дочке». Это вполне в духе постмодернизма. Две взаимоисключающих версии одного и того же исторического события. Деконструкция. Пугачев, смазывающий ружья человеческим салом, и он же, по-отечески жалующий Гринева, в равной мере ирреальны. Постмодернисты называют это словом симулякр. Никакого всамделишного Пугачева нет, как нет настоящего Петра. Один под пером Пушкина борется с варварством варварскими методами и кнутом насаждает цивилизацию. Другой полубог на коне в «Полтаве». Оба симулякры.
Если взглянуть таким образом, то понятнее становится отношение поэта к религии. «Сердцем я афей, но разум противится». Симулякр «афей» пишет «Гавриилиаду», а симулякр уверовавший пишет «Пророка». Все на своих местах. Пушкина нельзя втиснуть в идеологию, он в последнюю минуту, по меткому выражению Андрея Синявского, всегда ускользнет и поминай как звали. «Свободы сеятель пустынный» – это самое меткое определение, какое он мог себе дать. Суть его легкого четырехстопного ямба – все та же эстетическая свобода. «И вот уже трещат морозы / и серебрятся меж полей. / Читатель ждет уж рифмы «розы», /На вот, возьми ее скорей». Эти розы на снегу, совмещение несовместимого и неожиданное обновление банальности – типичный постмодернизм
Даже роковая дуэль с Дантесом вписывается в поэтику бесчисленных пушкинских дуэлей, которые были до этого всего лишь перформансами и, слава Богу, заканчивались либо примирением, либо ничем. И вдруг постмодернистская игра переросла в роковую реальность, предсказанную еще в дуэли Онегина с Ленским. И там, и там на снегу сраженный пулей поэт. Конечно, для самого поэта последняя дуэль уже не была игрой. Другое дело, что общество вписало ее в жизнь Пушкина как некое завершающее трагическое действо. О дуэли Пушкина написано не меньше, чем о его творчестве. Она разыгрывается на сотни ладов в бесчисленных исследованиях, где в духе чистого постмодерна проигрывается множество версий. Это и дуэль с Николаем из-за Натали, это и месть обманутого мужа за мнимую или подлинную измену. Это и разновидность самоубийства, когда сугубо штатский поэт стреляется с кадровым военным, идя на верную гибель. Сплошные деконструкции.
Теперь все о той же таинственной, зашифрованной поэтом последней главе романа «Евгений Онегин». Каверин целый роман этому посвятил. А количество «прочтений» давно перевалило за сотню. На самом же деле Пушкин оставил гениальный постмодернистский текст, который можно расшифровывать вечно.
Нет ответа на вопрос, кто написал «Тень Баркова». По всем признакам это Пушкин, сказавший, что свобода в России настанет лишь тогда, когда напечатают «Луку Мудищева» без купюр. Считается, что это поэма Баркова. Но тяжеловесный стиль поэта XVIII века нисколечко не похож на стилистику легкой и озорной поэмы. Скорее всего мы знаем «Луку» в изящной переработке Пушкина.
У всякого, кто внимательно читал дневники, письма и высказывания Пушкина, создается ощущение двух Пушкиных. Один напоказ, другой тоже напоказ. А был ли третий – для самого себя? Это большой вопрос. Один пишет для Анны Керн – напоказ – «я помню чудное мгновенье». Второй, опять же напоказ, для друзей, что сегодня наконец-то я эту б… А третьего, скорее всего, не дано. Две постмодернистские взаимоисключающие версии одного и того же интимного события, превращенного в поэтическое действо с постмодернистским авторским комментарием.
Кого бы ни играл Пушкин – революционера, масона, республиканца, монархиста, Дон Жуана, ревнивого мужа, государственно мудреца, историка и царедворца, атеиста или глубоко верующего – во всех ролях это был он. Разыграв десятки дуэлей, которые кончились примирением, Пушкин, может быть, даже неожиданно для себя стал участником настоящей дуэли, о которой можно сказать словами Гейне: «О боже! Я, раненый насмерть, играл, / гладьятора смерть представляя!»
Называют две даты рождения Пушкина в мае и в июне. Указывают два места, где он мог родиться. Не всякому постмодернисту такое везение. Все деконструкция, все симулякр. Только одно несомненно – родился гений. Хотя постмодернисты гениальность не признают. Но это уж их проблемы.
«Известия», 06 июня 2007 г.
ПОКАЯНИЕ ПУШКИНА
«Известия» № 34, 10 февраля 1992 г.
10 февраля – черная дата в русской истории. Нелепая гибель Пушкина в результате дуэли у Черной речки открыла длинный мартиролог погибших русских поэтов. Дуэль Лермонтова, самоубийство, а. может быть, и убийство Маяковского, гибель в петле Есенина и Марины Цветаевой, гибель в концлагере Осипа Мандельштама, противоестественная ранняя смерть в 37 лет Леонида Губанова, истерзанного брежневскими психушками… Нет, не все в порядке в датском королевстве. Есть над чем задуматься. Что это за страна, где с такой легкостью вот уже 200 убивают лучших поэтов!
Впрочем, смерть Пушкина нельзя считать убийством. Это была честная дуэль. Соперничество из-за любимой женщины. Все, что наплели вокруг этого из политических соображений пушкинисты-пропагандисты, не заслуживает серьезной критики. Двор сделал все возможное, чтобы дуэль не состоялось, но император, запретивший дуэли юридически, не мог отменить законы дворянской чести.
Пушкин погиб на дуэли, защищая свою честь, и это славная смерть, бесславными остаются низменные интриги, подметные письма, подслушивания и подглядывания за личной жизнью поэта тех, кого поэт по достоинству назвал «светской чернью».
Нет никакого сомнения, что, кроме дуэли между Пушкиным и Дантесом, был другой, куда более захватывающий рыцарский поединок между императором и потом, между властью и интеллектуальной элитой страны.
Шеф жандармерии Бенкендорф, конечно же, не Берия, не Андропов, но он целиком и полностью разделял традиционную точку зрения российских властителей на русскую интеллигенцию как на источник смут, опасных для государства. В его глазах Пушкин даже мертвый был прежде всего «руководителем либеральной партии». Этот более чем странный взгляд на поэта, к сожалению, исходил от самого Николая I. Боясь волнений, власти приказали ночью тайно увезти его тело из Петербурга. Вороватые похороны под надзором тайной полиции навсегда останутся величайшим позором России. Вся эта недостойная возня вокруг катафалка породила миф о прямом участии Николая I в интриге вокруг дуэли. Договорились до того, что Дантес лишь выполнял задание императора. Вызывая Пушкина на дуэль.
Неприязнь властей к Пушкину была очевидна. Чего стоит фраза императора, произнесенная после смерти поэта, дескать, Жуковский хочет, чтобы с Пушкиным поступили, как с Карамзиным, но Карамзин был святой, а образ жизни Пушкина нам известен.
Очень странная фраза в устах властителя, который при многих своих достоинствах отнюдь не отличался избыточным целомудрием. Умирая, Николай I сказал: «прощаю всех, даже австрийского императора». Интересно, простил ли он Пушкина?
Не прощенный властями Пушкин перед смертью простил Николаю все. «Передай государю, жаль, что умираю, а то весь был бы его», – сказал он Жуковскому. Это были абсолютно искренние слова. Пушкин простил императору личную цензуру, негласный надзор, совет переделать драму «Борис Годунов» в роман в стиле Вальтера Скотта, запрет на выезд из столицы без специального разрешения, простил бы и тайные ночные похороны. Пушкин был благодарен императору за освобождение из Михайловской ссылки, за личное покровительство и сватовство к Наталье, за крупную денежную сумму фактически прощеного долга, которая хотя и не помогла поэту выпутаться из финансовых затруднений, но все же даровала ему несколько лет для творчества, не обремененного борьбой за существование.
Недоразумение со званием камер-юнкера, поначалу обидевшее поэта, все же следует приписать его поэтической вспыльчивости и ранимости. Титул камер-юнкера был у Жуковского и у Тютчева – это обеспечивало при дворе достаточно почетное место. Другое дело, что Пушкин знал себе цену, император же этой цены не знал.
Извечное и неистребимое недоверие власти к интеллигенции, твердая убежденность, что поэта надо учить и воспитывать, были унаследованы от власти императорской большевистской партократией. Да и довольно высокие чины власти нынешней не гнушаются длинными сентенциями и нравоучениями в адрес, по их мнению, недостаточно патриотичной интеллигенции.
Поэт умер, примирившись с властью, но власти так и не примирились с поэтом.
За недолгие 37 лет Пушкин прошел очень сложный путь жизни. От вульгарного атеизма к глубокой и мудрой вере, от призыва к убийству всей царской семьи до убежденности в необходимости для России конституционной монархии. «Не дай Бог увидеть нам русский бунт, бессмысленный и беспощадный» – эти слова Пушкина я бы золотыми буквами начертал на всех площадях вместо благополучно почившего подстрекательского призыва к мировому пожару «Пролетарии всех стран – соединяйтесь».
Пушкин называл себя космополитом – гражданином мира, не ведая, что в грядущем ХХ веке это слово превратят в ругательство новоиспеченные русопяты, облепившие его имя.
Пушкин был масоном. Он гордился своей принадлежностью к Кишиневской масонской ложе. Масонство помогло Пушкину перейти от детского атеизма к христианству. Он по-новому прочитал Евангелие и понял, что это величайшая книга, которую человечество будет читать и перечитывать на протяжении всей истории. Масонство Пушкина всячески замалчивалось и до октябрьского переворота, и после него. Упоминались лишь масонский ноготь, масонский перстень да масонская тетрадь. Как будто Пушкин – малый ребенок, а масонская ложа – всего лишь карнавал.
На самом деле масонское движение было формой обретения веры после временного разрыва мыслящих людей с церковью. Стремление создать религию чистого разума. Моцарт, Гете, Пушкин были не просто членами масонских лож, но и пламенными проповедниками братства людей. Насколько серьезно это было для Пушкина, видно в его поэтическом завещании, где снова провозглашаются масонские идеалы: «милость к падшим», «пробуждение добрых чувств», «свобода».
Не случайно финал пушкинского стиха так перекликается с финалом 9-й симфонии Бетховена, где снова и снова вспоминаются миллионы наших страждущих братьев.
Я понимаю, что сегодня призыв Пушкина к всемирному братству людей может показаться наивным.
Лев Толстой, а за ним и Вересаев не раз упрекали Пушкина за то, что в личной жизни своей он не следовал идеалам, которые проповедовал своей поэзии, и погиб на дуэли, не отказавшись от последнего выстрела в своего врага.
Возразить здесь очень легко. Поэзия Пушкина самая разная. Там есть и жажда денег, и убийство, и ревность, и свобода, и рабство, и подвиг, и преступление.
Медвежью услугу оказали поэту те, кто пытался сделать из него святого. «Напрасно я бегу к сионским высотам, / Грех алчный гонится за мною по пятам…» – какие замечательные слова! Раньше не принято об этом вспоминать покаянные стихи Пушкина. Его религиозность раздражала и революционных демократов, и либералов, что уж говорить о большевиках. Поэтому не в угоду моде, а просто как более приличествующие скорбной дате хочется вспомнить стихи Пушкина последних лет – его завещание, когда каждый стих звучал как молитва: «Веленью Божию, о муза, будь послушна». В то же время поэт провозгласил свою декларацию прав человека. И здесь он опережал не только 19-е, но, пожалуй, и 20-е столетие.
Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова,
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать налоги,
Или мешать царям друг с другом воевать;
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.
Не спешите с проклятием и возмущением на самом деле Пушкин очень даже высоко ценил свободу и доказал это всей своей жизнью. Однако он, пожалуй, первый в России понял, что личность выше общества, народа и государства.
Иные, лучшие мне дороги права;
Иная, лучшая потребна мне свобода:
Зависеть от властей, зависеть от народа –
Не все ли мне равно? Бог с ними. Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни шеи;
Вот счастье! Вот права…
Замечательно, что стихи эти написаны в тот же год, что и хрестоматийный «Памятник». Ведь рядом эти тексты читаются совсем по-другому.
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.
Пришел век еще более жестокий, когда «милость к падшим» стала государственным преступлением, а свобода – «осознанной необходимостью». Из Пушкина стала лепить какое-то государственное страшилище. Вот почему книга Андрея Синявского «прогулки с Пушкиным», написанная в брежневской тюрьме, вызвала такую лютую ярость. На обложке Пушкин с тросточкой, а рядом его собеседник – автор книги в зэковской фуфайке, и это передает веселый и свободный дух книги.
74 года назад Александр Блок незадолго до своей кончины написал речь, посвященную дате гибели Пушкина. То была 84-я годовщина, но по-прежнему не устарели слова Александра Блока: «Наша память хранит с малолетства веселое имя: Пушкин. Это имя, этот звук наполняют собою многие дни нашей жизни. Сумрачные имена императоров, полководцев, изобретателей орудий убийства, мучителей и мучеников жизни. И рядом с ними – это легкое имя: Пушкин».
Каждому времени созвучны свои поэтические ритмы, и почему-то сегодня из всех стихов Пушкина ближе всего те, где звучит интонация покаяния.
Владыко дней моих! Дух праздности унылой
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не даждь душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпенья и любви,
И целомудрия мне в сердце оживи.
Долгие годы мы учились у Пушкина свободе. Пришло время научиться у него покаянию.
«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(«В мире Пушкина». Сборник статей. М., Сов. писатель, 1974)
Роман «Евгений Онегин», как и все выдающиеся произведения мировой литературы, по-своему решает извечные проблемы человеческого бытия. В нем пушкинская эпоха вступала в открытый диалог с эпохами Гомера, Шекспира, Гёте.
Этот диалог почти не расслышали современники Пушкина, и для нас он звучит еще довольно невнятно.
Справедливо пишет Д. Благой: «О сознании поэтом грандиозности этого художественного задания, масштабах его свидетельствуют неоднократно возникавшие в нем в процессе работы над «Онегиным» и в высшей степени характерные аналогии с такими величайшими творениями художественного слова, как «Илиада» Гомера. «Божественная комедия» Данте, «Фауст» Гёте».
Именно с Гомера начнем мы свой разговор о Евгении Онегине как мировом образе.
Еще Кюхельбекер сопоставил роман Пушкина с «Илиадой»:
«Возможна ли поэма эпическая, которая бы наши нравы, наши обычаи, наш образ жизни так передала потомству, как передал нам Гомер нравы, обычаи, образ жизни троян и греков?»… «..Беппо и «Дон Жуан» Байрона и «Онегин» Пушкина – попытки в этом роде, но (надеюсь, всякий согласится) попытки очень и очень слабые, особенно если сравнить их с «Илиадою» и «Одиссеею», и не потому, что самые предметы Байрона и Пушкина малы и скудны (хотя и это дело не последнее), а главное, что они смотрят на европейский мир как сатирики, как судьи, как поэты-описатели: личность их беспрестанно разочаровывает, – мы не можем обжиться с их героями, не можем забыться».
Чувствуя связь между «Евгением Онегиным» и эпопеей Гомера, Кюхельбекер увидел прежде всего различие творческих методов Гомера и Пушкина.
У Пушкина есть «личность», есть «сатира», предметы его изображения «малы и скудны» – следовательно при всей своей значительности и грандиозности «Евгении Онегин» не может считаться современной эпопеей, хотя и является «попыткой в этом роде».
С таким пониманием эпопеи В. Г. Белинский полемизирует уже в первой статье своей работы «Сочинения Александра Пушкина» Белинский не мог видеть приведенное здесь высказывание из дневника Кюхельбекера, но его замечание об эпопее содержит прямой ответ на критику, высказанную Кюхельбекером:
«Греческий эпос «Илиаду»... приняли они (классицисты – К К.) за эпос всеобщий и думали, что до окончания мира все эпические поэмы должны писаться по их образцу, без малейшего отступления, даже начинаться не иначе, как «муза, воспой» или «пою».
Эти строки из статьи Белинского прямо перекликаются с ироническим текстом из «Евгения Онегина»:
«Пою приятеля младого
И множество его причуд.
Благослови мой долгий труд,
О ты, эпическая муза!
И, верный посох мне вручив,
Не дай блуждать мне вкось и вкрив...
Я классицизму отдал честь:
Хоть поздно, а вступленье есть».
Что же касается утверждения Кюхельбекера о «скудности» предметов изображения в «Евгении Онегине», то и на этот упрек лучше всего ответил Белинский:
«Эпическая поэзия, по понятию псевдоклассиков, должна была «воспевать» какое-нибудь великое событие в жизни человечества или в жизни народа,— и в какую бы эпоху, у какого бы народа ни произошло это событие, оно должно быть наряжено в багряницу или тогу...»
Это высказывание также созвучно ироническому обращению Пушкина к Гомеру в «Евгении Онегине»:
«Твои свирепые герои,
Твои неправильные бои,
Твоя Киприда,твой Зевес
Большой имеют перевес
Перед Онегиным холодным,
Пред сонной скукою полей,
Перед Истоминой моей,
Пред нашим воспитаньем модным;
Но Таня (присягну) милей
Елены пакостной твоей.
Никто и спорить тут не станет,
Хоть за Елену Менелай
Сто лет еще не перестанет
Казнить Фригийский бедный край,
Хоть вкруг почтенного Приама
Собранье стариков Пергама,
Ее завидя, вновь решит:
Прав Менелай и прав Парид.
Что ж до сражений, то немного
Я попрошу вас подождать:
Извольте далее читать;
Начала не судите строго;
Сраженье будет...»
Сражение, о котором пишет Пушкин, – будущая дуэль Онегина с Ленским. Ирония же заключается в том, что высокий план героической эпопеи сопоставлен с бытовым, современным, «низким». Все эти стихи входили в пятую главу романа, опубликованную в 1828 году.
Однако пять лет спустя, в первом полном печатном варианте романа, сопоставления дуэли Онегина и Ленского с героическими сражениями в «Илиаде», а также сравнение Татьяны с Еленой были Пушкиным устранены.
Вероятно, непосредственным поводом к пересмотру всего отрывка в целом послужила полемика, развернутая Раичем в 1830 году вокруг отзыва Пушкина на перевод «Илиады», сделанным Гнедичем в конце 1829 года. Пушкин считал это событие выдающимся, должным повлиять на судьбу «всей нашей литературы». Его маленькая рецензия вызвала бурные споры. Суть возражений критики сводилась к тому, что Пушкин непомерно завысил роль, которую «Илиада» может сыграть в современной жизни,
Полемика не прошла бесследно. Она вызвала глубокие раздумья над ролью гомеровского эпоса. Результатом этого и могло оказаться решение поэта устранить места, дающие хотя
бы косвенный повод к иронии над Гомером.
«Остались лишь несколько строк:
И кстати я замечу в скобках,
Что речь веду в моих строфах
Я столь же часто о пирах,
О разных кушаньях и пробках,
Как ты, божественный Омир,
Ты тридцати веков кумир!»
Образ «суетного пира» XIX столетия на фоне величавого гомеровского эпоса появляется в стихотворении Пушкина, посвященном Гнедичу:
«С Гомером долго ты беседовал один,
Тебя мы долго ожидали.
И светел ты сошел с таинственных вершин
И вынес нам свои скрижали.
И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром,
В безумстве суетного пира,
Поющих буйну песнь и скачущих кругом
От нас созданного кумира.
Смутились мы, твоих чуждаяся лучей.
В порыве гнева и печали
Ты проклял ли, пророк, бессмысленных детей,
Разбил ли ты свои скрижали?
О, ты не проклял нас. Ты любишь с высоты
Скрываться в тень долины малой.
Ты любишь гром небес, но также внемлешь ты
Жужжанью пчел над розой алой».
Стихотворение это примечательно в данном случае еще и тем, что дает возможность увидеть истинное отношение Пушкина к Гомеру, подчас заслоненное ироническими выпадами поэта против классицизма. Мир Гомера своей приподнятостью и цельностью противостоит «безумству суетного пира» XIX века.
В стихотворении «Труд», посвященном окончанию работы над «Евгением Онегиным» в Болдине, 25 сентября 1830 года, Пушкин не случайно обратился к гекзаметру:
«Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолетний.
Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня?
Или, свой подвиг свершив, я стою, как поденщик ненужный,
Плату принявший свою, чуждый работе другой?
Иль жаль мне труда, молчаливого спутника ночи,
Друга Авроры златой, друга пенатов святых?»
Настроение поэта здесь сходно с тем, которое он приписывает Гнедичу после окончания перевода «Илиады».
Цельность и чистота мировосприятия гомеровских героев в чем-то перекликаются с цельностью и чистотой образа Татьяны Лариной, с которым Пушкину так трудно было расставаться в последних строках романа.
Время от времени в тексте романа прослеживаются тонкие и ненавязчивые сопоставления Татьяны Лариной с античными богами природы.
Эпиграфом к третьей главе романа взяты слова французского поэта Мальфилатра: «Она была девушка, она была влюблена» — из поэмы «Нарцисс на острове Венеры». Если
учесть, что в главе речь идет о двух посещениях Онегиным имения Лариных, становится ясным ироническое сопоставление его в данной ситуации с Нарциссом, а Татьяны с нимфой Эхо, влюбленной в Нарцисса.
Поскольку Пушкин всегда придавал большое значение эпиграфам, а в данном случае эпиграф взят из книги Мальфилатра, разрезанной Пушкиным от начала до конца, мы вправе видеть здесь вполне глубокое соотнесение любовного сюжета «Онегина» с античным сюжетом, заимствованным Мальфилатром у Овидия.
Еще один образ стоит в ряду античных ассоциации, связывающих Татьяну с природой, хотя сопоставление здесь, может быть, не так явно, как в третьей главе. Луна, везде и всюду сопровождающая Татьяну на страницах романа, названа именем Дианы, вечно юной, вечно девственной богини-охотницы. Созвучны также имена Диана — Татьяна.
И все-таки эти сопоставления не привлекли бы нашего внимания, если бы за ними не открывалась гораздо более глубокая, подлинная связь «Евгения Онегина» с античностью, связь, которой проникнуты образы природы в романе.
Календарь природы в «Евгении Онегине» всегда перед глазами читателя. Ритм эпического времени романа соответствует плавному шествию времен года. Это происходит пластически зримо – в пейзажах, насыщенных объективным деиствием.
Образ времен года возник еще в эпопее Гомера, когда в «Илиаде» среди сражений Троянской войны Гомер запечатлел на щите Ахилла вселенную, где плавное шествие светил по замкнутому кругу чередуется с ритмом сельских работ:
«Сделал на нем и широкое поле, и тучную пашню,
Рыхлый, три раза распаханный пар; на нем землепашцы
Гонят яремных волов, и назад, и вперед обращаясь...
Далее выделал поле с высокими нивами...
Там же и стадо представил волов, воздымающих роги...
Два густогривые льва на передних волов нападают,
Тяжко мычащего ловят быка; и ужасно ревет он,
Львами влекомый; и .псы на защиту и юноши мчатся..»
Сюжет времен года пришел в европейскую поэзию в 1726-1730 годах в поэзии Томаса Грея, и рассматривался как подражание «Георгикам» Вергилия. К Вергилию этот сюжет пришел от Гесиода, так же как к Гесиоду он пришел от Гомера, а к Гомеру – от незапамятных мифов.
В 1822 году ДРУГ Пушкина Кюхельбекер поместил в журнале «Благонамеренный» подробный разбор «Херсониады» Семена Боброва, где множество сцен и картин заимствованы из времен года Томпсона. Дядя Пушкина, Василий Львович Пушкин, напечатал в начале Х1Х века отрывок из «Осени» Томсона в вольном переводе:
«Кто в мире счастия прямого цену знает
И сельской жизни все приятности вкушает
В кругу своих друзей, от шума удален
Тот истинно в душе покоен и блажен...»
У Пушкина образ природы создан эпическими красками. В этом отношении пейзажи Пушкина восстанавливают гомеровский, или, как говорил А.Ф. Кони, «языческий» взгляд на природу.
Главное здесь не в том, что сюжет времен года идет от Гомера. Удивительно то, что в создании образа природы в романе Пушкин, вопреки существующей литературной традиции, оказался ближе к Гомеру. Впервые это заметил И.С.Тургенев: «Вспомните описания Пушкина… Древние греки так же просто взирали на природу… отношения этого по духу своему, действительно древнего поэта к природе так же просты, естественны, как у древних».
Новизна античного сюжета времен года в романе Пушкина заключалась в том, что впервые совместились два разрозненных принципа изображения природы – эпический и лирический.
Лессинг в «Лаокооне» открыл эпическую «живопись действием», которая создается путем мысленного перемещения тел в пространстве.
Гердер дополнил эту классификацию понятием о «живописи чувством», где на первом плане – незримое движение чувств. У Пушкина можно найти оба типа живописи.
«Вот бегает дворовый мальчик,
В салазки жучку посадив,
Себя в коня преобразив...»
Эти строки можно отнести к эпической живописи действием.
Вот другой пейзаж, в нем преобладает лирическая, гердеровская живопись чувством:
«Унылая пора! очей очарованье,
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса... «
Чаще же всего оба вида живописи выступают в единстве:
«Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась...»
В этом пейзаже зримые, телесные, «протяженные» образы изобразительности:
«Встает заря во мгле холодной;
На нивах шум работ умолк;
С своей волчихою голодной
Выходит на дорогу волк...»
Образы телесно зримы, как в гомеровском пейзаже, преобладает живопись объективным действием («встает заря», «выходит на дорогу волк»). Именно это действие воссоздает поток эпического времени в романе. Сочетание эпической и лирической живописи порождает тот взгляд на природу, который мы называем реалистическим. Понятие природы включает здесь в себя природу человеческих чувств и отношений, не растворяя их в чисто субъективном переживании.
Такой параллелизм в зачатке существовал еще в древности, когда психические процессы уподоблялись движению ветра, огня, воды. Так, в «Илиаде» Гомера душевное состояние героев перед битвой, их бесстрашие полностью выражено в пластических образах природы:
«Ревностно в бой возбуждали ахейских сынов; но ахейцы
Сами ни силы троян не страшились, ни криков их грозных;
Ждали, недвижные, тучам подобные, кои Кронид
В тихий безветренный день, на высокие горы надвинув,
Черные ставит незыбно, когда и Борей и другие
Дремлют могучие ветры, которые мрачные тучи
Шумными уст их дыханьями вкруг рассыпают по небу;
Так ожидали данаи троян, неподвижно, бесстрашно».
Как отметил А. Ф. Лосев, внутренний мир человека в «Илиаде» не столько сравнивается с природой, сколько уподобляется ей, порой до полного тождества. В эпосе Гомера
преобладает живопись действием. Вместо движения чувств перед нами перемещение в пространстве пластических телесных образов (тучи, горы).
У Пушкина параллелизм человека и природы, конечно, основан не на буквальном уподоблении человеческих чувств природным процессам, а на равноправном сравнении стихии природы и стихии человеческих чувств. При таком понимании природы граница между ней и человеком всегда подвижна. Природа раскрывается через человека, а человек — через природу.
Весна — это еще и любовь, любовь — это еще и весна:
«Пора пришла, она влюбилась.
Так в землю падшее зерно
Весны огнем оживлено».
Это сравнение еще умещается в русле традиционных романтических сопоставлений с природой, когда на первом месте человеческие чувства, а сама природа здесь присутствует как повод для сравнения. Мы не можем видеть, как «зерно весны огнем оживлено», а если и увидим, это уведет нас от конкретного лирического образа.
Для Пушкина такое растворение реальной природы во внутреннем мире человека не характерно. В его сравнениях природа не теряет своей пластичности и зримости. В этом его коренное отличие от романтиков. Здесь возрождение античной телесности мира на новом уровне.
Весна возникает в конце романа не только как время года, но и как любовь Онегина:
«Дни мчались; в воздухе нагретом
Уж разрешалася зима...
Весна живит его: впервые
Свои покои запертые,
Где зимовал он, как сурок,
Двойные окна, камелек
Он ясным утром оставляет,
Несется вдоль Невы в санях.
На синих, иссеченных льдах
Играет солнце; грязно тает
На улицах разрытый снег...»
Весна не просто условное отражение внутреннего мира, она реально зрима, хотя одновременно она и сравнение. То, что происходит в душе Онегина, подобно тому, что происходит в природе. Гердер не смог бы в этом отрывке найти лирическую живопись чувством. Здесь преобладает живопись действием – играет солнце, тает снег, Онегин несется вдоль Невы в санях. В то же время зримые и осязаемые образы передают незримое движение чувств.
«Евгений Онегин» насыщен пластическими пейзажами. Время в них сгущается, становится пространственным, вещественным, как пейзаж на щите Ахилла.
Щит Ахилла — это античный космос в миниатюре, дающий представление о вечном возвращении и периодической повторяемости событий:
«...И на круге обширном
Множество дивного Бог по замыслам творческим сделал.
Там представил он землю, представил и небо, и море.
Солнце в пути неистомное, полный серебряный месяц,
Все прекрасные звезды, какими венчается небо:
Видны в их сонме Плеяды, Гиады и мощь Ориона,
Арктос, сынами земными еще колесницей зовомыи...»
Круглая форма щита делает зримым вращение Арктоса, Плеяд, Ориона, и они следуют в пространственной двумерности щита один за другим.
В романе «Евгений Онегин» вместо круглого щита существует круговорот времен года, который также включает в себя движение светил по небосводу и ритм обычной человеческой жизни.
Природа с самого начала открытая взору Татьяны, скрыта от глаз Онегина, как скрыта была для него вначале природа собственных чувств.
Образ времен года в конце романа оттеняет разлад Онегина с природой. Не случайно он «бранил Гомера, Феокрита»; его раздвоенному душевному миру была чужда эпическая цельность. Его разлад с обществом перерастает в разлад с природой.
«Любви все возрасты покорны;
Но юным, девственным сердцам
Ее порывы благотворны,
Как бури вешние полям...
Но в возраст поздний и бесплодный
На повороте наших лет,
Печален страсти мертвый след...»
Мысль о внутреннем разладе Онегина с природой возникает уже при чтении первых страниц романа. Правда, пока это лишь внешние контрасты его образа жизни с жизнью природы. С Татьяной читатель встречается в момент ее глубокой задумчивости, на фоне звездного неба. Онегин влетает в повествование «на почтовых». «Помчался», «поспешил», «стремглав», «взлетел» – слова передающие стремительный ритм Онегина, пытающийся обогнать природу:
«Природы глас предупреждая,
Мы только счастию вредим,
И поздно, поздно вслед за ним
Летит горячность молодая...»
Онегин далек от природы. Его мир и его вселенную легче распознать в книгах, которые он читает, чем в пейзажах, которые его окружают и которые надоели ему через три дня.
«Два дня ему казались новы
Уединенные поля,
Прохлада сумрачной дубровы,
Журчанье тихого ручья;
На третий роща, холм и поле
Его не занимали боле;
Потом уж наводили сон...»
Настоящее, глубокое проникновение Татьяны в мир Онегина происходит благодаря знакомству с его любимыми книгами. При этом Татьяна воспринимает образ Чайльд-Гарольда, как наиболее близкий Онегину:
«Что ж он? Ужели подражанье,
Ничтожный призрак, иль еще
Москвич в Гарольдовом плаще...»
Если вся вселенная Татьяны раскрыта в природных и космических пейзажах романа, то вселенная Онегина могла раскрыться перед глазами вдумчивого читателя при сопоставлении мира Онегина с миром привлекающих его внимание книжных образов.
Какова же вселенная перед глазами Онегина? Среди его увлечений не было физики и философии — наук об устройстве мира. И все-таки мы знаем, как мог Онегин видеть и представлять вселенную. Это могла быть вселенная Байрона, какой она раскрывается перед читателями в «Чайльд-Гарольде»:
«Он, как халдей, на звезды глядя ночью
И населяя жизнью небосвод,
Тельца, Дракона видеть мог воочью.
Он был бы счастлив за мечтой в полет
И душу устремить.
Я сам в себе не замыкаюсь. Там
Я часть природы, я — ее созданье.
Мне ненавистны улиц шум и гам,
Но моря гул, но льдистых гор блистанье!
В кругу стихий мне тяжко лишь сознанье,
Что я всего лишь плотское звено
Меж тварей, населивших мирозданье,
Хотя душе сливаться суждено
С горами, звездами и тучами в одно».
Чтение Байрона было глубоким: «Хранили многие страницы отметку резкую ногтей». На полях Татьяна встречает «черты его карандаша».
«Везде Онегина душа
Себя невольно выражает
То кратким словом, то крестом,
То вопросительным крючком».
Но за звездами, «как халдей», Онегин не следил. Для него вселенная—это «глупая луна» на «глупом небосклоне». Стало быть, взгляд Чайльд-Гарольда был ему чужд.
Это неприятие Онегиным природы, его молчаливый, иронический вызов мирозданию перекликается с ощущениями Гамлета и Фауста.
«Самая осмотрительная девушка уже достаточно неосторожна, когда открывает свою красоту луне», — говорит Лаэрт в «Гамлете», предостерегая Офелию. Природа в этой трагедии Шекспира грядет как возмездие, с мерным ходом светил. Появление Призрака, говорящего о страшном злодеянии, связано с движением звезд:
«Б е р н а р д о. Прошедшей ночью, когда вон та самая звезда, которая к западу от Полярной, продвинулась по своему пути и освещала часть небес, где она сейчас горит, Марцелл и я, когда колокол бил час...
Входит Призрак».
Движение звездного неба пронизывает и роман «Евгений Онегин». Но для Татьяны в этом движении нет ничего зловещего. Если образ Онегина тяготеет к гамлетовскому началу, то образ Татьяны ближе к образу Джульетты. Джульетта, как и Татьяна, поверяет свои тайны звездному небу, и Ромео в страстном монологе сопоставляет ее с луной:
«Стань у окна, убей луну соседством:
Она и так от зависти больна,
Что ты ее затмила белизною».
Лунная чистота и звездная яркость шекспировских женских образов близки Татьяне Лариной.
Первый портрет Татьяны соткан из звезд и рассвета:
«Она любила на балконе
Предупреждать зари восход,
Когда на бледном небосклоне
Звезд исчезает хоровод,
И тихо край земли светлеет,
И, вестник утра, ветер веет,
И всходит постепенно день.
Зимой, когда ночная тень
Полмиром доле обладает
И доле в праздной тишине,
При отуманенной луне
Восток ленивый почивает,
В привычный час пробуждена,
Вставала при свечах она»
Движеньем света написан портрет Татьяны. Движением света насыщен весь роман. В первой главе это мерцание свечей, фонарей; затем искусственный свет все чаще уступает
место свечению звезд, тихому свету луны, сиянию солнца.
«Лучом Дианы» озарена в романе Татьяна Ларина. Движение луны есть одновременно движение сюжетной линии романа. При «вдохновительной луне» пишет она письмо Онегину и заканчивает его лишь, когда «лунного луча сиянье гаснет». Бесконечное звездное небо и бег луны отражаются в зеркале Татьяны в час гадания:
«Морозна ночь, все небо ясно;
Светил небесных дивный хор
Течет так тихо, так согласно...
Татьяна на широкий двор
В открытом платьице выходит,
На месяц зеркало наводит...»
Неуловимое дрожание руки Татьяны, биение пульса, трепет ее души передаются вселенной, и «в темном зеркале одна дрожит печальная луна». «Дивный хор светил» останавливается в ее маленьком зеркале.
В трагический момент романа луна останавливается над могилой Ленского вместе с Татьяной и Ольгой: «И над могилой при луне, // Обнявшись, плакали оне» (V, 143).
Смерть Ленского сливается с возрождением природы. В лексике Пушкина, как и в лексике всего XIX столетия, смерть часто уподоблялась тьме, а жизнь — свету. Вопреки этому канону, смерть Ленского сравнивается с алмазными переливами спадающей снежной лавины:
«Туманный взор
Изображает смерть, не муку.
Так медленно по скату гор,
На солнце искрами блистая,
Спадает глыба снеговая...»
Та же снежная лавина низвергается затем целым потоком жизни: «Гонимы вешними лучами, // С окрестных гор уже снега // Сбежали мутными ручьями...» (V, 140).
И вот продолжается путь Татьяны вместе с луной, вместе со всей природой:
«Был вечер. Небо меркло. Воды
Струились тихо. Жук жужжал.
Уж расходились хороводы;
Уж за рекой, дымясь, пылал
Огонь рыбачий. В поле чистом,
Луны при свете серебристом,
В свои мечты погружена,
Татьяна долго шла одна».
Портрет Татьяны становится неотделим от общей картины мира в романе. Ведь не просто природа, а именно вселенная с величественной сменой дня и ночи, с мерцанием звездного
неба и розовых снегов, с непрерывным шествием светил органически входит в повествование. Глазами Татьяны и автора создается космический фон романа, безгранично раздвигающий пределы повседневного быта.
В непрерывном возгорании света, в постоянном космическом огне кроется глубокий смысл: на этом фоне развертывается извечная драма человеческой любви, ее прозрений и заблуждений.
Перспектива космоса и природы создается в романе еще тем, что расцвечен он не цветом, а светом. Чаще всего это восход и заход солнца, отблеск свечей или камина, свет луны, блеск снега, сияние звездного неба. Световая палитра романа — это серебристое ночное свечение звезд и луны, переходящее в золотой и алый свет камина или солнца. Роман как бы соткан из живого света.
В «Евгении Онегине» природа выступает как положительное начало в человеческой жизни. Образ природы неотделим от образа Татьяны. В «Гамлете» это положительное природное начало сконцентрировано в образе Офелии. Погибая, Офелия как бы возвращается в природу, растворяется в ней:
«Когда она взбиралась на иву, чтобы повесить на свисающие ветви сплетенные ею венки из цветов и трав, завистливый сучок подломился и вместе со своими трофеями из цветов она упала в плачущий ручей. Широко раскинулась ее одежда и некоторое время держала ее на воде, как русалку, и в это время она пела отрывки старых песен, как человек, не сознающий своей беды, или как существо, рожденное в водяной стихии и свыкшееся с ней».
Как Гамлет не хочет поверить Офелии, так Онегин не верит Татьяне. Голос человеческой натуры, говорящий о возможности счастья, кажется им неубедительным, потому что вокруг царит зло.
Объяснение Онегина с Татьяной и Гамлета с Офелией поражают сходством аргументации:
Гамлет:
«Иди в монастырь. Зачем тебе рожать грешников? Я достаточно честен. Однако я мог бы обвинить себя в таких вещах, что лучше бы моя мать меня не родила. Я очень горд, мстителен, тщеславен. В моем распоряжении больше преступлений, чем мыслей, чтобы их обдумать, воображения, чтобы облечь их в плоть, и времени, чтобы их исполнить... Мы все отъявленные подлецы. Никому из нас не верь».
Онегин:
«Но я не создан для блаженства.
Ему чужда душа моя...
Что может быть на свете хуже
Семьи, где бедная жена
Грустит о недостойном муже...
Где скучный муж, ей цену зная
(Судьбу однако ж проклиная),
Всегда нахмурен, молчалив,
Сердит и холодно ревнив!
Таков я...
Мечтам и годам нет возврата;
Не обновлю души моей...
Учитесь властвовать собою;
Не всякий вас, как я, поймет;
К беде неопытность ведет».
(V, 81, 82)
Исповедь Онегина перекликается с речью Гамлета. Здесь то же неверие в человеческую природу, ссылка на непостоянство людей как на вечный закон природы, сомнение в природных возможностях человека.
Офелия не возражает на слова Гамлета, Татьяна не отвечает Онегину. Возражением здесь являются не слова: любовь Офелии и любовь Татьяны — лучшее опровержение аргументов Гамлета и Онегина.
В книге «Поэзия и правда» Гёте писал: «Отвращение к жизни имеет свои моральные и физические причины... Все приятное в жизни основывается на правильном чередовании явлений внешнего мира. Смена дня и ночи, времен года, цветение и созревание плодов, словом, все, что через определенные промежутки времени возникает перед нами, дабы мы Могли и должны были этим наслаждаться, — вот подлинная пружина земной жизни. Чем открытое наши сердца для этого наслаждения, тем счастливее мы себя чувствуем. Но если нескончаемая череда явлений проходит перед нами, мы же от нее открещиваемся и остаемся глухи к сладостным зазываниям, тогда приходит зло, тягчайшая болезнь вступает в свои права, и жизнь представляется непосильным бременем».
Таким непосильным бременем представляется жизнь Онегину. Причем Гёте подчеркивал, что эти «симптомы отвращения к жизни, которые нередко приводят к самоубийству», удел «чаще всего людей мыслящих и самоуглубленных».
В подражании «Фаусту», созданном в период напряженной работы над «Онегиным», в 1825 году, Пушкин сосредоточил свое понимание фаустовской драмы. Его Фауст, говоря о своей любви, вспоминает «шум древесный» и «сладкозвонные струи». Для него любовь к Маргарите так же естественна, как природа. Мефистофель пытается заглушить в Фаусте голос природы:
«Ты думал: агнец мой послушный!
Как жадно я тебя желал!
Как хитро в деве простодушной
Я грезы сердца возмущал!
Любви невольной, бескорыстной
Невинно предалась она...
Что ж грудь моя теперь полна
Тоской и скукой ненавистной?..»
Фактически Мефистофе
«Заколыхались жарко груди…» –
Если мы не дозрели до Пушкина и Лермонтова без цензуры, значит мы вообще до них не дозрели. Почему классики активно, охотно и радостно пользовались нецензурной лексикой? Во-первых, они все были великие шалуны и большие эротоманы. А во-вторых, и это, пожалуй, главное, русский язык без мата теряет душу. Дистиллированная вода, это, конечно, тоже вода. Но как говорил поэт Леонид Мартынов, «ей жизни не хватало – чистой, дистиллированной воде». Тем не менее, читателей до сих пор поят дистиллированным Пушкиным.
Берем академическое издание. Читаем:
Молчи ж, кума: и ты, как я, грешна,
А всякого словами разобидишь;
В чужой ….. соломинку ты видишь,
А у себя не видишь и бревна.
Но вместо точек у Пушкина слово на букву «п», а это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Эпиграмма на Каверина изуродована академиками до полной неузнаваемости. У академиков: «Друзьям он верный друг, красавицам мучитель». А у Пушкина: «Друзьям он верный друг, в борделе он ебака». Вероятно, академики считают, что любить женщину и мучить ее – это понятия тождественные. Возможно, у них этот процесс так и происходит. Но пока что мучают не красавиц, а читателей глупейшими переделками. После такой редактуры впору вспомнить такую эпиграмму:
Не думав милого обидеть,
Взяла Лаиса микроскоп
И говорит: позволь увидеть,
Мой милый, чем меня ты ё...
Многоточие было изобретено, чтобы оттенить невысказанное. А у нас его стали применять, чтобы заткнуть рот писателям.
Мы пили и Венера с нами
Сидела, прея за столом,
Когда ж вновь сядем за столом
С блядьми, вином и чубуками?
Пушкинских блядей тоже заменили точками. С точками за столом, конечно, веселее, чем с нехорошими женщинами. Надо было заменить их на «редиски» – «с редисками, вином и чубуками». То-то было бы веселье. Поэзия Пушкина – гимн любви и свободе.
Здорово, молодость и счастье,
Застольный кубок и бордель,
Где с громким криком сладострастье
Ведет нас пьяных на постель.
Бордель, разумеется, превращен в многоточие. Так что назовем вещи своими именами: застольный кубок, многоточие ведут нас, пьяных, в худосочие.
В некоторых случаях из-за редактуры вообще невозможно понять, о чем идет речь. Царь рассказывает солдафонский анекдот:
Говорил он с горем
Фрейлинам дворца:
«Вешают за морем
за два яйца.
То есть разумею, –
Вдруг промолвил он, –
Вешают за шею,
Но жесток закон».
У Пушкина все понятно и потому смешно. Но в академическом издании «яйца» вырезаны. Кастрированный текст полностью лишен смысла. Вот уже полтора столетия читатели безуспешно пытаются разгадать известный текст, где вырезаны «муде», а затем и слово «безмудый», а в академическом варианте дважды кастрировали кастрата, вырезав само слово «кастрат».
К кастрату раз пришел скрыпач,
Он был бедняк, а тот богач.
«Смотри, – сказал певец безмудый, –
мои алмазы, изумруды –
я их от скуки разбирал.
А! кстати, брат, – он продолжал, –
когда тебе бывает скучно,
ты что творишь, сказать прошу».
В ответ бедняга равнодушно:
– Я? Я муде себе чешу. (1835 г.)
Кстати, это пишет уже не юный озорник, а полностью состоявшийся великий поэт за два года до смерти. Или мы принимаем Пушкина таким, каков он есть, или мы те самые кастраты, которым нечего чесать. И вместо того, что положено, у нас одно многоточие.
Пушкинисты долго не признавали подлинность поэмы «Тень Баркова», где у главного героя фамилия отнюдь не Онегин, а Ебаков. Самым ужасным для ученых мужей оказалось то, что тут точками не отделаешься. Каждое второе слово ненормативное. Останутся одни точки. Так что дальше текст почти в подлиннике.
Кто всех задорнее е..т?
Чей х.. средь битвы рьяный
П…у кудрявую дерет,
Горя, как столб багряный?
Ох, сдается мне, доживи Пушкин до наших дней, поволокли бы его в суды, а высокоумные эксперты обязательно нашли бы порнографию в его текстах.
Многие меня поносят
И теперь, пожалуй, спросят:
Глупо так зачем шучу?
Что за дело им? Хочу.
Хотел и Лермонтов. Хотел и шутил.
Но скоро страх ее исчез,
Заколыхались жарко груди –
Закрой глаза, творец небес!
Заткните уши, добры люди!
Цитировать Лермонтова труднее, поскольку описание гусарских соитий намного подробнее и натуралистичнее, чем у Пушкина. Тут «Гошпиталь», и «Уланша», и «Петергофский праздник». Читая все это, невольно задаешь себе вопрос – так какой же Лермонтов подлинный? Тот, что выходит на дорогу один, или тот, который резвится с уланшей? Где Пушкин более искренен – в «Евгении Онегине» или в сказке о царе Никите и сорока дочерях вкупе с «Гаврииллиадой»? И то, и другое – подлинник. А, стало быть, выбрасывать неугодные слова, заменяя их точками, то же самое, что соскребать срамные места на фресках Микеланджело. «Мне не смешно, когда маляр негодный мне пачкает мадонну Рафаэля». А ведь пачкают.
В 1989 году я участвовал в семинаре в университете Лозанны «Секс в русской литературе». Жорж Нива прочел доклад, где поделился интереснейшим наблюдением – в русской литературе нет секса. Вместо него в России либертинаж. «Что значит этот термин?» – спросил я у докладчика. – «Либертинаж – это грубое нарушение всех норм. В русской литературе не хватает слов для описания секса, поэтому пользуются вольно или невольно запретной лексикой, матом». – «А почему так получилось?» – «Потому что у вас не было Возрождения. Нагота так и осталась под запретом».– «А зато у вас нет мата», – с гордостью сказал я. И был вознагражден аплодисментами. Я понимаю, что аплодировали не мне, а Лермонтову и Пушкину.
Изо всех матов в Советском Союзе были дозволены только два: сопромат (сопротивление материалов) и диамат (диалектический материализм). Против сопромата ничего не имею. Диамат не люблю. А мат Баркова, Пушкина, Лермонтова и Грибоедова греет душу. Без него русская литература мертва.
– Прародитель Луки Мудищева –
(И.С.Барков «Полное собрание стихотворений». СПб, Академический проект, 2004)
Все знают строки патриотического гимна: «Гром победы, раздавайся! / Веселися, храбрый росс». Но мало кто осведомлен, что задолго до этого секретарь Ломоносова, переводчик и вечный студент, написал: «Восстань, восстань и напрягайся». Обращена сия ода к мужскому достоинству и соответствующим образом озаглавлена трехбуквенным словом.
Пародируя оду своего учителя Ломоносова, которая начинается словами «царей и царств земных отрада», и гимн «славься сим Екатерина, Богоданная нам мать», Барков пишет другую оду и другой гимн: «О, общая людей отрада, / … веселостей всех мать, / начало жизни и прохлада, / тебя хочу я прославлять».
Нетрудно заметить, что вся поэзия этого пьяницы, гуляки и переводчика древнеримских классиков есть сплошная пародия на официальную, увенчанную лаврами государственную поэзию. Приходится только удивляться широте и великодушию Ломоносова, который до конца своих дней покровительствовал поэту, писавшему на него пародии.
А уж как такие пародии терпела Екатерина II, совсем непонятно. Может, ей даже льстило, что ее так талантливо отождествляют с неназываемой частью тела. «Ее натура хоть вмещает / в одну зардевшись тела часть, / но всех сердцами обладает / и все умы берет во власть».
Скорее всего, Баркова спасала безвестность и анонимность, хотя трудно предположить, что та же Екатерина не была ознакомлена через тайную канцелярию с творениями Баркова. Тем более что враги Ломоносова никогда не гнушались доносами и не упустили бы возможности сообщить двору, какому поэту покровительствует глава Академии Наук. Не исключено, что быстрая отставка Ломоносова связана с тайным творчеством его секретаря. Самого Баркова Екатерина могла счесть слишком ничтожным противником, чтобы метать в него стрелы.
Так или иначе, но Барков дожил до классического возраста многих русских поэтов – 37 лет. После смерти Ломоносова его тотчас лишили всех источников дохода и должности переводчика Академии. Барков покончил с собой в чисто барковском стиле. Сунул голову в камин и угорел от дыма. По слухам, в зад себе поэт воткнул записку: «Жил грешно, умер смешно». Скорее всего, это легенда, восполняющая наше незнание всех обстоятельств ранней смерти Баркова. Но, возможно, что молва не лжет, и все так и было.
Талант его ярок, ослепителен и вполне соразмерен самым известным поэтам 18-го века. Многие считают, что как раз Барков и является самым крупным, незаслуженно замалчиваемым поэтом. Нецензурная лексика и эротика, плавно переходящая в порно, вывела его за рамки истории русской словесности, но уже в 19-ом веке Барков все более входит в моду. Пушкин, подражая ему, пишет поэму «Тень Баркова», разумеется, анонимно. В списках гуляет «Лука Мудищев», чье авторство так и не установлено. То ли переделанный Барков, то ли подлинный Пушкин.
Конечно, Иван Барков был эротоман. Но от каждого из его эротических творений веет веселостью и здоровьем. Однажды Пушкин сказал, что в России тогда наступит свобода, когда издадут без купюр Баркова. И вот он издан полностью, без купюр, да еще и в серии «Библиотека поэта».
«Лежит на мне Ерила / Я тело оголила / и ноги подняла / ярить себя дала…» Далее следует смешная разгадка. Оказывается, Ерила – это ничто иное, как банный веник. Большинство текстов невозможно цитировать без купюр, а с купюрами получается как-то куце. Читая полного, некастрированного Баркова, лишний раз убеждаешься, что русская поэзия без табуированной лексики просто немыслима. Ну, какими словами можно заменить имена барковских героев Долгомуда или Хуелюбы? Иногда запретная лексика искусно упрятана в анаграмме: «Крепи здаровье дарагая / Лихую долю проклинай» (орфография автора).
Он поставил себе цель нарушить все мыслимые и немыслимые запреты и блестяще с этой задачей справился. Разумеется, когда читаешь все это подряд, становится однообразно и утомительно. Иногда Баркову явно изменял вкус. Слог его частенько коряв и трудно понимаем, как почти вся поэзия 18-го столетия. Подлинная свобода появится в «Луке Мудищеве», которая молва упорно приписывает Баркову, хотя до нас это великолепное творение дошло в пушкинской стилистике.
Барков пытался создавать и настоящие оды. Одну императору Петру Федоровичу, другую его убийце – графу Григорию Орлову. Оды эти настолько корявы, что их и процитировать невозможно без специального перевода. А переводить замучишься. Хотя главный сборник Баркова назван им «Девичья игрушка», это сугубо мужское творение. В этом его слабость и его сила. Подлинная поэзия должна включать и женский, и мужской взгляд на вещи. В этом смысле поэзия всегда поверх барьеров. Она общечеловечна. Про Баркова этого не скажешь. Жанр, в котором написаны его тексты, французы обозначают словом «либертинаж». Это некий синтез разнузданности и грубости, шокирующей неподготовленного читателя. Так Сорокину удалось шокировать бабушек возле Большого театра. Не меньше их шокировал бы Иван Барков, если бы кому-то пришло в голову совать эту книгу прохожим. Будем надеяться, что этого не произойдет. Баркова с удовольствием будет читать такой же утонченный филолог, каким был сам автор, или, наоборот, неподготовленный любитель соленостей, воспринимающий все буквально.
В этом, если хотите, универсальность Ивана Баркова, крупнейшего русского поэта, чье имя так и не удалось вычеркнуть из русской словесности вместе с запретной лексикой.
– Пушкин на полигоне русской словесности –
(10 февраля годовщина дуэли, обессмертившей Пушкина)
Одно из бесчисленных достоинств его поэзии – иллюзия вседоступности. Вот «Евгений Онегин» – так просто и так легко написан. Почему бы ни переделать в санскритские мантры. И вот уже Дмитрий Александрович Пригов исполняет роман в стихах горловым пением тибетских лам. И получается! Вот что удивительно. Ни одного слова не изменил, а звучит.
Бесчисленные эротические переделки «Онегина» бытовали даже в пуританскую советскую эпоху. А сейчас ими кишит Интернет. «Прими собранье сих уев / полусмешных, полупечальных, / простонародных, идеальных. / Поставь их в вазу на столе. / Пусть распускаются в тепле». Тепло пушкинской поэзии отогрело даже русскую зиму. Белла Ахмадулина видит в окне переделкинский зимний пейзаж и пишет: «Стало Пушкина больше вокруг».
Он действительно как-то таинственно связался в нашем подсознании с белым снегом. То ли из-за дуэли Ленского, предвосхитившей дуэль самого Пушкина, тоже зимнюю. То ли из-за фамилии Пушкин, намекающей на белые пуховые сугробы. А, может, виноват сон Татьяны, когда за ней гонится русский медведь, опять же по снегу. Многие современные поэты клянутся в верности Пушкину. Возможно, именно поэтому русская поэзия осталась верна правилам стихосложения XIX века в отличие от Европы, давно ушедшей в верлибр, белый и свободный стих.
Блок написал поэму «Возмездие», воспроизводя размер и стилистику «Онегина». Но равного по силе воздействия не получилось. Из кремневого дуэльного пистолета, конечно, и сегодня можно кого-нибудь подстрелить, но в зоне реальных боевых действий такое оружие вряд ли эффективно.
Парадокс в том, что дуэльный пистолет обладает гигантской убойной силой только в руках самого поэта, убитого из такого же пистолета. Скажу проще: все подражания Пушкину и прямое следование его поэзии обречены на вторичность, несовместимую с поэзией. Вот почему футуристам понадобилось сбрасывать гения с парохода современности, как персидскую княжну в лоно волн. Вот почему Пригов, завывающий «Онегина» в стиле буддийских мантр, выглядит более верным последователем классика, чем прилежные имитаторы, бережно хранящие пушкинские традиции.
Тут неумолимо возникает страшная тема: Пушкин и Бродский. Там Петербург, тут Ленинград. Там сплин «короче, русская хандра», и тут сплошная ритмизованная печаль и скука. Там гонение и тут гонение. Правда, Бродскому удалось вырваться из России, а Пушкин так и погиб невыездным. Но в деревню обоих гениев русская власть сослала. Не исключено, что в Бродском мир на самом деле почувствовал и полюбил непереводимого Пушкина. Ну а как перевести «выпьем, бедная старушка»? Поднимем бокал, нищая старая леди? Какое-то спаивание старух, или гулянка молодого поэта с бомжихой, или еще какая-то несуразь.
Александр Введенский, гениальный обэриут, все свои поэмы стилизовал, как эхо творений Пушкина. Незадолго до гибели во время эвакуации на этапе он начертал последние строки: «Ах, Пушкин, Пушкин!»
Казалось бы, эпоха расстрелов навсегда распрощалась с эпохой Пушкина еще в первой половине прошлого века. Ничего подобного. Пушкин вдруг оказался постмодернистом. Все постмодернисты пишут простым четырехстопным пушкинским ямбом. Тем самым, о котором поэт сказал: «четырехстопный ямб мне надоел». Ну ладно архаист, антифутурист и пушкинианец Ходасевич. Ему сам бог велел. Но ведь и футурист Маяковский, возгласивший: «Хореем и ямбом / писать не нам бы», – не выдержал и «ямбом подсюсюкнул». Вообще-то четырехстопный ямб скопировал с немецкого еще Тредиаковский, но Пушкин превратил этот размер в шедевр, сопоставимый с «Троицей» Рублева и фресками Джотто.
Единственное, с чем невозможно согласиться, это с навязчивым утверждением, что Пушкин – наше все. Все – это ничего. Не надо тащить поэта во все эпохи, утверждая, что у него есть ответы на все вопросы. Пушкин не знал Освенцима и ГУЛАГа, не ведал о Хиросиме, и будущее виделось ему светлым и лучезарным. «Ах, Пушкин, Пушкин!», как сказал расстрелянный Введенский.
Да ведь и Пушкина застрелил профессиональный военный. Пусть не на этапе, а на дуэли. Пусть он сам хотел пристрелить обидчика. А все-таки пристрелили его. Сокрушался поэт, что с умом и талантом «угораздило» его родиться в России. Трижды бежать пытался. Один раз через Псков. Донесли. Второй раз через Кавказ. Думал, что уже в Турции, а казак орет: «Ваше благородие! Со вчерашнего дня эта территория уже наша. Третий раз – просился в Китай. Не пустили. Так что вместо утечки мозгов произошло простреливание кишок и предсмертное восклицание: «Боже, какая тоска!» Без этой тоски ни проза, ни поэзия Пушкина не обходится. Есть она и в «Онегине», и в «Станционном смотрителе», и в «Медном всаднике», а потому через века продолжилась в александрийских размерах Иосифа Бродского.
На полигоне российской словесности, где пристрелили Пушкина и Лермонтова и расстреляли Введенского, вскоре полегли миллионы. Страны, убивающие своих поэтов, обречены на гибель.
– Бойтесь пушкинистов –
Главным жизнеописание Пушкина давно уже стала книга Вересаева «Пушкин в жизни». Он первым нашел гениальное решение, как отделить правду от вымысла. Сведения непроверенные пометил одной звездочкой, сведения сомнительные – двумя. А явную фантастику, как коньяк, тремя звездами.
Среди явной фантастики слухи о том, что Николай I умирал с медальоном на шее, где якобы было изображение Натали. В тот же раздел попали слухи о существовании такого медальона во дворце императора.
Народная молва еще при жизни поэта намертво связала его семью с императорской фамилией. Возникли и до сих пор муссируются слухи о тайной связи с Пушкиным самой императрицы. Серьезные исследователи никогда не опровергали и не комментировали такие гипотезы.
В советское время стало модно каждый интимный поцелуй Пушкина рассматривать, как вызов самодержавию. Школьные да и вузовские учебники были полны туманными намеками на политический смысл роковой дуэли. Мол, царь специально подговорил усыновленного голландским послом Дантеса ухлестывать за женой Пушкина, дабы окончательно погубить поэта.
На самом деле император личным вмешательством предотвратил первую дуэль Пушкина с Дантесом и фактически вынудил его жениться на сестре Натали Екатерине, чтобы развеять все подозрения. Дантес на это пошел. И мало того, брак оказался вполне счастливым, настоящим, на всю оставшуюся жизнь.
Никто не знает, удалось ли Дантесу добиться интимной благосклонности Натали. Вересаев пометил звездочками все слухи о тайном свидании на квартире Полетики. Несомненно лишь одно: по свидетельству Жуковского, Карамзина и многих близких к Пушкину людей его жена действительно была влюблена в Дантеса. А Дантес действительно за ней ухаживал.
Еще работая над кандидатской диссертацией о Пушкине, я заметил удивительную симметрию слухов. Дантесу молва приписывала связь с двумя сестрами. А Пушкину молва сосватала другую сестру Натали – Александру. Якобы даже в постели поэта был найден ее золотой крестик. Разумеется, и эти «сведения» Вересаев пометил звездочками.
Поразительно, но о дуэли Пушкина написано на порядок больше, чем о его поэзии. Люди, которые не в состоянии процитировать и двух строк поэта, «знают» во всех подробностях его альковные тайны. Да так, словно рядышком со свечой, пардон, с канделябром стояли. В любом случае принято было клеймить Наталью Николавну за недостойное поведение. Не справилась молва с номенклатурной должностью жены классика, не оправдала народного доверия.
Однажды Борис Пастернак слушал, слушал гневные филиппики в адрес Гончаровой, а потом не выдержал и сказал: «Все правильно! Надо было Пушкину жениться на пушкинисте. Тот уж точно не изменил бы поэту, и не было бы роковой дуэли».
С тех пор в пушкинстике стало дурным тоном лезть в спальню классика. Теперь этим неблагодарным делом занялись дилетанты и любители. Каждый из них, захлебываясь от счастья, на свой лад перечитывал книгу Вересаева и срочно спешил поделиться своими «открытиями» со всеми, кто еще эту книгу не прочитал. Долгие годы «Пушкин в жизни» был неиздаваемым и полузапрещенным. Книгу и сейчас прочли далеко не все. А кто прочел, тот не очень-то обращал внимание на пресловутые звездочки осторожного и добросовестного писателя. Знал бы он, сколько мифов породит его документально-фантастический труд.
Мифологизация Пушкина началась с печально известного некролога: «Закатилось солнце русской поэзии…» Был Людовик Солнце, был Владимир – Красно Солнышко, и вот эстафетная палочка солярного мифологического героя перешла к Александру Сергеевичу.
Как это делалось, блистательно показал Гоголь в «Ревизоре»: с Пушкиным на дружеской ноге и легкость в мыслях необыкновенная. Именно такова методика создания новых и новых мифов вокруг поэта. Абсурдность ситуации лучше всех уловил Хармс в своих анекдотах из жизни Пушкина. Но Хармса расстреляли, а его пушкиниану запретили. Теперь главным мифотворцем стал Сталин. Он лично следил за академическими издания, выходящими к 100-летию со дня смерти поэта. Приказал выкинуть все комментарии и примечания пушкинистов и поистине удивил мир академическим изданием без научного аппарата.
Все «комментарии» были отданы советскому агитпропу. Мой научный руководитель, профессор Валерий Яковлевич Кирпотин по личному приказу Сталина за одну ночь написал книгу «Пушкин и коммунизм», после которой великого поэта можно было смело принимать в партию большевиков. Все дальнейшие монографии и труды о Пушкине советской эпохи лепились по образцу этой книги. Валерий Яковлевич был умен и талантлив. Позднее он пострадал за труды о крайне нежелательном Достоевском. И это несмотря на, что и Достоевский у Кирпотина вполне тянул на кандидаты в члены все той же партии.
После 91-го года из Пушкина стали лепить православного монархиста. О поэте, называвшим себя «афеем» (атеистом), авторе «Гавриилиады», «Тени Баркова» и «Сказки о царе Никите» стали говорить с придыханием, как о монахе-отшельнике. На самом деле в зрелые годы Пушкин отказался от прямого атеизма. Фразу «разумом я атеист, но сердце противится» он переиначил: «Сердцем я атеист, но разум противится». Поэт назвал Новый Завет великой книгой, которую человечество будет читать и перечитывать до конца истории. Но только закоренелый лжец может назвать поэта воцерковленным только потому, что он, уступая просьбам жены, перед смертью причастился.
Умирая, Пушкин просил Жуковского передать Николаю I, что «если бы был жив, был бы весь его». Эти предсмертные слова поэта, конечно, полностью исключают возможность серьезного соперничества из-за Натали между императором и поэтом. Заподозрить религиозного, глубоко верующего Жуковского во лжи было бы глумлением и кощунством над памятью двух поэтов, чья поэзия составляет славу России.
Свой Пушкин есть у Ахматовой, у Цветаевой, у Блока. Но, пожалуй, именно Блок нашел самые верные слова. В своей пушкинской речи он сказал: «Наша память хранит с малолетства веселое имя: Пушкин… Мы знаем Пушкина – человека, Пушкина – друга монархии, Пушкина – друга декабристов. Все это бледнеет перед одним: Пушкин – поэт».
«Бойтесь пушкинистов. Старомозгий плюшкин, / перышко держа, полезет с перержавленным», – писал когда-то Маяковский. Сегодня это предостережение стало еще актуальней.
ТАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА (Пушкин постмодернист)
Каждый год 6 июня мы пытаемся осознать: кто для нас Пушкин?
Однажды я спросил у первого советского пушкиниста В.Я.Кирпотина, автора книги «Наследие Пушкина и коммунизм», написанной за одну ночь по личному заданию Сталина: «Почему Пушкин был масоном?» Валерий Яковлевич, человек умный, ответил уклончиво: «Я подумаю». Но дожив до 90 лет, профессор Кирпотин так и не нашел ответа на этот вопрос.
Ну добро бы по молодости вступил, а потом, в зрелые годы бросил. Так ведь нет. До конца дней с гордостью носил масонский перстень с черепом и бережно отращиваемый длинный масонский ноготь.
Однажды поэт с гордостью сказал: «Я член Кишиневской ложи. Той самой, из-за которой запретили все масонские ложи». Но ведь появлялся же в свете и с масонским ногтем, и с масонским перстнем. И уже не перед либеральным мечтателем и мистиком Александром I, а перед воинственным и жестким Николаем I, повесившим его друзей и собратьев по той самой Кишиневской ложе.
Что это – отчаянная смелость, поэтическое безрассудство? Ответ прост: это Пушкин. Поэт, который не мыслил себя без противостояния любым запретам. Абсолютно невозможно представить себе Пушкина послушным исполнителем чьей-то воли. Будь то воля мастера высшего градуса или воля императора, запрещающего масонство. Николай I, не терпящий никакой оппозиции и особенно нарушение формы, преспокойно сглотнул показное пушкинское масонство. Сегодня и перстень с адамовой головой, и длинный ноготь в специальном футляре воспринимаются как блестящий постмодернистский перформанс.
Как правильно заметил Блок, мы знаем разного Пушкина. Пушкин революционер и республиканец, Пушкин монархист и крепостник… Добавим к этому еще одну ипостась – Пушкин постмодернист. Он обладал удивительной способностью все свои должности и звания превращать в игру. «Саранча летела-летела. Села, все съела. И опять улетела». Это его отчет о деятельности по борьбе с саранчой. Была еще и должность историографа с солидным окладом, увенчавшаяся «Историей пугачевского бунта». Тут даже Марина Цветаева пришла в тупик. Историк Пушкин правдиво показал пугачевские зверства: содрали с помещика кожу и смазали ружья человеческим салом. И вдруг добрейший Пугачев в «Капитанской дочке». Это вполне в духе постмодернизма. Две взаимоисключающих версии одного и того же исторического события. Деконструкция. Пугачев, смазывающий ружья человеческим салом, и он же, по-отечески жалующий Гринева, в равной мере ирреальны. Постмодернисты называют это словом симулякр. Никакого всамделишного Пугачева нет, как нет настоящего Петра. Один под пером Пушкина борется с варварством варварскими методами и кнутом насаждает цивилизацию. Другой полубог на коне в «Полтаве». Оба симулякры.
Если взглянуть таким образом, то понятнее становится отношение поэта к религии. «Сердцем я афей, но разум противится». Симулякр «афей» пишет «Гавриилиаду», а симулякр уверовавший пишет «Пророка». Все на своих местах. Пушкина нельзя втиснуть в идеологию, он в последнюю минуту, по меткому выражению Андрея Синявского, всегда ускользнет и поминай как звали. «Свободы сеятель пустынный» – это самое меткое определение, какое он мог себе дать. Суть его легкого четырехстопного ямба – все та же эстетическая свобода. «И вот уже трещат морозы / и серебрятся меж полей. / Читатель ждет уж рифмы «розы», /На вот, возьми ее скорей». Эти розы на снегу, совмещение несовместимого и неожиданное обновление банальности – типичный постмодернизм
Даже роковая дуэль с Дантесом вписывается в поэтику бесчисленных пушкинских дуэлей, которые были до этого всего лишь перформансами и, слава Богу, заканчивались либо примирением, либо ничем. И вдруг постмодернистская игра переросла в роковую реальность, предсказанную еще в дуэли Онегина с Ленским. И там, и там на снегу сраженный пулей поэт. Конечно, для самого поэта последняя дуэль уже не была игрой. Другое дело, что общество вписало ее в жизнь Пушкина как некое завершающее трагическое действо. О дуэли Пушкина написано не меньше, чем о его творчестве. Она разыгрывается на сотни ладов в бесчисленных исследованиях, где в духе чистого постмодерна проигрывается множество версий. Это и дуэль с Николаем из-за Натали, это и месть обманутого мужа за мнимую или подлинную измену. Это и разновидность самоубийства, когда сугубо штатский поэт стреляется с кадровым военным, идя на верную гибель. Сплошные деконструкции.
Теперь все о той же таинственной, зашифрованной поэтом последней главе романа «Евгений Онегин». Каверин целый роман этому посвятил. А количество «прочтений» давно перевалило за сотню. На самом же деле Пушкин оставил гениальный постмодернистский текст, который можно расшифровывать вечно.
Нет ответа на вопрос, кто написал «Тень Баркова». По всем признакам это Пушкин, сказавший, что свобода в России настанет лишь тогда, когда напечатают «Луку Мудищева» без купюр. Считается, что это поэма Баркова. Но тяжеловесный стиль поэта XVIII века нисколечко не похож на стилистику легкой и озорной поэмы. Скорее всего мы знаем «Луку» в изящной переработке Пушкина.
У всякого, кто внимательно читал дневники, письма и высказывания Пушкина, создается ощущение двух Пушкиных. Один напоказ, другой тоже напоказ. А был ли третий – для самого себя? Это большой вопрос. Один пишет для Анны Керн – напоказ – «я помню чудное мгновенье». Второй, опять же напоказ, для друзей, что сегодня наконец-то я эту б… А третьего, скорее всего, не дано. Две постмодернистские взаимоисключающие версии одного и того же интимного события, превращенного в поэтическое действо с постмодернистским авторским комментарием.
Кого бы ни играл Пушкин – революционера, масона, республиканца, монархиста, Дон Жуана, ревнивого мужа, государственно мудреца, историка и царедворца, атеиста или глубоко верующего – во всех ролях это был он. Разыграв десятки дуэлей, которые кончились примирением, Пушкин, может быть, даже неожиданно для себя стал участником настоящей дуэли, о которой можно сказать словами Гейне: «О боже! Я, раненый насмерть, играл, / гладьятора смерть представляя!»
Называют две даты рождения Пушкина в мае и в июне. Указывают два места, где он мог родиться. Не всякому постмодернисту такое везение. Все деконструкция, все симулякр. Только одно несомненно – родился гений. Хотя постмодернисты гениальность не признают. Но это уж их проблемы.
«Известия», 06 июня 2007 г.
ПОКАЯНИЕ ПУШКИНА
«Известия» № 34, 10 февраля 1992 г.
10 февраля – черная дата в русской истории. Нелепая гибель Пушкина в результате дуэли у Черной речки открыла длинный мартиролог погибших русских поэтов. Дуэль Лермонтова, самоубийство, а. может быть, и убийство Маяковского, гибель в петле Есенина и Марины Цветаевой, гибель в концлагере Осипа Мандельштама, противоестественная ранняя смерть в 37 лет Леонида Губанова, истерзанного брежневскими психушками… Нет, не все в порядке в датском королевстве. Есть над чем задуматься. Что это за страна, где с такой легкостью вот уже 200 убивают лучших поэтов!
Впрочем, смерть Пушкина нельзя считать убийством. Это была честная дуэль. Соперничество из-за любимой женщины. Все, что наплели вокруг этого из политических соображений пушкинисты-пропагандисты, не заслуживает серьезной критики. Двор сделал все возможное, чтобы дуэль не состоялось, но император, запретивший дуэли юридически, не мог отменить законы дворянской чести.
Пушкин погиб на дуэли, защищая свою честь, и это славная смерть, бесславными остаются низменные интриги, подметные письма, подслушивания и подглядывания за личной жизнью поэта тех, кого поэт по достоинству назвал «светской чернью».
Нет никакого сомнения, что, кроме дуэли между Пушкиным и Дантесом, был другой, куда более захватывающий рыцарский поединок между императором и потом, между властью и интеллектуальной элитой страны.
Шеф жандармерии Бенкендорф, конечно же, не Берия, не Андропов, но он целиком и полностью разделял традиционную точку зрения российских властителей на русскую интеллигенцию как на источник смут, опасных для государства. В его глазах Пушкин даже мертвый был прежде всего «руководителем либеральной партии». Этот более чем странный взгляд на поэта, к сожалению, исходил от самого Николая I. Боясь волнений, власти приказали ночью тайно увезти его тело из Петербурга. Вороватые похороны под надзором тайной полиции навсегда останутся величайшим позором России. Вся эта недостойная возня вокруг катафалка породила миф о прямом участии Николая I в интриге вокруг дуэли. Договорились до того, что Дантес лишь выполнял задание императора. Вызывая Пушкина на дуэль.
Неприязнь властей к Пушкину была очевидна. Чего стоит фраза императора, произнесенная после смерти поэта, дескать, Жуковский хочет, чтобы с Пушкиным поступили, как с Карамзиным, но Карамзин был святой, а образ жизни Пушкина нам известен.
Очень странная фраза в устах властителя, который при многих своих достоинствах отнюдь не отличался избыточным целомудрием. Умирая, Николай I сказал: «прощаю всех, даже австрийского императора». Интересно, простил ли он Пушкина?
Не прощенный властями Пушкин перед смертью простил Николаю все. «Передай государю, жаль, что умираю, а то весь был бы его», – сказал он Жуковскому. Это были абсолютно искренние слова. Пушкин простил императору личную цензуру, негласный надзор, совет переделать драму «Борис Годунов» в роман в стиле Вальтера Скотта, запрет на выезд из столицы без специального разрешения, простил бы и тайные ночные похороны. Пушкин был благодарен императору за освобождение из Михайловской ссылки, за личное покровительство и сватовство к Наталье, за крупную денежную сумму фактически прощеного долга, которая хотя и не помогла поэту выпутаться из финансовых затруднений, но все же даровала ему несколько лет для творчества, не обремененного борьбой за существование.
Недоразумение со званием камер-юнкера, поначалу обидевшее поэта, все же следует приписать его поэтической вспыльчивости и ранимости. Титул камер-юнкера был у Жуковского и у Тютчева – это обеспечивало при дворе достаточно почетное место. Другое дело, что Пушкин знал себе цену, император же этой цены не знал.
Извечное и неистребимое недоверие власти к интеллигенции, твердая убежденность, что поэта надо учить и воспитывать, были унаследованы от власти императорской большевистской партократией. Да и довольно высокие чины власти нынешней не гнушаются длинными сентенциями и нравоучениями в адрес, по их мнению, недостаточно патриотичной интеллигенции.
Поэт умер, примирившись с властью, но власти так и не примирились с поэтом.
За недолгие 37 лет Пушкин прошел очень сложный путь жизни. От вульгарного атеизма к глубокой и мудрой вере, от призыва к убийству всей царской семьи до убежденности в необходимости для России конституционной монархии. «Не дай Бог увидеть нам русский бунт, бессмысленный и беспощадный» – эти слова Пушкина я бы золотыми буквами начертал на всех площадях вместо благополучно почившего подстрекательского призыва к мировому пожару «Пролетарии всех стран – соединяйтесь».
Пушкин называл себя космополитом – гражданином мира, не ведая, что в грядущем ХХ веке это слово превратят в ругательство новоиспеченные русопяты, облепившие его имя.
Пушкин был масоном. Он гордился своей принадлежностью к Кишиневской масонской ложе. Масонство помогло Пушкину перейти от детского атеизма к христианству. Он по-новому прочитал Евангелие и понял, что это величайшая книга, которую человечество будет читать и перечитывать на протяжении всей истории. Масонство Пушкина всячески замалчивалось и до октябрьского переворота, и после него. Упоминались лишь масонский ноготь, масонский перстень да масонская тетрадь. Как будто Пушкин – малый ребенок, а масонская ложа – всего лишь карнавал.
На самом деле масонское движение было формой обретения веры после временного разрыва мыслящих людей с церковью. Стремление создать религию чистого разума. Моцарт, Гете, Пушкин были не просто членами масонских лож, но и пламенными проповедниками братства людей. Насколько серьезно это было для Пушкина, видно в его поэтическом завещании, где снова провозглашаются масонские идеалы: «милость к падшим», «пробуждение добрых чувств», «свобода».
Не случайно финал пушкинского стиха так перекликается с финалом 9-й симфонии Бетховена, где снова и снова вспоминаются миллионы наших страждущих братьев.
Я понимаю, что сегодня призыв Пушкина к всемирному братству людей может показаться наивным.
Лев Толстой, а за ним и Вересаев не раз упрекали Пушкина за то, что в личной жизни своей он не следовал идеалам, которые проповедовал своей поэзии, и погиб на дуэли, не отказавшись от последнего выстрела в своего врага.
Возразить здесь очень легко. Поэзия Пушкина самая разная. Там есть и жажда денег, и убийство, и ревность, и свобода, и рабство, и подвиг, и преступление.
Медвежью услугу оказали поэту те, кто пытался сделать из него святого. «Напрасно я бегу к сионским высотам, / Грех алчный гонится за мною по пятам…» – какие замечательные слова! Раньше не принято об этом вспоминать покаянные стихи Пушкина. Его религиозность раздражала и революционных демократов, и либералов, что уж говорить о большевиках. Поэтому не в угоду моде, а просто как более приличествующие скорбной дате хочется вспомнить стихи Пушкина последних лет – его завещание, когда каждый стих звучал как молитва: «Веленью Божию, о муза, будь послушна». В то же время поэт провозгласил свою декларацию прав человека. И здесь он опережал не только 19-е, но, пожалуй, и 20-е столетие.
Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова,
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать налоги,
Или мешать царям друг с другом воевать;
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.
Не спешите с проклятием и возмущением на самом деле Пушкин очень даже высоко ценил свободу и доказал это всей своей жизнью. Однако он, пожалуй, первый в России понял, что личность выше общества, народа и государства.
Иные, лучшие мне дороги права;
Иная, лучшая потребна мне свобода:
Зависеть от властей, зависеть от народа –
Не все ли мне равно? Бог с ними. Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни шеи;
Вот счастье! Вот права…
Замечательно, что стихи эти написаны в тот же год, что и хрестоматийный «Памятник». Ведь рядом эти тексты читаются совсем по-другому.
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.
Пришел век еще более жестокий, когда «милость к падшим» стала государственным преступлением, а свобода – «осознанной необходимостью». Из Пушкина стала лепить какое-то государственное страшилище. Вот почему книга Андрея Синявского «прогулки с Пушкиным», написанная в брежневской тюрьме, вызвала такую лютую ярость. На обложке Пушкин с тросточкой, а рядом его собеседник – автор книги в зэковской фуфайке, и это передает веселый и свободный дух книги.
74 года назад Александр Блок незадолго до своей кончины написал речь, посвященную дате гибели Пушкина. То была 84-я годовщина, но по-прежнему не устарели слова Александра Блока: «Наша память хранит с малолетства веселое имя: Пушкин. Это имя, этот звук наполняют собою многие дни нашей жизни. Сумрачные имена императоров, полководцев, изобретателей орудий убийства, мучителей и мучеников жизни. И рядом с ними – это легкое имя: Пушкин».
Каждому времени созвучны свои поэтические ритмы, и почему-то сегодня из всех стихов Пушкина ближе всего те, где звучит интонация покаяния.
Владыко дней моих! Дух праздности унылой
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не даждь душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпенья и любви,
И целомудрия мне в сердце оживи.
Долгие годы мы учились у Пушкина свободе. Пришло время научиться у него покаянию.
«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(«В мире Пушкина». Сборник статей. М., Сов. писатель, 1974)
Роман «Евгений Онегин», как и все выдающиеся произведения мировой литературы, по-своему решает извечные проблемы человеческого бытия. В нем пушкинская эпоха вступала в открытый диалог с эпохами Гомера, Шекспира, Гёте.
Этот диалог почти не расслышали современники Пушкина, и для нас он звучит еще довольно невнятно.
Справедливо пишет Д. Благой: «О сознании поэтом грандиозности этого художественного задания, масштабах его свидетельствуют неоднократно возникавшие в нем в процессе работы над «Онегиным» и в высшей степени характерные аналогии с такими величайшими творениями художественного слова, как «Илиада» Гомера. «Божественная комедия» Данте, «Фауст» Гёте».
Именно с Гомера начнем мы свой разговор о Евгении Онегине как мировом образе.
Еще Кюхельбекер сопоставил роман Пушкина с «Илиадой»:
«Возможна ли поэма эпическая, которая бы наши нравы, наши обычаи, наш образ жизни так передала потомству, как передал нам Гомер нравы, обычаи, образ жизни троян и греков?»… «..Беппо и «Дон Жуан» Байрона и «Онегин» Пушкина – попытки в этом роде, но (надеюсь, всякий согласится) попытки очень и очень слабые, особенно если сравнить их с «Илиадою» и «Одиссеею», и не потому, что самые предметы Байрона и Пушкина малы и скудны (хотя и это дело не последнее), а главное, что они смотрят на европейский мир как сатирики, как судьи, как поэты-описатели: личность их беспрестанно разочаровывает, – мы не можем обжиться с их героями, не можем забыться».
Чувствуя связь между «Евгением Онегиным» и эпопеей Гомера, Кюхельбекер увидел прежде всего различие творческих методов Гомера и Пушкина.
У Пушкина есть «личность», есть «сатира», предметы его изображения «малы и скудны» – следовательно при всей своей значительности и грандиозности «Евгении Онегин» не может считаться современной эпопеей, хотя и является «попыткой в этом роде».
С таким пониманием эпопеи В. Г. Белинский полемизирует уже в первой статье своей работы «Сочинения Александра Пушкина» Белинский не мог видеть приведенное здесь высказывание из дневника Кюхельбекера, но его замечание об эпопее содержит прямой ответ на критику, высказанную Кюхельбекером:
«Греческий эпос «Илиаду»... приняли они (классицисты – К К.) за эпос всеобщий и думали, что до окончания мира все эпические поэмы должны писаться по их образцу, без малейшего отступления, даже начинаться не иначе, как «муза, воспой» или «пою».
Эти строки из статьи Белинского прямо перекликаются с ироническим текстом из «Евгения Онегина»:
«Пою приятеля младого
И множество его причуд.
Благослови мой долгий труд,
О ты, эпическая муза!
И, верный посох мне вручив,
Не дай блуждать мне вкось и вкрив...
Я классицизму отдал честь:
Хоть поздно, а вступленье есть».
Что же касается утверждения Кюхельбекера о «скудности» предметов изображения в «Евгении Онегине», то и на этот упрек лучше всего ответил Белинский:
«Эпическая поэзия, по понятию псевдоклассиков, должна была «воспевать» какое-нибудь великое событие в жизни человечества или в жизни народа,— и в какую бы эпоху, у какого бы народа ни произошло это событие, оно должно быть наряжено в багряницу или тогу...»
Это высказывание также созвучно ироническому обращению Пушкина к Гомеру в «Евгении Онегине»:
«Твои свирепые герои,
Твои неправильные бои,
Твоя Киприда,твой Зевес
Большой имеют перевес
Перед Онегиным холодным,
Пред сонной скукою полей,
Перед Истоминой моей,
Пред нашим воспитаньем модным;
Но Таня (присягну) милей
Елены пакостной твоей.
Никто и спорить тут не станет,
Хоть за Елену Менелай
Сто лет еще не перестанет
Казнить Фригийский бедный край,
Хоть вкруг почтенного Приама
Собранье стариков Пергама,
Ее завидя, вновь решит:
Прав Менелай и прав Парид.
Что ж до сражений, то немного
Я попрошу вас подождать:
Извольте далее читать;
Начала не судите строго;
Сраженье будет...»
Сражение, о котором пишет Пушкин, – будущая дуэль Онегина с Ленским. Ирония же заключается в том, что высокий план героической эпопеи сопоставлен с бытовым, современным, «низким». Все эти стихи входили в пятую главу романа, опубликованную в 1828 году.
Однако пять лет спустя, в первом полном печатном варианте романа, сопоставления дуэли Онегина и Ленского с героическими сражениями в «Илиаде», а также сравнение Татьяны с Еленой были Пушкиным устранены.
Вероятно, непосредственным поводом к пересмотру всего отрывка в целом послужила полемика, развернутая Раичем в 1830 году вокруг отзыва Пушкина на перевод «Илиады», сделанным Гнедичем в конце 1829 года. Пушкин считал это событие выдающимся, должным повлиять на судьбу «всей нашей литературы». Его маленькая рецензия вызвала бурные споры. Суть возражений критики сводилась к тому, что Пушкин непомерно завысил роль, которую «Илиада» может сыграть в современной жизни,
Полемика не прошла бесследно. Она вызвала глубокие раздумья над ролью гомеровского эпоса. Результатом этого и могло оказаться решение поэта устранить места, дающие хотя
бы косвенный повод к иронии над Гомером.
«Остались лишь несколько строк:
И кстати я замечу в скобках,
Что речь веду в моих строфах
Я столь же часто о пирах,
О разных кушаньях и пробках,
Как ты, божественный Омир,
Ты тридцати веков кумир!»
Образ «суетного пира» XIX столетия на фоне величавого гомеровского эпоса появляется в стихотворении Пушкина, посвященном Гнедичу:
«С Гомером долго ты беседовал один,
Тебя мы долго ожидали.
И светел ты сошел с таинственных вершин
И вынес нам свои скрижали.
И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром,
В безумстве суетного пира,
Поющих буйну песнь и скачущих кругом
От нас созданного кумира.
Смутились мы, твоих чуждаяся лучей.
В порыве гнева и печали
Ты проклял ли, пророк, бессмысленных детей,
Разбил ли ты свои скрижали?
О, ты не проклял нас. Ты любишь с высоты
Скрываться в тень долины малой.
Ты любишь гром небес, но также внемлешь ты
Жужжанью пчел над розой алой».
Стихотворение это примечательно в данном случае еще и тем, что дает возможность увидеть истинное отношение Пушкина к Гомеру, подчас заслоненное ироническими выпадами поэта против классицизма. Мир Гомера своей приподнятостью и цельностью противостоит «безумству суетного пира» XIX века.
В стихотворении «Труд», посвященном окончанию работы над «Евгением Онегиным» в Болдине, 25 сентября 1830 года, Пушкин не случайно обратился к гекзаметру:
«Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолетний.
Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня?
Или, свой подвиг свершив, я стою, как поденщик ненужный,
Плату принявший свою, чуждый работе другой?
Иль жаль мне труда, молчаливого спутника ночи,
Друга Авроры златой, друга пенатов святых?»
Настроение поэта здесь сходно с тем, которое он приписывает Гнедичу после окончания перевода «Илиады».
Цельность и чистота мировосприятия гомеровских героев в чем-то перекликаются с цельностью и чистотой образа Татьяны Лариной, с которым Пушкину так трудно было расставаться в последних строках романа.
Время от времени в тексте романа прослеживаются тонкие и ненавязчивые сопоставления Татьяны Лариной с античными богами природы.
Эпиграфом к третьей главе романа взяты слова французского поэта Мальфилатра: «Она была девушка, она была влюблена» — из поэмы «Нарцисс на острове Венеры». Если
учесть, что в главе речь идет о двух посещениях Онегиным имения Лариных, становится ясным ироническое сопоставление его в данной ситуации с Нарциссом, а Татьяны с нимфой Эхо, влюбленной в Нарцисса.
Поскольку Пушкин всегда придавал большое значение эпиграфам, а в данном случае эпиграф взят из книги Мальфилатра, разрезанной Пушкиным от начала до конца, мы вправе видеть здесь вполне глубокое соотнесение любовного сюжета «Онегина» с античным сюжетом, заимствованным Мальфилатром у Овидия.
Еще один образ стоит в ряду античных ассоциации, связывающих Татьяну с природой, хотя сопоставление здесь, может быть, не так явно, как в третьей главе. Луна, везде и всюду сопровождающая Татьяну на страницах романа, названа именем Дианы, вечно юной, вечно девственной богини-охотницы. Созвучны также имена Диана — Татьяна.
И все-таки эти сопоставления не привлекли бы нашего внимания, если бы за ними не открывалась гораздо более глубокая, подлинная связь «Евгения Онегина» с античностью, связь, которой проникнуты образы природы в романе.
Календарь природы в «Евгении Онегине» всегда перед глазами читателя. Ритм эпического времени романа соответствует плавному шествию времен года. Это происходит пластически зримо – в пейзажах, насыщенных объективным деиствием.
Образ времен года возник еще в эпопее Гомера, когда в «Илиаде» среди сражений Троянской войны Гомер запечатлел на щите Ахилла вселенную, где плавное шествие светил по замкнутому кругу чередуется с ритмом сельских работ:
«Сделал на нем и широкое поле, и тучную пашню,
Рыхлый, три раза распаханный пар; на нем землепашцы
Гонят яремных волов, и назад, и вперед обращаясь...
Далее выделал поле с высокими нивами...
Там же и стадо представил волов, воздымающих роги...
Два густогривые льва на передних волов нападают,
Тяжко мычащего ловят быка; и ужасно ревет он,
Львами влекомый; и .псы на защиту и юноши мчатся..»
Сюжет времен года пришел в европейскую поэзию в 1726-1730 годах в поэзии Томаса Грея, и рассматривался как подражание «Георгикам» Вергилия. К Вергилию этот сюжет пришел от Гесиода, так же как к Гесиоду он пришел от Гомера, а к Гомеру – от незапамятных мифов.
В 1822 году ДРУГ Пушкина Кюхельбекер поместил в журнале «Благонамеренный» подробный разбор «Херсониады» Семена Боброва, где множество сцен и картин заимствованы из времен года Томпсона. Дядя Пушкина, Василий Львович Пушкин, напечатал в начале Х1Х века отрывок из «Осени» Томсона в вольном переводе:
«Кто в мире счастия прямого цену знает
И сельской жизни все приятности вкушает
В кругу своих друзей, от шума удален
Тот истинно в душе покоен и блажен...»
У Пушкина образ природы создан эпическими красками. В этом отношении пейзажи Пушкина восстанавливают гомеровский, или, как говорил А.Ф. Кони, «языческий» взгляд на природу.
Главное здесь не в том, что сюжет времен года идет от Гомера. Удивительно то, что в создании образа природы в романе Пушкин, вопреки существующей литературной традиции, оказался ближе к Гомеру. Впервые это заметил И.С.Тургенев: «Вспомните описания Пушкина… Древние греки так же просто взирали на природу… отношения этого по духу своему, действительно древнего поэта к природе так же просты, естественны, как у древних».
Новизна античного сюжета времен года в романе Пушкина заключалась в том, что впервые совместились два разрозненных принципа изображения природы – эпический и лирический.
Лессинг в «Лаокооне» открыл эпическую «живопись действием», которая создается путем мысленного перемещения тел в пространстве.
Гердер дополнил эту классификацию понятием о «живописи чувством», где на первом плане – незримое движение чувств. У Пушкина можно найти оба типа живописи.
«Вот бегает дворовый мальчик,
В салазки жучку посадив,
Себя в коня преобразив...»
Эти строки можно отнести к эпической живописи действием.
Вот другой пейзаж, в нем преобладает лирическая, гердеровская живопись чувством:
«Унылая пора! очей очарованье,
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса... «
Чаще же всего оба вида живописи выступают в единстве:
«Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась...»
В этом пейзаже зримые, телесные, «протяженные» образы изобразительности:
«Встает заря во мгле холодной;
На нивах шум работ умолк;
С своей волчихою голодной
Выходит на дорогу волк...»
Образы телесно зримы, как в гомеровском пейзаже, преобладает живопись объективным действием («встает заря», «выходит на дорогу волк»). Именно это действие воссоздает поток эпического времени в романе. Сочетание эпической и лирической живописи порождает тот взгляд на природу, который мы называем реалистическим. Понятие природы включает здесь в себя природу человеческих чувств и отношений, не растворяя их в чисто субъективном переживании.
Такой параллелизм в зачатке существовал еще в древности, когда психические процессы уподоблялись движению ветра, огня, воды. Так, в «Илиаде» Гомера душевное состояние героев перед битвой, их бесстрашие полностью выражено в пластических образах природы:
«Ревностно в бой возбуждали ахейских сынов; но ахейцы
Сами ни силы троян не страшились, ни криков их грозных;
Ждали, недвижные, тучам подобные, кои Кронид
В тихий безветренный день, на высокие горы надвинув,
Черные ставит незыбно, когда и Борей и другие
Дремлют могучие ветры, которые мрачные тучи
Шумными уст их дыханьями вкруг рассыпают по небу;
Так ожидали данаи троян, неподвижно, бесстрашно».
Как отметил А. Ф. Лосев, внутренний мир человека в «Илиаде» не столько сравнивается с природой, сколько уподобляется ей, порой до полного тождества. В эпосе Гомера
преобладает живопись действием. Вместо движения чувств перед нами перемещение в пространстве пластических телесных образов (тучи, горы).
У Пушкина параллелизм человека и природы, конечно, основан не на буквальном уподоблении человеческих чувств природным процессам, а на равноправном сравнении стихии природы и стихии человеческих чувств. При таком понимании природы граница между ней и человеком всегда подвижна. Природа раскрывается через человека, а человек — через природу.
Весна — это еще и любовь, любовь — это еще и весна:
«Пора пришла, она влюбилась.
Так в землю падшее зерно
Весны огнем оживлено».
Это сравнение еще умещается в русле традиционных романтических сопоставлений с природой, когда на первом месте человеческие чувства, а сама природа здесь присутствует как повод для сравнения. Мы не можем видеть, как «зерно весны огнем оживлено», а если и увидим, это уведет нас от конкретного лирического образа.
Для Пушкина такое растворение реальной природы во внутреннем мире человека не характерно. В его сравнениях природа не теряет своей пластичности и зримости. В этом его коренное отличие от романтиков. Здесь возрождение античной телесности мира на новом уровне.
Весна возникает в конце романа не только как время года, но и как любовь Онегина:
«Дни мчались; в воздухе нагретом
Уж разрешалася зима...
Весна живит его: впервые
Свои покои запертые,
Где зимовал он, как сурок,
Двойные окна, камелек
Он ясным утром оставляет,
Несется вдоль Невы в санях.
На синих, иссеченных льдах
Играет солнце; грязно тает
На улицах разрытый снег...»
Весна не просто условное отражение внутреннего мира, она реально зрима, хотя одновременно она и сравнение. То, что происходит в душе Онегина, подобно тому, что происходит в природе. Гердер не смог бы в этом отрывке найти лирическую живопись чувством. Здесь преобладает живопись действием – играет солнце, тает снег, Онегин несется вдоль Невы в санях. В то же время зримые и осязаемые образы передают незримое движение чувств.
«Евгений Онегин» насыщен пластическими пейзажами. Время в них сгущается, становится пространственным, вещественным, как пейзаж на щите Ахилла.
Щит Ахилла — это античный космос в миниатюре, дающий представление о вечном возвращении и периодической повторяемости событий:
«...И на круге обширном
Множество дивного Бог по замыслам творческим сделал.
Там представил он землю, представил и небо, и море.
Солнце в пути неистомное, полный серебряный месяц,
Все прекрасные звезды, какими венчается небо:
Видны в их сонме Плеяды, Гиады и мощь Ориона,
Арктос, сынами земными еще колесницей зовомыи...»
Круглая форма щита делает зримым вращение Арктоса, Плеяд, Ориона, и они следуют в пространственной двумерности щита один за другим.
В романе «Евгений Онегин» вместо круглого щита существует круговорот времен года, который также включает в себя движение светил по небосводу и ритм обычной человеческой жизни.
Природа с самого начала открытая взору Татьяны, скрыта от глаз Онегина, как скрыта была для него вначале природа собственных чувств.
Образ времен года в конце романа оттеняет разлад Онегина с природой. Не случайно он «бранил Гомера, Феокрита»; его раздвоенному душевному миру была чужда эпическая цельность. Его разлад с обществом перерастает в разлад с природой.
«Любви все возрасты покорны;
Но юным, девственным сердцам
Ее порывы благотворны,
Как бури вешние полям...
Но в возраст поздний и бесплодный
На повороте наших лет,
Печален страсти мертвый след...»
Мысль о внутреннем разладе Онегина с природой возникает уже при чтении первых страниц романа. Правда, пока это лишь внешние контрасты его образа жизни с жизнью природы. С Татьяной читатель встречается в момент ее глубокой задумчивости, на фоне звездного неба. Онегин влетает в повествование «на почтовых». «Помчался», «поспешил», «стремглав», «взлетел» – слова передающие стремительный ритм Онегина, пытающийся обогнать природу:
«Природы глас предупреждая,
Мы только счастию вредим,
И поздно, поздно вслед за ним
Летит горячность молодая...»
Онегин далек от природы. Его мир и его вселенную легче распознать в книгах, которые он читает, чем в пейзажах, которые его окружают и которые надоели ему через три дня.
«Два дня ему казались новы
Уединенные поля,
Прохлада сумрачной дубровы,
Журчанье тихого ручья;
На третий роща, холм и поле
Его не занимали боле;
Потом уж наводили сон...»
Настоящее, глубокое проникновение Татьяны в мир Онегина происходит благодаря знакомству с его любимыми книгами. При этом Татьяна воспринимает образ Чайльд-Гарольда, как наиболее близкий Онегину:
«Что ж он? Ужели подражанье,
Ничтожный призрак, иль еще
Москвич в Гарольдовом плаще...»
Если вся вселенная Татьяны раскрыта в природных и космических пейзажах романа, то вселенная Онегина могла раскрыться перед глазами вдумчивого читателя при сопоставлении мира Онегина с миром привлекающих его внимание книжных образов.
Какова же вселенная перед глазами Онегина? Среди его увлечений не было физики и философии — наук об устройстве мира. И все-таки мы знаем, как мог Онегин видеть и представлять вселенную. Это могла быть вселенная Байрона, какой она раскрывается перед читателями в «Чайльд-Гарольде»:
«Он, как халдей, на звезды глядя ночью
И населяя жизнью небосвод,
Тельца, Дракона видеть мог воочью.
Он был бы счастлив за мечтой в полет
И душу устремить.
Я сам в себе не замыкаюсь. Там
Я часть природы, я — ее созданье.
Мне ненавистны улиц шум и гам,
Но моря гул, но льдистых гор блистанье!
В кругу стихий мне тяжко лишь сознанье,
Что я всего лишь плотское звено
Меж тварей, населивших мирозданье,
Хотя душе сливаться суждено
С горами, звездами и тучами в одно».
Чтение Байрона было глубоким: «Хранили многие страницы отметку резкую ногтей». На полях Татьяна встречает «черты его карандаша».
«Везде Онегина душа
Себя невольно выражает
То кратким словом, то крестом,
То вопросительным крючком».
Но за звездами, «как халдей», Онегин не следил. Для него вселенная—это «глупая луна» на «глупом небосклоне». Стало быть, взгляд Чайльд-Гарольда был ему чужд.
Это неприятие Онегиным природы, его молчаливый, иронический вызов мирозданию перекликается с ощущениями Гамлета и Фауста.
«Самая осмотрительная девушка уже достаточно неосторожна, когда открывает свою красоту луне», — говорит Лаэрт в «Гамлете», предостерегая Офелию. Природа в этой трагедии Шекспира грядет как возмездие, с мерным ходом светил. Появление Призрака, говорящего о страшном злодеянии, связано с движением звезд:
«Б е р н а р д о. Прошедшей ночью, когда вон та самая звезда, которая к западу от Полярной, продвинулась по своему пути и освещала часть небес, где она сейчас горит, Марцелл и я, когда колокол бил час...
Входит Призрак».
Движение звездного неба пронизывает и роман «Евгений Онегин». Но для Татьяны в этом движении нет ничего зловещего. Если образ Онегина тяготеет к гамлетовскому началу, то образ Татьяны ближе к образу Джульетты. Джульетта, как и Татьяна, поверяет свои тайны звездному небу, и Ромео в страстном монологе сопоставляет ее с луной:
«Стань у окна, убей луну соседством:
Она и так от зависти больна,
Что ты ее затмила белизною».
Лунная чистота и звездная яркость шекспировских женских образов близки Татьяне Лариной.
Первый портрет Татьяны соткан из звезд и рассвета:
«Она любила на балконе
Предупреждать зари восход,
Когда на бледном небосклоне
Звезд исчезает хоровод,
И тихо край земли светлеет,
И, вестник утра, ветер веет,
И всходит постепенно день.
Зимой, когда ночная тень
Полмиром доле обладает
И доле в праздной тишине,
При отуманенной луне
Восток ленивый почивает,
В привычный час пробуждена,
Вставала при свечах она»
Движеньем света написан портрет Татьяны. Движением света насыщен весь роман. В первой главе это мерцание свечей, фонарей; затем искусственный свет все чаще уступает
место свечению звезд, тихому свету луны, сиянию солнца.
«Лучом Дианы» озарена в романе Татьяна Ларина. Движение луны есть одновременно движение сюжетной линии романа. При «вдохновительной луне» пишет она письмо Онегину и заканчивает его лишь, когда «лунного луча сиянье гаснет». Бесконечное звездное небо и бег луны отражаются в зеркале Татьяны в час гадания:
«Морозна ночь, все небо ясно;
Светил небесных дивный хор
Течет так тихо, так согласно...
Татьяна на широкий двор
В открытом платьице выходит,
На месяц зеркало наводит...»
Неуловимое дрожание руки Татьяны, биение пульса, трепет ее души передаются вселенной, и «в темном зеркале одна дрожит печальная луна». «Дивный хор светил» останавливается в ее маленьком зеркале.
В трагический момент романа луна останавливается над могилой Ленского вместе с Татьяной и Ольгой: «И над могилой при луне, // Обнявшись, плакали оне» (V, 143).
Смерть Ленского сливается с возрождением природы. В лексике Пушкина, как и в лексике всего XIX столетия, смерть часто уподоблялась тьме, а жизнь — свету. Вопреки этому канону, смерть Ленского сравнивается с алмазными переливами спадающей снежной лавины:
«Туманный взор
Изображает смерть, не муку.
Так медленно по скату гор,
На солнце искрами блистая,
Спадает глыба снеговая...»
Та же снежная лавина низвергается затем целым потоком жизни: «Гонимы вешними лучами, // С окрестных гор уже снега // Сбежали мутными ручьями...» (V, 140).
И вот продолжается путь Татьяны вместе с луной, вместе со всей природой:
«Был вечер. Небо меркло. Воды
Струились тихо. Жук жужжал.
Уж расходились хороводы;
Уж за рекой, дымясь, пылал
Огонь рыбачий. В поле чистом,
Луны при свете серебристом,
В свои мечты погружена,
Татьяна долго шла одна».
Портрет Татьяны становится неотделим от общей картины мира в романе. Ведь не просто природа, а именно вселенная с величественной сменой дня и ночи, с мерцанием звездного
неба и розовых снегов, с непрерывным шествием светил органически входит в повествование. Глазами Татьяны и автора создается космический фон романа, безгранично раздвигающий пределы повседневного быта.
В непрерывном возгорании света, в постоянном космическом огне кроется глубокий смысл: на этом фоне развертывается извечная драма человеческой любви, ее прозрений и заблуждений.
Перспектива космоса и природы создается в романе еще тем, что расцвечен он не цветом, а светом. Чаще всего это восход и заход солнца, отблеск свечей или камина, свет луны, блеск снега, сияние звездного неба. Световая палитра романа — это серебристое ночное свечение звезд и луны, переходящее в золотой и алый свет камина или солнца. Роман как бы соткан из живого света.
В «Евгении Онегине» природа выступает как положительное начало в человеческой жизни. Образ природы неотделим от образа Татьяны. В «Гамлете» это положительное природное начало сконцентрировано в образе Офелии. Погибая, Офелия как бы возвращается в природу, растворяется в ней:
«Когда она взбиралась на иву, чтобы повесить на свисающие ветви сплетенные ею венки из цветов и трав, завистливый сучок подломился и вместе со своими трофеями из цветов она упала в плачущий ручей. Широко раскинулась ее одежда и некоторое время держала ее на воде, как русалку, и в это время она пела отрывки старых песен, как человек, не сознающий своей беды, или как существо, рожденное в водяной стихии и свыкшееся с ней».
Как Гамлет не хочет поверить Офелии, так Онегин не верит Татьяне. Голос человеческой натуры, говорящий о возможности счастья, кажется им неубедительным, потому что вокруг царит зло.
Объяснение Онегина с Татьяной и Гамлета с Офелией поражают сходством аргументации:
Гамлет:
«Иди в монастырь. Зачем тебе рожать грешников? Я достаточно честен. Однако я мог бы обвинить себя в таких вещах, что лучше бы моя мать меня не родила. Я очень горд, мстителен, тщеславен. В моем распоряжении больше преступлений, чем мыслей, чтобы их обдумать, воображения, чтобы облечь их в плоть, и времени, чтобы их исполнить... Мы все отъявленные подлецы. Никому из нас не верь».
Онегин:
«Но я не создан для блаженства.
Ему чужда душа моя...
Что может быть на свете хуже
Семьи, где бедная жена
Грустит о недостойном муже...
Где скучный муж, ей цену зная
(Судьбу однако ж проклиная),
Всегда нахмурен, молчалив,
Сердит и холодно ревнив!
Таков я...
Мечтам и годам нет возврата;
Не обновлю души моей...
Учитесь властвовать собою;
Не всякий вас, как я, поймет;
К беде неопытность ведет».
(V, 81, 82)
Исповедь Онегина перекликается с речью Гамлета. Здесь то же неверие в человеческую природу, ссылка на непостоянство людей как на вечный закон природы, сомнение в природных возможностях человека.
Офелия не возражает на слова Гамлета, Татьяна не отвечает Онегину. Возражением здесь являются не слова: любовь Офелии и любовь Татьяны — лучшее опровержение аргументов Гамлета и Онегина.
В книге «Поэзия и правда» Гёте писал: «Отвращение к жизни имеет свои моральные и физические причины... Все приятное в жизни основывается на правильном чередовании явлений внешнего мира. Смена дня и ночи, времен года, цветение и созревание плодов, словом, все, что через определенные промежутки времени возникает перед нами, дабы мы Могли и должны были этим наслаждаться, — вот подлинная пружина земной жизни. Чем открытое наши сердца для этого наслаждения, тем счастливее мы себя чувствуем. Но если нескончаемая череда явлений проходит перед нами, мы же от нее открещиваемся и остаемся глухи к сладостным зазываниям, тогда приходит зло, тягчайшая болезнь вступает в свои права, и жизнь представляется непосильным бременем».
Таким непосильным бременем представляется жизнь Онегину. Причем Гёте подчеркивал, что эти «симптомы отвращения к жизни, которые нередко приводят к самоубийству», удел «чаще всего людей мыслящих и самоуглубленных».
В подражании «Фаусту», созданном в период напряженной работы над «Онегиным», в 1825 году, Пушкин сосредоточил свое понимание фаустовской драмы. Его Фауст, говоря о своей любви, вспоминает «шум древесный» и «сладкозвонные струи». Для него любовь к Маргарите так же естественна, как природа. Мефистофель пытается заглушить в Фаусте голос природы:
«Ты думал: агнец мой послушный!
Как жадно я тебя желал!
Как хитро в деве простодушной
Я грезы сердца возмущал!
Любви невольной, бескорыстной
Невинно предалась она...
Что ж грудь моя теперь полна
Тоской и скукой ненавистной?..»
Фактически Мефистофе
|
|
Журнал ПО этов №9 (21) ПАЛИНДРОНАВТИКА |
Альманах «Журнал ПОэтов» № 9, 2008
Учебное пособие Академии Поэтов и Философов
Московской академии образования Натальи Нестеровой
Москва, 2008
ПАЛИНДРОНАВТИКА
-------------------------------------------------------------------------
- Хроника событий -
14 февраля 2007 г. в приемной Натальи Нестеровой на Тверской, 20 состоялась презентация «Антологии ПО». Все двадцать номеров «Газеты ПОэзия» и «Журнала ПОэтов» с 1995 по 2007 гг. вышли под одной обложкой в твердом переплете тиражом 999 экз. Это первый случай в истории поэзии, когда поэты сами в течение 12 лет выпускают свое издание без всяких посредников. Учредитель – группа ДООС (Добровольное общество охраны стрекоз) при поддержке Русского Пен-клуба. А с 2001 года издание стало еще и учебным пособием факультета Академия Поэтов и Философов Московской Академии образования. Во вступительной речи Андрей Вознесенский сказал об «Антологии ПО»: «Это великая книга». Еще одна презентация состоялась в книжном магазине «Библио-Глобус» 21 марта – 8-й Всемирный день поэзии. Елена Кацюба представила антологию на телеканале «Звезда» в программе Ивана Кононова «Предметный разговор». ДООСы и авторы ПО также принимали активное участие в Международном фестивале «Другие» под эгидой журнала «Футурум-Арт» (гл.редактор Евгений Степанов), в фестивалях поэзии в Туле, в Киеве, в фестивале «Литератерра» Нижнем Новгороде, в Гуманитарным семинар «Seminarium hortus humanitati» в Риге, в фестивале «Европа 2008» в Праге, организованном русскоязычными писателями Европы и Русским Домом при посольстве РФ.
21 марта 2008 г. в Мраморном зале Дома журналистов состоялся 9-й Всемирный день поэзии под эгидой ЮНЕСКО (напомним, что впервые этот праздник был проведен ДООСом в театре Ю.Любимова на Таганке в 2000 г.), при поддержке журнала «Персона». Участвовали: Константин Кедров, Алексей Симонов (и.о. директора Пен-клуба), Елена Кацюба, Вадим Рабинович, Алла Кесельман, Михаил Бузник, Александр Бубнов, Алина Витухновская, Ольга Адрова. Гл. редактор «Персоны» Лариса Шамикова зачитала два документа: благодарность К.Кедрову от ЮНЕСКО за проведение 1-го Всемирного дня поэзии и нынешнее послание Генерального директора ЮНЕСКО Коитиро Мацууры к поэтам: «2008 год имеет для поэзии особую значимость, ибо Организация Объединенных наций провозгласила его Международным годом языков. Ведь языки – это сама основа поэзии, та материя, из которой рождаются стихи. В этом году поэты смогут мыслью и делом воздать должное тому неисчерпаемому богатству, каковым является для их творчества языковое разнообразие…» А в апреле вышел номер журнала «Персона», посвященный поэзии Константина Кедрова, 100-летию манифеста футуризма и 9-му Всемирному дню поэзии. Также в рамках 9-го Всемирного дня поэзии состоялся вечер «Шок-шоу ДООСа» в ГЦСИ (Государственный центр современного искусства), который вел искусствовед Виталий Пацюков. А 30 мая в кафе «Сити» на Сивцевом Вражке состоялось открытие Литературного клуба поэта Константина Кедрова и ДООС (Добровольного общества охраны стрекоз).
К сожалению, прошлый год стал для «ПО» и ДООСа годом тяжелой утраты: закончилась земная жизнь Александра Ткаченко. После ухода в 1999 г. Генриха Сапгира и Игоря Холина это еще она невосполнимая потеря. «Улетел от нас Ткач, / как в ворота футбольный мяч. / Плачь – не плачь, не вернется Ткач. / Сенькью вери мач – / Сенькью вери матч – / Сенькью вери мяч – / Сенькью вери Ткач».
ДООСы Нина Зарецкая, Константин Кедров и Елена Кацюба сняли по заказу телеканала «Культура» фильм «Нечетнокрылый ангел» о всемирно известном художнике Павле Челищеве – двоюродном деде К.Кедрова. Музыку к фильму написала Алла Кессельман. Съемки проходили в Москве и Нью-Йорке. Также по телевидению прошел фильм «Номинат», посвященный нобелевской номинации К.Кедрова. Фильм снят при поддержке Комитета по печати и кинематографии РФ, режиссер Татьяна Юрина.
В Китае изданы две антологии русских поэтов с участием авторов «ПО». В Париже вышел очередной номер журнала «Прессаж», который издает наш автор и член редколлегии поэт и скульптор Борис Лежен. В Дублине издан сборник-билингва русских поэтов «Ночь в отеле Набокова» в переводах также члена редколлегии нашего журнала Анатолия Кудрявицкого.
-------------------------------------------------------------------------
– Палиндронавтика –
Если строка движется в обратную сторону с тем же смыслом, значит настала полнота времени – смысл обрел вечность. И наоборот, вечность обрела смысл – тоже палиндром. Но палиндронавтика не довольствуется снованием челнока смысла туда и обратно. Она устремляется внутрь каждого слова, и тога из перестановок всех букв рождается анаграмма. Палиндром становится частным случаем анаграммы. Так в Осирисе таится Сириус, а в восходе кроется вдох. Возникает подозрение, что изначальный язык палиндромен и анаграммен. Иначе как объяснить, что в свете весть, а в голосе соло. Поэзия пробивается к изначальному языку богов, на котором, по утверждению Ф.Соссюра, написаны Илиада и Одиссея, Ветхий Завет и Махабхарата. Поэты не филологи, хотя в слове филолог – лиф гол.
Никто не знает, куда заведет нас звук. В этом году 100-летие манифеста футуризма Маринетти. Стихи Маринетти никто не помнит. Его политические взгляды никого не волнуют, а вот манифест бессмертен. В нем декларируется все, чего сам Маринетти не смог написать. За него пустующую графу заполнял Маяковский. Его тоже почти забыли. Запомнился птичий щебет: «жил – жив». На птичьем языке пытался говорить Хлебников. Он же написал первую в ХХ веке русскую палиндромическую поэму «Перевертень» – «мы, низари, летели Разиным». Ему принадлежит гениальная догадка, что палиндром – машина времени. Путешествие из будущего (от конца строки) в прошлое (к ее началу). Он построил гигантский палиндром из всей мировой истории, где все события возвращаются на круги своя через 365 лет. Получается нечто похожее на еще не открытую в то время ДНК. Палиндромы генетического четырехбуквенного кода еще не прочитаны. По сути любая форма жизни – чтение анаграмм и палиндромов генетического кода. Идеальная азбука из 4-х букв: мама и папа – уже начало жизни. Палиндром от «папа» – апа (женщина, тюрк.), палиндром от Адама – мадам (мадам Адам). Мы еще не научились читать книгу жизни, но поэзия ее пишет. «Прометей: «Я мял пламя!» Не точно по буквам, но точно по звуку. «Манифест – сев и нам. Маринетти – хит тени рам».
Знаменитые палиндронавты нашего времени ДООСы Елена Кацюба и Александр Бубнов. Бубнов изобрел таблицу элементов для всех палиндромов. Выяснилось, что количество элементов в ней бесконечно. Кацюба в своей «Свалке» открыла лингвистическую комбинаторику, расширив возможности палиндронавтики далее горизонта. Ушли асы палиндронавтики Ладыгин, Гершуни, Авалиани, Рыбинский. Забавно, что в музыке палиндром называется «ракоход» и является вполне обычным приемом, никогда не вызывавшим никаких нареканий. С палиндромом сложнее. Он был в почете в XVIII веке, но позже, после деражвинского «я иду с мечем судия» и приписываемого Фету «а роза упала на лапу Азора» дальнейшее – тишина. В ХХ веке в России палиндром запретили почти на полвека. Только последнему футуристу Семену Кирсанову позволили опубликовать подборку в журнале… «Наука и жизнь». Палиндром Андрея Вознесенского «а Луна канула», прозвучавший со сцены Таганки, в конечном итоге привела к лишению гражданства Юрия Любимова. Брежнев решил, что это насмешка над нашими неудачами в космосе, ведь первыми на Луну высадились американцы.
«Первый палиндромический словарь» Елены Кацюбы и «Новый палиндромический словарь» включает более 13 000 палиндромических пар. Но дело ведь не в количестве, а в новом качестве языка поэзии. Он становится все более похожим на генетический код, но уже не природный, а поэтический. Ведь не случайно в имени Евгений – Ев гений и ген неги. «О, негин, Ев негий, он гений». Возможно, палиндронавтика изменит наше восприятие времени, превращая жизнь человека в анаграмму, палиндром и фрактал вечности. Можно будет сказать о том, кто умер: «умер у мер». А в безмерности – «вижу – жив»!
Константин Кедров, гл. редактор «Журнала Поэтов»
-------------------------------------------------------------------------
Константин Кедров
доктор философских наук
ДООС – стихозавр
Рисунок Константина Кедрова
Сойди эйдос
(А.Ф.Лосев)
Вес о Лосев
Логика аки гол
Иль символ лов мысли
Соло голос
Логос о гол
Сом Сократ стар космос
Платон о толп
Ни толп Плотин
Плотин ни толп
Ах Аристотель лет от Сираха
Корень не рок
Вея дребодан над о Бердяев
И икс не роль Флоренский
И диалектика аки ткала иди
Я мал Палама мала пламя
Ешь циник Ницше
Арт с утра Заратустра
Но Фавор или миров Афон
Имя Бог обя мы
Им я Бог об я мы
Схима в миру Рим вам ХС
Философия
Ха брей Ев Фейербах
э тих Фихтэ
э Шеллинг гнил еще
лег его Гегель
реб у Бубер
дрейфь Фрейд
а Кант нака
а Декарт рак еда
аз и псина Спиноза
вея дребодан над о Бердяев
ешь циник Ницше
о кому Камю мак ум око
Религия
И нам ом мани
А Кама мака
Сансара нас нас
Далай Лама а мал и ал лад
И сам авта тат твам аси
И дуб Инду будни Будды
Протестанты
Ад гони иногда
запрет юла Лютер паз
уж и в себе бес вижУ
Готика аки итог
ухаб Баху
Баху ухаб
Томас сам от
себя я бес
Юнг ню
иногда ад гони
Атеизм
Кит сон гад агностик
Адам и Ева
Адам органа громада
ля из звезд зев зиял
а рот тора
а нутро фортуна
а зал гада глаза
а вер Ева
роз взор
ноль лон
соски икс ос
лобок кобол
и тити
увижу живу
око чар зрачок о
а полет тела па
Античность
Овидий и диво
но за Назон
рад ни Пиндар
о фас Сафо
мак Эврипид и пир аэкам
Аргонавты
Ад арго ограда
мора паром
Зевс вез
Ясона нося
но Колхида ад их локон
Медея едем
везет Тезей в
а грамота том Арго
Одиссея
Иди сам Одиссей еси дома сиди
не риск сирен
полк и циклоп
оспа лакома Калипсо
море мог Улис силу Гомером
силу Гомером море мог Улис
ну Зевс везун
* * *
Юрий Любимов ставит в Дельфах нашу мистерию "Сократ / Оракул"
Логос о гол
сан Ра Парнас
сом Сократ стар космос
а Дельф Леда
Илиада
Йа Елене Менелай
Амур ума
я ор Троя
Илион но или
а не лень Елена
се вижу Менелай а Лене муж и вес
тишь щит Ахилл
Дон Жуан
Анна:
Да он дон но дно ад
Он Дон:
О да Анна надо
Анна:
Амиго а мигом
идальго и долго
на уж Жуан
Сирия
Я ирис Сирия
Алеппо пела
Я мер время
Дамасск сам ад
а Пальмира Рима лапа
Флоренция
Этна Дантэ
яиц не роль Флоренция
мало ран а вас Саванаролла
и лечи то Ботичелли
о то ж Джотто
Лоенардо с одра но ел
или Буонаротти и то рана убили
дива Давид
Издательство «1-С Паблишинг» в 2007 г. выпустило аудиодиски со стихами Константина Кедрова «Компьютер любви» в авторском исполнении.
-------------------------------------------------------------------------
Анатолий Швец
Портрет-палиндром – Константин Кедров, Алексей Хвостенко
1996
-------------------------------------------------------------------------
Андрей Вознесенский
ДООС – стихозавр
(Специально для ПО)
* * *
Казалось – показалось
off 'шоры – шофера
Мозамбики
зомбировали
Краса – коса
чтобы лапать
плетеная, как лапоть
TV’игги подвиги
Барбекю – Барби ку-ку
Усама Бенладен
не дал неба массам
Киркоров – Кир коров
Цветаева – цвета Ева
Тарантино – тинтаретто
Тарантино – скарлатина
для взрослых
Тинейджер
трахнул телку через пейджер
Кисет
пятьдесят –
полный писец
полный привет
-------------------------------------------------------------------------
Václav Daněk
Praga
Posrnový dialog 1968
– GE?
– NO NO NO
– CI?
– DA DA DA
– GE NO CI DA?
– NO NO NO NO
– GE?
– NO NO NO
– CI?
– DA DA DA
– GE NO CI?
– DA
– GENOCIDA!
– NONONONO
– GE NO CI?
– DA
Zláskykříž
zle
du
vl
na
s kopirty to jsi ty
me
du
pl
na
-------------------------------------------------------------------------
Елена Кацюба
ДООС
Бабочки другого мира
Они видели лед и винО
Лак резьбы, зыбь зеркаЛ
Их оды Веге – выдохИ
Узор вдоха – заход в розУ
Но в зареве севера – звоН –
цин-цин.
Но взмахам звон – ниц-ниЦ
И нет их ада свече в садах и тени –
Ада, сносимого богом, и сон садА
Их усики сухИ
Иного бала бог онИ
Из жизни художников
Циклодром
В центре – коллаж Игоря Ревякина
Издательство «1-С Паблишинг» в 2007 г. выпустило аудиодиски со стихами Елены Кацюба «Азбука» в авторском исполнении. В 2008 г. вышла книга «Свидетельство Луны». М., Изд-во Р.Элинина. Серия «Классики XXI века».
-------------------------------------------------------------------------
Вадим Рабинович
ДООС – доосозавр
ФЕРМЕНТ КУЛЬТУРЫ: ДОСЛОВИЕ—БЕССЛОВИЕ—ПОСЛЕСЛОВИЕ
Противочувствие этого названия очевидно. С одной стороны, культура, которую должно ферментировать; с другой – хранить в бессловии, то есть в ступоре речи – в состоянии болезни до лучших времен выздоровления. Пройти через очень опасную болезнь с неизвестным исходом: будет – не будет… Воз-любит?..
Но дословие и послесловие тяготеют к обычному: до-начальному и пост-смертному, когда онтологическое – чреватое всем – бытие и онтологическое же – чреватое ничем – небытие пре-бывают в общих соображениях Книги Бытия.
Но срединное бессловие решительно выбирает молодое начало бытия (пусть до поры не артикулированное), уже заболевшее ступором речи, но на пути к речевому здоровью. От «простого, как мычание» к пробою речи – индивидуальной, ни на что не похожей, не укладывающейся ни в какие матрицы и пустые клетки кросс-вордов. Новое удивление? От привычного вновь ничего не осталось?..
Но… еще раз от молодого начала бытия к столь же здоровой развитой речи (?)…
Как это было? Был День Ноль. До всех шести дней Бога и седьмого – только человеческого! – дня. А в день ноль было не слово, а то, что предшествует слову, -- гул, который еще станет словом и каждый раз будет становиться словом – делом. Делом – слововм… Бога. Человеческим (?) словом.
И вот выгнанные за ослушание в одиночество и в безрадостность бытия перволюди остались наедине с самим собой. С речью – подражанием. Канувшие в словесловие. В славословие. Во Славу Божию. Или… наоборот. В благодарность или в отместку. Богово – Люциферово. Но в любом случае – корыстно. Во славу Божию. Легко! Или наоборот. Тогда трудно…
Но все эти слова – вторые.
А первое слово – гул. Но гулу подражать нельзя. А все иное – б/у. Пусть даже Богово. Но все-таки бывшее в употреблении…
До начала был гул. А вот в качестве послесловия – дальнейшее молчанье. Но сыграть Божественный гул или дальше – тишину можно только преодолев муки бессловия. Если удастся…
Перворечь молодых будетлян – все-таки вторая (после Бога) речь. А может быть, и третья (после фольклорных речетворцев). «Все прочее – литература» -- тоже не ахти уж близкое к первой, ко второй и даже к третьей. По поводу всего этого (включая даже дорогих моему сердцу будетлян) могут быть изобретены всевозможные -логии. Всякие объяснительные схемы.
А вот бессловие чистого творчества – это болезнь. И я этой болезнью болел. И болею. Но, как мне кажется, мало-помалу выхожу… Сам. По-своему. Как уж получается. Без Бога, царя и героя. И даже без специальной метанауки…
САМ!..
А теперь, как у меня принято, – поэзия – и как раз об этом.
АМФИБРАХИЕМ ПО ЧИСТОМУ ЛИСТУ
…та-та-та та-та у запруды
та-та та-та-та невода
из темени вышел однажды
в роскошную лунную даль
пробелы прогалы прогулы
чтоб только большие лини
ловились а рыбки поплоше
ушли бы мужать в полыньи
но пусты и тщетны все ахи
и охи и как ни крути
трехстопный плутал амфибрахий
та-та-та в кроссворде сети
и то слава богу в радушьях
заоблачных фьердов и шхер
я неслух все слушал и слушал
хрустальную музыку сфер
мадонна джон дон или дон дон
дзень дзинь и непойманный линь
биг бен тихий дон или лондон
но то ли сказать диньдирлинь
диньдини веселие множа
сияли играя с луной
был свет исключительно божий
был звук исключительно мой
а там в черных фраках дондоны
тонируя гул мировой
как мелочь роняли эоны
и эры одну за другой
-------------------------------------------------------------------------
Виктор Ахломов
ДООС – линзазвр
Фотопалиндромы
-------------------------------------------------------------------------
Валерия Нарбикова
ДООС
Поехали купаться!
Эссе
Поехали купаться! Взгляните! Вон как раз самолет оставляет в безоблачном небе стрелку. И мы без всякого трапа – вбежим по этой стрелке в самолет. Откроем все окна и вдохнем безумно-свежий воздух, который бывает только ранней весной после ночных заморозков. И кто хочет, может даже покачаться в кресле, потому что сейчас это гамак, натянутый между двух берез, которые уже распустились, несмотря на то, что на земле все деревья еще спят. И сегодня все самое невероятное становится возможным, потому что мы едем купаться!
Выпьем по стаканчику перле, и сразу в горле приятно защиплет от пузырьков. И везде-везде, где нам только понравится, мы будем купаться!
Вон речка внизу так плавно извивается, не как мокрый от дождя автобан, а как только может извиваться речка внизу, видимая из открытого окна, летящего на всех паруса, самолета.
Это правда, что у нашего самолета есть паруса, и ему не надо тормозить в небе, потому что это не такси, и мы не пассажиры, и не за рулем, и не чайники. Поэтому мы выпрыгиваем из окна на всех парусах и ныряем в возлюбленную речку, которая окатит нас брызгами до самых небес, потому что мы хотим купаться.
И это такое счастье – сначала нырнуть в поток воздушных брызг – а потом вынырнуть из воды – и в потоке речных брызг – мчаться к самолету. И опять влететь в салон. Посидим у открытых окон, овеваемые ветром. А если заприметим еще одну излюбленную речку, то бросимся в нее – купаться! Все в этом мире призывает нас только к одному – только купаться. Любую жажду можно утолить, и только одну нельзя, это жажду – купаться. Мы возьмем все самолеты, какие есть в небе: и те, которые летят на войну; и те, которые летят в гости; и те, что летят по делам – они все до одного полетят с нами, потому что мы жаждем купаться.
И до конца света мы не утолим эту жажду – купаться.
И эту жажду нельзя утолить. Поэтому мы опять вспрыгнем в пролетающий над нами самолет.
Эти самолеты летают по нашему желанию. Потому что у них – жажда летать, а у нас – жажда купаться.
Мы искупаемся во всякой воде, какая есть на земле – и в большой, и в маленькой. Потому что у нас есть только одна жажда – купаться.
Мы возьмем с собой всех. Даже тех, кто купается в славе, в слезах и в любви.
Мы возьмем с собой всех – купаться!
У Валерии Нарбиковой в 2008 г. В Париже вышел роман «Сквозь» на французском языке в издательстве «Temps est Periodes».
-------------------------------------------------------------------------
Сергей Бирюков
ДООС – заузавр
доктор культурологических наук
ПОВОРОТ МИРА
перевернут мир
ну <---------->ун
нос повернут в сон:
кык мым дыд
быб выв тут
тат баб вув
pop non sos
гог кок bod
hih hah hoh
иногда хух
иной раз хых
пип пуп пып
тут тит тот
oto ovo ogo
obo omo ono
ugu
un<-------------->nu
сон повернут в нос
дыд дуд дад
рыр рур рар
ооооооооооооо
аааааааааааааа
ииииииииииии
ууууууууууууу
мы бежали
по полям
по лесам
там мат
ух <----> hu
НО ООН
нос повернут в сон
12.12
12 ч. 12 мин.
007,
средняя германия
-------------------------------------------------------------------------
Алла Кессельман
ДООС – Дева нот
Из зигзацкой поэзии
Пит Мондриан и Пит Бультерьер
смотрят из-за решеток
друг – н – друг
«Буль» – выпускает дог
ему кажется, что плывет
над решеткой полей,
разделенных рейсфедером.
«Пить!» – говорит Пит
краской ползет в бокал
и коктейль
«кровавая Терри»
опускает на спину летящей собаки
заземляя в один из квадратов
откуда кричат „Привет!“
но:
„НЕ Слоняться, окрашено!“... –
так и висят
в медленном друг – н – дрог
ожидая, пока на луне не высохнут краски –
Пит Мондриан и Пит Бультерьер
* * *
Мон Пантелей, бредущий на небо ос,
в мягких колесах, и с волосами из пакли
Мон скорпинон, просунувший жгучий хвост
В скважины луна, пока голоса не иссякли,-
Не оставляя следов колеса лица –
катится, прозрачночертый, в трекамерный камень
и последняя форма из дыма стирается
ободками с ресницами спиц и мельканьем окалин.
Переполняет себя неподвижен день
Горькие тени теряя, клонится к полудню.
Если бы знали, что музыки нету лютей –
Чем променять обожженное банджо на лютню.
Но и сквозь лютинки все прорастающий скрип
Тоннет стокровом над рогом и стопом творенья
в лирах, которых кричит семирогий медведь
их колесом колесуя себя сокровенно.
Мон Пантелей, одиноко бредущий на неб,
Лопнули цепи, вырываясь из нас с якорями –
Но по лесенке млечной, кораблями карабкаясь вслед –
Я бессмертьем своим твою смерть от меня – покоряю.
-------------------------------------------------------------------------
Михаил Бузник
* * *
В мир иной ушедшие:
Эдуардас Межелайтис – поэт.
Даниил Лидер – сценограф.
Давид Боровский – сценограф.
Борис Алимов – книжный график.
Академик Борис Раушенбах.
И вдруг Ирэн Урьяс – распятая клеветой, всегда восстанавливающая Храм, Храмы: перед тем как закрыть глаза навсегда – боль нечеловеческую принявшая – СЕГОДНЯ ДЕРЖАЛА ЗЕРКАЛО… ДРЕВНЕЕ ЗЕРКАЛО.
Крест сотворяющий – горизонт Воскресения! – сфокусировал в нем ЛИКИ всех пятерых друзей моих.
Они к слогу Божественному вошедшие – теперь Словом были.
Недоступны их руки скрещенные.
Зеркало же обнажило исход.
Исход, что вкленил в даты жизни нашей – цифры неземные.
Борис Александрович Алимов! Именно душа твоя хранит Храм Московский Вознесение Малое.
Борис Раушенбах – главный теоретик космоса! – твоими деяниями восхищенный Эдуардас Межелайтис – бездонность предвесеннюю обретает.
Даниил Даниилович Лидер – ты у метелей Блока (векторе Вселенной) – спрашиваешь: почему красота Питера столько раз убивала, а не спасала?
Борис Александрович Алимов! Живым состраданием твоим – храни Храм Малое Вознесение на Большой Никитской.
Помоги ему любовью своей.
25.12.2007
Отрок Ваня Малышев
Он жил в Москве на Пушкинской площади.
Сколько же линий Тверского бульвара изъела страхом его смерть.
Камни же под стопами его матери Варвары теплые. Так Иван желает.
А вокруг Варвары высокие башни – нематериальные.
И чего теперь только не знает Иван.
Ему известна граница бытия Спасающихся – в безднах неба.
Он видит, как фрески исчезают в храмах – ибо они Ангелов хранят на небе.
Ему ведомо, что конец для многих его знакомых приближается, но никто из них не хочет слышать откровения.
Творящей мыслью свершается радость.
Вчера, в субботу, мать Ивана – Варвара и его отец Сергей – проснулись и увидели на столе яблоки от сына.
31.11.2007
-------------------------------------------------------------------------
Румен Шомов
София, Болгария
ОПЫТ ИЗОБРАЖЕНИЯ СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОГО
ОЖИВЛЕНИЯ БИБЛЕЙСКОГО ЛАЗАРЯ
ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ
Приходил он и взирал на Лазаря
глазами лазурными, глазами как лазер.
Раз, два, три – возвращение к жизни...
Дальше – вечная слава Отчизны!
Вопрос:
…Заря ли озарила
пыль
могилы?
21 августа 2006 г.
СОН
Земля содержит больше кислорода,
Чем воздух.
Черви устремляются в
г
л
у
б
ь...
СЮЖЕТ
Майе
Стоит музыкант пред открытым роялем
в зале полупустом.
Не хочет публика Шостаковича слышать,
Бетховена не хочет,
не хочет Равеля.
Публика очень спешит.
Музыкант выходит из зала,
волоча
за собой
рояль по улице.
* * *
Одинокая тень
вернись
в свое тело!
20 июля 2006
Оживил болгарского Лазаря в русском языке Евгений В. Харитоновъ
-------------------------------------------------------------------------
Анна Альчук
(1955 – 2008)
ДООС – стрек-Изида
1.
ОТлеТЕЛА душа
отдышалась
отрешилась от шлака и –
вширь
просияла на синем
отсель
несиницей в руках саркофага --
прошивающим Землю дождем
журавлем
обживается вечность
2.
шум у лица
теперь не скро
ешь кёльнских
кнайпов акатоне
гудит и бу
лькает и злит
поли(т)-поли(п)-ция
и кроме
графитти РАФа –
ничегонет
3.
пена -- камень
ГОЛУБИзна
ибисы
сойки
плещут:
ВОЛ(ю)НА ВОЛ(ю)НА ВОЛ(ю)НА
В`ОЛЮ!
вздыбится мором
о гальку –
пташек щебечущих
штучек небесных
трётся о берег
ВОЛ
НА оберег
герб моря
4.
Малый Маяк 2005г.
брызнули звёзды в глаза
в ночь кипарисы вреза
ются ль
ются тигле
белое «А»
в (каждом)е жажды
трижды вангоговский
свет
темой усилен
не лис* --
слитков глубинного
(ЗНА
НИ
Я)
ни кто-то другой
не
знает
5.
Узнавания
Чистый звук
Из лу(ча емый)…
Тело
Едва
Лиминуя
Ь знак обращает в твёрдый
-------------------------------------------------------------------------
Галина Мальцева
ДООС
Вавилонский дождь
-------------------------------------------------------------------------
Александр Бубнов
доктор филологических наук
ДООС – палиндрозавр
ЛИНГВОРЕАЛИЗМ… ЛЬНА
(тезисы словоманифеста
льNо 1-А - специА-ЛЬНО для журнала ПО,
ПО мотивам «лингвистического реализма» Елены Кацюбы
и палиндромософии «ИЛИ» Константина Кедрова)
Лингвистическая реаЛЬНОстиЛЬНОсть лёгким льном льNёt к нам, даНА НАм - НА! НА! - в ощущениях - ?ОЩУЩУЩО? в щелях ткани текстоЛЬНА? НАЛЬём, и не нАлом да просочится чтение! но чу в ственнольно! словольно!
Говорят «встретимся в реАЛЕ (алё)», то есть «в реаЛЬНОсти», в отличие от виртуаЛЬНОсти интернета. Это реаЛЬНОсть физическая. НОЛЬ - плюс на минус или плюс-минус? ЛингвореаЛЬНОсть изначаЛЬНО живёт и в инете, и в живом разговоре (и в разговоре, допустим, поэта с самим собой, не говоря уж о …нале фининспектора). Более того, они объединяются, умНОжаются. НО это уже - не НОЛЬ. Это по самой малой мере - удвоение.
ЛИнгвореаЛИзм - слово из пяти слогов с «отражающимся» ударением на первом и последнем, с повторением ударного и предударного. Словно рифма внутрисловесная, слоговопалиндромная. Словорифма самодостаточная. Сплетение, льна плетение, летение и лечение. Ре3Онанс отражения стран О3, озона - над зонами, вне зон. Меж меж. Между силой "ИЛИ" и харизмой "И". Между «быть» ИЛИ «не быть» - палиндрософия Константина Кедрова. ПО - Палиндромическая Ось двухтомника «Или/Или» Сёрена Кьеркегора в 838 стран-НИЦ! …и возлежит цифирно на бесконечностях миров и антимиров вкруг Троицы. Лингвореализм новогаметовых (не опечатка) вопросов «быть Или? не быть?». ВЕТО «TO BE»? Всклик слОГОГОлоса - меж повторов составных союзов и - по ту сторону повторов. Меж гор и зон, версификаций и вердиктов - меж горизонталей и вертикалей. Меж меж. Сквозь сеть интернета и сеть параллЕЛЕй и мерИДИанов (?). Вспомните, как ловили нейтрино.
Аки нейтрино.
УниверсаЛЬНОе «lee» - и укрытие, и подветренная сторона - и ли, и ли. Elena (Const.).
ЛИнгвореаЛИзм - однословная квинтэссенция «закона поэтической речи», ПО Игорю Терентьеву. Или (и) «лингвистический реализм» Елены Кацюбы, НО ПОд властным давлением «тесноты стихового ряда» Юрия Тынянова, когда Потебнианское «наглядное значение слова» являет снопы лингвопоэтического «огня», ПО Владимиру Руделёву. Лингвореализм - наименование вновь набирающего силу и харизму на новом витке двойной спирали поэтической ДНК «направления» поисков Поэзии в Языке, новохайдеггеровский «путь к языку».
«Литературоведение как литература» Сергея Бочарова подразумевает и Поэтику как Поэзию, и Словесность как само Слово, Слово футуробудущее, переходящее через Божественную Глаголицу в Логос и обратно в прото... Слогоголос и Слововолос тканный. Слого-Логос кругограмматический / метаграмматический
(…слово / слого / логос / слого / слово…)
В лингвистической реальности встречаются все и встречается всё. Лингвореальность - аки Дух, живёт где хочет. Всюду. В том числе и прежде всего - в Поэзии, и даже не обязательно в поэзии «как таковой»: в поэзии прозы, в поэзии (вст)речи, поэзии текста. «Всё ((во мне и я)) Во Всём» - от Библии через Злато-Серебро веков и так далее (ПО Велимиру Хлебникову) везде.
Во мне
и я
и…
СловоЛЬНОе поэзо-плетение льноТКАНИ НИТКА за ниткой, плетение и РАсплетение. Великие Круги ДНтКани! ДНК, открытая «на кончике пера» (поэтического?) и уже затем найденная в реаЛЬНОсти.
Лингвореализм - это и жест отчаяния, и вес молчания, и мимика критика - и аура автора...
Лингвореализм – это данность Логоса.
Александр Владимирович Бубнов,
доктор филологических наук,
профессор Курского института социального образования,
филиала РГСУ. Лингвореалист.
-------------------------------------------------------------------------
Кристина Зейтунян-Белоус
ДООС
Париж, Франция
***
Ты зеркало утраченного времени,
сосуд пространства,
краткий промежуток вечности
между душой и призраком души.
***
Отражаясь в глазах дождя,
Пешеход спотыкается
о зеркало лужи
и падает в объятия
собственного лица.
****
От времени сбежать,
в пробелы между слов
вписаться междометьем –
не стоило б труда,
когда бы не судьба,
когда б не заговор созвучий и наречий –
таких родных, что больно говорить,
таких колючих, что понять опасно –
и спор неразрешимый гласных и согласных
двух языков – не много ль для меня?..
А впрочем, речь возможна лишь
на языке дождя
и ветра,
и грядущих сновидений...
Зеркало мысли
Рисунок Кристины Зейтунян-Белоус
-------------------------------------------------------------------------
Luis Benitez
Buenos Aires, Argentina
The extravagant upstream traveler
Then I saw him in the oily water,
a gift from industry and lively hatred,
rising upstream the water:
the impossible salmon,
a brawny monster
all ornamented of green and purple,
of orange and red,
at the livery that only desire lends
to the anxious to reproduce them by all means.
Unusual iridescense between the garbage
of the condemned river,
like a stubborn man
in finding the way that says to him
“I am your life”, a gift
for the simplicity obstinate in believing
in a stimulus for the tensed muscles
under the harsh scales,
an overdose of hormones
that flood the tiny brain.
And this open mouth to the desire of breathing
still something more than its last day,
was keeping the final syllable
of those who don’t let themselves be beaten
neither by their own stupidity
nor by the edges of the piers,
where they never stop, where they
never detain for any reason whatsoever.
Lao-Tse prepares a verdict
Nothing of what I say
may deviate the fall of a leaf.
A word will not
detain the other one.
It's useless for me to dedicate
a truth to these listeners:
they will turn it into pieces.
From its pieces Lao-Tsé will be born.
The pearl fisherman
This evening and part of the night
I sank again into the dense sea
where we beings and things float.
I descended for pearls to show to men
who fear even the risk of the border.
This evening and part of the night
I was amidst that silence, in that deepness
where the most infinite pleasure would be dissolving
and I knew that on all roads
there are monsters for those who fear them.
Swimming I arrived where there is no love or hatred,
you simply float over an eternal present
and everything you regard is your contemporary::
nothing else is carried by the tides.
I took this pearl and now offer it to you.
But when I have wanted to return,
I saw no man on the border.
I didn't see the border. All is the sea.
Those who fear the border
do not know they are walking on the sea.
-------------------------------------------------------------------------
Ольга Адрова
ДООС
Искусственный рай
Мы станем собой
только в искусственной атмосфере.
В атмосфере, которая к нам нежна.
Роза сладко дышит в оранжерее, –
В иной атмосфере она себе не нужна...
Сама себе свет, сама как оранжерея,
Она сама себе храм, сама себе тишина.
Жизнь – искушение
в искусственной атмосфере,
Рок – это роза, которая влюблена...
Шахматы Набокова
(Продолжение темы, см. № 8 «Ладья – Лад Я)
Вся поэзия – история превращений,
непонятных для глаза перемещений –
Непоэту, для других – еле слышный звук,
а для нас топот слонов вокруг.
Вся поэзия – история раздеваний,
торопливых молний шахматных оправданий;
То поэзия – для одних воплощенный звук,
а для нас – море и смерть вокруг.
Пока господь выдает нам второе зренье,
то мы стоим на позиции стихотворенья,
И бабочка все парит над оградой сада,
Но Набоков остыл, ему ничего не надо…
То поэзия – здесь ее назовут игрой,
а для нас бесконечный стон, бесконечный ноль,
Бесконечное тело в осколках иных витрин;
Я ищу тебя, но господи здесь один.
Рисунок Владимира Опары
Специально для ПО
-------------------------------------------------------------------------
Андрей Коровин
ДООС – крымозавр
Стрекоза
Константину Кедрову
живи животное по кличке стрекоза
офсетной памятью не замутняй глаза
пусть всё что движется в сферических мирах
тебе привидится в оптических пирах
питомцы воздуха мы помним эту речь
галдёж пчелиный и осиную картечь
и шум пропеллерный стрекозьих лопастей
ломает строфику термитных крепостей
привычку царствовать в передвижном раю
я сам по абрису движенья узнаю
а та что воздух прорезает между глаз
жива движением. всегда. везде. сейчас.
* * *
император в небе
сам говорит с собой
это наш последний
это наш решительный бой
Господи Боже мой
Твой многоцветный рай
так похож на картинки
в японском стиле хентай
мы опять проиграли войну японцам
наша эскадра пошла на дно
в небе щурится узкоглазое солнце
небо стало похоже на кимоно
император - как сказано выше - в небе
мёртвые ангелы - на земле
поезд Ленина – на запасном пути
Россия Уэллса – во мгле
на добычу слетаются
трупные птицы
Германия, Англия и Китай
Господи, посмотри в эти лица
разве же это – рай?
император в небе
с дыркою в сердце
в военном френче и при усах
отрекается от престола
в пользу Архангела Михаила
и грезит о чудесах
дочери нянчат
неродившихся ангелов
царевич поднялся и полетел
Колчак обнимается с Врангелем
а ты бы чего хотел?
В 2007 г. у Андрея Коровина вышла книга «Поющее дерево». М., Изд-во Р.Элинина. Серия «Классики XXI века».
-------------------------------------------------------------------------
Наталия Азарова
кандидат филологических наук
¿ крым ?
¿ мак и по кром кам
белые козы камней
как здесь не жить караимам?
* * *
качка
к щеке о́блака солнце
приклеено липучкой
ры́бы рёбра
подводные выпячиваются
судьба боса́
шлёп
шлёп
и по шла́
по пучине
чуть
чуть
выбор
ten ? – нет !
сей ? – yes !
Москва – Лондон
19 ноября 2007
***
город
тотже
из-нью-хэмпширской
ржи
на e-mail’ы не отвечает
сэлинджер
снаружи-сумерки-жидкие
жизни
бело-чёрный минимализм
имперский внутри
жизни
и
всёже
попрежнему
крой юн
крой юн
нью йорк
нью йорк
-------------------------------------------------------------------------
Евгений Степанов
кандидат филологических наук
* * *
губы шепчущие в метро
Господи помилуй
Господи помилуй
Господи помилуй
что я могу добавить
простите
прощайте
11.03.2007
Есенинский бульвар
* * *
стилистика
падающего листика
19.11.2007
ст. Удельная
* * *
аль — ра
ра — рррррррррррр-эль
за полчаса до расстрела
15.10.2006
ст. Партизанская
* * *
молчи не беса небеса
6.10.2006
Санкт-Петербург
* * *
я не умею забивать гвозди
клеить обои
печатать на ризографе
руки ноги глаза
мозги
мои инструменты
я строю домики книг и журналов
инструменты не вечны
я тороплюсь
я тороплюсь сказать тебе
что мы едины
что мы всегда вместе
хотя и видим друг друга земным зрением раз в полгода
я тороплюсь сказать тебе
что других женщин для меня в этом мире нет
хотя я всю жизнь имел репутацию дон-жуана
я тороплюсь сказать тебе
что теперь точно знаю смысл простых слов
я люблю тебя
живи долго
живи очень долго
главное —
живи дольше меня
5.03.2007
Большой Знаменский переулок
-------------------------------------------------------------------------
Татьяна Бонч-Осмоловская
кандидат филологических наук
Сидней, Австралия
Гномоном древние греки называли рамку плотника, которой меряли прямые углы. Такая рамка, если ее приложить к квадрату, образует квадрат большего размера. То же название, гномон, получила геометрическая форма, дополняющая квадрат до квадрата большей площади. Возможны не только гномоны квадратов. Елочки с детских рисунков, каждый уровень которых повторяет предыдущий с увеличением масштаба, при этом сохраняя форму дерева; или вложенные одна в другую матрешки – являются реализациями гномов в изобразительных формах. Мы предлагаем литературные гномоны, в которых каждый куплет может быть прочитан независимо, как отдельный «этаж» елочки, а также вместе, составляя текст, развивающийся от Одного до Другого, и далее к Природе, Миру и Вселенной.
Я.
Я –
За!
Я –
За
Ней.
Я
За
Ней
Хожу.
Я
За
Ней
Хожу
Лесом.
Я
За
Ней
Хожу
Лесом,
Кругом.
Я
За
Ней
Хожу
Лесом.
Кругом
Деревья.
Я
За
Ней
Хожу
Лесом.
Кругом
Деревья
Зеленеют.
Я
За
Ней
Хожу
Лесом.
Кругом
Деревья
Зеленеют,
Красуются.
Я
За
Ней
Хожу
Лесом.
Кругом
Деревья
Зеленеют,
Красуются,
Расцветают.
Я
За
Ней
Хожу
Лесом.
Кругом
Деревья
Зеленеют.
Красуются,
Расцветают
Подснежники.
Я
За
Ней
Хожу
Лесом.
Кругом
Деревья
Зеленеют.
Красуются,
Расцветают
Подснежники
Благоухающие.
Я
За
Ней
Хожу
Лесом.
Кругом
Деревья
Зеленеют.
Красуются,
Расцветают
Подснежники
Благоухающие,
Нежносветящие.
Я
За
Ней
Хожу
Лесом.
Кругом
Деревья
Зеленеют.
Красуются,
Расцветают
Подснежники
Благоухающие,
Нежносветящие,
Розовоперстные.
Я
За
Ней
Хожу
Лесом.
Кругом
Деревья
Зеленеют.
Красуются,
Расцветают
Подснежники
Благоухающие.
Нежносветящие,
Розовоперстные
Златосеребрятся.
Я
За
Ней
Хожу
Лесом.
Кругом
Деревья
Зеленеют.
Красуются,
Расцветают
Подснежники
Благоухающие.
Нежносветящие,
Розовоперстные,
Златосеребрятся,
Искрорассыпаются.
Я
За
Ней
Хожу
Лесом.
Кругом
Деревья
Зеленеют.
Красуются,
Расцветают
Подснежники
Благоухающие.
Нежносветящие,
Розовоперстные,
Златосеребрятся,
Искрорассыпаются
Солнышкозвездочки.
-------------------------------------------------------------------------
Лоренс Блинов
ДООС – звукозавр
Казань
(Специально для ПО)
Лики
Памяти Генриха Сапгира
мы Мы мы мы
но
человек живет без мы
(е)сли -
sos! sos! со
с тав
ос тав
ляет мыс мы – с – мы
с мы слпро живет и без : но
но
это увечье вели, отче,
века ве-ка как нечто без
ос
в небе
чело чело
птичье
с мы 9 г
1/ХI-04.ХХI.
1. Сущь
Потому-то му
Не столь уж и муторно
(он, рот, - УМ!)
что слово «вол» -с, от ® ¬
чёт ли вое, как мы
чание, поэту с
родни и сродни
тому и
т,огу, ко торы
й с й с нимае
т
тогу и сродни му - ,
с
родни - зыка
слова «вол» - с .
Словолов , он -
и то МУ
и ТО гу
не равен (не варен, не верен, не ровен)
Поэт - не ТОТ.
оННе великоЕгип’ЕтскоЕбожество древ,
но сти
хий, но сти хисо
чинЯЮщЕЕ сУЩ
ество.
Ест ест ва Рас
Свет , а не И
Тог .
-------------------------------------------------------------------------
Игорь Ревякин
Специально для ПО
-------------------------------------------------------------------------
Лев Залесский
Специально для ПО
Где раки музуют
Среди множества ассоциаций, как общеэстетического, так и личного плана, воскрешающих в памяти цепочки терминов, музыкальных примеров, культурно-исторических фактов, имён, воспоминаний о собственных ощущениях, вызванных темой ракохода, прочно доминирует одна. На первый взгляд она совершенно несерьёзная, быть может, антиэстетическая – простонародная какая-то. А быть может, идеологическая или, скорее даже, хулиганская.
Был такой анекдот.
Встречаются двое студентов композиторского факультета консерватории:
— Симфонию дипломную написал?
— Написал. А ты?
— А у меня проблемы!
— Да какие там проблемы? Берёшь симфонию Шостаковича и переписываешь наоборот.
— Пробовал уже. Чайковский получается.
Совершенно очевидно, что этот анекдот мог появиться на свет где-то в конце 40-х - начале 50-х годов, когда трудящиеся, вдохновлённые постановлением о борьбе с формализмом, били стёкла на даче композитора. Впрочем, это могли быть и не трудящиеся. Очевидно и то, что трудящиеся такого анекдота выдумать не смогли бы. Здесь чувствуется искусствоведческая хватка. Только вот Чайковский неизвестно откуда взялся: по всей видимости, его имя – дань избирательной эрудированности тех же трудящихся. Шостакович же отнюдь не Чайковского наизнанку выворачивал. Но об этом чуть позже.
В истории полифонии, освещающей наиболее значительные музыкальные события, начиная с XI века, теме ракохода (иначе говоря, музыкальной инверсии или горизонтальной симметрии нотного текста), уделено много внимания. В частности, подчёркивается наличие синкретических корней подобного явления в музыкальной интонации. В качестве доказательства приводится высказывание Гвидо Аретинского, изобретателя современной нотации, о том, что повторение мелодии может быть «в обратном движении и даже теми же самыми ступенями, какими она шла при своем первом появлении». Здесь, безусловно, надо принять во внимание, что Гвидо писал, опираясь ещё на изустно распространяемые музыкальные примеры.
Мы достаточно хорошо осведомлены, что обращение к ракоходу в полифонии строгого и свободного стилей (XV–XVIII вв.) представляло собой не жанр. Это была отчасти игра для посвящённых, отчасти поиски новой выразительности в тесных рамках монотематического развития, отчасти – уже тогда – некий месседж, предназначенный, быть может, не только посвящённым и просвещённым, но и просто «продвинутым» современникам и потомкам.
Но не слишком ли увлекается автор, отыскивая месседж в скромном приёме, если, практически, всё и всякое сочинение является месседжем?
Ведь гораздо более отчётливо подобный месседж может быть представлен стилистическими средствами в их огромном разнообразии – от имитации и стилизации, внесения выверенных диссонансов (у Баха) до почти полного исключения консонанса и сложных экспериментов в области формы – таких как, например, отказ от линейного развития и перехода к оверлейным структурам на сонатной основе (у Малера).
И здесь нас поджидает любопытное открытие: месседж тогда и появляется, когда в музыкальной ткани возникает та или иная разновидность инверсии: заключённая в горизонтальном ли движении, а равно и в развитии музыкальной «вертикали», в инновационном представлении формы, в акустических коллизиях, достигаемых за счёт нетрадиционной оркестровки.
Не каждому дано понять такой месседж. Угадать его присутствие проще. И в этих случаях он, как правило, раздражает «общественность». Бах, кажется, никогда не прибегал к инверсии, руководствуясь исключительно формальными принципами. Автор помнит, как от каждой встречи с баховским ракоходом, начиная с ХТК, у него буквально дух захватывало. Но современники жаловались, что композитор и органист «использует чуждые звуки такого тона, что община подчас бывает весьма сконфужена…». Непонимание месседжей, буквально рассыпанных в оркестровках Малера, вызывало и куда более резкую реакцию.
«Говорили о Малере и его бездарной и безвкусной симфонии с крайне грубою и грузною инструментовкою... Это какая-то горделивая импровизация на бумаге, причем сам автор вперед не знает, что у него будет в следующем такте. Обидно, право, за него, как за музыканта», – это высказывание Н. А. Римского-Корсакова, записанное со слов его биографа В. В. Ястребцева.
А вот и Ромен Роллан: «Эти нагромождения музыки всех родов, ученые и варварские, с их гармониями, в одно и то же время грубыми и утонченными, действуют больше всего своей массой...». Приведём выдержку из статьи советского музыкального критика и композитора Вячеслава Григорьевича Каратыгина – одного из активных участников строительства советской музыкальной культуры в первые годы после Октября:
«Пресловутый «демократизм» Малера большей частью сводится к простой мелодической вульгарности и банальности. Формальные очертания частей рыхлы и сбивчивы. Много длиннот. Много дешевки. Много музыкальных грубостей. И очень мало самостоятельности».
Более всего шокирует грубость. Не Малера, нет. Грубость его критиков, опускающая содержание самой критики до уровня автопародии.
В специфической системе сочинения атональной музыки, положенной Шёнбергом в основу создания новой венской школы, содержится своеобразный алгоритм инверсивности. Недоброжелатели называли (и называют) эту систему «высчитанной» – с оттенком уничижения. Между математикой и музыкальным искусством, тем не менее, есть незыблемая связь, наверное, ещё со времён Пифагора. Готфрид Лейбниц выразил подобную мысль с характерной для него глубиной, при этом на удивление лаконично (для германского учёного): «Математика – это поэзия гармонии, вычислившая себя, но не умеющая высказываться в образах Души».
К моменту, когда Шёнберг отказался от собственной системы ради так называемых «Образов Души», эта стезя сочинительства существовала уже 20 лет. «Бывает, – подметил Жан Кокто, – что какой-либо человек, по собственной воле став основателем целой школы, вдруг в один прекрасный день отрекается от неё; впрочем, самой школе это не приносит никакого вреда».
Заметим, что Малер исполнял музыку Шёнберга. Ворчал. Требовал сыграть после репетиции простое трезвучие, чтобы не повредиться в уме, но исполнял. Ибо относился к числу артистов, которые прекрасно понимают, что не все послания, или месседжи, предназначены для публики. И самонадеянно со стороны публики полагать, что это так. Художник вправе выбирать адресат совершенно самостоятельно.
Нельзя не поделиться впечатлениями от инверсивности в музыке Дмитрия Шостаковича.
В разработке достаточно лаконичной первой части Третьего квартета (1946), например, используются все существующие на сегодняшний день виды композиторской разработочной техники – предклассической, классической и постклассической. И что же? Музыка неизменно производит впечатление не только на тех, кто способен оперировать терминологией, включающей понятия полифония, додекафония, политональное и атональное развитие, инверсия, синкопирование и полиритмия… Но и глубину угадывающегося в этой музыке месседжа, кажется, полностью постичь невозможно… Композитор, кстати, очень не любил учёных разговоров о музыке. В его знаменитых «Записных книжках» есть такое свидетельство:
«Вообще-то литераторы, пишущие о музыке, должны бы следовать примеру Алексея Толстого. Граф Толстой напечатал две большие статьи о моих симфониях. И обе статьи входят в собрание сочинений. Но мало кто знает, что на самом деле статьи написаны за него музыковедами. Их к Толстому вызывали на дачу. И они ему помогали разобраться во всех этих скрипках и фаготах. И прочих музыкальных премудростях, недоступных для графского понимания».
Уже в раннем ёрническом своём балете «Болт» Шостакович предлагает инверсию оркестровки первой части Второй симфонии Малера («Смерть героя») в сцене смерти комсомольца Гусева. Да и сам сюжет балета – это чистой воды инверсия. Вот как этот сюжет представлен самим автором в переписке:
«1-я картина. На завод приходят рабочие. Делают утреннюю гимнастику. Среди них пьяный со вчерашнего похмелья Лёнька Гульба.
2-я картина. Праздник самодеятельности по случаю открытия нового цеха. Лёнька Гульба со своими приятелями (Иван Штопор и Фёдор Пива) хулиганят. Их выводят.
3-я картина. Работает цех.
4-я картина. Выходной день. Пригородное село. Танцует поп. Танцуют комсомольцы. Танцуют старушки. Пьяный Лёнька Гульба гуляет с девушками. Ему хочется гулять и завтра, для этой цели он подговаривает несознательного парнишку заложить в машину болт. Тогда завод остановится, и можно будет гулять дальше. Это подслушал комсомолец Гусев и пожелал разоблачить заговор.
Гусева Лёнька убивает.
5-я картина. Парнишка закладывает болт. Убитый Гусев (ожил) разоблачает его и Лёньку Гульбу. Их арестовывают. Общее ликование. Танцы. Апофеоз.
Означенный балет был поставлен в Мариинском театре 8 мая 1931 года. С треском провалившись, снят с репертуара. Всё это я тебе сообщаю не для опубликования».
Малер – кумир Шостаковича. Не станем отыскивать в его музыке прямых цитат. Они не прямые. Тем не менее, искусствоведы, готовившие заключение о контрреволюционности Четвёртой симфонии Шостаковича (1936), сумели ощутить, как инверсирована концепция мира, выстроенная Малером, в итоге – жизнь представлена как полусон, полубред, и ужас перед насилием и смертью соперничает с противоестественным для человека желанием «не быть».
– Но так же нельзя, господа-товарищи,– возопили искусствоведы в штатском, – у Малера учится…, его знает вся Европа, да что там Европа – весь мир! Этот язык понятен без слов!
Кому предназначалось послание? Быть может, мыслящему современнику?
Достигло ли оно своего адресата?
-------------------------------------------------------------------------
Анна Рахман
Гамбург, Германия
* * *
АМНИО
ШОСН
ОМНБ
НМАЯВ
Д, БУТЕРБРОД С ИКРОЙ, ЯЯН
ННЮЕН
И – УЮТН
АКМААН
ШКШТНЕ
ТКТИА
КМХАН
А ТОИО
ТОАМ
АННА – ШОКО-ДЫР!
16.11.2003, Вена
-------------------------------------------------------------------------
Вадим Месяц
ГОЛОВЫ ПРЕДКОВ
Адам, он же Давид, он же Иисус Христос,
чей череп закопан у входа в Ерусалим,
охранял его Северный подступ, до тех пор
пока его не раскопал Бран.
Ахилл Мирмидоянский, ученик кентавра,
продолжал петь головой, отделенной от тела.
Так же поступил Бран, лишивший за ночь
пятьдесят девственниц по любви.
Нас вынуждают петь, а не лебезить.
Потомки Гомера, сына Иафета,
осели в Британии, повторяя слова
пеласгов и халевитов.
Они нас учат любить. Заклинания
дайвиров и Блодайвет,
оставляющей следы из снега,
вязнут на наших устах, словно горох.
Разрушение Храма, падение Трои,
плаванье в бочке лучшего из сынов,
закончится тем, что его прибьет волной
к зеленому острову Элга.
Северный царь, улыбаясь, встретит поэта.
Даст ему имя прекрасное – Гвидион.
Отнесет его голову на лондонский Белый холм,
прикажет воронам ее отпеть.
Однако Бран будет петь сам,
словно царь Эврисфей,
чья голова похоронена у Микен.
И никакой король Артур не отыщет ее,
потому что лишится слуха, сатрап.
ПЕРСТНИ ХЕЛЬВИГА
Их узоры стали грубы,
Будто чеканили их для рабов рабы.
Как быстро всё навек изменилось:
Лица старушечьи глядят на меня
Вместо камней дорогих.
Постарели за ночь мои перстни:
Нет в них песни!
Больше своих пальцев я перстни эти любил,
В бою, сжимая клинок,
На свадьбе с кубком тяжелым,
Выставлял их напоказ.
Теперь на руки свои гляжу как прокаженный,
Зрелищем пораженный.
Неужели познал я ромейскую красоту,
Изящество линий, ничего не значащих.
Что мне, перед мужчинами теперь красоваться?
Забыть звериный стиль?
Предать женщин, мне их даривших?
Или женщины эти вовсе слегли в могилы?
Постарели за ночь мои перстни:
Нет в них песни!
Никто не скажет мне, что случилось.
Убийством нельзя мне руки украсить.
Голыми стали мои пальцы,
Словно вода в колодце.
-------------------------------------------------------------------------
Алина Витухновская
Рождающий Закономерность
Рождающий Закономерность
Бросал ее под ноги мостовой.
Намек на новый замысел. И верность
Вчерашнему не значит ничего.
Стремясь к эффектам, пользуясь, не платят.
Смеясь о будущем, насилуют свой страх.
И черный человек на циферблате
С куском вселенной в сомкнутых зубах
Пытается поработить пространство взглядом,
Размыть цвета, и вещи разобщить.
Но ненадежный и бессмысленный порядок
Для некоторых еще рискует быть.
Им видится узор
неясных соответствий.
Они воткнут свой флаг
в пустой небесный свод.
Они не верят в то,
что повторенье действий
И слово, и число
Не значат ничего.
* * *
Витальность, отменяет гениальность.
Что оставляет жизнь?
Изнанку лжи?
Нет, смерть нежней.
Ее предпочитая с детства,
Я невеселые слагала мифы зауми.
А Хлебников ел хлеб.
А я жевала сердце.
Секун-Данте Алигьери
Секун-Данте Алигьери.
Элегантных аллегорий,
Знайте меру, знайте меру,
Агитаторы историй!
Только маузеру разум!
Реставраторы империй,
Уступите Герострату!
Секун-Данте Алигьери.
Ждите истинных инструкций,
Что готовит злой куратор.
Дегустаторов конструкций
Ждет деструкций дегустатор.
Миру – мор! Нерону – троны!
Но историй повторимых
И тиранов утомленных,
Третьих рейхов, третьих римов
Мне приятней, пряней, ядней
Дней суетных обнуленье,
Тленье лун и тел развратных
Размноженье, разложенье.
Торжествующее Множеств
Прекращающим ножищем
Уничтожив, уничтожусь,
Укачусь в Ничто Нулищем.
-------------------------------------------------------------------------
Владимир Пальчиков
ПО1 и ФЕИ ДРЕВ
Дерби2 бредили. Пили дерби бред
(«По и феи древ… Верди… ефиоп3…»)
Порт и форт; срезал / лазер строф и троп4
Дереву веред5, дереву веред…
Дед рече векам. В маке вечер. Дед:
«Похимичил босс? – обличим…» И – хоп! –
Пол-лохани влил, влил вина (холл-лоп)
Деве-шудре6… Арф / фраер. Душевед.
Тартару табу – кубатура трат:
«Таракан»7, теня, тянет на карат.
Или тут чуму-думу чтут, или
Вер гобой?.. О, гой8, йогой обогрев!
«Верди Ефиоп… По и феи древ…»
(Или дерби се в веси бредили?).
30.05.03
1. По, Эдгар Алан (1809-1849) – американский поэт. 2.Дербь – от слова «дерба» – глушь, заросшая сорняками, одичавшая земля (М.Фасмер. Этимолог словарь русск. яз.) 3. Верди… эфиоп – здесь: намек на оперу Верди «Отелло». 4. Тропы – здесь: тропы поэтические (образная речь). 5.Веред – болезнь деревьев, наросты на коре. 6. Шудра – низшая каста в Индии. 7. «Таракан» – здесь: прозвище мелкой ювелирной вещицы, которая «тянет на карат». 8. «Гой!» (др.русск.) – возглас приветствия: «Будь здоров!», «Здравствуй!»
-------------------------------------------------------------------------
Юрий Арабов
Поминки
Из праха был взят и ушел во прах,
из пустого был вынут, в порожнее возвращен.
Душа, вылетая, спугнула весенних птах.
Священник уверил, что труп прощен.
Из пустого был вынут, из праха взят.
А мы пошли заедать свеклой
нелепое горе, где Бог распят,
а смертный пытается стать икрой,
балыком... В крайнем случае, винегрет
застрянет в горле, когда смекнешь,
что ешь покойника на обед,
на ужин, – вообще
не разбери-поймешь...
Ушел и взят, и обмыт, и вдруг
такая радость, что он – не ты.
Кто утаит,
скрываясь за свой испуг,
промолвив, что, в общем, всему кранты.
Кто сматерится,
кто сделает всем «козу»,
как малым детям, сказав: «Ужо?»
Мы расходились. Я спер копченую колбасу
не всю, но отрезал себе ножом
в то время как зал опустел на треть.
Сочился жиром тугой разрез...
Я поднял рюмку: «Большая честь
тому, кто все видит, но сам исчез».
...С карнизов гнилая текла вода.
В подъезде был Гефсиманский сад.
Я шел и думал: «Вот так всегда,
соврешь чего-нибудь невпопад».
-------------------------------------------------------------------------
Евгений В. ХАРИТОНОВЪ
ПРОСТЫЕ ПАЛИНДРОМЫ
Музыкальная дискуссия
Рок бос, собкор!
Собкор: рок скор!
Марсианский палиндром
АдадА
оно
дад
лол
нон
и фифи –
шиш!
Зеркальный алфавит
Женщины
НЕТ ДА НЕТ
Н Е Т
Д А
Н Е Т
Смерть паоиндрома
11 22 33 22 11
…
-10000000001-
…
666 66 6.6.6. 66 666
2006-2007
У Евгения Харитонова в 2008 г. В издательстве «Вест-Консалтинг» вышла книга «МИ НА МИ РА»
-------------------------------------------------------------------------
Павел Байков
Санкт-Петербург
Специально для ПО
Монопалиндромы
АДРЕС СЕРД(ц)А
Я – лба сутра.
Заново род змеи не прав!
– Равви лотоса, что тебе свора?
– Дети, ребёнок кому крамола?
Духи спят.
Идеологии мрамор – аванс…
– На член метну глыбу глаз я!
В Сыне жар сопел сигар.
– Воин, говорим, веди в ухаб органы рёвом
(рядового вертит еле-еле выбор).
Туго! Бисер дал одинокому мусор.
– Повар, бери мыло.
– Пилат, Сыну – глагол!
Скота в хате всполохи – холоп света хваток.
Слога лгуны стали полыми.
Ребра вопрос – ум (ум окон?).
Идол – адрес и бог утробы в елее...
– Лети, тревог овод – ярмо веры на гробах!
Увидев миров огни – овраги слепо сражены.
Связал губы лгун. Темнел чан с наваром.
Армии голое дитя психу дало марку «Мокко».
– Не берите даров себе тотчас от олив.
Варвар пением здоров, он азарту – сабля! Ù
КИБОРГ или ГРОБИК?
...Ему вредил откат!
Я понял: упала мило богема.
– Мякина, грошу клади карту!
– На дне района рабов, идя – лги!
Диалог одежд на рапирах отчаян.
Вот лоб, вот сера на ране цитат.
Скажу:
«Ладан ереси косоворотке тих.
Район – гной архитекторов.
Осоки серенада – лужа.
Кстати, цена ран арестов – болтовня!
А что хари парандже?..
Догола иди, гляди в оба, раной – аренда!»
Нутра кидал куш органик ямам.
Его боли мала пуля, но пятак то лидер в уме! Ù
-------------------------------------------------------------------------
Елена Тахо-Годи
доктор филологических наук
***
Каково мое время? – разве я его знаю?
Я живу в нем, страдаю и в нем умираю…
А рекламы прокладок и порно-абсурды
Всех политиков мира – разве это отсюда,
Из того же Вселенной фрагмента, отрезка,
Где, как сказано прежде, всем достаточно места?..
Эти кубики "Маги" и взрывы в Нью-Йорке,
Полуголых красоток бесстыдные торги,
Миллионы солдат, миллиарды снарядов,
Эти марши фашистов и транссексуалов,
Бесконечные триллеры в телеэкране,
Нефтедолларов прибыли, волны цунами –
Разве это отсюда? разве все это с нами?
Разве это не кажется страшными снами
Для того, чьей реальностью было иное, –
Это небо бездонное и голубое,
Этих белых берез золотые монисты,
Этой осени ранней день прозрачный и быстрый...
***
Для чего от блаженной невинности
Через горечь земного греха
Ты ведешь – объясни, Боже милостив, –
Нашу душу во все времена?
Разве радость была бы нам лишнею
Или свет не милее, чем тьма,
Иль ложь для измученных – истина,
Или боль – это ласка Твоя?
-------------------------------------------------------------------------
Борис Гольдберг
Прага, Чехия
Память вперед
Среди знаков на надгробиях Старого еврейского кладбища в Праге, основанного в первой половине 15-го века, можно увидеть скрипки.
Прислушайся… Прислушайся… Ты слышишь?
Что это – тихий шепот или плач?
Прислушайся… Нет, это не на крыше,
А под землею заиграл скрипач.
И безупречно точно, без ошибки,
В закате догорающих свечей
Мелодию подхватывают скрипки,
Все скрипки здесь лежащих скрипачей.
Наш мир – живых и мертвых – так условен.
Все поколения в одно слились.
Звучат в концерте Моцарт и Бетховен,
Которые тогда не родились.
…Вдруг музыка божественно-земная.
Подобной ей и не было и нет.
И композитора никто не знает,
Он лишь родится через сотни лет.
И с дирижерской палочкой Маэстро
Нам, не усопшим, говорит: «Проснись!»
И помнят скрипки мертвого оркестра
Ту, что была, и ту, что будет, жизнь.
Прислушайся… Прислушайся…
-------------------------------------------------------------------------
Анжелина Полонская
Экспромт
Ты меня принимаешь за женщину,
но я всего лишь куст – дикий куст,
растущий вблизи дороги.
Обманчивы твои снега, дорогая, –
не стряхнуть их с ветвей, не согреться.
Ночь шепчет раковине ушной о тебе.
О тебе.
Вызревших ягод полны ладони
тех, кто этой дорогой проходит мимо –
те ладони куста не вспомнят.
«Нет на свете крепости, что не сдастся», –
если мне не веришь – спроси солдата
у стены. У стены.
Лодка
Словно провод, голос зажмёшь в ладони –
мне приснилось сегодня, что твой поцелуй
бездомен,
как солдат в животе зажимает бреши,
ибо твой поцелуй в волосах моих
безутешен.
Я проснулась на взломанном телеграфе:
буквы стёрлись, ленты истлели, бланки.
Никого не осталось под костью лобной.
Никому по воде не досталось лодки.
Эта лодка так билась, что перетёрла привязь.
Кто ещё там в тумане? – кричали с
Учебное пособие Академии Поэтов и Философов
Московской академии образования Натальи Нестеровой
Москва, 2008
ПАЛИНДРОНАВТИКА
-------------------------------------------------------------------------
- Хроника событий -
14 февраля 2007 г. в приемной Натальи Нестеровой на Тверской, 20 состоялась презентация «Антологии ПО». Все двадцать номеров «Газеты ПОэзия» и «Журнала ПОэтов» с 1995 по 2007 гг. вышли под одной обложкой в твердом переплете тиражом 999 экз. Это первый случай в истории поэзии, когда поэты сами в течение 12 лет выпускают свое издание без всяких посредников. Учредитель – группа ДООС (Добровольное общество охраны стрекоз) при поддержке Русского Пен-клуба. А с 2001 года издание стало еще и учебным пособием факультета Академия Поэтов и Философов Московской Академии образования. Во вступительной речи Андрей Вознесенский сказал об «Антологии ПО»: «Это великая книга». Еще одна презентация состоялась в книжном магазине «Библио-Глобус» 21 марта – 8-й Всемирный день поэзии. Елена Кацюба представила антологию на телеканале «Звезда» в программе Ивана Кононова «Предметный разговор». ДООСы и авторы ПО также принимали активное участие в Международном фестивале «Другие» под эгидой журнала «Футурум-Арт» (гл.редактор Евгений Степанов), в фестивалях поэзии в Туле, в Киеве, в фестивале «Литератерра» Нижнем Новгороде, в Гуманитарным семинар «Seminarium hortus humanitati» в Риге, в фестивале «Европа 2008» в Праге, организованном русскоязычными писателями Европы и Русским Домом при посольстве РФ.
21 марта 2008 г. в Мраморном зале Дома журналистов состоялся 9-й Всемирный день поэзии под эгидой ЮНЕСКО (напомним, что впервые этот праздник был проведен ДООСом в театре Ю.Любимова на Таганке в 2000 г.), при поддержке журнала «Персона». Участвовали: Константин Кедров, Алексей Симонов (и.о. директора Пен-клуба), Елена Кацюба, Вадим Рабинович, Алла Кесельман, Михаил Бузник, Александр Бубнов, Алина Витухновская, Ольга Адрова. Гл. редактор «Персоны» Лариса Шамикова зачитала два документа: благодарность К.Кедрову от ЮНЕСКО за проведение 1-го Всемирного дня поэзии и нынешнее послание Генерального директора ЮНЕСКО Коитиро Мацууры к поэтам: «2008 год имеет для поэзии особую значимость, ибо Организация Объединенных наций провозгласила его Международным годом языков. Ведь языки – это сама основа поэзии, та материя, из которой рождаются стихи. В этом году поэты смогут мыслью и делом воздать должное тому неисчерпаемому богатству, каковым является для их творчества языковое разнообразие…» А в апреле вышел номер журнала «Персона», посвященный поэзии Константина Кедрова, 100-летию манифеста футуризма и 9-му Всемирному дню поэзии. Также в рамках 9-го Всемирного дня поэзии состоялся вечер «Шок-шоу ДООСа» в ГЦСИ (Государственный центр современного искусства), который вел искусствовед Виталий Пацюков. А 30 мая в кафе «Сити» на Сивцевом Вражке состоялось открытие Литературного клуба поэта Константина Кедрова и ДООС (Добровольного общества охраны стрекоз).
К сожалению, прошлый год стал для «ПО» и ДООСа годом тяжелой утраты: закончилась земная жизнь Александра Ткаченко. После ухода в 1999 г. Генриха Сапгира и Игоря Холина это еще она невосполнимая потеря. «Улетел от нас Ткач, / как в ворота футбольный мяч. / Плачь – не плачь, не вернется Ткач. / Сенькью вери мач – / Сенькью вери матч – / Сенькью вери мяч – / Сенькью вери Ткач».
ДООСы Нина Зарецкая, Константин Кедров и Елена Кацюба сняли по заказу телеканала «Культура» фильм «Нечетнокрылый ангел» о всемирно известном художнике Павле Челищеве – двоюродном деде К.Кедрова. Музыку к фильму написала Алла Кессельман. Съемки проходили в Москве и Нью-Йорке. Также по телевидению прошел фильм «Номинат», посвященный нобелевской номинации К.Кедрова. Фильм снят при поддержке Комитета по печати и кинематографии РФ, режиссер Татьяна Юрина.
В Китае изданы две антологии русских поэтов с участием авторов «ПО». В Париже вышел очередной номер журнала «Прессаж», который издает наш автор и член редколлегии поэт и скульптор Борис Лежен. В Дублине издан сборник-билингва русских поэтов «Ночь в отеле Набокова» в переводах также члена редколлегии нашего журнала Анатолия Кудрявицкого.
-------------------------------------------------------------------------
– Палиндронавтика –
Если строка движется в обратную сторону с тем же смыслом, значит настала полнота времени – смысл обрел вечность. И наоборот, вечность обрела смысл – тоже палиндром. Но палиндронавтика не довольствуется снованием челнока смысла туда и обратно. Она устремляется внутрь каждого слова, и тога из перестановок всех букв рождается анаграмма. Палиндром становится частным случаем анаграммы. Так в Осирисе таится Сириус, а в восходе кроется вдох. Возникает подозрение, что изначальный язык палиндромен и анаграммен. Иначе как объяснить, что в свете весть, а в голосе соло. Поэзия пробивается к изначальному языку богов, на котором, по утверждению Ф.Соссюра, написаны Илиада и Одиссея, Ветхий Завет и Махабхарата. Поэты не филологи, хотя в слове филолог – лиф гол.
Никто не знает, куда заведет нас звук. В этом году 100-летие манифеста футуризма Маринетти. Стихи Маринетти никто не помнит. Его политические взгляды никого не волнуют, а вот манифест бессмертен. В нем декларируется все, чего сам Маринетти не смог написать. За него пустующую графу заполнял Маяковский. Его тоже почти забыли. Запомнился птичий щебет: «жил – жив». На птичьем языке пытался говорить Хлебников. Он же написал первую в ХХ веке русскую палиндромическую поэму «Перевертень» – «мы, низари, летели Разиным». Ему принадлежит гениальная догадка, что палиндром – машина времени. Путешествие из будущего (от конца строки) в прошлое (к ее началу). Он построил гигантский палиндром из всей мировой истории, где все события возвращаются на круги своя через 365 лет. Получается нечто похожее на еще не открытую в то время ДНК. Палиндромы генетического четырехбуквенного кода еще не прочитаны. По сути любая форма жизни – чтение анаграмм и палиндромов генетического кода. Идеальная азбука из 4-х букв: мама и папа – уже начало жизни. Палиндром от «папа» – апа (женщина, тюрк.), палиндром от Адама – мадам (мадам Адам). Мы еще не научились читать книгу жизни, но поэзия ее пишет. «Прометей: «Я мял пламя!» Не точно по буквам, но точно по звуку. «Манифест – сев и нам. Маринетти – хит тени рам».
Знаменитые палиндронавты нашего времени ДООСы Елена Кацюба и Александр Бубнов. Бубнов изобрел таблицу элементов для всех палиндромов. Выяснилось, что количество элементов в ней бесконечно. Кацюба в своей «Свалке» открыла лингвистическую комбинаторику, расширив возможности палиндронавтики далее горизонта. Ушли асы палиндронавтики Ладыгин, Гершуни, Авалиани, Рыбинский. Забавно, что в музыке палиндром называется «ракоход» и является вполне обычным приемом, никогда не вызывавшим никаких нареканий. С палиндромом сложнее. Он был в почете в XVIII веке, но позже, после деражвинского «я иду с мечем судия» и приписываемого Фету «а роза упала на лапу Азора» дальнейшее – тишина. В ХХ веке в России палиндром запретили почти на полвека. Только последнему футуристу Семену Кирсанову позволили опубликовать подборку в журнале… «Наука и жизнь». Палиндром Андрея Вознесенского «а Луна канула», прозвучавший со сцены Таганки, в конечном итоге привела к лишению гражданства Юрия Любимова. Брежнев решил, что это насмешка над нашими неудачами в космосе, ведь первыми на Луну высадились американцы.
«Первый палиндромический словарь» Елены Кацюбы и «Новый палиндромический словарь» включает более 13 000 палиндромических пар. Но дело ведь не в количестве, а в новом качестве языка поэзии. Он становится все более похожим на генетический код, но уже не природный, а поэтический. Ведь не случайно в имени Евгений – Ев гений и ген неги. «О, негин, Ев негий, он гений». Возможно, палиндронавтика изменит наше восприятие времени, превращая жизнь человека в анаграмму, палиндром и фрактал вечности. Можно будет сказать о том, кто умер: «умер у мер». А в безмерности – «вижу – жив»!
Константин Кедров, гл. редактор «Журнала Поэтов»
-------------------------------------------------------------------------
Константин Кедров
доктор философских наук
ДООС – стихозавр
Рисунок Константина Кедрова
Сойди эйдос
(А.Ф.Лосев)
Вес о Лосев
Логика аки гол
Иль символ лов мысли
Соло голос
Логос о гол
Сом Сократ стар космос
Платон о толп
Ни толп Плотин
Плотин ни толп
Ах Аристотель лет от Сираха
Корень не рок
Вея дребодан над о Бердяев
И икс не роль Флоренский
И диалектика аки ткала иди
Я мал Палама мала пламя
Ешь циник Ницше
Арт с утра Заратустра
Но Фавор или миров Афон
Имя Бог обя мы
Им я Бог об я мы
Схима в миру Рим вам ХС
Философия
Ха брей Ев Фейербах
э тих Фихтэ
э Шеллинг гнил еще
лег его Гегель
реб у Бубер
дрейфь Фрейд
а Кант нака
а Декарт рак еда
аз и псина Спиноза
вея дребодан над о Бердяев
ешь циник Ницше
о кому Камю мак ум око
Религия
И нам ом мани
А Кама мака
Сансара нас нас
Далай Лама а мал и ал лад
И сам авта тат твам аси
И дуб Инду будни Будды
Протестанты
Ад гони иногда
запрет юла Лютер паз
уж и в себе бес вижУ
Готика аки итог
ухаб Баху
Баху ухаб
Томас сам от
себя я бес
Юнг ню
иногда ад гони
Атеизм
Кит сон гад агностик
Адам и Ева
Адам органа громада
ля из звезд зев зиял
а рот тора
а нутро фортуна
а зал гада глаза
а вер Ева
роз взор
ноль лон
соски икс ос
лобок кобол
и тити
увижу живу
око чар зрачок о
а полет тела па
Античность
Овидий и диво
но за Назон
рад ни Пиндар
о фас Сафо
мак Эврипид и пир аэкам
Аргонавты
Ад арго ограда
мора паром
Зевс вез
Ясона нося
но Колхида ад их локон
Медея едем
везет Тезей в
а грамота том Арго
Одиссея
Иди сам Одиссей еси дома сиди
не риск сирен
полк и циклоп
оспа лакома Калипсо
море мог Улис силу Гомером
силу Гомером море мог Улис
ну Зевс везун
* * *
Юрий Любимов ставит в Дельфах нашу мистерию "Сократ / Оракул"
Логос о гол
сан Ра Парнас
сом Сократ стар космос
а Дельф Леда
Илиада
Йа Елене Менелай
Амур ума
я ор Троя
Илион но или
а не лень Елена
се вижу Менелай а Лене муж и вес
тишь щит Ахилл
Дон Жуан
Анна:
Да он дон но дно ад
Он Дон:
О да Анна надо
Анна:
Амиго а мигом
идальго и долго
на уж Жуан
Сирия
Я ирис Сирия
Алеппо пела
Я мер время
Дамасск сам ад
а Пальмира Рима лапа
Флоренция
Этна Дантэ
яиц не роль Флоренция
мало ран а вас Саванаролла
и лечи то Ботичелли
о то ж Джотто
Лоенардо с одра но ел
или Буонаротти и то рана убили
дива Давид
Издательство «1-С Паблишинг» в 2007 г. выпустило аудиодиски со стихами Константина Кедрова «Компьютер любви» в авторском исполнении.
-------------------------------------------------------------------------
Анатолий Швец
Портрет-палиндром – Константин Кедров, Алексей Хвостенко
1996
-------------------------------------------------------------------------
Андрей Вознесенский
ДООС – стихозавр
(Специально для ПО)
* * *
Казалось – показалось
off 'шоры – шофера
Мозамбики
зомбировали
Краса – коса
чтобы лапать
плетеная, как лапоть
TV’игги подвиги
Барбекю – Барби ку-ку
Усама Бенладен
не дал неба массам
Киркоров – Кир коров
Цветаева – цвета Ева
Тарантино – тинтаретто
Тарантино – скарлатина
для взрослых
Тинейджер
трахнул телку через пейджер
Кисет
пятьдесят –
полный писец
полный привет
-------------------------------------------------------------------------
Václav Daněk
Praga
Posrnový dialog 1968
– GE?
– NO NO NO
– CI?
– DA DA DA
– GE NO CI DA?
– NO NO NO NO
– GE?
– NO NO NO
– CI?
– DA DA DA
– GE NO CI?
– DA
– GENOCIDA!
– NONONONO
– GE NO CI?
– DA
Zláskykříž
zle
du
vl
na
s kopirty to jsi ty
me
du
pl
na
-------------------------------------------------------------------------
Елена Кацюба
ДООС
Бабочки другого мира
Они видели лед и винО
Лак резьбы, зыбь зеркаЛ
Их оды Веге – выдохИ
Узор вдоха – заход в розУ
Но в зареве севера – звоН –
цин-цин.
Но взмахам звон – ниц-ниЦ
И нет их ада свече в садах и тени –
Ада, сносимого богом, и сон садА
Их усики сухИ
Иного бала бог онИ
Из жизни художников
Циклодром
В центре – коллаж Игоря Ревякина
Издательство «1-С Паблишинг» в 2007 г. выпустило аудиодиски со стихами Елены Кацюба «Азбука» в авторском исполнении. В 2008 г. вышла книга «Свидетельство Луны». М., Изд-во Р.Элинина. Серия «Классики XXI века».
-------------------------------------------------------------------------
Вадим Рабинович
ДООС – доосозавр
ФЕРМЕНТ КУЛЬТУРЫ: ДОСЛОВИЕ—БЕССЛОВИЕ—ПОСЛЕСЛОВИЕ
Противочувствие этого названия очевидно. С одной стороны, культура, которую должно ферментировать; с другой – хранить в бессловии, то есть в ступоре речи – в состоянии болезни до лучших времен выздоровления. Пройти через очень опасную болезнь с неизвестным исходом: будет – не будет… Воз-любит?..
Но дословие и послесловие тяготеют к обычному: до-начальному и пост-смертному, когда онтологическое – чреватое всем – бытие и онтологическое же – чреватое ничем – небытие пре-бывают в общих соображениях Книги Бытия.
Но срединное бессловие решительно выбирает молодое начало бытия (пусть до поры не артикулированное), уже заболевшее ступором речи, но на пути к речевому здоровью. От «простого, как мычание» к пробою речи – индивидуальной, ни на что не похожей, не укладывающейся ни в какие матрицы и пустые клетки кросс-вордов. Новое удивление? От привычного вновь ничего не осталось?..
Но… еще раз от молодого начала бытия к столь же здоровой развитой речи (?)…
Как это было? Был День Ноль. До всех шести дней Бога и седьмого – только человеческого! – дня. А в день ноль было не слово, а то, что предшествует слову, -- гул, который еще станет словом и каждый раз будет становиться словом – делом. Делом – слововм… Бога. Человеческим (?) словом.
И вот выгнанные за ослушание в одиночество и в безрадостность бытия перволюди остались наедине с самим собой. С речью – подражанием. Канувшие в словесловие. В славословие. Во Славу Божию. Или… наоборот. В благодарность или в отместку. Богово – Люциферово. Но в любом случае – корыстно. Во славу Божию. Легко! Или наоборот. Тогда трудно…
Но все эти слова – вторые.
А первое слово – гул. Но гулу подражать нельзя. А все иное – б/у. Пусть даже Богово. Но все-таки бывшее в употреблении…
До начала был гул. А вот в качестве послесловия – дальнейшее молчанье. Но сыграть Божественный гул или дальше – тишину можно только преодолев муки бессловия. Если удастся…
Перворечь молодых будетлян – все-таки вторая (после Бога) речь. А может быть, и третья (после фольклорных речетворцев). «Все прочее – литература» -- тоже не ахти уж близкое к первой, ко второй и даже к третьей. По поводу всего этого (включая даже дорогих моему сердцу будетлян) могут быть изобретены всевозможные -логии. Всякие объяснительные схемы.
А вот бессловие чистого творчества – это болезнь. И я этой болезнью болел. И болею. Но, как мне кажется, мало-помалу выхожу… Сам. По-своему. Как уж получается. Без Бога, царя и героя. И даже без специальной метанауки…
САМ!..
А теперь, как у меня принято, – поэзия – и как раз об этом.
АМФИБРАХИЕМ ПО ЧИСТОМУ ЛИСТУ
…та-та-та та-та у запруды
та-та та-та-та невода
из темени вышел однажды
в роскошную лунную даль
пробелы прогалы прогулы
чтоб только большие лини
ловились а рыбки поплоше
ушли бы мужать в полыньи
но пусты и тщетны все ахи
и охи и как ни крути
трехстопный плутал амфибрахий
та-та-та в кроссворде сети
и то слава богу в радушьях
заоблачных фьердов и шхер
я неслух все слушал и слушал
хрустальную музыку сфер
мадонна джон дон или дон дон
дзень дзинь и непойманный линь
биг бен тихий дон или лондон
но то ли сказать диньдирлинь
диньдини веселие множа
сияли играя с луной
был свет исключительно божий
был звук исключительно мой
а там в черных фраках дондоны
тонируя гул мировой
как мелочь роняли эоны
и эры одну за другой
-------------------------------------------------------------------------
Виктор Ахломов
ДООС – линзазвр
Фотопалиндромы
-------------------------------------------------------------------------
Валерия Нарбикова
ДООС
Поехали купаться!
Эссе
Поехали купаться! Взгляните! Вон как раз самолет оставляет в безоблачном небе стрелку. И мы без всякого трапа – вбежим по этой стрелке в самолет. Откроем все окна и вдохнем безумно-свежий воздух, который бывает только ранней весной после ночных заморозков. И кто хочет, может даже покачаться в кресле, потому что сейчас это гамак, натянутый между двух берез, которые уже распустились, несмотря на то, что на земле все деревья еще спят. И сегодня все самое невероятное становится возможным, потому что мы едем купаться!
Выпьем по стаканчику перле, и сразу в горле приятно защиплет от пузырьков. И везде-везде, где нам только понравится, мы будем купаться!
Вон речка внизу так плавно извивается, не как мокрый от дождя автобан, а как только может извиваться речка внизу, видимая из открытого окна, летящего на всех паруса, самолета.
Это правда, что у нашего самолета есть паруса, и ему не надо тормозить в небе, потому что это не такси, и мы не пассажиры, и не за рулем, и не чайники. Поэтому мы выпрыгиваем из окна на всех парусах и ныряем в возлюбленную речку, которая окатит нас брызгами до самых небес, потому что мы хотим купаться.
И это такое счастье – сначала нырнуть в поток воздушных брызг – а потом вынырнуть из воды – и в потоке речных брызг – мчаться к самолету. И опять влететь в салон. Посидим у открытых окон, овеваемые ветром. А если заприметим еще одну излюбленную речку, то бросимся в нее – купаться! Все в этом мире призывает нас только к одному – только купаться. Любую жажду можно утолить, и только одну нельзя, это жажду – купаться. Мы возьмем все самолеты, какие есть в небе: и те, которые летят на войну; и те, которые летят в гости; и те, что летят по делам – они все до одного полетят с нами, потому что мы жаждем купаться.
И до конца света мы не утолим эту жажду – купаться.
И эту жажду нельзя утолить. Поэтому мы опять вспрыгнем в пролетающий над нами самолет.
Эти самолеты летают по нашему желанию. Потому что у них – жажда летать, а у нас – жажда купаться.
Мы искупаемся во всякой воде, какая есть на земле – и в большой, и в маленькой. Потому что у нас есть только одна жажда – купаться.
Мы возьмем с собой всех. Даже тех, кто купается в славе, в слезах и в любви.
Мы возьмем с собой всех – купаться!
У Валерии Нарбиковой в 2008 г. В Париже вышел роман «Сквозь» на французском языке в издательстве «Temps est Periodes».
-------------------------------------------------------------------------
Сергей Бирюков
ДООС – заузавр
доктор культурологических наук
ПОВОРОТ МИРА
перевернут мир
ну <---------->ун
нос повернут в сон:
кык мым дыд
быб выв тут
тат баб вув
pop non sos
гог кок bod
hih hah hoh
иногда хух
иной раз хых
пип пуп пып
тут тит тот
oto ovo ogo
obo omo ono
ugu
un<-------------->nu
сон повернут в нос
дыд дуд дад
рыр рур рар
ооооооооооооо
аааааааааааааа
ииииииииииии
ууууууууууууу
мы бежали
по полям
по лесам
там мат
ух <----> hu
НО ООН
нос повернут в сон
12.12
12 ч. 12 мин.
007,
средняя германия
-------------------------------------------------------------------------
Алла Кессельман
ДООС – Дева нот
Из зигзацкой поэзии
Пит Мондриан и Пит Бультерьер
смотрят из-за решеток
друг – н – друг
«Буль» – выпускает дог
ему кажется, что плывет
над решеткой полей,
разделенных рейсфедером.
«Пить!» – говорит Пит
краской ползет в бокал
и коктейль
«кровавая Терри»
опускает на спину летящей собаки
заземляя в один из квадратов
откуда кричат „Привет!“
но:
„НЕ Слоняться, окрашено!“... –
так и висят
в медленном друг – н – дрог
ожидая, пока на луне не высохнут краски –
Пит Мондриан и Пит Бультерьер
* * *
Мон Пантелей, бредущий на небо ос,
в мягких колесах, и с волосами из пакли
Мон скорпинон, просунувший жгучий хвост
В скважины луна, пока голоса не иссякли,-
Не оставляя следов колеса лица –
катится, прозрачночертый, в трекамерный камень
и последняя форма из дыма стирается
ободками с ресницами спиц и мельканьем окалин.
Переполняет себя неподвижен день
Горькие тени теряя, клонится к полудню.
Если бы знали, что музыки нету лютей –
Чем променять обожженное банджо на лютню.
Но и сквозь лютинки все прорастающий скрип
Тоннет стокровом над рогом и стопом творенья
в лирах, которых кричит семирогий медведь
их колесом колесуя себя сокровенно.
Мон Пантелей, одиноко бредущий на неб,
Лопнули цепи, вырываясь из нас с якорями –
Но по лесенке млечной, кораблями карабкаясь вслед –
Я бессмертьем своим твою смерть от меня – покоряю.
-------------------------------------------------------------------------
Михаил Бузник
* * *
В мир иной ушедшие:
Эдуардас Межелайтис – поэт.
Даниил Лидер – сценограф.
Давид Боровский – сценограф.
Борис Алимов – книжный график.
Академик Борис Раушенбах.
И вдруг Ирэн Урьяс – распятая клеветой, всегда восстанавливающая Храм, Храмы: перед тем как закрыть глаза навсегда – боль нечеловеческую принявшая – СЕГОДНЯ ДЕРЖАЛА ЗЕРКАЛО… ДРЕВНЕЕ ЗЕРКАЛО.
Крест сотворяющий – горизонт Воскресения! – сфокусировал в нем ЛИКИ всех пятерых друзей моих.
Они к слогу Божественному вошедшие – теперь Словом были.
Недоступны их руки скрещенные.
Зеркало же обнажило исход.
Исход, что вкленил в даты жизни нашей – цифры неземные.
Борис Александрович Алимов! Именно душа твоя хранит Храм Московский Вознесение Малое.
Борис Раушенбах – главный теоретик космоса! – твоими деяниями восхищенный Эдуардас Межелайтис – бездонность предвесеннюю обретает.
Даниил Даниилович Лидер – ты у метелей Блока (векторе Вселенной) – спрашиваешь: почему красота Питера столько раз убивала, а не спасала?
Борис Александрович Алимов! Живым состраданием твоим – храни Храм Малое Вознесение на Большой Никитской.
Помоги ему любовью своей.
25.12.2007
Отрок Ваня Малышев
Он жил в Москве на Пушкинской площади.
Сколько же линий Тверского бульвара изъела страхом его смерть.
Камни же под стопами его матери Варвары теплые. Так Иван желает.
А вокруг Варвары высокие башни – нематериальные.
И чего теперь только не знает Иван.
Ему известна граница бытия Спасающихся – в безднах неба.
Он видит, как фрески исчезают в храмах – ибо они Ангелов хранят на небе.
Ему ведомо, что конец для многих его знакомых приближается, но никто из них не хочет слышать откровения.
Творящей мыслью свершается радость.
Вчера, в субботу, мать Ивана – Варвара и его отец Сергей – проснулись и увидели на столе яблоки от сына.
31.11.2007
-------------------------------------------------------------------------
Румен Шомов
София, Болгария
ОПЫТ ИЗОБРАЖЕНИЯ СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОГО
ОЖИВЛЕНИЯ БИБЛЕЙСКОГО ЛАЗАРЯ
ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ
Приходил он и взирал на Лазаря
глазами лазурными, глазами как лазер.
Раз, два, три – возвращение к жизни...
Дальше – вечная слава Отчизны!
Вопрос:
…Заря ли озарила
пыль
могилы?
21 августа 2006 г.
СОН
Земля содержит больше кислорода,
Чем воздух.
Черви устремляются в
г
л
у
б
ь...
СЮЖЕТ
Майе
Стоит музыкант пред открытым роялем
в зале полупустом.
Не хочет публика Шостаковича слышать,
Бетховена не хочет,
не хочет Равеля.
Публика очень спешит.
Музыкант выходит из зала,
волоча
за собой
рояль по улице.
* * *
Одинокая тень
вернись
в свое тело!
20 июля 2006
Оживил болгарского Лазаря в русском языке Евгений В. Харитоновъ
-------------------------------------------------------------------------
Анна Альчук
(1955 – 2008)
ДООС – стрек-Изида
1.
ОТлеТЕЛА душа
отдышалась
отрешилась от шлака и –
вширь
просияла на синем
отсель
несиницей в руках саркофага --
прошивающим Землю дождем
журавлем
обживается вечность
2.
шум у лица
теперь не скро
ешь кёльнских
кнайпов акатоне
гудит и бу
лькает и злит
поли(т)-поли(п)-ция
и кроме
графитти РАФа –
ничегонет
3.
пена -- камень
ГОЛУБИзна
ибисы
сойки
плещут:
ВОЛ(ю)НА ВОЛ(ю)НА ВОЛ(ю)НА
В`ОЛЮ!
вздыбится мором
о гальку –
пташек щебечущих
штучек небесных
трётся о берег
ВОЛ
НА оберег
герб моря
4.
Малый Маяк 2005г.
брызнули звёзды в глаза
в ночь кипарисы вреза
ются ль
ются тигле
белое «А»
в (каждом)е жажды
трижды вангоговский
свет
темой усилен
не лис* --
слитков глубинного
(ЗНА
НИ
Я)
ни кто-то другой
не
знает
5.
Узнавания
Чистый звук
Из лу(ча емый)…
Тело
Едва
Лиминуя
Ь знак обращает в твёрдый
-------------------------------------------------------------------------
Галина Мальцева
ДООС
Вавилонский дождь
-------------------------------------------------------------------------
Александр Бубнов
доктор филологических наук
ДООС – палиндрозавр
ЛИНГВОРЕАЛИЗМ… ЛЬНА
(тезисы словоманифеста
льNо 1-А - специА-ЛЬНО для журнала ПО,
ПО мотивам «лингвистического реализма» Елены Кацюбы
и палиндромософии «ИЛИ» Константина Кедрова)
Лингвистическая реаЛЬНОстиЛЬНОсть лёгким льном льNёt к нам, даНА НАм - НА! НА! - в ощущениях - ?ОЩУЩУЩО? в щелях ткани текстоЛЬНА? НАЛЬём, и не нАлом да просочится чтение! но чу в ственнольно! словольно!
Говорят «встретимся в реАЛЕ (алё)», то есть «в реаЛЬНОсти», в отличие от виртуаЛЬНОсти интернета. Это реаЛЬНОсть физическая. НОЛЬ - плюс на минус или плюс-минус? ЛингвореаЛЬНОсть изначаЛЬНО живёт и в инете, и в живом разговоре (и в разговоре, допустим, поэта с самим собой, не говоря уж о …нале фининспектора). Более того, они объединяются, умНОжаются. НО это уже - не НОЛЬ. Это по самой малой мере - удвоение.
ЛИнгвореаЛИзм - слово из пяти слогов с «отражающимся» ударением на первом и последнем, с повторением ударного и предударного. Словно рифма внутрисловесная, слоговопалиндромная. Словорифма самодостаточная. Сплетение, льна плетение, летение и лечение. Ре3Онанс отражения стран О3, озона - над зонами, вне зон. Меж меж. Между силой "ИЛИ" и харизмой "И". Между «быть» ИЛИ «не быть» - палиндрософия Константина Кедрова. ПО - Палиндромическая Ось двухтомника «Или/Или» Сёрена Кьеркегора в 838 стран-НИЦ! …и возлежит цифирно на бесконечностях миров и антимиров вкруг Троицы. Лингвореализм новогаметовых (не опечатка) вопросов «быть Или? не быть?». ВЕТО «TO BE»? Всклик слОГОГОлоса - меж повторов составных союзов и - по ту сторону повторов. Меж гор и зон, версификаций и вердиктов - меж горизонталей и вертикалей. Меж меж. Сквозь сеть интернета и сеть параллЕЛЕй и мерИДИанов (?). Вспомните, как ловили нейтрино.
Аки нейтрино.
УниверсаЛЬНОе «lee» - и укрытие, и подветренная сторона - и ли, и ли. Elena (Const.).
ЛИнгвореаЛИзм - однословная квинтэссенция «закона поэтической речи», ПО Игорю Терентьеву. Или (и) «лингвистический реализм» Елены Кацюбы, НО ПОд властным давлением «тесноты стихового ряда» Юрия Тынянова, когда Потебнианское «наглядное значение слова» являет снопы лингвопоэтического «огня», ПО Владимиру Руделёву. Лингвореализм - наименование вновь набирающего силу и харизму на новом витке двойной спирали поэтической ДНК «направления» поисков Поэзии в Языке, новохайдеггеровский «путь к языку».
«Литературоведение как литература» Сергея Бочарова подразумевает и Поэтику как Поэзию, и Словесность как само Слово, Слово футуробудущее, переходящее через Божественную Глаголицу в Логос и обратно в прото... Слогоголос и Слововолос тканный. Слого-Логос кругограмматический / метаграмматический
(…слово / слого / логос / слого / слово…)
В лингвистической реальности встречаются все и встречается всё. Лингвореальность - аки Дух, живёт где хочет. Всюду. В том числе и прежде всего - в Поэзии, и даже не обязательно в поэзии «как таковой»: в поэзии прозы, в поэзии (вст)речи, поэзии текста. «Всё ((во мне и я)) Во Всём» - от Библии через Злато-Серебро веков и так далее (ПО Велимиру Хлебникову) везде.
Во мне
и я
и…
СловоЛЬНОе поэзо-плетение льноТКАНИ НИТКА за ниткой, плетение и РАсплетение. Великие Круги ДНтКани! ДНК, открытая «на кончике пера» (поэтического?) и уже затем найденная в реаЛЬНОсти.
Лингвореализм - это и жест отчаяния, и вес молчания, и мимика критика - и аура автора...
Лингвореализм – это данность Логоса.
Александр Владимирович Бубнов,
доктор филологических наук,
профессор Курского института социального образования,
филиала РГСУ. Лингвореалист.
-------------------------------------------------------------------------
Кристина Зейтунян-Белоус
ДООС
Париж, Франция
***
Ты зеркало утраченного времени,
сосуд пространства,
краткий промежуток вечности
между душой и призраком души.
***
Отражаясь в глазах дождя,
Пешеход спотыкается
о зеркало лужи
и падает в объятия
собственного лица.
****
От времени сбежать,
в пробелы между слов
вписаться междометьем –
не стоило б труда,
когда бы не судьба,
когда б не заговор созвучий и наречий –
таких родных, что больно говорить,
таких колючих, что понять опасно –
и спор неразрешимый гласных и согласных
двух языков – не много ль для меня?..
А впрочем, речь возможна лишь
на языке дождя
и ветра,
и грядущих сновидений...
Зеркало мысли
Рисунок Кристины Зейтунян-Белоус
-------------------------------------------------------------------------
Luis Benitez
Buenos Aires, Argentina
The extravagant upstream traveler
Then I saw him in the oily water,
a gift from industry and lively hatred,
rising upstream the water:
the impossible salmon,
a brawny monster
all ornamented of green and purple,
of orange and red,
at the livery that only desire lends
to the anxious to reproduce them by all means.
Unusual iridescense between the garbage
of the condemned river,
like a stubborn man
in finding the way that says to him
“I am your life”, a gift
for the simplicity obstinate in believing
in a stimulus for the tensed muscles
under the harsh scales,
an overdose of hormones
that flood the tiny brain.
And this open mouth to the desire of breathing
still something more than its last day,
was keeping the final syllable
of those who don’t let themselves be beaten
neither by their own stupidity
nor by the edges of the piers,
where they never stop, where they
never detain for any reason whatsoever.
Lao-Tse prepares a verdict
Nothing of what I say
may deviate the fall of a leaf.
A word will not
detain the other one.
It's useless for me to dedicate
a truth to these listeners:
they will turn it into pieces.
From its pieces Lao-Tsé will be born.
The pearl fisherman
This evening and part of the night
I sank again into the dense sea
where we beings and things float.
I descended for pearls to show to men
who fear even the risk of the border.
This evening and part of the night
I was amidst that silence, in that deepness
where the most infinite pleasure would be dissolving
and I knew that on all roads
there are monsters for those who fear them.
Swimming I arrived where there is no love or hatred,
you simply float over an eternal present
and everything you regard is your contemporary::
nothing else is carried by the tides.
I took this pearl and now offer it to you.
But when I have wanted to return,
I saw no man on the border.
I didn't see the border. All is the sea.
Those who fear the border
do not know they are walking on the sea.
-------------------------------------------------------------------------
Ольга Адрова
ДООС
Искусственный рай
Мы станем собой
только в искусственной атмосфере.
В атмосфере, которая к нам нежна.
Роза сладко дышит в оранжерее, –
В иной атмосфере она себе не нужна...
Сама себе свет, сама как оранжерея,
Она сама себе храм, сама себе тишина.
Жизнь – искушение
в искусственной атмосфере,
Рок – это роза, которая влюблена...
Шахматы Набокова
(Продолжение темы, см. № 8 «Ладья – Лад Я)
Вся поэзия – история превращений,
непонятных для глаза перемещений –
Непоэту, для других – еле слышный звук,
а для нас топот слонов вокруг.
Вся поэзия – история раздеваний,
торопливых молний шахматных оправданий;
То поэзия – для одних воплощенный звук,
а для нас – море и смерть вокруг.
Пока господь выдает нам второе зренье,
то мы стоим на позиции стихотворенья,
И бабочка все парит над оградой сада,
Но Набоков остыл, ему ничего не надо…
То поэзия – здесь ее назовут игрой,
а для нас бесконечный стон, бесконечный ноль,
Бесконечное тело в осколках иных витрин;
Я ищу тебя, но господи здесь один.
Рисунок Владимира Опары
Специально для ПО
-------------------------------------------------------------------------
Андрей Коровин
ДООС – крымозавр
Стрекоза
Константину Кедрову
живи животное по кличке стрекоза
офсетной памятью не замутняй глаза
пусть всё что движется в сферических мирах
тебе привидится в оптических пирах
питомцы воздуха мы помним эту речь
галдёж пчелиный и осиную картечь
и шум пропеллерный стрекозьих лопастей
ломает строфику термитных крепостей
привычку царствовать в передвижном раю
я сам по абрису движенья узнаю
а та что воздух прорезает между глаз
жива движением. всегда. везде. сейчас.
* * *
император в небе
сам говорит с собой
это наш последний
это наш решительный бой
Господи Боже мой
Твой многоцветный рай
так похож на картинки
в японском стиле хентай
мы опять проиграли войну японцам
наша эскадра пошла на дно
в небе щурится узкоглазое солнце
небо стало похоже на кимоно
император - как сказано выше - в небе
мёртвые ангелы - на земле
поезд Ленина – на запасном пути
Россия Уэллса – во мгле
на добычу слетаются
трупные птицы
Германия, Англия и Китай
Господи, посмотри в эти лица
разве же это – рай?
император в небе
с дыркою в сердце
в военном френче и при усах
отрекается от престола
в пользу Архангела Михаила
и грезит о чудесах
дочери нянчат
неродившихся ангелов
царевич поднялся и полетел
Колчак обнимается с Врангелем
а ты бы чего хотел?
В 2007 г. у Андрея Коровина вышла книга «Поющее дерево». М., Изд-во Р.Элинина. Серия «Классики XXI века».
-------------------------------------------------------------------------
Наталия Азарова
кандидат филологических наук
¿ крым ?
¿ мак и по кром кам
белые козы камней
как здесь не жить караимам?
* * *
качка
к щеке о́блака солнце
приклеено липучкой
ры́бы рёбра
подводные выпячиваются
судьба боса́
шлёп
шлёп
и по шла́
по пучине
чуть
чуть
выбор
ten ? – нет !
сей ? – yes !
Москва – Лондон
19 ноября 2007
***
город
тотже
из-нью-хэмпширской
ржи
на e-mail’ы не отвечает
сэлинджер
снаружи-сумерки-жидкие
жизни
бело-чёрный минимализм
имперский внутри
жизни
и
всёже
попрежнему
крой юн
крой юн
нью йорк
нью йорк
-------------------------------------------------------------------------
Евгений Степанов
кандидат филологических наук
* * *
губы шепчущие в метро
Господи помилуй
Господи помилуй
Господи помилуй
что я могу добавить
простите
прощайте
11.03.2007
Есенинский бульвар
* * *
стилистика
падающего листика
19.11.2007
ст. Удельная
* * *
аль — ра
ра — рррррррррррр-эль
за полчаса до расстрела
15.10.2006
ст. Партизанская
* * *
молчи не беса небеса
6.10.2006
Санкт-Петербург
* * *
я не умею забивать гвозди
клеить обои
печатать на ризографе
руки ноги глаза
мозги
мои инструменты
я строю домики книг и журналов
инструменты не вечны
я тороплюсь
я тороплюсь сказать тебе
что мы едины
что мы всегда вместе
хотя и видим друг друга земным зрением раз в полгода
я тороплюсь сказать тебе
что других женщин для меня в этом мире нет
хотя я всю жизнь имел репутацию дон-жуана
я тороплюсь сказать тебе
что теперь точно знаю смысл простых слов
я люблю тебя
живи долго
живи очень долго
главное —
живи дольше меня
5.03.2007
Большой Знаменский переулок
-------------------------------------------------------------------------
Татьяна Бонч-Осмоловская
кандидат филологических наук
Сидней, Австралия
Гномоном древние греки называли рамку плотника, которой меряли прямые углы. Такая рамка, если ее приложить к квадрату, образует квадрат большего размера. То же название, гномон, получила геометрическая форма, дополняющая квадрат до квадрата большей площади. Возможны не только гномоны квадратов. Елочки с детских рисунков, каждый уровень которых повторяет предыдущий с увеличением масштаба, при этом сохраняя форму дерева; или вложенные одна в другую матрешки – являются реализациями гномов в изобразительных формах. Мы предлагаем литературные гномоны, в которых каждый куплет может быть прочитан независимо, как отдельный «этаж» елочки, а также вместе, составляя текст, развивающийся от Одного до Другого, и далее к Природе, Миру и Вселенной.
Я.
Я –
За!
Я –
За
Ней.
Я
За
Ней
Хожу.
Я
За
Ней
Хожу
Лесом.
Я
За
Ней
Хожу
Лесом,
Кругом.
Я
За
Ней
Хожу
Лесом.
Кругом
Деревья.
Я
За
Ней
Хожу
Лесом.
Кругом
Деревья
Зеленеют.
Я
За
Ней
Хожу
Лесом.
Кругом
Деревья
Зеленеют,
Красуются.
Я
За
Ней
Хожу
Лесом.
Кругом
Деревья
Зеленеют,
Красуются,
Расцветают.
Я
За
Ней
Хожу
Лесом.
Кругом
Деревья
Зеленеют.
Красуются,
Расцветают
Подснежники.
Я
За
Ней
Хожу
Лесом.
Кругом
Деревья
Зеленеют.
Красуются,
Расцветают
Подснежники
Благоухающие.
Я
За
Ней
Хожу
Лесом.
Кругом
Деревья
Зеленеют.
Красуются,
Расцветают
Подснежники
Благоухающие,
Нежносветящие.
Я
За
Ней
Хожу
Лесом.
Кругом
Деревья
Зеленеют.
Красуются,
Расцветают
Подснежники
Благоухающие,
Нежносветящие,
Розовоперстные.
Я
За
Ней
Хожу
Лесом.
Кругом
Деревья
Зеленеют.
Красуются,
Расцветают
Подснежники
Благоухающие.
Нежносветящие,
Розовоперстные
Златосеребрятся.
Я
За
Ней
Хожу
Лесом.
Кругом
Деревья
Зеленеют.
Красуются,
Расцветают
Подснежники
Благоухающие.
Нежносветящие,
Розовоперстные,
Златосеребрятся,
Искрорассыпаются.
Я
За
Ней
Хожу
Лесом.
Кругом
Деревья
Зеленеют.
Красуются,
Расцветают
Подснежники
Благоухающие.
Нежносветящие,
Розовоперстные,
Златосеребрятся,
Искрорассыпаются
Солнышкозвездочки.
-------------------------------------------------------------------------
Лоренс Блинов
ДООС – звукозавр
Казань
(Специально для ПО)
Лики
Памяти Генриха Сапгира
мы Мы мы мы
но
человек живет без мы
(е)сли -
sos! sos! со
с тав
ос тав
ляет мыс мы – с – мы
с мы слпро живет и без : но
но
это увечье вели, отче,
века ве-ка как нечто без
ос
в небе
чело чело
птичье
с мы 9 г
1/ХI-04.ХХI.
1. Сущь
Потому-то му
Не столь уж и муторно
(он, рот, - УМ!)
что слово «вол» -с, от ® ¬
чёт ли вое, как мы
чание, поэту с
родни и сродни
тому и
т,огу, ко торы
й с й с нимае
т
тогу и сродни му - ,
с
родни - зыка
слова «вол» - с .
Словолов , он -
и то МУ
и ТО гу
не равен (не варен, не верен, не ровен)
Поэт - не ТОТ.
оННе великоЕгип’ЕтскоЕбожество древ,
но сти
хий, но сти хисо
чинЯЮщЕЕ сУЩ
ество.
Ест ест ва Рас
Свет , а не И
Тог .
-------------------------------------------------------------------------
Игорь Ревякин
Специально для ПО
-------------------------------------------------------------------------
Лев Залесский
Специально для ПО
Где раки музуют
Среди множества ассоциаций, как общеэстетического, так и личного плана, воскрешающих в памяти цепочки терминов, музыкальных примеров, культурно-исторических фактов, имён, воспоминаний о собственных ощущениях, вызванных темой ракохода, прочно доминирует одна. На первый взгляд она совершенно несерьёзная, быть может, антиэстетическая – простонародная какая-то. А быть может, идеологическая или, скорее даже, хулиганская.
Был такой анекдот.
Встречаются двое студентов композиторского факультета консерватории:
— Симфонию дипломную написал?
— Написал. А ты?
— А у меня проблемы!
— Да какие там проблемы? Берёшь симфонию Шостаковича и переписываешь наоборот.
— Пробовал уже. Чайковский получается.
Совершенно очевидно, что этот анекдот мог появиться на свет где-то в конце 40-х - начале 50-х годов, когда трудящиеся, вдохновлённые постановлением о борьбе с формализмом, били стёкла на даче композитора. Впрочем, это могли быть и не трудящиеся. Очевидно и то, что трудящиеся такого анекдота выдумать не смогли бы. Здесь чувствуется искусствоведческая хватка. Только вот Чайковский неизвестно откуда взялся: по всей видимости, его имя – дань избирательной эрудированности тех же трудящихся. Шостакович же отнюдь не Чайковского наизнанку выворачивал. Но об этом чуть позже.
В истории полифонии, освещающей наиболее значительные музыкальные события, начиная с XI века, теме ракохода (иначе говоря, музыкальной инверсии или горизонтальной симметрии нотного текста), уделено много внимания. В частности, подчёркивается наличие синкретических корней подобного явления в музыкальной интонации. В качестве доказательства приводится высказывание Гвидо Аретинского, изобретателя современной нотации, о том, что повторение мелодии может быть «в обратном движении и даже теми же самыми ступенями, какими она шла при своем первом появлении». Здесь, безусловно, надо принять во внимание, что Гвидо писал, опираясь ещё на изустно распространяемые музыкальные примеры.
Мы достаточно хорошо осведомлены, что обращение к ракоходу в полифонии строгого и свободного стилей (XV–XVIII вв.) представляло собой не жанр. Это была отчасти игра для посвящённых, отчасти поиски новой выразительности в тесных рамках монотематического развития, отчасти – уже тогда – некий месседж, предназначенный, быть может, не только посвящённым и просвещённым, но и просто «продвинутым» современникам и потомкам.
Но не слишком ли увлекается автор, отыскивая месседж в скромном приёме, если, практически, всё и всякое сочинение является месседжем?
Ведь гораздо более отчётливо подобный месседж может быть представлен стилистическими средствами в их огромном разнообразии – от имитации и стилизации, внесения выверенных диссонансов (у Баха) до почти полного исключения консонанса и сложных экспериментов в области формы – таких как, например, отказ от линейного развития и перехода к оверлейным структурам на сонатной основе (у Малера).
И здесь нас поджидает любопытное открытие: месседж тогда и появляется, когда в музыкальной ткани возникает та или иная разновидность инверсии: заключённая в горизонтальном ли движении, а равно и в развитии музыкальной «вертикали», в инновационном представлении формы, в акустических коллизиях, достигаемых за счёт нетрадиционной оркестровки.
Не каждому дано понять такой месседж. Угадать его присутствие проще. И в этих случаях он, как правило, раздражает «общественность». Бах, кажется, никогда не прибегал к инверсии, руководствуясь исключительно формальными принципами. Автор помнит, как от каждой встречи с баховским ракоходом, начиная с ХТК, у него буквально дух захватывало. Но современники жаловались, что композитор и органист «использует чуждые звуки такого тона, что община подчас бывает весьма сконфужена…». Непонимание месседжей, буквально рассыпанных в оркестровках Малера, вызывало и куда более резкую реакцию.
«Говорили о Малере и его бездарной и безвкусной симфонии с крайне грубою и грузною инструментовкою... Это какая-то горделивая импровизация на бумаге, причем сам автор вперед не знает, что у него будет в следующем такте. Обидно, право, за него, как за музыканта», – это высказывание Н. А. Римского-Корсакова, записанное со слов его биографа В. В. Ястребцева.
А вот и Ромен Роллан: «Эти нагромождения музыки всех родов, ученые и варварские, с их гармониями, в одно и то же время грубыми и утонченными, действуют больше всего своей массой...». Приведём выдержку из статьи советского музыкального критика и композитора Вячеслава Григорьевича Каратыгина – одного из активных участников строительства советской музыкальной культуры в первые годы после Октября:
«Пресловутый «демократизм» Малера большей частью сводится к простой мелодической вульгарности и банальности. Формальные очертания частей рыхлы и сбивчивы. Много длиннот. Много дешевки. Много музыкальных грубостей. И очень мало самостоятельности».
Более всего шокирует грубость. Не Малера, нет. Грубость его критиков, опускающая содержание самой критики до уровня автопародии.
В специфической системе сочинения атональной музыки, положенной Шёнбергом в основу создания новой венской школы, содержится своеобразный алгоритм инверсивности. Недоброжелатели называли (и называют) эту систему «высчитанной» – с оттенком уничижения. Между математикой и музыкальным искусством, тем не менее, есть незыблемая связь, наверное, ещё со времён Пифагора. Готфрид Лейбниц выразил подобную мысль с характерной для него глубиной, при этом на удивление лаконично (для германского учёного): «Математика – это поэзия гармонии, вычислившая себя, но не умеющая высказываться в образах Души».
К моменту, когда Шёнберг отказался от собственной системы ради так называемых «Образов Души», эта стезя сочинительства существовала уже 20 лет. «Бывает, – подметил Жан Кокто, – что какой-либо человек, по собственной воле став основателем целой школы, вдруг в один прекрасный день отрекается от неё; впрочем, самой школе это не приносит никакого вреда».
Заметим, что Малер исполнял музыку Шёнберга. Ворчал. Требовал сыграть после репетиции простое трезвучие, чтобы не повредиться в уме, но исполнял. Ибо относился к числу артистов, которые прекрасно понимают, что не все послания, или месседжи, предназначены для публики. И самонадеянно со стороны публики полагать, что это так. Художник вправе выбирать адресат совершенно самостоятельно.
Нельзя не поделиться впечатлениями от инверсивности в музыке Дмитрия Шостаковича.
В разработке достаточно лаконичной первой части Третьего квартета (1946), например, используются все существующие на сегодняшний день виды композиторской разработочной техники – предклассической, классической и постклассической. И что же? Музыка неизменно производит впечатление не только на тех, кто способен оперировать терминологией, включающей понятия полифония, додекафония, политональное и атональное развитие, инверсия, синкопирование и полиритмия… Но и глубину угадывающегося в этой музыке месседжа, кажется, полностью постичь невозможно… Композитор, кстати, очень не любил учёных разговоров о музыке. В его знаменитых «Записных книжках» есть такое свидетельство:
«Вообще-то литераторы, пишущие о музыке, должны бы следовать примеру Алексея Толстого. Граф Толстой напечатал две большие статьи о моих симфониях. И обе статьи входят в собрание сочинений. Но мало кто знает, что на самом деле статьи написаны за него музыковедами. Их к Толстому вызывали на дачу. И они ему помогали разобраться во всех этих скрипках и фаготах. И прочих музыкальных премудростях, недоступных для графского понимания».
Уже в раннем ёрническом своём балете «Болт» Шостакович предлагает инверсию оркестровки первой части Второй симфонии Малера («Смерть героя») в сцене смерти комсомольца Гусева. Да и сам сюжет балета – это чистой воды инверсия. Вот как этот сюжет представлен самим автором в переписке:
«1-я картина. На завод приходят рабочие. Делают утреннюю гимнастику. Среди них пьяный со вчерашнего похмелья Лёнька Гульба.
2-я картина. Праздник самодеятельности по случаю открытия нового цеха. Лёнька Гульба со своими приятелями (Иван Штопор и Фёдор Пива) хулиганят. Их выводят.
3-я картина. Работает цех.
4-я картина. Выходной день. Пригородное село. Танцует поп. Танцуют комсомольцы. Танцуют старушки. Пьяный Лёнька Гульба гуляет с девушками. Ему хочется гулять и завтра, для этой цели он подговаривает несознательного парнишку заложить в машину болт. Тогда завод остановится, и можно будет гулять дальше. Это подслушал комсомолец Гусев и пожелал разоблачить заговор.
Гусева Лёнька убивает.
5-я картина. Парнишка закладывает болт. Убитый Гусев (ожил) разоблачает его и Лёньку Гульбу. Их арестовывают. Общее ликование. Танцы. Апофеоз.
Означенный балет был поставлен в Мариинском театре 8 мая 1931 года. С треском провалившись, снят с репертуара. Всё это я тебе сообщаю не для опубликования».
Малер – кумир Шостаковича. Не станем отыскивать в его музыке прямых цитат. Они не прямые. Тем не менее, искусствоведы, готовившие заключение о контрреволюционности Четвёртой симфонии Шостаковича (1936), сумели ощутить, как инверсирована концепция мира, выстроенная Малером, в итоге – жизнь представлена как полусон, полубред, и ужас перед насилием и смертью соперничает с противоестественным для человека желанием «не быть».
– Но так же нельзя, господа-товарищи,– возопили искусствоведы в штатском, – у Малера учится…, его знает вся Европа, да что там Европа – весь мир! Этот язык понятен без слов!
Кому предназначалось послание? Быть может, мыслящему современнику?
Достигло ли оно своего адресата?
-------------------------------------------------------------------------
Анна Рахман
Гамбург, Германия
* * *
АМНИО
ШОСН
ОМНБ
НМАЯВ
Д, БУТЕРБРОД С ИКРОЙ, ЯЯН
ННЮЕН
И – УЮТН
АКМААН
ШКШТНЕ
ТКТИА
КМХАН
А ТОИО
ТОАМ
АННА – ШОКО-ДЫР!
16.11.2003, Вена
-------------------------------------------------------------------------
Вадим Месяц
ГОЛОВЫ ПРЕДКОВ
Адам, он же Давид, он же Иисус Христос,
чей череп закопан у входа в Ерусалим,
охранял его Северный подступ, до тех пор
пока его не раскопал Бран.
Ахилл Мирмидоянский, ученик кентавра,
продолжал петь головой, отделенной от тела.
Так же поступил Бран, лишивший за ночь
пятьдесят девственниц по любви.
Нас вынуждают петь, а не лебезить.
Потомки Гомера, сына Иафета,
осели в Британии, повторяя слова
пеласгов и халевитов.
Они нас учат любить. Заклинания
дайвиров и Блодайвет,
оставляющей следы из снега,
вязнут на наших устах, словно горох.
Разрушение Храма, падение Трои,
плаванье в бочке лучшего из сынов,
закончится тем, что его прибьет волной
к зеленому острову Элга.
Северный царь, улыбаясь, встретит поэта.
Даст ему имя прекрасное – Гвидион.
Отнесет его голову на лондонский Белый холм,
прикажет воронам ее отпеть.
Однако Бран будет петь сам,
словно царь Эврисфей,
чья голова похоронена у Микен.
И никакой король Артур не отыщет ее,
потому что лишится слуха, сатрап.
ПЕРСТНИ ХЕЛЬВИГА
Их узоры стали грубы,
Будто чеканили их для рабов рабы.
Как быстро всё навек изменилось:
Лица старушечьи глядят на меня
Вместо камней дорогих.
Постарели за ночь мои перстни:
Нет в них песни!
Больше своих пальцев я перстни эти любил,
В бою, сжимая клинок,
На свадьбе с кубком тяжелым,
Выставлял их напоказ.
Теперь на руки свои гляжу как прокаженный,
Зрелищем пораженный.
Неужели познал я ромейскую красоту,
Изящество линий, ничего не значащих.
Что мне, перед мужчинами теперь красоваться?
Забыть звериный стиль?
Предать женщин, мне их даривших?
Или женщины эти вовсе слегли в могилы?
Постарели за ночь мои перстни:
Нет в них песни!
Никто не скажет мне, что случилось.
Убийством нельзя мне руки украсить.
Голыми стали мои пальцы,
Словно вода в колодце.
-------------------------------------------------------------------------
Алина Витухновская
Рождающий Закономерность
Рождающий Закономерность
Бросал ее под ноги мостовой.
Намек на новый замысел. И верность
Вчерашнему не значит ничего.
Стремясь к эффектам, пользуясь, не платят.
Смеясь о будущем, насилуют свой страх.
И черный человек на циферблате
С куском вселенной в сомкнутых зубах
Пытается поработить пространство взглядом,
Размыть цвета, и вещи разобщить.
Но ненадежный и бессмысленный порядок
Для некоторых еще рискует быть.
Им видится узор
неясных соответствий.
Они воткнут свой флаг
в пустой небесный свод.
Они не верят в то,
что повторенье действий
И слово, и число
Не значат ничего.
* * *
Витальность, отменяет гениальность.
Что оставляет жизнь?
Изнанку лжи?
Нет, смерть нежней.
Ее предпочитая с детства,
Я невеселые слагала мифы зауми.
А Хлебников ел хлеб.
А я жевала сердце.
Секун-Данте Алигьери
Секун-Данте Алигьери.
Элегантных аллегорий,
Знайте меру, знайте меру,
Агитаторы историй!
Только маузеру разум!
Реставраторы империй,
Уступите Герострату!
Секун-Данте Алигьери.
Ждите истинных инструкций,
Что готовит злой куратор.
Дегустаторов конструкций
Ждет деструкций дегустатор.
Миру – мор! Нерону – троны!
Но историй повторимых
И тиранов утомленных,
Третьих рейхов, третьих римов
Мне приятней, пряней, ядней
Дней суетных обнуленье,
Тленье лун и тел развратных
Размноженье, разложенье.
Торжествующее Множеств
Прекращающим ножищем
Уничтожив, уничтожусь,
Укачусь в Ничто Нулищем.
-------------------------------------------------------------------------
Владимир Пальчиков
ПО1 и ФЕИ ДРЕВ
Дерби2 бредили. Пили дерби бред
(«По и феи древ… Верди… ефиоп3…»)
Порт и форт; срезал / лазер строф и троп4
Дереву веред5, дереву веред…
Дед рече векам. В маке вечер. Дед:
«Похимичил босс? – обличим…» И – хоп! –
Пол-лохани влил, влил вина (холл-лоп)
Деве-шудре6… Арф / фраер. Душевед.
Тартару табу – кубатура трат:
«Таракан»7, теня, тянет на карат.
Или тут чуму-думу чтут, или
Вер гобой?.. О, гой8, йогой обогрев!
«Верди Ефиоп… По и феи древ…»
(Или дерби се в веси бредили?).
30.05.03
1. По, Эдгар Алан (1809-1849) – американский поэт. 2.Дербь – от слова «дерба» – глушь, заросшая сорняками, одичавшая земля (М.Фасмер. Этимолог словарь русск. яз.) 3. Верди… эфиоп – здесь: намек на оперу Верди «Отелло». 4. Тропы – здесь: тропы поэтические (образная речь). 5.Веред – болезнь деревьев, наросты на коре. 6. Шудра – низшая каста в Индии. 7. «Таракан» – здесь: прозвище мелкой ювелирной вещицы, которая «тянет на карат». 8. «Гой!» (др.русск.) – возглас приветствия: «Будь здоров!», «Здравствуй!»
-------------------------------------------------------------------------
Юрий Арабов
Поминки
Из праха был взят и ушел во прах,
из пустого был вынут, в порожнее возвращен.
Душа, вылетая, спугнула весенних птах.
Священник уверил, что труп прощен.
Из пустого был вынут, из праха взят.
А мы пошли заедать свеклой
нелепое горе, где Бог распят,
а смертный пытается стать икрой,
балыком... В крайнем случае, винегрет
застрянет в горле, когда смекнешь,
что ешь покойника на обед,
на ужин, – вообще
не разбери-поймешь...
Ушел и взят, и обмыт, и вдруг
такая радость, что он – не ты.
Кто утаит,
скрываясь за свой испуг,
промолвив, что, в общем, всему кранты.
Кто сматерится,
кто сделает всем «козу»,
как малым детям, сказав: «Ужо?»
Мы расходились. Я спер копченую колбасу
не всю, но отрезал себе ножом
в то время как зал опустел на треть.
Сочился жиром тугой разрез...
Я поднял рюмку: «Большая честь
тому, кто все видит, но сам исчез».
...С карнизов гнилая текла вода.
В подъезде был Гефсиманский сад.
Я шел и думал: «Вот так всегда,
соврешь чего-нибудь невпопад».
-------------------------------------------------------------------------
Евгений В. ХАРИТОНОВЪ
ПРОСТЫЕ ПАЛИНДРОМЫ
Музыкальная дискуссия
Рок бос, собкор!
Собкор: рок скор!
Марсианский палиндром
АдадА
оно
дад
лол
нон
и фифи –
шиш!
Зеркальный алфавит
Женщины
НЕТ ДА НЕТ
Н Е Т
Д А
Н Е Т
Смерть паоиндрома
11 22 33 22 11
…
-10000000001-
…
666 66 6.6.6. 66 666
2006-2007
У Евгения Харитонова в 2008 г. В издательстве «Вест-Консалтинг» вышла книга «МИ НА МИ РА»
-------------------------------------------------------------------------
Павел Байков
Санкт-Петербург
Специально для ПО
Монопалиндромы
АДРЕС СЕРД(ц)А
Я – лба сутра.
Заново род змеи не прав!
– Равви лотоса, что тебе свора?
– Дети, ребёнок кому крамола?
Духи спят.
Идеологии мрамор – аванс…
– На член метну глыбу глаз я!
В Сыне жар сопел сигар.
– Воин, говорим, веди в ухаб органы рёвом
(рядового вертит еле-еле выбор).
Туго! Бисер дал одинокому мусор.
– Повар, бери мыло.
– Пилат, Сыну – глагол!
Скота в хате всполохи – холоп света хваток.
Слога лгуны стали полыми.
Ребра вопрос – ум (ум окон?).
Идол – адрес и бог утробы в елее...
– Лети, тревог овод – ярмо веры на гробах!
Увидев миров огни – овраги слепо сражены.
Связал губы лгун. Темнел чан с наваром.
Армии голое дитя психу дало марку «Мокко».
– Не берите даров себе тотчас от олив.
Варвар пением здоров, он азарту – сабля! Ù
КИБОРГ или ГРОБИК?
...Ему вредил откат!
Я понял: упала мило богема.
– Мякина, грошу клади карту!
– На дне района рабов, идя – лги!
Диалог одежд на рапирах отчаян.
Вот лоб, вот сера на ране цитат.
Скажу:
«Ладан ереси косоворотке тих.
Район – гной архитекторов.
Осоки серенада – лужа.
Кстати, цена ран арестов – болтовня!
А что хари парандже?..
Догола иди, гляди в оба, раной – аренда!»
Нутра кидал куш органик ямам.
Его боли мала пуля, но пятак то лидер в уме! Ù
-------------------------------------------------------------------------
Елена Тахо-Годи
доктор филологических наук
***
Каково мое время? – разве я его знаю?
Я живу в нем, страдаю и в нем умираю…
А рекламы прокладок и порно-абсурды
Всех политиков мира – разве это отсюда,
Из того же Вселенной фрагмента, отрезка,
Где, как сказано прежде, всем достаточно места?..
Эти кубики "Маги" и взрывы в Нью-Йорке,
Полуголых красоток бесстыдные торги,
Миллионы солдат, миллиарды снарядов,
Эти марши фашистов и транссексуалов,
Бесконечные триллеры в телеэкране,
Нефтедолларов прибыли, волны цунами –
Разве это отсюда? разве все это с нами?
Разве это не кажется страшными снами
Для того, чьей реальностью было иное, –
Это небо бездонное и голубое,
Этих белых берез золотые монисты,
Этой осени ранней день прозрачный и быстрый...
***
Для чего от блаженной невинности
Через горечь земного греха
Ты ведешь – объясни, Боже милостив, –
Нашу душу во все времена?
Разве радость была бы нам лишнею
Или свет не милее, чем тьма,
Иль ложь для измученных – истина,
Или боль – это ласка Твоя?
-------------------------------------------------------------------------
Борис Гольдберг
Прага, Чехия
Память вперед
Среди знаков на надгробиях Старого еврейского кладбища в Праге, основанного в первой половине 15-го века, можно увидеть скрипки.
Прислушайся… Прислушайся… Ты слышишь?
Что это – тихий шепот или плач?
Прислушайся… Нет, это не на крыше,
А под землею заиграл скрипач.
И безупречно точно, без ошибки,
В закате догорающих свечей
Мелодию подхватывают скрипки,
Все скрипки здесь лежащих скрипачей.
Наш мир – живых и мертвых – так условен.
Все поколения в одно слились.
Звучат в концерте Моцарт и Бетховен,
Которые тогда не родились.
…Вдруг музыка божественно-земная.
Подобной ей и не было и нет.
И композитора никто не знает,
Он лишь родится через сотни лет.
И с дирижерской палочкой Маэстро
Нам, не усопшим, говорит: «Проснись!»
И помнят скрипки мертвого оркестра
Ту, что была, и ту, что будет, жизнь.
Прислушайся… Прислушайся…
-------------------------------------------------------------------------
Анжелина Полонская
Экспромт
Ты меня принимаешь за женщину,
но я всего лишь куст – дикий куст,
растущий вблизи дороги.
Обманчивы твои снега, дорогая, –
не стряхнуть их с ветвей, не согреться.
Ночь шепчет раковине ушной о тебе.
О тебе.
Вызревших ягод полны ладони
тех, кто этой дорогой проходит мимо –
те ладони куста не вспомнят.
«Нет на свете крепости, что не сдастся», –
если мне не веришь – спроси солдата
у стены. У стены.
Лодка
Словно провод, голос зажмёшь в ладони –
мне приснилось сегодня, что твой поцелуй
бездомен,
как солдат в животе зажимает бреши,
ибо твой поцелуй в волосах моих
безутешен.
Я проснулась на взломанном телеграфе:
буквы стёрлись, ленты истлели, бланки.
Никого не осталось под костью лобной.
Никому по воде не досталось лодки.
Эта лодка так билась, что перетёрла привязь.
Кто ещё там в тумане? – кричали с
|
|
стих дня к.кедров пушкину |
стих дня кедров пушкину
http://www.izvestia.ru/culture/article3117092/ ИЗВЕСТИЯ сегодня о масонской символике Пушкина
АЙ ДА ПУШКИН-
А Й Д А ПУШКИН
АЙ ДА ПУШКИН
АЙ ДА СУКИН...
http://www.izvestia.ru/culture/article3117092/ ИЗВЕСТИЯ сегодня о масонской символике Пушкина
АЙ ДА ПУШКИН-
А Й Д А ПУШКИН
АЙ ДА ПУШКИН
АЙ ДА СУКИН...
|
|












