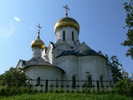-Музыка
- Песня из кинофильма "Всегда говори всегда"
- Слушали: 19935 Комментарии: 0
- хор "Пересвет" - "Петр и Февронья"
- Слушали: 2991 Комментарии: 1
- Юлия Славянская - Молитва Ангелу-Хранителю
- Слушали: 18995 Комментарии: 2
- Натали Валентина Толкунова
- Слушали: 1876 Комментарии: 0
- Мелодия
- Слушали: 73725 Комментарии: 4
-Метки
акафист актеры актрисы артисты божья матерь великая отечественная война великий пост видео видеомолитва воспоминания дети документальный фильм донбас духовная музыка духовная поэзия европа женщины живопись животные житие святых жития святых задорнов здоровье иконы интервью история история любви история монастырей и храмов история песни история россии караоке картины кино клип клипы композиторы крещение кулинария литературоведение личности личность любимая музыка любопытные факты монастыри москва музеи народная медицина николай чудотворец новомученики новости новости православия новость олимпиада патриарх кирилл певцы песни о любви писатели подвижники поздравления полезное политика поломничество портреты поэты православие православная публицистика православное видео православные клипы православные праздники праздники преподобный природа проза проповеди проповедь публицистика путешествие путешествия путин пушкин рассказ ретрофотографии романовы романсы россия русская поэзия сериалы советы стихи о жизни судьбы сша трагедия украина ученые фото фоторепортаж франция художники чудотворные иконы юмор
-Рубрики
- Личности и судьбы (1034)
- Женщины (227)
- История любви (194)
- Творческие люди (163)
- Артисты и музыканты (129)
- Писатели и поэты (103)
- Жены и дети знаменитых людей (96)
- Романовы (71)
- Коронованные особы (61)
- Художники (60)
- Ученые (42)
- Военачальники и государственные деятели (40)
- Патриархи (13)
- культура (976)
- картинная галерея (304)
- Кино и спектакли (86)
- Публицистика (56)
- Критика и литературоведение (49)
- Музеи (44)
- Пушкиниана (39)
- История песни и танца (32)
- Литературные пратотипы (23)
- Мультфильмы (8)
- Лекции (6)
- лирика (874)
- Духовная поэзия (79)
- Стихи о святых и Божьей Матери (58)
- Стихи о жизни (45)
- Русская классика (35)
- Поздравительные стихи (18)
- Стихи в рамочках (16)
- Видео и аудио поэзия (16)
- Стихи о любви (11)
- Православие (814)
- проповеди (326)
- Подвижники и старцы (163)
- мысли и высказывания святых и старцев (163)
- Божья Матерь (109)
- Новости православия (61)
- Православная публицистика (31)
- музыка для души (573)
- Композиторы (64)
- Караоке (52)
- Исполнители (47)
- Православная музыка (28)
- Романсы (26)
- Песнопения (18)
- Авторская песня (16)
- Песни о Божьей Матери (12)
- Песни о святых (9)
- Концерты (9)
- Музыкальные сборники (5)
- путешествия и поломничечкие поездки (486)
- Монастыри России (44)
- Города и страны (43)
- Зарубежные монастыри (28)
- Зарубежные храмы (14)
- Католические храмы,монастыри и базилики (13)
- Храмы России (11)
- История (447)
- Политика (236)
- История России (94)
- Великая Отечественная Война (13)
- История СССР (4)
- жития святых (444)
- Мученики (102)
- Преподобные (83)
- Праведные и блаженые (45)
- Святители (40)
- Апостолы (34)
- это интересно (410)
- Удивительное сделанное руками человека (19)
- История вещей (14)
- Психология и тесты (11)
- Православные праздники (404)
- Пасха (62)
- Крещение (39)
- Благовещение (25)
- Троица (24)
- Покров Пресвятой Богородицы (20)
- Родительские дни (15)
- Успение Пресвятой Богородицы (15)
- Преображение Господне\Яблочный Спас (15)
- Казанская Божия Матерь (14)
- Введение Богородицы во храм (14)
- Сретение Господне (13)
- Вознесение Господне (13)
- Вербное Воскресение (12)
- Воздвижение Креста (11)
- Рождество Пресвятой Богородицы (9)
- Обрезание Господне, День Василия Великого (8)
- Рождество (7)
- Медовый Спас (2)
- природа (364)
- животные (138)
- Сады и парки (13)
- Удивительное сотворенное природой (12)
- проза (292)
- Видеокнига (20)
- Легенды (15)
- Притчи (13)
- Аудикнига (13)
- фотовыставка (266)
- Фотохудожники (13)
- кулинария (235)
- Салаты (12)
- Овощи,специи и травы (11)
- Мясные блюда (9)
- Фрукты и ягоды (8)
- Постные блюда (8)
- Пироги и сладкие блюда (7)
- Рыбные блюда (2)
- Заготовки (1)
- здоровье и красота (222)
- трагическое (206)
- Вечная память (30)
- Некрополь (17)
- Природные катострофы (8)
- Катастрофы по вине людей (3)
- акафисты и молитвы (183)
- Видиомолитвы и службы (57)
- Акафисты Божьей Матери (43)
- Акафисты святым (40)
- Молитвы (33)
- Акафисты Господу и к праздикам (13)
- Всё для блогов (158)
- Рамочки (13)
- Документальные фильмы (133)
- православные (82)
- ЖЗЛ (51)
- Поздравительные посты (123)
- С православными праздниками (56)
- С Днем Рождения (26)
- С Днем Ангела (19)
- Праздники и фестивали народов мира (119)
- новый год и рождество (113)
- Старый Новый год (12)
- о детях (91)
- уроки (86)
- детское (83)
- Памятные дни святых (79)
- Дни Ксении блаженной (21)
- Памятные дни Иоанна Предтечи (12)
- Татьянин день (7)
- Дни Святителя Николая Чудотворца (7)
- Православные посты (45)
- Великий пост (22)
- Рождественский пост (11)
- Успенский пост (6)
- Петровский пост (5)
- Спорт и спортсмены (41)
- Музыкально-поэтические посты (26)
- Времена года и погода (16)
- Настроение (6)
- О инвалидах и для инвалидов (20)
- Цветоводство и огородничество (2)
-Новости
-Ссылки
-Фотоальбом

- Белогорский мужской монастырь
- 15:44 08.08.2011
- Фотографий: 19
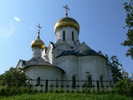
- Савва-Сторожевский монастырь
- 18:21 14.03.2010
- Фотографий: 17

- иконы божьей матери
- 17:46 14.03.2010
- Фотографий: 56
-Поиск по дневнику
-Подписка по e-mail
-Друзья
Друзья онлайн
Taisia800
Алевтина_Серова
Друзья оффлайнКого давно нет? Кого добавить?
-Juliana-
Alexandra-Victoria
Bo4kaMeda
Dmitry_Shvarts
elena160752
Felisata
Galche
galkapogonina
GALZIMA
Kamelius
Ketevan
komor_valerya
LILIANA_50
Lkis
Mila111111
Stephanya
SYarina
tantana
Tatjanuschka
TimOlya
vipstart
Zinur
Алевтина_Князева
Алефтина_Ивановна
Алллок
Бусильда50
Варфоломей_С
Волшебный__Свет_Души
Голубка_-_белоснежная
дракоша52
ЕЖИЧКА
Еленаско
Ира_Ивановна
КристинаТН
Майя_Пешкова
Марина_Ушакова
Мечтающая_Ирина
Мир__Чудес
Мухоморов_Вася
Нина-Ник
Одинокий_рейнджер
Путь_к_истинной_себе
Сахарина
Светлана_Ковалевска
Сияние_Розы_Жизни
Татьяна975
Томаовсянка
Чтобы_помнили
Элла-Элизабет
Юрий_Варварин
-Сообщества
Участник сообществ
(Всего в списке: 27)
Неизвестная_Планета
про_искусство
Live_Memory
КаРтИнКи_ДлЯ_БлОжИкА
Для_православных
_ПоЛеЗнЫй_СуНдУчОк_
леди_САМО_СОВЕРШЕНСТВО
Прикольные_футболки
Соленые_уши
В_гостях_у_Мадлены
БУДЬ_ЗДОРОВ
Царство_Кулинарии
История_и_культура
РЫЖИЙ_КОНЬ
ОСЕНЬ_и_ЗИМА
Camelot_Club
Geo_club
MY_HIT
Holy_Art
Photoshopia
Тереза_Тенг
zapretabortov
Моя_кулинарная_книга
Арт_Калейдоскоп
Любимый_Дизайн_Дневников
Искусство_звука
Только_для_женщин
Читатель сообществ
(Всего в списке: 12)
Наши_схемы
Quotation_collection
АРТ_АРТель
притчи_мифы_сказки
Темы_и_схемы_для_Вас
Прикольные_футболки
Китайский_летчик_ДЖАО_ДА
bright_breeze
MY_HIT
pravoslavie
WiseAdvice
О_Самом_Интересном
-Статистика
Создан: 02.12.2009
Записей: 7719
Комментариев: 7403
Написано: 21021
Записей: 7719
Комментариев: 7403
Написано: 21021
История одной любви: Иван и Анна |
| Рубрики: | Личности и судьбы/История любви |
Понравилось: 1 пользователю
| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |