What I said was never what I meant. You can stop or start having any opinion at your convenience.
[изображение]
Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.
Исходная информация - http://diary.ru/~phase-three/.
Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://pay.diary.ru/userdir/1/6/0/4/160492/rss.xml, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.
По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.
[Обновить трансляцию]
Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.
Исходная информация - http://diary.ru/~phase-three/.
Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://pay.diary.ru/userdir/1/6/0/4/160492/rss.xml, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.
По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.
[Обновить трансляцию]
воление и личностность |
в викистатье про доктрину протыкания/снятия корпоративной вуали упоминается такое понятие, как personhood, которое имеет если не ключевое, то существенное значение для моего исследования воли. один из вопросов personhood в философии права, например, состоит в наличии или же отсутствии воли у юридического лица — такой воли, которая была бы не сводима к сумме волений членов его исполнительного органа. в россии считается, что юридические лица не обладают самостоятельной волей, и этот, казалось бы, чисто философский вопрос проявляется таким образом, что для юридических лиц не предусмотрена уголовная ответственность.
удивительно, но статья про «личностность» обладает двумя значимыми недостатками, наличие которых, казалось бы, несоизмеримо с масштабом этой темы. во-первых, на статье поставлена плашка «раскрывает только американскую точку зрения». во-вторых, в начале хоть и дается обзор взглядов из западной философии, этот обзор не структурирован внятным образом. списка ключевой литературы тоже нет, что огорчает. но наибольшее недоумение вызывает география интереса к этой теме, выраженная через наличие такой же статьи в других языковых разделах:

удивительно, но статья про «личностность» обладает двумя значимыми недостатками, наличие которых, казалось бы, несоизмеримо с масштабом этой темы. во-первых, на статье поставлена плашка «раскрывает только американскую точку зрения». во-вторых, в начале хоть и дается обзор взглядов из западной философии, этот обзор не структурирован внятным образом. списка ключевой литературы тоже нет, что огорчает. но наибольшее недоумение вызывает география интереса к этой теме, выраженная через наличие такой же статьи в других языковых разделах:

|
Метки: Интересности Философия |
Запись дневника "Только это красиво и только в этом есть смысл" |
девочки, делюсь своим фирменным рецептом спокойствия и хорошего настроения


|
Метки: Лытдыбр Креатив Как надо |
как мы учились? |
хоть мы учились и на международных отношениях, что предполагает фокус на аргументированном общении и обмене мнениями, мы никогда не разменивали его на актуалочку. мне всегда это нравилось, так как это положительно отличало нас от студентов ненадолго расположившегося по соседству факультета политологии. туда приходили в основном уже «сформировавшиеся» (в плохом смысле) люди — либерально или либерально озабоченные, реже носители каких-либо уже готовых «из коробки» идеологий. понятное дело, что эти люди приходили не учиться, т.е. получать высшее образование, а становиться более убедительными последователями этих идеологий. кое-кто, конечно, по дороге менял взгляды, кто-то даже менял их радикально — но трагедия в том, что эти люди уже заведомо были настроены на ношение и использование какой-то готовой политической картины мира. они могли менять эту картину, но они не могут выйти из фрейма политической озабоченности.
впервые я услышал, как мои однокурсники обсуждают что-то актуальное, когда произошло отравление литвиненко. наверно, был кто-то, выступавший резко отравления и российской внешнеполитической позиции, но в целом все старались придерживаться взвешенного подхода. тогда еще не считалось, что убивать предателей — это плохо, но уже было понимание, что убийств следует по возможности стараться избегать. в целом, мы старались обсуждать, ну, собственно, международные отношения: темы курсовых проектов, содержание дисциплин, материалы для дискуссий на семинарах. в общем, больше про тексты и авторов, чем про непосредственно события. их, к слову, к началу десятых годов происходило не так много.
как учатся студенты факультетов, изучающие социальное, сегодня, я не знаю и не очень хочу знать. предполагаю, что градус драмы достиг того уровня, когда не просто отсутствие озабоченности, но отсутствие озабоченности в «правильную» сторону может очень навредить социальному капиталу учащегося.
короче, вот в наше-то время. не то, что сейчас.
впервые я услышал, как мои однокурсники обсуждают что-то актуальное, когда произошло отравление литвиненко. наверно, был кто-то, выступавший резко отравления и российской внешнеполитической позиции, но в целом все старались придерживаться взвешенного подхода. тогда еще не считалось, что убивать предателей — это плохо, но уже было понимание, что убийств следует по возможности стараться избегать. в целом, мы старались обсуждать, ну, собственно, международные отношения: темы курсовых проектов, содержание дисциплин, материалы для дискуссий на семинарах. в общем, больше про тексты и авторов, чем про непосредственно события. их, к слову, к началу десятых годов происходило не так много.
как учатся студенты факультетов, изучающие социальное, сегодня, я не знаю и не очень хочу знать. предполагаю, что градус драмы достиг того уровня, когда не просто отсутствие озабоченности, но отсутствие озабоченности в «правильную» сторону может очень навредить социальному капиталу учащегося.
короче, вот в наше-то время. не то, что сейчас.
|
Метки: Правильное и неправильное Мысли вслух Воспоминания |
все никак не могу прийти в себя |
происходит особо ничего. я попробовал установить спотифай на телефон, когда альбом убийц crystal туда наконец зарелизили. счастливо слушал этот альбом где-то недели две, а вчера он мне вместо кликабельной колонки треков выдал их списком в ряд. попытался выйти и зайти, воспроизвести сам альбом — начал играть рандомный трек. тут-то я понял, в чем смысл стримингового радио как бизнес-модели. приложение удалил, потому что убийц я хоть и люблю всей душой, но платить ежемесячно за то, чтобы слушать только их альбом, я не готов. проще донатить им ту же сумму.
за учебу так и не взялся. книги читать так и не продолжил. еле-еле дочитываю статьи.
в москве открывают бары и рестораны ночью, а я думаю, что это шаг назад и единственное ковидное завоевание, которого нельзя было лишаться. ночь нужна для того, чтобы спать или пахать ночную смену.
за учебу так и не взялся. книги читать так и не продолжил. еле-еле дочитываю статьи.
в москве открывают бары и рестораны ночью, а я думаю, что это шаг назад и единственное ковидное завоевание, которого нельзя было лишаться. ночь нужна для того, чтобы спать или пахать ночную смену.
|
Метки: Лытдыбр Правильное и неправильное |
а вот и итоги года |
1) съездил с Milisenta на свадьбу в дубай к подруге, которую не видел 11 лет.
2) прекратилась тревога
3) защитил кандидатскую
4) секретное событие
5) в сентябре ездил в новороссийск и сделал фото на месте популярной в интернете картинки
из потребления: купил кучу отличных книг. михаил мк и убийцы crystal наконец-то выпустили новое! компьютерную игру и альбом, соответственно.
альбом «выход» очень советую. переслушиваю его раз-два каждый день с конца декабря. соседи даже купили мне наушники под предлогом того, что (1) я страдаю (2) они страдают.
2) прекратилась тревога
3) защитил кандидатскую
4) секретное событие
5) в сентябре ездил в новороссийск и сделал фото на месте популярной в интернете картинки
из потребления: купил кучу отличных книг. михаил мк и убийцы crystal наконец-то выпустили новое! компьютерную игру и альбом, соответственно.
альбом «выход» очень советую. переслушиваю его раз-два каждый день с конца декабря. соседи даже купили мне наушники под предлогом того, что (1) я страдаю (2) они страдают.
|
Метки: Лытдыбр |
административное |
вдобавок ко штрафу за нарушение самоизоляции, который я так и не могу оплатить с конца апреля, ко мне добавился административный протокол за неношение маски  отношусь к этому, как к гражданскому долгу и кармическому явлению: государству нужны деньги, я недоплачиваю налоги, а эти штрафы не настолько велики, чтобы нанести мне серьезный ущерб. то есть, эти штрафы и не наказание вовсе, а скорее государственная пошлина за право свободно перемещаться и дышать.
отношусь к этому, как к гражданскому долгу и кармическому явлению: государству нужны деньги, я недоплачиваю налоги, а эти штрафы не настолько велики, чтобы нанести мне серьезный ущерб. то есть, эти штрафы и не наказание вовсе, а скорее государственная пошлина за право свободно перемещаться и дышать.
вот только присылали бы реквизиты для оплаты на электронную почту. номер телефона, которым реально пользуюсь, я, естественно, ни в первом, ни во втором протоколе не указал. в питер не езжу, поэтому по месту регистрации получить квитанцию не могу. регистрироваться на госуслугах не собираюсь никогда — к тому же, я слышал, что штрафы туда могут не попадать. один полицейский мне сказал, что штраф передадут приставам в конце года, а потом снимут с карты, но на сайте записей про меня по-прежнему нет.
к слову, очень хотел бы убедить кого-то из друзей оформить для меня дебетовую карточку. это бы объединяло все лучшие практики от наличных (псевдоанонимность) и карт — возможность что-то покупать в интернете. но увы, настолько лояльных друзей у меня нет, а харизмы и убеждения для успешного спасброска недостаточно.
вот только присылали бы реквизиты для оплаты на электронную почту. номер телефона, которым реально пользуюсь, я, естественно, ни в первом, ни во втором протоколе не указал. в питер не езжу, поэтому по месту регистрации получить квитанцию не могу. регистрироваться на госуслугах не собираюсь никогда — к тому же, я слышал, что штрафы туда могут не попадать. один полицейский мне сказал, что штраф передадут приставам в конце года, а потом снимут с карты, но на сайте записей про меня по-прежнему нет.
к слову, очень хотел бы убедить кого-то из друзей оформить для меня дебетовую карточку. это бы объединяло все лучшие практики от наличных (псевдоанонимность) и карт — возможность что-то покупать в интернете. но увы, настолько лояльных друзей у меня нет, а харизмы и убеждения для успешного спасброска недостаточно.
|
Метки: Разное Лытдыбр |
замершее помертвие |
еще до нового года впал в пассивность. зная об этом, сделал еще раньше пост, чтобы опубликовать его вечером 31-го. про пост не забыл, но состояние было настолько апатичным, что не удосужился даже зайти в блокнот и опубликовать его. а сейчас блокнот доступен только как архив ссылок, потому что я не могу заплатить за него ни через один из предложенных платежных сервисов. оплатить по смс не могу, потому что у меня йота вместо мобильного оператора.
в понедельник вечером приехала сестра, и пассивность усилилась. у нее-то есть интересы и круг общения, так что она постоянно куда-то ходила или ездила. я же в основном лежал и пил, ну или изредка подрывался, чтобы лежать и пить у кого-нибудь еще.
все планы что-то написать так и остаются планами, лежащими в блокноте. не могу заставить себя сесть за что-то, кроме работы. планы дочитать две книги до не выполнились. планы почитать два нужных мне канала в телеге не выполнились. хотя я все-таки дошел до комуса и купил тетрадь. вступил в ассоциацию исследователей мошенничеств и даже заказал учебные материалы. удалось здорово сэкономить, но все сэкономленные деньги я на этих же выходных и проебал.
все это как-то не вызывает у меня оптимизма. впрочем, я ненавижу долгие выходные, праздники, подарки и сюрпризы. мог бы добавить, что ненавижу себя и свою жизнь, но это будет ложью. даже несмотря на то, что в моей жизни много вещей, которые мне не нравятся, я не хочу их менять, потому что любые альтернативы еще хуже. придется продолжать терпеть.
в понедельник вечером приехала сестра, и пассивность усилилась. у нее-то есть интересы и круг общения, так что она постоянно куда-то ходила или ездила. я же в основном лежал и пил, ну или изредка подрывался, чтобы лежать и пить у кого-нибудь еще.
все планы что-то написать так и остаются планами, лежащими в блокноте. не могу заставить себя сесть за что-то, кроме работы. планы дочитать две книги до не выполнились. планы почитать два нужных мне канала в телеге не выполнились. хотя я все-таки дошел до комуса и купил тетрадь. вступил в ассоциацию исследователей мошенничеств и даже заказал учебные материалы. удалось здорово сэкономить, но все сэкономленные деньги я на этих же выходных и проебал.
все это как-то не вызывает у меня оптимизма. впрочем, я ненавижу долгие выходные, праздники, подарки и сюрпризы. мог бы добавить, что ненавижу себя и свою жизнь, но это будет ложью. даже несмотря на то, что в моей жизни много вещей, которые мне не нравятся, я не хочу их менять, потому что любые альтернативы еще хуже. придется продолжать терпеть.
|
Метки: Лытдыбр Личное |
о текущем |
думаю, подводить или не подводить итоги года; какие-то соображения по этому поводу у меня уже и так есть и где-то написаны, так почему бы не довести до ума. примерно то же самое, правда, относится к моему планируемому посту про сверхбытие, зачатки которого теплятся у меня в блокнотах, в трелло и в логах дайри-конференции в телеграме. для этого мне нужно дочитать переведенное в октябре эссе мейясу, и я его забросил прямо на финишной прямой — когда закупился на последней распродаже в стиме и увлекся покупками. а так до конца года я хотел не только написать этот пост, но и прочитать еще одно эссе — уже штефана хайденрайха, про которого мне ничего не известно, а еще дочитать глобальный прогноз рсмд и и коротенькую биографию лизы мейтнер. из игровых планов — хотелось бы пройти бомжмэна, но пока получается проходить только по одному уровню за вечер.

на выходных я ничего продуктивного делать не могу. смотрю попеременно то в стену, то в тикток, то в ютуб: оп, и шесть часов прошло. чуть-чуть нагнал пропущенные в телеграме — оп, спать пора. на этой неделе предложили перенести тренировку с субботы на пятницу утро. то есть, уже в пятницу вечером я смогу начать хуебесить. но вообще не хотелось бы; лучше было бы восстановиться да сделать хоть что-то из того, что я перечислил выше. на новогоднюю неделю о 10 днях были планы начать изучать финансовые штуки для моей запланированной где-то на вторую половину года сертификации. я уже начал визуализировать, как иду в комус за большой тетрадью для конспекта. но сначала написала сестричка о том, что хочет поехать в москву; а потом на работе предложили взять проектов на это время. чую я, ничего с планами заняться полезным у меня до следующего года так и не выйдет, но зато и полностью вхолостую время не потрачу.
к слову о дополнительных задачах, они оказываются очень кстати, потому что декабрь — традиционное время трат, а потом месяц переходит в январь, который является самым затратным месяцем в году лично для меня. вообще компульсивное потребление начинает переходить границы положенного. помимо стима, я опять потратил кучу денег на книги, которые теперь я должен складывать на не использующийся телевизор. а ведь ко мне едут еще три книги из германии и одна из озона... игры в стиме по скидке явно экономичнее в плане расходов и пространства. а еще я хотел обновить косметос. к счастью, все хотелки внезапно компенсируются извне: книги из германии и что-то еще я окупил внезапной работой от вуза, а овердрафт по потреблению наверняка возмещу через какую-никакую, но все же годовую премию, а также январской подработкой.
в моем уже многое повидавшем ноутбуке начинает отказывать почему-то буква ж. надо прям очень четко прицелиться, чтобы попасть по ней с первой попытки — куда-то в верхний левый угол. проблема в том, что с момента покупки моего алиенвейра весной 2014 года я под клавишами ни разу не чистил, потому что, если честно, боюсь даже трогать их из рукожопия. а оно определенно проявляется: сегодня я, например, доломал стеклянную створку кухонного гарнитура. трещина в нем была еще в момент приезда (к сожалению, я ее не сфоткал и вроде как даже не отметил в договоре, который я, кстати, потерял), но из-за моей привычки упираться головой во время мытья посуды она разошлась, и теперь половина створки лежит у меня на полу от греха подальше. а у меня затянутый пластырем палец. раковина чересчур низко расположена, а я стараюсь стоять от нее как можно дальше, чтобы не забрызгаться (люблю напор помощнее). как бы 2021 не прошел под девизом ремонта кухни в съемной квартире? так-то мне хотелось бы закончить следующий год на новом месте. желательно, одному — мне кажется, у меня постепенно подпирает желание не делить жилплощадь вообще ни с кем; это будет для меня совершенно новым опытом.

на выходных я ничего продуктивного делать не могу. смотрю попеременно то в стену, то в тикток, то в ютуб: оп, и шесть часов прошло. чуть-чуть нагнал пропущенные в телеграме — оп, спать пора. на этой неделе предложили перенести тренировку с субботы на пятницу утро. то есть, уже в пятницу вечером я смогу начать хуебесить. но вообще не хотелось бы; лучше было бы восстановиться да сделать хоть что-то из того, что я перечислил выше. на новогоднюю неделю о 10 днях были планы начать изучать финансовые штуки для моей запланированной где-то на вторую половину года сертификации. я уже начал визуализировать, как иду в комус за большой тетрадью для конспекта. но сначала написала сестричка о том, что хочет поехать в москву; а потом на работе предложили взять проектов на это время. чую я, ничего с планами заняться полезным у меня до следующего года так и не выйдет, но зато и полностью вхолостую время не потрачу.
к слову о дополнительных задачах, они оказываются очень кстати, потому что декабрь — традиционное время трат, а потом месяц переходит в январь, который является самым затратным месяцем в году лично для меня. вообще компульсивное потребление начинает переходить границы положенного. помимо стима, я опять потратил кучу денег на книги, которые теперь я должен складывать на не использующийся телевизор. а ведь ко мне едут еще три книги из германии и одна из озона... игры в стиме по скидке явно экономичнее в плане расходов и пространства. а еще я хотел обновить косметос. к счастью, все хотелки внезапно компенсируются извне: книги из германии и что-то еще я окупил внезапной работой от вуза, а овердрафт по потреблению наверняка возмещу через какую-никакую, но все же годовую премию, а также январской подработкой.
в моем уже многое повидавшем ноутбуке начинает отказывать почему-то буква ж. надо прям очень четко прицелиться, чтобы попасть по ней с первой попытки — куда-то в верхний левый угол. проблема в том, что с момента покупки моего алиенвейра весной 2014 года я под клавишами ни разу не чистил, потому что, если честно, боюсь даже трогать их из рукожопия. а оно определенно проявляется: сегодня я, например, доломал стеклянную створку кухонного гарнитура. трещина в нем была еще в момент приезда (к сожалению, я ее не сфоткал и вроде как даже не отметил в договоре, который я, кстати, потерял), но из-за моей привычки упираться головой во время мытья посуды она разошлась, и теперь половина створки лежит у меня на полу от греха подальше. а у меня затянутый пластырем палец. раковина чересчур низко расположена, а я стараюсь стоять от нее как можно дальше, чтобы не забрызгаться (люблю напор помощнее). как бы 2021 не прошел под девизом ремонта кухни в съемной квартире? так-то мне хотелось бы закончить следующий год на новом месте. желательно, одному — мне кажется, у меня постепенно подпирает желание не делить жилплощадь вообще ни с кем; это будет для меня совершенно новым опытом.
|
Метки: Лытдыбр |
об эсхатологическом мышлении |
When the hedge funders asked me the best way to maintain authority over their security forces after “the event,” I suggested that their best bet would be to treat those people really well, right now. They should be engaging with their security staffs as if they were members of their own family. And the more they can expand this ethos of inclusivity to the rest of their business practices, supply chain management, sustainability efforts, and wealth distribution, the less chance there will be of an “event” in the first place. All this technological wizardry could be applied toward less romantic but entirely more collective interests right now.
They were amused by my optimism, but they didn’t really buy it. They were not interested in how to avoid a calamity; they’re convinced we are too far gone. For all their wealth and power, they don’t believe they can affect the future. They are simply accepting the darkest of all scenarios and then bringing whatever money and technology they can employ to insulate themselves — especially if they can’t get a seat on the rocket to Mars.
отсюда
They were amused by my optimism, but they didn’t really buy it. They were not interested in how to avoid a calamity; they’re convinced we are too far gone. For all their wealth and power, they don’t believe they can affect the future. They are simply accepting the darkest of all scenarios and then bringing whatever money and technology they can employ to insulate themselves — especially if they can’t get a seat on the rocket to Mars.
отсюда
|
Метки: Статьи Ссылки |
старое, про серию альтернатива |
21 августа 2011 года я написал длинный полный брезгливости пост про книжки в оранжевых обложках и их любителей. годы прошли, а я по-прежнему терпеть не могу «эстетизацию порока». кстати, эстетизацию насилия во благо чего-то, превышающего отдельную человеческую жизнь — любую человеческую жизнь — я очень сильно люблю, и его наличие в моих глазах сразу же увеличивает «годность» произведения искусства.
не доводилось смотреть множества фильмов, снятых по книгам зарубежных писателей, написанных на волне (в большей степени, конечно, хронологической, чем эмоциональной) окончания вьетнамской войны и позже, вглубь девяностых. да и сами произведения читать совершенно не хочется. паланик, томпсон, бегбедер, буковски, лу, уэлш и прочая серия альтернатива, да. всех этих писателей объединяет странная маниакальная претенциозность при минимальной художественной ценности производимых текстов, оглушительный гонор, бьющий по сознанию в абзацах, преподносимых в форме «острой социальной критики», при удручающе поверхностном анализе и незавуалированно популистских выводах. это как фансервис в аниме, только аудиторию доводит до пароксического восторга не нижнее белье и «свои» шутки, а способность автора войти в резонанс с настроениями едва вышедшей из пубертатного периода молодежи. пафос, доминирующий в выборе «образцовыми» персонажами линии поведения по отношению к окружающему «сгнившему лживому» обществу, наложенный на дух андерграунда, контркультуры — это простейшая идеологема, которой можно заполнить мировоззренческие лакуны. с другой стороны, существование этих писателей привело к очередному парадоксу, свидетельствующему о потрясающей гибкости рыночной структуры: даже если на рынке возникает спрос на творчество, построенное вокруг агрессии к самим капиталистическим ценностям и институтам, рынок без труда его удовлетворяет. и спокойно продолжает жить дальше, несмотря на студенческие восстания (книги про молодежные движения вообще выворачивают наизнанку и извращают до неузнаваемости май 1968-го, без которого они никогда не были бы написаны), драки болельщиков, эстетизацию порока, а самое главное — подпитку этим творчеством неонигилизма, который начался давно и вроде бы успел объединить вокруг себя массыё но люди, к счастью, имеют свойство взрослеть. поэтому «бойцовский клуб» берет в руки уже следующее поколение, которое, опять-таки, успевает вырасти до того, как предпринимает серьезные шаги.
кстати, весьма интересны попытки некоторых авторов уклониться от прямой критики общественных институтов и прямолинейных формулировок, содержащих в себе какие-либо ценностные или идейные единицы, пытаясь донести свою мысль посредством самой композиции романа. но для этого их таланта не хватает, так что хантер томпсон, например, эту идею бросает и, чтобы читатель понял его наверняка, завершает «страх и отвращение в лас-вегасе» шизофазическим манифестом о сущности американской мечты, который зачем-то даже перенесли в фильм. причем самым навязчивым и даже немного раздражающим способом — через закадровые авторские монологи, как голос ефима копеляна в «смв». если убрать из ленты хантеровские претензии на роль некоего судьи общественных порядков, получилась бы гениальная комедия про трип двух торчков, которая могла бы далеко обойти "евротур" по остроумию, режиссерской и операторской работе, сюжету и колоритности образов, композиции, наконец. но нет, контркультурная направленность фильма оказалась приоритетнее качества и художественной ценности, поэтому получился просто хороший фильм, но не более того. и то, что фильм обрел такую популярность спустя 26 лет после написания книги (как раз в самый пик вьетнамской войны), говорит о том, что и приоритеты ее целевой аудитории все еще не меняются. неудивительно, что книга и экранизация вызывают не меньшую благосклонность у школьников, студентов и практически всех битардов, чем тот же «бойцовский клуб» в обоих вариантах. воспринимать их легко, идеи ясны и понятны, описываемые «недостатки» общества очень напоминают проблемы в общении с родителями и учителями, а мировоззрение не может противопоставить конкурирующие идеи тем, что заложены в этих книгах — по причине отсутствия накопленной базы.
«альтернатива» критикует общество, а общество кормит «альтернативу», потому что так диктует рынок, преодоление структуры которого постмодернисты преподносят метафорически, а авторы «альтернативы» — в гипертрофированных эмоциональных (и пафосных, пафосных) формулировках, оставляя, однако, читателю свободу интерпретации. правда, на собственное понимание написанного у читателя, как показывает /bo/, запала уже не хватает: автомобили сами себя не сожгут, антиобщественный плакат сам в фейсбук не запостится.
а вообще, главная-то проблема этих произведений в другом. они безумно ценны, ведь они в первую очередь отражают приметы времени и витающие в воздухе настроение, и лишь затем диктуют что-то экстремальное. тщетна и бесплодна попытка что-нибудь сотворить через отрицание: истинное творчество предназначено для созидания, попытка сделать из трубы мегафон, может быть, и увенчается успехом, но сохранить звучание трубы не удастся. совершенно идентичная ситуация с любым антиутопическим произведением: отдельные антиутопии хороши, но попытка описать принципиальную структуру сюжета приведет к выводу об их универсальности и взаимозаменяемости. между всеми антиутопиями найдется лишь одно действительно важное отличие — это судьба главного героя, который умирает либо биологически, либо морально (вернувшись в лоно антиутопического общества). и точно так же обстоят дела у достоевского, все произведения которого построены вокруг увенчанного нимбом смирения стержня, состоящего из грязи, серости, депрессии, отчаяния. зато «котлован» платонова — это эпичнейшая деконструкция жанра, появившаяся еще до того, как человечество придумало саму деконструкцию. а еще достоевского, замятина и паланика объединяет то, что их произведения пользуются наибольшей популярностью у слоев населения, считающих себя несправедливо обделенными или по каким-либо иным причинам агрессивно относящихся к обществу, его нормам, морали и институтам.
гоните антиблядей, презирайте их, не тратьте свое драгоценное время на их высеры.
upd 1: кстати, сам «страх и отвращение в лас-вегасе» хорош хотя бы полным отсутствием пошлости, что для подобных произведений нехарактерно. но все равно, и книга, и фильм оказываются ближе к памфлету, чем к искусству.
upd 2: а еще сюда же попадает весь артхаус. но он настолько убог даже по сравнению с экранизациями вышеописанного пласта современной текстовой культуры, что обсуждать его нет смысла.
не доводилось смотреть множества фильмов, снятых по книгам зарубежных писателей, написанных на волне (в большей степени, конечно, хронологической, чем эмоциональной) окончания вьетнамской войны и позже, вглубь девяностых. да и сами произведения читать совершенно не хочется. паланик, томпсон, бегбедер, буковски, лу, уэлш и прочая серия альтернатива, да. всех этих писателей объединяет странная маниакальная претенциозность при минимальной художественной ценности производимых текстов, оглушительный гонор, бьющий по сознанию в абзацах, преподносимых в форме «острой социальной критики», при удручающе поверхностном анализе и незавуалированно популистских выводах. это как фансервис в аниме, только аудиторию доводит до пароксического восторга не нижнее белье и «свои» шутки, а способность автора войти в резонанс с настроениями едва вышедшей из пубертатного периода молодежи. пафос, доминирующий в выборе «образцовыми» персонажами линии поведения по отношению к окружающему «сгнившему лживому» обществу, наложенный на дух андерграунда, контркультуры — это простейшая идеологема, которой можно заполнить мировоззренческие лакуны. с другой стороны, существование этих писателей привело к очередному парадоксу, свидетельствующему о потрясающей гибкости рыночной структуры: даже если на рынке возникает спрос на творчество, построенное вокруг агрессии к самим капиталистическим ценностям и институтам, рынок без труда его удовлетворяет. и спокойно продолжает жить дальше, несмотря на студенческие восстания (книги про молодежные движения вообще выворачивают наизнанку и извращают до неузнаваемости май 1968-го, без которого они никогда не были бы написаны), драки болельщиков, эстетизацию порока, а самое главное — подпитку этим творчеством неонигилизма, который начался давно и вроде бы успел объединить вокруг себя массыё но люди, к счастью, имеют свойство взрослеть. поэтому «бойцовский клуб» берет в руки уже следующее поколение, которое, опять-таки, успевает вырасти до того, как предпринимает серьезные шаги.
кстати, весьма интересны попытки некоторых авторов уклониться от прямой критики общественных институтов и прямолинейных формулировок, содержащих в себе какие-либо ценностные или идейные единицы, пытаясь донести свою мысль посредством самой композиции романа. но для этого их таланта не хватает, так что хантер томпсон, например, эту идею бросает и, чтобы читатель понял его наверняка, завершает «страх и отвращение в лас-вегасе» шизофазическим манифестом о сущности американской мечты, который зачем-то даже перенесли в фильм. причем самым навязчивым и даже немного раздражающим способом — через закадровые авторские монологи, как голос ефима копеляна в «смв». если убрать из ленты хантеровские претензии на роль некоего судьи общественных порядков, получилась бы гениальная комедия про трип двух торчков, которая могла бы далеко обойти "евротур" по остроумию, режиссерской и операторской работе, сюжету и колоритности образов, композиции, наконец. но нет, контркультурная направленность фильма оказалась приоритетнее качества и художественной ценности, поэтому получился просто хороший фильм, но не более того. и то, что фильм обрел такую популярность спустя 26 лет после написания книги (как раз в самый пик вьетнамской войны), говорит о том, что и приоритеты ее целевой аудитории все еще не меняются. неудивительно, что книга и экранизация вызывают не меньшую благосклонность у школьников, студентов и практически всех битардов, чем тот же «бойцовский клуб» в обоих вариантах. воспринимать их легко, идеи ясны и понятны, описываемые «недостатки» общества очень напоминают проблемы в общении с родителями и учителями, а мировоззрение не может противопоставить конкурирующие идеи тем, что заложены в этих книгах — по причине отсутствия накопленной базы.
«альтернатива» критикует общество, а общество кормит «альтернативу», потому что так диктует рынок, преодоление структуры которого постмодернисты преподносят метафорически, а авторы «альтернативы» — в гипертрофированных эмоциональных (и пафосных, пафосных) формулировках, оставляя, однако, читателю свободу интерпретации. правда, на собственное понимание написанного у читателя, как показывает /bo/, запала уже не хватает: автомобили сами себя не сожгут, антиобщественный плакат сам в фейсбук не запостится.
а вообще, главная-то проблема этих произведений в другом. они безумно ценны, ведь они в первую очередь отражают приметы времени и витающие в воздухе настроение, и лишь затем диктуют что-то экстремальное. тщетна и бесплодна попытка что-нибудь сотворить через отрицание: истинное творчество предназначено для созидания, попытка сделать из трубы мегафон, может быть, и увенчается успехом, но сохранить звучание трубы не удастся. совершенно идентичная ситуация с любым антиутопическим произведением: отдельные антиутопии хороши, но попытка описать принципиальную структуру сюжета приведет к выводу об их универсальности и взаимозаменяемости. между всеми антиутопиями найдется лишь одно действительно важное отличие — это судьба главного героя, который умирает либо биологически, либо морально (вернувшись в лоно антиутопического общества). и точно так же обстоят дела у достоевского, все произведения которого построены вокруг увенчанного нимбом смирения стержня, состоящего из грязи, серости, депрессии, отчаяния. зато «котлован» платонова — это эпичнейшая деконструкция жанра, появившаяся еще до того, как человечество придумало саму деконструкцию. а еще достоевского, замятина и паланика объединяет то, что их произведения пользуются наибольшей популярностью у слоев населения, считающих себя несправедливо обделенными или по каким-либо иным причинам агрессивно относящихся к обществу, его нормам, морали и институтам.
гоните антиблядей, презирайте их, не тратьте свое драгоценное время на их высеры.
upd 1: кстати, сам «страх и отвращение в лас-вегасе» хорош хотя бы полным отсутствием пошлости, что для подобных произведений нехарактерно. но все равно, и книга, и фильм оказываются ближе к памфлету, чем к искусству.
upd 2: а еще сюда же попадает весь артхаус. но он настолько убог даже по сравнению с экранизациями вышеописанного пласта современной текстовой культуры, что обсуждать его нет смысла.
|
Метки: Рекап Правильное и неправильное Книги |
рекап |
«во, могу сформулировать уже достаточно давно (началось курсе на втором, но особенно сильно и ясно стало по приезду в китай) терзающее меня ощущение. вот раньше все было круче: часто пересекались, бухали, попадали во всякие забавные ситуации. у меня 95% всех историй, которые я рассказываю, произошли до марта 2010 года. а потом все стало пусто, серо и... и... ну, как будто на остаточном импульсе что-то происходить пытается, туго звенит, а смысла не содержит.»
... написал я 20 августа 2011 года в гугл плюс. с тех пор я закончил магистратуру, переехал в москву, поступил в аспирантуру, вступил в брак, вышел из брака, закончил аспирантуру, защитился, по пути сменив шесть работ и выйдя из своего перманентно подалвенного состояния. но «туго звенеть» так и не перестало.
upd: на самом деле, и историй так-то у меня больше не осталось. осталось только чувство, возникающее при мысленном возвращении к этим историям. но поскольку за ними уже больше ничего не стоит, оно начинает бесить.
... написал я 20 августа 2011 года в гугл плюс. с тех пор я закончил магистратуру, переехал в москву, поступил в аспирантуру, вступил в брак, вышел из брака, закончил аспирантуру, защитился, по пути сменив шесть работ и выйдя из своего перманентно подалвенного состояния. но «туго звенеть» так и не перестало.
upd: на самом деле, и историй так-то у меня больше не осталось. осталось только чувство, возникающее при мысленном возвращении к этим историям. но поскольку за ними уже больше ничего не стоит, оно начинает бесить.
|
Метки: Лытдыбр Личное Воспоминания |
о сновидениях |
вчера мне прислали ссылку на конференцию про осознанные сновидения, куда я наконец-то смог впервые рассказать свою историю. почему бы не сохранить ее здесь тоже?
я стал заниматься осознанными сновидениями с 15 лет; так совпало, что у меня это получилось случайно, а в книжном нашлась ололо-эзотерическая литература, которая немного раскрывала вопрос. к подобной литературе я отношусь скептично, как к любым телегам о том, что с помощью снов можно телепортироваться в реальности и делать прочие нестандартные вещи; но мой скептицизм распространялся лишь до определенной степени — я рассматривал предложенное изложение как некоторый язык описания реальности, для которого не пока что не нашлось более подходящей альтернативы.
я пошел по пути картографирования и стал очень внимательно относиться к тому, чем я занимаюсь 9–11 часов каждый день. в конце концов, это слишком большой участок жизни, чтобы пускать его на самотек. со временем я приучился относиться к сновиденному пространству примерно так же, как к реальному. от ярких и мощных осознанных сновидений довольно быстро отказался. во-первых, сновиденная программа хитрая: она может создать сюжет сна, в котором тебе снится, будто ты осознал себя и действовал волевым усилием. во-вторых, интенсивное воздействие на мир — будто то попытка изменить пространство или, еще хуже, воздействовать на волю действующих в нем существ — тревожит сновиденную программу и заканчивается мгновенным пробуждением.
вместо этого я приучился постоянно находиться во сне начеку, а в реальности — напоминать себе, что я живу как бы в двух пространствах попеременно. добавил в рутину привычку делать проверки, время от времени тыркая ближайшую стену сложенной в ладонь рукой. комбинация картографирования и проверок дала очень интересный результат.
оказалось, что половина или чуть меньше запоминаемых снов происходят в одном и том же мире. он воспроизводит планету земля с небольшими, определенными развитием сюжета, отличиями. есть базовые локации, где я появляюсь чаще всего. есть места, где я бывал в реальности, и куда я могу добраться во сне. причем чтобы перемещаться в удаленные части (например, в другие страны), обычно мне необходимо сменить несколько видов транспорта. есть даже пограничный контроль, который я могу преодолеть только определенным образом. главный архетип этих снов — сопровождение: мне необходимо провести группу незнакомых людей из одной части мира или участка мира в другой, обычно по россии; как правило, за рубежом я перемещаюсь один или уже встречаюсь с небольшими группами там.
все это время я догадываюсь, что нахожусь во сне. ощущается так, будто в сновиденной реальности у меня есть какая-то профессия, которую я выполняю и от которой время от времени отдыхаю, а сам мир живет своей жизнью и меняется со временем, оставаясь при этом узнаваемым. если происходит что-то тревожное, я повышаю осознанность и использую читерские воздействия, чтобы повлиять на ситуацию. опять-таки, это имеет ограничения: если воздействовать усилием воли на волю людей, которые мне снятся, это завершается пробуждением. если сказать им, что происходящее — сон, все блекнет и замирает. единственное существенное отличие моей субъектности в сновиденной реальности от субъектности в реальной реальности — это то, что в последней я возвращаюсь к своему персонажу там, где я его оставил, а во сне мой персонаж успевает между моими засыпаниями заниматься чем-то еще.
последнее время, кстати, в сновиденной реальности я ни для кого не выступаю проводником. чаще всего я обнаруживаю себя находящимся в отпуске в новороссийске и переживаю ностальгию — пытаюсь перестроить дом или общаюсь с мертвой бабушкой.
я стал заниматься осознанными сновидениями с 15 лет; так совпало, что у меня это получилось случайно, а в книжном нашлась ололо-эзотерическая литература, которая немного раскрывала вопрос. к подобной литературе я отношусь скептично, как к любым телегам о том, что с помощью снов можно телепортироваться в реальности и делать прочие нестандартные вещи; но мой скептицизм распространялся лишь до определенной степени — я рассматривал предложенное изложение как некоторый язык описания реальности, для которого не пока что не нашлось более подходящей альтернативы.
я пошел по пути картографирования и стал очень внимательно относиться к тому, чем я занимаюсь 9–11 часов каждый день. в конце концов, это слишком большой участок жизни, чтобы пускать его на самотек. со временем я приучился относиться к сновиденному пространству примерно так же, как к реальному. от ярких и мощных осознанных сновидений довольно быстро отказался. во-первых, сновиденная программа хитрая: она может создать сюжет сна, в котором тебе снится, будто ты осознал себя и действовал волевым усилием. во-вторых, интенсивное воздействие на мир — будто то попытка изменить пространство или, еще хуже, воздействовать на волю действующих в нем существ — тревожит сновиденную программу и заканчивается мгновенным пробуждением.
вместо этого я приучился постоянно находиться во сне начеку, а в реальности — напоминать себе, что я живу как бы в двух пространствах попеременно. добавил в рутину привычку делать проверки, время от времени тыркая ближайшую стену сложенной в ладонь рукой. комбинация картографирования и проверок дала очень интересный результат.
оказалось, что половина или чуть меньше запоминаемых снов происходят в одном и том же мире. он воспроизводит планету земля с небольшими, определенными развитием сюжета, отличиями. есть базовые локации, где я появляюсь чаще всего. есть места, где я бывал в реальности, и куда я могу добраться во сне. причем чтобы перемещаться в удаленные части (например, в другие страны), обычно мне необходимо сменить несколько видов транспорта. есть даже пограничный контроль, который я могу преодолеть только определенным образом. главный архетип этих снов — сопровождение: мне необходимо провести группу незнакомых людей из одной части мира или участка мира в другой, обычно по россии; как правило, за рубежом я перемещаюсь один или уже встречаюсь с небольшими группами там.
все это время я догадываюсь, что нахожусь во сне. ощущается так, будто в сновиденной реальности у меня есть какая-то профессия, которую я выполняю и от которой время от времени отдыхаю, а сам мир живет своей жизнью и меняется со временем, оставаясь при этом узнаваемым. если происходит что-то тревожное, я повышаю осознанность и использую читерские воздействия, чтобы повлиять на ситуацию. опять-таки, это имеет ограничения: если воздействовать усилием воли на волю людей, которые мне снятся, это завершается пробуждением. если сказать им, что происходящее — сон, все блекнет и замирает. единственное существенное отличие моей субъектности в сновиденной реальности от субъектности в реальной реальности — это то, что в последней я возвращаюсь к своему персонажу там, где я его оставил, а во сне мой персонаж успевает между моими засыпаниями заниматься чем-то еще.
последнее время, кстати, в сновиденной реальности я ни для кого не выступаю проводником. чаще всего я обнаруживаю себя находящимся в отпуске в новороссийске и переживаю ностальгию — пытаюсь перестроить дом или общаюсь с мертвой бабушкой.
|
Метки: Сны Лытдыбр |
Запись дневника "diary//cytoex Гарантированная тайна переписки" |
из-за того, что я на той неделе систематически заглушал свой канал связи с ноосферой, утратив ясность мышления и мотивацию дочитывать то, что я бросил где на половине, а где — на концовке, внезапно переключив внимание на компьютерные игры и тикток, могу только разве что поделиться выдержкой из последнего номера logos review of books:
«26.06.20
Важно находиться в эпицентре производственной драмы, не отслеживая своих чувств, чтобы не становиться крохоборствующим аффектологом. Мы станем легендами или будем забыты, история возьмет реванш или вернется на круги своя, ученики нас не забудут или даже не вспомнят, проглотившие поперхнутся или переварят как миленькие, жизнь возьмет свое или не возьмет, проигравшие станут первыми или будут последними. События разворачивались так, что тот, кто был серьезнее других, отстроил нечто, что было серьезнее, чем у других, прося помощи и поддержки у тех, кто был сильнее, но не менее серьезным, чем он сам. И вот то, что отстроено, прекратило свое существование. Закончен этап, теперь новая жизнь, ничего не известно, не хочет ли кто-то высказаться? Тот, кто смотрел вглубь, промолчал. Та, которая все понимала, молчит. Тот, кто мог бы многое сказать, говорить не стал. Тот, кого бы хотели все послушать, промолчал, Тот, кто всегда находил нужные слова, не нашел нужных слов. Та, к кому всегда прислушивались, замерла. Все молчали, молча провожая огромную славную часть своей жизни. Мне захотелось крикнуть „они еще пожалеют!” или „сделайте что-нибудь!”, но разумеется, кричать этого я не стала. Такова совершенно подлинная история того, что произошло.»
«26.06.20
Важно находиться в эпицентре производственной драмы, не отслеживая своих чувств, чтобы не становиться крохоборствующим аффектологом. Мы станем легендами или будем забыты, история возьмет реванш или вернется на круги своя, ученики нас не забудут или даже не вспомнят, проглотившие поперхнутся или переварят как миленькие, жизнь возьмет свое или не возьмет, проигравшие станут первыми или будут последними. События разворачивались так, что тот, кто был серьезнее других, отстроил нечто, что было серьезнее, чем у других, прося помощи и поддержки у тех, кто был сильнее, но не менее серьезным, чем он сам. И вот то, что отстроено, прекратило свое существование. Закончен этап, теперь новая жизнь, ничего не известно, не хочет ли кто-то высказаться? Тот, кто смотрел вглубь, промолчал. Та, которая все понимала, молчит. Тот, кто мог бы многое сказать, говорить не стал. Тот, кого бы хотели все послушать, промолчал, Тот, кто всегда находил нужные слова, не нашел нужных слов. Та, к кому всегда прислушивались, замерла. Все молчали, молча провожая огромную славную часть своей жизни. Мне захотелось крикнуть „они еще пожалеют!” или „сделайте что-нибудь!”, но разумеется, кричать этого я не стала. Такова совершенно подлинная история того, что произошло.»
|
Метки: Лытдыбр |
Запись дневника "diary//cytoex Гарантированная тайна переписки" |
хочу в инстаграме маску «какой ты нефтеналивной терминал»
|
|
об одиозности |
под защиту магистерской диссертации в работе всплыло имя олега арина — канадского политолога советского происхождения с весьма противоречивыми взглядами на азиатско-тихоокеанский регион. противоречивость их заключается в том, что, по его словам, такого региона не существует, разве что как идеологема, а значит, изучать там нечего. вместо того, что понимают под азиатско-тихоокеанским регионом, лучше смотреть на проблему шире и выделить комплекс, включающий северную америку, восточную азию и европу.
отставив в сторону методологическую проблемность такого видения, не обладающего достаточной объяснительной способности ни для того, чтобы как-то определить место ориентированной на тихий океан восточной азии в рамках этого комплекса, не говоря о мировой системе, ни для того, чтобы обосновать необходимость отделения этого комплекса от аналогичных оптик (вроде «север-юг»), скажу лишь, что научный руководитель по магистерской выразила крайнее недовольство тем, что я вообще его упомянул. даже несмотря на то, что это упоминание давалось в сугубо критическом разрезе. автор дает не принятую академическим мейнстримом точку зрения, значит, он одиозный, значит, его имя не заслуживает быть упомянутым ни в каком ключе.
еще раз эта персона всплыла уже непосредственно на защите кандидатской с подачи председателя диссертационного совета, хотя в этот раз имя олега арина у меня никак не упоминалось. для меня это было большой неожиданностью, но я был рад, что моего поверхностного состоявшегося несколько лет назад знакомства с его главной работой было достаточно, чтобы дать уверенный комментарий.
а вчера мне неожиданно самому стало интересно, как у него идут дела. оказалось, что очень хорошо:
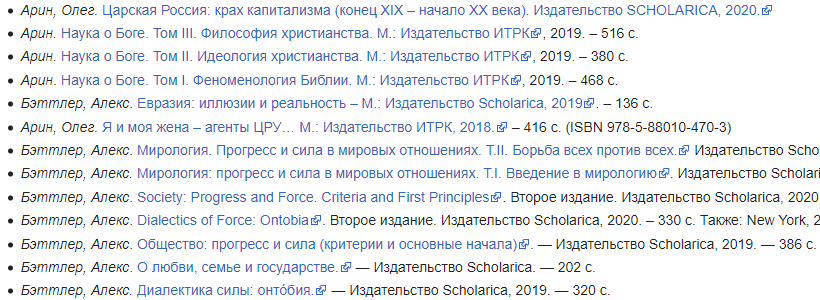
бэттлер алекс — это его нынешнее имя. а до олега арина он, оказывается, был рафиком алиевым. вот бы мне тоже осуществить такой поворот at some point — и в академическом направлении, и в персональном самопредставлении.
отставив в сторону методологическую проблемность такого видения, не обладающего достаточной объяснительной способности ни для того, чтобы как-то определить место ориентированной на тихий океан восточной азии в рамках этого комплекса, не говоря о мировой системе, ни для того, чтобы обосновать необходимость отделения этого комплекса от аналогичных оптик (вроде «север-юг»), скажу лишь, что научный руководитель по магистерской выразила крайнее недовольство тем, что я вообще его упомянул. даже несмотря на то, что это упоминание давалось в сугубо критическом разрезе. автор дает не принятую академическим мейнстримом точку зрения, значит, он одиозный, значит, его имя не заслуживает быть упомянутым ни в каком ключе.
еще раз эта персона всплыла уже непосредственно на защите кандидатской с подачи председателя диссертационного совета, хотя в этот раз имя олега арина у меня никак не упоминалось. для меня это было большой неожиданностью, но я был рад, что моего поверхностного состоявшегося несколько лет назад знакомства с его главной работой было достаточно, чтобы дать уверенный комментарий.
а вчера мне неожиданно самому стало интересно, как у него идут дела. оказалось, что очень хорошо:
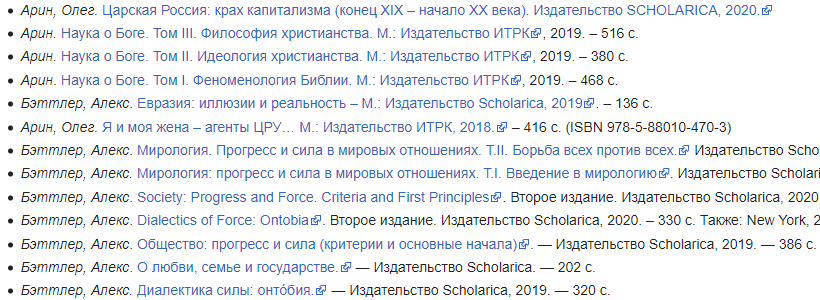
бэттлер алекс — это его нынешнее имя. а до олега арина он, оказывается, был рафиком алиевым. вот бы мне тоже осуществить такой поворот at some point — и в академическом направлении, и в персональном самопредставлении.
|
Метки: Лытдыбр Интересности Asia-Pacific |
Запись дневника "diary//cytoex Гарантированная тайна переписки" |
возможно, подсознание намекает мне на то, что у меня скучная жизнь. сегодня, например, мне приснилось, что меня несправедливо забанили в чате про оптимизацию ндс, и я физически искал владельца, чтобы убедить его в неправоте.
|
Метки: Сны |
о материальном |
капитализм и социальное окружение испортили меня в том смысле, что мое ощущение собственной ценности напрямую связано с платежным балансом. вчера случайно залошил и потратил корпоративные 10 долларов не на то, что нужно было. чтобы никто не заметил, потратил свои 10 долларов. вроде сумма небольшая, но сам факт бесит ужасно. переключился на другой этап задачи — не могу выкинуть эти 10 баксов из головы. решил почитать — все равно они никак не выходят.
зашел поныть по этому поводу в чат, спросил, нет ли у кого для меня работы на 10 долларов. что характерно, нашлась! пора начать думать о выходе на международный рынок бизнес-консультаций онлайн по модели фикспрайс.
к счастью, я еще не испорчен капитализмом и социальным окружением настолько, чтобы переживать насчет «а вот могло бы быть 20 долларов!»

зашел поныть по этому поводу в чат, спросил, нет ли у кого для меня работы на 10 долларов. что характерно, нашлась! пора начать думать о выходе на международный рынок бизнес-консультаций онлайн по модели фикспрайс.
к счастью, я еще не испорчен капитализмом и социальным окружением настолько, чтобы переживать насчет «а вот могло бы быть 20 долларов!»

|
Метки: Лытдыбр Будни |
эмпириоцентризм и картина мира |
в начале ноября я написал пост о том, что называю кризисом гиперреализма (гипертрофированного эмпиризма? эмпириоцентризма?) в социальных наукой, в особенности на западе, в особенности в сша. мне приятно знать, что эта проблема существует не только в моей голове, но и занимает какое-то место в дискурсе о философии науки. приведу сегодняшний пост из канала Политическая наука целиком:
В своей книге выдающийся американский политолог показывает, как развитие и усложнение методологического аппарата в современных общественных и гуманитарных науках привело к крайнему редукционизму в объяснениях и анализе. Автор резко критикует «бегство от реальности» в экономическом анализе права, формальном и статистическом моделировании, политической теории и «кембриджской школе» истории идей. В качестве альтернативы Шапиро предлагает проблемный подход к социальным исследованиям, основанный на реалистической философии науки, и иллюстрирует возможности такого подхода в своем анализе проблем власти, демократии, права, идеологии.
P.S. Как всегда, истину стоит искать где-то посередине, но признаем, что аргументированная критика в науке - это важнейший фактор ее дальнейшего развития.
в посте прикреплен файл с самой книгой.
второе, о чем бы я хотел сегодня написать — это проблема картины миры исследователя и проблема возможности переноса концепций из одной сферы в другую. вторая проблема — это вопрос метафоры, допустимость проведения сравнений, которые не дают формально точного описания реальности, но позволяют получить базовое представление об интересующем вопросе. в квантовой механике есть принцип неопределенности, который является если не свойством, то необходимым следствием из теоретической модели. мы не можем получать всю информацию об частице, какую захотим, потому что наблюдение — это процесс, в ходе которого мы получаем зрительную информацию, а получаем мы ее с помощью улавливания фотонов — то есть, тех же частиц, которые мы хотим изучать. у социального ученого есть такая же проблема. исследование начинает производиться, как социальный акт, наподобие гегелевского тезиса; воздействуя на предмет, исследователь как бы вмещает этот предмет в свою картину мира, тем самым искажая его. между тем, проблема участия картины мира в познании — не особенность лишь социальных исследований. если взять тех же квантовых физиков, можно вспомнить, как в течение буквально нескольких месяцев были предложены три альтернативные модели (формализмы): квантовая алгебра дирака, волновая интерпретация шредингера и матричная интерпретация борна, гейзенберга и йордана. они об одном и том же, дают одинаковые результаты при решении аналогичных задач. и все же они не являются полностью идентичными друг другу. хотя они и направлены на одно и то же, в каждом из подходов воплощена натура их создателей.
В своей книге выдающийся американский политолог показывает, как развитие и усложнение методологического аппарата в современных общественных и гуманитарных науках привело к крайнему редукционизму в объяснениях и анализе. Автор резко критикует «бегство от реальности» в экономическом анализе права, формальном и статистическом моделировании, политической теории и «кембриджской школе» истории идей. В качестве альтернативы Шапиро предлагает проблемный подход к социальным исследованиям, основанный на реалистической философии науки, и иллюстрирует возможности такого подхода в своем анализе проблем власти, демократии, права, идеологии.
P.S. Как всегда, истину стоит искать где-то посередине, но признаем, что аргументированная критика в науке - это важнейший фактор ее дальнейшего развития.
в посте прикреплен файл с самой книгой.
второе, о чем бы я хотел сегодня написать — это проблема картины миры исследователя и проблема возможности переноса концепций из одной сферы в другую. вторая проблема — это вопрос метафоры, допустимость проведения сравнений, которые не дают формально точного описания реальности, но позволяют получить базовое представление об интересующем вопросе. в квантовой механике есть принцип неопределенности, который является если не свойством, то необходимым следствием из теоретической модели. мы не можем получать всю информацию об частице, какую захотим, потому что наблюдение — это процесс, в ходе которого мы получаем зрительную информацию, а получаем мы ее с помощью улавливания фотонов — то есть, тех же частиц, которые мы хотим изучать. у социального ученого есть такая же проблема. исследование начинает производиться, как социальный акт, наподобие гегелевского тезиса; воздействуя на предмет, исследователь как бы вмещает этот предмет в свою картину мира, тем самым искажая его. между тем, проблема участия картины мира в познании — не особенность лишь социальных исследований. если взять тех же квантовых физиков, можно вспомнить, как в течение буквально нескольких месяцев были предложены три альтернативные модели (формализмы): квантовая алгебра дирака, волновая интерпретация шредингера и матричная интерпретация борна, гейзенберга и йордана. они об одном и том же, дают одинаковые результаты при решении аналогичных задач. и все же они не являются полностью идентичными друг другу. хотя они и направлены на одно и то же, в каждом из подходов воплощена натура их создателей.
|
Метки: Философия Наука Мысли вслух |
про The Great Reset |
Морегган использовала меня по прямому назначению и спросила в личку, что я думаю о ВЭФовской стратегии The Great Reset. я по-прежнему считаю, что корень современного кризиса — в неадекватном ответе на пандемию, а не в самой пандемии, и пытаться что-то делать исходя из борьбы с ковидокризисом — это провальная затея. но повестка форума говорит больше о том, чтобы бороться не с пандемиями, а с условиями, благотворящими пандемиям, и это в общем и целом хорошая затея, так как good governance теоретически способен позволить исключить ситуацию, при которой мировое сообщество охватывает паника, подобная мартовской и апрельской. но здесь встает вопрос о новом мировом порядке и создании глобального good governance, а об этом я как раз вчера закончил читать сборник The Politics of Transatlantic Trade Negotiations: TTIP in a Globalized World (к сожалению, в электронном виде бесплатно нет, поэтому я заказал еще в том году бумажную версию).
три компонента программы The Great Reset на сайте, по сути, заключаются в развитии идеи продвижения good governance на международном уровне. по задумке авторов, good governance будет продвигаться через дальнейшую либерализацию свободной торговли (1), что происходит уже сейчас; либерализация создаст условия для возникновения справедливого инвестиционного режима, построенного на защите наиболее уязвимых и нуждающихся в стимулировании пострадавших от кризиса областей (2), что, в принципе, тоже уже есть; и в результате либерализации и инвестирования возникнут условия для более равного и справедливого распределения благ, созданных четвертой промышленной революцией.
мне как специалисту по политическим аспектам международных торговых режимов эта стратегия не представляется чем-то новым, скорее, она развивает уже имеющиеся наработки, помещая их в контекст пандемии. этот процесс уже идет, и создание режимов обмена инвестициями является одним из самых спорных его компонентов. речь идет о режиме защиты инвесторов, при которых частные компании смогут подавать в суд на государства, если сочтут, что те ограничивают равную конкуренцию.
глобальный good governance на текущем этапе — это не слишком реалистичная задача; вто дохийского раунда так и не смогла разработать и внедрить механизмы, обеспечивающие равное участие развивающихся стран, или глобального юга, потому что (но и не только) одному и тому же государству бывает выгодно в одних условиях строить из себя развивающуюся экономику, а в других — развитую. но вообще проблема дохийского раунда — это не только развивающиеся страны, желающие изменить свое положение, но и вообще в целом неподъемная повестка, которая охватывает, наверно, абсолютно все.
есть три выхода из ситуации: минилатерализм, мегарегионализм (трансрегионализм) и специализация.
пример минилатерализма: экономики, вносящие наибольший вклад в мировой валовый продукт, решили объединиться вне зависимости от политических режимов, экономических укладов и состояния экономики (развитая / развивающаяся) в различные клубы, например, БРИКС и G20. последняя — это 20 стран, создающих едва ли не 80% мировой торговли. вдвадцатиром легче договориться, чем если участников будет 50 или 100, зато с решениями двадцатки придется мириться всем. БРИКС, правда, это скорее про трансрегионализм, но одно другому не мешает.
пример мегарегионалов: TTIP, TTP, RCEP. TTP подписано и вступило в силу, правда, без сша; RCEP подписано, но еще не вступило в силу. все три института направлены на либерализацию торговли, которая создает spill-over эффект по различным областям деятельности, включая защиту интеллектуальной собственности, инвестиций, трудового права, защиты окружающей среды. RCEP — это консервативное соглашение, направленное на создание свободной торговли (возможно, включает в себя какую-то социальную повестку, я еще не смотрел текст, но наверняка она минимальна). TTP — наоборот прогрессивное, в нем реализован механизм state-investor dispute settlement. соглашения подразумевают постепенное внедрение оговоренных положений, поэтому они не дают мгновенного эффекта.
пример специализации: неспособность вто предоставить некоторым государствам желаемые механизмы по защите интеллектуальной собственности побудили их создать отдельную международную организацию для решения этого вопроса.
таким образом, на мой взгляд, внедрение стратегии The Great Reset будет напрямую зависеть от того, какую роль ВЭФ займет относительно этих трех векторов, чья эффективность уже зарекомендовала себя. эксперты склоняются к тому, что специализация, минилатерализм и регионализация — это скорее либо ситуативные, либо идущие снизу вверх инициативы, а для эффекта масштаба не хватает роли глобального координирующего института. например, было бы очень неплохо создать институт, координирующий RCEP и TTP. проблема в том, что никто не знает, какими обязывающими функциями должен обладать такой институт, и должен ли, и как он должен найти баланс между административными функциями по управлению переговорными процессами, которые требуют трудовых, временных и экспертных ресурсов, и общей идеологической ролью, где институту придется разменивать свой политический капитал на глобальные решения. если ВЭФ удастся решить эту проблему, то, конечно, это будет огромный шаг вперед на пути к глобальному good governance.
три компонента программы The Great Reset на сайте, по сути, заключаются в развитии идеи продвижения good governance на международном уровне. по задумке авторов, good governance будет продвигаться через дальнейшую либерализацию свободной торговли (1), что происходит уже сейчас; либерализация создаст условия для возникновения справедливого инвестиционного режима, построенного на защите наиболее уязвимых и нуждающихся в стимулировании пострадавших от кризиса областей (2), что, в принципе, тоже уже есть; и в результате либерализации и инвестирования возникнут условия для более равного и справедливого распределения благ, созданных четвертой промышленной революцией.
мне как специалисту по политическим аспектам международных торговых режимов эта стратегия не представляется чем-то новым, скорее, она развивает уже имеющиеся наработки, помещая их в контекст пандемии. этот процесс уже идет, и создание режимов обмена инвестициями является одним из самых спорных его компонентов. речь идет о режиме защиты инвесторов, при которых частные компании смогут подавать в суд на государства, если сочтут, что те ограничивают равную конкуренцию.
глобальный good governance на текущем этапе — это не слишком реалистичная задача; вто дохийского раунда так и не смогла разработать и внедрить механизмы, обеспечивающие равное участие развивающихся стран, или глобального юга, потому что (но и не только) одному и тому же государству бывает выгодно в одних условиях строить из себя развивающуюся экономику, а в других — развитую. но вообще проблема дохийского раунда — это не только развивающиеся страны, желающие изменить свое положение, но и вообще в целом неподъемная повестка, которая охватывает, наверно, абсолютно все.
есть три выхода из ситуации: минилатерализм, мегарегионализм (трансрегионализм) и специализация.
пример минилатерализма: экономики, вносящие наибольший вклад в мировой валовый продукт, решили объединиться вне зависимости от политических режимов, экономических укладов и состояния экономики (развитая / развивающаяся) в различные клубы, например, БРИКС и G20. последняя — это 20 стран, создающих едва ли не 80% мировой торговли. вдвадцатиром легче договориться, чем если участников будет 50 или 100, зато с решениями двадцатки придется мириться всем. БРИКС, правда, это скорее про трансрегионализм, но одно другому не мешает.
пример мегарегионалов: TTIP, TTP, RCEP. TTP подписано и вступило в силу, правда, без сша; RCEP подписано, но еще не вступило в силу. все три института направлены на либерализацию торговли, которая создает spill-over эффект по различным областям деятельности, включая защиту интеллектуальной собственности, инвестиций, трудового права, защиты окружающей среды. RCEP — это консервативное соглашение, направленное на создание свободной торговли (возможно, включает в себя какую-то социальную повестку, я еще не смотрел текст, но наверняка она минимальна). TTP — наоборот прогрессивное, в нем реализован механизм state-investor dispute settlement. соглашения подразумевают постепенное внедрение оговоренных положений, поэтому они не дают мгновенного эффекта.
пример специализации: неспособность вто предоставить некоторым государствам желаемые механизмы по защите интеллектуальной собственности побудили их создать отдельную международную организацию для решения этого вопроса.
таким образом, на мой взгляд, внедрение стратегии The Great Reset будет напрямую зависеть от того, какую роль ВЭФ займет относительно этих трех векторов, чья эффективность уже зарекомендовала себя. эксперты склоняются к тому, что специализация, минилатерализм и регионализация — это скорее либо ситуативные, либо идущие снизу вверх инициативы, а для эффекта масштаба не хватает роли глобального координирующего института. например, было бы очень неплохо создать институт, координирующий RCEP и TTP. проблема в том, что никто не знает, какими обязывающими функциями должен обладать такой институт, и должен ли, и как он должен найти баланс между административными функциями по управлению переговорными процессами, которые требуют трудовых, временных и экспертных ресурсов, и общей идеологической ролью, где институту придется разменивать свой политический капитал на глобальные решения. если ВЭФ удастся решить эту проблему, то, конечно, это будет огромный шаг вперед на пути к глобальному good governance.
|
Метки: Размышления Политика Наука В мире |
об академии и науке |
мало-помалу наслаждаюсь ситуацией, при которой у меня нет горящих обязательств, помимо работы. как-то так сложилось, что с 2014 года у меня постоянно есть какой-нибудь вспомогательный движ, и только последний год можно считать относительно спокойным в связи с завершением темы с защитой. сначала той осенью-зимой были спокойные недели, теперь вот с начала октября, когда я сдал свою довольно общирную статью в нормальный сборник, цитируемый в wos. это будет моя первая публикация, учитываемая в международной системе цитирования. такими темпами моя карьера политического ученого будет и дальше обладать «околонулевой динамикой роста», но вообще-то знаете что? в какой-то мере я рад возможности оплачивать свои исследования сам, делать их ровно такими, какими считаю нужным я, и в целом быть более-менее независимым от академии. профессиональная коммуникация в этом домене у меня почему-то складывается плохо: я прихожу с вопросами и рассуждениями к людям, обычно через емейл, они меня либо перенаправляют к другим людям, которым не могут меня представить, либо игнорируют. хотя с другой стороны я понимаю, что вопросы я задаю о вещах, очень мне не близких (и именно это расстояние я, в общем-то, и хочу сократить), применять их собираюсь нестандартно, а людей такой методологический произвол отпугивает. уже как минимум дважды моя вольная эклектизация научного знания сталкивалась с жесткой критикой, переходившей в личное отношение ко мне. впрочем, я и криво смотрю на людей, которые занимаются исследованиями, но при этом противопоставляют себя академии, указывая на ее конъюнктурность / непотизм / whatever, что еще может не нравиться сумрачным гениям (референсы: перельман, михайлов).
вполне естественно, что если академия тебя кормит, то ты должен подкреплять эту структуру своим вкладом. можно было бы пойти заниматься исследованиями азиатско-тихоокеанского региона за гранты и генерировать по 4 добротные, но все же проходные статьи в год, но это все-таки не мой стиль.
во-первых, не то что бы для меня именно азиатско-тихоокеанский регион был главным научным интересом. просто так вышло, что именно этот эмпирический материал мне наиболее знаком. меня гораздо больше интересует теоретическая, абстрактная политическая наука, которая может соответствовать, а может и не соответствовать фактам из нашего мира. в одном телеграме про политическую науку сделали вопрос о том, как нужно развиваться политологии, чтобы преодолеть свою псевдо-/квазинаучность: от эмпирики к теории или наоборот. но куда деваться таким, как я, с моим ретродуктивным подходом? я мог бы сказать, что являюсь сторонником гегеля в вопросе о том, что если факты противоречат моей теории, то это в первую очередь проблема фактов. но в действительности это было бы выдавание желаемого за действительное, потому что я всегда очень рад фактам, делающим невозможными мои теоретические построения, так как это быстрее всего помогает проложить путь. но и «эдинсонсизм» с его тысячей неправильных путей для меня тоже совершенно не приемлем. мой исследовательский стиль — свободно перемещаться между эмпирикой и теорией; меня в первую очередь интересует платоновский мир идей, результаты обращения к которому мне вовсе не хочется обезображивать практикой. из мира идей можно брать теории, которые лучше эмпирических, так как способны работать не только в нашем мире, но и в бесконечном многообразии других миров. я обращаюсь к фактам только затем, чтобы ограничить теории мирами, которые близки к нашему или похожи на наш.
во-вторых, я просто-напросто не могу уложиться в 15–20 страниц, чтобы провести полноценное исследование. каждый раз, когда я берусь за какой-то вопрос, мне необходимо сделать новые инструменты, а не использовать имеющиеся. за те задачи, которые можно решить уже существующими способами, я не берусь, потому что это ремесло, выхолощенное от какого-либо вдохновения, и потенциально лишенное новизны. в паперах на 15 страниц ученые как-то прячут теоретико-методологические основы, делая только для них краткую подводку на страницу-две, чтобы потом посвятить тело текста непосредственно эмпирике. у меня легко может получиться гораздо больше объяснения этих основ, нежели их применения к тому, ради чего они создавались. разрабатывать теорию я могу месяцами, вообще не притрагиваясь к клавиатуре и бумаге. очевидно, что такой исследовательский стиль дает очень мало отдачи в виде kpi. потециальный контраргумент: ты можешь разбить одно большое исследование, которое занимает год, на четыре части, и податься на грант. но в том-то и дело, что я не могу. когда я занимался кандидатской диссертацией, все самое интересное я так и не смог изложить в рамках такой публикации, которую бы приняли от не-кандидата наук, а публиковать пришлось голую эмпирику, немного сдобренную обобщением. что, в общем, и представляет из себя в целом корпус современных текстов о политической науке. возможно, я слишком много на себя возьму, если скажу, что скованный кипиаями абстрактный ученый-«академист» четырьмя эмпирическими исследованиями за год сделает меньший вклад в науку, чем гипотетический я, который разработает за год какую-то супер-теорию. но я точно уверен, что гранты не выдают за разработку теоретических теорий, теоретически работающих в теоретическом подмножестве теоретических миров.
в-третьих, мне очень трудно соответствовать методологическим критериям, который современный мейнстрим в западной философии науки ставит перед исследователем. если бы я писал научную статью или эссе об этой проблеме, я бы озаглавил ее как-нибудь вроде Crisis of Hyperrealism or I Just Don't Get Regression? социальные науки в сша целиком и в европе в заметной части построены на гипертрофированном эмпиризме: поставить проблему, собрать данные, статистически обработать данные, сделать выводы, похвастаться p, поставить дальнейшую проблему. желательно уложиться в 10–15 страниц. наше, российское и частично европейское, многообразие подходов, например, с построениями из существующих теорий, между которыми ищется общее, чтобы это общее нанизать на два источника эмпирического материала, чтобы провести сравнительный анализ, какой-нибудь перво- или второквартильный журнал не примет, если ты не состоявшийся профессор с мировым именем. но российские кипиаи переориентируются на международные системы цитирования, а международные системы цитирования требуют тот формат, который я назвал. я не проходил статистику, не знаю, что такое метод монте-карло и как взломать p, но даже меня не обошли все эти рекуррентные инсайдерские шуточки о том, как исследователи изображают статметоды (преимущественно линейную регрессию), чтобы пустить пыль в глаза рецензенту. эта проблема, которую я называю кризисом гиперреализма, не только мешает политической науке избавиться от своего квази-/псевдонаучного статуса. она приводит к тому, что до половины ученых даже из таких направлений, как физика, биология и медицина, не могут повторить результатов своих коллег. она приводит к тому, что фармацевтическая компания не может выпустить эффективную вакцину от коронавируса за полгода. она приводит к тому, что наука становится заложницей своих собственных избыточно сложных требований, которые хотя и поднимают планку входа, гарантируя (хотя гарантируя ли?) качество, но с другой стороны мешают появляться действительно прорывным исследованиям. статью про открытие двойной спирали днк в том виде, в каком она была впервые опубликована, сейчас бы двойное рецензирование не пропустило.
вполне естественно, что если академия тебя кормит, то ты должен подкреплять эту структуру своим вкладом. можно было бы пойти заниматься исследованиями азиатско-тихоокеанского региона за гранты и генерировать по 4 добротные, но все же проходные статьи в год, но это все-таки не мой стиль.
во-первых, не то что бы для меня именно азиатско-тихоокеанский регион был главным научным интересом. просто так вышло, что именно этот эмпирический материал мне наиболее знаком. меня гораздо больше интересует теоретическая, абстрактная политическая наука, которая может соответствовать, а может и не соответствовать фактам из нашего мира. в одном телеграме про политическую науку сделали вопрос о том, как нужно развиваться политологии, чтобы преодолеть свою псевдо-/квазинаучность: от эмпирики к теории или наоборот. но куда деваться таким, как я, с моим ретродуктивным подходом? я мог бы сказать, что являюсь сторонником гегеля в вопросе о том, что если факты противоречат моей теории, то это в первую очередь проблема фактов. но в действительности это было бы выдавание желаемого за действительное, потому что я всегда очень рад фактам, делающим невозможными мои теоретические построения, так как это быстрее всего помогает проложить путь. но и «эдинсонсизм» с его тысячей неправильных путей для меня тоже совершенно не приемлем. мой исследовательский стиль — свободно перемещаться между эмпирикой и теорией; меня в первую очередь интересует платоновский мир идей, результаты обращения к которому мне вовсе не хочется обезображивать практикой. из мира идей можно брать теории, которые лучше эмпирических, так как способны работать не только в нашем мире, но и в бесконечном многообразии других миров. я обращаюсь к фактам только затем, чтобы ограничить теории мирами, которые близки к нашему или похожи на наш.
во-вторых, я просто-напросто не могу уложиться в 15–20 страниц, чтобы провести полноценное исследование. каждый раз, когда я берусь за какой-то вопрос, мне необходимо сделать новые инструменты, а не использовать имеющиеся. за те задачи, которые можно решить уже существующими способами, я не берусь, потому что это ремесло, выхолощенное от какого-либо вдохновения, и потенциально лишенное новизны. в паперах на 15 страниц ученые как-то прячут теоретико-методологические основы, делая только для них краткую подводку на страницу-две, чтобы потом посвятить тело текста непосредственно эмпирике. у меня легко может получиться гораздо больше объяснения этих основ, нежели их применения к тому, ради чего они создавались. разрабатывать теорию я могу месяцами, вообще не притрагиваясь к клавиатуре и бумаге. очевидно, что такой исследовательский стиль дает очень мало отдачи в виде kpi. потециальный контраргумент: ты можешь разбить одно большое исследование, которое занимает год, на четыре части, и податься на грант. но в том-то и дело, что я не могу. когда я занимался кандидатской диссертацией, все самое интересное я так и не смог изложить в рамках такой публикации, которую бы приняли от не-кандидата наук, а публиковать пришлось голую эмпирику, немного сдобренную обобщением. что, в общем, и представляет из себя в целом корпус современных текстов о политической науке. возможно, я слишком много на себя возьму, если скажу, что скованный кипиаями абстрактный ученый-«академист» четырьмя эмпирическими исследованиями за год сделает меньший вклад в науку, чем гипотетический я, который разработает за год какую-то супер-теорию. но я точно уверен, что гранты не выдают за разработку теоретических теорий, теоретически работающих в теоретическом подмножестве теоретических миров.
в-третьих, мне очень трудно соответствовать методологическим критериям, который современный мейнстрим в западной философии науки ставит перед исследователем. если бы я писал научную статью или эссе об этой проблеме, я бы озаглавил ее как-нибудь вроде Crisis of Hyperrealism or I Just Don't Get Regression? социальные науки в сша целиком и в европе в заметной части построены на гипертрофированном эмпиризме: поставить проблему, собрать данные, статистически обработать данные, сделать выводы, похвастаться p, поставить дальнейшую проблему. желательно уложиться в 10–15 страниц. наше, российское и частично европейское, многообразие подходов, например, с построениями из существующих теорий, между которыми ищется общее, чтобы это общее нанизать на два источника эмпирического материала, чтобы провести сравнительный анализ, какой-нибудь перво- или второквартильный журнал не примет, если ты не состоявшийся профессор с мировым именем. но российские кипиаи переориентируются на международные системы цитирования, а международные системы цитирования требуют тот формат, который я назвал. я не проходил статистику, не знаю, что такое метод монте-карло и как взломать p, но даже меня не обошли все эти рекуррентные инсайдерские шуточки о том, как исследователи изображают статметоды (преимущественно линейную регрессию), чтобы пустить пыль в глаза рецензенту. эта проблема, которую я называю кризисом гиперреализма, не только мешает политической науке избавиться от своего квази-/псевдонаучного статуса. она приводит к тому, что до половины ученых даже из таких направлений, как физика, биология и медицина, не могут повторить результатов своих коллег. она приводит к тому, что фармацевтическая компания не может выпустить эффективную вакцину от коронавируса за полгода. она приводит к тому, что наука становится заложницей своих собственных избыточно сложных требований, которые хотя и поднимают планку входа, гарантируя (хотя гарантируя ли?) качество, но с другой стороны мешают появляться действительно прорывным исследованиям. статью про открытие двойной спирали днк в том виде, в каком она была впервые опубликована, сейчас бы двойное рецензирование не пропустило.
|
Метки: Размышления Точка зрения Правильное и неправильное Политика Наука Наблюдения Мысли вслух |






