-ћетки
rudy youngblood америка апачи бразили€ вожди воины война всадники г.лонгфелло_песнь о гайавате гайавата головной убор древн€€ цивилизаци€ индеец индейска€ группа чанте ша индейска€ музыка индейцы индейцы северной америки ирокезы истори€ киев книга книги книги об индейцах костюм курение кэшбэк литература ловец снов мегалиты мифы музыка обереги пЄтр солодкий покахонтас равнины разное рейтинг сат ок североамериканские индейцы сиу танцы тотемы фото хаски чанте ша сингерс чейенны чероки шайены шаманы штаты
-–убрики
- √алере€ (258)
- –азное (195)
- ультура и искусство (153)
- »ндейцы сегодн€ (83)
- »стори€ (81)
- –итуалы и обычаи (75)
- ћифы и легенды (61)
- ѕредметы быта (59)
- Ћитература (51)
- ѕрирода (50)
- »сторические личности (46)
- ѕлемена (43)
- ¬опросы и ответы (35)
- –елиги€ (32)
- Ётнографи€ (29)
- “ропа войны (28)
- "ѕеснь о √айавате" (26)
- ино (18)
- —тихи и рассказы (12)
- »ндейский гороскоп (8)
-ћузыка
- Sacred Spirit : Lay o lay ale loya
- —лушали: 8730 омментарии: 12
-ѕодписка по e-mail
-ѕоиск по дневнику
-»нтересы
-ѕосто€нные читатели
-„ерешн€- -Ёоланта- Ariesmoon Dworkin_Barimen Elizavetka Fernflower Galina_Viola_Rose Gilmorn Jantaru KeraO Krashevseh Krona_Sat L-OLCHA Lito260707 Ma_Atmo_Nidhi Milayaya1995 Redantics Sokol_Sapsan Teffa alaska-calls alwdis benabor black_koroleva fraukitty frogi lublusebya luloz-ka nemv nvy sansanvo terras xif јддива_– јргона ¬ива-јури ¬иктор-¬иктори€ ≈¬ѕј“»… ошкость рюков_ƒенис_—аид Ћезгафт Ћешачка ћай€_Ўипеева ѕеруанка ѕлерома —ерденько_мое “ан€_“ “ут_забавно яна_¬ерченко владимир20161971 мастеровой
-—татистика
«аписи с меткой индейцы
(и еще 6119 запис€м на сайте сопоставлена така€ метка)
ƒругие метки пользовател€ ↓
dream catcher nightwish rudy youngblood white shield-arikara америка апачи архитектура вожди воины война севера и юга всадники гайавата генерал день индейца джеронимо индеец индеец маленькое белое облако индейска€ группа чанте ша индейска€ музыка индейский ребЄнок индейцы индейцы северной америки ирокезы истори€ как сделать ловца снов книга книги ловец снов мексика мокасины музыка обереги пам€тники песни и танцы современных индейцев пирога покахонтас резервации североамериканские индейцы сиу стенд уэйти танцы тотемы трубки-томагавки убиражара фото цитаты чанте ша сингерс чероки шайены шаманы
»ндейские всадники. артины. |
ƒневник |
ћетки: индейцы всадники |
“ропы, скрытые бетоном. |
ƒневник |

Ђ«десь мы остаемс€ї
ѕрезираемое плем€ индейцев оставило такой след в вашей истории, которого уже не стереть. ѕройдись со мной за ограды ферм белого человека, и € покажу тебе необычной формы ложбинку, всего в несколько футов ширины, что бежит по пшеничному полю, ѕо склонам холмов, прочерчива€ даль на многие мили. Ёто древн€€ тропа индейца. «десь играли дети, спешил на свидание влюбленный, и старые вожди величаво шествовали к месту совета. ј теперь пшеница белого человека скрывает кра€ ее, хот€ и не может скрыть совершенно. ѕод €рким светом солнца и мерцанием луны она все еще виднеетс€, словно шрам на €сном лике земли; и какую же драматическую историю рассказывает она о печальном различии между тем, что было и что есть ныне! ƒа, на истории твоей нации, о белый, пролег шрам... —колько ни пробуй прикрывать его плодами своего изобили€, он по-прежнему здесь и с каждым годом все глубже впечатываетс€ в землю растущей алчностью белого человекаї.
ћне так и не удалось узнать, какой индейский вождь был автором этих строк. Ќо он написал книгу Ч горькую повесть о судьбе своего народа, увидевшую свет в конце прошлого века и ставшую одним из известнейших рассказов о судьбе индейцев.
≈сли древние были убеждены, что все дороги ведут в –им, то дл€ мен€, американиста, изучающего индейцев, все магистрали и шоссе современной јмерики заканчивались дикой тропой индейца. онечно, чрезвычайно трудно в сегодн€шнем облике страны разгл€деть очертани€ далеких предшественников. » все же... акой из городов јмерики не стоит на месте старой индейской деревни? Ћюди, прокладывавшие самые первые тропы на континенте, исчезли, а Ђдорожные знакиї, расставленные ими у переправ, развилок, поворотов, по-прежнему живы. ∆ивы в буквальном смысле, только побеги превратились за два-три столети€ в ветви исполинских деревьев, а сами деревь€ Ч в пам€тники ушедшей культуры...
ј географические названи€? ЂЅрать€ мои,Ч сказал когда-то индейский вождь,Ч об индейцах должны вечно помнить в этой стране. ћы дали имена многим прекрасным вещам, которые всегда будут говорить нашим €зыком. ќ нас будут сме€тьс€ струи ћиннехахи, словно наш образ, просверкает полноводна€ —енека, и ћиссисипи станет изливать наши горести. Ўирока€ јйова, стремительна€ ƒакота и плодородный ћичиган прошепчут наши имена солнцу, что целует их...ї » в самом деле, јлабама на €зыке криков согласно легенде означает Ђ«десь мы остаемс€ї, горы јдирондаки хран€т пам€ть о стычках военных отр€дов Ч Ђќни ед€т коруї, ќклахома, где индейцев больше всего,Ч Ђ«емл€ краснокожегої. ƒа и слово Ђ анадаї разве не означает в переводе с ирокезского просто Ђдеревн€ї? ≈сли взгл€нуть на археологическую карту Ќью-…орка, легко различить дес€тки мелких поселений на месте нынешнего ћанхэттена, Ѕруклина, Ѕронкса. » вот после того как € столько лет разыскивал индейские тропы на карте и в сознании јмерики Ч ее литературе, € получил возможность взгл€нуть на них собственными глазами.
Ёто была научна€ командировка. » за три мес€ца мы, двое литературоведов, побывали в разных городах, работали в крупнейших библиотеках и университетах страны, встречались с учеными, писател€ми (конечно, и индейскими тоже), посетили индейскую резервацию. ¬о врем€ нашего путешестви€ мы все реальнее ощущали индейские тропы, скрытые здесь и там под бетоном в наши дни.
огда-то ирокезы и алгонкины были кровными врагами, а ныне от мощных племенных союзов ничего не осталось, только сто€т р€дышком нью-йоркские суперотели Ђјлгонкинї и Ђ»рокезї Ч два одинаково чинных, почтенных бизнесмена,Ч как пам€тники, по которым уже не узнать оригинала.
«накомство с индейскими тропами пришлось начать с музеев и библиотек. „то касаетс€ живых индейцев, то встреча с ними на востоке, в крупных городах Ч Ќью-…орке и ¬ашингтоне, где было сделано все, чтобы они давно исчезли, была нелегкой. Ќо за два дн€ до моего приезда в олумбийский университет выступал перед студентами со страстной речью Ђћертвые воины не поютї –ассел ћине, лидер восстани€ сиу в 1973 году в ёжной ƒакоте. ј в нью-йоркской библиотеке все дес€ть рабочих дней € просидел р€дом с поэтом из племени клаллам ƒуэйном Ќиатумом, чьи стихи читал еще в ћоскве.
„иновник из племени команчей
...–ека ѕотомак, на которой стоит ¬ашингтон, видела много важных событий американской истории. ќна называлась когда-то ѕатавомеке Ч по-алгонкински: Ђћесто, куда приход€т и принос€тї: здесь на тропах у бродов сходились окрестные племена дл€ торга и обмена.
Ѕюро по делам индейцев ƒепартамента внутренних дел находитс€ недалеко от реки.
Ќи один индеец за всю историю-этого учреждени€ не пом€нул добром его политику. ¬ лучшем случае кто-нибудь назовет им€ прогрессивного ученого ƒжона ольера, задержавшегос€ в коридорах Ѕƒ» при –узвельте в тридцатые годы...
—начала € долго искал необходимую контору, не отмеченную никакой табличкой и, как оказалось, рассредоточенную в разных местах. Ёто было сделано недавно, после того как здание было захвачено индейцами-активистами Ђ расной силыї в начале 70-х годов и часть грабительской документации уничтожена.
ѕосле некоторых проволочек € был представлен темнокожему служащему с вполне индейскими украшени€ми: бирюзовым перстнем на пальце и такой же заколкой на галстуке. ќн с достоинством прот€нул руку: Ђ“ом ќксендайнї Ч и повел в кабинет
Ч ¬ моем ведении наход€тс€ все вопросы индейского землевладени€,Ч про€снил он сферу своей де€тельности.
” мен€ было к нему много вопросов. то, по официальным стандартам, считаетс€ индейцем? ак он относитс€ к представител€м движени€ Ђ расна€ силаї? „то конкретно делает Ѕƒ» дл€ обеспечени€ жизни индейцев?
¬ ответ € услышал длинный рассказ о том, какой процент крови позвол€ет идентифицировать индейскую принадлежность, какое количество племен имеет контакты с Ѕƒ», сколько денег отпускает правительство на расходыЕ ѕоудобнее усевшись в кресле, “ом ќксендайн сыпал цифрами, процентами и справками, словно набивший руку экскурсовод. Ќам посто€нно мешали звонил телефон, собеседник с энтузиазмом брал трубку и с деловитыми нотками в голосе произносил неизменное Ђ“ом ќксендайнї. –оль делового чиновника средней руки ему €вно нравилась.
ѕродолжа€ служебную беседу по телефону, он извлек из €щика стола отпечатанную биографическую справку о себе и кивком головы предложил ознакомитьс€. ¬ ней говорилось, что “ом ќксендайн, индеец-команч, получил нормальное школьное образование, затем военное, служил в авиации сначала летчиком, потом командиром звена, потом командиром эскадрильи, потом... и так далее.
ѕохоже было, что вопросами индейской экономики или культуры он прежде не занималс€; зато было очевидно, что Ѕƒ» хранило свои старые традиции: ведь когда-то все это учреждение входило в состав военного департамента.
”лучив момент между звонками, € спросил:
Ч —кажите, пожалуйста, со всеми ли племенами имеет отношени€ Ѕƒ»?
Ч Ќет, мы св€заны только с теми, кто обладает правом на земельную собственность
Ч «начит ли это, что прочие племена не значатс€ в документации и статистике Ѕƒ»?
Ч ƒа, с остальными у нас нет никаких контактов.
—ловом, те, кто не обладает земельной собственностью, правительственного чиновника не интересовали. ћне очень хотелось что-нибудь узнать о могиканах (кто из нас не помнит героев упера?). ќднако оказалось, что “ому ќксендайну нет дела до безземельной общины могикан, до сих пор живущих под Ќорвичем, штат оннектикут. »х оставили в покое даже этнографы и лингвисты, поскольку они уже забыли свой €зык...
ћода на индейцев!
аждое утро мне приходилось работать в библиотеке ћузе€ естественной истории. “ам мне удалось договоритьс€ о встрече с ”илкомом ”ошберном Ч историком, издателем 20-томного справочника по индейцам. „уть ироничный, сдержанный, он словно посв€щал мен€ в св€та€ св€тых индейской культуры. —коро разговор коснулс€ Ђ расной силыї и –ассела ћинса.
Ч ћинс и ƒеннис Ѕенкс? ƒа это просто фанатики и болтуны! ого они официально представл€ют? “акие люди только подрывают положение индейского меньшинства Ч единственного, у которого есть специальный юридический статус Ђподопечных американской нацииї.
Ёто говорил человек, известный как добросовестный специалист по индейской истории и этнографии. ќ сегодн€шнем дне он знал меньше, чем о далеком прошлом. »з его слов следовало, что насто€щие индейцы вообще остались только в книгах или только в прошлом, что о них могут судить только археологи.
Ч ¬идите ли,Ч продолжал он,Ч индейцы сами обращаютс€ к нам, когда хот€т провести какой-либо праздник или восстановить танец. ѕриход€т консультироватьс€ по поводу своих обр€дов... роме того, сейчас просто модно стало считать себ€ индейцем. ћодно и выгодно: это хороша€ реклама. ” мен€ есть друг, ƒжек ‘орбс, историк с небольшой примесью индейской крови Ч так он тоже недавно провозгласил себ€ индейцем...
¬ том, что говорил ”ошберн, была дол€ истины, но далеко не вс€ истина. ¬ болтунов и краснобаев не стрел€ют по нескольку раз в год, как в ћинса, а разговор о стерилизации индейских пациентов в больницах не выдумка сторонников Ђ расной силыї. Ќо об этом не стоило спорить с моим собеседником
Ђѕусть люди знают!ї
ѕеред нами сидел седой темнокожий и горбоносый старик Ч –уперт осто, историк и издатель из калифорнийского племени кауийа. аса€сь наиболее горьких дл€ него тем, он гор€чилс€. ƒа, они с женой составл€ют весь штат издательства, и одному богу известно, что станетс€ после их смерти.
Ч ћы работаем уже больше дес€ти лет и стремимс€ организовать работу. ќбщества индейских историков и этнографов, публикуем их книги, выпускаем свой печатный орган Ђ»ндейский историкї...
ќн помолчал немного.
Ч ћы одни в целом мире и отстаиваем свое право говорить правду о мрачных страницах в истории этой страны, правду об истинном лице нашего народа. ƒевиз нашей газеты Ђ¬ассахаї Ч Ђѕуть люди знают!ї. роме нас, этого не сделает никто другой. —мотрите,Ч он вновь повысил тон,Ч вот оп€ть они выпустили очередную фальшивку!
ќн потр€с объемистым томом уже знакомого нам справочного издани€, редактируемого ”ошберном.
Ч ѕочитайте, чего только они не пишут о моем племени, об индейцах алифорнии! Ќо мен€-то им не провести, источники € держу под рукой. ¬ этом здании находитс€ достаточно книг по любому индейскому вопросу.
ќн с гордостью повел нас по комнатам второго этажа, сплошь уставленным книгами. ѕередо мной была тематическа€ библиотека, какой не может похвастатьс€ ни один университет —Ўј.
Ч ѕомню, как раз в этой комнате работал эскимос ƒжозеф —енунгетук. ќн написал книгу о себе и своем народе. ќна называлась Ђ¬озьмите или отдайте столетие: истори€ эскимосской семьиї.
Ќа прощание –уперт осто достал из стола свою книгу Ђ»ндейские договоры: 200-летний позорї, подумал немножко и размашисто надписал:
Ђѕусть ¬еликий ƒух поможет ¬ам во всем, что приводит к наивысшему счастьюї.
ѕотомки √айваты
— нетерпением ждал € поездки в город »така в штате Ќью-…орк. «нал, что стоит он на исконно ирокезских земл€х, в стране длинных узких озер, напоминающих на карте растопыренные пальцы человеческой руки. √де-то в этих лесистых долинах лет п€тьсот назад охотилс€ легендарный √айавата, дава€ им певучие названи€.
¬ крошечном университетском отделе помощи коренному населению сидели молодые люди, которые поначалу не привлекли моего внимани€ Ч € прин€л их за обычных студентов. «десь же, на полке, лежала огромна€ ирокезска€ погремушка, сделанна€ из панцир€ черепахи: € видел перед собой св€тыню, способную отводить болезни, приносить счастье Ч ведь когда-то ¬елика€ „ерепаха прин€ла на свою спину праматерь людей јвенхаи и спасла ее от потопа. ѕотому-то индейцы до сих пор именуют јмерику ќстровом „ерепахи... Ќо тут парень, сидевший спиной, обернулс€, и €, пригл€девшись, легко уловил индейские черты его лица, заметные даже при общей бледности кожи. “о был молодой индеец сиу по имени √ромовый ястреб Ч впрочем, все называли его “имом.
Ч ’ау, кола! Ч сказал € на €зыке сиу.Ч «дравствуй, друг!
Ч ќ-се-о! ѕривет! Ч ответил он с готовностью.
“им свободно изъ€сн€етс€ на сиу, преподает €зык чероки (он созналс€, что предков у него много: сиу-чероки-кикапу), и ведет курс народной психологии в орнельском университете. ќн показал мне учебник €зыка чероки, грамматику мохаукского, разговорник на сиу.
Ч ” племен растет т€га к возвращению народной речи,Ч рассказывал он.
...„ероков американцы издавна считали одним из Ђцивилизованных племенї Ч они растили кукурузу, у них была сложна€ иерархи€ власти. ¬ двадцатых годах прошлого века хромой метис по имени ƒжон ƒжист Ч индейское им€ —еквой€ Ч дал себе слово придумать индейскую письменность. ¬ 1823 году он представил свое творение на совет вождей; алфавит оказалс€ столь практичным, что через несколько мес€цев все чероки стали грамотными. — этого же года стала выходить перва€ индейска€ газета Ђ„ероки ‘ениксї. Ћичность —еквойи обросла легендами.
ѕозже в среде этнографов по€вились суждени€, что —еквой€ не изобрел, а только модернизировал какую-то уже имевшуюс€ систему картиночного письма Ч пиктографии. ѕрипомнили, что еще в 1775 году один вождь зачитал древнюю легенду, записанную на шкуре рисуночным письмом. — тех пор осталс€ только текст, записанный на бумаге, а шкуру как курьез отправили в подарок королеве в Ћондон, где она, естественно, затер€лась. ¬от и думай теперь, кто и когда изобрел индейскую письменность...
...»рокезы дали јмерике, пожалуй, больше талантливых людей, чем любое иное плем€. —реди них историки, военные, политики, этнографы и поэты.
»ндейцы вообще красноречивый народ, ирокезские же ораторы в этом отношении могли бы поспорить с древними римл€нами. ƒа американцы и окрестили их Ђримл€нами Ќового —ветаї. —лава ирокезов восходит к легендарному √айавате и пророку ƒеганавиде, объединител€м ирокезов в —оюз ѕ€ти племен, ¬еликую Ћигу.
ќдно из этих племен Ч онондагов Ч не случайно именуют Ђлюдьми холмовї: их земли разбросаны по лесистым склонам. ќнондага потому и стала столицей союза, что где-то здесь жили сам √айавата и его соперник Ч злобный людоед и чародей јтотархо. Ёто он преп€тствовал всеобщему миру, единению племен... » потому, когда удалось лишить его злобных чар, центром ирокезских земель стала именно ќнондага, родина √айаваты.
Ќа земле ¬еликой Ћиги
...ћашина резко свернула вправо с федерального шоссе и выехала на единственную улицу резервации, выступившую из редкого леска. ругом лежал снег. ÷ерковь, гр€зное кирпичное здание школы, кучка облезлых домиков по обе стороны, и никого вокруг. ѕроехав дальше, мы остановились у старого кладбища и посто€ли у ƒлинного дома совета. ѕ€ти племен, где собирались п€тьдес€т человек Ч онондагов, онайдов, кайюгов, сенеков и мохавков. ƒом был сложен из свежих бревен и еще не окрашен: он предназначалс€ на смену старому, поменьше, сиротливо сто€вшему р€дом.
ƒень был серый, и все вокруг выгл€дело таким же серым и заброшенным, как это старое кладбище или засохшие стебли кукурузы на гр€дках, покрытых снегом. ¬ растер€нности повернув назад, мы решили дл€ очистки совести постучатьс€ в наглухо запертую лавку-сарай. Ќа стук вышла полна€ пожила€ женщина в платке, одеждой напоминавша€ русскую кресть€нку. Ќам разрешили взгл€нуть на нехитрую продукцию местных умельцев. Ќекоторые топорные сувениры обнаруживали к тому же хорошо знакомую надпись: Ђѕодлинное изделиеї, а внизу Ч меленько Ч Ђ—делано в √онконгеї. ѕриобрет€ лишь последний выпуск ирокезской газеты Ђјквесагне Ќоутсї с потер€нным видом слон€лись мы по лавке, и тут хоз€йка, ожидавша€, пока мы закончим, спросила, откуда мы.
Ч –усские,Ч ответил мой спутник.
Ч –усские? ак же далеко вы забрались! Ч ∆енщина оживилась.Ч я думаю, вы первые русские, ступившие на эту землю.
ћы этого не оспаривали.
Ч ѕозвольте пригласить вас на чашечку кофе.
»ндейцы —Ўј давно освоили этот напиток.
ѕомещение, в котором мы находились, внутри напоминало избу. ¬ углу были свалены какие-то вещи. —боку примыкала каморка поменьше. Ќаша хоз€йка оказалась представительницей верховной власти племени, имеющей, по древним законам, право выбора вождей. ак позже вы€снилось, ее знают не только в ќнондаге, но чуть ли не во всех ирокезских резерваци€х штата Ќью-…орк.
Ч —овет по-прежнему собираетс€ регул€рно в ќнондаге, Ч говорила хоз€йка. Ч ћы очень бедны, зато свободны: плем€ не подчин€етс€ Ѕюро по делам индейцев и вообще федеральному правительству. «емл€ и дома на ней наши собственные согласно старому договору.
»рокезка внезапно бросила:
Ч ак показалась вам резерваци€, что вы почувствовали, когда въехали сюда? Ќет-нет, говорите правду.
Ч «наете, все-таки т€жело видеть такую бедность и нищету.
Ч Ќо ответьте, что лучше: потер€ть родной €зык и культуру или остатьс€ бедными, но самими собой? ѕравительство часто предлагает нам: Ђƒавайте мы построим вам новое здание школы Ч только разрешите провести дорогу через резервациюї. Ќо мы-то знаем, что это значит: строить, а потом и содержать дорогу придут техники, вслед за ними туристы, бизнесмены. »х будет куда больше, чем нас... ”читель у нас сейчас есть свой, ирокез, и мы можем быть спокойны: он будет учить детей так, как нужно. ¬ ќнондаге заплачено за каждый дом, каждую п€дь земли. Ёто наши исконные владени€, и мы не желаем их никому отдавать...
“ут же за столом с нами сидела бела€ женщина.
Ч ƒа, € не индеанка. Ќо живу здесь, в ќнондаге. —начала работала от филантропической организации, а потом и вовсе решила остатьс€. —тыдно признатьс€, мо€ страна, усердно пекуща€с€ о правах человека где-то за рубежом, совершила и совершает этноцид внутри по отношению к индейцам...
”вы, нам пора было ехать дальше. ћы стали прощатьс€ и пон€ли, что из всего виденного нами ќнондага была тем редким местом, где в нас никто не видел незваных гостей, не замыкалс€ в себе во врем€ беседы.
огда люди долго враждовали, ирокезы говорили: Ђ“ропы между нами заросли травой и кустами, их прервали поваленные деревь€, и облака скрыли наш деньї. » чтобы прекратить вражду, у индейцев издревле существовал обычай Ђобновлени€ дружественной цепиї, когда люди шли в гости в соседние и отдаленные деревни с подарками и речами. Ќаше свидание с ќнондагой было таким визитом.
¬ыйд€ наружу, € огл€делс€ и заметил, что среди окружающих хвойных деревьев кое-где индейскими вожд€ми возвышаютс€ белые сосны. Ѕотаники зовут их сероствольными. „уть раньше € спрашивал “има: почему эмблемой —оюза ѕ€ти племен стала бела€ сосна?
Ч ¬о-первых, это вечнозеленое, вечно живое дерево; во-вторых, белизна Ч символ чистоты помыслов, мирных намерений. ј заметили вы, что иголки на ветках этой сосны собраны всегда по п€ть вместе? ќни означают единство племен —оюза.
ј. ¬ащенко, кандидат филологических наук
Ќью-…орк Ч —ан-‘ранциско Ч ћосква
ћетки: индейцы ирокезы |
»ндейские всадники. артины. |
ƒневник |
ћетки: индейцы всадники |
»ндейские женщины. »сторические фото. |
ƒневник |
ћетки: фото индейцы |
апитан ƒжек, интпуаш (ок. 1837 Ч 3 окт€бр€ 1873) |
ƒневник |

интпуаш, более известный как апитан ƒжек - вождь индейского племени модок, проживавшего на территории ќрегона и алифорнии, лидер племени во врем€ ћодокской войны.
¬ 1864 году модоки жили на земле своих предков возле озера “ул, на границе алифорнии и ќрегона. ќднако из-за прихода на эту территорию белых поселенцев, которые стали строить на этой плодородной земле свои фермы, плем€ вынуждено было переехать в резервацию кламат в юго-западном ќрегоне, территории традиционных противников модоков, племени кламат. ѕоскольку кламаты превосходили новоприбывших числом, а резерваци€ €вл€лась их исконной территорией, с модоками они обходились довольно скверно.
¬ 1865 году лидер модоков интпуаш, более известный как апитан ƒжек, повЄл свой народ из резервации назад на родную землю. ¬ 1869 году модоки были отправлены армией —Ўј назад в резервацию, однако услови€ там не улучшились и в апреле 1870 года апитан ƒжек повЄл отр€д из 180 модоков к озеру “ул.
¬ 1872 году была послана арми€, чтобы схватить людей апитана ƒжека и отправить их в резервацию. 29 но€бр€ во врем€ переговоров о сдаче на Ћост-–ивер в ќрегоне между одним из солдат и воином модоков зав€залась драка, котора€ перетекла в короткую битву у Ћост-–ивер. ƒжек воспользовалс€ этой возможностью, чтобы увести свой отр€д в пустоши, которые €вл€ютс€ теперь национальным пам€тником ЂЋава Ѕедсї. ќтр€д разместилс€ в естественной крепости, известной ныне как репость апитана ƒжека, состо€щей из множества пещер. огда военные наконец обнаружили индейцев, они быстро предприн€ли атаку 17 €нвар€ 1873 года, в результате которой арми€ потер€ла 35 человек убитыми и раненными, в то врем€ как модоки обошлись без потерь.
—оветники апитана ƒжека считали, что арми€ отступит, если удастс€ убить еЄ лидера, генерала Ёдварда энби. ƒжек же наде€лс€ на мирное разрешение конфликта и вступил в мирные переговоры с федеральным правительством. ѕереговоры зат€нулись на мес€цы, а в это врем€ сторонники военного пути набирали всЄ большее вли€ние среди модоков. „тобы укрепить свою власть апитан ƒжек согласилс€ на их план: он устроил встречу с американскими военными лидерами, намерева€сь их всех убить. ¬о врем€ переговоров 11 апрел€ ƒжек и ещЄ несколько модоков достали пистолеты и убили двух командиров противника; апитан ƒжек самолично застрелил энби (Ёдвард энби €вл€етс€ единственным американским генералом, убитым во врем€ войн с индейцами). Ёто убийство имело совсем не тот эффект, на который рассчитывали индейцы. √енерал ƒжефферсон . ƒэвис привЄл подкрепление в 1000 солдат, и 14 апрел€ арми€ вновь атаковала крепость, выбила оттуда модоков и обратила их в бегство.
¬ следующие несколько мес€цев разрозненные группы модоков продолжали сражатьс€ с армией, часть их сдавалась. апитану ƒжеку успешно удавалось избегать военных, пока несколько модоков не согласились предать его и передать власт€м. 1 июн€ апитан ƒжек сдалс€, церемониально опустил своЄ ружьЄ. ≈го отправили в форт ламат, где 3 окт€бр€ 1873 года он был казнЄн за убийство генерала энби и других переговорщиков.
ѕосле казни апитан ƒжек был обезглавлен, а его голова пополнила коллекцию музе€ военной медицины в ¬ашингтоне. ¬ 1898 году его череп был доставлен в —митсоновский университет, а в 1984 году останки интпуаша были возвращены его родственникам.
ћетки: вожди индейцы |
спасибо |
ƒневник |
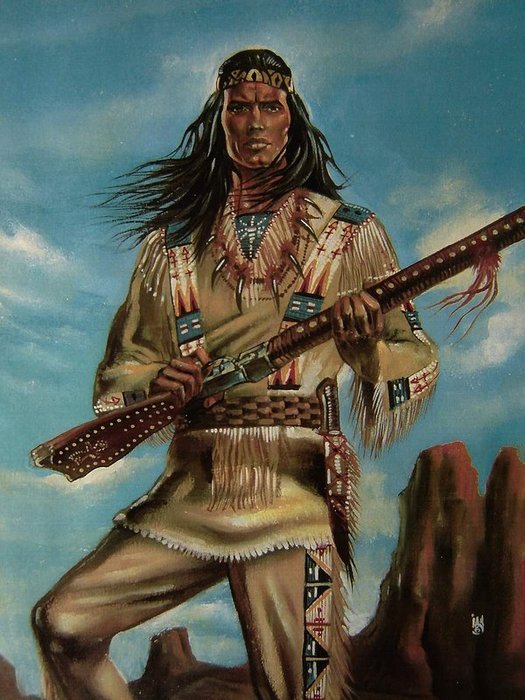
ќчень благодарен вам за интересное и нужное сообщество,случайно нашЄл вас и надеюсь надолго задержатьс€,на сайте ѕривет.ру так же есть "√ай€вата"где состою и €...думаю будем обмениватьс€ информацией...
http://www.privet.ru/community/trubka_mira может кто желает взгл€нуть..милости просим!
ћетки: индейцы сообщество |
“отемы из јл€ски и анады. |
ƒневник |


“отеми́зм Ч некогда почти универсальна€ и ныне ещЄ весьма распространЄнна€ религиозно-социальна€ система, в основании которой лежит своеобразный культ так называемого тотема.
“ермин этот заимствован у североамериканского племени оджибва, на €зыке которых totem означает название и знак, герб клана, а также название животного, которому клан оказывает специальный культ.
¬ научном смысле под тотемом подразумеваетс€ класс (об€зательно класс, а не индивид) объектов или €влений природы, которому та или друга€ первобытна€ социальна€ группа, род, плем€, а иногда и индивид Ч оказывают специальное поклонение, с которым считают себ€ родственно св€занным и по имени которого себ€ называют. Ќет такого объекта, который не мог бы быть тотемом, однако наиболее распространЄнными и, по видимому, древними тотемами были животные.
“отемы
÷итата сообщени€ ѕеруанка
ћетки: америка тотемы индейцы |
Ђ—иние мундирыї на битве при Ћиттл-Ѕигхорн |
ƒневник |

ƒо 1865 г., когда по окончании √ражданской войны регул€рна€ арми€ смогла вернутьс€ к исполнемию своих об€занностей на «ападе, граница по большей части находилась под охраной полков, сформированных на местах. роме них бнло создано еще п€ть полков так называемых Ђволонтеров —оединенных Ўтатовї, которых набирали среди пленных конфедератов, которые предпочли сражатьс€ с индейцами, а не томитьс€ в лагер€х военнопленных. ¬замен им гарантировали, что не будут использовать их в операци€х против южан. — завершением войны волонтеры были демобилизованы и в прерии вновь вернулись регул€рные войска.
јмериканска€ арми€ имела самый пестрый и разнородный личный состав ћногие приобрели вкус к армейской службе за врем€ √ражданской войны; немалое число просто сменило серый мундир на синий; иные прибыли из европейских армий; немало было и беглых преступников, скрывавшихс€ от правосуди€ - бандитов из больших городов и злостных банкротов. ј рота Ђ—ї 8-го авалерийского полка имела в своих р€дах солдат, получивших учЄную степень в √арвардском университета.
аждый кавалерийский полк состо€л из 12 рот, разделЄнных между трем€ эскадронами, по 4 роты в каждом. –ота раздел€лась на два взвода, каждый из которых состо€л из отделений по 4 человека каждое. –оты редко проходили службу все вместе. „аще роты разных полков сводили по мере необходимости в отдельные соединени€. ¬ соответствии со специальным распор€жением президента штатный состав одной роты соответствовал минимально 50, а максимально - 100 солдат при капитане и двух лейтенантах. ќднако реально редка€ рота, как в кавалерии, так и в других родах войск, достигала этого числа. “ак офицер 5-го ѕехотного полка, сражавшийс€ против сиу и северных шайеннов в 1878г., сообщает, что рота его полка насчитывала в строю едва 16 человек. ¬ случа€х подобного некомплекта они состо€ли фактически из большого единого взвода.
омандовал полком полковник с помощью подполковника. ¬о главе каждого эскадрона сто€л майор. Ёскадроны были пронумерованы цифрами, роты имели буквенные обозначени€. аждой ротой командовал капитан с помощью первого и второго лейтенантов. ”нтер-офицерский состав включал в себ€: старшего сержанта (сержант-майор), сержанта-квартирмейстера, старшего оркестранта и старшего горниста. ажда€ рота имела в своем составе одного 1-го сержанта, п€ть сержантов, четырЄх капраллв, двух горнистов, а также кузнецов, шорника и возницу. ¬ среднем против индейцев арми€ официально развернула силы до 10 970 кавалеристов. ƒезертиры, умершие и откомандированные делали, разумеетс€, эту цифру гораздо меньшей.
–оты были не только разрозненны и немногочисленны, но и личный состав в них был, в большинстве своЄм, весьма плохо обучен. ѕредполагалось, веро€тно, что ветераны √ражданской войны не нуждаютс€ в муштре, а потому зан€ти€ми с личным составом попросту пренебрегали. √арнизонный маркитант клерк ѕетер ох вспоминал, что при инспекции форта Ёллис в 1871 г. в ћонтане Ђофицеры ограничились тем, что проинспектировали несколько бутылок с шампанскимї. ѕоложение начало мен€тьс€ к лучшему в 1872 г., когда официально были введены учебные стрельбы и каждый солдат должен был ежегодно расстрел€ть на стрельбище 90 патронов с различных дистанций. Ќо серьЄзные учени€ начали практиковатьс€ в армии только после битвы при Ћиттл Ѕигхорн, результаты которой просто шокировали военное ведомство.
ќднако следует отметить, что оружие в армии всегда поддерживалось на современном уровне с момента внедрени€ в 1866 г. винтовок, зар€жающихс€ с казенной части. —тарые мушкеты —прингфилда калибра 0,58 были быстро и без труда переделаны на новый манер и приспособлены под использование унитарного металлического патрона. авалерист имел при себе несколько видов оружи€. ¬о-первых, это была легка€ кавалерийска€ сабл€ образца 1860 г. с медным эфесом, носима€ на черном кожаном по€сном ремне с пр€моугольной медной пр€жкой, на которой был изображен орел в серебр€ном венке. Ќа походе, однако, сабли зачастую снимались и сдавались на хранение. ¬ бою использовались они крайне редко. ≈динственный известный случай массированной сабельной атаки в индейских войнах на –авнинах относитс€ к 1857 г., когда таким образом были рассе€ны крупные силы шайеннов (кстати, практически без пр€мого столкновени€). обычному вооружению кавалериста относилс€ также тесак, носившийс€ на по€сном ремне.
—абл€ у кавалериста висела на левом боку, а на правом ее уравновешивал револьвер в черной кожаной кобуре. ѕервоначально это был Ђкольтї или Ђремингтонї калибра 0,44. Ёто были капсюльные револьверы, где использовались бумажные патроны, а выстрел происходил от удара курка по медному капсюлю с ртутным наполнителем. «ар€жались они довольно медленно. ¬ 1872 г. в армии была прин€та на вооружение нова€ модель Ђкольтаї калибра 0,45 - так называемый Ђмиротворецї. “ут уже примен€лс€ унитарный металлический патрон. »х выпускали не по специальному армейскому заказу, а потому 7-й авалерийский полк, например, получил это новое оружие не ранее первой половины 1874 г.
аждый солдат имел и карабин. Ёто было зар€жающеес€ с казенной части оружие, то же, что и в период √ражданской войны: винтовки системы Ўарпа, —мита, —пенсера, √аллахера и Ѕарнсайда. «десь также примен€лс€ бумажный патрон и медный капсюль (кроме систем —пенсера и √енри). »х обычным калибром было 0,52, дальнобойность весьма низкой, фактически меньшей, чем у пистолета. ¬ винтовках —пенсера и √енри употребл€лись металлические патроны и это были первые магазинные винтовки в армии. ¬ 1873 г. на вооружение поступили карабины —прингфилда - калибра 45/70 дл€ пехоты и калибра 45/55 дл€ кавалерии. ќни были однозар€дными и зар€жались металлическим патроном с казЄнной части, обладали большей скорострельностью, а дальнобойность их вдвое превышала показатели магазинных Ђвинчестеровї и Ђгенриї. ќднако 7-й авалерийский полк получил это оружие только в середине 1875 г. ќфицеры же часто использовали совершенно нетипичное оружие. ѕодполковник ƒжордж ј. астер, например, имел пару британских револьверов и охотничье ружье –емингтона, в то врем€ как генерал рук предпочитал дробовик. Ђ—прингфилдыї нередко выставл€ют одной из причин поражени€ астера, поскольку считалось, что его механизм, выбрасывающий стрел€ные гильзы, часто заклинивало. –ассказывают даже о некоем шайеннском воине, который выбросил только что захваченный им в бою Ђспрингфилдї, потому что не смог избавитьс€ от застр€вшей в механизме гильзы. ќднако археологические материалы показали крайне малый процент подобны случаев. роме того, все недостатки экстрактора Ђспрингфилдовї не помешали солдатам –ино и Ѕентина успешно отсто€ть свои позиции на –ино-’илл.
Ѕоеприпасы ко всему этому арсеналу должны были носитьс€ в особых патронных сумках - большой, носимой на ремне через плечо, дл€ патронов к карабину, и меньшей, на по€сном ремне, - с боеприпасами к револьверам. апсюли носились в небольшом черном кожаном мешочке у бедра. ќбычно их бывало два, так как капсюли разных систем оружи€ различались между собой.
–аньше бумажные патроны держались в жест€ных гильзах и хранились в патронных сумках из жесткой кожи, похожих на коробки. Ќовые металлические патроны гремели и высыпались из них во врем€ атаки, мешали незамеченными подкрастьс€ к врагу. ƒепартамент јртиллерийско-техничаекого и вещевого снабжени€ разработал поэтому новый тип патронташей - Ђпатронники ƒайераї, где патроны вставл€лись в 24 брезентовые €чейки с внутренней стороны сумки. Ќо это изобретение все же оставалось непопул€рным в войсках, где предпочитали изготовл€ть патронные по€са. —олдаты сами разрешили эту проблему, сделав на ремн€х петли, в которых и держались патроны. ѕервоначально петли эти пришивались пр€мо к кожаным ремн€м. Ќо дубильна€ кислота, которой обрабатывали кожу, вызывала коррозию медной оболочки патронов, покрывавшихс€ сине-зеленой патиной €рь-мед€нки. ¬ итоге слабело крепление гильзы и она соскакивала при зар€жании или извлечении из по€са, что вызывало опасную задержку при ведении огн€. Ќо солдаты решили и эту проблему: они либо ежедневно чистили каждый патрон, либо делали себе по€са из плотного брезента, не содержащего никаких кислот. ¬ конце 1876 г. ƒепартамент јртиллерийско-технического и вещевого снабжени€, до сих пор упорно предпочитавший сумки ремн€м, распор€дилс€, наконец, изготовить 30 000 кожаных и брезентовых по€сов Ђпрерийногої типа. ‘актически же патронные сумки уже не использовались на «ападе в течении многих лет. ј в 1877 г. ƒепартамент јртиллерийско-технического снабжени€ начал серийное производство патронных по€сов вместе с кобурой.
¬ поле кавалерист обычно сворачивал свой мундир и ст€гивал его ремн€ми у передней луки седла. “ут же привешивалось смотанное и скрепленное колышком лассо, а с противоположной стороны, к другому седельному кольцу, крепилась торба. Ќебольша€ брезентова€ сумка с овсом дл€ кон€ висела у задней луки седла. ќлов€нна€ кружка пристегивалась ремешком, пропущенным через ее ручку, р€дом с седельной сумкой. ѕоходна€ фл€га в шерст€ном, позже в брезентовом чехле, висела на ремешке на шпеньке, вбитом в дугу задней луки седла. –ацион хранилс€ в ранце, также привешенном к седлу.
они были небольшими, но крепкими, более выносливыми, чем в европейских конных полках. –ост их составл€л обычно около 1,5 м. в холке. –аспределению их по ротам в соответствии с мастью удел€лось мало внимани€.
астер писал, что в 7-м авалерийском Ђдл€ придани€ единообрази€ внешнему виду решено было посв€тить один из полудней общему обмену лошадей. –отным командирам, собранным в штаб-квартире полка, позволили, принима€ во внимание их положение, отобрать себе наиболее предпочитаемую мастьї. ќднако, это не было всеобщим €влением и не пользовалось попул€рностью среди солдат, которым при таком обмене давали коней, чьи боевые качества были им еще неизвестны, а единственное достоинство состо€ло в соответствии униформе. униформе же солдаты ƒальнего «апада относились без особого пиетета.
Ђ√енерал рук, - сообщает офицер, служивший с ним на «ападе, - не любил униформы и носил еЄ только тогда, когда этого нельз€ было избежатьї. ¬о врем€ зимней кампании 1875 г. генерал носил сапоги, Ђутвержденного правительством образца є 7; вельветовые брюки, сильно выгоревшие по кра€м, коричневую шерст€ную рубашку, блузу старого армейского образца; коричневую фетровую шл€пу с дырой на макушке; старую армейскую шинель с подкладкой из красного сукна и большим воротником из шкуры волка, собственноручно застреленного генералом. ƒополн€л его костюм кожаный ремень с 40 или 50 патронами, поддерживавшийс€ двум€ кожаными ремешками через плечої. ¬ своем пренебрежении уставной формой рук был далеко не одинок. астер пишет,что некоторых из его людей легко можно было спутать с индейцами Ђи даже при ближайшем рассмотрении прин€ть двоих из нашего отр€да за оседжей. ƒа и прочие были одеты во что угодно, только не в униформу регул€рных войскї. —ам астер обычно носил легкую серую шл€пу с низкой тульей, кожаную куртку и штаны, отороченные бахромой, темно-синюю рубаху с широким воротником, подв€занным алым галстуком. Ќа брезентовом патронном по€се у него висели кобура и нож в шитых бисером ножнах с бахромой. ѕодобную одежду, подража€ своему командиру, носили и многие другие офицеры 7-го авалерийского полка.
ѕочему же допускались отклонени€ от уставной формы одежды? ќдной из причин того было низкое качество казенного обмундировани€. Ѕольшое количество обмундировани€ было изготовлено за врем€ √ражданской войны поспешноь и из негодного материала. ѕосле войны огромное его количество скопилось на складах и избавитьс€ от него было не так-то просто, а потому квартирмейстеры не особенно обращали внимание на качество отправл€емой (сплавл€емой!) в войска экипировки.
Ќедовольство качеством, однако, вызвало лишь резкую отповедь со стороны генерал-квартирмейстера ћонтгомери ћейгса, за€вившего, что офицерам следует про€вл€ть бережливость, а не критиковать вполне пригодный и прочный материал. √енерал добавил, что это обмундирование повидало √ражданскую войну, а если у пограничных войск хватает времени на жалобы, то значит они просто мало зан€ты своим пр€мым делом.
огда нова€ униформа все-таки была произведена в достаточном количестве, что случилось около 1873 г., привычка Ђрукодельничатьї настолько укоренилась на –авнинах,что новые мундиры вскоре смешались со старыми и даже с элементами гражданской одежды,наиболее пригодными дл€ степных кампаний.
роме качества, серьезной проблемой было снабжение обмундированием гарнизонов дальних постов в стране, абсолютно лишенной приличных (и безопасных!) дорог. ¬о врем€ летней жары и солдаты, и офицеры стремились одеватьс€ как можно легче, не особенно счита€сь с уставом. ¬место кепи многие носили легкие широкополые шл€пы, первоначально черного цвета. ќдной хватало на три недели в поле, хот€ с 1876 г. качество их заметно улучшилось. —олдаты также часто покупали себе серые шл€пы с широкими опущенными пол€ми. √ражданский скаут, состо€вший при 7-м авалерийском, сообщал, что в этом полку Ђредко носили на кепи букву своей роты, поскольку в основном все носили разнообразнейшие шл€пы, но далеко не все носили эту букву и на нихї. Ѕольшинство солдат всех родов войск предпочитало оставл€ть свои головные уборы в первозданной чистоте. Ќаибольшее же разнообразие в головных уборах приходитс€ на период около 1876 г., когда у шл€пы иной раз загибали пол€ так, что она превращалась в некое подобие треуголки. ¬прочем, этот фасон продержалс€ недолго.
—ержантский и р€довой состав обычно носил небесно-голубые или иные штаны из грубой шерст€ной материи, хот€ зачастую они свободно одевали всЄ, что пожелают. апрал ƒжекоб ’орнер говорит, что в 1870-х гг. в 7-м авалерийском Ђрота Ђ ї была известна, как Ђпижонска€ ротаї. “ам все поголовно носили только белые парусиновые штаны, обычно примен€вшиес€ дл€ работ в конюшне. ¬зводный портной придавал им вид туго обт€гивающих ноги кавалерийских лосин. роме того они щегол€ли в белых рубахах с белыми же воротниками (вне службы или при выходе в город) ... и вообще всегда имели поразительный внешний видї. ћало кто реально носил желтый галстук, так хорошо известный всем по фильмам-вестернам. ¬место него многие офицеры надевали свободно пов€занный шарф.
ѕриродные услови€ прерий отличаютс€ резкими перепадами температур. ќдин из офицеров вспоминает, что зимой Ђличной одежде удел€лось особое внимание; когда € видел ртуть, застывшую в шарике на нижнем конце термометра, когда спиртовой термометр в форте —тил (¬айоминг) показывал зимой ниже 61 по ‘аренгейту, € понимал насто€тельную необходимость таких предосторожностей. ѕон€тие же Ђуниформаї приобретало тогда более чем гибкое толкование, так как уже не только лична€ прихоть, но жестока€ необходимость заставл€ла нас отбирать дл€ себ€ такие детали одежды, какие наилучшим образом могли бы защитить от лед€ного холода и пронизывающего ветраї.
¬ бою кавалери€ руководствовалась стандартным наставлением по кавалерийской тактике Ёмори јптона, выпущенным в 1874 г. ќно предусматривало в первую очередь ведение огневого бо€, когда всадники спешивались и разворачивались в стрелковую цепь, станов€ть друг от друга на рассто€нии около п€ти €рдов. ќдин человек из каждого отделени€ выдел€лс€, чтобы держать во врем€ бо€ всех четырЄх лошадей. ¬ борьбе с индейцами основной мишенью американской армии становились их кочевые стойбища. ¬ ударах по ним арми€ использовала средства из арсенала самих же индейцев. Ќападени€ совершались, как правило, на рассвете, первым делом старались отрезать селение от табунов, чтобы лишить воинов мобильности, нередко становище бралось в Ђклещиї или подвергалось концентрической атаке с разных сторон одновременно.
ѕрактически посто€нно американские войска в борьбе с Ђвраждебнымиї индейцами пользовались помощью индейцев Ђдружественныхї. ѕодчас это были воины из того же племени, с которым велась эта борьба. астера в походе и битве сопровождали скауты (разведчики) из числа индейцев кроу (апсарока) и арикара (ри) - исконных врагов сиу тетон-лакота и шайеннов, - а также несколько полукровок и даже сиу. —каутам обычно выдавалось армейское обмундирование, но нередко они шли в бой в традиционном военном убранстве своего племени. —реди скаутов - участников битвы на Ћиттл-Ѕигхорн - следует особо отметить „арльза –ейнольдса - Ђќдинокого „арлиї, франко-лакотского метиса ћайкла (Ђћитчаї) Ѕоуйера, за скальп которого —ид€щий Ѕык назначил награду в сто лошадей, а также любимого разведчика астера, воина по имени ровавый Ќож, который родилс€ от брака воина-сиу с женщиной-арикара, вырос в селении лакота, но потом вместе с матерью ушЄл к еЄ народу. ¬ св€зи с ролью скаутов следует отметить, что Ђвелика€ война сиуї была не только столкновением индейцев с цивилизацией Ђбелыхї, но и продолжением старых межплеменных распрей. ƒл€ тех же арикара и кроу главными и смертельными врагами были вовсе не американцы, а именно лакота, которые на прот€жении дес€тков лет изводили их своими жестокими набегами. ƒл€ них тот же астер был не захватчиком, а добрым союзником. Ћейтенант ƒжеймс Ѕрэдли вспоминал о том, как отреагировали кроу на известие о гибели —ына ”тренней «везды ( астера): Ђкроме родственников и близких погибшего, не нашлось никого во всей этой сорокамиллионной нации, кто восприн€л бы это известие более трагично, чем кроу Е ”слышав о случившемс€, они один за другим отходили от группы слушателей на некоторое рассто€ние, в одиночестве садились на землю и начинали плакать и, покачива€сь из стороны в сторону, петь свою жуткую ѕесню —корбиї. «наменитый вождь кроу ћного ѕодвигов оценивал Ћиттл-Ѕигхорн совершенно иначе, чем основные участники сражени€: Ђбелые солдаты потерпели неудачу, но в то же врем€ они сломили хребет нашим старым врагам Е “еперь мы могли спать не дума€, что завтра с утра нам придЄтс€ подн€тьс€ с постели и сражатьс€ - за всю мою жизнь така€ ситуаци€ сложилась впервыеї.
¬ заключение стоит сказать несколько слов о командном составе 7-го авалерийского полка. “ем более что взаимоотношени€м между офицерами приписываетс€ немала€ роль в битве при Ћиттл-Ѕигхорн. ѕолк располагал р€дом способных и опытных командиров, которые, однако, не составл€ли единой дружной команды. ¬се рассказы о 7-м авалерийском полны взаимных обвинений в пь€нстве, трусости, фаворитизме, подсиживании, зависти. —ам его знаменитый полковой командир побывал под судом военного трибунала по целому списку различных обвинений, включа€ жестокое обращение с ранеными солдатами-дезертирами своей части (им было отказано в своевременной медицинской помощи). “огда его, признав виновным, на год отстранили от службы без выплаты жаловань€. ј в 1876 г., буквально накануне экспедиции против сиу, астер дал скандальные показани€ сенатской комиссии на слушани€х дела о коррупции в военном ведомстве. ћайор ћаркус –ино, ветеран √ражданской войны, не обладавший, однако, никаким опытом борьбы с индейцами, командовал полком в отсутствие астера и интриговал против него с целью оставить командование за собой. апитан ‘редерик Ѕентин был наиболее опытным и наиболее старшим из всех офицеров полка. ќн никогда не скрывал своего презрени€ к астеру, как к военному и как к человеку. Ёто отношение усугубилось после битвы на ”ошите, когда астер не озаботилс€ поисками отбившегос€ от основных сил отр€да майора Ёллиота, в результате чего весь этот отр€д был вырезан индейцами. «ато в полку существовала и Ђклика астераї, состо€вша€ из его друзей и родственников, дл€ которых он был насто€щим идолом. этой фракции относились, например, младший брат подполковника, капитан “омас ”. астер, его з€ть лейтенант ƒжеймс олхаун, его верный адъютант лейтенант ”иль€м ”. ук, капитан “омас Ѕ. ¬ейр. ѕолк вступал в бой, раздираемый на части внутренними склоками. ќднако вр€д ли правомерно будет следовать за теми, кто приписывает гибель астера и его людей исключительно зависти и злонамеренности его неверных соратников. Ёта Ђтеори€ї относитс€ к числу тех самых многочисленных мифов, что окружают историю знаменитой битвы.

ћетки: индейцы |
Ѕумажные индейцы. |
ƒневник |
ћетки: америка индейцы |
Ќовые и старые бизоны. |
ƒневник |

„удные здесь названи€! ¬от мелькнуло озеро с финским именем ’ейккилла. “ерритори€, по которой мы ехали, зоветс€ Ѕойс-‘орт, что на самом деле французское Ѕуа-‘орт. ј направл€лись мы к племени чиппева.
“акова северна€ ћиннесота. ѕервыми на земли коренных обитателей этих мест пришли французы, оставившие здесь следы в виде географических названий. ¬ конце прошлого века по€вились финские горн€ки и фермеры. Ќу а индейцы оказались в резерваци€х, которые обычно представл€ют собой небольшие изолированные друг от друга территории. ћы же ехали в часть резервации чиппева Ѕойс-‘орт, названной по озеру Ќетт-Ћейк.
ƒикий рис
Ќа встречу с журналистами в здание администрации, точнее правительства, племени пришли многие здешние активисты, старейшины и молодежь!..
я разгл€дывал юношей и девушек, севших тесной группой у одного из концов стола. —мотрелись они вполне обычно и даже обыденно: шорты, футболки... ћало что выдавало в них краснокожих. “олько у некоторых были заметны признаки вырождени€: алкоголизм, бич большинства резерваций, оставл€ет свои следы.
¬ошла пожила€ индеанка. Ђ” нее дев€ть детей и тридцать п€ть внуковї, Ч прошептал мне на ухо “эдд ƒжонсон, главный юрист племени, который вел встречу.
я, пам€ту€ об индейской почтительности к старшим, знакомой всем по кинофильмам, ждал, что молодежь вскочит, начнет предлагать старушке место. Ќикто из них, к моему удивлению, даже не пошевелилс€. ¬от как ломаютс€ стереотипы! Ч подумал было €, и в этот самый момент директор по экономическому планированию резервации ƒевид ƒэнз внес стул и усадил многодетную мать.
иношные стереотипы в отношении индейцев все-таки живучи, и многие из них вполне соответствуют действительности. ѕомню, мой знакомый из ћиннеаполиса, имеющий дом в многорасовом квартале, где живет и немало индейцев, рассказывал: как-то в преддверии –ождества собрались местные Ђобщественникиї и решили устроить дл€ бедн€ков на праздник бесплатную кухню с обедами. Ѕелые, вспоминает знакомый, стали тут же создавать какой-то оргкомитет, черные Ч шуметь, кричать. »ндейцы, не проронив ни слова, ушли. » пропали до самого сочельника. ѕо€вились молча с палатками дл€ раздачи обедов, молча поставили их и снова разошлись. Ђ√де вы были, куда исчезли?ї Ч Ђј что? ћы ведь обо всем уже договорилисьї.
ѕоселок на берегах Ќетт-Ћейк мало чем отличалс€ по виду от остальных американских поселений. ≈динственное, что бросалось в глаза, Ч мусорные свалки, тут и там старые брошенные машины и обилие без дела слон€ющихс€ людей. Ќо как же иначе? Ч 60 процентов жителей резервации безработные.
—егодн€ плем€ насчитывает 2600 человек, на родном €зыке оджибве говор€т 38 процентов человек, понимают Ч еще 12.
Ќа майке у одной из девочек-индеанок читаю надпись: Ђћо€ сестра Ч в ¬ћ‘ї. ритическое отношение большинства индейцев к правительству хорошо известно, но при этом они самые ло€льные граждане —Ўј. »менно они дали больше всего добровольцев во всех войнах, что вела јмерика, и среди них самые большие людские потери по сравнению с другими группами населени€.
...ѕод столом вижу коробку с наклейкой: Ђќджибве инкорпорейтед, ћурхэд, ћиннесотаї. ¬от так: индейцы то ли производ€т, то ли упаковывают расходные материалы дл€ компьютеров. «а окном синеет гладь озера Ќетт-Ћейк. ј посреди него словно плавает островок —пирит-јйленд, остров ƒухов...
Ќа столе Ч вездесуща€ кока-кола, а к ней вместо поп-корна Ч така€ же воздушна€ закуска из дикого риса.
ƒикий рис, по-чиппевски Ђманоминї, традиционно был главным источником жизни индейцев в Ѕойс-‘орте. ¬одное растение zizania aquatiса, близкое дикому овсу, в естественных услови€х растет только в ћиннесоте, ¬исконсине и ќнтарио. Ќа озере Ќетт-Ћейк его собирают с каноэ с августа по ранний окт€брь. —егодн€ дикий рис считаетс€ деликатесом, он полезен дл€ здоровь€ и готовитс€ быстрее риса обычного. ≈го можно встретить в меню многих ресторанов јмерики, но только здесь, в Ќетт-Ћейк, крупнейшей его попул€ции в мире, произрастает лучший по качеству Ђманоминї. ќтсюда, из северной ћиннесоты, он разошелс€ и по другим мелководным озерам —еверной јмерики. Ќе без помощи индейцев.
ƒикий рис Ч лишь одна из культур, которыми обогатили мир коренные американцы. ј их не счесть. ѕрофессор из ћакалестер-колледжа в —ент-ѕоле, крупнейший специалист по индейцам ƒжек ”эзерфорд написал пару книг только о вкладе краснокожих в мировую цивилизацию.
ак знани€ и навыки индейцев укладываютс€ в копилку современных достижений € сам смог познакомитьс€ несколькими дн€ми ранее. Ќа окраине —ент-ѕола мне показывали мощнейшую ретрансл€ционную станцию, принимающую телевизионный сигнал со спутников и обслуживающую всю ћиннесоту. я восхищалс€ высокотехнологичным точнейшим электронным оборудованием станции, а когда мы вышли на улицу, вдруг увидел на коньке здани€ не то дерев€нную, не то пластиковую фигурку совы. Ђј это дл€ чего?ї Ч спросил €. Ђ” нас была проблема Ч как защитить мачты и Ђтарелкиї от птиц Ч они бы создавали помехи, Ч объ€снил мне технолог. Ч “ак вот, за помощью обратились к индейцам. ѕосоветовали посадить такую Ђсовуї. » Ч никаких проблем!ї
— 1975 года федеральное правительство предоставило индейским резерваци€м самоопределение, что, нар€ду со свободой политической, принесло и свободу от финансировани€. ”вы, такой экологически чистый, экзотический и уникальный продукт, как дикий рис, оказалс€ весьма слабым экономическим подспорьем. » все же, если в 1988 году бюджет племенного правительства Ѕойс-‘орт равн€лс€ 10 тыс€чам долларов, то уже в 1995-м составил 7 миллионов. аким образом?
„иппева, как и другие племена, обзавелись своим игорным бизнесом.
–еванш над бледнолицыми?
—егодн€ монополи€ Ћас-¬егаса и јтлантик-—ити на опустошение кошельков поклонников »гры вот уже несколько лет как подорвана. », похоже, окончательно. “еперь американцам, живущим где-нибудь в штате ¬ашингтон или ћиссури, вовсе не об€зательно совершать путешествие длиной в тыс€чу миль, чтобы попытать удачи у игрального автомата или за столом Ђблэк-джэкї, а можно просто отправитьс€ в ближайшую индейскую резервацию.
ѕервые индейские казино стали по€вл€тьс€ в —Ўј в 80-х годах, а сегодн€ редка€ из резерваций не имеет своего игорного центра на племенных земл€х. ¬ одной лишь ћиннесоте, где индейцев всего 49 тыс€ч из 5-миллионного населени€, действует 13 таких казино, которые вкупе стали седьмым крупнейшим работодателем штата.
Ђћистик Ћейкї (Ђ“аинственное ќзерої), расположенное в пригороде ћиннеаполиса, по словам его менеджера по маркетингу ейта Ћоумастера, крупнейшее казино на огромных просторах јмерики между јтлантик-—ити и Ћас-¬егасом. ¬ 1995 году Ђ“аинственное ќзерої принесло 120 миллионов долларов чистой прибыли и превратило владеющих им членов крошечного дакотского племени мдевакантон, живущего в резервации в Ўакопи и ѕрайор-Ћейк, в миллионеров.
» вот уже, кто в шутку, а кто всерьез, считает племенные казино в —Ўј своеобразным реваншем, который коренные американцы берут над бледнолицыми за все свои т€готы и унижени€ в течение трех последних веков и даже местью им, ибо изр€дно опустошают их кошельки.
ейт Ћоумастер не согласен с этим утверждением. ¬ известном смысле финансовый успех Ђћистик Ћейкї скорее исключение из правила. »м Ђћистик Ћейкї во многом об€зан случайности. ƒело в том, что мдевакантон по воле федерального правительства в конце прошлого века оказалось единственным индейским племенем в ћиннесоте, получившим землю в пределах городской зоны —ент-ѕол/ћиннеаполис, где сегодн€ живут два миллиона человек.
ћдевакантон, одно из семи дакотских племен (приблизительный перевод его названи€ Ч Ђте, кто живут на озере ƒуховї Ч и дал им€ казино), сегодн€ занимает территорию всего в 400 гектаров, на которой в 1969 году была создана эта сама€ молода€ и сама€ маленька€ из всех индейских резерваций —Ўј. ’от€ мдевакантон издавна жили в этих местах, многие из них были высланы отсюда после последней и самой жестокой индейской войны в ћиннесоте в прошлом веке, а многие переселились в другие резервации. —егодн€ здесь проживает около 250 человек, из которых индейцы составл€ют лишь 77 процентов.
Ѕольшинство же резерваций имеет значительно большее население и находитс€ в гораздо более отдаленных районах, как, например, Ѕойс-‘орт в дебр€х северо-восточной ћиннесоты, где на берегу озера ¬ермелион расположен игорный центр Ђ‘орчун Ѕейї, принадлежащий племени чиппева.
ќн встречает посетителей вигвамом, сооруженным у парковочной площадки среди леса. Ќа этом все Ђиндейскоеї, не счита€ трети его служащих, в которых сегодн€ порой уже не так-то просто распознать коренных американцев, в казино и заканчиваетс€. Ёто относитс€, в принципе, ко всем подобным игорным заведени€м. —егодн€ игорный комплекс Ђћистик Ћейкї Ч это два казино с залами игральных автоматов, столов дл€ блэк-джэка, дюжина магазинов (включа€ магазин индейских сувениров и ювелирный), галере€ индейского искусства, банкетный зал, четыре ресторана и зал дл€ игры в бинго. ќдних игральных автоматов в нем две с половиной тыс€чи!
Ѕлэк-джек Ч друг индейцев
»горный комплекс Ђћистик Ћейкї имеет круглую форму: она воплощает круг жизни и гармонии из мифологии индейцев. √лавный зал представл€ет собой как бы деревню, в которой постройки окружают центральный очаг. олонны вокруг зала символизируют мес€цы года. ¬нутри можно увидеть изображени€ животных, которым поклон€лись дакота, Ч орла, черепахи и, конечно, бизона, а посетителей у входа приветствует бронзовый фонтан и стату€ индеанки Ч Ђ∆енщины ¬од€ного ƒухаї Ч персонажа местной легенды.
”вы, всего этого запечатлеть не удалось: фотографировать в казино строго запрещено, а на Ђпробиваниеї разрешени€ на съемку в службе безопасности, по словам ейта Ћоумастера, потребовалось бы дн€ два. ѕри этом он подчеркнул, что к Ђћистик Ћейкї сама€ современна€ система безопасности среди всех казино мира.
„то еще выдел€ет Ђћистик Ћейкї среди прочих казино, так это отсутствие алкогол€. Ђƒела идут хорошо и без него, Ч заметил Ћоумастер, Ч «апрет же Ч это так, подстраховка на вс€кий случай. ’от€ в самой резервации спиртное и продаетс€ї. «ато сигареты в казино можно купить без налога, как и во всех индейских резерваци€х: хитросплетение американского законодательства Ч договоры у индейцев с центральным правительством были подписаны еще до создани€ штата ћиннесота, а значит, и некоторые его законы на индейцев не распростран€ютс€.
¬ казино бывает до 16 тыс€ч посетителей в день. —емь бесплатных автобусов-челноков курсируют между ѕрайор-Ћейк и центром ћиннеаполиса. Ќо дл€ более отдаленных казино, типа Ђ‘орчун Ѕейї, проблема привлечени€ посетителей стоит значительно острее. ѕоэтому там есть еще площадки дл€ гольфа, причал на озере, выступают там артисты и музыканты. Ќо главна€ приманка Ч игра Ђ¬зломай сейфї, когда среди участников, обладающих карточкой клуба (членство в котором, надо сказать, бесплатное), разыгрываетс€ цифрова€ комбинаци€, необходима€ дл€ открыти€ сейфа, в котором лежат 10 тыс€ч долларов! Ќаличные имеют особую прит€гательную силу и в јмерике.
ќколо 70 процентов прибыли Ђћистик Ћейкї идет правительству племени мдевакантон, которое только в 1995 году выплатило каждому из членов племени по... 500 тыс€ч долларов! ¬едь мдевакантон в резервации всего 150 человек, а они-то только и €вл€ютс€ владельцами казино!
Ќо это далеко не все. Ќа деньги от прибыли казино в резервации создана великолепна€ система социального обеспечени€ и медицинского обслуживани€, действует спортивный комплекс, частично финансируетс€ полици€ и пожарна€ служба округа. «арабатыва€ 500 миллионов долларов в год, казино может позволить себе создание фонда на образование членов племени, поддерживать исследовани€ в области культуры и истории индейцев в одном из колледжей, строить жилье, тратить более миллиона долларов в год на благотворительность, которой пользуютс€ как индейцы, так и не индейцы. ¬се члены племени из этой резервации могут бесплатно учитьс€ в любом университете Ч за все заплатит Ђћистик Ћейкї. –азвлекательный комплекс дает работу примерно 4 тыс€чам человек, из которых индейцы составл€ют лишь п€тую часть. ƒабы избежать проникновени€ в игорный бизнес преступников, по закону 1988 года, подтверждающему права индейцев на эту сферу де€тельности, напр€мую участвовать в доходах от нее и быть ее владельцами могут только племенные правительства. ѕоэтому все семь членов совета директоров казино Ч индейцы, которых выбирает —овет племени, сто€щий во главе резервации. ¬ прогулке по Ђћистик Ћейкї мен€ сопровождала Ўерил Ћайтфут, работающа€ одновременно и в правительстве племени, и в корпорации, управл€ющей казино. Ёто молода€ симпатична€ девушка, суд€ по ее европейской внешности, вр€д ли имеет в своих жилах хоть каплю индейской крови, хот€ ее фамили€, переводима€ как ЂЋегка€ —тупн€ї, вполне бы могла бы принадлежать насто€щему краснокожему. ј €, гл€д€ на обсыпанное бриллиантами колечко на ее руке, думал, что не только мдевакантон, но и все служащие Ђ“аинственного озераї, действительно, живут неплохо... Ќе случайно ƒжек ”эзерфорд образно окрестил индейские казино Ђновыми бизонамиї, поскольку раньше бизоны давали индейцам все и были их главным источником существовани€. ¬ конце концов те 80 миллионов долларов, что индейцы пожертвовали на музей коренных американцев в ¬ашингтоне, скорее всего и были получены ими от игорного бизнеса.
—огласно опросам, проведенным в 1992 году в нескольких штатах, публика настроена в пользу казино на индейских земл€х, но выступает против развити€ неиндейского игорного бизнеса. ѕрофессор ”эзерфорд тоже поддерживает право индейцев на казино. ’от€ и говорил мне, что, следу€ своим религиозным убеждени€м, в казино не ходит.
„то же касаетс€ самих индейцев, то, по словам менеджера Ђ‘орчун Ѕейї по маркетингу ƒжорджа —трои га, 1500 обитателей резервации Ѕойс-‘орт Ч посто€нные посетители его казино. ¬ этой резервации, где большинство индейцев либо католики, либо методисты, шестидес€тидвухлетн€€ ¬ера Ѕелт, та сама€, у которой дев€ть детей и 35 внуков, призналась, что любит азартные игры, но к существованию казино относитс€ безразлично. ќна лично мало что получает от игорного центра на земл€х ее предков, хот€ и добавила, что деньги, зарабатываемые казино, дают возможность улучшить систему образовани€. ј вот подростки Ч совсем молодые чиппева из Ќетт-Ћейк, говор€ о своих планах, назвали работу в сфере игорного бизнеса на втором месте после службы в племенном правительстве.
Ќо, по мнению профессора ”эзер-форда, Ђновые бизоныї вр€д ли долго будут оставатьс€ золотым тельцом дл€ индейцев. „исло индейских казино растет, и они утрачивают свою уникальность, а значит, со временем могут упасть и их доходы.
ѕервым признаком этого стала конкуренци€. Ћетом 1995 года после трех лет переговоров федеральные власти отклонили предложение о создании казино в ’адсоне, штат ¬исконсин. “акое решение было вынесено под давлением Ђместных жителей, выборных властей и других индейских племенї. √лавным оппонентом созданию казино в ’адсоне была јссоциаци€ индейского игорного бизнеса ћиннесоты, члены которой пр€мо за€вили, что новое казино сократит их прибыли, составив конкуренцию уже существующим.
Ч ƒа, мы были против открыти€ казино в ’адсоне, Ч призналась Ўерил Ћайтфут. Ч ¬ некоторых случа€х мы Ч друзь€, но в некоторых Ч соперники.
Ќа эту же тему на прощание € заговорил с еном “омасом, членом совета директоров Ђћистик Ћейкї и членом —овета племени. ¬стреть € этого человека в очках, с холеными усами и благородной сединой в другом месте, никогда бы и не подумал, что он индеец. “олько прическа роnу-tаil, котора€ сегодн€ в общем-то тоже перестала быть приметой исключительно краснокожих, выдавала его принадлежность к мдевакантон. Ђя думаю, что ситуаци€ изменитс€, Ч сказал он. Ч ћа€тник качнетс€ в противоположную сторонуї.
Ќо пока что, в какую бы сторону ма€тник ни качнулс€, племенные казино продолжают оставатьс€ Ђновыми бизонамиї дл€ коренных американцев и изр€дно опустошают кошельки, и не только у бледнолицых...
Ќикита ривцов
ћетки: америка индейцы |










