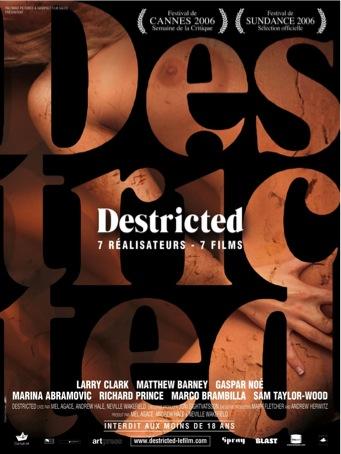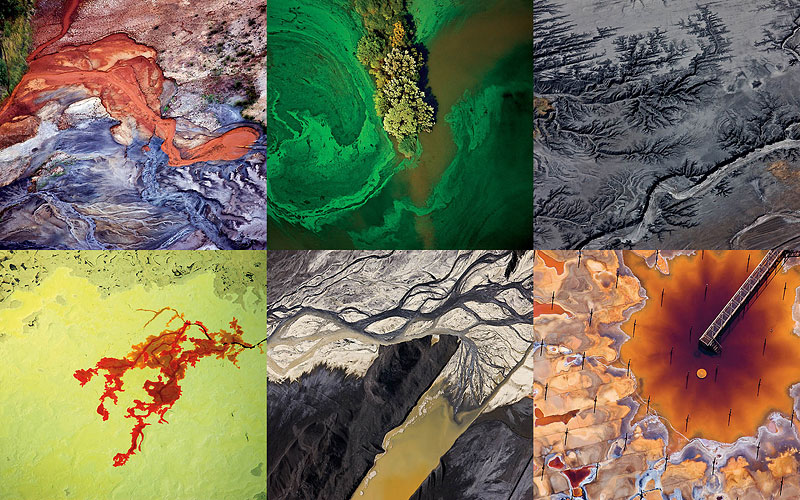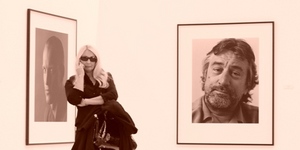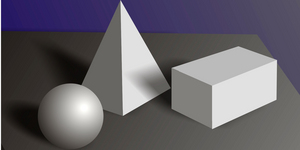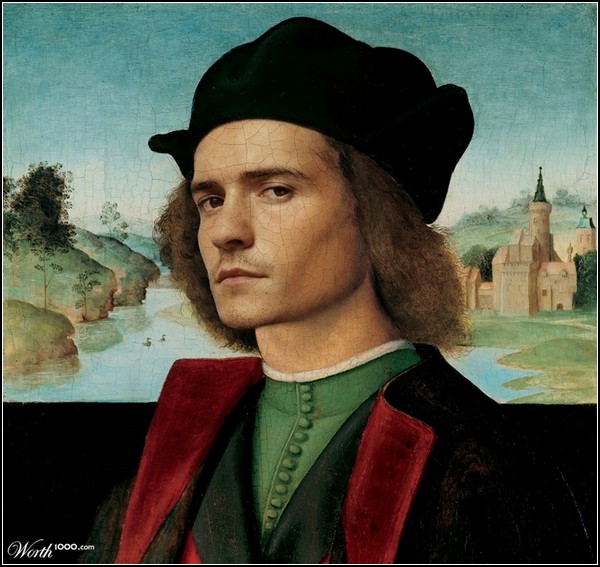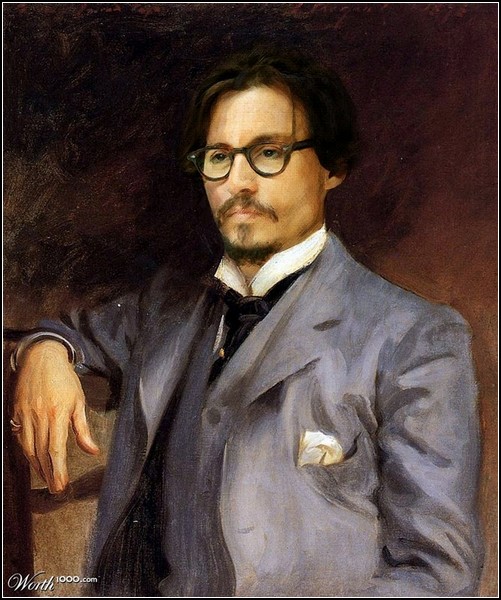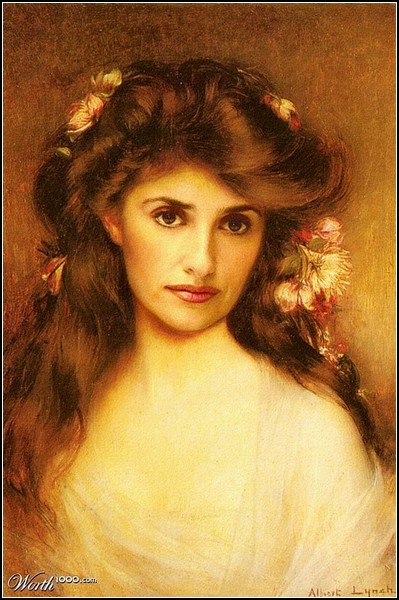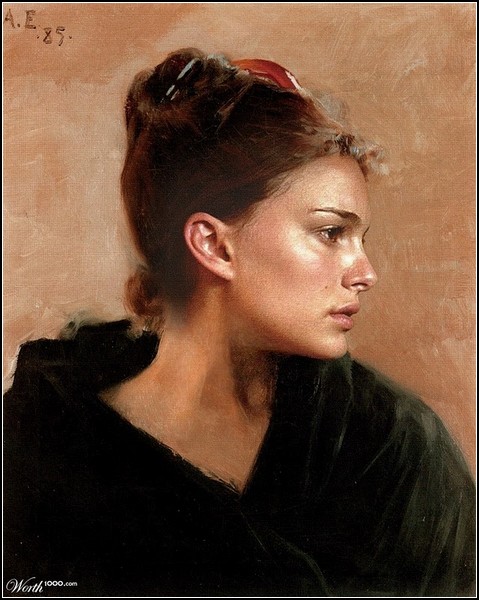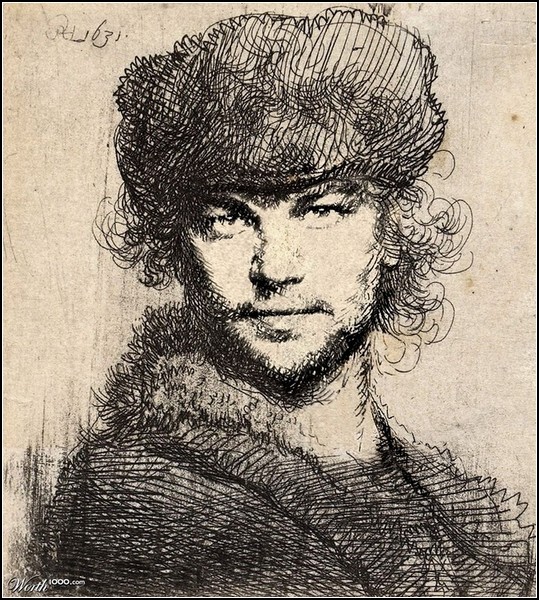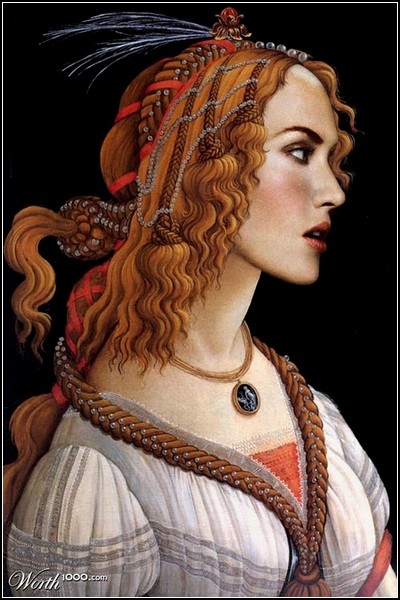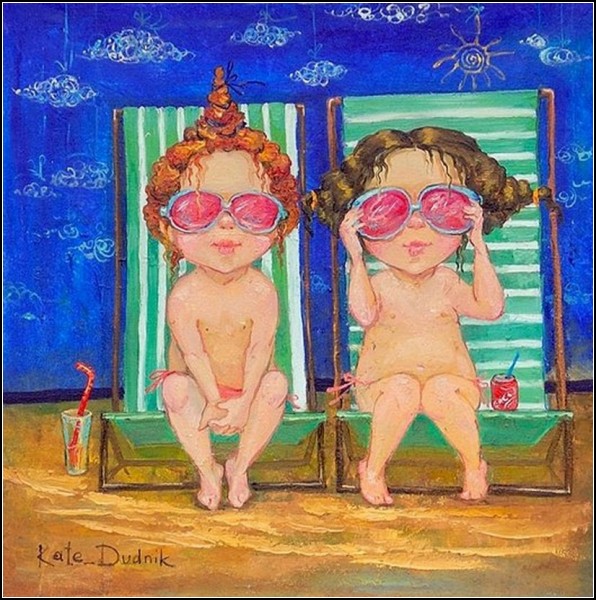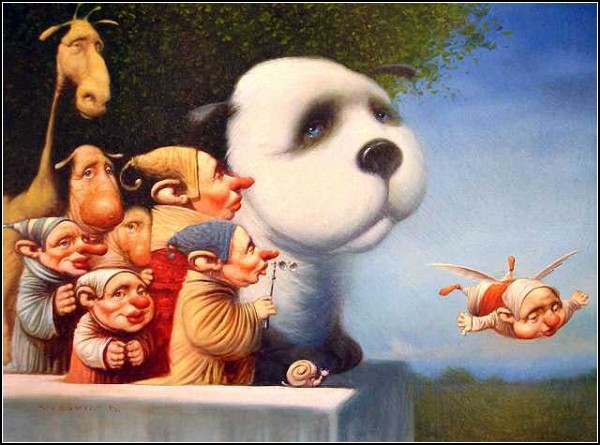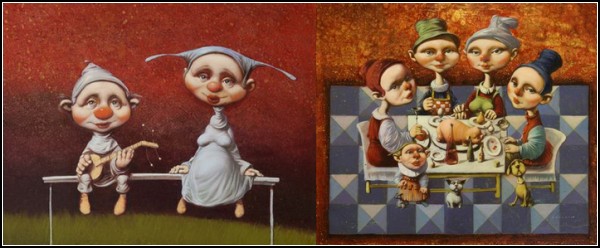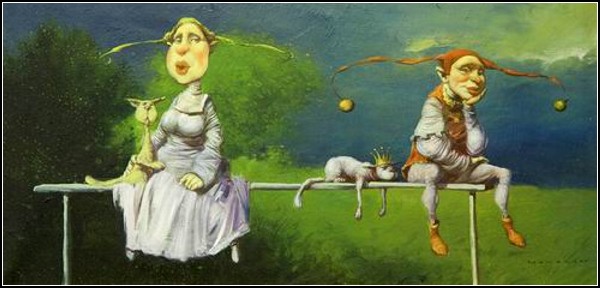|

Задолго до того как мне посчастливилось продать душу и тело Акулам Рекламного Бизнеса, я пережил недолгий, но довольно интенсивный период, пытаясь заработать на хлебушек пером и натурой.
По ночам прямо в сторожевой будке выпекались патафизические материалы для хайфского отделения газеты «Вести» (поскольку о компьютере тогда не было речи, я писал от руки, а наутро, дома, перебивал набело при помощи старенькой пишущей машинки), днем я перевоплощался в преподавателя театрального искусства для романтически настроенных старшеклассников, по вечерам в киноклубе читал лекции перед сеансами «серьезного» кино.
Несмотря на то, что этот (неполный) список на первый взгляд выглядит внушительно, на хлебушек не хватало катастрофически, поэтому как только в моей студии объявился директор одной из центральных хайфских средних школ и предложил работу, я согласился прежде, чем успел подумать и понять о чем, собственно, речь.
А речь шла о том, что мы-де наслышаны о вас и ваших революционных методах, спектакли произвели самое-пресамое впечатление, и в качестве преподавателя вас горячо рекомендуют господа Алеф и Бет, а господа Гимель и Далет готовы поддержать эту (?) идею материально — помочь с оплатой рабочих часов, декораций, костюмов и т.п.
Далее, в какой-то момент — незаметно для меня — разговор свернул в сторону жарких африканских пустынь, и добрых пятнадцать минут директор рассуждал о проблемах иммигрантов из Эфиопии.
Оказалось, что у эфиопов немало проблем, и, несмотря на то, что в какой-то момент я был готов принять все сказанное близко к сердцу, разум мой был смущен. Я некоторое время пытался ухватить кончик директорской мысли, совершившей немыслимый с моей точки зрения пируэт. Наконец, не выдержал и прямо спросил: какое отношение несчастные эфиопы имеют к театральному мастерству?
— Вот как раз об этом я и собирался сказать, — улыбнулся директор. — Итак, эфиопы… — …театр. — Верно. Эфиопы и театр. Эфиопам необходим театр…
— А театру — эфиопы, — хотел было сострить я, но осекся.
Директор говорил всерьез.
— Эфиопские дети, — продолжал он, — с большим трудом абсорбируются в израильском обществе. Лишь в призывном возрасте, к 19-20-ти годам, во время службы в армии они начинают чувствовать себя полноценными израильтянами. Мы знаем, что вы пользуетесь нетрадиционными методами — йога и тому подобное…
— Тайцзи-цюань, — поправил я.
— Вот именно! Как раз что-нибудь в этом духе нам и нужно. У нас имеются определенные трудности с обучением этих детей, и традиционные методы не работают. Мы хотим, чтобы вы организовали студию, где они могли бы — между уроками математики и иврита — отдохнуть и почувствовать, что школа — это не только наука и строгая дисциплина, но и удовольствие. Справитесь?
— Разумеется, — не моргнув глазом, соврал я.
Я был не в силах справиться, но тогда не подозревал об этом.
Я… как бы это помягче… заблуждался на свой счет.
И насчет эфиопских детей тоже.
Представление об эфиопских детях у меня было самое радужное.
При этом я вряд ли готов был признаться даже себе самому, что оно почерпнуто из мультфильма «Каникулы Бонифация», где некий лев, исполненный могучего интеллекта, мечтал поймать рыбку, а по пути на рыбалку его перехватили черненькие детки и заставили устроить цирковое представление прямо в пустыне.
И лев, бедняга, старался для них. Уж он и плясал, и жонглировал, и по канату ходил, и прочее в том же духе, но им, этим деткам, все было мало, и они требовали новых и новых впечатлений.
Не упомню, чем кончилось: возможно, лев умер от истощения или упал с каната. Хотя нет: он, верно, вел себя геройски, выдюжил до конца и уплыл на белом пароходе — радовать советских пионеров.
В этом мультфильме африканские дети были похожи на цыплячий выводок, они только и умели что таращить глазенки и сверкать белоснежной — на черном фоне — улыбкой. И аплодировать. Ходили (вернее — семенили) они гуськом, вслед за предводительницей. И предводительница — та, что повыше ростом, была единственной, чье личико имело сколь-нибудь индивидуальное выражение.

И вот, одним прекрасным утром, смутно представляя себе, что ждет меня впереди, я оказался на пороге театрального класса, и уже было занес ногу, чтобы сделать первый (опрометчивый) шаг.
В классе стояла необычайная тишина. Меня это насторожило: я привык к тому, что дети кричат. Они принимаются кричать, как только их количество достигает критической массы, и делают это до тех пор, пока у доски не появится некто, способный их перекричать.
Одно из упражнений классического цигуна так и называется: «Перекричать обезьяний хор». Дело тут вовсе не в децибелах — кричать вообще не обязательно. Нужно, однако, научиться использовать определенный тембр голоса. Что именно говорить — не важно.
Случалось мне входить в класс со словами «Да здравствует Организация объединенных наций!» или «Встать, суд идет!». Смысл первой фразы все равно ускользает, они не слышат слов. Они реагируют на голос. И только в тот момент, когда в классе образуется вакуум (полный цикл превращения занимает, как правило, около тридцати секунд), можно приступать к осмысленному разговору.
В тот раз я не обнаружил привычного акустического поля и сам очутился в неком подобии вакуума. Класс был полон. Все молчали. Я вышел к доске и повернулся к детям лицом. И остолбенел.
Вначале, на какое-то короткое мгновение мне показалось, что у них нет лиц. То есть, умом я понимал, что передо мной — маленькие черные люди, что они смотрят на меня и ждут каких-то действий, но все уловки, все приготовленные заранее рыболовные крючки оказались непригодными.
Это был шок, пограничное состояние рассудка сродни тому, что можно испытать, когда пожилой страховой агент, которому вы целиком и полностью доверяли, на поверку оказывается кровожадным чудовищем из космоса, выжидающим подходящего случая, чтобы наброситься и сожрать ваш мозг.
Эти люди не были детьми. У них были детские лица, я знал, что им всем по двенадцать, тринадцать или четырнадцать лет — мне сообщили об этом заранее, — но детьми они не были.
— Так… — сказал я и надолго задумался. Они ждали молча.
— Что ж… — сказал я. Они молчали.
— Ладно, — наконец выдавил я,
— Я преподаватель театрального мастерства. С сегодняшнего дня мы начинаем изучать профессию актера. Кто из вас может ответить на вопрос «Что такое театр?» Руку подняла девочка.
— Отлично! — обрадовался я. — Что же это такое — «театр»?
— Они не говорят на иврите, — сказала девочка. — ?..
— Здесь только я говорю на иврите. Все остальные знают иврит очень плохо. Я им перевожу.
— Ага… В таком случае не могла бы ты перевести мой вопрос?
— Нет, — серьезно ответила девочка.
— Я не знаю такого слова — «театр».
В одном из классических трудов по антропологии Леви-Стросс описывает социальное устройство амазонского племени, где самым суровым табу был запрет на употребление имени собственного.
По достижению совершеннолетия каждый получал имя, которое было известно лишь ему одному: во время обряда инициации колдун нашептывал этот Секрет Секретов на ухо, после чего мальчик становился мужчиной, и колдун немедленно забывал его имя. Жена звала мужа «муж», детей в семье называли «дети», охотника племени — «охотник», в крайнем случае — «высокий охотник» или «одноглазый охотник» — чтобы отличить одного охотника от другого. Преступников и отщепенцев называли «эй ты» или «плохой». Истинные имена использовались в одном-единственном случае: когда кто-то умирал, соплеменники участвовали в ритуале «Великого Разоблачения». Один за другим они подходили к умершему и шептали на ухо свои имена — с тем, чтобы в загробном мире он был способен различать и общаться с каждым из них непосредственно.
Подобная история может показаться забавной безделушкой, анекдотом из ТОЙ жизни — чужой (первобытной?), не имеющей к нашему ЗДЕСЬ И ТЕПЕРЬ ни малейшего отношения. И лишь когда нам приходится столкнуться с подобным явлением, что называется, нос к носу, горизонт представлений о том, каким может быть человек, существенно (и я бы сказал — НЕПОПРАВИМО) расширяется.
Беда в том, что это может произойти вдруг, внезапно, без нашего на то согласия, когда мы менее всего готовы.
Разумеется, я мог предположить заранее, что в Эфиопии далеко не все знают о том, что такое «театр»; стоило задуматься об этом днем раньше, и я наверняка сказал бы себе: «Эй! Ты собрался преподавать сценическое искусство детям, которые еще месяц назад жили в хижинах и топили печь кизяком. С какого дуба ты рухнул, человече?»
К сожалению, подобная мысль, как правило, приходит постфактум: контракт подписан, аванс уплачен, дело за результатами.
Я не мог позволить себе развернуться и уйти, хотя, признаюсь, это первое, что пришло мне в голову, когда стало окончательно ясно: эти дети не просто не знают, что такое «театр».
Они совершенно не в состоянии представить себе мир, где существуют гигантские залы с тысячами кресел, на которых сидят тысячи взрослых людей, готовых смотреть, как другие взрослые люди, подобно несмышленым детям, играют в жизнь, любовь или смерть.
Сейчас, по прошествии времени, я понимаю, что эфиопские дети мне просто-напросто не поверили. Решили, что я намеренно ввожу их в заблуждение. Ведь совершенно понятно, что ничего подобного быть не может. Или, по крайней мере, ничего подобного быть не должно.
И когда я, еще не до конца представляя насколько странными кажутся им мои слова, принялся разглагольствовать о том, что «театр» вовсе не является чем-то маргинальным, из ряда вон выходящим, предназначенным для немногих отщепенцев и идиотов, а, наоборот, явление вполне распространенное и привычное, один из них тоном человека, которому явно морочат голову, сказал, что не понимает, зачем бы такому количеству людей понадобилось валять дурака.
— Кем ты хочешь стать по окончании школы? — спросил я.
— Водителем грузовика, — без колебаний ответил он.
— Замечательно. А теперь представь себе, что у тебя появилась возможность поиграть в водителя грузовика. Почувствовать себя настоящим водителем, подержать в руках руль, увидеть дорогу, похлопать дверцами. Но только не по-настоящему, а — понарошку, понимаешь?
Мальчик внимательно посмотрел на меня и что-то негромко буркнул себе под нос. Класс взорвался. Их смех был так заразителен, что я тоже принялся хохотать, а когда все отсмеялись, спросил:
— Что он сказал? Девочка, которая до сих пор послушно переводила, насупилась и ничего не ответила.
— Ладно, — сказал я, — давайте перейдем от теории к практике. Попробуем поиграть. Вы будете называть предметы, а я буду их показывать.
Дети опять засмеялись.
— Ну хорошо, — сказал я, — сделаем по-другому: я буду показывать предмет, животное или человека, а вы будете угадывать, что я показал. Начнем с самого простого. Я высунул язык и задышал по-собачьи.
Мертвая тишина. Мальчик с «камчатки» поднял руку.
— Ты ведь знаешь, кого я пытался изобразить, не правда ли? — спросил я. — Ты показал язык, — ответил мальчик.
Помялся немного и решительно добавил:
— Зачем нужен такой урок? Чему мы можем у тебя научиться? Я тоже умею показывать язык!
— Вы можете научиться выдавать себя за кого-то другого.
— А зачем выдавать себя за кого-то другого? Разве серьезные люди так поступают?
— Конечно, именно так они и поступают.
— Я не хочу выдавать себя за кого-то другого.
— Ладно. Тогда давай просто поиграем.
— Играют маленькие. А мы уже взрослые. Мы не хотим играть.
Я задумался. Было ясно, что все мои стратегические планы — один за другим — потерпели фиаско.
— Ну ладно. Представим себе, что ты пришел в гости. Ты ведь ходишь в гости?
— Хожу.
— Например, ты пришел в гости вон к той девочке… Класс принялся хихикать, и я понял, что опять сел в лужу.
Девочка, о которой шла речь, демонстративно отвернулась.
— Ну хорошо, — в отчаянии закричал я, — не к девочке! К мальчику. К этому, например!..
На сей раз это было похоже на шквал. Торнадо! Ураган хохота! Они падали под парты, катались по полу, просто визжали от смеха.
Мне стало по-настоящему страшно. В это самое мгновение дверь кабинета приоткрылась и в узеньком просвете показалась физиономия директора. Показав мне большой палец (мол, вижу, у вас все в порядке) он лучезарно улыбнулся мне, кивнул и был таков.
Когда все, наконец, успокоились, руку подняла высокая девочка со смышленым выражением лица.
— Я не хочу заниматься театром. Можно, я буду готовиться к уроку математики?
Я был убит и выпотрошен.
Урок окончился.
На следующий день мне нужно было явиться туда снова. Я решил поступить умнее и на следующий день повел их в театр.
Это был лучший тактический ход из всех, что можно было придумать, чтобы отсрочить мгновение, когда я вновь окажусь лицом к лицу с тремя десятками маленьких черных людей, не желающих верить в существование театральных подмостков, а стало быть — и в мое собственное существование.
В их присутствии я чувствовал себя маленьким и беззащитным, а толстый-толстый слой культурного багажа, привычный и уютный, напоминал не королевскую мантию, а шутовские лохмотья. Поэтому первое, что мне пришло в голову, как только удалось преодолеть последствия шока, — призвать на помощь авторитет «большой культуры».
Так обиженный школьник зовет на подмогу старшего брата, чтобы тот наглядно объяснил сверстникам, кто тут «тварь дрожащая», а кто «право имеет».
Не погрешив против истины, скажу, что это был лучший спектакль из всех, что я видел в Израиле.
Действие длилось что-то около часа, и в течение этого часа никто из персонажей не произнес ни единого слова. Зато было много музыки, пластики, нестандартных сценических решений. В то время я был страстным почитателем Патриса Пави и Ежи Гротовского, «The Living Theatre», а если оглянуться назад — Арто и Ходоровского, Ионеско и Беккета.
Меня совершенно не привлекала ретро-аура «психологической драмы», туповатая проза традиционной израильской комедии или виртуозные костюмные шоу наподобие ленкомовских.
Говоря о театре, я имел в виду театр внутренний, локальный, равно удаленный от литературы и цирка. На сегодняшний день театр меня не интересует вообще — ни в каком виде.
Я забыл, когда последний раз был в театре, и мне совершенно не хочется об этом вспоминать. Было время, когда я свято верил в то, что театр способен оказаться аналогом коллективного медитативного действия или молитвы, живым ритуалом, инструментом изменения сознания. Я больше в это не верю.
По окончании первого (и последнего) моего урока, оплаченного Министерством Образования, я позвонил директору школы:
— Помнится, вы говорили, что в нашем распоряжении имеются финансовые ресурсы?
— Вот уж не думал, что они нам потребуются так скоро…
— Завтра мы идем в театр, и билеты лучше заказать заранее.
Я пришел в школу на час раньше, чтобы убедиться в том, что билеты заказаны, автобус стоит у ворот, дети готовы к отбытию, театр не погорел, а дневной спектакль — присутствует в расписании.
Теперь уж и не упомнить названия этого спектакля. Почему-то, когда я думаю об этом, в памяти всплывает слово «Аназапта», хотя точно знаю, что «Аназапта» — название фильма, никакого отношения к спектаклю не имеющего. Спектакль назывался по-кэрроловски, что-то вроде «Брандашмыга» или «Бармаглота»… Может быть, «Асклезия» или «Растегея». Или «Мирпесона»…
Что-то в этом роде… Когда мои любознательные спутники спросили что, означает название, я честно и откровенно ответил, что не имею ни малейшего понятия.
К тому моменту, как мы оказались в зрительном зале, детки мои, кажется, начали верить в то, что я не мошенник и прощелыга, и даже принялись позыркивать на меня не то, чтобы совсем уважительно, но и без давешнего пренебрежения. Я, разумеется, старался сделать вид, что все и всех тут знаю: за руку здоровался с актерами, рассказывал о сценах из спектаклей, которые были изображены на стендах и афишах, раскошелился на мороженое (деньги мне так и не вернули) и подробно объяснил смысл трех театральных звонков. Нам достались хорошие места. Зал, несмотря на дневной сеанс, был полон. Во время спектакля я то и дело поглядывал на своих соседей, наблюдая за реакцией. Они смотрели внимательно, изредка перешептываясь. Смешные места игнорировали — не смеялись. Страшные их смешили или оставляли равнодушными. Фрагменты, которые, по замыслу режиссера, должны были тронуть зрителя до глубины души, вызывали у них противоречивую реакцию: кто-то хихикал, кто-то смотрел с удивлением и даже некоторой брезгливостью. Музыка не произвела никакого впечатления. Засмеялись (вместе!) они всего однажды: когда один персонаж ударил другого по голове пять раз подряд. Диванным валиком. Когда спектакль окончился, я посадил их в фойе — в кружок, и принялся расспрашивать. Спектакль им понравился. Театральное искусство они по-прежнему изучать не хотели. Категорически. Тогда-то я и уяснил окончательно, что не справился. Но, уже уяснив и смирившись с результатом, хотел разузнать напоследок, в чем тут дело. И мне объяснили, наглядно и доступно:
— Разве ты сам не видишь, что в твоем театре нет ни одного эфиопа? Все актеры — белые. Все зрители — белые. Мы думаем, что это место — не для нас.
— Так ведь тут никогда и не будет ни одного эфиопа, если все станут думать, как вы.
— Тут никогда не будет ни одного эфиопа. Потому что все эфиопы думают так, как мы.
— Но ведь это ужасно…
Они засмеялись и принялись переговариваться между собой. Потом мальчик — тот самый, что хотел быть водителем грузовика, сказал:
— Ты хороший, но глупый. И театр твой — глупый. И люди, которые ходят сюда — глупые. Мы думаем, что ЭТО ужасно.
— Но ведь и в Эфиопии тоже есть колдуны, какие-то ритуалы, магия. Праздники, где люди переодеваются животными… Дети возмущенно зашумели:
— Это — очень глупые люди. Они не знают математики. Они не работают. Они только и делают, что спят, едят и занимаются ерундой.
И девочка, та самая, что знала иврит, добавила, окончательно расставив все точки над «и»:
— Они не евреи.
Вечером того же дня я позвонил директору школы и отказался от должности. Как ни странно, он ничуть не удивился и не был раздосадован: — Я так и понял, что у вас не заладилось… Но ничего. Я вот думаю: может, стоит пригласить учителя рисования…
У вас есть кто-нибудь на примете?
На примете у меня не было никого.

ДМИТРИЙ ДЕЙЧ
| 










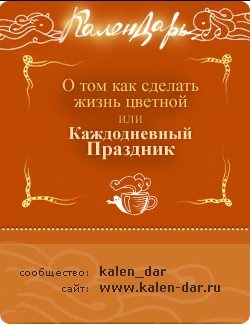

























 Блог для Вас олицетворяет возможность высказать для широкой аудитории те разнообразные мысли, которые так и роятся в Вашей голове. И не важно, рецензия ли это на очередной фильм Михалкова или секреты, с помощью которых только и можно приготовить печень трески-алкоголички. Тем не менее, Ваши суждения взвешены и во многих случаях верны. Но при этом Вы редко вступаете в ожесточённые споры, ведь Ваш девиз: «С дураком спорить – только нервы тратить!» И это философское отношение помогает Вам как в блогосфере, так и за её пределами.
Блог для Вас олицетворяет возможность высказать для широкой аудитории те разнообразные мысли, которые так и роятся в Вашей голове. И не важно, рецензия ли это на очередной фильм Михалкова или секреты, с помощью которых только и можно приготовить печень трески-алкоголички. Тем не менее, Ваши суждения взвешены и во многих случаях верны. Но при этом Вы редко вступаете в ожесточённые споры, ведь Ваш девиз: «С дураком спорить – только нервы тратить!» И это философское отношение помогает Вам как в блогосфере, так и за её пределами. Для Вас блог – очередное увлечение, охватившее Вашу пылкую натуру. Вы периодически делитесь с френдами собственными проблемами и радостями и одновременно охотно вникаете в то, что волнует их. И не беда, если иной раз после Вашего данного от души совета небольшой скандал в семье Вашего сетевого друга (или подруги) выльется в заявление на развод. Именно Вы потом и найдёте способ помирить супругов! Как и для всех романтиков, для Вас самое главное – искренность и в жизни, и в блоге. Ваш девиз: «И снова ветер наполняет паруса!»
Для Вас блог – очередное увлечение, охватившее Вашу пылкую натуру. Вы периодически делитесь с френдами собственными проблемами и радостями и одновременно охотно вникаете в то, что волнует их. И не беда, если иной раз после Вашего данного от души совета небольшой скандал в семье Вашего сетевого друга (или подруги) выльется в заявление на развод. Именно Вы потом и найдёте способ помирить супругов! Как и для всех романтиков, для Вас самое главное – искренность и в жизни, и в блоге. Ваш девиз: «И снова ветер наполняет паруса!»






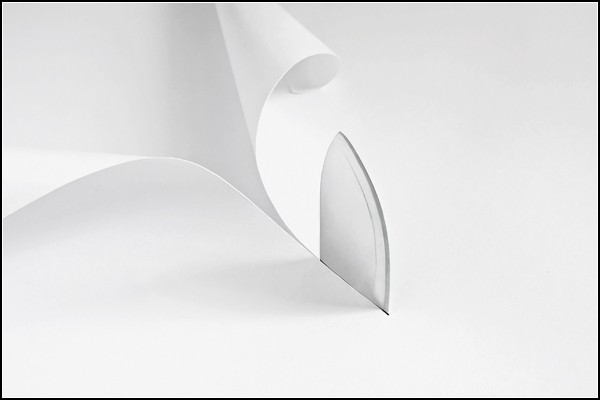

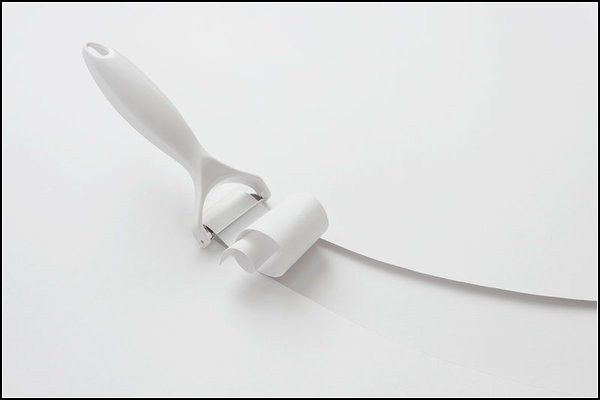
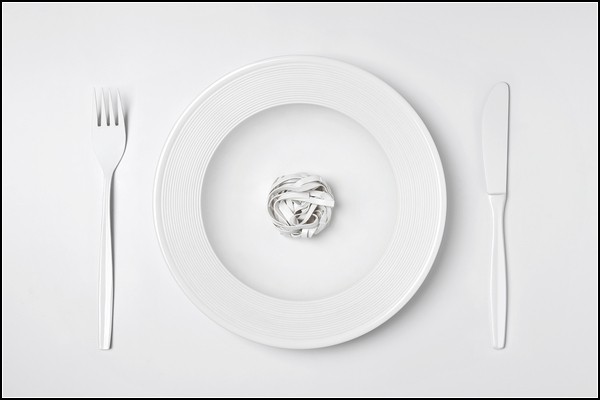
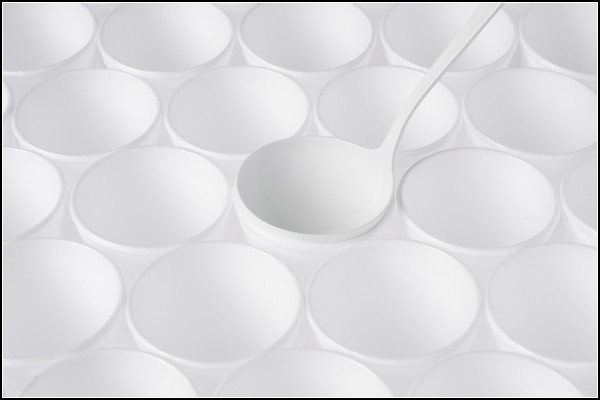




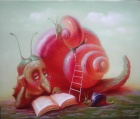



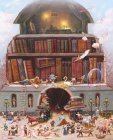
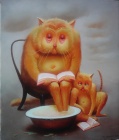

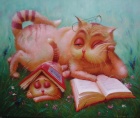


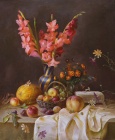













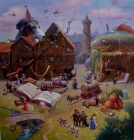


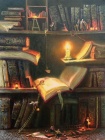










 я принёс тебе подарок -
я принёс тебе подарок -