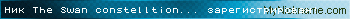"ѕризнани€ о потер€нной юности"
"»де€ обучени€ по принципу вседозволенности показалась привлекательной моей матери, принадлежащей к богеме, когда мне было четыре года. ¬ √ринвич-¬иллидж она отыскала маленькую частную школу, владельцы которой раздел€ли ее взгл€ды, и была очень счастлива, пристроив мен€ туда. «наю, что с ее стороны это был акт материнской любви, но, веро€тно, это худшее, что она когда-либо дл€ мен€ сделала. Ёта школа - € буду называть ее "ћоре и песок" - казалась привлекательной в глазах других таких же родителей, принадлежащих к высшим сло€м среднего класса, которые стремились дать своим дет€м вырасти вне того посто€нного гнета, которому подвергались в свое врем€ они сами.
"ћоре и песок" была школой, где ученики не знали ни забот, ни трудностей. » это была как раз така€ школа, какие по праву вызывают наибольшие опасени€ у людей,-призывающих нас вернутьс€ к первоосновам. «десь € обрела свободу - свободу не учитьс€. ¬ школе работали п€тнадцать женщин и один мужчина, преподававший "точные науки". ќни были вполне достойные люди, некоторые из них старые, другие молодые и все, как один, преданные идее культивировать врожденные творческие способности, которые, по их убеждению, были в нас заложены. ќгромное внимание удел€лось художественному образованию, однако техника нам не преподавалась, поскольку любой вид организации мешает творчеству.
¬ принципе на различные учебные предметы отводилось определенное количество часов, но мы имели право пропускать любой урок, который был нам не по душе. ‘актически весь метод школы строилс€ на том, что нам нельз€ было досаждать, нас нельз€ было огорчать или заставл€ть соревноватьс€ между собой. Ќи контрольных работ, ни экзаменов не было. ≈сли мне надоедало заниматьс€ математикой, мен€ мирно отпускали в библиотеку сочин€ть рассказы. »сторию мы изучали путем воспроизведени€ самых маловажных ее элементов. ¬ течение одного года мы толкли кукурузу, строили вигвамы, ели буйвол€тину и выучили два индейских слова. Ёто была ранн€€ истори€ јмерики. Ќа другой год мы мастерили причудливые костюмы, лепили горшки из глины и богов из папье-маше. Ёто была культура √реции. ј еще через год мы все изображали прекрасных дам и закованных в броню рыцарей, и это означало, что мы изучаем средневековье. ћы пили апельсиновый сок из олов€нных кубков, но так и не узнали, что такое средние века. ќни остались дл€ мен€ некой terra incognita.
я усвоила, что гунны перед сражением протыкали вены своим лошад€м и выпивали кварту крови, но нам никто так и не рассказал, кто такие были гунны и зачем нам о них вообще нужно знать. ј в год ƒревнего ≈гипта, когда мы все строили пирамиды, € создала фреску длиной в дес€ть метров, дл€ которой прилежно скопировала иероглифы на лист коричневой бумаги. Ќо € так и не узнала, что они значат. ќни были просто прелестны сами по себе.
ћы посв€щали массу времени творчеству, потому что наши менторы, неизлечимые оптимисты, говорили нам, что именно в нем заключаетс€ счастье. ¬ыучились читать мы только в третьем классе, поскольку считалось, что слишком раннее чтение тормозит творческую спонтанность. Ќо одному нас обучили весьма успешно - ненавидеть интеллектуальность и все, что с ней св€зано. —оответственно нас в течение дев€ти лет заставл€ли быть творческими личност€ми. » тем не менее школа "ћоре и песок" не сумела сделать из нас людей искусства. „ем мы действительно занимались, так это посто€нными размышлени€ми по поводу межличностных отношений, и поскольку мы полагали, что все учение сводитс€ к этому, то соответственно были счастливы. Ќапример, в дес€ть лет были практически неграмотны, но зато могли заключить, что –аймонд "самовыражаетс€", когда в середине того, что у нас считалось уроком английского €зыка, он начинал отпл€сывать на парте.
ћы говорили, что Ќина - интроверт, потому что она вечно старалась забитьс€ в дальний угол. Ќо когда мы покинули стены школы, недавние счастливые дети оказались никому не нужными. ” нас по€вилось ощущение своей полной никчемности. „то уж говорить о наших родител€х? ѕосле всех истраченных денег, после свободы и заботы, которой мы были окружены в школе, у нас оказалось столько же шансов попасть в старшие классы, сколько у реб€т из самой бедной школы городских трущоб. » это действительно было так. уда бы мы ни пытались поступать, мы неизбежно оказывались слабо подготовленными и недостаточно развитыми в культурном отношении.
Ќекоторым из нас реальна€ жизнь оказалась не по силам. ќдин из моих школьных друзей покончил с собой два года назад, после того как его в двадцать лет исключили за неуспеваемость из самой слабой школы в Ќью-…орке. Ќекоторые другие оказались в психиатрических лечебницах, где пользовались полной свободой творчества во врем€ курса трудовой терапии.
„то касаетс€ мен€, то когда € училась в старших классах, школьный психолог был встревожен недостатком у мен€ необходимого запаса знаний. ќн предложил матери подвергнуть мен€ серии психологических тестов, чтобы вы€снить, почему € не воспроизвожу информацию. ¬с€ проблема, однако, заключалась в том, что мне было нечего воспроизводить. Ѕольшинство моих одноклассников по школе "ћоре и песок" испытывали те же трудности, вызванные серьезными пробелами в знани€х. ћои способности схватывать прочитанный материал находились на самом низком уровне, и в этом не было ничего удивительного. ѕреподаватели часто интересовались, как мне удалось поступить в старшие классы. ќднако € сумела, хот€ и с большим трудом, осилить не только среднюю школу, но и высшее образование (сначала закончить двухгодичный колледж, потому что на полный курс обучени€ мен€ нигде не хотели принимать, а потом Ќью-…оркский университет), испытыва€ к науке то неизменное отвращение, которое мне было привито в школе. ћен€ до сих пор поражает, что € получила степень бакалавра гуманитарных наук, и € предпочитаю считать себ€ бакалавром естественных наук.
–одители моих бывших одноклассников не могут пон€ть, что произошло. ќни посылали в школу смышленых, любознательных детей и через дев€ть лет получили назад беспомощных подростков. то-то может сказать, что те из нас, кто оказались неудачниками стали бы ими при всех услови€х, но когда вы год за годом наблюдаете у выпускников школы одни и те же отклонени€ в поведении, у вас есть основани€ дл€ определенных и притом достаточно пугающих выводов. ј теперь € вижу, как мой двенадцатилетний брат, который, кстати, учитс€ в традиционной школе, решает математические задачи из программы колледжа, и знаю, что он обогнал мен€ не только в математике. » € могу видеть моего п€тнадцатилетнего брата, который успешно учитс€ в традиционной школе, потому что мо€ образумивша€с€ мама забрала его из "ћор€ и песка" в восьмилетнем возрасте и он не стал таким, как €. —ейчас, проучившись семь лет, он делает отличные документальные фильмы дл€ проекта, св€занного с 200-летием —Ўј. ≈го обучение не свелось к игре в переселенцев в течение четырех с половиной мес€цев и в индейцев в течение еще четырех с половиной мес€цев, чем, насколько € понимаю, они занимались на прот€жении того года, что он провел в "ћоре и песке".
» теперь € понимаю, что действительна€ задача школы заключаетс€ в том, чтобы увлечь ученика многообразием знаний, а если увлечь не удаетс€, то вт€нуть его в этот процесс насильно. » жаль, что со мной так не поступили".
ћара ¬олынски, журнал "Ќьюсуик" 30 августа 1976 года
ѕо€снение от Ќ.». озлова
Ќаши читатели традиционно путают двух разных людей. јлександр Ќилл, основатель школы —аммерхилл в Ўотландии, автор книги "—аммерхилл - воспитание свободой", к нему претензий практически нет. ј вот ј.—. Ќейл из —прингхиллской прогрессивной школы на востоке —Ўј и его последователь Ѕернстайн - совсем другие люди, это радикалы, и основной ворох претензий идет в их адрес. ј имена похожие: ј.Ќилл и ј.—. Ќейл...