Нашла потрясающе интересный форум по средневековью...Уже скачала там книгу про тамплиеров и сейчас читаю выдержки из исторических и документальных материалов! Всем любителям очень рекомендую - масса интересного по любому вопросу...
http://sherwood.clanbb.ru/viewforum.php?id=26
А я тем временем предлагаю вашему вниманию выдержки из интересного труда кандидата
исторических наук О. Андреева "Средневековье: культ прекрасной дамы".....)))
***
СКОЛЬКО СТОИТ ПЕРВОРОДНЫЙ ГРЕХ
Средневековье отвело женщине очень скромное, если не сказать
ничтожное, место в стройном здании социальной иерархии. Патриархальный
инстинкт, традиции, сохранившиеся еще со времен варварства, наконец,
религиозная ортодоксия - все это подсказывало средневековому человеку
весьма настороженное отношение к женщине. Да и как еще можно было к ней
относиться, если на священных страницах Библии рассказывалась история о
том, как злокозненное любопытство Евы и ее наивность довели Адама до
греха, имевшего столь ужасные последствия для рода человеческого?
Поэтому вполне естественным казалось возложить всю тяжесть
ответственности за первородный грех на хрупкие женские плечи.
Кокетство, изменчивость, легковерие и легкомыслие, глупость,
жадность, завистливость, богопротивная хитрость, коварство - далеко не
полный список нелицеприятных женских черт, ставших излюбленной темой
литературы и народного творчества. Женскую тему эксплуатировали с
самозабвением. Библиография ХII, ХIII, ХIV веков полна
антифеминистических произведений самых разных жанров. Но вот что
удивительно: все они существовали рядом с совершенно иной литературой,
которая настойчиво воспевала и славила Прекрасную Даму.

Но сначала поговорим о социальном статусе женщины.
Средневековье заимствовало его из знаменитого Римского права, которое
наделяло ее, по сути, единственным правом, вернее, обязанностью - рожать
и воспитывать детей. Правда, Средневековье наложило на этот безликий и
бесправный статус свои особенности. Поскольку главной ценностью при
тогдашнем натуральном хозяйстве была земельная собственность, то женщины
зачастую выступали в качестве пассивного орудия для захвата земельных
владений и прочей недвижимости. И не нужно обольщаться героизмом
рыцарей, завоевывающих руку и сердце возлюбленных: они не всегда делали
это бескорыстно.
Совершеннолетним возрастом, позволяющим вступать в брак,
считалось 14-летие для мальчиков и 12-летие для девочек. При таком
положении вещей выбор супруга целиком зависел от родительской воли.
Неудивительно, что освященный церковью брак для большинства становился
пожизненным кошмаром. Об этом свидетельствуют и тогдашние законы, очень
подробно регламентирующие наказания для женщин, убивших своих мужей, -
видимо, такие случаи были не редкостью. Доведенных до отчаяния
преступниц сжигали на костре или закапывали живьем в землю. А если еще
вспомнить, что средневековая мораль настоятельно рекомендовала жену бить
и желательно почаще, то легко представить, как "счастлива" была
Прекрасная Дама в своей семье.

Типичны для той эпохи слова доминиканского монаха Николая
Байарда, писавшего уже в конце XIII века: "Муж имеет право наказывать
свою жену и бить ее для ее исправления, ибо она принадлежит к его
домашнему имуществу". В этом церковные воззрения несколько расходились с
гражданским правом. Последнее утверждало, что муж может бить жену, но
только умеренно. Вообще, средневековая традиция советовала мужу
относиться к жене, как учитель к ученику, то есть почаще учить ее
уму-разуму.
БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
К браку в это время относились противоречиво и, на современный
взгляд, странно. Далеко не сразу церковь вообще сумела найти достаточно
оснований, чтобы оправдать брак как таковой. Очень долго считалось, что
настоящим христианином может быть только девственник. Эта концепция,
впервые сформулированная Святым Иеронимом и папой Григорием Великим,
безоговорочно принималась церковью. Однако уже Блаженный Августин на
рубеже IV и V веков утверждал, что брак все-таки не так уж плох. Святой
отец тоже признавал превосходство девственников над женатыми, но считал,
что в законном супружестве плотский грех превращается из смертного в
простительный, "ибо лучше вступить в брак, чем разжигаться". При том
строго оговаривалось, что в браке соитие должно совершаться не ради
наслаждения, а только с целью рождения детей, у которых, коли они будут
вести праведную жизнь, появляется шанс заменить в раю падших ангелов.
Такой взгляд возобладал в церковных кругах лишь в начале IX
века, и с той поры брачные союзы стали освящать таинством венчания. А
прежде отсутствовало даже само понятие - "брак". Семьей называлось более
или менее постоянное совместное проживание многочисленных родственников
со стороны "мужа". Количество "жен" никак не нормировалось; более того,
их можно было менять, отдавать во временное пользование друзьям или
кому-то из родни, наконец, просто выгнать. В Скандинавских странах жена,
даже уже венчанная, длительное время вообще не считалась родственницей
мужа.

Но и после того, как церковь стала освящать брак, общественная
мораль строго делила брачные отношения (более похожие на политический,
юридический и финансовый договор) и подлинную любовь. Так, например,
одна из высокородных дам XII века Эрменгарда Нарбоннская на вопрос, где
привязанность сильнее: между любовниками или между супругами, - ответила
так: "Супружеская привязанность и солюбовническая истинная нежность
должны почитаться различными, и начало свое они берут от порывов весьма
несхожих".
Главное, что требовалось от женщины в браке, - рождение детей.
Но сия благословенная способность часто оказывалась для средневековой
семьи не благом, а горем, так как сильно осложняла процедуру
наследования имущества. Делили добро по-всякому, но самым
распространенным способом распределения наследства был майорат, при
котором львиную долю имущества, прежде всего земельные наделы, получал
старший сын. Остальные сыновья либо оставались в доме брата в качестве
приживалов, либо пополняли ряды странствующих рыцарей - благородных, но
нищих.
Дочери и жены долгое время вообще не имели никаких прав на
наследование супружеского и родительского имущества. Если дочь не
удавалось выдать замуж, ее отправляли в монастырь, туда же шла и вдова.
Только к XII веку жены и единственные дочери приобрели право
наследования, но и тогда (и много позже) они были ограничены в
возможности составлять завещания. Английский парламент, например,
приравнивал их в этом отношении к крестьянам, бывшим собственностью
феодала.
Особенно тяжело приходилось девушкам-сиротам, они целиком
попадали в зависимость от опекунов, редко испытывавших родственные
чувства к своим подопечным. Если же за сиротой стояло большое
наследство, то ее брак обычно превращался в весьма циничную сделку между
опекуном и предполагаемым женихом. Например, английский король Иоанн
Безземельный (1199-1216), ставший опекуном малютки Грейс, наследницы
Томаса Сейлби, решил отдать ее в жены брату главного королевского
лесничего Адаму Невилю. Когда девочке исполнилось четыре года, тот
заявил о своем желании немедленно вступить с ней в брак. Епископ
воспротивился, сочтя такой брак преждевременным, однако во время его
отсутствия священник обвенчал новобрачных. Грейс очень скоро овдовела.
Тогда король за 200 марок передал ее в жены своему придворному. Однако и
тот вскоре скончался. Последним мужем несчастной стал некий Бриан де
Лиль. Теперь предприимчивый король получил уже 300 марок (Грейс, видимо,
росла и хорошела). На сей раз муж прожил долго, имел зверский характер и
постарался, чтобы жизнь его жены не была сладка.
Несмотря на явный родительский и опекунский произвол, церковный
обряд венчания предполагал сакраментальный вопрос: согласна ли невеста
вступить в брак? Мало у кого доставало смелости ответить "нет". Впрочем,
не бывает правил без исключений. Один из испанских королей на дворцовом
приеме объявил, что выдает дочь, шестнадцатилетнюю красавицу Урсулу,
замуж за своего маршала, которому к тому времени было далеко за 60.
Мужественная девушка во всеуслышание отказалась от брака с престарелым
маршалом. Король тут же заявил, что проклинает ее. В ответ принцесса,
прежде известная своею кротостью и набожностью, сказала, что немедленно
покидает дворец и пойдет в публичный дом, где станет зарабатывать на
жизнь своим телом. "Я заработаю много денег, - добавила Урсула, - и
обещаю воздвигнуть на главной площади Мадрида памятник своему отцу, по
великолепию превышающий все памятники, когда-либо стоявшие на земле".
Обещание она сдержала. Правда, до публичного дома все-таки не дошла,
став наложницей какого-то знатного вельможи. Но когда отец умер, Урсула
действительно воздвигла на свои средства пышный памятник в его честь, на
несколько веков ставший чуть ли не главным украшением Мадрида.
История отчаянной принцессы на этом не закончилась. После
смерти короля на престол взошел брат Урсулы, тоже вскоре скончавшийся.
Проклятая дочь по правилам испанского престолонаследия стала королевой
и, как в сказке, правила долго и счастливо.

-Метки
-Рубрики
- Рукоделие (397)
- Вязание крючком (77)
- Швы (25)
- Вышивка крестиком (18)
- Мидзухики (4)
- Кулинария (246)
- Торты (28)
- Лаваш (11)
- Рыба (10)
- Здоровая пища (8)
- Салаты без майонеза (7)
- Напитки безалкогольные (3)
- Будь здоров! (201)
- ЖЗЛ (146)
- tunnideks (139)
- История (133)
- Короли и королевы Франции (23)
- Короли и королевы Англии (13)
- Романовы (12)
- Фаворитки и фавориты (5)
- Музыка (105)
- Виртуальные путешествия (99)
- Мой любимый Крым (33)
- Замки Луары (10)
- Псков (9)
- Виртуальные прогулки по... (5)
- Замки Шотландии (5)
- Эдем (70)
- Сады и парки (7)
- Английский сезонный сад (6)
- География (51)
- Искусство (47)
- Маленькое чёрное платьеце (3)
- Загляни в себя (41)
- Победи в себе дракона (13)
- Силы, влияющие на сознание. О.Г.Торсунов (4)
- Музыка жизни (39)
- "Музыка жизни" (10)
- Дела рук человеческих (37)
- Фотошоп (1)
- Природа (30)
- Полезные ссылки (28)
- Гифки и украшательства для презентаций (27)
- Развлечения (26)
- Тесты (11)
- Романы и романсы (26)
- Пушкин А.С. (6)
- Колчак А.В. (3)
- Мои поделУшки (24)
- Мысль дня (22)
- Любимые цитаты из прочитанного (18)
- Что за чудо эти сказки! (16)
- Сказки Сергея Воронина (5)
- Модерн (13)
- Мои фотографии (9)
- Оказывается (7)
- Стихотворения (5)
- минералы и ювелиры (5)
- аудио (2)
-Музыка
- Медитативный тренинг настройки на выполнение любых задач – (Алфа-ритмы мозга)
- Слушали: 2672 Комментарии: 0
- Михаил Боярский Ланфре Ланфра
- Слушали: 5565 Комментарии: 0
- Боярский М. - Все пройдет
- Слушали: 17902 Комментарии: 0
- нежная музыка
- Слушали: 115404 Комментарии: 1
- Spice Girls - Viva Forever
- Слушали: 834 Комментарии: 2
-Фотоальбом

- Моё рукотворчество
- 23:16 14.11.2011
- Фотографий: 26

- Лаванда: схемы для вышивки
- 20:14 06.09.2011
- Фотографий: 67

- Лето
- 12:09 11.07.2011
- Фотографий: 33
-Стена
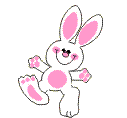
| ksan4ik написал 27.10.2010 20:02:04: САН-СИА-УИИ-НАХ-ПАЙ-ТУН-ДОУ
|
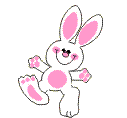
| ksan4ik написал 07.08.2010 14:21:06: Ом Таре Ту Таре Туре Сууха» — \"Храните чистое сердце и добрые помыслы\"
|

| Jevgenia99 написал 24.04.2010 19:04:06: http://www.liveinternet.ru/users/3331413/post125228765/ вам это знакомо? |
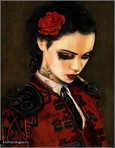
| beziva написал 24.04.2010 16:10:20: Привет!Приятного дня!
|
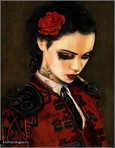
| beziva написал 28.02.2010 21:58:04: Привет!
|
-Я - фотограф
Лиловый алфавит. Вышивка крестиком
-Конвертер видеоссылок
-Поиск по дневнику
-Подписка по e-mail
-Статистика



![]() На руке, дарящей розы, всегда остаётся их аромат. N
На руке, дарящей розы, всегда остаётся их аромат. N
 Улыбка сквозь слёзы подобна розе в капельках росы. N
Улыбка сквозь слёзы подобна розе в капельках росы. N
 Смотри вперед с надеждой, Назад - с благодарностью, Вверх - с верой, По сторонам - с любовью!!!
Смотри вперед с надеждой, Назад - с благодарностью, Вверх - с верой, По сторонам - с любовью!!!
 Миром правит ум, а не красота, а жизнь куда разнообразнее, чем наши о ней представления. N
Миром правит ум, а не красота, а жизнь куда разнообразнее, чем наши о ней представления. N
Другой из горьких трав добудет мед…
Кому-то мелочь дашь, навек запомнит…
Кому-то жизнь отдашь, а он и не поймет…
Омар Хайям
введите номер страницы и вы уже там
Как поступил с раненой птичкой Луис Морено, панамский защитник |
Я в шОке!
Наша младшая дочь рыдала целый день после просмотра этого сюжета в новостях.
|
|
Happy Valentines day |

С младшей доченькой наделали таких пирожных

Старшая доча сама наделала китайских пирожков с предсказаниями

Для друзей сделали такие открыточки
|
|
Маленькие радости |
Наше кофейное дерево зацвело к 14 февраля, перейдя из стадии рождественской в стадию сердечную.

А ещё купила себе питомца на кухонное окошко - цветочек на солнечых батареях, приходишь с работы, а он листиками машет. Главное возвращаться до наступления темноты.

|
|
Чего пожелать? |
Уинстон Черчилль
|
|
Жещина в средевековье |
Источник блог Мурзилка http://blogs.mail.ru/bk/vnp74/
|
|
Процитировано 1 раз
Понравилось: 1 пользователю
Прекрасная дама |
Позаимствовала у Мурзилка: http://blogs.mail.ru/bk/vnp74/
Кто только о ней не писал! Сначала ее воспевали трубадуры. Потом –
символисты. Блестящая, но тонкая и глубокая сатира была дана
Сервантесом. Затем Прекрасную Даму по косточкам разбирали философы,
культурологи – начиная с Энгельса. Не забыт этот образ и в наше время,
правда, претерпел значительные изменения.
Ее истоки многие видят в трактате Овидия «Искусство любви»,
затем в христианском представлении о Деве Марии – как основе духовного
чувства, кто-то говорит и об арабской мистической философии.
Культ Прекрасной Дамы, несомненно, носит в себе элемент
десексуализации любовного чувства. В античном мире любовь и секс были
более плотно связаны. Христианский образ Богоматери (непорочное зачатие)
придавал женщине определенную таинственность, сакральность. Образ
женщины отделялся от плотской любви. Это предельное поклонение женщине, в
том числе конкретной (на щите у рыцаря может быть сапожок, лента,
шнурочек, локон волос)... Но изначально Прекрасная Дама рыцаря не
является не только его женой, но и любовницей. Хотя, надо полагать, к
такому абсолюту все не сводилось…
Язык, на котором писались стихи и песни Прекрасной Даме,
моментально стал культивироваться в Италии и Испании, во многих областях
став чуть ли не единственным литературным языком. Кроме придворных,
были ведь и странствующие трубадуры, разносили они свои творения по всей
Европе. Прекрасную Даму воспевали не на вечной латыни, а на разговорном
языке.
Разные по социальному составу трубадуры – и представители
аристократии, и незнатные рыцари, и простолюдины, и даже монахи (с
разрешения церкви, конечно), – все они с большой охотой стали
поклонниками экзальтированного культа Прекрасной Дамы. Любовь выступала
уравнителем социальных различий.
Какой была Прекрасная Дама? Ведь она совершила удивительное
превращение из средневековой женщины, жившей по законам Римского права,
оговаривающего обязанность рожать детей, в предмет поклонения. И вдруг –
некий туманный идеальный образ.
Конечно, Прекрасная Дама стала совершенной. И душой, и телом.
Причем, иногда Дама выбиралась рыцарем, который даже ее не видел. (А
ведь такие истории, действительно, случались: вот некий трубадур Джуафре
Рюдель влюбился в принцессу Триполитанскую, отправился ее повидать,
заболел, слег совсем. Дама пришла, заключила его в объятия, он ее узнал,
возблагодарил и умер на руках. Дама благородна, поэтому делает
единственное возможное – хоронит с почестями и уходит в монастырь...)
Но даже если трубадур вообще не видит своей Дамы, она все равно
Прекрасна: у нее были золотые волосы, изящный нос, выразительные глаза,
красивые «круглые руки», перси, ланиты, уста цвета пурпура, а уж
улыбка! – и прочие прелести. Воспевается чувственная красота,
вспоминаются ангелы и небеса. Главное ведь – это трепетное обожание,
служение и защита избранницы. Лучше бы ей томиться в башне или
подвергаться опасности. И лучше не произносить ее имени: во-первых, у
нее обязательно ревнивый муж, во-вторых, тайна делает любовь еще
прекрасней. Ведь любовь к Прекрасной Даме запретна... А какая настоящая
любовь без непреодолимых преград?

И лучше, если любовь просыпается по весне. Природа ликует, сердце грустит. Но пикантная игра продолжается.
Сначала Прекрасная Дама холодна, но в силу того, что благородна
душой, не может оставить без внимания любовь простого рыцаря. Может
быть, не сразу. А может – назначить ему испытание. Или пройти четыре
стадии – от кандидата до любовника, причем последняя фаза совершенно
была не важна, важнее флирт. А трубадуру полагалось быть «лояльным»
влюбленным, то есть исполнять все капризы и прихоти своей Дамы,
выказывать подчас полную самоотверженность. А также клясться ей в вечной
верности. Во имя Прекрасной Дамы можно было провести и рыцарский
турнир. Нельзя не учитывать, что детство Прекрасной Дамы прошло в
суровом мужском окружении, в замкнутом мире средневекового замка.

К тому же Прекрасная Дама достаточно самостоятельна: в периоды
войн, затем в эпоху крестовых походов она вполне научилась управлять
имуществом, интриговать при королевских дворах, устанавливать моду. В
одиночестве приходилось самой находить себе развлечения, принимать
трубадуров и менестрелей, которые, находясь на хлебах принимающей
стороны, и воспели первыми куртуазную любовь. Дворцы и замки
превратились в центры поэзии.
Романтичный кавалер пришелся как нельзя более кстати. И кавалер оказался талантлив.
Одним из первых трубадуров стал французский герцог Гильом
Аквитанский, он же – Гийом IX Трубадур, он же Вийон XII (1071-1127).
Прадед Ричарда I Львиное Сердце и одновременно один из родоначальников
европейской поэзии. Был он богаче самого короля, но больше всего любил
поэзию. Первым он сформулировал и отношение к Прекрасной Даме: служение и
поклонение, которое мало общего имело с реальными отношениями в
обществе.
При дворе его внучки, королевы Элеоноры Аквитанской
(соответственно, матери Ричарда Львиное Сердце) – «Золотой орлицы»,
куртуазная любовь и поклонение Прекрасной Даме приобрели невероятный
размах. Сама – удивительная красавица, стала она музой трубадуров,
особенно французского поэта Бернарда де Вентадорна (около1150-1180).
(Коль не от сердца песнь идёт, Она не стоит ни гроша, А сердце песни не
споёт, Любви не зная совершенной. Мои кансоны вдохновенны – Любовью у
меня горят И сердце, и уста, и взгляд).

И именно при ее дворе получили распространение «Суды
Любви» – что-то вроде женского клуба, где дамы выслушивали поэтов,
выносили вердикт, а также обсуждали поведение влюбленных и даже
супругов. Это были весьма серьезные разбирательства в области «любовного
права», разве что смертных приговоров не выносилось...
Также при дворе Элеоноры впервые появляется прототип будущего героя знаменитой поэмы – Тристан. Какой-то бретонский сказитель донес легенду, ставшую всем известной любовной сагой.
Была Элеонора и властительницей моды: она ввела боковую
шнуровку платья, шлейфы, длинные рукава. Но Элеонора была не только
красавицей, а и вообще неординарной женщиной. Вышла замуж первый раз –
муж стал королем (Людовиком VII Молодым). Уже королевой Франции она
отправилась с мужем в крестовый поход, проделав весьма немалый путь
через всю Европу, Византию и вражескую Малую Азию.

Вышла замуж второй раз – муж стал королем (уже Англии –
Генрихом II Плантагенетом). Историки говорят, правда, что Столетняя
война тоже могла начаться из-за ее огромного приданого…
И родила шестерых детей (один из которых король-трубадур Ричард
Львиное Сердце), и в тюрьме просидела 16 лет, и в монастырь уходила, и
умерла в 86 лет. Ну как не воспеть такую женщину!
А ее дочь – Мария Шампанская – сама стала поэтессой и
Прекрасной Дамой поэтов. Она же вдохновила Кретьена де Труа на написание
романа о знаменитом рыцаре Ланцелоте.
Старопрованское искусство трубадуров начало приходить в упадок с
началом альбигойских войн – крестовыми походами севера Франции против
ее же юга (договорились до того, что Прекрасная Дама – суть
иносказательное название секты катаров...).
Но Прекрасная Дама живет по сию пору, уже около тысячи лет. Она
меняла имена, изменялась внешне, преобразилась в загадочную Незнакомку,
переставала быть идеалом, над ней подшучивали, но, главное, ее помнят.

|
|
Брошка из синих японских роз связалась |

|
Кофе рождественский |

6 зерен натурального кофе
50 г крутого кипятка
30 г молока
2 кусочка шоколада
20 г сахарного сиропа
20 г сахарной пудры
Смолоть кофейные зерна. Высыпать порошок в кипящую воду и тщательно перемешать. Дать напитку настояться 5-8 минут. Затем процедить через мелкое сито. Молоко подогреть и влить в кофе. Довести до кипения и сразу перелить в чашку. Сверху посыпать тертым шоколадом.
В Рождество все должно быть красивым и вкусным, поэтому кофейную чашку можно украсить заснеженными еловыми веточками. Для этого небольшие веточки ели сбрызнуть сахарным сиропом, обсыпать сахарной пудрой и убрать на 1 час в холодное место.
|
|
Список литературных произведений и авторов, необходимых для прочтения по мнению, горячо мною уважаемого Адре Моруа |
Быть культурным не значит знать обо всем понемногу, не значит это и знать все о чем-нибудь одном; быть культурным – значит изучить как следует произведения великих писателей, проникнуться духом их творчества, сродниться с ними.
Я хотел бы назвать тех немногих авторов, которые станут вам верными спутниками на всю жизнь. Я хотел бы, чтобы вы неустанно читали и перечитывали их. Хорошо было бы, чтобы их мысли стали вашими мыслями, их произведения – вашими воспоминаниями.
Я же лишь укажу вам пищу, которую считаю здоровой. Что-то из нее подойдет вам, что-то нет. Решайте сами.
Начнем с греков.
Гомер, Эсхил, Софокл, Аристофан, Плутарх, Платон, Ветхий и Новый заветы, Эпиктет, Марк Аврелий, Сенека .
Теперь пропустим несколько веков.
Рабле, Монтень, Вийон, Ронсар, Дю Белле.
Перейдем к XVII.
Ммемуары кардинала де Реца и Сен-Симона; пьесы Корнеля, пьесы Мольера – кладезь мудрости; «Надгробные речи» Боссюэ и басни Лафонтена, Расин.
XVIII век.
Монтескье трактат «О духе законов», Вольтер – «Кандид», короткие произведения Дидро: «Сон д’Аламбера», «Письмо о слепых», «Племянник Рамо», Мариво.
XIX век.
Бенжамен Констан, Шатобриан, Стендаль и Бальзак, Флобер – «Госпожа Бовари» и «Воспитание чувств», Жорж Санд «История моей жизни», «Консуэло», Гюго «Увиденные факты», «Отверженные», пьесы Мюссе, Мериме, «Кармен», «Этрусская ваза», «Двойная ошибка»; ромаы Франса и Барреса, Марсель Пруст, Валери и Ален, Бергсон и Клодель.
Зарубежые Шекспир, Лопе де Вега, Свифт, Диккенс, Эдгара По, Гёте, Данте, Сервантес.
Никто не подарит вам такого волшебного ощущения жизни, как русские писатели. Толстой («Война и мир», «Анна Каренина», «Смерть Ивана Ильича»), избранные рассказы и пьесы Чехова, «Мертвые души» Гоголя, Тургенев «Рудин», «Отцы и дети», «Дым»,повести Пушкина.
Походная библиотека, состоящая из семи авторов: Гомер, Монтень, Шекспир, Бальзак, Толстой, Пруст, Ален.
В тот день, когда вы будете знать их в совершенстве, я хочу сказать, досконально, вы уже будете весьма образованным человеком. <…> Как видите, работы у вас по горло.
|
|
С Рождеством Христовым! |
Дорогой мой человек,
С Рождеством Христовым!
Пусть твой мир и пусть твой век
Будет несуровым,
Божья хлынет благодать
В душу и в дыханье,
Чтоб не знать и не встречать
Боли и страданья.
Ясных дней тебе и вех,
И открытий новых!
Дорогой мой человек,
С Рождеством Христовым!

|
|
Моё рукотворчество - новая серия фотографий в фотоальбоме |
|
|
Мульт Личности Королева Елизавета II |
Очень понравился. Весело) Было необычно увидеть Елизавету вторую в такой роли.
|
|
Понравилось: 1 пользователю
Приятно кофейное - новая серия фотографий в фотоальбоме |
|
|
С наступающим новым годом! |
Новый год уже в пути. Вот, вот, он прийдёт на мою родину в город Хабаровск, потом он продолжит шествие к моему месту проживания - Эстонии. Я с радостью встречу его несколько раз и с хабаровчанами и с моими дорогими псковичами и с теми, кто живёт в моём маленьком, занесённом снегом городке Валга.
С наступающим всех!

|
|
Донюшка наделала пипаркооков |
Настроение сейчас - суперское
Что может быть радостнее утреннего подъёма под аромат свежезаваренного кофе и свежеиспеченного печенья? Вот такая радость меня сегодня и разбудила))) Добавим ещё вкус перчика и имбиря в печенье, запах корицы ммм, гамма вкусов




|
|
Как жаль |
|
|
Снег подлетает к ночному окну, ... |
Снег подлетает к ночному окну, ...
Снег подлетает к ночному окну,
Вьюга дымится.
Как мы с тобой угадали страну,
Где нам родиться!
Вьюжная. Ватная. Снежная вся.
Давит на плечи.
Но и представить другую нельзя
Шубу, полегче.
Гоголь из Рима нам пишет письмо,
Как виноватый.
Бритвой почтовое смотрит клеймо
Продолговатой.
Но и представить другое нельзя
Поле, поуже.
Доблести, подлости, горе, семья,
Зимы и дружбы.
И англичанин, что к нам заходил,
Строгий, как вымпел,
Не понимал ничего, говорил
Глупости, выпив.
Как на дитя, мы тогда на него
С грустью смотрели.
И доставали плеча твоего
Крылья метели.
Александр Кушнер
|
Понравилось: 1 пользователю
Чудо?) |
Вчера утром сидела, ждала приёма у женского врача, номерок был на 8:20, пришла чуть раньше. Сижу, ощущения все думаю, понимают какие.... Вдруг заходит санитарочка, приносит огромный термос с кофе, поднос с рождественским печеньем и одноразовыми стаканчиками. Подходит ко мне и говорит, правда на эстонском языке: "Доброе утро! Подходите, угощайтесь! Попейте кофе с печеньем". Помещение наполнилось запахом кофе и корицы, страх рассеялся. Я и не поняла, почему у меня настроение весь день на подъёме было, а сегодня утром чётко осознала в чём причина.
|
|
Понравилось: 1 пользователю
как с помощью массажа стимулировать организм на борьбу с насморком |
Точка № 1. Если продолжить линию бровей, то эта точка окажется на пересечении с линией переносицы.
Точка № 2. Эти симметричные точки расположены на обеих сторонах лица. Чуть заметные впадины в двух сантиметрах от внешнего края брови. Нажимать их следует одновременно.
Точка № 3. Две симметричные точки у основания носа, возле края глазных впадин. Массировать одновременно.
Точка № 4. Симметричные точки в полусантиметре от крыльев носа. Источник: http://rinit.at.ua/index/kak_vylechit_nasmork_za_5_minut/0-27

|
























