-Музыка
- Зимняя ночь(Б.Пастернак)
- Слушали: 54041 Комментарии: 6
- Молитва Оптинских Старцев
- Слушали: 17589 Комментарии: 0
- KITARO
- Слушали: 612 Комментарии: 0
-Поиск по дневнику
-Подписка по e-mail
-Статистика
История испорченного ангела (Ника Турбина) (Возвращаюсь к прошлым публикациям...) |
История испорченного ангела
|
|
Кто кончил жизнь трагически... Совершенно секретно - XXI век. Гумилев. (4 части, 2009) |
 Люди и события, которые потрясли мир и повлияли на ход исторического развития России. Оппозиция в России, шпионские скандалы, секреты политтехнологий, олимпиада в Сочи, дело Ходорковского и многое другое.
Люди и события, которые потрясли мир и повлияли на ход исторического развития России. Оппозиция в России, шпионские скандалы, секреты политтехнологий, олимпиада в Сочи, дело Ходорковского и многое другое.
|
|
Кто кончил жизнь трагически... Гумилёв из рода Гумилёвых |

Фильм снят к 125-летию со дня рождения Николая Гумилева и рассказывает о его связи с рязанской землей, о духовных корнях поэта, чьи предки были священнослужителями одного из храмов рязанской глубинки.
|
|
X-Files... (Возвращаюсь к теме) Завоеватели / Conquerors. (4 фильма. 1996, Discovery) |
 Легендарные властители, прославленные полководцы, провидцы и мудрецы, которым покорялись народы и империи. В чем секрет их безграничного могущества и невероятных удач на поле брани и в политической игре? Правдивы ли летописи, изображающие их алчными тиранами? Перед Вами захватывающие истории великих завоевателей
Легендарные властители, прославленные полководцы, провидцы и мудрецы, которым покорялись народы и империи. В чем секрет их безграничного могущества и невероятных удач на поле брани и в политической игре? Правдивы ли летописи, изображающие их алчными тиранами? Перед Вами захватывающие истории великих завоевателей
1. Александр Великий / Alexander The Great. Его бурная жизнь и загадочная смерть окутаны легендами и преданиями. Сын Филиппа Македонского и Олимпии, воспитанный самим Аристотелем, Александр Великий стал царем в 20 лет. Блестящий полководец, не знавший поражений, он с легкостью завоевал полмира. И хотя созданная им империя распалась сразу после его смерти, слава о нем навеки осталась в веках. До сих пор его удивительная судьба вызывает восхищение и зависть.
2. Сулейман Великолепный / Suleyman The Magnificent. Западный мир считал турецкого султана Сулеймана воинствующим дикарем, но легендарный падишах Османской империи, прозванный Великолепным, был хорошо образованным правителем, полководцем и поэтом. Он дал своим подданным автономию и религиозную свободу, сделал Стамбул самым крупным городом средневековой Европы и максимально расширил границы своей державы, дойдя до Вены и Марокко. В чем был секрет могущества Сулеймана Великолепного? Почему его так ненавидели крестоносцы? Поищем ответы на эти вопросы в лабиринтах истории...
3. Петр Великий / Peter The Great. Громкое имя и легендарные деяния Петра Великого, выдающегося государственного деятеля России, известны во всем мире. Бурный и драматичный период его правления стал важнейшим рубежом в отечественной истории. Реформы Петра затронули все общество - от знатных бояр до простых крестьян. Он превратил Московское государство в Российскую империю, могущественную страну, столицей которой стал основанный им город Санкт - Петербург.
4. Наполеон Бонапарт / Napoleon Bonaparte. Историки утверждают, что Наполеон Бонапарт был гениальным оппортунистом с неутолимой жаждой власти. Он понимал, что сын провинциального дворянина сможет возвыситься лишь благодаря чуду или собственному гению. Но невозможное произошло! В 1800 году Бонапарт провозгласил себя императором и вскоре завоевывал почти всю Европу. За 20 лет несравненный французский стратег и талантливый политик прошел путь от императорского трона до изгнания на острове святой Елены. Кем же был легендарный Наполеон Бонапарт - баловнем судьбы или расчетливым властолюбцем? Заглянем на страницы истории...
|
|
Процитировано 2 раз
Понравилось: 2 пользователям
Я входил вместо дикого зверя в клетку... (Иосиф Бродский), Или несколько заметок на полях |

Иосиф Бродский: Несколько заметок на полях
Частная жизнь поэта неминуемо становится достоянием других. Каждое его слово и есть его частная жизнь, обращенная вовне, urbi et orbi1. Послание Иосифа Бродского, которое он всем своим текстом транслировал миру, было, вероятно, самым ясным, чесВВВВВВВным и пугающим из всех возможных: «Реальность такова, какова она есть, не больше и не меньше».
Эта простая констатация требует внутренней свободы, мужества и душевных сил для ее принятия и для ее озвучивания. («Ужасающая объективность», как сам Бродский сказал о поэзии своего любимого Одена.) Уверенное спокойствие поэтического голоса Бродского – спокойствие космоса, где плавают огненные шары. Спокойствие самого Времени, объемлющего и прошлое, и будущее, – здесь все уже произошло.
…
Здесь утром, видя скисшим молоко,
молочник узнает о вашей смерти.
Здесь можно жить, забыв про календарь,
глотать свой бром, не выходить наружу
и в зеркало глядеться, как фонарь
глядится в высыхающую лужу.
…
Вот и прожили мы больше половины.
Как сказал мне старый раб перед таверной:
«Мы, оглядываясь, видим лишь руины».
Взгляд, конечно, очень варварский, но верный.
…
Подруга милая, кабак все тот же.
Все та же дрянь красуется на стенах,
все те же цены. Лучше ли вино?
Не думаю; не лучше и не хуже.
Прогресса нет. И хорошо, что нет.
…
Век скоро кончится, но раньше кончусь я.
Это, боюсь, не вопрос чутья.
Скорее – влиянье небытия
на бытие. Охотника, так сказать, на дичь –
будь то сердечная мышца или кирпич.
…Век был, в конце концов,
неплох. Разве что мертвецов
в избытке…
 |
| В геологической экспедиции. Аэропорт в Якутске, 1959 г. |
Это вовсе не холод, но и не тепло, не смирение, не бесстрастие, не anaesthesia dolorosa2, и уж точно – не опустошенность. Скорее, от наполненности – это отзвук чего-то иного, за пределом.
***
Трудно писать о тех, кого уж очень любишь. Как врачу нельзя лечить близких.
Большой соблазн биографию Поэта подменить – собственной: от трогательной истории первого «знакомства» (не с ним, конечно же, а с текстом) до признания в вечной любви.
Еще труднее писать о тех, о ком уже исписаны километры и килограммы разного сорта бумаги.
И еще труднее – о тех, кто сам писал свою жизнь и пересоздавал мир: стихами, поэмами, эссе, голосами и памятью других людей.
Иосиф Бродский воплощает все три трудности, не иначе как по причине особой вредности характера.
Умножая море публикаций о Бродском, – что само по себе бессмысленное занятие, – еще и, хочешь не хочешь, а вступаешь в некое Сообщество Пишущих о Великом. Оно включает друзей Поэта, его же завистников, исследователей, журналистов, родственников и знакомых, а также особую группу «сидевших с ним как-то в одном таком ресторанчике». Последняя, как заметила Людмила Штерн, разрасталась и после смерти Бродского.
Людмила Яковлевна написала замечательную книгу «Ося. Иосиф. Joseph». Штерны были друзьями Бродского с Ленинграда и остались таковыми в эмиграции – 36 лет. Воспоминания Людмилы, как и она сама, имеют черты, в принципе свойственные друзьям И.Б. – талант, справедливость, интеллигентность и пожизненная нежность к «Осе-Жозефу». А одна из лучших литературных биографий Бродского принадлежит Льву Лосеву.
Что касается журналистов, для них И.Б. бывал, смотря по настроению, то даром, то сущим наказанием. Будучи космополитом, не отличался ни отечественным хамством (или же угодливостью), ни американским шоуменством. Но мог ответить достаточно резко и ни капельки не скрывал, если вопрос или вопрошавший ему чем-то не нравились.
«– Почему они избрали объектом травли именно вас, человека вполне аполитичного?
– (Всерьез рассердившись.) Вы у них спросите! Откуда я знаю? Я о них и думать не хочу!» (Б. Езерская, ж-л «Время и мы», №63, 1981.)
«Ну попробуйте задать какие-нибудь более… Ну давайте, задавайте свои вопросы… (Хмыкает.)» («Большая книга интервью», 2000.)
«– Я хотела бы для начала поговорить о Марксе и Фрейде. У вас же есть какие-то взгляды на их счет…
– Нет никаких!» (Там же.)
О завистниках же просто не хочется говорить. Бродский – это океан. Океан всегда масштабнее даже самой крупной лужи.
***
Гений живет минимум в двух измерениях бытия – субъективно-личностном и космическом, духовном.
В первом – располагаются он сам и его работа. Кроме этого, у него здесь мало что помещается: ну, женщины, дети, коты, вкусности и иные прелести жизни, которые он любит и ценит, но времени на них имеет чаще всего недостаточно. «Я часто думаю, насколько все бессмысленно – за двумя-тремя исключениями: писать, слушать музыку, пытаться думать» («Большая книга интервью»).
Во втором – происходит то, в чем и проявляется гений: а именно – изумлять, опрокидывать, перекраивать, выворачивать наизнанку, строить заново, избавлять от склероза и наполнять свежей кровью человеческие представления о мире. Есть мнение, что на таком уровне подлинный гений обладает бессмертием. Какая разница: это утешительная метафора или метафизическая истина? Часто гений получает признание post scriptum, точнее – post mortem1. Приятно, что исключения все-таки имеются. Вот – Бродский.
***
 |
| Джинсы, о которые Бродский зажигал спички, 1961 г. |
Еще одна особенность гения – он не склонен оправдывать ожидания. А ожиданий от него, естественно, много. К примеру: что, помимо его собственной работы – будь то квантовая теория или уникальная поэзия, – он будет глубоко проницать и мудро щуриться на все явления цивилизации, включая женскую моду, озоновую дыру и политический кризис.
Но Бродский, при отсутствии высшего и среднего образования, умудрился вобрать в себя колоссальное количество знаний – литературы, музыки, живописи, истории, языков, архитектуры и др., – чем полностью застраховал от бессмысленного суесловия и себя, и своих слушателей.
Поскольку гения вечно путают с духовным лидером и мудрецом, от него также ожидают беспорочной жизни, просветленного взора, вселенского гуманизма и иных нечеловеческих качеств. Однако в том, что не касается его работы (которая на самом деле невероятно тяжела и практически беспрерывна), гений – вполне нормальный человек, который в промежутке между рождением и смертью успевает натворить всякого. Он влюбляется, ревнует, страдает, бесится, напивается, хамит близким, мечется, совершает необъяснимые поступки, болеет, капризничает, сплетничает, забывает, кокетничает, задирает нос, язвит, впадает в депрессию, бездельничает, брюзжит… Он имеет право ошибаться и даже противоречить самому себе – как каждый из нас.
Быть может, одной человеческой слабости у гения и нет: он не совершает подлостей. По крайней мере, Пушкин так думал…
От гения вообще ожидают каких-то крайностей, полюсов, пределов. Обычно он никак этого не может: слишком занят.
«Ося» нередко вызывал отчаяние у своих родителей и друзей (предполагаю также – у женщин и издателей). Он мог довести до слез, как яростных, так и умиленных, но его прощали и любили.
 |
| Людмила Штерн, 1961 г. Фото И.Бродского |
Л. Штерн рассказывает: однажды Бродский без видимых на то причин не пригласил ее на день своего рождения – это было знаком ссоры. Не выдержав, она позвонила ему – и после краткого ответа «рухнула на диван упиваться своим горем». Когда через несколько минут он перезвонил с извинениями, Люда окончательно захлебнулась от слез. Дело выяснилось: слухи, недоразумения, преувеличения…
После дня рождения, когда гости уже стояли в дверях, Бродский вспомнил о новом «стишке» (его словечко). Он прочел «Я входил вместо дикого зверя в клетку…»:
«Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя,
жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок.
Позволял своим связкам все звуки, помимо воя;
перешел на шепот. Теперь мне сорок».
«Я подумала тогда о разности масштабов чувств и мыслей, посетивших нас в один и тот же день, и почувствовала неловкость и раскаяние. Что стоили мои мельчайшие сиюминутные обиды и претензии к нему по сравнению с его размышлениями о жизни…»
 |
| Бродский в ссылке, 1964 г. |
***
Одно из самых докучных ожиданий – что гений непременно будет политическим активистом и борцом. За какое-нибудь правое дело.
К советской власти Иосиф Александрович относился как к неизбежному злу, то есть – с величественным пренебрежением, чем и доводил ее до бешенства. Откровенно антисоветских текстов в ранней поэзии Бродского, не найти. Да, собственно, и в поздней. Бродский – вообще не из тех людей, которые склонны к каким-либо «анти-». Скорее уж, «над» или «вне». Отсюда надмирная интонация многих его стихотворений. Он из тех, кто «стоит на окраине, наблюдает и комментирует». Ранние «комментарии» Бродского были о еврейском кладбище, сломанной греческой церкви, любимой девушке, смерти Джона Донна и в целом о взглядах на мир, – но советская власть никак там не присутствовала, разве только посредством «мрачно-неуловимого критицизма».
Позже Иосифа Александровича раздражали бесконечные вопросы о судебном процессе и «диссидентстве»: он не желал представать жертвой. Он ненавидел советскую власть и коммунизм последовательно и аргументированно, но не собирался бороться с системой. Само существование Поэта было ее отрицанием. («На твой безумный мир / ответ один – отказ!» – М. Цветаева.)
С такой же силой он ненавидел любую форму государственного насилия. Об этом в его текстах сказано вполне ясно и достаточно.
«Величайшее преступление коммунизма в том, что он разрушает экзистенциальную свободу граждан. …Государство рассматривает своего гражданина либо как раба, либо как врага. Если человек не попадает ни под одну из этих категорий, государство предпочитает все-таки рассматривать его как врага» («Большая книга интервью»).
Что сделаешь с человеком, свободным от рождения? Его можно только уничтожить или избавиться от него. Кто сейчас помнит полемическое высказывание Рейгана: «есть вещи поважнее, чем мир»? Имелась в виду именно свобода.
В попытках обратить на себя внимание родная страна применила испытанные средства: тюрьму, ссылку, психиатров. Отчаявшись, она предложила Бродскому немедленно ее покинуть.
Более радикальных средств не использовали: не то время. Да и что, если серьезно, можно было вменить в вину рыжему веснушчатому упрямцу? Только преступный недостаток энтузиазма и невосторженный образ мыслей.
Восторги Иосифа Бродского были совсем о другом.
***
Удрав из школы после восьмого класса по причине непереносимости лиц и тупости идеологии, он изучал «физиономию пролетариата» на заводе, где работал фрезеровщиком; потом перешел в морг («подумывал о таком еврейском поВВВВВВВВВВВВВВприще как профессия врача»), ходил в геологические экспедиции, был даже смотрителем маяка, трепался и шутил на вечеринках, мечтал об университете (куда приходил иногда вольнослушателем). Читал то, что удавалось найти, что читали тогда молодые ленинВВВВВВВВВВВВВВградские интеллектуалы – Дос Пассоса, Хемингуэя, Пруста. А особенно – Одена, Фроста, Элиота, Мандельштама, Цветаеву, Баратынского. Писать начал лет в 18-20.
И тут на его жизнь, что называется, упала тень. Теней, впрочем, о ту пору падало много, но эта была особая, темноволосая и зеленоглазая, с тихим голосом, одаренная и загадочная; по мнению одних, повинная во многих грехах, по мнению других – в великих стихах.
Написано о художнице Марине Басмановой много, но недостаточно, чтобы понять: что же произоВВВВВВВВВВВВВВшло, кроме банального «треугольника», и отчего история этой любви – столь болезненная, сложная и – долгая? Он видел ее последний раз в 1972 г., перед отъездом. Она то ли не захотела уехать, то ли не смогла. Стихотворение, где Иосиф Бродский наконец прощается с Мариной, написано в 1989-м.
На все вопросы одного исследователя она ответила по телефону: «В его стихах ищите, все найдете».
…
Тебя, ты слышишь, каждая строка
благодарит за то, что не погибла…
…
Пока ты была со мною, я знал,
что я существую...
Кто был все время рядом,
пока ты была со мною?
…
Я был только тем, чего
ты касалась ладонью…
Я был попросту слеп.
Ты, возникая, прячась,
даровала мне зрячесть.
Так оставляют след.
…
я взбиваю подушку мычащим «ты»,
за горами, которым конца и края,
в темноте всем телом твои черты
как безумное зеркало повторяя.
Все же несколько лет до его эмиграции они прожили вместе, родился сын Андрей. Родители Марины недолюбливали евреев, и она дала сыну свою фамилию и отчество – Осипович. Бродский все это пережил тяжело. Взрослый Андрей отца разочаровал: очень походил на него, но только внешне.
 |
| Иосиф Бродский с Марией Содзони. Фото М.Барышникова |
Говорят, вторая жена Мария Содзони (итальянВВВВВВВВВВВВВВско-русская аристократка – не как-нибудь!), радость его последних лет, внешне похожа на Марину. Трудно судить: мне удалось найти только одну фотографию Басмановой, и та неважного качества. А Мария и вправду хороша.
Бродский негодовал на Фрейда за теорию творчества как сублимации сексуальности. У него была собственная, более здравая теория: и то, и другое – ветви одного куста, одной творческой энергии. Прекрасных дам в его жизни было немало. Но –
Я сижу у окна. За окном осина.
Я любил немногих. Однако – сильно.
***
Коты в личном пространстве И.Б. занимали существеннейшее место. В семье использовали «кошачьи» словечки – мяу, мур-мур-мяу – для выражения самых разных чувств. Даже маму Марию Моисеевну Ося называл – Киса или Мася, и так ее в конце концов стал звать и отец. Коту Пасику, царившему в семье Штернов, озорная компания друзей с легкой руки Люды посвятила целый новогодний журнал, где Ося выступил как автор оды.
«Позволь тебя погладить, то есть
воспеть тем самым шерсть и доблесть…»
На вопрос Т. Венцловы: «Все пятнадцать лет в Америке у тебя был какой-нибудь кот?» – Бродский подтверждает это, добавляя: «Приходящий, как правило. Мой ленинградский кот – мой тезка – умер после моего отъезда».
Журналистке во время интервью дома: «Хотите, я разбужу для вас кота?» Это был знак особого расположения! В конце другой встречи он выходит искать котенка, оставленного ему на попечение друзьями.
 |
Одно из поздних эссе Бродского называется «Кошачье мяу». И он любил сравнивать себя с этими дивными существами: «Я как кот. Когда мне что-то нравится, я к этому принюхиваюсь и облизываюсь. Когда нет – то я немедленно… это самое…»
«Вот, смотрите, кот. Коту совершенно наплевать, существует ли общество “Память”. Или отдел пропаганды в ЦК КПСС. Так же, впрочем, ему безразличен президент США, его наличие или отсутствие. Чем я хуже этого кота?» («Большая книга интервью»)
Один из самых невыносимо грустных снимков – кот Бродского, Миссисипи, через месяц после смерти Иосифа, свернувшийся в кресле, где, по-видимому, сиживал хозяин. Глядя на это, понимаешь две вещи: Иосиф уже никогда не вернется, и еще – любовь может быть правдой. И котов это касается никак не меньше, чем людей.
***
Бродский не признавал границ, расслоений, расщеплений. Превыше всего он любил и чтил свободу, культуру, язык-Логос и поэзию, которую считал высшим смыслом человеческого существования. Это и была его национальность, его религия и его сущность. Стоит помнить о его позиции при любых рассуждениях и принять ее.
 |
«Приложение» к свободе – одиночество – цена, которую Бродский, похоже, готов был платить в эмиграции. Только иногда прорывалось: «Даже позвонить некому». И в то же время, утверждал он, одна из радостей жизни в Америке – «все оставили его в покое». Но друзей у него было немало, а после Нобелевки он еще и взял на себя разного рода общественные обязанности. Противоречия? А может, просто менялось восприятие себя в мире.
«Я не помню, кто-то меня спросил: кем вы себя ощущаете – русским поэтом, американским поэтом? Начать с того, что я себя ни тем, ни другим не ощущаю. Человек должен ощущать себя иначе: трус он или не трус, спокойный он или неспокойный, и только потом уже эти категории национальности, крови, веры…» Мысль эта настолько важна для него, что с некоторыми вариациями он повторяет ее во многих текстах, особенно в интервью. Ибо вопросы такого рода не давали покоя журналистам.
Что касается известного «еврей ли вы?» в смысле отношения И.Б. к своей национальной принадлежности – ответ смутен и противоречив. К еврейству он относился в разные годы жизни – по-разному. В советской стране «молодым еврейским людям напоминали о происхождении каждые пять минут». Да и отец его после демобилизации долгие годы не мог устроВВВВВВВВВВВВВВиться на работу по той же причине.
«Я стопроцентный еврей, у меня еврейВВВВВВВВВВВВВВская кровь. Так что здесь для меня вопросов не существует. Но в течение жизни я как-то мало обращал на это внимания…» Вернее сказать, обращал жадное любопытство на все. И христианские писания знал хорошо, и индуизм, которым одно время серьезно увлекался. «Я, наверное, плохой американец и плохой еврей».
Еврейству и творчеству Бродского посвящена обширная и очень интересная дискуссия на сайте журнала «Лехаим». На вопросы отвечали Виктор Куллэ (он переводил ряд интервью), Лев Лосев, литературоведы Зеев Бар-Селла и Леонид Кацис. К сожалению, я не имею здесь возможности ее привести.
|
«Я – еврей, русский поэт и английский эссеист». (Из ответов Бродского журналистам после получения Нобелевской премии) «Бродский храбр настолько, что верит в существование Вселенной без него… Метафизика его каламбуров посрамляет смерть и энтропию и внушает читателю нечто вроде уважения к человеческой участи» (Самуил Лурье). «Приехав в Россию в 1990 г., …я сфотографировала его дом, балкон и окна его квартиры. На стене, рядом с подъездом, было выковыряно ножом: “В этом доме с 1940 по 1972 год жил великий русский поэт Иосиф Бродский”. Русский поэт было замазано зеленой краской, а внизу нацарапано “Жид”. – И ты удивляешься, что я не хочу туда ехать? – спросил БродВВВВВВВВВВВВВВский» (Л. Штерн). |
Л. Штерн отвела «проблеме пятого пункта» целую главу в своей книге. Как она точно замечает, Бродский «скользил по этой теме, как глиссер, посылая достаточно противоречивые сигналы». Известно, что в Израиль его неоднократно приглашали, и он отказывался, так и не поехал. Только неизвестно – почему.
Она, знавшая его давно, дает всем этим сложностям два достаточно проницательных объяснения: первое – «инфантильный страх оказаться отождествленным с антисемитским стереотипом еврея, сложившимся у “белых аристократов”». Второе – все-таки И.Б. «уже в юности видел себя гражданином мира».
Но в конце главы цитируется знаменитое стихотворение Бродского:
Что сказать мне о жизни?
Что оказалась длинной.
Только с горем я чувствую солидарность.
Но пока мне рот не забили глиной,
из него раздаваться будет лишь
благодарность.
«Эти слова, – считает Л. Штерн, – перекликаются со словами ежеутренней еврейВВВВВВВВВской молитвы: «Пока душа во мне, благодарю Тебя, мой Бог, что вложил в меня Свою душу. Душа чиста, и пока она в теле моем, буду благодарить Тебя, владыка всех творений».
|
Иосиф Бродский родился 24 мая 1940 г. в Ленинграде. Отец Александр Иванович Бродский (1903-1984) был фоторепортером, мать Мария Моисеевна Вольперт (1905-1983) – бухгалтером. В школе, которую посещал Бродский, некогда учился Альфред Нобель. В неполные шестнадцать лет он бросил школу и сменил множество профессий. У него был широкий круг общения, но ближе всего ему были молодые поэты, студенты Технологического института, в частности, Евгений Рейн. В 1961 г. Рейн познакомил его с Анной Ахматовой. Эта встреча сыВграла значительную роль в его судьбе. С начала 1960-х начал работать как профессиональный переводчик по договору с рядом издательств. Он становился все более известным «самиздатовским» поэтом. В 1962 г. Бродский встретил художницу Марину Басманову. В 1963-м, в период их драматического разрыва, в газете «Вечерний Ленинград» появилась статья «Окололитературный трутень». 13 февраля 1964 г. Бродского арестовали по обвинению в тунеядстве. 14 февраля у него случился в камере первый сердечный приступ. После первого закрытого судебного разбирательства поэт был помещен в судебную психбольницу, где пробыл три недели, был признан психически здоровым и трудоспособным. Второй, открытый, суд состоялся 13 марта 1964 г. Решение суда – высылка на 5 лет с обязательным привлечением к физическому труду. Он был сослан в Коношский район Архангельской области и поселился в деревне Норенская. Туда приезжала Марина Басманова. Суд «поднял» правозащитное движение в СССР и за рубежом. Через полтора года наказание было отменено. В 1965 г. большая подборка стихов Бродского и стенограмма суда были опубликованы в альманахе «Воздушные пути-IV» (Нью-Йорк). 12 мая 1972 г. Бродского вызвали в ОВИР и поставили перед выбором: эмиВВВВВВВграция или «горячие денечки». 4 июня 1972 г. Бродский вылетел из Ленинграда в Вену. По приглашению У. Одена впервые участвовал в Международном фестивале поэзии в Лондоне. В том же году начал работать в должности приглашенного профессора на кафедре славистики Мичиганского университета в г. Анн-Арбор. В 1978 г. Бродский стал почетным членом Американской Академии искусств, из которой вышел в знак протеста против избрания ее почетным членом Е. Евтушенко. В 1980 г. Бродский получил гражданство США. В 1981 г. переехал в Нью-Йорк. Он работал в общей сложности в шести американских и британских университетах. Занимался литературными переводами. Удостоен Ордена Почетного легиона во Франции. В 1986 г. написанный по-английски сборник эссе «Less than one» («Меньше единицы») был признан лучшей литературно-критической книгой года в США. В 1987 г. стал лауреатом Нобелевской премии по литературе – за «всеобъемлющее творчество, насыщенное чистотой мысли и яркостью поэзии». Нобелевская премия принесла материальную независимость и новые хлопоты. Бродский много времени посвящал устройству в Америке иммигрантов из России. Он являлся также лауреатом стипендии Макартура, Национальной книжной премии и был избран Библиотекой Конгресса поэтом-лауреатом США. Родители Бродского 12 раз подавали заявление с просьбой разрешить им повидать сына (вместе или по отдельности). Им каждый раз отказывали. Мать Бродского умерла в 1983 г., немногим более года спустя умер отец. Оба раза Бродскому не позволили приехать на похороны. Это в значительной степени сказалось на его нежелании посещать родной город в 1990-х. В 1990 г. Бродский женился на Марии Содзани. У них родилась дочь Анна Александра Мария. Бродский умер во сне от инфарктa 28 января 1996 г. в Нью-Йорке. Похоронен в одном из любимейших городов – Венеции – на кладбище острова Сан-МикелеВ. Основные сборники: «Стихотворения и поэмы» (1965), «Остановка в пустыне» (1970), «Конец прекрасной эпохи», «Часть речи» (1977), «Новые стансы к Августе» (1983), «Урания» (1987). В России изданы «Сочинения» в 7 томах, куда включены также статьи и эссе. |
|
P.S. (Это от себя, а не от уважаемого автора статьи (Н. Писарева)):
От знака, которым поэзия отмечает на лету, от имени, которое она дает, когда это нужно, — никто не может уклониться, так же, как от смерти. Это имя даётся безошибочно
|
***
24 мая 1980 ("Я входил вместо дикого зверя в клетку") - Бродский
выжигал свой срок и клику х у гвоздем в бараке,
жил у моря, играл в рулетку,
обедал черт знает с кем во фраке.
С высоты ледника я озирал полмира,
трижды тонул, дважды бывал распорот.
Бросил страну, что меня вскормила.
Из забывших меня можно составить город.
Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна,
надевал на себя что сызнова входит в моду,
сеял рожь, покрывал черной тол ь ю гумна
и не пил только сухую воду.
Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя,
жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок.
Позволял своим связкам все звуки, помимо воя;
перешел на шепот. Теперь мне сорок.
Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной.
Только с горем я чувствую солидарность.
Но пока мне рот не забили глиной,
из него раздаваться будет лишь благодарность.
I have braved, for want of wild beasts, steel cages,
carved my term and nickname on bunks and rafters,
lived by the sea, flashed aces in an oasis,
dined with the-devil-knows-whom, in tails, on truffles.
From the height of a glacier I beheld half a world, the earthly
width. Twice have drowned, thrice let knives rake my nitty-gritty.
Quit the country that bore and nursed me.
Those who forgot me would make a city.
I have waded the steppes that saw yelling Huns in saddles,
worn the clothes nowadays back in fashion in every quarter,
planted rye, tarred the roofs of pigsties and stables,
guzzled everything save dry water.
I've admitted the sentries' third eye into my wet and foul
dreams. Munched the bread of exile; it's stale and warty.
Granted my lungs all sounds except the howl;
switched to a whisper. Now I am forty.
What should I say about my life? That it's long and abhors transparence.
Broken eggs make me grieve; the omelette, though, makes me vomit.
Yet until brown clay has been rammed down my larynx,
only gratitude will be gushing from i t.
|
|
И вновь Иосиф Бродский... Иосиф Бродский и наше поколение |
Иосиф Бродский и наше поколение
| Михаил ХЕЙФЕЦ | ||
|
Мы начинаем публикацию "Иосиф Бродский и наше поколение" известного литератора Михаила Рувимовича Хейфеца*.
Напомню сперва о некоторых важных моментах, и станет понятно, почему я вспомнил именно о великом поэте, чье имя Иосиф Бродский. Наиболее эрудированные западные политики и советологи, когда берутся судить о советских делах, выглядят в нашей стране наивными людьми, обладающими поразительно интересной информацией, но в то же время неспособными правильно почувствовать суть элементарных для советского жителя проблем. (Об этом верно и точно писал А. Амальрик, «заговорившая рыба». Вероятно, работы советских американистов оставляют у их американских коллег подобное же впечатление, так же, как работы наших германистов – у немцев и т.д.) Другой момент: неверно объяснять это явление лишь разными социальными установками авторов. Чаще всего непонимание чужой страны, чужой культуры не осознано ими самими: оно – дополнительное свидетельство коренного различия духовных фундаментов двух миров – Запада и Незапада. Необходимые напоминания сделаны, теперь приступлю к объяснению, почему я вспомнил обо всем этом в заметках, посвященных творчеству Иосифа Бродского. Десять лет назад по нашей стране прокатилась волна новой «чистки»: разоблачили еще одну группу ревизионистов в составе И. Эренбурга, Е. Евтушенко, Э. Неизвестного и других деятелей культуры. Сегодня уже ясно, что Никита Сергеевич Хрущев, коллега де Голля и Эйзенхауэра, решил тогда утвердиться в роли судьи живописи и кинематографа, чтобы иметь возможность откупиться от другого коллеги, Мао Цзе-Дуна, головами заранее подготовленных для убоя «новомировцев». Комбинация не удалась: в качестве аванса Мао потребовал головы самого Никиты Сергеевича, а тому такая цена, естественно, казалась чрезмерной... (к Иосефу Бродскому мы неуклонно приближаемся). Время было тяжелое: прошел «исторический» пленум правления ССП, где воедино сливались голоса Софронова и Айтматова (Бог его прости). Тогда-то одна из советских газет («Комсомольская правда», если не ошибаюсь) поместила информацию, порочившую Евтушенко: этот поэт, по признанию американских газет, потому интересует Штаты, что представляет собой своеобразную модель человека, который лет через десять будет стоять у руля советского государства. До сих пор кажется невероятным: неужели американцы всерьез могли так думать? Нелепо само предположение, что лет через десять Советским Союзом будут управлять молодые люди, ровесники Евтушенко, – любому советскому человеку ясно, что во главе КПСС могут (в силу системы прохождения лестницы штатских чинов) находиться только старцы. Вдвойне нелепо, что вообще у власти могут оказаться люди типа Евтушенко, то есть имеющие определенные, хотя и шаткие общественные идеалы. Втройне нелепей – и это главное – выглядит попытка судить о развитии поколения молодых людей по такому поэту, как Евтушенко. Последнее утверждение не надо рассматривать, как попытку обидеть, или унизить Евгения Евтушенко. Он – полезный и по-своему честный поэт, который продолжает в поэзии линию, начатую Рылеевым, продолженную Огаревым, Курочкиным, Демьяном Бедным, Маяковским 20-х годов. Политическая злободневность, искреннее желание выразить мироощущение сегодняшнего прогрессивного человека, народолюбие, сопряженное со страстью трибуна, поиски прямого контакта с читательской, особенно молодежной аудиторией.… Такие поэты нужны России, и пусть в них кидает камень кто-нибудь другой. Но, что спорить, не по ним проходит становой хребет русской поэзии, не по их стихам современники и потомки судят о духовной жизни поколений, не они закладывают главные камни в фундамент культуры, на который и по сию пору опирается любая человеческая жизнь в нашей стране. А кто это делает? Вы уже догадываетесь, что я вплотную приближаюсь к феномену Иосифа Бродского. Главная линия – от Пушкина к Лермонтову, через Тютчева к Блоку, Маяковскому в его вершинных творениях, к Цветаевой, Пастернаку... В наши дни эту главную линию продолжил не Евтушенко. Фамилия поэта, наследующего лиру великих, – Иосиф Бродский. Именно по его творчеству можно судить о росте и саморазвитии поколения российской молодежи, по его стихам можно прогнозировать ее дальнейший путь на переломе истории.
Десять лет назад, когда имя Евтушенко было на устах у всех, у врагов и друзей, истинную цену другого поэта, не напечатавшего ни одного стихотворения, знал только круг его ленинградских друзей. Ныне перед нами – его первое собрание сочинений, и каждый, кто любит поэзию, сможет сам оценить масштаб дарования Иосифа Бродского.
* * *
Наследник лиры великих... Не слишком ли щедры мои авансы и эпите-ты? Я убежден – Иосиф Бродский, как никто другой, выразил в своих стихах духовный путь целого поколения молодой России. Обо всех нас будущий историк сможет судить, читая тома его сочинений, так же, как о поколении наших старших братьев и друзей он судит ныне по романам Солженицына.
* * *
Процесс Бродского был, если не ошибаюсь, первым процессом подобного рода и по фантастичности ситуации не знает себе равных. Весь мир, включая даже литераторов-коммунистов (что тогда было в новинку), протестовал, негодовал, удивлялся. Более того – протестовал даже командор черной сотни, именующий себя поэтом, Н. Грибачев: слишком уж абсурдным казалось обвинение поэта в... тунеядстве, затронуты были «профсоюзные» интересы. И все-таки, когда думаешь об этом деле теперь, понимаешь, что, вопреки всем протестам, власти города Ленина были со своей точки зрения абсолютно правы.
В самом деле, разберемся, за что арестовали Иосифа Бродского на самом деле?
* * *
План был сорван (опять оговариваюсь – если он существовал, ибо, в конце концов, Бродский был слишком мелкой сошкой, чтоб на него обязательно тратили умственную энергию те немногие деятели ГБ, которые мыслят, составляя следственную игру). Сорван благодаря тому, что у Бродского не нашли того, чего у него не могло быть – антисоветских стихов. Куда больше, чем деятельность ленинградского обкома или даже ленинского ЦК, его интересовали в это время проблема овладения эпическими жанрами, проблема построения современной поэмы, проблема создания нового языка.
Все, кто читал запись судебного заседания, сделанную Ф. Вигдоровой, наверняка поражались потрясающей беспомощности свидетелей обвинения. Каждый из них начинал выступление словами: «Я лично не знаю Иосифа Бродского», – но секрет заключался в том, что по сценарию показания должны были, конечно, продолжаться цитатами из крамольных стихов и заканчиваться естественным призывом: «Автору таких стихов не место в нашем прекрасном городе». Между тем, ни таких стихов, ни даже обещанной самим Бродским антисоветской песенки обнаружено не было, по причине, как мы теперь знаем, фактического их несуществования. На приговор, естественно, это влияния не оказало. «Судьи скажут то, что им прикажут, вот что судьи скажут», как пелось в старинной частушке, но судье, наверное, было неприятно: как-никак, в отличие от человека, вынесшего приговор, она числилась юристом... Теперь перед нами лежит полный цикл всего, что могло храниться в за-секреченных даже от самого подсудимого материалах дела, – то есть первый том лирики Бродского. Это исповедь сына времени, с его характерным атеизмом («И значит, не будет толку от веры в себя да в Бога... И значит остались только иллюзия и дорога»), с его добротой, осознанной, как цель собственной деятельности, с принятием мира, в который явился счастливый от великого Божьего дара юноша:
(«Стихи об испанце Мигуэле Сервете, еретике...»)
* * *
Казалось бы, такой поэт в принципе мог удовлетворить разные начальства: это ведь вроде бы атеист, оптимист и добряк... Но Иосиф Бродский был даже не непримирим с ними, а попросту несоизмерим – жил в другом измерении и тогда, когда писал о том, что дозволялось. Писал, например, о еврейском кладбище – в принципе о евреях писать можно, Евтушенко написал «Бабий Яр» и А. Кузнецов тоже, хотя это и было неприятно начальству, о чем Никита Сергеевич со свойственной ему прямотой объявил городу и миру – но все-таки писать о жертвах нацизма можно, а писать просто о евреях – ну, все равно, что говорить в доме повешенного о веревке.
Самое «принятие мира» было совсем не тем принятием, которое нужно советскому поэту, ибо принималась и воспевалась «данность с убогими ее мерилами», и само удивление перед ее чудесами подозрительно попахивало все-таки «боженькой», ибо удивлялся Бродский не делу рук советского человека, спутнику или сверх-ГЭС, а, например, тайне жизни и смерти... И доброта его обращалась на маленьких людей, ничем в обществе не выделявшихся, – на умирающую соседку или новобранца-товарища. Оптимизм его тоже был оптимизмом творческой личности, обуреваемой своей мощью, упивающейся красотой поэтических страстей, – но при этом поэт вовсе не заблуждался насчет жестокости мира, в котором жил – оптимизм оказался лишь декларацией собственной духовной непобедимости перед лицом тех, кто «стучит, забивая гвозди в прошедшее, в настоящее, в будущее время».
Еще до наступления тюремноссыльного периода в развитии мировоззрения и мироощущения Иосифа Бродского можно заметить определенный перелом. Творчество этого периода мне лично казалось наиболее чуждым из всего, написанного Бродским. Сейчас, перечитав его стихотворения и поэмы, я остался при прежнем мнении. Повторяю, это глубоко личное мнение, позволительное тому, кто дерзнул взяться за эти заметки, не имея возможности прочитать ни одной строки, посвященной Бродскому (за исключением предисловия составителя).
* * *
В области жанра Бродский в эти годы все увереннее идет от лирики к эпосу. Объективный мир, который
К этому времени наивных доверчивых юнцов среди сознательно мыслящих советских граждан практически не оставалось. Люди, верившие официальной пропаганде, верили в нее не по доверчивости, а потому, что им – по каким-то причинам личного или социального порядка – выгодно было верить: если бы эта пропаганда не была создана указаниями власти, они бы распространяли ее собственными усилиями. Однако и так называемые оппозиционеры (или инакомыслящие, по терминологии Запада), став проницательными, иногда мудрыми, научившись предубежденности, анализу, обобщению, до этой даты все еще жили и мыслили в контексте духовных ценностей, выработанных марксизмом. («Мы все марксисты, – признавался мне один из них, – даже если опровергаем Маркса. Мы и опровергаем его, пользуясь его терминологией и его схемой мышления. Ни-чему другому нас не научили».)
Почему?
* * *
Отход от традиционных, впитанных с детства моральных идеалов, не мог проходить просто и безболезненно. Неслучайно первое стихотворение из «имперского цикла», носящее многозначительное название «Anno Domini», вырвано из общего потока стихов о Риме: оно, действительно, иное, переломное по настроению, отличное от той новой позиции, которую Бродский займет после 21 августа. Поэт уже успел ощутить тяжесть разрыва своей судьбы с судьбой Отчизны, но этот разрыв воспринимается им трагически, сама мысль осудить не власть, не правящую элиту (подобное осуждение в принципе привычно и в рамках марксизма, «истинного», «либерального», «с человеческим лицом» et cetera). Но осудить Родину, нацию? Это все еще слишком тяжело для него:
Отчизне мы не судьи. Меч суда
Погрязнет в нашем собственном позоре. Наследники и власть в чужих руках... и далее следует обращение к птицам: Пускай летят поэтому в Отчизну, Пускай поют поэтому за нас. Но революционный процесс, сокрушивший после 21 августа 1968 года традиционные марксистские ценности, сделавший звание советского гражданина клеймом позора, не мог не наложить печать на творчество современника. Марксизм начался в 1848 году с поэтически мощных аккордов «Коммунистического Манифеста»: «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма». Спустя сто двадцать лет его провожали в свежую могилу сатирические припевки из «Письма к генералу» Иосифа Бродского: Генерал! Ералаш перерос в бардак. Никогда до сих пор, полагаю, так Не был загажен алтарь Минервы... И сюда, я думаю, нас завела, Не стратегия даже, не жажда братства. Лучше в чужие встревать дела, Коли в своих нам не разобраться. или Наши пики ржавеют. Наличие пик Это еще не залог мишени. И не движется цель наша дальше нас Даже в закатный час. Бродский понимает: он не одинок в своем разрыве с «великим блефом»: Я не солист, но я чужд ансамблю. Вынув мундштук из своей дуды, Жгу свой мундир и ломаю саблю. Спустя год он сформулирует подспудное, еще почти никем не осознанное, но неотвратимо надвигающееся общественное предчувствие: Зоркость этих времен – это зоркость к вещам тупика. Не по древу умом растекаться пристало пока, но плевком по стене. И не князя будить – динозавра. Для последней строки, эх, не вырвать у птицы пера. Неповинной главе всех и дел-то, что ждать топора Да зеленого лавра. Это безнадежное предвидение надвигающейся катастрофы, парализующее волю к активному сопротивлению, но и делающее несокрушимым сопротивление пассивное, породило появление на свет лучшего, на мой взгляд, из последних произведений Бродского – обширного собрания «римских» стихов. Появление темы «империи» в творчестве Бродского невозможно не связывать все с тем же роковым августом 1968 года. Мысль об отечественном империализме до этой даты была чужда общественному сознанию России: может быть потому, что империализм по традиции воспринимался у нас как империализм времен завоевания Англией Индии, когда метрополия использовала колонию с целью ограбления ее богатств в свою пользу. Справедливо однако, что СССР никогда не рассматривал отношения со странами-спутниками в подобном плане. И наоборот, общественное мнение России долгое время считало, что страны Восточного лагеря – паразиты на теле российских народов, «мы всех кормим и на фиг нам это нужно»... Подобный взгляд и до сих пор чрезвычайно распространен в массе великорусского населения: тем, что «из России паразиты всего мира соки сосут», это население объясняет низкий уровень жизни в метрополии. 21 августа как бы открыло нам глаза на империалистическое содержание нашего бытия в мире. Своеобразным отзвуком этого и явилась «имперская» тема в творчестве Бродского.
* * *
Поэт не занимался так называемыми «аллюзиями», то есть намеками на современные события, изображая императорский Рим. Конечно, у читателя, знающего подлинную жизнь современной империи, могут возникнуть определенные ассоциации. Например, когда ленинградцы прочтут о строителе Колизея: Прекрасная акустика! Строитель Недаром вшей кормил семнадцать лет На Лемносе. Акустика прекрасна... они не могут не вспоминать известную в городе Ленина легенду о том, что строитель знаменитого «Большого Дома» (КГБ–УВД) во время проектирования и постройки здания был узником заказчика. А упоминание в одном из стихотворений «известного кифареда», который призывает «убрать императора (строчкой ниже: с медных денег), – это, конечно, ехидное обыгрывание патриотического призыва А. Вознесенского «Уберите Ленина с денег». Но не в этих «аллюзиях» сила римских циклов Бродского: наоборот, его стихи поражают человека, знакомого с историей позднего Рима, точным воссозданием имперских нравов, имперской психологии, имперских конфликтов. Естественный сплав «высокого штиля» у Иосифа Бродского, придающего аромат подлинной древности, и штиля «низкого», приближающего эту древность к нам – будто речь идет о наших соседях по квартирам – этот сплав стал подлинным шедевром русского поэтического языка XX столетия, одним из его замечательнейших завоеваний и открытий. Конечно, «речения» из запаса «низкого штиля» придают римским стихам сатирическое звучание, снижая величественность привычных «имперских образов», но, Боже мой, если бы это действительно была простая и понятная сатира! Даже в образе императора, и в самих гротескных строчках и эпизодах, и в любой карикатуре, читатель, знакомый с имперскими нравами не по описаниям официальных панегиристов, но в натуре, узнает виденное, слышанное изображение исключительно в силу адекватно точной передачи невероятно ничтожной, по сути своей, модели. Бродский сумел выразить то общее, что свойственно имперскому духу всех времен и народов, – прежде всего, бездуховность чистого политико-административного единства, с его пошлым культом принцепсов, с усталым безразличием толпы к этому культу, с ее увлечением «любовными играми» и спортом в качестве суррогата смысла жизни. Разумеется, имперская жизнь, как любое явление действительности, подвержена развитию и отнюдь не одинакова в разные периоды своей истории. Бродский выбрал тот исторический отрезок, который ему наиболее близок, отрезок, когда имперское насилие уже не в состоянии держаться долее без духовной подпоры и начинает на вершине расцвета могущества ощущать бесцельность, пустоту и обреченность дальнейшего существования: Все вообще идет теперь со скрипом. Империя похожа на трирему В канале, для триремы слишком узком. Гребцы колотят веслами по суше И камни сильно обдирают борт. Нет, не сказать, что мы совсем застряли. Движенье есть, движенье происходит. Мы все-таки плывем. И нас никто Не обгоняет. Но, увы, как мало Похоже это на былую силу. Возможно, Бродский сам не осознавал социальной силы этих стихов, он проникался духом древней эпохи, он ощущал ее нерв – все это требовало такой сосредоточенности таланта, что поэт мог не задумываться над предметами, для него посторонними, существовавшими в его поэзии как бы помимо воли, – исключительно силой того художественного запаса, который поставляла ему жизнь, реалии современности. Но, согласитесь, нельзя все-таки не признать логичности поведения начальства, которое сочло, что после таких стихов, выдававших всему миру главную государственную тайну империи, «секрет отечественного Полишинеля», пребывание Бродского в качестве советского гражданина было совершенно невозможно. Ибо, коли дозволить такое Бродскому, то можно дозволить всем, а коли всем нельзя, то нельзя Бродскому тоже... Если говорить о поэтическом мироощущении третьего тома лирики Бродского, то оно характеризуется, в первую очередь, поразительно трезвым, лишенным всякой «рассыропленности», красивости и иллюзии восприятия мира, тягуче скользящего к грани катастрофы. Точная фиксация пульса обреченного поколения – вот поэтическая задача, поставленная Бродским самому себе. В нашей твердости толка Больше нету. В чести – Одаренность осколка, Жизнь сосуда вести. В «Школьной антологии» эта почти научная, плиниевская фиксация подземных толчков общества (Плиний остался в Помпее, чтобы наблюдать вблизи извержение Везувия, и погиб) достигает кульминации. Порой создается ощущение, что, анализируя судьбы своих школьных товарищей и через них, в «осколке», судьбу поколения сверстников, Бродский теряет чувство человечности, пораженный бессмысленностью, пустотой, трагически безысходной пошлостью, которая господствует над жизнями рядовых обитателей одной из империй. Он сам заворожен собственным холодом: Кровь моя холодна. Холод ее лютей Реки, промерзшей до дна. Я не люблю людей. Что-то в их лицах есть, Что противно уму, Что выражает лесть Неизвестно кому. Это – отчаяние Бродского. Отчаяние от духовной неустроенности наших женщин, от «использования класса напрокат» фальшивыми рабочими, от парши, выдрючивания, бессмысленности существования «среднего класса», и над всем этим, перекрывая это – отчаяние оттого, что Беззвучно распадался Карфаген Задолго до пророчества Катона. Отчаяние Бродского иногда переходит в цинизм, в нарочитую грубость и жесткость. Но если поэт всерьез верит в то, что он «не любит людей» – это еще один самообман. Да, он может злобно и несправедливо крикнуть: «Везде дебил, иль соглядатай, или талантливая дрянь» – но он не в состоянии стать равнодушным, стать «над схваткой»: «Когда вблизи кровавят морду, куда девать спокойный взор?» – вырывается невольное признание. И в самый неожиданный момент, сквозь проклятия, сквозь презрение, сквозь неверие, вдруг пробивается непобедимая все-таки любовь к Родине, к людям. Покидая проклятую, безумную империю, ее поэт-беглец (смертельно небезразличный и, все же, любящий Бродский) вдруг оборачивается: В отличье от животных человек Уйти способен от того, что любит. И он – уйдет через границу. Уйдет, бросив с кордона последний взгляд на море: «О, талатта!», уйдет, унося в сердце пронзительную, побеждающую все доводы холодного разума любовь к тем, кто остался в империи – к нашим матерям, которые, подобно матери Швейгольца из «Школьной антологии», страдают и умирают ради своих неповинных, как им кажется, детей. Любовь и к их детям, грешным и несчастным, которые трудно живут и для которых, вопреки разуму, Бродский просит у Бога прощения и благодати.
Окончание
Иосифа Бродского сейчас нет на родине. Но он жив и творит, и, будем надеяться, ему предстоят еще долгие десятилетия творчества. Россия – немилостива к своим поэтам. Пушкин, Лермонтов, Блок, Есенин, Маяковский, Цветаева, Гумилев, Ахматова, Мандельштам – и сколько иных, имена их, как говорили в старину, ты, Господи, веси. А Бродский жив и творит. Мы все-таки живем в счастливое время, если сохранили России такого поэта. Немного, видно, дано нам совершить. Но все-таки, когда думаешь о том, что выходит пятитомное собрание сочинений Бродского, что для него нашелся составитель, нашлись его друзья – помощники в неимоверной работе, и главное – есть читатели, те, кто придал этой работе смысл, кто всегда был той землей, в которой коренился Божий дар поэта. Что ж, когда думаешь обо всем этом, можно с законной гордостью вспомнить слова мужественной песни: И мы не праздно в мире жили! Окончание - далее... |
||
|
|
Процитировано 1 раз
И вновь Иосиф Бродский... Иосиф Бродский и наше поколение (Окончание) |
Послесловие
(Оно написано Михаилом Хейфецом в 2000 году)
Через 27 лет, благодаря «давлению на психику» автора со стороны издателя «Избранного» Евгения Захарова и помощи нам обоим со стороны питерского «мемор иа ль ц а» Вениамина Иоффе, я могу прочитать собственное «таинственное сочинение о Бродском», изменившее мою жизнь, всю судьбу.
Изначально невысоко ценил я себя, понимая, что ведь не литературовед, уж тем паче не стиховед: профессионально оценить Бродского не по силам, знаниям, не по уму дерзкому наглецу. Потому нормально встретил отказ составителя собрания, Вл. Марамзина, запустить мое сочинение в самиздат. Честно признаться, когда гебисты пришли за этой статьей, я уже забыл, что там писал… Помнил, что называл Бродского «великим» – помнил лишь из-за ужаса перед собственной дерзостью!
Сегодняшние читатели, поймите – тогда он был не признанный классик, Нобелиант, а просто знакомый, молодой рыжий парень, стихами которого я восторгался, как щенок, это-то правда, – но мало ли кто в Питере вызывал мои восторги… Вот был еще такой знакомец, вечно нищий художник Мишка Шемякин, которому я «одалживал» (без возврата, естественно) какие-то гроши, а потом устраивал ему платные халтурки – покраску стендов в 503-й школе, где я работал учителем литературы... И только сочиняя в 1973 году статью, я прямо-таки принужден был неким «внутренним голосом», что был сильнее меня, обозначить Бродского великим поэтом. Не хотел, трусил, боялся, но, как видите, решился и - назвал… И даже, как теперь ясно, не слишком ошибся.
Перечитывая себя, с искренним изумлением понял, что выявил тогда те грани таланта Бродского, о которых никто после меня за 27 лет не написал! Значит, по-своему статья стоит публикации (Евгений Захаров, настоявший на действе, оказался-таки прав, а я, возражавший ему, - нет).
Рецензия на статью Михаила Хейфеца «Иосиф Бродский и наше поколение» профессора Е. Эткинда, 20 января 1974 год.
Статья очень хорошая, тем более, что первая. Почти все, что писалось на Западе, свидетельствует о справедливости исходного тезиса – “взаимное непонимание людей двух миров”, и о необходимости думать и осмыслять только здесь и только нам.
В статье многое осмыслено: позиция Иосифа Бродского – не “над схваткой”, а мимо политики и с отвращением к ней; отношение к нему властей, для которых он враг, не будучи политическим сатириком; повороты творческого пути Иосифа Бродского, его реакция на оккупацию Чехословакии; его языково-стилистическая позиция. Однако все эти важные проблемы только намечены – даже в пределах этой статьи они заслуживают развития.
1. Позиция Иосифа Бродского. То, что сказано на стр. 9, мне кажется неверным в корне – будто бы он интересовался проблемой “овладения эпическим жанром, проблемой построения современной поэмы, создания нового эпического языка”; а не “деятельностью ленинградского обкома”. В первую очередь его волновали отнюдь не литературные проблемы, а – метафизические; в этом и связь Иосифа Бродского с Дж. Донном и английской метафизической поэзией.
Смерть и бытие, поэзия и реальность (“великий поэт – любил он говорить – это человек, внесший в мир новую нравственную идею”; такого критерия не выдерживают почти все признанные великие поэты). Это очень важно: Иосиф Бродский потому и большой поэт, что он, прежде всего, не литератор, а мыслитель о жизни. Профессиональный литератор, ищущий решение “эпической поэмы”, как правило – импотент, вроде В. Катаева или В. Брюсова. Большие поэты думали о жизни, а для ее выражения создавали словесную форму. Надо здесь определить его, Бродского, космизм.
2. Отношение к нему властей. Да, власти его ненавидели и отчасти продолжают. За что? Объяснение слабое, во всяком случае, недостаточное. Прибавим:
1) непонятность всегда вызывает бешенство, презрение, оскорбленно ст ь (“он меня дурачит! А вдруг там есть какой-то смысл? Тогда он меня одурачил вдвойне!”);
2) асоциальность (кажущаяся – если не считать “Школьной антологии”), нарушающая установленные нормы некрасовской и даже блоковской традиции, отсюда и
3) - абсолютная неясность корней – на что это похоже? В памятной русской поэзии – ни на что. В самом деле, связь есть, но с Мандельштамом, а по- настоящему лишь с англичанами (Од е н, а прежде Донн и метафизики) и американцами. Русский классицизм? Карамзин? Слабые отзвуки. Так вот, непонятность корней ведет к ощущению чуждости, а значит – к враждебности;
4) несовпадение “тезауруса”: что это за триремы, Плинии, легионеры, паланкины, драхмы, гетеры, сатиры, кифареды, гимнасии, ксенофонты, диоскуры? Известно, что этот наглый мальчишка не имеет даже диплома; откуда он смеет все это знать? А почему я не знаю? Значит, он морочит мне голову, выкаблучивается, строя из себя Пушкина. Пушкин учился в лицее, и он мог знать, что значит – “Меркнут волны Флегетона...” Этот – нахал, а корчит из себя знатока. Повод мелкий, но мне про подобные вещи говорил председатель городского суда. “Ученость” стихов Иосифа Бродского его не только раздражала, но даже бесила.
Я назвал четыре причины, их гораздо больше, назвал я не главное.
3. Повороты творческого пути. Чехословакия. Сам Иосиф Бродский говорил, что решающее значение для формирования его личности имела Венгрия, 1956 г. Он был юн, но уже тогда определилось все, что автор относит к 1968. Если поэт – чуткий аппарат, он не может не предвидеть. Особенно в том, 56 году, когда правительственный поворот был куда круче и впечатляющее. Подумайте: был XX съезд, была сказана правда, и у всех (подчеркнуто автором) открылись глаза на собственное прошлое и даже на подоплеку своих же побед, и вдруг... С той стороны – петли и бомбы, с этой – танки и автоматы. В дни Венгрии родилось отвращение к империализму, но и понимание безысходности. По контрасту 56 год был грандиозной встряской, Иосиф Бродский прав, ссылаясь на него. А 68? Уже было предано забвению все, сказанное на XX и XXII съездах, уже заткнули в яму зловещее дело Кирова, уже даже расправились с простодушным тираном Николаем Хрущевым, ну, на этом фоне – танки в Праге удивить никого не могли. В статье 68-й год резко преувеличен, и я могу засвидетельствовать: для Иосифа Бродского это не было ни переломом, ни даже удивлением; в те дни я видел его постоянно, и он был совершенно открыт и прям. Судьба “мирового коммунизма” его уже не интересовала (если она волновала его прежде!).
4. Языково-стилистическая позиция Иосифа Бродского. Об этом сказано весьма невнятно. Он отправился в допушкинское время – зачем? Его не удовлетворял “пушкинский” язык? Но ведь он, этот язык, уже был перетрясен Маяковским, Пастернаком, Цветаевой, Мандельштамом. Зачем было так далеко ходить? Нет, дело не в том, а в поисках классической формы, способной противостоять хаосу идей: формы строфы Иосифа Бродского, особенно строфы “Горбунова и Горчакова” с прекрасной рифмой. Классическая строфа влекла за собой классическую речь. Ведь у него нет верлибра, даже белый стих – исключение. Чем хаотичнее мир, тем строже искусство.
Продолжение послесловия Михаила Хейфеца.
Несколько слов о перечитанной – и тоже через 27 лет - рецензии профессора Эткинда.
На меня она не произвела тогда большого впечатления – и не потому, что Эткинд был в чем-то неправ. Просто ко мне как автору эта рецензия не имела прямого отношения: ну, не мог я удовлетворить запросы профессора («Самая красивая женщина не может дать больше, чем она может», говорят французы). У меня не хватало ни знаний, ни опыта, ни чутья, чтоб ощутить и проанализировать, скажем, космизм и философию Бродского. Я умышленно этой темы бежал, а вовсе не пропустил ее по ошибке. «Еже писа х – писах», а про что не писал, так не мог написать, в принципе не мог.
И далее: о неприязни начальства к Бродскому… Эткинд прав в своих «картинках с выставки» и замечательно, что он оставил такую зарубку для потомков. Только ведь я-то писал не о том, за что начальство Иосифа не любило, это интересная, но совсем иная тема. Мало ли за что оно кого-то не любило! Но не каждого же грамотея и чужака сажали... Вон Битов а не посадили, Ефимова не посадили, Довлатова, Стругацкого, - у властей был безошибочный инстинкт, кого сажать нужно, а с кем можно годить, я иногда даже поражаюсь точности их нюха.
И насчет Венгрии: не нашел я в стихах никакого отражения венгерской трагедии. Не было у Бродского этого – даже косвенно… А писал-то я не об эволюции общего мировоззрении Бродского (не настолько я его и знал), а лишь об изломе его поэтического видения (от второго тома к третьему), а вот этот излом наблюдался точно и виделся следствием общественного переворота 1968 года.
Эткинду как профессионалу-литературоведу по прочтении моей статьи явно самому захотелось написать о поэте. И ему было о чем писать – про что я бы написать не смог никак… Самим этим импульсом я могу гордиться. И его рецензия может передать потомкам нюансы нашей тогдашней странной жизни. Кроме того… «Ваш интеллектуальный соавтор», называли его гебисты. Так пусть, как и в следственном деле, решил я, он останется на страницах этого «Избранного».
|
|
Библейский сюжет. Песнь Песней (Владимир Высоцкий). (2004) |

Год выпуска: С 2002
Страна: Россия
Жанр: Биографический
Продолжительность: 315х25 мин.
Перевод: Не требуется
Русские субтитры: нет
Режиссер: Елена Китаева
Описание: Обращение великих художников к Библии никогда не заканчивалось только иллюстрацией того или иного сюжета Вечной Книги. Оно всегда предполагало личное осмысление. Художник выбирал библейскую историю, чтобы рассказать о себе, о своем времени, чтобы глубже постичь смысл происходящего.
Язык образов Святого Писания был универсален и понятен для всех. Но теперь для нас этот язык наполовину забыт. Мы уже не можем так ясно, с листа, читать всё, что говорили в своих произведениях художники, поэты, композиторы и писатели прошлого. Мы более опираемся на чувственное восприятие, которое все же является только частью замысла, его внешней стороной.
В программе «Библейский сюжет» делается попытка соединить «прекрасного разрозненные части», по-другому взглянуть на всемирно известные произведения искусства, рассказать о судьбе их создателей.
«А сейчас я хочу спеть вам песню, которую вы никогда раньше не слышали» -- сказал Владимир Высоцкий перед тем, как исполнить «Балладу о Любви» на первой и, как оказалось, последней своей записи на телевидении в январе 1980 года. И в наши дни эти стихи для многих остаются не прочитанными. Немногие знают, что одна из лучших песен Владимира Высоцкого написана на библейский сюжет.
«Песнь песней» пробовали класть на стихи Державин, Пушкин, Байрон, Фет... Владимир Высоцкий напишет в своем коротеньком дневнике: «Послал три баллады Сергею и замучился с четвертой о любви. Сегодня, кажется, добил».
|
|
Процитировано 1 раз
Понравилось: 1 пользователю
Невероятно, но... (Возвращаюсь к теме) Территория заблуждений с Игорем Прокопенко (21.05.2013) |
 Что такое Человек?;
Что такое Человек?;
Куда стремится душа после смерти?;
Как зовут богиню клинической смерти?;
О чём рассказывают пережившие клиническую смерть?
|
|
Процитировано 2 раз
Понравилось: 1 пользователю
Невероятно, но... (Возвращаюсь к прошлым публикациям) Вас реально не существует. |
Вас реально не существует.
Психолог Джек Корнфилд, рассказывая о своей первой встрече с учителем тибетского буддизма Калу Ринпоче, вспоминал, что между ними состоялся такой диалог:
- Не могли бы вы мне изложить в нескольких фразах самую суть буддийских учений?
- Я бы мог это сделать, но вы не поверите мне, и, чтоб понять, о чем я говорю, вам потребуется много лет.
- Все равно, объясните, пожалуйста.
Ответ Ринпоче был предельно краток:
- Вас реально не существует.

Будда говорил, что все явления «подобны отражению луны в воде». Об отражении луны в воде, или об образе в зеркале, или о сне, нельзя сказать, что они вовсе не существуют, поскольку их можно видеть. Но они не существуют в истинном смысле, так как не обладают никакой реальностью. Тем не менее, делать вывод, что все нереально, раз ум неосязаем и пуст, отрицать принцип причинно-следственной связи - кармы — это большая ошибка. Думать, что ничто не имеет никакого значения, потому что является пустым по своей природе, - неверно. Будда говорил: «Те, кто приписывает явлениям окончательную реальность, — глупы, как осел, но те, кто отрицает действительность, намного глупее».
Наш опыт в круговороте перерождений определяется тремя представлениями, присущими нам, и в корне неверными.
Первое заключается в том, что мы все время ищем что-то действительно существующее и приписываем вещам реальность, которой они не обладают. Мы не понимаем, что мир явлений, который мы воспринимаем, - это проекция ума, считаем его абсолютно реальным и совершенно независимым от ума, потому что считаем что-то истинным, что таковым не является.
Второе — это наше нежелание видеть, какое страдание сокрыто в нашем способе восприятия мира. Мы переживаем страдание и разочарование в разных формах, потому что постоянно ищем непреходящее счастье там, где счастья в истинном смысле на самом деле нет. Этот непрестанный поиск переживания такого счастья не в том месте — наша вторая ошибка.
Третье неверное представление — считать нечто совершенно непостоянное неизменным, стабильным, тем, на что можно положиться. Мы постоянно ищем какую-то опору в том, в чем никакой опоры нет.

Таким образом, мы становимся жертвами этих трех основополагающих заблуждений. Мы считаем:
- нечто совершенно преходящее абсолютно истинным;
- нечто, содержащее страдание и разочарование, приносящим счастье;
- непостоянное — непреходящим.
С этими тремя суждениями мы непрерывно переживаем сансару, круговорот перерождений, переходим из одного состояния в другое и рассматриваем все как реально существующее, постоянное и способствующее переживанию счастья. Считать себя очень удачливыми мы можем лишь тогда, когда начинаем понимать наш способ восприятия и видим, что явления — всего лишь проекции ума.
Как писал тибетский буддийский лама Калу Ринпоче («О природе ума»), «Мы не можем сказать, что ум существует, потому что нет ничего, что можно было бы увидеть. С другой стороны, он является источником сансары и нирваны. Поэтому заявления о существовании и не существовании ума — утверждения неверные. Он и существует и не существует одновременно. Мы можем описывать его, но ни одно из описаний не будет точным. Единственное, что можно утверждать, — по своей сути ум пуст».

Всякий раз, когда есть пустота ума, есть и ясность; когда есть ясность, есть и знание - это три нераздельных качества, которые описывают ум. Ум, обладающий этими тремя свойствами, существует с безначальных времен, не будет иметь конца и никогда не прервется. Благодаря своей пустоте ум вечен. Мы не распознаем истинную природу своего ума. Это есть неведение. Откуда же берется само неведение? С самого рождения у нас есть глаза, тем не менее, наши глаза не могут видеть ни нашего лица, ни самих себя, хотя и видят все остальное. Точно так же неведение - это попросту неспособность ума видеть самого себя, узнавать себя.
На вопрос «что же такое ум?», Калу Ринпоче отвечал так: «Прежде всего - это то, что осознает всевозможные мысли, порождает всевозможные беспокойные эмоции и испытывает всевозможные страдания и радости. Его сущность пуста, у него нет ни цвета, ни образа, ни вещества». Сколько существует ум, столько же существует и карма. Невозможно найти точку отсчета, вычислить, когда все началось. Так было всегда. Все это не имеет начала, как и сама природа ума.

Так как мы не осознаем, что истинная природа ума по своей сути пуста, мы вместо нее переживаем реально существующее «я» или «личность». И это — самая большая наша ошибка, с которой начинается все страдание. В учениях говорится: привязанность к «я» — величайший «демон» вселенной. Обладая физическим телом, мы в бодрствовании привязаны к нему. Но во время сна мы живем в разных видах тел и испытываем разные уровни существования.
Все существование в мире явлений можно испытать в «теле сна». Мы видим, чувствуем запах, прикосновение, слышим, думаем – мы переживаем всю вселенную, но проснувшись, понимаем, что вселенная во сне не абсолютна. Очевидно, что она не во внешнем мире, который мы хорошо знаем, не в комнате, где мы спим, не в нашем теле – она не может быть найдена, где бы то ни было. Когда сон закончился, его реальность просто исчезает. Она была только проекцией ума. Все наши переживания подобны снам и иллюзиям. У них нет никакой истинной сути, потому что они не существуют сами по себе, так же как и сон. Когда мы просыпаемся ото сна, он исчезает.
Физическое состояние бодрствования, состояние сна и ментальное тело — это три фазы, которые определяют круговорот сансары. В сансаре переживаются одна за другой все три фазы, их ощущают как совершенно реальные. Ум убежден, что все его переживания в состоянии бодрствования, сна и в промежуточном состоянии совершенно реальны и истинны. Он не понимает, что это — всего лишь его собственные проекции.
Миларепа - учитель тибетского буддизма, знаменитый йог и поэт, достигший состояния полного просветления за одну жизнь, говорил: «Страх смерти загнал меня в ретрит. Там я беспрестанно медитировал о непостоянстве и смерти. И теперь я познал бессмертную природу ума и избавился от всех страхов». Миларепа увидел, что все проекции ума иллюзорны по своей сути, как радуга, как изображения в зеркале, как отражение луны в воде.

В современной физической М-теории первым шагом на пути создания новой картины мира является концепция голографической Вселенной. Подобно голограмме, где каждый сегмент содержит информацию о целом запечатлённом объекте, каждый участок воспринимаемого нами мира содержит в себе полную информацию о структуре Вселенной. Вселенная представляет собой гигантскую голограмму, где самая крошечная часть изображения несет информацию об общей картине, где всё взаимосвязано и взаимозависимо. Всё, включая сознание и материю, активно влияет на целое, а посредством целого и на все составляющие.
Нашу способность быстро отыскивать из громадного объема нужную информацию можно объяснить работой мозга по принципу голограммы. Как отмечает доктор философии, основатель трансперсональной психологии Станислав Гроф, сознание есть лабиринт, соединенный не только с каждым другим сознанием, существующим или существовавшим, но и с каждым атомом, организмом и необъятной областью пространства и времени
|
|
Процитировано 2 раз
Понравилось: 2 пользователям
Невероятно, но... (Возвращаюсь к прошлым публикациям) Петля времени |
Петля времени
«Будущее уже существует, и поэтому неудивительно, что его можно наблюдать сейчас»

Идея написания этой статьи возникла у меня после просмотра научно-фантастического боевика с Брюсом Уиллисом «Петля времени». Если даже в недалеком будущем подобные путешествия во времени станут реальностью, можно ли будет «замкнуть петлю», как это сделал герой фильма?
Что такое «петля времени» - временная петля - кольцо времени? Это зацикленный отрезок времени: когда цикл завершается, можно вернуться в его начало и заново пережить данный отрезок времени, может быть даже неоднократно. Это как колея железной дороги, у которой есть петли и кольца, и мы можем, продолжая движение вперед, вернуться к станции, которую уже миновали.
Мы знаем, что кратчайшее расстояние между двумя точками – прямая, но это не обязательно. Если свернуть лист бумаги так, чтобы точки соединились, то кратчайшим расстоянием между ними станет «кротовая нора». Представьте себе зеркало Алисы - волшебное устройство, соединяющее между собой окрестности Оксфорда и Страну чудес. Это «кротовая нора» - «устройство», способное служить связующим звеном между двумя параллельными вселенными.
 Мы иногда задумываемся, что же такое время, откуда оно взялось и куда нас ведет. Стандартное определение времени для обычного человека звучит так: «непространственный континуум, в котором события происходят в необратимой последовательности и развиваются от прошлого - через настоящее - к будущему».
Мы иногда задумываемся, что же такое время, откуда оно взялось и куда нас ведет. Стандартное определение времени для обычного человека звучит так: «непространственный континуум, в котором события происходят в необратимой последовательности и развиваются от прошлого - через настоящее - к будущему».
А вот для шаманов Древней Мексики время являлось формой упорядоченности энергии, которую человек может непосредственно осязать и приводить в движение. У них было понятие «колеса времени», и время они представляли похожим на туннель бесконечной длины и ширины - туннель с зеркальными бороздками. Каждая бороздка бесконечна, и бесконечно их число. Сила жизни заставляет нас всматриваться в одну бороздку, а значит оказаться пойманным в ее ловушку. Для шаманов «колесо времени» являлось «кольцом времени».
Что же касается науки, то в общей теории относительности пространство-время можно сравнить с полотном, которое может сжиматься и растягиваться. При определенных обстоятельствах это полотно может растягиваться быстрее скорости света. Если схватить полотно за край и быстро потрясти, мы увидим, что по полотну побегут волны, причем побегут с определенной скоростью. Любое серьезное возмущение во Вселенной, такое как столкновение черных дыр или Большой взрыв, рождает на этом полотне пространства-времени рябь, которая разбегается в разные стороны. Эта рябь, или гравитационные волны, слишком малы, чтобы их можно было заметить при помощи обычных инструментов. Для их исследования в 2020 году NASA и ЕКА планируют запуск лазерной интерферометрической космической антенны LISA, которая будет регистрировать гравитационные волны, до сих пор блуждающие по Вселенной после Большого взрыва.

Понятие «кротовая нора» ввел в 1935 году Альберт Эйнштейн. «Кротовые норы» - самая многообещающая схема машины времени, это дыры в пространстве-времени, где человек может свободно перемещаться вперед и назад во времени. «Кротовая нора» - это туннель, связывающий разные части пространства. Вход в туннель может быть размером с дом, звезду или планету. И если вы туда «нырнете», то «вынырнете» в другом месте пространства-времени. Можно попасть в другую часть нашей галактики, в другую галактику, другую Вселенную. По физическим свойствам вход в «кротовую нору» очень похож на черную дыру. Отличие в том, что туда можно не только попасть, оттуда можно вернуться, поскольку у «кротовой норы» нет горизонта событий.
Стивен Хокинг полагает, что «кротовые норы» могли бы решить проблему предельной скорости в космосе. Согласно теории относительности, чтобы пересечь Галактику, требуются десятки тысяч лет, но через «кротовую нору» можно слетать на другой край Галактики и вернуться обратно за время ужина. 
Существует гипотеза, называемая «теорией многих миров», суть которой заключается в том, что все возможные многочисленные миры могут существовать одновременно. Каждый раз, проходя сквозь «кротовую нору», мы возможно будем входить в новую Вселенную.
Мичио Каку считает, что «все возможные миры сосуществуют вместе с нами… в тот момент, когда вы изменяете прошлое, возникает параллельная Вселенная, куда мы можем отправиться в наше прошлое».
Курт Гёдель считал, что пространство-время во Вселенной, целиком заполненной вращающейся материей, имеет «временную петлю» в каждой точке, и по этим петлям можно путешествовать в прошлое.
Николай Кардашёв в свое время высказал гипотезу о возможности перемещения во времени в обе стороны от текущей временной координаты.
Николай Козырев утверждал, что через физические свойства времени происходит влияние будущего на настоящее. При этом «связи через время должны быть мгновенными».

С точки зрения эзотерики, мы живем в многомерном Мироздании. Четырехмерное пространство - это лишь часть многомерности, воспринимаемой нашими органами чувств и измерительными приборами. В многомерном пространстве привычные нам причинно-следственные связи теряют всякий смысл. К примеру, событие, приведшее к определенному следствию, может произойти позже наступления этого следствия. Общепринятая логика в данном случае становится бессмысленной. Событие во времени нашей четырехмерности в некотором роде подчиняется «распределению Гаусса», оказывая одновременно влияние на настоящее, прошлое и будущее.
Теория многомерности пространства гласит, что Мироздание - количество n-мерных пространств, как бы вложенных одно в другое. Словно матрёшки они образуют сложнейшую многомерную структуру. Существует место, где время не линейно. Настоящее, прошлое и будущее там слиты воедино, и мы можем путешествовать через них. Все возможные миры сосуществуют вместе с нами, для достижения их нужен портал - «кротовая нора».
Ведь привычные для нас понятия: прошлое, настоящее, будущее, вчера, сегодня, завтра, сейчас – весьма относительны. У каждого из нас бывают состояния, когда впервые увиденное: ландшафт, дом, лицо человека воспринимается как уже виденное - состояния «déjà-vu». Это и есть факт смещения настоящего, прошлого, будущего и их слияния в нашем сознании. Квантовая физика допускает вероятность появления состояния «déjà-vu». Мичио Каку объясняет феномен «déjà-vu» нашей способностью «перемещаться между различными Вселенными».

И все-таки, можно ли «замкнуть петлю», путешествуя во времени? Думаю, что можно, если только изменить прошлое. Хотя, это похоже на информационный парадокс, согласно которому информация приходит из будущего, а это означает, что у нее нет начала.
Например, представим, что вы создали машину времени и отправляетесь в прошлое, чтобы поведать секрет путешествия во времени самому себе. У этого секрета не будет начала, поскольку та машина времени, которую вы создадите, не будет изобретена вами, секрет ее конструкции будет передан вам вашим старшим воплощением. И возникает ещё один парадокс - изменив прошлое, вы меняете будущее, которое уже видели!?
Запрет путешествия во времени в Китае
Речь идёт даже не о самих путешествиях, а об их изображениях в какой-либо форме. В начале 2011 года Управление радио, кино и телевидение Китая объявило, что в кино и на телевидении запрещены любые перемещения во времени. До этого тема путешествий в прошлое и будущее была одной из популярнейших на китайском телевидении. Однако правительство посчитало, что такие фильмы «создают вредный миф, обладают отвратительными, безобразными и абсурдными сюжетами, пропагандирующими феодализм, суеверия, фатализм и реинкарнацию».
Надо думать, что фильм «Петля времени» пользовался у китайцев большой популярностью.
Нас посещают наши создатели и......наши потомки!
На днях прочитал интересную статью. В ней говорится о посещении Земли (инопланетянами), так автор предполагает, что нас посещают наши создатели из миров: Лиры, Сириуса, Веги, Зета и......наши потомки! Но это уже гибриды Зетов и человека, живущие в будущем.
Посещения эти довольно редки, и некоторые из гостей хотят нам помочь в развитии. Другим, мы, как говорят, до лампочки! Зеты эксперементируют с нашими генами, создают гибридов. И если исходить из статьи, что их потомки нас посещают, видимо этот эксперимент им удался. Так что будем ждать.
Парадоксы путешествий во времени
Любой теории путешествий во времени приходится сталкиваться с «парадоксом дедушки», в котором путешественник во времени убивает одного из своих предков, что делает невозможным его собственное существование.
Однако, ученые при помощи квантовой механики показали, как природа может защищаться от парадоксов. Если внести небольшие изменения в начальные условия, то парадокса не случится. К примеру, если в прошлом путешественник попытается убить своего деда при помощи ружья, намного вероятнее, что производитель пуль изготовит дефектные пули, или в последний момент ружье не сработает, или какие-нибудь квантовые колебания отведут пулю в сторону в последний момент.
Путешествия во времени на микроскопической основе
Стивен Хокинг считает, что "квантовая теория допускает путешествия во времени на микроскопической основе". Если Хокинг прав, то представители высокоразвитой цивилизации могли бы изменить свое физическое существование, приняв такую форму, которая могла бы выдержать тяжелое путешествие назад во времени или в другую вселенную (путем слияния углерода и кремния и сведения своего сознания к чистой информации).
В конечном счете, наши построенные на основе углерода тела могут быть слишком хрупкими объектами для физических трудностей такого путешествия. В далеком будущем мы можем оказаться способны соединить свое сознание с нашими робототехническими достижениями при помощи передовой ДНК-инженерии, нанотехнологии и робототехники.
|
|
Процитировано 2 раз
Понравилось: 1 пользователю
Невероятно, но... (Возвращаюсь к прошлым публикациям...) Парадоксы времени |
Парадоксы времени

Что такое «петля времени» - временная петля? Можно ли вернуться в начало и заново пережить зацикленный отрезок времени, когда цикл завершается? В финале своей статьи «Петля времени» я задалась вопросом: можно ли «замкнуть петлю», путешествуя во времени? Наверное, можно, если только изменить прошлое. Хотя, это похоже на информационный парадокс, согласно которому информация приходит из будущего, а это означает, что у нее нет начала. И возникает ещё один парадокс - изменив прошлое, вы меняете будущее, которое уже видели.
Посмотрев недавно фильм «Тайна перевала Дятлова», я решила вернуться к теме временных петель. Сам фильм посредственный и малоинтересный, сценаристы так и не приоткрыли завесу тайны гибели девяти свердловских туристов в 1959 году. Понравился лишь довольно неожиданный и нелогичный финал: авторы умело «замкнули петлю», разбросав подсказки по ходу фильма.
Необычный финал фильма вызвал новые вопросы: «Можно ли «обнулить петлю»? «И если петля «обнулится», существуем ли мы реально?» А если объективной реальности не существует, то Мироздание - это иллюзия? Позволяет ли существование замкнутых временных петель путешествия во времени со всеми связанными с ними парадоксами?

Теория замкнутых временных петель, возвращающих в исходную пространственно-временную точку, была впервые вынесена на обсуждение Куртом Гёделем в 1949 году на основании полученного им точного решения уравнений Эйнштейна. Курт Гёдель считал, что пространство-время во Вселенной, целиком заполненной вращающейся материей, имеет «временную петлю» в каждой точке, и по этим петлям можно путешествовать в прошлое. Теория относительности и квантовая физика продемонстрировали, что время, судя по всему, не является линейной последовательностью, что допускает возможность получения информации из будущего.
Однако передача информации или энергетических полей сквозь время - это совершенно не то же самое, что перемещение людей. Теория относительности как будто не допускает идею о том, что какой-либо материальный объект может перемещаться со скоростью, превосходящей скорость света (или хотя бы со скоростью света), а для путешествия во времени необходимо именно такое условие. Кроме того, существует сложная проблема парадокса, на который опираются физики в своем доказательстве невозможности путешествий во времени. Стивен Хокинг утверждает, что должен существовать какой-то еще НЕ открытый закон, который докажет ошибочность вывода квантовой физики об обоснованности путешествий во времени, поскольку эти парадоксы показывают, что путешествия сквозь время противоречат здравому смыслу.
 Один из простейших парадоксов звучит следующим образом. Предположим, завтра вы построите машину времени, совершите путешествие в прошлое и застрелите себя в тот момент, когда вас будут нести из родильного дома. Поскольку теперь вы не будете иметь возможность вырасти и построить машину времени, то, как вы можете оказаться в прошлом в результате перемещения на машине времени, которую вы никогда не построите? И, вообще, как вы сможете существовать в будущем, если вы сделали так, что в будущем вы не сможете существовать?
Один из простейших парадоксов звучит следующим образом. Предположим, завтра вы построите машину времени, совершите путешествие в прошлое и застрелите себя в тот момент, когда вас будут нести из родильного дома. Поскольку теперь вы не будете иметь возможность вырасти и построить машину времени, то, как вы можете оказаться в прошлом в результате перемещения на машине времени, которую вы никогда не построите? И, вообще, как вы сможете существовать в будущем, если вы сделали так, что в будущем вы не сможете существовать?
Явная абсурдность подобных мысленных опытов такова, что возникает впечатление, будто путешественник во времени попадает в собственную ловушку. Однако все будет выглядеть по-другому, если мы представим этот парадокс как составную часть петли, в которой события становятся одним целым. В таком случае они будут лишь казаться нам невозможными, поскольку мы привыкли думать о времени как о линейной последовательности событий. Если же такая последовательность не линейна, то такие вещи как «до» и «после» не могут предотвратить это событие, потому что они являются всего лишь иллюзией.
Другой возможный способ решения этого парадокса заключается в обращении к теории множественных миров квантовой физики: мир прошлого, в который вы совершаете свое путешествие, не относится к той же самой реальности, которую вы покидаете. В таком случае, в ходе упомянутого эксперимента, вы застрелите всего лишь одну из почти идентичных версий самого себя, но не того, который стал убийцей. Единственный маршрут, который невозможен согласно законам физики параллельных вселенных, - это путешествие в прошлое или будущее вашей собственной реальности. При путешествии в альтернативные версии этой вселенной подобный парадокс не возникнет.
Современные ученые-физики, раздумывающие над возможными путями создания машины времени, начинают исследовать методы передачи информации или энергетических полей. Для того, чтобы послать сквозь время человека, возможно, придется сначала преобразовать его молекулы в энергию, а после совершения перехода во времени, снова «собрать» его «на другой стороне».
Мичио Каку в книге «Параллельные миры» пишет: «Если же пространственно-временные туннели и порталы окажутся слишком тесными для массового переселения в другую Вселенную, то есть еще один вариант: свести все информационное содержание развитой разумной цивилизации до молекулярного уровня и пропустить через туннель, а там оно снова организуется в самое себя. Таким образом, целая цивилизация сможет перенести свои «семена» через этот коридор и на новой почве снова расцвести во всей своей красе. Гиперпространство перестанет быть игрушкой в руках физиков - теоретиков и вполне сможет стать единственным спасением для разумной жизни, оказавшейся в умирающей Вселенной».

Однако есть еще один способ совершения такого перехода, при котором используются «червоточины» - «кротовые норы» - гипотетические топологические особенности пространства-времени, представляющие собой в каждый момент времени «туннель» в пространстве. Теория «червоточин» получила довольно широкую поддержку, а само это явление вытекает из искривленной природы пространства-времени. Собственно говоря, эти «червоточины» должны представлять собой кратчайший путь сквозь сложенную наподобие носового платка вселенную, и могут быть каналами, проходящими сквозь пространство и время. Мы знаем, что кратчайшее расстояние между двумя точками – прямая, но это не обязательно. Если свернуть лист бумаги так, чтобы точки соединились, то кратчайшим расстоянием между ними станет «кротовая нора».
«Кротовая нора» - самая многообещающая схема машины времени - туннель, связывающий разные части пространства. Вход в туннель может быть размером с дом, звезду или планету. И если туда «нырнуть», то можно «вынырнуть» в другом месте пространства-времени. Каждый раз, проходя сквозь «кротовую нору», мы возможно будем входить в новую Вселенную. Многие космологи и астрофизики уверены, что в космосе есть кротовые норы, образовавшиеся при зарождении Вселенной, через которые можно переместиться в другие вселенные и совершить путешествие во времени.
По мнению ряда физиков, после Большого взрыва Вселенная состояла из квантовой пены, и в каждый момент времени в ней возникали не только черные дыры, но и кротовые норы. Если ученым удастся разработать полную теорию гравитации и пространства-времени, это разрешит вопрос путешествий во времени и позволит человечеству создать «кротовую нору», соединяющую нашу Вселенную с другой, дочерней вселенной. Как только мы окажемся в одной из параллельных вселенных, мы сможем рассматривать время и пространство так же, как мы различаем длину, ширину и высоту. Возможно, путешественники во времени из будущего, и инопланетные цивилизации посещают нас посредством кротовых нор?
 Когда мы преодолеем иллюзию реальности, связанной рамками времени, принцип причины и следствия окажется несостоятельным. Если мы через исследования множества странных феноменов времени попытаемся прощупать самую сердцевину реальности, то обнаружим, что пространство, время, прошлое, будущее, следствие и причина - это всего лишь слова.
Когда мы преодолеем иллюзию реальности, связанной рамками времени, принцип причины и следствия окажется несостоятельным. Если мы через исследования множества странных феноменов времени попытаемся прощупать самую сердцевину реальности, то обнаружим, что пространство, время, прошлое, будущее, следствие и причина - это всего лишь слова.
В книге«Бури времени» Дженни Рэндлз пишет: «Что если мы обнаружим, что наши потомки скрытно живут среди нас, узнаем, что они используют то наследие, которое мы строим сегодня этими странными экспериментами с пространством и временем?
Как изменится наш мир, если иллюзии времени расколются навсегда? Одно из величайших чаяний научной фантастики вскоре может осуществиться. Доказательство этого экстраординарного момента может быть рядом с нами, ожидая, когда мы его обнаружим. В самом деле, во многих отношениях концепция путешествия во времени, возможно, уже стала истинной, и, возможно, нам придется искать в прошлом ответы на вопросы завтрашнего дня. Потому что с точки зрения путешествия во времени, завтра - это на самом деле сегодня».
Временные парадоксы
В фильме «Назад в будущее» Майкл Фокс пытается избежать «дедушкиного парадокса», когда возвращается назад во времени и встречается со своей матерью-подростком, которая тут же влюбляется в него. Но если она отвергнет ухаживания отца Фокса, то само существование Майкла будет поставлено под угрозу.
Сценаристы нарушают законы физики, создавая голливудские блокбастеры. Но в кругу физиков к таким парадоксам относятся очень серьезно. Любое решение подобных парадоксов должно быть совместимо с теорией относительности и квантовой теорией. Например, для совмещения с теорией относительности река времени должна быть бесконечной. Вы не можете запрудить реку времени. В общей теории относительности время представлено как гладкая протяженная поверхность, которую нельзя разорвать и на которой не может образоваться рябь. Топология ее может измениться, но просто так остановиться река не может. Это означает, что если вы убьете своих родителей до момента собственного рождения, то вы не исчезнете. Такой вариант развития событий противоречил бы законам физики.
Река времени
Если река времени поворачивает вспять и снова замыкается на самой себе, создавая водоворот, то, согласно предположениям космолога Игоря Новикова, если мы решим вернуться назад во времени, что было бы чревато созданием временного парадокса, то некая «невидимая рука» должна вмешаться и предотвратить прыжок в прошлое. Но ... если мы вернемся назад во времени и встретим своих собственных родителей, то можно подумать, что в своих действиях мы руководствуемся собственной волей.
Машина времени
Рекомендую читателям сайта фантастический сериал «Континуум», который как бы пытается делать задел на будущее, подсказывая, что технологии движутся вполне динамично и успешно. А, следовательно, через несколько десятков лет будет реальным и привычным для каждого из нас кататься из года в год на машине времени, завершая свои дела, переписывая историю и, возможно, изменяя судьбы целых поколений.
Путешествия во времени - очевидная реальность
Благодаря теории относительности, путешествия во времени - это очевидная реальность. Если бы можно было сделать космический корабль, который двигался бы с околосветовой скоростью, можно было бы стартовать с Земли и затем вернуться обратно, описав параболу. Для вас такое путешествие показалось бы очень коротким, но на Земле за это время прошло бы много лет. Таким образом, возвратясь из десятиминутного путешествия, вы могли бы оказаться в 2100 году и увидеть будущее собственными глазами. Здесь нет никакой хитрости. Вы действительно совершили бы путешествие во времени.
|
|
Кино, которое я смотрю... ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТЛОВА (2013) |
 Режиссер: Ренни Харлин
Режиссер: Ренни Харлин
В ролях: Джемма Аткинсон, Ричард Рейд, Мэтт Стокоу, Холли Госс, Райан Хоули, Люк Олбрайт, Анастасия Бурдина, Николай Бутенин, Валерий Федорович
Жанр: Восстановленные, Новые, Триллеры, Фантастические, Ужасы
О фильме: 23 января 1959 года группа из девяти опытных туристов под руководством студента политехнического института Игоря Дятлова отправилась в лыжный поход по горам. Спустя неделю, 1 февраля, группа остановилась на склоне горы Холатчахль (в переводе с мансийского — Гора Мертвецов), неподалеку от безымянного перевала, получившего впоследствии имя Дятлова. К 12 февраля они должны были вернуться в цивилизацию и выйти на связь, но в конечной точке маршрута так и не объявились. Официальное следствие предположило, что трагедия произошла из-за схода лавины. Позднее появилось несколько версий случившегося — от криминальных до мистических и паранормальных... И вот в 2012-м году группа американских студентов, получив грант, отправляется на уральские горы, следуя тем же маршрутом, что и группа Дятлова, чтобы попытаться восстановить картину и разгадать причину таинственной, мистической и до сих пор не понятной гибели советских лыжников...
|
|
Невероятно, но... (Возвращаюсь к прошлым публикациям) Стираем личную историю |
Стираем личную историю
Стирание личной истории - мощное средство устранения ограниченности обычного взгляда на мир.

Путь знания - глубоко личный процесс. Древние мудрецы уходили подальше от людей - в горы и леса, поскольку уединение было основным залогом успеха на пути знания. Но мир меняется, и современные гуру, как и Карлос Кастанеда, указывают, что пребывание в своей среде, там, где мы живем - самый эффективный способ движения по пути знания.
Мы реагируем на окружающий мир в соответствии с тем, как мы воспринимаем этот мир и себя. То, как мы воспринимает себя, зависит от нашей личной истории. Наше восприятие окружающего мира зависит от внутреннего диалога, то есть от того, что мы говорим самим себе. В свою очередь, внутренний диалог является основой и опорой взгляда на мир. Остановка внутреннего диалога представляет собой не просто прекращение мысленной беседы с самим собой – это революция в наших представлениях о самих себе.
Что такое наша личная история? Это комплекс характерных констант, по которым нас можно однозначно идентифицировать. Это не просто последовательность событий нашей жизни, а своеобразные качества и отличительные особенности, возникшие в результате этих событий. Каждое событие накладывает на нас более или менее заметный отпечаток, который впоследствии выступает как клеймо. Сам по себе этот комплекс констант не имеет никакого значения, но становится оружием против нас в руках окружающего мира. Окружающий мир не терпит никаких изменений и требует, чтобы мы ежедневно, ежечасно подтверждали и укрепляли свой комплекс констант. Любое отклонение воспринимается как преступление, и его необходимо изъять из нашего комплекса. С другой стороны, восприятие нас людьми делает нас неподвижными и скованными. Это восприятие держит нас в тисках и мешает изменяться. Таким образом, перед нами стоит задача разрушить этот комплекс и освободить себя от возможности идентифицировать нас в глазах окружающего мира.

Очень важно понять, что именно понимается под стиранием личной истории. Ошибочно думать, что личная история как-то связана с подробностями личной жизни, и для её стирания следует сохранять свою жизнь втайне от других людей. Поскольку личная история является продуктом взгляда на мир, её стирание не имеет ничего общего с изменением имени или сохранением тайны в отношении работы, семьи, места рождения, возраста... Стирание личной истории означает, что человек уничтожает тот ложный образ себя, который возник как следствие его особенного взгляда на мир.
Одним из способов избавления от личной истории является перепросмотр, то есть вспоминание всех более или менее значительных моментов своей жизни и избавление от чужеродной энергии, «прилипшей» к нам в результате взаимодействия с окружающим миром. Избавление происходит за счет повторного переживания (не просто воспоминания) этих событий и всех наших ощущений и состояний.
Своими мыслями мы сами создаем свою жизнь, свой мир. Наш разум создает уникальную для каждого из нас личную историю, она складывается из определенных событий нашей жизни, которую формируют прошлый опыт и прошлые переживания. Отношение к окружающему миру постоянно меняется, но подсознание может придерживаться взглядов, сформировавшихся в самом начале жизни и в недалеком прошлом. Поэтому очень важно пересмотреть личную историю и изменить подсознательное отношение к событиям прошлого. Перепросмотр нашей жизни никогда не должен заканчиваться, поскольку выполняет две важные функции: оттачивает способность к самонаблюдению в повседневной жизни и нейтрализует стереотипы, накопленные бессознательным на протяжении жизни. Пересматривая свое прошлое, мы изменяем настоящее.

Перепросмотр личной истории - один из путей, приводящих к главной цели толтекских устремлений – свободе. Метод стирания личной истории применял при написании своих книг Карлос Кастанеда. Хотя он не сообщал о событиях, происходящих во время его ученичества и овладения практикой магии, но он исключал из них все, что может иметь хоть малейшее отношение к его личной жизни. Ведь совершенно не имеет значения, кто мы есть (а только об этом и сообщает наша личная история), но имеет значение - что мы из себя представляем. Порой мы говорим о некоторых людях: «никто не знает, что он собой представляет». Это происходит в результате успешного избавления от личной истории, такого человека невозможно уязвить, так как неизвестны его недостатки, слабости и предпочтения, это человек-невидимка. Искусство быть невидимым - верх мастерства, чтобы достичь этого, нужно изменить свою жизнь.
Личная история представляет собой образ самого себя, возникающий на основе взгляда человека на мир. Это образ, который человек переносит на окружающий мир. Личная история человека, как и его взгляд на мир, играет роль щита, отделяющего личность от окружающего мира; этот щит раскрашивает и искажает новые знания до такой степени, что всё, что не вписывается в представления человека о самом себе, автоматически отбрасывается. Само собой разумеется, что личная история является не просто продуктом взгляда человека на мир – её невозможно стереть, не избавившись вначале от самого взгляда на мир. В свою очередь, это становится возможным только после остановки внутреннего диалога.
Мы постоянно ведем сами с собой внутренний диалог - мысленный разговор, который является непосредственным выражением реальности, воспринимаемой каждым из нас. Внутренний диалог не только поддерживает и укрепляет взгляд на мир, но и определяет то, что мы думаем и чувствуем в отношении себя. Мы воспринимаем этот мир и ведём себя, опираясь на то, что говорим себе в рассуждениях с самими собой. Всё, что происходит как следствие внутреннего диалога, прекращается в тот момент, когда мы оказываемся способны остановить этот диалог - достичь «абсолютной пустоты», которую индуисты считают важнейшим философским понятием. Будда говорил, что покой исходит изнутри, но для достижения покоя может понадобиться несколько жизней.

В книге «Отдельная реальность» Карлос Кастанеда писал: «Мы непрерывно разговариваем с собой о нашем мире. Фактически, мы создаем наш мир своим внутренним диалогом. Когда мы перестаем разговаривать с собой, мир становится таким, каким он должен быть. Мы обновляем его, мы наделяем его жизнью, мы поддерживаем его своим внутренним диалогом. И не только это. Мы также выбираем свои пути в соответствии с тем, что мы говорим себе. Так мы повторяем тот же самый выбор еще и еще, до тех пор, пока не умрем. Потому что мы продолжаем все тот же внутренний диалог».
Наше мировоззрение формируется под влиянием окружающих людей. Со временем все складывается в подсознательную программу поведения, отражением которой и является тот мир, в котором мы живем. Перепросматривая свою жизнь, мы изменяем свою подсознательную программу, а значит, и свой мир. Стирая личную историю, мы освобождаемся от ограничений, которые накладывают на нас своими мыслями другие люди.
«Воин не нуждается в личной истории. В один прекрасный день он обнаруживает, что в ней нет никакой нужды, и просто избавляется от нее».
Карлос Кастанеда «Путешествие в Икстлан»
Карлос Кастанеда
"Чтобы путешествовать в другие миры, — сказал Кастанеда, — и затем возвращаться, следует оставаться незаметным. Чем больше о вас известно, тем менее вы свободны. Вы попросту будете лишены свободы передвижения… "Стирание личной истории" — один из первых и самых главных уроков дона Хуана. Последовательное окутывание себя туманом не позволит никому принимать вас за нечто само собой разумеющееся и предоставит вам простор для личного изменения…"
Если остановить время...
Время определяет события пройденного пути, оно по подобию шлифовщика металлов, отбрасывает от себя всё ненужное, оставляя за собой лишь свое совершенство. И это называется эволюционный процесс развития всего Мироздания.
Таким образом, следует считать, что временем совершенствуется вся генетическая структура нашей Галактики, и генетика её биомассы (растения, животные). А биологические процессы на планете Земля являются не единственными, об этом знали наши предки, изображая в алфавите букву "Ж". Верхняя её часть как малая доля, относилась к живой органики Вселенной, а нижняя, как её часть к неживой органике.
Если остановить время, то остановятся с ним все жизненные процессы, а этого не может быть. Даже на сломе таких процессов, оно всё равно преобразуется, но лишь в иную форму.
Стирание личной истории
Не так уж важно, какие события вашей личной истории становятся достоянием других, факт известности еще не делает их частью личной истории. Личная история «стирается» тогда, когда мы более ни в какой степени не связаны всем предыдущим — поступками, эмоциями, памятью, привычками и т. д.
Избавиться от личной истории
"- Нельзя ли уточнить, что имеется ввиду, когда ты говоришь "избавиться от личной истории?" — спросил Кастанеда у Дона Хуана.
Неужели тебе не ясно? — сказал Дон Хуан.
- Твоя личная история постоянно нуждается в том, чтобы ее сохраняли и обновляли. Поэтому ты рассказываешь своим друзьям и родственникам обо всем, что делаешь. А если бы у тебя не было личной истории, надобность в объяснениях тут же отпала бы. Твои действия не могли бы никого рассердить или разочаровать, а самое главное — ты не был бы связан ничьими мыслями".
Из книги Карлоса Кастанеды "Путешествие в Икстлан"
Личная история
Если личная история — главное препятствие на пути к изменению, то возможность стереть ее открывает дверь к свободе. Пытаясь освоить новые способы поведения, мы ощущаем сопротивление, оно проистекает из убеждения в своей неспособности сделать что-то, выходящее за рамки списка когда-либо совершенных нами действий. Мы сопротивляемся переменам. И когда мы пытаемся изменить себя, то обнаруживаем, что главное препятствие, стоящее на этом пути, — наша личная история.
Кастанеда - Колесо времени
Карлос Кастанеда "Колесо времени":
«Я собираюсь взять твоего отца в качестве примера, чтобы проиллюстрировать мою точку зрения на личную историю. Твой отец знает о тебе все. Поэтому ты для него — как раскрытая книга. Он знает, кто ты такой, что из себя представляешь и чего стоишь. И нет на земле силы, которая могла бы заставить его изменить свое отношение к тебе.
Естественно, такое интимное знание о тебе есть и у всех твоих друзей. У каждого, кто тебя знает, сформировался определенный образ твоей личности. И любым своим действием ты как бы подпитываешь и еще больше фиксируешь этот образ. Личная история постоянно нуждается в том, чтобы ее сохраняли и обновляли. Поэтому ты рассказываешь своим друзьям и родственникам обо всем, что делаешь.
С другой стороны, для воина, у которого нет личной истории, нет необходимости в объяснениях, его действия не могут никого рассердить или разочаровать, а самое главное — он не связан ничьими мыслями и ожиданиями».
|
|
Невероятно, но... (Возвращаюсь к прошлым публикациям) Магия толтеков. Перепросмотр. Бессмертие. |
Магия толтеков. Перепросмотр. Бессмертие.
«Всё вспоминаемое является настоящим»

«Что такое реальный мир? Это мир, порождающий энергию, он представляет собой противоположность призрачного мира иллюзии, где ничто не порождает энергию, как бывает в большинстве наших снов, заполненных вещами без энергетического потенциала».
(Карлос Кастанеда «Искусство сновидения»)
Культура американских индейцев во многом остается загадкой для современных исследователей. Небогатые сведения получены, в основном, благодаря археологическим раскопкам, образцам настенной письменности, обнаруженным в храмах и пирамидах, нескольким уцелевшим «кодексам» - рукописным хроникам ацтеков. Испанский миссионер, монах ордена францисканцев, историк и лингвист Бернарди́но де Саагу́н еще в самом начале Конкисты - в XVI веке собрал ценные сведения о культуре американских индейцев по рассказам представителей индейских племен. К несчастью, фанатичные конкистадоры уничтожили огромное количество индейских книг, полагая, что их содержание еретическое.
 Сегодня американистам не известно о культе Орла в Центральной и Южной Америке, где, судя по всему, зародилась самая древняя и самая развитая из индейских культур. У ацтеков и майя, испытавших значительное толтекское влияние, был широко распространен культ бога Солнца (у ацтеков — Тонатиу).
Сегодня американистам не известно о культе Орла в Центральной и Южной Америке, где, судя по всему, зародилась самая древняя и самая развитая из индейских культур. У ацтеков и майя, испытавших значительное толтекское влияние, был широко распространен культ бога Солнца (у ацтеков — Тонатиу).
Как и в большинстве случаев, когда речь заходит о древних цивилизациях Америки, исследователи вынуждены опираться на догадки. До сих пор неизвестно, что символизируют восемь «атлантов» из известного храма в Толлане (Туле). Как писал Карлос Кастанеда в книге «Дар Орла», представители дон-хуановской традиции считают «атлантов» женщинами-воинами из отряда древних индейских магов. Ученые теряются в догадках, что обозначает скульптурное изображение «спящего бога», раскопанное в Толлане - предполагаемом центре толтекского государства? Подобные скульптуры были также обнаружены в тех городах майя, где влияние толтеков было наиболее значительным. Быть может, это снови́дящий бог? Кроме того, никто не знает, почему у этих каменных снови́дцев большое отверстие в области живота. Мексиканский маг Дон Хуан Матус, обучавший Карлоса Кастанеду древней духовной практики толтеков, наверное, сказал бы, что они изображают открывшийся «просвет» энергетического кокона - неисчислимого количества нитеобразных энергетических полей. Эти энергетические поля, называемые «эманациями Орла», образуют закрытое скопление, которое проявляет себя как шар света.
 Предания гласят, что толтеки – «люди знания» были потомками расы атлантов, сохранившие древние знания о «первичной энергии», которая «оживляет и приводит в движение всё сущее». Древние китайцы называли её Дао, а древние толтеки - Орлом. Воины нового толтекского сообщества называют эту силу нагвалем. Среди наследников толтеков широко распространена идея нагваля, как двойника человека, наделенного магическими способностями.
Предания гласят, что толтеки – «люди знания» были потомками расы атлантов, сохранившие древние знания о «первичной энергии», которая «оживляет и приводит в движение всё сущее». Древние китайцы называли её Дао, а древние толтеки - Орлом. Воины нового толтекского сообщества называют эту силу нагвалем. Среди наследников толтеков широко распространена идея нагваля, как двойника человека, наделенного магическими способностями.
Возможно, магическое знание о нагвале было создано древними индейцами нагуа. Дэниэл Бринтон в своей книге «Нагуализм» цитирует епископа Чьяпас, который еще в давние времена покорения Мексики преследовал индейских колдунов: «Нельзя утверждать, будто все они по-прежнему во власти дьявола, однако продолжают до сих пор сотрудничать с ним - превращаются в тигров, львов, буйволов, во вспышки света и огненные шары. Исходя из признаний этих грешников, можно говорить об их телесной связи с дьяволом, которая осуществляется через их нагуаля».
Толтекское учение говорит, что человек состоит из двух частей - тоналя и нагваля, сознательного и бессознательного. Обе эти части существуют совместно при рождении ребенка, они образуют первоначальное «единство себя». Толтеки исходят из того, что все мы от рождения обладаем двумя различными видами сознания. Их можно представить как близнецов, из которых один – тональ, воспитывается и обучается. Второй близнец после рождения будет заперт и в дальнейшем о нем забудут. Это сокровенная часть человека, нагваль, который выражает себя у обычного человека разве что во время сна. Тональ и нагваль - два различных мира. В одном мы разговариваем, в другом - действуем. Нагваль - это та часть нас, для которой нет никакого описания - ни слов, ни названий, ни чувств, ни знаний. Толтекское учение исходит из бессмертия нагваля: тональ начинается с рождения и заканчивается смертью, но нагваль никогда не заканчивается, нагваль безграничен. В мире нагваля смерть не играет никакой роли. Некоторые авторы (например, Дональд Ли Вильямс) связывает тональ и нагваль с египетскими Ка и Ба.
 Один из путей, приводящих к главной цели толтекских устремлений – свободе, - это «перепросмотр личной истории». Пересматривая свое прошлое, мы изменяем настоящее. Для осознания техники перепросмотра. очень важно четко понять подлинную природу светящегося кокона человека. Этот содержащий жизненную силу кокон в действительности представляет собой электромагнитное силовое поле, состоящее из неисчислимого количества волокон энергии. Эти волокна состоят из тончайших энергетических волосков - электромагнитных импульсов, равномерно заполняющих энергетическое поле. Осознание также имеет электромагнитную природу.
Один из путей, приводящих к главной цели толтекских устремлений – свободе, - это «перепросмотр личной истории». Пересматривая свое прошлое, мы изменяем настоящее. Для осознания техники перепросмотра. очень важно четко понять подлинную природу светящегося кокона человека. Этот содержащий жизненную силу кокон в действительности представляет собой электромагнитное силовое поле, состоящее из неисчислимого количества волокон энергии. Эти волокна состоят из тончайших энергетических волосков - электромагнитных импульсов, равномерно заполняющих энергетическое поле. Осознание также имеет электромагнитную природу.
При перепросмотре важно вспомнить всю прежнюю жизнь вплоть до мельчайших подробностей. В основе такого понимания лежит идея, что Орел, который наделяет нас при рождении осознанием и который в момент нашей смерти это осознание поглощает и разрушает, может быть «удовлетворен» копией нашего осознания. Перепросмотр дает возможность создать как можно более точную копию своего осознания. В процессе перепросмотра отношение человека к самому себе меняется самым радикальным образом. Подсознательные конфликты, комплексы, страхи, чувства, эмоции… - всё всплывает в памяти и изменяет свой смысл.
Перепросмотр выполняет две важные функции: оттачивает способность к самонаблюдению в повседневной жизни («выслеживание» самого себя) и нейтрализует стереотипы, накопленные бессознательным на протяжении жизни. При перепросмотре события реконструируется фрагмент за фрагментом, позволяя найти в воспоминаниях отдельные события жизни. Благодаря подробному процессу вспоминания, все предрассудки и ошибочные суждения подпадают под сознательный самоконтроль. Кастанеда говорил, что «благодаря перепросмотру личной истории человек становится свободным от всего».
 Для толтеков понятие свободы обозначало преодоление смерти, возможность не-6ыть-съеденным-Орлом. Это означает, что человек, достигший свободы, может сохранить свое осознание. Кроме того, перепросмотр личной истории является возвращением человека к его исходному состоянию до рождения.
Для толтеков понятие свободы обозначало преодоление смерти, возможность не-6ыть-съеденным-Орлом. Это означает, что человек, достигший свободы, может сохранить свое осознание. Кроме того, перепросмотр личной истории является возвращением человека к его исходному состоянию до рождения.
Аналогичные техники применяются в Индии и Китае, где они используются для той же цели, что и перепросмотр личной истории у толтеков: для «возвращения к началу», и в конечном счете - к бессмертию. Похожие техники использует и трансперсональная психология Станислава Грофа, которая ставит во главу угла основополагающее значение повторного переживания событий детства и прежде всего собственного рождения, без которого, как считает эта наука, едва ли возможна счастливая жизнь.
Как говорил Дон Хуан (Карлос Кастанеда «Искусство сновидения»): «перепросмотр наших жизней никогда не должен заканчиваться, независимо от того, как бы хорошо он ни был осуществлен один раз. Причина, по которой обычные люди не могут управлять своей волей в сновидениях, состоит в том, что они никогда не совершали перепросмотр своей жизни, и их сны по этой причине переполнены очень интенсивными эмоциями, такими как воспоминания, надежды, страхи …

На вопрос Карлоса Кастанеды: «В чем различие между физической и энергетической составными частями?» Дон Хуан ответил: «Различие между ними в том, что физическая часть - это часть общепринятой системы описания мира, в то время как об энергетической этого сказать нельзя. Но энергетические сущности, такие как осознание, тоже существуют в нашей Вселенной. Мы как обычные люди замечаем только физический мир, потому что нас приучают к этому. Маги замечают еще и энергетический мир все по той же причине: их приучают к этому».
Как утверждал Дон Хуан: «Перепросматривая наши жизни, мы становимся все более и более парящими».
Карлос Кастанеда
Путь древних магов
Совершенно очевидно, что изначально практика перепросмотра была связана с обретением Силы и является частью наследия древних магов, шаманов и видящих. Путь древних магов затерялся в глубине веков.
Современный практик нередко избегает испытания перепросмотром, несмотря на то что знает —иного пути не дано. Чтобы настроить себя на перепросмотр, надо сформировать несгибаемое намерение, направленное на трансформацию жалости к себе и чувства собственной важности.
Тональ и перепросмотр
Перепросмотр — штука сложная. Он испытывает практикующего на психологическую прочность. Перепросмотр нельзя рекомендовать людям, чрезмерно закомплексованным и ослабленным. Как и вся дисциплина толтеков, техника предназначена для здоровых, зрелых и сильных личностей. Но и они — вполне, казалось бы, проникшиеся духом «воина» — в процессе перепросмотра сталкиваются с депрессивными реакциями.
Нежелание перепросмотра вызвано банальной жалостью к себе — мы понимаем, что качественный перепросмотр способен радикально изменить нашу жизнь. Мы предчувствуем, что все базовые координаты тоналя, наши «опоры» стабильности и уверенности в себе, будут поколеблены и в конце концов разрушены. Иными словами, мы боимся правды и той неведомой свободы, к которой ведет эта правда.
Перепросмотр
Использование перепросмотра магами прошлого объясняется их убежденностью в том, что во Вселенной существует неподдающаяся восприятию могущественная сила, наделяющая все существа осознанием и жизнью. Под воздействием той же силы существа погибают, тем самым возвращая ей заимствованное ранее осознание, усиленное и обогащенное их жизненными переживаниями. Маги прошлого верили, что поскольку эта сила заинтересована именно в наших переживаниях, то очень важно насытить ее копиями нашего жизненного опыта, получаемыми в ходе перепросмотра. Удовлетворившись тем, что она ищет, эта сила затем освобождает магов, давая им возможность развивать свои чувства и тем самым достигать самых удаленных частей времени и пространства.
Пересмотр
Маги это не те авторитеты, с чего идет познание, все происходящее в нашей Солнечной системе, в той или иной форме, материально и поддается пытливому уму (ищущему). В большинстве случаев смешиваются разноплановые понятия и получается на первый взгляд вкусный винегрет, это похоже на сложение пазлов, вроде и подходит картинка. да не та.
Маг может воспользоваться вашими достижениями только если его сознание находится на вашем уровне, и только с информационного поля Земли, что естественно не как не может повредить кому-то. Сейчас происходит активный сброс информации, меняется идеология и винегрет прошлого становится не вкусным, хочет кто-то или нет, но сознание человека очень быстро растет.
Не буду скрывать, что знание несет в себе кроме движения на Верх также разрушающую силу, по этой причине и "подключка" к более высоким источникам информационного поля идет индивидуально и зависит только от уровня сознания индивида, по этой же причине закона "не навреди" нет.
Источников основных три: рукописные, архитектурные и разделенные на "пазлы" в информационном поле нашей планеты, мыслеформы.
Из каких пазлов состоят мыслеформы?
Если предположить, что глаза это просто "мозг - наружу", а тексты, структуры, архитектура, формы, содержание и т.д. и т.п. и есть именно то, что дозволительно называют "ПАЗЛАМИ", то может быть Вы посчитаете целесообразным попробовать. Т.е. рискнете начать обмен теми мыслеформами, из которых и складывается целостная и не противоречивая "Картина Мира"? Например, - Какова по Вашему мнению наиболее полная мислеформа, содержащая в себе такое понятие как "СОЗНАНИЕ"? Ведь бывает, что и учёный, скорее всего, ещё немного и МАГ.
|
|
Невероятно, но... (Возвращаюсь к теме прошлых публикаций) Техники Карлоса Кастанеды. Магическое восприятие мира. |
Техники Карлоса Кастанеды. Магическое восприятие мира.
«Чтобы видеть Мир в песчинке, Небеса - в диком цветке, сожми Бесконечность в ладони и Вечность - в часе»

Одной короткой фразой Уильям Блейк описывает закон, который толтеки называют сжатием времени. Альберт Эйнштейн математически доказал, что время является особым измерением, но толтеки знали об этом с давних времён.
Когда десять лет назад я впервые взяла в руки книги Карлоса Кастанеды, я представления не имела, какие знания они открывают. До 1968 года, когда Кастанеда опубликовал свою первую книгу «Учение дона Хуана: Путь знания индейцев яки», считалось, что традиция толтеков давно миновала и забыта. Эта и последующие книги Кастанеды принесли ему славу, признание и множество последователей. Сорок пять дет спустя, книги Карлоса Кастанеды по-прежнему ставят в недоумение читателей двумя вопросами: действительно ли существовал легендарный дон Хуан и, если даже дон Хуан и существовал, то подлинными или вымышленными являются невероятные переживания Карлоса Кастанеды?
Можно лишь предположить, что без согласия толтеков Кастанеда не смог бы опубликовать то, что передавалось исключительно в устной традиции. Видимо Карлосу Кастанеде было предопределено представить миру систему знаний, которая в течение многих лет считалась утраченной. В своих книгах Кастанеда описывает различные таинственные техники, дошедшие до наших дней благодаря нагвалям, передающим из поколения в поколение учение древних толтеков.

Толтеки… Предания гласят, что толтеки – «люди знания» были потомками расы атлантов, сохранившие древние знания о «первичной энергии», которая «оживляет и приводит в движение всё сущее». Как пишет Теун Марез («Возвращение воинов»), - «цивилизация толтеков в мексиканской долине, описываемая Карлосом Кастанедой, была лишь одной из множества более поздних цивилизаций. С исторической точки зрения, существовала только одна линия, получившая имя Толтеков, однако, все мировые цивилизации возникли в результате переселения толтеков из Атлантиды. По этой причине ядром всех цивилизаций были жрецы - вѝдящие, прошедшие обучение в традиции толтеков».
Краеугольный камень учений толтеков - способность управлять осознанием путем овладения такими техниками как: сталкинг, стирание личной истории, перепросмотр, искусство сновидения, работа с намерением, избавление от чувства собственной важности, неделание, остановка внутреннего диалога.
 Толтеки описывают космос как бесконечное скопление энергетических полей, похожих на тонкие нити света, которые излучаются из источника, символически названого «Орлом». Эти энергетические поля названы «эманациями Орла».
Толтеки описывают космос как бесконечное скопление энергетических полей, похожих на тонкие нити света, которые излучаются из источника, символически названого «Орлом». Эти энергетические поля названы «эманациями Орла».
Человек также состоит из бесконечного числа таких нитеобразных эманаций, образующих световой шар, похожий на светящееся яйцо. Внутри шара освещается только узкий спектр энергетических нолей, он освещается из одной интенсивно светящейся точки, которая находится на внешней поверхности шара - «точки сборки».
Никто не проводит всю жизнь с «точки сборки», находящейся в том же положении, каким оно было при рождении. В течение жизни человек постоянно бессознательно «исправляет» положение своей «точки сборки», которая как ручка настройки радиоприемника обеспечивает нам доступ к различным энергетическим полям, составляющим наше восприятие мира. Благодаря ей мы накапливаем определенный опыт и знания. Если мы не умеем перемещать «точку сборки», наше восприятие жестко фиксируется, то же самое происходит с нашим взглядом на мир. Энергии требует всё, что мы делаем, в том числе движение или сдвиг «точки сборки». Чтобы перемещать «точку сборки», необходима личная сила – намерение, представляющее собой то, что мы называем силой судьбы. Намерение определяет наши восприятия, наши чувства и, в конечном счете, нашу жизнь и нашу смерть.
«Существует неизмеримая и неописуемая сила, которую маги называют намерением, маги обозначают намерение как нечто неописуемое, дух, абстрактное - нагваль» - так говорил мексиканский маг дон Хуан Матус, обучавший Карлоса Кастанеду древней духовной практики толтеков – «Пути Воина».
 Намерение является мостом от нашего мира - тоналя к иному миру - нагвалю. Человек является по сути своей чистым духом, который называется нагваль, однако с самого рождения он начинает использовать физический проводник под названием тональ. Тональ представляет собой личность человека. Толтеки исходят из того, что все мы от рождения обладаем двумя различными видами сознания. Их можно представить как близнецов, из которых один – тональ, воспитывается и обучается. Второй близнец после рождения будет заперт и в дальнейшем о нем забудут. Это сокровенная часть человека, нагваль, который выражает себя у обычного человека разве что во время сна.
Намерение является мостом от нашего мира - тоналя к иному миру - нагвалю. Человек является по сути своей чистым духом, который называется нагваль, однако с самого рождения он начинает использовать физический проводник под названием тональ. Тональ представляет собой личность человека. Толтеки исходят из того, что все мы от рождения обладаем двумя различными видами сознания. Их можно представить как близнецов, из которых один – тональ, воспитывается и обучается. Второй близнец после рождения будет заперт и в дальнейшем о нем забудут. Это сокровенная часть человека, нагваль, который выражает себя у обычного человека разве что во время сна.
Практической системой толтекского учения является искусство сновидения – область, в которую попадают все действия и события, происходящие вне обычного времени и обычной реальности: измененные состояния сознания, вѝдение и сновидения.
Искусство сновидения - это путь, посредством которого маги используют обычные сны. Известно, что древние маги, в совершенстве освоившие искусство сновидения, уходили в другие миры намеренно и навсегда. Их физические тела тоже исчезали из этого мира. Для магов, практикующих сновидение в наши дни, это сновидение является свободой достичь миров, не укладывающихся ни в какое воображение.
«Сновидение раскрывает перед нами возможность восприятия других миров. Мы можем описывать эти миры, но не способны описать то, что позволяет нам их воспринимать. И в то же время нам дано ощутить, каким образом сновидение открывает перед нами вход в иные сферы бытия. Я бы сказал, что сновидение - это ощущение, процесс, протекающий в теле, и осознание, возникающее в уме».
Карлос Кастанеда («Искусство сновидения»)
 Мы реагируем на окружающий мир в соответствии с тем, как мы воспринимаем этот мир и себя. То, как мы воспринимает себя, зависит от нашей личной истории. Наше восприятие окружающего мира зависит от внутреннего диалога, то есть от того, что мы говорим самим себе. В свою очередь, внутренний диалог является основой и опорой взгляда на мир.
Мы реагируем на окружающий мир в соответствии с тем, как мы воспринимаем этот мир и себя. То, как мы воспринимает себя, зависит от нашей личной истории. Наше восприятие окружающего мира зависит от внутреннего диалога, то есть от того, что мы говорим самим себе. В свою очередь, внутренний диалог является основой и опорой взгляда на мир.
Одним из способов избавления от личной истории является перепросмотр, то есть вспоминание всех более или менее значительных моментов своей жизни и избавление от чужеродной энергии, «прилипшей» к нам в результате взаимодействия с окружающим миром. В основе такого понимания лежит идея, что Орел, который наделяет нас при рождении осознанием и который в момент нашей смерти это осознание поглощает и разрушает, может быть «удовлетворен» копией нашего осознания. Перепросмотр дает возможность создать как можно более точную копию своего осознания.
В процессе перепросмотра отношение человека к самому себе меняется самым радикальным образом. Подсознательные конфликты, комплексы, страхи, чувства, эмоции… - всё всплывает в памяти и изменяет свой смысл. Пересматривая свое прошлое, мы изменяем настоящее.
 Стирание личной истории означает, что человек уничтожает тот ложный образ себя, который возник как следствие его особенного взгляда на мир. Личная история человека, как и его взгляд на мир, играет роль щита, отделяющего личность от окружающего мира; этот щит раскрашивает и искажает новые знания до такой степени, что всё, что не вписывается в представления человека о самом себе, автоматически отбрасывается. Личная история является не просто продуктом взгляда человека на мир – её невозможно стереть, не избавившись вначале от самого взгляда на мир. В свою очередь, это становится возможным только после остановки внутреннего диалога.
Стирание личной истории означает, что человек уничтожает тот ложный образ себя, который возник как следствие его особенного взгляда на мир. Личная история человека, как и его взгляд на мир, играет роль щита, отделяющего личность от окружающего мира; этот щит раскрашивает и искажает новые знания до такой степени, что всё, что не вписывается в представления человека о самом себе, автоматически отбрасывается. Личная история является не просто продуктом взгляда человека на мир – её невозможно стереть, не избавившись вначале от самого взгляда на мир. В свою очередь, это становится возможным только после остановки внутреннего диалога.
Мы постоянно ведем сами с собой внутренний диалог - мысленный разговор, который является непосредственным выражением реальности, воспринимаемой каждым из нас. Внутренний диалог не только поддерживает и укрепляет взгляд на мир, но и определяет то, что мы думаем и чувствуем в отношении себя. Мы воспринимаем этот мир и ведём себя, опираясь на то, что говорим себе в рассуждениях с самими собой. Всё, что происходит как следствие внутреннего диалога, прекращается в тот момент, когда мы оказываемся способны остановить этот диалог - достичь «абсолютной пустоты».
«Стоит достичь внутреннего безмолвия - и все становится возможным. Внутренний диалог останавливается за счет того же, за счет чего начинается - за счет действия воли. Ведь начать внутренний разговор с самими собой мы вынуждены под давлением тех, кто нас учит. Когда они учат нас, они задействуют свою волю без сомнений и колебаний. И мы задействуем свою в процессе обучения. Просто ни они, ни мы не отдаем себе в этом отчета. Обучаясь говорить с самими собой, мы обучаемся управлять волей. Это наша воля - разговаривать с самими собой. И, чтобы прекратить внутренние разговоры, нам следует воспользоваться тем же самым способом: приложить к этому волю без сомнений и колебаний».
(Карлос Кастанеда «Огонь изнутри»)
Люди видят и воспринимают мир в соответствии со своей системой отсчета, однако, если точка сборки достаточно сильно смещается, в ней собирается совершенно новый и иной мир, настолько же реальный, как и тот мир, который человек воспринимает в обычном состоянии. По сравнению с этим все стремления повседневной жизни выглядят полной нелепостью.
«Все, что мы видим и чем кажемся, всего лишь сон во сне»
|
|
Кино, которое я смотрю... Я ТОЖЕ ХОЧУ (2012). (Алексей Балабанов) |
 По пустынной летней дороге мчится огромный черный джип. В нем — Бандит, его друг Матвей со стариком-отцом, Музыкант и красивая девушка. Они ищут Колокольню Счастья, которая по слухам находится где-то между Питером и Угличем, рядом с уже давно неработающей атомной станцией. Колокольня забирает людей. Но не всех. Но в темной большой машине каждый верит, что выберут его.
По пустынной летней дороге мчится огромный черный джип. В нем — Бандит, его друг Матвей со стариком-отцом, Музыкант и красивая девушка. Они ищут Колокольню Счастья, которая по слухам находится где-то между Питером и Угличем, рядом с уже давно неработающей атомной станцией. Колокольня забирает людей. Но не всех. Но в темной большой машине каждый верит, что выберут его.
Год 2012
Страна Россия
Жанр Драма, Криминал
Режиссер Алексей Балабанов
В ролях Александр Мосин, Олег Гаркуша, Юрий Матвеев, Алиса Шитикова, Алексей Балабанов, Петр Балабанов, Виктор Горбунов, Авдотья Смирнова, Сергей Шолохов, Сергей Кульчицкий
|
|
Кто кончил жизнь трагически... Скончался режиссер Алексей Балабанов... |
Скончался режиссер Алексей Балабанов
Не стало режиссера Алексея Балабанова, автора фильмов, которые вызывали самые противоречивые суждения у российской аудитории и у ценителей киноискусства за рубежом. Но равнодушными они не оставляли никого…
Сообщается, что у создателя культовых фильмов "Брат", "Брат-2", "Жмурки", "Про уродов и людей", "Груз 200" и других картин "случился приступ". Что он умер под Петербургом.
Он упал в обморок. Родные, как пишет газета "Коммерсантъ", попытались оказать ему помощь, но безуспешно. Алексей Балабанов умер, не приходя в сознание. Продюсер Сергей Сельянов сообщил агентству РИА-Новости, что "Алексей скоропостижно скончался сегодня в санатории, где он писал сценарий. Никто в это не верит".
Как сказала Русской службе Би-би-си известный российский кинокритик Ольга Шервуд: "Не стало одного из настоящих, редчайших режиссеров. Это факт, который нельзя подвергать сомнению. Таких в кинематографе единицы".
"Уже час сижу над статьей о нем для своей газеты, и ничего не могу написать. Все в шоке", - говорит Шервуд.
"Хочу в рай…"
Последнее интервью Алексей Балабанов дал накануне, в пятницу, корреспонденту газеты "Вечерняя Москва". В нем, как отмечают журналисты этой газеты, многие слова оказались пророческими. В частности, режиссер говорил о своей вере в Бога, и о том, что он "готов поскучать в раю, чтобы увидеть там папу".
Последняя картина режиссера "Я тоже хочу" вышла в 2012 году. Алексей Балабанов снялся в ней в эпизодической роли, его герой по ходу фильма умирает.
"Скорее всего, больше не будет фильмов Алексея Балабанова, - говорится в его предсмертном интервью "Вечерней Москве". - Почему-то у меня такое предчувствие. Хотя я написал сценарий нового фильма, и он, на мой взгляд, неплохой. Только о чем, - не скажу".
"Он боролся со смертью"
По словам известного кинокритика Михаила Трофименкова, который хорошо знал режиссера, последнее время здоровье Алексея Балабаново было сильно подорвано. Он снимал свои последние фильмы, будучи тяжело больным.
"Фильмами он боролся со смертью, и не только со своей", - отметил Трофименков в интервью Русской службе Би-би-си.
По словам критика, Алексей Балабанов стал культовой фигурой для кинематографа России последних 20 лет. "Российский кинематограф современный боится жизни. Балабанов был тем, кто не боялся эту жизнь транслировать на экран. Транслировать Россию на экран", - считает кинокритик.
Алексей Балабанов родился 25 февраля 1959 году в Свердловске (ныне Екатеринбурге). В 1981 году окончил переводческий факультет Горьковского педагогического института, затем работал ассистентом режиссера на Свердловской киностудии.
С 1990 года режиссер жил и работал в Петербурге. Фильмы он старался снимать по собственным сценариям. Среди самых известных его фильмов —
"Раньше было другое время", 1987
"Счастливые дни", 1991
"Замок", 1994
"Война", 2002
"Американец", "Жмурки", "Брат", "Брат-2", "Мне не больно", "Груз 200", "Про уродов и людей", "Морфий", "Кочегар". Кроме того, он продюсировал фильм-автобиографию Сергея Эйзенштейна, вышедшую на экраны в 1995 году.
"Я не считаю кино искусством. Искусство — это когда человек что-то делает один. Художник создает искусство, писатель создает искусство, но когда ты зависишь от пятидесяти человек — какое это к черту искусство?", — признавался сам Балабанов.
За свою карьеру режиссер был удостоен множества кинематографических наград. Последним завершенным проектом режиссера стал фильм 2012 года "Я тоже хочу".
В сентябре 2002 года в Кармадонском ущелье погиб исполнитель главной роли Данилы Багрова в фильмах «Брат» и «Брат-2» 30-летний Сергей Бодров-младший, теперь на 55-м году жизни скончался и «творческий отец» этого ставшего уже классическим и бессмертным героя.
«Сила ― в правде, брат!»
P.S.
Биография, фильмография, фото........
В Википедии.......
Сайт - alekseybalabanov.ru -

................................................
Алексей Балабанов "Про работу на площадке"
http://youtu.be/uTV0M7ZrCJk
Алексей Балабанов "Про детство"
http://youtu.be/fwbADIcMvlk
Алексей Балабанов "О фильмах"
http://youtu.be/6cW6csYKp24
Алексей Балабанов "Про русский рок"
http://youtu.be/M4oFP8gNdT0
"Взгляд" с Вячеславом Бутусовым и Алексеем Балабановым
1997 год. Программа "Взгляд". В гости к Александру Любимову и Сергею Бодрову-младшему пришли известный рок-музыкант Вячеслав Бутусов и не менее известный режиссер Алексей Балабанов. Тема выпуска звучит таким образом: "Раньше было другое время". Именно так и называется первый фильм Балабанова.
http://youtu.be/C7MZwz-5XXA

|
|
Понравилось: 1 пользователю
Там на неведомых дорожках... По кошачьим следам |
С удовольствием представляю читателям «45-й параллели» нового автора Романа Горбунова и его первое произведение. Возможно, кто-то задастся вопросом: «Почему в поэтическом альманахе публикуют прозу? И причем здесь кошки?!» Тонкая, неуловимая сущность поэзии, разлитая в окружающем нас мире, может быть уловлена и выражена самым неожиданным образом. Как известно, бывают и романы в стихах, и поэмы в прозе. Маленькая повесть Романа Гобунова буквально проникнута поэзией и любовью к братьям нашим меньшим, а следить за поворотами судьбы кошачьего семейства не менее интересно, чем за приключениями представителей человеческого рода. Тот, кто умеет понять существо другой, чем он сам, породы, уже этим интересен и может многое подметить, многому научить. Иногда так полезно влезть в чужую шкуру, например – кошачью!
Лера Мурашова
По кошачьим следам
Пролог
Кошка
 Она проснулась раньше обычного от нестерпимого чувства голода. В хлебной лавке, возле которой она обосновалась, появилась новая любимица. И теперь кошке с каждым днём всё труднее было добывать себе пищу. А то, что удавалось добыть, без остатка уходило на молоко для малышей.
Она проснулась раньше обычного от нестерпимого чувства голода. В хлебной лавке, возле которой она обосновалась, появилась новая любимица. И теперь кошке с каждым днём всё труднее было добывать себе пищу. А то, что удавалось добыть, без остатка уходило на молоко для малышей.
Кошка выбралась из деревянного ящика и побрела в сторону мусорных баков. Но она опоздала, там уже сидели три кошки, куда холеней и крупнее неё, и местная знаменитость – кот Шерхан, которого боялись все коты и половина собак в округе.
И всё же она подошла.
– Чего надо? – без предисловий спросил Шерхан.
– Мне бы немного... – начала кошка.
– Опять жрать? Да ты вообще... Ни хозяина у неё, ни имени, ни воспитания нет, зато наглости не меряно! А ну брысь! Пока я добрый. – Шерхан не на шутку разошёлся и кошка решила не испытывать судьбу.
– Ещё уродов наплодила! Дура! – крикнула ей вслед Люська, подруга Шерхана.
Разве слова могут убить? Наверное, нет. Только капает вода на землю. Откуда она? Неужели с неба? Неужели начался дождь? Нет. Просто глаза слезятся, просто ветер, просто...
Нужно было идти дальше, но она не удержалась и побежала к своим малышам. Четверо котят всё ещё спали. Некоторое время она смотрела на них. Потом, встряхнувшись, принялась их вылизывать. Какие они мягкие, усатые и пушистые, настоящие ангелочки. Если бы кто-нибудь из людей – хоть один – взял её деток к себе. Ради этого не жаль и жизни. Но дни шли, а чуда не случалось. И она уже перестала надеяться.
Она смотрела на своих малышей – самых прекрасных во всём мире. Беленькая, самая младшая, дёргает чёрным ушком. Двое сереньких спят в обнимку – похожи друг на друга как две капли воды. А это самый старший – чёрный с белыми лапками и белым пятнышком на мордочке. Кошка вздохнула и снова пошла на поиски еды. Она не видела, как глаза старшего открылись и впервые взглянули на мир.
Есть хотелось страшно, и кошка решилась на отчаянный шаг – идти к Гаражам. Никто из котов не рисковал туда забираться. У Гаражей была самая жирная свалка в районе, сам Шерхан отдал бы свой хвост, чтобы там хозяйничать но... Там жил Дог.
Он был хозяином Гаражей и Свалки, и все коты и собаки боялись его до смерти. И ни один кот, ни одна собака не претендовали на его территорию. Все помнили, чем закончился бой Дога и пса, которого привезли сюда на новое место жительства. Никто не хотел такой участи. И Кошка знала об этом. Но её гнало отчаянье. Должно же ей наконец повезти!
Вот она – Свалка! Шаги кошки, и так неслышные, стали вовсе невесомыми.
Теперь только бы не увидели! Еда нашлась сразу же и сколько хочешь, но оставаться здесь было нельзя. Поэтому кошка схватила зубами кусок пирожка и побежала назад. Она не видела, как от Гаражей отделилась огромная даже для пса тень и понеслась следом.
День у Дога начался плохо... Сначала какие-то шавки пытались стащить еду со свалки и успели забежать во двор раньше, чем он догнал их. Потом пришли машины, которые сровняли часть свалки с землёй. И вот опять кража на его территории!
Но теперь настроение у Дога поднялось. Он знал, где обитает этот бездомный кусок шерсти. И не спешил. Зачем? Она не уйдёт от расплаты.
Кошка почти добралась до дома, когда услышала рык за спиной. Оборачиваясь, она уже знала, кого увидит. Ещё можно было убежать, но ящик с котятами был совсем близко. Бросив еду на землю, кошка зашипела.
 Дог бросился на неё, но кошке удалось увернуться и отпрыгнуть в сторону. Ещё прыжок – ещё немного дальше от котят. Кошке было не впервой защищала своих малышей. У неё всё могло получиться, но ... Из ящика раздался писк.
Дог бросился на неё, но кошке удалось увернуться и отпрыгнуть в сторону. Ещё прыжок – ещё немного дальше от котят. Кошке было не впервой защищала своих малышей. У неё всё могло получиться, но ... Из ящика раздался писк.
Дог оскалился и кинулся к ящику. И тут кошка прыгнула на него. Пёс взвыл от боли в разорванном ухе и со всей мочи мотнул головой. От этого взмаха кошка перелетела проезжую часть и ударилась о бордюр тротуара. Дог рванулся к ней. Он уже предвкушал, как хрустнет шея под его клыками и как...
Раздался резкий визг тормозов, и тело собаки отлетело в сторону. Задняя дверца открылась, из машины выбежал парнишка.
– Стой! Ты куда?! – закричала женщина за рулём, пытаясь расстегнуть ремень безопасности. – Там опасно!
– Мама, ты собаку сбила! – сообщил мальчик.
Женщина вышла из машины, осмотрела бампер и неподвижное тело пса.
– Он, наверно, кошку съесть хотел — сказал паренёк, указывая на кошку.
– Ладно, поехали, – матери не хотелось объясняться со стражами порядка.
– Мама, мама, здесь котята! – мальчишка уже стоял над развороченным ящиком и робко гладил черненького. – Мам, давай заберём их.
– Мы не можем...
– Но ведь они умрут!
– Они могут быть больными!
– Мы их вылечим, – он знал, что ничего не выйдет, но остановиться не мог.
– А кто будет заботиться о них?
– Я! Я буду о них заботиться!
Женщина хотела увести ребёнка в машину, но посмотрела на кошку, и в её взгляде что-то переменилось.
– Хорошо, мы заберём их! – сказала она.
– Правда? – мальчик не мог поверить своему счастью.
– Правда, правда, помоги мне поставить ящик в багажник.
– Они такие красивые, видишь, мам? А вот этого я назову Черныш! Можно, я возьму его в салон?
...Кровь текла изо рта. Тело стало тяжелым, и она не могла подняться. Но её это уже не волновало. Кошка смотрела, как увозят её малышей, и улыбалась. Хлопнули дверцы, машина уехала.
– Мам, Черныш плачет! – воскликнул мальчик.
– Коты не плачут, у него просто глаза слезятся. Не бойся, это пройдёт.
Чувствуя, как холод пробирается всё глубже и глубже, кошка смотрела вслед уехавшей машине.
– У вас всё будет хорошо, – шептала она, – я люблю вас. Я люблю...
|
|
По кошачьим следам ( Часть первая). (Там на неведомых дорожках...) |
Часть первая
Черныш
 Завтра снова наступит этот день. И ему нужно будет идти. Кот спрыгнул с подоконника и принялся ходить по комнате. Этот день наступает шестой раз, а он пойдёт туда уже в четвёртый раз.
Завтра снова наступит этот день. И ему нужно будет идти. Кот спрыгнул с подоконника и принялся ходить по комнате. Этот день наступает шестой раз, а он пойдёт туда уже в четвёртый раз.
Когда три года назад Черныш ушел в первый раз и вернулся только через месяц, Женщина долго причитала, что он совсем от рук отбился, а Хозяин чуть не надавал ему по ушам от волнения. Они переживали за него – он видел и ценил это. Но не мог иначе. Через год он ушёл снова. И после его возвращения в доме опять творилось непередаваемое. Но когда он вернулся в третий раз, никто не кричал на него, не говорил обидных слов. Его просто были рады видеть. Хозяин почесал его за ухом, а Женщина сразу же наполнила его миску! Может, и на этот раз будет так же?
Дверь открылась, кот остановился, сел и посмотрел на вошедшего.
– Привет, Черныш! – Хозяин ласково почесал кота за ухом. Тот мурлыкнул в ответ. Человек присел на корточки и посмотрел коту в глаза.
– Что, Черныш, тебе снова надо исчезнуть, да? – Кот отвёл взгляд. Человек вздохнул. – Все нормально, иди – только возвращайся, хорошо?
Черныш потерся о ногу Хозяина и выбежал в открытую дверь.
– Артём, ты где? – раздался женский голос. – Иди, поможешь мне. Я на кухне.
– Чем помочь, ма? – спросил Артём, заходя на кухню.
– Сегодня тётя Оля в гости придёт. Нужно стол приготовить и… Что-то случилось?
– Черныш опять ушёл.
Женщина подошла к сыну. – Скоро этот день, да?
– Да, – эхом отозвался Артём, – завтра.
Мать обняла его.
– Ты же знаешь, он вернётся, – сказала она.
– Знаю, – сказал Артём, – И всё равно… Ты думаешь, что это чушь, но я знаю, что Черныш не глупее людей, а может, и умнее.
Женщина улыбнулась.
– Не знаю, умнее ли, но точно лучше некоторых людей. И намного храбрее.
На улице заскрипел ветхий забор. Они одновременно посмотрели в окно и успели заметить, как Черныш спрыгнул на улицу.
– Нам с ним очень повезло, — женщина на время забыла, что нужно готовить угощение. – Помнишь, как в наш двор забрался соседский бульдог? И как Черныш, бегая по забору, довёл его до белого каления. Лай стоял такой, что слышно было во всём районе. А ведь тебе через пару минут нужно было идти в школу. И если бы мы не услышали лай… – женщина не договорила.
– Я помню мам. А ещё я помню, как ночью загорелась проводка у холодильника, и если бы Черныш не разбудил меня…
Артём не мигая смотрел в окно на забор, за которым скрылся кот. Смотрел и вспоминал, как Черныш исчез в первый раз. И как он переживал за него. Как боялся, что он не вернётся. Прошёл целый месяц. А потом Черныш вернулся. А через год исчез снова. Правда, вернулся он уже через неделю. Но эту неделю Артем места себе не находил. Он не находил бы места и сейчас, если бы не знал. Но, когда кот выбежал на улицу в третий раз, Артём проследил за ним…
 Черныш бежал по улице. Ещё до заката он будет там, где нужно. Хозяин жил недалеко от этого места. Пробегая тротуары и жилые дворы, Черныш вспоминал, как пришёл туда в первый раз. Местные бездомные коты и кошки смотрели на него настороженно – дескать, не претендуешь ли на нашу территорию? Хотя он не походил на бездомного, но мало ли?
Черныш бежал по улице. Ещё до заката он будет там, где нужно. Хозяин жил недалеко от этого места. Пробегая тротуары и жилые дворы, Черныш вспоминал, как пришёл туда в первый раз. Местные бездомные коты и кошки смотрели на него настороженно – дескать, не претендуешь ли на нашу территорию? Хотя он не походил на бездомного, но мало ли?
Несколько дней пришлось расспрашивать всех, кого он встречал в округе: котов, кошек, нескольких собак, даже пару грызунов. Грызуны видят и знают больше всех. Но попробуй, поговори с ним! Только после того, как он спас одну мышь от крыс, и вместо того, чтобы съесть, отпустил её, мыши охотно поделились с ним тем, что знали. Именно они и вывели его на Шерхана.
Шерхан был местным авторитетом. Он решал, кому и сколько еды выдать, кого пустить порыться в мусорном баке, а кому и когти показать. Поэтому ни один бездомный кот не указал бы на Шерхана. Но у мышей свой список авторитетов, в который Шерхан не входит. И вот Черныш стоит возле мусорных баков, а Шерхан подозрительно разглядывает его.
– Ты кто такой? – Шерхан никогда не любил церемоний.
– Меня зовут Черныш. Я хочу узнать про одну кошку, которая погибла здесь. Мне сказали, что вы знаете всех котов и кошек.
– То есть тебе сказали, что я готов болтать с первым встречным? – хвост Шерхана начал мелко подрагивать. – И кто же это тебе сообщил? Назови мне этого кота, и я лично его поблагодарю.
– Мне сказали мыши.
– Мыши?! Ты ГОВОРИЛ с мышами??? Да ты явно не в своём уме! Но так даже забавней! Ладно, и что же ты хотел узнать? – с издёвкой спросил Шерхан.
– Я хочу знать как можно больше о той кошке: как её звали, где она жила… Я знаю только, что три года назад её убил пёс по кличке Дог.
– Какая трагедия! – каждый звук этой фразы был пропитан сарказмом. – Да, я помню эту кошку. У неё даже имени не было! Она даже прокормить себя не могла! Всё, на что эту дуру хватило, так это наплодить ублюдков, которые…
Черныш так и не смог вспомнить, что случилось потом. Но, когда он пришёл в себя, его передняя левая лапа болела просто зверски, правый бок был разодран, и шерсть пропиталась кровью. Под его правой лапой хрипел придавленный Шерхан.
Он рассказал Чернышу всё, что знал о той безымянной кошке. Через несколько дней Черныш немного пришёл в себя, и другие коты, которые теперь смотрели на него, как на героя, показали ему все места, в которых она бывала.
Баки теперь принадлежали Чернышу. Они ему были не нужны, и он отдал их котам. И когда в следующий раз Черныш снова пришёл сюда, коты встретили его, как друга. Шерхан тоже поправился, но так и остался хромым, с изувеченной мордой, без левого уха и былых амбиций.
…Сигнал машины выдернул Черныша из прошлого. Вот и баки! Через несколько минут он будет на месте. Из баков выглянуло сразу несколько кошачьих голов. При виде Черныша выражение настороженности на их мордах сменилось облегчением. Черныш на бегу кивнул котам, но не стал останавливаться.
И вот он на месте. Кот стоял на самом обычном перекрёстке, через который то и дело проезжали машины. Черныш перешёл через дорогу и приблизился к многоэтажному дому, на первом этаже которого была хлебная лавка. Он зашёл за угол и оказался прямо перед входом в подвал, где он впервые увидел свет. Ящика, конечно, давно уже не было, но это было неважно. Постояв немного возле подвала, Черныш пошёл обратно к перекрёстку и сел возле бордюра.
Когда он впервые пришёл на этот перекресток, ему показали одну старую кошку, которая жила неподалеку и могла видеть, что здесь произошло. Эта кошка уже не могла поймать мышь, и Черныш носил ей еду из мусорных баков, которыми Шерхан уже не владел. Через три дня, немного отъевшись, кошка сама могла прокормиться, перебравшись к бакам поближе. Эта кошка умерла год назад.
– Это я, мама. Я снова пришёл – глаза кота были устремлены на бордюр, но не видели его. – Я хочу рассказать тебе, как прожил этот год. Столько всяких событий произошло, что и дня не хватит, чтобы подробно тебе рассказать… Но я попытаюсь рассказать хоть немного.
Черныш задумался, вспоминая…
– Наши соседи завели кота Фантика, и он в первый же день умудрился нагрубить Тигру. А Тигр, хоть и хороший кот, но шуток не понимает напрочь. И мне пришлось вмешаться, иначе он бы придушил беднягу. С мышами я, наконец-то, договорился – Хрум, их старый вожак, умер. А новый вожак согласен со мной, что война идёт только тогда, когда у противников не хватает ума решить дело миром. Теперь мыши больше не живут в моём дворе, а я их не ловлю. Ещё на соседней улице объявилась новая кошка. – тут Черныш умолк, будто бы задумался.
– Я уже узнал, что её зовут Пантера, и… – Черныш снова ненадолго умолк, собираясь с мыслями, – коты мне сказали, что она ищет меня. Представляешь, мам, меня! Она объявилась в моём районе всего два дня назад, но откуда-то меня знает! И, судя по всему, она и появилась здесь именно из-за меня!
Черныш посмотрел на небо, и в его глазах появилась мечтательность.
Он вспомнил Пантеру – абсолютно чёрную кошку, знакомясь с которой, все коты начинали задирать хвост и наперебой хвастаться, кто во что горазд. А местные кошки аж зеленели от зависти.
– Как вернусь, обязательно разузнаю, в чём там дело.
Некоторые время кот смотрел на небо, но потом встряхнулся, и продолжил.
– Я так и не узнал, что случилось с остальными, мама. После того, как они стали видеть, Женщина отнесла их на рынок и отдала другим людям. Я ищу их до сих пор, но пока не нашёл. Но я не перестану искать. Ты ведь лучше всех знаешь, мама, сдаваться нельзя. Ты ведь не сдалась. Поэтому Дог не съел меня, и я сижу здесь. Поэтому у меня есть хозяева, которые меня любят, друзья и жизнь, которую ты дала и сохранила.
Только раз в году он переставал быть Чернышом, которого все знали, и позволял себе стать котенком, который хотел только одного – увидеть маму. Маму, которая накормит и защитит от всех опасностей. Маму, которая всегда будет любить своих детей. Мать, которую у него отняли.
Но всё рано или поздно заканчивается. И через некоторое время котёнок снова стал Чернышом.
– Мне пора, мама, – сказал он, поднявшись. – Но завтра я приду снова.
Некоторое время Черныш смотрел на тротуар и бордюр, возле которого умерла безымянная кошка, словно отдавая дань скорби матери, которую так мало знал.
День медленно угасал. Черныш шёл к бакам. Он знал, что даже если его не будет всего пару дней, Хозяин будет волноваться. Поэтому обычно Черныш никогда не уходил из дома надолго, самое большее – на день. И только раз в году, в конце ноября, Черныш несколько дней жил здесь – возле баков.
Он питался объедками вместе с остальными котами и кошками, спал на улице. А всё остальное время он ходил по тем местам, по которым ходила безымянная кошка. И каждый кирпич в кладке, каждая булка в витрине будто бы делали её присутствие осязаемым. В такие моменты Чернышу казалось, что его мать идёт рядом с ним. Никто не знал, что происходило с ним в это время, но когда Черныш возвращался домой, казалось, что он становился моложе, и кто-то свыше давал ему силы жить дальше.
Кот возвращался домой. Подходя к повороту, за которым был его дом, Черныш ощутил – что-то изменилось. За углом возле ворот он увидел Пантеру.
|
|


































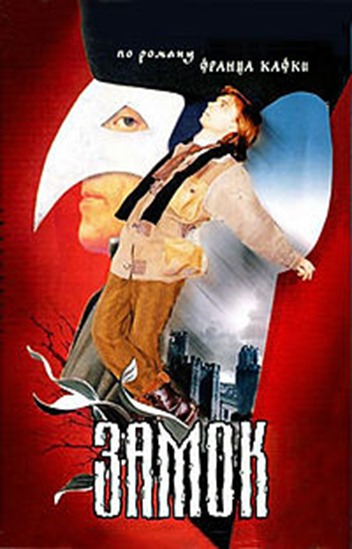
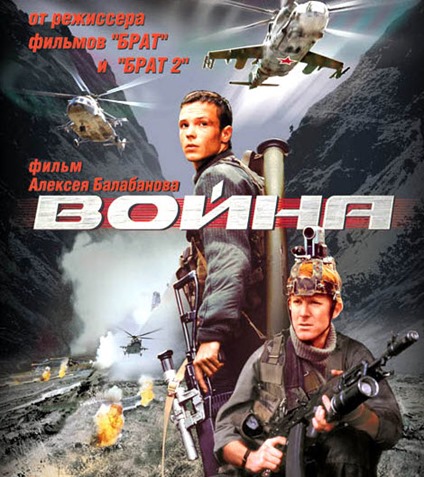
Истинная реальность
Если бы у рождения была истинная реальность, то люди были бы бессмертными и мир не мог бы всех вместить. И наоборот, если бы смерть существовала сама по себе, на Земле бы никого не осталось.
Воспринимаемый нами мир - иллюзия
"Люди — воспринимающие существа. Однако воспринимаемый ими мир является иллюзией — иллюзией, созданной описанием, которое им внушали с момента, когда они появились на свет.
Мы, светящиеся существа, рождаемся с двумя кольцами силы, но для создания мира используем только одно из них. Это кольцо, которое замыкается на нас в первые годы жизни, есть разум и его компаньон, речь. Именно они, столковавшись между собой, и состряпали этот мир при помощи описания и его догматических и незыблемых правил, а теперь поддерживают его".
Карлос Кастанеда "Колесо времени"
Как устроен мир
Переживание Бардо
Нынешняя фаза нашего существования закончится смертью, когда карма, приведшая к физическому существованию, будет исчерпана. Во время смерти происходит совершенное и окончательное отделение сознания от физического тела, которое просто будет отброшено. Сознание начнет переживать Бардо. В течение этого состояния после смерти мы испытаем другой вид вселенной. Хотя и нет основы в виде физического организма, ум сможет видеть, слышать, чувствовать запах, прикосновение и вкус, думать и воспринимать все также как и сейчас. Хотя не будет ничего, кроме состояния сознания, ум продолжит следовать своим привычкам и восстанавливать их модель. Переживания абсолютно реально продолжают существовать и после смерти.
Карлос Кастанеда «Сказки о силе»
"– Прошлой ночью Хенаро провел тебя через сложности двойника, – продолжал дон Хуан. – Только он мог сделать это для тебя. И когда ты увидел себя, лежащего на земле, это не было ни ви́дением, ни галлюцинацией. Ты мог бы понять это очень ясно, если бы не заблудился в своем индульгировании. И ты знал бы тогда, что ты – сон, что твой двойник видит тебя во сне точно так же, как ты его видел во сне прошлой ночью.
– Но как это может быть?
– Никто не знает, как это происходит. Мы знаем лишь то, что это случается. В этом – наша тайна как светящихся существ. Прошлой ночью у тебя было два сна, и ты мог проснуться в любом из них. Но у тебя было недостаточно силы, чтобы понять это".
Карлос Кастанеда «Сказки о силе»
Виктор Пелевин «Чапаев и Пустота».
"- Это такое дело, Петька... Тут и Котовский ошибся. Помнишь, была такая лампа с воском?
- Помню.
- Котовский понял, что формы нет. Но вот что воска нет, он не понял.
- Почему его нет?
- А потому, Петька, - потому что и воск, и самогон могут принять любую форму, но и сами они - всего лишь формы.
- Формы чего?
- Вот тут и фокус. Это формы, про которые можно сказать только то, что ничего такого, что их принимает, нет. Поэтому на самом деле нет ни воска, ни самогона. Нет ничего. И даже этого «НЕТ» тоже нет".
Виктор Пелевин «Чапаев и Пустота».